ГОЛУБОЕ СТЕКЛО
Я распахнул окно гостиничного номера и поставил локти на подоконник.
Внизу подо мною открылась площадь, выложенная светло-серыми бетонными плитками. За площадью стояло красивое здание драматического театра. А перед театром на высоком пьедестале стояла Мария, принцесса горская и царица всея Руси, вторая из восьми жён Иоанна Грозного.
Я не помнил ни театра, ни площади, ни Марии…
Тогда здесь был просто пустырь, поросший птичьей гречихой, ровный хороший пустырь, по которому мы гоняли на велосипедах и на котором вечером разжигали костры. И улица, рассекавшая площадь надвое, называлась совсем по-другому — Степная.
И дома вдоль Степной были совершенно другие — одноэтажные, под красными черепичными крышами, с зелёными или голубыми ставнями, с дворами, закрытыми глухими заборами, через которые перевешивались ветви, согнувшиеся от тяжести яблок и груш.
Я не узнал вокзала, когда вчера сошёл с поезда на перрон. Не увидел нашей третьей школы, которая стояла на отлёте в самом начале Степной.
Я шагал со своим чемоданом по чужой улице. Незнакомые деревья стояли вокруг. Не те автомашины пробегали мимо меня. И лица людей, идущих навстречу, были совсем не такими, как тогда…
Я отвёл глаза от театра и от Марии и взглянул поверх крыш домов.
Горы.
Их с детства знакомый излом стыл над городом. Они были похожи на груды расколовшихся и упавших на горизонт облаков. Те же снеговые уступы, те же тени и трещины на плоскостях склонов. В этот час утра они были точно такими же, как тогда, когда я бежал по улице в школу, перебрасывая из руки в руку тяжёлый портфель. Ветерок, текущий от них, холодил щёки, розовели под солнцем белёные стены домов, и впереди меня ожидал день, полный чудес. Да, что там день — вся жизнь ждала меня, ещё незнаемая, золотистая и свежая, как утро.
Странно ощущение пробежавших во мне пятидесяти лет.
И так тревожно ожидание того, что должно случиться сегодня.
Что-то обязательно случится…
Я побрился, поёжился под холодным душем в ванной, крепко вытерся жёстким махровым полотенцем, выпил стакан крепкого горячего чаю из термоса, толкнул в шкаф чемодан и вышел из гостиницы.
Я шёл на свидание со своим детством.
Нужно было найти гараж, тот, который я помнил белым, с боль-. шими воротами, откуда выезжали горкомовские автомобили и около которого всегда желтели большие кучи песка, чистого и прохладного на ощупь, когда я зарывал в него руки. Гараж стоял на краю площади, в самом начале улицы, которая называлась Баксанской. Улица падала потом с бугра и убегала к виноградникам. Там, почти у самого селения Кенже, мой дядя перед самой войной построил дом.
Гаража не было.
Дома кругом были незнакомые… Только один, розовый, что-то напоминал мне. А когда я прошёл через низкую арку во двор, то вдруг увидел те три знакомых переплёта рам на третьем этаже, от которых замерло сердце:..
Но раньше посреди двора торчал медный водопроводный кран на выросшей из земли трубе, под краном стояла железная бочка, всегда полная до краёв. И я никогда не мог налить из крана полное ведро, потому что приходилось отодвигаться от бочки подальше, чтобы вода, хлынувшая через край, не залила ноги.
Теперь крана не было.
Теперь во дворе росли каштаны — пять крепких деревьев, поднявших лапчатые листья до половины высоты дома, а там, где раньше торчал кран, на высоко взбитой клумбе горели тёмным огнём махровые головы пионов и наливались тяжёлым цветом их ещё не раскрывшиеся могучие бутоны.
Чужая жизнь проходила за проснувшимися окнами, и двор смотрел на меня настороженно, как на чужака.
Мельком я взглянул на табличку на углу здания.
Теперь Баксанская называлась «Маршала Головко».
Переулок ещё лежал в тени.
Сейчас здесь тоже стояли два дома по три этажа. Но я смотрел на них, как на пустоту, я видел только то, что было ТОГДА. Справа должен тянуться глухой забор, сколоченный из серых от времени досок. Вдоль забора щетинилась трава и росли прекрасные лопухи с замшевыми, мятно пахнущими листьями, которые сочно отламывались от толстых стеблей, вытягивая на изломе упругие, как проволочки, сухожилия. Я делал из листьев шляпы, скалывая края палочками, или накидывал огромный лист на плечи, как пелерину, а потом шёл и шёл, почти до конца забора, где в плохо пригнанных досках открывалась большая щель. Я присаживался около неё на корточки и заглядывал в мир, запретный для всех.
Уже не помню сейчас, что было за забором — то ли какой-то склад, то ли просто пустырь, на котором доживали свой век ломаные машины. Но это был мир, полный тайны, тишины и вещей, которых у меня никогда не было. Там, среди высокой травы, валялись лысые покрышки, зубчатые колёса с рыжими пятнами ржавчины и чёрным налётом загустевшей смазки, похожей на нагар. Там узкими змейками вилась в травй проволока, из которой можно было делать шпаги или вилки для катания колёс, или крючки, чтобы нагибать ветки яблонь.
Там можно было найти старую велосипедную раму с рулём или клаксон с потрескавшейся и затвердевшей от времени резиновой грушей и чудесным никелированным рожком. Но лучше всего были стёклышки.
Деревянные полуразбитые ящики с осколками стёкол стояли у самого забора — просунешь руку в щель и можно дотронуться до любого. Осколки были в виде длинных полосок — обрезки от большого стекла — или в виде треугольников, и среди них иногда попадались цветные.
Помню, как я нашёл красный, густо-винного цвета, и как преображал он всё вокруг, если его поднести к глазам. У солнца появлялось четыре багровых луча, острых, как копья, а зелёная трава становилась чёрной, синее небо приобретало зловещий грозовой оттенок, и лёгкие облака на нём превращались в плотные красные глыбы, оглаженные ветром.
Я находил жёлтые и зелёные осколки, но почему-то мечтал о синем, не о том густом синем, который превращает день в лунную ночь, а о светлом, почти голубом.
Я никогда ещё не смотрел на мир через голубое стекло, и мне трудно было представить себе, каким он станет, когда я поднесу к глазам этот волшебный фильтр.
На минуту мне показалось нереальным то, что открылось дальше. Я закрыл глаза и снова открыл их и наконец поверил.
Что-то изнутри подсказало: «А почему так не может быть?»
Да, почему, в самом деле? Ведь пятьдесят лет, в сущности, не такой уж огромный срок…
Забор был на прежнем месте.
Пятьдесят лет его поливали дожди и сушило солнце, обдувал ветер с гор и засыпал снег, над ним пролетали птицы и самолёты, прогрохотала война, а он стоял, все так же отгораживая от чьих-то желаний мир тайны и недоступности. Могут же лежать на одном месте камни, не врастая в землю, из которой они вынуты, не растрескиваясь и не меняясь столетиями.
Я подошёл к забору и потрогал его рукой. Сухие доски, слегка Шелковистые от размякшего сверху слоя древесины, показались мне тёплыми. И всё так же щетинилась вдоль забора трава и поднимались среди неё мягко-зелёные лопухи с серебряными головками, затканными тончайшей паутиной.
Я двинулся вдоль забора, всё время ощупывая его рукой, как будто боялся упустить этот островок прошлого. Странно, доски казались такими же прочными, как и тогда, когда я охотился за стёклышками. Правда, в нескольких местах они были сломаны в верхнем ряду, но может, так же они были сломаны и тогда. Я удивился высоте забора — верхняя его кромка тянулась на уровне моей макушки, и я не мог заглянуть через его край.
Я остановился около репейника, вытянувшегося мне по плечо, нагнулся и, выбрав самый большой, без дырок лист, взял его за черешок и потянул. Он отломился от стебля с сочным хрустом. И сразу же в этот момент стал ТЕМ, пятидесятилетней давности чудом, возникшим в настоящем вместе с теплотой воздуха, теми запахами, тем усилием руки. Я тянул лист к себе и смотрел, как выползают из черешка бледно-зелёные, почти белые сухожилия, и горьковатый репейный запах щекотал мне ноздри. Потом сухожилия лопнули, оставшиеся их части обвисли, начали вяло скручиваться и подтягиваться к обломку черешка на стебле.
Правая рука непроизвольно нащупала в кармане спичечную коробку, пальцы вынули из неё спичку и скололи ею края листа.
Потом я оглянулся.
Переулок был пуст.
Тогда я совсем по-мальчишески засмеялся, надел лопушиный картуз себе на голову и, уже ничего не опасаясь, сделал те несколько шагов, что отделяли меня от широкой щели в заборе.
Я не удивился, что щель всё ещё была там. Я присел около неё на корточки и смело заглянул в ТОТ мир.
Да, всё было там — и два полуразвалившихся ящика с осколками стекла, и зубчатка, утонувшая в траве и покрытая чёрным нагаром, и рядом с ней вторая, поменьше, заляпанная рыжими пятнами ржавчины, и покрышки со стершимся на нет протектором — милый хлам, никому на свете не нужный, кроме детства.
Несколько минут я вдыхал запахи, которые давно позабыл. Потом медленно протянул руку к ящику с обломками стекла. Они были там, стёклышки детства, — линейки, прямоугольники, треугольники и просто осколки без всякой формы.
Задержав дыхание, я вынул один осколок.
Это был кусок простого оконного стекла в форме неправильной трапеции — тусклый, с потёками грязи по краям, через него всё просматривалось, как сквозь коричневый туман. Но тяжесть его приятно ощущалась пальцами, и я подержал его некоторое время в руке, прежде чем осторожно положить его обратно.
Я вытащил из ящика ещё несколько пластинок, но все они были похожи на первую — из обычного стекла, грязные и неровные. Затем передвинулся ко второму ящику.
Но и здесь оказалось то же самое.
И тут я бросил взгляд себе под ноги.
В траве лежал ещё один осколок. Я машинально поднял его. Сначала мне показалось, что он зелёный, но, когда я стёр с него налёт многолетней пыли, перед глазами на мгновение блеснул чистый небесный цвет, и снова — какой уже раз в это утро! — что-то мягко и сладко сжало сердце.
Я хорошенько протёр прямоугольную пластинку носовым платком и поднял её к глазам.
Лёгкие воздушные облака, медленно плывущие к горам, растаяли в небе. Трава и лопухи побледнели, и всё вокруг стало призрачным, почти невесомым. Даже забор потерял свою плотность и стал похож на декорацию самого себя.
Дома, вдоль которого я шёл к забору, не было. Вместо него бледно голубело, точно залитое лунным светом, здание ГАРАЖА. Я отчётливо видел скат его железной крыши и обрез стены, около которой росла маленькая кривая яблоня, и людей, которце шли не по улице, а по ПЛОЩАДИ! Я даже видел, как по площади пробежала машина такой с детства знакомой формы, что ошибиться было нельзя: это был легковой довоенный «газик», ГАЗ-АА, с крыльями над колёсами и с подножкой!
Боясь разрушить мгновенное впечатление, я осторожно отвёл стекло от глаз.
Гараж стал ещё отчётливей, небо взлетело над домами бледной синевой, и где-то рядом со мной, в траве под забором, цвиркнул и рассыпался стеклянной трелью кузнечик.
Пустырь дремал в утренней тишине, он дал мне всё, чего я хотел.
Я отодвинулся от забора и медленно зашагал по переулку к площади, сжимая в ладони нагревшееся стекло.
У выхода на площадь мне встретилась женщина. Кофточка с прямыми широкими плечами. Длинная юбка, припадающая к высоким ногам. На голове, слегка боком, повязана розовая косынка.
Женщина посмотрела на меня с удивлением, улыбнулась и прошла мимо. Мне показалось, что её лицо я когда-то видел. Давно… очень давно… Я поднёс руку ко лбу. Пальцы наткнулись на вялый лопух. Мне сразу сделалось жарко. Понял, чему удивилась женщина. Сдернул лопух с головы, смял его и бросил на дорогу. А когда опускал руку, заметил, что ногти на пальцах обломаны, под остатками ногтей узенькой траурной каёмкой скопилась грязь, на большом пальце — свежая царапина с бисеринками выступившей крови. Наверное, всё-таки задел в ящике за кромку стекла. По детской привычке слизнул кровь языком и почувствовал на коже цыпки. А ведь у меня всегда были чистые руки и аккуратно подрезанные ногти…
Я миновал кривую яблоню и вышел на площадь.
Ворота гаража были распахнуты настежь, и я увидел тускло поблескивающий никелем «линкольн» с откидным парусиновым верхом и тройным никелированным клаксоном у ветрового стекла.
Я знал этот «линкольн» — на нём ездил первый секретарь обкома Бетал Эдыкович Калмыков.
Бывая у своего дяди Миши в гараже, я даже залезал иногда на мягкое коричневое сиденье прекрасной машины и левой рукой давил чёрную резиновую грушу, чтобы услышать громкий двойной крик сигнала: «Уик-уа! Уик-уа!»
Где-то глубоко-глубоко в сознании мелькнула слабая мысль, что всё — неправда, что это было пятьдесят лет назад, что нет ни «линкольна», ни «санбима», который стоял в глубине гаража, что женщина в кофточке тридцатых годов мне только привиделась… Но в ладони я ощутил грани голубого стекла, и мысль погасла.
Быстрым шагом, почти бегом, добрался до Степной и остановился изумлённый. Не было ни театра, ни площади, ни памятника Марии. Не было гостиницы, из которой я вышел утром…
Сжав в кармане стекло, я побежал. Хотелось попасть на улицу Карашаева, где стояло двухэтажное здание нашей школы и где, наверное, меня ещё помнили.
Неподалёку от поворота на Карашаевскую находилась типография. Здесь печатались книги и газета «Социалистическая Кабардино-Балкария». Всегда было интересно смотреть на гудящую, щелкающую, непрерывно делающую что-то машину. Меня, как магнит, притягивали эти окна. И сейчас я тоже остановился около них.
Машина работала.
Откуда-то из её глубины плавно и сильно выкатывалась рама с газетным листом. Лист подхватывали деревянные рейки, поднимали его целиком и перебрасывали на специальный стол, где уже высилась толстая стопа таких же листов, пестрящих буквами. А рама уже уходила внутрь, под толстый крутящийся валик, и где-то там, в глубине, выскакивала с другой стороны.
Не знаю, сколько я простоял у окна. Неожиданно один лист завернулся на укладчике углом и не лёг на стопку, а так и остался на рейках, будто прилип к ним. Машина остановилась. И тогда я разобрал то, что было мелко напечатано в линейках под заголовком:
«Понедельник, 2 сентября 1935 года».
Щемящее чувство пустоты поднялось в груди: первый день занятий в школе после каникул, а мне нельзя идти в класс, я ещё болен, врач разрешил идти в школу только четвёртого, и я пропущу самое-самое дорогое — встречу с ребятами после длинного лета, шум, беготню во дворе, радостные: «А, Колька, здорово!», «О, Внучок появился!», «Внук, иди-ка сюда!», и первый звонок, и первый урок, который будет совсем новым, навсегда врезавшимся в память, радостным и совсем не трудным…
Я отошёл от окна. Но где-то в глубине стекла, в голубоватом тумане, увидел слабое, размытое бликами света отражение маленького мальчика в куртке с накладными карманами, в высоко поддёрнутых брюках, из-под которых виднелись полоски светлых носков, и в сандалиях с жестяными пряжками. Худенькая фигурка с коротко стриженной головой и глазами, смотрящими немного исподлобья…
Я рванул с места и помчался. Я не умел ходить медленно, всегда бегал, мне хотелось быть сразу везде.
Вот бульвар со столетними акациями, толстыми и морщинистыми. Сколько их ни подрезали, кроны так сильно разрослись, что сплетались над головой в сплошной зелёный навес, и летом бульвар был похож на прохладный зелёный туннель, тянувшийся через весь город.
В конце апреля в акациях заводилась великая сила майских жуков. Мы набивали ими карманы, приносили в школу и в классе во время уроков устраивали соревнования. Каждый метил своего жука, ставил чернилами на коричневых скорлупках надкрыльев точки, крестики или свои инициалы. Потом незаметно для учительницы мы бросали жуков в проход между партами и следили, чей жук взлетит раньше. Выигрывал первый.
Как азартна была эта игра! Сколько споров и крика было потом на переменах!
Не успел я сделать и десяти шагов по бульвару, как кто-то сильно шлёпнул меня по плечу:
— Здорово, Внук!
Я чуть не упал, резко повернувшись назад.
Передо мной стоял Алимурза Бесланеев в новеньком тёмно-коричневом костюме с новеньким портфелем в руке.
— Мурзик!
— Ты чего в школе не был? Мотаешь?
— И ничего не мотаю. Я больной. А ты почему здесь?
— Татьяна выгнала.
— Сразу?! С первого урока?
— Не. Со второго.
— За что?
— С Кощеем подрался.
Ух ты, с Владькой Кощеевым! Вот это да! Значит, интересная была драка. Оба сильные. Жалко, что я не видел.
— Теперь куда?
— В парк. Домой мне сейчас нельзя.
— Мурзик, давай не в парк, давай пойдём на базар.
— Ты что! Нельзя на базар. Мать может увидеть. И школа рядом. Дуем в парк!
Мурзик сильно подрос за лето, стал ещё шире в плечах и толще лицом. Я не дружил с ним — побаивался его упрямства и силы. Если его разозлить, он мог сделать что угодно, даже, наверное, убить человека. Поэтому многие ребята заискивали перед ним и никогда с ним не ссорились. Все, кроме Володи Калмыкова и Владика Кощеева. Я не умел заискивать; у меня это всегда получалось фальшиво. Я просто предпочитал разговаривать с Алимурзой, когда он обращался ко мне, и держаться от него подальше, когда он не обращал на меня внимания.
— Ну что, Внук, пойдёшь?
— Нет, — сказал я.
— Дурак!
— Пока! — махнул я рукой и помчался дальше.
На столбе висели большие электрические часы. Я взглянул на них. Всего одиннадцать. Уроки кончаются через два часа. А за два часа можно сбегать на Кабардинскую, посмотреть, что идёт в кино, и полюбоваться шашками и кинжалами в витрине комиссионного магазина.,
Я свернул с бульвара на Революционную и одним духом домчался до Кабардинской.
Вот книжный магазин, почти на углу. На витрине — тетради, ручки, чернильницы-непроливашки, перья в коробках, линейки. Ноги сами остановились, когда за витринным стеклом я увидел жёлтую книжку с красными буквами на обложке: «Солёный ветер». А рядом ещё одну, без названия, темно-коричневую и очень толстую. Ничего не было на её обложке, кроме красивого профиля мужественного человека, профиля, который я знал, наверное, со дня своего рождения.
Я присел и посмотрел на эту книжку сбоку. Оказалось, что это не одна книжка, а три — просто они были положены одна на другую. И на корешках я прочитал название: «Жюль Верн. Таинственный остров». Тома I, II и III.
В «Ударнике» шёл фильм «Балтийцы», а перед ним — мультик «Любимец публики». На билет нужно было тридцать копеек, у меня было всего пятнадцать, и оба фильма я уже посмотрел по два раза, поэтому в кино не особенно хотелось, и я направился к комиссионному.
Сколько себя помню, столько помню и лежащую на витрине благородную, слегка изогнутую саблю с насечённой золотом рукояткой, в чёрных ножнах, украшенных золотыми гравированными накладками. Рядом с саблей лежал кинжал в серебряных ножнах с чёрным тонким витым рисунком в виде веточек и листиков, похожих на пиковые тузы. На головку рукоятки и на упор её из белой слоновой кости тоже были наложены серебряные пластинки с ещё более тонкими веточками и тузами, а в верхней части ножен поблёскивали плоские колечки, при помощи которых кинжал привешивался к поясу. Мне всегда очень хотелось увидеть клинок кинжала с глубокими канавками, вдавленными в лезвие с обеих сторон. Я почему-то был уверен, что клинок — голубой.
А рядом с кинжалом и саблей лежал чекмень, сшитый из белой прекрасной шерстяной ткани, — дорогой праздничный чекмень с двенадцатью пуговками в виде чёрных шариков размером с крупную ягоду чёрной смородины, с рукавами, туго обтягивающими запястья и застегивающимися на точно такие' же шарики. Но самое замечательное в этом чекмене были газыри — по шесть штук с правой и левой стороны груди. В газырях горцы хранили пороховые заряды и пули для винтовок. Я никак не мог понять, из чего они сделаны, — наверное, выточены из слоновой кости, а крышечки на них чеканены из матового серебра, чернённого всё тем же узором из тончайших веточек и тузов.
Была ещё папаха, небольшая, аккуратная, сшитая из тёмно-золотого редчайшего каракуля. На солнце она переливалась шелковистым блеском, и от неё долго нельзя было отвести глаз.
Я пытался представить себе человека, одетого в этот чекмень, вооружённого этим кинжалом и саблей, и перед моим взором вставал худощавый горец с тонкими и резкими чертами лица, легко сидящий на высоком тонконогом коне. На плечах — белоснежная бурка, в рас-пахе которой наискось поблёскивает кинжал, а из-под полы, опускающейся почти до брюха коня, видна нога в мягком шевровом, сапожке, твёрдо поставленном в глубокое стремя.
Налюбовавшись витриной, я свернул за угол, на Почтовую улицу. Ноги сами понесли меня к школе.
Её двухэтажное здание из белёного кирпича стояло совсем недалеко от базара. Четыре широкие ступени вели к главному входу. Там, за тяжёлой дверью, у нас находилась раздевалка, а за ней начинался сумрачный коридор, окна которого выходили во двор. Рядом со школой в двух небольших домиках жили наши учителя.
Я прошёл через открытые ворота во двор. Он был пуст. На асфальтовом пятачке белели нарисованные мелом классики и голова с большими ушами и лунообразным ртом. Под головой — надпись кривыми буквами: «ВАСЯ».
Сколько времени осталось до перемены?
Стрелки показывали десять минут первого. Я посчитал. Шёл пятый урок, и до перемены оставалось тридцать минут.
Можно было пойти на базар и заглянуть в зелёную будку «Ремонт часов», где сидел брат моего друга Энвера Мурат Магомедов. Мурат чинил будильники, ходики, карманные часы на цепочках, наручные «Кировцы». Он надевал на голову пружинный обруч, к одному из концов которого был приделан чёрный стаканчик лупы, и, низко нагнувшись над столиком, всматривался в крохотные золотистые зубчатые колесики механизма. Он разрешал мне трогать инструменты и рыться в коробке, где лежали старые, потемневшие, отработавшие свой век механизмы и корпуса часов. Однажды я нашёл там чёрный железный корпус с откидывающейся на пружинке передней крышкой, и Мурат подарил его мне.
Можно было пойти там же, на базаре, в шашлычную, похожую на полутёмный сарай с черепичной крышей, где у мангалов работал отец Энвера. Широколицый, в широких брюках, похожих на шаровары, в ситцевой розовой рубахе с закатанными до локтей рукавами, он нанизывал на длинные тонкие шампуры кусочки баранины, вымоченные в белом кислом вине. Кусочек баранины, кружок лука, тоненький ломтик жира, снова кусочек баранины, долька лука, желтоватый лепесток жира — волосатые руки его двигались уверенно, быстро. Он осторожно клал готовый шампур на края мангала, шипело и потрескивало жарящееся мясо, вспыхивали синими искрами капельки жира на раскалённых углях, и к потолку шашлычной поднимался такой головокружительный запах, от которого сразу хотелось есть.
Посетители сидели на деревянных лавках у низеньких бочонков, которые служили столиками, пили вино из граненых стаканов и разговаривали — по-кабардински, по-балкарски, по-осетински, по-черкесски. Я не понимал ни единого слова, и от этого было весело и хорошо. Завидев меня, отец Энвера вытирал толстые ладони о полотенце, повязанное вместо пояса, хватал меня за плечо и кричал пирующим:
— Дорогу, друзья, дорогу моему дорогому другу, дорогу и самый лучший шашлык!
Он усаживал меня на свободное место и приносил маленький шампур, на котором дымилось мясо.
— Это был самый молодой, самый красивый, самый нежный барашек, — говорил он, передавая шампур мне в руки. — Ешь, становись большим, сильным и вспоминай старого Магомеда!
Никаких тарелок в шашлычной не полагалось. Мясо с шампура снимали прямо зубами, и это совсем не было похоже на домашние обеды, где надо было сидеть за столом и есть ложкой и вилкой.
А ещё можно было пойти к керосиновой лавке. Она находилась на самом краю базара. Не киоск, не сарай, а просто земляной бугор, в склоне которого прорезана дверь. Внутри бугра — цистерна с керосином, а перед ней, под краном, оцинкованная ванна, из которой продавец черпаком наливает керосин в бидоны. Но не это самое интересное. Самое интересное — очередь, которая по воскресеньям с утра до вечера стоит у земляного бугра. В очереди в основном мальчишки и девчонки. Но разве можно когда-нибудь видеть спокойно стоящих на месте мальчишек и девчонок?! В очереди стоят друг за другом бидоны, вёдра, трёхлитровые зелёные бутылки-четверти, огромные, литров на двадцать, бу-тылищи, оплетённые прутьями, с плетёными же ручками по бокам, чтобы их можно было нести вдвоём, а между бидонами и бутылями просто положены друг за другом кирпичи или камни — это хозяева заняли очередь, а сами ушли домой за посудой.
Очередь — это клуб, это городские новости, это рассказы о кабанах, которые якобы появились у самого города в лесу под Просвирным курганом, о том, кто и когда с кем подрался, у кого сегодня ночью обчистили сад, сломав самую большую ветку на лучшей яблоне, о том, что у кого есть и кто о чём мечтает. Очередь — это место обмена. Меняются скромными ребячьими драгоценностями: мальчишки — медными трубками для самодельных пистолетов, перышками для игры в стукалку, свинцовыми битками, резиной для рогаток, ножичками, зажигательными стёклами; девочки — лентами, цветными нитками для вышивания, кусочками кружев, латунными колечками — «совсем как золотые», коробочками из-под пудры, причём особенно ценились коробочки круглые, плоские, на крышечках которых была изображена в, профиль черноволосая женщина с тонким лицом и с веером в руке — Кармен. Сокровища внимательно осматривались, горячо обсуждались и только после этого переходили в руки новых владельцев.
Керосинщик любил поболтать со своими покупателями, очередь двигалась медленно, и, заняв её с утра, можно было получить керосин только после обеда.
Я уже хотел повернуть по Почтовой к базару, как вдруг увидел на бульваре первого секретаря обкома Бетала Эдыковича Калмыкова.
Наверное, не нашлось бы ни одного человека в Кабардино-Балкарии, который не знал бы Бетала Калмыкова. Он был легендой, героем и совестью республики одновременно.
С его сыном Володькой я учился в одном классе. Вовка был таким же мальчишкой, как все. Так же сломя голову носился по двору и по школьным коридорам на переменах. Так же дрался с нами и мы дрались с ним. Так же хватал «неуды» и «плохари» на уроках, как остальные ребята в классе. И мы никогда не задумывались о том, какой у него отец.
Вовка часто приглашал нас к себе, и в его четырёхкомнатной квартире мы чувствовали себя столь же свободно, как дома. Единственное, что нам запрещалось, — это входить в кабинет Бетала Эдыковича. Там на столе всегда были разложены деловые бумаги или работал сам Бетал, и тогда Антонина Александровна, его жена, просила нас быть потише.
Иногда Бетал выходил из своего кабинета в гостиную, усаживался на диван, мы окружали его, и он, поочерёдно кладя руку каждому из нас на плечо, спрашивал:
— Ну как дела, джигит? Сколько получил «неудов»? С кем дрался вчера?
Мы честно рассказывали ему обо всех наших делах, он улыбался, качал головой и угощал нас конфетами «дюшес» в прозрачных зелёных бумажках. Потом вдруг становился серьёзным и говорил:
— Учитесь, ребята. Я, честное слово, завидую вам. Мне пришлось мало и плохо учиться, потому что я был бедный пастух. А сейчас вы вон какие хорошие. Все богатыри, все джигиты. Нашей стране не нужен дикий, некультурный джигит. Нужен человек, который мог бы пасти баранту и читать книжку, и летать на самолёте, и строить мост. Мы посадим в нашей республике сады. Вишни и груши будут расти вдоль дорог. И ещё — арбузы. Чтобы каждый, кто идёт, мог остановиться, отдохнуть и скушать что хочет. Вот почему нужно учиться!
Он поднимался с дивана, высыпал в наши ладони остатки конфет из кармана и снова уходил в свой кабинет.
Однажды, когда отец был в долгой командировке, Вовка показал нам его саблю и маузер. В крышку деревянной кобуры маузера была врезана блестящая жёлтая пластина с гравировкой:
«Герою Гражданской войны, командиру Кабардино-Балкарской
Красной Армии Беталу Калмыкову.
С. Киров».Мы подержали в руках маузер, по очереди выдвинули из потёртых кожаных ножен саблю и попытались вообразить, как Бетал первым поднял на Зольских пастбищах бедняков против князей и neрвым во главе своего отряда врывался в селения, занятые белыми. Но не могли. Революция для нас была слишком далека, и мы знали её только по книжкам и по учебникам.
Зато мы знали множество историй о храбрости Калмыкова.
Больше всего мне нравился один случай. Мне рассказывал о нём мой дядя Миша, который заведовал обкомовским гаражом.
Бетал работал в своём кабинете в обкоме, как вдруг зазвонил телефон. Кто-то взволнованным голосом закричал из селения Баксан:
— Бетал! Милиция окружила в горах абрека Тугана. Он засел в пещере у Первого Кызбуруна и отстреливается. Уже ранил одного нашего. У него много патронов. Что делать?
Бетал пружинисто поднялся из-за стола и крепче прижал трубку к уху.
— Туган Мирзоев? — переспросил он. — Давненько о нём ничего не было слышно. Объявился наконец… Послушай, Магомет… да, да, я узнал тебя по голосу… Сколько у вас там чекистов? Шестеро? Всех в Кызбурун на помощь милиции. Я буду через три часа. Скажи своим людям, чтобы не упустили Тугана. Пусть не дают ему носа высунуть из пещеры. Всё!
Он дал отбой и сразу же позвонил в гараж. Мой дядя Миша сам подготовил машину — открытый быстрый «санбим».
Бетал вынул из ящика письменного стола колодку с маузером и перекинул её ремень через' плечо. Через десять минут он несся в Баксан.
Тугана Мирзоева он знал хорошо.
Сначала Туган служил Деникину и тот произвёл его в капитаны. Потом, когда Деникина разбила Красная Армия, он переметнулся к «правителю Кабарды» Клишбиеву и его помощнику Заурбеку Серебрякову. Но скоро не стало ни Клишбиева, ни Серебрякова — везде в Кабарде установилась Советская власть. Чудом оставшийся в живых после разгромных боёв капитан Мирзоев скрылся в горах и несколько лет о нём ничего не было слышно. Поговаривали, что он бежал в Турцию.
Но вот то из одного селения, то из другого стали поступать вести, что люди видели Тугана Мирзоева. Только теперь он уже был не в форме белого капитана, а в бурке и лохматой папахе и в руках у него была герлыга — крючковатая палка, как у простого чабана. Появлялся он в селениях ночью, стучал в окна домов и просил напиться воды. Кого он искал? Может быть, своих бывших друзей или родственников, которые уже давно были расстреляны чекистами.
А потом начались поджоги.
В одном колхозе сгорела овчарня вместе с овцами. В другом под утро, когда у людей самый крепкий сон, запылал сельсовет. В третьем двумя взрывами гранат была развалена новенькая, только что построенная школа. И кто-то в суматохе успел заметить исчезающего в ночной мгле всадника в чёрной бурке и чёрной папахе.
В страшном напряжении жили люди. Туган мог объявиться везде, и никто не взялся бы предсказать его разбойничий путь.
— Он проглотил сердце волка, — говорили о нём.
Работники НКВД и милиции устраивали засады в ущельях и на дорогах, на окраинах селений и в кукурузных полях, но Тугану каким-то образом удавалось уходить и от преследователей и от пуль. Последнее время он уже не поджигал домов, а просто воровал на кошах овец для еды. Но всё-таки был опасен. Кто мог угадать, что у него на уме?
И вот наконец Туган попался.
«Санбим» всего на несколько минут остановился в Баксане. В машину подсели уполномоченный НКВД и его помощник.
— Он всё ещё там? — спросил Бетал.
— Да, — ответил уполномоченный.
— Гони на всю скорость, — сказал Бетал шофёру.
Мелькнул Кызбурун Второй, и «санбим» ворвался в ущелье.
С правой стороны дороги встала отвесная каменная стена.
С левой — в туманном провале вся в белой пене бесилась река.
Ещё полчаса ходу — ив небольшой долине закраснел черепичными крышами аул Кызбурун Первый. Здесь остановились. Налево к висячему мосту через ущелье шла конная тропа. Потом нужно было идти пешком.
Только перешли мост — услышали удар одиночного выстрела. И сразу же вразнобой загремели ответные.
Неподалёку от засады Калмыкова встретил начальник милиции:
— Бетал, несколько минут назад Туган крикнул, что сдаст оружие. Но только не нам, а тебе лично. И ещё он сказал: пусть Бетал поклянётся, что его, Тугана, безоружного никто не унизит. Потом пусть судят, пусть расстреливают… Вот так.
— Хорошо, — ответил Бетал. — Идём.
Подошли к засаде.
Шесть или семь стрелков лежали за камнями. Они напряжённо вглядывались в расщелину в крутом склоне горы. Расщелина была похожа на узкий чёрный треугольник. Вниз от неё шла каменная осыпь. Она кончалась небольшой ровной площадкой. От площадки до камней, где засели милиционеры, снова шла осыпь из мелких камней.
— Осторожнее, Бетал! — предупредил уполномоченный. — Он очень метко стреляет. Как шайтан. Не высовывайся из-за скалы.
Милиционеры, увидев, что приехал первый секретарь обкома, начали отползать от своих камней. Оказавшись под укрытием скалы, они поднимались на ноги и здоровались с ним за руку.
— Где раненый? — спросил Калмыков.
— Его на лошади отправили в Баксан.
— Хорошо.
Он обернулся к уполномоченному:
— У меня голос слабый. Крикни Тугану, что я здесь.
Уполномоченный подполз к самому дальнему камню, сложил рупором ладони у рта и закричал. Его крик ударился о скалы и рокотом покатился по ущелью. Потом наступила долгая тишина. Только река ворчала за спинами под мостом. Уполномоченный вернулся к прикрытию.
— Не ответит, — сказал кто-то из милиционеров. — Только время оттягивает…
Но вот снова раздался рокот, распадаясь в камнях на отдельные слова. Бетал, приставив ладонь к уху, слушал.
Туган кричал, чтобы Калмыков поднялся по осыпи к ровной площадке. Там они встретятся.
— Не надо, Бетал, — сказал уполномоченный. — Ему терять нечего — так и так смерть. А тебя он убьёт.
— Посмотрим, — сказал Калмыков.
Он сбросил с плеча ремешок маузера и протянул пистолет уполномоченному.
— Держи.
И не успел уполномоченный снова раскрыть рот, как Бетал, вышел на открытое место, не торопясь оглядел всё вокруг и начал медленно подниматься к площадке. Мелкие камешки выскальзывали из-под его ног, струйками осыпался вниз щебень.
Все, замерев, следили за ним.
Вот Бетал миновал половину пути. И в этот момент из треугольной расщелины показался на свет высокий горец в чёрном чекмене и чёрной папахе. В руках он держал короткий кавалерийский карабин. Он держал его на вытянутых ладонях перед собой, как держат оружие, давая клятву, и, нащупывая ногами тропу, двинулся вниз.
Кто-то из милиционеров передёрнул затвор винтовки и рванулся к камням, но уполномоченный крикнул: / — Не сметь!
Бетал и Туган сошлись на площадке.
Туган протянул первому секретарю оружие и что-то сказал. Калмыков что-то ответил. И тут Туган перехватил карабин за конец ствола, высоко поднял его над головой и изо всей силы ударил о камень. В стороны брызнули белые щепки приклада. Остатки карабина Мир-зоев отбросил в сторону. Потом заложил руки за спину й начал спускаться с площадки впереди Бета-ла.
Через несколько минут они были внизу.
К Тугану бросились два милиционера, но Бетал сделал резкое движение рукой, и они остановились.
Молча перешли мост.
Молча подошли к «санбиму».
Шофёр открыл заднюю дверцу, Бетал кивком показал Тугану: садись.
Туган втиснулся в машину. Калмыков сел рядом с ним.
Шофёр завёл двигатель, и Кыз-бурун Первый, покачиваясь, побежал назад.
Туган сидел, опустив голову.
Время от времени он поднимал её и искоса поглядывал налево. Там ничего не было, кроме непрерывно летящей мимо машины изломанной каменной стены. Но вот она кончилась, и впереди показался Кызбурун Второй. Закатное солнце садилось на горы. Под вечерним ветром трепетали в садах листья яблонь. Мальчишки гнали с пастбища отарку овец. Навстречу «санбиму», заходясь в лае, бросилось несколько собак. Дымились трубы на крышах домов. Какая-то старуха с вязанкой хвороста на спине остановилась и проводила взглядом машину.
— Вот она, жизнь, — сказал Бетал. — Мы сделаем её очень хорошей. Мы проведём сюда электричество и радио. В каждом доме будут книги. В амбарах будет много зерна. И вечером каждый человек будет есть на ужин шашлык.
Туган молчал. Он ещё больше сжался на сиденье в своём углу.
Калмыков посмотрел на него.
— Какие люди у нас пропадают! Жалко, что ты наломал столько дров, — сказал он. — Ты умеешь руководить. Ты грамотный человек. Из тебя вышел бы хороший председатель колхоза.
Туган рывком вздёрнул голову.
— Бетал, — задыхаясь, сказал он. — Не казни меня так… Лучше расстреляй сразу… здесь, на дороге…
Больше до города они не произнесли ни слова.
В тюрьме, сдавая дежурному арестованного, Калмыков сказал:
— Накормите его хорошо. Он три дня не ел. Я сам проверю.
Через месяц Тугана Мирзоева судили и приговорили к расстрелу.
Бетал любил после работы в обкоме прогуляться по Карашаевскому бульвару. Он ходил всегда один, заложив руки за спину, слегка припадая на левую раненую ногу, и все; встречные здоровались с ним, и он здоровался с ними со всеми. В эти вечерние часы он никогда не разговаривал о делах. И если кто-нибудь пытался обратиться к нему с личной просьбой, он отрицательно качал головой и говорил тихим, мягким голосом:
— Приходи завтра к десяти в обком. Здесь я ничего не умею.
Иногда он прогуливался по бульвару и в обеденный перерыв.
Наверное, так было и сейчас.
Я любил Калмыкова той романтической ребячьей любовью, которая из всего делает сказку, добрую и героическую. И всегда мне казалось, что в те славные боевые времена, когда он носил на боку маузер в деревянной колодке и саблю с золотой поцарапанной рукояткой, он был близко знаком с Чапаевым, Котовским, Камо и Олеко Дундичем. В моем понятии все герои должны быть знакомы друг с другом. Даже через века.
И я не знал тогда, что Калмыков окажет такое сильное влияние на всю мою жизнь.
Я забежал вперёд по Карашаевской и пошёл навстречу Беталу.
Он шагал, опустив голову, наверное, думал о чём-то важном. Серые парусиновые сапоги мягко касались тротуара. Большой палец правой руки был засунут за широкий ремень бежевой коверкотовой гимнастёрки. Левой рукой он время от времени поглаживал подбородок или трогал маленькие — щеточкой. — усы на верхней губе. Коричневая папаха закрывала его лоб до самых бровей. Грустное было почему-то у него лицо.
Я поравнялся с ним, задержал шаг и неожиданно тонким голосом сказал:
— Здравствуйте, Бетал Эдыко-вич!
Он остановился и поднял голову. Потом, видимо узнав меня, улыбнулся: '
— Здравствуй, джигит. Ты откуда, из школы?
— Я болен, — сказал я. — В школу пойду только четвёртого.
Он опустил короткую сильную руку мне на плечо:
— Поправляйся. Болеть — это плохо.
— Поправлюсь. Спасибо, Бетал Эдыкович!
— Иди. Учись хорошо.
Он слегка похлопал меня по плечу ладонью и ещё раз улыбнулся. И я побежал по бульвару дальше.
Я не чувствовал своего тела. Было прекрасное ощущение полёта, свежести мира, молодости и силы. И радости, что Бетал помнит меня и только что разговаривал со мною.
День горел над городом в полную свою силу.
Возвращались с базара покупатели, нагружённые бронзовыми связками лука, восковыми початками кукурузы, банками со сметаной, круглыми лепёшками масла.
Мне очень не хотелось идти домой, да меня там и не ждал никто — и тетушка, и дядя Миша были ещё на работе. А я всегда любил просто так, один, бродить по городу.
Я любил его неровно вымощенные камнем улицы. Старые одноэтажные дома под черепичными крышами, позеленевшими от времени. Ограды вокруг садов, сложенные из дикого камня и побеленные снаружи. Зелёные ворота в оградах, всег-
да закрытые, с тяжёлыми коваными кольцами на створках. Покосившиеся крылечки с навесами. Квадратные дворы, куда выходили веранды, между столбиками которых всегда сушилось бельё.
Вечерами на этих верандах собирались старухи, сидели на стульях и на скамеечках и вели нескончаемые неторопливые разговоры о своих детях и внуках. Старухи всегда ругали нас, мальчишек, за шумные игры во дворах, иногда выгоняли нас на улицу, и тогда мы шли в парк или на речку, или в сквер у начала Кабардинской улицы.
Нет, не пойду домбй.
Я снова побежал к школе.
От Почтовой по бульвару шагали ребята. Я сразу узнал своих.
Высокий — Витька Денисов. Рядом с ним — пониже — Володька Калмыков. И самый маленький в нашем классе Арик Колесников.
— Внук! — крикнул Витя Денисов, размахивая портфелем. — Ты чего на уроках не был?
— Я болею. В школу только четвёртого.
— Ай, хорошо! — пискнул Колесников. — Четыре дня лишних.
Они окружили меня, похлопывали по спине, подталкивали плечами.
Мне было хорошо с ними. Не забыли за лето. Помнят. И я им нужен.
— Что было сегодня? Что задавали?
— Ничего не задавали. Татьяна читала нам книжку. Интересную. Про шпионов, — сказал Арик.
— И вовсе не книжку, а газету «Колхозные ребята». Там такой рассказ в нескольких номерах. Про мальчишку и про слепого корзинщика, который оказался германским шпионом, — сказал Витя Денисов.
— Всё равно — книжка. Только она напечатана в газете, — упрямо сказал Арик. — Понимаешь, там жил такой мальчишка, узбек. Гамид. А у него был товарищ, беспризорник. Бостан. И у Гамида не было отца, а был глухонемой отчим Сулейман. А этому Бостану председатель горсовета Баширов разрешил бесплатно ходить в кино. На сколько хочешь сеансов. Понял? Только Бостану быстро надоело… И ещё в их городе жил старый-старый корзинщик Мамед. Он был совсем слепой, с бельмами на глазах. И вот однажды у Гамида стал умирать дед…
Я таращил глаза на Арика и ничего не понимал.
— Ну тебя, хватит тарахтеть, — сказал Витя Арику. — Он придёт и сам будет слушать. У Татьяны много газет, она ещё несколько уроков читать будет.
— С самого начала не будет, — сказал Арик. — Ему надо рассказать, что было сначала.
— У меня дома есть «Колхозные ребята», — сказал Володя Калмыков. — Мне отец выписывает… Идёмте ко мне, пусть он прочитает.
— Рассказывать интереснее, чем читать, — сказал Арик. — Я лучше ему расскажу.
— Ты рассказываешь так, что ничего не понять, — сказал Витя. — Я ему сам расскажу.
— Ну и рассказывай! — надулся Арик.
— Идёмте ко мне, — сказал Володя. — Там есть картинки, в «Колхозных ребятах». Посмотрим. Пойдёшь, Колька?
Я подумал. Всё равно нечего было делать, пока тётя не придёт со своей работы.
— Пойду, — сказал я.
На картинках какой-то толстый человек выносил из бани на улицу всклокоченного мальчишку. В дупле огромного старого карагача сидел сапожник Сулейман. На голове у него белела войлочная шляпа вроде тех, которые носят кабардинцы, а в карагаче находилась сапожная мастерская. По улице, ощупывая дорогу палкой, шёл старый Мамед, за плечами у него висела корзина. Лицо у Мамеда было хитрое, подозрительное.
— Это — главный шпион, — сказал Арик. — Немец. Капитан Мертруп.
— А сапожник Сулейман — унтер Бетке.
Ребята говорили о них, как о своих хороших знакомых, и мне захотелось сейчас же прочитать все газеты, чтобы не выглядеть дураком.
Мы сидели в комнате Володи за небольшим письменным столом. Ещё в комнате стояла кровать, накрытая серым, как шинельное сукно, одеялом, и этажерка с книгами и учебниками.
Володя положил на стол пачку газет, и я сразу же схватил первые номера. До смерти хотелось узнать, почему Бостану разрешили бесплатно ходить в кино, кто такой унтер Бетке и как главный шпион превратился в слепого корзинщика.
Я не успел прочитать первый кусок повести, как в прихожей требовательно рассыпался электрический звонок и Вовка побежал открывать дверь. И сразу же я услышал голос Бетала. Я не разобрал слов, но мне показалось, что он спросил, есть ли кто-нибудь дома.
Бетал пришёл не один. Володька притворил дверь комнаты и снова уселся за стол.
— Может быть, нам уйти? — деликатно спросил Витя Денисов.
— Зачем? — пожал плечами Володя. — Просто у отца срочное дело. Он будет разговаривать во время обеда. Он так всегда.
Я снова взялся за газету. Через минуту я уже не замечал ничего, даже ребят. Вокруг меня млела от жары Туркмения. Шёл 1931 год.
«Напомню, что это было за время, — читал я. — В нашем городке, расположенном неподалёку от границы, был выбран новый председатель городского Совета Гассан Баширов. В первый же день, как только он пришёл в Совет, он вызвал к себе заведующего коммунальным хозяйством Фейсалова и приказал ему вывезти мусор со всех дворов на главную улицу нашего города, где несколько лет назад в особенно дождливую зиму в грязи утонул буйвол…»
Ну и город! Главная улица — вроде нашей Осетинской. Там тоже такая грязь, что осенью можно ходить по ней, только перепрыгивая с камня на камень. Но наша Осетинская — на окраине, а у них такая грязища была на главной!
«Мусор был свезён, свален, утрамбован, засыпан песком, летом главные улицы залили асфальтом и насадили вдоль тротуаров диковинные деревья, завезённые к нам с юга…»
Я люблю такие повести, где действие происходит не сразу, где сначала всё тихо, мирно, ребята учатся, взрослые спокойно работают, и кажется, так будет всегда, а потом вдруг всё меняется и начинаются такие приключения, что голова кружится и от книжки никак не оторваться.
«Затем Баширов пошёл в наступление на болота, окружавшие наш городок. Страшные это были болота… Малярией хворало чуть ли не всё население нашего городка поголовно, и я думаю, что нигде, ни в одной местности нельзя было встретить столько истощённых, угрюмых людей с бледными губами и землисто-серыми лицами. Но стоило Баширову завести самолёт для борьбы с лихорадкой, опылить болота французской зеленью, залить их нефтью, как малярийные комары стали у нас такой редкостью, что за каждого комара, живого или мёртвого, Баширов распорядился платить три рубля счастливцу, который его поймает. Вот как он работал!»
Я знал, что такое малярия, видел больных ею людей, и Бетал Калмыков, Вовкин отец, сидевший со своими гостями в соседней комнате, слился в моём воображении с Гассаном Башировым, или нет — Гассана Баширова я представил себе в образе Калмыкова.
У нас, в Кабардино-Балкарии, тоже свирепствовала эта страшная хворь, и когда Бетал Калмыков стал секретарём обкома, он тоже начал яростную войну против малярийных комаров. Малярийный комар назывался звучно и красиво — «анофелес». По всей республике были построены малярийные станции, а в школах повесили плакаты с рисунками комаров. Теперь, как только мы замечали или на стенах домов, или на окнах комаров, мы убивали их без пощады. Правда, Калмыков не платил нам за живого или мёртвого анофелеса трёх рублей, но так или иначе, когда я перешёл в третий класс, с малярией в республике было покончено.
«И вот в этом-то беспокойном году, — читал я дальше, — я впервые встретился с двумя людьми, каждый из которых впоследствии стал моим другом. Случилось это из-за комаров, вот как…»
Тут газета кончилась, я поднялся со стула и стал искать на столе продолжение, и в этот момент из столовой раздался голос Бетала:
— Мальчики пусть обедают с нами.
Тотчас в комнате появилась Антонина Александровна, оглядела нас улыбающимися глазами и сказала:
— Обедать! Володя, приглашай товарищей к столу.
Чудесной женщиной была Антонина Александровна, мать Володь-ки! Она всё знала про нас и никогда ни за что не ругала. И мы любили её так же, как любили Бетала.
— Идёмте мыть руки, что ли, — сказал Володя.
В большой столовой обед уже был на столе. Антонина Александровна разливала суп по тарелкам из большой фарфоровой миски. Блестящий черпачок в её руке был похож на красивую игрушку.
Она каждому из нас показала место, и когда мы уселись, вошёл Бетал. Следом за ним, смущённо потирая руки, вошёл ещё один человек. А мне-то показалось по шагам, что гостей было несколько!
Человек был одет, как одеваются горцы на праздник, — синяя шелковая рубашка со множеством пуговок на планке, узкие изящные галифе чёрного цвета, высокие хромовые сапоги. На поясе — тонкий кожаный ремешок с богатым серебряным набором. На верхней губе у гостя топорщились маленькие усики, как у Бетала, а на голове сквозь редкие волосы просвечивала довольно большая плешь.
— Садись, — сказал ему Бетал, отодвигая от стола стул рядом со своим местом.
Гость сел и опустил руки на колени, под скатерть. Я заметил, что, чувствовал он себя очень неловко в этой строгой столовой под ласковым взглядом Антонины Александровны.
— Ешь, — сказал Бетал. — Шашлыком не угощаю. Просто суп и котлеты.
Гость искоса взглянул на нас, на Антонину Александровну, выпростал из-под скатерти руки и тонкими смуглыми пальцами осторожно взял из плетёной корзиночки ломоть хлеба.
— Тоня, это — Балахо, председатель колхоза в Чегеме, мой старый друг, — сказал Бетал.
— Будьте как дома, не стесняйтесь, — попросила Антонина Александровна.
Балахо криво улыбнулся, переложил хлеб из правой руки в левую, а правой взял со стола ложку. Я видел, что ему не хотелось есть, не хотелось находиться в этой комнате, сидеть за этим столом рядом с Беталом. Даже мне от одного вида Балахо расхотелось есть вкусный суп.
— Я тебе расскажу, Тоня, почему я решаю это дело здесь, а не на работе, — сказал Бетал, когда Антонина Александровна присела рядом с ним. — Это — срочное дело. Очень важное дело.
— Может быть, не надо при детях и за обедом? — спросила Антонина Александровна.
— Это — срочное дело, — ещё раз повторил Бетал. — А дети… Дети пусть тоже слушают. Пусть знают, что такое партийная принципиальность. В школе этому не научат. А они будут жить после нас. Пусть запомнят этот обед.
— Бетал… — робко попросил Балахо.
— А ведь мы с тобой в одном году вступали в партию, — посмотрел на него Калмыков. — И воевали против белого дерьма в одном отряде. Я говорю верно?
— Верно, — опустил голову Балахо.
— Тоня, — снова обратился к жене Калмыков, — вчера ко мне в обком пришла женщина. Наржан Хамдешева.
— Бетал… — ещё раз попросил Балахо.
На этот раз Калмыков даже не посмотрел на него.
— У Наржан есть муж, которого зовут Лукман. У них пять детей. И самый плохой дом во всём Чегеме — мазанка, две комнаты, в одной спят, другая — кухня. И огорода нет, потому что нет мужских рук. Лукман уже два года не может работать. У него ревматизм. И два года колхоз ничего не даёт ему на трудодни. По твоему распоряжению? — резко повернул голову в сторону Балахо Бетал.
Балахо совсем низко нагнулся над столом.
— Распоряжения не было, — сказал он почти шёпотом. — Мы помогали Лукману… немного… Но ведь он не выходит на поле…
— Так, — сказал Бетал, откинувшись на стуле и положив ложку рядом с тарелкой. — Балахо, а если бы у нас в отряде в восемнадцатом году были раненые и мы бы не кормили их из-за того, что они не воюют? Как это назвать?
— Фронт и колхоз — это не одно и то же, — прошептал Балахо.
— Да, не одно и то же! Ты прав. Потому что на фронте еда была не всегда, а в колхозе она есть каждый день. На фронте нашим домом была бурка, а подушкой — седло. А сейчас у нас каменные дома. Кстати, Балахо, у тебя дом турлучный или саманный[1]?
— Ты же знаешь мой дом, Бетал, был у меня в гостях, — пробормотал Балахо.
— У него дом из хорошего туфа, — обернулся к жене Бетал. — Четыре комнаты. И застеклённая веранда размером в две комнаты. И огород, и сад в пятнадцать соток.
— Землю мне дало государство, — сказал Балахо. — А дом я построил на собственные деньги.
— Знаю! — дёрнул головой Калмыков. — И ещё знаю, что в селении нет детского сада. Председатель не забывает начислять себе трудодни. Председатель строит себе хороший дом, а дети играют на пыльных улицах.
— Проект детского сада есть. Мы начнём…
— Ладно! — отрезал Калмыков. — Мы разговаривали о Хамдешеве.
— Я ему выпишу по трудодням за целый год. Минимум.
— Нет, — сказал Бетал.
— За два года, — поправился Балахо.
— Нет.
— Наверное, можно выплатить деньгами…
— Нет, — сказал Бетал. — Подачки Лукману не нужны. Он — горец, как ты и я.
— Что же тогда? — растерялся Балахо.
— Ты выдашь ему мешок кукурузы и два мешка пшеничной муки. И ещё один мешок пшена.
— По трудодням получится больше, — сказал Балахо.
— Это ещё не всё. В пятницу ты объявишь шихах. Понятно?
— Зачем? — Балахо весь вытянулся на стуле, и даже рот у него раскрылся от удивления.
— Мы построим Лукману новый дом. И сарай. И уборную во дворе. В пятницу я сам приеду и заложу фундамент. А потом во дворе у Хамдешевых, у нового дома я проведу бюро обкома. В воскресенье вечером. Я приглашу туда всех председателей колхозов района и привезу с собой секретарей, чтобы они не бездельничали в выходной день в городе.
— Бюро?.. — выдохнул Балахо. — Бюро обкома в нашем селении? Во дворе у Лукмана?..
— Да. Я решил. И повестка будет одна: о внимании к человеку. Председателем будешь ты, докладчиком — я.
Бетал отогнул рукав гимнастёрки и посмотрел на часы.
— Всё. Ешь. Потом поедешь в Чегем.
Мало что понял я тогда из этого разговора. Хотелось поскорее выйти из-за стола и возвратиться в Туркмению к Гассану Баширову и Гамиду. У взрослых были свои дела, у нас, мальчишек, — свои. Поэтому я поскорее доел суп, проглотил котлету, даже не почувствовав её вкуса, и поблагодарил Бетала и Антонину Александровну.
Балахо помешивал ложкой в тарелке остывший суп и старался не смотреть на Калмыкова, который ел с аппетитом, будто ничего особенного не произошло.
— Идите, ребята, — сказала Антонина Александровна, увидев, что мы всё съели.
Едва мы очутились в комнате, Витя Денисов засмеялся и сказал Володе:
— Здорово он этого самого Бадахо… Ну и отец у тебя, Володька! Что же будет теперь?
— Шихах будет. Будут строить Лукману дом. А потом будет бюро обкома.
— Володька, а что такое шихах?
— Это когда все помогают одному. Всё селение. Вроде субботника, — сказал Володя.
— А почему так испугался Балахо бюро обкома? Что такое бюро? — спросил я.
— Бюро — это такое срочное партийное собрание, — сказал Володя. — А испугался Балахо потому, что на бюро отец будет ругать его за Лукмана. Может быть, даже объявит выговор.
— А ведь он с Балахо был вместе в одном красноармейском отряде. Они дружили. Он сам сказал.
— Ну и что? Помнишь, отец сказал, чтобы мы обедали вместе с ним и слушали. Чтобы знали, что такое партийная принципиальность.
— А что это такое?
— Это — когда как скажешь, так и нужно сделать. Или нужно сделать так, как требует партия. Дружба здесь ни при чём. Наоборот, с друга требуют ещё строже, — сказал Володя.
— Володька, неужели они успеют построить дом за три дня?
— Шихах построит.
Скоро мы разошлись. Володя дал мне пачку газет с продолжениями «Слепого гостя», и я побежал домой самым коротким путём — по Советской.
Вечерело.
Солнце висело совсем невысоко над горами. В парке на первой танцплощадке заиграла музыка. Наверное, тётя уже пришла с работы и удивляется, почему меня нет дома. Я расскажу ей, что был у Вовки, начал читать «Слепого гостя», обедал и слушал разговор Бетала с Балахо. И тётя, как всегда, скажет:
— Бетал — изумительный человек.
Запыхавшись, я добежал до площадки, где находился гараж обкома, но на месте гаража увидел незнакомый дом.
Я растерянно оглянулся.
Площадь стала теснее, была покрыта асфальтом, четыре этажа розового дома смотрели на меня тёмными прямоугольниками окон, и я знал, что если поднимусь по лестнице на третий этаж и постучу в высокую дверь, мне откроют совершенно незнакомые люди. И дядя Миша никогда уже не выйдет из несуществующего гаража, и тётушка не придёт с работы. Никто меня не ждёт к ужину в этом городе, потому что между городом и мною — более сорока лет…
Я посмотрел на газеты в руках.
«Известия», «Кабардино-Балкарская правда», «Советская Россия». Кажется, я купил их в киоске на Почтовой. На ногах у меня опять были туфли, а не сандалии с жестяными пряжками, и ногти на пальцах были необломанными и чистыми.
Я повернулся спиной к розовому дому и медленно пошёл к началу бывшего Карашевского бульвара.
Справа, у входа в городской парк, за кустами жасмина и сирени белело здание старого городского театра и перед его главным входом стоял памятник.
Интересно — кому?
Ещё издали я узнал эту невысокую плотную фигуру, эту черкеску, папаху, сапожки. Скульптор очень хорошо передал выражение лица Бетала — задумчивое, немного хмурое и в то же время как бы светящееся изнутри. Вот сейчас он слегка наклонит голову, посмотрит на меня и спросит: «Как дела, джигит?»
Я вздрогнул, повернулся и быстро зашагал к своей гостинице.
Лёжа в постели и просматривая газеты, я вспоминал утро, лопухи, серый забор, голубое стекло, типографию, разговор в квартире Бе-тала.
Неужели это было сегодня?
Бросив газеты на тумбочку, я поднялся с постели, прошёл по мягкому коврику к шкафу, где висел мой костюм, и сунул руку в правый карман пиджака. Пальцы наткнулись на пластинку с острыми углами.
Я вынул её и поднёс к лампе.
Стеклянный прямоугольник сиял чистым голубым светом. В нём отражались дверь комнаты, часть потолка, лампа с жёлтым абажуром на тумбочке. Я слегка повернул стекло и увидел своё лицо. Две глубокие морщины — там, где в детстве на щеках были ямочки. Плотно сжатые губы. Уходящие в тень глаза. Брови, нависшие над ними… Из голубого тумана на меня смотрел пожилой человек, над голо. вой которого прошумело пятьдесят лет.
Я положил пластинку на стол, улёгся в постель и выключил лампу.
Утром на автобусной станции я взял билет до Чегема.
В автобус набилось много народу. Даже у выходной двери на мешке с покупками сидел старый кабардинец в серой войлочной шляпе. Девушка, по виду студентка, хотела уступить ему место, но он властно показал рукой: «Нет!» Разве было такое раньше в Кабарде, где женщина никогда не садилась за стол, пока не кончат обедать мужчины?
Рядом со мною устроилась молодая мама с ребёнком. Я помог ей уложить маленький чемодан на багажную сетку. Мальчик у неё на руках крепко спал, приоткрыв рот. Она поправила на его голове маленькую папаху и улыбнулась мне.
— Устал, — кивнул я на мальчика.
— Я была в гостях у сестры, — сказала женщина. — Целый год не виделись.
— Вы из Чегема?
— Да, — сказала она.
Автобус тронулся и поехал мимо вокзала, мимо маслобойного завода, куда я мальчишкой бегал разжиться семечками и где в магазине продавали самую вкусную штуку на свете — подсолнечные ядрышки, сваренные на меду.
За ипподромом город кончился, и по обе стороны шоссе потянулись нескончаемые заросли кукурузы. На толстых с широкими листьями стеблях, похожих на стволы бамбука, сидели початки, завёрнутые в кожистые желтоватые рубашки, и я вспомнил, как на больших переменах мы из школы бегали на базар и покупали варёную кукурузу. Продавщица доставала початки из ведра, накрытого толстой тряпкой. Они ещё обжигали руки, мы перебрасывали их из ладони в ладонь, брали с бумажки на прилавке щепотку соли и натирали ею початок. А потом вгрызались в крупные, похожие на лошадиные зубы, зёрна, и наслаждения этого хватало до самого звонка на урок.
Навстречу автобусу тянулись арбы, запряжённые волами, бойко цокали копытцами ишаки, нагружённые мешками и погоняемые мальчишками, бежали легковые автомашины. Я помнил, как асфальтировалась эта дорога, как вдоль неё на обочинах горожане сажали вишнёвые и грушевые деревья и ставили столбики с табличками:
ПУТНИК! ОТДОХНИ,
ПОЖАЛУЙСТА!
ПОДКРЕПИСЬ!
ТЕБЯ УГОЩАЕТ КОЛХОЗ
«КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»
Какими большими стали сейчас эти груши и вишни! Вон краснеют среди листвы тёмно-красные ягоды. Выйти бы из автобуса и попробовать. А вот табличек уже нет. Да их и не надо — сейчас все знают, что это — общее.
Впереди встали высокие пирамидальные тополя, мелькнули среди них красные черепичные крыши и белые стены домов, за плетнями тёмной зеленью заклубились яблоневые сады, и автобус остановился около моста через речку.
— Чегем, — сказал водитель.
Пассажиры зашевелились, старик, сидевший у двери, подхватил свой мешок, я помог женщине со спящим мальчиком вынести на остановку эмалированное ведро, завязанное сверху холстиной, и чемодан, за нами вышли ещё несколько человек, и автобус укатил дальше.
— Спасибо, — сказала женщина, поудобнее перехватывая мальчика на руках. — Теперь я сама.
— Я вам донесу, — сказал я. — Идите вперёд, показывайте дорогу.
Она смущённо повторила ещё раз «спасибо», и мы пошли по узенькой улочке вниз, к реке.
В небе стояло свежее, яркое солнце, журчала вода в канавках вдоль улицы, лениво обернулась на наши шаги собака, лежащая у входа в чей-то сад.
У новенького аккуратного плетня женщина остановилась.
— Здесь, — сказала она. Крепче прижала к себе мальчика и крикнула в глубь сада: — Исуф!
Почти сразу же появился мальчик в джинсах и серой школьной рубашке, широко улыбнулся женщине, потом мне, открыл не замеченную мною в плетне калитку, подхватил ведро и чемодан, которые я поставил на землю.
— Может, зайдёте? — спросила женщина.
— Нет, спасибо, — сказал я. — Но может быть, вы знаете, где живёт Лукман Хамдешев?
— Лукман? — женщина наморщила лоб, вспоминая, затем обернулась к мальчику и они быстро заговорили по-кабардински. Мальчик называл имена — Лукман Цукович, Лукман Митович, Лукман Барасбиевич, Исмел Хамдешев, Мита Хамдешев — и растерянно пожимал плечами.
Наконец женщина посмотрела на меня.
— У нас много Хамдешевых, много Лукманов, — сказала она. — Какой вам нужен?
— Это было очень давно, почти пятьдесят лет назад, — сказал я. — Бетал Калмыков объявил шихах и построил Лукману Хамдешеву дом.
— Э! — воскликнул мальчик, и лицо у него оживилось. Он опять обернулся к женщине, сказал ей несколько слов, потом бегом бросился с вещами в калитку и исчез в зелени сада.
— Подождите, пожалуйста, сейчас Исуф вам покажет дом, — сказала женщина и пошла следом за мальчиком.
Через минуту ко мне на улицу выбежал Исуф.
— Идёмте, — сказал он.
Низом, вдоль сонной, неглубокой речки мы вышли к большому саду, в глубине которого розовел добротный дом из туфа, крытый плоской оранжевой черепицей.
Исуф, видимо, хорошо знал ход через сад. Я не отставал от него. Мы пробрались через колючие кусты малины, прошли под старыми яблонями к переднему фасаду дома и увидели старика, сидящего на скамейке.
Мальчик почтительно наклонил голову и сказал старику несколько слов. Потом ещё раз поклонился и растаял в саду.
Старик поднял на меня глаза.
У него было узкое и тонкое, как у всех кабардинцев, лицо, белая борода ровным клинышком, небольшие усы и косматые брови, на которые была надвинута белая папаха. На плечах — потёртая черкеска с пустыми кармашками для газырей. На вид ему было лет восемьдесят, но серые глаза смотрели на меня молодо, внимательно и чуть улыбаясь.
— Я — Лукман Хамдешев, — сказал он. — Будь моим гостем.
Вечером, в уютной комнате за столом, Лукман рассказывал:
— Тот старый дом был турлучный, его построили за три дня. Он простоял двадцать лет. Бетал приехал сюда, сам взял лопату и наметил канавками место дома. Я тогда удивился, что дом будет такой большой. Но Бетал сказал: «Хватит, пожили в мазанках, похожих на собачьи конуры. Советская власть хочет, чтобы все жили в больших и светлых домах».
— Лукман Митович, я знаю, что у вас во дворе состоялось бюро обкома. Что говорил Бетал на этом бюро?
— Да, это было бюро! — сказал Лукман, погладил пальцем усы и улыбнулся. — Такого у нас в Чегеме никогда не видели. Настоящее бюро во дворе, вон там, — он показал за окно. — Приехали большие люди из Нальчика. Приехали председатели из колхозов. Все мужчины Чегема собрались у меня, нищего Лукмана. А я не мог даже стоять. Ноги болели. Я был, как малый ребёнок. Бетал посадил меня на стул. А все стояли. Стояли, когда сидел я — Лукман! И он сам стоял около меня и держался за спинку стула. То, что он сказал, я помню сейчас так хорошо, будто только что услышал его слова. И я всё передал детям, всё до единой буквы. Их пятеро у меня. Такие, как ты, ну, если только немного помоложе… Я сказал детям: «Запомните это на всю жизнь и своим детям скажите так, как я говорю вам. Потому что такие слова — как надпись на камне. Люди умирают, а мудрые слова остаются их детям, их внукам, и детям их внуков, и их детям…»
Вот что говорил Бетал, а я сидел перед ним, стоящим, и запоминал его слова:
— Я вижу здесь многих. Вы стоите на этом дворе рядом — руководители районов, председатели колхозов, сельские коммунисты и беспартийные. Я не хочу скрывать от вас положения дел. Скрывают только тогда, когда совсем уже плохо. Среди нас есть люди, сердца которых обросли жиром. Им кажется, будто Советская власть завоёвана только для них. Пользуясь своим положением, они стараются получить от власти всё самое лучшее. Разве такие люди не похожи на князей и уорков, которых мы сбросили в тысяча девятьсот двадцатом? Помните, люди: революция совершена для вас. Только для вас, а не для того, чтобы Балахо имел туфовый дом со стеклянной верандой в две комнаты размером, а Лукман Хамдешев получил на трудодни за год мешок сырых подсолнечных семечек, потому что болел ревматизмом и не мог выходить на поле! Посмотрите — у плетня на улице стоит шесть автомобилей. А передо мной стоят некоторые люди, которые отрастили такие животы, что их уже не может носить конь, им обязательно нужен автомобиль. И они едут на этих автомобилях по республике, отгороженные от всего толстым стеклом, и не видят через это стекло стариков, старух и больных, которые проходят мимо. До их голов не доходит, что и машины, и руководящие посты им дали эти самые старики, которые в меру своих сил и сейчас ещё трудятся в городах и селениях. Позор! Это я говорю вам прямо в лицо — позор, потому что то, что вы делаете, вы делаете на глазах у людей, которые вам дали власть, и то, что вы сделаете, будет обсуждено людьми.
Вот что сказал тогда Бетал в моём дворе на бюро обкома. Он говорил ещё много о разных делах, но я запомнил только эти слова. Они у меня здесь, — старик приложил руку к груди.
Неслышно вошла в комнату внучка Лукмана Софият и поставила на стол блюдо с горячей душистой пастой и миску густой, слегка желтоватой сметаны.
— Кушайте, пожалуйста, — сказал старик.
— А ревматизм? — спросил я, вспомнив, как он легко поднимался по ступеням крыльца, ведя меня в дом.
— Нету, — сказал Лукман. — Совсем здоровый сейчас. Бетал послал меня на серные ванны. Там я каждый день купался в тухлой воде, и вода взяла из моих ног болезнь. А ты знаешь, что стало с домом Балахо? Свой большой дом с верандой в две комнаты он отдал колхозу для детского сада. Себе построил другой, саманный. Хорошо, что ты знал Бетала.
Я хотел сказать, что видел Калмыкова вчера, даже обедал у него дома, что за столом вместе с нами сидел Балахо и не знал, куда девать себя от позора, но сдержался.
— Я начинал войну вместе с его сыном Володей. Володя погиб под Кенигсбергом. Он был таким же, как отец.
— Хорошие люди живут мало, но сделать успевают много, — вздохнул Лукман.
В комнате смеркалось.
Опять неслышно появилась Софият и щёлкнула выключателем у двери.
В открытое окно из сада влетела большая махровая бабочка и начала кружиться вокруг абажура лампы.
Сколько я себя помню — мне никогда не везло.
Если я затевал какую-нибудь игру со своими товарищами, то обязательно её проигрывал и потом долго размышлял, почему так вышло.
Если на улице происходила драка, то я обязательно оказывался в самом её центре. И хотя я никого и ничего не боялся, после драки больше всего шишек и синяков было на мне.
Если меня в школе неожиданно спрашивали, то почему-то именно в этот день я или очень плохо урок знал, или не знал совсем.
Если дома я начинал варить борщ, то в этот день у нас вообще не было первого, а моё варево сказывалось в помойке.
И так — во всём.
Говорят, что некоторые люди рождаются под счастливой звездой. Я, наверное, родился в переходный период, когда силы природы находились в каком-то неустойчивом равновесии. Они, видимо, колебались от знака «плюс» к знаку «минус», всё время проскакивая среднее положение. И мой характер тоже получился таким. Я жил на крайних пределах — то минусовых, то плюсовых. Причём минусовых опять-таки было больше.
Моя фантазия всегда намного опережала действительность. Мои возможности всегда были ниже тех, что рисовались в моём воображении. И все мои начинания оканчивались почему-то совсем не так, как должны были окончиться.
Я вспоминаю свой самый первый день в школе.
Мы стояли на школьном дворе стайками: каждая стайка — будущий класс. Нашей стайкой командовала худощавая, смуглая, черноволосая Татьяна Михайловна, очень похожая на ворону. Она должна была стать нашей учительницей.
— Дети, — сказала она, — не шумите, пожалуйста. Вы уже взрослые и не дома, а в школе.
После этих слов мы зашумели ещё громче. Мы никак не могли понять, почему взрослые должны молчать, когда кругом столько интересного.
Ко мне подошёл белобрысый мальчишка с огромным портфелем. Глаза у мальчишки были серые, волосы стрижены ёжиком, брюки аккуратно отглажены.
— Тебя как зовут? — спросил он, взглядывая на меня сверху вниз. — Вот меня зовут Орион. А ты кто?
— А я — Внуков, — ответил я.
— Вот дурак! — сказал он. — Что это за имя такое — Внуков?
— Это не имя, а фамилия, — сказал я.
— Значит, ты — Внук, Внучок! Да? — заорал он. — Ребята, у нас в классе будет бабушкин внучок. Уа-уа!
Мне такими противными показались глаза мальчишки и особенно его длинный нос, что я схватил свой портфель обеими руками и изо всех сил ударил им белобрысого по голове.
— Ах, ты так! — заорал он и в свою очередь ударил меня. Его портфель был настолько тяжёлым, что я присел. В следующее мгновение я схватил его за ногу и мы оба упали на землю.
Девочки завизжали.
— Мальчики, мальчики, что же вы делаете?! Сейчас линейка! Сейчас построение! Внуков, немедленно отпусти Кириллова! — закричала Татьяна Михайловна.
Но я мёртвой хваткой вцепился в воротник рубашки белобрысого, и оторвать меня от него было уже невозможно.
Кончилось тем, что нас, пыльных, потных, измятых, поставили на линейке в самый задний ряд.
— Если бы ты не схватил меня за ногу, я бы тебе дал! — сказал Кириллов.
— Погоди, я тебе ещё дам! — ответил я.
В классе нас посадили за одну парту. А через час мы подружились.
На следующий день я снова бродил по городу. Теперь мне хотелось найти Сентябрьскую улицу. Там была старая наша квартира и уютный двор, и у забора старая-престарая груша, на которую я любил забираться. С груши видны были Почтовая улица и другие дворы и, сидя на какой-нибудь толстой ветке, было интересно наблюдать за жизнью.
А осенью на дереве поспевали чудесные груши. Перезревшие, они мягко шлёпались о землю и разбивались в лепёшки, из которых торчали коричневые черешки…
Теперь Почтовая называлась улицей Ногмова. Вот поворот с Кабардинской. Три десятка шагов — и я там, где раньше была коротенькая Сентябрьская, соединявшая Почтовую с Революционной.
Улицы, конечно, не было. Были зелёные приоткрытые ворота, за ними — большой двор, в конце которого стояло серое одноэтажное здание. А направо — ещё одни ворота, и над ними — старая, почти высохшая груша. Только несколько веточек зеленело на ней.
Я вошёл в наш бывший двор. Медленно подошёл к груше и погладил ладонью её морщинистый ствол: «Сколько же тебе лет сейчас, если ты была старенькой уже тогда, когда я был мальчишкой?»
Я снова вышел на Почтовую, вернее — на Ногмова, и направился к речке.
Всё тот же высокий глинистый обрыв с крутым спуском ступеньками. Всё та же окатанная галька на берегу и сонно журчащая среди неё вода. Только мост новый — и
на другом месте. И на том берегу вместо низеньких белых домиков, прячущихся в садах, — трехэтажные здания.
— Это что — Вольный аул? — спросил я женщину, идущую по берегу к мосту.
— Да, Вольный аул.
Я спустился к самой воде. Становилось жарко. Пот заливал лицо. Сунул руку в карман за носовым платком — пальцы наткнулись на острое ребро стекла. А я-то думал, что оставил его на тумбочке в гостинице!
Я повертел стекло в пальцах и машинально поднёс к глазам, — на белой гальке против меня стояла моя тётя Лена. А рядом с ней худой и обожжённый, будто скрученный из старой медной проволоки, пританцовывал Владик Замуков в чёрных трусиках. Я опустил глаза. На мне тоже чёрные трусики, а у ног — серые мальчишеские штаны и голубая сатиновая рубашка.
— Постойте, успеете ещё в воду, — сказала тётя. — Ну-ка, Никола, подойди ко мне.
Я подошёл.
Она внимательно осмотрела меня со всех сторон и вздохнула:
— Хилый ты у меня какой-то растёшь. Бледный и узкогрудый. Надо бы подкрепить тебя немного.
Я вовсе не чувствовал себя хилым и узкогрудым и не хотел ничем подкрепляться. Мне достаточно было того, что во мне есть. Дрался я в школе довольно лихо. Бегал тоже неплохо. И бледным меня нельзя было назвать — нос и плечи у меня всё время шелушились и облезали от солнца. На тётины слова в тот день я не обратил никакого внимания.
И вот на столе за завтраком среди прочего — большая бутылка белого стекла, в которой слабо желтеет какая-то жидкость.
Я удивлённо смотрю на бутылку: раньше её на столе у нас никогда не было. Неужели тётя вместо сливочного масла решила перейти на подсолнечное?
— Это — рыбий жир, — говорит она. — Будешь пить eгo три месяца.
Мне всё равно. Рыбий, так рыбий. Никогда в жизни я его не пробовал. Но если надо, так надо.
Когда я был во втором классе, тётя тоже подкрепляла меня. Из порошка какао, мёда, свиного сала и ещё чего-то она сварила коричневую смесь и вылила её в двухлитровую банку. Когда смесь загустела, она стала похожа на мягкий душистый шоколад. Вкус у неё был потрясающий. Тётя давала мне её строго по порциям — три столовые ложки в день после еды. Я решил, что мне этого мало, и подсмотрел, куда она прятала банку. Однажды, оставшись дома один, я добрался до этой банки и устроил грандиозный пир — съел сразу ложек десять. Тётя не заметила. А я решил, что есть одному такую хорошую вещь — слишком большая роскошь. И через два дня, когда тётя ушла на суточное дежурство в больницу, я пригласил к себе всех мальчишек из нашего класса и одну девочку — Риту Скороходову. Я торжественно поставил банку на стол и раздал всем ложки. Нас было двенадцать человек, ложек на всех не хватило, поэтому некоторые ели с одной и той же ложки. Я ел с ложки Риты Скороходовой.
Банка опустела за несколько минут. Смесь всем очень понравилась, а Рита сказала, что попросит свою маму сделать такую же и тогда пригласит всех нас к себе.
После этого случая моя тётя больше такой вкусной штуки не варила, а сказала, что я — беспринципный человек.
И вот теперь — рыбий жир.
Тётя отрезала маленький кусочек чёрного хлеба, посолила его и протянула мне:
— Держи.
Потом откупорила бутылку налила густую жидкость в столовую ложку.
— Открой рот, — сказала она. — Хлебом заешь.
Когда я с усилием, давясь и пуская пузыри, проглотил наконец то, что тётя влила мне в рот, я сразу же понял, что рыбий жир не по мне. И что мне предстоят длительные мучения, потому что бутылка была большая.
Но с тех пор так и пошло: утром, в обед и вечером тётя Лена солила кусочек хлеба или клала на блюдечко дольку солёного огурца и доставала из кухонного стола бутылку. Она её не прятала так, как прятала когда-то шоколадную смесь.
Увидев бутылку, я сразу же закрывал глаза и отворачивался. Я не мог равнодушно смотреть, как рыбий жир переливается из горлышка в ложку. Дальнейшее происходило, как во сне. С жуткой гримасой я открывал рот, она вталкивала в него ложку, я судорожно глотал, заедал огурцом или хлебом, а потом долго сидел, медленно приходя в себя.
Три месяца!
Надо было вынести три месяца таких мучений!
Голова моя стала работать на предельной нагрузке. Я выдумывал тысячи способов, как избавиться от рыбьего жира, но ничего путного не придумывалось. Я даже решил было тайком от тётки вынести бутыль в огород и вылить этот паршивый жир в картошку. Но сразу же понял, что ничего не выиграю, а наоборот — проиграю. Тётя пойдёт в аптеку и купит другую бутылку. Полную! И мне придётся повторить всё с самого начала.
Я думал несколько дней, и, когда казалось, уже схожу от напряжения с ума, выход нашёлся.
Я выждал, когда тётя собралась на рынок, и, как только дверь за нею захлопнулась, бросился в кухню и вынул из стола злополучную бутыль. Жира в ней оставалось ещё много — больше, половины. Там же, в столе, я нашёл большую эмалированную кружку и вылил в неё противную жидкость. Потом поднял крышку погреба, на ощупь отыскал ведро, в котором у нас были солёные огурцы, и вытащил из него самый крупный огурец.
Огурец я разрезал на дольки. Долго сидел, подготавливая себя к тому, что сейчас произойдёт.
Наконец, закрыл глаза, поднёс кружку к губам и, давясь, задыхаясь и вздрагивая от отвращения, выпил всю кружку до конца. Быстро-быстро заел огурцом и сунул бутылку и кружку, в стол.
Когда стукнула входная дверь, я с просветлённым лицом бросился к тёте Лене.
— Всё, тётечка, всё! Мне больше не нужно пить рыбий жир! Я уже поправился!
— Что? — не понимая, спросила тётя.
— Я поправился! И не нужно пить этот противный жир по ложечке!
— Рыбий, жир? — переспросила тётя. — Что ты с ним сделал?
— Я его весь выпил. Сразу. Это лучше, чем постепенно!
Только сейчас до тётки дошло. Она открыла стол, увидела пустую бутылку и испуганно всплеснула руками:
— Господи, что с тобой теперь будет?!
В школу я не ходил три дня.
Расстройство желудка было настолько сильным, что я пожелтел, ослаб и при ходьбе меня шатало.
Но вторую бутылку тётя уже не купила.
А через несколько дней Татьяна Михайловна сказала, что в школе организован драмкружок и нашему классу поручили поставить пьесу по сказке Пушкина «О попе и о работнике его Балде».
Мы заорали, начали прыгать через парты и хлопать друг друга, книжками по головам.
— Тише! — сказала Татьяна Михайловна. — Сейчас мы распределим роли.
Мы заорали ещё громче. Татьяна Михайловна переждала шум и сказала:
— Гриша Афонин будет попом.
— Ур-р-ра!!! — разнеслось ' по классу, и все обернулись в сторону парты, где сидел Гришка. Афона был самым толстым в классе, и лучшего попа придумать было нельзя.
— Поп! Поп! Поп! — посыпалось на Афоню со всех сторон.
А он сидел гордый, раскрасневшийся, радостный, и на лице его расплывалась жирная улыбка. Роль попа была самой длинной в спектакле.
— Владик Кощеев будет Балдой!
Все мгновенно забыли про Гришку и повернулись к Владику.
— Балда! Олух! Дурак! — понеслось по классу.
Владька растерянно моргал глазами и смешно поворачивал на крики белобрысую голову.
— Старым Бесом будет Игорь Мироненко!
Тут криков не было. Все просто повернулись и посмотрели на Игоря.
Мироненко, насупив брови, глянул на всех. Не улыбнулся, не дёрнул плечами, не скорчил забавную рожу — просто глянул и отвернулся. Он был самым высоким и самым сильным мальчишкой в нашем классе. Одной рукой он мог побороть двоих таких, как я.
— Внуков, Разов, Колесников и Кириллов будут маленькими бесенятами!
Класс снова взорвался смехом и криками.
Мы были самыми низкорослыми в четвёртом «А» и всегда держались отдельной стайкой. Вчетвером мы представляли силу не меньшую, чем один Мироненко, поэтому, когда мы были вместе, нас не трогали. Зато рассчитывались с нами поодиночке.
Затем Татьяна Михайловна назначила какого-то цыгана, продавцов на базаре, двух мужиков и распустила нас по домам, наказав ещё раз хорошенько прочитать сказку. Я примчался домой в самом прекрасном расположении духа.
— У нас драмкружок, — закричал я с порога. — Мы ставим сказку о попе и о Балде! Меня выбрали чертёнком!
— Ты как раз очень подходишь на эту роль, — сказала тётя. — Когда будет спектакль?
— Через месяц. Мне надо ещё раз прочитать сказку.
— Читай. А Татьяна Михайловна — молодец. Хоть болтаться без дела не будете.
Из чёрного сатина тётя Лена сшила мне замечательный костюм. Он плотно обтягивал тело, как трико у клоуна. А на голове красовалась такая же обтягивающая шапочка с двумя рожками, похожими на маленькие чёрные морковки. Я попросил, чтобы она сделала ещё маску, закрывающую лицо. Она пришила маску прямо к шапочке. Прострочив полоску сатина, вывернула её наизнанку, и получился хвост. Я сам вставил в него проволоку, обёрнутую ватой, и красиво загнул. Тётя пришила хвост сзади к трико.
С каким нетерпением ожидал я спектакля! Я представлял, как эффектно выскочу на сцену, вызванный старым Бесом, как побегу наперегонки с зайцем и как весь зал замрёт и ахнет, увидев меня.
Наконец этот день настал. В нашей школе не было специального зала для собраний и спектаклей. В конце коридора второго этажа, перед дверью в пионерскую комнату, была построена сцена, на которую шли по лесенке в три ступени. Сцена возвышалась над полом почти на метр. Под ней всегда было темно, и мы очень любили на переменах исследовать мрачные подсценные закоулки. К сожалению, в верхнем коридоре почти всегда дежурил преподаватель.
В день спектакля над сценой поперёк коридора натянули занавес из серой материи, перед сценой поставили стулья, стены украсили рисунками ребят из изокружка.
Мы переодевались в пионерской комнате. За нами присматривала пионервожатая Люся.
До этого я считал свой костюм самым красивым. Но когда Игорь Мироненко надел свой — я был сражён наповал.
Старый Бес выглядел настоящим бесом из преисподней. На его лице горбился кривой нос из чёрной бумаги. Глаза сверкали из-под мочальных бровей. До самого пояса опускалась мочальная борода. Спина и грудь его поросли дикой шерстью. Ноги кончались копытами. А на голове двумя серпами изгибались самые настоящие рога!
Мы, бесенята, сразу затихли, когда увидели своего предводителя в таком обличье, подошли к нему робко, и он великодушно разрешил нам потрогать свой костюм.
Дикая шерсть на груди и спине Игоря оказалась вывернутой наизнанку овчинной душегрейкой. Копыта — русскими сапогами, за голенища которых были засунуты полосы лохматой овчины. Но рога на голове были настоящими, коровьими — они росли из белой костяной пластины — куска коровьего черепа. В пластине отец Игоря просверлил по бокам две дырки, вдел в них шнур, и таким образом пластинку можно было прикрепить к голове,
Игорь снял рога и дал примерить. Они оказались такими тяжёлыми, что клонили наши головы вниз.
— Голова закружится — носить такие, — сказал Разов, самый из нас маленький.
— Слабаки! — с презрением сказал Игорь. — Дай сюда.
И он с гордостью водрузил на голову свой страшный шлем,
А на сцене шла суетня.
Ребята передвигали столы, изображавшие торговые ряды на базаре, развешивали на них ткани — куски кумача и серой саржи, взятые из пионерской комнаты, пирамидками раскладывали ярко раскрашенные макеты овощей и фруктов, принесённые из кабинета биологии. Здесь же прохаживался поп — Гришка Афонин. В широкополой шляпе, с белой ватной бородой, в отцовском пальто, доходившем ему до пяток, с картонным крестом, повешенным на грудь на цепочке от ходиков, он выглядел очень солидным и в то же время смешным.
Татьяна Михайловна, увидев нас, вылезших из пионерской комнаты, махнула рукой:
— Брысь! Брысь! Вас ещё не хватало! Сгиньте!
И мы сгинули под сцену до того момента, когда наступит наш черёд.
Нам очень хотелось увидеть начало спектакля, но Татьяна Михайловна строго-настрого запретила высовывать головы из-под пола. Сидя в полутьме, мы слышали топот ног над головами, приглушенные голоса, звук двигаемых стульев в зале, команды пионервожатой.
Наконец всё затихло.
— Занавес! Занавес! — громко зашептала Татьяна Михайловна.
Пионервожатая Люся объявила, что сейчас зрители увидят первую работу драмкружка школы, и начала громко читать первые строчки сказки:
Жил-был поп, Толоконный лоб. Пошёл поп по базару Поискать кой-какого товару…По смеху зрителей мы поняли, что на сцену вышел Гришка Афонин. И тут мы начали спорить, кто первым выскочит на сцену, когда нужно будет бежать наперегонки с зайцем.
На репетициях мы бегали все четверо, по очереди, чтобы никому не было обидно. А сейчас Татьяна Михайловна забыла объявить, кто будет бежать первым на спектакле. Мы начали тихонько выглядывать из-под сцены, но Татьяны Михайловны нигде не было видно. Тогда мы выползли в проход и тут увидели Татьяну Михайловну— она сидела в зале в третьем или четвёртом ряду!
Кричать? Но тогда нас заметят и всё пойдёт кувырком.
Подать ей какой-нибудь знак? Тоже заметят…
Что же это она? Почему ушла в зал? Скоро же наш выход!
Мы снова забрались под сцену и стали спорить.
Я был твёрдо уверен, что побегу именно я. Но оказывается, и Разов точно так же был уверен, что побежит он. В спор вмешался Арик Колесников и сказал, что мы дураки и побежит именно он — и никто другой. Кириллов шлёпнул его по макушке ладонью:
— Цыц! Побегу я.
— Татьяна Михайловна, — сказал я Кириллову, — когда выбирала бесенят, назвала меня первым, а тебя — последним!
— Мало ли что! — сказал Кириллов. — У меня ноги длиннее, чем у вас у всех! Вы — коротышки.
— Это я — коротышка?! — я вскочил и изо всей силы ударился головой о доски пола. Удар был настолько силён, что на целую минуту я выбыл из спора, а когда звон в голове прошёл и боль в надувающейся шишке немного утихла, увидел, что верх в споре взял Орька Кириллов.
— Нечестно, Кирилл! — закричал я так громко, что, наверное, в зале слышно было.
— Тише ты! — зарычал старый Бес и дёрнул меня за хвост.
Что-то треснуло сзади моего костюма, и хвост — мой замечательный хвост, которым я так гордился, на который положил столько труда, — оказался в руках Игоря Мироненко.
Онемев от ужаса, я хлопнул ладонью по задней части костюма и ощутил там большую рваную дыру.
— Ты…что… — задыхаясь, произнёс я, но в этот момент под настил заглянула пионервожатая:
— Старый Бес, на сцену! Быстро!
Мироненко взвился пружиной, лицо вожатой исчезло. А мой хвост с треугольным обрывком чёрного сатина остался на полу.
Глотая слёзы, я подобрал его, попытался приставить на место. Но он, конечно, не приставлялся…
Оглушённый несчастьем, я держал хвост в руке, и на него часто-часто капали мои слёзы.
Тут снова под настил заглянула вожатая:
— Кто бежит с зайцем? Быстро! Быстро!
На сцену выскочил Кириллов.
— А вы — приготовьтесь! — сказала вожатая.
Маленький Разов посмотрел на меня и хихикнул.
Я ударил его хвостом по голове и до конца спектакля больше уже ничего не видел и не слышал.
В пионерской комнате, когда мы переодевались в свои нормальные костюмы, Татьяна Михайловна сказала Игорю:
— Что же ты так подвел Внукова, Игорь? Вот видишь, из-за тебя… он не играл свою роль. Это нехорошо.
— А чего у него хвост такой слабый? — сказал Игорь. — Татьяна Михайловна, а ведь и двух чертенят довольно, правда?
Я задохнулся от этих предательских слов. И едва Татьяна Михайловна вышла из комнаты, бросился на Игоря с кулаками.
Он мог одним ударом перебросить меня через всю комнату, но от удивления отступил на шаг, споткнулся о наш большой отрядный барабан и всей тяжестью сел прямо в него…
Несколько дней подряд после уроков он поджидал меня у выхода из школы. Мне очень не хотелось выяснять с ним отношения, и я исчезал из школы через окно туалета первого этажа, которое выходило во двор, перелезал через забор и прокрадывался домой переулками. Но он в конце концов догадался об этом манёвре, поймал меня в глухом месте и сполна рассчитался за нагоняй, который получил от вожатой за барабан.
После этого я надолго охладел и к драматургии и к сцене.
Потом меня захватило новое увлечение и засосало с головой, как и все увлечения в моей жизни.
Произошло это уже в пятом классе.
В витрине игрушечного магазина, мимо которого я проходил два раза в день — утром, когда шёл в школу, и после обеда, когда возвращался из школы домой, — появилась новинка.
Это была большая коробка, разделённая внутри картонными перегородочками на множество отделений. В отделениях лежали стеклянные пробирки, круглые бутылочки, наполненные разноцветными порошками, пакетики с какими-то веществами. Там были специальные держатели для пробирок, похожие на длинные бельевые прищепки. Фарфоровая ступочка с пестиком. Две пузатенькие колбочки с пробками. Целый набор стеклянных трубок разной толщины. Но самое главное — спиртовка с тяжелым стеклянным колпачком для того, чтобы гасить огонь, и с проволочным таганчиком, на который ставились колбочки для кипячения растворов.
И вся эта штука называлась заманчиво и солидно: «ЮНЫЙ ХИМИК».
На крышке коробки, которая лежала отдельно, был изображён стол, на котором стояла спиртовка. Над спиртовкой находился этот самый проволочный таганчик, на нём стояла колбочка, заткнутая пробкой. Из пробки опускалась изогнутая стеклянная трубка. Румяный мальчик в аккуратном костюме, с пионерским галстуком на шее, подносил к концу трубки другую колбочку. Из трубки в неё что-то капало. Рядом с мальчиком стояла симпатичная девочка, такая же аккуратная и румяная. У обоих были очень серьёзные лица, и, конечно, они не просто производили химические опыты, а делали какое-то важное научное открытие.
Рядом с крышкой лежала тонкая книжечка, на обложке которой крупными буквами было напечатано: «100 ОПЫТОВ ПО ХИМИИ».
Со дня появления коробки в витрине магазина я потерял покой.
Я останавливался перед витриной утром и разглядывал стойку для пробирок, щипчики, спиртовку и пузырьки с разноцветными веществами. Я читал надписи на этикетках, наклеенных, на пузырьки, и названия веществ завораживали меня своей непонятностью. Яркий зеленовато-голубой порошок назывался сернокислой медью. Один пузырёк до самой пробки был наполнен белыми комочками, похожими на не-. ровные горошины, и эти горошины носили название едкого натра. Были ещё какие-то таинственные «КОН», хлористый натр, перман-ганат калия. В отдельной бутылочке находились серые зёрнышки цинка, а в плотно закупоренных флаконах, с горлышками, облитыми воском, — кислоты: серная, соляная и азотная.
После уроков я снова прилипал к витрине и мечтал о том времени, когда набор попадёт в мои руки.
Я представлял себе лабораторию, заставленную сложными стеклянными аппаратами, в которых кипели и булькали какие-то жидкости. Они переливались по длинным трубкам из одного аппарата в другой, каплями стекали в пузатые стеклянные колбы. С ними что-то происходило, они испарялись, меняли цвета, оседали пушистыми кристалликами на стенках тонких химических стаканов, и я командовал всем этим. Я всё понимал и всё знал. Я взвешивал осадки, записывал что-то в толстую тетрадь, делал какие-то расчёты.
Нет! Всё-таки самая лучшая, самая интересная на свете работа — это работа химика! И когда я окончу школу, я обязательно поступлю в химический институт. Решено! Бесповоротно и навсегда!
Однажды я заговорил с дядей о своей будущей специальности.
— Химиком? — переспросил он. — Ну, что же, поздравляю! Хорошая, нужная, интересная работа. Только учти — она требует аккуратности и терпения. А у тебя эти качества не особенно развиты.
Я поклялся, что именно с этого дня начну развивать в себе эти качества, и для этого необходим один лишь пустяк — набор «Юный химик», который сейчас продаётся в магазине игрушек.
— Посмотрим, посмотрим, — сказал дядя, и на этом разговор кончился.
Теперь я почти каждый вечер «апоминал ему о „Юном химике“. Я намекал, что наборы могут скоро кончиться, что их все отчаянно раскупают, что спиртовка и сту-почка, которые есть в наборе, пригодятся в хозяйстве, что из химических веществ, которые насыпаны в бутылочки, можно сделать для дома другие какие-нибудь, полезные вещества. Я удивлялся, как мы раньше жили без этого набора, и доказывал, что чем скорее набор будет в моих руках, тем более быстрыми темпами будут развиваться у меня и аккуратность, и терпение.
Видимо, я так надоел ему, что он наконец выдал мне долгожданные шесть рублей.
С какой гордостью нёс я коробку домой! Я держал её в руках так, чтобы прохожие могли видеть яркую этикетку с девочкой и мальчиком и крупные буквы, из которых складывалась надпись „ЮНЫЙ ХИМИК“. Я нарочно шёл не торопясь, чтобы как можно больше людей увидело мой набор и моё серьёзное лицо, полное решимости заниматься настоящей наукой.
Дома набор слегка разочаровал меня. Когда я просмотрел книжечку „100 опытов по химии“, я увидел, что большинство опытов неинтересны. То, что было изображено на крышке коробки, называлось дистилляцией воды. Но как я ни ломал голову, я не мог придумать, для чего мне нужна будет дистиллированная вода. В примечании, правда, говорилось, что такая вода применяется в фотографии, но я фотографией в то время не занимался.
Цинк служил для получения водорода. Серые зёрнышки насыпали в колбу, колбу затыкали пробкой с дырочкой, затем в эту дырочку пипеткой капали кислоту и вставляли стеклянную трубочку. Из трубочки начинал выделяться водород, который можно было поджечь. Он горел длинным, почти не видимым на свету голубоватым язычком. Этот опыт был интереснее всего, и я делал его до тех пор, пока не кончился весь цинк и не опустела бутылочка с соляной кислотой.
Потом я приступил к выращиванию синего кристалла из медного купороса. Я растворил купорос в химическом стакане, привязал короткую ниточку к стеклянной трубке, на конец ниточки воском приклеил крохотный кристаллик того же купороса и опустил его в раствор, положив трубку на край стакана. Сверху накрыл стакан промокашкой от пыли и поставил на окно. На следующее утро кристаллик немного вырос. Через три дня он стал уже величиною с большую горошину. Мне показалось, что он неровный. Я вытащил ниточку из раствора и потрогал кристаллик пальцами. Он отвалился от ниточки и, когда я снова попытался приклеить его, размазался в пальцах. Я решил, что спокойно проживу и без синего кристалла, зашвырнул трубку с ниточкой в мусорное ведро, вылил раствор в раковину и приступил к следующим опытам.
Я растворял какие-то порошки в пробирках, сливал растворы вместе, они меняли цвета, иногда закипали, иногда становились вонючими, иногда на дно пробирки выпадал какой-то грязный осадок. Всё это как-то называлось в книжке, но названия не удерживались у меня в голове.
Через четыре дня все порошки и кислоты, находившиеся во флакончиках, кончились, и „Юный химик“ отправился туда, куда отправлялись все надоевшие мне вещи — в самый дальний угол под кроватью. Я оставил себе только спиртовку, на которой накаливал шило для выжигания узоров по дереву, и фарфоровую ступочку. Но скоро спирт денатурат, находившийся в наборе, тоже кончился. Я попытался заправить спиртовку керосином, но она стала очень сильно коптить и отправилась следом за „Химиком“.
В самом деле — ну какие аккуратность и терпение могли развиться во мне, если в наборе находилось так мало разных веществ! Только начнёшь опыты — и уже всё кончается! Наверное, те, кто выпускал „Юный химик“, этого не учли. А мальчик и девочка, изображённые на крышке, какие-то особенные, если могут заниматься подобной ерундой.
В тот год повально все мальчишки нашего класса увлекались стрельбой из рогаток, и я начал раздумывать, где бы мне раздобыть хорошей красной тягучей резины для дальнобойной рогатки, как вдруг в школьной библиотеке мне на глаза попала книга под названием „Занимательная химия“. Конечно, я сразу взял эту книгу домой и за два вечера прочитал её от корки до корки.
Опыты, которые в ней предлагались, были куда интереснее, чем в книжечке, приложенной к „Юному химику“, но так как у меня не осталось никаких веществ, то мне пришлось проделать опыты мысленно. Зато в конце книжки были напечатаны разные рецепты, и среди них я нашёл, как самому сделать бенгальский огонь. Бенгальский огонь! Его и перед Новым-то годом почти невозможно купить в магазинах, а тут — самому и сколько угодно!
Во мне всё звенело от предвкушения такой возможности. Можно сделать сто штук! Нет, что там сто — тысячу! И каждый день жечь хоть по два десятка! Я уже воображал, как принесу палочки бенгальского огня в школу и зажгу их с ребятами во дворе на перемене, и как ребята будут рады, что я их сделал, и как нам будут завидовать мальчишки и девчонки из других классов. А к школьной ёлке я сделаю большие бенгальские огни, которые будут гореть по полчаса, и поражу всех учителей своими способностями! Я перечитал рецепт. А ведь нужно-то всего пустяки — железные опилки, сера и ещё кое-что, что можно купить в любых аптеках и в керосиновой лавке. Проволочек я добуду на свалке, яичный белок для приклеивания бенгальского порошка тоже не проблема — у нас дома жило двадцать две курицы. Вот только деньги для покупки веществ…
Денег у меня никогда не было. Вернее — были, но очень небольшие. Тётя давала мне на завтраки в школе по пятнадцать копеек в день, да ещё по воскресеньям двадцать-тридцать копеек на мороженое и на кино. Я подсчитал, что за неделю у меня будет накапливаться около рубля, а иногда и побольше.
С момента, когда я прочитал бенгальский рецепт, я перестал завтракать в школе и ходить по воскресеньям в кино. В понедельники после уроков я шёл с накопленными деньгами в аптеку и керосиновую лавку и покупал вещества. Все пакетики, которые я приносил домой, складывал в фанерный ящик из-под посылки, который стоял всё в том же самом дальнем углу под кроватью.
Через шесть недель ящик был полон.
Я пересчитал пакетики и решил» что на тысячу бенгальских огней, наверное, хватит.
Все работы я производил в то время, когда дядя был на службе, а тётя — на своём дежурстве в больнице.
Вообще, всё самое интересное в моей жизни происходило тогда, когда дома не было никого. И почему взрослые всегда мешают детям заниматься делами, к которым их тянет больше всего? Странные они люди! Ведь они сами были такими, как мы. Неужели они забыли то время и те дела, которые их тогда волновали?
По рецепту все вещества нужно было тонко растереть в фарфоровой ступке. Ступка у меня осталась от «Юного химика», и я принялся за дело. Скоро все вещества оказались растёртыми чуть ли не в пыль. Теперь нужно было их тщательно смешать. Всё это я производил на листе газеты, и к тому времени, когда тётя пришла с дневного дежурства, у меня была целая гора серой сухой смеси. Я высыпал её в старую коробку из-под ботинок и спрятал в пустой бочонок, стоявший в сарае. Сверху в бочонок набросал старые газеты и тетради, чтобы ничего не было заметно, и уселся за уроки.
Весь следующий день в школе я решал проблему тигля. Дело в том, что в рецепте дальше указывалось, что смесь нужно прокалить на сильном огне в фарфоровом тигле. А я даже не знал, что такое тигель. На большой перемене, слоняясь по верхнему и нижнему коридорам, я высматривал молодого учителя химии Игоря Николаевича, который преподавал у старшеклассников. У нас химии ещё не было. Наконец около 'учительской мелькнул его светло-серый костюм, и я бросился ему наперерез:
— Игорь Николаевич, простите, можно у вас узнать одну вещь?
Химик удивлённо поднял брови и посмотрел на меня сверху вниз:
— Ты из какого класса?
— Из пятого «а».
— Так, так, будущий мой ученик. И что же ты хочешь узнать?
— Игорь Николаевич, что такое тигель?
— Почему ты спрашиваешь об этом?
— Да так… Я, Игорь Николаевич, читал тут одну книжку… про алхимиков… ну и там они всё время делают что-то в тиглях. Что это за тигли?
— Тигли — это сосуды, похожие на обыкновенные горшки. Изготовляются они из фарфора или из прочной огнеупорной глины. В них не только алхимики, но и современные химики прокаливают и плавят разные вещества и металлы. А ты что, интересуешься химией?
— Да нет… просто книжка такая попалась… ну, я и хотел узнать…
— Молодец, — похвалил меня-Игорь Николаевич. — А что это за книжка?
— «Занимательная химия», — сказал я.
Там действительно было кое-что об алхимиках.
— Так значит, ты всё-таки интересуешься химией?! Как твоя фамилия?
— Внуков.
— Вот что, Внуков. У нас в школе есть кружок юных химиков. Мы собираемся по пятницам после уроков в химическом кабинете. Приходи.
— Спасибо, Игорь Николаевич…
— Так придёшь?
— Приду…
Конечно, никакого фарфорового тигля у меня дома не было, и весь остаток дня я думал, в чём же мне прокалить смесь.
Дома я осмотрел все тёткины кастрюли. Они оказались очень большими и к тому же очень чистыми. Тётя всегда мыла эмалированную посуду содой и солью, а алюминиевую драила песком до серебряного блеска. После моего прокаливания кастрюля приняла бы, наверное, не очень симпатичный вид, поэтому я не решился наложить руку на её хозяйство.
В сарае тоже не нашлось никаких старых кастрюль — тётя терпеть не могла дома ненужного барахла.
Я уже собирался на следующий день сходить на свалку за железнодорожный переезд, как вдруг мне на глаза попалась отличная литровая консервная банка. Мысль заработала быстро и чётко. Если к ней приделать проволочную ручку, то не то что прокаливать — свинец можно будет плавить в ней и делать отливки.
Проволоки у нас было сколько угодно, я отыскал железную, помягче, пробил в бортике банки четыре отверстия, и скоро у меня в руках оказался отличный тигель, похожий на черпак. Я спрятал его в бочонок вместе со смесью и стал поджидать удобный момент для завершения опыта.
Момент представился в субботу во второй половине дня. Дядя ещё в пятницу уехал в командировку до среды, а тётя, заглянув ко мне в комнату, сказала:
— Никола, я сбегаю на базар за кукурузой, а то совсем нечем кормить кур. Там, на кухне, я поставила на плиту чайник. Ты присмотри, чтоб он не выкипел. И никуда не уходи — я быстро.
— Не беспокойся, тёть, всё будет в порядке, — сказал я. — Вот только кончу задачку и посмотрю.
Я услышал, как стукнула на дворе калитка, выждал, когда тётя уйдёт от дома достаточно далеко, и бросился в сарай.
Всыпать смесь в тигель было делом одной минуты. Смесь наполнила его почти до краёв.
Чайник на плите ещё не закипел, и я решил, что он мне не помешает — пусть закипает потихоньку, в нужный момент я его сниму.
Открыв дверцу топки, я расшуровал кочергой дрова, нашёл на углях самое горячее место и поставил тигель туда.
Время от времени я выдвигал свой черпак из топки, заглядывал в него. Смесь понемногу оседала, из серой превращалась в чёрную, пузырилась.
Всё шло по всем правилам химии.
Я в третий или в четвёртый раз вдвинул черпак в плиту, как вдруг из топки ударил толстой струёй такой бенгальский огонь, что меня отбросило от плиты метра на два.
Полуослеплённый, опалённый сухим жаром, я успел заметить, что чайник вместе с конфорками взлетел к потолку, по всей кухне разлетелись жирные чёрные хлопья, а дверца вырвалась из плиты и повисла на каких-то проволочках…
Опытом я занимался как был — в майке и в старых брюках. Грудь и плечи у меня почему-то вдруг зачесались, и когда я поскрёб их ногтями, с ужасом увидел, что с них лоскутьями сходит моя кожа, похожая на влажный пергамент.
Я бросился к зеркалу в коридоре. На лице не было ни бровей, ни ресниц. Волосы на голове обгорели и запеклись. Майка из белой превратилась в тёмно-коричневую.
Когда домой пришла тётя, она не узнала ни кухни, ни меня. И я никак не мог ей объяснить, что произошло, — губы у меня распухли и вывернулись, и от этого речь стала невнятной.
Я не ходил в школу около месяца. Я лежал в постели, и тётя прикладывала к обожжённым местам тряпочки, смоченные подсолнечным маслом. Дядя, выслушав отчёт о происшедшем, только и сказал:
— В жизни больше, старый дурень, не поддамся на его уговоры.
С химией было покончено раз и навсегда.
Заглянул Орька Кириллов, посо-болезновал мне и вынул из портфеля книжку.
— На, читай, чтобы не было скучно. Я уже прочёл. Это про полярные страны. Про путешествия. Ух, здорово! Не оторвёшься!
Я начал читать книжку нехотя.
Я не особенно любил про путешествия, но другого ничего под рукой не было. Однако чем больше я вчитывался в книжку, тем интереснее мне становилось.
На третий день я читал её уже не отрываясь, а когда дочитал до конца, то понял, что настоящий путь моей жизни должен проходить через полярные страны. И какидо дураком я был, что раньше не увлекался путешествиями! И почему эта книжка не оказалась в моих руках раньше?! Не было бы упущено столько драгоценного времени! Ох, только бы поскорее подняться с постели!
Книжку написал замечательный полярный исследователь Руал Амундсен.
Оказывается, ещё юношей (всего на пять лет старше меня!) он со своим другом прошёл на лыжах по самой большой ледяной пустыне на свете — Гренландии. Каким интересным был этот поход! И каким опасным! Сто раз они могли провалиться в огромные трещины, прикрытые снегом, могли быть съедены белыми медведями, могли заблудиться и вообще не выйти на побережье к людям, могли погибнуть в многодневной снежной пурге. Когда я читал про этот переход, я дрожал от холода, будто шёл по леднику сам. А ночёвки под открытым небом в спальных мешках в тоненькой палатке, обогреваемой примусом! А грозные полярные сияния, когда на чёрном небе вдруг с шелестом разворачивается тёмно-красное огненное полотнище, становится всё ярче, меняет цвет на оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый, потом медленно гаснет, и наступает такая жуткая глухая тьма, что хочется закричать по-звериному и бежать без оглядки неизвестно куда… А они не бежали, а спокойно шли в этой темнотище, и всё это только для того, чтобы доказать себе, что они сильные.
Потом Амундсен плавал на корабле «Мод» к Северному полюсу, зимовал, затёртый льдами, и его несло течениями то на север, то на юг.
Потом он решил найти знаменитый Северо-Западный проход, который до него уже сто пятьдесят лет искали большие экспедиции. И он отправился за Полярный круг на крохотной парусно-моторной шхуне «Йоа», а вся экспедиция у него — семь человек.
Его назвали сумасшедшим и хотели даже арестовать, но он ночью тайком вывел свою «Йоа» из порта и скрылся от полиции. Он добрался до Арктического архипелага и зимовал там целых две полярные ночи, подружился с местными эскимосами, охотился с ними на оленей и в конце концов нашел-таки этот таинственный Северо-Западный проход и проплыл его из конца в конец. А потом покорил Южный полюс, обогнав английскую экспедицию капитана Роберта Скотта, и стал единственным человеком, побывавшим на обоих полюсах нашей планеты.
Я закрыл книжку и долго лежал, переживая прочитанное. Теперь благодаря Амундсену я знал, что мне нужно. И как только отвалились последние струпья с моих плеч и с груди, я начал заниматься тренировками.
Прежде всего я разделся до трусиков и осмотрел себя с головы до ног в большом зеркале, вделанном в дверцу шкафа.
Я бы не сказал, что у меня было хлипкое сложение, но всё-таки я сам себе не понравился. Руки слишком тонкие, почти без бицепсов. Брюшного пресса совсем не было. Плечи мягкие. Грудные мышцы едва-едва намечались. Единственное, что у меня было в норме, это ноги: крепкие, жилистые, с твёрдыми икрами. На физкультуре у меня по всем упражнениям стояли тройки, кроме бега. Бегал и прыгал я на пятёрку. Да. Надо срочно развивать в себе остальное. И особенное внимание обратить на общую закалку организма.
Первое, конечно, — это турник. Для укрепления рук и плеч. А для общей закалки — обливание холодной водой и бег по утрам.
Наш дом стоял на краю города, в слободе. В конце улицы начиналось огромное кукурузное поле, и тянулось оно километра на полтора, до самого селения Кенже. Вдоль поля, по окраине слободы, шла дорога. Жители Кенже ездили по ней только в воскресные дни — на базар. В будни дорога была безлюдна. Вот на этой-то дороге я и разметил для своих пробежек дистанцию длиной в три тысячи шагов.
Дома я занимался уроками и спал в отдельной комнате с земляным полом. Дом строили из пяти комнат, но денег хватило только на три. Из одной пустой комнаты сделали кладовку, в которой хранили продукты, а вторую отвоевал себе я. Там у меня стояли кровать с пружинной сеткой, маленький письменный стол, два стула и этажерка с книгами.
— Пусть привыкает к самостоятельности, — сказал дядя. — Своё собственное каждый человек бережёт больше.
И я привыкал к самостоятельности.
Чтобы никого не тревожить, я пролезал в свою комнату через окно. Оно смотрело прямо в сад, в ту его часть, где росли два сливовых дерева и груша. Рядом с грушей находилась водопроводная колонка, и теперь каждое моё утро распределялось так: я вставал в шесть и, переламывая желание ещё полчасика поваляться в постели, вылезал в сад. В саду я делал несколько гимнастических упражнений, чтобы размять мышцы и выгнать из головы сон. И когда тело становилось упругим и сильным, выходил на дистанцию. Я пробегал её медленной рысью, следя, чтобы дыхание сильно не учащалось и чтобы ноги не уставали сразу. Я старался распределить силы равномерно на все три километра, довольно быстро научился этому и в конце дистанции дышал только чуть-чуть чаще, чем в начале.
В крайнем доме, в конце слободы, у самой дороги жили два брата-украинца — Василь и Петро. Они почему-то тоже поднимались ни свет, ни заря и околачивались в своём саду. Когда я первый раз пробегал мимо их плетня, Петруха увидел меня и остолбенел от удивления. Он явно никак не мог понять, для чего я бегу. Может быть, убегаю от кого-нибудь? Но никто меня не преследовал. Может быть, дядька дал мне хорошего дёру и я сматываюсь из дому? Непохоже. Лицо у меня слишком спокойное и серьёзное. Петруха проводил меня недоуменным взглядом до поворота на Кенже. Зато когда я бежал назад, он уже истолковал это явление по-своему.
— Василь! — заорал он в глубину сада. — А ну бежи сюда швыдче та побачь скаженного!
Из кустов тотчас вынырнул Васька, и оба они стали корчить мне рожи и «ричать:
— Скаженный! Скаженный! Побачьте, як чешеть!
С тех пор каждое утро они поджидали меня, и видно было, что новому развлечению они радовались. Меня это особенно не трогало. Петро и Василь были ещё совсем маленькими — один ходил в третий класс, другой в четвёртый— и, конечно, ничего не знали и не слышали о великом полярнике Руале Амундсене.
Закончив бег, я перескакивал через плетень в наш сад и обливался с головы до ног холодной водой. Потом чистил зубы, нормально умывался, надевал школьный костюм и выходил к завтраку. К тому времени дядя и тётя уже просыпались.
Скоро мне стало казаться, что гимнастические упражнения и бег недостаточны для всесторонней закалки. Я нашёл подходящий отрезок водопроводной трубы и попросил дядю сделать из неё турник. Он соорудил его в сарае. Теперь после пробежки я несколько раз подтягивался на турнике. Для развития бицепсов.
Сначала я вообще не мог подтянуться ни разу. Я просто болтался на перекладине и судорожно пытался согнуть руки в локтях. Однако дней через десять руки окрепли настолько, что я уже мог подтянуться до подбородка. Ещё через месяц я подтягивался до груди и не один раз, а раза три-четыре. Когда я сгибал руки в локтях, под кожей обозначались маленькие, но очень плотные желваки мышц. Я решил, что для полного развития мне нужно довести количество подтягиваний до двадцати пяти. Теперь не только по утрам, но даже когда прибегал из школы, я сразу же бросался к турнику.
Учитель физкультуры удивлялся моим успехам, а когда узнал, что я тренируюсь дома, похвалил меня перед всем классом. С короткой раскачки я теперь прекрасно выходил „на пояс“ и делал передний переворот. Задний переворот я тоже делал с одного подтягивания.
— Вот что значит воля и желание, — говорил учитель физкультуры. — Молодец! Придётся заняться с тобой индивидуально.
Прошёл октябрь.
Кончились теплые дни. Небо над городом затянули серые тучи. Они всё чаще и чаще брызгали дождём. На дорогах лоснилась жирная грязь. Но я не прекращал тренировок. Я теперь бегал по узким полоскам пожухлой травы, которая сохранялась на обочинах дороги. Я чувствовал, как силой и бодростью наливается моё тело.
В свободное время я читал книги только о полярниках. Я прочитал о Фритьофе Нансене и о его плавании на знаменитом „Фраме“. О путешествии Роберта Скотта к Южному полюсу. Об экспедициях Лазарева и Беллинсгаузена к Южному полярному материку. О неудачной попытке Андрэ долететь до Северного полюса на воздушном шаре. О трагической судьбе экспедиции Нобиле.
И чем больше я читал, тем больше убеждался, что мой бег и мои упражнения на турнике выглядят слишком бледно по сравнению с мужеством и закалкой знаменитых полярников. Одни папанинцы чего стоили! Полгода прожить на плавучей льдине в палатке! Ледовитый океан крутил многодневную пургу. Стояла длинная полярная ночь. Льдина дрейфовала, на неё налезали другие льдины. Повсюду появлялись трещины. Из ночи приходили белые медведи и рвались в палатку. Папанинцы отпугивали их выстрелами и сигнальными морскими огнями — фальшфейерами. А ещё надо было работать — несколько раз в сутки замерять температуру воды подо льдом, записывать силу и направление ветра, связываться по радио с Большой землей, долбить лунки, чтобы взять пробы.
Нет, тренировки надо усилить. Надо приблизить условия, в которых я живу, к настоящим полярным.
Конечно, питаться консервами я не мог. Готовить себе пищу на примусе тоже — тётя Лена подняла бы грандиозный скандал. Зато я мог спать, как полярники!
Я уже присмотрел в сарае два старых шерстяных одеяла, которые давно решили сдать в утиль. Аккуратно скатанные в толстый рулон и завёрнутые в старую клеёнку, они лежали на полке. Я пустил в ход все свои дипломатические способности, особенно напирая на то, что скоро зима, что у меня в комнате нет пола и что хорошо бы заиметь толстый тёплый ковёр.
— Ты что, и зимой думаешь жить в своей холодной берлоге? — вскинулась тётя Лена. — И не думай, и не мечтай. Там нет печки. Будешь спать на кухне. Понятно?
— Тёть, но ведь на кухне нет письменного стола. Где я буду готовить уроки?
— В большой комнате.
— Там же круглый стол, а за ним сидеть страшно неудобно. Я не смогу.
— Прекрасно сможешь.
— А что — и учебники тоже каждый раз таскать в большую комнату?
— Принесёшь, не развалишься.
— Так и буду взад-вперёд бегать, да?
— Прекрасно можешь перенести этажерку в большую комнату.
— Тёть, в большой комнате у меня не разовьётся никакой самостоятельности. Ведь дядя же сказал!
— Мало ли что он сказал! Как только выпадет снег, будешь заниматься в большой комнате. И так у тебя слишком много самостоятельности.
Я решил подойти с другой стороны:
— Тёть Лен, те одеяла в сарае… Из них можно сделать замечательный коврик…
— Господи, как только у меня будет свободная минута, я сразу же сдам их в утиль!
— Зачем в утиль? Если из старой вещи можно сделать хорошую новую, зачем в утиль?
— И так в доме чересчур много хлама.
— Одеяла — не хлам! Они — настоящие шерстяные. Вот только вытерлись немного, но их ещё можно использовать.
— Да отвяжись ты от меня наконец!
— Давай я попробую сделать из них коврик. Если получится, его можно будет стелить в коридоре, а если ничего не выйдет, я сдам одеяла в утиль сам.
— Да делай из них что хочешь, только сейчас мне не мешай. И так голова кругом идёт.
Тётя схватила тряпку и сдвинула на край плиты кастрюлю с кипящим супом.
— Так я их возьму?
— О господи, да не долби ты мне под руку! Забирай эти несчастные тряпки и убирайся отсюда!
Я работал над спальным мешком десять дней.
По описаниям в книжках я знал, что он похож на самый обыкновенный мешок длиной немного больше человеческого роста. С той стороны, с которой в мешок вползают и где находится голова, когда спишь, сделан специальный клапан — крышка, которую можно закрывать изнутри тесёмками, оставив только отверстие для дыхания. Внутри мешка иногда делают карманы — для ружья, патронов и небольшого запаса продуктов. Это если в мешке придётся отлёживаться несколько дней во время пурги.
Я позаимствовал у тёти портновские ножницы, толстую иглу и суро-вые нитки. До этого мне приходилось пришивать только пуговицы к рубашке. С большими кусками ткани я никогда не имел дела. Поэтому по двадцать раз приходилось сшивать, распарывать и снова сшивать, прежде чем получилось что-то похожее на настоящий мешок. Больше всего возни было с клапаном, но в конце концов я его тоже осилил. Мещок получился немного кривым, швы были не особенно красивыми, но это не имело значения. Настоящим путешественникам красота не нужна. Главное — тепло и чтобы было удобно.
Я влез в готовый мешок и полежал в нём немного.
Красота!
Никаких тебе одеял, никаких простынь, ничего не нужно убирать по утрам и расстилать вечером, ничего не нужно подтыкать с боков. Даже раздеваться не нужно;—только снимай обувь и лезь в мешок. Да, полярные путешественники были умными людьми! Представляете, сколько дорогого времени уходит у человека только на раздевание, одевание, разборку и уборку постели?!
Из сарая я принёс три доски и затолкал их поглубже под кровать. Теперь ночью, как только все засыпали, я поднимался с кровати, стя-
гивал с неё матрац с простынями и подушкой, укладывал на пружинную сетку доски, бросал на них спальный мешок, настежь распахивал обе створки окна, надевал брюки и рубашку и в та'ком виде залезал в спальный мешок. По моему мнению, это приближало меня к настоящим полярным условиям.
Утром я вскакивал, приводил кровать в нормальный вид, бросал около неё вместо коврика спальный мешок и бежал на дистанцию.
Потом — турник, обливание холодной водой, умывание, завтрак и школа…
Скоро я почувствовал, что стал крепче, чем прежде. Я мог без отдыха подтянуться на турнике девятнадцать раз. А когда начали копать картошку, — я взвалил на себя целый мешок и понёс в сарай. Тётя даже лопату уронила от удивления.
— Николай, брось сейчас же! Надорвёшься!
И хотя мешок был невероятно тяжёл и меня под ним пошатывало, я презрительно усмехнулся в ответ.
— Брось, слышишь! — кинулась ко мне тётя Лена.
Но дядя её остановил:
— Оставь его в покое! Он уже достаточно взрослый!
Когда выпал снег, я тоже не торопился перебираться на кухню. Тётя, видимо, забыла о нашем разговоре, и я продолжал спать в своей комнате с открытыми окнами.
В начале зимы я прочитал о путешествиях Седова и Русанова и решил ещё приблизить условия своей жизни к полярным.
Однажды ночью, как всегда выждав, когда все заснут, я разделся догола, вылез в сад, намочил под краном простыню, завернулся в неё и в таком виде залез в спальный мешок.
Зуб не попадал на зуб. Простыня облепила тело, как пластырь. В мешке на этот раз было не уютно, а противно даже. Но я решил выдержать всё до конца. Я представлял себе Роберта Скотта, совсем одного в жиденькой продувной палатке у угасающего примуса, голодного и простуженного. Он уже не мог идти — на пальцах начиналась гангрена. Я представлял, как он пишет немеющими пальцами последние строки в своём путевом дневнике, а снаружи бесится слепая пурга. Полотнище палатки то прогибается под её ударами, то вздувается пузырём. Холод острыми, режущими как бритва струйками заползает в мешок, пальцы, едва сгибаясь, выводят корявые буквы:
„Ради бога, не забудьте наших близких…“
Рука срывается…
Невероятным усилием Скотт засовывает дневник в мешок, под грудь, закрывает глаза. Примус — мигнув последний раз — гаснет… И наступает вечная тьма…
Вот так он умер, не дойдя до склада с продуктами и керосином всего нескольких километров. И до конца остался героем.
Я лежал в промокшем мешке, вздрагивая от холода, и плакал от жалости к капитану Скотту, от озноба, который колотил меня с головы до ног, от величия подвига, на который способен самый обыкновенный человек.
Вот там, в Антарктиде, были настоящие условия!
А у меня что? Игрушки…
Я так и не заметил, когда заснул.
А утром тётя вынула меня из мешка бредящего, сгорающего от сухого жара. Поставила термометр. Ртуть прыгнула за сорок. Пришлось вызвать „скорую помощь“.
Врач, едва войдя в комнату, сразу определил, чем я болен.
— Ты что же это, — сказал он, — умереть захотел?
Я посмотрел на его расплывающееся лицо. В нём не было ничего героического.
— Вы всё-таки не Русанов… — сказал я.
— Начался бред. Положите ему мокрое полотенце на лоб, — сказал врач.
— Нет, не бред… — пробормотал я. — Я всё соображаю. Амундсен победил Скотта, но Скотт всё равно герой…
Только через месяц я оправился от воспаления лёгких. После этого у меня не стало ни спального мешка, ни собственной комнаты.
Срок моего пребывания в городе кончался. Я уже взял билет на поезд.
Я не встретил в городе никого из нашего класса. После войны нас, мальчишек, осталось двое. Двое из двенадцати, ушедших на фронт…
Поезд отходил вечером следующего дня.
Утром я вышел из гостиницы и направился в центр. Там была одна улица, на которой… Впрочем, я не хотел ничего загадывать.
По Республиканской я добрался до Революционной и повернул к речке.
Революционная кончалась тупиком — от обрыва у речки её отгораживал двухэтажный дом. Слева от дома был вход во двор школы. Справа — забор, сложенный из дикого камня. Я остановился у калитки в этом заборе.
На калитке вместо ручки висело кованое железное кольцо. Да, то самое, до тёмного блеска вытертое множеством рук, я вспомнил его сразу же, как только увидел.
Я потрогал его пальцами. Холодное и тяжёлое. Сколько раз я стоял перед этой калиткой и сердце у меня замирало в ожидании встречи с чудесным миром, который жил в тесных комнатках белого дома, стоящего в глубине двора! Шаги там не были слышны из-за толстых половиков, протянутых по полу. А на полках этажерок стояли такие книги, которых не было в центральной республиканской библиотеке. В первой комнатке над простенькой железной кроватью, покрытой верблюжьим пледом, на стене висело охотничье ружье Михаила Павловича. Я знал, что оно висит для украшения, — Михаил Павлович никогда не стрелял ни в животных, шг в птиц, он преподавал математику в пятой школе, и ещё он писал книгу о птицах Кавказа.
Посреди второй комнаты, против широкого дивана, стоял круглый стол и возле него — два стула с мягкими спинками. На столе всегда красовалась ваза со свежесрезанными цветами. А рядом с ней лежала стопка тетрадей нашего класса, взятая Татьяной Михайловной домой для проверки. Тут же находились чернильница-непроливашка и деревянная ручка с пером № 86. Татьяна Михайловна терпеть не могла авторучек. Она считала, что они уродуют почерк…
Слабый запах цветов, обычно ирисов или душистого табака, поблёскивающие золотым тиснением корешки книг, негромкий грудной голос Татьяны Михайловны создавали: какую-то особую атмосферу покоя.
Даже мысли начинали здесь течь по-другому.
Я взялся рукой за кольцо и повернул его. Я почувствовал, как поднялась тяжёлая щеколда и калитка открылась.
Тот же самый двор, как тогда. Пустой и чистый. Слева — сараи, крытые шифером. От столба, врытого в землю, тянется к стене дома верёвка. Женщина развешивает на ней бельё — у её ног таз, на шее, как ожерелье, шнурок с прищепками.
Она обернулась на стук щеколды.
Острое, худощавое лицо. Чёрные волосы, густо серебрящиеся на висках. Тёмные вразлёт брови. И глаза — большие, внимательные, удивлённые.
— Простите, Татьяна Михайловна Игренева здесь живёт?
Она вытерла руки о передник и шагнула ко мне.
— Внуков! Коленька! А ведь я тебя сразу узнала! Ну, здравствуй!
Я прижался лицом к её плечу, и на минуту для меня перестало существовать всё.
…И вовсе не на ворону, а на цыганку была похожа она…
Потом мы сидели за круглым столом, посередине которого стояла ТА ваза с цветами. Только тетрадок на столе не было.
— Уже второй год на пенсии, — говорила Татьяна Михайловна. — А по утрам всё равно в половине седьмого просыпаюсь. Всё кажется — в школу надо. Теперь — домашняя хозяйка. Никак не привыкну…
На полках этажерок потускневшим золотом корешков светились ТЕ книги. Дореволюционный Чехов, шеститомник Пушкина издания Брокгауза и Ефрона, Писемский, Мельников-Печерский, Леонид Андреев…
— Татьяна Михайловна, а помните, как мы первый день пришли в школу? Я подрался с Кирилловым, и вы поставили нас в задний ряд.
— Как давно это было… — задумчиво произнесла она. — А ведь ты для меня и сейчас такой же. Надолго в город? Всего на пять дней? И билет на завтрашний вечер? Что же ты сразу не пришёл ко мне? Подожди. Я сейчас сварю кофе.
Она вышла, и я снова оглядел всё вокруг.
Ковёр на стене над диваном. Пёстрые плетёные дорожки на полу. В одном углу — крохотная тумбочка с зеркалом на ней. На тумбочку наброшена вязаная коричневая салфетка. Два фигурных флакона с духами. Никаких украшений. ТА же тишина…
Пятьдесят лет! Как будто бы их никогда и не было. Пятьдесят… Целая моя жизнь и ещё жизни многих… А иных уже и на свете нет…
Милая Татьяна Михайловна! В этих двух комнатках она сохранила кусочек того нашего мира, который исчез, казалось, навсегда. За тысячей разных дел, за суматохой жизни мы подчас забываем его.
Да было ли всё это на самом деле? Или нам привиделось, что дни тогда были длиннее. Что мы всё успевали. Что ломоть чёрного хлеба и огурец, сорванный с грядки, вполне могли заменить обед, а пробежать босиком по тёплому асфальту главной улицы после школы было не нарушением приличия, а величайшим наслаждением?
Некоторые покидают тот мир без сожаления. Это холодные, жёсткие люди. Мне они всегда казались людьми без родины.
— Ну вот и готово.
Татьяна Михайловна поставила на стол поднос с кофейником, двумя чашками и открытой коробкой шоколадных конфет. Я даже не услышал, как она вошла в комнату.
— Ты о чём задумался?
— Татьяна Михайловна! — Я поднялся со стула. — Можно вас обнять ещё раз?
— Что это за сантименты? — улыбнулась она. — Ну что ж, если, очень уж хочется…
Какие сухонькие и узкие у неё плечи! И кожа щеки, к которой я прикоснулся губами, похожа на пергамент.
— Спасибо, что у вас всё так, как тогда.
Она откинулась назад и посмотрела мне прямо в глаза. Серьёзно и строго.
— Я поняла тебя. Я сама не могу по-другому. И Михаил Павлович тоже. Когда меня наградили орденом Ленина… да, да, ведь я орденоносец, заслуженная… когда меня наградили, горком предложил нам трёхкомнатную квартиру на улцце Ленина. Мы пошли, посмотрели и — отказались. Ну зачем нам, старикам, шестьдесят жилых метров? И ещё такое движение под окнами? И бельё на дворе не повесишь… Старое гнездо всегда теплее…
Она разлила кофе по чашкам и села.
— Рассказывай о себе. Что пишешь сейчас? Я ведь читаю все твои книги. Вернее, те, которые удаётся у нас купить. Как хорошо, что ты пишешь для ребят! Ты сохранил в себе детство.
— Я только что думал об этом. Перед тем как вы вошли в комнату. Как вы смогли угадать?
Она улыбнулась.
— Разве трудно? Я же всех вас знала вот с таких лет… — она показала ладонью чуть ниже стула. — Плохой бы я была учительницей, если бы не чувствовала, кто чем дышит. И я знаю, что ты приехал сюда не просто так. Правильно?
— Да. Мне очень хотелось встретиться с Беталом Калмыковым. Мне нужно это сейчас.
— И тебе это удалось?
— Удалось. Я разговаривал с ним позавчера. Я даже обедал у него с Витей Денисовым, Вовой Никоиовым и его сыном Борькой.
— Как тебе удалось это?
Я достал из кармана голубое стекло.
— Вот. В детстве мне никогда не удавалось найти такое.
Она осторожно, двумя пальцами, взяла осколок и подняла к глазам, но сразу же опустила.
— Нет, не хочу. Это только твоё. Я бы, наверное, увидела всё по-другому. Не надо. Спрячь.
Я положил осколок в карман.
— Татьяна Михайловна, а вы… каким вы помните Бетала?
Она отпила глоток кофе из чашки.
— Кажется, это было в тридцатом… Ты знаешь Затишье? Да, я и забыла, ты перед войной жил недалеко от него. Сейчас там университет, а тогда был пригород и находился в нём так называемый Учебный городок. Он был построен по распоряжению Калмыкова. Кабарде были нужны свои учителя, механизаторы, агрономы. Вот он и решил — в Затишье будет учебный центр. Я начинала там совсем девчонкой, семнадцати лет. Преподавала русский язык.
И вот однажды к нам в городок приехал Бетал. Он осмотрел учебные классы, мастерские, общежитие, побывал на уроках, а в конце дня вдруг объявил:
— Завтра поедем за красотой.
Мы ничего не поняли. Куда? За какой красотой? Зачем?
А утром у общежития уже стояли два автобуса и невероятно красивая, чубарая, вся в светлых коричневых пятнах, похожая на леопарда, лошадь.
Бетал, свежий, подтянутый, дождался, пока мы рассядемся в машины, легко вскочил в седло и, крикнув:
— Давайте потихоньку за мной! — вынесся со двора и поскакал по Баксанской дороге.
Куда там автобусам! Мы сразу же остались позади.
К полудню мы приехали к горе Нартух. Калмыков уже поджидал нас у дороги. Он сидел на камне и читал газету, а рядом паслась стреноженная лошадь.
— Поднимемся наверх! — показал он на вершину.
Мы — пятьдесят человек, — всё ещё ничего не понимая, неровной цепочкой начали подниматься по склону. К нам присоединились и шофёры автобусов.
Калмыков шёл впереди. Я старалась не отставать от него.
— Бетал, — спросила одна из курсисток, худенькая черноволосая кабардинка, — куда ты нас ведёшь?
— На Нартух.
— Зачем?
— Это единственное место, откуда сразу видны и Эльбрус и Казбек.
— Так мы же горянки, — сказала девушка.
— Ну и что?
— Мы знаем Приэльбрусье, как свои собственные аулы. Мы по сто раз видели и Казбек и Эльбрус.
— Я знаю, что видели. Я сам их видел ещё больше твоего.
— Так зачем ты нас ведёшь снова смотреть?
— Потому что вы их никогда не видели по-настоящему.
— Как это — по-настоящему?! — в голосе девушки послышалось возмущение. — Что мы — слепые, что ли?
— Нет, почему слепые, — сказал Калмыков. — Вы знаете здесь все камни, все тропинки. Вы торопливо пробирались по ним в соседний аул или на базар в Нальчик. Ваши парни ходили по этим горам за табунами коней, за отарами овец. Вы всегда были озабочены и смотрели только под ноги, а головы поднимали только для того, чтобы взглянуть — не собирается ли гроза. Верно я говорю?
— Верно, Бетал.
— Вас всё время занимали дела, заботы… Много у тебя было свободных дней? Таких, чтобы вообще ничего не делать?
Девушка усмехнулась.
— А вот сегодня у вас и у меня такой день. И мы отдадим его красоте.
Больше девушка ни о чём не спрашивала.
Через час мы были на вершине Нартуха. Здесь начинались альпийские луга и зеленели большие поля кукурузы. Видимо, нас ждали, потому что горело два костра и в больших котлах-казанах варились свежие початки кукурузы. На расстеленных на лугу кошмах лежали буханки хлеба и круги овечьего сыра. Мальчик и старик — сторожа кукурузного поля — открывали бидоны с молоком.
— После похода нужно поесть, — сказал Бетал и первым уселся на кошму.
Каким вкусным показались нам мягкий душистый хлеб, острый сыр и ещё тёплое парное молоко! А более нежной кукурузы я в жизни своей не пробовала!
За шутками, разговорами, рассказами незаметно повечерело. Но мы так и не увидели ни Эльбруса, ни Казбека — дали в этот вечер были затянуты дымкой. В ней таяли даже ближние горы. Мы ждали, что Калмыков вот-вот скомандует „по машинам“ и сошлётся на неважную, туманную погоду. Но он разговаривал то с нами, то со сторожами, которые всё подбрасывали хворост в костры, а когда совсем стемнело и с гор потянуло холодом, он попросил спуститься к автобусам и принести одеяла. Да, да, в машинах, оказывается, были припасены одеяла и чёрная бурка Бетала.
— Вы всё увидите утром, когда солнце начнёт подниматься, — сказал он, заворачиваясь в бурку.
Ночь, как обычно в горах, свалилась лавиной. Мы заснули у жарких костров, сами не заметив как.
А утром…
Знаешь, словами просто не передать волшебства того, что распахнулось перед нами. Весь вчерашний туман, ещё более сгустившийся ночью, вдруг начал оседать, редеть, исчезать куда-то, и из этой мглы сумрачно выступили тёмно-синие и фиолетовые горы. Потом неожиданно справа от нас розовым цветом вспыхнули две вершины Эльбруса, и следом за ними так же розово загорелась слева вершина Казбека, на которой сидело плотное белое облако. Свет спускался всё ниже, и через несколько минут в переливах розовых, алых, голубых, синих красок засияло ещё с десяток вершин. Впечатление было такое, будто кто-то тянул вниз невидимый занавес и он открывал одну из красивейших в мире панорам.
Через несколько минут весь Кавказский хребет был перед нами.
А потом взошло солнце…
Это нужно самому видеть. Ни один художник самыми тонкими оттенками красок не передаст невесомость горного ( воздуха, зелень альпийских трав, белизну снегов, огромную тишину утра, головокружительно высокое небо, блеск солнца, которое из красного быстро превратилось в жгуче-золотое…
Прошёл, наверное, час, прежде чем мы пришли в себя и заговорили… И всё это время Бетал неподвижно стоял в своей распахнутой бурке, как бы впитывая в себя прохладу воздуха, свет солнца, тишину ну и очарование того, что лежало вокруг.
Когда мы заговорили, он повернулся к нам. Взгляд его был задумчив. Брови слегка сдвинуты к переносице.
— Вот наш Кавказ, — сказал он.
К нему подошла девушка, та самая, что поднималась рядом с ним на Нартух.
— Я не знала, что он такой. Ты правильно сказал, Бетал, я ходила, опустив голову вниз. Теперь я вижу. Спасибо тебе.
— И тебе спасибо, что поняла, — ответил Бетал.
Вот так прошёл один из наших воскресных дней. Таким я запомнила Бетала тогда и так помню до сих пор.
Татьяна Михайловна допила кофе. Я тоже допил свою чашку.
— Ещё? — спросила она.
— Нет, спасибо.
— Теперь скажи откровенно — ты хочешь написать о Бетале?
— Не знаю ещё, — сказал я.
— А я тебе скажу вот что. Поверь своей учительнице. В жизни надо пробовать. Попробуй. Не получится — оставь. А если получится… Бетал — удивительный человек. А ты учился вместе с Володькой, бывал у них…
А утром я вышел из гостиницы в последний раз и направился к пустырю. В кармане пиджака лежало голубое стекло. Время от времени я трогал его пальцами. У поворота на площадь я оглянулся. Улица была почти пуста. Только где-то вдалеке, за театром, я увидел нескольких прохожих.
Угол дома закрывал от меня гараж. Есть он на самом деле, или стекло соврало? Сейчас…
Я быстро вынул осколок из кармана, поднёс к глазам и шагнул за угол.
Гараж был на месте. И ворота его были открыты настежь. Из них медленно выезжал обкомовский „линкольн“. За рулём сидел Магомет Шипшев. Увидев меня, он улыбнулся, перекинул руку через борт и нажал грушу клаксона.
— Уик-уа! Уик-уа! — громко пропел никелированный рожок, и „линкольн“ прибавил скорость.
Я перебежал площадь и пошел вдоль стены гаража к деревянному забору. Мятно пахли морщинистые листья лопухов. Где-то пробовал свою скрипку кузнечик. В конце улицы за огромным степным пространством голубели снегами горы. На моих ногах снова были коричневые сандалии с жестяными пряжками. На плечах — серая курточка с накладными карманами. Из рукавов высовывались манжеты белой рубашки. По краям они были серыми и залоснились. А на пальцах — царапины и обломанные ногти. Я пнул на ходу носком сандалии ржавую консервную банку, и она, загремев, полетела вперёд и нырнула в кусты крапивы у самой щели.
Я присел на корточки и заглянул в щель. На той стороне глохла тишина и всё так же лежали лысые автомобильные покрышки и ржавые зубчатки.
Я придвинулся к ящикам, сунул руку в щель и разжал кулак. Голубое стекло, тихо звякнув, упало на другие осколки на дно ящика.
Может быть, его найдёт ещё кто-нибудь, кто захочет побывать в своём детстве?
Когда я поднялся на ноги, не было больше ни гаража, ни сандалий с жестяными пряжками, ни курточки с накладными карманами. Был глухой переулок, старый дощатый забор, два новых дома слева и новый дом справа. На ногах моих были чёрные, хорошо вычищенные туфли, аккуратно отглаженные брюки, а на плечах — тёмно-синий пиджак.
Вечером, по дороге на вокзал, я специально сделал большой крюк к парку. У памятника Калмыкову остановился и опустил чемодан на тротуар.
Бетал смотрел вдаль.
Что думал он о нас, теперешних? О своём народе, о республике, о жизни, которая пришла?
И как умел он хорошо улыбаться тем, кто добивался чего-нибудь, хоть самого малого, но очень нужного для Завтра! До сих пор я помню его улыбку.
— Ну, что, джигит? Сегодня — „отлично“? Вот всегда так нужно.
— Прощай, Бетал, — тихо оказал я. — Не знаю, когда мне снова доведётся побывать в этом городе. Жизнь летит с такой скоростью, что едва успеваешь делать самое главное. Не знаю, увижу ли тебя когда-нибудь ещё раз. Но — спасибо! За эти горы. За детство. За твою улыбку. И за науку — идти только вперёд.
Рис. Ю. Шабанова
Примечания
1
Турлучный — из плетня, обмазанного глиной. Саманный — из глиняных необожжённых кирпичей,
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg




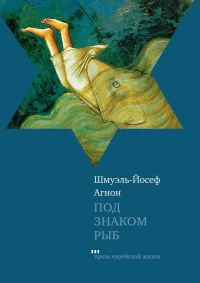





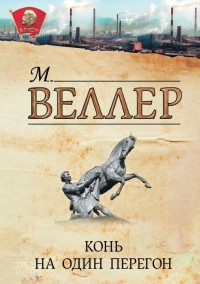
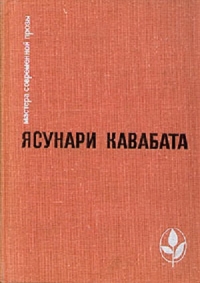
Комментарии к книге «Голубое стекло», Николай Андреевич Внуков
Всего 0 комментариев