Алексей Федяров Человек сидящий
Клубника в лесу
Ранним летним утром на реке очень хорошо. Если день приходит солнечный — над рекой полупрозрачный туман, он почти белый, стоит невысоко, как бы стесняясь расти вверх и обозначая: я здесь, но я так, для порядка, и уже ухожу. Я сижу на берегу с простенькой удочкой, у меня нет хитроумных ловушек для рыбы вроде тех, что мастерят другие мальчишки, меня не волнует, сколько я поймаю, — мне нравится рассвет, берег и неровное подрагивание поплавка на волнах.
В этом месте почти никогда нет рыбаков, оно не считается рыбным, и я, когда мама отпускает, прихожу утром и сижу, пока не наступает день, а рыбы уплывают по своим делам глубоко ко дну и поплавок замирает.
Тогда я отпускаю наловленное: мне жаль этих окуней, они блестят на солнце, как радуга, они — часть реки, света и тумана.
Дорога сюда ведет через лес, в мае здесь можно набрать букетики ландышей для мамы и сестры, а чуть позже появляется клубника. Ягоды висят среди широких листьев, сначала ты замечаешь одну, а присев и присмотревшись, видишь, что их очень много, их тут сотни, а если срываешь нежадно и не ломаешь тонкие стебли — тысячи. Есть эту клубнику надо не торопясь, она должна растаять на языке, тогда время останавливается и ты слышишь каждую птицу в лесу.
Солнце поднимается, и надо идти домой.
Но я просыпаюсь.
Громко играет гимн, это подъем, скоро откроется окошко в двери камеры — кормушка. Откроется с лязгом. Здесь все работаем громко и с лязгом. Я знаю это и знаю, что надо просто привыкнуть.
Вчера вечером меня на улице встретили тени — их было много — и увезли с собой. По дороге молчали. Первым со мной беседовал начальник следственного отдела. Он тоже поначалу долго молчал, а потом много говорил. Ему хотелось, чтобы много говорил я, но я видел, чего он хочет, и он видел, что я все понимаю, это его раздражало, а я думал, какой срок мне предстоит.
Что срок предстоит, я не сомневался. Уголовное дело в производстве госбезопасности. Значит, приговор будет и дело лишь в размере наказания. Судей, способных оправдать по делу, выпущенному с конвейера ФСБ, не осталось.
Я беру из кормушки кружку с кипятком и миску с баландой. Алюминий жжет руки, мне непривычно касаться губами горячего металла. Заставляю себя есть. Нужны силы.
В кабинете следователя людно. Тут опера, они цепляют глазами каждое мое движение. Им неинтересно, виновен я или нет, — я это знаю. Я сам был следователем и сам руководил следователями достаточно долго, чтобы знать: интересна лишь судебная перспектива дела. Моя виновность доказана фактом возбуждения уголовного дела. Теперь нужно лишь, чтобы я признался. Хоть в чем-нибудь. Признание вины — это сакрально, это единственное, чего от меня сейчас будут добиваться.
— Какого адвоката пригласите? — спрашивает следователь.
Он очень вежлив. Показательно, подчеркнуто вежлив.
— Мне не нужен адвокат, — отвечаю я ему в тон. — Вызывайте адвоката по назначению.
Следователь удивлен. Опера тоже. Но вызывают.
Адвокат приезжает быстро. Чего еще ожидать от защитника, работающего по назначению следственного отдела ФСБ.
Защитник по назначению стороны обвинения, работа которого оплачивается по постановлению следователя, — это ли не прекрасно?
Адвокат молод, он вчерашний студент, но держится уверенно. Снимает полушубок и вешает его на плечики в шкаф. Проходит к столику с чайником, берет чашку и наливает себе кофе. Все это он делает спокойно и явно не в первый раз.
— Сахара опять нет? — спрашивает он и, не обращая внимания на молчание следователя в ответ, наконец смотрит на меня, присаживается рядом и протягивает руку. — Петр, — с улыбкой говорит он. — Ну, что делать будем?
Делать мы пока ничего не будем. Только молчание в первые дни оставляет мне шансы хотя бы снизить накал абсурда. Якобы я получил деньги для передачи взятки — суммы для меня гигантской. Но людей, чьи имена мне называют следователи, я не знаю и передать им ничего не мог. Но это неважно.
Это будет неважно и потом, когда найдут и осудят тех, кто взял эти деньги. Я же останусь преступником навсегда. Решение принято сейчас, задолго до приговора. Следствие может длиться год, но судья лишь оформит принятое сейчас не им решение и пойдет домой, а я буду ждать этап.
Понимание неизбежности предстоящих испытаний — жестокое знание. Оно из тех, что несет печали. Но меня оно удержало на плаву в первые дни, которые определили все.
Я принял надвинувшееся на меня зло, чтобы пережить то, что оно принесло.
И пережил.
Знаю, что всего этого могло не быть. Но знаю, что могло быть больнее, случись мне потерять себя в те первые дни.
Я снова увидел маму и детей.
Я так же люблю утро и реку. Это теперь другая река. На ней такой же туман, но я совсем разлюбил удочки и никого не ловлю. Пусть все живут и плавают.
Я ни о чем не жалею. Разве что о клубнике — о той, с берега реки из детства, от которой слышишь каждую птицу в лесу.
Но ее не осталось.
А другой я не хочу.
Бойницы, повернутые внутрь
Прежде всего человек, попавший в Чебоксарский СИЗО, узнает о том, что он оказался в самом старом в России пенитенциарном учреждении. Об этом прибывшему, будь он новым сотрудником или арестантом, скажут практически сразу. Хотя никому этот факт не интересен. Первым важнее оклад и пенсия, вторым — суд и приговор.
Строение необычное. Его никогда не использовали как «вольное» сооружение. Как тюрьму его строили изначально, с XVII века, так оно и используется.
Вряд ли менялись и сотрудники. Вертухаю незачем меняться. Какая разница, кто сидит за железной дверью, в камере, которой почти пятьсот лет. Важно лишь то, что арестанту можно, что нельзя, когда ему принести еды, когда сводить на прогулку и помыться.
Для этого есть внутренний распорядок, он максимально прост и цикличен, каждый день все повторяется по часам, и лишь раз в неделю помывка вносит сумбур.
Камер немного, всего тридцать девять, но десять из них еще те, вековые.
Стены старой постройки широкие, окна арочные. Смотришь изнутри на такое окно долго и начинаешь думать: что же в нем не то? Ну окно и окно. Но нет. Стены и подоконник сильно скошены, как у бойницы. Но обычная бойница — для того, чтобы стрелять ИЗ крепости, вести бой против наступающего извне врага, и скосы у таких проемов наружу, чтобы был больше угол обзора. И обстрела.
А здесь скосы внутрь. Стрелять неудобно.
Потом приходит понимание. Неудобно стрелять наружу. А если ты снаружи стреляешь в тех, кто внутри, — это очень удобно. Скрыться практически невозможно, мертвых зон от внешнего стрелка в камере нет. Просто и гениально.
К моменту, когда человек попадает в камеру, он уже не сомневается, что те, кто его стережет, могут стрелять в него, и понимание, что окна в камере — это бойницы, повернутые внутрь, не вызывает удивления.
Он уже проходил процедуры обысков, он раздевался догола — всегда прилюдно, в коридоре, прямо у стола дежурного. Мимо ходили мужчины и женщины в форменных куртках и штанах, у них погоны, у некоторых на поясах ключи, у всех дубинки. Они шутили, новенький — это весело. Человек приседал несколько раз, глубоко, так просят, чтобы удостовериться, что он не проносит в изолятор ничего в прямой кишке. Потом он одевался, пока еще в свое, это еще не колония, где у всех одежда одна — роба. Но своя одежда перестала быть для него своей, ее много раз перещупали и отбросили чужие руки. Если он дерзил, его уже били. Профилактически. Умело и буднично.
После обысков и оформления арестованного отводят в карантин — якобы карантин, где вновь прибывшего якобы проверяют медики. На деле никто его не осматривает, его просто сажают в карцер и оставляют одного. Это всегда происходит ближе к ночи; даже если человека арестовали утром, день он проводит в автозаках и боксах. В карцер его заводят выжатым. Он откидывает от стены шконку[1], расстилает на ней матрас, продавленный и скомканный внутри тысячами ворочавшихся на нем тел. Других нет. Человек ложится и засыпает, но ненадолго: просыпается тюрьма и становится не до сна.
Начинают работать «дороги». По натянутым в вентиляционных трубах нитям из камеры в камеру передаются малявы[2], чай, сигареты и припасы. Тюремщики этого как бы не видят. Как бы — потому что это не несет большого вреда администрации, а пользы много: дороги и переписка внутри тюрьмы интересны операм, о них докладывают агенты, часто опера сами устраивают свои игры с дорогами, и, чтобы игра получилась, зэк должен быть уверен, что дорога — его святое право. Да и пресечь такого рода взаимодействие арестантов несложно, если вдруг по-настоящему понадобится.
Но слышать в первый раз, как налаживаются и работают ночные дороги, жутко каждому. В вентиляции стоит крик, арестанты передают из камеры в камеру просьбы и ответы, согласовывают пути доставки, порой логистика сложна и проходит через камеру карцера, где сидит новичок, к нему могут обратиться, а он еще не знает, что отвечать. И хорошо, если он просто честно скажет, что еще ничего не знает и не умеет. И никому не нагрубит.
Чаще всего — это одна ночь, после которой ритуал карантина считается выполненным и новый арестант отправляется в камеру. Его чаще всего уже ждут. О том, что прибыл человек, кем и за что он арестован, тюрьма узнает сразу, сидельцы даже примерно знают, в какую камеру его поведут. Это несложно, принципы заполнения камер просты, и те, кто внутри их, знает их не хуже тех, кто снаружи.
Напротив изолятора собор, его здание и тюрьма — две самые старые постройки в Чебоксарах. Когда человека выводят на первую прогулку в глухой бетонный дворик с тройной решеткой сверху, откуда никогда не видно солнца и где всегда стойкий осадок дешевого сигаретного дыма, он задумывается о том, что здесь, поблизости, он часто ходил и ездил, это центр старого города, рядом набережная. Но собор он видел, а это здание, что построено раньше собора, не замечал.
Важное здание. Когда первая тюрьма, еще деревянная, сгорела при пожаре в начале XVII века, ради возведения нового острога отложили возведение собора, и это был тот случай, когда церковь не возражала против приостановки строительства храма.
Был период обустройства Сибирского тракта, он шел через Чебоксары, и город резко начал развиваться, как и все территории, куда погнали каторжников.
И собор, и тюрьма функционировали во все времена и при всех режимах. По собору вопросы были. По тюрьме нет, ее только расширяли.
Перемещение человека из XXI века в условия позднего Средневековья — суть заключения под стражу. Разве что вода холодная подается в камеры. И еще там есть теперь унитазы.
Но люди за дверью остались те же. И бойницы окон повернуты внутрь.
Арестантов там будут держать еще долго. Построено все солидно. Проверяющие уезжают довольными.
В туристических справочниках этот объект указан.
Описан так: «Сегодня, как и сотни лет назад, двери учреждения ИЗ-21/1 по-прежнему широко распахнуты перед новыми клиентами». И фотографии делают романтичные, со светом играют.
Ну а почему бы экскурсии рядом не поводить, раз все так сложилось?
Жаль, что не заводят внутрь.
Полковники с картонными звездами
Василий жил в камере СИЗО шумно. Именно жил. Невысокий, даже маленький, он был толст и подвижен, внезапно утомлялся и неожиданно засыпал, ярко грустил и уничтожающе хохотал.
Арестовали его по обвинению в получении множества взяток. Работал он руководителем пожарной лаборатории МЧС — научно-исследовательской, назидательно уточнил бы Василий.
Абсолютно надуманная структура — были раньше эксперты в штате пожарного ведомства и оставались бы, но нет, бюджет требует сущностей.
Расширение структур порождает должности, должности — звания. Сон разума.
Поэтому Василий был полковником. Брал он по-мелкому, дробно, много и часто, того стеснялся ввиду несопоставимости взяток со значимостью звания, коим гордился.
— Я полковник, — говорил он конвоирам, закладывая руки за спину.
— Да-да, — соглашались они и вели Василия на прогулку.
— Скажи мне, — спросил я его как-то, — а твоя лаборатория нужна государству?
— Конечно.
День выясняли. Установили печальное: полковник жил в заблуждении, будто он имел право выдавать разрешения на деятельность. Оказалось, что не только разрешительными полномочиями, но и правом проведения проверок он не обладал.
Учреждение его было экспертным, а лицензия истекла год назад, и продлить ее Василий в пылу выполнения начальственных функций (нескончаемых совещаний и пьянок) забыл.
— Так ты мошенник, за что ж ты бабки-то брал? — подвела итог хата[3].
Василий не спал в ту ночь. Боль падения немного ослабла после изучения статьи 159, которая оказалась намного мягче 290-й, что вменялась ему, но удар был страшной силы, и заснул арестант только под утро, как-то особенно щемяще захрапев.
Утром добил его злой вопрос обитавшего на соседней шконке подполковника госбезопасности.
— Ну что, полковник, где твой полк?
Жестокий вопросец.
За двадцать последних лет полковников стало столько, что этот вопрос скоро можно будет задавать постовым. А начальники ОВД станут генералами.
Через пару дней Василий вжился в новую роль. Он доказывал каждому, что никаких полномочий не имел и взятки ему вменяют незаконно. Что он всего лишь мелкий мошенник и должен быть под домашним арестом. А еще через пару дней слово «арест» сменилось на «подписку о невыезде». Чуть позже в сбивчивых речах его стало постоянно звучать сочетание «оправдательный приговор».
Точку поставил суд. Взятка, безумный срок, строгий режим, штраф, лишение звания.
Сейчас он на строгом режиме для бывших сотрудников. Снова «полковник», там их, с картонными звездами и без полков, сотни.
Сначала им, в сущности прапорщикам, дали придуманные должности и неоправданные звания. Полномочий не дали (а зачем?). Научили брать ни за что (а что, все же так живут). Потом посадили.
Работу они убежденно имитировали, а срока получили настоящие.
По сути, они хорошие люди, им бы звания пониже и брандспойты в руки.
Крыса, белка и президент
День задался. Холодильник стоял в углу камеры, сиял белизной, еще не пропах тюремным духом, еще был инородным, домашним, больно напоминающим о суматошных семейных завтраках. Он был вновь арестованным, конечно, арестованным — не для того собирают такие белые и домашние холодильники, чтобы они стояли в тюремном смраде.
Еще месяц назад просьба о нем как о благотворительной помощи пошла по инстанциям и две недели собирала подписи, потом он пересек порог СИЗО и дематериализовался; мы просили — нам говорили, что его проверяют на взрывчатые вещества и наркотики; мы требовали — над нами смеялись; мы пытались гордо молчать — на нас клали; мы снова просили; и вот арестанты из хозобслуги принесли его в магазинной нетронутой упаковке.
Мысли о доме резанули и снова были спрятаны — завтра Новый год, мы научились радоваться малому.
Жены и матери отстояли тоскливые очереди, передачи нам принесли — и к месту холодильник, к месту и вовремя.
В камере осталось всего трое, на восемь мест, такое бывает, и это — королевский подарок к Новому году, нам завидовали, мы этой зависти улыбались, понимали, что это тюрьма и все меняется в ней в секунду.
И правильно улыбались.
Через час после холодильника в камеру внесли — идти он не мог, как стало позже известно, — Юрия Афанасьевича. Он был желт, нестрижен, небрит, пьян, мутноглаз, да и просто мутен.
Для контактов он был доступен условно и смог пояснить лишь, что вчера его судили, а судили его, безусловно, незаконно за избиение жены.
Побои, заявление жены, исправработы, запой, неявка на работы, запой, неявка, доставка в суд и замена наказания на лишение свободы, колонию-поселение. Бывший сотрудник, а значит, в Коми. Сроку — три месяца без малого.
Слова, которыми Юрий Афанасьевич изъяснялся, описывая случившуюся репрессию, наталкивали на мысль, что бээсник он ввиду многолетней службы либо в ППС, либо во ФСИН. Оказалось второе, потому он (какой-никакой, а свой) обошелся без карантина и был сразу приведен в люди. Пах он дном рабочего поселка, суррогатным пьянством и время от времени, в самые драматичные моменты монолога, кратко метеоризировал, что не контролировал и давно перестал замечать.
В заботах о приведении нового жителя в относительно потребный вид прошел вечер. Мыться он не любил, к чистке зубов относился с презрением, с наслаждением выкурил сигарету, предложенную Евгением, отследил, что у того на свободной верхней шконке лежит несколько блоков, и немедленно проникся к сокамернику уважением. Заснул быстро и крепко.
Но ненадолго.
— Фаина! — Крик был внезапным, — Фаина, зачем ты меня закрыла? Выпусти меня!
Он нервно вскочил и подлетел к двери. Открылся глазок. Юрий Афанасьевич акцентированно ударил в него лбом.
— А, это этот, — емко констатировал продольный[4] и перестал реагировать.
Реагировать между тем было на что. До четырех утра Юрий Афанасьевич требовал, чтобы Фаина, его неверная, как выяснилось, жена, выпустила его из камеры и отвезла домой, перестала спать с начальником тюрьмы и соседом; хитро прищуривая желтые глазки, он неубедительно обещал простить жену за все и, сжимая тощие кулачки, убедительно обещал закопать сразу же, как только она его выпустит.
Коридорные вертухаи-продольные веселились, смеялась тюрьма, и только мы прощались с Новым годом.
И не зря. Пометавшись чутко и тревожно пару часов на шконке, Юрий Афанасьевич проснулся. Бесшумно прошел к сигаретам Евгения, вытащил пачку из дорогих, что тот держал для себя, нашел спички. Из долгожданного, но забытого всеми (не до него) холодильника им была похищена колбаса, аккуратно положенная старожилом хаты Василием.
Он стоял у двери, улыбался и был безмятежен. Ел и курил. Проснулись все.
— Здравствуй, Фаина, — рассеянно глядя на нас всех одновременно, сказал Юрий Афанасьевич, не понимая, что он только что скрысил. Это непонимание его спасло.
— Впервые вижу крысу[5], к которой пришла белка[6], — произнес Евгений, человек повидавший.
«Белка» действительно пришла. 31 декабря был прекрасен в своей незабываемости. Делирий Юрия Афанасьевича днем кидал его на стены, подвигал на длинные рассуждения, заставлял искать Фаину под шконками, зорко наблюдать за открывающейся дверью и бесстрашно бросаться в побег прямо на ржущих вертухов.
И только Путин спас хату. Новогоднее поздравление Юрий Афанасьевич выслушал как заклинание. Для завершения ритуала я сунул ему в руку стакан с колой. Выпил он ее со вкусом, не торопясь, трогая языком нёбо и причмокивая.
— Все будет хорошо, все будет хорошо, — повторял он, засыпая.
«Белочка» ушла. Путин прогнал.
Фаину он больше не вспоминал, а она ему принесла передачу. Пахнуть суррогатами он перестал через две недели. Желтизна сошла к февралю. Когда понял, что за уборку камеры можно получить пачку сигарет, — хата стала сиять.
Играл в нарды и ехидно заставлял отжиматься проигрывавшего ему Василия, толстого полковника МЧС, который был скуп на сигареты, за что Афанасьич относился к нему беспощадно и на слово не верил.
Уехал он на этап в конце февраля, и это необъяснимо. Отбыл он в СИЗО почти два месяца. Оставалось чуть более трех недель. Везти человека за восемьсот километров, с двумя транзитными тюрьмами, чтобы выпустить из карантина по прибытии, либо вообще на каком-то полустанке по дороге, — странная экономика у этого предприятия.
Но Юрий Афанасьевич не жаловался. Когда протрезвел и побелел, проявил он себя убежденным государственником, строго пресекал проявления либеральной мысли и обещал съездить в Крым, как освободится.
Крепкий хозяйственник
Пространства камеры Петру Моисеевичу безумно не хватало. Доброго нрава, в свои шестьдесят он был подвижен, бодр, смотрел прямо в глаза, хотя почти всегда для этого ему приходилось привставать на носочки.
— Петр, мастер спорта СССР, — твердо проговаривал он, представляясь, и подтверждал статус хрустким сжиманием кисти нового знакомого.
В юности он занимался вольной борьбой, состоялся в легком весе и был известен некогда в узких кругах, явно тесных его широкой натуре.
В милиции Петр Моисеевич послужил участковым в небольшом околотке, а потом решил пойти в политику, для чего сначала осмотрительно стал крепким хозяйственником, тогда были модны именно такие. Скупив бросовые земли запустелого колхоза, он поначалу окунулся в фермерство, но рутину скоро оставил брату, не такому энергичному, но по-хорошему скопидомному. Брат его подкармливал в годы разных сортов местного депутатства, выгод не приносившего, но «подожди, наше время придет». Кормил и в тюрьме, брат как-никак.
— Я корнями из земли, — гордо говорил Моисеич.
— Наш человек, — гордился Василий, пожарный полковник, Моисеич ему нравился.
— Да, в навозе вы сейчас оба по пояс, — подытоживал Евгений, подполковник ФСБ.
В какой-то момент Петр Моисеевич, поблуждав по партийным спискам, возглавил захолустный район и с наслаждением бросился уничтожать миргородские лужи. Он был Фигаро и Зевс, казалось, не спал, женился, разводился и был щедр к внезапно возникшим поклонницам, плодил долги и детей.
Кое-кто из поклонниц и экс-жен теперь приходил на свидания, и к организации этих встреч Петр Моисеевич подходил с кропотливостью и тщанием. Женщин он ценил. Каждая была единственной.
Внезапно выяснилось, что у главы района должны быть деньги. Выборы, встречи и прочие «мероприятия» оказались делом хлопотным и затратным, некоторых тонкостей бюджет попросту не предусматривал.
Выкручивался Петр как мог, но «один из» неизбежно оказался казачком. Конечно, Моисеич был неглуп и все предусмотрел, за «благотворительной помощью» к «заинтересованному инвестору» поехал его близкий друг, бывший адвокат и проверенный человек.
Проверенный человек тоже был малый смышленый и, когда его повязали при получении, в минуту согласился на сотрудничество и деньги передал Петру Моисеевичу — уже под контролем. Сумма не ахти какая, но аккурат на шестую часть статьи 290-й, взятка в особо крупном размере.
Ходил проверенный человек под подпиской о невыезде все следствие и долгое судебное разбирательство.
Моисеич его терпеливо ждал.
Вечером, в день вынесения приговора — когда Моисеичу отмерили одиннадцать лет и 280 млн штрафа, а бывшему адвокату вероломно отвалили три года реального срока, хотя он ждал обещанного условного, — централ сотрясался от рыка.
— Ведите его сюда, дайте его мне в хату, я буду его опускать, я жду, — изнемогал маленький, но страшно могучий в этот момент Петр Моисеевич.
— Моисеич нерв словил, — спокойно высказались блатные и порешили препятствий не чинить.
Хоть и был Петр бээсником[7], но из-за его доброго нрава и готовности помочь ему, как и некоторым другим из этой когорты, даже выказывали некое подобие осмотрительного уважения.
Но привели адвоката Сергея не в хату к Моисеичу, что понятно, но даже и не в смежную, на что тот надеялся, а в соседний блок, через продол — тюремный коридор.
Когда за ним захлопнулись тормоза, как люди в тюрьме называют дверь камеры, Сергей прислонился к стене.
Стоять и держать матрас у него не было сил. Брюки без ремня предательски падали. Вопли Моисеича долетали приглушенными, но оттого становились похожи на завывания вурдалака, именно так он звучит, никаких сомнений.
Страх был помножен на крушение веры в условный срок, на прямой обман оперов, Сергей даже на приговор пришел в галстуке, убежденный, что вечером отметит окончание беды в ресторане. Отстучав зубами по кружке с чаем, Сергей не заснул. Ожидание страшной мести не давало ему спать еще много дней.
Вертухаи веселились пуще некуда, и прогулка на следующий день у Сергея была устроена в соседнем с хатой Моисеича дворике. Кричать тот уже не мог, только хрипел, но Сергей все равно не был способен к коммуникации.
В жизни, если ожидаешь чего-то ужасного, ничего подобного не происходит. Ужас или внезапен, или его нет. Гнев Моисеича угасал с каждым днем, угасал — и угас. Опера заскучали, и Петр с Сергеем таки оказались в смежных камерах.
Набравшись духу, ночью Сергей залез на унитаз, дотянулся пухлыми губами до вентиляционного окошка и зашептал:
— Моисеич, Моисеич, ты там? Моисеич, ты это, не обессудь, меня заставили, прости меня, обстоятельства, сам понимаешь, — льстиво вытягивал шею Сергей, одновременно и уворачиваясь, и в страхе закрывая глаза, будто видел в воздуховоде ползущего к нему Петра Моисеевича и не мог убежать.
— Иди сюда, падла, убивать буду, — устало ответил Моисеич и, помолчав, добавил: — Жалобу пиши апелляционную.
Уехали они на этап вместе в одну колонию строгого режима. Жили, с заточками друг за другом не гонялись.
Сергей оперился и снова стал вертким и острым на язык, потом отбыл положенное и вышел.
Моисеичу еще вечность.
Часть жен его ждет.
Умение решать вопросы
Если Борис Иванович был в чем-то убежден, то фундаментально.
— Я здесь ненадолго, — увесисто ронял он, глядя в стену за спиной собеседника, если ему случаем спрашивали о его деле.
Так он отвечал на вопросы — за что и как давно здесь, этой же фразой оценивал свои перспективы.
Был он шестидесяти без малого лет, как сам отмечал — «лицом материально ответственным», проработал на крупном предприятии, от роду советском, а затем поначалу абы чьем, но через пару уголовных дел — квазигосударственном. Был завскладом, жизнь знал, людей видел насквозь: «все воруют». На пенсию накопил, дом имел. Жена, сын, дочь, рыбалка — в ожидании его скорого выхода. Здоровье железное, кулаки под пуд.
На дикие доходы и золотые парашюты «эффективных менеджеров» не раздражался: «Надо уметь решать вопросы», — равно не удивлялся и их арестам: «Надо уметь решать вопросы».
Желание удалиться от суеты сбылось, да не совсем. Зять — с бегающими глазками, широкой сверкающей улыбкой и успокаивающим «Да ладно, чё ты?» — пригласил поработать директором строительной организации. Дал кабинет, даже почти два («ну там, комнатка чаю попить») и бухгалтера, девушку сметливую, пожившую и понимающую.
Компания зятя строила здания, а фирма Бориса Ивановича из двух человек прогоняла через себя субподряды. Первые пару лет было немного некомфортно и даже, что уж лукавить, страшно, но все происходило просто и обычно, и прокуроры приезжали по пятницам в баню, и судьи, и разные другие — все пили, обнимались и говорили зятю «брат». Страх прошел. Все так живут. Надо уметь решать вопросы.
Но вот у зятя случился бюджетный подряд, построил чего-то для города. И тот подряд обмывали со всеми друзьями-погонами: «Новая ступень, брат».
Субподряд от этого подряда был не то чтобы большой, видали поболее, но через год страх вернулся с обоснованием в виде обысков и уголовного дела. А затем ареста.
Зять исчез, и розыск его результатов не дал, но следователь как-то не переживал.
Исчезли и друзья.
Зато зять успел нанять адвоката. Тот был хорош. Сразу после обыска нашел все «выходы». Должны были дело прекратить, обещали.
— Понимаешь, силы вмешались серьезные, надо подождать, пока ажиотаж пройдет, пару недель, дело-то на слуху, — обволок его мягким шепотком адвокат на первом свидании, еще в ИВС[8], после задержания.
Как не поверить. Серьезный человек.
— Но надо расходы некоторые покрыть: сам понимаешь, уровень серьезный.
Как не понять. Покрыли.
Потом еще покрыли. Потом еще.
На четвертом месяце ареста, в уверенном предвкушении скорого прекращения дела, Борис Иванович узнал, что еще внучка вот-вот тоже должна появиться и присоединиться к его недолгому ожиданию.
Родилась она, когда он с той же уверенностью знакомился с окончательным вариантом обвинения, следователь с адвокатом сидели в маленьком кабинете СИЗО свежие, бодрые, внушающие оптимизм. Поздравляли.
Новый член семьи не был Борисом Ивановичем лично осмотрен и учтен, и это обстоятельство стало разрушать стройность мироздания. Что-то ощутимо шло не так.
Но адвокат был хорош. Просто и понятно он объяснил, что дело можно «решить» только в суде и там оно без вариантов умрет и что оправдательный его ждет и потом — реабилитация.
— Не, ну красавец, — говорил Борис Иванович в камере вору-бедолаге[9] Сереге, которому симпатизировал.
— Красавец, — отвечал с готовностью Серега, и какая-то улыбка мелькала у него странная, но тут же становилась обычной — Иваныч помогал с куревом и пропитанием.
Снова стало тревожно, когда выяснилось, что пожившая и понимающая девушка-бухгалтер заключила досудебное соглашение и наговорила всякого (правду, конечно, но зачем?) и дело в отношении ее ушло в суд и ее как-то быстро осудили, пусть условно, но осудили. Приговор принес ему адвокат и все опять грамотно объяснил.
— Ну осудили, ну мошенничество, ну особо крупный, так это же особый порядок, на тебя не влияет, но вот она, дура, будет теперь судимой, — вздыхал он, и, действительно, все становилось понятно.
В камере делился с Серегой.
— Дура, — соглашался Серега и тянулся за сигареткой.
Иваныч смотрел на него с благодарностью.
Когда дело у Бориса Ивановича подошло к приговору, Серега получил свою трешку и уехал на общий режим.
В камере остались какие-то злые. Говорили нехорошее об адвокатах. Им с адвокатами не везло.
— Надо уметь решать вопросы, — сурово говорил Борис Иванович.
С ним не спорили. Передачи ему заносили регулярно, жадным он не был. К чему споры в таком раскладе?
На приговор адвокат прийти не смог, был очень занят. Семь лет и шесть месяцев. Иск, штраф.
Парни в камере не шептались и не смеялись, не принято. Напоили чаем, у самого как-то не получалось в этот вечер.
Адвокат пришел через два дня.
— Непросто, ох как непросто по твоему делу, Иваныч, — говорил он, не моргая. — Теперь только апелляция.
Без Сереги в камере поговорить было не с кем.
Апелляция прошла через три месяца — буднично и быстро. Бориса Ивановича слушать не стали, люди судейские были очень заняты, но к этому он начал привыкать. Все вокруг, кто при власти, очень заняты.
— Да они и не вникали, команда такая им спустилась, понимаешь, — адвокат вновь был безупречен, — но в кассации такое не проходит. Решим в кассации. От тебя больше ничего не надо.
А ничего уже и не было.
Момент, когда надо было злиться и что-то делать, Борис Иванович незаметно для себя пропустил.
— Иди отсюда, — тихо сказал он адвокату. Ругаться не любил.
В этот день Борис Иванович, придя в камеру, впервые достал копии своего десятитомного дела, которые он, как материально ответственное лицо, аккуратно сшил и держал в специальном бауле. И начал читать.
Закончил он чтение в колонии. Там его ждал Серега-крадун[10].
Скоро у Сереги конец срока.
А Борис Иванович первый раз попытается выйти условно-досрочно.
Ищет адвоката. Чтобы умел решать вопросы.
Телефон
Сергей грустно смотрел на свой смартфон. Совсем недавно тот был новым и долгожданным, сиял, от него необычно для этих мест пахло чистотой. Сейчас на нем появилась трещина, идущая диагональной волной через весь экран, а сам телефон пропах централом, пожелтел и стал обычным тюремным «шумом».
Недавно — это три месяца назад. Вечером Сергей выходил из магазина и собирался домой, но сначала его положили в сугроб, чтобы он почувствовал свой новый статус, а потом привезли к следователю. Обвинение уже было готово и лежало в нескольких листах на столе. Следователь сообщил, что это мошенничество, часть четыре статьи 159, и лениво спросил, есть ли у Сергея адвокат, услышал, что нет, сказал, что пригласит «независимого адвоката по назначению».
Сергей согласился, почему-то ему очень захотелось подружиться со следователем и сделать что-то, что тому понравится. И еще было очень страшно. По-настоящему. Вину он признал, от дачи показаний отказался. Допрос занял полчаса. Ощущение, что все идет по чьему-то плану, появилось и стало давить. Адвокат пожал ему руку и поехал по своим адвокатским делам, а Сергей поехал в ИВС.
Через два дня он оказался в камере СИЗО. Нужно было научиться жить по-новому.
Статья и шестизначный размер ущерба в обвинении оказались прекрасным магнитом. Смотрящий по хате выделил ему хорошее место и после отбоя начал беседу. Он никуда не торопился, был молод, но опытен, добр, понимал Сергея и обстоятельно описал, куда тот попал.
За объяснение и советы Сергей был благодарен, но ими дело не ограничилось. Прозвучала и просьба «уделить на общее», что было понятно, Сергей не возражал, и возможность у него имелась. Еще ему предложили «взять шум», то есть купить телефон. Цена впечатлила. Но и обоснование было серьезное — «менты же сами заносят, братан, их же за это безопасники крепят».
Сергей в силу прагматизма поинтересовался арендой, собственность — значит ответственность, кому, как не обвиняемому в мошенничестве коммерсанту, это знать. Смотрящий убедил, серьезному человеку нужны свои «цифры», постоянно просить — напряги. Дал Сергею свой, позвонить жене.
Сергей позвонил.
Следующая неделя была познавательной. Жена удивилась сумме, но стала ждать звонка от «человека». Выяснилось, что цены на телефоны в СИЗО и способы их передачи — темы, несомненно, секретные, но обсуждаются на форумах открыто, можно купить дорого и не очень, посредники могут быть «реальными», а могут и «швырнуть». Через три дня, когда Сергей стал склоняться к последнему, жене позвонили. Встречу ей назначили в рабочем поселке, почти ночью, и ехала она туда с опаской. Но вариантов не было, деньги просили именно наличные. Из черного БМВ вышел бритый наголо мужчина, понять, кто это, в темноте было невозможно. Ну лысый, ну говорит с оттяжечкой, так это нынче и блатные, и фсиновцы так говорят. Охотятся они в одном лесу, и лоха, на централ залетевшего, поделят и съедят с одной тарелки, не поперхнутся. Бритый взял деньги, пересчитывать не стал, сказал, что все будет нормально, и уехал.
Через пару дней смотрящий отдал Сергею телефон. Как он попал к нему, Сергей не уследил, не понимал еще тонкостей тюремных дорог. Это был недорогой корейский аппарат. На задней панели Сергей сделал отметку, едва заметную букву S — и первая буква имени, и легкий намек на цену. Позвонил. И сразу встал вопрос хранения. Это запрет, и запрет строжайший, карцер всегда в ожидании. Смотрящий помог и тут, убрали элегантно, в место, о котором Сергей никогда бы не догадался, слишком оно заметное и простое. Оттого надежное. Шмон[11] проходил за шмоном, отлетали из хаты разные ништяки[12], но телефон Сергея оставался незамеченным.
Спустя месяц с небольшим смотрящего перевели в другую камеру. И тут же грянул шмон, но это уже был настоящий обыск, по всем правилам, таких Сергей еще не видел. Хату воспитывали. Телефон обнаружили, хозяин среди двух десятков арестантов не назвался, что было ожидаемо. Непонятно было Сергею другое: никто не проверял звонки с телефона, ведь установить звонившего было делом простым. Почти месяц Сергей жил в ожидании вызова к операм, готовился к карцеру и просчитывал варианты. Ничего не происходило.
Как на грех, контингент вокруг поменялся, хату наполнили бедолагами, а те не могли себе позволить ничего. Сергей остался без связи. Это было плохо. А когда человеку с деньгами плохо, кто-то спешит к нему на помощь. Новый смотрящий оказался человеком бывалым. Он видел все и ждал, когда Сергей подойдет сам. Тот подошел. Цена была чуть выше прошлой. Цены в тюрьме вообще всегда растут. Смотрящий дал ему телефон, и Сергей снова позвонил жене. Она слишком волновалась, чтобы возмущаться, и снова встретилась с кем-то бритым. Отдала деньги.
В этот раз Сергей сам принял пересланный по дороге телефон. Экран разрезан по диагонали трещиной. Буква S на задней поверхности хоть и затерта, но, несомненно, есть, и именно та, что он когда-то прочертил.
Сергей улыбнулся, вставил сим-карту, переданную тем же путем, и позвонил домой.
Дом и близкие — вот что по-настоящему важно, и Сергей уже не переживал из-за обмана, из-за того, что он и такие, как он, — всего лишь дойные коровы. Сильные быстро учатся принимать удары тюрьмы и жить, не обращая внимания на то, что не можешь изменить.
Такова жизнь в тюрьме. Стареют, желтеют, тускнеют изнутри вещи, то же происходит с людьми. Телефоны переходят из рук в руки, их изымают, они недолго пылятся в сейфах надзирателей, потом их снова покупают и они возвращаются в круговорот. Потом опять шмон, сейф и новые руки. Иногда новые руки — это те же руки, что и были.
Но это не меняет ничего. Это неважно.
Важно выжить.
Отец и сын
Старик напротив Евгения не признает мутного стекла, что отделяет его от сына: трубка телефона, через который говорят на свидании, в руке инородна — зачем она, когда Женя — вот он, рядом, брось трубку и протяни руку.
— Отец, — произносит Евгений, трубка дрожит, и подбородок, к которому она прижата, тоже подрагивает.
Арестант быстро собирается с силами.
Он хочет сказать, что вернется, что это случится скоро, он хочет быть веселым и сильным, как любит отец, но тот все видит, и обмануть его нельзя.
Взгляд старика рассеян, в нем решетки и грязные стены, он скользит по сидящей рядом молодой женщине, жене Евгения.
Смотрит на женщину. Дождется?
Уходит в себя. Дождусь? Вопросы немы и гнетущи, но все их слышат, это сон, и нужно ущипнуть себя.
Женщина рядом очень красива, она намного младше его сына, она родила Евгению троих детей, это произошло еще до того, как все стало плохо.
Неожиданно и очень плохо.
Евгению пятьдесят четыре года, он кажется моложе своих лет, спина широкая, движения мягкие и точные, короткие волосы не поредели, не поседели и упрямо торчат. Отца он видит впервые после ареста — прошло восемь месяцев.
Старику — восемьдесят, и выглядит он на восемьдесят, и это удручает Евгения: еще год назад он был уверен, что не стареть — у них в генетике.
Женщина знает — она была здесь не раз, — а старик еще нет, что по-настоящему тяжкое начнется через полчаса, когда свидание завершится и они выйдут на улицу: это старый волжский городок, здесь такие прекрасные влажные колючие метели в декабре, которые сейчас снятся Евгению, они будут идти и дышать этой метелью, а Женю отведут в прогулочный дворик, узенький бетонный застенок, где уже гуляют его сокамерники, его хата, и никто ему ничего не скажет, все знают, каково это, он просто постоит, покурит и придет в себя.
Расскажет анекдот.
Подполковник ФСБ, он вышел на пенсию по выслуге полный сил и «контактов», еще допелевинский фээсбэшник, не из тех, что ездят на стрелки, а из тех, к кому приезжают. И был бизнес, и сеть магазинов, и друзья «сделали» ему ООО с оборотами, а банкиры давали кредиты, и он все инвестировал в ООО друзей, а те открывали и открывали огромные магазины, а потом пришли большие сети, и друзья продали им магазины, а долги оставили ему.
И стали не друзья. Но пять лет были хорошие, веселые.
Последние деньги отданы адвокатам. Жена ищет работу, а она красивая и ничего не умеет. А ему суд выписал шесть лет общего режима. Мошенничество, «Где посадки?» — а как же.
Он бросает окурок, аккуратно бросает, в вырезанную из пластиковой бутылки пепельницу, он вообще очень аккуратный.
Есть два пути — Тагил и Киров, а выбора нет. Это шутка последних дней, она придумала себя сама и возникает вдруг в голове. Странно, но становится спокойней.
Восприятие обострено опытом и бедой.
— Как так получилось? — спрашивает он себя. И отвечает, он всегда отвечает на вопросы.
— Мы стали дровами для печи, которую раньше топили сами.
— Я не был таким. Я не уничтожал людей ни за что.
— Уничтожал.
Сложно спорить с памятью.
В этот вечер он молчит. Отец и жена — они ждут, и оба могут не дождаться, и причин для этого много: старость одного и молодость другой не сулят надежды, ничто не сулит надежды, надо еще прожить и пережить все, прожевать и выплюнуть годы, смириться с неизвестностью и ждать, ждать ему и им.
Неизвестность…
Ему плохо этой ночью, он не спит, встает и курит, много, смущенно улыбается, когда видит, что разбудил кого-то. А впереди — сотни таких ночей, и каждая ночь темная, по-настоящему темная. И в темноте спят или не спят отец, жена, два сына и дочь, и до них недалеко, все в мире недалеко, если нет стен.
Через два месяца он уедет на этап, ему выпал Киров.
Жена Евгения найдет работу, и окажется, что она умеет многое и что она — юрист — все умеет сама, нравится мужчинам и теперь ему надо будет думать, как удержать ее.
Карма, раньше это была ее забота — как удержать его.
Он выйдет условно-досрочно через три с половиной года.
Отец дождется.
Этап
Я смотрю на людей вокруг и вижу их.
У меня этап сегодня, его объявили, я уже собран, знаю, чего ждать, и знаю, что все равно будет не так, как жду.
Неизвестность и опасность дарят на время взгляд сквозь, и я вижу.
Вот Вася, ему еще неизвестно сколько томиться, — следствие нынче неторопливое, это раньше прокуратура мешала быстро расследовать, а сейчас следователи продлевают сроки по делу у своего начальника, и то, что раньше расследовалось полгода, теперь нельзя заканчивать раньше чем через год. Василий, конечно, надеется на оправдание и последнее время даже сурово уверен в нем, но когда делу уже скоро год, а обвинение особо тяжкое, а он хоть и МЧС, но полковник, взятки множественные, плюс арест, и пусть писано все криво оперативными вилами на мутной воде — какие еще нужны доказательства суду? На самом деле ни в чем он не уверен и понимает, что жена и дочь, дом, хозяйство, а он очень хозяйственный, — не про него надолго. Он боится. И я не расстраиваю его своими прогнозами, они его раздражают тем, что сбываются, — ну так зачем бередить? Ему достанется и без меня. Он напоследок пытается выхватить у меня что-то по его делу, он верит в волшебное озарение системы и исправление чудовищной ошибки в отношении его — ведь надо только объяснить, я бросаю фразы коротко, не до того, остались минуты, но он думает не о них, а о своих злых годах впереди. Он так живет, и он прав. А я уезжаю, и у меня своя правда.
Евгений — жесткий, шестой десяток, волосы — тускнеющий, но еще ёжик, руки выдают силу, глаза — ум. Недюжинный во всем. Ему не страшно. Он думает. Жена красива и беспощадно молода, трое детей, отец старик, которому не отпущено времени на долгое ожидание. Бизнес в минус, уголовное дело в плюс, что удивительного? Он знает, что выйдет. Он просчитывает варианты. Приговор уже состоялся, он нелеп, и его можно обжаловать, но мы знаем, что шансы около нуля — дело расследовано и «сопровождено» бывшими коллегами. В КГБ он стал подполковником, а в ФСБ — обвиняемым, затем осужденным, без права на обжалование приговора. То есть право жаловаться есть. Но приговор останется. Дураков в суде нет. Он уедет вскоре после меня, я не волнуюсь за него.
Александр, бывший начальник отряда в колонии общего режима, добрый и простой парень. Осудили за вымогательство взятки в виде бутылки коньяка у освободившегося условно-досрочно зэка. По приговору он сначала получил бутылку, а затем начал ее вымогать. Жалобу апелляционную ему я написал, писалось легко, как всегда это бывает для хороших людей, и суд апелляцию услышал, как почти никогда не бывает с хорошими людьми, но переквалифицировали, убрали вымогательство, наказание снизили и режим сменили со строгого на общий, все неплохо. А что доказательств получения взятки нет вообще, как-то забылось на радостях.
Обнимаю всех. Пошел, зовут.
Шмон на выходе, ожидание автозака. Ожидание в автозаке. Путь на вокзал. Я не вижу, куда едем, но город чувствую, мы не на сам вокзал, что естественно, а в закуток, мимо которого я проезжал сотни раз и на который не обращал внимания. А сейчас меня с несколькими парнями и женщинами по одному заводят в вагон, и мы идем мимо собак со злыми глазами и вертухаев с пустыми глазами, быстро, нас подгоняют, мы — скот, даже хуже, от нас нет пользы. Город, я слышу его шум и вижу людей вдалеке, и мне странно, я и в городе, и не в нем. Нас нет для людей и города, где я так долго прожил и постоянно был кому-то нужен, чему иногда раздражался, и вот его шум и запах, но я вычеркнут.
Шмон в вагоне, их много будет, этих шмонов, на каждом входе и выходе. Делаешь все быстро и спокойно, мысль, что у тебя нет ничего своего и везде чьи-то руки, усваивается моментально, иначе не выжить.
Камера в «столыпине» — это купе, только мест не четыре, там вообще нет мест, там заполняемость, там по три полки с двух сторон и все это на двенадцать человек.
Решетка, как же без нее, закрашенное окно, сквозь проплешины которого я смотрю на перрон, нас прицепили к поезду. Люди идут вдоль поезда и смотрят сквозь этот вагон, смотрят сквозь нас, как раньше смотрел я, и не видят, как не видел я.
Впереди транзитные камеры — хаты в пересыльных централах, где по восемь шконок на три десятка человек. Забытье по очереди на час.
Шмоны, шмоны, шмоны. Туалет — три раза в сутки. Я слышу, как женщина просит вертухая вывести ее в туалет, она немолода и больна, я слышу, ЧТО он ей говорит и КАК он смеется, и больше никогда не называю конвоиров сотрудниками, это вертухаи, вертухи, это они топили печи холокоста, и это о них писал Ремарк.
Зрения в «столыпине» не нужно, света нет, только мутный дежурный, а слушать нужно, и я слушаю.
Я слышу безысходность в смехе блатного, что в соседней камере, ему в Омск, на особенную крытку[13], он с 94-го по тюрьмам, он в отрицалове, и теперь из Краснодара за такую жизнь его везут для перевоспитания к медленной смерти, будут ломать, а способов много, ему еще два года, и это будет страшное время.
Сочувствую, хоть и понимаю, что он сидит за что-то очень злое, но он обаятелен, и все женщины, которых везут этим же вагоном, начинают с ним шутить, он просит их говорить. У него нет близких, мать умерла, жены не завел, и женщины он не видел годы, они говорят с ним, он впитывает их голос, а они останавливаются около его камеры, когда их ведут в туалет, — все люди.
Женщины время от времени поют, это красиво, и даже вертухи слушают и молчат. У всех этих женщин страшные сроки, от десяти, у всех 228.
Где-то стонет парень, жалуется на судьбу, у него спрашивают, сколько дали, он отвечает — семь, люди подбадривают. Он добавляет — месяцев, и люди хохочут. Потом замолкают и забывают о нем.
Мысль, что он слабый, а ты нет, подленькая, но от нее легче.
Пересылка в ИК-2 Екатеринбурга — это чистилище в центре города, в него заходят прокуроры и всякие прочие важные проверяющие, но не видят ничего, ад вечен, но, бывает, вчерашние проверяющие приезжают туда в автозаках и тогда видят, но уже поздно.
В этом аду набирают этап в Тагил, туда, где уже ждут пряников[14] в зоне для бывших сотрудников, а пряники — это те, кто только приехал и еще мягок. Сколько бы мы ни просидели на централах, и чего бы ни повидали на этапах, и кем бы ни были в прошлой жизни, там мы будем пряниками, нас будут пытаться съесть и многих съедят, но до этого еще надо дожить.
Мы преступники, поэтому родственники ничего о нас не знают, это запрещено: пока мы не приедем в зону, с нами нельзя связаться, эти недели мучительны для них, но кому есть дело до этих мучений.
Я проживу, и все могут это прожить, система отмеряет бед ровно по силам, это вековой опыт, она не ошибается.
Но этот ритм, перестук колес этих вагонов — то, что я буду помнить. На глазах моих останется третье веко — калька, через которую я смотрю на мир, это окно «столыпина» с проплешинами, через него я вижу простые радости и их истинную цену, вижу, как все проходит, как проходят мимо люди, как они смотрят сквозь вагон, в котором я, в котором такие же другие, и нас много, но выйти из него мы не можем — мы вычеркнутые люди в глухом вагоне с замазанными окнами.
Казанский централ
Централ в Казани пахнет восточными специями и пловом. Сидельцы в некоторых хатах умудряются прилично готовить — и запах разносится. Он следует пару часов за каждым прибывшим, потом к нему привыкаешь. Но диссонанс между баландой, которая здесь — обычное дело, и запахом еды из вольного мира остается долго.
Меня привозят туда под утро. Транзитная камера для БС, бывших сотрудников.
Я не знаю, сколько я здесь пробуду. Зайдя, начинаю искать глазами свободную шконку. Их тут нет. Людей значительно больше, чем шконок, это видно без подсчетов.
Ко мне подходит невысокий, плотно сбитый мужчина лет сорока. Он из 90-х, браток. Смотрит прямо. Изучает, взгляд скользит привычно, это опытный зэк, и сканер у него не дает сбоев.
— Где работал? — вопрос обязательный для БС.
— Прокуратура.
Поворачиваются в мою сторону головы. Прокуроры и судьи не в чести. Пауза затягивается.
— Молодец, — говорит мне тихо и очень спокойно браток.
— Почему? — в тон спрашиваю я.
— Что крыться не стал, сказал честно. Проходи.
Бывших прокуроров и судей не любят даже здесь. Неприязнь неприкрытая. Но это не повод для принятия санкций, человек должен проявить себя «по личности». Вот если скрывать место работы и придумывать легенду — тут могут быть проблемы. И серьезные.
Мне дают шконку, это обязательно, арестанту, что зашел с этапа, надо лечь и постараться поспать.
Спят на централах всегда, но и шумно тоже всегда, тюрьма не спит. Кто хочет заснуть, тот уснет, — правило простое.
Я забываюсь на час, но тут заходят со шмоном, все встаем и выходим из хаты.
После этого меня начинают расспрашивать.
Как в любой транзитной хате, здесь помимо десятка человек, ожидающих этапа, — местные бедолаги, которые никуда не едут пока, но их кинули сюда, потому как взять с них нечего и замолвить за них некому. Таких здесь пятеро.
Еще двое — на воспитании. Один из них браток, что встречал меня, а второй — Александр, который сидит уже вторые десять, его привезли на раскрутку по новым эпизодам. Им нужно было создать жесткие условия. Создали.
У этих двоих есть ко мне разговор.
Разговариваем мы час. Сначала несколько коротких вопросов. Когда и кем работал? Понимаешь в делюгах? Вопросы есть, посмотришь?
Выяснили, что работал в органах я давно, — напряглись; узнали, что в уголовном праве понимаю, — успокоились и приняли решение задавать вопросы.
Смотрю документы. У братка все просто, он сидит давно, у него особо тяжкие, но по новому делу его скоро везут на психиатрическую экспертизу, его волнует, правильно ли вопросы поставлены. Постановление чистенькое, мне нечего ему посоветовать. Ему — ждать, а к этому он давно привык. Уходит на свою шконку, спать.
У обоих шконки свои, отдельные, на них никто больше не садится и не ложится, что для транзитной хаты редкость. На всех остальных шконках спят по очереди.
У Александра дело большое. Там многоэпизодная банда. Читаю и не понимаю. Обвинение ему вменено на восемь эпизодов, а в приговоре — девять. Судья ошибся, вписал ему в приговоре чужой эпизод. Ошибке много лет, но все судебные инстанции на нее плюнули.
Так не бывает, но вот бумаги передо мной. Так нельзя, но можно.
С этим принципом — нельзя, но можно — живут зэки, придется теперь жить и мне. Я еще и не такое увижу.
Я быстро пишу ему текст обращения генпрокурору, шансы близки к нулю, но времени у него много, и надо пробовать все.
Хата внимательно слушает и смотрит. Ко мне выстраивается очередь. До вечера я успеваю написать две апелляционные жалобы и позицию в прениях трем арестантам. Я рад: это отвлекает и убивает время. Работу прерывают несколько раз — принесли баланду на обед, загнали вновь арестованного казанского парня, а под вечер этап, восемь человек.
Становится очень тесно. Почти все курят.
Арестованный из Казани — неинтересный: мелкий полицейский, сбытчик наркоты, держится дерзко и уверенно, говорит, что ненадолго сюда. Украдкой он дает мне постановление об аресте, я читаю, смотрю на парня и вижу, что он совсем не уверен и ему страшно.
Правильно не уверен, и правильно страшно. Срок будет большой.
Этап южный, люди с разных централов, от Нальчика до Ульяновска. Кто-то едет на строгий, кто-то на общий в Киров. В Тагил — я один.
— Братан, я Витос, — подсаживается юркий молодой кавказец.
Говорит почти без акцента. Но очень много говорит. Рассказывает, что он случайно с БС, он вообще черный по масти, в отрицалове, просто служил срочную во внутренних войсках. Слишком часто повторяет, что не хотел сидеть с бээсниками.
— Ты это на зоне расскажешь, не мешай человеку, — тихо бросает Александр.
Я пишу, мне действительно не до разговоров.
Витос вскидывается, но видит матерого волка, чувствует свое место и на время замолкает. Отходит, улыбается мне и Александру. Плохая улыбка. Плохой человек.
— Ляжет под оперов на третий день, — говорит Александр тихо.
Я верю.
Около трех ночи до меня доходит очередь на сон. Это самое шумное время, работают тюремные дороги, крик стоит беспрерывный. Но я отключаюсь. В шесть меня поднимают, скоро этап. На мое место сразу ложится следующий и тоже отключается.
Я одеваюсь, беру сумку. Прощаются со мной тепло, жмут руку и тут же забывают — это жизнь транзитной хаты, здесь нет ни друзей, ни попутчиков.
Забываю и я.
Зэк всегда думает о том, что впереди. Вчерашний день прожит, и, если он не привел тебя в карцер, ШИЗО или медчасть, — прожит хорошо. Завожу одну руку назад, во второй сумка, и иду за конвоиром.
В вагоне «столыпина» я начинаю чувствовать от одежды запах плова и специй.
Это ненадолго. Дым дешевых сигарет очень скоро забивает все.
Суки
Этап в Екатеринбург приходит под утро. В марте на Урале ночью холодно, это еще зима. На перроне прожекторы и длинные тени фигур в пятнистой форме; людей выгружают по одному и сажают на корточки, лицом к свету.
Справа и слева недобрые собаки — их сумели научить ненавидеть человека.
Люди на корточках начинают дышать, это поначалу больно, холодный воздух режет легкие чистотой, его вокзальная вонь — ничто после столыпинского вагона, в котором люди едут из следственных изоляторов, где пробыли много месяцев, все по много месяцев, а у некоторых за спиной годы.
Люди устали. Этап — это пытка и глумление, это многие сутки «столыпина», где в хате, стандартном купе, полагается ехать двенадцати арестантам. Сейчас мы в зимней одежде, а еще у всех баулы, у некоторых неосмотрительных — не по одному. Негде сидеть, негде стоять.
На этапе нет ни ночи, ни дня, есть три выдачи кипятка и три вывода в туалет. В сутки.
Это транзитные тюрьмы, где спят по очереди по паре часов в сутки, и шмоны, шмоны, шмоны, к которым привыкаешь, достаешь все вещи из сумки, раздеваешься и одеваешься, не видя ничего вокруг.
И это усталость. Дикая, давящая к земле — пусть земля и холодная, но на нее можно лечь: организму нужно лечь, никому нельзя все время стоять и сидеть.
Я последний в ряду бээсников, нас всего несколько человек, мы сели на корточки и ждем, пока выгрузят остальных. Этап большой. Сзади меня садятся женщины, их везут в Тагил, как и нас.
— Бээсник, помоги, — шепчет одна, ей около пятидесяти, она глубоко и сухо кашляет. У нее два больших баула, это я вижу, косясь через плечо, и понимаю, что они тяжелые. Киваю.
Конвой дает команду, и группы арестантов ломкими шеренгами поднимаются с земли и идут к свету, туда, где фары наших автозаков.
Я беру сумку женщины, и слева начинает лаять собака, они все лают одинаково зло, но эта лает на меня, и рядом с ней низко рычит коренастый вертух.
— Оставь! — Это он мне.
Молчу, и мы идем, он остается сзади и начинает вместе с собакой лаять на кого-то другого.
Около автозаков нас резко останавливают, женщины так же позади, я ставлю баул и пробую улыбнуться.
— Суки, — говорю я тихо, но она слышит.
— От души, — говорит она мне и добавляет: — Это не суки. Сук ты сегодня увидишь.
Видно, что ей все не внове. Я пока не понимаю, о чем она, но верю.
Когда всех бээсников собирают вместе, оказывается, что нас два десятка. Пермь, Кемерово — регионы разные. И Москва. Это важно. Москву в зоне ждут, с московскими едут деньги. Они все при деньгах, москвичи, в этом в зоне уверены.
Мы погружаемся в автозак, мы ехали в разных вагонах, поэтому начинаем разглядывать друг друга. Разные. Есть брендовые пуховики, это — Москва, БЭП, налоговая. Есть бедолаги, они в чем попало с чужого плеча, это обычно бывшие солдаты внутренних войск, они служили срочную и забыли о ней, но служба не забудет никого, и они теперь бээсники, потому что внутренние войска — МВД, хотят они того или нет.
Нас привозят в ИК-2 — она в центре Екатеринбурга, и там пересылка для тех, кто едет дальше в тагильские зоны. На прогулках сквозь зарешеченные потолки двориков мы видим верхние этажи домов, балконы, на которых иногда стоят люди, они курят и смотрят равнодушно на находящуюся под их окнами колонию — часть пейзажа, привычную и неинтересную.
Мы давно не видели свободных людей.
И да, мы встречаем настоящих сук и живем среди них неделю. А потом они будут рядом годы. Но здесь их — концентрат, и это хорошо, позже понимаешь, что хорошо, здесь уничтожают иллюзии, если они еще оставались, это не просто пересылка, это университет, и ты понимаешь, чего ждать в зоне.
Эти суки — арестанты, сидельцы, но они ходят свободно, некоторые в спортивных костюмах, у них ключи от камер, они появляются у нас, когда захотят, просят сигареты, разговаривают отрывисто и редко, они нас презирают. Мы тоже их презираем, сразу начали, иначе невозможно, они не вызывают других эмоций.
Им отдано то, что лень делать сотрудникам или гадко даже им, они принимают этапы, раздевают и снимают на видео арестантов, чтобы зафиксировать состояние по прибытии, водят их голых из камеры в душ по графику, голых, потому что смешно, им же скучно. Еще они бродят по коридорам и следят за камерами.
Иногда мы слышим, как с ними разговаривают сотрудники, и это тоже — отрывисто и резко, а иногда сотрудники их бьют, и это тоже слышно, звуки ударов глухие, вскрики тоже глухие, шуметь нельзя. Правильно, тварь должна дрожать, тогда она будет бояться тебя и кусать других тварей.
Это их плата за возможность жить чуть получше, чем другие, не ходить строем, кормиться тем, что отбирают у проезжающих этапом зэков, мыться в душе каждый день, а не раз в неделю и жить в небольших комнатках при администрации, а не в бараках. А еще за то, чтобы пытать арестантов, — их должен кто-то пытать, так устроена зона.
Затем, когда слава об их зверствах расходится, они зверствами же выслуживают, чтобы их не отправили в те самые бараки, где их ждут счета от зэков; ссучивание — процесс необратимый, и иногда им счета предъявляют, что жутко.
Все, что они делают, — нельзя, и их как бы нет, они это понимают, но гонят, гонят от себя эти мысли. И продолжают отбирать, угрожать, пытать, потому что только так можно заслужить право не возвращаться к людям. Право остаться суками, козлами, сытыми среди голодных. Право лизать сапог.
Их никогда не становится меньше. Они — расходный материал, и на место одного стоят в очереди двое. Иногда их матерей находят на воле, рассказывают все, и некоторые матери приходят на свидания и просят сыновей остановиться. Но они не могут. Дороги назад нет.
Секции дисциплины и порядка, добровольные помощники администрации — у них много имен. Но суть одна, это изверги, которых люди в погонах нанимают пытать и убивать.
Нужды в этом никакой нет, в зонах тяжело, смертельно тяжело и без сук. Но традиции ГУЛАГа живы, они скрепляют поколения и умрут, только когда умрет сам ГУЛАГ.
Мы проходим чистилище — ИК-2 Екатеринбурга — без потерь, у нас почти ничего не украли и совсем ничего не отняли, этап был большой, нами не занялись всерьез, бывшие сотрудники бывают опасными, они умеют писать жалобы, а иногда бьют в ответ. Это само по себе козлам не страшно: за ними администрация и спецназ, — но может выйти за пределы тюрьмы, что нехорошо, лишние проверки не нужны.
Эта школа, недельные курсы наблюдения за тем, во что может превратиться человек, — бесценны. Ты смотришь и видишь, чего тебе ждать в зоне, что человек слаб и дух его ничтожен, мутная сучья пленка на глазах нарастает вмиг, а удалить ее невозможно, где-то внутри догорает в человеке искра, что мама подарила ему при рождении, но светить она ему уже никогда не будет. Тюрьма высасывает души и плодит мерзость.
Потом они выходят на волю. Но поздно, всегда поздно, жить вольно они уже не могут. Сапог, чтобы лизать, и слабый, чтобы пытать. Вечный челночный бег суки.
Карантин
Из ИК-2 Екатеринбурга нас уводят к вечеру. Зэков набралось много, почти двадцать человек. Из Перми, Кемерова, с Сахалина. И Москвы. Важно, что есть среди нас москвичи и те, у кого приговоры по взяткам и мошенничеству. Значит, этап нужный, его ждут. Это мы узнаем позже, а пока просто собираемся.
Тагил близко, но расстояния ФСИН не важны, дорога в любом случае будет мучительной и долгой. Так и происходит.
Для начала нас три часа держат в автозаке. Потом мы двадцать минут едем, потом — слышно, что это вокзал, и стоим еще час. Затем нас ведут в «столыпин». Он стоит на дальних путях, нужно ждать состава, к которому вагон прицепят. Проходит еще около двух часов. В это время производится дежурный шмон. В туалет нельзя, всем уже не по себе, но возмущаться — шанс приехать с рапортом и сразу попасть в ШИЗО.
За окнами становится совсем по-ночному, шумит город, слышны звуки вокзала, и, если бы не теснота — а нас одиннадцать в хате, обычном зарешеченном поездном купе со стальными полками, — можно было бы лечь, забыться и представить, будто ты едешь не в никуда, а во вполне определенное место где-то на юге и тебя ждет солнце, тебя ждут две недели отпуска, но поезд трогается, и мысли останавливаются.
Тагил — это перрон, прожектора и собаки. Все зло, избыточно зло, нам не нужны окрики и ругань вертухаев, мы идем сами, все устали, и у всех одно желание — доехать до зоны, выпить горячего чая, умыться и уснуть.
Первое желание сбывается быстро. Через час нас уже вводят в карантин ИК-13. Это одноэтажный барак, недавно отремонтированный и с наглухо закрытой локалкой[15]. Мы привыкли в СИЗО, что все арестанты равны. И еще, что сукой быть стыдно. Дневальные карантина — зэки, которым не стыдно быть суками. Они выставляют это напоказ.
Нас раздевают, отбирают одежду, оставляют лишь нижнее белье, коротко стригут, почти налысо, и отправляют в душ. Все это делается с подчеркнутым презрением.
Это неожиданно, потому что такого от другого арестанта не ждешь. А надо. Теперь надо.
Ни чая, ни кипятка. Вода из крана — и спать. И это хорошо, если думать отстраненно. Не время расслабляться.
Следующие дни определят, кем ты будешь в зоне.
Утро начинается с выдачи одежды и обуви. Робы и обувь выдаются на глаз. Это делается сознательно, пряник сразу должен начать просить. Получить обувь по размеру, подогнать штаны, добыть нитки, иглу, ножницы. Все нужно просить, и за все придется платить.
Алексей, старший дневальный карантина, начинает вызывать к себе пряников, прощупывать их. Запросы от оперов просты — выявить платежеспособных. Администрация в этом не участвует. Это должны делать зэки.
Зона устроена просто, структура отлаживалась десятилетиями. На каждом объекте — отряд, медчасть, ШИЗО, храм, школа, ПТУ, столовая, свинарник, штаб, посылочная, клуб, цеха промзоны, есть дневальные из зэков. На каждом есть старший дневальный, завхоз, как его называют все. Его задача — держать объект в порядке. Ремонт, строительство — все его проблемы. Администрация получает на это финансирование и отчитывается, но зона ремонтируется и строится за счет зэков. Завхоз должен найти средства.
Поэтому завхозы, получившие добро от администрации, приходят к Алексею, и он вызывает к себе перспективных.
Двое из тех, кто ходил к Алексею, устраиваются дневальными ШИЗО. Двое — в медчасть. Остальные остаются под присмотром. Шансы, что среди нас есть те, кто «поучаствует в нуждах» зоны, сохраняются. Еще через день двоих раскручивают на работу в «нарядке» — это отдел труда и занятости осужденных, зэк не может там работать, там персональные данные и ведение компьютерных баз, но и трудоустроенных зэков официально в колонии всего двести, а работает в пять раз больше. Пусть они и не устроены официально, пусть они рабы, но хозяин должен знать, где раб и сколько он сделал.
Еще зоне нужны «отделенные» — те, кто моет отхожие места, курилки и занимается мусором. Поэтому Алексей устраивает провокации, просит помыть помимо общих помещений, что не опасно для мужика, еще и туалет. Никто из нас не соглашается, хотя он и уговаривает, и пытается угрожать.
Этот запрос от какого-то завхоза у Алексея остался невыполненным. Он не расстроился. Скоро приедут новые пряники.
Так устроен карантин. Название нелепое, ничего от медицины в нем нет, душ один раз по приезде — единственная полезная процедура. Это первичный фильтр, отсев и сортировка; здесь завхозы подбирают себе жертв, помощников и, перед освобождением, замены; опера — у них свой интерес — начинают присматривать за новыми арестантами; промзона ищет тех, кто что-то может делать руками; а сор — юристы, экономисты и прочие бесполезные в зоне люди, если не нашли себе места, готовятся к распределению в отряды по усмотрению начальства.
На четвертый день проходит распределение, и зона всасывает в себя наш этап. Следом уже прибывает другой.
Карантин не стоит пустым. Зона требует новые тела, ей нужны новые души. За наши она уже принялась. Но ей мало. Ей всегда будет мало.
Улыбка
Автозаков на задворках вокзала в Екатеринбурге не видно, пока не подойдешь в упор — оттуда бьют фары, — и движешься вслепую, это просто, ты инстинктивно уклоняешься от собачьего лая по сторонам и уходишь от криков вертухаев сзади. Мрачное место эти вокзальные задворки для списанных людей. Позади несколько бессонных ночей, «столыпин» с закрашенными окнами, теснота, туалет три раза в сутки и столько же раз кипяток. Люди ждут пересыльных тюрем, чтобы лечь. Стоять уже сложно.
Нас, троих с Кировского направления, заводят в автозак первыми, я сажусь на скамью и прислоняюсь спиной к стене, сил нет совсем.
— Шалом, православные. — От голоса я открываю глаза и вижу высокого парня лет тридцати с широченной улыбкой, за ним поднимается еще десяток — это к нам подселяют московский этап.
Глаза у парня искренне добрые, внутри боль, конечно. Боль тут у всех, но он так улыбается, что я неожиданно улыбаюсь в ответ и здороваюсь.
Нас привозят в ИК-2. Это центр города, и впритык к зоне стоят дома, где живут люди.
До утра нас оформляют, всем занимаются местные козлы[16], сотрудникам лень, да и козлам лень, этап оказался большой и кусачий, несколько оперов, опытные люди, ничего не возьмешь с таких, отнимать — шум, а это не надо никому. Поэтому все продолжается очень долго. Нас просто держат в боксах, воспитывают.
— Михаил, — тянет мне руку тот парень с улыбкой. Улыбка никуда не делась.
Жму и улыбаюсь в ответ. Он оказался бывшим налоговым инспектором, срок — четыре года девять месяцев. Рассказывает, за что сел: помогал людям оформлять правильно документы для получения налоговых вычетов и возвратов. Нехорошо это, чиновник должен мешать.
— А я спрашиваю у судьи, — говорит Миша, — вот вы меня судите за то, что я помог фирме оформить возврат переплаченного налога из бюджета, заключение подписал, а фирму-то саму привлекли? А деньги вернули в бюджет? А судья мне: «Это неважно, у вас ущерб больше миллиарда». А я удивляюсь, как же неважно, если меня засудят за возврат из бюджета денег фирме, которую даже не привлекают и иска к ней нет? Короче, разозлил судью.
Ну как не разозлить такими вопросами?..
Утром нас запускают в камеру.
Ненадолго засыпаю и просыпаюсь от хохота Михаила, он рассказывает свою историю нескольким арестантам, присевшим у стола и разлившим кипяток по кружкам.
— Ну, у меня-то все нормально уже было, должность и все дела, а тут на тебе — тепленькая пошла, — смеется Миша. — Жил не тужил, пришли фээсбэшники и повязали. Срок, говорят, до десяти. А я им говорю: да ладно? Они мне, так тебя сейчас генерал допросит. Какой генерал, удивляюсь, ведите. И вправду, генерал СКР, молодой, сам Никандров, на столе «Верту» и два айфона. Как начал меня жизни учить, а я на телефоны смотрю. Он увидел и давай на меня орать, что я коррупционер. А я на телефоны смотрю и улыбаюсь. Не получился допрос. Закрыли меня в Лефортово.
В Лефортове никто из нас не сидел, всем интересно.
— Слушай. А правда там ковры в коридорах лежат? — спрашивает Серега, тоже москвич, бывший опер.
— Да, и вертухаи здороваются, — отвечает Миша, он будто даже горд немного, рассказывая о Лефортове. — Но поначалу трудно было к коврам привыкать. Не слышно же, что идут к хате. Ты только на толчок присел, а тут глазок раз — и открылся, и на тебя девочка-вертухай смотрит.
Люди удивляются, как это — через глазок унитаз видно? Миша объясняет, что унитазы в Лефортове — конические раковины на виду и ничем не огороженные, прямо перед дверью, а камера — восемь квадратов на двоих.
— Но ничего, потом привык, — снова смеется Михаил.
— Стал шаги слышать? — спрашивает Сергей.
— Нет, внимание обращать перестал, — говорит Миша. — Ты на унитазе сидишь, вертухай на тебя в глазок смотрит, все же делом заняты. Работа у него такая, смотреть, как я оправляюсь.
Я начинаю смеяться.
— Ты чего? — Миша смотрит на меня с интересом.
— Ты представляешь, — говорю я ему, — выходит такой вертухай на пенсию по выслуге в сорок лет, мужик здоровый или женщина, работать еще и работать, приходит по объявлению, у него спрашивают: «А что вы умеете?» — а он им: «Могу посмотреть, как вы какаете».
Все хохочут.
Миша читает. Подолгу. Говорит, что раньше не читал совсем, а вот теперь оторваться не может, жалеет, что много упустил. С собой у него том Гюго, он воспринимает написанное с детской непосредственностью, сопереживает героям, волнуется и возмущается злодействам.
Злодейство ждет и его, один из козлов просит у него книгу на ночь и пропадает. Козел знает, что нас увозят на следующий день, и он спокоен, больше он нас не увидит. Миша переживает, не хочет верить, что сидельцы могут воровать друг у друга.
— Так это ж суки, они без понятий, — объясняет ему Сергей.
Успокоится Миша через день, когда мы будем жестоко осмотрены и обысканы в карантине ИК-13 в Тагиле и у нас отнимут все книги вообще.
Из карантина мы с Мишей попадаем в нарядку.
Это закрытое и официально несуществующее место, где два десятка зэков контролируют труд тысячи таких же. Разнарядка выхода на работу, штатное расписание, учет и контроль нахождения на производстве, ведение электронных баз, прием и отправка этапов. Люди там нужны образованные, со знанием компьютерной грамоты. Лучше, чтобы у них были деньги, офисные расходы высоки.
Но главное — эти люди должны уметь молчать. Зэков в колонии две тысячи, официально работают двести, но это для проверяющих. Фактически работающих в пять раз больше. Они работают на хозяина. Это рабы. И их работу надо организовывать.
Нарядчикам дают привилегии, они могут мыться не один, а два раза в неделю. Им можно ходить по зоне с личными пропусками. Им можно носить вольную обувь и шить персональные робы по размеру. Им помогают с характеристиками и УДО.
Но мы, осмотревшись, через несколько недель решаем уйти. Это слишком даже для зоны, мы не хотим быть погонщиками. Нам грозит ШИЗО, такое не приветствуется.
Старший дневальный нарядки — молодой зэк, бывший омский полицейский, который для потехи избил пьяного бомжа и сел на три года, — с мерзким взглядом и грязно кричит на нас. От него никто не уходил, и он сгноит нас, так он говорит.
Я закипаю и хочу выбить ему зубы, а Миша улыбается.
— Действуй, — говорит он ему, — болтаешь очень много.
И уходит. Ухожу и я.
— Не пропадем, дружище. — Улыбка у Миши остается и в этот непростой момент.
Не пропали. Арестантская жизнь не смогла отнять у Миши улыбку.
Я рад этому.
Неудавшийся блатной
На воле Виктор находился в тени своего старшего брата. Тот был джигит. Семья большая, кавказская, младшему сложно проявить себя.
Когда брат взял его «на дело» — очередной угон тольяттинской поделки («Ничего, растем, брат, скоро крузаки перебивать будем»), Виктор впервые почувствовал себя счастливым. Он готовился стать серьезным человеком. Накануне долго чистил старенький ПМ, вставлял в обойму и вынимал, рассматривая зачем-то на свет имевшиеся в наличии патроны, восемь штук. Больше пока не было, да и эти брат выдал в приливе щедрости вместе с надоевшим «макаровым». Говорить ему об этом элементе боевой готовности Виктор не стал, поостерегся, тот мог запросто лишить шанса проявить себя. Промысел подобный в тех местах обычен, отработан до мелочей и стрельбы в штатном режиме операции не предусматривает.
Все шло, как запланировали. Планов было два — один у Викторова брата, второй у оперов, что ждали его с нукерами в засаде у присмотренной «Приоры». Сработал второй. Когда брата начали вязать, Виктор, сидевший за рулем в ожидании, достал пистолет, передернул затвор, вышел и прицельно с двадцати метров, как долго представлял себе, положил обойму в набегавших врагов.
Шесть выстрелов оказались исключительно удачными и ушли в никуда, но две пули попали цель — аккурат в лобовое стекло мирно стоявшего «Гелендвагена». Этот «Гелендваген» еще год назад был застрахованной московской игрушкой, потом стал предметом кражи, а затем, переместившись южнее по стране, объектом мужской гордости.
Час назад на нем приехал домой прокурор района.
Виктор продолжил битву в рукопашном варианте, был жестко избит и долго отлеживался в тюремной больнице.
Пистолет, выстрелы и битва Виктора впечатлили следователя и прокурора. Материально это выразилось в том, что вместо банального угона в деле появилась организованная группа, разбой и применение насилия в отношении представителей власти. К чести сказать, прокурор благородно отказался заявлять о повреждении его имущества — «Гелендвагена», который вовсе и не его, это все слухи.
Суд прошел быстро, отмерили всем по семь общего и выше. Виктор гордо не признал вину и готовился к сроку, впереди была блатная карьера, однозначно. Единственное, что его смущало, — это то, что брат при первой встрече в суде в клетке, прямо при конвоирах выдал ему шикарную затрещину мастера спорта по вольной борьбе, от которой неделю болел затылок, предупредил, что это аванс, а остальное выдаст в зоне.
Как не поверить, оснований для сомнений не было.
Но не случилось. Вдруг выяснилось, что Виктор не может ехать на общую зону, ибо служил срочную во внутренних войсках. Когда это обнаружилось, его перевели в камеру к бывшим сотрудникам. Это был страшный удар. Карьера блатного рухнула, не начавшись. Уважаемые статьи в приговоре стали ни к чему — он сам неожиданно стал ментом.
Кривая этапа месяц вела его транзитными хатами в Тагил. В пути он успокоился, привык жить в новом статусе, смотрел и слушал, вдали от брата проснулась природная хватка и хитрость. Увидел, как живут бээсники при бабках, и твердо вознамерился заиметь деньги и жить так же. План был ясен, и, когда его через неделю пребывания в зоне пригласили опера, он спокойно ответил согласием на сверхсекретный, но всем известный вопрос, не пребывая в сомнениях ни минуты — все им было решено загодя.
На каждой зоне есть «должности» для зэков, он стремился к цели и очень скоро стал тем, кем хотел, — завхозом отряда, по сути ему вверили в бытовое управление сотню человек.
Теперь он с наслаждением устанавливает запреты, мелкие, но очень неудобные, вроде графика пищевой комнаты, — ему нравится ощущение власти. Обзавелся прикентовкой[17], приятно, когда рядом ходят верные друзья, которые, правда, раньше были верными друзьями кого-то свергнутого, но это неважно.
Друзья делают черную работу — убеждают роптавших, но хотят есть, они все бедолаги и передач не получают. Он тоже был из таких, но признаться в этом нельзя, а ближний круг требует пищи каждый день. Подобные варяги — существа исключительного обоняния и легко сбегают от ярла на запах съестного за соседним столом, забыв о вечных клятвах.
Виктор понимает это и знает, что делать. Люди в отряде разные, но самые лучшие — новые люди. Они пряники, зона их пугает, они готовы с благодарностью звонить домой и шепотом просить жен и матерей перевести денег очень хорошему человеку на карточку, чтобы тут «все было нормально».
Говорящие «нет» тоже бывают, и живут они потом спокойно, какой смысл наказывать строптивца и создавать шум, если новые пряники идут потоком. Главное правило — не создавать шум и не привлекать внимания — Виктор усвоил накрепко.
Люди любят мифы о зонах, все знают, что там человека сначала жестоко убивают и, чтобы убили не насмерть, семья должна залезть в долги и отдать последнее неизвестно кому.
Виктор стал этим неизвестно кем, что дало ему бюджет с одной статьей расходов — передачи.
Он растолстел, стал вальяжен, уверился в исключительности. Мысль о том, что вся его подноготная и антология успеха в рабочем режиме, как тысячи других антологий марионеточных «активистов» по всей стране, наблюдается операми, ему не приходит. Не трогают его лишь потому, что он может собирать деньги и держать людей в страхе.
На него жалуются, бывает и такое, люди, заплатившие требуемое, часто становятся ненужными, про обещания, данные им, забывают, и они пытаются искать правду.
Иногда в зону приходит прокурор и вызывает Виктора.
Но жалобы от зэка в зоне редко что-то значат.
Важнее людям при погонах другое: Виктор эффективен как сборщик.
А ему важно, что он сыт. Раз уж блатная жизнь не сложилась.
Помывочный день
Раздевалка сразу при входе. Места там немного, двадцати уже тесно, но там редко бывает меньше пятидесяти.
Зимой, когда кто-то выходит оттуда на улицу от горячих после душа тел, от мокрого тумана к сигарете, пусть на морозе, но такой сладкой для только что вымытого человека, вслед шипят: «Дверь закрывай!»
Человек возвращается: «Парни, не обессудьте», — притворяет дверь и закуривает сигарету, а следом уже идет следующий, который тоже забудет закрыть дверь и на него тоже будут шипеть.
Пряники заходят последними, им робко, а все места уже заняты. Слева при входе в уголочке есть свободная скамья, они часто направляются к ней, но их окрикивают: «Не приземляйся туда!»
Это место отделенных и опущенных, садиться на ту скамью нельзя. Сидельцы предупредят, но один раз, а потом будет спрос, потому слушать надо всегда.
Людям нужно мыться не реже одного раза в неделю. Значит, чаще людям мыться не надо. Если людям не надо мыться чаще чем раз в неделю, мытье нужно внести в недельный распорядок дня осужденного. Если зэк моется в неположенное время, он нарушает распорядок дня. Нарушение осужденным распорядка дня наказывается дисциплинарным взысканием.
Нерушимая логика лагеря.
Зэки строят и ремонтируют бараки, это происходит за их счет, они могут поставить одну или две душевые кабины в умывальной комнате, и иногда это разрешают, но пользоваться ими можно только тайком: кабинки для проверяющих.
— Вот, смотрите, у нас все оборудовано для принятия душа осужденными.
Проверяющие довольны. Это вообще редкость — недовольные проверяющие в зоне. Но ФСИН ориентируется не на них, частность не рождает правил, а бороться с ними система научилась.
Мыться можно только в банно-прачечном комбинате. Раз в неделю.
Люди приходят с работы в барак, смотрят на душевую кабину и, кряхтя, пытаются обтираться мокрыми полотенцами у раковин. Душ — раз в неделю. Если повезет, то в цеху урывками после работы.
Это и летом, когда робу из дешевой синтетики снимать строго запрещено, нельзя даже расстегивать верхнюю пуговицу, и зимой, когда зэк целыми днями «ловит снег на лопату» — чистит от снега территорию зоны.
Суббота. Время помывки нашего отряда с 11:00 до 12:00, люди ждут, все в сборе — без малого сто человек. Вещи на стирку собраны в пакеты. Там же нехитрые банные — шампунь, мыло, бритва, кусачки для ногтей. Ножниц здесь нет.
Людей много и условились идти в две смены — по полчаса, места не только в раздевалке, но и в самой душевой мало. Там тесно.
Первая часть стоит у ворот локального участка барака в 10:55, выстроились. Сегодня на пульте дежурной части Максуд, так его все называют между собой, а ему в радость поиздеваться над арестантом, но мытье — долгожданное, и рисковать им не хочет никто. Потому люди стоят ровно. И молчат. Не улыбаются. Знают, что он смотрит в камеру. Он не любит, когда зэк улыбается, только поэтому может не выпустить из локалки. Дневальный нажимает кнопку вызова дежурной части на калитке. Звонит долго. Там сбрасывают. Максуду что-то не нравится. Дневальный продолжает звонить. В 11:04 тот отвечает.
— Куда?
— На помывку согласно распорядку, гражданин начальник.
— Стойте, рано. — И не открывает дверь.
Это их юмор. Сейчас он сидит за пультом дежурной части и искренне смеется. Ему весело. Ему смешно оттого, что люди сейчас стоят на улице, а бесценные минуты, которые можно провести под душем, утекают, а потом он зэков пустит, они начнут движение шагом — бежать нельзя, но ноги их будут нести, и в конце они все равно почти бегут. Потом они потолкаются в раздевалке, потом поматерятся в душевой — леек не хватает, а надо и помыться, и постирать вещи.
Конечно, успеют не все, ведь на душ останется не больше пятнадцати минут, кто-то будет домываться наспех и тихо материться, ведь надо еще одеться, а вторая смена уже ждет у ворот локального участка, а на пульте этот Максуд.
И над второй сменой он тоже поиздевается, но к ним он еще придет ровно в двенадцать, посмотреть, не остался ли в раздевалке кто отстающий и одевающийся, ведь находиться там после 12:00 — нарушение распорядка.
Потом люди ищут место в сушилке — это комната барака в десять квадратных метров, с натянутыми под потолком шпагатами. Надо высушить постиранное, а нигде больше сушить вещи нельзя. Там есть тепловая пушка, как бы есть. Ее иметь нельзя, но без нее белье не сохнет вообще. Стены, потолок сушилки и само белье за ночь чернеет от грибка.
Но если инспектор отдела безопасности — безопасник, такой как Максуд, — захочет «повоспитывать» отряд, он заберет эту пушку. И тогда больше всех не повезет тем, кто постирал свои робы и сейчас ходит в сменке, которая часто одна на несколько человек: она старая, не по размеру и носить ее долго невозможно. Роба не высохнет за ночь, и придется надевать мокрую. На зэке роба высыхает примерно за полдня, это проверено. Если работа не под дождем.
Первое время после зоны, когда человек может стоять под душем сколько хочет, он все равно торопится. И если кто-то трогает дверь ванной снаружи, он ускоряется, ведь сейчас заорут: «На выход!»
Не орут. Но он все равно быстро заканчивает.
Ёжик
— Ёжик, ёжик, ни головы, ни ножек, — проговорил начальник колонии, хозяин, а его замы молчали.
Обстановка в кабинете была мрачная, потому что хозяин злился, на улице вечерело, в декабре в этих местах темнеет рано, а электричества в штабе уже четверо суток не было. Еще его не было в клубе, школе, на всей промке, но по странным для непосвященных обстоятельствам в столовой свет горел и все работало.
Отключилось электричество, а значит, не было воды (ибо насосы) и не работала канализация (ибо вода) в половине бараков и медсанчасти. А вот ШИЗО не обесточилось, авария его не коснулась.
Там в ШИЗО третьи сутки находился Ёжик, арестант по фамилии Еженко. Накануне он приходил на прием к начальнику, сказал нечто, за что на следующий день заехал в ШИЗО, но через час после приема Ёжика у начальника электричество вырубилось.
Теперь Еженко сидел при свете и ел баланду, которую готовили в столовой, где свет тоже был. А те, кто его посадил в ШИЗО, сидели в темноте и думали, как избежать надвигавшейся на зону канализационной катастрофы. Зэки в бараках, где не было света, тоже Ёжика вспоминали недобро, о чем он в силу легкости нрава не думал.
Как-то получилось, что никто о нем ничего не знал, кроме разве что того, что статьи у него были тяжелые и срок большой, под десятку.
Умные люди еще на централе просветили его, что в зоне живут хорошо зэки с настоящими профессиями. Столяры, сварщики, музыканты, электрики. А он был электриком. По призванию. С разрядом. О чем радостно сообщил еще на карантине и в связи с чем был незамедлительно обласкан. Старая большая зона, с несколькими уцелевшими производствами, со сляпанными кое-как бараками и с едва дышащей электросетью стала раем для Ёжика. Он оказался нужен всем. Маленький, юркий и вечно улыбающийся, он носился по зоне несколько лет, не зная отказов и пользуясь мелкими подпольными запретными радостями, на которые начальству приходилось закрывать глаза.
Конкурентов ему не нашлось. И в силу его электрического таланта, и потому, что он убирал их безжалостно.
Как-то незаметно для всех, но трепетно для Ёжика у него подошел срок для УДО. Через пару дней после того, как он намекнул об этом курирующему оперу, Ёжик впервые оказался в ШИЗО. Причина проста: он был слишком ценным специалистом. Такие нужны в зоне.
Это в корне меняло дело. С ШИЗО в багаже УДО не светит. Ёжик притих и стал готовиться. Год он был вежлив, пунктуален и аккуратен, набирал поощрения и ждал снятия взыскания.
Дождавшись, он снова поговорил с опером. В этот раз он намекнул, что подготовит себе замену и хочет подать на УДО, но только сажать в ШИЗО в этот раз его нельзя, потому как зона останется без света. Эти рассуждения оказались слишком сложны для оппонентов, Ёжику снова придумали акт за нарушение режима, но за полчаса до комиссии, где его должны были определить в ШИЗО, случилась авария и в нескольких бараках отключилось электричество. Ёжика все равно посадили, не сдавать же назад, после чего собрали всех имевшихся в наличии электриков, но задачу не решили. Пригласили бригаду с воли — ну куда им против опытного зэка, не нашли, где беда.
На следующий день оперативный отдел родил план. Ёжика выпустили, обещали больше не сажать, но попросили ремонта. Через полчаса свет горел, а гения определили обратно в ШИЗО.
Гений не простил. За годы он вжился в провода зоны, только он знал, что и где нужно припаять, чтобы работало. И что сделать, чтобы не работало.
Поняв, что сидеть ему теперь до звонка, режим он стал шатать открыто. Спал, когда хотел, дерзил, шатался по зоне и улыбался. Когда его били — отключался швейный цех накануне сдачи крупного заказа, угрожали — останавливалась пилорама. В ШИЗО сажать тоже пытались, но тут Ёжик увеличивал масштабы и отключал бараки оптом.
Противостояние продолжалось. Ёжика подвергали санкциям, но он отточил мастерство асимметричных ответов и не прощал.
— Ну чё, думайте, — проговорил хозяин в сгущавшейся в кабинете тьме, — придется запускать.
Запускать — это про недавно возникшую просьбу вконец вставшего с колен арестанта Еженко.
Электричество — штука требовательная, электрику много чего надо, и покупал Ёжик это много чего в городском магазине. Схема была отработанной: ему дали контакт проверенного торговца, Ёжик звонил, переводил деньги, собранные с зэков, торговец привозил требуемое в колонию.
У торговца оказался чудесный женский голос, и Ёжик не устоял. С голосом они стали разговаривать обо всем, выяснилось, что она разведена, одинока, а спустя пару недель оказалась готова прийти к нему на длительное свидание, то есть на целых трое суток, и обсудить вопросы устройства судеб.
Одна загвоздка — нужно разрешение начальника, за которым он и ходил. Получив отказ, Ёжик помылся, побрился, приготовил вещички и реализовал очередную диверсию.
На следующий день после совещания у хозяина Ёжика утром вывели из ШИЗО и привели в барак с комнатами для длительных свиданий. По пути он за пятнадцать минут устранил электрический катарсис. Как — никто не понял. Гений.
За возлюбленной съездил курирующий Ёжика опер на личном авто.
Она оказалась милой дамой, три дня пекла пирожки, электрик был счастлив и покорён, дама говорила, что тоже, и обещала ждать.
Возможно, и ждала, тут не проверить.
Со светом в зоне стало после этого получше, это — факт. Но УДО Ёжику все равно не светит. Слишком ценный кадр.
Ремонт кровли
Сумму на ремонт крыши барака надо было собрать немалую — больше миллиона рублей. Задачу перед завхозом второго отряда администрация поставила в апреле. Шел май.
Лето в Тагиле короткое, а барак — обычная коробка из собранных руками советских зэков пеноблоков — крышу имел плоскую. Она протекала, и от этого на стенах кубриков росли черные грибы.
Нужно было сделать крышу покатую. То есть соорудить ее заново, но говорить об этом было не нужно.
Завхоз, невысокий и коренастый осетин Солтан из-под Владикавказа, тридцати лет, из которых пять последних сидел, такой суммы не имел, но знал, как добыть. Все это знают в зоне.
Опера обещали помочь и направлять в отряд пряников из московских этапов. Правильных пряников, экономических.
Стройматериал пугал своей ценой, и Солтан возненавидел его продавцов, но звонил, узнавал цены и старательно записывал.
Этапов в ту пору было много, в стране шла либерализация уголовного законодательства. Опера держали обещание и исправно направляли ему мошенников и взяточников, которые подвергались нехитрым процедурам убеждения в необходимости «помочь на общее». Бюджет проекта «Кровля» был сверстан за месяц.
Материал обещали привезти к первому июня, в конце мая разрешили начать работу.
В ожидании материала «для проведения подготовительных работ» на крышу загнали зэков из строительной бригады, которые сняли старую кровлю, оставив голые перекрытия.
Как водится, доставку материала задержали на две недели, потом приезжала проверка, которая пробыла день, но ждали ее две недели и в эти недели работать не разрешали.
Заключенные не имеют права заниматься строительными работами, проверяющие бы увидели и расстроились, а у них должно быть хорошее настроение.
Потом бригаду перебросили ремонтировать кабинет начальника колонии.
Так прошел июнь, который был ясный и жаркий.
И половина июля, когда моросили дожди и с потолка капала вода.
Потом бригада освободилась и была брошена на крышу барака. Проработали зэки-строители два дня, и грянули дожди. Работать на крыше оказалось невозможно.
Проливные дожди шли месяц. Ночи стали холодными. Вода текла с потолка непрерывно. По ночам люди по очереди спали, пытаясь спастись от холода и влаги, натягивая на себя все.
Не спали тоже по очереди, и неспавшие меняли ведра под ручьями воды. Несколько раз за ночь в барак заходили безопасники, и тогда все прикидывались спящими — не спать и носить по ночам воду правила внутреннего распорядка не позволяли.
Утром люди шли на работу.
На беду, параллельно Солтан затеял ремонт туалета и умывальной комнаты. Ему казалось, что денег хватит на все. До дождей он успел силами отрядных безработных снести одну стену и полностью удалить всю сантехнику. Дожди, заливавшие барак сквозь отсутствующую кровлю, остановили и этот ремонт.
Мыть руки и бриться, справлять нужду — все приходилось делать в соседнем бараке, куда прорезали в металлических щитах, что разделяли две локалки, проем.
Вереница физиологически нуждающихся из барака в барак была круглосуточной. Когда в комнате чуть выше нуля, с потолка льется холодная вода, а ночью нужно несколько раз встать и поменять ведра под ее ручьями, мужчины нервничают и ходят в туалет чаще.
Безопасники проклинали Солтана за массовые межлокальные ночные перемещения арестантов, но сделать ничего не могли, ПВР не запрещает справлять нужду ночью столько раз, сколько требуется.
От свалившихся на него несчастий Солтан незаметно для себя куда-то спустил деньги, собранные на ремонт. Уверенность в постоянном доходе сработала зло. Взяточников и мошенников стали направлять в другие отряды, по подсчетам оперов Солтану на ремонт денег хватало.
К нему стали отправлять бедолаг, с которых взять было нечего, и тех, с кого взять было невозможно, — знавших жизнь мужиков, смотревших на завхоза без испуга и уверенно отвечавших отказом.
Противостоять этому Солтан не мог. Внешнее инвестирование иссякло, резервные фонды были безвозвратно израсходованы.
Ближнее окружение — прикентовка, без которой джигиту никак нельзя, стало испытывать голод, тоску по салу и проявлять беспокойство. Последние деньги ушли на поддержание их духа дотациями в виде передач.
Дожди завершились. Дни стояли светлые, но бригада быстро использовала все, что имелось из стройматериалов, и встала. Продолжать стройку у Солтана денег не было. Дни он коротал в своей каптерке, но они подло тянулись, и каждая секунда грозила крахом.
Как-то в конце августа начальник колонии, проходя мимо барака, повернул в его сторону живот и что-то шепнул заму по оперативной работе.
Через полчаса Солтана низвергли. На комиссии, где решали вопрос о его помещении в ШИЗО, он допустил главную ошибку — заявил о своих заслугах в сборе денег для ремонта и собственно о ремонте. Эта ложь была незамедлительно и решительно опровергнута, было неопровержимо доказано, что никогда никто денег с арестантов не собирал, ремонт осуществляется за бюджетный счет, а Солтан заработал СУС — строгие условия содержания, в отдельном помещении для двух десятков таких же отработанных и выброшенных, с маленьким прогулочным двориком с глухим забором.
В отряд назначили нового завхоза и направили нескольких свежих, имевших экономический потенциал пряников. Ремонт завершили в сентябре. Пуск туалета был праздником.
В октябре начальник отряда изъял сметы и нехитрые зэковские расчеты. Во-первых, зэки крышу не строили и денег не собирали, это все неправда. Во-вторых, нужно было отчитаться за расходование бюджетных средств на ремонт кровли.
А для этого надо хотя бы приблизительно знать, что и для чего было закуплено.
Серебро
Каждый, приезжавший в зону, вызывал у Серебра волнение. Он должен был знать о новичках все и не успокаивался, пока, как он думал, не узнавал. Ошибался он часто, привязывался, старался оберегать, суетился и много обещал. Получалось, конечно, мало, да что там, ничего не получалось, но люди были благодарны, зла он не творил, что уже бесценно для пряника.
Пряник — это первоход, это и генерал, и срочник-погранец, и миллионер, и бедолага, прошлый статус для вновь прибывшего значения не имеет, на карантине он никто. Все его хотят хотя бы надкусить. Сожрать при случае — дело тоже святое, никто не удивится и не посочувствует, жизнь такая: сохранить бы то малое, что есть своего.
Как звали Серебро, мало кто знал, разве что ненадолго оставалась его фамилия в памяти тех, с кем он был в одном отряде, но менял он отряды часто, ибо создавал брожение, что не приветствуется. Люди знали только, что что-то с серебром связано в фамилии, и еще знали, что он идейный.
Идея у него была глобальная, возникла внезапно, когда приехавший очередным этапом бывший судья, а ныне мелкий мошенник выдал ему за чаем информацию, что еще не так давно, в 2000 году, объявили большую амнистию и освобождали даже за мошенничество в особо крупном. А это было важно — он как раз за то и отбывал, и срок ему выписали щедро, извивался на следствии и в суде, не прошло это непрощенным — восемь с половиной общего как итог.
На воле он был сахалинским вокзальным ментом и по совместительству «черным риелтором», хотя не любил, когда его так называли.
— Ну послушай, зачем этому алкашу трехкомнатная квартира? Он бухать хотел. Я ему дал денег и комнату в бараке. Денег ему до смерти на бухло хватило бы, мы с ним вместе считали, — шептал он очередному прянику. — Это он меня обманул, взял бабло и заяву накатал.
Подход был нестандартный, но интегрировался в картину мира Серебра прочно.
Виновным он себя не считал, а со временем окреп в уверенности, что он сам и есть потерпевший. Кассация этого не поняла, и надежда оставалась только на царя.
— Понимаешь, — объяснял он в марте 2015-го свою идею, благодаря за сигарету, очередному слушателю, — Путин не дурак. Он же видит, что народ недоволен. Тут вот семьдесят лет Победе. Точно амнистия будет, вот без дураков говорю, чую я. Мне только информации не хватает, я бы все толком тебе рассказал.
За информацией он и бегал к каждому из прибывших. Анализировал.
За решеткой он провел уже к тому моменту пять лет, из них почти четыре — в самом лагере, до того сидел в СИЗО. Первый год был сытый, а потом запасы оскудели, и перешел он на баланду. Очень похудел, баланда вообще стройнит, что при его немалом росте придало нескладности. Рассказы его приобрели пронзительность, особо полюбил он живописать, как ходил к теще ужинать, и что ел, и как пил, и чем закусывал, а живот у него был такой, что теща подавала ему специальный стульчик, чтобы он мог поставить ногу и наклониться, когда завязывал шнурки.
Отощав, он решил податься в СДП — секцию дисциплины и порядка, была такая группа из арестантов. С питанием там было попроще, но функционал сомнительный — нагонять страху на лагерь. Практически без ограничений. Там надо было лютовать, а лютовать он не умел, хоть и грозил убедительно. Другие умели и всю секцию ненавидели слепой ненавистью. Недолго он там пробыл, однажды люди не вынесли, и все наличные эсдэпэшники были отловлены и призваны к ответу. Серебро упал на лестнице комендатуры, понял, что надо немедленно вставать, тут же упал еще раз и понял, что вставать нельзя ни в коем случае. Катился он три этажа, шесть маршей. Так и написал в объяснении, упал и катился, остановиться не мог. Зубов стало поменьше, отлежался в размышлениях, а тут и СДП разогнали, новый начальник пошел другими путями. Лестницу Серебру иногда припоминали, как без этого, — молчал в ответ.
Приноровился он быть дневальным в отряде, отвести-привести зэка на работу или по каким иным потребам, так и остался.
Надежда его на амнистию была безапелляционна. К апрелю вокруг стали кружить неофиты, включая старых сидельцев с тяжкими и особо тяжкими статьями. Идея превратилась в веру и заражала массы. Кружок разрастался и стал обществом.
Народ в лагере меткий на определения, и общество незамедлительно получило название «Ж. О. П. А.» — Желающие Освободиться По Амнистии.
Источники информации тщательно фильтровались. Негодные отсеивались. Ценились Администрация президента, Госдума и Генпрокуратура.
— Вчера на отряд пацанчик заехал, говорит, у него брат водителем в Госдуме у депутата, — сеял туман Серебро перед вечерней перекличкой. — Так тот говорит, сто процентов уже законопроект подали.
— Говорят, во ФСИН уже прислали указание, кого первым освобождать, а то, прикинь, указ вышел, а нас тут пятьсот человек в один день выпускать надо, — убеждал он за завтраком апологетов.
«Ж. О. П. А.» овладела массами. Критиков уничтожали взглядами и меткими репликами, критики стали опасаться и примолкли.
Высказывания пересидков из Госдумы, где они рассуждают о необходимости амнистии, уполномоченного по правам человека зэки начали заучивать наизусть и пересказывать. Они были очень убедительны тогда — и Жириновский, и Зюганов, и даже Миронов. Страшно популярным стал Крашенинников (ну это чувак вообще уважаемый из Госдумы) — цитаты из него разлетались и уничтожали сомневающихся.
Закончилось все одномоментно. Вечерние новости и очередная фейковая амнистия сразили.
«Ж. О. П. А.» распалась.
Все сразу же стали критиками и гневно отрицали свою причастность к лживой конфессии.
— Вот как они, — недоумевал Серебро по поводу депутатской ветрености, — они что, за базар вообще не отвечают? Зачем они свои законы вносили, если потом сразу за путинский проголосовали все?
Этот вопрос он успел бросить в массы несколько раз за вечер, а наутро ему где надо намекнули, что не надо бы разжигать, и он замолчал. Молчал он, пока кто-то не привез в лагерь статью, в которой рассказывалось про законопроект об исчислении наказаний, знаменитый «день за полтора».
— С 2008 года лежит, братан, два чтения прошло, ну точно, значит, скоро примут, — так рождал Серебро новую веру, — Путин же не дурак. Сейчас ему доложат, как народ недоволен после амнистии, — и все, примут.
Вера помогала ему, да и парням вокруг было веселее.
Прошло два года. Серебро дома. Вышел условно-досрочно, в это никто не верил, кроме него.
И это — его чудо. Чем-то заслужил.
Женщины
В СИЗО, в комнатах для коротких свиданий, я смотрю на лица за стеклом. Это женщины, почти всегда женщины. Молодые и совсем юные, матери и бабушки — женщины защищают мужчин и мальчиков.
Там, где нужно стоять в очередях на передачи и свидания, почти нет мужчин. Они боятся этих туманностей, где бродят уже не совсем люди, боятся, что зайдут в такую, а она их не выпустит, их перестанут замечать и они перестанут жить.
Это же так важно мужчинам — жить и знать, что тебя замечают, что ты такой, как все, и можешь громко смеяться.
СИЗО стоят в городах, и это — анти-ватиканы, государства-инферно, которые ты не видишь, пока дракон не уносит туда очередную жертву — того, кто дорог тебе.
И когда это происходит, мужчины уходят пить и плакать на кухни, а женщины идут искать адвокатов и собирать передачи.
Неважно, что было за день до прилета дракона — и что будет днем после возвращения похищенного, — женщина идет защищать. Требовать, угрожать, молить.
Она защищает того, кто дорог, — и того, кто уже нет. Того, кого любит, — и того, с кем она уже не «мы».
Потом женщины ждут, когда закончится этап, он всегда бывает после СИЗО, как ни надейся, чудеса бывают, но этап ждет всегда. Этап — это наказание, которое придумано специально для женщин, которые ждут. В это время нельзя знать, что с человеком происходит, везут его тайно, и случается всякое.
Потом карантин в зоне и первое длительное свидание, на которое снова очереди и снова сумки.
Потом мужчины привыкают к зоне, а женщины продолжают их защищать.
Мальчишка двадцати лет получает передачу и звонит матери.
Он кричит на нее, ему не нравится, что сало в передаче не того вида, что он просил. Он такое не любит.
Она робко оправдывается.
Я знаю, кто он, мы говорили, когда он пришел в отряд. Обычный наркоман, не отрицает, что сидит за свое, в семье он один ребенок, отца уже нет. Мать работает медсестрой и где-то еще подрабатывает, кем — он не знает, ему это неважно, он же страдает, он в неволе. Ему нужно хорошо питаться.
— Кто ты в семье? — спрашиваю я у него.
Задумывается. Вопрос слишком прост, чтобы на него просто ответить.
— Сын. — Он думает, что это решение.
— Иди ешь, сынок, — говорю я ему, — мама много работала, чтобы ты вкусно поел, порадуй ее.
Он почему-то пугается и снова набирает матери, пытается сказать ей что-то хорошее. Плохо получается, но это все равно хорошо.
Завтра он снова будет кричать на нее.
Она будет занимать деньги, приезжать к нему на длительные свидания и печь ватрушки как он любит, с хрустящими корочками. Она прощает все. Она одинока, и он у нее один.
Мужчина, ему сорок пять, он успешно работал в адвокатуре, у него двое детей, его жена не ездит к нему на свидания. Он не получает передач. Жена ходила к нему в СИЗО и возилась с адвокатами. Ездила бы и сюда, но деньги утекают, их почти нет уже, она пытается работать. Он все просчитал и знает, когда подаст ходатайство об УДО. До этого он ест баланду, когда она съедобна, пишет жалобы сидельцам, те несут ему сахар, чай и сигареты, а это — валюта, потому он скудно, но обеспечен. Когда он говорит с женой, он меняется, это на несколько минут — не подтянутый и резкий арестант с острыми глазами, это — муж и отец, он любит ее и мягок с детьми. Она любит его, и прощать ей уже нечего, все сгорело в эти злые годы.
Все разные, и женщины защищают разных. Тюрьма ретуширует мелкое и акцентирует главное. Никто не становится другим, но каждый проявляется.
Люди сидят в изоляторах и едут этапами, а потом учатся ждать и ждут, тянут свои годы. Мужчин и мальчиков вычеркивают из жизни и забрасывают в черные дыры, они есть в каждом городе — дыры, которые не видишь, хотя смотришь на них. Не видишь, если они еще не засосали часть тебя.
Мужчины становятся никому не нужны, но около этих черных дыр всегда есть их женщины, которые входят в сумрак, хотя им страшно и до зарплаты еще целая неделя, а последние деньги ушли на три блока сигарет, которые она не курит, их выкурит централ.
Почти у всех сумки, но даже у тех, чьи руки свободны, плечи тоже опущены, на них тяжкий груз, нести который вечность. Они узнают друг друга, если даже незнакомы, у всех на лицах тень — так бывает, когда ты долго живешь бедой близкого человека.
И эти годы — лотерея, никто не знает, что будет потом. Успешный в прошлом адвокат выйдет и станет жить с любовницей, которую жена случайно обнаружила и простила, еще пока шло следствие, и вот теперь она снова появилась; а мальчишка-наркоман найдет работу, женится, мама его станет бабушкой, и внук ее тоже полюбит ватрушки с хрустящей корочкой. Адвокату не будет стыдно, он умный и занятой, и снова станет успешным, а такие все могут себе объяснить. А мальчик станет вспоминать, как кричал на маму из тюрьмы, и чувствовать боль.
А может, все будет наоборот.
Чирей
У Сани Кима появился чирей. Этой бедой в зоне никого не удивишь: витаминов нет, баланда истощает, кормиться передачами накладно.
Вырос чирей на бедре, изнутри, беспокоил и мешал ходить, он болел и набухал, а хотелось, чтобы перестал расти и исчез. Но нарыв становился больше, синел, и Саня, который работал в мебельном цехе, отлучался в туалет чаще обычного, проведать свою болячку и поуговаривать пропасть.
Специалистом он, молодой парень, был знатным и опытным: мог просчитать и расчертить шкаф, комод или тумбочку, так что потом получались именно шкаф, комод или тумбочка.
Ценный специалист — это, конечно, хорошо, есть скощухи — поблажки в режиме, такого не закроют в ШИЗО за то, что вынес из столовой пайку хлеба, чтобы съесть перед сном. Но есть нюансы: хороший мебельщик, как и хороший автомеханик, работает по двенадцать часов в сутки, и плакать по этому поводу ему никто не даст.
Через неделю роста и всяческих примочек чирей стал полноценным карбункулом. Йод и прочие спиртосодержащие препараты в зоне под запретом. Средства для борьбы с напастью отсутствовали, но на работу ходить следовало, заменить Саню было некем.
Он лишился сна, почти перестал сгибать правую ногу, в его узких глазах поселилось страдание.
— Я думал, ты щуриться не умеешь, — говорил ему его друг и коллега по мебельному цеху Денис. Грань между шуткой и жестокой шуткой в зоне неуловима.
— Умею, корейцы все умеют, — шипел Саня.
Денис любил арестантские байки и лайфхаки. Он знал, как можно вывести чирей. Точнее, слышал. Но это было неважно: догадываться — почти знать, он хотел вылечить друга, и еще ему было очень интересно проверить.
Суть метода заключалась в том, что больное место надо было расковырять, потом поставить на него бутылку с узким горлышком, а затем сильно и резко ударить ладонью по донышку. Со слов Дениса, все содержимое чирья выскакивало — именно выскакивало — в бутылку.
Сане нравилось, что выскакивало, но смущало отсутствие экспериментального подтверждения. Арестанты с этой напастью ходили в медчасть, да и то когда спасу уже не было, ибо тамошние врачи по авторитету примерно равны Денису с его бутылкой, только к ним надо стоять в долгой очереди.
Да медчасть могла и не взяться за лечение в столь запущенном случае, этапировали бы в больницу ИК-2 в Екатеринбурге, но о ней такие ужасы рассказывали побывавшие там сидельцы, что Денис, несомненно, выходил в приоритет.
Однажды вечером после проверки, когда отряд умывается и укладывается, в кубрике Сани раздался крик. Это не был крик страдальца, которому наконец вырвали больной зуб, и он кричит от боли и от радости одновременно. Нет. Это был крик Прометея, которому орел рвал и рвал печень, и конца этой муке не видно.
Прометеем был Саня, а орлом — Денис.
Саня, красный и потный, в слезах, сидел на кровати, расставив ноги. На коленях около него стоял Денис, тоже красный и потный, без слез, но сосредоточенный, как всегда на работе в своем мебельном цеху, когда он просверливал особо ответственные отверстия на самых важных деталях.
— Ну, братан, выдыхай, — говорил он Сане и бил, снова и снова, по донышку бутылки из-под кетчупа, горлышко которой окружало место Саниной боли. — Наверное, горлышко широковато, — сказал он задумчиво, приостановив операцию.
Вокруг толпились арестанты. Было жутко — бутылка в крови, Саня вопит — и весело: вот дураки же, да и вообще ведь совсем не грустно, когда болит у другого.
— Давай еще три раза, точно выйдет, — неуверенно сказал Денис.
— Давай четыре, чтобы точно помер, — среагировал Серебро, опытный зэк, что обитал на соседней шконке и видел всякое.
Успели два раза. Безуспешно.
Разогнал всех завхоз.
Чирей остался на месте. Саня лег и хрипло задышал. Он был благодарен завхозу.
Неудавшееся оперативное вмешательство происходило без какой-либо дезинфекции, где ж ее взять. Возможно, из-за этого, а может быть, от изначальной порочности методики к утру у Сани поднялась температура и бедро его покрылось красной сыпью.
— Грибницу пустил, — сказал Серебро.
Саня сломался и попросился в медчасть.
Его не повезли на этап, а положили в палате медчасти, удалили карбункул и прокололи антибиотиками. Это было невероятное счастье, а за что ему такое выпало, знать никому не следовало.
Саня, умный мебельщик, пошел сразу к старшему санитару медчасти, который был тоже зэк, но при теплом месте и мог поговорить с врачами. Торг вышел коротким и деловым; коротким, потому что Саня не мог долго беседовать, ему было больно, а деловым — потому что санитар тоже был умным и хотел сэкономить на мебели для своей каморки.
И сэкономил. Санитар договорился и устроил Сане лечение, а тот потом тоже сэкономил на материалах и сделал для него прекрасный комод, обувную тумбу, четыре табуретки и небольшой шкаф.
Денис ему помогал, сверлил отверстия в самых ответственных местах, собирал мебель, носил ее и устанавливал в санитаровом кубрике.
Прошло время, все забылось, но, когда Денис хотел пошутить над Саней, он находил бутылку из-под кетчупа и ставил вечером у его кровати. Саня смотрел на него и глазами ел его печень.
Потом они смеялись, ложились спать и утром снова шли на работу.
График работы холодильника
Капитана Беричева назначили исполняющим обязанности начальника отдела безопасности. Он хотел этого. Работать в зону он попал из армии, где мечтал о генеральском звании, но часть, в которой он служил, попала под сокращение, а делать что-либо, кроме как командовать и подчиняться, он уже не мог.
Гражданская жизнь по этой причине не заладилась. Команды давать было некому, а что страшнее, было неясно, что делать, потому что и ему никто и ничего не приказывал. Жена ворчала и приводила в пример его армейских корешей, которые устраивались охранниками в торговые центры и на автостоянки. Кормильцы, говорила она.
Николай Беричев тоже хотел быть кормильцем и пошел во ФСИН.
Место ему нашлось в ИК-13, в Тагиле, где он жил и собирался жить, этот город он любил, а другие не видел.
Зона эта — для бывших сотрудников разных органов, что вселяло надежду. Николай любил армейские порядки и надеялся встретить здесь бывших, но все-таки служак.
Реальность разочаровала. Большинство зэков в зоне оказались обычными мужичками, когда-то давно отслужившими срочную службу во внутренних войсках. Они уже все забыли, и порядку их надо было учить заново. Еще были совсем невоенные — помощники судей и прочие гастролеры. Они смотрели испуганно и готовы были делать все, что он скажет, но делали плохо, без огонька. А Беричев любил армейский бессмысленный задор, чтобы взял лопату и побежал. Куда — неважно.
Но самыми неприятными оказались бывшие опера, следователи и разные прокуроры. Они бояться не хотели, а некоторые даже не умели, делали все в точности и аккуратно, но видно было, что строем они никогда не ходили и перестанут сразу, как он отвернется. Хорошо, что этих было мало.
Николай старался. И дослужился до и. о. начальника отдела. Оставалось убрать две эти буквы.
Должность усилила его страсть к армейскому регулированию всего и вся. Он измерял высоту бордюров и заставлял их белить. Листья, лежавшие на асфальте, вызывали в нем ярость. Отряд, шагавший нестройно, приводил в истерику.
Он начал читать тюремные инструкции. Это было зря, фсиновские инструкции выполнять бессмысленно, они написаны не для того, они — традиция, чтобы всегда было за что наказать и сотрудника, и зэка.
Беричев наткнулся на приказ об утверждении графиков работы электроприборов в отрядах и прочел его.
Наутро он пошел по баракам. Все оказалось хуже, чем можно было представить. Графики имелись только для стиральных машин. Без графиков работали микроволновые печи, чайники, телевизоры, о графиках никто не слышал, и это было возмутительно.
Завхозы были вызваны и задания даны. Арестанты сели за графики. Завхозы из назначенных недавно ругались. Каждый чайник и каждая лампочка в зоне куплены сидельцами, оплачены их матерями и женами. Факт, что это воспринимается как должное, раздражал. Но сделать было ничего нельзя. Да и не так уж это сложно — установить время работы электроприбора.
За исключением холодильника. График работы холодильника составить сложно.
В обещанный день Беричев пошел по отрядам.
— Что это? — спрашивал он у очередного завхоза.
— Холодильник, — говорили ему.
— Почему без графика?
— А как? — отвечали ему вопросом.
— Есть приказ, — говорил он.
— Так не может холодильник работать два часа в сутки. Сгниет все.
— Я сказал.
— Хорошо.
— Что хорошо?
— Так и заявим: Беричев сказал, пусть гниет.
— Кому?
— Ну кто на обход придет.
Это был коллапс. На обход каждую неделю по пятницам выходил начальник колонии. Большой, грузный мужчина, он внешне был антиподом подтянутого и спортивного Николая, был он антиподом и по сути: жесток к подчиненным и крайне жесток к арестантам, а солдафон Беричев жестокость не приветствовал.
Гниющие продукты начальник бы ему не простил.
От барака к бараку настроение капитана падало. Сделать что-либо с графиком работы холодильников было невозможно. А самое скверное, что добрые коллеги уже с утра доложат начальнику о том, как он попал впросак — дал указание, которое зэки не выполняют. И смеются. А что смеялись, сомнений не оставалось.
В бараке предпоследнего в его невеселом рейде отряда Беричев увидел работающие холодильники и аккуратно написанные графики на их дверях. Завхоз — бывший старый сибирский мент — был спокоен. Беричев подошел к графикам. Прочитал. Засмеялся. Громко и по-настоящему весело. Он увидел спасение. График работы холодильников был безупречен: с понедельника по воскресенье включительно. И главное — график имелся. И ничего не собиралось гнить.
— Как догадался? — спросил он завхоза.
— Сижу давно, — просто ответил тот.
Эта ли история дошла до начальника, а может быть, что-то еще. Однако факт, что принимающие решения поняли: нет в Беричеве той истинной вертухайской подлости, без которой нельзя быть начальником отдела безопасности в колонии для бывших ментов. Да и в любой другой. Он не стал начальником отдела, не станет и майором ФСИН, его уволили, и мне кажется, что это хорошо для него.
Когда человек уходит с зоны, неважно, уволенный сотрудник или освобожденный арестант, — это хорошо.
Армия подходила ему, но ее у него отняли, в зоне он старался, но зона его не приняла. Все куда-то пристраиваются, и он не пропадет. Не думаю, что он о ком-то из зэков переживает.
Но точно знаю, что зэки его вспоминают без злобы.
Грань
В кубрике Кирилла Сергеева всегда было приоткрыто окно. Он не мог иначе. В Тагиле невозможно спать с открытыми окнами, тут редко комфортно, обычно или холодно, или душно. Быстро привыкаешь, что за окном снег, дождь или разноцветный туман от химического производства по соседству с колонией. Туман этот остро вонюч, и от него болит слизистая в носу и горле, придышаться к нему невозможно.
Но у Кирилла всегда было приоткрыто окно.
В кубрике у него стояли две шконки, и обе одноярусные, это роскошные условия. Отделал комнату он себе сам, из остатков материалов, что зэки закупали на ремонт барака. Потому интерьер у него был эклектичен — обои и ламинат разных цветов, но смотрелось естественно. Там были и икона, и кружевные занавески на окнах, тоже из остатков.
Напоминало домик в деревне, а сам он был похож на начинающего встречать старость, но вполне бодрого деда — высокий, седой, с длинными мускулистыми руками и большими грубыми ладонями старого слесаря.
В кубрик к нему никогда не подселяли, разве что на «перевоспитание», особо ретивых, которые начинали возмущаться, что в соседних кубриках живут по шесть человек на такой же площади, а тут этому устроили курорт.
Хорошо, говорили таким, если другие аргументы не действовали, иди к Кирюхе. Встречал он их всегда молча, наотрез отказывался закрывать окно, а когда человек, помучившись от сквозняка, все же засыпал, он подходил к нему и стоял, пока тот не проснется, слегка тормоша.
— В натуре раскручусь на новый срок, лучше вали завтра сам, — говорил он едва проснувшемуся арестанту, у которого от вида вытянутой фигуры Кирилла, стоявшего у шконки, его больших серых, почти бесцветных глаз с поволокой становилось по-настоящему жутко.
Больше одной ночи никто не выдерживал, утром зэк стоял смирно со свернутым матрасом у каптерки и просил определить его в любой другой кубрик.
Но это бывало редко. Люди в зоне умеют видеть риски. А они были крупно написаны на прикроватной бирке осужденного Сергеева — статья 102 УК РСФСР, убийства при отягчающих обстоятельствах. Срок — двадцать пять лет. И полоса наискось — склонен к насилию.
Сидел он с 1994 года.
Странными были эти надписи на бирке. Максимальный срок по старому кодексу был пятнадцать лет. Это потом, после демократических и либеральных преобразований, срок максимального наказания увеличили до тридцати лет. А тогда за дела 94-го года никак не мог он получить двадцать пять. Не срасталось.
Объяснялось все абсурдно, но просто.
Приговор свой Кирилл Сергеев получил за то, что, будучи сотрудником ГАИ, в составе организованной группы совершал налеты на дальнобойщиков. И убивал их.
Приговорили его и подельников к смертной казни. Но пока суть да дело, попали они под мораторий и заменили им наказание на ПЖ — пожизненное лишение свободы.
Подельники приговор обжаловали, и в итоге Верховный суд наказание им сменил на максимальный срок лишения свободы — пятнадцать лет.
Ну а Кирилл пошел своим путем и обратился за помилованием. Чего он там написал, никто не знал. Но комиссия вняла, подготовила указ, а президент его подписал. Кто уж там готовил этот указ, читал ли он уголовный кодекс и был ли трезв — загадка. Но ПЖ Кириллу заменили на двадцать пять лет лишения свободы.
На десять лет больше, чем положено максимально.
Год за годом пересиживая срок, Кирилл вспоминал отсидевших, уже освободившихся подельников и писал жалобы.
Правильные были это жалобы, обосновывал он их грамотно. Но толку от них не было. Не предусматривает закон обжалования указа президента. Хотел помилования, получил — сиди. И неважно, что указ противоречит кодексу. Знаешь ведь, кто чему гарант.
Писал он и родственникам убитых. Просил прощения, но не выпросил.
Ходил к психологам, надеялся на хорошие характеристики для условно-досрочного освобождения. Он очень хотел УДО. Подавал много раз, и много раз ему отказывали, хотя он и работал, и поощрений было много, и психологов таки уговорил.
Лишь когда он отсидел двадцать три года, пересидев, как он искренне полагал, восемь лет, суд выпустил его условно-досрочно.
Убивая, и убивая не раз, он отправлял людей за грань. Грань для него самого стала определяться потом не им. Суд решил, что ему нужно умереть. Потом закон сказал: живи, но всю жизнь — как проклятая полусогнутая тварь, всю отпущенную тебе же жизнь, но за забором. Он был рад этому, он хотел жить.
Жизнь не закончилась, и он понял, что можно успеть пожить так, как живут все.
Пули, что были для него отлиты, ушли другим или ушли в утиль. И двадцать пять лет, что казались подарком, стали вечностью. Он стал просить суд, что хотел его убить, отпустить его чуть раньше, чем пройдет эта четверть века.
Четверть века, что могли прожить убитые им, и это могла быть не последняя их четверть века.
Он мог прожить в тюрьме еще два года. Но вышел раньше.
Сколько могли прожить те, кого он убил, неизвестно. Их нет.
И никто не вправе судить его. Он отбыл наказание, назначенное ему людьми. И скоро закончит путь, назначенный людям.
Ему снова за грань.
Но теперь самому.
Давность
У столяра Саши заболели зубы. Болели они давно, уже почти два месяца, жаловаться он начал сразу, как только его привели с карантина. Он не успел их вылечить на воле, готовился, собирался с духом и совсем было собрался, но тут случился арест.
Получил он три года, статья у него была странная — оставление воинской части, но Саша оказался таким безобидным, таким домашним мужиком сорока лет, что как-то не складывалось у меня поинтересоваться, что ж за дезертирство он учинил.
На воле он занимался деревом, в зоне столярные навыки в цене, и сгодился он сразу.
При видимой простоте держался он умно, правильно, вроде и с людьми, но сам по себе.
С женой говорил ласково, звонил ей каждый вечер, стоял у привешенного на стену телефона, то поглаживая свободной рукой лысеющую голову, когда слушал, то прикрывая рот, когда говорил.
Он часто смеялся, по-доброму, но ссутулясь и поглядывая вбок, через поджатое плечо, как бы загоняя смех обратно в себя.
С трудом, иначе в зоне невозможно, Саша смог записаться к стоматологу. Женщина пятидесяти лет с тяжелыми щеками и толстыми руками рассверлила ему четыре зуба и начала вкладывать в полости мышьяк.
Саша удивился и даже попробовал возмутиться.
— А чё ты хотел, — сказала дама спокойно, — ты сюда страдать приехал.
— А можно у вас платное лечение заказать? — неожиданно для себя спросил Саша.
Выяснилось, что можно.
Полости заполнили временными пломбами, врач сделала расчет, Саша пообещал, что жена переведет деньги, и ушел.
Врач обещала приехать через три дня.
— Иди к Михалычу. Он во всем виноват. — Во время вечернего разговора с женой Саша был необычно возбужден. Он не прикрывал рот и не гладил голову, свободная рука его рубила пространство вокруг.
Что отвечала жена, было непонятно, но, по всей вероятности, она согласилась, и Саша, приобретя обычную плавность, зашел в каптерку, где я читал перед отбоем невесть как попавший в барак том Дэна Симмонса.
— Ты прикинь, как он со мной, — присев за стол, неожиданно сказал Саша.
— Кто?
— Михалыч. Он же детей моих крестил. Мы ж сколько лет вместе.
Я налил Саше чаю. Он мне нравился. Крепкий мужик.
— Рассказывай, раз начал. — Я протянул ему пару конфет. — Ешь, все равно зубы болят.
Саша отхлебнул чай. Развернул конфету, положил ее на стол и рассказал.
Девятнадцать лет назад его призвали в армию. Попал он во внутренние войска. Годы были суровые, приходилось выживать. В части правили дембеля, и у него с ними не сложилось. После третьего избиения, когда не приходилось сомневаться, что убьют — это лишь дело времени, он ушел из части. Именно ушел, никто ее толком не охранял. Родители отправили Сашу к родственникам за две тысячи километров, где он и прижился. Справил какой-никакой паспорт, обзавелся новым именем, друзьями, потом женой и тремя детишками. Поднял столярный цех, стал делать беседки и всякие стулья, работа пошла, построил дом, баню, машину купил. Но ездила только жена, права он себе делать опасался. Был у него друг все эти годы, мент Михалыч, который единственный знал о нем правду, но зла в нем не видел и потому помогал. Михалыч был опером, а потом дослужился да начальника райотдела.
Как-то, выпивая под вишнями после баньки, Саша спросил у Михалыча, а не прошел ли срок давности по его, Сашиному, дезертирству, которому уже много лет. Михалыч ответил не задумываясь. Прошел, конечно.
Саша видел в каком-то советском фильме, как хороший, правильный мужчина дожидается истечения срока давности за случайное убийство и идет в милицию.
И тоже пошел. Он думал о том, как вернется домой и расскажет все жене, как получит паспорт на свое имя, заживет полно и по-настоящему. Права получит, машину будет водить.
В полиции удивились. Проверили. Вызвали следователя следственного комитета. Тот Сашу задержал, арестовал и отправил по этапу в военный следственный комитет по месту расположения части, из которой Саша когда-то ушел.
Не учел столяр и друг мента, что если объявили его в розыск, то и срок давности не идет. А мент Михалыч об этом не подумал.
Жене пришлось все рассказать, но не дома, а на краткосрочном свидании, которое следователь разрешил, все-таки приехала она издалека, да и дело несерьезное. Смешное дело, что уж говорить.
Срок только выписали вполне серьезный.
— И вот я ей говорю, иди к Михалычу, возьми у него денег мне на зубы, он же во всем виноват, он же мент, он же знал, — говорил Саша с широко открытыми глазами, он в тот момент был кругом прав, я тоже должен был это видеть.
— Даст, — сказал я, — куда он денется.
— Даст, — согласился он.
Михалыч денег дал, он вообще не забыл ни Сашу, ни его семью, где росли его крестники. А вот стоматолог забыла про зэка и не приехала в урочный день. И на следующий. Потом она уехала в отпуск, потому что он был согласован еще в начале года, а в отпуск надо уходить по графику.
Временные пломбы у Саши повыпадали за неделю, он страдал, звонил жене, она звонила в колонию, колония обещала, но стоматолог приехала только через три недели, ибо уважающие себя государственные служащие не выходят из отпуска раньше срока.
Похудевший и осунувшийся Саша попытался робко рассказать ей о своих мучениях, о том, что он ее ждал, но, посмотрев в мощное лицо врача, понял, что может потерять ее навсегда, и замолчал.
Зубы ему залечили. По вечерам мы иногда сидели в маленькой каптерке, пили чай, играли в шахматы, он рассказывал об ульях в его саду, о меде и медовухе, о том, как садится за Волгу солнце и как осенью красиво висят ягоды рябины на облетающем дереве.
Я смотрел и думал, зачем государству нужно было сначала загнать крестьянского парня в армейский пьяный ад 90-х, а спустя два десятка лет его же, не давшего тогда себя убить, отправить в тюрьму на три года, где ему, уже отцу и хозяину, снова нужно выживать. Я видел, что и он об этом думает.
Да кто ж его знает, то государство.
Пусть у Михалыча допытывается. Под вишнями.
Аллея свободы
Он был похож на учителя из классического старого фильма. Высокий, волосы тронуты интеллигентной сединой, забавно рассеянный, он носил очки на кончике носа, и они воспринимались как пенсне гимназического наставника.
Приветливый и неприхотливый Валерий Павлович показался мне поначалу замкнутым, но потом я понял, что это стеснительность. Он стеснялся того, что он — арестант, и того, что живет среди арестантов. Он хотел домой, хотел, как все, но интеллигентнее, а оттого болезненнее.
Мы как-то естественно разговорились в очереди за посылками, потом обменялись прочитанными книгами и стали здороваться при встречах необычным для зоны способом — легким наклоном головы, что тоже получалось само собой.
С ним невозможно было здороваться иначе.
Валерий Павлович действительно оказался учителем, точнее, бывшим директором школы в небольшом городке. После армии он проработал полгода участковым уполномоченным и потому сидел сейчас с бывшими сотрудниками органов.
Попал он в колонию за взятки. Три эпизода. И это не вязалось ни с его внешностью, ни вообще с ним, природным бессребреником. Однажды в библиотеке он рассказал о своем деле, и история оказалась обычной: БЭП[18] искал дела о взятках для отчетности, а тут на Валерия Павловича вовремя пожаловались родители. Жалобы на директоров школ есть всегда. Эти попали в цель.
В школе перманентно шел ремонт, родители учеников решали на собраниях и скидывались на разные нужды, и вот трое из них пожаловались в полицию. Опера выдали им диктофоны и отправили к директору. Так родилось взяточничество.
Не помогло Валерию Павловичу то, что он педантично сохранял все чеки и отчитывался на родительских собраниях за каждый потраченный рубль.
Молоденький опер резко осадил его, когда он попытался сказать об этом. На ремонт деньги выделяет бюджет, сказал опер, пояснив, что если бы он, Валерий Павлович, не воровал, то и собирать деньги с родителей не пришлось бы.
Это было неправдой, про воровство. Но не помогло и то, что он тратил на ремонт половину своего скудного оклада, отчего Вера Сергеевна, его жена, ровесница и тоже учительница, вздыхала, но возразить не пыталась.
Валерий Павлович провел в этой школе тридцать лет и переживал за каждую трещинку в ее старых стенах. И продолжал переживать, Вере своей звонил по телефону, висящему в коридоре барака, расспрашивал ее, как в школе дела.
На ремонт барака, к слову, он вместе с другими зэками деньги сдавал. Здесь директору, как он называл начальника колонии, можно было не опасаться, что кто-то пожалуется и сюда придет БЭП, чтобы сказать, что деньги на ремонт собирать с сидельцев незаконно, на это есть государственный бюджет.
Никто и не опасался.
Срок Валерия Павловича — три года общего режима, что отмерил ему судья, бывший его ученик, — проходил без волнений. Вера Сергеевна приезжала к нему на свидания. Сам он работал поначалу в столярном цехе, но потом здоровье стало подводить и его уволили, после чего перевели в барак первого отряда, где было спокойно, там сидели такие же беспроблемные пожилые зэки и нужно было просто ждать.
Он ждал.
Комиссию в колонии по поводу условно-досрочного освобождения он прошел легко. Срока ему оставался год. Ходатайство об освобождении было подписано и направлено в суд, где тоже проблем не ожидалось. Нарушений за Валерием Павловичем не числилось, здоровье ослабло, колония его в суде поддержала, и прокурор не возражал.
Суд длился десять минут, и судья без сомнений постановил: освободить бывшего директора школы условно-досрочно.
Оставалось подождать десять дней до вступления постановления суда в силу. Валерий Павлович ждал. Время текло медленно, но заканчивается все. Наступил день, когда его вызвали в дежурную часть на оформление освобождения.
По извечной традиции правильных арестантов Валерий Павлович раздал все свои вещи, оставив спортивную сумку и смену белья на дорогу. Вера Сергеевна приехала и ждала его у ворот.
От дежурной части по промышленной зоне Тагильской ИК-13 до контрольно-пропускного пункта — две сотни шагов. По сторонам — сваренные металлические заборы, окрашенные в серый цвет. Это самые ожидаемые сидельцами шаги, этот отрезок называется аллеей свободы, и не было человека счастливее Валерия Павловича, когда он пошел по ней. Вел его прапорщик, на которого уже можно было не смотреть.
Рация прапорщика заговорила перед КПП.
— Стой, — сказал он Валерию Павловичу.
Тот не слышал и продолжал идти.
— Стоять! — Это уже был крик, и Валерий Павлович остановился. — Пошли обратно, прокурор протест написал, — сказал прапорщик.
Обратно по аллее свободы.
По аллее свободы от свободы.
Я возвращался откуда-то в тот момент в свой барак. Валерия Павловича вели туда, где он только что раздал свои вещи, туда, откуда он ушел навсегда, но теперь возвращался.
Мы встретились у входа в локальный участок его барака. Он должен был войти снова в этот загон и остановился. Он посмотрел на меня, я был уверен, что он меня не узнает, но он узнал.
— Надо как-то ей позвонить, как же ей позвонить, как я ей скажу. — Он высказал это после глубокого вдоха, с силой и скороговоркой выдавливая из себя слова.
Снова вдохнуть воздух он смог не сразу, я взял его за локоть, мне было страшно, что он сейчас упадет. Прапорщик улыбался. Это была искренняя презрительная улыбка.
— Я позвоню Вере Сергеевне, если надо, дай мне номер, — сказал я Валерию Павловичу.
— Я сам, — ответил он и медленно пошел к бараку.
Люди взяли старого учителя под руки и забрали у него полупустую сумку.
Оказалось, что на десятый день прокурор все-таки подал представление об обжаловании постановления. Следовало ожидать, ведь Валерий Павлович — крупный коррупционер, а не какая-то мелкая чиновница Министерства обороны, которая уезжает после решения об УДО из зала суда, не дожидаясь вступления его в силу.
Апелляция поддержала прокурора, и постановление об освобождении Валерия Павловича отменили.
Он просидел еще полгода, когда вновь наступило его законное право на УДО. Снова собрал документы и снова подал. Суд назначили через два месяца, потом отложили, потом еще отложили.
И в этот раз рассмотрение тоже прошло быстро. И снова судья постановил его отпустить.
Но в этот раз он вышел на седьмой день.
Потому что в этот день истек его срок, три года зоны.
Вера Сергеевна дождалась.
Буйко и Толян
— А у нас в саду сейчас черешни цветут. — Это Буйко начинал говорить с марта.
К апрелю в его ставропольских садах появлялась первая ягода, а в июне он уже высаживал картошку второго урожая.
Тагильский климат весной особо тосклив, поэтому Буйко не обрывали. Пусть картошка колосится по три раза в году, кому от этого плохо.
Он был суровым последователем здорового образа жизни. Разговоры о выпивке и наркотиках прерывал жестко.
— Пропащие вы, что с вас взять, так и сдохнете по теплотрассам. — Нос его при этом подрагивал.
Нос был говорящий, он рос из отечных щек много пившего человека и сам был отечный и в синих звездочках.
— Да, пил, было, — с вызовом обрубал он редкие насмешки, — все музыканты пьют, но главное — понять и остановиться. Свет должен внутри зажечься.
Про свет внутри было красиво. Он был трубачом в военном оркестре и гордился этим. Сел за пакетик марихуаны, которую открыто покуривала вся его воинская часть, но про это говорить не любил. Его и не спрашивали. Ну сделал какой-то мент палку себе, посадил мужика за траву — да здесь ползоны таких. Чего расспрашивать.
Он был очень нужный человек: уборщик. Хороший, качественный уборщик, работал добровольно, платили ему сигаретами, сахаром, конфетами, а за эту валюту в зоне можно купить все.
Работа уборщика мужицкая, зазорного для бедолаги в ней нет. А Буйко в свои пятьдесят пять был бедолагой. Жена не могла ему помогать, нужд хватало в их маленьком хозяйстве. Он и не просил. Работал, жил на свое. Брал дороже других уборщиков, их всегда не хватало, мало кто идет на эту работу, но завышал он цены не поэтому, а потому, что делал свое дело ответственно и ценил труд.
Он ни с кем не дружил, перед проверками, когда отряд в ожидании сотрудника с ящиком карточек бродил по локальному участку, ходил один вдоль стены барака или, замирая на месте, перекачивался с пятки на носок. Он был далеко в эти моменты.
Когда-то давно у него был здесь друг, утомленный боярышником сиделец, родом из Тагила — Толян, убежденный алкоголик. Сидеть ему было недолго, 228-я, тоже знаменитые шесть грамм марихуаны, ровно на состав, и полтора года срока.
Буйко взялся за него по-настоящему и перевоспитал. Вот так, просто взял и вернул алкоголика в жизнь. Зажег внутренний свет. Толян освободился, устроился работать на завод, не пил и ждал, когда освободится Буйко, чтобы встретить его и отвезти на поезд.
— Только ты имей в виду, я остаться не смогу у тебя в гостях, уеду в этот же день, домой надо, — готовил друга Буйко незадолго до УДО.
Никаких проблем с условно-досрочным освобождением у него не предвиделось, характеристики ему администрация дала хорошие и перед судом ходатайствовала об освобождении. Суд внял, и друзья жили ожиданием встречи. Расстраивало их только то, что жена Толяна, а он недавно женился, работает и не сможет познакомиться с благодетелем.
— Вот, воспитал же парня, а вы пропащие, — с укоризной говорил Буйко варившим чифир сидельцам.
Провожали его хорошо, по-доброму, обниматься не лезли: дорого брал за работу, — но и вслед не плевали, все-таки убирался хорошо и зла не чинил.
На следующий день позвонили Толяну, узнать, как встретил и проводил друга.
— А он тут еще, — просто ответил Толян.
Друга он встретил, они поели чебуреков в кафе и поехали на вокзал. Поезд был через два часа, и Толян, обняв своего сенсея, поехал на смену. Но тут у сенсея погас внутренний свет.
В полночь Толяну пришлось отпрашиваться с работы. Голос Буйко в телефоне искрился счастьем и сомнений не оставлял. Он не усидел на вокзале и вернулся в чебуречную. Пиво подточило стойкость. Водка вернула гармоничность, и нос Буйко стал соответствовать его внутреннему содержанию. Чебуречная закрылась в 23:00, через полчаса Буйко был в отделе полиции, в час его забрал Толян.
Дважды за сутки освобожденный Буйко требовал водки, продажной любви и настойчиво пытался вывести из ремиссии бывшего алкоголика Толяна. Но не смог. Толян не поддался искусу и привез друга домой. Забылся тот только под утро, проснулся через пару часов, испросил водки, пострадал ее отсутствием, снова заснул и снова проснулся с той же просьбой. В одно из пробуждений он познакомился с женой Толяна, которая смотрела на него с удивлением, но жалела.
К вечеру, когда Толяну позвонили с зоны, он с Буйко был на вокзале. Это была попытка номер два. Свет внутри Буйко снова замерцал. Он молчал. Он был разбит и подавлен, но черешня звала его в сад, где три раза в году урождается картошка.
Толяну пришлось купить ему билет, дорожные деньги поглотила чебуречная. Жена Толяна собрала в дорогу еды. Со второй попытки друг уехал.
Парни с зоны снова звонили Толяну и хотели подробностей, это же очень весело, рассказывать потом в курилке такие подробности.
Толян обрубил. Ответ его был прост — он мне помог, теперь ему помог я. Не тема это для разговора. И попросил больше по этому вопросу не звонить.
Толян прав. Две лягушки в кувшине с молоком не дали друг другу пропасть.
Пусть теперь у них будет много черешни.
Отсроченная пустота
Утром начинается дождь, сначала он покалывает мелкой моросью, пока отряд делает зарядку, потом, когда люди выстраиваются у выхода из локального участка, чтобы идти на завтрак, капли становятся крупнее и слышно, как они стучат по крыше барака. Когда через двадцать минут арестанты возвращаются в барак, это уже полноценный ливень. День рабочий, и почти всех через полчаса снова сгоняют в строй и уводят на промзону.
Наступает время, когда в пустом бараке будет пару часов спокойно: у сотрудников пересменки и совещания, и пойдут они по отрядам позже.
Володя делает чай и режет бутерброды, я достаю припрятанную плитку шоколада, мы садимся за стол и завтракаем. Завтрак в столовой не в счет, то, что накладывают там в тарелки, можно есть лишь от большой нужды. В пищевке еще несколько человек. Дождь хлестко бьет в окно, и почему-то никто не хочет заглушать этот звук, все говорят вполголоса, а потом и вовсе замолкают. Ранняя весна, за окном серо, еще нет солнца, цветов и зелени. Решетки и колючая проволока за окном от дождя чернеют и начинают блестеть. Если смотреть в окно непрерывно, скоро начинаешь видеть только их.
— Я любил ездить ночью по Москве. Когда дождь. Осенью на стекло прилипают желтые листья. Красиво. И машин почти нет. Едешь куда хочешь. Музыку слушаешь.
Володя говорит негромко, но сказанное — неожиданно и точно, образ силен, и отогнать его сложно.
Ночь, город, дождь, листья на ветровом стекле, «Пикник» в динамике. Или «Калинов мост». Их здесь не слушают, они странные. И это музыка свободы для меня, я смогу слушать ее только потом. Пытаюсь улыбнуться, но удается с трудом.
— Да я бы и в пробке сейчас постоял часок-другой, — разряжает напряжение Володя, и я смеюсь оттого, как иначе воспринимается здесь ненавидимое там, за периметром.
Этот день у меня перед глазами, когда я вспоминаю Володю.
Он никогда не жаловался. Подкупал этим. Сидел он в лагере безработным, бывает так, нигде не сгодился.
Пробовали ставить дневальным, не пошло. Был мягковат, мужики его съедали и пользовались добротой без стеснения. Подставляли, это как водится. Внешность, манера общения, мягкий голос и неумение грубить по-настоящему были лакмусом — не свой. Такого можно не воспринимать, ответить на подлость не сможет. И точно не ударит первым.
Вырос он в хорошей московской семье.
Его поддерживали, слали передачи, потому вечно рядом пытался пристроиться какой-нибудь бедолага — высохший на баланде тип, без родни, но битый в лагерных разборках, убедительный, обещавший, что все в отряде у Володи будет «ровно», только держаться надо рядом.
Основное, что требовалось, — кормить заступника. И Володя кормил, делился всем, что было. Жадным он не был.
Эти бедолаги висели на нем ярмом и грызлись за право этим ярмом быть.
Сидел он за хранение наркотиков и не скрывал: наркоман.
Немного он поработал в полиции, но зависимость мешала, он начал уходить в амфетаминовые «марафоны», когда человек не спит и не ест несколько дней. Потому не пошла работа и на фирме дяди, крупного бизнесмена.
— Главное — не заснуть на улице, сложно угадать, когда срубишься, — рассказывал он.
Посадили его незадолго до тридцатилетия.
В отряде были такие, как он, и много, но Володя к ним не прибился. Им нравилось рассказывать о том, как и что они принимали. Они этого не стеснялись. Им часто было смешно.
Володя же страдал из-за этого.
Из-за жены, которая ушла и которую любил, из-за дочки, фотографию которой носил с собой в блокнотике, в нагрудном кармане.
Из-за деда, который заслуженный летчик и на пенсии.
Деду он звонил каждый день. Каялся, они планировали, как он будет жить потом.
Мне он понравился. Не для зоны он был совсем. Мы начали общаться, нечисть от него отвалилась, и надобность делить передачи у него отпала.
— Слушай, мне стало хватать всего, — улыбался он через месяц.
Пару раз я видел, как он звонит дочери, ей было девять. Он казался в эти моменты взрослее. Он мог быть отцом. Мог стать им.
Освободился Володя досрочно, с изменением лишения свободы на ее же, свободы, ограничение. По решению суда он ночью должен был находиться дома. Еще ему надо было раз в месяц отмечаться в исполнительной инспекции.
Дед нашел ему работу, немудреную, но надо было с чего-то начинать. Общение наше как-то сошло на нет, слишком разными жизнями мы жили.
Наркотики снова нашли Володю.
Вскоре он стал отвечать на звонки глухо, язык его уже был чужим. Он пытался изобразить радость и сказать, что все хорошо, но слышно было, что это не так.
Прожил он на свободе чуть больше года. Однажды в мае он вечером вышел из дома, а потом его нашли повешенным в парке. Наркотики к тому времени всегда были с ним. И в нем, в его крови.
Боль.
Я пытался вернуть его. Пытался дед. Он сам тоже пытался вырваться.
Но трафик сильнее, защищенный трафик, с которым никто не борется. Дилеры, те же, что поставляли наркотики ему, когда он был полицейским и позже, дилеры, у которых он купил те наркотики, за которые отсидел, стали продавать ему новые — их самих никто не сажал и не собирался. Они нужны. А Володя был нужен, только пока мог покупать у них смерть. А когда купил больше смерти, чем мог пережить, он ушел из жизни. Пустота дождалась его и забрала.
Люди пустоты. Они умирают в зонах или выходят, доживают и умирают свободными, но безвольными. Некоторые говорят, что они все должны сдохнуть, раз они слабы.
Но я не верю. Я не хотел, чтобы умирал Володя.
Я хотел, чтобы он ехал по городу ночью, а на стекло его машины летели осенние листья.
Разговоры
Перед вечерней проверкой почти весь отряд в сборе. Люди в ожидании сотрудника ходят по локалке — локальному участку. Это огороженный металлической сеткой и колючей проволокой поверх нее загон возле каждого барака.
Сотрудник придет с продолговатым ящиком, в котором лежат карточки сидельцев, отдаст его дневальному, тот будет ему подавать карточки, а он — называть фамилии. Люди, услышав свою фамилию, будут выкрикивать свое имя и отчество и заходить в барак.
По правилам ни ящик, ни карточки нельзя отдавать в руки зэкам, но сотрудникам лень открывать ящики самим. Они не глядя берут у дневальных аккуратно нарезанные картонные прямоугольники, на которых написаны фамилии, имена, отчества и данные о статьях и сроках. Читают их. Некоторые делают это наскоро, побегов тут не бывает, и рвения не требуется. Но большинству прапорщиков искренне нравится проверять поголовье человеческого скота.
А пока люди ходят, кутаются в робы, разговаривают.
— Ну, что еще берем? Лук записал, капусту, морковь, колбасу копченую, сало…
— Сахар запиши.
— Есть же еще.
— Я пачку дал Серебру в долг.
— Ты чем думаешь? Он же никогда не возвращает!
— Так он сказал — с передачи отдаст…
— Он бедолага, его не греют, не будет у него передачи. Ну жди теперь. Запишу, что уж делать теперь. Две пачки сахара. Что еще?
Два арестанта обсуждают, что закажут в передаче. Они — семейники, так называют здесь тех, кто питаются вместе, делят расходы на тюремный быт. Никаких подтекстов, это друзья, вместе всегда проще. Третий их семейник сейчас в ночной смене, и они оставят для него порезанные бутерброды. Ночью его приведут с работы, и ему будет что съесть. Может быть, он даже сможет согреть чайник, если в это время не заглянет сотрудник.
— И зачем тебе эта должность?
— Устал я, братан, на пилораме пахать. Полгода уже. Сегодня две машины бревен разгрузили. Работать не с кем, сплошных наркоманов набрали, они работать не могут, здоровья нет.
— Так набирать больше некого. Смотри, с каждого этапа наркоманов ведут в отряд.
— Да вижу я. Потому и говорю, раскручусь на бабло. Библиотекарь — хорошая тема.
— Что хотят за место?
— Триста.
— Нормально.
Этапированный полгода назад в зону из Москвы арестант советуется с опытным, он работает на пилораме в столярном цехе, на самой тяжелой работе: разгружать лес и пилить бревна на доски. Он был владельцем небольшой строительной фирмы, и деньги в семье еще остались, он не хотел их отдавать здесь никому, но он не выдерживает каторги. Есть в столярном цехе места, где труд полегче, но там надо уметь что-то делать — резать по дереву, к примеру, но он не умеет этого. Поэтому он решает попросить жену перечислить деньги на банковскую карту, номер которой ему дадут.
Его переведут на должность библиотекаря, и ему будет там спокойно. Он дождется условно-досрочного освобождения, колония поддержит его в суде, его выпустят, такие места нужно освобождать, это постоянный и надежный доход.
— На централе хорошо было. Там и водка была, и героин.
— Чистимся, братан.
— Помнишь Андрюху-москвича со швейки? Неделю назад освободился. Он перед освобождением за день прямо из отряда позвонил, договорился, ему травы прямо к выходу привезли. До дома еле доехал. Вчера звонил жене, он плотно на героине.
— Завидуешь?
— Ну, я по выходе баян вкачу сразу.
— А я держаться буду, матери слово дал.
— Все так говорят.
— Да, тут рецепты со всей страны. Не захочешь, научишься.
— Так учись.
Обычные разговоры обычных наркоманов — всегда об одном. Мозг ищет убежища от абсурда вокруг, воспоминания — заманчивая нора. Они почти всегда безобидные, эти зэки, их терзания и ломки мучают только их самих, их удовольствия понимают тоже только они. Они ждут освобождения с надеждой и страхом. Все надеются завязать, даже если говорят, что им все равно. И все боятся снова вскоре оказаться в зоне, таких примеров много: человек выходит, у него сразу откуда-то находится героин, и через месяц он возвращается. В лучшем случае что-то украв.
— Комиссия завтра.
— Что думаешь?
— Шизняк выпишут. Суток пять. Максуд на регистратор снял, как я со шконки встаю. Я месяц без выходных по двенадцать часов работал. Тут пришел с работы, думаю — прилягу на минуту перед ужином. Пацаны крикнули, что мент идет, а я так вырубился, что глаза открыл, только когда он меня трясти начал.
— Да, Максуд самый гиблый безопасник, с ним не договоришься…
— Хоть отосплюсь.
Человек работает в литейном цехе без выходных и питается баландой. Силы у него на исходе, он валится на кровать, но до отбоя еще два часа. Заходит сотрудник администрации, он видит обессиленного каторжника, лежащего на кровати, где он не может по правилам даже сидеть с шести утра до десяти вечера, и решает, что за это человек должен быть наказан штрафным изолятором. Зэк рад, что хоть в ШИЗО ему не надо будет работать. Он не будет ни с чем спорить, это бесполезно.
— Интервенцию в Сирию я считаю колоссальной ошибкой. Прогнозирую, что скоро мы там одержим полную победу. Потом еще одну или две. Но война будет идти. Режим Асада не спасти, а глобальные интересы России не там.
— Согласен с тобой. Думаю, что среди твоих бывших коллег это мнение достаточно популярно. Думаешь, первому не доносят?
— Доносят. Это был выбор между несколькими вариантами. А выбор всегда чреват ошибкой. И вот она, затягивает на наших глазах.
— А что бы сделал ты?
— Не стал бы пытаться сжимать воду и бороться с ветром.
— Образно мыслите, коллега.
— Есть время. Его у нас много, друг мой. Хоть в тюрьме поговорим свободно.
— Да. Это анестезия рассудка.
— Люблю этот стих. Бродский — лучший из шестидесятников.
— И уехал вовремя.
— Было куда. Не у каждого есть.
— Все уезжают в никуда.
— Да…
Это бывшие сотрудники оперативных и следственных структур. Настоящие. Повидавшие. Их здесь мало, они всегда держатся особняком, их опасаются зэки и не трогает без нужды администрация. Их никто не слушает, просто потому, что они непонятно говорят о неинтересном.
Срез, поперечный срез социума в статике.
Здесь можно услышать профессиональный разбор вчерашнего боксерского поединка за звание чемпиона мира и мнение о последней книге Пелевина. Можно поспорить о вариантах защиты Каро — Канна.
Но это штучно и редко. Обыденность: еда, одежда, работа, болезни — вот что волнует, вот о чем говорят. Как на воле.
Только здесь не воля, здесь работяги, наркоманы, бывшие менты, вертухаи, прокуроры, судьи, миллионеры и нищие — ходят по локалке кругами, ежатся под моросящим дождем, привычным для Тагила, и ждут малограмотного прапорщика, который лениво прокричит их фамилии, чтобы они, посчитанные по головам, пошли спать.
Завтра они проживут новый бесконечный день, польза от которого лишь в том, он прожит. Все они когда-то выйдут. Но локалка всегда будет полной — приедут другие.
И те, другие, будут говорить о том же.
«Мазерати»
— Машина должна быть итальянская. — Кайрат хранил эту веру.
Каждый держится за что может. Кайрат держался за «Мазерати» в своем секретном гараже.
Когда память и ожидания становились невыносимы, Кайрат начинал спорить даже с бедолагами, которые машин никогда не имели, но журналы автомобильные смотреть любили и обсуждали новинки со знанием вопроса.
— Ну ты что, какой «Мерседес», Е-класс вообще слился, вот подожди, БМВ выпустит новую «пятерку», увидишь, — говорил один.
Всегда находился второй, кто БМВ не признавал. Начиналась битва, в которой все участвующие делились на лагери.
Те, кто имел хорошие машины на воле, обычно молчали и улыбались, это действительно очень забавно, когда люди готовы бить друг друга за то, что видели только в журналах, но Кайрат иногда не выдерживал. Спорил он только вначале, потом его речь становилась монологом, он переходил на крик. Узкие глаза его на широком лице становились злыми, широкие плечи напрягались, он хотел доказать, всем доказать.
Люди расходились. Шум в зоне притягивает неприятности.
— «Мазерати» — вот машина, — успокоившись, говорил Кайрат оставшимся, — «Мазерати».
Кайрат вырос в казахской семье в приграничной с Казахстаном области, отец его был крупным полицейским, поставил крепкое хозяйство, в доме всегда было много гостей. Важных гостей.
Когда Кайрат скучал по воле, то рисовал этот дом. Рисовал он хорошо. Дом был красивый.
Путь ему был определен — МВД. Важные гости из Москвы обещали помочь и помогли. Послужив несколько лет на родине, Кайрат переехал в Москву.
Борьба с экономическими преступлениями — конечно, БЭП, куда еще может устроить сына отец — мент, создавший к старости крепкое хозяйство, где часто останавливаются для отдыха и охоты важные гости из Москвы?
Москва покорила Кайрата. Хваткий, он сразу пошел в рост. Мягкие дети столичных руководителей, которых папы-полицейские тоже устраивали в БЭП, не выдерживали его напора. Скоро он стал заместителем начальника крупного отдела. Деньги стали привычными. Москва открылась ему. Клубы, рублевские бани, спортивные машины и тюнингованные женщины, особенно последние: с ними, молодыми, красивыми, было хорошо. На них требовалось много денег, но несли ему больше, чем он тратил.
Тогда он купил «Мазерати» — исполнилась его мечта. Огорчало, что отцу он машину показать не мог, тот бы не одобрил. Игрушка это. Квартиру можно было купить на эти деньги. Но квартира, которую хотел Кайрат, стоила дороже. Ее купить он не успел.
Отец волновался, когда он женится. Ему хотелось внуков. А Кайрату хотелось показать отцу, что все уже может сам, и он перестал ему звонить.
Очередной проситель о помощи, готовый на все, оказался завербованным собственной безопасностью, которая давно за Кайратом наблюдала. Возможно, стал привлекать внимание. А может, как был уверен он сам, завистники, которых он обошел на повороте по пути к должности, не простили.
Факт остался фактом — он взял деньги за «решение» вопроса и его задержали.
Включился отец, и избежать ареста удалось. Дальше Кайрат решил действовать сам.
Получилось неоднозначно. Друзья и друзья друзей обещали помочь и брали деньги, так прошел год. Но дело шло, и никто его прекращать не собирался. Обвинение ему предъявили: мошенничество в особо крупном размере. Впереди был суд, и Кайрат пошел ва-банк.
Собрав остатки денег и конвертировав их в наличные американские доллары, он перешел польскую границу. Бронзулетки у него не отняли, потому как никого он на утоптанной тропе не встретил и дошел до ближайшего городка спокойно. Там уже ждал надежный человек на автомобиле.
Оставалась сотня метров, когда к нему подошли полицейские. Это была обычная проверка документов, каковые у Кайрата имелись и выправлены были очень качественно, как потом выяснилось. Но что-то в душе его сыграло, и он побежал. Никаких объяснений этому поступку он потом так и не нашел.
— Устал я очень за этот год, перенервничал, упорол косого, — рассказывал он свою историю, сидя на втором ярусе шконки перед отбоем.
Слушавшие его зэки за границей не бывали и про Остапа Бендера не читали, потому не могли оценить трагикомизм ситуации. Но улыбались. Все в рассказах Кайрата было из другой жизни. Они замолкали, когда его слушали, он говорил хорошо, и это был другой мир, модели из журналов и жареные перепела, хамон и швейцарский сыр — и вот он, человек, который все это трогал и пробовал.
В Польше его арестовали по новым документам, никто их не поставил под сомнение. В Москве его объявили в розыск по старому имени, а в Польше осудили за незаконное пересечение границы по новому. Кайрат был спокоен. Приговор в Польше был несуровый, на это и ушли имевшиеся при нем ресурсы.
Отбывать наказание (а по новым документам он был тоже русским) его должны были отправить в порядке реадмиссии в Россию. Кайрат первый там был в розыске, а Кайрат второй не существовал.
Когда спустя полгода его с конвоем доставили в Шереметьево, он исчез. Снова «решил» вопрос. Просто ушел от польского конвоя, а конвой родины его не заметил.
Документы второго Кайрата были выброшены, началась третья часть эпопеи, которая закончилась быстрее остальных. Его задержали, это произошло глупо и случайно, он просто немножко перебрал в ресторане, и его на улице остановили полицейские.
Арест был неизбежен.
Суд прошел жестоко и скоро, долгий розыск сыграл свою роль, и Кайрат получил почти максимальный срок. В суде он хамил судье, прокурору и секретарю, что прибавило судье уверенности при назначении срока.
В колонии Кайрат вдруг понял, что денег у него больше нет совсем.
Передачи, деньги на телефон — да все, вообще все, что могло потребоваться в зоне на весь срок, стоило бы для него как два-три похода в рублевские бани с девочками из глянцевых журналов. Но те деньги были потрачены, а других не осталось.
Снова в его жизни появился отец. Важные гости ездить к нему перестали, слухи о сыне разлетелись быстро. Да и не до них теперь было старику. Он научился отправлять посылки, оплачивать передачи и класть деньги на телефон. Научился ждать.
Кайрат не злоупотреблял, просил отца лишь по нужде.
— Ничего, выйду, заработаю, верну ему все, — говорил он, когда раскладывал продукты из мешка с передачей.
Отца он любил, а тот любил его.
И «Мазерати». Машина держала его на плаву. Он хотел к ней.
— Вот освобожусь, сяду за руль и поеду. — Это слышали от него часто.
Куда ему теперь на ней ехать, этот вопрос он себе не задавал, а если и задавал, то хорошо скрывал.
Получилось иначе. Друг-коммерсант, на которого была оформлена мечта Кайрата, потерял интерес к дружбе. Бизнес в это время у него начал закисать, и он закрыл одну из финансовых дыр пылящимся в гараже активом.
Кайрату он об этом не сказал из человеколюбия. Он ему оставил мечту. А мечта дороже машины. Даже если это «Мазерати».
Дробилка
Отряд, в который определили Фарида, располагался в бараке напротив медсанчасти. Раньше в нем жили ВИЧ-инфицированные, потом отдельный загон для них отменили, людей повелели условно считать людьми и распределили по отрядам.
В этот барак отправили жить работяг из цеха по размельчению шин. Распределяли сюда тех, кто не умел вообще ничего и возможностями устроиться потеплее не обладал.
Фарид был из таких. Родом из небольшого приуральского городка, он успел окончить школу и отслужить во внутренних войсках, а с работой не сложилось. Родители, почти пенсионеры, помыкались с ним несколько лет, но тут подоспело уголовное дело за пакетик спайса, и их сын поехал этапом в Тагил.
В карантине он честно сказал, что ничего не умеет и денег у семьи нет, но от работы отказываться не стал. Тогда он еще не знал, что в зоне работа работе рознь.
Приезжавшие с проверками в колонию уполномоченные по разным правам писали в справках, как здесь все хорошо устроено для всех двухсот работающих из двух тысяч сидельцев. Они переживали, эти проверяющие, о том, что надо бы и других устроить, ведь труд исправляет.
Они заходили в огромные швейный и литейные цеха, заглядывали на столярное производство, косились на гараж, где был автосервис, смотрели на линию пеноблоков и проходили мимо шинной гряды, за которой прятался цех с дробилкой. Никто из них никогда не задавал себе вопроса, как же с этим хозяйством управляются двести человек?
А они и не управлялись. В ворота из жилой зоны в промышленную в свободные от проверок дни текли толпы, работали в зоне не меньше тысячи человек. Двести рабов относительных и восемьсот полноценных.
Фарид попал в последние.
Ангар с измельчителем шин стоял у края промзоны и как бы не существовал. По документам такого производства не существовало, никто не брал истертые шины из горы у ворот цеха, не тащил их к станку и не просовывал внутрь дробилки. Бедолаги, попавшие в этот цех, числились неработающими.
В цехе было холодно летом и жутко холодно зимой. И всегда сыро. Старый металлический ангар, куда ушлый местный коммерсант по договоренности с хозяином засунул свое «производство», дабы сэкономить на труде и аренде помещения, продувался ветрами и заливался дождями. Это коммерсанту ничем не грозило, никакие надзирающие сюда не заходили, а чернорабочих на зоне в избытке — вышел один из строя, дадут свежего.
Фарид быстро привык и к холоду, и к сырости. Научился греться о кружку с кипятком. Через пару месяцев привык к грохоту дробилки, а главное — к жуткому виду двух вращающихся внутрь роторных валов, которые за несколько секунд затягивали и растирали в порошок поднесенные шины.
Но к последнему привыкать было опасно.
Инструкция запрещала работать в перчатках: торчащий из протертых шин корд цепляет за них и утягивает руки в дробилку. Холод заставлял людей плевать на инструкцию.
Инструкция по той же причине запрещала брать шины руками, только специальными огромными щипцами. Люди снова плевали на инструкцию, потому что щипцами много не накидаешь, а ШИЗО за невыработку плана никто не отменял.
Фарид не хотел в ШИЗО, и ему было холодно. Поэтому он работал в перчатках и бросал шины в дробилку руками, наблюдая, как валы перемалывают резину.
Однажды к вечеру, когда сил уже осталось ровно на то, чтобы умыться и дойти до барака, он, бросив очередную шину, увидел, как ротор затягивает чью-то руку. Внезапно ударившая боль бросила тело назад. На правой кисти не хватало указательного пальца. На его месте торчал небольшой белый обрубок.
Фариду повезло, этап в больницу, что в ИК-2 Екатеринбурга, был на следующий день. Травму привычно оформили как неосторожную. Ну попал случайно неработающий зэк на какое-то производство, полез куда не надо было, пусть радуется, что в ШИЗО не закрыли. Сутки он прослонялся по палате медсанчасти, глядя в окно на свой барак и страдая от боли — из обезболивающих был только анальгин.
Фарида этапировали в тюремную больницу в Екатеринбурге. Привезли его обратно через две недели, под вечер. О том, каково было в больнице, он рассказывал мало, но этого и не требовалось, ее знают и боятся все окрестные зоны. Всесильные козлы, туалет три раза в сутки, часовая прогулка — Фарид был рад вернуться.
Никто не удивился и тому, что из плохо зажившей культи торчал обрубок. Не такие из той больницы приезжали.
На привычном месте Фарид быстро уснул, а утром его отправили на работу — а как иначе, по документам-то он был излечен.
Работать он не смог, обрубок не давал. Это было полбеды. Неработающего сидельца увидел безопасник. Аргумент в виде обрубка пальца он воспринял как вызов, и на следующий день Фарид уже находился в ШИЗО.
В ШИЗО было поначалу тяжело, но тепло и не надо было работать. Мучила лишь музыка — она гремела с пяти утра и до отбоя, так воспитывают злостных. Чтобы не спали и поменьше говорили. Одна колонка при этом ставилась в вентиляционную трубу, чтобы грохот стоял одинаковый во всех камерах.
Фарид привык и к этому. Выучил наизусть диск с русской попсой — другого вертухаи не слушали — и стал ее ненавидеть.
Зато зажила культя, и через месяц Фарид вернулся в барак.
В бараке все было по-прежнему, ничего не изменилось и в цехе. Фарид перезнакомился с новыми каторжанами, здесь они менялись быстро, стал работать как старожил, научился управлять и больной рукой. Скидок ему не делали. Не он первый, будут и за ним такие. Да и какие могут быть скидки вылеченному за счет государства зэку на несуществующем производстве образцовой колонии?
Так прошел еще месяц. Произошло то, чего боялся Фарид, а иное было бы случайностью. Когда он уставал, больная рука двигалась, как чужая, корд шины зацепил-таки неловко сидевшую на культе перчатку и втянул руку Фарида в дробилку. В этот раз ему оторвало половину кисти.
Был его день рождения. Маме он позвонить не смог. Он сделал это позже, из больницы. Мама молчала. Сын, бывший в тюрьме рабом, вернется домой инвалидом.
До этого нет дела ни тюрьме, ни ее начальнику, ни коммерсанту, на которого работают бесправные зэки, ни уполномоченным, для которых их нет, ни прокурорам, для которых Фарид — просто травмированный по собственной неосторожности осужденный.
Стоит дробилка, вокруг суетятся зэки, это насекомые — они иногда ломают лапки, а иногда дохнут, но их не жалко, потому что их много и их легко поменять.
Так будет, пока живет эта игра и пока в нее играют.
Но даже другую тюрьму надо заслужить.
Правильный гаишник
Саша Перепелкин всегда жил и работал по правилам. Как и зачем эти правила возникли, Саша никогда не думал, важно было лишь то, что они давали ясность.
После школы милиции он пришел в ГИБДД, и это было его.
— Нарушаете, товарищ водитель, — говорил он разогнавшемуся на двадцать километров в час свыше положенного дачнику на окраине Москвы, — пройдемте для оформления протокола.
Ему нравилось строго смотреть на сжимавшегося от ужаса водителя на скромном авто, простоявшем зиму в гараже и заполненном теперь рассадой. Нравилось само слово «пройдемте». Суровое слово, правильное.
— Какое предупреждение, о чем вы говорите, это же грубейшее нарушение правил дорожного движения, — хмурил он брови, когда жены дачников пытались просить.
И жены дачников не спорили, было видно, что бесполезно. К тому же Саше очень шла форма, он ее заботливо подгонял по атлетической фигуре и берег. Да, Саша всегда был атлетом и дорожного пуза не отъел, хотя отдал патрульной службе почти десять лет.
— Будьте аккуратнее, — козырял он явно подвыпившему прокурору, который за минуту до этого летел по встречной полосе, а теперь небрежно протягивал Саше удостоверение в чуть приоткрытое окно.
Таковы правила, простые и понятные, есть работяги, есть прокуроры и другие владельцы красных корочек, есть Саша и его коллеги, есть вопросы, которые надо «решать».
И Саша «решал», и с ним «решали», так шла жизнь, с дороги он перешел в кабинеты, дослужился до майора, стал небольшим, но вполне влиятельным начальником — ему поручили инспектировать несколько подразделений.
Это было уже серьезно, к нему стали обращаться с просьбами, иногда даже судьи и прокуроры, им тоже порой приходится радеть за кого-то, никто не пользуется должностью в одиночку, каждый норовит пристроиться в фарватер за сильным и тянет за собой ближний круг.
Саша помогал, когда мог, а когда не мог, советовал, к кому обратиться.
Его благодарили, оставляли контакты, и Саша знал — случись что, ему есть кому позвонить.
Он почти не выпивал, много тренировался и много работал, жена даже подшучивала над ним, что, дескать, у всех подруг мужики — нормальные менты, в пятницу у жен отпрашиваются и шляются по барам до утра, в субботу отлеживаются, а в воскресенье дарят своим женщинам повинные подарки. А ее Саша не такой, в пятницу с детьми гуляет, и ей даже поругать его не за что.
Но ей это нравилось, конечно.
Бывали, конечно, пятницы, когда отказаться было нельзя. В одну из таких начальник отмечал новое звание. Саша знал, что выпьет немного и уедет из ресторана среди первых. Так и случилось.
Но вмешалось непредвиденное. Отдел попал под операцию службы собственной безопасности. Проверяющие стояли неподалеку от ресторана, смотрели на припаркованные машины проверяемых и ждали, когда вечер подойдет к завершению.
Майор Перепелкин вышел из ресторана первым, сел в машину и отъехал. Его остановили. Он был спокоен. Ничего страшного не происходило. При его должности небольшой запах алкоголя вполне допустим, он был в форме и улыбался, опуская стекло водительской двери. На этом история и должна была закончиться; увидев погоны, инспектор должен был начать улыбаться и проверить удостоверение исключительно ради проформы.
Вышло иначе, Сашино нарушение и состояние оформили. Алкогольное опьянение, пусть и легкое, было установлено, стыдно было очень, особенно перед медсестрами в наркологии, они его помнили еще инспектором, он им нравился.
Совсем плохо стало на следующий день, когда стало понятно, что проверяющие из главка — сущие звери и повлиять на них возможности нет никакой.
Сашу отстранили от должности, материал направили мировому судье.
Карьера повисла на волоске. Порывшись в контактах, Саша нашел подходящий, судейский и, собравшись с духом, позвонил. Его пригласили на встречу, уверили, что вопрос вполне «решаемый», и обещали позвонить судье. Еще ему дали юриста, наказав делать так, как тот скажет. С ним Саша встретился утром следующего дня.
Юрист показался Саше легковесным, он много шутил невпопад, но говорил уверенно и сомнения отметал.
— Все сделаем, — обещал он волновавшемуся Саше, добавляя: — Ты же видишь, кто тебе помогать взялся.
Саша видел, и это успокаивало. Вечером юрист приехал к нему и сообщил, что обо всем договорился, ему нужно 300 000 рублей для судьи. Денег у Саши в тот момент не было совсем, так сложилось, и он пошел за кредитом в банк.
Через три дня кредит выдали. Юрист назначил ему встречу около здания суда через час. Он был спокоен и собран. Дело не терпело отлагательств, но юрист все держал под контролем. Он начинал нравиться Саше.
— Успеваем, — повторил он несколько раз, — теперь подожди, я схожу.
И пошел в суд, неся в руках портфель, в котором среди бумаг в папке лежали занятые Сашей у банка деньги.
Саша начал ждать. Он сильно нервничал, слишком неожиданным оказался поворот в так правильно развивавшейся карьере. Впрочем, ждать пришлось недолго.
С двух сторон к его машине подошли мужчины, их было много, все они были в штатском, но сомнений в том, что это вовсе не штатские, их манеры не оставляли. Сашу вытащили из машины и положили на грязный после дождя асфальт. Вскоре из суда вывели юриста, руки его были заведены за спину, вели его двое мужчин той же оперативной наружности.
Через два часа Сашу уже допрашивал следователь.
Защищаться было сложно.
— Ты хоть понимаешь, что он сделал? — хохотал следователь. — Мы же всем отделом веселимся, начальник верить не хотел даже поначалу.
Смех его был искренний. Никаких показаний от Саши он не хотел.
— У нас все на тебя есть, ты можешь молчать и сразу к сроку готовиться, — посмотрев вдруг пристально на него, сказал следователь. — Жалко нам тебя. — И добавил: — Ну надо же такими дураками быть.
Получилось все действительно по-дурацки. Судейские, к которым обратился Саша, видимо, не увидели в ситуации профита. Денег у Саши не было, влияния тоже. Его дело, чтобы не отказывать напрямую, скинули подвизавшемуся на мелких делах юристу. Судье, что рассматривал дело, звонить, конечно, никто не стал. Саше в этот момент надо было просто понять, что его вопрос не «решают». Но он не понял.
Юрист не мудрствовал. Он приехал к судье, попросил у секретаря листочек бумаги, написал на нем фамилию Саши — Перепелкин — и пониже фразу: «Готовы решить вопрос за 200 000 рублей». И номер своего телефона.
Сто тысяч рублей из Сашиных трехсот он рассматривал как комиссионные за свои труды. Саше об этом знать было необязательно.
Записку он попросил передать судье и ушел.
Судья прочел записку и удивился. Потом сделал звонок. Но не «защитнику» Саши, а приятелю из МВД, который быстро организовал оперативные мероприятия. И только потом судья позвонил юристу. А тот — Саше. Эти и все последующие их разговоры, конечно, контролировались. Все легло в уголовное дело, которое возбудили сразу после передачи денег судье.
На первом же допросе юрист признал вину, заключил досудебное соглашение и рассказал все. Приговорили его за посредничество во взяточничестве к четырем годам условно, учли признание и смягчающие обстоятельства.
А Саша вину признавать не стал. Он до конца верил в то, что он делал все правильно. По правилам. И получил за дачу взятки семь лет лишения свободы с огромным штрафом — четыре миллиона рублей.
В колонию он приехал без сомнений в том, что осужден незаконно. Пишет жалобы. Ждет УДО, хотя понимает, что отпустить его будет не по правилам, штраф он уплатить не сможет никогда.
Однако Саша уверен, что в этом случае и именно в отношении его из правил можно сделать исключение.
Либидо Артура
Артур смотрел на старшего дневального комнаты для длительных свиданий не моргая, и это были самые честные в мире глаза.
— Братан, ну давай решим вопрос, не сошлись мы с ней характерами, поговори с ментами, давай ее отпустим, ну не могу я с ней больше рядом находиться, не пара мы, понимаешь, вот сейчас дошло до меня, — быстро, но очень отчетливо и оттого убедительно говорил он и не мог понять, почему Вадим, этот повидавший зэк, улыбается.
Жена Артура, которая два часа назад зашла к нему на длительное свидание, диссонировала с ним. Он был невысокий, рано полысевший москвич неопределенной национальности, с протяжной, но в целом правильной речью столичного оперуполномоченного БЭП. В помещения для свиданий он пришел, переодевшись в гражданское, и спортивный костюм его был дорог по-настоящему, и Вадим это видел, он неплохо жил на воле и цену вещам знал.
Видел он цену и кожаной юбки жены Артура.
— А ты что скажешь? — спросил он у девушки.
— Ну, постараемся построить отношения, зачем сразу разбегаться. — Она сохраняла спокойствие.
Говор был явно не столичный, но разве это показатель для жены москвича?
— Ну вот видишь, — сказал Вадим, — стройте отношения.
Ему было весело.
Артур ушел, жена, чуть задержавшись, пошла следом. Через час Артур вернулся и шепотом попросил найти водки. Отказ был ожидаем, он вздохнул и ушел. Впереди были три ночи.
Приехал Артур в зону месяц назад. Живость ума, коммуникабельность и деньги помогли быстро освоиться и найти место. Хорошее место. На нем можно было не привлекая внимания прожить тот год, что оставался у него до условно-досрочного, набирать поощрения и ждать.
Одно не давало ему покоя. Полтора года он провел на централе, арест был внезапным и застал его в период без постоянной женщины. Тогда это ему даже нравилось, первый брак не задался, и свобода радовала. Но когда выяснилось, что, кроме родителей, прийти к нему на свидание некому, он задумался. В личном деле нужно было указать близких, кто может к нему приезжать, и в графе «Супруга» у Артура стоял прочерк. На момент заполнения анкеты он не смог назвать имени — не было уверенности. Столько раз он уходил от разговоров о браке, что звонить сейчас из тюрьмы женщине и сообщать, что теперь он согласен и даже указал ее как супругу в личном деле осужденного, было сомнительным ходом. Артур же привык поступать наверняка.
В зоне подобное случалось, там вообще все уже происходило когда-то, и Артуру подсказали выход. Надо было всего лишь договориться. К тем, кто договаривался, бывало, заводили на свидания «подруг». Эскорт в барак для длительных свиданий. Артуру даже дали номер телефона человека. И он позвонил.
Денег попросили много. Но речь шла о трех днях и трех ночах с женщиной. Средства еще позволяли. Не было лишь одного — выбора. При этом человек брал на себя все формальности с администрацией и гарантировал качество услуг.
— Брат, ну что ты, не первый же раз, все будет нормально, девочки по всей области ездят, никто не жаловался. — Человек думал, что успокаивает.
Артура занятость девушек в колониях по всей области вовсе не успокаивала. Но ничего другого уже не оставалось.
— Ты мне лучшую подбери, самую лучшую, — несколько раз попросил он и сдался обстоятельствам.
И она пришла. Оформили ее как гражданскую супругу.
Жены сидельцев, что сталкивались с ней в коридоре, смотрели вслед удивленно, профессия гостьи сомнений не вызывала. Но ведь и у них могут быть мужья. Вопросов в зоне задавать не принято, жены это усваивали быстро и не задавали.
Походка дамы была тяжела, бедра широки, куртка красна, а юбка черна и коротка. Голос прокурен. Праздники в ее жизни явно случались нередко. Возраст и труд помяли женщину.
Артур вошел в комнату и столкнулся с реальностью. Этот эскорт был сильнее либидо. И либидо Артура решило на время пропасть.
— Здорово, жених, — сказала ему гетера, когда он зашел в комнату. — Все оплачено, что делать будем?
Она ориентировалась в бараке и предложила сварить супчику, ей хотелось жиденького и горячего. После вчерашнего, это было очевидно.
Артур пошел к телефону.
— Я тебе лучшую дал, ее все хвалят, пользуйся, брат, — благодарить не надо, — ответил ему человек и больше трубку не брал.
Тогда Артур пошел к Вадиму, но тот, видевший такое не раз, сделать ничего не мог и не хотел. Жена должна написать заявление и выйти с длительного свидания, тогда уйти мог и Артур. Но ее устраивало все. И уходить она не собиралась.
Вадим улыбался и сомнительно успокаивал: мол, Артур не первый и стерпится за три дня и даже слюбится.
— Тебе понравится, — успокаивала дева Артура. — Давай свет выключим, и ты смотреть на меня не будешь.
Через три дня Вадим проводил Артура на выход.
— Не говори никому, — попросил Артур.
— О чем ты, братан, — заверил Вадим.
Но знали уже все.
Человеку он дозвонился. Тот очень удивился претензиям Артура.
— Ну не подошла на твой вкус, бывает. Зато она тебя очень хвалит. Культурный, говорит. Отоспалась. Еще будешь заказывать?
— Нет, — сказал Артур, — не позвоню я тебе больше.
Но через полгода позвонил.
Сидеть ему было спокойно, но скучно, и он наладил связь с одной из тех женщин, которые были в его жизни до ареста. Она согласилась приехать. Но в графе «Супруга» стоял уже не прочерк, там были указаны данные дамы в короткой черной юбке. И для решения этой проблемы Артуру снова посоветовали обратиться к тому человеку.
И тот решил проблему. Завел подругу Артура как свою подопечную, проверенными тропами.
И как он это сделал, было неважно. Артур простил ему все.
Девушка была чудесна. На нее оглядывались жены арестантов. Высокая, на голову выше Артура, в короткой кожаной юбке, она курила тонкие сигареты и сипло смеялась.
Очень скоро она начала ориентироваться в бараке.
Вне времени
Зона старая.
Рядом, через дорогу — домны, древняя металлургия, вонь оттуда всепроникающая, спасения от нее нет нигде, закрывать окна бесполезно, этот запах убивает сквозь стены.
В дни, когда технологам выбросы особо удаются, дым из домен краснеет и зеленеет одновременно. Тогда потребность дышать начинает раздражать, это больно.
А когда выброс ночью и в мороз, дым падает на зону вместе с туманом рваными клочьями.
Идешь ночью за сменой, которой нет по документам, за людьми, которые документально спят в бараках, а на деле сутки были на работе, по красному снегу, которого не бывает, и дышишь зеленым туманом, которого тоже нет, который по бумагам — вполне пригодный для дыхания воздух, и думаешь, что ж это за место такое?
Тут начинаешь слышать лягушек, а мороз — минус двадцать и февраль, а ты не удивляешься, это в первый раз ты удивился, а потом тебе рассказали, что тут есть незамерзающий пруд у какой-то ТЭЦ, и они там уснуть на зиму не могут, приходится круглогодично орать в поисках партнеров для размножения.
Когда ведешь работяг в барак, они спрашивают, как там наши в Сирии, ты думаешь: да какая вам Сирия, вам несколько лет еще красный снег и круглогодичные лягушки, — но говоришь, что нормально все, мочат, кого — не уточняешь, это неважно.
Молодцы наши, говорит наркоман, который не просыхал несколько лет, а сейчас чинит круглосуточно машины в тюремном гараже то судье, то прокурору, то самому хозяину.
Молодцы, отвечаешь ты ему, а как же.
И лягушки молодцы, но им бы поспать зиму, они застряли в одном времени года, когда нужно орать и размножаться.
По вечерам, когда почти весь отряд, за исключением ночной смены, собирается в бараке, зэки смотрят фильмы. В почете боевики, котируются сцены боевые и постельные. Их, особенно последние, разбирают детально, комментируют.
Очень ценится юмор из этих боевиков, там всегда есть пара шуток, от которых Вудхаус бы плакал, а лагерные бедолаги смеются, это их продукт.
В коридоре барака смех полусотни мужчин за закрытой дверью комнаты, где смотрят кино, слышится как ор тех самых всесезонных лягушек, они так же начинают вместе и заканчивают в унисон. Потом наступает тишина, пока кто-то один не отпустит неосторожное замечание и все начинают шикать на него, поднимается гвалт, который тоже скоро затихает.
Они не любят спорт. Футбол смотрит десяток человек, и это кажется поначалу удивительным: как же так, мужчины же. Потом присматриваешься и понимаешь: это срез, случайная выборка, слепой отбор человеческого материала. На воле есть масса и единицы. Здесь выборка из массы со случайными единицами.
Наркоманы, их очень много, деревенские мужики, гопники юные и повзрослевшие. Ристалища — не их интерес. Это слишком сложно. Драка в умывальнике, короткая и жесткая, выплеск адреналина — это интересно, пропустить ее обидно, рассказами о ней упиваются, смакуют подробности.
Спортивный поединок, техника и правила — сложно.
Они не любят выпуски новостей, особенно на пугающих каналах, где не говорят, что все хорошо. Когда плохо, они расстраиваются и уходят. Но верят всему, телевизор завораживает.
По-настоящему любят музыкальные каналы. Очень ценится русская попса. Рэперы приветствуются, у них простые рифмы и ритмы, слова неважны, а на припевах телочки. Именно телочки в фетишах — открытом, коротком и обтягивающем — дарят рэперам лагерную любовь.
Когда зэки смотрят такое, галдеж, доносящийся из комнаты, гармонизируется, общее одобрение всегда гармонично.
Лягушки довольны.
Их можно брать голыми руками, можно использовать их голоса, это пластилин, который отдастся любой политической силе, привезшей с собой рэпера и девочек на сцену клуба. Еще можно пообещать амнистию и пересчитать сроки в СИЗО день за два. Сойдет и за полтора.
Можно не выполнять обещаний, можно вообще забыть об обещаниях, зэки привыкли, что они пыль и обещания им ничего не стоят.
Но помнить девочек на сцене тюремного клуба и кто их привез они будут.
За то и проголосуют.
Но их голоса никому не нужны. Заседающим в собраниях слугам народа хватает пластилина и без зэчья. Они лишены права голоса, но это на всякий случай — чтобы кто залетный не полез чесать по арестантам. Потому предвыборное веселье обходит зоны стороной. Сюда не приедут щедрые кандидаты с подарочными наборами, не будут улыбаться и обещать, не будет бесплатных фуршетов, и попса с кордебалетами сюда не заглянет.
Здесь нет политики, нет правительства, ООН и даже Пенсионного фонда, есть только полуграмотный вертух, который может одним рапортом изменить человеческую жизнь.
Есть дни, которые тянутся, и годы, которые летят.
Люди живут здесь вне времени, как те лягушки, что застряли в одном сезоне, но почему-то болеют, старятся и умирают.
Последний чай
В каждом отряде на зоне есть больные. Не той простудой, которая преследует зэка постоянно от сырости и холода, а по-настоящему больные, что ходят, опираясь на крепкие, изготовленные местными умельцами трости с причудливо выжженными вензелями, либо практически не ходят.
Все они еще не достигли предсмертного состояния и не могут быть освобождены по состоянию здоровья. Они выживают — утром встать, суметь сходить с отрядом на завтрак, обед и ужин, умыться, побриться, лечь спать с отбоем.
Это все мучительно, если нога у человека только одна или руки его висят после инсульта, голова не держится прямо, давление за двести или ему просто под восемьдесят.
Их бы можно собрать в один отряд, где-нибудь поближе к медчасти, чтобы не мучиться им, таскаясь через всю зону, особенно диабетикам, которым по нескольку раз в день инъекции требуются, но тогда в этот отряд будет грустно заходить проверяющим.
Потому и рассеяны больные по зоне.
— Ты же земляк, возьми, — протягивает мне, прянику, только сегодня приведенному в отряд, пачку чая небольшой толстый человечек, старый сиделец.
Он бывший адвокат, все его зовут просто по фамилии — Иванов. Осудили его за мошенничество, у него толстые, землистого оттенка щеки, он выглядит нездоровым. Опирается на трость.
— Тебе самому надо, наверное, — говорю. — Не последнее отдаешь?
— Погоди, до последнего еще побегаем, — смеется он.
Зубы его редки. У него диабет. Это он сообщает мне, когда дневальный зовет его в медчасть на укол. Мне неловко, но он оставляет мне чай.
Я благодарен. Я пуст после этапа.
Потом меня переводят в другой барак, но я часто вижу его ковыляющим вслед за отрядом в столовую, он кивает мне и торопится, ходить ему тяжело, но поесть надо успеть, едят в зоне быстро, если дадут десять минут — роскошь.
Летом люди болеют мало. А зимой у медчасти выстраивается очередь, часто в двести человек, бывает и более. Раскидывать запись на весь рабочий день нельзя, всех положено вызывать в одно время. Ждать в помещении тоже нельзя.
Холод, снег, дождь — те, кто посмел заболеть, стоят на улице у забора медчасти в очереди к людям в белых халатах, неизвестно, по какой причине называющим себя врачами.
Должен быть порядок, поэтому ожидающие выстроились в четыре шеренги. Больных, тех, кто по-настоящему болен и ходит на ежедневные уколы, проводят без очереди, и тогда люди видят, как их на самом деле много, если собрать вместе.
Бывший адвокат Иванов и здесь идет в конце, все для него привычно, ожидание скорого инсулина придает ему сил, и он даже шутит.
Но стоящим третий час не смешно, даже если не мороз и не дождь.
Стоять приходится на прием к врачу, чтобы получить разрешение на медицинскую бандероль, без которой больному не прожить, ибо препаратов в медчасти нет.
Родственники высылают сидельцу лекарства, зэк стоит в очереди на посылочную, расписывается в получении, но лекарств ему не выдают, они хранятся в медчасти, получать их можно только по рецепту.
Потом стоять приходится, чтобы попасть на прием и получить рецепт для получения своих лекарств.
Затем отдельная очередь, это уже в другой день, чтобы получить несколько таблеток. Если нужно еще несколько, зэк стоит еще раз.
Поэтому шутить в этих очередях не любят.
Здесь вообще ничего и никого не любят. Тюремная медицина против.
У столяра заболел зуб, его жена приехала и заключила договор с медчастью на платные услуги. Есть такая возможность, все для исправления. Оплатила. Без полной предоплаты врач преступника не примет.
Стоматолог рассверлила ему четыре зуба, вызвала на следующий день и уехала в отпуск. Три недели арестант не мог есть и спать, но это все в целях воспитания.
Металлическая стружка попала в глаз автослесарю, когда тот ремонтировал авто важного человека в тюремном гараже. Глаз посмотрели, попытались вынуть инородное тело, затолкали его как смогли глубже, не рассосалось, увезли зэка в Екатеринбург, в знаменитую здравницу ИК-2, откуда сложно не вернуться инвалидом. Через неделю, а как еще, не отдельно же этапировать. Глаз сохранился. Чудо в виде вольного доктора спасло.
И это на потоке. Люди заболевают, ломают руки и ноги, им отрубает пальцы на пилораме или дробилке для шин, они идут в медчасть, а там нет докторов, там вертухаи, которые смотрят на очереди больных за окном и не видят людей.
Вертухай не может видеть людей, ему запрещено, даже если на нем белый халат.
Когда я освободился, Иванов еще остался. Условно-досрочно его не освободили, суд отказал, иск по делу не погашен.
Ну конечно, если ущерб не возмещен, человек должен сидеть в тюрьме, где он не может работать и возмещать ущерб. Логика средневековой долговой ямы, Россия, XXI век.
А диабет — ну что диабет, лечись, медчасть же есть.
Он умер там. Выпил последний чай и умер.
Не успели перевоспитать.
Падре
Никто толком не знал, почему Падре сидит с бывшими сотрудниками органов. Зона принимает всех, а лишние вопросы вызывают сомнения. Не надо без нужды интересоваться. Но было интересно.
Бывший сотрудник, бывший священник высокого чина, близкий, как поговаривали, к самым что ни на есть кругам, Падре жил в зоне незаметно. По имени его никто не звал, а в приклеившееся погоняло каждый вкладывал что мог: жалость, презрение, усмешку и изредка — уважение.
Был он толст, невысок и оттого толст неуклюже и отталкивающе, короткие его ножки терлись друг о друга и постоянно затирали до дыр штаны, он всегда искал новые, выпрашивал их у освобождавшихся, подгонял и латал.
Те, кто помнили его по столичному СИЗО, говорили, что он был много шире и потому страшно полезен: под его животом приклеивали на скотч телефоны и уберегали их тем самым от шмонов. Так он и ходил, умещая под свисающим брюхом сначала по шесть телефонов, а потом похудел до четырех. Тоньше его не сделала даже баланда, которую он съедал жадно и всегда всю, не прожевывая и заталкивая ложкой глубоко в рот.
Он бывал и откровенен, все в зоне иногда откровенничают, иначе мысли перегнивают в тоску, а она губит любого. В эти моменты он рассказывал, что взлетел на самую высь и оттого упал очень больно. Что был духовником у весьма больших особ и это его и сгубило. Особы те настолько высоки, что им одиноко, объяснял он. И они открывали ему то, что таить было сложно, и он напивался, страшно ругался дома, говорил о них, презирал их. Но когда ты хранишь секреты обитателей высших сфер, твой дом не крепость и не убежище, а место, где ты сам, того не зная или не желая признавать, — объект наблюдения этих самых людей из высших сфер. Так замыкается круг тайны исповеди.
Сел Падре за аферу с церковным имуществом, чему он очень удивился, потому что и не афера это была, а так, дельце смешное и рядовое. Истинной причиной стали пьяные домашние монологи, не могли они не вырваться и не долететь до ушей особ, в этом он был уверен и винил только себя.
Ходили слухи о его несметном богатстве, но это так не вязалось с его видом, с этими латаными штанами и обвисшим нездоровым лицом, что не верили.
Вообще, многое удивляло. Было непонятно, как можно доверять и исповедоваться человечку, в чьих движениях столько от перевернутого на спину жука — эти сучащие лапки, эта потешная беспомощность.
Но он был умен. Он пытался придать лицу выражение смирения, но получалось — просительное, что близко, но не то. Бегающие глазки иногда останавливались, в них свозило что-то из высокого, оттуда, где люди, решающие судьбы, и духовники, дающие им советы.
Показное юродство его поразительно сочеталось с умением устроиться в любом месте. Был ли это мусульманский отряд либо нерабочий, где по разным причинам не работал никто, он везде катился обвисшим колобком позади всех, опираясь на тросточку, кивал и заискивающе улыбался каждому, кого видел, и несчастным не выглядел.
Падре исправно ходил в тюремную церковь, но помогать в утомительных храмовых службах он мягко отказался и сидел (ему позволялось) на скамеечке, опершись двумя ладонями на трость и положив на них подбородок. Лицо его в эти часы было спокойно, он был дома, во всяком случае там, где знал все. Изредка он с прищуром смотрел на провинциального священника, пытавшегося проповедовать и повторявшего избитые евангельские истории. А священник, что служил в небольшом поселке и приходил в зону на окормление страждущих в неволе, смотрел на него, как смотрит продольный вертух на конвоируемого им генерала ФСИН, — тут и торжество, ведь генерала ведет, и страх, ведь генералы имеют друзей-генералов, которые на свободе, да и сами к свободе ближе, чем конвоируемые негенералы.
Но иногда во время службы Падре, на которого обычно никто не обращал внимания, вставал. Всегда на одном и том же месте.
— Да воскреснет Бог, — запевал он баритоном, он явно любил эту молитву.
Профессионально поставленный голос мастера. Он не был в это время в арестантской церквушке, он вещал с амвона кафедрального собора, он поднимал к себе лица. Допев, он снова садился, но не клал подбородок на ладони. Смотрел прямо и уверенно. Ни страха, ни заискивания в его лице не было.
Это и был тот самый, обласканный правителями и уверенный жрец из высоких сфер, которому не каждый достоин шептать о своих грехах, совсем не каждый. И слухи о богатствах и влиянии тогда казались не слухами. И тюрьма его казалась временной опалой, что непременно сменится на милость.
Потом он снова клал подбородок на скрещенные ладони, опертые на трость, и молчал. Становился обычным.
Священник переламывал паузу, он не мог привыкнуть к такому и продолжал службу.
Падре уходил.
Когда он освобождался условно-досрочно, против не выступили ни прокурор, ни высокие потерпевшие. Может, закончилась опала, а может, о нем просто забыли.
Он не остался в памяти ни злым, ни добрым, он юродствовал притворно, но страдал по-настоящему и так прожил свои арестантские годы. Освободился и пошел неизвестно куда, но наверняка туда, куда никогда не попадет никто из тех, кто его жалел или презирал в тюрьме.
Лишь одно точно — ему не было легче, чем другим.
Зона с каждого забирает сполна.
Палка-воспиталка
Максуд всегда считал себя умным и порядочным, не скрывал этого, но с ним не соглашались и полагали его бесполезной дрянью, что было правдой. Он немного прихватил из школьного образования и мог с минимумом ошибок написать рапорт на отпуск, что оказалось вполне достаточным для службы в колонии. Инспектор отдела безопасности. Инспектор. Он любил это слово.
Маленький, с подпрыгивающей походкой и глазами навыкате, он был ненавидим всеми арестантами. Безопасник — должность сомнительная. Выполнять план по наказаниям зэков, рыскать по баракам в поисках добычи: уснувшего сидельца, замотанного многосуточной работой, бедолаги, что вынес кусок хлеба из столовой, чтобы съесть потом с чаем, оставленную в тумбочке бритву или завешенную полотенцем прикроватную бирку — все это для людей дрянных. Но Максуд сомнениями не терзался и без колебаний согласился бы повторить свою жизнь.
Зона, где он пребывал сутки через трое, предназначалась для бывших сотрудников, режим общий, люди стремились освободиться условно-досрочно и сопротивления не оказывали. Безропотно просили пожалеть на первый (второй, третий) раз, приносили сигареты и конфеты из скудных запасов, и Максуд иногда прощал. Чувствовал он себя при этом важным человеком, нужным.
— Ну идите, вопросов к вам больше нет, — пытаясь быть вальяжным и оттого заикаясь, говорил он, и зэк семенил.
Обращался он ко всем исключительно на «вы». Облегчения это никому не приносило.
Зона не существует без сильных людей.
Гарик был сильным. Мент старой закалки, он относился к тем, кто не боится никого. Их было трое в зоне, ментов из одного городка, которые держали там, на воле, порядок, как они его видели. Статьи у них были тяжкие, с трупами тех, кто бандитствовал и с их порядком не считался. Времена стояли суровые, 90-е годы, правых и виноватых не найти. Долго они просидели на централах, суд наконец разродился приговором, все через какое-то время собрались со строгих зон в одной, где и рыскал безопасник Максуд. Втроем они держались жестко, и прогнуть их не сумел никто.
Очень скоро Гарик стал завхозом в отряде, старшим над сотней зэков. Для своих пятидесяти лет он был силен, бояться не умел, но при этом осторожен и умен. Уважение пришло к нему быстро, и он умело им пользовался.
Пути Максуда и Гарика должны были пересечься. По мелочам это происходило, Максуд бродил и по его бараку, искрило, как без этого, но взрывы обходили стороной. Гарик не прогибался, отстаивал сидельцев, которых безопасник пытался актировать на взыскание. Максуда стало это раздражать.
Первый месяц лета выпал жарким, и Гарик, получив добро от хозяина, затеял небольшой ремонт — обшивку стены барака снаружи. Барак ставили зэки, и стены продувались насквозь, это был непорядок, Гарик такого не любил. Кто сколько мог скинулись, втридорога, а какие еще могут быть варианты для зэка, закупились необходимым и начали работу.
Максуд принял решение. Пришло время поставить на место дерзкого зэка.
Как-то днем, когда трое подопечных Гарика под его присмотром возились с обшивкой, мучаясь с кривыми стенами, в локальный участок барака зашел Максуд.
— Чего это они у вас без курток? — спросил он у Гарика, подойдя к нему вплотную.
Зэки действительно сняли их, в жару администрация закрывала на это глаза для «осужденных, занятых на ремонтных работах».
— Так хозяин не против, парни на зону работают, — сверху вниз отвесил Гарик. Он был уверен в своей правоте.
Но Максуд был настроен на результат.
— Всех забираю в дежурную часть, с вас объяснение, — заикаясь высказался он и увел строителей.
Нарушение формы одежды означает безусловное наказание. Снять на улице куртку, в обиходе — лепень, грозит ШИЗО.
Курирующий отряд опер был на месте, Гарик дошел до него, и вопрос был решен незамедлительно; Максуду в очередной раз объяснили, что он дурак, и ремонт продолжился.
Жесткий нокдаун Максуд пережил стойко. Не привыкать. К вечеру он запустил план «Б».
В 22:00 каждый зэк за исключением ночных дневальных и работающих в ночные смены должен быть на шконке. Иное трактуется как злостное нарушение распорядка дня. Наказание неминуемо. Но отбой невозможен без вечерней проверки. Идет она с 21:00 и как получится.
Максуд в этот вечер взял ящик с личными карточками отряда Гарика и пришел к нему на проверку за пятнадцать минут до отбоя. Гарик был на взводе. Отряд построился, и Максуд приступил к мести. Каждого зэка он подзывал к себе и выслушивал фамилию, имя, отчество, год рождения, статью, начало и конец срока. Он наслаждался моментом. После отбоя он мог каждого наказать за то, что тот еще не спит. Но он не знал, на что способен старый мент из 90-х.
Ровно в 22:00, когда треть отряда прошла проверку, Гарик отправился в барак. Зайдя в него, он нажал звонок, оповещавший о режимных, да и просто важных событиях.
— Отбой, — проорал он.
В отряде не нашлось тех, кто не осознавал, что, когда командует Гарик, надо просто делать так, как он говорит. Для непонимающих у него в каптерке имелась изготовленная в столярном цехе дубинка, на которой было вензелями выжжено: «Палка-воспиталка». Пользовался Гарик ею редко, но очень умело, травм не наносил, но понимание вселял.
Через минуту отряда перед Максудом не было. Все умывались и укладывались.
— Что вы делаете, вы что, я вас, я тебя, да ты кто вообще, — заверещал Максуд в сторону Гарика.
— Иди сюда, — спокойно ответил тот и завел его к себе в каптерку, закрыв изнутри дверь.
Несколько минут отряд слушал, как Максуду объясняют, что зэки — тоже люди, что проверку надо проводить вовремя, что ему надо прекратить курить анашу во время работы. Были вскрикивания. Люди ликовали от услышанного, но, как выяснилось на следующий день, никто ничего не слышал.
Дверь каптерки открылась, и Максуд побежал. Бежал он в дежурную часть. Гарик пошел к себе. Раздеваться не стал, достал сигарету и открыто закурил в ожидании спецназа. Но ничего не произошло. Совпало так, что Максуд надоел всем.
Утром Гарика вызвали в штаб. Провожали его тревожно. Все понимали, что оттуда он может уйти сразу в ШИЗО и обратно уже не вернуться. Какой бы ни был Максуд, он — сотрудник и бить его нельзя.
Через час Гарик вернулся. Ремонт продолжили. Этот ремонт и решил вопрос. Через неделю ожидали очередную проверку, и стена барака оказалась важнее задницы Максуда с парой длинных синяков от воспиталки.
Нет, Максуд не изменился. Через пару недель снова начал пытаться лютовать. Но люди уже не боялись, не несли подношений и не просили. Он стал просто безопасником, которого наказал зэк и тому ничего за это не было.
Скоро ему сорок, выслуга и пенсия. Он выйдет к людям, этот Максуд. А там уже и Гарик, он вышел по УДО, и сотни других, кого он мучил безнаказанно.
Будучи обычной бесполезной дрянью.
Котёнок
Ночь, небо, тишина. Я нашел их в лагере через полгода.
Теперь я хожу встречать ночные смены и веду их в барак, а это за полночь.
У меня есть «ноги» — пропуск на право прохода по зоне: зэк не может ходить сам, его должен водить другой зэк, с «ногами».
Вообще, все это сомнительно, и, когда приезжают проверки — а это бывает часто, и все они внезапные, но готовимся мы к ним за неделю, — зэки не водят зэков, тогда вообще никто никого никуда не водит, проверяющим должно быть умилительно.
И они умиляются.
Когда они выходят за периметр и идут по своим важным делам, зэки идут по своим, движение начинается, толпы льются в ворота промзоны, цеха работают круглосуточно, сотни зэков работают официально, и сотни — рабы, но лучше быть рабом, чем сходить с ума в бараках, там тесно и душно, там можно сесть на кровать или, того хуже, уснуть, и тогда — ШИЗО.
В бараке время стоит, а на промке можно занять себя, пусть труд примитивен и не приносит ничего, он убивает время, а времени в зоне не жаль никому.
Идти мне недалеко, но я встаю чуть раньше, чем надо, и выхожу из барака. Моросит дождь, здесь это обычно, ранняя осень, на асфальте лежат листья, они мокрые и не такие, как дома, их не хочется взять и посмотреть на их прожилки, их хочется похоронить. Вонь ли химии, что за забором, тому виной или то, что деревья всю свою жизнь растут в месте, противном природе, листья на них загодя покрываются ржавчиной и падают уже мертвые.
Утром арестанты начнут выметать их, а листья будут падать, их снова будут мести, этот процесс непрерывен, потому как, если хозяин выйдет в зону, а на асфальте будут листья, ему будет огорчительно, а зэкам будет придумано наказание, тут спектр вековой — от многочасового стояния на улице под дождем до внезапного тотального шмона, это умеют.
А пока я просто медленно иду по листьям, смотрю на небо, местами видны звезды. Сейчас можно спокойно покурить, но я не научился, я просто встаю у курилки. Пять минут.
Зимой вместо листьев будет падать снег, уже скоро, его тоже нужно собирать постоянно и вывозить на промзону на огромных телегах, на тракторных прицепах, «хаммерах» — так их называют, они тяжелые, и толкают их десятки зэков. Для снега есть снеготопка, летом там сжигают всякий мусор, а зимой топят снег.
Раньше в отряде жил кот, серый, матерый и битый. Я выносил ему что-нибудь из того, что было, он аккуратно и неторопливо ел, он тоже любил ночь, был старым и не боялся никого.
Коты и кошки прежде были во многих отрядах — именные, с заботливо, а порой умело сделанными медальонами. Их не трогали, они свои, они на пожизненном.
Животные, а особенно медальоны на них, не по правилам распорядка, и недавно приезжему проверяющему это не понравилось. Можешь сделать медальон, сможешь и заточку. Котов, кого смогли, поймали и сожгли в снеготопке. Проверяющий должен быть доволен.
Злодейство без причины — вещь привычная в этих местах, и сейчас стали появляться новые котята, они растут, тоже на пожизненных сроках.
Я иду вдоль бараков, где спят, вдоль столовой, где пекут хлеб, но пахнет оттуда помоями, вдоль штаба — длинного здания администрации, где днем решаются судьбы бедолаг. Окна темные, светло лишь в дежурке, но мне туда не надо.
Путь занял минуты, и минуты занимал такой путь по мокрому асфальту до машины в той, другой жизни, когда я куда-то уезжал, мне зачем-то надо было в нелепые командировки, теперь я понимаю, что не надо было никуда нестись, это все неважно, а надо было выходить из дома и смотреть на небо, брать в руки упавшие листья и разглядывать их прожилки.
Надо было узнать, где Альфа Центавра, и разглядеть Алькор у Мицара, или не разглядеть, это тоже не важно, важно было смотреть.
А теперь я смотрю сквозь решетку ворот промки и вижу своих уставших парней, которые снова отбыли смену, отработав неизвестно на кого, они бесправны, они промокли, пока их проверяли перед выходом с промки; они попросят открыть пищевку, чтобы попить чая и согреться, это не приветствуется ночью, но я открою.
Все идем в тишине, все думаем о своем, это минуты покоя, все ими дорожат.
Навстречу, когда мы открываем дверь, из барака выходит белый котенок.
Отделение
Зона для бывших сотрудников не в компетенции блатных. Скорее, такие зоны им неинтересны. Странно было бы, если бы в такой колонии был смотрящий[19] от воров.
При этом настоящих оперов, следователей, прокуроров и судей в зоне не более двадцати процентов, а остальные — мужики, когда-то отслужившие срочную службу во внутренних и пограничных войсках и никогда не помышлявшие о службе в органах.
Однако в общем понимании здесь — менты.
Тем не менее блатные понятия, как и в любой колонии, и для этих арестантов — основной свод правил. Иначе нельзя. Когда царские правила слишком сложны и запутанны и меняются непредсказуемо, когда люди государевы взращены на лжи, ложью живут и жизнь мужика не ставят в грош, мужик идет за законами к лихому люду. Идут за пониманием. За понятиями.
Туда же идут и менты.
Сегодня странный день. Мне, как завхозу, надо принять решение — отделять или не отделять. С сегодняшним этапом мне в отряд с карантина приводят мужика пятидесяти лет. У него статья 134 — педофил. Люди в отряде уже знают это — всех пряников опрашивают сразу. Люди ждут.
Удивительна ситуация тем, что я завхоз, назначенный администрацией, и пусть колония режимная и завхоз здесь должность бытовая — порядок обеспечивать, но этот вопрос, понятийный, тоже на мне. Уйти от него нельзя. Если человек действительно педофил и сидит за свое, я не могу его просто выпустить в отряд. Это опасно для всех: барак могут объявить «загашенным», люди откажутся в него заходить, если в нем наравне со всеми — «ровно» — будет жить человек, за которым сексуальное насилие по отношению к ребенку.
Но вопрос еще и в доказанности. Уже давно приговор по «педофильской» статье в зоне не означает автоматически наступающих последствий. Люди знают, как работает следствие, как появляются уголовные дела. Знают цену суду. И потому разбираются в каждом случае сами.
Сегодня разбираться предстоит мне.
Мужчина коренаст, широкоплеч, невысокого роста, чуть сутулится и оттого смотрит исподлобья. Глаз не прячет. Но взгляд неспокойный, ожидающий. Это ничего не значит. Никто не приходит спокойным из карантина.
Я молчу. Времени у меня немного, но я молчу. Странно, допрашивал я последний раз пятнадцать лет назад, но ощущения те же, я даю сделать первый шаг и запускаю щупальца. При входе он протянул руку, но я не пожал ее. Он «под вопросом».
Это его беспокоит.
— Я на централе ровно сидел, — не выдерживает он, — с людьми.
— Я знаю, — отвечаю я.
Конечно же, я не знаю наверняка, мне не до него, но ему сейчас кажется, что вокруг люди, у которых нет никаких интересов, кроме как к нему. Пусть пока думает так. Однако он приехал не как отделенный, значит, и не было принято на централе такого решения. Но сейчас новая жизнь, и то, что было там, прошло. Зона — это ад, чистилище централа не в счет.
— Приговор дать? — снова не выдерживает он.
Я молчу, он сложный, и я пока не вижу его сути.
— Нет, так расскажи, — отвечаю ему, когда он привык к паузе и начал успокаиваться.
Он начинает рассказывать. Все, как я ожидал. Девочка, она выглядела на семнадцать, высокая, грудь у нее, реально даже не думал, что ей двенадцать всего. Подвез на машине, разговорились, он предложил, она сама в штаны к нему залезла. Секса как такового не было, сказала, что девственница, он и не настаивал, но то, что делала, явно не в первый раз. Хорошая версия. Только слышал я такое здесь не однажды. И прокололся он.
Осталось только, чтобы сам это понял.
— Сколько, говоришь, ездили вы с ней на машине?
— Долго, часа четыре!
— Что делали?
— Разговаривали.
— И о чем разговаривали? Что тебе девочка двенадцатилетняя четыре часа рассказывала? Про школу? Про игрушки? Про мультики? Про маму, про манную кашу на завтрак? Про домашнее задание? — Я говорю очень спокойно. — Ранец школьный куда она положила?
— На заднее сиденье… — Он уже понимает все.
— Что там, зайчик был розовенький на нем?
Он пытается начать говорить, ему хочется исправить ситуацию.
Это хорошо, что есть такое желание. Я предложу ему вариант.
И предложил. Вынести его ситуацию «на общее», чтобы люди решили, что с ним делать, или он сам сейчас пойдет к отделенным. Выбор. Всегда должен быть выбор.
Отделить вновь прибывшего означает для него мытье унитазов, уборку курилки, жизнь в уголке для таких же, как он, запрет заходить в пищевку. У него нельзя ничего брать, с ним нельзя здороваться, у него будет своя посуда. Это не значит, что его можно бить или насиловать.
Он отделенный, но сучьи методы не допускаются и в отношении его. Понятия не позволяют. Не менты же. По ментовским законам в зоне мы бы перерезали друг друга. А по понятиям ничего, живем.
И да, это навсегда.
Он не раздумывает. Он согласен.
Он на удивление легко вжился в этот статус. Мыл отхожие места, мел курилку. С воли его поддерживали, передачи он получал. Улыбался. Ходил в церковь — часто и искренне.
Когда я освобождался, он попрощался со мной в локалке, хотел было протянуть руку и отдернул. И даже сказал спасибо.
Я не знаю за что.
Ракетка двойного назначения
Евгений Иванович не верил. Он бросил заполнять очередной акт об уничтожении обнаруженного в ходе обыска кустарно изготовленного «предмета типа заточка» и смотрел на меня.
— Зачем это такое нужно? — осторожно спросил он.
— Это профессиональная ракетка для настольного тенниса. Поэтому дорогая, — вежливо пояснил я ему.
— Пятнадцать тысяч рублей? — еще осторожнее спросил он. — Откуда она у тебя? Точнее, зачем?
Иваныч был одним из немногих инспекторов отдела безопасности, способных к контакту. За свои пятьдесят с небольшим лет он повидал всякого. Удивить его было сложно, ему просто стало неинтересно удивляться. Но я сумел это сделать.
Вообще, мне повезло, что именно он изъял в ходе шмона мою ракетку. Все его считали занудным. А это было не так. Просто он любил вникать в суть проблем и ему не следовало мешать. И в нем не было истинной вертухайской подлости, он и среди своих держался сам по себе. Когда он шел по зоне, всегда сутулился, как бы закрываясь плечами, и его губы шевелились, говорить он по-настоящему любил только с собой.
— Там у нее еще чехол термоизоляционный. Он тоже дорогой, — так же спокойно сказал я.
Мне было сложно. Но я решил вывалить ему всю правду, в его шоке был мой шанс.
Я хотел, чтобы ему стало интересно.
И он слушал.
Началось это полгода назад. Меня пригласил к себе Василий Дмитриевич — старший дневальный, или попросту завхоз школы, в прошлом высокий чин Генеральной прокуратуры, государственный советник юстиции третьего класса, то есть генерал-майор.
— Ну здравствуйте, — сказал мне Валерий Павлович и спросил: — Вы правда играете в настольный теннис?
Вежливый, этим удивил. Тут все на «ты».
Высокий, худой, взгляд и манеры человека, привыкшего руководить. Встретил на пороге.
— Здравствуйте, да, — ответил я.
— Посмотрим, — сказал он. — Проходите, чай будете?
Это зона. Тут бывает и так. Хотя так быть не может.
— Да, — кивнул я и зашел в школу.
С Василием Дмитриевичем даже начальник колонии вел себя сдержанно. Слишком высокий чин. Но прокурор и не давал поводов к недовольству: был незаметен и внимания не привлекал.
В школу в колонии для бывших сотрудников органов люди ходят, у многих нет среднего образования. Это работяги, которых записали в «менты» потому, что срочную службу они проходили во внутренних войсках МВД или пограничных, что в системе ФСБ.
Уроки там по вечерам, учителя приходят с воли, днем уроки вести невозможно, потому как все ученики работают.
С таким графиком жизнь завхоза школы необременительна. Здание отдельное, арестант без разрешения администрации не зайдет, сотрудник тоже лишний раз подумает, стоит ли, все-таки сам начальник, бывает, на обходе посмотрит в эту сторону да и пойдет дальше.
Душ, стиральная машина, книги, шахматы и нарды.
И теннисный стол. Его генерал купил сам и добился разрешения поставить в коридоре школы.
Он был страстным самоучкой. Но просто играть ему было скучно. Его манил поединок. Потому он искал теннисистов в каждом прибывавшем этапе. Многие говорили ему, что играть умеют, но оказывались на поверку несостоятельными. Таких он сразу забывал.
Был у него в школе еще один ловкий игрок, старый сиделец по фамилии Перцев, которого все звали Перец. Играл он получше генерала, но, так как ходил под его началом, частенько ему проигрывал и очень правдиво сокрушался при этом.
Прокурор ухмылялся и искал настоящих соперников.
Наш этап он не отследил, был на длительном свидании и о том, что я играю, узнал случайно, почти через полгода. Узнав, устроил просмотр.
Но перед этим угостил чаем.
После того как поочередно были обыграны Василий Дмитриевич и Перец, с дивана, а у отставного генерала имелась и такая роскошь, встал худощавый зэк — калмык Арслан. Он снял робу и подошел к столу. По тому, как он взял ракетку и сделал первые удары, стало понятно все. Был он покером в генеральской колоде, кандидат в мастера спорта, найденный в отряде для рецидивистов.
Оказались мы с ним примерно одного уровня. Василий Дмитриевич наслаждался. Перец ревновал.
— Повезло, сыграем еще, — сказал он мне.
Играли потом не раз, и мне снова везло.
А вот с Арсланом битвы были настоящие.
Скоро Василий Дмитриевич уговорил начальника колонии и у нас появилась теннисная секция. Играть мы стали по официальному разрешению. Обычно раз, а иногда даже два в неделю. Снять на время робу, надеть шорты и футболку, а после этого чудесного часа сходить в душ — несказанное удовольствие для арестанта, которому мыться положено раз в неделю.
Продлилось это недолго — через пару месяцев Василию Дмитриевичу смягчили режим и перевели в колонию-поселение. В школу назначили старшим дневальным другого генерала, но из системы МВД, и секция заглохла. Нам было с ним скучно, а ему с нами страшно — как бы чего не вышло. Стол был собран и стоял в закутке.
Но еще до перевода Василия Дмитриевича мы с Арсланом успели обнаглеть и заказали с воли профессиональные ракетки. Чтобы получать от игры подлинное наслаждение. Разрешение было выбить непросто, но мы получили.
Получив, полюбовались и сложили в баулы, играть стало негде.
Лежала ракетка долго. Время от времени я вечерами доставал ее, смотрел на гладкую цепкую поверхность резины накладок — черная с одной стороны, красная с другой, такие правила. Накладки могут иметь разные свойства, тогда стороны ракетки играют по-разному, чтобы соперник знал, какой стороной ты играешь, придумали делать накладки разноцветными. Но здесь это никому не важно. Обман здесь имеет значение, лишь если он вскрыт. И все же ракетка давала связь с жизнью, той, которая не остановилась. Я полюбил просто держать ее в руках. Она была из мира, где люди участвуют в соревнованиях и ходят тренироваться, когда они захотят, выбирают, с кем и когда это делать. У них красивые спортивные костюмы и хорошая обувь. У них никто не спросит, зачем тебе такая ракетка.
А Евгений Иванович хотел знать именно это.
Позавчера он пришел с обыском в наш барак. С ним были еще безопасники, спецназ и собаки. Ничего необычного в этом нет, если в штате есть спецназ и собаки, им надо что-то делать. Специально для них придуманы такие вот «обысковые мероприятия», когда весь отряд выгоняют из барака на улицу, люди строятся рядами и ждут, пока будет проведен тотальный шмон. Недовольных выносят. Зэки не любят, когда их носят, они любят ходить сами, потому недовольные встречаются редко.
Тут он и нашел в моей тумбочке ракетку, и я сам был виноват, в тумбочке может храниться минимум предметов, и список их строго ограничен. Ракетки для настольного тенниса там точно нет.
— Так что будем делать? — задумался Иваныч. — Хранить тебе ее у себя нельзя, в перечень разрешенных вещей не входит.
— Не входит, — кивнул я.
Он очень любил инструкции. В лагерной системе инструкций великое множество, и меняются они с чрезвычайной скоростью. Евгений Иванович не переживал. Он выучивал то, что успевал, и требовал от всех исполнения того, что он помнил. Того, чего он не помнил или не знал, для него не существовало.
Сейчас он явно подыскивал какую-то инструкцию.
— Запрещенные предметы подлежат уничтожению, — проговорил он наконец.
— Евгений Иванович, — сказал я ему, — ракетка представляет собой ценность, вы согласны?
— Да, — ответил он, но не согласился на самом деле.
Он не мог смириться с тем, что это можно считать ценностью. Он искренне считал, что такие деньги на ракетку могут тратить только дураки. Но дураков всегда жаль, на это я и рассчитывал.
— Я нашел приказ начальника 2001 года о том, что все ценные спортивные и культурные предметы должны храниться в клубе. Там так и написано: «ценные спортивные и культурные предметы».
Приказ мне помог отыскать завхоз клуба.
— Покажи, — обрадовался Евгений Иванович.
И забрал у меня документ.
Через неделю он передал мою ракетку в клуб. Попутно я сумел договориться с ним, что буду забирать ее к себе в барак для ухода.
— Ценные вещи требуют ухода, — пояснил я Евгению Ивановичу.
— Отстань от меня со своей ракеткой, — искренне попросил он.
Я отстал. Ценный спортивный предмет так и лежал у меня в бауле. Если его находили при шмоне, я говорил, что мне лично разрешил Евгений Иванович. Никто не проверял.
Иногда перед отбоем я раскладывал на кровати фотографии и клал рядом ракетку. Она так и осталась вещью с воли и не срослась с тюрьмой.
Ненадолго становилось хорошо. Там никогда не становится хорошо надолго.
Когда освободился, ракетку я оставил в клубе, как и обещал Евгению Ивановичу.
Взросление
Аслан был молодым осетином из очень хорошей московской семьи.
Он так и сообщил об этом завхозу сразу, при первом разговоре, как только его привели из карантина. Завхозу, тоже молодому осетину из хорошей семьи, но из-под Владикавказа, это понравилось.
Особенно понравилось то, что хорошая семья Аслана очень переживала за мальчика.
— Звони своим, брат, все сделаем, брат, жить будешь в отряде ровно, дневальным тебя к себе возьму, срок у тебя маленький, через полтора года на УДО пойдешь.
Аслану срок — три года — маленьким не казался, да и полтора года до условно-досрочного освобождения тоже пока не укладывались в голове, но, как воспитанный человек, он спорить не стал и позвонил домой.
Дома очень обрадовались встрече с земляком и сразу согласились перевести на счет жены нового друга объявленную сумму — 150 000 рублей. То, что счет именно жены, благодетель пояснил просто — ну не начальнику колонии ты будешь переводить, он же тебя не знает. Не поспоришь.
Завхоз начал рьяно. Аслану дали хорошее спальное место в недавно отремонтированном кубрике, подогнали по размеру робу, что сделать на первых порах очень непросто, добыли обувь по размеру, что счастье, а через две недели даже справили разрешение на посещение спортзала и игру в футбол, что одномоментно расположило всех зэков против новичка. Это было слишком. Столько благ одному и сразу простить невозможно.
Но новые осетинские друзья не обращали на мужичье внимания.
Ко всему Аслан был высок, плечист и породист, что окончательно отторгало от него худых и сутулых бедолаг. Спасти ситуацию не могли ни его незлобивый нрав, ни наивная улыбка небитого столичного юноши.
Футбол он любил искренне и неплохо играл, но заигрывался, замедлял игру и передерживал мяч, он жаждал обвести всех и забить сам, поделать с этим ничего не мог, а пас отдавал, когда было уже совсем невмоготу. Смотреть при этом на него было больно, он страдал, хотел, чтобы мяч принадлежал только ему.
Поэтому и среди футболистов отряда дружбы он не нашел.
— Мы тебе сами до начала игры будем ноги отбивать, еще в бараке, — сказал ему однажды один старый сиделец, который играть не любил, но смотрел на поле, когда получалось, и в футболе понимал.
Так прошел месяц. Аслан обустроился, привык, приобрел вальяжность, жаловался лишь на плохой сон: в бараке многие храпели, а это сильно мешает.
Завхоз в это время работал над глобальным проектом — в бараке шел ремонт, обустраивали туалет и, главное, ставили крышу. Денег он под это дело собрал у зэков много. Но силы и время не рассчитал. Не справился и с возникшим кассовым разрывом — ремонт требовал вложений, и собранного хватило бы, но деньги разошлись на прокорм дружины из верных нукеров.
Ремонт встал, это увидел начальник колонии, завхоза сняли и отправили в ШИЗО, а потом и в СУС. Аслан остался один. Ни с кем больше он не общался, люди либо открыто, либо явно злорадствовали. Аслану закрыли доступ в спортзал, а потом и к футболу. Последнее он переживал очень болезненно.
Новый завхоз, высоченный русский парень с Дальнего Востока, Аслана невзлюбил. А это было уже серьезно.
С хорошего места Аслана согнали и перевели в барак к бедолагам, где были голые стены и десять двухъярусных шконок с мужиками из совсем не таких хороших семей, как у Аслана. Больше того, многие не имели семей никогда. И все не любили мальчиков из хороших семей. Это было необъяснимо, но переломить ситуацию не получалось. Аслан улыбался и старался быть своим, делился сахаром и конфетами. От сахара и конфет не отказывались, конечно, но это ничего не меняло. Дань никогда ничего не меняет.
Жизнь стала казаться невыносимой, и Аслан пошел к новому завхозу.
— Слушай, брат, ну я же отдал уже денег. Почему ты так со мной сейчас? — тихо, чтобы никто не услышал то, что знают все, проговорил Аслан, сев в каптерке напротив улыбающегося завхоза.
— А кому ты отдал?
— Старому завхозу.
— Ну и иди к нему.
Разговор был окончен. Аслан стал догадываться, что друг и земляк оказался не вполне благороден и деньги, перечисленные его жене, так и остались внутри этой хорошей семьи. Но сделать было уже ничего нельзя.
А потом его определили в снежную бригаду.
Асфальт должен быть черный. Снега на территории зоны быть не должно. А на Урале снег идет часто и помногу. Поэтому специальные люди, которые никуда не смогли устроиться, у которых нет самых завалящих умений для какого-нибудь производства на промзоне, нет денег на должность, к примеру, дневального спортзала или банщика, идут в снежную бригаду. Семья Аслана могла бы ему помочь, но он стыдился признаться, что ошибся с другом. И честно принял свою долю.
Всю зиму он с утра и до отбоя чистил территорию зоны, скалывал лед, а потом скоблил асфальт специальными железными щетками. Снег собирали в кучи, носили его на лопатах и простынях, а потом грузили в тракторные прицепы с наваренными металлическими бортами.
Аслан с удивлением понял, что восемь зэков вполне заменяют трактор и способны толкать прицеп, заполненный мокрым снегом, на промку, где его нужно разгрузить у снеготопки. Там этот снег топили и сливали грязную воду в канализацию. Процесс был непрерывным.
Если снег шел ночью, а это было почти всегда, снежной бригаде разрешалось вставать за час до общего подъема и начинать чистить снег еще до того, как арестанты начнут выходить на зарядку. Это делалось из добрых намерений, администрацию уговорили разрешить это, позволить снежной бригаде спать меньше, потому что, если сто человек затаптывают ночной снег, вычищать его очень сложно, он меняет агрегатное состояние и примерзает к асфальту.
Аслан сильно похудел, мышцы его стали сухими, глаза приобрели печальную выразительность. Но наладился сон. Храп работяг вокруг перестал его волновать. Да и сам он после особо снежных дней похрапывал, засыпая.
— Умаялся, — говорили работяги вокруг, уже без желчи.
Его начали уважать. Люди увидели, что он не жалуется. Работал он наравне со всеми и часто брал на себя самое тяжелое — держал «руль»: приваренный к передней оси прицепа рычаг, который надо было направлять, идя впереди прицепа. Этот рычаг, когда передние колеса наезжают на препятствие и выворачивают ось, вполне способен снести человека с ног, даже если его крепко держать. Или сломать ноги, если выпустить его из рук. Такое бывало, поэтому «рулить» не стремился никто. Аслан не боялся.
Самое сложное началось в феврале, когда дрова для снеготопки закончились и снег начали возить на футбольное поле посреди колонии. Снег утрамбовывали и закидывали выше и выше — кучи становились высотой с трехэтажный дом и заняли все поле.
А в марте эти кучи было велено вывезти на промку — появились дрова. Слежавшийся снег разбивали и вывозили, заканчивали уже под апрельскими дождями, которые были в радость. Люди выработали ресурс.
В лице Аслана появилось мужское и суровое. Сам собой наладился быт, его перевели обратно, в хороший кубрик, только теперь люди почти не возмущались. А потом его снова внесли в список тех, кому разрешено играть в футбол.
Он был счастлив.
— Пасы будешь отдавать? — спросил старый зэк Сергей, когда тот шнуровал бутсы перед первой игрой.
— Да, конечно, — заулыбался Аслан.
Но так и не отдавал, носился с мячом и за мячом по полю, которое недавно заваливал снегом, а потом очищал от него.
И выглядел вполне счастливым.
Экстремист
Экстремист Антон сидел напротив меня и хлопал пушистыми светлыми ресницами. Чуть больше двадцати. Большие серые глаза и детское лицо вкупе с поддернутыми вверх бровями и сморщившимся оттого носом делали его вид совсем неопасным, даже смешным.
Но статьи были серьезные, говорящие, их было несколько, все недобрые, такие как у рэкетиров в 90-х.
Утром завхоза вызвали в штаб, и он вернулся озабоченным. Позвал меня.
— Нам дают нациста. Московского. Сказали — опасный. Будем воспитывать. — Это он организовал исполнение просьбы оперов, которым требовалось одно: чтобы не было проблем.
— Нациста или националиста? — спросил я.
— Которые лысые по улице ходят толпой, — ответил он, подумав.
Сам он — осетин тридцати лет от роду, выросший под Владикавказом, который искренне считал мегаполисом, — этих московских течений не понимал. К нему в аул ни нацисты, ни националисты не заходили.
— Разберемся, — обещал я.
И пошел встречать пряников с карантина.
Помимо статей меня интересовал тюремный путь нового зэка. Восемь месяцев он просидел в общей колонии. Потом его отправили к бывшим сотрудникам.
— Так это потому, что я был участковым. Недолго… — Он заморгал.
— Где? — дежурно спросил я.
— А у меня копия удостоверения есть, — заволновался он.
— Как сидеть будешь?
— Спокойно, работать буду.
— Как к мусульманам относишься?
— Уважаю все религии. — Это он опять быстро, будто боялся, что перебью.
— Сам-то кто, православный?
И тут прорвало. Антон был самой, по его словам, правильной религии — славянской.
— Ее же уничтожали, веру наших предков, ты же понимаешь, ты же русский, — полушепотом начал он убеждать меня. — Нас, славян, так решили побороть.
— Дай догадаюсь кто. — Мне было смешно: такой курносый и такой серьезный. — Масоны. Иди в отряд, тебе все покажут.
Вживался он долго. Искал друзей и недругов одновременно. И то и другое получалось плохо. Среднего росточка, он был широкоплеч, с чрезмерной стероидной мускулатурой, какой не бывает у бойцов, но хотел, чтобы его считали именно бойцом. Рассказывал о занятиях боксом. Врал, и это видели. Бойцы-то в отряде имелись, и неплохие. Пара таких его и пригрела.
Рамиль и Саша были голодранцами. Обоим за тридцать, оба наркоманы, за то и сели. Первого хоть как-то поддерживала семья, родители — башкирские крестьяне — иногда присылали передачи. Саша — простой московский бездельник, подававший большие надежды в греко-римской борьбе, но проколовший героином и карьеру, и семью. Двухметровые, за сто килограммов, легко жавшие от груди самодельные штанги в два своих веса, они заворожили Антона. А у того был отец, который слал сыну передачи.
— Попал наш экстремист, — сказал как-то завхоз-осетин, глядя, как по локалке перед вечерней проверкой бродят кругами два урукхая с семенящим хоббитом посередине.
— Ну вы же понимаете, что теория Дарвина крайне противоречива, происхождение человека от обезьяны давно опровергнуто, — говорил вверх, пытаясь, чтобы сразу и вправо и влево, Антон.
— Хорошо, что ты приехал, — отвечал Саша.
— А колбаса у нас еще осталась? — волновался Рамиль.
Они вели свою игру расчетливо, Антон верил в дружбу с ними и надеялся охватить их конфессионально, ему хотелось быть миссионером, и они явно склонялись к принятию его религиозных убеждений. По крайней мере, он был в этом убежден. Передачи ему поступали исправно, а это важно по-настоящему.
Но через пару месяцев на дружбу свалилось испытание. Первое и ожидаемо роковое. Антон заехал в ШИЗО. Это было крайне неожиданно, но очень громко обставлено. Слишком громко, но несостоявшиеся неофиты не уловили фальши и списали Антона. Выглядело это некрасиво — все его продукты они съели, а нехитрые принадлежности — тапочки, бритву, мыло и полотенце — передавать в ШИЗО другу отказались, уверовали, что он уже в зону не выйдет.
Я отнес. У меня было другое мнение. Занять его койку я никому не дал.
Антон действительно вышел через пять дней и вернулся в отряд. Скандалил он тоже смешно, повизгивал, не получалось у него внушительно. Но отношения с предателями расторг.
— Почему ты не поверил, что меня через ШИЗО в СУС укатают? — допытывался он у меня вечером. — Почему мою койку не отдал?
— Так ты ж сам понимаешь все, — ответил я ему.
— Как ты догадался? — спросил он. Очень спокойно спросил и нос не морщил.
— А я не догадывался, — сказал я и пошел спать.
Сложного было мало. Парень пробыл восемь месяцев на черной зоне и привез с собой копию удостоверения участкового. Значит, накосячил там, оперской, и приехал в зону к бывшим сотрудникам, чтобы спрятали. Легенда грубая — никто не возит копий своих служебных удостоверений. Опасно это. Направили в спокойный отряд, а могли бы приземлить в кавказском бараке. В ШИЗО его укатали аккурат перед новым этапом, в котором тоже приехал некий экстремист, которого закрыли туда же, в ШИЗО, прямо с карантина. Вот Антошу и попросили поработать там с «человечком», поспрашивать как своего. Закрывали слишком громко и быстро, комиссии не дожидались. Помещение в ШИЗО нигде у него в личном деле не отразится: это выполнение условий сотрудничества.
Все я понял, и он понял, что я догадался.
Но зачем мне об этом говорить?
Людям это неинтересно, да и не доказать, его я не изменю, а что политический тоже хочет жить — так это ж кого в России удивишь.
КДС
Сегодня меня ведут в барак, куда арестантов — тех, кому положено, — иногда водят на свидания с родственниками. Чаще всего с женами и матерями. Такой барак есть в каждой колонии. Он называется КДС, аббревиатура старая: комната для длительных свиданий.
Длительное свидание — отравленный дар с наказанием внутри. Три дня и три ночи. Они долгожданны, но это лишь три дня, под оберткой короткой встречи с семьей — всегда расставание длиной в бесконечность. Ты знаешь все это, но берешь подарок. Слишком ценно время, когда у тебя появляется что-то свое. Тарелка, чайник, минуты под душем, кофе утром, который ты можешь сварить в турке и пить долго, не торопясь никуда — сегодня у тебя нет построений, обходов, шмонов, сюда не зайдут безопасники, чтобы проверить, не сел ли ты на кровать и не повесил ли майку на батарею, чтобы быстрее высохла после стирки, а главное — ты не в робе. Ты можешь ходить в шортах и футболке, которые тебе привезли из дома, и они не черные, и пахнут домом, ты думал, что забыл этот запах, но ты не забыл.
Сначала всех заводят на первый этаж, людей надо обыскать. Жены и матери уже завершили эту процедуру, их раздели донага, осмотрели их вещи, проверили, не несут ли они чего запрещенного. Теперь они ждут на втором этаже, многие уже начинают суетиться на кухне. Женщины, что прошли обыск впервые, пока не суетятся, им надо пережить первый шок от прикосновения чужих рук там, где сознание чужих рук не допускает, эти руки им только что вернули их белье, они его надели, иначе нельзя.
Они привыкнут.
Нас обыскивают, с нами все просто и быстро, одежды на нас немного, процедура отработана, мы быстро раздеваемся и быстро одеваемся, отличие от обычных, много раз пройденных шмонов лишь в том, что робы мы оставляем в специальных шкафчиках и одеваемся в спортивные костюмы, они есть тут почти у всех.
И пусть костюмы спортивные тоже пахнут тюрьмой, в них ты чувствуешь себя ближе к воле. Мы поднимаемся. Со мной идет Влад, он старший дневальный в нарядке, это теплое место, и ведет он себя подобающе — как сука. Его хорошо знают в зоне. Он бывший начинающий ментовской опер, сел за пытки, в зоне сразу прибился к сучьей стае и вырос до мелкого вожака. Он надменен, ему приятно, что его избегают, он принимает это за страх.
Ему нравится, что его боятся.
Первое, что я делаю, — иду в душ. Не потому, что душ в колонии раз в неделю, я давно нашел возможность мыться чаще, а потому, что хочу смыть с себя запах тюрьмы и надеть домашнее.
— Ты все равно пахнешь, — говорит мне жена вечером, спустя несколько часов.
Да, я знаю. Этот запах не смывается за один раз. И за два. Я вообще не знаю, смоется ли он.
Вечером мы идем смотреть телевизор, это общее место, лаундж. Я мог бы «пробить» комнату с телевизором, «решить вопрос», здесь есть и такие комнаты, в этом бараке, там хорошая отделка, как в средней руки отеле, но я не стал. Просьба в зоне — всегда обязательство. И к телевизору я иду не ради него, я хочу посмотреть на людей в обычной человеческой одежде. Я устал от черных роб.
Я вижу жену Влада. Одежда на ней скромная.
— Видишь девочку? — показывает на нее жена. — Мы заходили вместе. Хорошая такая. Очень сложно им. Она на дорогу денег заняла, муж очень просил, чтобы приехала. Говорит, мужу выходить скоро, подыскала ему место помощника адвоката. Пять тысяч рублей в месяц. В Омске нет ничего больше.
Все обычно. Человек получил видимость власти над такими же несчастными. Он стал пауком, и его посадили в банку, где он смог вылезти на край. Он наслаждается, отгоняя мысль, что это лишь миг.
Жена считает его добрым, он считает себя умным, но он ни тот ни другой.
Даже если он выпадет из банки, он останется пауком навсегда.
На диване напротив сидит Серега Абхаз. Абхаз — потому что из Абхазии. Там он был ментом, потому и в России сидит на зоне для бывших сотрудников. За ним кража в особо крупном, сидеть еще три года. Жена красивая, Абхаз лежит на диване, голова на ее коленях. На экране кадр из какого-то фэнтези: монстр со спиленным рогом и его обнимает красивая монстрица.
— Как мы, — говорит жена Сергею.
— У меня рог нэт! — строго отвечает он.
— Нет, дорогой, нет… — улыбается она и гладит мужа по голове.
Глаза у нее живые и быстрые. Абхаз доволен.
Возвращаемся, заглядываем на кухню, там бывший гаишник Денис, сидит за небольшую взятку, он тяжелоатлет, в спортзале зоны занимается пауэрлифтингом. Он ждал этих дней, чтобы набрать массы, ему это важно. Невысокая и подвижная жена Дениса смотрится рядом с ним совсем маленькой. Денис стоит у плиты, что-то помешивает в кастрюле. Он будет есть три дня: яйца, гречку, мясо, очень много мяса. На последней перед свиданием тренировке он весил сто семнадцать килограммов, его цель — сто двадцать.
— На массе, братан? — улыбаюсь я ему.
— На массе, Леха, — улыбается он в ответ, — ты тоже налегай давай.
Жена будет готовить Денису, будет кормить его, ей это нравится.
Люди смотрят телевизор, стоят в очередь к телефону, толпятся в курилке, любят друг друга, ругаются и едят, много едят. Здесь жизнь, она сжата и спрессована, тут мало спят и почти всегда что-то делают, надо успеть все, хотя каждый понимает: не успеет ничего.
У входа в коридор второго этажа, где комнаты для свиданий, в полдень всегда оживление, здесь слезы тех, кто расстается с родными, и слезы тех, кто их встречает.
Сначала уводят в зону мужчин, следом провожают их женщин, затем заводят новых женщин и те начинают суетиться. Потом приходят их мужья.
Люди три дня живут в симулякре семьи. И расстаются. Все вокруг в эти три дня ненастоящее, но тем больнее уходить друг от друга по разные стороны решетки.
Наступает третий день, мой, очень быстро наступает. Ухожу с мыслью, что где-то есть жизнь, которая настоящая. И время, которое идет правильно, потому что рядом есть те, ради кого надо жить.
Когда-то давно в книге о тактике военных допросов я вычитал термин — «депривация». Лишение не только свободы, что воспринимается мозгом как временное, не может мозг иначе, но даже иллюзии — исключительно мотивирующей иллюзии наличия хоть и чего-то малого, но своего.
Это эффективная штука — человек лишен одежды и оружия, а враги экипированы, и жалости у них нет, разве что совсем чуть-чуть, ровно столько, чтобы дать человеку прожить еще день, если будет правильным его поведение и слова он будет говорить такие, которых от него ждут.
Книга та была о полевых допросах, когда цель допроса — информация, получить которую надо в считаные минуты, максимум — часы, а дальнейшее существование допрашиваемого интереса не представляет.
Человека в этой книге предписано для начала полностью раздеть, он обязательно должен пройти через насилие, в определенных случаях автор полагает наиболее эффективным насилие сексуальное, но главное, что должен усвоить допрашиваемый, — у него не осталось ничего личного, ничего своего, никаких интимных зон и приватных границ — он во власти.
Во власти того, кто задает вопросы и устанавливает правила. Кто может казнить, а может подарить еще день.
Этот автор учился во ФСИН.
Зона — это депривация, полная и без оговорок. Злая сила всегда рядом. Все, что есть у человека, может быть пощупано чужими руками и отнято в любой момент.
Но долго так нельзя, человек так умирает. Потому придуманы свидания, чтобы арестант мог почувствовать свой мирок. Трех дней достаточно, чтобы подышать, а потом снова жить какое-то время, сняв с себя все.
Человек, который вернулся со свидания, несет с собой заряд, им питаются бедолаги, к которым никто не приезжает. И все живут тем, что будет потом.
Далеко от этого времени, которое ненастоящее.
Энергоаудит
Утром в барак пришли инспекторы отдела безопасности. С собой они привели пожарного. По бараку ходить не стали и сразу пошли в сушилку — комнату для сушки одежды.
— О, давно не было, — проговорил опытный арестант Серебро. — Обогреватели отметут.
— Как это, — заволновались недавние сидельцы, — а как сушиться будем?
— Энергоаудит? — спросил Дмитрий, он был экономистом и директором фирмы на воле и сидел в зоне всего пару месяцев из положенных по приговору за мошенничество шести лет.
— Чего это? — насторожился Серебро.
— Расходы бюджета проверять надо постоянно, — ответил Дима, — оптимизация должна быть.
Серебро отошел. Опасная тема. Не надо спрашивать про расходы бюджета в зоне.
Пожарный делано шумел.
— Вы чего тут понаставили, что за тепловая пушка у вас, что за обогреватель, все изымаю, — возмущался он.
Опытный завхоз отряда молчал. Он мог сказать, что иначе невозможно, вещи нужно сушить постоянно и их много, что все согласовано с хозяином, — но видел, что идет спектакль и его реплики в нем не предусмотрены.
Тепловую пушку и обогреватель по указанию пожарного арестанты унесли в штаб, в специальную комнату для изъятых запретов.
— Что, Викторыч, опять проверка? — спросил завхоз в каптерке, оставшись наедине с курировавшим отряд капитаном отдела безопасности, который был мужиком незлым.
— Да, — ответил тот, — центр едет. Превышение расходов на электроэнергию.
— Как вещи сушить, сто человек в отряде, работяги же все?
— Не знаю, думай, — ответил Викторыч и встал, — создавайте себе условия.
Это известная в зоне фраза. Выживайте — так она переводится.
— Ну хотя бы через неделю вернете? — попытался получить видимость гарантии завхоз.
— Не знаю, — уже совсем сухо ответил Викторыч и пошел. Он был в зоне давно и знал, что после шмона из комнаты для хранения изъятого все ценное имеет свойство исчезать.
Ситуация стала сложной. Сто человек, стирающих одежду по графику. Постирочных дней два, суббота и воскресенье. В другие дни стирка запрещена. Сушилка в эти дни забита, а это комната в пятнадцать квадратных метров с натянутыми под потолком шпагатами. Там и одежда, и постельное белье. Когда вешают постельное белье с двух десятков кроватей, влажность в сушилке поднимается до ста процентов, а когда прибавляется еще десяток комплектов, белье перестает сушиться и начинает гнить, на стенах появляется плесень.
Сушить вещи на батареях, на веревках между шконками, вообще где-либо еще запрещено. Окно в сушилке, как и все остальные, на ночь закрывается под сигнализацию.
К исходу второго постирочного дня стало ясно: сушить белье невозможно. Значит, многим нечего надеть и не на чем спать. Ходить голыми и спать без постельного белья тоже нельзя, правила распорядка запрещают.
Вечером в каптерку к завхозу постучался Дима.
— Есть вариант, — сказал он, смущаясь, — инфракрасные обогреватели. Они бывают в виде гибких панелей, приладим к стенам, электричества потребляют мало, будет тепло.
Завхоз задумался. Днем он ходил в штаб, и там ему даже разрешили взять на ночь одну из изъятых тепловых пушек. Но ее уже не было, увели.
Нужно было выживать.
У каждой зоны вьются «поставщики», которые получают на свои счета деньги от родственников арестантов и привозят в зону все — от краски до бетонных перекрытий.
Каждый об этом знает, но этого как бы нет, потому что никто как бы не жалуется.
А если жалуется, то прокуроры и следователи быстро выясняют, что это навет и оговор.
Дима с завхозом позвонили местному пройдохе, который поставлял в колонию стройматериалы. Тот просчитал варианты. Выходило вполне бюджетно, хотя и втридорога, но по-другому в зону ничего не поставляют.
— Твоя инициатива, плати, — сказал завхоз Диме. — Я с администрацией поговорю, тебе за это условия получше сделают.
Дима был за. Сумма небольшая, а пользы много, думал он. Администрация заметит и оценит.
Следующий день ушел на согласования со штабом. И это было чудом, так быстро все согласовать. Дима в курилке рассказывал, как он здорово придумал и как много можно сэкономить, если мониторить расходы.
— Да на одной стройке миллионы бабла везде пилят, — убеждал он арестантов.
Люди слушали, некоторые рассеянно, а некоторые очень внимательно. Задавали вопросы. Про расходы.
За неделю обогреватели были установлены. В сушилке стало тепло, вещи сохли быстро, электричество экономилось. Перед проверкой панели все равно сняли и спрятали, чтобы не выделяться и не объяснять лишний раз. Обошлось.
А сразу после проверки Диму вызвали на комиссию и закрыли в ШИЗО.
Завхоза вызвали в штаб.
— Чё ты там развел? — спросил его сквозь сигаретный дым молодой, но уже очень толстый опер.
Завхоз ожидал, что это будет. Слишком много Дима наговорил за неделю. И остерегать здесь бесполезно, в зоне человек сам хозяин своему языку.
Дима в разговорах посягнул на святое — стройку и ремонт в зоне. Стал спрашивать, кто по сколько сдавал и на что. Поинтересовался, кто построил такой красивый девятый барак и почему не приводят в такой же вид другие.
Его эта тема захватила как экономиста. Он не мог понять, почему при таком огромном бюджете ФСИН зэки сами строят и ремонтируют все — от бараков до здания самой администрации.
О нем услышали опера. Их опасения подтвердились — человек интересовался и сеял тем самым смуту.
Поэтому — ШИЗО.
Вышел он оттуда через месяц, этого ему хватило, чтобы понять — инициатива и интерес в зоне опасны. Он устроился в швейный цех и скоро стал мастером. Не для того, чтобы менять жизнь вокруг, а чтобы создать условия себе.
Он остался добрым и улыбчивым парнем, охотно делится газетами, которые ему выписывают с воли, обсуждает войну в Сирии и американские санкции, жизнь в Москве и футбол.
Не говорит он только о бюджете ФСИН. Никогда и ни с кем.
Хлеб
Сергей ходит по локальному участку около барака, огороженному загону для людей. Он шагает по прямой — вперед и назад.
Он вообще часто ходит, он в прекрасной форме, и не для своих сорока пяти, а просто в прекрасной. Сегодня он ходит быстрее обычного и не приближается к турнику, на котором обычно с удовольствием подтягивается. Много и легко.
До суда по его условно-досрочному освобождению остается три недели. Он отсидел три года из пяти. Он работает в столярном цехе, и у него хорошие характеристики. Проблем с УДО не предвидится.
Не предвиделось до сегодняшнего дня. Сейчас он пойдет на комиссию, где ему определят наказание за нарушение правил распорядка. Первое за все его время здесь.
Зэков кормят три раза в день. Еда отвратительна. Относительно пригодна для питания она лишь в дни проверок, когда попробовать ложку супа может, к примеру, прокурор.
Арестанты, особенно бедолаги, которые не получают передач, спасаются дешевыми приправами, что скупают в тюремном магазине. Они засыпают ими все — и слипающуюся комками кашу, неважно из чего, всегда комками, и жидкую массу тюремного супа, и сваленные в кучу вареные свеклу с капустой.
Теперь это приходится делать украдкой.
Свиньи, которых при колонии несколько сотен, питаются отходами столовой. Арестантская еда проходит столовую лишь для ритуала. Ее сразу готовят для свиней. Но люди упрямо пытаются ее есть. Людям надо жить. И поэтому надо есть хотя бы еду для свиней. Но свиньи не переносят приправ, которые люди сыплют в их еду. Свиньи от них болеют и не набирают вес. А это важно.
Свиньи становятся свининой, а та исчезает, но об этом говорить нельзя.
И хотя арестантам это мясо не перепадет никогда, нужно, чтобы свиньи были здоровы и росли.
Поэтому приправы с недавних пор запрещены.
Так и объявлено. Запретить все приправы, кроме майонеза.
Майонез свиньи едят.
Еще в столовой дают хлеб. Иногда он вполне съедобен. И тогда люди пытаются унести его в барак и съесть там, положив на него сало или колбасу, если есть припасы, или посыпать сахаром и запить горячей водой, как это делает грустный китаец Ваня Чанчунь, у которого никогда ничего нет. И он такой не один.
Но выносить хлеб из столовой нельзя. Это дикое правило. За вынос хлеба из столовой — наказание вплоть до ШИЗО.
Риск велик, но голод сильнее страха. Голод берет пайку со стола и кладет ее в карман. Разум не способен остановить руки.
Сергей на воле был адвокатом. Хорошим. Гордился тем, что к нему обращаются серьезные люди. Однажды, когда он заходил в СИЗО к подзащитному из таких серьезных, он передал ему документы, которые просили передать друзья с воли. Не по делу документы, и не должен он был ничего подобного допускать. Но это даже не проступок — так, пожурить. Но между бумагами был аккуратно положен пакетик с героином.
Так Сергей стал наркодилером. Люди в суде признали, что героин в документах — их вина и что Сергей был не в курсе. Но не освобождать же его суду из-под стражи, не оправдывать же.
Он много пишет в зоне, пишет хорошие, настоящие, добротные жалобы по делам, к нему очередь. Берет за работу сахар, сигареты, чай. Сергей старается не обременять семью, он давно запретил жене делать ему передачи. У него трое детей, и жена справляется с трудом.
Ему, его жене и его детям нужно это УДО.
Но сегодня он вынес из столовой кусок хлеба. Отряд уже на подходе к бараку остановил безопасник. Сергей не стал, как поступают многие, выкидывать хлеб. Не смог. Не у каждого поднимается на это рука. Хлеб был найден в кармане робы. Сергея заактировали.
Теперь он ходит вперед и назад по прямой и ждет.
Через час его приводят с комиссии. Приводят — и это хорошо, значит, не ШИЗО.
Выговор. И это означает, что УДО не будет.
Он выйдет только через год, после того как будет снят выговор, после того как он получит еще два поощрения.
Наказание за пайку, стоимость которой втридорога взыскивается с арестанта, вычитывается из зарплаты и пенсии. Наказание в год зоны, в год ожидания, в год жизни.
Год за кусок серого хлеба, отобранного у свиней.
У свиней, которые едят майонез, но болеют от приправ, что вольные люди продают арестантам в тюремном магазине.
Уполномоченный
Сегодня зона вычищена до блеска. Утром, рано, меня вызывают в штаб, я выхожу из локального участка, локалки своего отряда. У курилки никого, выходить из бараков запретили.
Иду вдоль здания столовой, в это время здесь всегда люди, много людей, работяги строятся, чтобы идти на работу, но сегодня пусто.
В стене столовой есть небольшой проем, из него обычно в это время вываливают помои, выталкивая их из кухни в специальную вонючую телегу с высокими, сваренными герметично бортами. Герметично — чтобы ничто не пропало. Свиньи должны есть, их много, несколько сотен, никто точно не знает сколько, но все помои из столовой, которыми сначала кормят зэков, выбрасывают через этот проем в вонючую телегу и везут им. Остается много, всегда много, людям это есть невозможно. А свиньи едят, и кто-то потом ест их мясо. Сегодня особенный день, сегодня в обед немного этого мяса достанется и арестантам. Старые бедолаги, что сидят не первый год и не получают передач, знают это точно, они оживлены. Надеются, что с ними поделятся пайками те, кого «греют». И делятся, да, и тогда бедолаги ставят себе на стол по несколько порций, кто сколько урвет, молча и не жуя глотают, некогда жевать, обед — это пятнадцать минут.
Пятнадцать минут много в этой вони, люди вырываются наружу, на воздух, а недоеденные ими помои вываливаются в телегу. Но сегодня телеги нет, проем закрыт на железную заслонку, я и не обращал внимания, что она есть.
Все локалки пусты.
Нет никого у штаба, у спецчасти нет вечной толпы, выстроенной в неровные шеренги. Важно, чтобы зэк ждал в толпе, его надо вызывать в толпе, выстраивать и заставлять ждать под дождем для подписания одной бумаги. Но сегодня все бумаги будут ждать. Они не важны.
В клубе будет фильм, и туда собирают по десять зэков с отряда, это чудо в рабочий день. Зэку нечего делать в клубе, в клубе должна быть тишина. Но не сегодня. Сегодня зэк смотрит фильм.
В штабе я иду к вызвавшему меня оперу. Он спрашивает у меня, готов ли отряд. В этом вопросе все. Важно, чтобы было чисто, чтобы все следы идущего у меня ремонта были спрятаны, не было ни мешков с цементом, ни инструментов, вообще ничего. Ведь арестант не ремонтирует свой барак. Барак у него отремонтирован, бюджет выделил на это деньги.
— Мы бодры, веселы, — отвечаю я.
Можно иногда так. В рамках. Я знаю, какой будет следующий вопрос, его задают всем завхозам.
— Вопросы будут задавать?
— А к нам зайдут? — Я уже немного наглею.
— Кто его знает…
Я знаю ответ.
Неделю назад нас собрали, всех завхозов. Едет очень важный уполномоченный. По правам человека из Москвы. Все будут сидеть в отрядах. Промку закроют, в этот день никто на работу не пойдет. Будут вопросы почему — нет электричества, авария. Промку показывать нельзя, по факту там работает в пять раз больше людей, чем оформлено. Если кто задаст вопрос — ну сами знаете.
Знаем.
— Не будет вопросов у моих, — говорю, — дураков не осталось.
Не осталось, да. Плохо они заканчивают. Не верят люди и будут молчать. Одна радость — мяса дадут. Одно желание — чтобы не заходили в отряд, чтобы мимо прошли. С ним же, с уполномоченным, хозяин идет и опера, а это всегда опасно. Мало ли что не понравится. Уполномоченный уедет, а космонавты из спецназа всегда рядом. Космонавты. У них шарообразные шлемы, налокотники и наколенники. Йеху, обученные рвать людей. Не на войне. У них есть собаки. С ними, когда хочется веселья, заставляют здороваться. Здравствуйте, товарищ собака. Смешно, им очень смешно, они хохочут взахлеб, это же так весело — арестанту страшно, и он здоровается с собакой.
— Иди, — говорит мне опер.
Со мной просто, я все знаю и уберегаю своих людей от иллюзий. Мои не будут задавать вопросов не потому, что страшно, а потому, что это бесполезно — задавать вопросы человеку, которому нравится идти вдоль потемкинских фасадов.
Прихожу в барак, заглядываю в кубрики, проверяю все еще раз. Заходите, гости дорогие.
Наш этаж — второй, я стою у окна, чуть поодаль, чтобы не бросаться в глаза. Команда по внутренней связи прозвучала — зашли. Карантин, медсанчасть и ШИЗО — первые на маршруте, туда заходят, но там настолько стерильно, там такие милые и вышколенные зэки, остальных так надежно припрятали, что у уполномоченного становится светло и радостно на душе — вот она, правозащита в действии. Потемкинская правозащита, но разве потемкиным грустно от этого?
Вот они выходят из-за поворота. Большой и грузный начальник зоны с умным лицом, рядом маленький и толстый уполномоченный с бегающим взглядом и неспокойными руками. Сзади — оперативное сопровождение. Оно цепко считывает обстановку. Все спокойно.
Заходят в недавно отстроенный барак, его отремонтировал отсидевший недавно срок серьезный коммерсант, все об этом знают, это барак образцовый, для избранных.
Выходят через несколько минут. Они уже близко, я вижу, как улыбается уполномоченный.
— Сейчас зайдут в одиннадцатый, — дергает меня за рукав Леха, мой помощник, он молод, но сидит давно и видит это не впервые.
Я тоже уже видел. Сейчас будет сцена. Они пройдут мимо локалки одиннадцатого, потом хозяин встрепенется, предложит зайти в первый попавшийся барак и заведет в одиннадцатый. Да, все так.
Одиннадцатый тоже со свежим ремонтом, его делали зэки. Долго всех, кто был способен что-то дать, отправляли в этот барак. Мошенничество и взятка в приговоре вели в одиннадцатый. Значит, есть деньги. Платили, строили и построили.
Теперь уполномоченный полностью удовлетворен.
Мимо нашего прошли, уже все понятно, зона образцовая, в столовую заглянули, мясо в пайках увидели. Полчаса.
Инспекция окончена.
Делегация ушла, фото на память — и в путь.
— Выводи людей на промку. — Команда по телефону проста, рабы уже готовы.
Звонок, смена на выход. Жизнь продолжается. И у нас, и у уполномоченного.
«Учреждение является одним из лучших учреждений УИС области, лучшим учреждением для отбывания наказания бывшими сотрудниками правоохранительных органов…» Так он напишет в блоге.
Еще он напишет, что на производстве работает двести человек, с официальной суточной зарплатой 160 рублей.
Я буду рассказывать об этом парням за чаем, тем, кто среди тысячи, именно тысячи работяг ежедневно выходит работать в цеха.
Мы все будем смеяться. И вопросов к нему у нас нет.
Обряд лишения времени
На прошлой неделе закончился июнь, а это — конец квартала. Зона хоть и для БС, бывших сотрудников, но таковых здесь немного, не больше двадцати процентов — тех, кто раскрывал и расследовал, еще меньше здесь прокуроров и судей. Они знают, как опасен конец квартала, и в это время их не видно вовсе.
Остальные — некогда срочники внутренних и пограничных войск, которые часто лишь перед этапом узнают, что они — бывшие сотрудники и сидеть им в зонах для БС. Для них конец квартала не значит ничего особенного. А зря.
Инспекторы отдела безопасности — существа подневольные. У них требуют план. Это служба, это показатели, без которых они не нужны. У инспектора могут быть тихие и спокойные отряды, в которые собраны безобидные старички и больные, он сам может быть гением службы, и зэки будут жить по расписанию, ровным строем ходить в столовую, их лица будут отображать необратимое добровольное исправление, их шконки можно будет фотографировать на стенды: «Соблюдение ПВР приближает меня к дому». Но план выявленных нарушений тех самых ПВР — правил внутреннего распорядка — инспектор обязан выдать. О нем хорошо не думать в январе или июле: первые месяцы квартала, ведь можно нагнать. Можно не думать в ноябре или мае. Тоже не критично. Но март, июнь, сентябрь и декабрь такого не позволяют.
Последние недели месяцев, завершающих квартал, всегда проходят в погоне за планом.
Людей собрали во дворе клуба, их около ста, тех, кого на комиссию. Ждать можно час, а можно два, могут разогнать в любой момент по баракам, а могут в спешке погнать в штаб — все зависит лишь от хозяина. Одно точно — комиссия будет, и составленный акт не пропадет.
— О, ты тоже здесь, — говорит с удивлением и даже сочувствием, что здесь редкость, столяр Игорь бывшему адвокату Сергею.
Тот писал ему жалобу по делу, очень грамотную, как все, что он пишет. Игорю по этой жалобе Верховный суд снизил наказание почти на два года, и он уходит через три недели, как тут не расслабиться. Он и расслабился, не поздоровался с сотрудником. Не заметил, а надо замечать. Акт.
— Здесь, — отвечает Сергей.
— А что так?
— Хлеб.
Сергей мрачен.
Глупейший из запретов — не разрешать забирать из столовой кусок хлеба из скудной пайки.
Зэк получает в передачах колбасу, сало и сыр, но передавать хлеб неразумно, его негде хранить, морозильные камеры холодильников всегда забиты. Он берет хлеб из столовой, чтобы сделать бутерброд.
Другой зэк не получает передач. Ему нечего положить на хлеб. Но он берет этот кусок из столовой, чтобы посыпать его сахаром и попить чаю перед сном. Пустая баланда три раза в день верно убивает человека.
Обмануть организм полупайкой хлеба — нужда. Но удовлетворение этой нужды наказуемо.
Сергей живет своей работой, пишет жалобы, за это ему приносят сигареты, сахар, какие-то припасы. С благодарностью приносят. Но передачи он из дома не заказывает, он переживает за семью, там жена и трое детей.
Через три недели у него суд по условно-досрочному освобождению. Взыскание поставит на его надеждах крест.
Здесь те, кто не застегнул верхнюю пуговицу лепня — куртки робы. Стоит жара, под сорок, в робе из грубой синтетики и обязательной к ношению кепке из того же материала невыносимо. Но пуговицы лепня неприкосновенны. Снимать его нельзя даже в бараке.
Много тех, кто не поздоровался с сотрудником. Здороваться с каждым надо столько раз, сколько ты его встретишь. Это полбеды, к этому несложно привыкнуть. Но сотрудник сотруднику рознь, потому есть варианты. Зэка могут привести к дежурной части и поставить у двери. Сотрудник будет входить и выходить. По несколько раз в минуту. Зэк будет здороваться. В какой-то момент сотрудник прикажет прекратить. Бросит вскользь: «Ты что, попка, заладил тут». И в следующий его выход зэк промолчит. Это акт.
Невесело бродят «бирочники». Их актируют без шансов на оправдание. Безопасник подбирает их из безобидных или тех, кому наказание станет лишь очередным, у кого нет шансов уйти досрочно, им важно лишь не попасть в ШИЗО. Надзиратель заходит в барак, выгоняет зэков в локалку, строит их, а сам подходит к выбранной шконке, завешивает полотенцем прикроватную бирку, отходит, включает видеорегистратор, подходит к шконке вновь и фиксирует нарушение. Акт.
Сегодня комиссия для тех, кто попал под плановые рейды. «Плановые» нарушители.
Выходил отряд из столовой, подбежал безопасник, остановил отряд, всех обыскал и нашел у двух-трех зэков хлеб в кармане.
Ушли люди на работу, вернулись, а у кого-то прикроватная бирка завешена была, оказывается.
План.
Уводят людей к штабу через полтора часа стояния.
На каждого у начальника уходит примерно пятнадцать секунд, все уже решено, осталось только вписать в постановление вид взыскания и количество суток, если это ШИЗО. Это лишь ритуал, ведь в законе написано, что акт должна рассматривать комиссия.
Это обряд лишения времени. Вот человек собирался выходить условно-досрочно, вот пятнадцать секунд, и вот он видит, как у него отняли год жизни.
Обряд окончен, маски сняты, бубны сложены.
Тех, кого закрывают, уводят через другой выход, и их как бы больше нет на какое-то время. Бывает, что надолго, из ШИЗО можно запросто «уехать» в ПКТ[20], а потом и в СУС. Многих из тех, с кем стоял в очереди на комиссию, попавший в ШИЗО может уже никогда не увидеть.
Но это нормально, тут всегда так — кто-то, кто сейчас рядом, может неожиданно и навсегда исчезнуть. Этим исчезнувшим можешь быть и ты.
Игоря прощают, потому что ему скоро уходить, а еще шахматы по заказу прокурора надо доделать.
Сергея не прощают, он человек ненужный и неинтересный для администрации. Из-за куска хлеба из его же пайки год дети Сергея проведут без отца, но кому это важно?
План выполнен, вот главное.
Эти взыскания невозможно оспорить. Прокурор — фигура формальная, он как мед Винни-Пуха, он как бы есть, когда приходит на прием, но его сразу нет, если обращение серьезное. Жалобу ему написать можно. Он даже может запросить материалы, а там будет все, что ему нужно для ответа: рапорты сотрудников, акт, выписка из протокола комиссии и постановление о наложении взыскания.
«Ваше обращение рассмотрено <…> оснований для принятия мер прокурорского реагирования не найдено». Все, что между этими словами, значения не имеет.
У прокурора своя статистика. И в ней есть негативные показатели — количество удовлетворенных обращений.
Логических обоснований для этого нет, просто должны же быть показатели и положительные, и отрицательные. Решили, что удовлетворение жалоб — плохо. Решили, что раз удовлетворил жалобу, значит, не предотвратил нарушение прав. За это наказывают. Если прокурор надзирает за колониями, его наказывают за удовлетворение жалоб осужденных.
Поэтому прокурор — всегда самый безопасный проверяющий для хозяина. Он и водки с ним тяпнет, и зэка отматюгает.
Судье тоже нет резона лезть в глубину. Обжалование взысканий в колонии для него процесс исключительно формальный. Соблюдена процедура? Да. Ну и забыли. Прокурор всегда ближе и нужней.
Есть и начальники колоний, и судьи, и прокуроры, которые понимают, что так нельзя. Они возмущаются. Они готовы принимать другие решения и менять систему. Только поздно — они сидят, и система ест их самих.
Храм
Храм в зоне стоит рядом со следственным изолятором, есть тут и такой, в нем бээсники со всей Свердловской области. Пока их дела расследуют, они сидят здесь, вывозят их лишь по запросам следователя и в суд. В следственном изоляторе люди готовятся стать спецконтингентом. Они в чистилище. Если они получают общий режим, остаются в этой же колонии. Их просто выводят из изолятора и ведут в карантин. Это самый короткий в стране этап — сто метров пешком по колонии, в которой потом сидеть годы.
В зарешеченные окна видно церковь. В приходском хозяйстве несколько зданий. Есть библиотека, где приходящий священник проводит занятия в воскресной школе. Делает он это по средам, потому как в зоне нет воскресенья. Здесь каждый день не отличается от другого. Тот, кто создавал этот мир, огороженный стенами и колючей проволокой от вселенной, был не Бог, он не устал на седьмой день трудов и не отдыхал.
С другой стороны храмовые постройки подпирает барак отряда 9/2. По слухам, когда-то это был обычный барак, но в него однажды попал крупный коммерсант, который сделал благое дело — построил на его месте новый, с меблированными комнатами. Уровень комфорта — придорожный мотель, что по меркам зоны полноценные пять звезд. Благом этот мотель стал и для самого коммерсанта: освободился он условно-досрочно без проволочек. Помог лично хозяин. Теперь в этом бараке держат тех, кто заслужил облегченные условия и готовится к беспроблемному покиданию колонии.
Так не задумывали, невозможно так задумать, но храм стоит между входящими в ад и близкими к выходу из него.
Служками в храме приписаны несколько зэков, исключительно примерного поведения. Все они числятся дневальными. Есть и старший дневальный. Так его в зоне и зовут — завхоз храма.
Сейчас на этом месте бывший опер госбезопасности. Старой школы, еще КГБ. Приговор у него за мошенничество. На пенсии у него появился бизнес, теперь бизнеса нет, все ушло бывшим партнерам. Он до сих пор не понимает как и даже пытается им звонить. Но не для того он в тюрьме, чтобы мог дозвониться бывшим партнерам по бизнесу.
Андрей Андреевич смотрит как бы сквозь собеседника и редко улыбается. Улыбка кривая, но это не от злого нрава, а от боли, что мучает его всегда. Его донимают колени и голеностопы, это какая-то болезнь, о которой он не любит говорить, но даже стоять он может, только опершись на костыли. Обычные обезболивающие ему не помогают, а других здесь не положено.
Подружились мы, когда его назначили в храм. Я, увидев его, пошутил, что наконец-то у священника будет правильный помощник — опер КГБ.
— Заходи, прокурор, дела оперативные проверять должен кто-то, — улыбнулся он.
Тогда я и увидел впервые эту кривую от боли улыбку.
Вечером, после ужина, посещать храм разрешается. Я стал заходить. Андреич старше, но разницы мы не чувствуем.
Священник приходит не каждый день. Окормлять тюремный приход, это так называется, каждый день сложно. Когда его нет, вечерние молитвы — правила — читают служки из зэков.
— Послушаем твоих стажеров, товарищ старший оперуполномоченный, — говорю я Андрею.
— Послушаем, товарищ прокурор, — усмехается он и садится на скамью у иконы Николая Угодника.
Ему разрешено сидеть во время отправления обрядов. Но иногда он стоит и внимательно слушает вечерние правила или службу, а бывает, и стоит всю воскресную литургию. Тогда видно, как ему тяжело, но он стоит. Он смотрит куда-то сквозь иконостас и даже сквозь алтарь, куда-то в Волгоград, где от него ушла жена, оставив его ни с чем, туда, где у него было все, чтобы жить, а теперь нет ничего даже для того, чтобы умереть. Но ему некуда больше смотреть и некуда больше ехать.
В церковь приходят работяги, и это — честные прихожане. Они заходят после смены, куда их выводят в семь утра и откуда приводят к вечеру. Не задерживаются, сил нет стоять долго, надо еще успеть выпить чаю и умыться. Они подходят к иконе Божьей Матери с Младенцем, чаще всего к ней, зажигают тоненькую свечку, держат ее, укрывая от сквозняка, воск плавится и падает каплями на серую кожу ладоней, но они не чувствуют и шепчут что-то, и это не молитвы. Они говорят с женами, матерями и детьми.
Потом они ставят свечи, топчутся недолго и уходят. Молитв они не знают, но это и не надо, если есть Бог, их Он должен слышать.
Есть истовые, которые стоят все службы от начала и до конца. Ходят они в церковь каждый день. Крестятся размашисто, шепчут слова псалмов и канонов вслед за чтецами, без нужды встают на колени. Пол уложен плиткой, она темная в мелкую светлую крапинку, и оттого пол похож на звездное небо, если на него смотреть долго. Молящиеся на коленях прикладывают лбы к небу, но оно холодное. Это зона. Все, кого ты здесь просишь о чем-то, — холодны.
— Устанавливают контакт, — говорю я Андреичу.
— С кем? — не понимает он.
— С Самим.
— Не богохульствуй, — журит он меня.
Ходят сюда те, у кого скоро суды по условно-досрочному освобождению. Они стоят подолгу, смотрят, как горят их свечи, поправляют, если те вдруг сгибаются от жара соседних огней. Они ждут знака, они пошли бы к колдуну вуду, будь здесь его хижина, и мазали бы медом фигурку судьи. Знака не бывает никогда, и после суда они не заходят больше. Если их выпускают, то потому, что забывают. Если нет — потому, что не сработало.
— Как в спортзале в марте, — шучу я, — заходят подкачаться к курортному сезону по-быстрому.
Андреичу нравятся мои шутки, но он считает себя верующим и хмурится. А я считаю его добрым, потому стараюсь шутить реже.
— Ты хотя бы улыбайся, когда шутишь, — говорит он.
— Я улыбаюсь.
— Тогда с улыбкой улыбайся, не разберешь тебя, прокурор, — ворчит он.
Он удивляется, когда я говорю, что помогал строить церковь на родине незадолго до ареста.
— Это хорошо, — говорит он, — не подумал бы. Помогает семье сейчас батюшка?
— Помогает, — говорю, — только не батюшка, а муфтий.
Андрей удивлен.
Я рассказываю, что помогает моей семье сейчас только мусульманский священник, знаком я с которым шапочно, больше знает он мою жену, которая была преподавателем теории государства и права в университете и приглашала его на лекции. Он встретил ее случайно после моего приговора. Теперь у нее и моих дочерей есть к кому обратиться, когда нужна мужская помощь, и есть к кому съездить в гости, — жена и дочь муфтия всегда рады.
Андрей Андреевич знает, что такое, когда внезапно не к кому сходить в гости и никто не говорит с тобой. Поэтому он молчит.
Мы часто молчим. И это хорошо — те недолгие моменты, когда мы можем поговорить, тянутся. От этого цена слов растет, и мы понимаем без них, недоговаривая и улыбаясь.
Андреич — криво, а я — без улыбки.
Художник
— Лучший художник на лагере — Серега, отвечаю, — уверенно сказал Гарик, а ему можно было верить.
Гарик сидел давно, был завхозом отряда этажом ниже в нашем же бараке.
Авторитетный сосед.
— Нарды тебе покажу, парни сделали, а он разрисовал.
Мы сидели у него в каптерке, мне иногда можно было к нему заходить; вопросы хозяйственные, если живешь в одном старом, косо выстроенном здании, решать надо вместе.
Я взял со стола большую кружку с чаем, маленьких Гарик не понимал. Положил в рот конфету, они у него в деревянной конфетнице: элемент уюта.
Когда питаешься три раза в день по причудливо составленному расписанию, к примеру в 6:40, 14:30 и 18:00, нельзя не ценить сладкое. Сигареты и конфеты — спасение. Я не курю, но Гарику принес пачку хороших сигарет, это «братский подгон», он поддерживает меня, я иногда советуюсь с ним, советы важны, зона — это совокупность мелкого опыта, и любой шаг, если он не продуман или в неизвестность, может изменить все и сразу.
Сегодня я заглянул к нему поговорить об утеплении стен барака к зиме, люди мерзли. Заодно и спросил, кому можно заказать небольшую картину, которую я задумал повесить на стену своего вновь отремонтированного кубрика. Вообще, людей, что немудряще рисовали, хватало, но грех не задать такой вопрос старому каторжанину за чаем.
— Вот, смотри. — Гарик достал с полки на стене нарды и положил на стол.
Зэковские, только здесь делают такие. Огромный короб, в причудливой избыточной резьбе, с узорами, не несущими никакого смысла, кроме одного — на эту работу потрачено время, которое приблизило мастера к дому.
— Красиво, — сказал я.
— Погоди, — ответил Гарик, раскрыл нарды и стал смотреть на меня.
Я должен был восхититься, иных вариантов не предполагалось.
Увиденное, безусловно, впечатлило. На одной стороне доски была женщина. На другой, впрочем, тоже. Художник задумывал их молодыми. Этот замысел выдавали контуры тел. Но что-то мешало поверить.
Приглядевшись, я понял, что женщина нарисована одна. Слева — спереди, чуть анфас, а справа сзади. Ягодицы, грудь и губы — все, что просил бы любой, кто заказывает такие нарды, имелись. Более того, они удались. Купальник на женщину художником был надет, небольшой, но вполне прикрывающий интимное, это важно, иначе нарды не пережили бы ни одного шмона и были бы изъяты, как содержащие порнографические изображения, после чего уничтожены по акту и подарены прокурору. Или другому проверяющему. Но купальник присутствовал, и нарды хранились у Гарика вполне официально.
Глаза, они мешали поверить художнику. Это были пустые глаза зэка, которому отказали в УДО и сидеть ему еще три года, а совсем не озорные глаза молодой женщины. Но Гарику нравилось. Он заказывал роспись нард не ради глаз, а то, что просил, имелось в наличии.
— Хороший художник, — сказал я.
— Плохого не посоветую, братан. — Гарик был доволен.
Я допил чай и ушел.
Серега числился именно в моем отряде. Судили его за мошенничество, у него было интеллигентное лицо и манера вежливо, с паузами говорить.
Рисунок на нардах внушал сомнения, но незачем было огорчать Гарика, который обязательно бы спросил, заказал ли я картину Сереге. Да и хотел я немногого — всего лишь три китайских иероглифа, увиденные в какой-то книге; я не знал даже, что они означают, но они явно не несли негативного смысла. Красные, на желтом фоне, они подходили для моей стены. Тоже элемент уюта, как конфетница Гарика, и мне он был нужен.
Серега выслушал меня очень серьезно. Предложил сделать рисунок на ткани, чтобы имитировать пергамент. Пообещал найти подходящую материю. Пообещал подобрать краску. Пообещал продумать, как это красиво по-китайски повесить, чтобы не было рамки, а был бамбук сверху и снизу — имитация свитка. Убедил, понравился, и я понял, что ошибался в этом профессионале. Мне было стыдно за свои нехорошие мысли.
— Три банки тушенки, пять пачек сигарет и сахару сколько не жалко, — ответил он на мой вопрос о стоимости картины.
Мне было не жалко, и я выдал все, включая бонус — пачку сахара.
Сергей, как я его стал называть после этого, ушел в творческое раздумье и поиски расходных материалов.
Ткань, как и обещал, он подобрал через неделю. Так он мне сказал, видеть процесс я не мог, работа велась на промзоне, в закутке столярного цеха, выделенного для художников и резчиков.
Я ждал. Потом он нашел желтую краску и подготовил холст.
С красной краской возникла проблема.
— Мне пришлось отдать за нее сигарет и макароны, я же знал, ты отдашь, — рассказал мне Сергей. Он стеснялся говорить об этом.
Я был благодарен за доверие и компенсировал расходы.
А потом он чудом сумел найти бамбуковое удилище и сделал из него верх и низ свитка. Ушло на это около двух месяцев. Сложнее всего было с бамбуком, но дело стоило того.
За бамбук ему пришлось отдать блок сигарет — десять пачек, последних своих.
Так мы начали дружить, он удивлял меня все больше и больше.
Сигареты я ему отдал через пару дней, когда смог купить, в колонии это непросто. Сергею нечего было курить, но он ни разу меня не упрекнул.
Он не получал передач, чтобы не напрягать семью. Мы иногда говорили вечерами, он рассказывал о своем поселке под Рязанью, это было красиво: сосны и речка. Жена и дочь ждали его. Я угощал его чаем и бутербродами, Сергей интеллигентно стеснялся, приходилось настаивать.
Я помог ему написать ходатайство об условно-досрочном освобождении, это была вторая его попытка, а сидел он уже четыре года. Получилось. Оставалось десять дней до его выхода, нужно было дождаться вступления постановления суда в силу. Все свободное время Сергей трудился над моим заказом и, хоть его и завалили работой напоследок, закончил его накануне освобождения.
Вечером он принес мне картину.
Иероглифы следовало написать вертикально. Первые два получились именно так. Для третьего иероглифа места под вторым не хватило, и Сергей нарисовал его рядом со вторым. И сделал чуть меньше. Примерно на треть. Я пригляделся к шедевру и картинке, что служила образцом. Общего было мало. Сергей изобразил какие-то другие иероглифы. Скорее всего, несуществующие. Бамбук оказался не бамбуком, а слегка залакированной веткой сосны с очищенной, к чести мастера, корой. Но ткань была закрашена хорошо и напоминала пергамент. К ткани у меня претензий не возникло. И только к ней.
Сам мастер смотрел на меня своими голубыми глазами и улыбался. Я начал понимать.
— Сергей, ты же завтра уходишь? Ты вот это мне оставишь? — спросил я.
— Да, отлично же вышло, — улыбка Сергея стала еще шире.
— Ты меня разводил три месяца почти, выходит?
— Да, — честно ответил он, — но ты не расстраивайся. Я мог больше тебя развести, но не стал, ты мне нравишься.
— А если я тебя сейчас сломаю? — начал злиться я.
— Не будешь, ты умный. Мне завтра выходить, а ты в ШИЗО не хочешь. Короче, Лех, пойду я. Ты тут давай, не будь лохом.
И вышел. На всякий случай вечером и утром он меня старался обходить. Но он мог этого и не делать: за уроки всегда надо платить, и я даже был немного благодарен ему.
Он ушел в полдень.
Вечером я решил все-таки повесить произведение Сереги на стену. Как память: не будь лохом. Но передумал. Вдруг то, что написано, действительно иероглифы и означают они что-то запрещенное, а кто-то из очередных шмонающих изучает китайский и прочтет их. От зоны можно всего ждать. А если не ждешь всего, ты — лох.
Безопасное место
Мужчине напротив около тридцати. Дмитрий, из Москвы. Их только привели после распределения с карантина, он возбужден, ему страшно. Я привычно задаю вопросы, их надо задать, о том, все ли у него ровно, не отделенный ли он, хотя уже знаю, что нет, провожу по бараку, показываю туалет, выделяю ему ящик для продуктов в пищевке — комнате, где сидельцы едят. Дневальный приносит ему из штаба распечатанные на цветном принтере нагрудные бирки, объясняет, как их правильно пришить, обклеить скотчем — так, чтобы бирка не промокала и ее можно было легко снять на время, пока стирается куртка, арестантский лепень. Заменить испорченные бирки сложно, через отдельные разрешения, это объясняем каждому.
На все это уходит около часа, их пятеро — новичков, пряников. Остальные меня не беспокоят. Этот — тревожный.
Вечером, перед отбоем, я зову его к себе. Руки его ищут опоры, он их не контролирует.
— В чем твоя боль? — спрашиваю я, времени на долгие беседы нет.
Он сначала осторожно, а потом срываясь на осаживаемый мной крик, рассказывает. Родители — преподаватели большого вуза, отец — профессор, потомственные москвичи. Он тоже окончил университет, юрист, но ничего не понимает в этом, не работал по специальности, друг семьи пристроил директором ООО, потом другого.
— Восемь лет так работал, в шести фирмах был директором, у меня обороты были под ярд. — Он теребит руками календарик Московского управления ФСБ, невесть как попавший ко мне на стол недавно с очередным этапом.
— Номинал? — спрашиваю я, мне уже все ясно.
— Да, — отвечает Дима и замолкает.
Налоговая проверка заказчика и уголовное дело в отношении всех Диминых фирм, это легализация, обнал, это делают все, наличные нужны власти, без отката нет контракта, но власть не прощает попавшихся. Попадаются номиналы — якобы директора, их никому не жаль.
Дмитрий попался, и о нем никто не плачет, кроме его пожилых родителей.
— Ты же понимал риск, — говорю, — наверняка отложил на смутные времена.
Он не отложил. Он рассказывает, что деньги водились, что купил квартиру, студию в центре, в кредит. Пока расследовалось дело, почти полтора года, он был на домашнем аресте и жил у родителей, квартира ушла банку. Жены нет. Но есть иск по делу, не под ярд, но много. И срок — пять лет, мошенничество в особо крупном.
— Срок нормальный, — говорю, — больше могли дать.
Но он не воспринимает. Срок ему кажется огромным, денег нет, и условно-досрочное освобождение не для него, иск не погасить. Те, на кого он работал номиналом, испарились. Друг семьи оказался не друг. И родители. Его боль — родители.
— Это нормально, — повторяю я, он должен понять, что для тех, кто здесь, его проблемы — норма, здесь никого таким не удивишь.
Отправляю его спать, время, но на следующий день подзываю после работы к себе.
Страшный комплекс вины. Родители отдали все сбережения адвокату. Он не оправдал надежд. Они не знали, чем он занимался на самом деле. Родственники не знали. Соседи думали, что он — бизнесмен. Он думает не о себе. Он думает, что сейчас будут говорить.
— Понимаешь, к маме с папой же сейчас придут приставы. — Он на грани.
Я долго объясняю ему, что это не страшно, приставы придут и уйдут, они ничего не возьмут маминого или папиного, и то, что соседи узнают, — тоже не беда и переживется, люди посудачат и забудут.
Но его уже воспринимают как блаженного, он в себе и не слышит, не читает мир панорамно, а только так можно жить в зоне. Я пытаюсь включить ему эту опцию, но не могу.
— Напиши письмо маме, — говорю я ему, — расскажи все.
На меня косятся, что я вожусь с неадекватом, это определение прилипает в зоне в момент, но я надеюсь заставить человека вжиться в реальность кроличьей норы.
Он начинает обращать на себя внимание. Его определили в столярный цех, и это — издевательство, он ничего не умеет делать руками, а там парни хваткие и выносливые. Те, кто это делает, ждут, что он «раскрутится», предложит денег кому надо и его пристроят на непыльную должность. Но он не понимает, а на намеки прямо отвечает, что денег у него нет. Ему не верят. Пара дней — и с ним перестают возиться.
Опера переводят его в безопасное место, от греха подальше. Это свинарник. Там действительно безопасно. Там содержат тех, кто не смог жить в «общей массе». Это — место для униженных и оскорбленных. Тюрьма в тюрьме. Люди там живут за стеной от свиней и вместе с крысами, а куда без них. Полтысячи свиней требуют ухода, и люди ухаживают за свиньями. Годы жизни в свинарнике без выхода.
Это не страшно, говорят, когда привыкнешь. Если привыкнешь.
Дмитрий не привык.
Письмо матери он написал и положил на тумбочку. Тело его сняли из петли рядом со шконкой, он нашел момент и повесился, быстро и суетливо, как он делал в зоне все.
День был ясный, летний, приехал следователь, неторопливо осмотрел труп. Ему все было понятно. Письмо он забрал.
Такие письма не уходят к адресату. Их приобщают к материалам проверки. Отказным материалам, что сотнями уходят в архив.
Так положено.
Страх, ненависть и презрение
Напротив меня за столом каптерки сидел совсем не тот Мансур, которого еще два дня назад остерегалась вся зона. Передо мной — просто чеченец средних лет, его только что привели ко мне в отряд. Это была ссылка, причем из разряда тех, что благо. Все могло обернуться хуже. Намного хуже.
Он появился в зоне давно. Статьи у него были злые. Сам он тоже никогда добротой не отличался и всегда отвечал на силу силой. Били его, бил он. Невысокий и угрюмый, прошедший обе чеченские кампании и выживший в тех бойнях, он снова попал на войну, где все против всех. И умирать не собирался.
Его пытались сломать сотрудники и промять арестанты. Он много раз находился в ШИЗО. Был в СУС — отряде со строгими условиями содержания, это тюрьма внутри колонии, где совсем тяжко.
Со временем вокруг него собрались люди — опытные бойцы, в основном чеченцы. Были и другие кавказцы. Были с ним и русские.
Когда в колонии сменился начальник, Мансур сумел выстроить с ним отношения. «Простроился», как говорят в зоне. Новый хозяин, из оперов, оказался далеко не дурак и считал: лучше всех смогут обеспечить порядок зэки с авторитетом. Нужно только, чтобы они подчинялись напрямую ему самому и опасались только его.
Он дал Мансуру то, чего тот хотел, — власть над одним отрядом. Практически безграничную. Время от времени в этот отряд приводили с этапов людей, способных платить за спокойную жизнь. У Мансура появилась своя комната, в ней диван и телефон с внешней связью. По неофициальному личному разрешению хозяина. Собранные деньги он не разбазаривал, барак отремонтировал, и в нем стали устраивать экскурсии для проверяющих разного рода.
— А вот давайте зайдем в первый попавшийся барак, — говорил комиссии ответственный сотрудник и заводил уполномоченных в барак к Мансуру.
Там всегда все сияло. Проверяющие уходили довольными.
Мансур организовывал футбольные турниры. Футбол он любил страстно. Собирал в свой отряд игроков с зоны, которые ему нравились, опера шли навстречу. Ему разрешили отпустить небольшую бороду. Получать в передачах домашние продукты и мясо. Разрешили готовить еду по-настоящему — не в микроволновках, как вся зона, а на электрической плите, со сковородками и кастрюлями, что всегда и всем запрещалось.
Барак Мансура стал особенным. В обмен за дотации Мансур исполнял договоренности — у него сохранялся порядок, кого бы к нему в отряд ни направили.
Порядок в зоне — это когда никто не привлекает к себе внимания, кто должен работать — работает, а кто хочет жаловаться — не жалуется.
За это его боялись и ненавидели. Иначе в тюрьме не бывает. Блага, которые ты получаешь, несут с собой зависть, а если ты не можешь ничего получить либо удержать полученное, тебя ждет презрение. Мансур готов был к зависти и внешне вполне естественно радовался ненависти к себе, иначе мужчина в его понимании жить не мог.
Но презрения ему было не пережить.
В тот день ему грозило именно это — презрение тех, кто раньше боялся и ненавидел. Два дня назад у него случился конфликт с завхозом соседнего отряда, бывшим небольшим милицейским начальником. Тот был неприметным человеком и не был раньше замечен даже в спорах. Он очень хотел освободиться условно-досрочно, и суд принял такое решение. Освобождаться он готовился на следующий день, и это придало ему сил.
Стычка произошла между локальными участками двух отрядов, на глазах у всех. Никто не слышал, что такого сказал бывший милиционер Мансуру. Но все видели, как Мансур мягко подошел к нему и несколько раз ударил. Снизу вверх. Снизу, потому что был ниже ростом. Выбил два зуба. Сбил на асфальт. Остановился.
Упавший вскочил и убежал в дежурную часть.
Начальник колонии находился в отпуске. Исполнявший его обязанности Мансура не любил. Чеченца закрыли в ШИЗО.
Через два дня о происшествии доложили начальнику. Тот повелел Мансура всех благ лишить и сослать в рабочий отряд, а лучше — в рабочую бригаду.
Так он попал в мой барак.
Весть об этом разлетелась моментально. От Мансура отвернулись почти все. Зона злословила. Кто-то делал это открыто, большинство шепталось. Мне советовали не давать ему спуску. Я знал цену советам сидельцев и слушать никого не собирался.
Я видел, что Мансуру больно. Рука у него была перевязана. Он ее повредил. Зубы — вещь опасная и заразная. Рана была глубокой, и кисть правой руки зэка загноилась. Ему требовалась помощь.
— Отвести тебя в санчасть? — спросил я.
— Нет, — отрезал он, — я ходил. Меня не пустили к врачу. Женя даже не вышел ко мне. Дали бинт и сказали перевязать руку самому.
Женя — это санитар и неофициальный завхоз санчасти. Место теплое и дорогое.
— Он же твой друг. — Я не удивился, но мне надо было это сказать.
— Друзей у меня нет, оказывается, Леха, — коротко ответил Мансур и замолчал.
— Давай сюда руку.
С рукой было плохо. В ране гной. Пальцы и кисть покраснели. У Мансура поднялась температура.
Я достал из своих запасов стерильный бинт, перекись водорода, мазь Вишневского. Обработал рану, как смог, постарался убрать гной, сгустки крови, почистил края. Это не очень сложно, если раньше видел, как делают тебе. Я видел.
Действовал я неумело, Мансуру было больно, но он молчал.
Потом я отыскал тщательно спрятанный антибиотик, из неприкосновенного. Отдал ему. Принес две чашки с чаем.
— Теперь давай поговорим, — сказал я ему.
— Давай, — ответил он.
— Все хотят, чтобы я тебя загнобил, ты знаешь.
— Знаю.
— Но этого не будет. Ты станешь здесь жить спокойно. Я не смогу дать тебе лучшее место в бараке. Опера не поймут, и тебя сразу переведут. Не дам тебе и плохого места, это не по-людски. Ты получишь хороший чистый кубрик.
— Зачем ты это делаешь?
— Не думай. Просто считай, что ты приехал ко мне в гости на неделю.
— Почему на неделю?
— Посмотрим. Пока будем тебя лечить.
Ночью ему стало плохо. Измерить температуру я не мог, градусника в отряде не было. Дал жаропонижающее, сменил повязку. Пока обрабатывал рану, проверить отряд зашел безопасник. Из молодых. Он только учился презрительно вешать нижнюю губу при виде зэка. Получалось уже хорошо.
— Почему не спите, акт нужен? — спросил он.
— Шел бы ты работать, — улыбнулся я.
Получилось криво.
Было не до него — стол в кровавых бинтах и бледный Мансур, он потел и не среагировал даже на безопасника.
Тот ушел. Картина подействовала.
Я отвел Мансура в койку.
Утром ему стало легче. Он попил чай и съел бутерброд. К вечеру было понятно, что кризис прошел.
— Пациент жив, Леха, — хрипло смеялся он перед сном, когда мы снова меняли ему повязку. Я к тому времени наловчился и лишней боли не причинял.
Прошла неделя. Начальник вышел из отпуска. Вызвал к себе Мансура. Не было его долго. Вернувшись, он собрал вещи. Его возвращали в прежний отряд. Со всеми благами.
— Откуда ты знал? — спросил он у меня.
— Догадывался, — ответил я.
Когда на чаше весов два зуба освободившегося сидельца, а на другой — управляемость «спецконтингента», можно догадываться, что именно перевесит. Но и только — догадываться. Могло сложиться как угодно.
Но я не входил в число ненавидевших или боявшихся Мансура. И мне претило быть среди внезапно запрезиравших его.
Мансур все понял. Мы пожали друг другу левые руки. Правая у него еще болела. Он ушел к себе.
Женя, завхоз санчасти, позвонил ему первым.
Китаец
Внешность Ивана не соответствовала его имени. Был он хоть и долговяз, но узкоглаз, скуласт и печален. Китаец, так его все звали. И были правы. Фамилию он носил Чанчунь и по отцу был китайцем. Это объясняло узость его глаз. Рост ему дала русская мать, а происхождение печали никто не выяснял, зона все-таки. Тут все страдают.
Ваня страдал проникновенно и действовал на людей вокруг.
Как-то, глядя в пищевке, как за чаем спорят два закадычных друга, эвенк и тувинец, о том, какого народа меньше осталось на земле, Ваня глотнул своего чифира, которого был большой любитель, и печально высказал мнение, что на самом деле малая народность — это он, китаец Чанчунь, потому что даже их двое в зоне, а он один.
Всем стало грустно.
— Я тоже один, — сказал тувинец Виктор. — Коля — эвенк, это другой народ.
— Видишь, Николай, — посмотрел Ваня на эвенка, — он тебя не признает за своего.
— Ты берега потерял? — спросил эвенк тувинца.
— Все вы, эвенки, одинаковые, — грустно сказал Витя и звучно ударил друга ложкой в лоб.
В деле вымирания народностей конкуренция жесткая.
Драка была короткой, как всегда в зоне, и завершилась для обоих ШИЗО.
Китаец поспрашивал у знающих, можно ли ему написать кассацию с просьбой о смягчении наказания, как представителю малой народности, — понимания не нашел и оставил эту мысль.
Печаль его проходила, только когда он играл в шахматы.
— А! А! Ага! — неожиданным густым баритоном восклицал он, забирая мою ладью.
Глаза его в эти моменты сверкали, а длинные руки становились гибкими и быстрыми, как щупальца спрута.
— Ох… — вздыхал он, возвращаясь в обычное состояние, когда понимал, что это была жертва, которую следовало игнорировать, а теперь поздно печалиться: фланг разбит и короля не спасти.
— Вот чего ты ведешься, он тебе ничего не подарит, — говорил в эти моменты Толик, его друг, который в шахматы не играл, но зэк был опытный и гамбитные ловушки чуял, как и любые подвохи, инстинктами.
Смотрелись они рядом колоритно. Лица обоих говорили о большом алкогольном, и не только, прошлом.
Толик был тоже щупл, но невысок, с минимумом ржавых от чифира и дешевого курева зубов, нраву озорного. Характер Толи притягивал авантюры. Оставаться в стороне Ваня не мог.
Работали они в автосервисе. Слово громкое, но был это небольшой ангар, в котором двенадцать зэков круглосуточно возились с автомобилями нужных людей. Цеха этого документально, как многих других, не существовало, труд был бесплатен, но там время шло быстрее и режим был много мягче. Безопасники на всякий случай старались заходить туда пореже, мало ли кому там машину ремонтируют.
Ваня был кузовным специалистом, а Толик электриком. Мастера они были умелые, потому и позволялось им чуть больше, чем остальным, они часто оставались на ночь, и в это время их никто не контролировал.
Как-то под утро меня разбудил ночной дневальный.
— Китаец с Толиком бухие пришли из гаража. — Он был в растерянности.
Алкоголь в этой колонии под строгим запретом. Купить его невозможно. Изготовить нереально, сдадут свои же.
Вид друзей, сидевших в каптерке, сомнений не оставлял. И запах. Резкий запах чего-то технического. Но на отравившихся они похожи не были. Совсем наоборот. Им было хорошо.
— Леха, — сказал Китаец, — мы трезвые. Он попутал.
И указал на дневального.
— Да! — подтвердил Толик, попытался хлопнуть меня по плечу, промахнулся, отчего зашатался и сел на табурет.
Стоять он не мог. Его истерзанное разлукой с этанолом тело наслаждалось, а мозг отрицал необходимость общения со мной.
— Что делать собираетесь? — спросил я.
— Спать, — ответил Ваня.
— Покурим и решим, братан, — проговорил Толик и опустился на пол.
Он собирался уснуть. И уснул.
— Ваня, вы же в гараже омывайки нажрались. Вас же свои сдадут, — попытался я вразумить Китайца.
— Кто? — возмутился он. — Наши братаны?
И, подумав, согласился.
— Да, сдадут.
— Забирай груз и вали спать, — отправил я друзей в кубрик, — утром за вами придут, не сомневайся.
Утром пришли, когда отряд ушел на завтрак. Все уже было известно администрации, зона не молчит. Друзья не спали, хотя по распорядку, как работники ночной смены, были должны спать.
Оба в умывальной комнате брили головы. Они знали, что будет. Пакет с вещами для ШИЗО у каждого был собран и стоял рядом.
— Леха, наши шконки не отдавай никому, через три дня вернемся, точно говорю, — шепнул мне Толик.
Авантюристом он был знатным, но за базар отвечал всегда, поэтому я выполнил его просьбу, хотя алкоголь и всего три дня ШИЗО не сочетались. Месяц минимум полагается за такое, причем пятнадцать дней для начала, а потом продлевают на сколько захотят.
Но через три дня их привели.
В гараж пригнали машину прокурора. Толик знал об этом заранее, потому не сомневался в скором помиловании.
— Нету, Леха, таких электриков, как я, нету. Не могут они без нас, понимаешь, — торжествовал он вечером у меня в каптерке и показывал кривым, черным от машинного масла пальцем на Ваню. — Он же кузова шлифует как Будда.
Я был рад. Парни безобидные. Работяги и бедолаги.
И начальник колонии был рад. И прокурор.
— Если бы водяры литр поставили, я бы и недельку в ШИЗО отсидел, — сказал Толик, уходя.
— Я не буддист, — ответил ему Китаец и пошел следом.
Спящие боги
— Она на моей полке стоит. Нет, она в мягкой обложке, красная, старенькая. Рядом с «Государем». Нет, Макиавелли не надо, он тяжелый, — объясняю я жене, какие книги передать мне в изолятор.
Подобрать книги в СИЗО сложно. Они должны быть легкими, а значит, лучше в мягкой обложке, они должны затягивать в их реальность, отвлекать от того, что вокруг, и иметь смысл, чтобы их хотелось прочесть снова. Еще для меня важно, чтобы у меня их не просили сокамерники, мне не жаль, но потом книги сложно вернуть.
Поэтому я прошу из дома Блока и Брэдбери, а та, красная и старенькая, — сценарии к «Куклам» Шендеровича, что я купил еще в конце 90-х.
Я звоню официально, с разрешения судьи и начальника изолятора. Телефон висит на стене у пропускного пункта, через который нас привели, мы прошли сотню метров по морозному воздуху, в лицо бил колкий снег с дождем. Ноябрь, Волга совсем рядом, в пяти минутах ходьбы, если бы не стены.
От близости большой реки, еще не замерзшей, влажно. Местные не любят этот воздух, от него зимой холоднее, а летом душнее, чем было бы без воды рядом. Но это если не выходить наружу из прокуренной камеры древнего централа, где легкие отказываются дышать и работают только верхними долями — ты вдыхаешь и выдыхаешь мелко и дробно.
Во дворе по пути к телефону можно поработать легкими полно, и они счастливы.
Разрешения на звонок надо ждать долго, судья может и отказать, приговор еще не вступил в силу, и это только его воля — дать мне услышать голоса детей или отказать. Мобильных телефонов в нашей камере нет — в отношении двоих, в том числе меня, дела расследованы ФСБ, а это особый присмотр, мы не рискуем. Все ждут и иногда дожидаются. И когда дожидаются, их ведут через двор к телефону на стене у пропускного пункта дежурной части.
— Хорошо, — говорит жена, — завтра принесу. С детьми поговоришь?
Разговаривать можно пятнадцать минут, у меня есть еще пять, и я их использую на то, чтобы рассказать детям, почему я пока не могу приехать из командировки.
После разговора по телефону я начинаю сомневаться — Крым и санкции: «Куклы» могут и зарубить, а на меня обратить внимание. Возраст сценариев не имеет значения, автор писал их и на будущее, с запасом.
Томик Брэдбери, «451 градус по Фаренгейту» — тоже вещь сомнительная, но кто ж в погонах такое читает.
Цензура через неделю пропускает все книги.
Под Новый год происходит шмон. Необычный. Плановый еженедельный мы уже пережили, и он ничем не отличался от всех подобных, безопасники заходили в хату, нас выводили, оставался старший из нас, Евгений, подполковник ФСБ. Ему предлагали выдать что-нибудь для протокола, и он выдавал что-то вроде лезвия разобранной безопасной бритвы.
Всех это устраивает. Но этот шмон жесткий, выгнали всех, вытряхивают сумки и выворачивают одежду. Ищут какую-то книгу, как слышно из их разговоров. Я напрягаюсь. Борьба с экстремизмом нарастает, из тюрьмы это видно особенно хорошо, потому ждать надо всякого. Слышу, что нашли. Оформляют, но не мое, а поделку про оттенки серого, она попала в камеру неизвестно как и пользуется популярностью. Сейчас она признана порнографической и изъята.
Нас запускают. Мои книги отброшены на шконку, я их подбираю. Брэдбери и Шендерович оперативного интереса не представляют.
Дни идут, и неожиданно для меня хата начинает их читать, вспомнились «Куклы» и та атмосфера, много говорим, и, уезжая на этап, я оставляю эти книги. Не хочу прерывать — пусть дочитают, да и ехать мне в неизвестность.
Сборник Блока беру.
Карантин в колонии, куда нас привозят ранним мартовским утром, измученных и оголодавших, начинается с полного раздевания, у нас отбирают все, ничего без шмона не может попасть внутрь загона, где мы проведем годы. Нас обривают наголо и гонят в душ, в руках у нас маленькие вафельные полотенца, мы моемся по очереди и идем на шконки. Холодно, на нас нет одежды, кроме трусов, разрешили оставить только их, но мы отключаемся на два часа, несмотря ни на что, сил нет.
Утром подъем, построение и тотальный шмон.
Книги, которые есть у многих, отбирают. Какие-то откладывают — это популярный сегмент со смешными названиями, где в текстах много диалогов и восклицательных знаков, в начале труп, а в конце — свадьба и много денег.
Что-то выкидывают.
Блока выкинули.
— Заходи в клуб, будет время, библиотеку посмотри, — зовет меня Михаил, мы с ним приехали вместе в ту ночь, он сейчас завхозом в клубе, а я — в отряде.
Мы уже почти год в зоне, мы друзья и смогли пережить самое сложное. Теперь только ждать.
— Зайду, будет время, — отвечаю я, — посмотрю на твои собрания сочинений Ленина.
— Там много чего есть, люди разное заказывают, — серьезно говорит Миша.
— Вот, смотри, — показывает он, когда я захожу через пару дней, — штамп библиотеки всегда на семнадцатой странице. Я узнавал почему. Ставили на титульной, сразу после обложки, зэки вырывали ее, и книжка становилась небиблиотечной. Решили штамповать страницы в середине книги. Но тогда сотрудники терялись, где штамп искать. Договорились ставить на семнадцатой. Все это знают. Но штамп не на титульной, указание начальства выполнено.
— Забавные ритуалы, — улыбаюсь я и решаю проверить.
Иду вдоль полок, беру первую попавшуюся — это какой-то «ментовской» детектив, такое здесь читают. Страница семнадцать — да, есть штамп. Беру еще пару, убеждаюсь, ставлю книги на полку и замираю: передо мной Воннегут, «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей».
Беру осторожно. Да, она.
И начинаю смотреть. Книги не систематизированы, это никому не надо, их около семи тысяч, в документах так, говорит Миша.
Я нахожу Войновича, «Москва 2042», и Оруэлла, «1984». Там тоже штампы на семнадцатых страницах. Они прошли цензуру.
Позже — Стругацкие, Александр Солженицын, Варлам Шаламов, Рэй Брэдбери, Олдос Хаксли, Энтони Берджесс. Все в свободном доступе.
Евгений Замятин, Татьяна Толстая и Людмила Улицкая — книги в прекрасном состоянии, только некоторые листы вырваны, работяги использовали на самокрутки.
Их можно открыто читать и не опасаться, что они будут «отметены» на шмонах.
Те, кто обыскивает бараки, никогда их не читали, они вообще ничего не читают, там нет картинок, нет порноконтента и инструкций по изготовлению оружия. Указаний изъять эти книги никто не дает.
Те, кто в бараках живет, — воннегутовские бараны, и такое чтение им не под силу.
Эти книги — для немногих и на воле. Но их, немногих, на воле много по сравнению с зоной. Ты можешь прийти в столице в магазин, где non-fiction, там десятки людей, они будут приходить и уходить, завтра придут те, кто не был вчера, а послезавтра появятся новые и вернутся те, кто приходил сегодня.
И все они читают, в этих местах не бывает посторонних, и ты думаешь, что мир именно таков: в нем много умных и читающих и они этим миром правят, это прогрессоры, а Дон Румата просто сорвался тогда, ему надо было потерпеть, и серые штурмовики сами бы удавили Дона Рэбу в веселой башне. Да, удавили бы и пришли к Румате, володейте нами, прекрасные прогрессоры, просили бы они.
Но здесь, в тюрьме, я вижу, как ничтожно мало тех, кто читает это, и как идут из стойла на бойню бараны, которые затопчут меня, прикажи им штурмовики.
Прекрасные книги. Они могут изменить человека, а с ним — мир вокруг. Но не меняется ничего. Эти книги в зоне — спящие боги, к которым люди перестали ходить. Их не читают, не переписывают и не цитируют. Потому и отнимать их нужды нет.
Они за пределами спектра, в котором живут надзиратели и сидельцы. Спектра, все оттенки которого — серые.
И это прошло
Жарко уже утром. Это лето, обычное тагильское лето, второе для меня. Солнце высоко, оно печет, но в любой момент могут набежать тучи, и тогда заморосит, а может, польет уральский дождь и сразу станет темно.
Я сижу на койке, и рядом со мной лежит мой спортивный костюм. Так нельзя — ни сидеть на койке, ни класть на нее спортивный костюм. После подъема кровать должна быть застелена до отбоя, и притрагиваться к ней недопустимо, такие здесь правила.
Почему — не знает никто и никто не сможет объяснить.
Но я сижу, и мне можно, я знаю, что, даже если зайдет опер или безопасник, мне сегодня ничего не грозит.
Сегодня меня освобождают. Это будет около часу пополудни. Отряд на промзоне. Никаких проверок уполномоченных или прокуроров сегодня нет, и ушли почти все, из ста человек в отряде работают обычно около девяноста, оформлено официально из них примерно двадцать, остальные — рабы, не замечаемые никем из тех, кому положено это видеть.
Оставшиеся в бараке разбрелись, сейчас спокойное время, это час, когда дежурная смена меняется с новой. Сотрудникам сейчас не до зэков.
Тишина. Время встало.
Моя комната — «кубрик» в самом конце длинного коридора барака, она небольшая, здесь всего две койки, они одноярусные — неслыханное благо для зоны. Так я живу недавно, всего полгода, я сам его отремонтировал, мне разрешили сделать это за мой счет и жить в нем. В любой момент могли выгнать в любой другой кубрик и в любой другой барак, обещания администрации в зоне ничего не стоят. Но не выгнали, тут я и дожил свою тюремную жизнь.
Первую ночь мне было не по себе оттого, что надо мной никто не ворочается и я вижу, просыпаясь, потолок. Просыпался часто. И смотрел на квадраты потолочной плитки. Когда пытаешься увидеть все плитки потолка сразу, забываешься.
Ложусь на кровать и закрываю глаза.
Днем лежать на кровати — страшный проступок, гораздо страшнее, чем просто сидеть. Означает ШИЗО, минимум на пять суток. И это забито во мне, никакие самоуговоры, что сегодня можно, не работают. Приобретенные рефлексы рвут разум в клочья, инстинкты всегда сильнее разума, и я встаю.
Прохожусь по коридору. Медленно. Заглядываю в пустые кубрики. Смотрю на бирки, что висят на кроватях. Там фотографии. Странное чувство. Я знаю всех, некоторые были здесь до меня. Многие будут и долго после того, как я уйду.
Кто-то освободится очень скоро. А кто-то только приехал. Годы первых были такими же, как будут годы вторых. Каторга возьмет свое с каждого. И каждому выдаст крест. Свой я донес.
Через несколько часов у меня не будет креста, но останется клеймо, что будет со мной всегда. Говорят, оно тянет вниз. Печать креста тяжелее его самого. Но я уже знаю, что не буду прятать стигм.
— Пошли чаю попьем с парнями, хотят с тобой попрощаться, — говорит мне старый арестант Володя, он работает в столярном цехе, но сегодня он в бараке, вчера бревно упало ему на ногу, и он хромает. Повезло, что не сломал ничего. Переломы здесь лечат временем и аспирином.
Я не заметил, как он подошел.
— Что, думки гоняешь? — спрашивает он у меня.
— Нет, брат, иду и думаю, зачем это все. Зона, барак. Кому это все надо?
— Кто нас сажает, тому и надо, — просто объясняет Володя. — Что ты делал на воле, Леха? — спрашивает он вдруг.
У моря не жил, думаю я, и в рулетку не играл. Обедал черт знает с кем во фраке, это было. Оттого и иду сейчас с тобой, Володя, по коридору криво построенного барака зоны для бывших сотрудников.
Но ему говорю просто:
— Жил, брат. Все жили, и я жил.
Захожу в пищевку. За одним из длинных столов сидят все, кто остался в бараке. Два чайника на столе, их уже вскипятили. Я спохватываюсь и ухожу в каптерку, достаю припрятанные для этого дня конфеты, печенье и шоколад, отношу на стол. Пьем чай.
Лица… Я смотрю на них, это маски, на масках улыбки, под ними боль. Маски что-то говорят. Желают хорошего. Смотрят на меня. Я вижу боль от каждого будущего их дня здесь, я не виноват ни в одном из этих еще не случившихся дней с их бедами, но чувствую себя от взглядов неловко.
Потом я раздаю вещи. Все. Отдаю обе робы, они пошиты из хорошей ткани и по размеру, это непросто сделать в зоне, надо договариваться. Ватник. Обувь. Всякую мелочь, которая мелочь только на воле, а в зоне это — ценность: ножнички и пилка для ногтей, бритвы, лекарства, которые уберег от вечных шмонов. За каждой вещью — беседы, договоры, обмены. Зона ничего не дает бесплатно. Оставляю две большие спортивные сумки бедолагам, у которых нет ничего, и вещи свои они хранят в обычных мешках.
Звонит телефон, он уже много раз звонил, но в этот раз я слышу, что дневальный называет мою фамилию, переспрашивая. Дежурная часть. Требует меня. Я уже переоделся. Еще раз прощаюсь со всеми и ухожу.
Я слушаю себя и не чувствую ничего особенного. Я просто выхожу из барака и иду в дежурную часть, как делал сотни раз. Но в этот раз я не в робе, и мне неуютно. Я слишком долго пробыл в ней.
Неуютно мне все время, пока мне оформляют выход. Со мной освобождается еще один арестант — бывший подполковник ФСБ, он дотошный, требует, чтобы ему выдали со склада вещи, в которых его доставили сюда этапом три года назад. Неизвестно, зачем они ему, отсыревшие, в плесени, их мало кто просит, но он настаивает. Их несут долго, мы ждем почти час. Я уже написал отказ от вещей и получил в кассе какие-то мелкие деньги, которые ФСИН считает достаточными на дорогу в тысячу километров. Билет на них купить невозможно, но ГУЛАГу это безразлично.
ГУЛАГ проявил гуманность — не убил меня, пока я был в нем, и кинул подачку при выходе.
Это было. И это прошло.
Подполковнику приносят вещи, и нас выпускают, оказывается, мне можно было просто выйти за дверь, справка об освобождении уже в моих руках. Просто это напоследок меня повоспитывали, потому что один из нас, освобождаемых, захотел забрать свое.
Выходим. Подполковник зовет меня выпить, но я отказываюсь и забываю о нем. Меня ждет водитель, я прошу довезти меня в магазин, чтобы сменить одежду. Заезжаю. Покупаю новую одежду, она простая, но не была в зоне. Несидевшая. Переодеваюсь. Выкидываю все, что было на мне. И уезжаю из этого города. Наваливаются ощущения. Цвета. Запахи. И ожидание. Мои дети стали взрослее, я их не видел со дня приговора, и холодок струится вокруг сердца, когда я думаю, как они меня встретят.
Я купил простенький телефон и говорю с женой, говорю с мамой, с ними долго, а еще с отцом — с ним кратко, он всегда краток. Все ждут. Дети ждут. Холодок уходит.
День в разгаре. Жарко.
Вдруг я остро чувствую запах зоны. Это не одежда, новая одежда не может так пахнуть. Это пахнет моя кожа. Смотрю на водителя. Он не обращает на меня внимания.
Подношу ладони к лицу и снова пытаюсь понять, есть ли у кожи тот запах.
Нет. Показалось.
Сноски
1
Шконка — спальное место в исправительных учреждениях. — Здесь и далее прим. ред.
(обратно)2
Малява — письмо, нелегально передающееся заключенными из тюрьмы на волю или из одной камеры в другую.
(обратно)3
Хата — камера в СИЗО или зоне.
(обратно)4
Продольный — сотрудник ФСИН, несущий дежурство на продоле — в тюремном коридоре.
(обратно)5
Крыса — заключенный, который ворует у других арестантов.
(обратно)6
Белка — алкогольный делирий, или белая горячка.
(обратно)7
Бээсники — бывшие сотрудники силовых органов.
(обратно)8
ИВС — изолятор временного содержания.
(обратно)9
Бедолага — отбывающий срок арестант, у которого нет «грева»: ему никто не помогает с воли, он живет «на хозяйском»: ест баланду, одевается в то, что выдают, работает на производстве или занимается уборкой барака (кроме отхожих мест, которые могут убирать только опущенные и отделенные). — Прим. авт.
(обратно)10
Крадун — вор, человек, сидящий за кражу.
(обратно)11
Шмон — обыск.
(обратно)12
Ништяк — что-то полезное и желанное, не обязательно запретное. Конфеты, чай, телевизор, холодильник — это все ништяки. — Прим. авт.
(обратно)13
Крытка — колония особого режима.
(обратно)14
Пряник — человек, впервые попавший в тюрьму или колонию.
(обратно)15
Локалка (локальная зона) — территория вокруг барака, огороженная забором от остальных зон колонии.
(обратно)16
Козлы — заключенные, по собственному желанию и открыто сотрудничающие с администрацией исправительного учреждения.
(обратно)17
Прикентовка — окружение. От слова «кенты» (друзья, товарищи).
(обратно)18
БЭП — Отдел по борьбе с экономическими преступлениями.
(обратно)19
Смотрящий — уголовный авторитет, который следит за тем, чтобы зэки соблюдали воровской закон.
(обратно)20
ПКТ — помещение камерного типа.
(обратно)



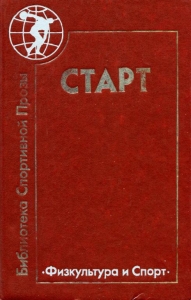




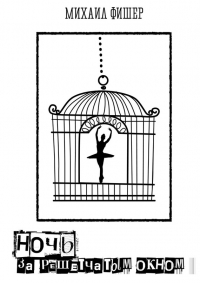
Комментарии к книге «Человек сидящий», Алексей Федяров
Всего 0 комментариев