Соло для оркестра
Рассказ в современной Чехословакии
Литература Чехословацкой Социалистической Республики — литература многонациональная. Ее создают авторы, пишущие на чешском, словацком, венгерском, украинском языках. Но ведущее положение в этом содружестве народов, естественно, занимают чехи и словаки. Литературы этих двух наций формировались в разных условиях. Тем не менее общность исторических судеб на определенных этапах развития, а также этническое и языковое родство привели к тесному культурному симбиозу. Недаром словаки Ян Коллар и Павел Йозеф Шафарик считаются классиками чешского национального Возрождения, а чехи Петер Илемницкий, Эдуард Уркс, Петер Звон оставили глубокий след в истории словацкой литературы XX века.
Словацкий литературовед Станислав Шматлак предложил для обозначения этого единства, еще более окрепшего в период народно-демократической и социалистической государственности, термин «чехословацкий литературный контекст». Наличие такого контекста и вместе с тем своеобразие каждой из входящих в него литератур явственны и в жанре рассказа.
Хотя первый словацкий роман увидел свет еще в конце XVIII века, а первый чешский роман — в конце второго десятилетия XIX века, на всем протяжении прошлого столетия рассказ оставался в обеих литературах ведущим жанром. Правда, иногда его было трудно отличить от повести. Наивысшие достижения чешского реалистического рассказа XIX века связаны с именем Яна Неруды (1834—1891). В Словакии расцвет рассказа наступает на рубеже XIX и XX веков — прежде всего в реалистическом творчестве Мартина Кукучина (1860—1928), Божены Сланчиковой-Тимравы (1867—1951), Йозефа Грегора-Тайовского (1874—1940), Янко Есенского (1874—1945). Но если в рассказах Неруды изображен быт средних и низших городских слоев, в рассказах большинства словацких новеллистов рисуется жизнь крестьянства. Это различие сохранится и позднее: чехи Ярослав Гашек, Карел Чапек, Франтишек Лангер, Вацлав Ржезач будут развивать традиции реалистического рассказа преимущественно на городском материале, а словаки Йозеф Цигер-Гронский и Франтишек Швантнер — главным образом на материале деревенской жизни. Разумеется, эти тенденции нельзя абсолютизировать: деревня — основной объект изображения в рассказах чеха Ярослава Кратохвила, провинциальный город — в рассказах словака Янко Есенского.
Словацкий рассказ удерживал ключевые позиции в литературе до середины 40-х годов нашего века, тогда как чешский рассказ в период между двумя войнами отходит на второй план. В 1936 году один из журналов даже провел анкету «Почему у нас не пишут рассказов?». Ответ на этот вопрос искали и ведущие чешские новеллисты того времени Карел Чапек, Карел Полачек, Яромир Йон. Только в годы войны и фашистской оккупации чешский рассказ частично вернул себе утраченный было авторитет, а в первые послевоенные годы даже выдвинулся на первый план.
На рубеже 40—50-х годов в чешской и словацкой литературе преобладала крупномасштабная эпика. В Словакии такое положение сохранялось до середины 60-х годов (замечательные рассказы Альфонза Беднара были исключением). Однако затем роман уступил первенство средним и малым прозаическим жанрам. Вновь набирать силу, тесня повесть и рассказ, он начал лишь во второй половине минувшего десятилетия (опять-таки прежде всего в Словакии).
В народно-демократической и социалистической Чехословакии тематика чешской и словацкой новеллистики сблизилась (изображение антифашистской борьбы и социалистических преобразований, рождение нового человека и новых человеческих отношений), но сказывается и национальная специфика. В чешской новеллистике тема антифашистского Сопротивления в большей степени раскрывалась на материале подпольной борьбы и борьбы в фашистских застенках (таковы, например, рассказы Милана Яриша и Эмиля Франтишека Буриана об узниках концлагерей), в словацкой — преимущественно на материале партизанского движения (в этом сборнике, например, новелла Я. Паппа «Приказ»). Чешские новеллисты чаще изображали человека на производстве (особое их внимание привлекал труд и быт шахтеров). К таким авторам принадлежат М. Рафай, Ф. Ставинога. У словацких новеллистов до сих пор преобладает деревенская проблематика (можно сравнить, например, рассказы Саболовой, Бенё, Ракуса, Худобы).
Современный чешский и словацкий рассказ, преодолев отдельные попытки слепо следовать зарубежной моде, заниматься экспериментированием ради экспериментирования, воскрешает национальные традиции. Писатели обращаются к истории в ее социально-нравственном аспекте и к социально-нравственным проблемам, решаемым не абстрактно, а конкретно-исторически. В центре их внимания человек в его общественных связях, в труде, в коллективе. Вместе с тем современный чешский и словацкий рассказ — в отличие от рассказа конца 40-х — начала 50-х годов — не столько решает проблемы, сколько их ставит. Он лишен назидательности, в нем нет обязательных благополучных концов.
Чешские и словацкие писатели хранят память о годах войны. Но чаще их привлекают не батальные сцены, а сложные моральные проблемы, встающие перед человеком с оружием в руках. Героям рассказа Яна Паппа «Приказ» нелегко найти выход из ситуации, в которой выполнение приказа противоречит их представлениям о чести и гуманности. Но хотя развязка рассказа трагична, она приводит читателя к нравственному очищению, раскрывая античеловечность войны и вместе с тем справедливость кары, постигающей добровольных или недобровольных пособников агрессии. Народный героизм писатели стремятся выявить через личное, обыденное, непоказное. Характерно, что и Эва Бернардинова («Раненая речь»), и Ян Сухл («Разговор с матерью») запечатлевают будничный подвиг рядового человека в детских воспоминаниях, исполненных благодарной памяти о родителях. Столь же неброско раскрыта и тема Освобождения («Мой Ваня» Рудольфа Калчика, «Собака для генерала» Любомира Томека). Многое выявляется через скупую психологическую деталь: советский военный шофер в рассказе Калчика отказывается лечь в приготовленную для него удобную постель с белоснежным бельем, которая напоминает ему дом и мирное время, а спит — по фронтовой привычке — на полу, укрывшись плащ-палаткой.
«Собака для генерала» Томека входит в сборник «Собачья жизнь» (1979), который можно назвать повестью в рассказах. Тенденция к созданию таких циклов — одна из характерных особенностей современной чехословацкой новеллистики. Одним из первых цикл рассказов со сквозными персонажами и определенной сюжетной последовательностью создал в Чехии Эдуард Петишка («Прежде чем мы становимся взрослыми», 1960), в Словакии подобные же циклы написали Ладислав Баллек («Южная почта», 1974) и Альфонз Беднар («Дом 4, корпус «Б», 1977). Заметными явлениями в чешской новеллистике последнего времени стали сборники Вацлава Душека «Бродяги» (1978), Владимира Калины «Жижковские романсы» (1980) и Франтишека Ставиноги «Звезды над Долиной Сусликов» (1981). Жижков и Карлин, где происходит действие рассказов Калины и Душека, — два соседних пролетарских района Праги. Близки эти книги и по времени изображаемых событий: у Калины это предвоенные годы и годы войны, у Душека — первые послевоенные годы. Оба автора прослеживают духовное созревание мальчика, а затем — подростка. В рассказе «Смерть Арамиса» Калина показывает, как в детскую игру врывается жестокая реальность. Обессилевший от голода безработный, которому приходят на помощь жижковские пролетарии, напоминает современному читателю об исторически недавнем прошлом Чехословакии. Герои книги Душека «Бродяги» — дети из неустроенных, неблагополучных семей, дети окраины. Они говорят на особом жаргоне, их понятия о чести и справедливости часто расходятся с устоявшимися представлениями взрослых. Вместе с тем новеллы Душека (едва ли не лучшая из них — «Девушка в коляске») проникнуты верой в человека, в неисчерпаемое богатство его души. Многое тут напоминает «босяцкие» рассказы Горького, книги Макаренко и Пантелеева; в чешской прозе предшественниками Душека можно считать Гашека, Йозефа Угера, Ивана Ольбрахта. В книгах Душека, Томека, Калины особенно явно усиление автобиографического момента, свойственное современной прозе. Повествование от первого лица придает этим циклам непосредственность и достоверность личного свидетельства.
В середине 30-х годов одной из самых популярных книг в Чехии был юмористический роман французского писателя Габриэля Шевалье «Клошмерль» (1934), блестяще переведенный на чешский язык Ярославом Заоралеком. В подобной же озорной традиции Франтишек Ставинога рассказывает о причудливых судьбах обитателей старого района бурно растущего современного чешского шахтерского города. Такие его герои, как Йозеф Сатран, при всей своей внешней непривлекательности и незадачливости несут в себе внутреннюю силу, нравственное здоровье и способны на подлинный героизм.
Мысль о скромности и неприметности подлинных героев пронизывает многие рассказы. Так, не осознают собственного героизма старый минер, жизнь которого — живая история словацкого рабочего класса («Белый камень» Блажея Белака), и старый рабочий Колая в рассказе Мирослава Рафая «Осенние работы». Сюжет его напоминает коллизию известного советского фильма «Премия», снятого по сценарию Александра Гельмана. Колая, отказавшийся от незаслуженно выплаченных ему денег и бесплатно, в неурочное время выполняющий неблагодарную работу, вызывает не только гнев и осуждение товарищей по бригаде, но и непонимание прораба. А между тем упрямый старик добивается вещи очень простой и очень важной — осуществления на деле основного принципа социализма: «Каждому по его труду».
Труд, освященный пониманием его высокого смысла, труд на благо человека дает людям не только сознание выполненного долга, но и радостное, праздничное ощущение участия в большом деле, в созидании истории. Он объединяет людей, помогает им преодолевать неизбежные удары судьбы, позволяет почувствовать локоть друга, пришедшего тебе на выручку в решающую минуту («Мост» Я. Штявницкого).
Чешские и словацкие новеллисты далеки от парадной лакировки действительности. Характерен в этом отношении рассказ известного чешского писателя Яна Козака «Славная годовщина». Козак обращается к теме, до сих пор остающейся в Чехословакии и особенно в Словакии одной из самых трудных. Речь идет о судьбе цыган. Торжественно отмечается годовщина Победы в процветающем сельскохозяйственном кооперативе. Но рядом находится нищая цыганская слобода, где за то же время почти ничего не изменилось. Цыган Дуда решает построить дом в словацкой деревне. Лишь благодаря вмешательству руководящего партийного работника крестьяне смиряются с тем, что Дуда поселится среди них. Их позицию поддерживает даже председатель сельскохозяйственного кооператива Буц. Ему вовсе не хочется, чтобы цыгане жили бок о бок с другими членами кооператива. Кто-то поджигает дом Дуды, его семье приходится спасаться бегством. Это дело рук Жиго, сторонника старых цыганских обычаев. Так нелегко веяниям нового выдерживать единоборство со старым, закосневшим.
Писатели борются с мещанским, частнособственническим отношением к жизни. Яд собственничества меняет натуру человека, разрушает, уродует дружеские и семейные связи («Друг Максим» Богумила Ногейла, «Знатоки» Франтишека Чечетки). Корни этого общественного зла уходят в прошлое, и писатели, исследуя проблему, не ограничиваются настоящим. Стремление видеть жизнь во временном потоке, в единстве давнего и нынешнего особенно характерно для словацкого рассказа наших дней, не утратившего живой связи с традициями реалистической деревенской прозы XIX — начала XX века. Образы старых людей, которые всю жизнь несли в себе неистощимый запас душевной щедрости, нежелание мириться с собственническим укладом, веру в высокое человеческое назначение, пусть это порой и оборачивалось в характерах героев «чудинкой», мы находим у многих словацких новеллистов. Таковы в нашем сборнике герои рассказов Андрея Худобы «Глиняная скрипка» и Паулы Саболовой «Бараньи головы». Трудолюбие и бескорыстие людей старшего поколения противопоставляется эгоизму и практицизму молодых («Мать Гелены» Милана Зеленки). Но писатели сознают, что возраст в данном вопросе не служит критерием. Как бы подчеркивая это, Иван Габай в новелле «Только это танго…» делает бабушку и внука союзниками в неприятии мещанской бездуховности и довольства. Интересен рассказ Петера Шевчовича «Поминки по Эвочке». Глазами старой приходящей уборщицы увидены социальные перемены, проникающие в быт людей. Героине этого рассказа тоже наиболее близка молодежь, наделенная душевной щедростью и широтой, искренне благодарная за любую помощь.
Коллективный портрет современного молодого человека, который создают чешские и словацкие новеллисты, лишен однозначности. Мы увидим, например, подростка, совершающего маленький подвиг, что не мешает окружающим принимать его за пьяного хулигана («Дождливый день» Милана Цайса). Герою рассказа молодого словацкого писателя Андрея Ферко помогает найти место в жизни спортивный коллектив («Гибкий путь»). Метафора, заключенная в названии рассказа Иржи Медека «Дорога», получает многогранное и контрастное осмысление: по новой широкой дороге идет цыган, помогавший ее строить, и для него это приобщение к новой жизни, а для кого-то это дорога домой или последняя нить надежды на возвращение «блудного сына». Тема «отцов и детей» раскрывается то лирически («Видение в омуте» Яна Дворжака), то аналитически («Нити» Иржи Навратила). Писатели стремятся показать, сколь сложно сплетаются нити человеческих взаимоотношений, как трудно человеку дается счастье.
Во многих рассказах герой проходит испытание в любви. Герой рассказа Я. Коларовой «Одни неприятности» настолько бездуховен, что даже не подозревает о возможности высокого чувства. И этот «практик в любви» и «ловец счастья» в своих попытках сменить «хорошее» на «лучшее» сам становится жертвой комической охоты за обладательницами, с его точки зрения, более высоких женских достоинств. Этому рассказу можно было бы противопоставить «Дикие розы» Карела Гоубы, не побоявшегося показаться сентиментальным, повествуя о высокой любви пожилых людей, рука об руку прошедших всю жизнь. «Сказанием о счастье» назвал свой рассказ Эдуард Петишка. Герой его убежден, что счастье — то, чего мы ждем. Но в душу его закрадывается сомнение: не упустил ли он счастье, пассивно ожидая его. Мыслью о том, что человек должен активно бороться за свое право быть счастливым, не поддаваться чувствам, унижающим любовь, его человеческое достоинство, искать «лучший из вариантов» в жизни, проникнуты рассказы Веры Швенковой, Душана Митаны, Петера Яроша, Яны Моравцовой.
Мещанской бездуховности писатели противопоставляют чистую и наивную детскую психологию (Ольга Фельдекова «Небо, которое красивее взаправдашнего»). Ради материнской любви сознательно и добровольно берет на себя тяжкий крест заботы о муже-пьянице, отце ее детей, героиня рассказа М. Черетковой-Галловой «Приговор». Но часто случается и так, что самоотверженная родительская любовь способствует развитию даже в маленьком ребенке будущего тирана и эгоиста (Ян Боденек «В парке перед полуднем»). А в рассказе «Мальчик с ключом на шее» Йозеф Мокош касается другой не менее важной проблемы — говорит о «заброшенности» ребенка в семье с чрезвычайно занятыми работой родителями.
Для современного чешского и словацкого рассказа характерно большое жанровое и стилистическое многообразие. Мы встретимся здесь с новеллистикой исторической (рассказ Блажея Балака «Белый камень»), фантастической («Теория Эды о рыбах» Любомира Махачека), юмористической («Необычайная история Йозефа Сатрана» Ф. Ставиноги, «В футболке „Локомотива“» Петера Белана). Есть рассказчики, пользующиеся традиционной манерой объективного авторского повествования или формой повествования от лица героя. Есть авторы, активно вносящие в прозу лирическую, поэтическую струю, порой связанную с использованием фольклорных мотивов (Иржи Медек «Дорога», Ян Бенё «Парни поют», Станислав Ракус «Песнь о родниковой воде»). Иногда писатели стремятся раскрыть богатство жизни, передавая ее через восприятие разных людей, выявляя самые разнообразные нюансы настроений (Петер Андрушка «Встречай зеленое утро»). Появляются рассказы, где реальность граничит с гротескной фантастикой («Только вчера…» Я. Ленчо), рассказы-притчи («Садовник» Любоша Юрика).
Современный чешский и словацкий рассказ прочно связан с национальной традицией. Так, воздействие прозы Карела Чапека можно ощутить в философичности и глубоком психологизме рассказов Эдуарда Петишки и Карела Гоубы, а Станислав Ракус явно использует опыт словацкой лиризованной прозы рубежа 30—40-х годов. Но примечательно, что чешские новеллисты нередко строят рассказы на словацком материале (Я. Козак, Я. Сухл), а словацкие писатели опираются на опыт чешской прозы (например, рассказ Б. Белака «Белый камень» заставляет нас вспомнить «Шахтерскую балладу» Марии Майеровой, а конструктивному мастерству учатся у Чапека не только Яна Моравцова и Франтишек Чечетка, пишущие по-чешски, но и словак Ян Ленчо). Идя в русле современных исканий всей прозы социалистических стран, чешские и словацкие новеллисты стремятся сочетать социально-психологическую конкретность с обобщенностью содержания и многообразием художественных форм, в том числе «условных» (миф, притча, гротеск).
Рассказ молодого брненского писателя Людвика Штепана носит название «Соло для оркестра». Таким же многоголосым соло для многих инструментов представляется мне и современная чехословацкая новеллистика, обнаруживающая «болевые точки» общества и вместе с тем прославляющая жизнь и человека в их неисчерпаемых возможностях.
Олег Малевич
Петер Андрушка ВСТРЕЧАЙ ЗЕЛЕНОЕ УТРО
По деревне несся вихрь, задевая телеги, перескакивая с крыши на крышу. Старушка подложила дров в плиту, притворила окно и, накинув на сухонькие плечи черный шерстяной платок, вышла из дому.
Грустный вид у деревенских погостов весной. Прибавляется новых могил, а деревня пустеет. Напоследок вытянешься ты на ложе, и никто больше не увидит тебя, как стоишь ты перед корчмарем и заливаешь жар души глотками горьковатого пива. Ты всего лишь холмик где-то там за деревней. И старушке известно, что костел на нижнем конце кладбища — слабая утеха перед последней дорогой. К тому же священник берет безбожные деньги за каждые похороны.
Ветер, захватив шерстяной платок, подтолкнул старушку и потерся о стройную башню костела. Топай, старая, и не богохульствуй даже в мыслях своих. У ворот кладбища под ее ногами запел песок, она замедлила шаги, открыла ворота, осенила себя крестом. Высокий терновник, колодец, мрамор. Недобрая весна забрала тебя, старик, а теперь и за мной пришла. Весна, зеленая пажить, свежие пучки листьев. Прошлый год Эмиль нарубил мне дров, хватило чуть ли не на всю зиму. Все больше дуб да акация…
Когда мы впервые встретили Нору, деревенька эта существовала для нас лишь как маленькая точка на карте, точка с чудны́м и ничего не говорящим нам именем. У Норы был белый свитерок и распущенные по плечам волосы. Эмиль знал ее раньше. Встречал в кино, на рынке, в школе. И ему даже в голову не приходило, что она может стать для него интересной. Эмиль тугодум. Он рубил старушке дрова на всю зиму и думал о Норе. Она ему нравилась. Школа, рынок, кинотеатр. Потом возник этот длинный с зализанной прической, а с ним начались и прогулки. Прогулки по длинной белой дороге, усыпанной кленовыми листьями. Этот малый все равно что старый ломаный грош. Того и гляди, рассыплется. И как это ее угораздило попасться ему на удочку, Эмиль никак не мог взять в толк.
Попалась или не попалась — никуда от этого не денешься. Эмилю надо было решаться. Может, он сдрейфил, может, она казалась ему слишком красивой. Мы сели в старую «татровку» и двинулись кружным путем, окутанные клубами дыма. Это будет великий триумфальный путь, сразу же заявил летописец нашей экспедиции Но́нчи. Настанет час — и нам воздвигнут шикарнейшую триумфальную арку, потому что наша победа — это Нора, дорогой. Эмиль придуривался, но мы его прощали. Нора — господи, как же ее на самом деле звали? — нам нравилась, и приятно было сознавать, что она будет вместе с нами. А этот ее обсосанный — он отпадет мертвым трупом, затеряется, как вышедший из употребления старый грош, откатится в сторонку, и Нора будет наша.
— Я с ней заговорю, — предупредил Эмиль, — а вы держитесь безразлично.
— Безразлично?
— Ну, как будто вас это не касается…
Раздражительность свидетельствовала о его растерянности, из чего мы делали вывод, что и он обыкновенный, ничем не выдающийся человек и весна окажется неприятной и для него. Зеленое утро, распахнувшееся, как огромное окно, уже не будет принадлежать ни ему, ни нам.
«Татра» вела себя послушно.
— Девушка поедет с нами, ребята, — сказал Эмиль.
— Мы думали, ты хочешь один… — удивился Нончи.
— Ну скотина!
На нас сразу приятно пахнуло Норой, она очутилась рядом, совсем близко, а мы все не могли договориться. Как там ее облизанный? Она послала его подальше или нас берет на пушку? Эмиль вступился за нее, Нончи был осмотрительнее, его дальновидность мне в данном случае казалась уместнее самоуверенности Эмиля.
Наши сомнения подтвердила старушка, но значительно позднее, уже когда и так выяснилось, что прав Нончи, а Эмиль попал пальцем в небо. А в тот день деревня перестала быть для нас точкой на карте и превратилась в деревню, где живет Нора.
— Никогда не поверил бы, что она такую свинью нам подложит, — скулил Эмиль.
— Это ж ясно как божий день, эта разряженная краля может оценить юмор и старую «татровку», но ей совершенно необязательно ценить таких, как мы.
— Ты хочешь сказать — таких, как я! — ударился в амбицию Эмиль.
— Хоть бы и таких!
— Спасибо, и смотри, как бы я тебе не врезал!
— Себе наподдай как следует, супермен. Если б не ты, Норе и в голову не пришло бы шарахаться от нас!
Злость Эмиля за дорогу немного остыла. Запыхавшийся состав тащился еле-еле, нас укачало до дремы, к сумеркам мы были на месте. Первым сошел Эмиль, за ним Нончи и я. Маленькая станция с выцветшей надписью на фасаде, узкая тропинка к ряду домов.
Старушка приняла нас без лишних слов.
— Сколько платить? Да кто его знает, ребятки.
— Мы пожили б у вас недели три.
— До конца жатвы, — уточнил Нончи.
— За три недели плата не может быть большая, — вслух размышляла старушка.
— Ну уж сотню-то мы вам дадим, бабуля, — сказал Эмиль.
— Сотню?
— Если мало, прибавим…
— Нет, я только о том, что лучше бы вы мне дров нарубили и воды принесли.
Мы невольно расхохотались — будет сделано, бабуля, вода и дрова. Нарубим столько — хватит до самой весны.
— Да мне до весны и надо только, после-то и ни к чему.
— Отчего же?
— Старика моего прибрало весной, и мне другого не приходится ждать.
— Вы о чем? О курносой с косой?
— Кроме как о ней мне и думать не о чем. В мои-то годы…
— Бабуля, да мало ли о чем, — куражился Эмиль. — Вы сто лет проживете.
— Сто лет! Ой, парень, не насмехайся! Господь с тобой…
— Господь… а мы с ним по корешам, бабуля, — сворачивал на свое Эмиль. — Кстати, где тут у вас его хата?
— Хата?
— Ну, костел, или как вы это называете. Из поезда мы видели шпиль, но этого мало для ориентира.
— Вы собираетесь ходить в костел?
— Ну, разок можно и сходить.
Эмиль знал, чего добивался, здорово его допек облизанный. Нора выйдет за него замуж, но Эмиль устроит им славную феерию. Такой свадьбы в деревне еще не видали!..
По деревне несся ветер, перескакивал с крыши на крышу, бросался в лицо. Заморосило. Старушка накинула шерстяной платок на плечи и вышла из дому. Протиснулась через приотворенные огромные ворота, поискала холмик осевшей земли. Старик ждет, а тут ветер и снова дождь… Надо будет мне помолиться, старый.
В поле нас возили на тракторе. Эмиль скучал по своей «татровке», можно было бы с шиком прокатиться, и тогда Нора — почем знать, — глядишь, еще и одумалась бы. Мы видели ее раза два, но встречи с ней избегали. Умышленно, подчеркнул Эмиль, но мы с Нончи были уверены, что скорей из трусости, а не из умысла. Распущенные волосы Норы, налитое тело, шаг, будто звон колоколов. Если она еще разок попадется мне в руки — все, не ускользнет. Эмиль с расстройства делал глупости. И его затея с феерией на свадьбе тоже была самая натуральная глупость. Нора выходит замуж, бабушка готовит ей настоящую деревенскую свадьбу, где будут жареные утки, свиная печенка, домашняя ливерная колбаса, горы пирогов, вино и подружки с горделиво выпяченными пышными грудями. Но в день свадьбы Нора всех переплюнет, заявил Эмиль, она непревзойденна. Нора — символ женственности, женского совершенства — стала идолом, перед которым Эмиль капитулировал. Мы его понимали, и он был нам смешон. Ничего ведь у него с ней не было, а он устраивает цирк, собирается разбить в костеле во время венчания бутылку сливовицы в тот самый момент, когда Нора произнесет «да». Бред, который мог родиться лишь в голове Эмиля.
Старушка Нору знала, знала ее под именем Милана.
— Что вы там ни говорите, ребята, она же Милана, вы только поглядите ей в лицо.
— А что она за девушка? — спросил я как-то у старушки.
— Обыкновенная, парень, девушка и девушка. Как помер у ней отец, она все к бабушке льнет.
— И часто она бывает в деревне? Приезжает ли?..
— Да каждые каникулы приезжала.
— А ребята? Ухаживают за ней ребята?
— Ну как же… не знаю я, правда. Теперь вот объявился какой-то. Говорят, замуж за него выходит.
— Знаю, такой прилизанный…
— Чего? — старушка вроде бы не поняла.
— Говорю, прилизанный такой.
— А отчего… прилизанный уж сразу…
— Эмиль так прозвал его — за то, что он причесывается гладко и весь как обсосанный.
— Это верно. — На губах старушки промелькнула улыбка. — А у Миланы все при ней. И тело такое, что просто загляденье.
— И вы смотрите, какое у девчонок тело?
— Смотрю ли? — Старушку задел мой вопрос. — Как же не смотреть! И на меня смотрели.
— А вы-то почему смотрите, бабуля?
— Смотрю, легко ли рожать будет…
— Что же, это по девушке видно?
— Само собой, конечно, видно.
— А по чему?
— Если бедра широкие — значит, легко.
— А Нора?
— Милана-то? Нет, этой легко не будет. Здорова девка, а бока узкие.
По ночам мы размышляли о Норе. Нора, Милана… Бабуля наша занятная — рассказывает о Милане, а у самой на уме Нора. А когда говоришь ей про Нору, она думает о Милане. Рассуждения Нончи остроумием не блистали, но терпеть их можно было. Зато Эмиль не мог вырваться из плена немыслимых идей. Последнее время он даже начал избегать старушку — мы это связали с Норой, — он утверждал, что ему неприятно ее морщинистое лицо и всевидящие глаза. Она боится весны, слыхали, ребята, она боится весны! Несколько раз говорила уже, что весна — плохое время года (а почему, спрашивается?), весной, мол, больше всего умирает стариков, они не любят зеленого цвета, да и солнце старым людям вредит.
В день Нориной свадьбы мы сидели в костеле. На дворе жара, последние дни жатвы. Утомительная тишина давила на нас камнем и истощала наше терпение, мы ждали, как поведет себя Эмиль. Ясно было одно: если он разобьет бутылку об пол, нам придется покинуть костел и не показываться на глаза старушке, а Нора будет опозорена. Но мы не посмели перечить Эмилю. Бедный неприкаянный Эмиль должен был сам решить, как поступать.
Позже, когда мы допивали уцелевшую сливовицу, кто-то тихонько постучал в окно.
— Я не верю в духов, — сказал Нончи. — Но не удивлюсь, если сейчас к нам ввалится некто в белом одеянии.
— Приготовь приветственный спич, — криво усмехнулся Эмиль, — я иду открывать.
Отворив дверь, он проглотил язык. Сегодня я уж не скажу — от страха или от радости. Широкая улыбка на Норином лице, ужас — в глазах Эмиля.
— В деревне о вас говорят, что вы хорошо работаете, — произнесла она, входя, — но я-то знаю, что вы приехали из-за меня…
— Ты малость опоздала, — сказал Эмиль. — Мы только что допили.
— То-то я смотрю, вы вроде не в себе. — Нора изучающе оглядела нас.
— Не в себе? Да ты что, с какой стати?
— И не спорьте, — помолчав, проговорила Нора. — Сдается, вам уже и сказать мне нечего.
— Нечего, — взял слово Нончи. — Эмиль готовил маленький сюрприз, да вот, как видишь, осталась пустая бутылка.
Не могу сказать, что Эмиль не испытывал благодарности к Нончи за его находчивые слова, но он продолжал молчать. Нора была здесь, на время забыв про своего облизанного, она была наша, и это было прекрасно.
— Будь у меня здесь «татровка», — вдруг по-детски искренне проговорил Эмиль, — я повез бы тебя в свадебное путешествие.
— И разумеется, Нончи с Петером, — засмеялась Нора.
— Вот уж не ожидал, Милана, что ты нам такое устроишь, — подал голос и я, — то есть Эмилю. Ты же знала, что нравишься ему. Могла бы сказать по крайней мере заранее.
— Ладно, не обращай внимания, — сразу вмешался Эмиль. — Поговорим лучше о моей «татре». Скажи, Нора, куда б ты хотела поехать?
— Пусть Петер скажет.
— Петер? — изумился Нончи.
— С Петером я бы поехала.
— И в свадебное путешествие? Она кивнула.
— А куда бы дела своего прилизанного?
— Алойза?
— Алойзом его зовут? Алойз?
В ту ночь кончилась наша жатва. На другой день мы собрали вещички и уехали первым же поездом. Было лето. На дворе у старушки возвышалась гора наколотых дров.
— До весны вам хватит, бабуля, а после приедем и наколем еще.
Нончи шутил, но старушка слушала его без улыбки. Глаза ее смотрели отчужденно, в них отражалась странная даль или предвидение того, что нас ожидает.
— Весна хороша только для вас, — сказала она. — Но если и вправду приедете, не забудьте наколоть дров.
Старушка не любила весну, не любила встречать зеленое утро, первое зеленое утро, которое приходит на смену снежным ночам. Весна — это оживление, брожение соков, которые в неуловимую минуту начинают вдруг свое коловращение в жилах, и ты снова чувствуешь, что живешь и что жить стоит, потому что утра снова зеленые и из травы несмело проглядывают головки первоцветов.
Эти соки, повторяла старушка, приносят смерть старым людям, прибавляется могил, поглядите только на кладбище.
— Милана славная девушка, выходит, вы из-за нее приехали, а мне ничего не сказали. Ну что ж, помогли кооперативу. — На лице улыбка, взгляд прямой.
Милана славная девушка, а что она выбрала себе того, понятно: на его щите герб зрелости, мы же могли предложить только дружбу и ожидание. Старушка поняла все в тот самый час, когда в костеле заиграл орган и священник нервно оглянулся раз и другой. Он был невелик ростом в своем облачении, и крест, красовавшийся на спине, казался несолидным. Старушка понимала это, она разбиралась в крестах и многое могла бы порассказать о них, она могла рассказывать о чем угодно, так, без всякой связи, переходя от весны к лету, через высокие ворота к вечному покою, который ждет ее каждый год, а она все не отважится. Потому что, хоть наша Нора вышла замуж и прилизанный водит ее по деревне, ты, Нора, с нами, мы знаем, что ты с нами. У старушки мы прожили три недели, жатва, молотьба, возвращение домой. А между делом были костел, погост и бутылка, а под терновником — кучка ротозеев. Нора, у той старушки было доброе сердце, и не может быть, чтоб она рассказывала нам глупости. Деревенские девчата испортились, они подражают городским чувихам. Но стоит городской девчонке нарядиться в настоящую деревенскую одежду — сердце бабушек дрогнет, затрепещет, как подбитая птица. Старушка знала, что ты придешь к нам, она не любила встречать зеленые утра, но знала, что тебе и нам они приносят успокоение, поэтому и мирилась с ними. Милана все может, сказала однажды старушка, и я согласился с ней, она была права, потому что Нора наша девушка, и мы рады, что она принадлежала и будет принадлежать только нам. Тот миг в костеле ничего не значил, он ничего не мог изменить, и ты знала это тоже.
Тропки на погосте зарастают по краям травой, зеленой, как день, полный надежды, как утро, наступающее после бесконечной ночи, когда ты только открываешь глаза. Огромная тишина этого мгновенья нам не мешает, мы идем втроем, дружно, под навесами высоких тополей, и, не знаю почему, видим, как ты идешь нам навстречу. Нет, это не видение. Это весна, и ты снова с нами, и, когда мы встретимся, мы благословим место, отмеченное зеленым утром. Прощай, старушка.
Перевод со словацкого И. Ивановой.
Блажей Белак БЕЛЫЙ КАМЕНЬ
А ты считаешь — живое только то, что растет у тебя на глазах?
Молод еще, теленок, как тот, которого ты не хотел брать с собой на выгон. А глянь на старую корову — она тоже лежит, не шевелится, хвостом мух отгоняет, но и в ней жизнь, да и ты по утрам пьешь эту жизнь с молоком. Ты вот бегать любишь, двигаться, так и надо, правильно. Вырастешь — успеешь хребтину наломать, остервенишься. И потянет тебя в холодку полежать. Так и корова: привяжешь ты ее к деревцу, чтоб, значит, поскорей в камушки играть да мне мешать, — она и рада лечь…
Вы уж могли бы продать ее, а молоко в магазине брать, только не продадите, я отца твоего знаю! Что через свои руки проходит, кажется пахучим и теплым, оно и вкуснее, и полезнее вроде бы. Так же и с камнем. Выхожу я, скажем, на дорогу, где испод делал либо щебенкой высыпал, и сразу легче шагается! Или — дом: вон, гляжу, в том четыре кубика гладкого камня — мои, а в другом две телеги щебня, битыша, опять же я натолок. Хотя, бывает, живет в том доме чужой человек, холодный, такой, что и в лютую непогоду передо мной двери не отворит. Случилось однажды такое. Налетела гроза, я в крайнюю избу толкнулся, думаешь, меня в дом позвали? На крыльце пережидал, пока пронесутся тучи. Смотрел я, как хлещут потоки воды по подстенку, и приятно пахло от разогретого бетона и пыли на дворе, и не плакал. Мне и так было хорошо. Да, я свое тепло везде найду и узнаю.
И уж на что тепло, жарко в шахте, а нам все мало, мы еще и запальный шпур поджигаем, потому как с молотком мало вспотели! Скажу я тебе, нет лучше минуты, когда искра бежит по шнуру, перескакивает, кружится, шипит, прыскает, припрыгивает, ну чисто ящерица! Не раз заглядишься — и забудешь обо всем: случалось, держал я шашку в руке, пока огонь чуть не до капсюля добегал!
Тянет меня к камню. Как тебя к футболу либо иного к пьянке. А до чего ж хорошо прилечь на кучу раскаленного на солнце песка, что ты накопал! Солнышко припекает, а ты лежишь на спине, и горячий песок весь ревматизм у тебя из спины вытягивает. Есть такие, что ездят на пески в Болгарию или там в Румынию. И брат мой с зятьком туда же мотались. Только приехал брат оттудова злой-презлой, потому как лили дожди каждый божий день, все время, что они там пробыли.
А на свете ведь все из камня, все. Оно, конечно, и стены тюремные тоже, да.
А чего в середке земли только нету! Ходишь себе поверху и думаешь, будто по земле ступаешь, а возьми соскреби дернину — и что же увидишь? Будто на другом свете окажешься — жилы увидишь, как на теле человека, и нервы, мослы, сухожилья. И еще скажешь: гладкий камень, а снимешь слой — и под ним узлы всякие, один возле другого, складочки, швы, хвостики и кружочки, будто в срезе дубового сучка. А расколешь камень поглубже — случается, и лягушку в яйце найдешь. Сколько таких диковин натаскал я домой — косточек, зубов, — даже управляющий про многие не умел объяснить, откуда они! Двух похожих камушков не найдешь ни за что. И картинки на них попадаются красивше тех, что в газетах печатают. И это на каких хошь камнях, хоть и на известняке, я уж не скажу — на травертине.
А гору Острую я и не запомню, сколько лет копаю, уж и не знаю, какой у ней вид был спервоначалу… Где ты стоишь, прежде был Бабитсов утес. Куда он подевался?
Я тебе скажу куда. В стенах твоего дома, возов с двадцать пять — внизу на станции, лежит с пользой на дороге к магазину, кой-чего — в новом мосту… и кто его знает — где еще!
Для людей мы все — камнеломы, а мы же разные, будто слои в скале. Кто хотел и умел, мог расслоить нас мягкой кроновой бумажкой. Помню, я мальцом был, лет восьми, — мы еще на выгоне в чижа играли, — а уже пошел в камнеломню, долото за мастером носить, чтоб не есть кормовую свеклу без соли. Как же мне уши заложило от первого взрыва! Но еще больше мне их заложило от крика, когда я осмелился напомнить насчет обещанной платы. Слава богу, зато каменной пыли досыта наглотался!
На пыли мы и выросли.
Как же мы хребтину гнули, чтоб не помереть с голоду! Многие из нас выпрямляли спину только на гробовой доске. Всяко бывало. Могло и по-другому быть.
Когда нам на проходке стали плату срезать, а кругом все дорожало и дорожало, начали мы мозгами раскидывать. Строительство ведь идет, армии для укреплений камень нужен, и не когда-то там потом, а сейчас. Нам не платят — мы не будем работать. Что станут делать? Которые выученные, тех оставят, остальных — пинком под зад, а сами привезут итальянцев. В таком разе как-то нам надо всем заодно быть, говорю я. Вон копальщики сыпуна раньше нас работу бросили, недели не прошло — остались они без хлеба. Нет, сказали мы, мы умней их будем. Перво-наперво обзавелись профсоюзными книжками, выбрали депутатов, а уж после начали спрашивать, что нам было положено. Выгорело наше дело? А как же, всегда дело получится, если за него с умом браться.
С другой стороны — поди знай наперед, как лучше поступить?
В моем штреке засыпало одного, восьмеро детей имел. Не из наших мест он был, пришлый. Шальным камнем от скалы шарахнуло прямо по будке, где мы складывали одежу и где лопаты запирали. Оно, конечно, не положено было при пальбе оставаться там, да спокон веку все мы туда ходили и никто нам не запрещал. И ни с кем ничего не случилось. Когда мы с него камень отвалили, Альфонсом его звали, он дышал еще. Но больше уже только через рубашку. И хрипел, будто живой.
Пришел нарядчик, написал — неосторожность. Я взрыв готовил, мне хуже всех пришлось. Дескать, не имел я на это права. Разрешения я, правда, еще на такое не получил, но минерские работы делал, все их знал. Я и говорю: всегда так делалось. А он: этого, мол, недостаточно. Легко ему говорить — недостаточно! Можно подумать — хлеба у нас было достаточно! Дело в том, что подрывник-то под лавкой спал заблеванный, дочь замуж выдавал. А у нас все приготовлено было, шашки заложены, из трещин только хвостики торчат, оставалось поджечь — и все. И наломанного камня ни на лопату не было, в штреке чистота, как у старой девки на подворье. Кабы я не взорвал, всем бы нам за тот день пустой листок выписали. Вот так с нами обходились. Опять же — запальники отсырели б! Да что нарядчику втолкуешь!
На меня всю вину и свалили. Я остался без работы, а остальные — без дневного заработка. Первое, значит, чем Альфонс был виноватый, — что не полагалось ему в будке находиться во время взрыва, а второе — что у меня бумаг на взрывные работы не было. Наняли они ловких аблакатов и — раз-два — повернули закон против нас. Но если по совести говорить — гроб фирма на свои деньги купила, что верно, то верно!
Ты вот думаешь, мы самые разнесчастные были, потому как я перед тобой плачусь-жалуюсь, а ведь нет — мы против батраков паны-господа были. Ты об том у своей тетки, отцовой сестры-покойницы, мог спросить… В экономии — там и нищенского гроша не видали. Получали мешок жита, какое похуже, да полтелеги свеклы. Я бы нынешним присоветовал хотя б денек отработать у Вайскопа на поле! Тебе такого не понять, даже захоти ты. Знаешь, что такое жеванцы? Небось и не слыхал. Это матери еду для детей жевали, чтоб самим хоть немного соку пососать, а не потому, что у детей зубов не было! Вот как жилось, что бы там кто ни говорил. Многое я тебе про это порассказал бы, да незачем.
Взбунтоваться? Так мы и бунтовали. Это вам не россказни, не сказки. Забастовки, помнится, у нас были две: один раз бастовали камнеломы, а другой раз батраки. В газетах писали, что кончились они мирно. Мирно! Пускай бы Йожко Бабрак про то рассказал. Пуля дум-дум в грудь ему попала, все легкие вырвало. Две кроны нам прибавили. А что купишь на две кроны!
По мне, молоток в руке лучше, чем перо. Крепче в руке держится. Звали меня старшим над подгорщиной на сахароварню. Я не пошел. И на другой год звали — снова не пошел. Почему, почему! На такой службе поневоле скурвишься, пойдешь против своих же деревенских, как покойный Гулиш. Тот прямо слезами плакал, когда мы с ним в Чехию ездили, ах, мол, «друзья мои, товарищи…» — когда выпьет, — я же вам часы не дописывал и боюсь, что снова не буду. Поневоле так делал, велели мне. Почему же поневоле? Зачем? А вот и поневоле! Не то меня заодно с вами первым же поездом домой наладили бы, и без нас народу хватало. Как же хватало, если у ворот не стояли толпы, как бывало в другие годы? Стоять не стояли, а я своими глазами видал те списки, говорит, у инженера, народ из двух округов! Не полажу я с ними — нас в три шеи без гроша домой выгонят, а этих, других, значит, завтра утром берут по списку. Потому как мы дорого обходимся. А как же ты не дописывал? Говори, мать твою так! Всем поровну? Да кабы поровну, так нет же! Брат ты мой! Сердце не камень. Кой-каким девкам ни разу не скостил. Доставалось одним и тем же, ну и черт с ними.
Так оно и идет. Всякому свое. Я вот белый камень и на червонное золото не променял бы. Мне, положим, никто и не предлагает. Моя старуха стращает — мол, когда-нибудь зашибет тебя в твоей шахте! Чего? Зашибет? Не бойсь, говорю, Мара, дорогая, не зашибло в тот раз за Острой горой, значит, не так легко меня зашибить…
Проходили мы раз жилу доброго металлургического известняка эвон там, под горой. Стена — ровная, как на костеле, метров тридцать с лишком высотой. Работали сдельно, каждый на себя, старались вовсю.
Снизу к ней не было приступа, вот мы и висели на веревках, привязанные к толстой сосне, что росла на скале, и буравили. Работа тяжкая, маетная. Посередке остался навес из желтого слоя, самого лучшего. Вот, говорю, как свалим его вниз, считай, что дали нам в подарок три вагона, да еще выемка останется славная. Только, говорю, глыбу эту надо аккуратненько выломать. А в остальное пуговицей от рубашки кинешь — и само посыплется. Опоясался я, взял зубило, молоток — и поехал вниз! Полдня, если не боле, изворачивался я так и эдак — ровно паяц на резинке. Три скважины провертел я за это время. Солнце до того жарило, что впору пироги на нем печь. Когда ж это было? Началом августа вроде. Да ладно, думаю, за трудность и рисковые условия, глядишь, подбросят, на воскресенье принесу домой кусок мяса. И уж вроде как своим молотом в пять кило мясо на шницеля отбивал.
И доколотился!
Я уж ни рук, ни спины не чуял, шею и под коленом резало, а больше всего на лопатках под ремнем, хоть я самый широкий выбрал.
«Подавай!» — кричу напарнику, что подстраховывал меня. Спустил он мне на веревке шнур, клещи, замазку, а на другой веревке — корзину с гильзами и взрывчаткой. Я все это заложил, закрепил, шнур подрезал, одно удовольствие смотреть!
«Ладно, тяни теперь давай наверх и зови Дюрину!»
Поднял он все эти сверточки и позвал Дюрину, а я кричу ему:
«Внимание, поднимаюсь! Поджигаю! Тяните!»
Шнур заискрился, пламя побежало, ровно ящерка по меже. Подтянули меня ко второму, к третьему запалу. Эти у меня были вровень поставлены, рядом, а первый пониже.
«Давай еще малость, не достаю!» — кричу.
А они будто не слышат.
«Оглохли там? Еще чуток!»
Чувствую — дернули изо всей силы, еще раз, а канат — ни с места, висит, будто мертвый, и не колыхнется.
«Чего там у вас? — кричу. — Подтяните же!»
Глянул я одним глазом наверх — и лучше б не смотрел: случилось такое, что хуже не придумать. Канат застрял у них в щербине скалы.
«Тяните наверх, — ору, — не то ведь тут и останусь!»
Задергали они как полоумные, да ни тпру ни ну, еще пуще канат заклинило в скале.
«Тащите!» — ору я не своим голосом. А канат — ни в какую, не идет — и все тут. Да кабы я хоть ногами-то мог упереться в стенку! Нет же! И повис сиротской слезой!
«Я ж молодой еще», — кричу им. Сколько мне было-то?.. Сорок не сравнялось… Двое деток любимых дома ждут, жена… «Тяните либо еще чего делайте!» Не приложу ума, что придумать, куда глядеть, совсем невмоготу стало. «Рубите уж, что ли, совсем!»
Вниз я тоже смотреть боялся, если б канат обрубили, мне бы все едино каюк был. Да и как смогли б они его секануть! Времени ни на что уж не оставалось, шнур догорал к скважине, огонек наверняка подбирался к запальнику.
Простился я с жизнью. Все, сейчас дошипит, и сейчас вот… все, бери меня, безносая! Напоследок глянул я еще наверх, там товарищей уж и не видать: то ли спрятались, то ли за помощью побегли либо смотреть не захотели, что будет… Висит над головой ошметок дернины, корешочки снизу видны слабенькие… С чего им другими-то быть на голом песке? Насыпалось малость земли сверху, не то червяк какой выронил… Господи, думаю, жизнь, до чего ж ты хороша! Мне бы хоть годочек тебя! Чего там год! Полчасика б! Мужики управились бы, достали меня отсюдова. Увидал я еще соню на суку, из-за шишки на меня выглядывает. Ты-то, говорю про себя, чего сюда лезешь, бабахнет — свалишься с ветки, а у тебя, глядишь, детеныши малые…
Ничего не соображаю, зубы стиснул, зажмурился, не дышу… А ничего и не случилось. Помню, как сегодня: будто это было нынешним утром либо еще только должно было случиться…
Осечка! Раз в жизни плохо набил запал либо вообще не зарядил, не знаю, по сию пору не знаю, как такое вышло, одно знаю — на мое счастье!
Получился один фейерверк! Веялка разноцветная! Подо мной легонько пукнуло, как колбаса в печи лопнула, и жаром снизу обдало, будто меня самого, как колбасу, запекали, — я ж над самой дырой висел, башмаки и поджаривало. Кто бы рассказал — я не поверил бы! И стыд, и счастье.
То ли руки у меня от молота ослабли и одеревенели, либо я и вправду что забыл вложить, порох ли из конца шнура высыпался… Не знаю.
Но, как говорится, не мытьем, так катаньем!
Когда товарищи наверху увидали, чем дело кончилось, что ничего, слава тебе господи, не случилось, запрыгали, ровно молодые бычки. Один вниз побег, чтоб вытащить заклиненный канат, и, как спускался вприпрыжку по угору, отвалил ногой добрых полкубика — и прямо на меня! Я и сомлел. Это чтоб я без прибытка не остался!
Но живой!
В жизни так и идет. Как тебя ни мотало, ни трепало, а ты все тут! Жизнь дале бежит, искрой по шнуру, играючи да приплясывая. Только умей увернуться, если ошибешься!
А почем знать, в чем ты больше всего ошибся? И ежели не ты, а свет к тебе не тем боком повернулся, ошибся?
Жена меня попрекает: мол, привязал я себе камень на шею. И правда. Знает, что камень мне ближе всего на свете и легко я с ним не расстанусь. И то правда, что еще крепче я ее, жену свою, на шею себе привязал. Пускай и об том умом пораскинет.
На вот тебе кусок запального шнура! Но остерегайся, встречному-поперечному не хвались, не показывай!
Пора уж кончать работать. Что верно, то верно. Руки не те стали. Может, и перестану работать. Еще вот ограду над карьером поставлю — и ладно. Непременно поставлю. Олененок две недели назад опрокинулся туда: под ногами у него дерн осыпался. Как же я казнил себя, что огорожу не сделал, да ведь на все не хватает тебя. Как же мне того олешка жалко было, сказать не могу, вроде дитя родное в камнеломню свалилось.
Вот… потихоньку вынимай, не то рассыплется, у меня тут бумажка есть, какую на столбах… надо же, и песок попал, а я ведь бумажку эту завсегда в конверте держу, сам не пойму, как песка натрусил… Вот. На столбах вешали такие! Сам читай…
«Приписанный к Митицам, проживающий в Митице, дом номер 174», район еще по-старому… «холостой, ученик каменотеса», я хотел, как видишь, чтоб он моим же делом занимался, «читать и писать умеет, в армии не служил, римско-католического вероисповедания, словак по национальности, иждивенцев не имеет, неимущий, безупречного поведения…» — как будто он украл что либо жизни кого порешил! Читай дальше…
«Лихнер, закоренелый коммунист, давал именуемому», это моему Янко, «всякие поручения коммунистического характера и побуждал размножать в саду своего отца в штабеле кирпичей листовки, которые отдавал Лихнеру, а тот уже распоряжался, сколько листовок и где тот должен наклеить или разбросать… По наущению того же Лихнера ночью после дожинок расклеил на телефонных столбах у шоссе, ведущего из Митиц в деревню Дулице, на территории общины Дулице…» Дальше не хватает, оборвалось.
Это был мой Янко. Я и знать ничего не знал, да еще — что в моем же саду! А кирпичи у меня наготовлены были для припечка. Янко аккурат в армию пора было идти, это и спасло его от суда. Спасло! Какое там! Не тут, так там… остался под Врутками[1]! Не знаю, где и лежит. У всех таблички, надписи на плитах из обожженного камня, а у него нету… Ездили мы туда, свечки ставили, да только к главному камню.
А нас отправили в Эйзенэрц.
Сперва говорили, что мы там заработаем прилично. Коли заработаем, то и слава богу, говорю, ладно! Поехали. Словаков повезли больше тысячи. И югославов не меньше. И из разных других стран. Селили нас в бараки по десять — четырнадцать человек. Поначалу у каждого была своя постель и тумбочка. Топили мы сколько влезло, да еще выдали нам по три одеяла на брата.
Сколько же я там перевидал незнакомых мне камней! А в одной горе была чистая руда — и вся наверху. Оголили ее, будто покойника, жалко копать было.
Первым делом мы снимали грунт, грузили на платформы, самая скучная работа! После стали нас проверять, кто что умеет делать, лейтер[2] проверял.
Я попал помощником на машину, о какой прежде и не слыхал. Спереду у ней была мостовая шина, на ней трос от лебедки, что вертелась меж колесами локомобиля то взад, то вперед, куда тебе надо, чтоб трос шел — вверх ли, вниз ли. На тросе висела стальная груша, нацеленная аккурат на тот камень, что разбить надо. Когда такая груша тонн в пять с семи метров высоты падала на валун, не надо было и проверять, что она раздолбала. По правде говоря, я обрадовался, когда меня перевели оттудова. Прыскало там во все стороны жутко, словно гранаты рвались, а ноги у меня за три дня все были иссечены, будто решето.
Потом мы пилили на канатной пиле блоки прямо из скалы. Одно скажу: будто липу. Блоки, если получались ровные, спускали по желобам на верстаки, а там под кареткой мокрым песком их разделяли на призмы длиной добрых три с половиной метра. Я при этих самых призмах еще с одним парнем работал. Я обтесывал их по первому разу, грубо, а он маленьким молоточком доравнивал и делал желобочки. А на что они шли, спроси? На пограничные столбы. Гитлер свой рейх огораживал, да все по-разному. Спервоначалу он у него растягивался, как нагретая резина, а опосля все больше надо было надгробных камней, вот и пришел наш черед — минеров и каменотесов.
Да ненадолго.
Как перевалила война за вторую половину, все ясней становилось, что мы не на заработки приехали, а пленники здесь. Обратно домой не моги, потому как всеобщая трудовая повинность. Просишь хотя бы отпуск — на тебя так посмотрят, что, ежели не опустишь глаза и не попросишь прощенья, отправят за город в рабочий лагерь. Чем дале — тем хуже! Двоим удалось смыться, так потом нас с собаками стерегли. Нашлись такие, что задумали написать нашим властям. А их уж поминай как звали, нету. Как только мы уцелели!
Машин им не хватало. Брали отовсюду, какие попало. Где из старой шахты малую «цельтнерку» вытащат и нам дают на твердый камень, а она уголь там либо легкий туф мельчить может, и то если не слишком жирный, а куда ей твердый камень! А когда при первой же засыпке колосник отваливался, наказывали рабочего! На такой камень нам бы добрый «ведаг», у того челюсти-дробилки что твои ворота! Приходят лейтер с инженерами и лают на нас собаками. А вы, говорю, станьте сами к машине и сыпните, поглядим, чего она вам сделает! Они и сами не знали, чего хотят и чего могут! Их бы покидать в воронки либо, еще лучше, в барабан, он бы заглотнул их, как сопельку. И носы ихние не мешало б заровнять железной льночесалкой, чтоб не больно задирали!..
Ох, кабы злобы людской меньше было, полегче жилось бы!
До чего ж алчные есть люди! Чем у него больше всего, тем больше надо. И все-то под свою лапу жмет! Один тут пришел, доктор, дачу под Жиглявником строить собрался, на фундамент ему щебень понадобился. Сколько же кубик будет стоить, спрашивает меня. Не знаю, ступайте к заведующему, он в вагончике сидит, пишет. А все ж таки сколько, не отстает он и сует мне грязную зелененькую, полста крон. Кто его знает, от какого бедняги на больничном одре он ее выманил. А нельзя ли иначе, спрашивает, я бы вечерком подъехал с машиной… Ты только приди, говорю, я тебе накостыляю. По-твоему, я такая же мразь, как ты? Ступай к заведующему, у него твердая такса, сколько он скажет, столько и будет. Я, говорю, всю жизнь имел дело с чистой щебенкой, так что об тебя руки марать неохота. А заманулось тебе дарового камня, так ты их выбирай из желчного пузыря у больных! И свое дело делай на совесть, не то!..
Не дай бог мне теперь заболеть да к тому доктору лопасть.
На что песок чище иных людишек…
Эта вот путна[3] у меня, почитай, годов пятьдесят. Каждый день приношу в ней немного песку домой. Давно, когда наш Янко родился, сказал я себе: покамест вырастешь, сынок, будет песку на целый дом. Наносил я кучу, вон она в саду лежит, деревеем поросла. Дочка в городе живет, у ней песок на доме из Дуная, ей мой песок не надобен, ни мой, ни материн. Зачем же я тогда все ношу его в путне? Привычка… Трудно от нее отделаться.
Остался я без детей, без будущего. И скажу — словно все, что было, во мне же и осталось. Порой кажется, будто меня пополам разломали. Ну и что? Погляди на камень: отломи от него половину — все равно он камень, хоть самый маленький камушек, песчинка, пыль, как ни дроби его.
Сколько раз я думал: а ежели пылинку растолочь пополам, а после еще пополам?.. На какой-то должно же все кончиться, какая-то должна стать последней?..
Должна бы! Мне-то пыль эта самая легкие съела наполовину. Кабы мне одному! Только за них нам не хотели платить даже того, что за телячьи легкие в лавке у Регака мы платим!
Вот смотри, если ту самую маленькую половинку пополам разбить, что будет? Кто скажет?
— Видишь ту гору? Скажешь — высокая, большая. А человек ее колупает, колупает, загляни с того вон боку — заместо горы яма, скоро от всей горы следа не останется. А чем яма не гора? Уж как я в ней хребтину наломал, один я знаю! Что было, то прошло, а что будет — поглядим.
Что найдешь в земле либо на земле — все сгодится. Но ты расстарайся сделать найденное лучше. Взять песок: перво-наперво просей его хотя бы, чтобы в самый раз был на раствор. Так и во всем поступай. Молоток — он и есть молоток, а на какую попало ручку ты его не насадишь. Топорище самое наилучшее из ясеня либо вяза, ах, кабы только он у нас рос! Рука-то, она через неделю сразу почувствует, что́ лучше держать и что легко из проуха не выскочит.
И надо знать, на какой камень какой инструмент годится; когда плоское долото, скарпель, когда острокосое, когда шиповое, а когда зубило, смотря по тому, с каким камнем дело имеешь, твердым ли, легким, или надо тебе, чтоб стена была гладкая и округлая. Многому научат тебя другие, многому сам научишься, кой-чего и забудешь, не без этого.
Я себе сказал, что, покамест не найду кусок красивого белого камня на памятник, цельный, нетронутый, до тех пор не помру. А тогда уж пускай и отходную мне сыграют…
Вот только не люблю я музыкантов. Ихнее пиликанье ухо мне режет. Не могу слушать их ни по радио, ни когда на Петра и Павла под вербами в саду на задах играют. То ли дело добрый заряд пороха — вот музыка для моего слуха, после этого я хорошо сплю. Но и я играл раз в оркестре с музыкантами. В Олтариках за костелом, пятьсот метров позади него, есть небольшая выемка. Я сидел там в камнеломне, а Йожка Гевер мне из окна на башне знак подавал. Когда священник с министрантами обходить костел начинали, я взрывал малый запал. И тут же принимался играть духовой оркестр. Я с вечера набурил целую батарею запалов, мог от сигареты их поджигать. Вот меня и прозвали бомбардиром-капельмейстером, ты знаешь.
Говоришь, не нашел ли я себе белый камень? Нетронутый? Да я уж, видать, и не найду, сынок. Старый я.
Перевод со словацкого И. Ивановой.
Петер Белан В ФУТБОЛКЕ «ЛОКОМОТИВА»
Иду это я по площади — и кого же встречаю? Нашего директора. Длинный, прямой, как палка, в зубах трубочка — идет попыхивает.
— Прогуливаемся, прогуливаемся? — говорю вежливенько.
А он мне на это резко:
— Здравствуй, парень, добрый день!
Что поделаешь, если тебе желают доброго дня, пусть и у него день будет такой же. И я находчиво отвечаю:
— Добрый день, товарищ директор школы! Как чувствуете?
— Чего-о? — Его аж перекосило.
— Говорю, хорошо ли себя чувствуете? Уважаемая пани директорша жива ли здорова?
Нам в деревне все известно. Пани директоршу с весны мучает ревматизм в левой ноге и три дочери. Все они вышли замуж, две за родных братьев из Леска, а третья за их двоюродного брата из Витановой.
Наш паи директор встал посередь площади, вынул трубку и таращится на меня, таращится.
— Ты из какого? — спрашивает он меня, когда мы уже порядком намолчались и я собрался идти дальше.
— Чего из какого? — прикинулся я дурачком.
— Из «бе»?
— Из «бе», Динка у нас был классным.
— «Товарищ учитель», парень!
— Ага, — говорю я равнодушно. — Он был у нас, а теперь где?
— Несчастный человек!
— Господи! — испугался я. — Помер, что ли?
От удивления у меня чуть не вылетел передний зуб — он давно качался. «Несчастный»! Сколько раз приходил он в школу пьяный и еще в дверях кричал: «Сегодня вас учу я!» Мы сразу понимали, что нам лафа, — он доставал из стола мяч, делал во дворе первый символический удар по мячу и, пока мы играли, отсыпался в кабинете. Через три часа вываливался во двор, продирал глаза и спрашивал, устали ли мы наконец. Не дожидаясь ответа, он со вздохом говорил: «Футбол гоняете, а кто знает, что из вас вырастет?» И отпускал домой. Такой хороший был человек, человек чистого сердца и спортивного склада.
— Поди сюда! — сказал директор. — Подойди ближе!
Э, думаю, что-то тут не то, но подошел. Что он мне может сделать? Я теперь в училище учусь, пусть только попробует!..
Он посмотрел на меня вблизи и спрашивает:
— Ты точно из «бе»?
— Точно.
— Придется мне огорчить товарища учителя Динку — какую змею пригрел он на своей груди, сколько энергии зря убил! Змея ты неблагодарная, видит своего директора и слова толком сказать не может!
Наш директор совсем сбрендил. Я же его встретил, а не Динку. И разве я не поздоровался? Поздоровался! И при чем тут змея! Динка зоологии нас не учил.
И говорю ему:
— Да ладно, товарищ директор, не расстраивайтесь! Зайдем лучше к Обтуловичу на обед, ей-богу, суп у них отменный, возьмете себе к супчику рому и пива, а я возьму себе слоенку. И без всяких церемоний. Пойдемте!
Он оскорбленно поглядел на меня, повернулся на пятке — там до сих пор вмятина — и затопал напрямик через площадь в сторону гордости нашего города — парка с фонтаном. Я за ним не пошел. До чего безликий человек, и ни крошечки спортивного духа! То говорит, что Динка помер, а потом такое несет, что не поймешь — хвалят тебя или ругают. Провалиться мне на этом месте, если я что-то понял! Из турне по Южной Америке напишу ему письмо: «Добрый день, товарищ директор, добрый день! Пишу вам из самой Мараканы вечным пером. Бельгия прекрасная страна, и растут тут по большей части тюльпаны. Что касается моей особы, чувствую себя хорошо, не голоден, досадно только, что послал мяч прямо в Гондурас. Погода такая, что хочется полюбить полярные ночи. Привет Леску и Витановой».
Директор ведет географию, и если не лопнет от злости, то наверняка трёхнется.
Когда я размечтаюсь, каким буду футболистом, у меня сразу настроение повышается. К примеру — встану перед костелом, обопрусь о липу, подожду, пока кому-нибудь захочется меня сфотографировать. Со временем во будет документальный снимок для прессы: «Наш спортсмен в былые времена под родной липой».
Сегодня я простоял там часа два, никто и не заметил. Какая ж тупая публика, землячки́ называется! Когда-нибудь пожалеете. Съедутся журналисты со всего света, станут расспрашивать, интересоваться, где я любил бывать, а вам нечего сказать будет. Подождите. Как пригодился бы вам снимочек-то! Деньги станут совать, а вам и показать нечего — снимочка-то нет! А какие у вас созданы условия для роста меня как спортсмена? Никаких не создают! Стадион у нас паршивый, поле слишком узкое, и к тому же далеко за деревней, на берегу реки. Река называется Орава. Не большая она, не маленькая. Перед Кралёванами впадает в Ваг, а Ваг уже вполне приличная речка. Я не треплюсь. Прошлый год мы играли там с ребячьей командой и проиграли четыре — ноль, потому что был плохой судья, ни разу за всю игру не дал свистка.
Стадион на берегу реки — ужасно неудобная штука. Только на моей памяти два мяча унесло в Подбел, а уж сколько в Колковку — и не сосчитать. Вроде бы его собираются сломать и построить новый на другом конце деревни, под Станковой, на берегу Оравицы, известной своей форелью. Это при том, что у нас есть две отличные ровные площади. Но комитет[4] не убедишь, все его к воде тянет. Хорошо сказал тогда парикмахер Лойзко в марте на совещании в городском управлении:
— Вам картошка и свекла дороже спортивных успехов?
И половина членов комитета нахально ответила Лойзко прямо в глаза:
— Представь себе, дороже!
Парикмахер не растерялся, руки в боки и говорит:
— В таком случае я вас буду стричь под горшок.
Все до того обалдели, что совещание тут же распустили. Собрались только через месяц, когда Лойзко был на лечении в Карловых Варах. Говорили о необходимости влить свежую кровь в первую лигу. Вспомнили про меня и Чочко. Я боялся поверить. Чочо — это прямо талант, если не напьется, классно играет. Дадут ему мяч на собственной штрафной, один обвод, второй, быстрая перебежка, в центре столкнулся с Марцонем, третий обвод, четвертый, мимо среднего защитника, либо через него мяч перекинет, либо так запутает, что тот на зад сядет, а потом или гол забьет, или в штангу. Одно слово — талант. А я? Хоть умри, не получается у меня обвод, самый элементарный, о сложных я уж и не говорю. Чисто теоретически не могу его усечь. К счастью, год назад я понял свою неспособность и не обвожу. Моя результативность в юниорской команде поднялась на тысячу процентов, как говорит наш сосед. Сосед глухой, но он прав.
Один отец на все смотрит черт знает как. В воскресенье за обедом начну о футболе, отец сразу:
— Ой, серая пичужка, помолчи уж.
Мой перевод в класс А на место правого защитника решили мои сильные удары.
О переводе юниоров в класс А говорилось уже четыре года, насколько я знаю. А между тем многие из юниоров переселились в соседние деревни, другие с досады вообще забросили футбол. Старая гвардия-то сыгралась на футбольной площадке да и в кегельбане, а чем кончилось? Франтишека посадили за кражу, у Йожина родился седьмой ребенок и жена поставила крест на его футболе. Комитет стал упрашивать трех запасных, чтоб они играли, а те отказались, мол, им и без того хорошо, не надо таскаться на тренировки.
Вчера встретил я капитана, он позвал меня в корчму и спрашивает, слыхал ли я… У меня аж мороз по коже пошел. Говорю, слыхал кое-что, но неточно. Он говорит, что меня берут. Осенью у нас первая встреча на нашем поле с «Рабчей». Ну, говорю, «Рабча» — это неплохо, но лучше б сыграть против «Слована». Я б тогда прославился на весь свет. Проверим тебя на «Рабче», сказал капитан.
* * *
— Вы слышали, — спросил Лойзко намыленного клиента, — как наши вчера отделали «Рабчу»?
— Нет!
— Ну, не говорите. — Лойзко точил бритву о ремень и смотрел в зеркало. Кроме намыленного, в парикмахерской сидели еще двое под вешалкой и читали газеты. — Ну, не говорите, ведь ваш сын играл правым защитником.
— Не играл!
— Играл!
— Говорю, не играл, и все тут!
Лойзко отпустил ремень, осмотрел лезвие, дунул на него и спросил:
— Стричься будем?
— Да.
Лойзко поднял руку над головой и подошел к креслу.
— Я стоял за воротами, гляжу — один из молодых бьет просто пушечные удары, это еще пока они разминались. Спросил у вашего соседа, чей это малый, он сказал, что ваш сын!
— В самом деле? Надо же!
Левой рукой Лойзко натянул кожу и начал медленно скрести бритвой.
— И второй новенький ничего, но его не очень любят, он не дает подачи.
— И сын мне говорил то же самое.
— А я о чем? Эгоист. Получил мяч, обвел троих — и к штрафной, там его подковали, но он не лег, а еще подпрыгнул — и прямо в штангу. Но судья просвистел и назначил одиннадцатиметровый. Знаете, кто судил? Мясник из Нижней. Дал свисток, а кто будет бить? Ну, думаю, ваш сын, не иначе. Все видели его пушечные удары перед игрой.
— Он бил?
— Нет!
— Почему же?
— Не знаю!
— Не попросился?
— Вы верно сказали. Не попросился! Бил этот Чочко, или как там его зовут. Поставил мяч на коровью лепешку, разбежался, и тут его схватил за руку Эмиль, который сейчас капитаном, мол, он сам пробьет.
— И бил?
— Не бил.
— Почему же?
— Погодите, сейчас доскажу. Чочко схватил мяч в руки и не захотел отдавать, потому что, мол, этот штрафной получился из-за него, он его и пробьет. Видали? Только пришел — и такой смелый.
— Ну, бил он?
— У него сначала забрали мяч, двое его держали, чтобы Эмиль мог разбежаться, но он у тех вырвался и такой мяч зафигачил, никто и глазом моргнуть не успел.
— Забил?
— Забил.
— А дальше что?
— Эмиль ударил Чочко на одиннадцатиметровом, а судья ошибся и дал свисток к штрафному.
— Нам?
— «Рабче»!
— Да что вы!
— Я, может быть, сам видел?!
— Бил мой сын?
— Нет.
— Скромный малый.
Лойзко снял остатки пены, растер питралон и помахал полотенцем.
— Стричься будем?
— Сзади только подровняйте.
— Вот увидите, в этом году мы продвинемся!
— Давно пора!
* * *
Я играл против «Рабчи». Счет был в нашу пользу. Первый штрафной стопроцентно заслужил Чочко, но со вторым произошла ошибка. Я бы сказал — факт неспортивного поведения. Наш капитан нарочно на штрафной площадке сбил Чочко. Судья дал свисток, и я побежал к их штрафной, потому что Эмиль твердо обещал мне второй штрафной. Я как-то в суматохе не разглядел, кто кого подбил.
Судья поставил перед собой Эмиля по стойке смирно и вроде бы собрался дать ему по уху. Эмиль увернулся, а судья взял свисток в рот, коротко свистнул и махнул рукой, чтоб ему дали мяч.
Прибежал капитан гостей, длинный и плешивый, на вид он был старше моего отца, и рявкнул на судью, чтоб не задерживал игру. Эмиль что-то загундел, капитан гостей сжал кулаки, покраснел и двинулся на Эмиля. Тот раскинул руки в стороны, заулыбался и говорит:
— Не будем мелочиться, разве мы не братья?
Капитана это удержало, он остановился и только плюнул Эмилю под ноги.
Судья сказал:
— Будем устраивать представление?!
Потом бросил мяч, усмехнулся и достал блокнот с маленьким карандашиком.
— Вон! — заорал он и показал рукой на капитана гостей. У того аж дыханье вышибло. Проглотив ком, он залопотал:
— Я, если хотите знать, инженер-агроном, я уйду, и больше вы меня на поле не увидите.
— И слава богу, — добавил Эмиль, — потому что играть он не умеет.
Судья сделал ему знак заткнуться и нагнулся за мячом. Никто не понял, что он собирался сделать, это как пить дать. А он поставил мяч на одиннадцатиметровую отметку.
Эмиль легко забил гол — вратарь уклонился. Кто-то из рабчан разыграл мяч, а потом взял и сел в центре поля. Достал сигарету, закурил, а за ним и вся команда. Мы забили десять голов. Наконец судья остановил матч по причине неспортивного поведения противника.
* * *
Недели не прошло, отец и говорит мне:
— Слыхал я, ты играл против «Рабчи».
— Играл. Ну и что?
— На следующей неделе возьмем тебя в оборот.
— Кто же?
— Увидишь.
Он достал рулетку и пошел измерять задние ворота амбара. Я знаю своего отца как облупленного: если надо, не признается даже, что я его сын. Поэтому я ни о чем не спрашивал.
За ужином он как бы между прочим сообщил:
— Ката, я перебирал нашу родословную, и ты не поверишь, с 1848 года у нас в семье не было ни одного выдающегося человека, ни один не поднялся над средним уровнем.
— Что ты говоришь! — изумленно воскликнула мама. Она такая. Стоит отцу что-нибудь изречь, она почти всегда удивляется. Отец это любит.
Я хотел было спросить, почему именно после 1848 года, но, к счастью, удержал язык за зубами. Потому что рот у меня был набит.
Мама спросила вместо меня:
— А что было в 1848 году?
— Восемнадцатого марта 1848 года… — отец многозначительно поднял ложку, — …Венгерский сейм уничтожил крепостное право.
Соус стекал по ложке на пальцы, отец переложил ее в левую руку и вытер пальцы о штаны. Мама так и подпрыгнула. Осознав, что он сделал, отец замолчал, но поглядывал на меня время от времени как-то иначе, чем обычно. Когда я доел суп, он сказал:
— Ну-ка встань у печки!
— Дай ему доесть, — вмешалась мать.
Я понял, что она ищет повода отыграться за соус на штанах, и поскорее встал, где мне велел отец.
— Фигура хорошая, — одобрил отец. — Тебе надо поправиться немного, и из тебя получится нападающий первый сорт.
Мать вытаращила глаза, я, разумеется, тоже.
— Через три года войдешь в сборную и пробудешь в ней десять лет… То, что слышишь. С 1848 года в нашем роду не было ни одного выдающегося человека. Я не утверждаю, что каждый год должен быть отмечен выдающимися делами, но когда такое запустение продолжается больше ста лет, это уже слишком, ситуация становится серьезной. На следующей неделе начнем. Мы сделаем из тебя футболиста.
Я уже немного опомнился и заявил:
— Я того же мнения!
Мать налила отцу супу — он всегда его ест после второго, говорит, что это, мол, «по-французски». Больше мы не разговаривали и затем разошлись по своим углам.
Через стену я слышал, как мать говорила что-то отцу веселым голосом. Выждав с полчаса, я вылез через окно в сад, вышел на дорогу, вошел в другой сад и остановился под Яниным окном. Она ждала меня. Одним прыжком я очутился в ее комнатушке. С Яной мы ходим вместе после матча с «Рабчей». Она первая моя девушка.
Услыхав о планах отца, она стала хихикать и все время поворачивалась ко мне задницей. Меня это начало злить. Сикалка несчастная, весь дом перебудит! Я сказал ей об этом, а она ответила, что ее старики крепко спят и бояться нам нечего. Я не поверил. Она спросила, не хочу ли я пить. Я сказал, что хочу.
— Пошли, — позвала она, — попьем воды.
Я собрался натянуть трусы, но она вырвала их у меня и зашвырнула в угол. Она тоже была голая, и когда открыла дверь, я думал, меня кондрашка хватит. Два-три шага — и мы оказались в спальне. Яна потащила меня за руку, и не успел я опомниться — мы пробежали мимо родительской кровати. В сенях было жутко холодно, я покрылся мурашками и начал весь дрожать. Яна хихикала. Я шлепнул ее по заднице, и она захохотала еще больше.
Мы напились прямо из ведра и вернулись назад тем же манером.
* * *
Назавтра было воскресенье. Отец обул мои бутсы и весь день прохаживался в них по дому.
Вечером я ушел к Яне.
А в понедельник все началось. Когда я вернулся после занятий, на моем подоконнике сидели два мастера. Отец держался как ни в чем не бывало. Решетка уже была вделана.
Мне он сказал:
— Завтра в шестнадцать ноль-ноль быть дома!
— Зачем на окне решетка? — спросил я.
— Одного раза в неделю тебе хватит. Отпущу, когда скажешь, через дверь. Понял? Но имей в виду — алименты я за тебя платить не буду.
Не знаю, что и думать обо всем этом. Никогда у него для меня не находилось доброго слова, а тут разговаривает как с равным.
Во вторник в шестнадцать ноль-ноль я смылся с практики. Могло быть шестнадцать десять, когда я подбежал к дому. И что же я вижу? Перед амбарными воротами стоит директор с трубочкой в зубах, эта безликая особа, начисто лишенная спортивного духа, с ним парикмахер Лойзко и мой отец, все трое в тренировочных костюмах и в бутсах.
— Мы твои три тренера, но попробуй только скажи кому! — подал голос отец и два раза неловко подбросил мяч носком.
Я, наверное, займусь бильярдом.
Перевод со словацкого И. Ивановой.
Ян Бенё ПАРНИ ПОЮТ
Хоть бы ночи мои, ночи не были так долги…
Где-то в газетах я читала, будто не всякому человеку нужен одинаково долгий сон. Одному достаточно пяти часов, другому в том же возрасте надо восемь-девять. Я сплю не более пяти, но длится-то ночь для всех одинаково. Хуже всего осенью и зимой, когда рано темнеет и поздно светает. Ночи нет конца, и ты один-одинешенек со всем этим… Темно и тихо, разве что дождь шумит или ветер дует, завывает. Лежу и не сплю, какой у меня сон… Слушаю, а в голове у меня будто целый мир: там и горы, и поля, и дальние дороги, много людей проходит по ним…
Девушкой я боялась вечерами выйти со двора. И когда, бывало, ходила на посиделки, где мы пряли, драли перо да рассказывали про ведьм и про светлые ночи, то домой бежала без оглядки. Сейчас и не верится, что могла быть такой… Чего бояться и какой толк от этих страхов?
Говорят, у ночи своя сила, а я этого не признаю. Ночь нам дана для сна и раздумья, дурными бывают только сновидения. Говорят: кто спит, тот сон видит, только в короткие часы сна мне мало что снится. А если и снится, то почти всегда люди, с которыми я и днем могу увидеться, поговорить. Вот дочь и сына уж не знаю с каких пор не видела во сие. Только терпеливо жду, пока-то они заглянут ко мне раз-два в год…
Все ушли от меня: одни на кладбище, другие в большой мир. Если б не старший брат, осталась бы я в деревне одна-одинешенька. А брат у меня неплохой. Помогает мне дровами, углем запастись, нет-нет да и справится, не нужно ли чего. Я ему твержу: много ли мне надо, одной-то? Пока здорова да силы есть — сама о себе позабочусь. Денег хватает, не тревожься, брат, а со всем прочим справлюсь. Ты тоже не молоденький, и здоровье твое не ахти какое. Так что береги себя…
Раньше я боялась остаться одинокой, ивой плакучей. А когда выходила замуж, подружки пели мне песню, от которой слезы у меня ручьем текли:
Веселая свадьба у нашей у Эвы, Кого на ней нет? Кого на ней нет? Матери нет, матери нет, мать лежит во сырой земле.Умерла мама за год до моей свадьбы… Муж в Восстании погиб. Был там с ним один человек из соседней деревни, знал, где его похоронили. Думала я, сердце у меня разорвется от горя по Петру. Два дня ходила как безумная, а потом решила: должна я похоронить его здесь, дома, на нашем кладбище, чего бы это ни стоило. Напрасно меня люди отговаривали: образумься, баба, немцы кругом, как ты его перенесешь? Купила я гроб, три раза бегала упрашивать одного шофера грузовика. Христом-богом молила, деньги вперед давала… Наконец согласился. И того человека, который знал, где Петр похоронен, упросила я, и вот поехали мы втроем в эту злосчастную Козельницкую долину.
Четыре раза нас немцы останавливали. Своими руками я тело мужа выкопала, в гроб уложила. Когда подъехали мы к нашему дому, звонарь без всякого на то разрешения начал звонить. А я уже не плакала. Двигалась как заведенная, никого ни о чем не просила, все, что нужно для похорон, сама справила. Там, в той Козельницкой долине, с меня будто весь страх слетел. Не боюсь, твержу себе, ничего не боюсь, пусть хоть двадцать немцев явятся, чтоб помешать увезти тело мужа домой.
И когда к нам в деревню пришли немецкие солдаты и стали устраиваться по домам, я встала на пороге и твердо сказала:
— В этот дом вам ходу нету! Не пущу в свой дом того, кто у меня мужа убил!
Отец кричал, чтобы я одумалась, ведь двое детей у меня! А немцы потоптались, потоптались — и ушли. Только уж когда фронт стал приближаться — набились они к нам в заднюю горницу.
По воскресеньям я хожу на кладбище, поливаю цветы на могилах, потом сажусь около Петра. Сижу и думаю, вспоминаю мужа, детей, и, когда возвращаюсь домой, мне как-то легче на душе. Мой Петро здесь, я могу прийти к нему, поговорить с ним, своими думами поделиться. И не надо мне гадать да мучиться, где он лежит, под какой горой, в каком поле, не унесли ли его воды, не растащили ли лисицы…
Женщины порой удивляются мне:
— Эва, как это у тебя получается? Ни на что не жалуешься, всегда знаешь, что делать. В былые-то времена никто и предположить не мог, что ты станешь такой.
Что им ответить? Что я остыла ко всему, ни над чем голову не ломаю? Просто живу себе да живу, а до остального мне дела нет.
Они-то знают — неправда это, я только прикидываюсь такой. Нет, я не окаменела. Но я и не нежный маковый цветок. Я не буду ждать помощи из милости, чтоб жалели меня, вот, мол, какая я несчастная и одинокая… в этом мире… Кое-кто думает, что я и детей от себя оттолкнула. Мол, была б не такая, взял бы ее сын к себе или сам постарался бы поближе к ней поселиться.
Не такая… Какая же? Или мне обижаться, что дочь с мужем и детьми ездит по чужим странам, черных людей лечит? Все равно бы меня так не лечили, не стояли бы над душой — вот, пожалуйста, рецепт, вот вам укол. Сами себе дорогу выбрали. А я и тому рада, коли напишут когда, навестят в кои веки… Повздыхаю, а то и слезу пророню в долгие ночи о том, что так далеко они, — но я знаю: если бы и жили мы вместе, мою-то жизнь, за меня, им не прожить. Каждый должен сам век свой промаяться с теми людьми, с которыми связала его судьба.
Сын, инженер, как-то сказал:
— Мама, я знаю, моя жена тебе не нравится, ты ею недовольна…
А я на это:
— Тебе нравится, ты доволен? Вот на что ищи ответ, сынок. Не я ее выбирала, не я с ней и живу. Придет — спиной к ней не повернусь, но, если что ей во мне или у меня не понравится, за то я не в ответе. Двери моего дома всегда для вас открыты, а больше сказать мне нечего…
Итак, кроме нескольких кур, поросенка да кошки, нет в моем доме ни одного живого существа. Одна я осталась. Ива живет вместе с речкой, травой, ветром и солнцем, а я — с прожитой своей жизнью да с тем, что оставила она мне, что нажила я за шесть десятков лет. Если не считать тех немногих лет, что батрачила я в разных имениях, мало когда выходила я за свою околицу. И не очень-то знаю, как живут люди в городе, но кажется мне, что понимаю их куда больше, чем если б там жила.
Вот лежу я вечером или под утро в постели, а они, как наяву, один за другим и проходят передо мной, перед моими глазами. И будто в деревне полным-полно народу, и уже тесно им, рассеялись по полям, за околицей, по тропинкам и дорогам. Сколько из них уже нет в живых, сколько в чужие края уехало, а все они — в моей жизни. Все во мне живут, и жалко мне, что когда я умру, то и они как бы навсегда уйдут со мной. Не могу сказать, что я одинока: вот сидим мы, девушек двадцать, перо дерем, вокруг стола тесно, не повернешься. Куча перьев перед нами, пальцы так и мелькают, и весело нам, песни поем, о самих себе поем, сами над собой подшучиваем:
Пошли девицы по ягоды, а тропинка под водою вся, гей-гей-гей. А тропинка под водою вся.И девицы те рассказывают, сколько кто из них заработал. В песне имена называем. Начинаем с того, каким кончили в прошлый раз. Галайка — три талера, тачку на все три купила. Цибулька тачку тащила, за что осликом прослыла… Чье имя приходилось на эти слова, больше всего обижалась. Санитрарка за тачку встала, чтобы та не дребезжала… А ленивая Дудашка так и плюхнулась на тачку…
Бедная Анча Цибулька! И ведь не хотела я, а пуще всех ее поддразнивала. Хорошая была деваха — да будет земля ей пухом, а ведь ушла она от нас еще в молодые годы. Веселая была, все шутки-прибаутки шутила и никогда не обижалась, как ее ни назови. Как сейчас помню, копнили мы как-то кооперативное сено у елового леса, и такое нашло на нас веселое настроение, будто все мы помолодели лет на двадцать. Расшалились — Анчу Цибульку на сено повалили, насовали ей сена под кофточку, под юбку, а потом кто-то ее и водой облил. А она вскочила проворно, как лань, да и запела:
На печи опрудилась, с печи потекло…Лежу, сон не идет, а я улыбаюсь. Если увидел бы меня кто, подумал бы: с ума сошла тетка! Целые дни одна, вот и тронулась…
Улыбаюсь — рассудок-то у меня здоров, — вспоминаю, как все шло, все по порядку. Кооператив вот: как мы все ровно ожили, веселыми стали, когда миновали первые годы, когда попривыкли мы к новым порядкам и жить стало лучше. Вдруг так славно стало нам оттого, что вместе мы, не приходится каждой в одиночку колотиться на своем клочке. Кончается жатва, а уж мы придумываем, сочиняем поздравления и толпой отправляемся в Дом культуры с венками из колосьев. А в поздравлении нашем, бывало, и о председателе упомянем, и о бригаде, о совместной нашей работе, обо всем, что сделали, и о том, что не нравится нам и чего бы мы хотели.
Жилось нам неплохо, да годы не стоят на месте, и мы старели. Я перешла в коровник, там и сейчас работаю. До конца года еще продержусь, а потом уступлю место молодой, чтобы люди не смотрели на меня косо, будто гонюсь я за заработком, когда могу уже и на покой уйти. И так-то на меня пальцем показывают, знаю: у Эвы, дескать, денег куры не клюют, к чему они ей, что она собирается с ними делать? И еще говорят, будто я плохая мать: все ведь до ушей долетает.
Дала бы я детям по десять тысяч на машину или еще не знаю на что, так раструбили бы об этом по всей деревне. Вот тогда бы меня хвалили! А я им ничего не дала, потому как знаю, у них своего достаточно, а то они еще подумают, будто я их подкупаю, чтобы потом все время от них чего-нибудь требовать.
И дело не только в том, что детям я ничего не дала. Поступила куда хуже, так что разговоров обо мне пошло еще больше.
Телевизор купила года два назад и пять тысяч дала взаймы цыгану Дюсу!
Цыгану! Пять тысяч!
А было все так: в позапрошлом году купил Дюс у одного инженера старый дом, еще от родителей остался. Дом пустой стоял, без пользы, инженер и продал его цыгану. Дюса я знаю с детства. В школу с моим сыном ходил, в шахте работал, а потом на шофера выучился. Пришел он ко мне:
— Тетя Эва, не поможете? Хочу дом поправить да еще одну комнату пристроить… А денег не хватает. Не одолжите несколько тысяч?
Я знаю, у других он не решился бы попросить, и дала ему эти пять тысяч. Возьми, Дюс, мы давно знакомы, у тебя четверо детей, и ты порядочный человек, устраивайся!
Устроился он и мне вернул уже полторы тысячи. Разве я плохо поступила?
А телевизор — на что, мол, такая роскошь одинокой? Радио ей мало? Детям ничего не дает, а себе лишнее покупает!
Да и правда роскошь… Подумайте только: сижу перед телевизором одна, как королева, и смотрю, когда хочу. И думаю: разве простой деревенской женщине не интересно знать, что делается в мире да какие есть разные вещи? В церкви-то об этом не скажут, да и хожу я туда два-три раза в год.
Смотрю, слушаю, люблю хорошие спектакли, а больше всего — песни. С детства я любила петь, хоть особого голоса у меня нет. Сколько мы певали! Правда, их, наших песен, мало услышишь по телевизору или радио, но мне нравятся и незнакомые, даже эти, современные. Такие — без этой сумасшедшей музыки, — когда певец поет чисто и красиво, не завывает и не гримасничает.
Раз я в коровнике поссорилась с бабами из-за Карела Готта. Я говорю: хороший голос у молодца, душа радуется, когда он поет. А они: разве, мол, это пение? От его блеяния ушам больно!
Я качаю головой: нет-нет, бабоньки, вы только вслушайтесь… С таким голосом родиться надо. Песни, правда, не те, к каким мы привыкли, но не все то плохо, что нам непривычно. Так-то!
Сколько этих певцов да певиц — разве их упомнишь? Но любимая моя певица все-таки та, которая народные песни поет. Редко я ее слышу, еще реже вижу, но всегда скажу — лучше Дарины Лащаковой нет у нас певицы. Ее голос будто так и ласкает сердце, и вроде поет она для тебя одной. А как кончит, как станет тихо в комнате — так и мне запеть хочется. Сложу это я руки на коленях, огляжу комнату, а вижу-то совсем другое… Посижу, посижу эдак-то, да и затяну слабым своим голосом:
На яворе листья вянут, листья вянут на яворе. Когда, милый, мы под явор вместе сядем, вместе сядем? Не давай ты, моя радость, листьям вянуть, листьям вянуть. Вот тогда с тобой под явор вместе сядем, вместе сядем.Ах, господи… Все минуло, и лишь песни остались.
Вечером я не могу сидеть долго у телевизора. Иногда только смотрю подольше, когда показывают что-нибудь интересное, а обычно ложусь спать самое позднее в десять.
Лежу, думаю, когда сон не идет, слушаю тишину. Машины у нас не шумят, поезда не грохочут. Хорошо, когда ничто не мешает отдыхать.
А мне все-таки чего-то не хватает…
Слышу, как проходят месяцы и годы, а песен вот не слышу…
Не пьяный рев, этот мне и задаром не нужен; не слышу я ладного пения молодых ребят, на которое никто никогда не злится, за которое самый угрюмый ворчун не заругается, все равно — так ли поют или под гармошку.
А когда-то ведь пели парни, и разносились их славные голоса по тихой деревне. Медленно проходили они по улице, обнявшись, и пели:
Ночью парни распевают, ночью парни распевают, девушкам покоя нету, девушкам покоя нету. Обувают сапожки, подбегают к окошку. Подбегают к окошку, глядят на дорожку.Пели раздольно, с чувством, никто не старался перекричать другого… Пели лучше, чем Карел Готт, лучше, чем Дарина Лащакова, которую озолотить бы за то, что она так прекрасно поет. Я всегда слушала у окна, по голосам узнавала, кто поет, знала их в лицо и слабинки их знала, но когда пели они — каждый был хорош и красив, как само их пение.
Не припомню я, когда они в последний раз с песней ходили… Знаю только: сын мой раза два был среди них. И как уходили они все дальше, голоса все слабели, слабели — где же они теперь, эти парни, что так долго не возвращаются?
Прошли по деревне — и словно в воду канули, в широкую бурную воду, что уносит и не отдает…
Перевод со словацкого Т. Мироновой.
Эва Бернардинова РАНЕНАЯ РЕЧЬ
«Добро пожаловать на белый свет, доченька, — записал в альбом «Наш ребенок» мой папа. — При рождении вес твой был три кило, а длина пятьдесят сантиметров. Пока не вырастешь, мы будем о тебе заботиться, чтобы жизнь твоя была лучше, чем наша, и надеемся, что, когда станем старыми, ты отблагодаришь нас за нашу любовь и внимание».
Эта запись возмутила мою маму. Она сказала, что не нуждается ни в какой благодарности и не рожала для себя сиделки под старость. Папа оскорбился и больше в альбом ничего не записывал. Так что не знаю, когда у меня вырос первый зуб, когда я села и когда сделала первый шаг.
Папа боялся, что я вырасту неблагодарной. Поэтому я за все должна была говорить спасибо. Когда мне, например, купили сразу чулки, штанишки и рубашечку, я сказала:
— Спасибо, папа, за чулочки, спасибо за штанишки и спасибо за рубашечку.
Если я благодарила равнодушно, он ставил мне это на вид.
Мама при этих процедурах благодарения молчала. Но, когда я однажды забыла сказать «спасибо за лифчик» (для тех, кто родился в эпоху колготок, поясняю, что на лифчике держались у детей подвязки), так вот, когда я забыла сказать «спасибо за лифчик» и папа мне об этом напомнил, она ввернула:
— Может, надо еще сказать спасибо за то, что ты дал ей возможность родиться?
Считая, что как раз за это я буду всю жизнь перед ним в неоплатном долгу, папа почувствовал себя оскорбленным.
Когда папа сердился, он кричал. Но когда чувствовал себя оскорбленным, безмолвствовал.
— Папа не любит, когда задевают его самолюбие, — говорила мама.
Когда самолюбие его бывало задето, он рисовал акварельными красками темные пейзажи с одной-единственной пестрой коровкой и вздыхал о том, что масляные краски так дороги. Если папа рисовал одинокую пеструю коровку, я уже знала: самолюбие его задето.
Пока он глубоко переживал обиду, мама, давно обо всем позабыв, спрашивала:
— В театре сегодня что-нибудь дают?
Он делал вид, что не слышит, но, когда она повторяла вопрос — да еще чмокала папу в щеку, чтоб не сердился, — с уязвленной улыбкой мыл кисти, убирал краски и начинал одеваться. А возвратись, был весел и доволен.
У папы были артистические наклонности. Он рисовал, декламировал, играл в любительских спектаклях и пел.
Служил он в почтовом отделении.
Он хотел стать художником, но дома у них не было денег. Денег не было даже на башмаки, и ему приходилось бегать в школу босым, а у меня вот хорошие ботиночки, и я должна их беречь, чтобы они подольше не сносились, и быть за них благодарной.
Поскольку папина мечта об академии художеств не осуществилась, он решил развивать и поддерживать художественные способности дочери.
Мою топорную мазню он датировал и укладывал в папки. Купил для меня «Заветы» Манеса[5], «Шпаличек»[6] Алеша и взял на выставку картин. Алеш и Манес мне понравились, а выставка — нет. Там как-то странно пахло.
Папа повел меня в Национальный театр. Места он брал стоячие — это позволяло чаще покупать билеты.
— Кто любит театр, — говорил он, — а какой чех не любит этого театра, созданного нашей кровью и потом?[7] — тому не важно, будет он сидеть или стоять.
Но в театре, созданном нашей кровью и потом, больше спектакля занимали меня собственные ноги.
Папа брал меня с собой фотографироваться. Приводил в какое-нибудь живописное место, где я сплетала себе венок. Потом показывал, как я должна стоять и какое у меня должно быть лицо. Солнце тем временем пряталось в тучу, и папа ждал, пока оно покажется. Когда модель и фон соответствовали его замыслам, он нажимал на кнопку автоспуска и, оставив аппарат на треноге, бросался ко мне. Аппарат жужжал, венок мой сбивался на сторону, и на фотографии у меня получалось выражение человека, сидящего в дощатом нужнике, когда снаружи распахнули дверь. Дома папа кричал на маму, что у меня вид идиотки, я ревела и не знала, как справиться с ощущением тошноты.
Придя со службы, он ел, рассказывал маме, что было за день, доставал краски и принимался напевать себе под нос.
Когда дневной свет мерк, папа выплескивал воду из баночки, советовал маме, что сделать на ужин, и начинал петь в полный голос.
Мама терла картофель, до того, что немела рука, а папа пел: «Любовь, любовь, откуда ты берешься?»
Неожиданно говорил:
— Чесноку не жалей!
И продолжал прочувствованно: «На горах не растешь ты, в полях тебя не сеют!»[8]
Потом затягивал: «Волга, Волга, мать родная…» — и, когда за окнами становилось совсем темно, я видела, как плывет на челне к белолицей красавице Стенька Разин… И похож он был на моего папу.
Но едва начинало тянуть сытным духом картофельных оладий, папа вскакивал и… «солда-тушки, бравы ребятушки!» — маршировал к маме пробовать оладьи.
Потом пел: «Кружись, кружись, девица, около меня», «Танцуй, танцуй…» и «У кого зазноба тайная, у того душа спокойная, ангел мой!»
Когда последние оладьи были сняты со сковороды, он запевал: «Чехи мои, чехи, гордый мой народ, душа рвется из груди, наши горы высоки, обручи-и-ились с небом!»
Папа был рослый и сильный, но не любил скучной работы — таскать уголь, мыть полы и окна, передвигать мебель… Передвигать мебель он просто терпеть не мог. Все это делала мама, а он для нее пел.
Когда я принесла по пению четверку, самолюбие папы было задето. Ну какой чех не любит музыку?!
Поэтому я каждый день должна была петь: «Возле Фридека дорожка» и «Где родина моя?»[9]
— Доро-о-ожка! — кричал папа. — «Дорожка» вверх, а не вниз!
Откуда мне было знать, думала я, что возле Фридека дорожка вверх, если я там никогда не бывала?
— Тот, кто при исполнении гимна не стоит прямо и не может с выражением его пропеть, не любит своей родины, — повторял папа.
Любить родину я хотела — если для него это так важно. Но, когда у мамы влажнели глаза, а отец принимал бравый вид, еле удерживалась от смеха. И, услышав собственный голос, выводящий надрывные ноты, хохотала во все горло.
А еще мне хотелось смеяться, когда папа разучивал роли для любительских спектаклей. Мама произносила текст за папиных партнеров. Произносила старательно, но папа кричал:
— С тобой только в театре играть!
Актрисы ему нравились. Но он, не таясь, восхищался и некоторыми дамами вне театра.
На нашей улице жила молоденькая мадам Блюменрейхова. Носила белые блузки со сборчатыми обшлажками, юбку в цветочках и зеленый передничек. Но по-чешски говорила. Даже научила меня скороговорке: «Сшит колпак не по-колпаковски, надо его переколпаковать».
Она всегда улыбалась, когда, гуляя в своей разлетающейся пелеринке, встречала моего отца, и он говорил маме, как ему жаль, что мадам Блюменрейхова не из его района.
Мадемуазель Штейнова была из его района. Она давала уроки музыки. Папа всегда ждал, пока смолкнут звуки рояля, и уж тогда звонил. Мадемуазель Штейнова всплескивала руками:
— Столько писем! Вы меня балуете! Заходите, пожалуйста!
А однажды сварила для папы кофе и подала в маленькой чашке с розочкой. Перед тем, как откланяться, папа пропел:
— Sah ein Knab ein Röslein stehn, Röslein auf der Heiden, war so jung und morgenschön…[10]
Но тут в дверь позвонил ученик. Набравшись смелости, папа пожаловался мадемуазель Штейновой, что дочка его не умеет петь.
— Дочь такого любителя пения не поет? — удивилась та.
Он объяснил, что у жены его нет слуха. Но мадемуазель его успокоила и посоветовала, как поступить.
Дома он рассказал обо всем маме. Передал, что, по мнению мадемуазель Штейновой, музыкальный слух можно развить. Затем позвал меня и велел покричать кукушкой. Сначала закуковал сам. Звучно и весело, словно пророчил себе сто лет жизни.
— Теперь ты.
Я начала куковать.
— Попробуй еще раз, — сказал он.
Я начала снова.
— Ничего не поделаешь, — укоризненно посмотрел он на маму.
Мадемуазель Штейнова объяснила ему, что, если я смогу прокуковать, она попробует со мной заняться. А если нет, тогда уж не имеет смысла.
— Ну так она не будет куковать, — сказала мама.
Я пошла в рощицу за либеньский костел и долго там куковала. Совсем как папа.
Потом папа рассказывал маме, как встретил мадемуазель Штейнову на улице. На ней было черное пальто, а под мышкой черный конверт — чтобы не было видно звезды. Папа шел возле нее до самого дома, и она будто бы спросила:
— А как девочка?
Он ей сказал, что с кукованием ничего не вышло. А она сказала, что теперь это не имеет значения — я все равно ведь не могла бы к ней ходить. Папа хотел ее утешить, но она тряхнула головой и весело заметила, что хорошо бы завести другое пальто. А то на черном желтая нашлепка очень выделяется.
Папе, конечно, пришло в голову, как было бы прекрасно, если бы он мог купить ей желтое пальто, чтобы она сияла уже вся.
Однажды папа рассказал, как мадемуазель Штейнова его испугалась — подумала, что он несет какую-то повестку от немцев. Она сказала, что брат ее, Павел Штейн (его мой папа тоже знал — вручал и ему разную корреспонденцию), хотел перед войной уехать в Америку, но застрял тут из-за своих торговых дел, а теперь жалеет.
Наш папа убеждал мадемуазель Штейнову, что все это болтовня, пустые слухи — немцы ни до чего такого никогда бы не дошли, это старый, культурный народ.
Потом папа принес домой большой эмалированный таз. Его дал папе господин Штейн — брат мадемуазель Штейновой — за то, что папа хорошо относился к его сестре.
Потом к нам приходили папины приятели и говорили, что и нас немцы могут запихнуть в какие-нибудь конуры.
Я представила себе крольчатники, лепившиеся у бараков вдоль Рокитки.
— А правда, пани Блюменрейхова, что вы и нас хотите запихнуть в такие вот конурки? — спросила я, когда мы проходили вдоль забора.
Дома я радостно объявила, что немцы нас ни в какие конурки запихивать не будут. Что мадам Блюменрейхова этому очень смеялась.
Я шла из школы с ранцем за спиной и свернутыми в трубочку плакатами под мышкой. Собственно, это были большие картинки для раскрашивания, которые мне доверили раскрасить дома, потому что я аккуратная и не заезжаю за черту. Наглядные пособия для уроков немецкого. Назывались они: «Auf der Post» и «Auf dem Bahnhof»[11].
Я шла вразвалку, потому что было тепло, а мимо меня к Буловке неслись красивые черные автомобили, и в них сидели гордые немецкие солдаты.
Дома я узнала, что папа в Буловке, его хватил удар. И что произошло это с ним, когда он был у того самого господина Штейна, который дал нам тогда таз.
Мама сердилась, что вахтер не пускает ее в больницу и невозможно отыскать врача, чтобы узнать, что же такое с папой.
Потом мы включили радио и услышали, что произведено покушение на Гейдриха и что его перевезли в больницу в Буловке.
— Так вот почему меня не пустили, — сказала мама. — А ведь отец сказал мне, сразу же, как пришла, сказал: «Убили Гейдриха». А я все не могла взять в толк, думала — заговаривается… и о евреях что-то говорил, он это принимал близко к сердцу… я его просила помолчать, не утомлять себя напрасно.
В больнице маме заявили, что ходить ей незачем, у них сплошные осмотры и проверки, а папа так и так умрет. Но она на другой день пошла снова и добилась разрешения ходить все время, пока папа будет жив.
Она ходила к нему каждый день и все старалась уберечь от воспаления легких.
Потом сказали, что его можно забрать домой, они ничем больше помочь не могут.
— Он тяжело болен, — предупредила меня мама. — Он очень изменился. Ты встреть его поласковей. Говорить он не может.
Я раскрашивала акварельными красками картинку: «Auf dem Bahnhof».
Der Zug — поезд, die Kasse — касса, die Dame, der Koffer. Ein Herr, eine Aktentasche… das Rad — велосипед… Лица, которым известен владелец велосипеда, обязаны сообщить об этом в полицию, в противном случае они и их семьи будут расстреляны.
Радио без конца повторяет это, но я ему не верю, это мне представляется чем-то похожим на то, как мой папа говаривал: «Я из тебя поджарку сделаю, будешь мне тут капризничать!» — и сам при этом смеялся.
Спросить бы у мадам Блюменрейховой. Да мадам Блюменрейхова больше здесь не живет: тоже получила какую-то повестку.
А хорошо бы иметь велосипед! Но велосипеды иметь нельзя.
Я слышу голоса. Уже привезли папу! Я представляю себе его, всего забинтованного, и думаю, как мне получше его встретить. Спрячусь — и неожиданно тявкну, как делаю, когда он возвращается со службы.
— А вот и мы! Здравствуй, Эва! — раскатывается мамин голос.
Говорит, будто читает за папу в каком-то спектакле. Потеха!
Папа не забинтован. Обвил одной рукой мамину шею. Он похож на пьяного. Родители напоминают парочку из тех, которые плетутся иногда по нашей улице к Рокитке.
Мама делает мне глазами знак подойти ближе и театральным голосом говорит:
— Ну, добро пожаловать, папа!
Папа все время молчит, смотрит так странно. Внезапно половина его лица кривится, он начинает трястись и плачет.
Мама ведет его к постели.
Он лежит, хрипло дышит и глядит на меня. Мама ушла на кухню. Я не знаю, что делать. Боюсь уйти и боюсь оставаться с папой. Споласкиваю кисточки и выскальзываю за мамой в кухню.
На столе раскрыта большая коробка с елочными украшениями. Что это? Ведь на дворе весна!
Мама вытащила из коробки колокольчик, которым папа всегда давал знать, что пора заходить в комнату, что младенец Иисус там уже побывал.
С этого дня и до конца войны у нас все время звенит рождественский колокольчик — медный, с железным язычком, в папиной левой руке.
Появился еще и молочник с острым носиком. Молочник, из которого можно пить лежа, приоткрыв только половину рта, и питье при этом не проливается.
Появилась грифельная доска.
Появились еще некоторые предметы. Сначала я не знала, как к этому отнестись, но мама сказала:
— Болезнь не знает стыда!
Детям к нам заходить не разрешается.
Вот кончится война… Вот папа поправится…
В ванной комнате жарко. Котел гудит, я сижу в ванне. В теплой воде хорошо! Жду, когда покажется мама, сядет на край ванны и будем болтать.
Дверь приоткрыта. Радио перечисляет фамилии, имена, где кто родился, где проживает… Списки расстрелянных за содействие покушению.
В теплой воде хорошо. Вот кончится война, опять поедем гулять в горы. К нам смогут ходить дети, и никто не будет надо мной подтрунивать за то, что папа делает под себя. Мама не будет объясняться с людьми только на пороге, у нас станут бывать знакомые, как раньше, — не только доктор Бездековский и парикмахер Коржинек.
Радио уже не говорит.
— Мама-а-а! — кричу я. — Мама-а-а!
Вылезаю из воды и иду за ней.
Сунулась к ним и увидела, что она возле отца. Лицо его накрыто белым платком, и платок этот вздрагивает.
— Уходи! — говорит она. — У него приступ.
Но почему теперь, когда с маминой помощью он уже мог добраться до уборной и я стала понимать отдельные слова, папа снова глухо ворчит и поскуливает, как собака, мама ворочает его с боку на бок, а я чищу ногти ему на тяжелых холодных руках?..
Приятели папы пришли его навестить. Такая радость у него сегодня. Поэтому он плачет, и понять его совсем невозможно. Даже мама не понимает и не может объяснить приятелям, что он говорит. И вот они рассказывают разные веселые истории, как по радио, и папа смеется. Приятели тоже смеются.
Но в прихожей опускают головы и молча уходят. Потом я видела их только на старой армейской фотографии, которую мама давала папе и на которой папа мой самый высокий, самый красивый и самый веселый из всех.
Мама начала ему читать. Я думала, она читает очень хорошо. Но папа написал: «Читаешь идиотски!»
Мама улыбнулась, как ребенок, понимающий, что он еще не больно-то умен, и стала читать дальше.
Книги мы брали из библиотеки, и мама читала, пока не начинала запинаться, а папа раздраженно звонил. Иногда он бывал великодушен и благодарил ее. Вещи с продолжением ему нравились. Особенно, кажется, в «Братстве»[12]. Но он при этом часто плакал.
Из прочитанного мы делали выписки в тетрадь, которую мама озаглавила: «Читаем с карандашом в руке».
Если какое-нибудь место ей нравилось, она готова была исписать чуть ли не пять страниц. Бумага в тетради была плохая, чернила расплывались.
Стихи мама в отличие от отца не любила. Но однажды сказала мне:
— Перепиши, пожалуйста, это!
Маленькое стихотворение стояло на странице особняком, перед какой-то повестью, и относилось к этой повести.
Привет тебе, мой край, прекрасный и любимый! Ты колыбель моя, и ты моя могила, ты дал мне жизнь, и ты мне дан в наследство, о мой раздольный край, неповторимость детства…— Я прямо вижу все это… — сказала мама, — наши горы…
И я представила себе, что мама стоит с папой в наших горах, которые обручились с небом, что папа поднял трость с набалдашником, а мама заслонила глаза от солнца так, что видна только ее счастливая улыбка — как на той фотографии, что у нас в альбоме.
Мама надевала старое пальто, голову покрывала платком, когда выметала золу и шла за углем.
Папа позвонил, она подала ему доску, и мы прочли: «Бабка Кокс!»
Бабкой Кокс мы называли неопрятную старуху, ходившую с мешком вдоль Рокитки. Мама такому комплименту рассмеялась, а отца это разозлило. Он не хотел смотреть на неприбранных женщин. Начал что-то возмущенно лопотать. Мама знала, что это отнимает у него силы, и поборола себя.
— Разведешься со мной? — спросила она наконец.
И он, с усилием приподняв голову, кивнул и облегченно прикрыл веки.
— Вот кончится война… — говорила мама, поворачивая его на клеенке и обтирая со всех сторон намыленной холщовой рукавицей, — возьмешь себе красивую молодую барышню… — макала она рукавицу в белый таз, который дал нам брат мадемуазель Штейновой.
Папа не только маму ругал, не только грозил развестись, когда кончится война, но еще ухитрялся, взяв в здоровую руку парализованную, как отбивалкой по мясу, колотить ею по маме.
Мама знала, что я это вижу, и говорила, что он не виноват, его таким делает болезнь, я ведь помню, каким он был прежде, а теперь в его жизни нет радостей.
Я хотела доставить ему радость и начала весело куковать. Так долго, пока не зазвонил колокольчик. Я подала папе доску. «Заткнись!» — написал он своим трясущимся почерком.
Вот кончится война, поеду куда-нибудь на каникулы! Теперь я не могу уехать — нельзя оставить папу, — да и куда уедешь, если нет родных за городом?
Неожиданно мне улыбнулось счастье. Бездетная мамина подруга взяла меня с собой на дачу.
Я первый раз в деревне. Она крошечная. Здесь даже нет костела, только часовенка. И здесь никто не знает о моем папе. Я хожу с маминой подругой по малину и по грибы. Я такая послушная!
Тут все так красиво и воздух чистый, а как тут естся!.. Дома мы не чувствовали голода. Пайка хватало. Папа клевал как воробей, и мама ела не много.
Меня впервые приняли в свою компанию и мальчики. Один мне нравится, он осенью пойдет в четвертый класс училища. Зовут его Адамек. Он очень любит рассказывать, что читал. Другим это скучно, а я могла бы слушать и слушать. Коровы в это время залезают в овсы. У тетки Адамека большая усадьба. Мы играем на выгоне в прятки. Палочка-выручалочка — возле висящей на дереве куртки Адамека. Кто водит, прячет голову под эту куртку.
Я отбегаю к усадьбе:
— Адамек, пора!
Его присутствие придает всему какую-то таинственную значимость. Мак хрустит в коробочках завязей и так чудесно скрипит на зубах. Громадные околоцветники тмина у разломанной ограды, запах черной смородины, узкая мальчишеская ладонь, оладьи с медом…
Он мне рассказывает «Крест у ручья» — эта книжка стояла у тетки в шкафу. В ней тоже есть одна Эвочка.
Мне страшно нравится, что Адамек читает книжку, где тоже есть одна Эвочка. Рассказываю, что у меня — книжка про мальчика, который дружил с выдрой. Ее звали Балуна. И этот мальчик понимал язык зверей.
Утаиваю от Адамека, что читаю медленно, люблю книжки для маленьких, потому что там мало чтения и много картинок. Со мной здесь, правда, толстая книжка о Балуне, но еще и складной альбом: «Малютка-фавн в лесу». Восхитительный чертик играет на свирели ягодам земляники, малины, черники и ежевики, а они перед ним танцуют, как балетный ансамбль, и все сладко улыбаются. Какие краски, какие рожицы!..
В комнате, где я сплю, на стене — дева Мария, из глаз ее капают красные слезы. Меня пугает этот образ. Дома у нас нет икон — только картинки, которые рисовал мой папа, когда еще был здоров.
Тут есть и «Вечера под лампой». В одном потрепанном номере журнала читаю о батрачке: ее соблазнил хозяйский сын, и она потом стягивала живот, чтобы хозяйка не прознала, что она ждет ребенка. А хозяйка прознала. Батрачка молилась, но это не помогло. Тогда она решила утопиться, чтобы избежать позора.
Каким образом батрачка стала беременной, в романе не объяснялось, но было сказано, что она чувствовала, оставаясь с тем юношей наедине. Она, казалось, парила в небесах, и у нее, казалось, вырастали крылья.
Именно так было у меня с Адамеком.
Мы шли по ягоды, сперва за выгоном, потом глубокой балкой, и вели беседу. Собственно, говорил один Адамек и смотрел себе под ноги, чтобы не споткнуться. Он шел низом, я, держа большую кружку, — поверху, вдоль клеверного поля. Я знала, что у меня загорелые ноги, и шла легко, как балерина из «Полуденного отдыха Фавна».
Мне видно далеко вокруг, дальше, чем Адамеку. Видно поле, до самого синего леса; видно, как дрожит над нами горячий воздух и короткие волосы Адамека раздуваются у него на темени. Меня неодолимо тянет вниз, к нему.
Из клевера внезапно выпорхнули голуби. Адамек перестал рассказывать и поднял голову. Солнце заставило его прищурить веки — и тут я в первый раз взглянула ему в лицо. Лицо это с прищуренными веками потрясло меня — сердце так и замерло.
На раскаленной дневным зноем пасеке черничины сами лезут в глаза. Мы срываем их с низеньких кустиков. Ягоды не такие, как везде: большие, теплые и странные на вкус; пришлось их выплюнуть.
Из леса мы бежим бегом: все небо затянуло тучами. На пасеке закапали первые крупные капли. Потом дождь лил как из ведра, и ночью еще вспыхивали молнии. Меня рвало. Должно быть, съела нехорошую ягоду. Но неожиданно пронзившая меня догадка была страшнее всяких молний. А разве той батрачке не было сначала хорошо, а потом плохо?! Ведь и ее рвало!
Едва дождавшись утра, я осмотрела свой живот. И когда напряглась, на плоской его поверхности бугром вздулись мышцы. Совсем как там, в романе: «В животе у нее что-то дрогнуло…»
Впервые за каникулы я вспомнила о родителях. Что они со мной сделают? Папа напишет на доске: «Убей ее!»
А мама?!
Было так страшно и так горько сознавать, что гибель неизбежна.
Вот что ты натворил, Адамек!
Сколько же раз я вспоминала о тебе в годы, когда считала, что останусь бездетной…
Я вспоминаю о тебе всегда, когда смотрю на картину «Черное озеро». Или когда стараюсь вызвать ее в своем воображении. Правда, тут не было ни бледности, ни белого коня, все краски твои лучились теплотой, все в тебе согревало…
Помнишь, как мы играли на выгоне в прятки? Когда я спрятала лицо под твою курточку, дух у меня захватило. Как там пахло тобой! Много воды утекло с того времени, у меня подрастал сынок-непоседа, то и знай приходилось его искать. Однажды он заявился чуть не к ночи — и я не знала, целовать его или ударить, рванула к себе и ощутила вдруг твой запах, Адамек. Сколько лет понадобилось мне, чтобы понять: курточки всех мальчишек, которым не сидится в четырех стенах ни в дождь, ни в зной, пахнут одинаково.
Не помню, пробивались ли у тебя тогда усы. Я не отваживалась рассмотреть твое лицо. Грудь у тебя была гладкая, отроческая, это я знаю точно. Я на тебя глядела, как принц на прекрасную Магулену, боясь погибнуть от твоей несказанной красоты.
Сирены. Achtung![13] Achtung! Над территорией «великого рейха» появились подразделения бомбардировщиков… Дети, обгоняя друг друга, сбегают по лестнице. Сидим в бомбоубежище и говорим о том, как было до войны и как будет после. Когда сирены возвещают конец воздушной тревоги, поднимаемся к себе. Над территорией «великого рейха» нет больше ни единого подразделения бомбардировщиков.
Как только начинают выть сирены, мама взваливает папу себе на спину, руки его соединяются под маминой шеей, здоровая обхватывает парализованную, и маме приходится сильно согнуться, чтоб ноги его не мотались по полу.
Ей пытаются помочь. Но сирены воют и тогда, когда мужчины на работе. А папа не хочет, чтобы его носили чужие, потому что они его сдавливают, не понимают, что все у него болит.
В бомбоубежище папа всегда зябнет. Дворничиха предложила оставлять у нее папино пальто, чтобы не надо было все тащить с собой.
Когда налеты участились, спускаться стало все труднее. Папа плакал, не хотел в бомбоубежище и ругал маму. Многие ей советовали его не мучить, все равно Прагу бомбить не будут.
И доктор Бездековский говорил, что незачем таскать папу в подвал, она сама это в конце концов поймет.
Но никто не сказал маме, как в таком случае поступить: остаться с папой, идти со мной или каким-нибудь образом раздвоиться.
Мама оставалась с папой наверху, а меня посылала вниз с сумкой. В сумке были их обручальные кольца — оба так исхудали, что золотые ободки сваливались у них с пальцев. Была там и наша сберкнижка на вклад под кодом. Код этот мама мне назвала. Деньги мог взять только человек, знающий код. Если что-то случится, я пойду в сберкассу, назову код, и мне выдадут деньги. Это надежные предвоенные деньги, и, когда кончится война, за них я смогу многое купить. Но ничего не случится. Я могу быть спокойна.
Achtung! Achtung! Я беру нашу сумку, шепчу маме на ухо код, и она поощрительно улыбается, как всегда, когда я что-нибудь запомню, что-нибудь выучу, когда мне что-то удается.
По лестнице, стуча ногами, бегут вниз жильцы всего дома. Я боюсь не того, что останусь одна, а того, что придется идти в сберкассу. Через стеклянные вертящиеся двери, которые всегда хлопают меня сзади, мимо холодных кожаных кресел, к окошкам, за которыми бессловесные существа…
Вот кончится война!.. Когда ж мы этого дождемся?! Папа взволнованно слушает анекдоты, которые рассказывает брадобрей, и о том, что сообщают из-за границы; и я при этом присутствую.
А потом наступил май. Восстание началось весело. Красно-сине-белыми ленточками на пальто. Это мне напоминает пасху.
В стену возле нашего окна всадили пулю, и мама уже не раздумывает, идти или оставаться. Но это не налет, поэтому мы не спешим. Мужчины сносят папу. В подвале кладут его на кровать с сеткой. Тут холодно, сыро и мало света. На голове у папы вязаный шлем из разноцветных остатков шерсти, поверх перины — одеяло, но он не перестает зябнуть. Мы не умываемся и пользуемся все одной уборной, которую предоставила нам дворничиха. Но папа мой не может даже этого. После налета на Высочаны, когда кругом все содрогалось, с ним сделался новый приступ, от которого он уже не оправился. Здесь, в бомбоубежище, мама обслуживает его так, как дома, не обращая внимания на посторонних. А куда денешься?
Радио все время включено. Будь мы в квартире, папа мог бы этого и не слышать, но мы в бомбоубежище, а каждый хочет знать, что происходит.
По радио взывают о помощи! Папа плачет в голос, и все на нас смотрят. Мне стыдно, что папа плачет и что, когда подходишь к нему, чувствуется неприятный запах. В квартире, наверху, все эти годы такого не бывало. Разве что пахло лекарствами. Но здесь маме нельзя нагреть воду в тазу, который дал нам господин Штейн, как следует папу вымыть и потереть ему спину. Из бомбоубежища людей не выгонишь! И люди с любопытством смотрят, как она его кормит, как при этом сама открывает и закрывает рот, будто хочет папе помочь, как еда падает на тряпку у него под подбородком. Папа перхает, и мама вытирает ему слюни.
— Горят куранты староместской ратуши! — говорит радио на русском.
Мама выносит за папой посудину.
— Бедняга, — говорят люди.
Потом по радио играют веселую мелодию, которую я знаю. Она похожа на «Солдатушек». Красная Армия. Мама держит папину руку.
Мужчины, возвратившись с улицы, приносят новости. Иногда брезжит надежда, и снова кромешный мрак. Немцы не хотят сдаваться русским и, прежде чем уйти, все уничтожат. Но американцы уже близко!
Потом в бомбоубежище появляются немецкие солдаты. Один идет нормально, а другой пятится задом — будто они срослись спинами. Солдаты бледны, как мой папа. Идут прямо к его постели. Один тычет винтовкой в папу, другой целится в нас:
— Партизан?
Тишина, муха пролетит — слышно. Немцы приказали выключить радио. Папа хрипит.
— Партизан?! — повторяет немец.
— Больной, — объясняет кто-то, — капут.
— Krank![14] — говорит моя мама, которая знает, что папа все понимает, на все реагирует, все чувствует, но сказать ничего не может.
— Гражданский, — бурчит немец, и они уходят.
Кто-то презрительно сплевывает, кто-то произносит:
— Свинья!
Кто-то предостерегает:
— Тсс…
Радио снова говорит, сначала приглушенно, потом во весь голос на русском:
— Говорит Прага! Говорит Прага! Красная Армия!
Дети уже привыкли к моему отцу, чьи завыванья и поскуливанья наполняют весь подвал, но его, по-моему, слышно и в доме рядом, с которым нас соединяет переход, грубо заделанный кирпичами, там стоит железная кирка — на случай, если нам понадобится выбираться тем путем.
Мама все время держит папину руку. Наконец он затихает.
— Уснул муж? — спрашивает кто-то.
Уснул, но во сне началась горячка. Доктор Бездековский, подвижнически навещавший нас в течение всей войны и никогда не бравший за это ни крейцера, был далеко, и у него было по горло дел на баррикадах.
Так вот и получилось, что отец схватил все-таки воспаление легких, от которого мама уберегала его все три года, и умер.
Девятого мая мы с мамой пошли встречать русских, которых мой папа так ждал. Потом пошли в похоронное бюро, и ей там предложили выбрать гроб и спросили, сколько венков она думает на него возложить. Гроб мама выбрала самый дешевый, а от венков отказалась вообще. Когда же ей показали образцы траурных извещений, отвергла всех этих «дорогих» и «незабвенных».
— Я хочу вот как… — сказала она.
И служащий записал: «После долгой болезни скончался хороший человек».
Люди говорили, что он развязал ей руки, и осуждали за то, что она не поставила ему памятника. Они осуждали бы ее еще больше, если бы знали, что она не надела на папу лучшее его платье, сохраненное с довоенных времен, а отдала сшить из него для меня мой первый костюм.
В то лето, сразу после освобождения, мы поехали с мамой в наши горы, те самые, что обручились с небом. И в деревеньку, где я познакомилась с Адамеком. Там я узнала, что Адамека уже нет. Когда началось Восстание, он убежал из дому, и его застрелили. Мать его сошла с ума.
Мне не было жаль ни папы, ни Адамека. Ни тех, кто пал. Не было жаль никого на свете.
Только когда сама я стала матерью, открылось мое сердце и ушедшим.
Папа, мамочка… спасибо вам за все.
Перевод с чешского Е. Элькинд.
Ян Боденек В ПАРКЕ ПЕРЕД ПОЛУДНЕМ
У гуманиста был недельный отпуск. Стоял май, пора пробуждения, пора новой жизни. Все и вся возрождалось, и высидеть дома в такой час было просто невозможно. Сунув под мышку толстую книгу, гуманист прямо с утра вышел в парк. Там он сел на скамью под трехсотлетней липой и стал глядеть на деревья, на заросли кустарника, на цветочные клумбы, от которых веяло ароматом пробужденной земли и молодой зелени. За решеткой парка иногда стучали по асфальту чьи-то каблуки, а порывы ветерка то и дело доносили до него слабый шум ручья, протекавшего за его спиной, в западной части парка. Вообще же в парке была тишина, сладкая душе гуманиста тишина.
«Не нарушай тишины чтением!» — шепнул самому себе гуманист и положил толстый фолиант рядышком на скамью; он сидел сложа руки и глядел перед собой, медленно-медленно поворачивая голову из стороны в сторону, ничего не желая видеть и не видя-таки ничего.
«Глядеть, не видя, слушать, не слыша, — нет ничего более сладостного», — шептал он себе.
И он глядел, но не видел, слушал, но не слышал, потому что над ним, над высокой развесистой кроной липы, стояло сладостное солнце, не видимое со скамьи, но ласкающее его тысячами нежнейших и теплейших животворных перстов. Гуманист запрокинул к нему лицо, зажмурился и долгими, полными, сладостными глотками стал упиваться потоками жизни, исходящими от солнца.
«О, солнце, подумать только — на свете есть люди, пророчащие тебе гибель! А само-то ты как полагаешь? Какова твоя участь? Что ждет тебя во времени? И зависишь ли ты от него, зависит ли оно от тебя? Я думаю, что ты — вне времени. Ты такое великое и могучее, что тебе подобает место вне времени. Тебе суждено вечно самообновляться. Возвращать себе из пространства все, тобой излученное, ведь ты такое великое и могучее. Что скажешь на это, великое и прекрасное солнце? Мы не можем представить себе ни начала, ни конца вещей, поэтому ни того, ни другого не существует; существует лишь вечное существование. Ведь это так, о великое, прекрасное солнце, и поэтому ты будешь светить вечно — для нас, не правда ли? Да? Да, да, ты ведь такое великое и прекрасное, что будешь вечно светить для нас! Будешь, будешь, будешь!»
Гуманист еще повторял: «Будешь, будешь!», но уже невольно обратил свой взгляд направо — к соседней детской площадке. Именно туда направлялась старушка с мальчиком. Седая, сгорбленная старушка. И мальчик лет пяти с копной кудрявых волос.
Гуманист следил за ними взглядом.
«Ага, вот двое пришли в тихий парк. Я-то думал, его присвоило себе солнце. А что их привело в тихий предполуденный парк? Собираются беседовать с солнцем, как я?»
И он переключился на этих двоих — любопытно, зачем они пришли в тихий предполуденный парк. Перестал беседовать с солнцем и начал за ними наблюдать.
Старушка была нарядно одета и основательно навьючена: она тащила самокат, роликовые коньки и хозяйственную сумку, а еще одна туго набитая сумка висела у нее на плече. Мальчик, тоже нарядно одетый, медленно катил рядом с ней на детском велосипеде.
Старушка села на скамью у песочницы, пристроила рядом с собой вещи. Достала из хозяйственной сумки детскую лопатку, грабельки, ведерко и выложила их на песок.
— Мишель, ангел мой, здесь можно чудненько поиграть в песочек, — сказала она мальчику.
Мальчик соскочил с велосипеда, встал перед старушкой расставив ноги, равнодушно поглядел на всю эту утварь. Потом насупился и сказал:
— Здесь?
— Да, здесь, ангел мой. Сгребай песочек и строй замок. Вот как вчера показывали по телеку. Помнишь, как дети строили замки из песка? И ты сделай такой же чудный замок.
Мальчик с минуту смотрел исподлобья на старушку, потом положил велосипед на песок и присел на корточки. Взял лопатку, ковырнул раз, другой, какое-то время посидел над нею, потом обернулся к старушке:
— Бабушка, а еще вчера по телеку рекорды показывали. Дяди бегали и ставили рекорды. Я не хочу замок, хочу рекорд.
— Помилуй, Мишель, ангел мой, я не могу с тобой ставить рекорды. Лучше построй чудненький замок из песка.
— А я не хочу замок. Хочу ставить рекорды.
— Ангел мой, но с кем же ты будешь тут ставить рекорды? Берись прилежно за дело и строй замок. Будь хорошим мальчиком.
— Я и так хороший. Это ты плохая, раз не хочешь ставить рекорды. Пошли ставить рекорды!
— Что это ты вздумал, ангелочек? Не могу я ставить рекорды, старая для этого.
— Нет можешь, только не хочешь. Ты плохая, вот и не хочешь.
Мальчик скривился, плюхнулся на песок и отшвырнул лопатку.
«Ишь, какой повелитель!» — сказал себе гуманист и усмехнулся в усы.
— Мишель, я правда не могу, как ты не понимаешь? — сказала старушка. — Играй себе в этой славной песочнице, не будь плохим мальчиком.
— Это ты плохая — не хочешь ставить со мной рекорды. Раз дяди могли, значит, и ты можешь. Смотри, как надо! Я побегу, а ты за мной. Ну, давай!
Мальчик вскочил и побежал по дорожке, которая вела на край парка, к ручью. Старушка тоже вскочила, в ужасе заломила руки, отчаянно закричала:
— Господи боже, Мишель! Там речка! Утонешь! Умоляю, вернись! Там речка!
Размахивая руками, старушка бросилась вдогонку за мальчиком. Гуманист глядел ей вслед и говорил про себя:
«Ай-яй-яй, любопытная особь: маленький тиран! Homo crudelis[15]!»
Старушка бежала с трудом, расстояние между нею и мальчиком увеличивалось. Она отчаянно кричала, но мальчик не обращал на нее внимания. Он несся вперед, размахивая руками и торжествующе взбрыкивая. На бегу оглядываясь на бабушку, он бежал, пока не уткнулся в ручей. Остановившись, он осмотрелся: ручей был и слева, и справа от него. Что делать? И тут бабушка догнала его, схватила за руку и потащила назад. Мальчик упирался и верещал:
— Я хочу рекорд, хочу рекорд!..
Пятясь, орудуя то одной рукой, то обеими, бабушка тащила его назад, к детской площадке. Мальчишка был здоровячок, старуха с трудом волокла его, хрипела и охала. Когда они уже очутились у самой площадки, мальчик вдруг дернулся всем телом и вырвался из бабкиных рук. Хныча и вопя «хочу рекорд, хочу рекорд», он снова понесся по дорожке к ручью.
Мысленно гуманист вскочил и схватил мальчишку за шиворот.
«Гм-гм, пожалуй, именно так!» — прошептал он про себя. Держа мальчишку за воротник, он притянул его к себе, отвесил парочку хороших шлепков и вручил его бабушке.
«Да, пожалуй, именно так!» — говорил он себе, глядя на бабушку, снова припустившуюся за мальчиком.
Бабушка заламывала руки и вскрикивала:
— Мишель, ради бога, прошу тебя, вернись! Вернись, там речка! Утонешь! Не беги к реке!
Задыхаясь и хрипя, пошатываясь и спотыкаясь, старуха бежала за мальчиком. Собственно, она уже не бежала, а все медленнее и медленнее перебирала ногами. Даже издали было видно, как отчаянно напрягает она свои ревматические суставы. В конце концов ей пришлось перейти на шаг.
«Гм-гм, — размышлял гуманист, — следует ли гуманисту в таком случае вмешиваться? Если на его глазах происходит неладное, ему, пожалуй, следует вмешаться. Однако неизвестно, к чему это приведет. К чему это приведет? Неизвестно!.. Гм-гм…»
Старуха еле тащилась по дорожке, мальчик удирал со всех ног. Но ему явно недоставало фантазии, он мчался по той же самой дорожке, прибежал на то же место у ручья и опять растерянно остановился на берегу. Пока он глядел то влево, то вправо, не зная, на что решиться, бабушка дотащилась до него, схватила за руку и поволокла назад.
«Ну а теперь хорошенько всыпать по заднице!» — подумал гуманист, предвкушая, как поднимется бабкина карающая рука.
Но рука у бабки не поднялась.
Руки — то одну, то обе сразу — она пустила в ход для того, чтобы, пятясь, оттащить мальчика назад, к детской площадке. Мальчишка отбивался, упирался и отчаянно вопил: «Хочу рекорд, хочу рекорд…» Старушка тащила его, задыхаясь и хрипя. Гуманист наблюдал, как они напрягают все свои силы во взаимной борьбе, и удивленно размышлял:
«Она ему не всыпала! Как это понимать? Некоторые утверждают, что телесное наказание non humanus est[16]… Гм-гм… А раз так, и я ничем не смогу ей помочь…»
Из последних сил, натужно хрипя, бабушка приволокла мальчика на детскую площадку и усадила его на песок. Потом рухнула на скамью, тяжело откинулась на спинку, уронив обе руки и с трудом переводя дыхание.
Мальчик поглядел-поглядел на нее, понял, что она вконец обессилела, и снова рванул, на сей раз молча, но с тем же слепым упрямством, толкавшим его на дорожку к ручью. Старушка не реагировала. Сидела, уронив подбородок на грудь. Мальчик бежал и время от времени оглядывался, не гонится ли она за ним.
Гуманист наблюдал и шептал про себя:
«Вот теперь гуманисту следовало бы вмешаться! Пожалуй, теперь все же следует!» Но имеет ли он на это право? Кто знает, имеет ли он право… и как к этому отнесется старушка… «Если уж она сама не наподдала мальчишке… и если телесное наказание в самом деле non humanus est… то я не в силах ей помочь… Нам не дано знать, не дано… ничего-то мы не знаем…»
Гуманист еще с минуту понаблюдал за удирающим мальцом. Потом взял со скамьи свой фолиант, поднялся и медленным шагом перешел на другой конец парка. Там он сел на скамью под другой трехсотлетней липой и бросил взгляд в сторону детской площадки.
Отсюда ничего не было видно.
Гуманист положил фолиант рядом с собой, зажмурился и запрокинул лицо навстречу тысячам нежных и теплых перстов, проникавших сквозь густую раскидистую крону дерева. Он сделал глубокий вдох, упиваясь ощущением вечности, и зашептал:
— О солнце, великое и могучее, даже время не властно над тобой, ибо ты способно возвращать себе из пространства все, что излучаешь. Ах, какое ты прекрасное, великое и могучее!
Перевод со словацкого Ю. Преснякова.
Иван Габай ТОЛЬКО ЭТО ТАНГО…
Она не любит в такое время выходить в город. Центр и прилегающие улицы старается избегать, насколько это возможно, но совсем обойти их нельзя.
Летом в городе слишком уж оживленно. А по субботам прямо сумасшествие. Улицы, до отказа забитые легковыми машинами и автобусами, точно характеризуют эпоху и человека в ней.
Люди стремятся к тому, чего у них нет. Чехи и словаки тянутся к теплым морям, немцы — тоже к морю или, на худой конец, на Балатон; население приморских стран — навстречу им. Венгры оккупируют магазины словацких пограничных городов, жители Словакии рыщут по другую сторону границы, и все это мельтешение народов сопровождает нервозность, спешка, лихорадка!
Она спасается из опасной зоны в тихие кривые улочки, задыхается, потеет — так спешит. Надо немного передохнуть, а то в боку закололо. Переводит дух.
Вчера вечером позвонила дочь, спросила, не заехать ли за ней на машине. Зачем, ответила она, у вас и так полно забот, приду пешочком помаленьку, чего вам заезжать… Это явно устраивало дочь, она не стала больше уговаривать, сразу согласилась, только напомнила ей, чтобы приходила не позже десяти.
Да, дважды повторила, чтобы мать пришла не позже десяти, тогда успеет отдохнуть…
Когда мать приблизилась к особнячку, облицованному темно-коричневой керамической плиткой, снова, как уже не раз бывало, ощутила какой-то морозец по спине. Тут, в этом красивом доме, живет ее дочь, хозяйничает ее Зузка! У матери даже голова закружилась, пошатнуло ее — боже мой!
Перед домом стоят три машины. Желтую, зятя, она знает, а вот красная и белая ей не знакомы. Должно быть, родных Тибора, видно, и ночевали тут… Райфы — довольно многочисленное семейство, по крайней мере так говорит дочь. Да ведь мать и сама кое-что помнит. Помнит она старого мастера — выйдет, бывало, из своей мастерской на солнышко, прислонится к двери с цигаркой в уголке рта и смотрит куда-то напротив, где католическое кладбище.
Мастерскую старый Райф держал недалеко от Сиреневой улицы, в одноэтажном угловом доме на Кладбищенской линии. Кроме нее, в доме было несколько квартир, выходивших на Долгую улицу. Лишь в мастерскую вход был с Кладбищенской линии. В одной из квартир жили сами Райфы; они и остальные семьи были тут только съемщиками, дом принадлежал кому-то из Гроссов, но после войны отошел государству, что, впрочем, на бытовых условиях его обитателей никак не сказалось. Для отправления естественных нужд использовались все те же деревянные будки в конце сырого двора, по которому по-прежнему шныряли крысы, и после смены владельца в дождливую погоду все так же протекало в квартиры, а по воду так и ходили к общей колонке на Кладбищенской линии.
Старый мастер… Погруженный в себя, почти безразличный к окружающему: постоит, бывало, на солнышке перед мастерской, потом вдруг как бы очнется — и назад, в темные ее просторы, чтобы там до вечера чинить велосипеды, детские коляски, тачки, кофейные мельнички, всякую всячину, даже мотоциклы, если клиент уже пришел и никак не отвязывается, твердя, что больше некому привести в порядок машину.
У Райфов было четверо детей: три девочки и мальчик. Тибор — младший из детей. Старый мастер работал много, а денег всегда не хватало. Мастер брал недорого, а то и вовсе работал бесплатно. Многие мотали себе это на ус и злоупотребляли его великодушием. Другие, конечно, это тоже подметили, даже удивлялись старику, который так легко дает себя надуть, однако платой не обижали, хотя и казалось им, что старому Райфу ничего и не надо, лишь бы получать удовлетворение от доброй работы.
В сорок девятом неожиданно умерла жена мастера. Было ей всего пятьдесят один год, и до той поры она ничем серьезным не болела. Событие это до того потрясло Райфа, что он, в общем-то, так и не оправился. Правда, еще три года подпоясывался своим старым засаленным передником, но уже в мастерской не на Кладбищенской линии, а на Кривой улице за евангелической церковью, в той, что принадлежала коммунальному хозяйству; а потом, так же как и его жена, поразил город и близлежащие окрестности неожиданным уходом в лучший мир.
Старшая из дочерей Райфов, некрасивая, костлявая Ружена, вышла замуж еще в конце войны и вскоре после того, как фронт отошел на запад, уехала с мужем в Братиславу, где они и осели. За пять лет Ружена родила троих детей, а когда они подросли, пошла работать в продуктовый магазин, где дослужилась до заведующей.
Средняя дочь вышла замуж тоже еще при жизни обоих родителей. Мужу ее, машинисту из Ческой Тршебовы, уже в сорок лет, из-за больного сердца, пришлось выйти на пенсию по инвалидности.
Младшая, Эдита, жила дома с братом и родителями. Той весной, что оказалась последней для ее матери, Эдита переспала с неким Петром, монтажником по профессии. Впоследствии выяснилось, что он счастливо женат, а в родном городе Эдиты жил временно, всего три месяца. В начале лета Петр исчез; Эдита, поняв, что она в положении, отправилась разыскивать его. Но Петр ускользал. Пока она скиталась по Чехии, меняя различные кратковременные работы, умерла ее мать. Эдита даже на похоронах не была и о смерти матери узнала с опозданием, в родильном доме Дечина, где ее наконец нашли сестры — уже матерью девочки, родившейся на рождество. Петр, вернее, Карел — ибо таково было настоящее его имя, — отцовства своего не признал, и Эдита, с ребенком на руках, долго перебивалась одна. Только в шестидесятых годах она вышла замуж за вдовца из Либерец, венгра, поселившегося в Чехии в сорок седьмом году, прижившегося здесь, да так и не пожелавшего вернуться в родные края. Он-то и стал для Эдиты внимательным и благодарным мужем.
Тибору, самому младшему, было труднее всех. Когда умерла мать, ему и пятнадцати не было. Когда же за ней последовал отец, юноше только-только минуло восемнадцать. Едва выучившись на слесаря на том самом предприятии, где работал его отец, Тибор еще год прожил один в родительском доме, после чего его призвали в армию. В его положении служба в армии была настоящим спасением. Там его одевали, кормили, учили порядку, чистоте, дисциплине. Такое воспитание превратило разболтанного, неряшливого подростка в самостоятельного парня, и, вернувшись на гражданку, он никогда не тянулся к старым привычкам, а, наоборот, тщательно старался вырваться из-под влияния прежних товарищей, которых теперь, после двухлетнего пребывания в столице, пропитавшись духом, дотоле ему неведомым, в глубине души презирал. Он поступил в вечернее техническое училище и окончил его, но еще раньше, во время учебы, успел жениться на Зузане, девятнадцатилетней парикмахерше, в которой, кроме телесных прелестей, его привлекало и то, что в отличие от своих сверстниц, взбалмошных девиц, Зузана смотрела на жизнь практически; пренебрегая их мимолетными ребяческими интересами, она целеустремленно тянулась ко всему основательному. Да, эта девушка была для него! И он ничуть не досадовал, когда она объявила, что ждет от него ребенка. Этот факт лишь ускорил свадьбу, подхлестнул их к действиям, которые увенчались многим таким, от чего могло бы перехватить дыхание не у одного из гостей на сегодняшнем торжестве! Родственники Тибора не были в этих краях добрый десяток лет, а результаты двух последних пятилеток в жизни Зузаны и Тибора достойны восхищения и даже зависти!
Мать вошла в переднюю. Напротив, у стеклянных дверей, выходящих на террасу, стоит ее дочь и разговаривает с людьми, которых мать пока не видит — они правее, за выступом, там, где легкая дачная мебель, столик, кресла…
Дочь, обернувшись, увидела мать.
— Мама, мама пришла! — воскликнула она, обращаясь к своим невидимым собеседникам, затем подошла к матери и потянула ее на солнышко. Тут она представила мать десятку незнакомых людей — незнакомых матери, но не Зузане с Тибором. Мать старалась запомнить, кто — кто, кто с кем, но все у нее сразу перепуталось, и в растерянности она поняла, что это ей не под силу; запомнила одну только пухленькую женщину, обесцвеченную блондинку, — среднюю сестру Тибора уж никак ни с кем не перепутаешь.
— Все собрались, пора, пожалуй, и в путь, — сказал Тибор, вопросительно взглянув на жену.
— Руженка с семейством ночевала на даче, Тибор отвез их вечером, — объяснила Зузана матери.
— А где Лацко? — спросила та, не увидев нигде внука.
— Он тоже там, — ответила дочь.
Тибор зашел в дом, вынес из чулана всевозможные корзинки и коробки — очевидно, припасы провианта для предстоящего званого обеда.
— Вот-вот съедутся туда и остальные гости. — Зузана обвела взглядом родственников. — Как бы не опоздать…
Помогли Тибору уложить вещи в машину — и отправились на лоно природы.
В дачном поселке у реки все-таки совсем другой мир. Во всяком случае, на первый взгляд. Прежнюю идиллию десятилетней давности, конечно, уже не найдешь, но иллюзия старых времен еще осталась. Тут тише, чем в городе, от воды веет влажный ветерок, поют птицы…
Давно прошли времена, когда эти места посещали лишь любители водного спорта да рыбаки! Скромные дощатые будочки рыболовов и невзрачные домишки пионеров дачной жизни безжалостно изгнаны с реки. Их место заняли более основательные строения — как, например, то, перед которым сейчас одна за другой останавливаются машины.
Все вышли, и дочь повела мать к тем, кто ночевал на даче, — пускай хоть немного освоится с ними прежде, чем начнут съезжаться совсем уж чужие люди.
Старшая сестра Тибора приехала с женатым сыном, невесткой и двумя их детьми, которые бегали теперь где-то у реки.
Тибор завел свою машину в гараж, чтобы освободить место перед дачей. Стоянка и так была довольно тесной.
— Теперь и я могу выпить! — весело сказал он, вернувшись, и вместе с другими тут же принялся за дело.
Потом он повел гостей осматривать дом. Ему было что показать — добротное каменное строение, прочно оштукатуренное, ни в чем не уступающее соседним.
Мать осталась одна — и этому она рада. Села во дворе на плетеный стульчик — отсюда ей видно зятя и всю процессию.
Сначала осмотрели гараж. Кроме машины, здесь разместилась и моторная лодка. Тибор, верно, предлагает покатать всех потом по реке. Женщины, конечно, пищат, что они в эту лодку не сядут, их мужья солидно помалкивают…
Гости выходят из гаража и идут к главному входу. Тут к ним присоединяется Зузана. Первый этаж осматривают, думает мать. Тут просторная комната с камином, кухня, обставленная всем, о чем только может мечтать женщина; заглядывают в ванную, туалет, кладовку. Поднимаются по деревянной лестнице на второй этаж. Восхищаются тремя спальнями со всеми удобствами, широким балконом, остроумно подвешенным в воздухе, с видом на голубую гладь, сверкающую внизу, в двадцати шагах от дома.
И вот уже опять все в саду, во дворе, или как там назвать это пространство перед домом, огражденное символическим заборчиком — местные власти возражали против высоких и плотных изгородей, которые кое-где было появились, но их пришлось снести, — заборчиком, ограждающим частное владение, в которое незваным вход строго воспрещен!
— У тебя здесь красиво. Правда! — похвалила брата средняя сестра. Побледнела ли она от зависти — мать не видит, та стоит к ней спиной.
— Тибинко, чтоб тебя! И на все это ты сумел накопить деньжат? — спросил кто-то.
— Накопить-то накопил, да этого мало! Сколько мы тут все наломались, даже Лацко. — Тибор поискал взглядом сына, но тот куда-то запропастился.
Потом спустились к реке. Уровень воды невысок, благодаря этому открылся широкий песчаный пляж, вид которого многих ошеломил.
— Вода холодная, выше по реке были дожди, — сказал Тибор.
— Фью-ю! — присвистнул кто-то.
— Настоящая Мальорка!
— Вот это да!
— Боже, какая же тут красота!
И так далее…
Позже, когда начали подъезжать машины с остальными гостями, мать ушла на кухню. Вскоре туда явилась Зузана. Вместе стали готовить холодные блюда, доставать посуду, приборы, разогревать то, что надо было разогреть.
Обед подали в третьем часу. Гостей набралось человек тридцать.
— Да еще некоторые извинились, что не могут приехать, — с некоторой досадой объяснила Зузана матери. — Но позже, к вечеру, приедут еще пять-шесть человек. — Тут она оживилась, даже подмигнула. — Самые важные…
Обед затянулся. Потом опять пили, беседовали, ударились в политику. Многое — а в особенности экономику — подвергли уничтожающей критике. Ратовали за бескомпромиссный твердый курс на предприятиях. В один голос утверждали, что давно бы следовало его взять, по крайней мере лет десять назад, а то и раньше!
Молодежь покинула поколение отцов и пошла к реке. Побродили по воде, кое-кто даже окунулся, но вода и вправду была холодной — такая уж пришла сверху, от Братиславы. Но на согретом мелком песке приятно было поваляться.
День убывал, убывали запасы вина и коньяка, но до конца мероприятия было еще далеко. В кладовке за кухней были припасены еще бутылки.
— Не разойдемся до утра! — выкрикивал Тибор. — До утра, до утра, до самого утра… — запел он.
Приехали и последние гости, привезли кого-то незваного, но хозяева и его встретили очень сердечно.
Снова что-то ели, снова пили. А солнце понемногу опускалось за холмы на венгерской стороне.
Общество разбилось на группки. Языки развязались, говорили уже все, что было на сердце.
Мать мыла посуду. В открытое настежь окно кухни доносились обрывки разговоров, музыка магнитофона, пение подвыпивших и даже отголоски первых ссор.
— Мама, оставь, завтра все приберем, — сказала Зузана, застав мать за мытьем посуды. — Пойдем к нам, ну пойдем, — уговаривала она, уже немного возбужденная ликером, с румянцем на все еще красивом лице.
— Немного осталось. Закончу и приду, — пообещала мать, отвоевав еще полчасика покоя от всех.
Настоящие дворцы — и тут, и в городе… Кто бы мог подумать, что ее Зузка так оперится! А сколько сегодня потрачено! Еды, питья, всяких дорогих напитков, фруктов, сладостей, боже мой, все это стоило кучу денег… Есть ли у них деньги на такой банкет или наодолжали? Ведь столько-то, поди, не зарабатывают. Министр и тот за такое короткое время не смог бы накопить столько добра…
Не дает покоя матери все увиденное. И то знакомое ощущение морозца, та дрожь по спине получили теперь какой-то другой оттенок — горечи, что ли… Нет, не так, что-то тут не так, говорит она себе. От восторженной гордости, которую она испытала утром в городе перед особняком дочери, остался только этот холодок и подавленность… Все у них есть, а глянь на них — вид такой, будто казни ждут, будто душит их какой-то кошмар! Не умеет нынешняя молодежь развлекаться, веселиться, как мы умели, думает мать. За кружкой пива, а то и без нее бывало нам весело, а они, гляди-ка, — где же настоящая радость? Разве это радость? Куда там! Настоящую радость сразу узнаешь, а у этих головы забиты другим, не умеют они наслаждаться маленькими человеческими радостями…
Во дворе хихикнули.
— Дерьмо, да еще какое! — донесся до кухни чешский говор.
— Тише, — проговорил другой голос.
— Да ведь он зарабатывает не больше трех с половиной! Что там говорить…
Опять кто-то засмеялся.
— Тише, — призвал к осторожности все тот же голос.
И опять все стихло.
Мать села в уголок возле электрической плиты, стала смотреть в окно.
Венгерский берег реки уже теряется в сумерках. И вербы на островке, что ближе к словацкой стороне, постепенно расплываются. Скоро стемнеет, думает она. И вдруг ее грудь сдавила внезапная глубокая печаль. Мать закрыла глаза, ей казалось: сердце вот-вот лопнет, разорвется на клочки… Потом давящее чувство отпустило, растеклось по всему телу. Это ей знакомо — знакомо по одиноким вечерам, это давно известная ей печаль старого человека, хотя там, дома, на Сиреневой улице, у нее какой-то иной оттенок…
— Где ты, мама, слышишь? Где ты? — послышался голос дочери. — Лацко, отнеси им пиво, раз им хочется, — бросила Зузка сыну, шедшему вслед за ней. — Мама, ты тут, что с тобой? — снова обратилась она к матери.
— Голова разболелась…
— Выйди на воздух, пройдет… Теперь тебя некому отвезти домой, все напились…
— Да и не надо.
— Хочешь, пойди ляг наверху. В маленькой комнате никто не спит, — предложила дочь.
— Может, пойду, только еще посижу, — ответила мать.
— Посиди во дворе, на воздухе.
— Тут воздуха тоже достаточно, — показала мать на открытое окно.
— Где ветчина, в холодильнике? Возьму-ка ее, — сказала Зузана и ушла.
Через минуту после ее ухода в кухню вошел Лацо. Молча сел в другой угол.
— Ты что, внучек? Тебе грустно?
Он не ответил.
— Тебе сегодня положено быть веселым…
Внук снова промолчал.
— Ведь все это в твою честь!
— В мою, — ухмыльнулся юноша.
— А как дела с институтом? — немного погодя спросила бабушка.
— Подали документы.
— Вот как… — бабушка задумалась. — Значит, на доктора решил учиться?
Лацо кивнул.
— И как думаешь, примут?
— Не знаю, — равнодушно ответил внук.
— Вот бы хорошо. — Она с любовью посмотрела на Лацко.
— Гм, — хмыкнул он.
— Дай бог, чтоб тебя приняли, — тихим голосом сказала бабушка. — Что-то плохо себя чувствую, не знаю, что это со мной… Лучше бы мне дома быть. Да как теперь отсюда выберешься? Все напились… О-хо-хо, пойду, пожалуй, лягу наверху.
— Напились! Это точно, — согласился внук.
Помолчали.
— Послушай, бабушка! Давай улизнем, — предложил вдруг Лацо.
— Как это?
— Дойдем до шоссе, всего пять минут. На автобусную остановку. Пойдем! В девять есть автобус в город, еще успеем… Пошли, а?
— Ты серьезно? — оживилась она.
— Бери свои вещи.
— Надо проститься, а то неприлично…
— Да ты знаешь, что тогда будет? — Внук посмотрел на нее с упреком. — Застрянем тут…
— Они встревожатся… — колебалась еще бабушка.
— А я напишу им, оставлю записку на столе, — решил Лацо и эту проблему. — Нет, не тут, надо через гараж. — Он потянул бабушку к заднему выходу.
Незамеченными они выскользнули из дому, прошли через «опасную» зону. Скрывшись за кустами акации, зашагали смелее.
Вниз по реке плыло освещенное пассажирское судно, на речной глади мерцало множество огоньков. На палубе оркестр играл танго. Как в старые времена…
Перевод со словацкого Н. Аросьевой.
Карел Гоуба ДИКИЕ РОЗЫ
После профессорского обхода она поднялась с койки и вышла в затихший коридор — прогуляться. В последнюю неделю она прогуливалась регулярно до и после мертвого часа, так что «маршрут» свой изучила вдоль и поперек. Мимо маленькой, но уютной столовой, где ходячим подавали завтрак, обед, чай, или полдник, и ужин, большей частью холодный, — плавленый сыр, колбаса, ветчина, два рогалика, масло, — мимо трех дверей, на которые она не отваживалась взглянуть, потому что пугалась вида всех этих поблескивающих аппаратов, пугалась возможности услышать стон или крик и, едва впереди показывалась сестра с дребезжащей каталкой или спешил к дверям ассистент, робко пряталась за ближайшим поворотом коридора, чтобы с ними не встретиться.
Только спокойствие, никаких сильных чувств, сердце надо щадить, пани Поханьска…
Сколько раз она слышала это предупреждение?
Впервые — десять лет назад, когда отмечали ее пятидесятилетие. Она тогда вернулась поздно — шел годовой отчет, — в рабочее время приходили с поздравлениями сослуживцы и товарищи из завкома, она получила букет красных гвоздик и большую коробку конфет. Потерянное время пришлось наверстывать, когда рабочий день уже кончился, а дома некогда было даже присесть: готовила, сервировала праздничный ужин на четверых… ведь обещал прийти ее сын Йоска. Со своей женой.
Кто знает, что тогда больше всего подействовало ей на сердце — весь суматошный день или сын, Йоска… Она, правда, не надеялась, что он придет. Она вообще смирилась с тем, что больше его не увидит. Получив аттестат зрелости, он не отправил документов в вуз, а объявил, что пойдет в грузчики. Развозить фрукты и овощи. Стоит сидеть за книжками еще пять лет, чтобы начать наконец зарабатывать? Он хочет иметь деньги сейчас. Ее муж, Вацлав, хлопнул тогда дверью, и с той поры Йоска как бы перестал для него существовать.
Но для нее он не переставал существовать. Ни на минуту. В мыслях она, как прежде, была с сыном и, хотя не имела от него никаких известий — не знала даже, у кого и где он проживает, — ясно видела, как он встает, невыспавшийся, еще затемно и ни свет ни заря едет в город на трехтонке, груженной капустой, кольраби, лимонами, яблоками…
Незадолго до ее пятидесятилетия он прислал сообщение о своей женитьбе.
Взглянув на штемпель, она поняла, что свадьба была за четыре дня до того, как оповещение отправили. Показать открытку Вацлаву она не решилась, но, когда поздно вечером накануне знаменательной даты зазвонил телефон и Йоска странным, каким-то притихшим голосом робко пожелал ей всего самого хорошего, пригласила его к ним вместе с женой.
Повесив трубку, она достала Йоскину открытку и положила перед Вацлавом на стол. Он нерешительным жестом, как имел обыкновение, снял очки — тогда он еще продолжал работать в корректорской, в газете, — и тыльной стороной ладони смахнул открытку на пол:
— Нечего ему тут делать.
— Даже в мой день рождения?
— А в прошлые годы он о нем хоть раз вспомнил?
— Так то пятидесятилетие, Вацлав… — сказала она.
И тихо добавила:
— Я ему простила… И мне хочется в такой день хоть немножечко радости…
Жена Йоски оказалась старше его, и первые мгновения встречи просто невозможно было вынести — такое воцарилось тягостное и унылое молчание… Но она сразу же сделала то, что сочла тогда единственно правильным: поцеловала Мартину, поцеловала Йоску, улыбнулась, хотя сквозь слезы видела лишь два расплывчатых пятна вместо их лиц… А когда Вацлав тоже подал руку сыну и невестке и все сели за стол, счастью ее, казалось, не было предела. И это было больше, чем сумело выдержать ее больное сердце.
Из того, что произошло потом в тот вечер, она помнила лишь сирену «скорой помощи»; небритый доктор сделал ей инъекцию еще в машине и дал кислород, но, несмотря на это, она потеряла сознание и очнулась уже в отделении интенсивной терапии.
Прогулявшись, она вернулась к себе.
Мужчина средних лет, опередив ее, открыл дверь палаты. Из коридора видно было, как он сел на стул у второй койки и, заставив себя улыбнуться, что-то сказал. Она знала, к кому он обращается. В ее палате лежала семнадцатилетняя Кларушка с врожденным пороком. В прошлом году она вместе с ребятами из школы поехала на Праховские скалы и попыталась спуститься с одного из самых доступных склонов. Зачем! Разве не знала, какое у нее сердце? А, видите ли, чтобы остальные не считали ее кисейной барышней. На высоте примерно метров в двадцать крюк расшатался, не помогла и страхующая веревка, и альпинистка сорвалась. Двойной перелом правой ноги, перелом нескольких ребер и сотрясение мозга. Лежа на земле, услышала она, как прибывший из Йичина доктор сказал: «Хорошо, если две недели протянет». Она протянула две недели, протянула и год. Хотя за целый год ни разу не поднялась с койки — добавились разные осложнения, не говоря уж о врожденном пороке. Кларушка стала как тень — прозрачное личико, прозрачные руки, но не погасшие глаза светились надеждой. И учиться не бросила. Один год оставался до аттестата зрелости. В отделении ее навещал отец, носил учебники и книги, и регулярно приходили две учительницы, распределяли ей задания на месяц.
Случалось, лежа в палате возле Кларушки и вспоминая разные неурядицы и неудачи своей жизни, она мельком взглядывала на соседку и ощущала вдруг что-то похожее на стыд. Что значило ее пошаливающее сердце в сравнении с муками, перенесенными этой молоденькой девушкой, жизнь которой только начиналась, но столько раз уже готова была оборваться? Сама она, если не считать сердечных неполадок, в сущности, была здорова, знала, что может встать и что, приехав из больницы, снова начнет хлопотать на кухне, готовить, гладить, приносить продукты, а если будет настроение, даже пойдет немного прогуляться с Вацлавом или сходит в кино.
Представив себе все это и посмотрев на Кларушку, она невольно радовалась, что еще полна жизненных сил. Это было эгоистично, она это понимала, но побороть себя не могла — отрадное сознание, что она может двигаться и не зависеть ежечасно от других, звучало в ней в эти минуты громче сострадания.
Когда ее выписали из больницы в первый раз, она, пробыв полгода дома, снова пошла работать. На прежнее место за канцелярским столом, с ежедневником, арифмометром и кипой бумаг. Еще шесть лет вставала спозаранку, чтоб приготовить мужу завтрак, наскоро прибрать в квартире и успеть на службу, пока однажды ночью не проснулась от острой щемящей боли в груди. Ей казалось, она задыхается, нельзя было произнести ни звука, но, к счастью, проснулся и Вацлав и услышал, как она хрипит.
Та ночь превратилась для нее в без малого тридцать ночей, когда различные аппараты бесстрастно регистрировали биение ее сердца. А те тридцать растянулись в почти триста, когда она могла только полеживать дома, борясь с усталостью и преодолевая отвращение к яркому свету и громким звукам.
Надо щадить себя, пани Поханьска. Особенно сердце. Поменьше эмоций…
Она стояла у окна и смотрела вниз, на улицу.
Июнь только начинался, деревья у тротуара обволокло молодой зеленью, крыши домов заливало солнце. Оглянувшись, она быстро распахнула раму и едва не отпрянула, так резко обдало ее волной свежего воздуха — она отвыкла от него за шесть недель пребывания в больнице. Да, здесь она была теперь по третьему звонку того, чему уже дала название: «Неотвратимость». Звонку, а не набату, как в оба предыдущих раза. Но все-таки ее оставили в стационаре.
В три часа пришел Вацлав. Принес банку сока и апельсины.
— На той неделе выпишут, — улыбнулась она и внимательно на него посмотрела (странно, они прожили вместе почти тридцать лет, виделись ежедневно, но она все еще не перестала открывать в нем что-то новое, такое, что до сих пор ускользало от ее внимания, как, скажем, эти две морщинки возле рта). — Что тебя огорчает?
— Ты. Твое больное сердце.
— Не волнуйся, пожалуйста. Все уж в порядке.
— Так говорят они?
— Они и я. Нет, правда. Я хорошо себя чувствую. Не дождусь, когда выпишут. А как ты?
— Никак, — сложил он руки на коленях, где штанины, вытянувшиеся от долгой носки, торчали пузырями. — Копаюсь в старых фотографиях, сортирую… Ты не поверишь, сколько я за эти годы наснимал!
Единственное, к чему он еще сохранил пристрастие после того, как в свое время вынужден был отказаться от рыбалки и когда вышел на пенсию. Единственное, что еще давало ему стимул жить… Вместо бесцельного шатания по квартире, сидения на лавочках с себе подобными или в пивных барах за кружками тепловатого пива перед глазами постоянно было что-то побуждающее к деятельности: задача рассортировать вороха снимков, уложенных в картонные коробки из-под ботинок. Число их возрастало с каждым годом, с каждой прогулкой по городу. Снимки первомайских торжеств разных лет, дня авиации, виды старинных пражских улочек, фонари на Кампе, играющие дети, деревья в цвету… А главное — лица. Сотни лиц. Молодые и старые. Украдкой пойманные объективом мгновения мечтательности, изумления, любовной ласки, задумчивости, смеха, слез…
— Вчера в одной редакции предложил несколько фотографий. Представь себе, три взяли, — улыбнулся он и, сняв очки, тыльной стороной руки протер глаза.
Она хотела спросить: «О Йоске ничего не слышно?» — но сдержалась. После того злополучного дня рождения десять лет назад, когда они в первый и последний раз собрались за столом все вместе, Йоска, правда, приходил еще, но уж один, без Мартины, и неизменно находил для этого отговорку или оправдание. Она радовалась, что он все-таки не забывает дорогу к ним или хотя бы к ней, но ни о чем его не спрашивала, лишь с легкой грустью отмечала про себя, что он всегда, будто нарочно, появляется, когда отца нет дома. Но и за это его не осуждала. Потом он начал появляться реже и наконец совсем пропал. В прошлом году пришла открытка из Ханоя, несколько строк: «Горячо поздравляю, я тут в долгосрочной командировке…»
— Знаешь, Квета, у меня для тебя… как бы сказать… сюрприз, что ли, — пересел Вацлав на стул возле койки и снова надел очки.
— Сюрприз? Какие у тебя еще могут быть сюрпризы?
— По-твоему, я ни на что уж не гожусь?
— Ну что ты, Вацлав… если бы не ты, меня теперь, наверно, и в живых-то не было, — сказала она, глядя прямо ему в глаза.
Он не отвел своих, он тоже смотрел ей в глаза, еще по-молодому красивые, зеленовато-карие, как осенний лист бука; они лучились таким теплом и лаской, что он нашел и стиснул ее руку, словно поблагодарить хотел за этот взгляд.
И опять ей хотелось спросить: «Есть что-нибудь от Йоски — это твой сюрприз?»
Но она промолчала, зная, что в этом случае Вацлав, конечно, принес бы письмо или открытку. Хотя он так и не простил сыну ни его ухода, ни этой его женитьбы украдкой.
В тот вечер, когда она показала Вацлаву запоздалое оповещение о свадьбе и они потом оба лежали в постелях, но не спали — так были взволнованы, — он сказал: «Такие вещи не прощают, Квета. Он даже не счел нужным пригласить нас. Я долго думал, почему он ушел. И тут я мог его понять. Когда мне было столько лет, сколько ему, я тоже не один раз пытался убежать из дому. Каждый парень, наверное, убегает из дому, хотя тем, от которых он убегает, понять его невозможно — ведь они-то считают, что дали ему все, что только было в их силах. А он, может, и убегает как раз потому, что у него было все. Все от других, ничего от себя. Допустим. Разобраться тут еще можно, хотя смириться с этим трудней. Стремление стать самостоятельным и сразу начать зарабатывать — вещь в наши дни весьма распространенная…» На это она ему в ту ночь сказала: «А почему ты тогда не простишь его?» Но он вместо ответа натянул на голову одеяло и больше уже о Йоске не говорил.
— Ты часом не купил ли мне на платье? Или чего-нибудь для кухни?
Он отрицательно помотал головой:
— Не выпытывай. Вечно все из меня вытянешь, а потом уже пропадет интерес.
— Ну не надо, не надо. Не хочу, чтобы пропадал интерес. Буду просто ждать чего-то приятного.
То, что он ей сказал, когда привез ее из больницы, действительно было негаданным сюрпризом. Такое никогда бы не пришло ей в голову:
— Ты помнишь, где мы проводили наш медовый месяц — тогда это еще так называли?
— Еще бы. Разве это когда-нибудь забывается? Мы были в маленьком пансионате под Прагой…
— В Есицах. Гостиница называлась «Уединение», от станции рукой подать; погода, правда, выдалась скверная, а так вообще-то было хорошо. И дешево…
— «Уединение»… комнатка на втором этаже…
— Я ездил посмотреть на нее в прошлый понедельник, когда узнал, что тебя выпишут.
— Гостиница еще стоит? — удивилась она. — Я думала, ее давно снесли.
— Стоит, представь себе.
Он вытащил из одной стопки лежащих на столе фотографий видовой снимок и протянул ей.
— Это ты снял еще тогда?
— Да нет, — очень довольный сказал он, глядя на фотографию через ее плечо. — На прошлой неделе. Ты не поверишь, там совершенно ничего не изменилось.
Она с сомнением подняла на него глаза.
— Я забронировал для нас комнату — ту самую, в которой мы тогда жили. Это оказалось далеко не просто. Они там собрались делать ремонт, так что заведующая поначалу ничего и слышать не желала. Но когда я сказал, почему мы все-таки хотели провести недельку именно у них, согласилась наконец. Мы будем там одни, гостиницу пока закрыли.
На следующей неделе, сев где-то после трех на городской автобус, они уже в половине четвертого сошли возле платформы, откуда до гостиницы действительно было рукой подать.
Вацлав нес чемодан, в который Квета уложила необходимое белье для обоих, мыло, зубные щетки, а для себя еще вязаную кофту, на случай если опять польют дожди и будет холодно — как тогда…
Старой деревянной вывески над входом уже не было, висевшая вместо нее табличка уведомляла: «Объединение „Гостеприимство“».
Прошли холодный темный коридор, и у стеклянных дверей Вацлав остановился. Она вошла в столовую, пока он разговаривал с заведующей. Да, здесь когда-то они завтракали, ужинали… Тесное зальце, потолок, почерневший в углах от табачного дыма и пыли, занавески на двух окнах, смотрящих в сад, немытые столики не покрыты, но в углу — пианино, как тогда. Вацлав в дождливые дни от нечего делать бренчал на нем — играть он не умел, подбирал одним пальцем мотив, и она должна была отгадать, что это за песенка. Лишь на одном из столиков стояла пузатая вазочка, и в ней — дикая роза.
— Квета, дай твои документы! — крикнул он из коридора.
Она вышла, достала из сумочки паспорт и протянула ему. Он сложил его со своим и получил взамен у заведующей ключ.
— Ну, вот вам пятый номер, как хотели. — Лоснящееся лицо заведующей с черными ниточками полукруглых бровей улыбалось Вацлаву. — Это только что ваш муж очень просил — медовый месяц тут у вас был и так далее… Мы уже не работаем, белить здесь будут — видите, какая грязь, — крышу перекрывать… Хорошо, если к осени откроемся… — смотрела она на них, примолкших и смущенных.
И вдруг спросила:
— А как с питанием? Мы до открытия готовить здесь не будем.
Они растерянно переглянулись.
Заметив это, заведующая сказала:
— Ладно, что-нибудь придумаем.
По крутой скрипучей лестнице поднялись на второй этаж, где с каждой стороны коридора, застланного вытертой дорожкой, было по три двери. Их комната находилась в конце. Все как тогда: окно с видом на березы (они теперь уже переросли гостиницу), две сдвинутые кровати, шкаф с коротким зеркалом на внутренней стороне дверцы, шаткий столик и рядом два стула с продранной обивкой, жестяной умывальник на тонких ножках и глиняный кувшин с холодной водой — за теплой надо было идти на кухню.
Вацлав опустил чемодан на дощатый пол и, когда следом вошла Квета, глубоко вздохнул. Открыл окно: воздух был застоявшийся. Обернулся.
Квета, не выпуская сумочки, стояла посреди комнаты, присмиревшая, бледная.
Он подошел и обнял ее за плечи.
— Ну что? Ты недовольна?
— Я просто не могу поверить, что это наяву.
— На этой кровати спала ты…
— А у окна мы допоздна стояли и глядели на звезды…
— Удовлетворена?
— Я просто счастлива.
Она открыла чемодан и вынула то самое необходимое, что взяли они в дорогу. Шкаф был протерт, она в этом убедилась, прежде чем положить туда рубашку Вацлава. В комнате тоже было чисто, кровати застланы новыми простынями. Когда она наконец убрала в ящик вязаную кофту и, закрыв дверцу, присела на постель, в груди у нее странно защемило. Неужто впрямь минуло тридцать лет с тех пор, как они приезжали сюда с Вацлавом? Казалось, лишь вчера она, как несколько минут назад, стояла возле шкафа, вытаскивая из него чулки, белье, рубашки, чтобы сложить их в чемодан, потому что медовый месяц кончился. Как будто между той минутой, тридцатилетней давности, и этой не было ровно ничего, не прошло ни единого дня, хотя в действительности их была нескончаемая череда. И не было за это время ни рождения Йоски, ни кончины родителей — сначала мамы, а потом отца, — ни переезда в новую квартиру, которую сначала не на что было обставить, ни ухода Йоски, ни травмы, полученной Вацлавом, когда он едва не лишился обоих глаз, ни его болезненной отчужденности…
До ужина они еще вышли прогуляться. Вел Вацлав, словно вспоминая стежки и лесные просеки, по которым ходили они в первые дни медового месяца, когда им не мешали ни дожди, ни мокрая трава, ни холода, сопровождавшие ненастье.
Шли рядышком, и то она брала его за руку, то он ее. Они не сплетали пальцев в страстном томленье, не прерывали путь поцелуями и объятьями, не глядели подолгу друг другу в глаза, не шептали пылких признаний. Все это оставалось там, в их молодости… И горячие поцелуи, и еще более жаркие излияния чувств мало-помалу обратились в пепел на жертвенном алтаре времени.
Они шли молча, но молчание сближало их сильнее самой шумной многословности, и, только когда неожиданно встречалось что-нибудь казавшееся им знакомым, они заговорщицки стискивали друг другу ладони.
В столовой уже накрыли столик у окна.
Ужинали в одиночестве.
Полнотелая заведующая поджарила им колбасу с яйцом, в общей мисочке подала кочанный салат, хлеб был свежий, масло душистое.
— Одно только я упустил, — сказал после ужина Вацлав. — Утром я это исправлю.
— Опять сюрприз?
— Тогда я нарвал тебе диких роз…
— Принес их мне в комнату…
— С утра был дождь — они совсем размокли…
— Но они уже распустились… Чудесно, если ты нарвешь такие же!
Поднявшись к себе, они долго еще стояли у раскрытого окна, глядя, как сгущавшийся сумрак становится все синее и превращается наконец в черноту ночи.
— Голове-то не низко? — заботливо спросила она, когда они уже лежали на старых широких и основательно продавленных кроватях. — Дома ты спишь на трех.
Она встала и принесла еще одну подушку, которая валялась без наволочки в шкафу. Подсунула ее Вацлаву под простыню и легла опять.
Они не говорили ни слова, но не спали.
Напрягали слух в непривычном для горожан безмолвии, которое сейчас скорее будоражило и раздражало, а не успокаивало.
Она слышала, как ворочался с боку на бок Вацлав, кровать поскрипывала, потом он глубоко вздохнул:
— Не спишь?
— Нет, не могу уснуть, — ответила она.
— Ты плохо себя чувствуешь?
— Да нет, не беспокойся, просто тихо очень — непривычно.
Вечерняя прогулка утомила ее, к тому же стали одолевать разные мысли, и это было тяжелей физической усталости. Опять нахлынули проклятые вопросы об отношении Вацлава к Йоске. Хотя прошло уж столько лет после его ухода. Почему Вацлав так и не простил его? А тут еще внезапное безразличие ко всему после того, как он вышел на пенсию. Оно продолжалось недолго, Вацлав вернулся к своему старому увлечению фотографией, оно ему помогло забыться, забыть о том, что он расстался с корректорской, о том, что неминуемо ждет каждого, когда придет его срок; он несколько недель ходил как в воду опущенный, сидел один, не зажигая света, сторонился ее, не хотел разговаривать. И всякий раз молчал, когда она спрашивала, что с ним. Две тайны, которые он не захотел открыть ей. Всего две.
— О Йоске ничего не слышно? — обронила она в тишину. — Не было ни письма, ни открытки?
— Как раз теперь тебе понадобилось о нем вспомнить?
— Понадобилось, Вацлав. Что с тобой тогда было, почему ты не мог с ним помириться?
Он привстал, сдвинул подушки к деревянному изголовью, будто решил теперь сидеть, а не лежать, и пробурчал:
— Все равно не поймешь меня, Квета.
— А я попытаюсь.
— Со стороны покажется все это глупым и смешным, но для того, кого это коснется, это не смешно.
— Я всегда думала, что ты не мог простить ему ухода от нас.
— Сначала-то и я так думал. Но не это было главное. За этим крылось кое-что еще, о чем мне трудно говорить.
— И все-таки скажи.
— Я просто не мог свыкнуться с мыслью, что я потерял Йоску, а вместе с ним навсегда потерял ту иллюзию молодости, которой я возле него жил. Моей молодости, понимаешь? Ведь около него я был второй раз молодым. Помнишь, как мы ходили с ним на рыбалку. Он был совсем малыш, стоял возле меня и весь дрожал от нетерпения — когда я наконец позволю ему кинуть леску? Однажды я дал ему подержать удилище, а потом купил игрушечную удочку и, вместо того чтобы следить за своей леской и наживкой, смотрел все утро, как он бегает по берегу, выкапывает дождевых червей, насаживает хлебный мякиш на крючок, а один раз даже поймал плотичку и закричал от радости, когда ее вытаскивал…
Она молчала, чувствуя, как что-то подступает к горлу и теснит в груди.
— Помню, мы сделали тряпичный мяч и гоняли его по площадке.
— А по воскресеньям ходили в походы, пока я стирала…
— У Давле мы взобрались на откос и смотрели оттуда, как разлилась река…
— Но он не виноват, что вырос. Не мог он вечно оставаться десятилетним или пятнадцатилетним.
Нечто подобное испытала и она. И ей знакомо было это чувство. Однажды, когда сын одевался перед зеркалом, чтобы идти на танцы, она вдруг увидела перед собой другого Йоску, он повязал галстук-бабочку и словно бы подвел этим черту под своим детством. А несколько лет спустя и этот Йоска стал уже другим, принадлежал теперь не ей, а кому-то неведомому, к которому ходил по вечерам, — чужой непонятной женщине, которую она не знала и о которой он никогда не говорил, хотя она об этом несколько раз робко и осторожно спрашивала. Но она тогда сказала себе: в жизни есть такое, с чем надо уметь расставаться, как бы трудно и тягостно это ни было. Их жизнь втроем как что-то само собой разумеющееся текла довольно долго, теперь им с Вацлавом, очевидно, следует понять, что так не будет продолжаться вечно, Йоска имеет право поступать, как считает нужным он, а не они. Так уж устроен мир: от самого рождения беспрестанно приходится с чем-то прощаться или что-то терять, и чем раньше поймешь это, тем будет лучше. И она поняла это раньше, чем Вацлав.
— Он все равно когда-то должен был оставить нас, — прервала она молчание.
— Теперь и мне это ясно, — словно подумал вслух Вацлав. — Ну а тебе разве не жаль было расстаться с Йоской?
— Тебе не с Йоской жаль было расстаться, а с какой-то дурацкой иллюзией…
— Дурацкой? — насупился он. — Далеко не дурацкой. Пока эта иллюзия была со мной, я был… счастливый человек.
Он сбросил одеяло, встал и, подойдя к окну, немного постоял так, глядя в ночь. Потом задернул занавески, словно хотел, чтоб в комнате было еще темней, и, вернувшись к кровати, тяжело привалился к деревянному изголовью.
— Тебе не кажется, Квета, что мы состарились и сами не заметили как?
— А ты не думай об этом, — сказала она. — Помнишь, как мы познакомились?
— Помню.
— В самом конце войны, в апреле. Ты патрулировал мост…
— Со старым Грузой, которого потом убили возле радиоузла…
— Я шла с покупками, — улыбнулась она, вспоминая, как ходила ночами в ближайшую деревню за продуктами — час туда, час обратно.
Яйца, иногда брусочек масла… Покупали по баснословной цене или просто выменивали за то, что еще можно было найти дома: папин довоенный отрез на костюм, мамины серебряные часики, бабушкина шерстяная шаль; в одну из этих апрельских ночей ушли и ее золотые сережки, полученные к конфирмации.
— Ты задержал меня — а была ночь, и я очень боялась, — ужасно грозным голосом спросил, куда иду и что тут среди ночи делаю…
Он вытянулся и прикрылся одеялом.
Молчал.
Потом спросил:
— Скажи, Квета, отчего мы теперь не столько живем, сколько вспоминаем, что было?
— Я и теперь радуюсь жизни, хотя и с удовольствием вспоминаю то, что было. А вообще-то, раз уж ты спросил — наверно, потому, что были тогда молодые, — нашла она в темноте его голову и провела по волосам, и сейчас еще, на шестьдесят седьмом году жизни, густым и жестким, как щетина, баюкающим движением руки старой женщины. — А в молодые годы человек и дышит за десятерых, и смотрит за десятерых. А уж любит-то — тем паче.
— Утешила, нечего сказать, — буркнул он.
— Даже с этим не хочешь смириться, эгоист?
— Да, не хочу, ни с чем не хочу смиряться. Смириться — значит капитулировать.
— Смириться — значит понять. А понять в жизни — значит быть довольным.
— Ну и много ты поняла в жизни?
— Кое-что все-таки поняла… — сощурила она веки, словно тьма в комнате стала вдруг резать ей глаза. — Хотя бы то, что мне было хорошо с тобой.
Он промолчал. Сразу не нашелся что ответить. Только почувствовал, как чаще застучало сердце, и разозлился на себя за это. Он и теперь не захотел бы числить себя в хлюпиках, способных растаять из-за умильного словечка. Но он нашел и стиснул в темноте ее пальцы. Словно выразил этим свою благодарность.
— А года три или четыре назад… — начала она.
— Не вспоминай, не надо, — попросил он.
— Нельзя не вспоминать…
— Теперь ведь этого нет.
— Зато тогда было, да как еще было-то. Не могла я тебя понять. Страшилась за тебя. А ты все молчал и молчал.
Он и сейчас молчал, но она чувствовала, что говорить он будет.
— Тебе… тебе никогда не хотелось умереть? — спросил он наконец.
— Мне? — повернула она к нему лицо. — Хотелось один раз. В двенадцать лет, когда я была безнадежно влюблена в молодого историка, преподававшего у нас в классе. Он упорно не замечал моих томных взглядов, и мне тогда хотелось умереть. Это было страшно, но красиво!..
— И все же иногда, — устало сказал он, — иногда человеку хочется умереть — когда он думает, что все уже сделал, никому больше не нужен и жить ему не для чего.
— Жить всегда есть для чего, Вацлав. Хотя бы для самого близкого человека, которому ты нужен, даже если он не говорит об этом.
Помолчали.
Она чувствовала, что Вацлав лежит теперь рядом успокоенный и умиротворенный, как после исповеди.
— Сейчас и я это знаю, Квета, — прозвучал в темноте ровный и ясный голос. — Но тот ужасный день, когда в последний раз я вышел из проходной нашей типографии, закрыл за собой дверь корректорской, будто закрыл дверь жизни… И сразу впереди не оказалось ничего, кроме долгих пустых дней. Ненужных дней.
— Но такая пора наступает для каждого, Вацлав. Надо только уметь ее пережить.
— Уметь пережить, — повторил он, — это ты верно сказала. Всегда надо только найти в себе силы и пережить. Как легко это говорится…
— Тебе не трудно на минутку приоткрыть окно?
— Зачем? Разве здесь жарко? — удивился он.
— Немножко душно, — сказала она и несколько раз с усилием глубоко вздохнула.
Он подошел к окну, отдернул занавесочку и распахнул одну створку.
Воздушная струя была такой студеной, что он поежился. Но не ушел, а, плотней запахнув ворот, ждал, пока она попросит закрыть.
Она ощутила ночной воздух уже после того, как ее обволокло им, как обволакивает человека благовонием, крепнущим постепенно, чтобы тем сильней одурманить. Вот и ее теперь словно бы одурманило пронизывающим холодком, едва она почувствовала его дыхание на своем лице, на шее и неприкрытых руках.
Когда, захлопнув створку, он снова лег, она сказала:
— Сначала я подумала, здесь все такое же, как было тридцать лет назад… Но это только казалось… Здесь-то и правда все как было, но что-то изменилось в нас…
— Завтра будет хорошая погода, — сказал он. — Ночь ясная.
— Я благодарна тебе, Вацлав, за то, что ты привез меня сюда. Благодарна. И рада…
— Скорее, это я тебе благодарен. В ту ночь… тридцать лет назад я, наверно, говорил тебе другие вещи. Наверно, более приятные. Ты уж прости.
И, совсем засыпая, пробормотал так тихо, что едва ли можно было расслышать:
— Утром нарву тебе диких роз…
Он вышел спозаранку, на цыпочках, чтобы ее не разбудить. Натянул только брюки, а пальто накинул на пижаму. Еще во время прогулки накануне он заприметил пышный алеющий куст диких роз за тропинкой, которая вела к лесу.
Хотел нарвать их целую охапку, но сорвал только три, еще не развернувшиеся после ночи. По лестнице он взбежал так проворно, что едва не задохнулся. Тихонько открыл дверь, еще тише приблизился к кровати и опустил розы на одеяло, поверх которого лежали ее руки.
— Квета, — шепнул он и наклонился над ней.
Он видел, что глаза ее закрыты, а на губах застыла странная, какая-то счастливая улыбка. Когда она не ответила и даже не открыла глаз, он произнес еще раз уже громче:
— Квета, смотри, я принес тебе розы!..
Он долго не мог понять, что она уже отошла. Наверное, во сне. А может, и тогда, когда он рвал для нее эти розы.
Перевод с чешского Е. Элькинд.
Ян Дворжак ВИДЕНИЕ В ОМУТЕ
В городе при слиянии двух рек Янка выходила вместе с несколькими своими подругами «с гор»; их путь здесь кончался. Не без волнения пробрались они сквозь истомленную перронную толпу и дурно пахнущий зал ожидания, торопясь как можно скорее стряхнуть с себя дорожную усталость и подумать о вещах более приятных.
Мерцающий город раскинулся у их ног, сиял приветливыми огнями, обдавая грохотом, скрипом, шелестом голосов: воздух был напоен дымом, густым и едким, и он вытравил из их глаз вольно летящие облака, зеленые склоны, рассыпанные по ним хатки.
Эта долина с высокими многоквартирными домами станет им приютом на четыре долгих года, новым домом, а может быть, и новой родиной: почти все они были убеждены, что после годов ученья не вернутся домой, а растворятся в толпе на широких улицах города, станут незаметной ее частью.
Нет, Янка ни за что не призналась бы маме и отцу, что уходит от них навсегда; изображая легкомысленную беззаботность, она пыталась прикрыть измену, но они все равно знали…
В последний день отец до изнеможения таскал ее по горам; раньше он не мог скрыть от нее ничего — теперь же как воды в рот набрал… а без его слов природа умирала, горы рушились, краски блекли.
За что он наказывал ее?
— Почему ты ничего не говоришь? — допытывалась она, сама ускользающая, но требующая от него участия.
Он смотрел прямо перед собой, и в глазах его отражался простор — но именно этот, и никакой другой, а она была далеко, слишком далеко.
— Не хочу, чтобы ты жалела, чтобы ты… — он отпускал ее, но говорить ему было трудно. Он не мог предложить ей никакой другой защиты и опоры, кроме той, что была в жизни подле него, с которой он вырос сам и дал жизнь ей, новую свою жизнь.
Мама укладывала в бездонный чемодан все ее шаги, начиная с первых, неровных, спотыкающихся, и до последних — самоуверенных, твердых, она паковала свои воспоминания, и свою заботу, и свои надежды.
— …Но это совершенно не нужно, мама, не клади мне этого, — отбивалась Янка, — ты меня собираешь, словно я еду в полярную экспедицию, а я… тут… теперь — рукой подать.
— Теперь — что и прежде. Чуть вылетят дети из гнезда, уже им до родителей далёко; погляди хорошенько вокруг себя, дочи, погляди на Ирену, на Сватку… и на Геленку… а ведь такая была маменькина дочка!
Они всё знают, поняла Янка, но ей не хватало опыта, чтобы ложь ее выглядела правдой: улыбка, спотыкающаяся речь, блуждающий взгляд выдавали ее им с головой.
И мама махала вслед удаляющемуся поезду, отец же стоял, не сняв фуражки, не подняв руки, — умиротворенные, тающие, незаметные, и за ними насупившиеся древние горы, видавшие на своем веку тысячи прощаний и тысячи возвращений, тысячи смертей, тысячи скорбей, но никогда не исходившие жалостью. И когда даль поглотила фигурки родных, расставленные на всех остановках, они — эти горы — остались.
…Нельзя сказать, чтобы город был для Янки совершенно неведомым местом; она помнила долго готовившиеся поездки, которых всегда ждала с замиранием сердца; нагруженные пузатыми сумками, они с матерью, бывало, исходят город вдоль и поперек, атакуя заманчивые магазины: ведь нужно было все достать, чтобы не пришлось вскоре ехать опять.
— Этот бедлам уже не для меня, деточка золотая, — стареющая мать жаловалась на разболевшиеся ноги, оглушенные уши, на то, что голова трещит, — неужели среди всего этого можно жить человеку?
Янка естественно воспринимала ее робость, ведь она тоже была здесь чужой: но чем больше мать честила неустройства города, тем мучительнее росло в ней желание проникнуть в его тайну, которую она видела в каждой краске, в каждой форме… И этот четко запечатленный образ она несла в себе, шагая по слякотной дороге, когда ветер охватывал их со всех сторон, как деревья, он вставал перед нею во сне, не исчезая и тогда, когда утром она открывала глаза и ее обливало солнцем и прозрачным опьяняющим воздухом.
Она мечтала о далекой жизни, ритм которой пронизывал ее представления, бережно собираемые из осколков их всегда в какой-то мере утилитарных поездок.
Прошли дни, и теперь она, наконец, не была здесь чужой!
Город при слиянии двух рек открывал ей свои тайны: вместо звезд она видела теперь за занавесками желтые огоньки окон, вечер за вечером в полумраке кинотеатров пыталась уследить за пулеметными очередями цветных широкоэкранных кадров. Звонкие колокола на Старой площади, рассыпавшие свои звоны по гофрированным крышам, говорили ей о давно минувших веках. Часто она останавливалась, заслушавшись этим чудесным сплавом уму непостижимых звуков или предавшись потоку своих, быстро сменяющихся ощущений.
Но первые дни мгновенных озарений вскоре прошли; буднями стала дорога по улицам, полным народу, открытий становилось все меньше, она растворялась — как того и желала когда-то — среди других людей, принятая ими как своя, поглощенная.
Чужая девочка исчезла.
Теперь ей казались далекими регулярно приходящие письма, написанные почерком таким же корявым, как горы, милые послания, полные опасений, трогательной укоризны, сердечных приветов… В судорожном темпе дня она вначале быстро пробегала их, строчку за строчкой, глазами, воспринимала и тут же забывала, о чем они: перегруженная и утомленная впечатлениями, стала находить для них все больше времени, задумывалась над продиктованными тревогой советами, вживалась в сообщаемые события. Там — вдалеке — был кто-то, кто неустанно про нее думал, и это означало полную защиту и опору. Точку опоры. Она укоряла себя за то, что ее ответы слишком сухи и деловиты, но не могла сосредоточиться для более пространных описаний, а впадать в плаксивый тон она себе не позволяла, зная проницательный глаз матери. Ничего не придумывай, говаривала ее мама, ты у меня глупышка, как соврешь, все сразу видно. Она писала так же, как думала: растущую тоску оставляя в стороне. Она не сокрушалась над тем, что все реже становятся ее приезды в горы… неделя за неделей катились вперед, и всегда находилось какое-нибудь обстоятельство, неожиданное препятствие или общественное дело, которые мешали ей сесть в поезд и поехать назад. Ты теперь на своих хлебах, но помни, что родной дом — это родной дом, и мы тебе всегда рады, — так обычно заканчивала письма мать, уже поставив подпись. Она помнила, вспоминала, но ее время было многомерным, и одним из существенных его измерений было то, в котором существовал Алеш Берг, ее «первое серьезное знакомство», в которое верила она и ее ближайшие подруги.
После первой случайной встречи на каком-то пресном спектакле она виделась с ним каждый вечер, сгорая от нетерпения, если он опаздывал хотя бы на минуту. Чувства Янки воспламенялись быстро, но не гасли с сумерками: она встречалась с Алешем, потому что тосковала по близости, которую утратила, уехав от родителей, и не обрела вновь в потоке новых и непривычных впечатлений. Только с этим юношей, самостоятельным и глубоким, она стала снова открывать для себя город — но уже не в облике, который являет куча сделанных наспех, жадно схватывающих случайное моментальных снимков, а в видах, укрытых от постороннего глаза, будто снятых скрытой камерой. Пестрый клубок беспорядочно петляющих дорожек, коробки, полные людей, рассеченные мостовыми, тротуарами и площадями, — все это стало теперь обретать свое лицо.
Вот однажды Алеш Берг привел ее на узкую полоску земли, на угол, где соединялись две реки: одна широкая, плавная, катящая воды по зеленым низинам и лишь порой, во время весеннего таяния снегов, забывающая про свои берега и затопляющая прибрежные травы в тщетном, но таком прекрасном желании слиться с незнакомым краем; другая — пугливо бегущая от них, с гор, неся в себе память об одиноких хатах, глухих лесах, звериных тропах, гнетущей тишине.
— Вот здесь они вгрызаются друг в дружку, — всегда повторял Алеш, когда они смотрели, как лениво ползущая Лабе принимает в себя бурлящую Орлице.
Они сидели на берегу у дуплистой ветлы, сами как две реки: он, выросший в городе, перехлестнутый улицами, — широкая Лабе, она, стремящаяся в долину с такой же неукротимостью, как волны Орлице… и стихийно приведенная к этой удивительной встрече.
Ее тревожил этот вид, замыкающий аккуратно возделанные и ухоженные газоны городского парка, окруженные разноцветными скамейками.
— Зачем ты водишь меня сюда? — спрашивала она с укоризной.
— Затем, что здесь кончается город… и дальше начинается мир, — усмехался он, и был прав. Там, куда не доставал взгляд, открывался неоглядный морской простор… и туда стремились они, потому что мечты никогда не стоят на месте.
— Но я тут мерзну…
— От реки тянет ветром…
— Ты хотел сказать: от рек…
— От них — нет, только от одной, широкой, — он показывал вперед себя и кричал ей вслед. Раскатистое эхо возвращало их голоса.
Угрюмость этого места сменяло уютное тепло звонких залов, наполненных музыкой, нескончаемые прогулки, горячий кофе, шумный школьный класс…
— Здесь мы живем, — Алеш показал ей свой дом; пятиэтажный многоквартирный дом на набережной, украшенный завитушками орнаментов, у которых не отняли изящества даже ненастья, — и я был бы рад, если бы ты как-нибудь к нам зашла…
— Пока нет, — отбивалась она. И дома она тоже ни словечком не обмолвилась о новом знакомстве.
— Из окна видно и место слияния, — уговаривал он, — очень красивый вид… а еще я кормлю чаек.
— А у нас из окон видны только горы… и небо, — доверительно сообщила она, но при этом видела лишь туман. Горизонт был во мгле, и мгла все сгущалась. Зеленый склон расплывался, пирамидки заготовленных на зиму дров рушились в закоулках памяти, даже голос матери не долетал до нее…
— Что с тобой? — Он заметил ее испуг и отсутствующее выражение лица. — Куда ты смотришь?
Она не сумела ему ответить, не смогла признаться, что как раз в тот момент, когда они были так близки друг другу, когда они могли дружно отворить дверь дома, в котором он вырос, она была неимоверно далека от него, она возвращалась, послушная зову, но вдруг с ужасом обнаружила, что не может найти свой старый дом, а нового у нее нет. Он был у него, у Алеша, но она не нуждалась в подачках.
Она оставила его, недоумевающего, у порога и убежала, не сказав ни слова. Теперь ей было нужно только одно: письмо, в котором будут слова, зовущие ее назад, теплое письмо, полное сетований, говорящих, что по ней соскучились.
Но, к ее удивлению, письма не было. Напрасно она звонила на почту и в неопределенных выражениях просила ускорить его доставку. Ей не могли доставить то, чего не существовало.
Перемена в ее настроении не укрылась от внимания подруг: они подозревали самое худшее.
— Что с вами? — Их назойливость угнетала ее.
— Ничего со мной! — кричала она, искренне желая, чтобы так оно и было.
Земля уходила у нее из-под ног: гордая исполнением своих желаний и прогулками с Алешем, она постепенно забыла о том, что осталось за ее спиной. Она смотрела только вперед.
Но когда она заглянула в реку, ощутила ее дыханье, в этом омуте ей явились лица.
Отец и мама шли ей навстречу, звали ее слабеющими голосами.
— Приезжай, приезжай, мы всё ждем тебя…
Но вдруг голоса пропали, и лица тоже, остался лишь туман.
Она больше не могла противиться.
— Куда ты собралась, ведь ты мне обещала, что мы…
Алеш догнал ее у самого вокзала.
— Отпусти меня и прости, мне надо домой, там что-то случилось, понимаешь? — Она нырнула в толпу тех, кто торопился покинуть город.
— Ты себе внушаешь…
Она не слушала его и мчалась вперед. Но в вагон она вошла не одна.
— Я поеду с тобой, — объяснил он.
Сначала они сидели так, что между ними оставалось пространство, но по мере того, как поезд углублялся в местность, они становились все ближе.
— Не бойся ничего.
После долгой изматывающей езды они вышли в самый настоящий туман. Он вылился им навстречу, захлестнул их, обдал лица, одежду, мысли. Ландшафт плыл в тумане как призрак, разорванный на серо-белые клочья.
— Я бы тут заблудился. — Алеш дрожал от холода.
— Не заблудишься. — Янка взяла его за руку.
Они боролись с ветром, который гнал их то вперед, то назад, вгрызался в пенные хлопья, вздувая их до самого неба, которое иногда проглядывало сквозь таинственный покров. Проблески чистого неба, скорее угадываемые, чем явные, придавали им сил, чтобы выстоять.
Вокруг них неслись потоки воды, река вышла из берегов и водоворотами охватывала их.
— Гола-а-а гоу, — закричала Янка, когда они были недалеко от дома, и остановилась. Так она всегда объявляла о своем прибытии, когда возвращалась из сельской школы — испуганная девочка, потерявшаяся среди бескрайней природы.
— Гола-а-а гоу, гола-а-а гоу, — ответили ей почти одновременно два голоса, слитые в один — голоса отца и матери.
— Гола-а-а гоу, гола-а-а гоу, — закричали и они оба разом и поняли, что настал момент, когда Алеш должен переступить порог ее дома, потому что они принадлежат друг другу.
Перевод с чешского Н. Беляевой.
Вацлав Душек ДЕВУШКА В КОЛЯСКЕ
Было мне тогда лет тринадцать. Однажды после уроков мама сказала — дело было в сентябре, но солнце было жаркое, будто в июле, — что Ганда Гронешовиц желала бы прокатиться по городу. А я ей должен составить компанию. Не задаром, конечно. Гронешова доверяла маме стирку своего белья и мытье окон, а также полов, а больше всего хотела бы, чтобы мама стала к ее газовой плите и состряпала им что-нибудь вкусненькое. Они напихивались пудингом и бисквитами, позволяли себе и консервы. Когда мне это мама сообщила и велела пойти Гронешке навстречу, никакой радости я не испытал. Я был зол на жизнь и на весь мир. (Уже с утра настроение у меня было паршивое. На уроках три раза меня вызывали, и все три раза я не имел ни малейшего представления о том, что надо отвечать.) Ну почему, черт побери, именно у меня должна быть такая услужливая мама? Вечером я долго не мог уснуть. Ворочался с боку на бок под периной, и лампочка из дома напротив светила мне в морду, а ветер мотал белье на веревках и лупил по стенкам нашего дома, так что отваливалась штукатурка… Значит, в воскресенье мне придется идти к Гронешке, забрать там Ганду, вместе с коляской, и полдня возить ее по улицам, чтобы она вдоволь нагляделась на витрины и на деревья, на светофоры и на людей, на трамваи и на реку. Хуже всего было то, что от Ганды нельзя отделаться — взять да и показать пятки, потому что некому б было катить ее по мостовой. Я уже представлял себе, как Гарик прыснет, увидя меня в роли брата милосердия. Боган вытаращит глаза, а Моулин подумает, что я вовсе сбрендил. Всю ночь я смотрел кошмары на тему этой экспедиции и к утру пришел к серьезному выводу: мне нельзя встретить кардинала!
Но я не мог предвидеть, чем все это обернется. Ну в самом деле, разве это мыслимо? Разве девчонка, которая не может стать на ноги, может научиться плавать? Когда я пришел к ним, чтобы за пятерку идти возить ее в никелированной коляске на высоких колесах по Карлину, показывая места, куда я хожу чаще всего, иначе говоря Пернеровку, Шальдовку, Ремизу, Перун, Дуклу, манеж и монастырский сад, так мне и в голову не вступило, что она захочет купаться. Я ожидал, что мы будем жариться в этом пекле и пыли и в людской толчее или же попремся на Вацлавак[17] и где-нибудь купим себе мороженое или жареные колбаски.
И вот шпарю я это с ней аккурат по Воцтаржке к мосту и думаю про себя: покажу-ка я ей свалку железного лома, подарю какой-нибудь кусок от рухнувшего аэроплана, например обрывок кабеля или какой прибор, который еще не успели свистнуть другие, чтобы видела, какие вещи можно в наше время обнаружить на свалке. И вот, размышляя таким образом, налетаю я на Гарика. Ну как мне могло прийти в башку, что кардинал как нарочно пойдет вынюхивать цветные металлы и забредет в район Богоуша Боублика, этого отпетого хапуги, который со своей бандой хозяйничает на свалке металлолома и в окрестностях моста.
Он топал по Воцтаржке и знать не знал об опасности. Ко всему прочему изо рта у него торчала сигарета. Он дымил, как фабричная труба Перунки, рискуя налететь на Боублика, который оборвет ему уши и заграбастает курево. Заложивши руки в брюки, он косился через забор верфей на лодку, принадлежавшую Боубликовой камарилье.
— Куда это ты прешься с колясочкой? — говорит он. — Сдается мне, что ты играешь в няньки. Меня не прокатишь, а?
Я вытер Ганде уголок рта, у нее текла слюна. Так бывало всегда, когда ее что-то волновало. Это говорила Гронешова. Мне было чудно́, что Гарик мог вызвать в ней такую реакцию, но платок был весь мокрый. Я немножко причесал ее своей гребенкой, и она взглянула на меня с благодарностью и погладила мне руку.
— Что, весело с ней, правда? Ты так и будешь ее толкать целый день? В такой парилке и пылище? А красивая какая, надо же!
— Закрой варежку, — сказал я. — Не думай, что она тебя не понимает.
— Тогда извини, нянюшка. Видик у нее, будто ей все до лампочки. А куда ты с ней тащишься? На Бенцата?
— А чего мне там делать?
— Ну хотя бы умыться, что ли. Искупаться. Что еще люди делают на Бенцатах?
— Мне упло́чено за катанье до шести часов, — сказал я. — Мы куда-нибудь заедем покормиться, а потом опять двинем.
— Может, она захочет искупаться? — сказал он. — Я спрошу ее.
— Ничего не получится, — говорю я. — Могу расписку дать.
— Ну, ты не того, Шупак[18]. Балда ты, скажу я тебе. Ну не дурень ли он, барышня? Я от всей души, а он вас хочет изжарить на солнцепеке за паршивую пятерку. Денежки берешь, а сам хочешь ее заморить. У нее голова расколется от этого солнца. Солнце вредно для здоровья, барышня, честное слово. У вас спокойно может случиться солнечный удар. Вы знаете про такое? Гляди, смеется, значит, хочет купаться. Вы бы желали поехать искупаться? Я могу научить вас плавать. Никто не плавает лучше меня. Моя фамилия Кованда, но меня называют Гарик. Все меня зовут Гарик.
После этого я уже толкал тележку по Манинам у самого берега, а Гарик шел рядом с ней и заливал. А ей это нравилось. Она была в восторге от его бреда. Я думал, если бы я устроил такой цирк, она бы оскорбилась, а Гарик и в ус себе не дул, знай шпарил свою одноактную кукольную комедию, меня даже зло брало. Может, мне не надо было упоминать про еду. Он наверняка был голодный как волк и, верно, учуял возможность подзаправиться на дармовщинку.
В тот день, в том году, в сентябре трава так пахла и мухи кусались как сумасшедшие. Должно быть, чувствовали, что скоро подохнут все, хоть нам в школе и внушают, что у этих тварей нет мозгов. На той стороне, на голешовицком берегу, отдыхал затонувший буксир; он лежал на отмели и напоминал большую дохлую рыбу, которую и есть никто не хочет, но и никто не пнет ногой, чтобы ее унесла вода. В ворота боен медленно вползал товарный состав — вагоны, битком набитые свиньями. Даже через реку доходил запах навоза. По набережной тарахтел трамвай и грузовик без бортов.
— Эй, Шупи, она говорит, у нее нет купальника, — сказал Гарик. — Почему у ней нет купальника?
— По-видимому, он ей не был нужен, — отрезал я. — Идиотский вопрос.
— Я ей пообещал, что научу ее плавать. Ты идешь рядом и будто ничего не слышишь, или как? Если я что обещаю, я выполняю.
— С этим плаваньем дело будет сложное, — сказал я. — Мне за работу деньги плочены, Гарик, и я не буду поддерживать всякие там авантюры.
— Это плаванье-то авантюра?
— Этого я не говорил, но вот Ганда…
— А я хочу, Тадеаш, — сказала она. — Не бойся.
Это мне было известно. Каждый сначала говорит: «Не бойся!», а потом из этого получается хорошенькая заварушка. Дожив до двадцати лет, она до сего дня купалась только в ванне, в теплой воде, и вот ради Гарика собирается лезть в холодную воду у плотины. Мне было ясно, что ничего хорошего из этого выйти не может. На мне лежала ответственность, но Гарик так ловко повел дело с Гандой, что никакой ответственности мне не осталось. Она смотрела только на него.
Не знаю уж, какой купальник свистнул я у кого-то на пляже, одно только знаю точно: если бы меня поймали, то удар пришелся бы по моей маме. А моей маме несчастий было и так вполне достаточно. Ей хватало одного большого — с отцом. Каждое воскресенье с утра, когда у нее было немножко свободного времени, она делала мне внушение: «Кушай, пожалуйста, маковый пирог и пей побольше молока, мальчик, а то ты ужасно худой, еще наживешь чахотку, и мне будет стыд и срам. Я так рада, когда люди в нашем доме говорят, что ты порядочный мальчик. Папа порадовался бы». Она вздыхала и потом продолжала: «Я тебе вот что скажу: держись добрых людей. Дурных обходи за версту. А как дела в школе, медвежонок?» И как заведется, так и идет по кругу. Что в школе, что люди, куда иду, где я был, да с кем, и долго ли еще я буду носиться по улицам. Вот почему я не любил бывать дома. После таких минут свободного времени я был весь измочален. Если бы мама узнала, что я на Бенцатах спер трусы у какой-то дамочки, она бы с ума сошла. А сходить с ума она умела, это да.
Ганда напялила на себя купальник прямо в коляске. Я караулил слева, а Гарик справа, чтобы кто-нибудь случайно не вышел на наше стойбище, но дорога была пуста, как жилище Кованды. На мосту стояла какая-то машина и пускала в ясное небо порции черного дыма; перед шлюзом загудел прогулочный катер.
В воде она торчала чуть ли не час. Когда мы сумели извлечь ее на берег, она была вся синяя и лязгала зубами как пиччикато на струнах, но вид у нее был счастливый. Наконец-то, двадцати лет от роду, она опробовала речную воду. Все то время, что она была в воде, Гарик показывал ей разные стили и темпы. Хорошо еще, что в тот день решили спустить в рукав реки воду из канала. Не то вряд ли кому удалось бы вытащить ее из воды. Может быть, Гарику. Может быть.
Когда Ганда стояла в воде, она была такая красивая, что каждый бы заметил. Ног видно не было. Она выглядела как настоящая барышня. Такая, что из-за нее в два счета могла бы сделаться жуткая драка. Ноги у нее — хоть плачь, но Ганде теперь было на них наплевать. В воде она была самый свободный человек на свете. Это сразу видно.
Мы пообедали в «Гамбурге». Платила Ганда. Не роскошный ресторан, скорее харчевня, но варили там что надо. Больше всех доволен был Гарик, он заказал себе еще раз кнедлики. Он старался запастись впрок, потому что не знал, когда теперь ему удастся как следует пожрать. Да, Гарик дома был лишний рот, но я не стал бы говорить это Ганде. Гарик вышел бы из себя: нечего сор из избы выносить; он стыдился своего семейства. Вид у него был веселый, хотя внутри погано.
Под Железняком я признался Гарику, что не могу привезти Гандулю домой со слипшимися волосами, потому что мама меня убьет. На парикмахерскую надо было не меньше двадцатки, но мы таких денег в глаза не видали давным-давно, а Ганда осталась без гроша после нашего обеда в «Гамбурге». Случись это зимой, все было бы в порядке. Гарик заливал лед на стадионе и всегда мог перехватить крону, хотя последнее время помогал Павлине.
— У нас есть только одна возможность, — сказал Гарик. — Где-нибудь занять.
Я уже прямо видел, как нам кто-то дает взаймы эти двадцать крон. Прямо дрожит весь — возьмите поскорее, для него это очень важно. Никто порядочный не приходил мне на ум. Как я ни ломал голову, никого припомнить не мог. Я знал массу людей, но чтобы у кого занять — ни одного.
— Я сбегаю к Пихрту, — сказал Гарик. — Почищу ему коней. Будут блестеть как стеклышко, и утром остальные почтари лопнут от злости.
— Да где ты его сейчас найдешь?
— Пихрта можно найти только в одном месте: в трактире, — сказал Гарик. — Поезжайте в парикмахерскую к парку. Там причесывают баб, которые идут в театр, и в воскресенье. А деньги я принесу.
— Ну да, я ее посажу, а когда надо будет платить, у меня денег не окажется, тогда я получай по шее, так? Вдруг ты ничего не достанешь?
— Говорю тебе, достану, — говорит Гарик. — Не дрейфь.
Парикмахерша выглядела недоступно. Я сидел на жесткой скамейке у окна и погибал от страха; только бы Гарик нашел Пихрта и принес деньги. Самому мне из этого не выпутаться. Ганду бросить тут нельзя, если я ее брошу, а сам смоюсь, меня все равно выследят. Я листал замусоленные журналы и делал вид, будто я младший брат Ганды. Парикмахерша временами усмехалась, но я сидел насупившись. От запахов парикмахерской у меня болела голова. Мастер обрабатывал какого-то парня; он водил бритвой по его намыленной губе, насвистывая «Аннабеллу». Ну и пакость!
Парикмахерша спешила, как овца, ведомая на заклание. Она крутилась перед зеркалом, и я не мог понять, на кого она больше смотрит — на Ганду или на себя, но мне Показалось, что она себе очень нравится, потому что она зырилась в зеркало, будто встретила кинозвезду.
Гарик причапал в последнюю минуту, прямо у кассы шмякнул двадцатку, а мелочь ссыпал парикмахерше в карман. Я облегченно вздохнул. На улице мы посадили Ганду в коляску и поехали домой. Вдоль Королевской — то есть Соколовской — гулял ветер, и небо затянуло, так что фабричная труба совсем исчезла в этом мраке. Купальник Гарик выбросил в урну, ликвидируя последнюю улику того, что Ганда лазила в воду.
Перед домом я затормозил. В подворотне нашего дома носился здоровенный боров нашей хозяйки. Пошел дождь.
Гарик закурил сигарету и говорит: «Привет, Шупи; привет, Ганда». И только-то. Повернулся и пошел по Соколовской к себе домой. Даже не обернулся. Эта двадцатка, видно, обошлась ему дорого, иначе что бы такое могло испортить ему настроение?
Свиное рыло врезалось в коляску и чуть не вывалило Ганду на мостовую. Я пнул его что было мочи, боров даже подскочил и заверещал так, будто Домас уже держал его в своих мощных лапах над корытом, готовясь резануть.
Гронешка сказала мне спасибо, и я помог ей втащить коляску через двери в переднюю.
— Не хочешь какао? — спросила она. — Или сэндвич с чаем?
Всю жизнь мечтал! Я отклонил приглашение и аккуратно прихлопнул за собой дверь. И уже готов был проскользнуть к себе домой, но под окнами с видом распятого мученика торчал в ожидании меня Боган.
— Шупи, я к тебе, — говорит он. — Кайзерак, этот гад, обжулил меня, а это были деньги на обеды в школе, черт. Если я приду без денег, меня мамка отделает.
— А я что, банк? У меня нет ни гроша.
— Мне надо, чтобы ты мне эти деньги отыграл назад, Шупи.
— Сейчас?
— Не идти же мне дрыхнуть на Манины? Я ж тебе говорю, что домой мне нельзя. Ну не будь дерьмом, поди, пока еще светло! Что тебе стоит, Шупи?
Узнай это мама, она б меня собственноручно отлупила. Она не любила азарта. Достаточно мне было только взглянуть на азартную игру или прикоснуться к картам, хранившимся у отца в ящике стола, и она бросалась на меня, как борец на ринге. Но мне надо вытащить Богана из беды. Мне было вовсе неохота, но не мог же я допустить, чтобы кардинала обыграл этот занюханный мордоворот Кайзерак. О нас бы стали говорить, и во всех окрестных районах стало бы известно, что мы не стоим друг за дружку. После этого с нами могло случиться что угодно. На наш участок могли бы явиться воображалы померяться силой, и стоило бы большого труда выпереть их туда, откуда пришли. Все это отнюдь не вдохновило меня, и ко всему прочему Боган говорит: что тебе стоит!
Кайзерак со своим облезлым братцем уже дожидались. Когда они увидели меня, у них сразу губы вспухли, словно они проглотили по лимону. И тут же набросились на Богана, что так, мол, нельзя и они идут домой. Но Боган не отступил. Я вообще на него удивлялся, чего он с ними валандается. Надо было просто взять их за шкирку и вытряхнуть из них деньги, и дело с концом.
— Ты приводишь на наш двор профессионала, — говорит Кайзерак. — Так какие же мы хищники?
— Во-первых, двор не ваш, а нашей организации, — сказал я. — А во-вторых, ты, засранец, гони живо Богану назад его деньгу, и не будем терять времени. Какая там сумма?
— Двадцать две кроны пятьдесят.
— Играет как грудной младенец, а потом приводит тебя, — сказал младший Кайзерак. Морда у него была пятнистая, а губы распухшие, будто он совал нос в осиное гнездо. — Ежели б мы вас не знали, мы бы вас отсюда вытурили.
— Или наоборот, — сказал я. — Играть будете?
— Я ему гро́ши верну, но только это мошенство. Ты, Боган, весь кривой, как штопор, факт. Не умеешь играть — не садись, а иди к детишкам, право слово, не серчай, парень. Таким макаром мы с братишкой по миру пойдем, херр готт! Еще пара таких остолопов, и мы можем закрывать лавочку. — Он яростно сплюнул на ступеньки и поправил шейный платок. — С этого дня чтобы духу твоего на нашем дворе не было, потому как я за себя не ручаюсь.
— Двор принадлежит организации, — сказал я. — Так что заткни варежку. Мы получили все по наследству от Ворличков, и этот сраный двор тоже, вместе с автомастерской. Или ты хочешь сказать, что Ворлички заливали?!
Они швырнули Богану гроши и удалились по лестнице на галерею. Мы подбирали мелочь, и Боган молчал как убитый.
— Вы дерьмовые рожи! — прокричал Кайзерак.
— Обдиралы и проныры! — заревел его брат.
— Слушай, ты, опухлый, если хочешь, я скажу Гарику, и он устроит тебя работать в зоопарк к слону. Ты мог бы качать ему шары, чтобы они не потели, — хорошая ведь работка, а? Или нам влезть на галерею и размолотить вам хари?
Будь у них ключи от квартиры, они бы еще поерепенились, потому что им было бы куда отступать, но сейчас у них не было такого шанса, и они заткнулись.
Мама ждала меня с горячим ужином. «Горячим ужином» у нас назывался свиной шницель. Шницель означал, что мама либо выиграла, либо получила в стирку солидный узел от какой-нибудь пани, у которой забастовала старая прислуга.
— Ты знаешь, я буду работать на фабрике, — сказала она за едой. — Мне предложили место, и я согласилась.
— По крайней мере будешь больше дома.
— Соль?
Я сказал, что мне вкусно и так, без досола.
— Смена двенадцать часов, — сказала она. — По времени это одно и то же.
— А что ты там будешь делать?
— На кухне. Девочкой. Я уже ходила смотреть.
— Девочкой?
— Это значит помогать повару, — сказала она. — У нас всегда будет хорошая еда. Вечером ты придешь ко мне на работу, обождешь, пока я вымоюсь, а потом поешь чего-нибудь хорошего…
— Ты рада?
— А почему бы нет?
— А как же отец? Ведь он не хочет, чтобы ты где-нибудь работала?
— У него нет права возражать. Если бы он не рыпался, был бы сейчас дома, а теперь решаю я сама.
В понедельник после обеда к нам влетела Гронешка. С Гандой плохо. Наверно, умрет бедняжка, и где это я ее возил?
— Что ты наделал, Тадеаш, что ты там натворил, паршивец?
Она уже завизжала как пила, а еще ведь ничего не знала.
— Я возил ее по Карлину, — сказал я. — Ну и что?
Стало тихо, как в церкви. Я чувствовал себя паршиво, когда говорил эту ложь, но в ту минуту не испытывал стыда.
Гронешка сунула руку в сумку и извлекла купальник. Она трепала им у меня перед носом, будто шматком мяса, и таращила свои большие глаза, словно вот-вот испустит дух.
— А это что? — сказала она медленно. — Это что такое?
— Голубой купальник, — сказал я. — А почему вы спрашиваете?
Мама дала мне пощечину, и Гронешка тоже. А потом они лупили меня по щекам с такой силой, будто кто-то их нанял для этой работы. Они колотили меня изо всех сил, но я не проронил ни слезинки, и не будь там моя мама, я бы с Гронешкой сделал что-то страшное. Между затрещинами до меня вдруг дошло, как эта стерва могла обнаружить купальник. Гарик бросил его в урну. И это было неподалеку от дома Кайзераков. Значит, они! Мне не надо выуживать это из Гронешки, яснее ясного, это дело рук Кайзераков, и в нашем районе они были осуждены на вечный позор, потому что на такую подлость не пошел бы даже тип из камарильи Боублика, а уж они были викинги что надо.
Вечером я лежал в постели измордованный в буквальном смысле слова и думал, что однажды я дерну из этого дома и никогда больше в него не вернусь, что я дерну от своей мамочки, которая ходит прислуживать в чужие дома. О том, что она поступает на фабрику, я начисто забыл. Я завидовал Гарику, что его мать вкалывает у токарного станка и курит антрацит, что в школу она приходит в рабочем комбинезоне, пару раз съездит Гарику по морде за то, что он курил в сортире, и руки у нее воняют эмульсией. Она бы ни за что не позволила, чтобы Гарика лупцевала чужая баба, да еще и сама бы ей как следует врезала.
Через неделю мама сказала мне: «Пойди к Гронешам, Тадеаш. Что ты лежишь на диване как чурбан? Пошевелись немножко».
Но я не двигался. Нарочно. Когда же я начал шевелиться, так уж она из себя выходила, а я так потихонечку разворачиваюсь, будто ищу под диваном закатившуюся полушку. Я ее хорошо довел. Она орала как полоумная.
Ганда лежала в большой мягкой постели, по самый подбородок закрытая верблюжьим одеялом, лоб у нее блестел словно зеркало, изо рта текли слюни. Окна все закрыты, воздух как в оранжерее. Она резанула по мне взглядом больших синих глаз и облизнула губы. Я уже знал, что мне надо делать. Сунул руку под подушку, достал платок и вытер ей подбородок. Она прикрыла глаза и потной рукой ухватила меня за запястье.
— Больно было, Тадеаш?
Я молчал. Гронешова стояла за моей спиной. Я чувствовал ее дыхание. Оно пахло фиалками.
— Оставь нас наедине, — сказала Ганда. — Слышишь, мами?
— С этим типом я тебя одну не оставлю.
— Мами! Выйди, оставь нас!
Гронешка побоялась разволновать ее. Вышла.
— Прости меня, Тадеаш. Я этого не хотела… — Она всхлипнула. — Веришь, что я этого не хотела?
— Ага.
— Не сердишься на меня?
— Не.
— Скажи мне что-нибудь. Расскажи мне что-нибудь про него.
Я обалдел.
— Про кого?
— Про Гарика.
— А что мне про него рассказывать?
— Все.
Что можно о нем сказать? Я напрасно ломал голову. Что о нем скажешь? Почти что ничего. Или у нее бы волосы встали дыбом, расскажи я ей, что Гарик Кованда дома… но это я сказать ей не могу. Словами выражаться перед ней было невозможно.
— Я хотела бы его как-нибудь повидать, — сказала она. — Хоть разочек.
— Ты можешь его увидеть, когда душа пожелает.
— Но это надо быстро, потому что, знаешь, времени остается мало…
— Не пойму тебя.
— Ну да, мало остается времени, но только не будем говорить об этом, ладно?
— Как хочешь, — сказал я. — Когда ему прийти?
— Поскорей.
Она меня изрядно напугала. Речи ее мне не понравились, но Гронешке я ничего не сказал, а маме уж и подавно.
Я отправился на Бенцата, чтобы выполнить данное обещание. Меня распирало желание сделать остановку около Кайзераков, чтобы разбить им башки об стенку, но мне нельзя было задерживаться.
Я шпарил через мост, как если бы за мной по пятам гналась камарилья Боублика с заряженными не понарошку пушками и резиновыми дубинками. И у корта я не остановился, только слышал, как мальчишеский голос считает, и тупые удары теннисного мяча.
Богана я нашел на мысу. Он лежал на рваном полотенце и протирал очки. Увидя меня, он плюнул на очки и встал.
— Гарик тут?
— Загорает у киоска, — сказал он. — А ты чего такой встрепанный?
— Нет времени на длинные речи.
— У тебя видик, будто за тобой гонится Боублик, балда.
Я прямо по расстеленным одеялам направился к киоску, где продавали лимонад и сосиски, вымоченные в горячей воде, где вокруг вощеных стаканчиков всегда роились осы, а вечерами прибегали мыши, чтобы покормиться из урн. Кое-где меня одергивали окриками, чтобы я не наступал на одеяла.
Я нашел Гарика в шезлонге. Он сидел, вытянув ноги, курил и заглядывал в чужие карты. Как всегда, когда он был не с нами, кардиналами. И всегда он как-то сильно вырастал. Мне иногда думалось, что он нас стыдится, хотя с чего бы это, ведь мы были ему самые верные друзья, каких он мог бы себе найти на территории от Петрака до самых Чимицев.
Он заметил меня тут же. Изобразил улыбку, словно киноактер, и говорит мне: «Привет, нянька, а где твоя кукла?»
— Мне надо с тобой поговорить, Гарик.
— Ну, так в чем помеха? Давай выкладывай.
— Она хотела бы тебя увидеть, понимаешь, я потому и пришел.
— Нет, это обалдеть, — сказал он. — Как ее осенило?
— Меня не спрашивай; иди к ней, она сама тебе все скажет.
— Но ты же видишь, Шупи, что я занят. Садись лучше и выпей шипучки, а то ты какой-то взмокший. Ты что, бежал, что ли? Она тебя заставила шпарить эту спринтерскую дистанцию от вашего дома сюда? Ты смотришься ужасно измочаленно, из-за девчонки так лететь, что удар может хватить, во балда. Садись и не дури. Девчонки бывают чокнутые, это, как говорится, сэ ля ви, Шупи.
— Но она ждет, Гарик.
Он скривился, недовольный, что я к нему лезу с глупостями перед старшими выпивохами. Словно облачко проплыло у него мимо рта, он сжал в пальцах сигарету: «Ну что же, Шупи, если не желаешь…» Он засмеялся и продолжал сидеть. «Пусть подождет, ведь она от нас точно не убежит, а, ведь не на чем?»
Меня ударило как молнией, и я потерял рассудок. Я не помнил, что он как раз собирался хлебнуть лимонад из бутылки, это просто судьба. Я ударил его кулаком, и, поскольку он эту бутылку не вынул из своего губастого рта, два передних зуба качнулись и вылетели, перерезанные посередке, будто шпонка с токарного станка. Он плюнул себе под ноги, бутылка выпала у него из рук. Парни, игравшие в карты, заорали от неожиданности. Этого они не ждали, да и я тоже. Гарик прыгнул на меня и начал лупить, пока я не свалился на траву.
Я лежал на камнях возле регуляционной будки, и на меня приходили посмотреть все ребята с нашего района. Я был отделан наилучшим образом. Все, что я собрал в своей башке для урока истории, испарилось из нее в один момент. Очень хотелось пить, и все тело болело. Не сиди возле меня Боган, я бы с охотой заревел. Боган инспектировал небо и молчал. Потом заметил, что я слегка прочухался, и сразу стал читать мораль:
— Ну и дурень ты, Шупи! Ты иной раз прямо словно пыльным мешком ударенный. Ты что, не знаешь, что тебе с твоей комплекцией с ним не сладить?
— Оставь меня! Отвали!
— Ты слишком долго ждал, балда, — сказал он. — После первого удара он был готов, еще чуток добавить — и он бы с катушек долой.
— Плевал я на это, — говорю я. — Посмотри, на что я похож.
— Это пройдет, Шупи.
— Что мне ей сказать, прямо не знаю… Я лечу как угорелый, а этот косоглазый развалился тут, когда он нужен ей! Я тебе говорю, он не может быть кардиналом! Я его больше видеть не могу!
— Одна женщина — и сразу бросай все дела.
— Да ведь ей плохо, паря… я как ее увидел — все, обреченная она.
— Не трепись! Ты всегда преувеличиваешь, Шупи.
— Ничего я не преувеличиваю. Дело с ней швах.
— Хочешь, я к ним зайду, Шупи?
Он еще спрашивает! Я выглядел как пасхальное яйцо или открытка в лукошке. В таком виде я спокойно мог пугать детей в парке за умеренную цену. Не хочешь ам-ам, позовем злого Фалька!
Кончилось наше житье у излучины реки. В каждой ловушке было что-то, но мне и в голову не пришло поглядеть на свою добычу. Боган выпускал рыб обратно в воду, и туман оседал у него на очках. Мои шрамы на лице уже третий раз изменили окраску.
— Это мы с Гариком убили ее, факт, — сказал я. — Она простудилась и схватила воспаление легких.
— Не вбивай себе это в голову, а то ты совсем помешаешься. Мама говорила, что она умерла из-за спинного мозга, а плаванье не имеет к этому никакого отношения.
— Ну да, она простудилась и умерла.
— Да не придумывай ты!
— Мы с Гариком убийцы, точно.
Он положил мне руку на плечо и говорит тихонько-тихонько и с расстановкой: «Шупи, ты ни за что не можешь быть убийца, потому что у тебя ужасно мягкое сердце. Гарик мог бы быть убийцей, это правда, он последнее время самый настоящий кретин, но Гандулю никто из вас не убил. Мама говорила, что она умерла сама по себе, поверь мне, Шупи».
— Что мне делать, Боган, — сказал я. — Ну что мне делать?
— Когда-нибудь ты забудешь, что Гандуля вообще была на свете. Прими это так, что она просто освободилась. Разве в коляске можно жить?
Он сказал это из лучших побуждений, это нужно признать, но я все равно иногда вижу Гандулю, как она смотрит из окна во двор, и голова у нее мотается из стороны в сторону, и ей очень трудно сосредоточиться хоть на минутку, чтобы сказать мне: «Привет, Тадеаш!»
Перевод с чешского Н. Беляевой.
Милан Зелинка МАМА ГЕЛЕНЫ
У меня с матерью моей жены, Гелены, очень сходные характеры — и все же порой у нас доходило до серьезных конфликтов. Тот, кто хотя бы часок понаблюдал за нами, сравнивая нас, сразу заметил бы, до чего же у нас одинаковые манеры: скажем, ложась спать, мы никогда не складываем одежду, а бросаем ее как попало на пол. Если бы кто-нибудь тихим ночным гостем заглянул в ее спальню, а потом так же тихонько прокрался в комнату, где спим мы с Геленой, то увидел бы, что один мой носок, так же как и ее чулок, занесло в угол, а другой высовывается из-под двери шкафа, что мои брюки и рубашка, а ее юбка и кофта валяются на полу в том виде, в каком мы их сбросили с себя.
Теща моя всегда заботилась, чтобы у меня в доме все было под рукой. Едва я утром выйду заспанный в прихожую, едва она услышит скрип нашей двери, как уже бежит с ведром теплой воды и полотенцем — знает, что стоит мне минут пять посидеть в кухне неумытым, и я весь день буду раздражен, все у меня будет валиться из рук.
Дрова, которые я охотно нарубил бы сам, колола она. Бывало, ни слова не говоря, берет топор и пилу, валит в лесу бук, а потом одна тащит его на тележке во двор. И пока я раздумываю, с какого конца взяться за бревно, она, не дожидаясь меня, успевает распилить его на четыре равные части, а поленья с грохотом побросать в угол.
Сколько раз осенью я уговаривал ее не полоскать белье в речке — простудится, вот куплю резиновые сапоги… а она отвечала с улыбкой, что ничего с ней не станется, полощут же другие женщины, да и белье не может ждать три недели, пока в магазине появятся сапоги. И вообще мне нечего беспокоиться. И все это говорилось ласково, с улыбкой, а я воспринимал ее слова как подначку, думал, она нарочно подчеркивает мою неприспособленность, и это приводило меня в бешенство.
Больше всего теща заботилась о моем желудке. То и дело спрашивала: «Эмиль, ты не голодный? Не стесняйся, скажи, чего тебе хочется?» И попроси я у нее тетерева в вине, она бы непременно его приготовила. Эта женщина всегда была готова исполнить любой мой каприз. Хвати у меня нахальства сказать, что я не стану есть того, что уже почти сварено, она преспокойно принялась бы стряпать другое, по моему заказу. А скажи я ей, что, пожалуй, хочу уже не это блюдо, а прежнее, — она с улыбкой доварила бы его, лишь бы ублажить мою беспокойную натуру.
Наш сад окружал старый прогнивший забор. Через дырки к нам пролезали соседские куры и разгребали грядки с только что посеянными овощами. Я давно решил поставить новый забор, такой, чтоб через него и мышь не прошмыгнула. Сделал точный расчет, расписал общую сумму по частям, но не успел я раздобыть нужный материал, как мама Гелены уже выкопала ямы, забетонировала железные столбики и натянула сетку. Мне оставалось только поливать бетон водой, чтобы не потрескался. До сего дня не понимаю, как это удалось ей одной, а я еще тогда разозлился на нее…
В ту пору на меня частенько накатывала тоска, и валялся я в саду на травке, словно ненужная рухлядь. Меня мучила собственная никчемность, я все думал, как бы сделать так, чтобы наше сходство с тещей проявлялось не только в мелочах, но и в делах серьезных. А она спрашивала меня самым искренним тоном:
— Что с тобой? Почему ты как в воду опущенный? Чего тебе не хватает? Ну скажи, не терзайся, не держи на сердце!
А я не умел объяснить, что меня мучает, и злился еще больше. Ее это, видать, беспокоило, и она очень расстраивалась. Думала, я тоскую по родителям, и переживала, что не может мне их заменить.
Чего бы я тогда не отдал, лишь бы развеселить ее! Но развеселить ее могла только сама жизнь, да еще работа. Не много было таких дел на дворе, с которыми она не сумела бы справиться. Все, к чему прикасались ее руки, расцветало, как розы весной. Это благодаря ей я полюбил природу, она научила меня собирать грибы и открыла мне красоту самых глухих уголков в лесу. При ней обыкновенная былинка у дороги казалась мне чудом. Все новое давалось мне с трудом, ей же достаточно было один раз взглянуть, например, на сложный образец вышивки, и она сразу осваивала ее.
От этого я часто маялся чувством неполноценности. Бывали минуты, когда я все проклинал: людей, жизнь, природу. Ходил раздраженный по дому, и все меня злило.
— Что с тобой? — участливо спрашивала мама Гелены. — Что-нибудь болит? Ты болен?
— Нет, — отвечал я, — просто зло берет…
— Что же тебя злит? Скажи!
— Все, — отвечал я.
— Почему? Работа не клеится? Тебя кто-то обидел?
— Нет.
— Может, тебе плохо с Геленой? Она тебя обидела?.. Или я чем-то не угодила?.. Скажи правду, должна же я знать! Скрывать-то зачем? Если завтрак не понравился — сказал бы, я бы приготовила что-нибудь другое, — говорила она, и ей в голову не приходило, что причина моей злости именно она.
— Знаю, — задумчиво проговорила теща однажды вечером, — ты хочешь завести кроликов… Теперь это трудно, но я постараюсь…
И дня через три показала мне новые клетки — поставила в мое отсутствие, чтобы устроить мне сюрприз.
— Нравятся? Правда, хорошие? — все спрашивала она, пытливо заглядывая мне в глаза.
— Нравятся, — с досадой ответил я, — но почему все это вы без меня сделали?
— А чего тебе беспокоиться? У тебя и так много забот.
— В другой раз предупреждайте меня, — сказал я, закуривая сигарету.
— Не курил бы ты! Ведь вредно…
— Как же мне не курить? Как же не курить, если вы все делаете сами, а передо мной выставляете уже готовенькое, словно я шут гороховый! — не выдержал я и швырнул сигарету наземь.
— Думала угодить тебе, — грустно вымолвила она и ушла в дом.
— Ну, угодили, еще как угодили… Только в другой раз хотя бы ставьте меня в известность — кажется, я этого заслуживаю!
Нет, она не изменилась. Только я становился все раздраженнее.
— В этом доме я уже ничего не значу! — подвыпив, кричал я на улице, ища сочувствия у стариков, дремавших на лавочках. — Никто со мной не считается! Прошу сварить лапшу с маком, а они назло мне жарят телятину, да еще поливают кетчупом, чтобы я не мог есть, потому как прекрасно знают, что от этого гнусного кетчупа у меня изжога!
— Да что ты говоришь!.. — качали головами старики. — Это ж надо! И давно тебя так изводят?
— Уже полгода, — врал я, чтобы поразить их. — Или, например, лепешки… Прошу картофельных лепешек. Думаете, мне их дают? Вместо вкусных поджаристых лепешек подсовывают обыкновенную колбасу!
— Гм-м-м… Колбаса, парень, это не так уж плохо. В наши молодые годы ее вообще не было.
— Да, но сами-то лепешки едят!
В начале нового года теща пошла работать на ткацкую фабрику. Никому не сказала, почему она так решила, словом не обмолвилась, что, мол, надоела ей домашняя работа. Никто ее не понимал, и меньше всех я. Летом у нас должен был родиться ребенок. Гелена наверняка ей об этом сказала, и я не мог объяснить себе ее решения. Дом показался мне вдруг страшно пустым. Вещи в кухне молчали, мои немые вопросы отражались от глухих стен и возвращались обессиленные, как птицы после дальнего перелета. За прозрачным стеклом старого буфета молчали бокалы, из которых мы пили друг за друга в дни наибольшего согласия. Сукотная кошка бродила по кухне, уныло озираясь.
В общем-то все в доме было в порядке; во дворе белел новый забор и камешки, вмазанные в фундамент. Теща возвращалась вечером усталая, со счастливой улыбкой на губах. Быстро сбрасывала платье, наливала в кастрюлю воду и принималась за стряпню. А утром — еще и четырех не было — уже шагала с сумкой на автобусную остановку, осторожно прикрыв за собой калитку, чтобы не разбудить нас.
Несколько раз я пытался выяснить причину столь внезапного решения, но наталкивался на загадочную улыбку и терялся, словно перед воротами, от которых у меня нет ключа. Она была счастлива, явно счастливее, чем прежде. Но что скрывалось за ее улыбкой? Из какого мира она возвращалась? Что носила в себе?
Как бы мне хотелось узнать хоть частичку ее тайны!
Бессонница часто выгоняла меня в сени. Я брал в руки ее черные туфли, что стояли за дверью, и озадаченно их разглядывал. Ничего особенного в них не было. Обыкновенные старые туфли со стертыми подошвами, без подковок. Кожа потрескалась, каблуки стоптаны, шнурки в нескольких местах связаны. В подметки кое-где впились острые камешки или стеклышки…
— Гелена… Гелена, тебе не кажется, что мама как-то изменилась?
— Чему ты удивляешься? Теперь она среди людей. То дома сидела, только и забот у нее было что о твоей ненасытной утробе; теперь ей, конечно, лучше.
— Да я ничего… Но ее улыбка…
— Какая улыбка?
— Будто она влюблена.
— Она? Сумасшедший! Что ты выдумываешь?
— Не выдумываю. Я говорю серьезно. Может, она в самом деле в кого-нибудь влюбилась?
— И все-то ты врешь, просто врешь! Лечиться надо!
После этих Гелениных слов я вдруг почувствовал себя в опасности. Чтобы унять злость, прошелся по двору, мысленно уже расставаясь с домом, в который, по моему мнению, в ближайшее время переберется чужой, отнимет у нас без жалости все, что до сих пор было наше. Я этого человека пока не видел, но уже измыслил десятки способов отомстить ему. Говорил себе, что при первом же удобном случае отравлю его люминалом, но прежде дам понять, что презираю его. Теперь я частенько приходил домой подвыпив и кричал на дворе при соседях:
— Этот дом уже не мой! Отобрали у меня дом! Пробрался в него чужой человек. Отнял все, что мне было дорого! Украл мой хлеб, лопает мой суп! Ночью стягивает с меня перину и ею прикрывается! А утром бреется моей бритвой!
И вот однажды в таком взведенном состоянии я застал в наших сенях постороннего с поношенным портфелем под мышкой.
— А-а-а, это вы? — возликовал я, и по моему лицу пробежала судорога. — Рад, что наконец вас вижу. Пожалуйста, не стесняйтесь, проходите. Не стоять же нам в сенях, ведь мы уже почти родия…
— Не сердитесь, я… Никого не было дома… Я по части электричества…
— Какая деликатность! Каждый из нас по какой-нибудь части: один — электрик, другой — гробовщик… Прошу, пожалуйста. Не смущайтесь. Будьте как дома… — повторял я, насильно затаскивая его на кухню.
— Та-а-ак, — усадил я его за стол. — Что предпочитаете: вино, коньяк?
— Коли на то пошло, так немного коньяку, пожалуйста. Но предупреждаю, ни одного часа со счета не спишу вам.
«Конечно, коньячку, голубчик, конечно, и часы списывать тебе уж не придется», — думал я, открывая ящик, в котором лежал люминал.
— Так что? — говорю. — Выпьем? Он медлил.
— Не нравится? Какая жалость. Да, коньяк, пожалуй, слабоват. Ну ничего, я его немного подперчу. — И я высыпал в рюмку штук пять таблеток.
— Что вы делаете?!
— Ничего. Ваше здоровье. Да здравствуют электрики и гробовщики!
— Извините, но такое… такое пойло я не стану пить! Староват я для подобных шуточек!
— А-а-а, староват! — закричал я и схватил его за горло. — Однако это не помешало вам влезть в чужую семью и разбить ее! Да знаете ли вы, как это называется?! Преступление! Да, да, преступление! А вы — вы обыкновенный преступник!
Я уткнулся головой в ладони и разрыдался. Наступила ночь. Совсем потерянный, вышел я в поле и до самого утра бродил по влажной траве.
Я не мог смотреть в глаза маме Гелены. Она сидела в комнате, которую заново обставила — ради этого сюрприза для нас она и работала на фабрике восемь месяцев, — и нянчила нашего ребенка. Днем возилась с ним, перепеленывала, кормила, а по ночам вставала к нему, давая нам выспаться.
О злополучной истории с электриком никто не упоминал, и это было хуже, чем если б ее поминали каждый день. Мне было стыдно за свою вспышку, стыдно перед тещей и, конечно, перед электриком — после я несколько раз встречался с ним в деревне и всякий раз здоровался, но он ни разу не ответил. Я думал о том, как близок был к преступлению, и теперь от всей души желал теще жениха по сердцу. Почему бы ей и не выйти замуж? Пусть выходит, пусть будет счастлива! Какое я имею право мешать ей жить так, как она хочет? А иногда мне приходило в голову, что ее могут обмануть, воспользоваться ее доверчивостью. Тогда я сжимал кулаки — пусть только посмеют, я им покажу! Часто я воображал себя ее защитником. Например: сидит она на лавочке вечером в парке и ждет автобуса. С листьев падает роса, в кронах деревьев поют дрозды; вдруг к ней подсаживается незнакомый мужчина средних лет и заговаривает с ней. Это — обольститель, я его давно жду; выхожу из-за дерева и хладнокровно хлопаю его по плечу.
«Уголовная полиция, — говорю я ледяным тоном и бесстрастно гляжу, как у него дергается щека. — Попрошу ваши документы. Ах, вот оно что? Семь раз женат и столько же разведен! И вам не стыдно приставать к беззащитной женщине?!»
Мужчина бледнеет еще больше и что-то бормочет.
«Ян Урвинский, — читаю я паспорт и сакраментальным жестом кладу руку ему на плечо. — Именем закона вы арестованы. Следуйте за мной. А вы извините, — поворачиваюсь я к теще и с улыбкой отдаю ей честь. — Доброй ночи…»
Когда нашему ребенку исполнилось полгода, мы с Геленой страшно поссорились. В подобных случаях больше всех страдала мама Гелены, но на этот раз я даже с ней не посчитался. Чем усерднее она меня успокаивала, чем ласковее была ко мне, тем больше я входил в раж. В ярости бегал по дому, швыряя на пол все, что попадалось под руку. Если бы в этот момент меня ударили, быть может, это привело бы меня в чувство, но поблизости не было никого такого, и я вытворял бог знает что. С тех пор я убежден, что удар, нанесенный с добрым намерением, заставляет человека опомниться. Правда, это зависит от того, кто и за что бьет. Соседи, видать, не хотели вмешиваться — ведь не могли же они не слышать страшного крика в доме. Я ругался так, что разбудил бы и мертвых, а под конец выбежал из дома и как безумный бросился прочь. Я шел и шел, над моей головой светили звезды, а я чувствовал себя несчастнейшим человеком на свете. И хуже всего было то, что несчастлив я из-за самого себя, не из-за других. Знать бы, для чего рождается человек, обреченный обижать ни в чем не повинных людей, которых любит больше всего на свете. Почему вместо цветов я дарю им горе, которого они вовсе не заслуживают?
Встречались мне молодые парочки. Они прижимались друг к другу при лунном свете, под копнами сена, на обочинах дорог, стояли под деревьями, обнимались у старых сараев, гоняли на мотоциклах, сидели на лавочках под липами, гуляли в обнимку под фонарями… До чего же я завидовал их беспечности? Как сложится их жизнь потом? Будут ли они счастливы? Сумеют ли сблизиться настолько, что их уже никакие беды, никакие раздоры, ничто не разлучит? Или будут несчастны, как я сейчас? Дай им бог всего самого хорошего. А я вот бегу неизвестно куда, сам не знаю зачем… Не знаю, что со мной творится. Что-то страшное поднимается во мне, и нет сил перебороть себя. Весь мир разом стал каким-то серым и понурым. Сереют по сторонам деревья, отягощенные плодами, и этот утренний город — тоже серый, и солнце, что встает над ним… Серым кажется и номер в гостинице, в котором я не могу уснуть, хоть и прошагал двадцать пять километров… И только мама Гелены все та же, прежняя. Будто звезда разогнала затопившую меня тьму, когда я услышал в прихожей ее шаги, когда она робко постучалась и вошла ко мне. Я готов был пасть перед ней на колени и поклониться как святой. Но смог лишь прошептать:
— Это вы?..
Наступили безмятежные дни. Будто смылась с меня вся грязь, ничего не осталось на дне, и новых осадков не накапливалось. Ко мне вернулась радость жизни, я с удовольствием ходил гулять на пастбище, смотрел, как умирают листья в ярких красках. Они отлетали в иной мир, ветер подхватывал их, уносил в голубую даль. Листва падала, являя миру свою последнюю красу. Я думал о метеоритах, удивительных небесных камнях, которые на долгом своем пути в космосе сталкиваются с воздушной оболочкой Земли и, сгорая, освещают неподвижную темноту.
Тысячу раз просил я у тещи прощения, тысячу раз выказывал ей свою благодарность. Носил воду, рубил дрова, покупал ей шоколад, заказывал для нее на радио музыку, фотографировал ее с ребенком на руках… В нашем доме воцарилась тихая радость. Даже Гелена, хуже других выносившая мой скверный характер, перестала меня осуждать и по вечерам в темноте искала мою руку.
В начале зимы мама Гелены заболела. Ничего серьезного. Немного простыла в лесу, жаловалась на колотье в груди. С улыбкой пошла к доктору, с улыбкой вернулась от него, с улыбкой сказала, что надо в больницу. Как могла, изображала свою болезнь пустяком. Уговаривала нас не беспокоиться, мол, ничего страшного, мы и оглянуться не успеем, как она вернется. Навещали мы ее часто, приносили ребенка — потетешкать. Она радовалась ему, говорила, что хотела бы дожить до второго внука. Мы строили планы на будущее, представляли себе, как будет чудесно сидеть всем вместе под нашей старой яблоней, в траве будут стрекотать кузнечики, а над лугом порхать бабочки. Я поставлю в саду деревянный стол со скамейками, и всегда на нем будет стоять букет цветов…
Однажды мы сидели вдвоем с тещей в коридоре, и она сказала:
— Эмилько, если со мной что случится… Не покидай Гелену, она немножко упрямая, но в общем-то хорошая, все равно как кусок хлеба. И… когда ребенок вырастет, рассказывай ему иногда обо мне…
— Что вы говорите, мама?!
— Да я просто так. Что-то у меня немного голова кружится.
В четверг к полуночи нам сообщили, что она впала в беспамятство. Как безумный вбежал я в кабинет главврача, сунул ему в руки сберегательную книжку.
— Доктор, ради бога, прошу вас, спасите ее! Я отдам все, все на свете… Она не должна умереть, не должна!..
— К сожалению… вы должны приготовиться к самому худшему, — сказал он, возвращая мне книжку. — Ее состояние очень серьезное.
Я просидел возле нее всю ночь, держа ее за руку.
— Эмилько, это ты?
— Я, мама…
— А где Геленка?
— Малыш заболел, она с ним.
— Плачешь? Не плачь… Хочется глотнуть свежего воздуха…
Я отворил окно.
— Спасибо, ты такой добрый… Не забудь наш уговор. А теперь дай мне немного поспать… Мне так хорошо…
Она была румяная, будто и не умирает. Часа два не отрывал я глаз от ее лица, потом от усталости уснул. Когда проснулся, постель была пуста.
— Верните мне ее! Верните! — кричал я, и казалось мне, что я проваливаюсь в глубокие сугробы. — Она жива! Слышите! Жи-ва!
Больничные стены отражали мои крики и с насмешкой бросали их мне в лицо.
На третий день мы осыпали ее цветами…
Перевод со словацкого Н. Аросьевой.
Владимир Калина СМЕРТЬ АРАМИСА
Это был полный разгром: под градом камней и оскорблений яровских ребят[19] мы бежали от Тритонова озерца вниз к нашей улице, рассеиваясь в ложбинах Еврейских печей, по которым мы петляли, униженно сгибаясь, не в силах дать отпор врагам; они надвигались как туча, похоже, все до одного поднялись против нас за то, что вчера вечером мы от нечего делать разрушили покинутые ими святыни из разноцветных кирпичей.
Я бежал за Ладей Гавлинеком, чья огромная рогатка с широкой черной резинкой завоевала уважение не одного из тех яровских ребят, что сейчас преследовали нас по пятам, стараясь загнать туда, где заросшие ограды небольших вилл стояли сплошной стеной, откуда уже не убежишь.
— Арамис! — крикнул мне Ладя Гавлинек, который даже в самые опасные минуты соблюдал правила нашей игры в мушкетеров. — Сделай вид, что в тебя попали булыжником, падай на спину, раскинь руки и замри!..
Это показалось мне рискованным, но раздумывать не было времени; вскинув руки над головой, я поднялся на цыпочки и замер на миг в трагической неподвижности, а потом медленно, так, как в фильмах про ковбоев, завертелся волчком, подгибая колени и страдальчески корчась; падая навзничь, я драматически возопил, как положено благородному воину:
— Кажется, меня убили, д’Артаньян!
Тут же я увидел, что наши враги попались на удочку — они остановились шагах в тридцати от нас в явной нерешительности, мое смертельное падение испугало их. А Ладя Гавлинек, заботливо склонившись надо мной, уже обматывал мне голову белой майкой, которую мгновенно стащил с себя; он был совершенно спокоен и говорил так, будто зачитывал по книге:
— Вот увидишь, сейчас эти дураки соберутся в кучу и начнут совещаться… А мы мигом проскочим мимо них и, пока они очухаются, добежим до трамвайного депо… Не потеряй мою майку! — И добавил по правилам нашей игры: — Пожалуй, кардинал Ришелье их не похвалит…
Я восхищался благородной способностью Лади не расставаться с созданной его воображением великой ролью даже в ситуациях совсем неподходящих. Однажды Ладя разбил камнем окно в подвале. И когда схвативший его на месте преступления пузатый полицейский добродушно вздохнул: «Ну-с, молодой человек, что мне теперь с тобой делать?», мой друг ответил, гордо вскинув голову: «Защищаться, сударь!»
Я смотрел в живые глаза Лади, в которых проглядывало истинно мушкетерское презрение к кучке растерянных яровских ребят — их совещание уже превратилось в ссору.
— Приготовься, Арамис! Раз, два, три…
Мы бросились в сторону наших врагов и стремительно промчались в двух шагах от них; неожиданность была так велика, что кто-то из яровских даже закричал удивленно:
— Ребята, вы чего?!
Мы неслись по пыльному каньону, потом вниз по крутой улице к трамвайному депо; надеясь, что спасение от топочущих, взбешенных обманом преследователей уже близко, повернули за угол, но — увы — наша улица до слез безлюдна, никого из ребят не видно. До первого дома, где можно укрыться, оставалось бесконечных сто метров, в боку невыносимо кололо; ясно — я не выдержу и не смогу ответить даже на первый удар.
В это мгновение Ладя взбежал на одну из куч мелкого щебня, которые были насыпаны вдоль раскопанных трамвайных путей, и, съезжая на ту сторону голым животом вниз, воодушевляюще воскликнул:
— За мной, Арамис!
Я кинулся вслед за ним на нагретую солнцем щебенку и бессильно скатился в спасительную затененную впадину; меня охватило блаженное оцепенение, раскрытым ртом я хватал пыльный, сухой воздух, но все это ерунда, главное — мы вне опасности, яровские не решатся проникнуть на нашу улицу, которая необычным своим видом, щебеночными сопками и странным покоем наводила на мысль о коварной ловушке.
На углу, из-за забора трактира «У Ирачка», осторожно высунулось несколько лохматых голов. Лада, встав в боевую позу, как мушкетер на старинных гравюрах, не спеша зарядил рогатку и… И ничего не произошло, наши преследователи предпочли отступить. Казалось, все бурные события позади; я лежал на спине и грелся под лучами заходящего солнца, проникающего сквозь ветви высоких тополей; наслаждаясь покоем, я снова представлял себе блестящее падение, которым одурачил врага, — жаль, меня не видели наши ребята; потом понежил себя мечтой о том, как когда-нибудь буду сниматься в кино, стану каскадером.
В эту минуту Ладя коснулся моего плеча; его немой, полный значения жест, призывающий к осторожности разогнал мои голубые мечты; усталости как не бывало, я тихо подполз к другу.
— Кардинал идет… — торжественно проговорил Ладя, напряженно глядя перед собой.
Я посмотрел в том же направлении и не смог удержаться от смеха, увидев одинокого бродягу в длинном, наглухо застегнутом пальто; он неуверенно шел вдоль длинной стены жижковского депо, приближаясь к нам. Лицо незнакомца затеняла широкополая шляпа, звук тяжелых шагов странным эхом отдавался в сонной тишине улицы, так что казалось, будто бродяга переставляет ноги как-то по-особому, с усилием, словно взбирается по крутому склону, выбивая носками солдатских ботинок углубления для опоры.
Новая игра в кардинала мне понравилась, и я предложил:
— Давай последим за ним, д’Артаньян, у него, наверно, на уме какие-нибудь грязные намерения…
Ладя молча рассматривал незнакомца, потом решительно кивнул:
— Покончим с ним!..
Ладя выкинул приготовленный камешек, зажатый в квадратике из мягкой кожи между двух концов черной резинки, сосредоточенно натянул рогатку и тщательно прицелился; от напряжения я затаил дыхание — и вот рогатка щелкнула вхолостую. Как будто в тишине улицы прозвучал приглушенный выстрел мелкокалиберки.
И тут произошло событие, которое никогда не сотрется в моей памяти: таинственный человек зашатался и стал валиться на землю. Это было невероятно и все же так явственно! Не веря своим глазам, я наблюдал, как он падает: совсем не похоже на мои причудливые ковбойские выкрутасы. Человек как будто не знал, куда девать руки и ноги, он весь обмяк, движения у него были робкие и замедленные, смешно спотыкаясь, мелкими шажками он ковылял вперед, закидывая голову, чтобы удержать равновесие в своем неотвратимом падении. Тщетно пытаясь ухватиться вытянутой рукой за шершавую стену, человек тяжело упал на колени, еще попытался подняться, но силы покинули его, он привалился плечом к земле и так и остался лежать на боку, откинув руку; пальцы его судорожно сжимались и разжимались — красноречивый жест неожиданной боли.
Я растерянно посмотрел на Ладю, меня охватил панический страх, что вот человек умирает, придет полиция, а мы ничего не сможем объяснить, ведь рядом нет никого, кто бы подтвердил, что мы здесь ни при чем; Ладя побледнел и, держа рогатку в трясущейся руке так, будто это было орудие убийства, в ужасе прошептал:
— Я ведь стрелял вхолостую…
— Я видел…
Ему хотелось услышать это так же, как и мне, потому что мы никак не могли поверить своим глазам. В напряженном молчании мы оттягивали решающий миг: нас давно бы тут и в помине не было, если бы не наша игра: сейчас здесь были д’Артаньян и Арамис.
Молча взглянув друг на друга, мы наконец решились и, пересиливая себя, подошли к упавшему.
Глаза его были открыты; меня поразило, что он такой молодой: широкополая шляпа, слетев с его головы, открыла светлые курчавые волосы и веснушчатый лоб.
— Мы позовем доктора.
Незнакомец слабо покачал головой; опираясь на руки, пододвинулся к стене и прислонился к ней спиной.
— Воды. — Голос у него был тихий, но ясный и по-деревенски чистый, и мне пришло в голову, что незнакомец идет издалека и, должно быть, ищет работу.
Ладя сразу же побежал в трактир напротив; я пожалел, что не опередил его, потому что меня все больше пугала беспомощность парня, но при всем при том мне было приятно, что мы не сбежали и пришли ему на помощь. Присев на кучу брусчатки, сваленной здесь для починки мостовой, я следил за вялыми движениями незнакомца. Отряхнув пальто из солдатского сукна, он расстегнул его: под ним не было даже рубашки, от горячего тела шел сильный запах пота. Парень посмотрел на меня, улыбнувшись одними только губами, глаза его остались серьезными.
— Прага большая…
Наверно, он привык ходить вдоль ручьев и рек, где поросшая травой земля, пружинящая под ногами, добра к усталому путнику. Я уже не боялся его, потому что много таких же вот батраков, ищущих работы на мельницах, встречал во время каникул на Сазаве[20], они вроде бы без цели бродят по краю, а на самом деле разыскивают мельницы, амбары которых забиты зерном. Это были добродушные и смешливые люди с руками как цепы, вышагивали они широко, в такт ходьбе покачивая плечами, так что со спины напоминали веселых танцоров.
— В городе даже постучаться некуда, — как бы извиняясь, сказал парень. — А вода заперта в квартирах.
Из трактира выбежал Ладя, за ним пан Маньгал в трамвайной униформе, сапожник Купка в развевающемся зеленом фартуке и два незнакомых железнодорожника, один из них нес кружку пива.
Пан Маньгал отогнал нас строгим взглядом, так что все остальное мы наблюдали издали. Мужчины столпились вокруг незнакомца, будто сошлись поговорить; бесконечно долго они покуривали и размахивали руками, как за бильярдным столом; потом разом подняли лежащего на ноги, словно он ничего не весил; пан Купка, перекинув руку парня через плечо и обхватив его вокруг пояса, повел через рытвины раскопанных трамвайных путей к трактиру. Пан Маньгал нес за ними шляпу, а железнодорожники, оставшись около стены, о чем-то спорили, дружно отхлебывая пиво из одной кружки.
Меня охватило жгучее желание тоже быть взрослым, я завидовал их основательности, уверенности и спокойствию. Пан Маньгал дал нам с Ладей по стакану лимонада, и мы показались себе такими же, как они, потому что никто не хвалил нас и не заводил разговоров о нашем хорошем поступке, и это было здорово.
А парень сидел у стола под раскидистым каштаном с белыми свечками и с отсутствующим видом поедал из глубокой тарелки огромную порцию гуляша, отламывая хлеб маленькими кусочками и кладя их в рот, как святую облатку. Тут же пан Маньгал, как всегда гладко выбритый, в белой рубашке с галстуком, держа на колене чашку с ароматным кофе, рассказывал о рьяном контролере, который, показав в переполненном трамвае свой значок, заметил в середине вагона человека, быстро проталкивавшегося к выходу и успевшего выскочить на ходу.
— Контролер за ним, чуть не задохся, пока наконец не схватил этого типа уже на тротуаре. «Ваш билет!» — кричит, а пассажир этак спокойненько достает билет из кармана и говорит: «Приятно пообщаться с такими старательными с глазу на глаз…»
Потом мы с Ладей проводили парня до конца Горлорезов, а оттуда уже рукой подать до коровника в Малешицах, куда его наняли батраком; по дороге мы не поспевали за ним, парень шагал бодро и размашисто, выставляя вперед то одно, то другое плечо, как будто раздвигал душный воздух, словоохотливо болтал с нами, смеясь фальцетом над нашим рассказом о битве с яровскими ребятами.
Когда он исчез за поворотом у конечной остановки двадцать первого трамвая и мы остались одни, послышались раскаты грома, город потемнел, воздух стал неподвижным, а белые фасады дальних домов синими.
— Приказываю срочно отступить, Арамис! — крикнул Ладя и побежал первым. С иссушенных полей неслись тучи пыли, первый порыв свистящего ветра промчался по улицам, хлопая открытыми окнами, к моим ногам упали осколки стекла, выбитого из балконной двери над аптекой, и оттуда откликнулся рыдающий голос пани Вайссовой, взывающей к служанке:
— Фани! Или мы воруем?!
Я бежал, все больше отставая от летящего вперед Лади, а в голове у меня все время вертелись слова, которые, прощаясь, сказал нам молодой батрак:
— Помните, ребята, голод — вот самый страшный враг…
Я спрятался в нише под карнизом и глядел оттуда на потоки дождя; они врывались во двор и сверху, и снизу, потому что водостоки затопило и вода перехлестывала через бровку тротуара; я не мог избавиться от ощущения, что сегодняшняя наша игра в мушкетеров закончилась не так, как обычно, что-то во мне переменилось — до сих пор я представлял себе врагов в облике людей: королей и солдат, ребят с Ярова и особенно немцев, о которых нам рассказывали на уроках истории. Я не мог понять, почему это наши учителя, пан Краус и пан Врба, не знают того, что открыл мне незнакомец, чуть не погибший от голода, этот такой добрый и такой беззащитный парень.
— Арамис!
Я прижался к еще теплой стене; голос доносился откуда-то из чердачного окна, а мне не хотелось, чтобы Ладя заметил меня.
Мне было грустно, потому что я точно знал — Арамис сегодня умер.
Перевод с чешского А. Лешковой.
Рудольф Калчик МОЙ ВАНЯ Рассказ-быль
В ту пору я жил в небольшом городке Южной Чехии, на улице, которая называлась Монастырской, у бабушки Кунцовой. После 9 мая почти в каждой семье был на постое советский солдат. Стояли теплые вечера, и солдаты любили посидеть на скамейках перед низенькими домиками, потому что прогретая солнцем улица и обмазанные белой глиной дома напоминали им далекую родину.
Только у бабушки Кунцовой не квартировал никто, хотя и она просила поселить к ней солдата.
И вот однажды появился паренек в военной форме.
— Ваня, — представился он.
Мы как раз сидели за ужином, ели картошку не первой свежести и пили эрзац-кофе с козьим молоком. Бабушка внимательно на него посмотрела, как будто хотела с первого взгляда запомнить его лицо. Но это оказалось трудно: все красноармейцы были загоревшие, рослые, в гимнастерках и сапогах, звенели медалями и оружием. Гвардейцы!
Наш солдат оказался шофером и тоже был гвардейцем. Он сказал, что был в дороге сорок восемь часов и хотел бы немножко отдохнуть, потому что ночью поедет дальше. Ему не пришлось долго ждать: наша деревенская кровать в горнице была уже застелена и бабушка заботливо разглаживала тяжелые и высокие белые перины и подушки.
— Выспишься как дома, — сказала она.
Ваня смущенно провел рукой по коротко стриженной голове и отрицательно покачал головой.
— Такое не для меня… Доброй ночи, бабушка!
Он взял плащ-палатку, расстелил ее на полу, свернутую шинель положил под голову, свободную часть плащ-палатки набросил на себя и, лежа так, взглянул на свою хозяйку. Старая Кунцова была уже бабушкой и потому, конечно же, рассердилась.
— А ну-ка вставай сейчас же и ложись в постель! — закричала она так, что загоревшее лицо паренька вспыхнуло. — Что скажут люди, если увидят такое? Подумают еще, что старая Кунцова белья жалеет.
Но Ваня не согласился.
— Нет, бабушка, — сказал он твердо. — Так мне очень хорошо, честное слово. А на мягкой и чистой кровати я уж и не помню когда лежал. И поймите меня правильно… Спать на матушке-земле и на жестком полу я привык… Дома уж придется отвыкать от такой вот привычки.
Бабушке пришлось уступить. Она выглянула в окно. Нет, слава богу, никто не видит, что русский солдат спит у нее не в перинах, а на полу. Но переживать, конечно же, переживала. Пошла на кухню и там постелила себе на ночь. А мы с Ваней лежали в горнице и не спали.
А за окном лилась украинская песня. В открытые окна врывался аромат цветов и зелени.
— Где работаешь? — спросил русский парень.
— Учусь.
Он облокотился на руку и взглянул на меня с веселой улыбкой.
— Смотри-ка, мы… коллеги… Только я не сидел в аудитории уже три года.
— А я два.
— Очень люблю я литературу, — заметил он вдруг. — Анатоль Франс… Бальзак… Мопассан… Знаешь их?
— Кое-что читал.
И мы повели тихий разговор, потому что в майскую ночь все окна были настежь и все вокруг спали, в том числе, наверное, и бабушка Кунцова. По крайней мере ее не было слышно.
Долго говорили о разных книгах. Ваня знал литературу лучше, чем я. Но усталость брала свое, и он все чаще умолкал в ответ.
И тут я не стерпел:
— Ваня, может, ты все же ляжешь на кровать?
Но Ваня уже спал… Он, проведший свою машину по тысячам километров фронтовых дорог, спал на полу спокойно, без движения: так, наверное, спит камень или глубинная вода. А я лежал в мягкой постели и размышлял. И тут вдруг меня осенило: в перинах он бы попросту не уснул. Ему все представлялись бы мать и отец, сестры, их белая низенькая хата, где ждут не дождутся бойца с фронта. А ему надо было выспаться.
После полуночи Ваня зашевелился, поднес часы к глазам, свернул плащ-палатку и бесшумно подошел к низкому окну. Осторожно сняв с подоконника цветы, дышавшие ночной прохладой, он поставил их в сторонку на пол и ловко выпрыгнул на улицу.
Светила луна, и я, лежа в кровати, видел, как он перешел на противоположную сторону улочки. Затем слышал уже только его шаги.
На полу, у стены, где он спал, осталась банка мясных консервов.
Больше мы с ним никогда не виделись.
Перевод с чешского Т. Мироновой.
Ян Козак СЛАВНАЯ ГОДОВЩИНА
Вокруг, куда ни кинь глазом, вплоть до бледного горизонта, простиралась гладкая равнина, тихая, будто заколдованная; заколдованными казались и дома в деревне.
Безжизненные пределы, до самых корней прожженные солнцем. Впрочем, нет — тронувшая деревню широкая волна подхватила вытянутые, построенные заодно с хлевом и сеновалом деревянные хаты, подхватила и унесла, а вместо них выплеснула в старые сады рядом с колодцами и торчащими костылями журавлей чистенькие, умытые коробочки кораллово-розовых домиков.
Не будь проклятой едкой пыли, Матейовице запросто сошли бы за квартал городских особняков, подумал Эмиль.
Розоватые и перламутрово-серые фасады домов слепили его.
Он с сожалением подумал вдруг, что вместе с охлупнями на соломенных крышах исчезли и широкие гнезда аистов, но тут же радостно углядел в одном из дворов столб, а на столбе колесо с растрепанным, таким привычным гнездом, из которого торчала голова птицы на ослепительно белой длинной шее.
Он остановился.
Здесь, за околицей, шоссе поворачивало на восток, в сторону близкой границы. За ручьем с низким ольшаником по берегам и рослым тополем снова были только поля и яростное солнечное безумие, пронизанное мелкими световыми взблесками.
Ничто не шелохнется, и только двое цыган в этой тишине раскаленного горна копошились на стройке.
Он постоял, наблюдая за их работой, и его незаметно охватила усталость.
Дудова в драной кофте, повернутая к нему спиной, просеивала песок. Муж ее, голый по пояс, окутанный пылью, волочил балку. Вот он нагнулся, встал на колени, выпустил бревно и потянулся, распрямляя спину. Затем поднялся, взял лежавшую рядом доску, но тут же бросил. Постоял недвижно, опустив руки, переводя дыхание. У Дуды была черная впалая грудь, выглядел он предельно изнуренным и словно бы высохшим.
Двое мальчишек сыпали в бочонок известь, один из них помочился туда, и вверх взвилось облачко белой пыли.
Воздух над землею дрожал.
Отец окликнул ребят хриплым голосом.
Мальчишки были очень похожи, оба круглоголовые, с большими выпученными глазами. Ребята не сразу поняли, что их зовут, но потом подбежали к отцу, и все вместе они потащили балку к сараю у соседнего забора.
Потом Дуда ушел в сарай, а из-за кучи песка вылезла голенькая девчушка. У нее, как и у всех, были черные курчавые волосы и большие рыбьи глаза. Она уставилась на Эмиля, и глаза ее вспыхнули изумлением.
Не выпуская из рук какой-то брусочек, она медленно, сантиметр за сантиметром, подползала к Эмилю.
Ее влажные ноги и животик облепили песчинки.
Дудова обернулась и окинула Эмиля долгим, изучающим взглядом, узнала и поняла, что он пришел к ним.
Тогда она воткнула лопату в песок и направилась к нему, но остановилась и крикнула мужу:
— Имро!..
После второго ее оклика дверь сарая распахнулась от удара ногой, на пороге появился Дуда с пилой в руке и непонимающе перевел взгляд с жены на Эмиля и снова на жену. По лицу его пробежала тень.
Жена подошла к нему и что-то быстро-быстро зашептала.
Он поднял голову, хмурое лицо прояснилось, на нем, как и на лице жены, просыпалась надежда, продираясь сквозь густые черные заросли, закрывавшие лицо до самых глаз и ушей.
— Здесь, значит, вы строитесь, — сказал Эмиль и снова оглядел дом, вклинившийся между крайними усадьбами деревни.
* * *
Цыганка приходила к нему три дня назад, он разговаривал по телефону, торопился куда-то и сделал нетерпеливый знак рукой.
Дудова стояла у стола в мятом пестром выходном платье с блестящими пуговками. Глядя на него, она закусывала губы, пересохшие и растрескавшиеся. Темные волосы, стянутые на затылке, глубоко посаженные глаза, широкий лоб. Цыганка была немолода — лицо морщинистое, дряблые груди.
— Ну, что произошло? — проговорил он с раздражением.
Она сказала, что они с мужем купили участок, а их не принимают в деревне.
Они обращались в районный национальный комитет и в канцелярию президента писали, откуда уже получили ответ — что они, само собой, могут поселиться в деревне.
Эмиль поинтересовался, что на это сказал Буц.
— Если, мол, товарищу президенту хочется, пускай бы и позвал вас к себе в Град, а в деревню мы вас все равно не пустим.
Эмиль в недоумении уставился на Дудову.
— Буц?
Она криво усмехнулась и извергла поток проклятий.
— Буц? Быть того не может, — пробормотал он. — Брехня это или, скорей всего, недоразумение.
На лице ее появилось напряженное, жесткое выражение, она завертела головой.
— Не брехня.
Он закурил и предложил ей.
Дудова взяла сигарету нерешительно, но курила жадно, затягиваясь и выпуская дым через нос.
— Чем занимается ваш муж? — спросил Эмиль.
— Работает, копал тут, на нефтепроводе, а после попал на станцию, где перекачивают.
Ни черта не понимаю… В чем же дело, если Буц…
Эмиль взглянул на часы.
— Ладно. Это так срочно?
— Дом уже стоит.
— Стоит? — почти выкрикнул он. — Чего ж тогда?..
— Строить дом цыгану можно, пожалуйста… — проговорила она и снова разволновалась. Голос у нее был глубокий, но резкий.
— Ну ладно, — прервал он ее и, поднявшись, посмотрел на часы. — Сейчас у меня совещание, но при случае я загляну в Матейовице.
Она продолжала стоять и молчала.
Такие слова, видимо, слыхала не раз и не верит мне, подумал Эмиль.
Судорожно напрягшись, она пыталась превозмочь свою беспомощность.
Губы у нее дрожали, взгляд прожигал. Загнанный собаками одинокий истерзанный зверь, которому больше некуда податься.
— Я загляну к вам, — повторил он.
* * *
И вот он осматривал дом.
Кирпичное строение с кухней, три комнаты, кладовка. Крыша из этернита. Дуда готовил уже доски для пола. За домом двор, место для огорода.
Дом как дом. Мало разве таких цыганских домов в Залужицах? Или, скажем, в Каменце? Не маленькие, низкие хибары с красным, зеленым либо синим орнаментом по беленому фасаду, какие десятками стоят за околицами деревень. А пятистенок… Такой дом мог построить себе, скажем, Буц. Да. Либо он сам и жил бы в нем с Павлиной, маленькой Павлинкой и Петром.
— Я понимала, что легко у нас не получится, — сказала она.
Он представлял себе, с какими чувствами показывает она ему свой дом. Еще бы? Она проводит тут дни и ночи, наверняка уже и плиту топит, убирается, готовит еду, развешивает белье, поливает ящики с цветами. А Дуда как ездил — так и будет ездить на работу велосипедом. Или же на автобусе…
Эмиль еще раз оглядел двор — доски, разбросанный инструмент, бочонок. Тут же, тараща глаза, стояли мальчишки — с брызгами извести на волосах, на медной коже.
Эмиль вытер лоб.
Вечером, ложась спать, подумал Эмиль, она наверняка уже видит под окном клумбу, покрытую росой, слышит повизгиванье поросенка в хлеву, меканье козы. Конечно, у них будет и хлев, и коза.
— А хлев где сделаете?
— Какой хлев? — Дуда поднял брови.
Эмилю очень хотелось услышать от кого-нибудь из них: «Будет у нас и хлев, и коза…»
В детстве, когда эта четвероногая бестия допекала мать во время дойки, мать, осердясь, кричала на козу: «Ах ты, каналья проклятая, ух, погоди, сейчас получишь по морде!»
— Хлев для козы, — повторил он.
— Да пропади она пропадом, коза. Не знаем еще, что с нами самими будет, — огрызнулась Дудова.
Дуда залез в карман, затем стал вертеть самокрутку. Ладони у него были ободранные и отекшие. Махорка просыпалась, бумага липла к пальцам.
— Никто против нас не может ничего сказать, дом у нас как полагается.
Эмиль кивнул.
— Когда переселяетесь?
Жена посмотрела на мужа.
— Да он уже ночует здесь. Утром до работы часа два-три делает что-нибудь, поскорее чтоб кончить.
Дуда наморщил лоб.
— Только и жду, что нас отсюда в шею выгонят, — сказал он. — Вот. Хочу знать, как с нами. — Он помолчал. — Против нас что-то задумали. Прямо нутром чую, у меня на это дело нюх. Они хотят нам устроить что-то. Дожидаются поры, не спешат, как вроде слива зреет.
— Закон на вашей стороне, — успокоил его Эмиль. — Думаю, все образуется.
— Закон? — проворчал Дуда. — Плевали тут на закон.
Не успел Эмиль и рта раскрыть, затараторила его жена:
— Отпихивают нас все кому не лень. А нам ничего не надо, только жить тут в своем доме. — Она схватила Эмиля за руку. — Цыганская слобода относится к деревне, мы тут у себя дома, а деревенские хотят, чтоб мы там сгнили, — она махнула в сторону юга за речку, где до самого горизонта ничего, кроме ровного поля, не было видно. — Шагу ступить не можем.
— Я же сказал, что разберусь. — Он запустил пятерню в волосы, — Загляну и в слободку.
Цыган встрепенулся и начал натягивать рубаху.
— Не надо, не ходите, — остановил его Эмиль. — Я один.
Дудовы вопросительно переглянулись.
У мужа взгляд был затуманен жарой.
— Один? — переспросил он, и глаза его сощурились в узкие щелки.
Снова не верит, подумал Эмиль.
— И с Буцем поговорю, — добавил он вслух. — Он ждет меня.
Отправляясь сюда, Эмиль предупредил Буца по телефону; выйдя из машины на деревенской площади, отправил шофера дальше, тот повез Романчака в Каменец:
— Один? С Буцем?
Дуда замер. Несколько раз судорожно глотнул, но шевельнулся только кадык да уголки рта, сам он оставался неподвижным. Так и стоял в задумчивости.
Потом, резко повернувшись, сделал несколько шагов, поднял с песка пилу, понес ее в сарай и не оглянулся.
Дудова продолжала вопросительно смотреть на Эмиля. Выражение лица у нее было все такое же жесткое, напряженное.
— Прикажите им, — сказала она. — Обязательно прикажите, а то они нас выгонят.
* * *
— Не помешал?
— Ну что ты, я жду тебя, ты же звонил.
Буц держался просто, дружески, как и всегда при их встречах. Невысокий, коренастый, с розоватым, словно наглаженным лицом, он зашагал рядом.
В поле солнце палило еще немилосерднее, чем в деревне, жгло голову.
Нигде не было ни малейшей тени. И от земли, будто от раскаленной сковородки, на которой жарится зерно, тоже исходил невыносимый жар. Высохшая трава, изрезанная жаром и сушью почва. Каждый их шаг взрывался пылью. Буц заслонил глаза.
— Илканич не имел права продавать участок без нашего ведома. Если б не эта сволочь, — добавил он, — не было б никаких хлопот.
— Но договорное соглашение было оформлено?
— Спросил бы Дуда нашего согласия, когда покупал проклятую усадьбу, сохранил бы деньги и нервы. Мы собирались построить себе контору на участке Илканича. Сколько можно проводить в школе все собрания — и кооператива, и национального комитета, и партийные! Говорю тебе, Эмиль, эта сволочь Илканич хотел нам отомстить, — бурчал он. — Гадят, где только могут, до того ненавидят нас. И вот — валится тебе на голову такое, чего ты меньше всего ждешь.
Совсем недавно на одном из совещаний Буц хвастался, как ему удобно, что конторы кооператива и национального комитета расположены в школе.
— Вся жизнь связана с молодежью. Дети у нас в Матейовицах вырастают с сознанием кооперативщика.
— Вы могли бы построить себе помещение на кооперативном дворе.
— Это нам не с руки.
Широкий и просторный кооперативный двор — а на нем четыре коровника, два свинарника, амбары и сараи — находился метрах в ста за деревней, по другую ее сторону.
— Столько шума из-за Дуды, — продолжал Буц. — А у меня и без того забот хватает и с кооперативом, и с деревней. Выбрали меня, вот и работаю. Люди дела ждут, я для всех стараюсь. И никто не спросит, все ли мне нравится, что я делаю.
Он произнес это со странной интонацией, и Эмиль перехватил его взгляд, как ему показалось — немного неуверенный.
Навстречу ехал трактор с высоко нагруженным прицепом сена.
Эмиль знал тракториста, это был Петраш.
— Кого мы тут видим, надо же! — Тракторист дружески помахал рукой. Лицо его лоснилось от пота, из-под рубахи без ворота выбивались черные слипшиеся завитки волос. Он наклонился с сиденья. — Слез бы, да вот начисто приклеился.
Мотор продолжал рычать.
Эмиль приложил палец к виску, отдавая честь.
— На сенокос? В такую жарынь? — Парень улыбался во весь рот.
Буц перебил его, вглядываясь в даль:
— А Кохан почему не возит?
В голосе его прозвенели резкие нотки.
За трактором тянулось длинное пыльное облако.
Вид у Петраша был усталый, а жара совсем его доконала, пальцы скользили по баранке.
— Последняя фура, — объяснил он. — С утра у меня маковой росинки во рту не было. А пил бы, кажись, не переставая.
Буц, не говоря ни слова, тронулся дальше.
— Пиво не привезли? — крикнул Петраш вдогонку. — Духота смертельная, а пить нечего. Проклятые порядки! — Упрек был обращен к Эмилю.
— Пекло, а народ готов надорваться, — с довольным видом заметил Буц, когда они зашагали дальше. — Мы за каждую следующую фуру немного набавляем. За пятую возчик огребет на пару монет больше, чем за четвертую, за девятую — больше, чем за восьмую, поэтому всегда окупится поехать еще раз. С прошлого года, когда завели такую оплату, у нас никаких проблем ни с сенокосом, ни на жатве. Понимаешь… — Он помолчал. — Если держаться правил да всяких инструкций, далеко не уедешь. — Он настороженно посмотрел на Эмиля.
— Что ты имеешь в виду?
— То, что говорю, — пропыхтел Буц. — Скажи, зачем торопиться ехать за десятой фурой, если тебе заплатят, как и за первую? Даже меньше, ведь с каждой фуры подоходный еще высчитают. Бестолковый закон. А мы поступаем по-своему.
В последних словах содержался скрытый смысл.
Разговаривая, Буц поглядывал по сторонам, и шаг его постепенно замедлялся.
В конце концов он остановился посреди дороги.
— Знаешь, Эмиль, я б тебя лучше туда не водил. Ты и вправду очень хочешь пойти?
— А что так? Пошли, пошли.
Во рту у него совсем пересохло.
— Понимаешь, — Буц почесал ладонь. — Удовольствие не из приятных. У нас на этот счет, черт побери, люди заблуждаются! Цыгане! Они до того все разные, что диву даешься. Во всякое дело вникнуть надо. Я понимаю, конечно, попадаются такие, что способны многого достичь. Но только не наши, наши не то…
— Другие?
— Порой кажется, что время для них остановилось. Живут, как при Марии Терезии. Лошадь из-под тебя украдут, такие это ворюги! И вечно у них крик и драки. Говорю тебе — ничего похожего не видал.
Взгляды их встретились, Буц заморгал и отвел глаза.
— Ну смотри, Эмиль, — заключил он со вздохом. — В конце концов сам убедишься, что я прав. — Он криво усмехнулся. — Знаешь, я рад, что ты наконец выбрался к нам. Когда мы с тобой так вот вместе были на природе-то, а?
Двенадцать лет назад по осени сгорел в Малой Рыбнице новехонький коровник. Назавтра туда собирались уже перевести скотину, а накануне он загорелся. Каким образом это произошло, так и не дознались, но в районе тут же приняли решение немедленно построить новый коровник, еще больше сгоревшего. Собрали народ, устроили воскресник, приехали помогать и из района. День выдался промозглый, по берегам Ондавы перекатывались клубы тумана. Работали под дождем, все здорово промокли и замерзли. Вдруг от реки послышался крик.
Не успели сообразить, в чем дело,-а Буц уже несся к реке.
Эмиль прыгнул в воду следом за Буцем.
Течение ударило и сковало его холодом. На какие-то секунды свело челюсти, а когда отпустило, зубы начали выбивать дробь, его затрясло, холод пронизывал до костей, ледяная вода, казалось, разрывала тело на части.
Он заставил себя быстро двигаться и нырнул, почти схватив кого-то за руку.
Затем снова погрузился, яростно шаря вокруг себя, достал до дна, коснулся ладонями камней. Легкие его прямо лопались от напряжения, он выскочил на поверхность, ослепленный водоворотом, и часто-часто заморгал.
Чуть поодаль выбирался на берег Буц, волоча за собой человеческое тело, и, задыхаясь, ругался:
— Куда ты полез, сопля, сукин сын! — надсаживался он. — Под водой господа бога не найдешь! — Он кричал еще что-то. Люди на берегу подхватили спасенного мальчишку, а Буц прыгал, будто паяц на ниточке, — прыгал и орал благим матом.
Эмиль хотел что-то крикнуть Буцу, но застывший язык не ворочался.
С тех пор он глубоко не нырял — его страшила мертвая пустота и мутно-грязное подводное течение там, внизу.
Вскоре после того случая Буца направили сюда работать; точнее говоря, он попросту вернулся домой. Кооператив тут был слабенький, однако Буц скоро проявил себя. На четвертый же день — а бабы всегда под утро приходили тайком доить своих коров в кооперативном хлеву — Буц с Петрашем и еще двумя мужиками спрятались в соломе и, едва показались хозяйки, набросились на них в темноте с увесистыми палками.
Одна из них застонала:
— И меня бьешь, свою сестру?!
— Ах ты, гадина! — взревел Буц. — Ах, стерва, и ты здесь! — Он протурил ее через всю деревню, и она лишь громко причитала.
О том случае много говорили.
Вскоре хозяйство пошло у него на лад. Буц крепко держал в руках деревню и кооператив.
И все же многое в методах Буца настораживало Эмиля.
С тех пор как он стал одним из секретарей районного комитета, а Буц оставался в деревне, Эмилю все чаще чудилась в нем какая-то раздвоенность, за внешней твердостью и уверенностью — что-то аморфное, податливое.
— Господи Иисусе, тебе тоже очень жарко? — нарушил молчание Буц.
— Я просто плавлюсь, — выдавил Эмиль.
Сойдя с дороги, они поплелись полевой тропкой, закаменелой и голой, как горный утес.
Эмиль щурился на дрожащее марево горячего воздуха.
И вдруг в изумлении широко раскрыл глаза.
Против желто-зеленого поля на утоптанном клочке земли он увидел четыре низкие распластанные мазанки, крытые растрепанной черной соломой. Они в самом деле будто распластались четырьмя кучками давным-давно забытого и слежавшегося, вымытого дождем сена. Чуть поодаль — еще две такие же хибары, слепленные из глины, дерева и жести, с короткими дымовыми трубами. Одиноко стояло в стороне единственное дерево — хилая обломанная слива.
На ней болтались какие-то тряпки; на стеблях кукурузы за хибарами тоже сохло тряпье.
И все здесь, казалось, не могло подняться от земли, придавленное тяжестью солнца, жар которого не унимался с рассвета до заката. Если всю долину можно было сравнить с раскаленной сковородой, на которой жарилось зерно, то этот истоптанный клочок земли был явно ее растрескавшимся дном.
* * *
В слободе царили мертвый покой и расслабляющая тишина.
Эмиля охватило стеснение, он смотрел во все глаза — как первооткрыватель. Эти жилища сотни, нет, куда там, тысячи лет назад, когда жизнь только зарождалась, слепил из глины первобытный человек. А пепел и раскаленные осколки стекла — это выбросы вулкана. После извержения все жители, все племя вымерло от болезней, и сейчас вот он с Буцем каким-то чудом открыли это заброшенное поселение.
Он ошарашенно смотрел на родник, с трех сторон огороженный проржавевшими листами железа; уровень воды из-за жары сильно опал, оставив по краям засохшие полосы грязи и слизь. В мутной воде плавали бумажки, трава, какие-то огрызки и жуки.
Не родник, а сточный канал, сказал себе Эмиль.
И еще подумал, что углубление родника — маленькая незаметная щель в растрескавшемся дне сковородки, дыра в звонкой, как наковальня, площадке с остатками пепла и сверкающими стеклышками в потоке лавы.
— Гляди, вон ихний вайда, — предупредил Буц.
Между двумя мазанками, из-за старой плиты, на которой клокотало густое, точно каша, варево из зеленых зерен овса, показался цыган.
Не спеша, переваливаясь, подошел он к ним, статный и плечистый, шурша босыми ступнями; бедра его облегала рваная майка.
— Эй, Жиго, что стряпаешь? — жизнерадостно воскликнул Буц.
И тут Эмиль убедился, что они не одни. Со всех сторон выныривали откуда-то жители слободки, прямо из кукурузы выкатилась кучка ребятишек, и вот за спиной вайды уже стояла толпа, человек двадцать, цыган.
Жиго глянул на Буца и неподвижно уставился на Эмиля, и были в этом взгляде настороженность и безразличие одновременно.
— Пришли посмотреть, как мы живем? — спросил он сухо и негромко.
— Ну-ну, — проворчал Буц, — вы не дети. Хотел бы я знать, кто должен о вас заботиться.
— Лучше б, — с усмешкой возразил цыган, — вы нас оставили в покое.
Эмилю показалось, что Буц не сразу понял Жиго, но, сообразив, продолжал, прохаживаясь взад-вперед по утоптанной земле:
— Еще бы, тебя такое устроило б. Было бы тут хоть чуточку порядка!
Вайда смерил его взглядом и подался вперед, словно собираясь заступить ему дорогу, но остановился.
— Не бойся, ничего я у тебя не заберу, — успокоил его Буц.
Жиго не ответил, наблюдая за Дудой, подъезжавшим на велосипеде. Дуда был без рубахи. Спрыгнув почти на ходу, он бросил велосипед, стукнув рулем о землю.
— Чего лезешь, куда тебя не просят? — пробурчал Жиго.
— Заткнись, — огрызнулся Дуда.
— Человек не может жить в одиночку, как собака, — проговорил Жиго. — Не может. Потому ему надо оставаться со своими.
— Уж скорее б отсюда.
— Дурак. Поглядим еще, с какой радостью ты сюда вернешься, — не унимался вайда. — А в деревне ты будешь как палец без ладони. Мало тебе достается от них?
Дуда нетерпеливо посмотрел на Эмиля и указал на хижину:
— Вот где я живу.
Она была низенькая и ветхая, с грязными полосами побелки по доскам, положенным поверх глиняных стен, с покосившейся трубой, халупа, каких в этом краю тысячи.
— Я пойду посмотрю, — сказал Эмиль, направляясь к ближайшей из хижин, они манили его.
Жиго отвернулся к плите, молча поворошил огонь. Остальные взволнованно перешептывались, и шелест этот не утихал, словно надоедливо звенело в ухе.
Буц остался на площадке. Он стоял, облизывая губы, и ухмылялся. Эмиль видел это совершенно отчетливо — Буц ухмылялся.
— Не ходите туда, — остановил Эмиля кто-то из толпы.
Эмиль откинул мешковину, занавешивавшую дверной проем.
В нос ударила затхлая вонь плесени. Между кастрюлями и тряпьем лежала на боку голая старуха и курила длинную трубку. Женщина помоложе, тоже совершенно голая, с раздутым животом, стояла, немного скрытая полумраком, наклонившись над узлом.
Она подняла голову.
На него уставились тупые, мутные глаза, словно заполненные густой, расплывающейся жидкостью.
Трахома, с ужасом понял он.
Он не в силах был отвести взгляд от внутреннего вида жилища, не в силах сделать вдох. Кожа его покрылась мурашками.
Подобное состояние слабости не испытывал он с отроческих лет. А тогда с ним такое случалось дважды, и оба раза — в набитом автобусе. Накатывало на него сразу, охватывало жаром, он обливался потом, одежда прилипала к телу.
Он прикрыл веки и резко отвернулся.
Буц не сводил с него глаз, неторопливо выпуская дым…
Эмиль достал платок.
Они пошли назад. Эмиль удирал отсюда, как маленький мальчик.
Буц прав, думал он. Проклятые племенные порядки, это даже не эпоха Марии Терезии! Все уничтожить! Огнем и водой. Ему безмерно захотелось, чтобы сюда нахлынула вода и все начисто смыла. Чтобы лопнули где-нибудь слабые плотины и началось половодье, как на Дунае. Там-то теперь эту вшивую проблему поневоле решат! Там от цыганских слободок не осталось и следа, а здесь они будут торчать еще тысячи лет!
Кровь громко стучала в висках, но он уже различал пенье цикад. Цикады вовсю разливались в пыльной траве и в пшенице. А вот подала голос какая-то пичуга, и все вокруг наполнилось музыкой.
Он наслаждался ароматом воздуха.
У обочины алел дикий мак, по земле разгуливали жуки с твердыми полосатыми панцирями. Меж крышами деревенских строений ярко зеленели купы деревьев.
К чертям собачьим! Не сошелся же свет клином на этой треклятой дыре! Живут цыгане и по-другому! Взять доктора Йожко Червеняка! Эмиль повторял имена, вспоминал знакомых ему цыган…
Опять я! — оборвал он себя.
В последнее время он замечал за собой, что стоит произойти какой-нибудь пакости — и мозг его начинает обороняться: из подсознания выплывают примеры, отвергающие неизбежность неприятного, заглушающие болезненные переживания, — словно пытается сгладить мучительно-тягостное впечатление от ударов судьбы.
Старею, обозлился он на себя. Чего ты добьешься, если будешь от всего отворачиваться? Нету, что ли, у тебя силы видеть все обнаженным, неприкрытым? Как он ни напрягался — не мог отогнать эти утешительные видения. Отталкивал их от себя, а они являлись сами, подкрадывались незаметно. Вот и сейчас снова они здесь.
Солнце весело брызгало своими лучами ему в глаза. Он ни за что не обернулся бы назад.
— Лацко… — Эмиль закурил.
— Ну что, насмотрелся? И как?
— Проклятье. Сколько народу спит в одной хибаре?
— Зимой и пятнадцать человек.
— Как? В одной дыре? Это ж надо ложиться поперек друг на дружку, ты что! Можно ли жить в такой мерзости?
— Цыгане — народ крепкого корня, за них не бойся. И не такое выдержат, представь себе… — Буц насмешливо прищурился. — Месяц назад в одночасье сдохло невесть от чего несколько собак. А потом выяснилось, что цыгане вырыли дохлого поросенка, Пиварницкий закопал; они его слопали, только внутренности выкинули…
Эмиль не ответил и снова покрылся мурашками. Ну да, кишки остались сырыми, а остальное они сварили, невольно отметил он. Дурацкие разговорчики.
Его охватило раздражение против Буца.
— Гетто, — сказал он вполголоса и сердито.
— Гетто? Еврейское, да? — Буц тоже заговорил тише. — То совсем другое дело, одному богу известно, что им пришлось пережить. Да, то было совсем другое. Как ты вообще можешь сравнивать? Я вот думаю…
Неподвижный взгляд Эмиля озадачил его.
— Господи Иисусе, Эмиль, ну зачем ты принимаешь это так близко к сердцу? Ради бога, перестань.
Они молча поглядели друг на друга.
Эмиль крепко сжимал губы.
— Скажи, чего ты добиваешься? Не морочь себе голову, честное слово, в этом нет смысла. Мы сами разберемся.
— Еще бы! Давно пора разобраться! — озлился Эмиль.
— Ну? Ты о чем? — И повторил: — О чем?
Видали гада! Вот гад паршивый!
Эмиль вдруг увидел Буца на трибуне. Семь месяцев назад, когда здесь праздновали годовщину освобождения, сияющий Буц открывал торжественное собрание, стоял, опираясь руками о стол, покрытый красной скатертью. У него над головой сверкали золотые буквы: «Да здравствует славная годовщина…» После Буц малость перебрал, приплелся к Эмилю, стал обнимать, лез целоваться. Губы у него были мокрые, изо рта отвратительно пахло. Он шептал Эмилю: «Это славная годовщина… Никогда… Эмиль, у нас дома сроду не было столько муки, сколько теперь сахару». Он выговаривал слова с расстановкой, а Эмиль тщетно пытался высвободиться из его объятий. Буц неприятно обмяк и увертывался… Ах ты, гад паршивый…
— О чем я? Да о том, что все это в конце концов устроится, — сдержанно проговорил Эмиль.
Они снова переглянулись.
— Не понимаю я тебя, — прогудел, не выдержав, Буц.
— Не понимаешь?
— Я-то знаю их, Эмиль, видишь ли…
— Кончай трепаться! — До чего же хотелось ему наброситься на Буца и как следует хрястнуть! — Там сплошная грязь и плесень! А ты собираешься оставить их гнить в этой вонючей яме? Вы — вы живете припеваючи. А как достигли такой жизни — забыл уже? О вас что, никто не заботился? А сколько денег на вас извели, пока вы на ноги встали? Забыл об этом?
Буц напряженно наблюдал за Эмилем, и его охватывало удивление, смешанное с неприязнью.
— Не блажи, — произнес он. — И не капай мне на мозги. Цыгане могут работать и строиться, могут заиметь себе постель, простыни, кресло, ковер, купить холодильник, смотреть телевизор. Отчего же? Все это они могут точно так же, как ты либо я. Никто им, черт возьми, не запрещает. Но почему я должен быть для кого-то нянькой, Эмиль? Переселять их к себе в деревню, на середку площади?! Если хочешь, я могу выстирать ихнее белье. Дерьмо уберу после них. Могу, отчего же. Но почему я должен вытирать кому-то задницу, если он сам не желает этого делать? — Лицо у Буца натужно вздулось, на белках набрякли кровавые жилки. — Эмиль, ради Христа! Они же ленивей распоследней свиньи! Жиго! Все, что этот подонок умеет делать, так это строгать детей. Чтоб ты знал, он плодит их для того, чтоб получать от государства пособие на детей. Ложится, с кем ему вздумается и когда вздумается. — Буц развел руками. — Понимаешь, чем он живет? Детьми. Государство содержит его как быка-производителя.
— А Дуда? Дуда такой же?
— Пускай остается с ними. — Голос Буца срывался. — Если б все, кто потолковей, драпали из слободки, там остались бы одни… Жил бы он лучше со всеми и немножко заботился и о других. Сородичи все ж таки. Чего нам лезть в ихние дела? Нет, правда… Понимаешь…
— А Дуда? — упрямо повторил Эмиль. — Дуда тоже? — Он стоял, строптиво нагнув голову, исподлобья уставясь на Буца.
— Переселится он, а через день-другой за ним притащится в деревню половина слободки. Расселятся у него во дворе, слепят себе халупы, как в Павловицах! Господи боже! Больно здорово! Устроить цыганскую слободу посередь деревни! Или ты надеешься на чудо?
— Чудо? — Эмиль обливался потом, от солнца темнело в глазах. — Чудо ты сотворишь собственноручно. Ясно? Пригонишь свой национальный комитет, и я с ними потолкую.
Буц остолбенел и выдавил нечто нечленораздельное.
— Слышал?
— Да как же… — Он не договорил, обалдело глядя на Эмиля.
— Да. И ты это сделаешь, — раздельно проговорил Эмиль. — Ты что, речь потерял? Или слух? А может, тебя это не устраивает?
Буц неподвижно стоял, моргая голубыми глазками, словно отсчитывал слоги. Наконец он приоткрыл рот, словно не веря, что Эмиль не шутит, и выждал несколько секунд, когда тот захохочет, разряжая напряженность.
— Прошу прощенья, — произнес он непривычно тихо. В голосе его послышались обида и какая-то вялость.
Видали его, засранца, распалялся Эмиль. Знаю я вас, еще бы! Ах ты, вонючка… На таких, как Дудова, разеваешь пасть, а стоит прикрикнуть на тебя самого — сразу поджал хвост и стал тише воды ниже травы.
Он даже побагровел от возбуждения.
Буц избегал его взгляда и все моргал, глаза у него повлажнели — и Эмиль невольно сравнил их с разбухающим в воде горохом.
— Ладно, ладно, — примирительно обронил Буц. — Раз уж тебе сильно хочется, пошарю, кого-нибудь, может, и соберу. Будет сделано, Эмиль, не боись. — И, отойдя, недовольно пробурчал, скорее для своего успокоения: — Ладно. И нечего с ходу собачиться. Раз тебе так хочется — будет комитет.
* * *
Часа через два Эмиль, томясь, стоял, выглядывая из окна конторы правления. На стенах конторы были развешаны полученные кооперативом дипломы в рамках, висел портрет президента. На столе, заваленном газетами, — телефон и пишущая машинка, возле стола — шкаф, стулья.
Буц, недавно вернувшийся из деревни, перебирал бумаги, шуршал, стучал ящиками, изредка произносил слово-другое, голос его звучал предупредительно, и Эмиль даже сказал бы — услужливо.
Эмиль слышал за спиной его сопение, но думать о Буце не хотелось.
Солнце клонилось к закату, от горизонта взметнулись желто-оранжевые сполохи, окрасившие нижний край неба. Во время учебы в Праге Эмиль долго не мог привыкнуть к странному городскому времени. Вечер там наставал значительно позже, чем дома, и день, перед тем как уступить место сумеркам, как бы задерживал дыхание. А приехав домой, он опять-таки удивлялся, что ни свет ни заря, уже во втором часу, просыпались птицы. День здесь начинался, да и кончался тоже, на добрый час раньше.
— Скоро соберутся, — услышал он голос Буца. — Но предупредить удалось не всех, дома не застал.
Эмиль не ответил.
Деревня дремала, застывшая, околдованная зноем.
И вдруг раздался колокольный звон, торопливый, словно убегающий…
— Что это? — насторожился Эмиль.
Буц замер и тоже прислушался.
— Как на пожар. Проклятье, вот еще не хватало!
Он подбежал к окну.
Из-за угла со стороны площади что-то кричали.
Они выскочили на улицу.
Эмиль увидел Петраша — это он стоял возле старой звонницы между ореховыми деревьями и яростно дергал веревку, размахивая руками вперед-назад, словно качал воду из колодца и одновременно призывал на помощь небесные силы.
Колокол повышал голос, задыхаясь, торопил.
— Что горит? — спросил Буц.
— Деревня. Вся деревня сгорит, коли цыган сюда пустим, — откликнулась женщина в черном платке и враждебным, недобрым взглядом смерила Эмиля.
Эмиль с Буцем переглянулись.
Колокол не умолкал, и деревенские суетливо сбегались со всех сторон, пыльные, потные, бросив дела во дворах и огородах. Лица у всех злые, непримиримые.
— Не позволим, и все тут. Никто не имеет права заставить нас!
Голос был пронзительный и ядовито-колючий.
— Выгоним их!
Эмиль в недоумении озирался по сторонам. Все было как в кошмарном сне. Почему? Господи, почему?!
Ему почудилось, что время вернулось на много лет назад: он увидел кучку мужиков, в растерянном напряжении толпившихся перед конторой графского имения. Управляющий с крыльца оглядывал стоявших внизу.
— С понедельника придете трое, больше мне не надо. Так, значит, Шуба, Туранский, Борош. Остальные зайдите спросить через недельку.
Двери захлопнулись, и мужики молча разошлись. А потом, уже на деревенской площади, старый Матейко, для которого долгие месяцы все не находилось работы, вдруг разбушевался, начал орать:
— А ну пошли отсюдова, цыганье проклятое! Вали в слободку, чтоб тебя тут и не видели! Проваливайте!
Глупость, дурацкая бессмыслица, урезонивал он себя. Сердце бешено, громко колотилось.
— Буц… — Он не мог прийти в себя. — Буц… что все это значит? — Он схватил Буца за руку, словно хотел убедиться, что не спит и все вокруг — реальность.
Буц стоял, опустив руки, и лишь едва приметно пожал плечами.
Скованность разом покинула Эмиля, ослепленный гневом, он завопил:
— Что ж это такое? Спятили вы все, что ли? Кому это взбрело в голову? Ты… Ты!
Он вцепился в плечи Буца и затряс его.
— Уж не думаешь ли ты… — Буц побагровел и выпучил глаза, дернулся, словно отталкивал от себя тяжесть; ужас в его глазах отводил какие бы то ни было подозрения.
— Где же он?! Где твой распроклятый комитет? Там вон? Это, что ли, они? — надрывался Эмиль.
— Проклятье. Не говори, Эмиль, будто ты меня… — На лбу у Буца вздулась жила, он захлебывался словами.
Чем этот мерзавец занимался, пока шлялся по деревне? — яростно кричал про себя Эмиль. Все это похоже на него. Господи Иисусе, если сейчас он и ни при чем, то прежнее его отношение к этому…
Сорвавшись с места, он побежал к звоннице.
— Рехнулись вы, что ли? — Это кричал уже Буц, бежавший за ним, он размахивал руками и грозил кому-то.
Эмиля привлек шум у магазина самообслуживания — топот и крики; над дорогой поднялась пыль.
Гнали Дуду. Он бежал сюда, к школе, широко разинув рот, Дудова за ним.
Эмиль ринулся им навстречу, он, как только что Буц, угрожающе потрясал кулаками, ругался, но словно обращался в пустоту. Тогда он повернул назад, к школе, подбежав к двери, резким ударом ноги толкнул ее.
Запыхавшийся Дуда ввалился следом.
* * *
Цыган вытирал окровавленное лицо. Волосы его слиплись, загнанный, задыхающийся, он извергал проклятья. Дудова в спадающей юбке, в кофте, сквозь дыры которой проглядывало тощее смуглое тело, прислонилась к стене. Насмерть перепуганное лицо ее кривилось и дергалось, слезы текли по щекам.
Здесь они в безопасности, подумал Эмиль и прислушался к доносившимся с улицы крикам.
— Буц, с этим делом надо разобраться. Пойдем.
Буц в нерешительности переминался посреди конторы и не трогался с места.
Когда же он двинулся, в дверь застучали, и створки ее широко распахнулись.
Вошел Петраш с двумя бабами.
Скотницы прибежали из коровника как были, одежда в чешуйках мякины, в соломе. Эмиль знал их в лицо, с одной даже танцевал на том празднике.
— Надо было доводить до такого, да? — Петраш поглядел на цыгана. — Мы возьмемся за дело с другого конца…
— Выгнать всю эту черномазую сволочь, — перебила его баба. — Или эта банда воровская выкатится отсюда, или мы не выйдем на работу. Никто. Выбирайте. — Она размахивала руками перед самым носом у Эмиля.
— Ну, это вы перегнули, — оборвал ее Эмиль.
На дворе под окном и в коридоре стояли крик и свист.
Эмиль оглянулся на Буца и ближе подступил к открытому окну. Внизу кричали:
— Интересно, у председателя районного комитета соседи цыгане, а?
— Не выйдем на поле!
Эмиль наклонился через подоконник:
— Товарищи… Товарищи…
Ему не дали говорить.
Рядом с ним появился Буц.
— Дайте сказать, — крикнул он. — Чего разорались?
Шум и в самом деле немного утих, но стоило Эмилю раскрыть рот, как он поднялся с еще большей силой.
— Слышите? — проговорил за спиной Петраш.
— Ты!.. — вдруг вскрикнула Дудова, все это время не сводившая глаз с Буца, и погрозила ему кулаком. — Мы надрывались, надрывались, а теперь убираться? Сроду ни у кого и волосинки не взяли, а теперь все бросить, чтобы вы захапали? Назад хотите нас выгнать? За что? Царица небесная… а мы… а мы… Знала я, что этим кончится. Мы… — Голос ее осекся.
— А ты бы, значит, хотела рассесться в деревне как квочка, — обрушилась на нее скотница, — Чего придумали! Еще бы не нравилось — развалиться барыней и лежать!
— Барыней? — Эмиль готов был убить ее взглядом. — Барыней? Они что, не имеют права жить, как все вы?
— У нас тут граница рядом, — подстроилась к ней вторая, — к нам иностранцы ездят. Что они скажут, когда увидят, что у нас цыгане посередь деревни расположились? Думаете, мы не знаем, почему переселяют цыган из Попрада? Чтоб не мешали заграничным туристам в Татрах. А вы бы…
— Вот оно что! — Эмиль просто изнемогал от злости. — Здрасьте! — взорвался он. — А что скажут иностранцы о том, что вы поперли отсюда графа и Илканича и теперь хозяйничаете на их полях? Присвоили их хлева и скотину? А? Скажите, пожалуйста, вас это не смущает? И что собираете урожай с их полей, ничего, а? А теперь…
— Слыхал, чего народ требует? — произнес Буц непривычно тихо, словно про себя и как бы оправдываясь. — Это как приговор, Эмиль…
Эмиль с треском захлопнул окно.
— Слышу, — ответил он. — Мне все ясно.
— Чего же? — подивился Петраш.
— Чего-чего! Говорю, это дело известное. Я слишком хорошо знаю, как это делается. Как собирают толпу на улице. Кто их науськал?
— Чего? — снова повторил Петраш. Удивление превозмогло на время все его другие чувства. Он туго соображал, что к чему, и посмотрел назад, ища поддержки у Буца.
Они переглянулись.
— Все зашумели, что собирают сходку, насчет цыган, — объяснил Петраш и повернулся к Дуде: — Давай спокойно обсудим, как дело можно сладить. Вот послушай… Мы откупим у тебя, ты ничего не потеряешь. За эти деньги в другом месте подыщешь что-нибудь готовое и сразу переедешь. Давно пора было сговориться. Сколько просишь?
— Ну, это было бы лучше всего, — с облегчением вздохнул Буц, искоса поглядывая на Эмиля. — Нехорошо получилось. Почему ты наперед не сговорился с нами?
— Сколько просишь? — грубо повторил Петраш.
Цыган отступил на шаг. Лицо его было перекошено. Он обвел всех взглядом, судорожно собирая силы, чтобы выговорить хотя бы слово.
— Вы так, значит, — тихо сказал он и, сплюнув, тыльной стороной руки вытер со щеки кровь.
— Только спокойно, спокойно, — вступил в разговор Буц. — Этого не должно было случиться. Боже мой! И ты хотел жить в такой обстановке? — Он пристально поглядел на Дуду.
Эмиль, не вмешиваясь, наблюдал за переговорами и поочередно всматривался в лица — Буца, скотниц, Петраша. А еще сколько их снаружи ждет на улице.
Все как-то стали от него отдаляться. Он осознавал, что одинок среди них. Совсем один.
Он сжал губы.
— Понимаешь, даже если б все было в порядке, — продолжал Буц. — Не хотят тебя люди в деревне. Ты что же, собираешься ходить по деревне, крадучись вдоль заборов? Совсем, что ли, дурак? Я думаю, уступит более умный.
Эмиля передернуло.
Никогда не мог примириться он с такой «мудростью» и верил, что его-то Павлинке и Петру такого уже не придется видеть и слышать, что перед ними — надежная, прочная дорога, по которой проляжет их путь прямо в сказочный мир, в будущее, красочное, будто радуга, и, дойдя по ней до горизонта, человек протянет руку к солнцу… Ах, черт! А если б, скажем, двадцать лет назад, двадцать лет и несколько месяцев тому назад наши люди в разгар войны заявили, что мудрее отступить, и отбросили винтовки? Господи, что было бы тогда с Буцем и всей их проклятой деревней?
А Буц знай расписывал Дуде, как распрекрасно они заживут, согласившись взять деньги за дом.
Вот тип, возмутился Эмиль, с него как с гуся вода. Опять за свое, бьет в ту же точку. Здорово накрутили его Петраш и остальные…
Дудова, устрашенная и беспомощная, стояла, словно ничего и не слышала, шепча что-то про себя, губы ее быстро двигались.
— Сколько просишь? Пятьдесят тысяч? — не унимался Буц. — Проведем все через контору. За такие деньги ты купишь что захочешь, факт.
— Нет! — взревел вдруг Эмиль. — Кому пристало быть мудрым? А? Где, черт побери, твой сельский совет?
Буц беспомощно пожал плечами, и снова они с Петрашем обменялись взглядами.
— На этот счет мы с тобой расходимся во взглядах, — сказал Буц. — Понимаешь, ты живешь не здесь. Царица небесная, — невольно повторил он восклицание Дудовой. — Ну могут ли Дудовы жить в такой обстановке?
— Чтоб ты понял, — раздельно проговорил Эмиль. — В данную минуту мне плевать на твои взгляды, важно, как ты поступишь, что сделаешь, что ты обязан сделать. Или ты добьешься порядка, или мы иначе решим вопрос. Вызовем вас на бюро — слышишь? Весь ваш комитет. Придется расхлебывать, и ты знаешь, чем можешь поплатиться. Я тебе не позавидую.
Буц промолчал.
Вздрюченный Петраш, с ходу готовый кинуться в драку, не сводил с Эмиля взгляда.
Буц в замешательстве сокрушенно вздохнул.
— Неужели ты не видишь, Эмиль, как я всем этим расстроен? Черт возьми! Но ты слышишь, чего желает народ? Само собой, нельзя было доводить до такого. И нам ничуть не лучше твоего. — Он в отчаянии развел руками.
* * *
Прошло два месяца. Был сумрачный вечер, дул освежающий северный ветерок, принося запах обнаженной, воспрянувшей после дождя земли.
Дом Дуды дышал жизнью. Просторный, красивый — он не был еще оштукатурен и в ряду других домов казался неоперившимся крупным птенцом. В углу двора под новым сараем валялся строительный инструмент и груда досок со следами засохшего раствора и извести, бочонок. Но ближе темнели грядки и молодая яблонька. Яблонька-то, конечно, была тут давно, но Эмиль заметил ее лишь сегодня и вокруг нее свежевскопанную, черную землю.
Над тополем кружили аисты.
Они садились на ветки, взлетали, вытянув длинные шеи, клекотали, стуча клювами, били крыльями. Огромный белый рой — белый и сияющий — слепил глаза. Отец рассказывал ему, что все аисты улетают в один день и перед дорогой проверяют силы, а слабых, чтоб не задерживали в пути других, не берут. И еще отец говорил, что весной с белыми аистами к нам возвращаются надежды, а осенью снова улетают.
Он поднял глаза на аистиную стаю, осмотрел дом Дуды, снова поглядел вверх.
Тишина в окнах, все здесь словно и не имело никакого отношения к тому знойному дню, когда Дуда с женой спасались бегством и отсиживались в школе.
Вечерний покой и умиротворение навеяли образ Дудовой. Она плакала и смеялась одновременно, когда после заседания бюро узнала, что Буц с Петрашем получили по выговору и Буц обещал навести порядок.
Так оно и случилось. Когда не стало другого выхода, Буц навел в деревне порядок, и снова это был прежний Буц.
Появись он сейчас, наверняка весело воскликнул бы:
— Эмиль, здорово, мне уже сказали, что ты приехал!
И заговорил бы об урожае и о поставках.
Яблонька на грядках напомнила Эмилю родной дом.
Он увидел ящичек с цветами на окне низкого, приземистого дома, крошечный дворик, где в закутке топотали кролики, а в хлеву мекала коза. Иной год они откармливали и поросенка. Отец, работавший на лесопилке и никогда не занимавшийся дома хозяйством, зимой не раз говаривал матери, что полезет за сеном для козы. Забравшись на сеновал, он отрезал себе кусок висевшего там копченого мяса. Летом мать кричала отцу:
— Ну-ка, закинь сено на чердак, там еще висит шпагат от мяса.
Она таскала огромные ноши травы. А Эмиль пил козье молоко — оно обычно стояло в кувшине на буфете. Напившись, норовил побыстрее улизнуть из дому, пока мать не поручила ему какой-нибудь работы, — на улице его дожидались приятели. По вечерам все отдыхали, усевшись на ступеньках крыльца, и сумеречный свет стирал с их лиц усталость. Эмиль любил садиться так, чтобы видеть яблоньку. От нее всегда исходил слабый аромат — цвета ли, поспевающих ли плодов, — а когда ствол отсыревал — резкой свежести коры.
Кто-то промелькнул в окне у Дудовых.
Лицо появилось лишь на мгновенье, к волосам взметнулись две руки, и тут же Дудова вышла на порог, она вытирала ладони о юбку и улыбалась, вся прямо-таки сияла.
— Заходите, ну заходите же в дом. Царица небесная!
Да нет-нет, он лишь на минутку, заглянул по пути и едет дальше, вон машина дожидается… Поток благодарственных слов смутил его.
— Имро вот-вот вернется, — добавила она.
Скрипнула соседняя калитка.
Петраш нес сумку, полную бутылок: видимо, отправился за пивом.
В первый момент Эмилю показалось, что тот возвращается домой, но нет, Петраш вышел на дорогу. Держался он напряженно, не замечая Эмиля.
И только минуя его, на мгновенье поднял голову, стрельнул глазами, однако поздоровался.
Эмиль отдал честь, приложив указательный палец к виску, улыбнулся.
Но Петраш тут же отвел глаза и пошел прямо, устремив взгляд в сторону площади.
— Сегодня не получится. Я еду дальше, тороплюсь, — объяснил он Дудовой. — В другой раз непременно зайду, когда Имро будет дома.
Его удивил доверительный тон собственного голоса. Имя Имро он произнес с ударением, хотя вечерняя тишина и без того придавала голосу звучность.
Шофер уже включил мотор, когда Эмиль заметил поспешавшего к нему Буца.
— Здорово, Эмиль, мне передали, что ты приехал. — Буц размахивал руками, глазки его блестели.
Эмиль выругался про себя.
Незаметно было, чтобы Буц насиловал себя, изображая радость. Лицо светилось покоем и благодушием, словно качества эти были оттиснуты на нем извечно.
— Ну, как дела, Дудова? — воскликнул он, подходя, но тут же повернулся к Эмилю, тряхнул головой, а губы его растянулись в широкой улыбке. — Ах, черт, видал, какие палаты отгрохали! Ничего себе угнездились.
* * *
Пожар вспыхнул той же ночью.
Ветер раздувал пламя. Дуда проснулся от крика, а когда выскочил во двор, огонь охватил уже всю правую стену дома, языки пламени облизывали крышу, рассыпая снопами искры, сарай и доски полыхали одним костром. Розоватый дым вырывался и из Петрашева сарая.
В наступившей суматохе с криками и причитаниями, ничего не видя, Дуда ринулся в дым и пламя и начал выносить и выкидывать вещи через охваченное огнем окно, пока не стал задыхаться — черные и бело-розовые клубы дыма все росли и густели. Стены уже кругом были охвачены огнем, жар внутри стоял нестерпимый, и Дуда, шатаясь, еле выбрался из дому. Задыхающийся, с опаленными волосами и ненужной, оббитой кастрюлей в руке, он услышал почти у самого уха надрывный голос:
— Мы так и знали, они еще всю деревню спалят.
Дом Дуды был охвачен пламенем, как огромная связка лучины, но мужики поливали Петрашев сарай. Ужас перед огнем пробудил в них жестокость.
Дуда словно ослеп и онемел, не в состоянии произнести ни звука; опухший и почерневший от дыма, он ничего не соображал, глядя на них вытаращенными глазами, пока его не погнали прочь из деревни палками и поленьями, он побежал, а следом гнались собаки и толпа.
Всех их — и его, и жену, и детей — сопровождали криками и проклятьями далеко за околицу Матейовиц, пока они не исчезли из виду в темноте. Дуда, почти голый и обожженный, с маленькой Мартой на руках, снова очутился в слободке.
Сейчас было далеко за полдень.
Пожар давно погас, цыганский дом выгорел дотла. На пожарище чернели кирпичи, покрытые серыми кучками пепла.
А Эмилю, когда он смотрел от слободки в сторону деревни, все мерещилось розовое от зарева небо.
— Как это случилось? — спросил он.
Дуда смотрел на него изучающе и жестко, руки у него обвисли как плети. Он открыл было рот, ничего не сказал и, пожав плечами, отвернулся.
— Подожгли! — жалостно простонала жена, глядя на Эмиля провалившимися, высохшими до самого дна глазами. Она сидела перед хибарой среди вороха тряпья, покрывал и посуды, тут же стоял сундучок, опаленный стол и несколько стульев. Все это Дуда притащил сюда вместе с двумя своими двоюродными братьями, жившими теперь в его прежней хибаре.
Вокруг толпились несколько цыган, сочувственно поглядывали на них и перешептывались.
— Кто? — Голос Эмиля стал хриплым.
Кто? Господи, кто же? Буц? Нет, Буц едва ли. Может, Петраш? Сколько их, других, кто мог поднести горящую спичку… и поджечь… В самом деле, а мог Буц пустить красного петуха? И Эмиль с ужасом понял, что, конечно же, Буц мог такое сделать. Отчего не сделать? Запросто…
— Кто? — повторил он.
— Кто-кто! — снова отозвалась Дудова. Она взмахнула руками и хлопнула себя по коленям. Ее еще не покинули ужас и отчаяние минувшей ночи. — Кто ж еще… — прошептала она. — Кто… — Отсутствующим взглядом, словно не видя, смотрела она на Эмиля.
— Молчи! — прошипел ей на ухо муж.
Он посмотрел на нее таким страшным взглядом, что она разом осеклась. Зачерпнув из чугунка, стоявшего возле ее ног, кружкой воды, Дуда жадно напился.
Господи Иисусе, ну не Буц же…
И вдруг наступила безжизненная тишина.
Из-за хибары напротив показался Жиго. Шаркая босыми ступнями, он приближался к ним.
Дуда отшвырнул кружку.
— Не предупреждал я тебя? — приятельски протянул Жиго. — Видишь, Имро, там вредный для тебя воздух, — и он махнул рукой в сторону деревни.
— Заткнись, — холодно приказал ему Дуда. Выражение лица его при этом не изменилось, лишь глаза сузились.
Жиго чуть повел плечами и ссутулился.
— Чего собачишься, — продолжал он. — Послушался бы меня, не довел бы до того, что случилось.
Присутствие Эмиля его ничуть не смущало и не удивляло; видимо, прежде, чем появиться, он наблюдал за происходящим из укрытия.
— Мы всё знаем, — сказал Дуда.
— Ну… — с усмешкой протянул Жиго. — Что ж ты знаешь?
— Всё знаем, — повторил Дуда.
В руке у него сверкнул нож.
Братья Дуды чуть отступили, но в руках у них тоже были ножи.
Жиго остановился, неприметно, чуть-чуть попятился и молниеносным движением сунул руку в карман.
Никто не шевелился, все смотрели друг на друга неподвижным взглядом. Жиго слегка наклонился вперед, голова его словно срослась с плечами.
— Падла, — проговорил Дуда. — Теперь я тебя достану.
Он говорил все таким же безразличным хрипловатым голосом.
Жиго — с лица его не сходила усмешка — переступил с ноги на ногу, но кто-то позади него предупреждающе шепнул:
— Осторожно…
Жиго мельком глянул на Эмиля, густые брови вспрыгнули, лицо скривилось, на нем застыла гримаса бессильной ярости.
Эмиль сжимал в руке пистолет.
— Бросьте ножи, — приказал он. — Бросай ножи!
Жиго выругался.
— Бросай! — Эмиль повысил голос.
Жиго еще больше набычился, снова переступил, потом, перебежав площадку перед халупами, нырнул прямо в густую кукурузу, яростно раздвигая ее руками и коленями, и тут же исчез из виду.
Дуда с братьями бросились следом.
— Стой! — заревел Эмиль. — Стой!
Все они ринулись в кукурузу. Высокие метелки над их головами раскачивались, с хрустом ломались стебли.
— Он! — застонала Дудова, ее била частая дрожь. — Он! Убей его! Убей его-о-о! — вопила она голосом, переходившим в тихий сиплый хрип.
Только сейчас до Эмиля дошло, что́ все это значит.
Жиго? Жиго?!
Сердце у него стучало где-то прямо в горле.
Господи, выходит, Жиго… Разум отказывался верить.
Конечно же, Буц такого не сделал бы. Эмиля переполнили упреки совести, стало мучительно стыдно. Как вообще мог он подумать о Буце…
Его окутала слабость, оцепенение и какая-то пустота, в которой он снова был совершенно один…
Совсем один…
— Убей его! — хрипела Дудова.
Голос исходил из нее еле-еле, шелестел маленьким ручейком.
Вдали, в кукурузном поле, слышались крики и призывы о помощи.
— Привет, Эмиль!
На тропке позади него появились Буц с шофером и остолбенело уставились на пистолет, который Эмиль продолжал держать в руке.
— Что происходит?
Эмиль услышал свой голос как бы со стороны:
— Вайда…
Он стискивал пистолет и чувствовал под рукой громкий звук пульса — словно сжимал чье-то запястье.
— Жиго? Жиго подпалил?
Эмиль задержал дыхание, ожидая удивления, возмущенных возгласов, негодующих слов. Ничуть…
— Ну, — протянул Буц, — этого следовало ожидать. — В голосе его не было и тени волнения.
Он подступил ближе, губы его дрогнули, мелькнули ослепительно белые зубы. Он доверительно положил руку на плечо Эмиля и огляделся по слободке, потом повернулся к кукурузному полю. Там ничто не шелохнулось.
— Не говорил я тебе, что́ это за публика? Сам видишь… Жиго не устраивало, что племя его расползается и овечки убегают от него…
— Да. Скорее всего, он знал и дожидался, пока вы пригоните их назад, к нему, — произнес Эмиль.
Расслабленность и бессилие сменялись нарастающим чувством ярости против Буца, который говорил с облегчением, словно наконец-то сбросил с плеч неприятности. Он и не моргал, и жила на лбу не вздувалась.
— Не удивляйся, Эмиль. Мы-то давно знаем, чего от них можно ожидать. Я рад, что ты в этом тоже убедился.
Он сказал это просто и с удовлетворением. Эмиль молчал, пристально глядя на успокоившееся кукурузное поле.
Перевод с чешского И. Ивановой.
Яромира Коларова ОДНИ НЕПРИЯТНОСТИ
Девушка сидела на краешке стула, держала одну руку на коленке, прикрывая побежавшую стрелку. Юбка у нее была дважды подвернута в талии, это было видно под кофточкой. Другая рука все время блуждала по столу, отщипывала кусочки хлеба, обрывала бумажную салфетку, играла с солонкой.
Рюмки она лишь едва касалась губами, кислое вино ей не нравилось. Ее спутник не уговаривал ее пить, он, может, вообще не видел ее, пил один, мысли его разбегались, но слова он выговаривал еще четко.
— Не поймите меня превратно, я Атенку уважаю, я ее то есть даже очень уважаю, ведь в конечном счете она мать моих детей. У нее есть только один недостаток: непонимание; она не понимает меня, не умеет прочувствовать проблемы другого человека. Просто ей этого не дано. Я бы не осмелился упрекать ее за это, мы не имеем права упрекать кого-либо за физический недостаток, а душевный недостаток — это то же самое, человек в нем не виноват. Конечно, факт, что кое-что можно исправить тренировкой, если бы она хоть капельку постаралась, я был бы благодарен за одну только добрую волю. Вы же понимаете, если тренировкой можно исправить недостаток телесный, то при доброй воле можно исправить и недостаток психический, то есть душевный. Я ей предложил на выбор: пожалуйста, Атенка, предложи сама, что тебя больше устраивает: понедельник, среда, пятница или вторник, четверг и суббота? Вы думаете, она отреагировала?
Мужчина изрядно хлебнул: девушка лепила из мякиша маленькую мышь.
— Наконец она своей неуступчивостью принудила меня подать на развод; я бы предпочел решить это дело без административного вмешательства, я ненавижу бюрократию, особенно когда она сует свой нос в ваши личные дела. И ничего разводом решить нельзя, абсолютно ничего, только создаются дополнительные трудности. У Даенки характер открытый, доброжелательный, она такая добросердечная, веселая, но вот жаль, совсем не следит за собой. Фигура у нее, я бы сказал, чересчур развитая, пышная, лицо прекрасное, волосы роскошные, а кожа, такая кожа — просто раритет, такую кожу, как у Даенки, не знаешь с чем и сравнить. Но фигурой она с Атенкой не сравнится; ту я вот так за талию обхватить могу, никто не поверит, что у нее двое детей, только на лицо, конечно, время поставило свою печать. Вот если бы к фигуре Атенки да приставить голову Даенки, вот это была бы женщина, боже ты мой, это, скажу я вам, была бы не женщина — Венера!
Мужчина уставился в пространство, глаза его затянулись влажной дымкой, он растрогался образом, созданным его собственной фантазией; он пил, и рюмка дрожала в его пальцах. Девушка, пока он говорил, все ниже склоняла голову; лоб ее был покрыт мелкими прыщиками, вязаная кофточка плотно обтягивала детскую грудь; она вся сжалась и еще крепче зажала ладонью побежавший чулок.
— Да, — сказала она едва слышно и сглотнула слюну.
— Кто-нибудь мог бы подумать, что разводом все кончается; наоборот, с него все начинается. Вы, может быть, мне возразите, что не надо было мне сразу опять жениться, тут вы, конечно, правы; но Даенка уже ждала Дашенку. Вы еще так молоды, так исполнены идеалов, и я ни за что на свете не хотел бы их разрушить, но поймите; положению одинокой матери вряд ли можно позавидовать, хотя наше общество и не делает различия между ложем супружеским и, извините, внесупружеским. В сущности, я стал жертвой общественного мнения, и это означало для меня значительный ущерб. Даенкины родители освободили нам жилую комнату, сами переселились на кушетку в кухне, но что толку, я-то влюбился в жизнерадостное создание, чтобы забыть о горестях и трудностях жизни, а тут, нате вам, вместо забвения зареванный младенец, теща с тестем, и еще раз теща с тестем. Я против науки ничего не имею, и тем более я не против повышения жизненного уровня или прогресса здравоохранения, однако увеличение продолжительности жизни имеет и свои отрицательные последствия.
Девушка согласно кивнула, слизнула капельку вина и взяла соленую миндалину, но тут же спрятала руку под стол: на указательном пальце у нее был кровавый заусенец.
— Когда я однажды понес Атенке алименты — я человек культурный, по почте посылать деньги не люблю, — купил детишкам кой-какие подарочки, и еще купил букетик фиалок, и когда я так сидел в своей старой квартире, то почувствовал такое облегчение, что вы себе и представить не можете. Я еще не успел вывезти свои книги и минералы, куда с ними у Даенки, Атенка сказала, они ей не мешают. Все было прибрано, вылизано до блеска, у мальчишек своя комнатка, и даже когда они были совсем крохи, нигде не валялась ни игрушка, ни книжка, ни даже рубашечка. Даенка, напротив, к порядку совершенно безразлична, пеленки кидает на стулья, колбасу кладет вместе с мылом, купает малютку — брызги летят на хлеб, уксус тебе нужен — так он стоит где-нибудь в сортире, а луку у нас нет. Всегда у нас чего-нибудь нет, или, наоборот, слишком много, один день мы все четверо покупаем на ужин, а на другой день — никто.
Мужчина налил себе полную рюмку и осушил ее единым духом, девушка мужественно сражалась с миндалиной; она не осмеливалась ее выплюнуть, хотя миндалина была горькая.
— Вы меня, верно, осуждаете, но постарайтесь меня понять: я в своей старой комнате почувствовал, будто я заново родился. Атенка пригласила меня к ужину, и я остался. Мальчишки были рады, что я вернулся из командировки, в принципе я врать не люблю, но детям вы же не можете выложить всю подноготную. Это был прекрасный вечер, мы играли в старую дурацкую игру «человече, не серчай», но я за ту неделю так отдохнул, просто замечательно восстановился, однако вы себе представить не можете, что вытворяла Даенка. Я ее очень люблю, Даенку, в конечном счете, это мать моего ребенка…
Мужчина вдруг замолк: язык отказывался ему служить, начало сказываться легкое опьянение. Он снял с пальца обручальное кольцо и покатил его по столу, меланхолически следя за колесиком, которое, помедлив, остановилось и упало. Девушка не отрываясь глядела на него, удивленным и несколько тупым взглядом: так смотрит теленок на проходящий поезд.
— Вы еще не женщина, — мужчина опять собрался с силами, — и взгляд у вас чистый, незамутненный. И это хорошо, что вы не женщина, потому что ни одна женщина не способна рассуждать логически, она руководствуется эмоциями, и человек против нее бессилен. Пока я жил с Атенкой, Даенка довольствовалась тремя днями в неделю, и даже выбор этих дней она предоставила мне, но соглашение рухнуло из-за неуступчивости Атенки. А теперь, извольте видеть, Атенка соглашается на вторник, четверг, субботу, с тем чтобы каждое второе воскресенье я уделял мальчикам, зато теперь заупрямилась Даенка. В течение одного года они поменялись местами, повернулись на сто восемьдесят градусов, нет, это уму непостижимо. Если говорить откровенно, я больше склоняюсь к Атенке, хотя раньше ее педантичный порядок действовал мне на нервы, и у Даенки я привык к свободе поведения. Но тут произошло событие, я бы сказал, стрессового характера, которое поставило под сомнение всю нашу совместную жизнь и больно ударило по моему отношению к Атенке. Сидим это мы за воскресным столом, Атенка постлала скатерть, вышитую болгарским крестом, я очень люблю эту скатерть, у меня с ней связаны приятные воспоминания, обед отличный, курица с яблоками, и тут Радек, мой младший сын, наслаждаясь клубникой со взбитыми сливками, вдруг говорит: папочка, оставайся лучше с нами, не ходи больше к этой… извините, он сказал такое слово, что меня как громом поразило. Ты тут отягощаешь свою совесть ложью, чтобы не лишать своих детей иллюзий, и вдруг семилетнее дитя открывает тебе глаза. Это предел всему, сказал я Атенке, ребенок такого не придумает, ты не имеешь права оскорблять Даенку, она мать моего ребенка, так же как и ты. Это еще вопрос, отвечала Атенка, это еще вопрос, твой ли это ребенок. Разумеется, я встал и ушел.
Девушка отвела глаза и покраснела. Она знала, что надо бы что-нибудь сказать, но голова ее была совершенно пуста. Но мужчина не ждал от нее слов, он был поглощен собой.
— Факт то, что Даенка ни из чего не делает трагедии; ну как, сказала она, погулял дома? Хочешь кофе или ты еще не обедал? Я сбросил пеленки, сел в кресло, а там, я не заметил, была резиновая овечка, и она запищала, тут Даенка стала хохотать, и так хохотала — прямо ржала. Меня это задело, я не переношу, когда люди смеются в серьезную, можно сказать почти роковую минуту. Я спросил ее, действительно ли малютка Дашенка мой ребенок, и был готов ко всему, даже к пощечине, но Даенка принялась считать на пальцах. Считает, думает и вдруг как фыркнет: так, значит, получилось, если это серьезно не от тебя, так это просто обалдеть. Она повалилась на спину и все хохотала, вот, мол, значит, получилось. Эта вульгарность, эта безответственность… Разрушить семью — это для нее просто обалдеть. Разумеется, я встал и ушел.
Мужчина был раздосадован, его жесты стали размашистыми, девушка отставила в сторону его рюмку, уголки ее губ подрагивали. Незнакомец, изливавший перед ней неизвестно почему душу, чем-то, может быть очками и высоким лбом, напомнил ей учителя математики, которого она смертельно ненавидела. Порою ей даже казалось, что это он сидит против нее и вместо логарифмов распространяется о своих Атенках и Даенках.
Ей было очень смешно, но она подавила улыбку, боясь все испортить.
— Все-таки все женщины очень разные, — заметила она наконец, видя, что мужчина молчит и, прикрыв глаза, потягивает вино.
— Да, вы правы, в самый трудный момент я встретил Каенку, она явилась как подарок судьбы во тьме кромешной. Я бы ее и не заметил, но она прогуливала кошку в кожаной сбруе, это было удивительно. Каенка вообще оригинальное создание — она, скорее, художественная натура, абсолютно современный тип, одевается изобретательно, никаких готовых вещей, а ноги у нее длинные, стройные, невероятные ноги. Если бы у Атенки при ее фигуре были ноги Каенки, она бы и сегодня сделала карьеру даже на Западе. У Каенки меня очаровала главным образом атмосфера; она умеет создать необычную среду обитания, впервые в жизни я понял, что действительно живу в двадцатом столетии. Сидишь развалясь в ламинатовом кресле, откроешь бар — там зажигается лампочка и в зеркале отражаются разноцветные бутылки благородных форм, нальешь себе «уиски энд соудэ», закуришь «кэмел» и любуешься старинной прялкой, от которой исходит тишина и покой наших бабушек. Под прялкой сидит кошка и глядит на тебя внимательно синими, почти человеческими глазами.
Девушка запрятала поглубже под столик свои коротенькие пухлые ножки и вдруг отчетливо осознала, что умирает с голоду. Незаметно взглянула на часы; через час кончаются уроки, с которых она сбежала. Дневной винный бар был невелик и просматривался насквозь, и ей стало страшно, что кто-нибудь войдет и узнает ее.
Ее игривое настроение сменилось странной печалью; рассказ о первых двух женщинах показался ей смешным, упоминание о Каенке задело и ранило ее, она почувствовала себя ничтожной, безобразной и неинтересной.
Она обеими руками нажимала на желудок, но не смогла подавить его настойчивый голос, переменила положение тела и отвернула пунцовое лицо.
— Вы не хотите поесть?
Он кликнул официанта и стал совещаться с ней над меню, она глядела на цены (в кармане у нее едва ли набралось бы три кроны мелочью) и стеснялась, мотала головой и пожимала плечами, не подозревая, что ее смущение приятно мужчине, оно возвращает ему утраченное равновесие. Наконец он заказал еду сам.
— Видите ли, деточка, жизнь очень сложная штука, эта кошка, из-за которой мы познакомились, стала причиной целого ряда неприятностей. Дело в том, что у нее врожденная аллергия на босые ноги, особенно ее раздражают большие пальцы; она может сидеть с закрытыми глазами или даже спать, свернувшись калачиком, но каким-то неисповедимым (слово вышло из его уст покореженным и помятым) образом она засекает босые ноги и впивается в них в моменты… простите, я забыл, что вы так невероятно молоды. Каенка со свойственным ей цинизмом посоветовала мне не снимать носки, но, видите ли, нагая женщина в чулках усиливает эротическое впечатление, тогда как голый мужчина в носочках просто смешон.
Девушка прыснула, она не могла удержаться, и смех пошел из нее и ртом, и носом, из глаз полились слезы, она стала искать носовой платок в портфеле, где как попало были напиханы учебники и тетради, грязные и ободранные.
Мужчине было противно глядеть, как она утирает глаза и нос скомканной тряпочкой, по-видимому, она считала неприличным высморкаться и только по-детски шмыгала носом. Но ее жалкий вид был трогателен, как вид желторотого птенца, мужчина вдруг припомнил, как Гёте где-то поцеловал девочку, у которой была сыпь, и произнес бессмертное изречение, что, мол, юность всегда прекрасна.
Официант принес закуску: тосты а-ля тартар, мужчина заказал их, чтобы потрясти юную деву. Но юная дева и глазом не моргнула, схрумкала черствый хлеб здоровыми, хотя и немного кривыми зубами, зажмурившись, проглотила сырое мясо и произнесла деловито: «Но вы же могли выбросить кошку за дверь?»
Она его убила; она в точности знала, о чем речь, и дала это понять.
— Вы так молоды, — сказал он оскорбительно, — вы все представляете себе слишком просто. Вы когда-нибудь слышали, как орет сиамская кошка? Если Мулине приспичит, вы должны тотчас же бежать с ней на улицу — или поживей убирайтесь восвояси. Она меня и в другие неприятности втянула, любимица хозяйская. В Праге живет миллион человек, и надо же, чтобы самая противная из всех моих сослуживиц по конторе, наинесноснейшая (слово опять заело, он должен был несколько раз разбежаться, пока его взял) старая дева жила как раз в том микрорайоне, где я выгуливал Каенкину кошку, и как раз возвращалась из кинотеатра. По счастью, было уже темно, и я отпустил ремешок. А Боженка, это моя сослуживица, бросается ко мне: не меня ли вы ждете, пан доктор? Мне было мучительно что-то ей объяснять, и я зашел к ней на чашку чая. Чай был ужасный, какая-то трава, ромашка или липовый цвет. Но тут я обнаружил любопытную вещь: с близкого расстояния Боженка вовсе не такая несносная. А руки у нее так просто прекрасные, узкие, благородные, почти красивой формы, и прикосновение нелипкое, приятное. Это ласковые руки, теплые, когда вам холодно, и прохладные, когда у вас жар, у Каенки же руки узловатые, скорее мужские, прямо как у токаря, поцелуешь ей ладони — будто табачный киоск. У Боженки, наоборот, вдыхаешь милый запах сухих трав, мать-и-мачехи, яснотки, глухой крапивы, все такое нежное, ускользающее, ностальгическое. Она была мне так благодарна, я провел с ней поистине умиротворяющую ночь, только старинные часы меня беспокоили, они отбивали и четверти, и половины, и три четверти, я совсем не выспался. Женщины неисповедимы, я не аферист и не прячу обручальное кольцо в карман, Боженка очень даже хорошо знает мое сложное положение, но не хочет понять, что мне нельзя быть с ней каждый день, она посылает мне сладкие взгляды на общих собраниях, обливает меня сиропом, как я к стулу не прилип, не понимаю.
Мужчина разволновался, он говорил все быстрей и быстрей, речь его стала сбивчивой, слова налезали друг на друга.
— Представьте себе, деточка дорогая, мое положение. Почти всю неделю я был дома у Даенки, ну да, у Даенки, я пожертвовал собой, у маленькой Дашенки корь. В комнате жарища, занавески задернуты, Даенка вся потная, теща варит чай, тесть делает козу, чтобы повеселить ребенка, — просто сумасшедший дом. А тут звонит Атенка, у нее с Радеком опять неприятности, с ним все время что-то происходит, еду домой, то есть домой к Атенке, я ведь такой бедолага, даже не знаю, где мой дом. Атенка, говорю, ну что ты плачешь, у Радека это детское, все пройдет, но у Дашенки может произойти воспаление легких, разве можно сравнивать воспаление легких со шнурками для ботинок. Дело в том, что Радек в раздевалке повытягивал из всех ботинок шнурки и продавал их у входа в универмаг, представляете себе? И заработал на этом две кроны, вы подумайте, и в нашем обществе находятся люди, которые поддерживают нищенство, видят хорошо упитанного, хорошо одетого ребенка в курточке из валютного магазина «Тузекс» и суют ему в руку крону, уму непостижимо! В довершение всего он купил себе сигареты, это семилетний-то мальчишка. И вот мы с ней сидим, советуемся, что делать, и тут вдруг звонит Каенка, было два часа ночи. И с олимпийским спокойствием сообщает мне, что она звонила Даенке, безобразие, ночью будить тяжело больного ребенка, и к тому же требовать телефон Атенки, это уже бесстыдство. Ты не понимаешь, я пытался ее усовестить — это же абсолютно неприлично, звонить людям ночью, мы решаем серьезные проблемы. Я твои проблемы знаю, отвечает Каенка, эти проблемы ты можешь решать и в другое время, а у меня Мулина котится, и я еще глаз не сомкнула, это твоя вина, это ты ее тогда отпустил. Приезжай скорее, ты должен это как-то ликвидировать, их пять штук. И орет в телефон так, что Атенка слышит каждое слово. Атенка, конечно, молчит, только крепко сжимает губы, я эту ее манеру не переношу. Какая еще Каенка, говорит она голосом святой мученицы, чего же ждать от Радека, когда у него такой папа. Вот вам женская логика! Я пытался ей объяснить, что́ означает для меня Каенка, но она ничего не поняла, даже не попыталась понять. Столько людей вокруг, а ты один-одинешенек, есть дети, есть жены, но никто тебя не понимает. Никто.
Девчонка, которая только что стыдливо спрятала свои лапы под стол и чистила ногти зубочисткой, теперь боязливо, с легким содроганием погладила волосатую мужскую руку.
Мужчина растаял, разжалобился, в глазах у него показались слезы.
— И вот в таком настроении, утомленный и измотанный до предела, я был вынужден ехать к Каенке топить котят, пока я доехал, их стало шестеро. Это были бастарды, но все равно живые существа, у них уже были коготки, они пищали, Мулина орала, я дрожал мелкой дрожью, а Каенка сидит себе спокойно, включила магнитофон и еще спрашивает, не засорил ли я канализацию. Вот вам женщины, вот вам женская чувствительность. Женская чувствительность — это выдумки. На работу я опоздал, только разложил бумажки — звонит Боженка: она должна сообщить мне нечто интимное. Вы подумайте только, стоит пожалеть пожилую одинокую тетку, как она тебе сразу интимное. Я бросил трубку и побежал, как мальчишка побежал в парк, прогуливаюсь и вдруг вижу, вы сидите на лавочке, такая маленькая бедняжка, юбочка подвернута, коленки красные, еще великий Гёте говорил, что юность всегда прекрасна, а вы так юны, вот если бы Атенке да вашу юность…
Он замолчал, потому что принесли рулет из филея с ветчиной. Девица хищно набросилась на еду, еда была вкусная, и она сразу расцвела. Мужчина упивался ее свежестью, перед ним открывались новые горизонты.
— Вы, может быть, думаете, что я дурной человек, в вашем юном возрасте вы не можете разбираться в таких сложных проблемах, Маенка, мне можно называть вас Маенка?
Девица кивнула.
— Я вас понимаю, — промолвила она с плотно набитым ртом, — серьезно, я вас понимаю.
Опытными пальцами он умело прошелся по ее руке, ей это было приятно, хотя казалось немного абсурдным из-за того, что незнакомец так походил на учителя математики. По временам они оба сливались в ее сознании, и это наполняло ее гордостью.
— Я вас понимаю, — повторила она с пылом, — если бы вы знали, как я вас понимаю!
Перевод с чешского Н. Беляевой.
Ян Ленчо ТОЛЬКО ВЧЕРА…
Я работаю в авиакомпании.
Я тут на особом счету. Не знаю, чем это заслужил. И не хочу даже над этим задумываться, иначе пришел бы к выводу, не слишком для себя лестному. Когда в последний раз мне повысили зарплату, коллеги — я слышал, как они сплетничали обо мне, — утверждали, что виной всему — да-да, так и сказали — «виной» — особое сочетание обстоятельств с моими врожденными наклонностями. Какими именно, я узнать не успел — они заметили меня, моментально умолкли и вроде бы искренне поздравили с повышением оклада.
Как в любой авиакомпании, и в нашей время от времени случались неожиданные трагедии и катастрофы.
Первая произошла спустя несколько месяцев после моего поступления. Разбился самолет, все члены экипажа и пассажиры погибли. Так уж оказалось, что все они были из нашего города.
Директор компании, подавленный случившимся, был бледный как смерть. Он долго совещался на коллегии. Мы, мелкая сошка, ходили на цыпочках мимо его кабинета и, если встречали кого-нибудь из членов коллегии в коридоре, старались принять такое же скорбное выражение лица. После длительного совещания директор вызвал к себе всех служащих. Спросил, кто из нас согласится обойти родственников погибших и сообщить о трагедии.
Я посмотрел по сторонам — все старались казаться печальными, но одновременно и безучастными. Никто не вызвался.
Тогда я взял это на себя. Решил, что тем самым докажу свою верность компании. И кроме того, не терпелось нарушить неловкую тишину.
Когда я вызвался, все так и застыли в радостном удивлении. Оглядев сослуживцев, я увидел, как они обрадовались: еще бы, теперь им уже не нужно было проявлять активность. Но вместе с тем заметил что-то вроде неопределенного презрения.
Директор пригласил меня к себе в кабинет. Дал список и адреса родственников погибших. И я приступил к работе, если это можно было назвать работой. Стучался в двери и, когда открывали, называл себя, говорил, где работаю и что случилось.
Поднимался крик, многие лишались чувств, потом просили рассказать подробнее; постояв несколько минут с участливым и сосредоточенным видом, я уходил, извиняясь тем, что должен идти к другим. После пяти-шести визитов у меня уже поднакопился опыт. Не было нужды огорошивать людей вестью о беде, достаточно было назвать место моей работы и принять скорбное выражение. Изображать скорбь мне не составляло труда — после нескольких посещений это получалось автоматически.
На следующий день меня вызвал директор. Прочувствованно благодарил за службу, рассыпался в похвалах и между прочим обронил, что преданность своему предприятию проявляется именно в таких исключительных ситуациях. Когда я выходил, он потихоньку сунул мне в руку толстый конверт.
И с первого числа повысил оклад.
Толстый конверт я, естественно, утаил от коллег, но о повышении зарплаты они узнали. Тогда-то впервые и начали шептаться, будто мне ее набавили только потому, что я взялся за неприятное дело. На профсоюзном собрании я в присутствии директора заявил протест. Директор встал на мою сторону. Он сказал, что и без того повысил бы мне оклад.
Через некоторое время случилось еще одно несчастье.
Директор снова созвал нас всех. Опять тихим голосом спросил, кто возьмет на себя печальную и неблагодарную миссию. И опять никто не отозвался. Я тоже. Но заметил, что все взгляды прикованы ко мне. И взор директора, поначалу блуждавший по сторонам, словно он уже не помнил о моей услуге, остановился на мне. А я молчал. Я прямо-таки наслаждался их угрызениями оттого, что никто не вызывается. После некоторого замешательства директор проговорил:
— Может быть, товарищ… — и назвал меня.
Это мне и нужно было. Я встал и заявил, что охотно взялся бы за это дело, но так как тут распускают слухи, будто мне повысили оклад только потому, что…
— Нет-нет, — энергично прервал меня директор. — Я ведь уже говорил, что не потому… — И он угрожающе посмотрел на моих коллег.
И тогда я решился:
— Ну что ж, задание не из приятных, я согласен, но попрошу не связывать мое согласие с денежным вопросом, с тем, что с первого числа мне повышают жалованье. А если кто думает иначе, охотно уступлю ему эту обязанность…
Я заметил, что у директора перехватило дыхание, он оторопело уставился на меня, а потом растерянно произнес:
— Да, на последней коллегии мы решили повысить зарплату товарищу (опять моя фамилия). Он заслужил это хорошей работой. Никто в этом не сомневается.
Я обегал всех родственников погибших. Теперь все шло у меня как по маслу. Скорбный вид стал как бы маской, приросшей к моему лицу, мне уже не надо было стараться — хватало того, что я выглядел таким как есть.
Я просто называл себя, место моей службы и горестно умолкал.
И все понимали, в чем дело. Когда поднимался плач, я незаметно исчезал.
В конверте, в котором мне первого числа выдали зарплату, лежало сверх того несколько сотенок премии. Оклад, разумеется, тоже был повышен. С тех пор я стал незаменимым для авиакомпании. Как только случалась трагедия, я был всегда под рукой, всегда наготове. Однажды меня даже из отпуска отозвали.
По привычке я и на службе ходил с печальным лицом. Мой грустный вид мало-помалу внушил ко мне уважение и признательность. Никто больше не позволял себе шептаться о моей черствости. Моя незаменимость утверждалась с каждой очередной катастрофой.
Поднимаясь по общественной и служебной лестнице, я все больше запускал свою непосредственную работу, но никто не осмеливался упрекнуть меня хотя бы словом. В конце концов я вообще уже ничего не делал, только сидел день-деньской за письменным столом в ожидании несчастья.
Я получил несколько предложений от конкурирующих фирм. Но всем отказал. Верность своему учреждению прежде всего. И это положительно отразилось на моем продвижении и жалованье.
Потом наступило затишье. Авиакатастрофы прекратились. За несколько месяцев — ни одной. Это тут же сказалось на мне — директор все реже меня вызывал, а однажды первого числа в моем конверте оказалось меньше денег. Когда я запротестовал, мне неохотно доплатили разницу, но со следующего месяца уже не доплачивали. Всем в авиакомпании, да и мне самому, начинало казаться, что я становлюсь лишним. Совсем лишним.
Скорбный вид, от которого я уже не мог избавиться, теперь всех раздражал.
Надо было спасать свою репутацию.
Меня могли уволить. И вот я как-то забрел на аэродром. Показал удостоверение служащего компании. Этот документ открывал передо мной все двери. Тогда я понял, что отчаиваться рано. У меня в голове родился план, который несложно было осуществить.
В один из самолетов я тайком пронес бомбу замедленного действия.
Бомба была незаметной, никто ее не обнаружил, но весьма эффективной. Я в этом убедился, когда в дирекции снова воцарилось траурное настроение, а мне опять пришлось взяться за свою неблагодарную роль.
С тех пор я регулярно закладывал бомбы в самолеты. Ничто больше не угрожало моему положению.
Я стал заместителем директора. А потом, после одной чрезвычайно крупной катастрофы, я раскритиковал директора на заседании коллегии за недостаточные меры безопасности. И заявил, что, если стану директором, не произойдет ни одной катастрофы. Его сняли, а меня назначили вместо него. С тех пор и в самом деле не случилось ни одной аварии.
До вчерашнего дня…
Не знаю, как это произошло. Но, к счастью, нашелся молодой человек, который согласился оповестить о катастрофе родственников погибших…
Перевод со словацкого Н. Аросьевой.
Любомир Махачек ТЕОРИЯ ЭДЫ О РЫБАХ
Всего несколько дней назад мы с Эдой блаженствовали на очистной станции нашей целлюлозно-бумажной фабрики, которая время от времени сбрасывала в водохранилище сточные воды. Мы с Эдой должны были следить за их концентрацией, чтобы рыба не дохла, иначе для нашего предприятия дело пахло штрафами и прочими недоразумениями с обществом охраны природы.
Именно такая неприятность с нами недавно и случилась: со мной, как с ответственным лицом, и с Эдой, моим помощником. Об этом поочередно писали в заводской многотиражке, в районной газете и, наконец, в воскресном приложении к областной газете. После чего меня навестил сам директор: с него, мол, хватит, больше он не намерен вытаскивать меня из лужи, в которую, кстати, и сам он сел по моей милости. И расплачиваться на этот раз будет не предприятие, а лично я, из своего кармана; впрочем, Эда может подбросить мне что-нибудь, если на то будет его добрая воля.
— Какая еще воля, — пустился в рассуждения Эда, — да тут впору утопиться. Подумать только, последний косяк рыбы в наших краях… — Он с досадой махнул рукой. — Так сколько тысяч крон с нас возьмут?
— Вам не кажется, — сказал директор, потемнев лицом, — что вопрос следовало бы сформулировать несколько иначе: сколько вам дадут лет?
— Ну, зачем же так сразу, — говорю я, отрезаю ломтик от ветчины, принесенной на полдник, и предлагаю директору: — Не угодно ли отведать?
Директор дернулся и прошипел:
— Спасибо, что-то не хочется!
— Теперь хоть езжай на рыбалку к морю, — брякнул с горя Эда, а этого делать не следовало, потому что директор тут же навострил уши. Эда — страстный рыбак — тайком ходил ловить карпов из строго контролируемого опытного косяка, который был запущен на развод в наше водохранилище. Мало того, что он ловил без разрешения, которое давно уже никому не выдавалось из-за катастрофического сокращения рыбьего поголовья; теперь он умудрился отравить последнюю стаю, которую он берег и выхаживал только для того, чтобы время от времени поймать какого-нибудь карпика, а потом опять отпустить его в воду. Эда взял со стола кусок ветчины, от которого отказался директор, и жадно запихнул в рот.
— Это были последние экземпляры пресноводной рыбы на нашей территории, — в голосе директора завибрировали угрожающие нотки.
— Может, ничего страшного с ними не случилось. — Эда вытер жирные пальцы платком. — Кто-нибудь видел, чтобы они всплыли кверху брюхом?
Эда был не из тех, кто добровольно признает свое поражение — его можно было уличить только фактами, хотя он отлично знал, что химикалии в воду все-таки попали.
— Только этого нам всем не хватало: найти дохлую рыбу! Я могу порекомендовать вам лишь одно, — грозно сказал шеф. — Завтра же возьмите отпуск за свой счет и основательно обследуйте наше водохранилище. Это ваш единственный шанс на спасение!
— То есть? — недоуменно спросил я, скомкал бумагу от бутербродов и швырнул ее в корзинку.
— Ваше спасение в том, что вы ничего не найдете, ясно? Ни одна рыба не погибла!
— А вы знаете мою теорию? — Эда заморгал с таким невинным и простодушным видом, что я насторожился.
— Нет, не знаю, — отрезал директор, — меня интересует только рыба, и ничего больше.
— И я про то же, — невозмутимо продолжал Эда. — Возможно, рыба не подохла, она могла просто улететь.
— Что такое? — оторопел шеф и на всякий случай посмотрел на меня: не ослышался ли он.
— Видите ли, — серьезно сказал я, — это у него такая теория: что рыбы в процессе развития перескочили через земноводных и змей, то есть пресмыкающихся, и под влиянием искусственной жизненной среды попали сразу на более высокую ступень развития: у них выросли крылья, как у птиц, и они из этой грязной, вонючей воды просто улетели. — Уф! После этой тирады я с облегчением перевел дух.
— Я слегка подправил дарвиновскую теорию естественного отбора, — вступил в разговор Эда и выплюнул в корзинку непрожеванную шкурку от ветчины. — Отравленная химикалиями вода, этот крайне негативный фактор, вызвал гигантский скачок в эволюции этих живых существ. Такая метаморфоза среди организмов просто ускользнула от нашего внимания. Из рыб получились птицы, а те просто взяли и улетели.
— А из этих птиц что получится? — Директор схватился со страдальческой гримасой за голову и так затряс ею, что с носа слетели очки.
— Вот этого я, простите, не знаю, — бесхитростно отвечал Эда.
— Эвжен! Вы мне за него отвечаете, — из последних сил прошептал директор, переведя на меня усталые глаза. — А когда закончите свои поиски, помогите ему найти какую-нибудь работу. Я понятия не имел, что у меня работают такие гении!
Директор едва кивнул и исчез — его словно ветром сдуло. Он даже забыл закрыть за собой дверь.
— Нет, я ему докажу, — мрачно сказал Эда на другой день, когда мы крейсировали по водохранилищу. — Даже если мне придется пить эту гнусную воду. Неужто мы напустили в нее столько химии, что вся рыба непременно должна была подохнуть?
— И все же директор прав, эта твоя теория — изрядная чушь. Почему это рыбы превратились именно в птиц? — Я отвинтил колпачок термоса и хлебнул чаю.
От возмущения Эда лишился дара речи. Но тут же взял себя в руки.
— А что, разве не так? Ты вообще-то хоть знаешь дарвиновский ряд позвоночных? Рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. — Эда сделал гребок лишь одним веслом, про второе он в азарте забыл, поэтому мы завертелись на месте. Зеленый козырек на резинке задрался и шлепнул его по голове. Под настырными лучами солнца чеканные черты его лица плавились прямо на глазах.
— Но почему рыбы превратились именно в птиц? С таким же успехом можно утверждать, что они стали млекопитающими. — И я постучал себя по лбу. Чай из колпачка выплеснулся мне на комбинезон и промочил его насквозь.
— Ты бы лучше правил рулем и не волновался попусту, — голос Эды упал почему-то до шепота, словно нас кто-нибудь мог подслушать, хотя мы находились посреди нашего огромного водохранилища, занимавшего несколько гектаров. Солнце скользило по моей лысине, а ветер нетерпеливо подгонял нас вперед.
— Посмотри-ка внимательно вокруг себя, — таинственно сказал Эда.
В самом деле, неподалеку от нас был остров, а на нем — черные силуэты птиц, которых здесь раньше не было. Как только мы подплыли к островку, птицы поднялись в воздух, и хлопанье их крыльев отбилось от зеркальной глади с таким гулом, словно где-то здесь начал действовать вулкан.
— Хорошо, как ты себе это представляешь? — спросил я, когда мы пристали к берегу; я уселся на поваленный ствол сосны и достал из сумки бинокль, чтобы осмотреть окрестности.
— А очень просто. Они отравились не сразу, как та рыба, что была в водохранилище до них. Они отравлялись постепенно, успевая приспосабливаться к новым условиям, к новой среде, понимаешь? Допустимый процент ядовитых отходов, которые мы сбрасывали в водохранилище, был так низок, что не повредил им. А когда мы спустили больше сточных вод, чем обычно, это на них уже не подействовало, во всяком случае не настолько, чтобы они передохли.
— Так, а что же тогда ждет людей? — недоверчиво спросил я, вспомнив статью, прочитанную недавно в газете. В ней писалось про одного американца, который занимался производством ДДТ, а когда через двадцать лет после войны было установлено, что ДДТ вреден для человеческого здоровья, он стал ежедневно принимать порцию ДДТ к завтраку, чтобы доказать его безвредность.
— Людей? — спокойно сказал Эда. — Люди привыкают ко всему. Вот, смотри, — он невозмутимо взял термос и свинтил колпачок. Потом перегнулся через борт лодки, набрал в колпачок зловонной воды из водохранилища и сделал глоток этой отвратительной грязной жидкости.
— Эда, — ахнул я, — ты что, хочешь отравиться?
— Вовсе нет, но сидеть в тюрьме до конца жизни мне тоже не хочется. А доказать свою правоту я могу только так.
— Ты знаешь, чем рискуешь? — серьезно сказал я. В самом деле, если допустить, что рыбы стали птицами… Я представил себе Эду, как он машет крыльями, парит в облаках и время от времени сидит на яйцах. Тут я невольно рассмеялся. Видно, Эда угадал ход моих мыслей, потому что сказал:
— Не бойся, в этом мире перед человеком открываются фантастические возможности.
— Что же все-таки будет дальше? Ведь все эти воздействия как-то скажутся на нем.
Эда задумчиво пожал плечами, и лицо его приняло мечтательное выражение.
— Вот почему я и делаю это. Возлагаю на себя бремя человечества, — заявил он патетически. Непонятно было, то ли он говорит всерьез, то ли шутит.
— Может, мы этих рыб где-нибудь найдем, или они сами объявятся — и все будет в порядке.
— Долго же тебе придется ждать. — Эда достал из футляра удочку, насадил на крючок наживку и забросил в воду. На обратном пути на веслах сидел я, а Эда пытался поймать хотя бы одну заблудшую рыбу. С дальнего берега взмыла черная туча птиц и со зловещим карканьем направилась все на тот же островок.
На удочку так ничего и не поймалось, и Эда вылез из лодки разочарованный. Ноги у него заплетались, словно он получил солнечный удар.
— Бесполезно, — говорит, — я ведь сам все здесь исследовал вдоль и поперек, и запомни, это вот, — он щелкнул по удочке, — единственная надежная штука, которая расскажет тебе, что делается под водой.
Он тщательно уложил удочку в футляр и, прищурившись, посмотрел на солнце.
— Что мы скажем шефу?
— А ничего не скажем. — Эда высморкался, снова зачерпнул колпачком воды, со смаком выпил и протяжно рыгнул.
— Слушай, — говорит он мне на работе примерно через неделю, — а в этой воде что-то есть. — Теперь он набирал ее в бутылки от содовой и ставил охлаждаться в холодильник. — Вот только если б она была не такая мутная.
— Не перегибай палку, — я поднял голову от бумаг. — Кстати, шефу уже доложили о твоих экспериментах; лично я никому не говорил, но, видно, кто-то подглядел. Он опять меня спрашивал, подыскал ли ты работу, а ты все никак не уймешься.
Эда с улыбкой поглядел на меня, потом его взъерошенная голова исчезла за горкой служебных бумаг, скопившихся на его столе, пока мы искали рыбу. Я уже было решил, что Эда погрузился в дела, но он вдруг говорит:
— Жара нестерпимая! Пойду выкупаюсь и тут же вернусь.
И он замахал руками, словно собирался полететь к водохранилищу. Плавал Эда отлично, но в последнее время мне казалось, что он вообще стал плавать как рыба.
С купанья он, как всегда, вернулся преображенный, пахнущий воздухом и водой. И всякий раз проходило какое-то время, прежде чем к нему возвращалась его разговорчивость.
— Иногда я думаю: вот если б я все-таки напал на этих рыб… — В его больших глазах стояла тоска. Словно он заранее прощался со мной, словно знал, что недолго ему быть здесь, на этом месте, где мы вместе тянули лямку уже не один год.
— Ты что-нибудь подыскал себе? — осторожно спросил я. — Оказывается, на нас пожаловались не только рыбаки, но и общество защиты животных. Лично я собирался перейти в какой-нибудь архив. Неплохое местечко, там можно перепутать только полки.
— А что директор? — устало говорит Эда.
— Шеф? Стоит на своем. Согласно договору у нас еще месяц времени.
— Выходит, его не трогает, что я пью эту отраву? — уныло сказал он.
Он нервничал, и я этому не удивлялся. Месяц — недолгий срок, а теория о птицах с каждым днем выглядела все менее правдоподобной. Всюду: и на работе, и в доме, в котором он жил, — Эда слышал только насмешки. Почти все свободное время он проводил у водохранилища, и директор уже высказывался в том смысле, что Эда, мол, спятил. А тот продолжал набирать в бутылки от содовой мутную воду и уже не представлял себе, что можно пить что-нибудь другое. Он исхудал, на осунувшемся лице видны были только большие зеленые глаза. И вообще выглядел теперь смешно, стал какой-то дерганый, ощетиненный, а когда на миг задумывался и я мог беспрепятственно разглядывать его, он напоминал мне ребенка. Возможно, так будет выглядеть человек будущего, думалось мне. Иногда я даже дразнил его этим.
Эда стал ходить на работу все реже, а потом и вовсе перестал. Никто ничего о нем не знал, у него не было ни семьи, ни детей, он жил один. Исчез, как в воду канул.
В последний раз его видели на берегу нашего водохранилища, там же нашли его плащ, и я подумал: а не утопился ли он? Видно, эта мысль пришла в голову не мне одному. Директор распорядился обшарить водохранилище, а заодно вычерпать со дна экскаватором весь шлак, накопившийся из отходов нашей фабрики. Но Эду так и не нашли.
Я уныло бродил по берегу, глядел на пыхтящие насосные установки, без конца пересчитывал птиц и думал про Эду, про его излюбленные укромные места, где он, бывало, уединялся, мечтая о своем человеке будущего. Я даже стал брать с собой удочку, унаследованную от него, после работы высиживал на берегу долгие часы и наблюдал за мертвой водой: вдруг она явит хоть какие-нибудь признаки жизни.
И вот однажды… да нет, это ветер расшевелил безжизненную пленку, тусклое вечернее зеркало, в котором отражались деревья и звезды. Но тут поплавок ушел под воду, конец удилища приподнялся, и я едва успел подхватить его. Сердце у меня заколотилось. Я было отпустил леску, но это оказалось излишним, рыба — во всяком случае, я предполагал, что это рыба, — не сопротивлялась.
Я вытащил ее и сунул в пакет от бутербродов. Пресноводных рыб я знал хотя бы по картинкам, но эта была мне незнакома. Дома я положил ее на стол и стал внимательно разглядывать при свете лампы.
Мне вспомнился Эда — верно, скитается сейчас где-то по белому свету; кто знает, не отправился ли он на рыбалку куда-нибудь к самому морю. Вот бы обрадовался, увидев эту рыбу. Может быть, он еще вернется, но к тому времени рыба испортится. Я снова взял ее в руки и стал разглядывать. Странная какая-то. А что, если в теории Эды что-то есть? Попрошу сделать из нес чучело — эта мысль звоном отдалась у меня в голове, и, может быть, мне внушил ее сам Эда.
Спустя несколько дней в моей конторе появился сияющий директор. Еще в дверях он закричал:
— Нашелся наш косяк! Выбрался из водохранилища по спускной трубе в реку, а там застрял на отмели. Вот вам и птицы! — Тут он дружески похлопал меня по плечу. — Жаль, что здесь нет этого вашего приятеля с его гениальной теорией.
При виде рыбьего чучела на моем столе он опешил:
— А это что такое?
— Рыба.
— С четырьмя плавниками? — удивился директор. — Где вы ее взяли?
— В водохранилище, там, куда Эда ходил купаться. Недавно поймалась на удочку, — спокойно говорю я, радуясь, что наши карпы все-таки нашлись.
— Вы что-то знали? — задумался директор и пытливо поглядел на меня.
— Скажем так: догадывался, — уклончиво сказал я.
— Вы думаете… — директор вытаращил глаза и зажал рукой рот, словно его замутило. — Ради бога, уберите отсюда эту рыбу, — воскликнул он и облизнул свои тонкие, вдруг пересохшие губы. — Но вы, — он примирительно поглядел на меня, — вы можете остаться. Только чтоб никаких новых теорий.
— Обещаю, вот разве что Эда объявится.
Я произнес его имя с ударением и переложил чучело рыбы на его пустующий стол.
— Но он не объявится, — уверенно сказал директор и осторожно переставил чучело ко мне.
Рыба глядела на нас. Глаза у нее были мудрые, почти человечьи.
Перевод с чешского Ю. Преснякова.
Иржи Медек ДОРОГА
С неба месяц,
с неба солнце красное светит,
с рыбы каплет вода,
а из сердца моего кровь сочится…
Идет по городу цыган и ведет коня. Собственно, это не конь, а кобыла. Ребра у кобылы, как зубья гребенки, наружу выступают, цыган морщит смуглое, помятое лицо. Жара, кобыла едва плетется, цыган тоже притомился. Правда, тень от широкополой шляпы защищает глаза, да только от нее тени под глазами еще чернее. Цыган не спал уже несколько ночей, за кобылу беспокоится. Она и впрямь еле жива, у нее перед выпученными глазами плывут в желтом мареве красные круги. К цыгану пристают дети, но он не гонится за ними, не стращает их. Лавирует себе между машин — машины гудят, а водители стучат пальцем по лбу. Жарко.
Вот и окраина городишка; чуть ли не у последнего дома цыгану встречается почтальон. В короткой выцветшей тельняшке, тяжелая сумка через плечо. От формы — только фуражка с козырьком. Переходя от дома к дому, вручает почтальон письма и газеты. Дворовых собак ему нечего бояться — они привыкли к нему. В каждую дверь звонит дважды, а если не открывают, подсовывает письмо под дверь или бросает в ящик. Почтальон машет цыгану, но тот его не замечает — идет себе по старой дороге, рукавом вытирает с лошадиных губ желтую пену.
Два звонка — один за другим — разорвали тишину пронзительным дребезжанием. Дед оторвал взгляд от тарелки и посмотрел туда, где по обыкновению сидит его старуха. Взгляды их встретились как раз над солонкой и расписной мельничкой для перца. Потом соскользнули на пустой стул с высокой спинкой.
— Сиди, — сказала бабка, хотя старик и не собирался вставать, — сиди уж, сама посмотрю.
Она отодвинула стул, и вскоре шарканье ее туфель доносилось уже из прихожей, потом из коридора, ведущего на лестницу, и наконец со ступенек. Лестница была далеко, ничего, собственно, и слышно-то не было, но деду казалось, что и оттуда доносятся ее шаги. Она разговаривала с кем-то там, внизу.
Взгляд старика остановился на тяжелом резном стуле, но мысли витали где-то далеко. Он отвел глаза от стула, лишь когда жена вернулась.
Она вернулась одна.
— Борка сегодня мышь поймала, — чуть слышно проговорил старик, — в комнату принесла. А котенок куда-то запропастился. Поди, убежал.
Старушка взялась за ложку.
— Почтарь, — обронила она. — Чего ждешь? Остынет суп — невкусный будет. Надо есть, пока горячий.
— Почтарь, говоришь? Никак его не научишь. — Старик подул на остывший суп. — Раз сто ему повторял, чтоб два раза не звонил.
— И еще скажешь.
— Толку-то… Уж коли сто раз…
— До иных не сразу доходит. Вот если бы ты объяснил ему…
— Да не поймет он.
— А ты попробуй. Пусть звонит один, три или, скажем, пятьдесят раз, коли уж нравится, но только не два раза. Это мне нож острый.
— Не стану я ему ничего объяснять.
— Тогда я сама.
— Нет, — он отложил ложку, — и тебе не надо.
Какое-то время он смотрел в окно.
— Слышь, мне порой кажется, он это нарочно делает. Нарочно два раза звонит.
— Может, у него привычка такая, — защищала почтальона старуха. — Я спрашивала у соседей. Им он тоже два звонка дает. Всем одинаково.
Старик пожал плечами:
— А зачем он все-таки звонил?
— Да так…
— Как это — так?
— Газеты принес.
— А письма нет?
— Нет.
Он снова уставился на пустующий стул, на чистую тарелку и нетронутый прибор, как будто приготовленный для того, кто непременно должен вернуться, кого ждут с минуты на минуту.
— Ты совсем ничего не ешь, — напустился он на жену. — Суп нужно есть, пока горячий, холодный уже не то.
Из-за стола встали не сразу.
— Что это ты говорил про кошку? — спросила старуха.
— Про кошку?
— Ну да.
— Про кошку я не говорил. Да и что про нее говорить?
Старуха стояла на своем:
— Когда я принесла газеты, ты что-то сказал про кошку.
— И верно, — он стукнул себя по лбу. — Борка мышь поймала, принесла в комнату. Чтобы, значит, котенок поиграл. А его нет.
— Как так нет?
— Да вот так. Я уж все обыскал. В погребе нет, на чердаке нет. Палкой под кроватями шарил. Зажигалку старую нашел, а котенка нигде нет.
— Гуляет небось…
Старик пожал плечами, было похоже, что он расстроился.
— Погуляет, а к вечеру вернется, — попыталась успокоить его старуха. — Кошки привязаны к дому.
— Может, оно и так… — пробурчал он, — кошки, они, может, и…
Оба снова замолчали.
— Прогуляться бы тебе, — предложила старуха. — А то все торчишь дома, на улицу носа не кажешь… Так и одряхлеть недолго.
— Очень уж жарко, — слабо возразил он.
— Если немножко и загоришь, так это только на пользу.
Старик от возмущения перешел чуть не на крик:
— Как это на пользу! Как это на пользу! Сама ведь знаешь, мне солнце во вред.
— А мне во вред, если мне смотрят под руку, когда я посуду мою, — заявила, повысив голос, старуха и, встав с места, принялась убирать со стола. Осторожно, как-то особенно нежно поставила в буфет чистую тарелку. Дед тоже поднялся, все еще ворча, однако ж сунул ноги в стоптанные башмаки, нахлобучил на голову допотопную шляпу.
— Лучше бы я газету почитал, — уже стоя в дверях, снова начал он, главным образом для того, чтобы последнее слово осталось за ним, но, когда услышал донесшийся с кухни грохот посуды, махнул рукой, в которой держал тросточку, и вышел на раскаленную улицу.
Обжигающий городской воздух пахнул ему в лицо, у старика закружилась голова, ему вдруг страшно захотелось пить. Для прогулки слишком жарко, да что поделаешь — самое лучшее вино все равно найдешь только за городом.
На площади он встретил Гошека.
— Как жизнь? — поинтересовался седовласый пенсионер. — На прогулку?
— Да, решил вот пройтись немножко.
— Давненько вас не видел, вот уже…
— Редко выхожу, — кивнул старик. — Мне вредно быть на солнце.
Он постучал себя в грудь, давая понять, что у него неважно с сердцем. В нагрудном кармане брякнула табакерка.
— Оно у вас что, из железа?
— Может, и из железа, только дырявого, — ответил старик. — Да еще изъеденного ржавчиной. Не качает как положено… да что поделаешь, любой механизм в конце концов выходит из строя. Остается только ждать своего часа.
Гошек ужаснулся.
— Это вы бросьте, всему свой черед… А как сын? — спросил он немного погодя с плохо скрытым любопытством. — Пишет?
Старик несколько смутился.
— Пишет, — не сразу ответил он.
— Часто?
— Каждую свободную минуту. Живется ему еще как! — Старик многозначительно потряс палкой в воздухе.
— Лишь бы ему там нравилось, — пробормотал Гошек. — Не каждому удается привыкнуть.
У стройки, где прокладывали новую дорогу, им пришлось перелезать через какие-то рвы, брошенные бревна, раскатившиеся порожние баки.
— Некоторые так и не могут привыкнуть, — развивал свою тему Гошек. — А иные как привыкнут, так и позабудут обо всем остальном. Ни друзей, ни родных не помнят.
Старик, насупившись, плотно сжав губы, молча перешагивал через строительный хлам.
— Никак убрать не могут, — проворчал он.
— Значит, пишет, — кивал Гошек. — А о чем?
— Кто?
— Да сын. Мы разве не про сына вашего говорим?
Старик брезгливо отшвырнул ногой пустую консервную банку и, помолчав, отрезал:
— А что, разве я неясно сказал? Живет хорошо.
— Я никак не хотел вас… это… — оправдывался Гошек, и старик покраснел — то ли от жары, то ли от напряжения, то ли стыдясь лжи, сорвавшейся с языка.
Строящаяся автострада извивалась теперь перед ними, как тело громадной, млеющей на солнце змеи. Она тускло блестела, деля местность на две неравные части. Вокруг не было ни души; какое-то время старики шли по дороге, одобрительно постукивая палками по прочному бетонному покрытию, и рассуждали о том, какие перемены внесло строительство в прежде спокойную жизнь городка. Дорога пришлась им по душе, но разговор по-прежнему не клеился.
До трактира они добрались часа через два.
Кто это идет к нам по июльской жаре?
Кто это идет по пыльной дороге, извилистой и каменистой?
Скоро уж рябина покраснеет, а по дороге в широкополой шляпе из мягкого фетра вышагивает чужеземец. Длинный как жердь, он слегка сутулится, наклоняясь вперед.
Пять костелов на сельской площади, пять часовенок в поле. Старый трактир с покосившейся крышей, стол и несколько стульев в тени шелковицы. Мужчины за картами. Жарко. Время, когда покойно даже пугливым святым в придорожных часовнях. Голубой сигаретный дым, засученные рукава, чужеземец.
Вопросы — ответы.
— Я там был, это точно, — отвечает седоватый сорокалетний мужчина в клетчатой рубашке, — и нет никаких причин не верить тем, кто вернулся из дальних стран. Цыгане и те не добираются туда, куда меня заносило. Аж за океан — и еще дальше.
— Куда ж это? — спросил дед, вертя в руках полупустой стакан.
— Аж в Аргентину.
— Да ну? — ахнул кто-то.
— Ихнее танго — что-то вроде нашего шлапака[21].
— Нашел с чем сравнивать — со шлапаком, — донеслось из угла.
Путешественник презрительно усмехнулся:
— Темнота! Молчал бы, коли ничего не смыслишь.
— Слышь, — сказал тот, кто давно уже отложил карты и внимательно прислушивался к нарастающему шуму ветра. — А правда, что в Америке строят во-о-т такие высокие дома?
— Очень высокие — почти до неба.
— А поезда, — допытывался кто-то, — говорят, поезда там под землей ездят.
— Точно, под землей.
— А у людей красная кожа.
— От солнца почти красная.
— А коровы? — робко спросил только что подошедший старик, — коровы там какие?
— Большие и пестрые. Как у нас.
— Та-а-к, — протянул старик. — Как у нас, значит.
Под шелковицей стало тихо, только ветер шелестел листьями. Когда солнце осветило стол, старику на мгновение показалось, что в его стакане утонула радуга.
— Боже мой, — произнес чужестранец, — вот, стало быть, я и дома.
Вслед за ним и мы смотрим по сторонам — на поле, на луга, на пять костелов и пять часовенок, на старый трактир. Смотрим друг на друга, а не видим, не можем увидеть столько, сколько тот, кто вернулся издалека.
— А какая она, Америка? — спросил кто-то.
— Америка… — Чужестранец покачал седой головой. — А мне вдруг показалось, что никакой Америки не было и нету.
Он прищурил глаза, так что они превратились в узкие щелочки, окруженные сетью морщинок, и внимательно огляделся вокруг. А мы не сводим взгляда с его обветренного лица и щелок грустно улыбавшихся глаз.
— Черт побери, — воскликнул Гошек и наклонился к старику. — Зачем он вернулся? Что-то я нынче ничего не понимаю.
Пять костелов, пять часовенок, трактир, луг да пыльная дорога, которая вьется и вьется без конца.
— Ну, мне, пожалуй… — начал было старик, но не договорил, как и не докурил зажженной сигареты. Смел ее под стол и растоптал. Очень вдруг заторопился.
— Я провожу вас, — предложил Гошек.
— Спасибо, не нужно, сам дойду.
К дому он подошел слегка осунувшийся. Рассеянно пошарил по карманам, но ни в одном ключей не было. Снял ли он их с вешалки в прихожей? Может, забыл в трактире? Старик не мог вспомнить, хоть убей.
Тогда он позвонил два раза, как это было принято у них в семье, и стал ждать. Послышались шаркающие шаги, со скрипом повернулся в замке ключ.
— Ну, как прогулялся? — спросила старуха.
Старик только махнул рукой.
— Жарко было, да?
В ее голосе слышалось участие.
— Да, жара.
— Тебе не плохо?
Она стояла перед ним, а когда поднялась на цыпочки и глаза ее приблизились к его глазам, ему вдруг показалось, что она очень помолодела.
— Послушай, — сказал он, — может, плюнем на все? Долго еще нам себя мучить? Мало, что ли, намучились мы за эти годы?
Старуха заволновалась.
— Что-то я тебя не понимаю, — тихо проговорила она, и морщины вокруг ее глаз снова стали заметны. — Не понимаю, о чем ты…
Он обнял ее за дряхлые плечи:
— Сейчас поймешь.
Не снимая башмаков, старик прошел в столовую к столу, схватил один из трех стульев — тот самый, с высокой резной спинкой — и вынес за дверь.
— Снесу-ка я его на чердак, — сказал он, проходя мимо.
Она остолбенела:
— А если он вернется?
— Тогда поставим обратно. Или нет, — он запнулся, — пусть он сам поставит.
— Я уж и не знаю… — в голосе ее звучала мольба, — привыкла уже. Как это можно, взять вдруг и все переменить.
— Можно, — отрезал он. — Через наш город столетиями шла дорога. Старая и узкая. Она уже срослась с ним, без нее я города себе не представлял. А теперь через холм проложили другую. Я ее видел. Широкая и красивая.
— И ради нее выкорчевали часть парка.
— А что делать? Где-то нужно было ее проложить. Если бы расширили старую, то снесли бы небось нашу лачугу. И не только нашу, — добавил он, помолчав.
Старик сел и взглядом указал жене на другое кресло — взволнованная, она все еще стояла в дверях.
— Видишь ли, без перемен никак нельзя, — быстро проговорил он, словно раз и навсегда хотел покончить с тем, что причиняло сильную боль. — Кто только и знай, что ждет, так и умрет в ожидании. Запомни это, пожалуйста, и постарайся меня понять. А теперь подай мне газету, я ее еще не читал.
Когда старик брал газету из рук жены, на колени ему упало письмо. Он схватил его трясущимися пальцами. Поднес к слабым глазам, и рука его бессильно повисла. Конверт в траурной рамке с иностранным штемпелем выпал у него из рук, соскользнул, как перышко, на порог, прямо в полосу солнечного света, и белел там, пока на него не наползла тень.
Котенок, вернувшись домой после своей первой прогулки, наступил на письмо, и на траурном конверте остался отпечаток его грязной лапки.
Склоны высокой насыпи, на плоском хребте которой пролегла автострада, еще не успели обрасти травой. Не было травы и на откосах, где шоссе, вгрызаясь в холмы, проложило себе прямой путь. Земля здесь от полуденного зноя выгорела. Между рыжими откосами тянулись две ленты автострады, тоже разделенные полоской рыжей земли. Лазурное небо было высоким, над автострадой дрожал и струился разогретый воздух. По правой стороне шел старый цыган, опаленный солнцем, взмокший от пота, в черной шляпе, надвинутой на глаза. Он вел под уздцы тощую клячу с вздувшимся животом, костлявым задом и выступающими ребрами.
— Она жеребая, — сказали ему в госхозе. — Нужно показать ветеринарному врачу.
— Зачем врачу? Я без всякого врача родился.
Собеседник пожал плечами:
— Лучше показать.
— Ага, — кивнул головой цыган, — а где он, позвольте узнать, врач этот?
С этим вопросом он обратился к группе людей, стоявших посреди двора.
— Эй, Дочкале, — позвал кто-то из собравшихся, — тебя тут какой-то цыган спрашивает.
Из узкой двери высунулся невероятно толстый человек в очках, белом халате и сапогах. Он едва протиснулся в дверь.
— Какой еще цыган? — недовольно проворчал он.
— Какой? Да вот этот, — они показали пальцем.
Оробевший цыган стоял рядом с лошадью; не найдя сразу что сказать, он сорвал с головы шляпу и стал мять ее в руках. Ветеринар бегло оглядел кобылу, заглянул ей под раздутое брюхо и ощупал плод. При этом он напевал себе под нос, а распрямившись, сказал:
— Кобыла в тяжелом положении. Что вы с ней сделали?
— Да разрази меня…
Цыган насмерть перепугался. Видишь, малышка, мысленно сказал он своей кляче, видишь, плохи твои дела, и откуда такая напасть? Говорят, неважно выглядишь. Вот и доктору от тебя беспокойство.
— Где живете?
Цыган назвал свой адрес.
— Я к вам приеду.
— Я и сам приду…
— Нет. Кобылу гонять нельзя, мы к вам приедем, а там видно будет.
— Но, мил человек, — отнекивался цыган, разводя руками, — не будете же вы из-за меня…
Он хотел сказать «так себя затруднять», но на него замахали руками. Цыган поблагодарил. Нахлобучил шляпу, которую все это время мял в руках, и вывел лошадь за ворота.
Во дворе кто-то хрипло рассмеялся.
В город он возвращался по новой дороге, которую сам помогал строить. Дорога уже готова, осталось только открыть. Светящейся краской на ней нарисовали полосы и прерывистые черточки.
— Видишь, — сказал он лошади, — хорошая у нас получилась дорога. На целых полчаса сократили себе путь. Может, по этой самой дороге к тебе завтра сам доктор приедет. И впрямь хорошая получилась дорога.
Цыган взглянул на солнце, сунул пятерню в пепельную гриву своей изнемогшей лошади. Над дорогой дрожал, переливаясь, воздух, вся округа словно приплясывала в знойном мареве, и солнечные иголочки вонзались в суженные зрачки. Темные глаза цыгана вспыхнули, он поднял руку, щелкнул пальцами и запел:
…Я не пил, я не ел, отчего ж я опьянел? Был же он, тот стакан, от которого я пьян…Перевод с чешского Е. Щербаковой.
Душан Митана ЗАПАХ ГРИБОВ
Облокотившись, он лежал на одеяле и глядел на жену: она только что встала в длинную очередь у киоска с газированной водой. «Ничего не изменилось, — подумал он, — и незачем было ехать сюда. Ничего не изменилось». Но отказаться от совместного отпуска здесь, на этом озере, он не мог — все еще надеялся помириться. «Не знаю, сумеем ли мы когда-нибудь уважать друг друга, — сказала она, — но давай попытаемся держаться вместе. Хотя бы ради девочки. Тебя она любит куда больше, и я вижу, как ты ей нужен». Он согласился. Не мог не согласиться: она недвусмысленно дала понять, что в случае развода постарается полностью изолировать от него дочку. Она хорошо знала, что для него страшнее этого нет ничего на свете. А он не понимал, чего ей от него, собственно, нужно. Разводиться она не хотела, но не хотела и жить с ним. В этом ее способе наказания ему виделось что-то извращенное.
— Ты мне противен, — говорила она. — При одной мысли, что меня будет касаться та же рука, которая касалась той, другой, меня начинает мутить.
— Тогда давай разведемся. Не можешь жить со мной — давай разведемся.
— Нет, этого ты не дождешься!
Он глубоко вдохнул в себя воздух и ощутил — или ему показалось? — запах грибов. Стоял июнь, теплый и душный. Вокруг озера росли дубовые и буковые леса, а он ведь был страстный грибник, правда, собирал только белые. Выход за грибами был для него целым обрядом. Он верил, что между настоящим грибником и грибами существует взаимная, очень живая и чистая, связь, что грибы чувствуют, кто их достоин; чтобы добиться успеха, нужно, чтобы они тебя признали. Пусть до него пройдет хоть целый табун грибников — он и после них найдет грибы. Они ждут его.
То были чудесные утренние часы, хлеба еще стояли на корню, он пересекал поле, брел по некошеному лугу, запутывался в алмазной паутине среди деревьев, по щиколотку утопал в сыром темно-зеленом мху, а грибы выглядывали, будто только его и ждали. «Они меня любят, — говорил он себе, — видно, не такой уж я плохой. Может, и обманщик, но человек незлой».
Тут он снова вернулся к сегодняшнему утру, и его вдруг охватило беспокойство. «Уж не озлобляюсь ли я? Она ведь способна сделать из меня человеконенавистника». Он содрогнулся, вспомнив о недолгом колебании, когда утром клал в корзину очередной гриб, и на миг засомневался: а белый ли это? Вдруг это какой-то ядовитый гриб, всего лишь похожий на белый? «А если и так?» — подумал он тогда.
Вера возвращалась. Босая, светловолосая, в светло-зеленом купальнике, полная, но крепкая, с темным загаром, окруженная осами, которые так и вились вокруг бумажных стаканчиков с лимонадом. Он ощутил такое сильное влечение к ней, что ему пришлось лечь на живот. От гнева над бессмысленностью ситуации, в которой оба они оказались, у него судорожно стиснулись челюсти; в эту минуту он ее ненавидел. Ненавидел за то, что из-за ничтожного, глупого, как ему казалось, эпизода она жестоко и сознательно разрушает его привязанность к ней; он по-прежнему любит ее, и ей это, без всякого сомнения, известно, хотя он и не признавался ей, потому что не мог подыскать верные слова, которые не звучали бы фальшиво, которые задели бы ее за живое.
Она подошла к нему и молча поставила на землю стаканчики с лимонадом. Потом уселась на свое одеяло и начала листать иллюстрированный журнал. Возбуждение его прошло. Он лег на спину и загляделся в высокое июньское небо. Ему вспомнилось море; это удивило его, потому что он никогда не был у моря. Но воспоминание было такое конкретное, такое емкое, что сбивало с толку: так живо оно ему представилось, словно он сызмальства жил на морском берегу. Он встал и выпил теплого, приторного лимонада.
Солнце спряталось, и девочка, только что вышедшая из воды, зябко поежилась, закуталась в прогретое одеяло и сказала ему:
— Мне холодно. Зажги солнце.
Он улыбнулся и посмотрел на солнце, скрытое небольшим медлительным облачком; ясно было, что через несколько секунд оно вынырнет.
— Ладно, — сказал он, — я сосчитаю до десяти, и оно загорится.
Он начал медленно считать, норовя закончить счет к выходу солнца.
— Десять, — сказал он. — Солнышко, зажгись.
Солнце выглянуло, а девочка кинулась обнимать и целовать отца, прыгать и кричать:
— Ты волшебник, ты мой большой волшебник, и я тебя ужасно люблю, ты мой великий, чудесный волшебник. — В ее ликовании было столько восхищения и любви, что ему стало неловко за свою хитрость.
Он с опаской посмотрел на жену: та равнодушно чистила ногти.
У него отлегло от души, но оказалось, что преждевременно.
— Янка, не будь такой глупой, — сказала жена, не отводя взгляда от ногтей. — Ведь он его не зажег. Это был обман, как всегда.
Она поднялась, словно догадываясь, что его подмывает ударить ее.
— Пойду в дом, я проголодалась. Попробую приготовить эти твои грибы. Уложи спать эту зареванную девчонку.
И она ушла, даже не оглянувшись на девочку, которая расплакалась еще жалостней. Ему хотелось вскочить и в кровь разбить ей губы; она знала это, потому что обернулась и с вызывающей улыбкой посмотрела ему прямо в глаза; знала и то, что при девочке он ее не ударит, а он знал, что она это знает, что играет с ним, — и отвернулся.
Дочка обняла его за пояс и прижалась мокрой щекой к горячему животу; ее слезы щекотали его.
— Зачем она так сказала, зачем же она так сказала, почему мама такая злая? — скулила девочка.
— Успокойся. Она шутила, это же ясно, — сказал он и, помолчав, добавил: — Мама не злая. У нее… она расстроена… немножко больна.
— Больна? А что у нее болит?
— Просто расстроена… Головка болит.
— Тогда пусть пойдет к доктору.
— Пойдет. Но только дома. Здесь хорошего доктора не найти.
— Неправда. Она уже дома была больная. И не ходила к доктору.
— А теперь пойдет. Вот увидишь. Увидишь, дома все будет в порядке. Как прежде.
— И вы опять будете разговаривать?
— Конечно. Ведь мы и теперь разговариваем. — Он засмеялся и дунул ей в ухо.
— Ой, щекотно. — Она перестала плакать.
— А теперь спать, — сказал он.
— Ну-у, папа.
— Без разговоров. Все дети спят после обеда.
— Я хочу пи́сать.
— Опять за прежнее?
— Нет, я правда хочу.
— Ну давай, только поживее.
Девочка забежала за кустик и вернулась, неся скомканную газету.
— Папа, пойдем пускать кораблики? Я бумагу нашла, вот!
Пришлось пообещать, что потом они пойдут пускать кораблики — как вчера, но не в ручей, который все время убегает, а на озеро, которое всегда стоит. Он перенес одеяло в холодок под молодые дубки и уложил дочку; она заснула почти мгновенно.
Неподалеку от своего одеяла он заметил коляску с младенцем, который неподвижно, беспомощно лежал на спине и глядел вверх широко распахнутыми глазами. Он улыбнулся: ну конечно же. Вот откуда у него воспоминание о море. Этот младенец тоже глядит на море — чистое, голубое море над своей головой; все мы сызмала глядим в его простор.
Он засмотрелся на спящую дочку. Она лежала на левом боку, подложив под щеку ладонь, на худой спине выступали лопатки, как память о крыльях; между ними блестели капельки пота. Солнечные лучи падали на ее лицо, только рот и подбородок были в тени. Он подвинул одеяло так, чтобы солнце не светило ей в глаза. По траве ползла божья коровка, но тень его руки ее вспугнула; она неуверенно взлетела. Прямо перед его носом раскачивался паучок, все ниже и ниже спускаясь на невидимой нити. Он наудачу рубанул ладонью и рассек волоконце, совсем не ощутив касания. Паучок упал девочке на лоб и побежал к ее волосам. Торопливо, с отвращением он сдул паука. Настроение испортилось: всю жизнь он пауков ненавидел. Снова на него нахлынула злость на Веру. Он понимал, что она тяжело переживает его измену, хотя это случилось всего один раз, но не мог понять, откуда в ней берется столько злобы, что ради мести она готова мучить их дочку, которую ведь любит не меньше его. «Этого я никогда не смогу ей простить», — подумал он с отвращением и достал из кармана «выдувалку». Он купил ее утром дочке, хотя понятия не имел, что это такое — просто понравилось название. Это был зеленый цилиндрический флакон, наполненный сапонатным раствором. К белой пластмассовой крышке приделано снизу проволочное колечко, погруженное в раствор. Нужно вытянуть колечко и дунуть в него, тогда из него вылетают мыльные пузыри — точно такие пузыри мы когда-то выдували из мыльной воды через соломинку. Девочка была в восторге от «выдувалки», но не больше трех минут. Великолепные радужные пузыри взлетали в воздух, переливались на солнце всеми цветами, но таяли прежде, чем удавалось их коснуться. И вскоре девочка с отвращением и упреком сказала:
— Ведь их нельзя поймать. Почему это нельзя поймать?
— На них надо только смотреть, — объяснил он ей.
— Ну и смотри, — отвечала она, и на «выдувалку» ей стало наплевать.
«В самом деле, эта игрушка не для детей. — Он улыбнулся и согнал с дочкиного носа муху. — Самый обыкновенный обман. Вроде моего зажигания солнца. Вроде нашего притворства, будто у нас все в порядке».
Он зашвырнул «выдувалку» в дубняк — к пустым жестянкам и зеленым осколкам пивных бутылок. Лес? Обман. Свалка. «Только что белые грибы еще настоящие», — подумал он с удовлетворением и улегся на одеяло рядом с дочкой, с наслаждением вдыхая запах, веявший от ее волос: они пахли водой, песком и грибами. Он осторожно поцеловал ее в лоб и закрыл глаза.
Его разбудила прохлада. Он спал в тени деревьев, зонтик был сложен, девочка куда-то убежала. Он натянул на себя джинсы и майку и, заслонившись ладонью от солнца, пытался разглядеть жену с дочкой среди множества людей на берегу озера — верно, барахтаются в теплой вечерней воде. Он закурил сигарету. Курил и наслаждался вечерним покоем, навевавшим сладостную, безмятежную лень. На миг он поддался обманчивым чарам вечера, и ему показалось, что, как бы там ни было, все идет к лучшему. Собственно, не так уж трудно найти общий язык с Верой — должна же она понять то, что казалось ему таким ясным: им надо быть вместе, всем троим, навсегда.
Его встревожили невнятные крики, долетевшие с озера. Глядя на людей, в смятении суетившихся на берегу, он понял: что-то случилось. «Девочка, — подумал он, — девочка». На бегу отшвырнул сигарету; мелкие, острые камни впивались в босые ноги, но он не чувствовал боли. Видно было, что люди перестали суетиться и сбились в плотную кучу на каменистом пляже. Ему казалось, что он бежит уже целую вечность, а расстояние между ним и дочкой никак не сокращается. Девочка, конечно же это девочка, он убежден в этом.
Наконец он добежал. Сердце колотилось в груди, из горла рвался свистящий хрип, онемевшие икры тряслись мелкой дрожью. Локтями он пробивал себе дорогу сквозь стену нагих тел, окружавших тело его дочери; в ответ раздавались словацкие, чешские и немецкие ругательства.
— Дочка, моя дочка, — бормотал он. — Kind, mein Kind[22].
Какой-то низкорослый толстый мужчина с розовым животом, вывалившимся из плавок, повернул к нему лицо, круглое, розовое, с дряблыми, обвисшими щеками. «Ну ты, чего вытаращился?» — Он яростно двинул ему локтем прямо в пупок; локоть затерялся в толстом, податливом слое жира. Лицо мужчины побагровело, он возмущенно и обиженно сказал:
— Das ist Frau. Frau[23].
На миг у него закружилась голова. Он почувствовал облегчение, несказанное облегчение и признательность.
Наконец он оказался внутри круга и увидел широкую, потную, темно-коричневую спину мужчины, который склонился над лежавшей женщиной и целовал ее в губы; до него не сразу дошло, что это искусственное дыхание «рот в рот». Грудь женщины была обнажена, и мужчина одновременно резко и упруго сжимал ладонями ее грудную клетку. «Массаж сердца», — подумал он спокойно, и последние остатки напряжения как рукой сняло. Глядя на уверенные, решительные действия мужчины, он понял, что это, несомненно, специалист. Очевидно, это поняли и окружающие, их возбуждение стихало, некоторые уже уходили. Только какая-то худая, костлявая женщина истерически выкрикивала:
— Зеркальце, поднесите ей ко рту зеркальце!
Наконец мужчина оторвал свои губы от губ женщины, все еще продолжая массаж.
Он увидел Верино лицо. «Вера», — подумал без всякого волнения, просто и равнодушно констатируя факт. Он видел бледное лицо, застывшие расширенные зрачки, длинные, светлые, мокрые волосы, раскинувшиеся по камням. Он смотрел на нее и думал про девочку; облегчение и радость, что с дочерью все в порядке, были сильнее страха за жену.
С Верой что-то происходило, это было заметно по ее зрачкам. Мужчина громко перевел дыхание, не прекращая массаж; кровь начала приливать к щекам Веры.
— Вера, — произнес он, подавляя рыдание.
Мужчина оглянулся.
— Это ваша жена? — спросил он по-чешски и добавил успокаивающим тоном: — Все будет хорошо. К счастью, она была недалеко от берега. Острый желудочный приступ с небольшим коллапсом, но теперь все в порядке. Видно, съела что-то.
— Спасибо. Спасибо вам.
— Не за что, — ответил мужчина и добавил еще что-то, но он его уже не слушал. «Увидишь, дома все будет хорошо. Как прежде». Он вспомнил эти слова, сказанные дочке, только чтобы успокоить ее. Он не верил, тогда он вообще не верил, что по возвращении домой они снова помирятся, но сейчас, глядя на Веру, был твердо убежден, что не обманывал дочь. «Это не был очередной обман, — говорил он себе, — теперь все д е й с т в и т е л ь н о будет хорошо». В нем росла уверенность, что теперь Вера простит его, потому что им наконец-то будут найдены нужные, убедительные слова. Он глядел на нее и вдруг осознал, как сильно любит ее, и понимал, что сумеет сказать это и она ему поверит.
Вера села. В ее отсутствующем взгляде отражалось упорное стремление вспомнить что-то смертельно важное. Она кого-то искала. Блуждала взглядом по лицам, на секунду остановилась на нем, но тут же отвела взгляд. Она искала кого-то и не могла найти; на ее лице появился ужас. Потом опять посмотрела на него и тихо сказала:
— Девочка, где девочка? Она купалась со мной.
И повернула голову в сторону озера, но воды не было видно — стоявшие кругом люди заслоняли ее.
Он беспомощно оглянулся. Ему захотелось курить, во что бы то ни стало закурить. Но поблизости никого с сигаретой не было. Он сглотнул слюну и вытер о плавки вспотевшие ладони. Стоял и молча глядел на озеро, на низкие гребешки волн, поднятых теплым вечерним ветром. Ветер нес запахи воды, песка и грибов. Ему казалось, что к небу, голубому, как воспоминание о море, поднимаются великолепные радужные пузыри — но они тают, как только ты пытаешься коснуться их взглядом. Солнце уходило за кроны деревьев, какие-то птицы летели к нему.
Перевод со словацкого Ю. Преснякова.
Йозеф Мокош МАЛЬЧИК С КЛЮЧОМ НА ШЕЕ
Мальчик с ключом на шее, в фирменных джинсах и модной рубахе-сафари, курчавый, щербатый, с бледным, почти прозрачным личиком, остановился перед дверью дома. Правую его руку оттягивал портфель. Свободной рукой мальчик застучал в дверь, потом позвонил и снова забарабанил, на этот раз уже кулаком. Потом положил портфель под дверь, встал на него и прильнул к глазку, вглядываясь в сумрак прихожей.
Наконец он слез с портфеля, отпер дверь и вошел в дом. В коридоре переобулся, снял рубаху и новые джинсы, надел старые штаны и привычным движением натянул через голову фуфайку с начесом. Все это он проделал, не снимая красной вязаной шапочки, когда-то подаренной ему бабушкой.
Пройдя в кухню, мальчик открыл духовку, вынул целлофановый пакет с тремя кусочками хлеба, а из холодильника — нарезанную ветчину и уселся было к столу, но тут же вскочил и исчез в ванной. Вернулся, вытирая мокрые руки о штанины, сел за стол и, дотянувшись до подоконника, взял журнал, подпер его банкой из-под чаламады[24] и только теперь, одной рукой листая страницы, неторопливо и сосредоточенно принялся за еду.
Когда он уже заворачивал остатки ветчины и хлеба в газету, собираясь выбросить в корзину, зазвонил телефон. Мальчик обернулся на звонок и неспешно, степенным шагом двинулся из кухни в прихожую, а оттуда к дверям спальни, где у отцовой постели трезвонил на тумбочке белый телефон. Он поднял трубку, и глаза его на мгновение повеселели.
— Да, я. Да. Нет. Да. Еще нет. Не знаю, Соня. Да. Да. Раз надо… Нет, не буду бояться. Да. До сви…
Положив трубку, мальчик отнес телефон в прихожую и поставил на положенное ему место, то есть на ящик для обуви, рядом с телефонной книгой, хотя и знал, что отец снова водворит его в спальню, потому что всякий раз, когда ночует дома, встает по телефонному звонку.
После этого мальчик с ключом на шее подошел к своему шкафчику с игрушками, открыл его, закрыл, вытянул из-под стола табуретку, подтащил к окну, разулся, влез на нее с ногами и устроился так, чтобы видеть улицу. Занавеску он не отодвигал, просто прижал к стеклу и загляделся на зажегшиеся уличные фонари. Потом, словно что-то вспомнив, слез с табуретки, включил магнитофон, сделал звук погромче и приготовился слушать.
«Мартинек, мальчик мой, не сердись, хоть эта суббота и не рабочая, но покататься с тобой на санках я никак не смогу. Дела вызывают в Прагу. Но…»
Дальше мальчик с ключом на шее слушать не стал, сообразив, что, раз сам он вернулся из школы, значит, сегодня не субботний день и все то, что говорит ему сейчас отец, он уже слышал. Рассеянно крутил он регулятор громкости, и на лице его играла усмешка, потому что голос отца то нашептывал, то восклицал, что он ему «…везет из …аги …ыжи, с …тинками, если бу… слу…».
«Слушаться, слушаться, буду слушаться», — повторял вслух мальчик и заливался чистым, журчащим детским смехом. Но вскоре снова посерьезнел, выключил магнитофон и только тут заметил, что в доме уже совсем стемнело. Он пошел было включить свет, как вдруг услышал в соседней комнате шорох.
Затаив дыхание, мальчик замер на месте. Потом перевел дух и мало-помалу стал поворачиваться к двери спальни, где только что так пугающе заскрипело. Но все, что ему на этот раз удалось услышать, долетало от соседей. Шумела за стенкой вода в ванне, играло радио, звучали позывные теленовостей, били часы. Вскоре громче всех этих звуков ему показалось тиканье часов в кухне — так громко тикают они по телевизору, когда убийца подкрадывается к своей жертве.
Не отрывая подозрительного взгляда от спальни, мальчик настороженно попятился в прихожую. Наткнувшись на табуретку, он замер, и в эту самую секунду из спальни донесся нагоняющий ужас скрип балконной двери. Кто-то осторожно затворил ее, и вслед за тем оттуда послышалось предостерегающее «тсс!».
Мальчик оцепенел. При слабом свете уличного фонаря его широко раскрытые глаза впились в ручку двери, медленно поворачивающейся вниз. И тут дверь приоткрылась, и мальчик увидел за нею двух здоровенных страшил. Он завопил и, опрокинув табуретку, с ревом кинулся в прихожую. Но у самого порога чьи-то руки, пропахшие рыбой и дымом, зажали ему рот.
— Не бойся, малявка! Да не ори ты, мы тебя не тронем, правду говорю, только никшни! — полушепотом уговаривал мальчика схвативший его человек. Потом мужской голос над ухом зазвучал громче и раздраженней:
— Говорю же, перестань, не бойся, правду говорю… тьфу ты, еще и кусается! Будь умницей, ты ведь уже большая девочка. Плохо же ты встречаешь гостей! Ну вот, так-то оно лучше, такая ты нам больше нравишься, правду я говорю, Дюшо? — И пожилой мужчина обернулся к другому, помоложе, стоявшему за его спиной.
— Истинную правду, шеф. Само собой. Этот мальчонка и вправду уже большая девочка, — откликнулся тот.
— Мальчик? Ты мальчик? — удивился пожилой и слегка расслабил пятерню, прикрывавшую мальчику не только рот, но и все лицо. Другой своей ладонью он взъерошил ему длинные, и впрямь девчоночьи кудри.
— Да, я Мартин, и немедленно отпустите меня, потому что папа у меня не кто-нибудь, а театральный редактор! Вот как вернется завтра да как пропечатает вас в газете, тогда узнаете!
— Смоемся, шеф, а? — сказал второй и потянул старшого за рукав.
— Успеется, погоди ты. Поди зашторь лучше окошко в комнате. Значит, ты уже не боишься, Мартин, а? Ты ведь без двух минут мужчина. Так-то вот, а теперь пойдем со мной, посидим чуток. — С этими словами пожилой повел мальчугана, а вернее, потащил в комнату. Усадив его там в кресло, он обернулся к напарнику, спускавшему последнюю штору, и приказал:
— Включи свет!
Тот повиновался, и только сейчас мальчик распознал в нем цыгана. Старшой меж тем, присев на корточки, заглядывал ему в глаза и выпытывал:
— А что, твой папуля и вправду?..
Мальчик с ключом на шее перебил:
— Мой папуля, к вашему сведению, никакой не папуля, а папа!
— Ладно, будь по-твоему. Так что, этот твой па-па и вправду уехал?
— Угу.
— И вправду приедет только завтра?
— Угу. Он у меня всегда приезжает только завтра.
— А мамочка? Где твоя мамочка? Ну чего молчишь? Оглох? Или она у тебя тоже не так прозывается?
— Не так.
— А как же?
— Соня.
— Ну и где она, эта твоя Соня?
— На совещании.
— Вы слышите, шеф? На совещании! Не иначе как важная цаца! Смоемся? — шепнул молодой старшому, но тот на него цыкнул:
— Говорю, погоди! Да не дрейфь ты, нынче все кто ни попадя совещаются. — И повернулся к Мартину: — А когда вернется?
— Ночью.
— Ночью? Это когда же получается, часа через три-четыре?
— Нет. Она придет, когда я усну. Соня всегда приходит, как только я засыпаю.
— Но ты еще не спишь, — засмеялся старшой; ноги у него занемели, и он, расслабившись, уселся прямо на ковер перед мальчиком. — Значит, тебе надо побыстрей укладываться, если хочешь, чтоб твоя мама, то бишь Соня, поскорей вернулась. Правду я говорю, Дюшо?
— Истинную правду, шеф, — почтительно закивал головой младший, хотя по лицу его было видно, что ему невдомек, что к чему.
— Но я еще не хочу спать! — строптиво заявил мальчик.
— Как это «не хочу»? Пора, поздно уже, правду я говорю, Дюшо?
— Истинную правду, шеф, поздно уже, пора смываться!
Старшой только хмуро зыркнул на молодого и, не удостоив ответом, снова заговорил с мальчиком:
— Время и впрямь позднее, пора тебе в постельку.
— Но мне неохота раздеваться.
— Об чем речь, давай я тебя раздену, ну-ка, начнем с рубахи. Где оно тут, туды твою, расстегивается? Дюшо, да не стой ты как пень, иди помоги мне! — нервно прикрикнул «шеф» на своего напарника и повернулся к мальчику: — Слушай, парень, где это у тебя расстегивается?
— А нигде. Через голову снимается.
— Ага, а раньше сказать у тебя что — язык бы отсох? Руки вверх!
— Шеф, не дурите! Неужто дите малое?!
— А ты, чем болтать, лучше шапку с него сыми.
— Только попробуйте! Шапку мне дала бабушка, я и сплю в ней!
— Ладно, ладно, тогда держи ее покрепче, — вздохнул «шеф» и принялся стаскивать с него фуфайку. — А ты разувай его, — приказал он напарнику.
— Ну вот, а теперь шагом марш в постель!
— Прямо так? Без пижамы?
— Дюшо, пижаму!
— Слушаюсь, шеф, — откликнулся тот и исчез за дверью спальни. Вернулся с чемоданом, в который было напихано украденное белье. Поставив чемодан на стол, ловко отомкнул его, порылся чуток и вытащил синюю пижаму.
— Это не моя, это папина, — сказал мальчик. — Моя розовая, под подушкой.
Старшой выразительно глянул на младшего, и тот вскорости снова вынырнул из спальни, уже с детской розовой пижамой:
— В чемодан? — спросил он «шефа», но тотчас поправился: — Понимаю, понимаю, счас надену. Ногу! — скомандовал он Мартину: — Нет, не эту, другую. Давай сюда заднюю, нет, кажись переднюю, тьфу — руку, сунь сюда руку… эту… нижнюю… Вот видишь, гаджо[25], только захоти, и все путем пойдет. Да не гогочи, сосунок, не брызгай слюной старшим прямо в морду… Уф, готово, шеф! — доложил он, поднимаясь с колен, и рявкнул на мальчика: — А теперь марш в постель, не то скажу отцу, чтоб он тебя…
Мальчик насупился и отчеканил:
— Па-пе! У меня, к вашему сведению, не отец, а папа.
— Да хоть и папа, я и папе не побоюсь сказать, а если ты у меня сейчас не засопишь в две дырки, я тебя так отделаю, что собственная твоя Соня тебя не узнает!
— Дядя шеф, пусть этот ваш на меня не кричит, а то я вообще не лягу.
— Зачем же кричать, никто на тебя кричать не будет, потому как ты хороший и послушный мальчик. Кричать на таких хороших и послушных мальчиков, которые вовремя идут баиньки, вовсе даже незачем, — сказал старшой Мартину и поглядел на своего напарника. — Ясно?
— Да, шеф, — разом отозвались мальчик и Дюшо, посмотрели друг на друга и прыснули.
— Порядок, а теперь спать, спокойной ночи! — Старшой поднял Мартина с кресла и понес в спальню. Возвращаясь, он услышал из-за притворяемой двери:
— Спокойной ночи, шеф.
Рассмеявшись, «шеф» погасил в спальне свет и тихонько прикрыл за собой дверь. Секунду-другую задумчиво постоял за нею как ангел-хранитель, потом вдруг, словно очнувшись, лихорадочно потер руки и, увлекая за собой напарника, кинулся к буфету.
Не успели они выдвинуть первый ящик, как на пороге возник мальчик. «Шеф» мигом задвинул ящик и загородил буфет спиной.
— Ой-ой-ой! — заголосил за ним напарник, которому придавило пальцы.
— Ну чего тебе, почему не спишь?! — вырвалось у «шефа» чуть нервозней и громче, чем ему хотелось бы.
— Я умыться забыл.
— Валяй мойся! А мы тут до прихода твоей мамочки малость порядок наведем. Только быстро. Хочешь, чтоб мамочка поскорей вернулась, поскорей засыпай, ясно? Сам же говорил, что эта твоя Соня приходит сразу, как засыпаешь. Давай мигом! Ноги в руки!
— Чего-чего? — вскинулся цыган, извлекший в этот момент из буфета какую-то шкатулку. — Смываемся?
— Да я не тебе, дай сюда, — прошипел старшой, выхватил у него шкатулку и устроился с нею в кресле. На глазах у оторопевшего цыгана из раскрытой коробки посыпались деревянные фигурки, а сама она превратилась в шахматную доску.
— А мы тут сыграем пока с товарищем партию-другую, скоротаем время до прихода твоей мамоч… твоей Сони.
Как только мальчик скрылся в ванной, старшой толкнул Дюшо в грудь, и тот, зашатавшись, плюхнулся в кресло напротив. «Шеф» показал на шахматы и спросил:
— Белые или черные?
— Белые. — Недолго думая, Дюшо распихал фигурки по карманам. Стукнув его по руке, «шеф» стал выгребать их у него обратно и расставлять на доске. Цыган растерянно следил за ним своими большими черными глазищами.
— Ну как, все? — окликнул старшой мальчика, обшаривая у партнера карманы.
— Не-а, еще фубы, — отозвался тот из ванной со щеткой во рту.
— Пошевеливайся! Да не забудь помыть… — тут старшой осекся, нащупав в кармане партнера купюру, и тотчас извлек ее ловким движением руки вместе с белым конем, — …да не забудь вымыть шею!
— Готово, — донеслось из ванной.
— Молодцом, — одобрил «шеф», перекладывая десятикроновую бумажку в свой карман. — Только… тьфу, как тебя зовут-то… вылетело из головы…
— Что вы говорите? — отозвался мальчик, вытирая полотенцем уши.
— Как зовут тебя? — повторил мужчина и кивком головы попросил подсказки у напарника.
— Дюшо, — ответил тот, недоуменно пожав плечами.
— Не с тобой говорю, — цыкнул на него старшой.
— Это почему же? Что я такого сделал? — завздыхал Дюшо, но «шеф», не слушая его, кричал мальчику:
— Забыл, говорю, как тебя кличут… ага… Мартин!
— Иду-иду, — отозвался мальчик, завернул кран и погасил за собой свет. Держа руки на весу, он толкнул локтем дверь в комнату, где сидели оба пришельца, и гордо прошествовал к ним. Подойдя, сунул им под нос чистые, благоухающие розовые ладошки.
— Вот!
Оба взглянули на его руки и непроизвольно спрятали за спину свои собственные.
— Чего это ты так напыжился? Никогда, что ли, рук не мыл?
— Мыл, — ответил мальчик. — Только зря, все равно некому было показывать.
— А, тогда другое дело, давай показывай. Фу-ты ну-ты, настоящее амбре!
— И зубы почистил, и лицо умыл. Холодной водой!
— Брось, неужто холодной?
— Ну почти что. Честное слово!
— Да мы тебе, парень, верим. По тебе видать. Зато теперь крепко спать будешь. Ну мотай. Спокойной ночи.
Как только мальчик исчез в спальне, мужчины обменялись взглядами и разом встали. Старшой двинулся на цыпочках к дверям, за которыми скрылся мальчик, и с минуту прислушивался. Тем временем напарник уже открыл дверцу буфета и вытащил фотоаппарат в кожаном футляре.
— Шеф, вот это вещь! За такую штуковину могут дать не меньше… не меньше… — И тут большие черные глазищи Дюшо чуть не выскочили из орбит: за спиной «шефа» стоял Мартин в своей красной вязаной шапочке и розовой пижаме. — Года два, не меньше, — испуганно выдохнул цыган.
«Шеф» обернулся и молниеносно принял позу человека, надумавшего сфотографироваться: руки на груди сложил, правую ногу выставил вперед, лицо растянул в широкую улыбку и, так вот застыв, зашипел напарнику сквозь зубы:
— Ну, чего ждешь! Снимай! Тебе говорю, щелкни меня! Да очнись ты, фотограф!
До цыгана наконец дошло, и он поднес фотоаппарат к глазам.
— Футляр! Футляр открой! — процедил старшой, растягивая рот до ушей.
— Дайте я вас научу! — вызвался мальчик. Он расстегнул футляр, достал из секретера вспышку и вручил ее Дюшо. — Пожалуйста, подержите. Вот так, нет, чуть выше.
Сунув шнур в розетку, он сосчитал шаги до того места, где застыл «шеф», переставил его чуть в сторонку, отошел на середину комнаты и нажал спуск.
— Ну вот, а теперь вас! — И мальчик нацелил объектив на Дюшо.
Цыган, зябко съежившись, с застывшим в глазах ужасом оглянулся на «шефа». Но, увидев, что тот кивает ему из-за Мартиновой спины и даже подмигивает, малость приободрился. Вытащил из-под стола табуретку, пристроился на фоне стены и подставил объективу свой профиль. Дождавшись вспышки, привычным движением пересел к фотоаппарату другой стороной. Щелкнув раз и другой, Мартин вручил фотоаппарат старшому.
— Дядя шеф, а теперь снимите нас вместе с Дюшо. Вот сюда смотрят, а здесь нажимают. Но сначала надо перевести кадр. Ну-ка… Эх, жалко, пленка кончилась. — Мальчик вынул катушку и, зажав в кулачок, спрятал ее многозначительным жестом в карман пижамы.
— Завтра еще приходите. Может, уже и фотографии будут готовы. Папа мне их завтра проявит.
Оба вора глянули друг на друга и, не сговариваясь, вцепились в его карман.
— Дай сюда пленку! Слышишь? Зачем папа, мы ее сами проявим, кто знает, найдется ли у твоего папы завтра время. А у нас его навалом, вдобавок у меня и новый увеличитель есть. Я правду говорю, Дюшо?
— Истинную правду, шеф, новый увеличитель, само собой.
— Так что завтра я тебе принесу все снимки, да еще во-о-т такой величины! — И старшой развел руками, точно хотел обхватить всю комнату. Но Мартин, извернувшись, выскользнул из Дюшовых лапищ и с зажатой в кулачке катушкой метнулся в противоположный конец комнаты.
— А вот и не отдам, а вот и не отдам! — кричал он, вспрыгивая на диван.
— Дашь! Не то я тебе так дам, что вылетишь у меня через закрытое окно!
— А вылечу-то вместе с пленкой! — И Мартин потряс перед огорошенными ворами крепко сжатым кулачком.
— Он прав, надо к нему иначе подступиться, — прошептал «шеф», а вслух сказал:
— Детка, не озорничай. Ты ведь хороший мальчик, послушайся старших, отдай пленку.
— А вот и не отдам, а вот и не отдам!
— Да почему ж это?!
— А потому, что вы тогда завтра не придете. Никогда больше не придете…
— Я же обещал — принесу тебе эти фотографии, по пять штук нашлепаю.
— Обещал, обещал… Папа вот тоже обещал поиграть со мной вечером, а что толку — всегда ему надо ненадолго съездить в Прагу.
— Уж мне-то поверь, я и вправду хочу…
— Хочу, хочу… Вы, взрослые, все такие! Делаете не то, что хочется, а то, что надо. Не отдам вам эту пленку, тогда придете как миленькие.
— Но…
— Все, я сказал — все! Хватит дискуссии разводить. Спать пора! — папиным тоном отрезал Мартин, соскочил с дивана и, пряча руки за спину, прошествовал мимо старшого. Стоило тому шевельнуться, как мальчик взвизгнул: — Только троньте! Кричать буду! Мама-а-а!
— Не вопи ты! У меня и в мыслях не было тебя обижать, с чего бы, мы ж с тобой друзья. Иди спать. А пленку эту сунь себе под подушку, чтоб у тебя, не ровен час, ее не стянули, жадина-говядина.
— Спокойной ночи.
— Спокойной, спокойной, — процедил «шеф».
Мальчик взялся было за дверь, но на пороге круто развернулся:
— А у вас, Дюшо, что — языка нет? Покажите-ка. Да не бойтесь, высуньте как следует.
Младший вор потерянно высунул язык, со скорбной укоризной кося глазом на «шефа».
— А то я подумал, у вас языка нет, раз вы по-человечески и попрощаться не хотите.
— Ответь хозяину, — приказал старшой.
— Слушаюсь, шеф. Желаю приятно почивать.
Когда за мальчиком закрылась дверь, Дюшо вопросительно посмотрел на своего наставника.
— Ну что зенки выкатил? Видишь же — ничего тут не поделаешь. Правду я говорю?
— Истинную правду, шеф, само собой, только что же нам делать, если ничего тут не поделаешь?
— Ждать.
— Ждать? Докедова? Покуда не загребут? Не нравится мне это.
— Ждать, пока не уснет, понял? Тогда мы эту пленку тихо-мирно — и того… Усек?
— Ага, раз так — обождем. Шеф, а можно тем временем тут чуток?..
— Что значит можно? Надо, Дюшо, надо. Потому как мы, взрослые, все такие — делаем не то, что хочется, а то, что надо. Ясно?
— Как всегда, шеф!
Работа закипела. На этот раз они начали с другого угла комнаты. Открыли шкафчик Мартина, где были сложены дорогие электрифицированные игрушки, десятки всевозможных машин с дистанционным управлением, электровоз, автодорога, купленная на сертификаты…
— Что это, шеф?
— Слепой? Машины, что ж еще.
— А рельсы — на что они?
— Почем я знаю? Забавляться…
— В электричество?
— В электричество и вообще играть, ясно?
— Да, шеф, само собой. Неужто это все для детей?
— Это все для детей, — ответил цыгану Мартин. — Но взрослым тоже можно играть.
— А как? — спросил Дюшо и поднял глаза на «шефа».
Тот стоял закусив губу, нога его нервно отбивала дробь, глаза сумрачно буравили… Мартина, а тот, пристроившись у Дюшо за спиной, уже с азартом втолковывал, что тут к чему подключается и как это все складывается.
— Кой черт тебя опять принес? Почему не спишь?
— Да сплю я, вот только в туалет забыл сходить.
— Чтоб духу твоего здесь не было! Не то как возьму ремень…
— А откуда возьмете? — пятясь к прихожей, спросил Мартин. — У вас вон подтяжки, у Дюшо комбинезон, а папа и вовсе в одних плавках дома ходит.
— Ну, погоди у меня… — давясь смехом, процедил старшой.
— Не могу погодить. Терпенья нет.
— Не можешь? Тогда брысь отсюда! — И старшой затопал ногами, не двигаясь с места.
— А я вас не боюсь, а я вас не боюсь!
— Не боишься? А это мы сейчас увидим.
Дождавшись, когда «шеф» приблизится к нему на расстояние вытянутой руки, мальчик отпрянул от него, но побежал не в прихожую, а вокруг стола и смеялся при этом так, точно по каменным ступенькам скатывались медные колокольчики. Так они обогнули стол раз, и другой, и третий, и «шеф» уже изготовился схватить Мартина, но тут мальчик метнулся в коридор, вскочил в туалет и захлопнул за собой дверь.
Вернувшись в гостиную, «шеф» застал напарника у окна над собранной автодорогой, — тот как раз пытался включить ее в электросеть. Подсев к нему, он немного понаблюдал, потом вынул из коробки инструкцию и стал перелистывать, сверяя, все ли соединено как надо. Затем поставил машинку на дорогу и нажал пуск. Но вместо жужжания раздался громкий крик из туалета:
— Дядя шеф, полный порядок!
— Давай выходи! — отозвался старшой, не отрывая глаз от игрушки.
— Подотрите меня!
— Да-да, сейчас, — буркнул «шеф», перевернул машинку вверх колесами и поднес ее к глазам, и только потом вдруг взвизгнул: — Что-о-о? А сам не умеешь? В который класс ходишь?
— В первый!
— Стыд и срам, школьник уже, а не умеет себе зад подтереть. Дюшо!
— Шеф, не надо Дюшо, лучше вы!
— Я занят, — отрезал старшой, устраиваясь на коленках у своей машины, которая вдруг рванулась с места, но, увы, тотчас же остановилась и заглохла.
— Нет так нет, тогда я сам, я и сам могу, чтоб вы знали! — кричал Мартин из туалета, а «шеф», вдруг что-то вспомнив, вскинул голову и зашептал:
— Пленка! Дюшо, мигом за пленкой! Она у него где-то в постели.
— Ага, шеф, бегу.
И Дюшо, развалясь на полу, поерзал на месте, словно готовясь вскочить, и снова затих над автодорогой, подперев подбородок рукой: красная машинка наконец поехала. «Шеф» смерил цыгана завистливым взглядом и, не дождавшись от своей белой никаких признаков жизни, с ворчанием поднялся.
— Тебя только за смертью посылать.
— Истинная правда, само собой, шеф! — пробормотал сияющий Дюшо. Он вертел головой, следя за своей машинкой, и рычал вместе с нею, подталкивая на разворотах.
В туалете зашумела вода. Из спальни вернулся «шеф», в волосах его застряли перья.
— Нигде ничего. Куда он мог ее засунуть?
— Сюда, — отозвался Мартин, возникая на пороге гостиной. — Сюда, — повторил он и впервые за все время стащил с головы вязаную шапочку. Он извлек из нее пленку, а шапку снова натянул.
— Да подавись ты ею, плевали мы на нее. Правду я говорю, Дюшо?
Но тот не слышал его и не видел, завороженный Мартиновой игрушкой.
— И я хочу играть! — загорелся Мартин. — Дюшо, давайте-ка устроим кросс!
— Не хочу никаких кроссов, я с тобой не вожусь, у тебя не руки, а крюки. Надо же, аккурат мою машинку сломал! Мотай-ка ты спать, ночь на дворе, а ты еще дитё малое, тебе сейчас не играть надо, а дрыхнуть без задних ног.
— Тогда и вы со мной ложитесь!
— Еще чего! Мы уже большие, нам еще и поиграть можно.
— О-хо-хо, — вздохнул сквозь зевок Мартин. — Ладно уж, спокойной ночи.
— Спокойной ночи, Мартинек! — закричал ему вслед Дюшо.
— Спокойной ночи, — буркнул «шеф» в нутро белой машинки; он как раз сосредоточенно изучал ее, поднеся к глазам.
В квартире воцарилось жужжащее безмолвие, изредка нарушаемое лишь воркотней цыгана. Старшой, отложив свою игрушку в сторону, завистливо водил взглядом за красной машинкой своего напарника, которая теперь все реже сваливалась на поворотах. Понаблюдав минуту-другую, он втянул в себя воздух, намереваясь что-то сказать, но только сглотнул слюну. Потом, набравшись духу, пробормотал:
— Дюшо, дай теперь мне, ненадолго.
Но цыган и ухом не повел — может, и вправду не слышал, а может, прикинулся.
— Дюшо! — «Шеф» пихнул разлегшегося сообщника ногой. — Дюшо, ты что, оглох?
Тут как раз машинка цыгана остановилась, и он нехотя поднял голову.
— Сдается мне, малец сам ни в жисть не заснет, надо бы его как-то усыпить.
— Истинная правда, шеф. Тюкнуть его? — неуверенно спросил Дюшо.
— Сказанул тоже! Детей, дурья твоя башка, чем усыпляют? Ну, соображай! Ска-зкой! Сказкой! И ты к нему сей момент пойдешь и эту самую сказку расскажешь! Вот так-то, а это сюда давай! — И старшой выгреб из ладоней цыгана красную машинку. — Я тут покамест пошурую, а ты топай. Шевелись, чего застрял? Заговори ему зубы какой-нибудь байкой, а когда заснет — вытащи из-под него эту поганую пленку. Усек?
— Усек, само собой, шеф.
Дюшо юркнул в спальню, закрыл за собой дверь и благовоспитанно расшаркался перед Мартином, который сидел на постели и листал «Рогач»[26]. — Добрый тебе вечер! Можно, я тут чуток посижу?
— Вот здорово! — Мартин потеснился, освобождая возле себя место. — А давайте рядышком ляжем, со мной давно уже никто не лежал. В последний раз Соня, но я этого почти не помню, совсем маленький был.
Дюшо подсел на край кровати.
— Я тебе должон сказку рассказать. Про медведя, который бритья не снес. Но учти: чуть я тебе ее доскажу, чтоб ты у меня сразу же захрапел, потому как никакой другой я не знаю. Ну и вот. Сказка про медведя, который не снес бритья. Жил-был один молодой да ладный, однако бедный Ром цыганского роду. А у того гражданина Рома был сын цыган. И жил в их селе еще один такой отец, но у того не было сына цыгана, зато была дочка, но вовсе даже не цыганка, потому как отец у ней был гаджо. Королевский гаджо.
— А что такое «гаджо»?
— Вот ты, скажем, гаджо, потому что ты не Ром.
— А что такое «Ром»?
— Ром — это цыган, но коли ты скажешь цыгану, что он Ром, так он не разгневается, а попробуй скажи Рому, что он цыган, так тот тебя, может статься, и отлупцует, если ты, само собой, слабей его. Да ты меня вконец запутал. Придется по новой начинать. Сказка про то, как медведь бритья не снес. Жил-был один ладный, зато бедный Ром цыганского роду, и был у него сын Ром. И жил еще в их селе тоже такой вот отец, но у того не было сына цыгана, а была дочка, потому как был он гаджо. И не простой гаджо, а король. Стало быть, дочка его была принцессой. Красивая дочка, скажу я тебе, была, баба прямо загляденье, да чего там говорить, одним словом — фу-ты ну-ты. Разные там принцы проходу ей не давали, только захоти. А она не хотела, и все тут. Что было королю делать? Вот и объявил он, в письменном, значит, виде: кто, мол, пробудет всю ночь в одной хате с медведем, тому она и достанется. Заместо своей старухи принцессу отхватит. Ходили принцы, короли, паны всякие, артисты даже, да никто с медведем в одной халупе не высидел. По утрам собирали от кого куски, от кого клочки. Прознал о том Ромов сын, да и говорит: «Слушай, отец, пойду-ка и я счастья попытаю, авось пересижу в той хате. Все одно в конце сказки положено мне на принцессе жениться». Как в воду глядел. Ну так вот, отвечает ему на это отец: «Бедняцкий ты у меня сын, не высидишь ты, Ром, в той хате до утра». Но Ром все ж таки пошел. Пустил его король в ту хату. В ту, где, стало быть, косолапый сидел. «Пошли тебе господь добрый вечер, медведь!» — «И тебе того же, цыган. Сейчас я тебя съем, потому как очень уж ты ладный, да гладкий, да выбритый». — «Съесть-то съешь, ан все таким же косматым и останешься, — не спущает ему наш разлюбезный Ром. — А не съешь меня, станешь таким же гладким, как я». — «Это как же?» — «Да вот так. Я тебя побрею». — «Бритый — это хорошо, коли сумеешь побрить, так брей». — «И побрею, только для этого надобно тебя связать». Тут медведь дал связать себе обе лапы, и еще две лапы, и пятую морду. Ром, само собой, боится, но виду не подает. А после схватил дубинку — и «вот тебе», «вот тебе»! Тут медведь взревел — не брей меня больше, очень уж больно, лучше я косматым останусь! Отложил тогда Ром дубинку и в постель завалился. Чуть свет окликает его король: «Жив, цыган? Ну что ж, делать нечего, бери мою дочку в жены. Получай по заслугам». А сам, только что Ром ушел, и говорит медведю: «Я тебя отпущу, только чтоб ты мне этого цыгана сожрал, как будет он из церкви возвращаться. Ром-цыган королю не родня».
Но Ром парень не промах, верно? Вот возвращаются они из церкви, увидал Ром косолапого и говорит принцессе, то бишь королеве: «Скидавай с себя одежки».
— Все-все? Догола значит…
— И вот она в энтаком виде — ты ж меня понимаешь, в каком, — усаживается рядом с Ромом, королем-цыганом, в карету. А медведь уж наизготовке. А принцесса вся из себя белая, медведь выкатил буркалы да как заревет: «Ой-ой-ой! Вот так побрил ее, бедолажку! Живого места на ей нет, медвежьей шерсти всего-то один клок оставил!» И наутек пустился.
И жил себе Ром-принц с принцессой своей лучше некуда, а для затравки заглянул с ней в корчму, ты ж меня понимаешь, зачем. На королевские денежки употчевал Ром-принц все королевство, всех Ромов. И я в той корчме веселился, плясал, аж сюда провалился… Спишь?
— Угу.
— Молодец! А теперь, ежели спишь, надо мне забрать у тебя эту пленку. Где она у тебя? В шапке?
— Не-а.
— В руке?
— Угу.
— В этой?
— Не-а.
— А, чтоб тебя!.. Тогда где? В другой, что ли?
— Угу. — И Мартин сунул Дюшо под нос кулачок с побагровевшим большим пальцем, торчащим из-под указательного.
— Бабкин фиг тебе дам, а не пленку!
— Это мы еще посмотрим, в жизни такого-энтакого не видали.
— Смотри сколько влезет! — И Мартин стал вертеть у него перед глазами кукиш.
Не успел Дюшо поймать его за руку, как дверь отворилась. Влетел старшой.
— Брось ты его, Дюшо, сматываемся.
— Опять? — вздохнул Дюшо и потрусил следом за «шефом» на балкон.
— Стойте, куда вы?!
— На автобус, мальчик, на автобус, — бросил старшой и выглянул вниз с балкона.
— Почему так вдруг?
— Потому что возвращается твоя мамочка, а мы тут небольшой беспорядок устроили, так нам лучше смыться, чтоб она не заругалась.
— Но мне без вас грустно будет!
— Что?
— Я говорю, мне без тебя, Дюшо, будет грустно.
— Не шутишь?
— Чтоб мне с места не сойти! — Послюнявив два пальца, мальчик поднял их как для присяги и так яростно затряс головой, что шапка сползла ему на глаза.
— А хочешь, мы еще придем? — отозвался с балкона старшой.
— Само собой!
— Тогда придем. Вот тебе моя рука! — сказал «шеф» и протянул пятерню.
Мартин сдвинул с мокрых глаз шапку и чуть было не обменялся со старшим дядей рукопожатием, но вовремя спохватился и, сунув обе руки за спину, быстро переложил пленку из правой руки в левую.
— Договорились, шеф.
— Шеф, лестницу сперли! Ну и люди пошли! Что делать будем?
— Прыгать!
— Эх, где наша не пропадала! — сказал Дюшо и провалился в темноту.
За ним и «шеф» перелез через перила. Раздался глухой стук и вопль:
— Ой! Бесперечь в меня надо было угодить!
— Чао! — закричал им вслед Мартин, переступая с одной босой ноги на другую и вслушиваясь в затихающие голоса своих гостей. Покивал на прощание в темноту и вернулся в комнату. Затворив балконную дверь, улегся, натянул до подбородка одеяло и закрыл глаза.
Когда на край его постели подсела мама и включила ночник, на лице мальчика сияла счастливая улыбка. Мама поправила одеяло, стянула с головы сына шапку, погладила по светлым девчоночьим кудрям. Поцеловав Мартина в лоб, она погасила свет и на цыпочках выскользнула за дверь.
Перевод со словацкого Л. Ермиловой.
Яна Моравцова ЛУЧШИЙ ИЗ ВАРИАНТОВ
Нас уже давно не удивляла его манера врываться без стука в мастерскую, носиться по комнате в поисках свободного стула и в изнеможении падать на него с воплем:
— Нет, послушайте, это такая красавица!
Олдржишек обычно реагировал с полной невозмутимостью.
— Надеюсь, она дала тебе отставку, а, Моймир?
А тот, пропуская слова Олдржишка мимо ушей, заламывал руки и принимался живописать прелести своего очередного открытия.
Подобные сцены повторялись не реже раза в месяц. В таких случаях мы старались убрать подальше все бьющееся и мнущееся, потому как наш дорогой влюбленный проявлял явные признаки безумия. Он беспрестанно вскакивал с места, потом снова обессиленно валился на стул, рвал на себе волосы, восхищался новой находкой и грозился наложить на себя руки в случае неудачи.
Но на этот раз Моймир нас просто напугал.
Началось, как обычно, с того, что он влетел в мастерскую, пронесся по комнате, но вдруг резко затормозил, беспомощно огляделся по сторонам и угасшим голосом произнес:
— Это что-то особенное…
И остался стоять столбом посреди комнаты.
Его светло-серое, сшитое по последней моде пальто было застегнуто всего на одну, да и то самую нижнюю пуговицу. Прежде за ним такой небрежности не замечалось. У него была прямо-таки аллергия на незастегнутые пуговицы, и мы постоянно нарывались на нотации, поскольку не соответствовали его представлениям об аккуратности. Как-то раз Олдржишек даже ухитрился перепутать очередность петель и пуговиц и одну пуговицу на пиджаке вообще не застегнул. И вот в таком вздернутом на животе пиджаке он осмелился галантно приветствовать в нашей мастерской Моймира и его очередную находку — очаровательную стройную брюнетку, — даже не замечая игру цветов на чопорной физиономии шокированного приятеля.
Надо сказать, Моймиру доставляло очевидное удовольствие демонстрировать нас своим подружкам. Мы являли собой антипод его аккуратности, были этакими лохматыми символами беспорядка по сравнению с гладкой отутюженностью его мира модельеров. Что-то вроде невинного грешка, в котором сознаются краснея, но с некоторым самодовольством.
Впрочем, это не давало нам права на вольность в обращении с пуговицами.
Вот почему состояние пуговиц на пальто самого Моймира означало сигнал чуть ли не стихийного бедствия.
— Надеюсь, на этот раз тебе не дали отставку, а, Моймир? — после некоторого замешательства вымолвил Олдржишек и услужливо пододвинул приятелю стул.
— Она такая… такая…
— Одним словом, то, что надо? — нерешительно подсказал Олдржишек, но тут Моймир неожиданно для нас закончил:
— …такая вся из себя золотистая!
Наверное, после этих его слов вид у нас был несколько глуповатый, правда, и сам он выглядел не умнее.
Так же неожиданно он встал и ушел.
На следующий день Моймир появился снова.
Был тихим и вообще выглядел нездоровым — за все время не сказал и трех слов.
А потом он снова исчез, на этот раз на целую неделю. Мы с Олдржишком уже стали серьезно подумывать, не пора ли начать розыски, как вдруг он объявился на пороге мастерской. Небритый и всклокоченный.
И вот тогда наконец мы услышали его историю.
Он встретил ее случайно. Пошел на вокзал провожать знакомого и увидел ее. Она сидела на скамейке и сразу привлекла его внимание. На обратном пути он увидел ее снова и тут же вошел в привычную для него роль профессионального сердцееда.
Для начала была исполнена одна из увертюр, имевшихся у него в запасе на случай встречи с прекрасным полом, впрочем, как он уверял впоследствии, уже через минуту он позабыл все, что сказал ей. Позабыл, как только она на него посмотрела. Это был приговор.
— Она какая-то особенная! Вся из себя золотистая, — неустанно твердил Моймир. — Это надо видеть. У нее золотистые волосы, такие же глаза и кожа… пальто тоже золотистое, короче говоря, на меня как будто глядела прекрасная статуя. Золотистого цвета…
Похоже, у незнакомки не было ни малейшего желания беседовать с Моймиром, но, с другой стороны, сердиться на него тоже вроде не находилось причин. То есть нашему приятелю даже показалось, что она пытается быть с ним бесстрастно-любезной, примерно так ведут себя с больными посторонними людьми. В конце концов ее, вероятно, утомили отчаянные попытки Моймира завязать разговор, и она встала, заявив, что опаздывает на поезд. Моймир навязался в провожатые до перрона.
— А нельзя ли с вами еще как-нибудь встретиться? — спросил он напоследок.
Незнакомка удивленно подняла брови, а потом впервые за все это время улыбнулась.
— Завтра я поеду этим же поездом.
И Моймир помчался к нам в мастерскую.
На другой день он и вправду с ней встретился и уговорил увидеться в пятницу днем.
Она пришла.
Моймир прикатил на своей свежевымытой «шкоде» и предложил небольшую прогулку по окрестностям Праги. А именно в некую долинку, местонахождение каковой от нас тщательно скрывалось и где, по его словам, имелось потрясающее заведение, в котором можно славно поужинать. А еще в тех же краях была дача одного из приятелей Моймира, ключи от которой он охотно одалживал нашему другу.
Как ни странно, золотистая незнакомка приглашение приняла. В заведение. Дальше — стоп.
— Я вам чем-нибудь не нравлюсь? — удивился Моймир, но она едва заметно улыбнулась, совершенно неожиданно поцеловала его в щеку и попросила отвезти в Прагу.
«Было в этом жесте что-то материнское, я даже растерялся, — признался Моймир позже у нас в мастерской, — она совершенно не воспринимала меня как мужчину. Меня! У которого по этой части всегда был полный порядок!»
Тогда наш ловелас принялся убеждать незнакомку, что незачем, мол, возвращаться в Прагу, ведь ей все равно еще куда-то ехать на поезде и он ее с удовольствием отвезет.
Но то ли ей не улыбалась совместная поездка, а может, были еще какие соображения, только она вдруг решила, что неплохо немного прогуляться.
— Надеюсь, ты повел ее гулять в сторону небезызвестной дачи? — осведомился Олдржишек, и Моймир в ответ кивнул.
— Выходит, ты не совсем потерял голову.
— Дурачье вы! — вздохнул Моймир. — Это потрясающая женщина!
— Как же так? — удивился Олдржишек. — Ты хочешь сказать, что она все-таки пошла с тобой на эту дачу?
— В тот вечер нет. Только в понедельник.
А в тот вечер странная девушка ограничилась прогулкой, после чего они возвратились в Прагу. На прощанье она заявила Моймиру, что встречаться с ним больше не будет, и попросила ее не искать. Окончательно сбитый с толку Моймир пробормотал что-то вроде: «Пожалуйста, как хотите…» — и с оскорбленным видом удалился.
Всю субботу и воскресенье он убеждал себя, что оно и к лучшему, не хватало еще какой-то девице навязываться, можно подумать, будто на ней свет клином сошелся. И вдруг с удивлением поймал себя на том, что даже не знает имени золотистой незнакомки. Как же это получилось, недоумевал он, мы разве не представились? И перед его мысленным взором замелькали самые разные подробности их свиданий. Скажем, взгляд, которым она ответила на предложение встретиться… И тут до него вдруг дошло, что ничегошеньки-то он не понял. Ясное дело, она к нему неравнодушна. Слишком много в ее поведении говорило в его пользу… Иначе чего ради она поехала с ним за город? Только тогда все разворачивалось как бы на гребне волны, а теперь он сам все испортил и съехал вниз.
В понедельник он снова был на вокзале. И похоже, она была ему рада.
Он обнял ее за плечи и увел с перрона. Они почти не разговаривали. Все ходили и ходили молча, пока она не взглянула на часы и не сказала:
— Поезд ушел…
— Возьмем такси, — предложил он, не уточняя, куда именно. Когда он назвал водителю адрес, она промолчала.
В подробности той ночи, проведенной на даче, он нас не посвятил. Это было удивительно, поскольку раньше он с большим энтузиазмом обсуждал с нами свои успехи или предполагаемые просчеты.
— Да ты никак жениться надумал? — предположил Олдржишек.
— Соображаешь, что говоришь? — вздохнул Моймир. — Она ведь другого любит.
Вот так мы узнали ее историю.
Бывают истории, похожие на старинные баллады. В такие повествования полагается включать романтический фон — лунную ночь, например. В данном случае это условие было соблюдено, Я отмечаю это вовсе не для того, чтобы принизить пафос последующего рассказа. Мне ведь понятны обстоятельства, при которых сам Моймир выслушал эту повесть. Балладу о жизни и любви…
Они были знакомы почти полгода. Она как раз окончила медицинский, а он работал техником на большом заводе. Сдержанный, замкнутый и немногословный, он ей очень нравился. Казался каким-то необычным, непохожим на других. И она в него влюбилась, ясное дело.
Правда, между ними не было разговора о женитьбе, но ей все равно верилось, что намерения у него самые серьезные. Например, когда они говорили об обещанной ему на работе квартире, он заявлял:
— Кухня у нас будет маленькая, зато комната довольно приличная.
Позже, вспоминая его слова, она понимала, что многое додумывала сама. «У нас будет…» Почему-то он никогда не говорил «У нас с тобой будет…»
При каждой встрече она открывала в нем что-то новое, удивляющее ее. Но именно это ей и нравилось, В нем все было так необычно, веяло забытой романтикой… Взять хотя бы то, что он, оказывается, играл на скрипке. Она и не подозревала об этом, пока однажды они не попали в гости к друзьям. У них на тумбочке лежала скрипка. Сначала он не обращал на нее никакого внимания, а потом вдруг взял и стал играть. Даже хозяину не дал помузицировать… И никто его за это не осудил, потому что играл он просто великолепно. Все удивленно примолкли и с восторгом слушали. Сама она не очень разбиралась в музыке, даже не знала, что это за вещь, но исполнение ее захватило.
— Что же ты раньше скрывал? — спросила она, когда он провожал ее домой.
— Я не скрывал, чего ради, просто как-то не приходилось к слову.
Таких мелочей, о которых он не распространялся или просто не вспоминал, набиралось довольно много. Как-то раз, когда они проходили мимо вокзала, какой-то человек обратился к нему с вопросом на незнакомом языке. Как только тот человек отошел, она не смогла сдержать любопытства:
— Это вы по-испански?
— Да, — невозмутимо ответил он. — Он спрашивал, как пройти на набережную.
— А мне и в голову не приходило, что ты знаешь испанский.
— Еще с института. Я даже переводчиком работал, — улыбнулся он и больше к этой теме не возвращался.
Распределили ее в заштатный городишко. И она туда каждый день ездила. Жаль было бросать комнату, которую снимала пополам с бывшей однокурсницей. И еще… ведь ему на работе обещали квартиру.
А пока он тоже снимал комнату. Но в гости к себе не приглашал никогда. Говорил, что хозяйка у него ненормальная — закатывает скандалы по всякому поводу.
Да, многое можно было припомнить такого, что потом казалось ей необычным. Но это потом, а тогда — тогда нет. Конечно, иногда ей бывало обидно, но ведь она любила его и любила таким как есть.
Теперь она знала, что когда-то он работал переводчиком. Но что это продолжалось довольно долго и было на Кубе, выяснила совершенно случайно. Как-то раз его приятель вспомнил при ней эпизод, случившийся с ними в Гаване. Разумеется, ее это задело, хотя в тот момент она и виду не подала.
Но позже не смогла удержаться от упрека:
— До чего же ты все-таки скрытный! Я вот про себя все рассказываю.
— Ну что ты, — возразил он, — просто как-то к слову не пришлось.
Она промолчала.
Потом они долго бродили по набережной и не разговаривали. Но когда она уже собралась уходить, он обнял ее за плечи и заглянул в глаза. Рядом с ним она показалась себе совсем маленькой, ему ничего не стоило при желании перебросить ее через перила в реку как пушинку. Он долго и грустно смотрел на нее.
— Я люблю тебя, — сказал он наконец. — Не думай ни о чем плохом.
Ей захотелось объяснить, что ни о чем таком она и не думает, просто иногда ее задевает его странная замкнутость.
— Не лучше ли быть откровеннее друг с другом? — предложила она.
— Я люблю тебя, — повторил он, крепко прижав ее к груди.
На следующий день они не договаривались о встрече. Она думала вернуться поздно, а потом получилось так, что еще и на поезд опоздала. И приехала уже ночью. Смертельно уставшая и влюбленная. Шла и мечтала встретиться с ним. Понимала, что это невозможно, но все же за каждым поворотом надеялась увидеть его… И увидела.
Ее он так и не заметил. Шагал по тротуару, глубоко засунув руки в карманы плаща, и выглядел явно взволнованным. Это было так неожиданно, что она позволила ему пройти мимо и не отважилась окликнуть.
Только через несколько дней она узнала, что в тот вечер он возвращался из кино. Узнала опять-таки случайно. Ее соседка по комнате собиралась пойти в кино со своим приятелем. Но в последний момент они предпочли прогуляться на пароходике с одной знакомой компанией, а билеты отдали ей.
— Тебе должно быть интересно, ведь ты же был на Кубе. Это итальянский фильм о Че Геваре.
— Нет! — ответил он неожиданно резко. — Мы не пойдем!
— Почему?
— Потому что это… это плохой фильм.
Вот так она узнала, что он уже видел этот фильм. И именно в тот вечер, когда она встретила его на улице, а он ее не заметил. Это открытие ее немного успокоило. Объяснение было такое прозаичное и понятное. Но чувствовалась какая-то недосказанность. Таким расстроенным ей еще не доводилось его видеть.
— А все говорят, что фильм хороший, — возразила она.
Он не ответил.
— И правдивый! — продолжала настаивать она. — Ведь Че Гевара погиб именно так!
Его взгляд она будет помнить до конца своих дней. Злобный и несчастный одновременно. И тут до нее дошло.
— Ты его знал?
Он кивнул.
— Прости меня, — прошептала она. — Наверное, мне тоже было бы неприятно видеть на экране смерть знакомого человека.
И все же он пошел на этот фильм еще. Не раз и не два. И всегда один. Но ей об этом не рассказывал. Она бы так никогда и не узнала, если бы не один человек.
Но это было потом, когда несчастье уже произошло.
Об этом писали все газеты.
Катастрофа на плотине! Служебный автобус на дне озера!
Душераздирающие заголовки и фотографии немногих оставшихся в живых счастливцев. И еще: ВИНОВЕН ЛИ ВОДИТЕЛЬ? РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Его тела вообще не нашли.
Ее тоже пригласили для опознания некоторых вещей. А потом отвезли к нему на квартиру. С ними поехал и один его сослуживец.
— Карел Немечек, — представился он и смущенно умолк.
Впервые оказавшись в его комнате, она испытала странное чувство. Обстановка там была самая обыкновенная — очевидно, строгая хозяйка не допускала никаких новшеств. Несколько сувениров с Кубы, и среди них засунутая между стекол книжного шкафа фотография. Снимок с Кубы. И на нем — он. Улыбающийся, но в то же время смущенный, рядом еще какой-то парень и…
Че Гевара.
Эта фотография врезалась ей в память. Она вспомнила, как он отказался идти на тот фильм, и, когда они уже вышли на улицу, сказала об этом Карелу. Вот тут и выяснилось, что он смотрел этот фильм не один раз. Карел дважды покупал ему билет.
— Вы думаете, он так восхищался Че Геварой? — спросила она.
— Не знаю. При мне он произнес это имя всего один раз, да и то к слову. Мы говорили о том, что некоторые люди способны на все ради достижения жизненных благ. А он заметил, что встречаются и другие, готовые, если надо, оставить все и уйти в неизвестность безымянными солдатами. Он сказал это как-то вообще, и я сначала даже не понял, что он имеет в виду отъезд Че Гевары с Кубы. Тогда ему пришлось объяснить. Больше мы на эту тему не разговаривали, и я, право слово, совсем не уверен, что он интересовался революционными теориями. Не тот у него характер. Ну а что касается этого фильма, мне кажется, он глубоко переживал смерть человека, которого знал лично.
— Тогда для чего нужна была вся эта таинственность? — удивилась она. — Мог бы просто сказать, что хочет один сходить в кино, я бы поняла…
Карел пожал плечами.
— Он вообще не любил что-либо объяснять. Считал, что каждый должен сам до всего дойти.
Потом подал ей руку:
— Не буду вам соболезновать. Я не поверю в его смерть до тех пор, пока не будет неопровержимых доказательств.
Все это пустые слова, подумала она. Но в душе ее почему-то затеплилась надежда, хотя рассудок говорил, что это бессмысленно и глупо. Ведь если бы каким-то чудом ему и удалось спастись, об этом уже было бы известно.
Позже она решилась и разыскала его бывшего однокурсника. Того самого, с которым он был на Кубе.
— Видите ли, — сказал тот, — не мудрено, что он воспринимал все так эмоционально. Мы тоже были в восхищении от Кубы. Представьте себе студентов, которым вдруг посчастливилось попасть переводчиками в такую прекрасную экзотическую страну. И она стала для нас близкой и родной. У меня тоже есть разные фотографии…
Он улыбнулся:
— Знаете, там даже я ощущал себя настоящим, активным революционером…
— Но его никогда особенно не интересовала политика.
— Еще бы, там он ее просто делал, не знаю, осмысленно или нет. Впрочем, он-то как раз осмысленно.
— А что было потом? Здесь?
— Ну, это вам лучше знать, каким он был здесь.
И она поняла, что подобные разговоры ничего не дадут. Проходили недели, потом месяцы. Она переехала жить в тот городок, где работала в больнице. Никто ее уже никуда не вызывал, но она все время ждала каких-то событий.
Каких именно? Об этом ей думать не хотелось.
Иногда она приезжала в гости к своей однокурснице, но та вскоре вышла замуж и переехала. Ездить стало не к кому. Но она все-таки приезжала и бродила по улицам, надеясь на чудо, как в тот раз, когда она ночью возвращалась домой.
Наверное, все бы в ней давно перегорело, не попадись ей в руки та газета. И снова в дело вмешался случай. Эту газету кто-то забыл в приемном покое. Она была довольно потрепанная, бог знает, кто мог ее там оставить. Перелистывая страницы испанского текста, она задержала взгляд на одной фотографии. Это был снимок каких-то пленных повстанцев, которых судили в одной из латиноамериканских стран. Четверо молодых людей. Все заросшие и очень похожие друг на друга.
Она стала всматриваться внимательней. Сердце тревожно забилось… Неужели? Конечно, внешность обманчива, и все же… А что, если?.. Неужели один из них действительно он?
И чтобы именно этот снимок случайно попал ей в руки?.. Нет, невероятно. Она убеждала себя, что все это чистый бред, но с той поры снова и снова возвращалась к старым местам, где они бродили вместе. А встретив общих знакомых, всегда показывала снимок из газеты и единственную подаренную ей фотографию. А вдруг и вправду это он?
Все может быть. Но если это так, то что его на это толкнуло? Впрочем, он всегда отличался оригинальностью… А если все-таки не он? И баллада об их жизни и любви еще не окончена?..
Есть разные способы избежать бесследного исчезновения в небытие. И тот, про который нам было рассказано, пожалуй, один из самых удивительных…
И она продолжает его любить.
Когда Моймир закончил, Олдржишек смерил его с головы до пят подозрительным взглядом.
— И это все?
— Все.
— Послушай, что ты нам тут заливаешь? Ты сам-то веришь всему этому или нет? Прямо легенда какая-то. Знаешь, рассказ о золотистой девице, похожей на статую, еще можно вынести, но дальше уже совсем никуда не годится! Скажем, не всегда же она была золотистого цвета!
— Ну что ты несешь? — устало сказал Моймир. — Чему это я не должен верить? Ты вообще хоть что-нибудь понял? Она могла выбрать любой из двух вариантов. И выбрала лучший. Ведь они оба одинаково убедительны — и с фотографией, и с гибелью на плотине. Просто она сделала свой выбор.
— Одинаково убедительные? — Олдржишек осклабился.
— Для нее да, — серьезно ответил Моймир. — Поэтому она и взяла с меня обещание больше ее не искать.
— И не будешь?
— Я дал слово.
И он молча вышел. Какой-то поникший и потерянный.
— Нет, я этого не понимаю, — проронил через некоторое время Олдржишек. — Ведь совершенно ясно, что все было совсем не так. Во-первых, не могла она все время быть золотистой… Согласитесь, если сопоставить подробности, ничего в этом рассказе не вяжется. Например, не могла же она все время ходить в золотистом пальто, что же, на все свидания одевалась одинаково? И вообще…
Олдржишек запнулся и поглядел на нас. Никто его не поддержал.
— И вообще, — добавил он, — что это за женщина! Вы только вспомните все подробности. Почему Моймир не проверил ее небылицы? Ведь элементарно можно проверить… живет же эта женщина где-то… и должно же у нее быть какое-то имя… Просто он сам не захотел!
А зачем ему это, вдруг подумала я. Ведь он тоже выбрал для себя лучший вариант.
Перевод с чешского Т. Чеботарева.
Иржи Навратил НИТИ
Передо мной на столе лежали две связки ключей. Вроде бы совершенно одинаковые. И все-таки разные. Одни ключи были от квартиры в Карлине, а другие — от Коширж. С карлинскими я сейчас, в свои двадцать с лишним лет, должен был расстаться, а коширжские — только что получил. Первые ключи были от родного дома, где я вырос и где у меня мать. Коширжскими я буду открывать свой новый дом, где Ива. В то время как одни нити моей жизни постепенно мною рвались, другие крепли. Любопытно все это. С сентября до ноября я постоянно путался в этих нитях. Сначала мне казалось, что все будет куда проще. С Ивой я встречался уже третий месяц. Но старые нити до сих пор держали меня. Да и с новыми не очень-то получалось, но я это объяснял опять же старыми нитями, всего лишь тремя месяцами знакомства и, главное, своим характером.
В два часа Ива вернулась в Коширже из гимназии и тут же позвонила мне на работу.
— Наши уже уехали, — сообщила она.
— Прекрасно, — обрадовался я. Так мы с ней и договаривались. Ее родители должны были вернуться только в воскресенье вечером, а мне за эти дни предстояло обжиться у них, привыкнуть. Все шло как надо.
— Ты знаешь, пришла телеграмма от Славека, лежала в почтовом ящике, — слышал я издалека взволнованный голос Ивы. Когда-то, еще до меня, у нее был Славек.
— Это что, твой железнодорожник?
Своих парней Ива именовала, как правило, по профессии.
— Значит, он? — повторил я.
— Он.
— Да ты вроде боишься, — сказал я осторожно.
— Боюсь, — незамедлительно подтвердила Ива.
— На самом деле боишься?
— На самом деле. Я не знаю, как ты на это посмотришь.
Это была ложь. Ива отлично знала, как я посмотрю, и поэтому совершенно меня не боялась. Долгими вечерами она откровенно рассказывала мне о своем прошлом. И бояться ей было нечего.
Так или иначе, я оставался совершенно спокойным. Уже ничто не могло изменить наши планы. Ни Ива. Ни железнодорожник Славек. Нити порвал я сам.
— И что же он тебе пишет?
Я хотел выжать из себя хотя бы каплю ревности. Иву это обрадовало.
— Он приедет в четыре.
— Очень мило, что он вспомнил о тебе! — нашелся я.
Иве мои слова, очевидно, понравились. Я почувствовал это по ее голосу. Она поняла меня правильно. Я ревновал. Наконец-то я ревновал. Ей давно хотелось этого. А я шел на уступки, потому что ей так хотелось.
— Мне и в голову не приходило, что он появится. Он ничего еще о тебе не знает, — скороговоркой сказала Ива, но мне показалось, что она колеблется, еще не решила, как ей быть со Славеком.
— Так ты ему сегодня объявишь?
Ива не отвечала. Она мне действительно все о себе рассказала. Я ей тоже. Правда, моя исповедь была намного короче. По сравнению с ней я был ангел, но меня это ничуть не смущало. Я любил Иву.
— Ну давай тогда отложим все еще на неделю, — предложил я просто так, чтобы посмотреть, что она на это скажет. Но на самом-то деле мне ничего откладывать не хотелось. Я и так ужасно устал, слишком все затянулось. Но сейчас я почему-то больше думал о Славеке, чем о себе. Интересно, что было бы со мной, окажись я на его месте.
Мое предложение Иву, конечно же, возмутило.
— И ты готов меня здесь с ним оставить?
Я ждал этого. Ива проверяла нашу любовь. Ведь дома у нее все было вымыто, вычищено и подготовлено к моему переезду.
— А почему бы и нет? — сказал я как нельзя более спокойно. Подыграл немного — и хватит. Нечего ревновать ей в угоду. Таков уж был мой метод.
— Это совершенно невозможно, Ирка, — простонала в трубку Ива.
Я упорствовал. На меня не действовали ее слезы.
— Почему же? Очень даже возможно. Решишь все сама.
— Ты не любишь меня.
Ну, началось. Ива уже громко рыдала.
— Перестань, иначе я сейчас же положу трубку. — Я повысил голос.
Но трубку не положил. Я знал Иву, знал, что сразу же перестать она не может. Поэтому пришлось еще немножко поговорить с ней, чтобы дать возможность успокоиться и вытереть слезы.
— Однажды я тебе уже сказал и дважды повторять не стану: ревновать не в моих привычках.
На другом конце провода воцарилась тишина. Ива ко всем этим вещам относилась совершенно иначе. И сейчас никак не могла прийти в себя. Мне было жаль ее, но отступать не хотелось.
— Давай отложим еще на неделю, — повторил я как можно более мирно, чтобы она не истолковала мои слова превратно. Тут я вспомнил про мать, которая была сама не своя от этого моего романа. Сегодня вечером я собирался разом покончить со всеми нашими никчемными спорами. Неприятный разговор с мамой автоматически тоже, значит, откладывается на целую неделю. Я колебался. Поругаться и разойтись с Ивой на неделю ничего не стоило. Такое случалось уже не раз, и всегда мы сходились снова. Достаточно было хоть чуть-чуть приревновать Иву к железнодорожнику Славеку и устроить сцену. Это помогло бы мне и дома, и в Коширжах. Дома обошлось бы без лишних скандалов с матерью, а Ива убедилась бы в моей к ней любви. Но тогда надо было признать ее право на взбалмошные гимназические капризы, а это меня никак не устраивало.
— Я прогоню его. Скажу ему о тебе, и после шести снова буду одна, — рыдала где-то далеко побежденная Ива.
— Ты и вправду это сделаешь? — спросил я.
— Со всеми разошлась, разойдусь и со Славеком, — твердо сказала Ива, но в ее голосе я уловил печаль. Или мне только показалось? Такой жертвы я не хотел.
— Ну значит, все остается в силе, ничего не меняем. Приеду в начале седьмого, — решительно сказал я и повесил трубку.
Вообще-то хорошо, что разговор кончился именно так. Отдалять события не имело смысла. Сколько раз я уже портил себе этим жизнь. Надо все решить и дома. Дальше так дело не пойдет, твердил я себе.
Я ушел с работы пораньше, чтобы успеть все сделать до шести часов. По дороге домой выпил для смелости две кружки пива. Надо было как-то взбодрить себя.
В Карлине я был точно в четыре.
До прихода матери собрал свою сумку и вынес мусорное ведро, чтобы оставить после себя полный порядок.
Мать застала меня на кухне и сразу же все поняла. Ей не нужно было ни о чем спрашивать. Тем более что сумка уже была собрана. Если я собирался куда-нибудь за город, она всегда знала об этом заранее. Мать сделала вид, что ничего особенного не происходит, стала хлопотать по хозяйству и готовить ужин. По количеству картошки понятно было, что она рассчитывает и на меня.
— Столько картошки ты одна не съешь, — начал я.
— А разве ты куда-нибудь уходишь?
Я не мог смотреть ей в глаза, такие же голубые, как у меня, в лицо — такое же, как у меня.
— Не отговаривай. Это бесполезно. Ничего уже не изменишь.
Мать села на стул и уставилась на меня. Ее строгий взгляд раздражал меня уже третий месяц, все время, пока я встречался с Ивой.
— Не будем больше говорить об этом, — заявил я, хотя мать молчала.
— Разве я что-нибудь сказала, Ирка?
— Все тебе не так. Все время ты недовольна.
— Погоди, я положу картошку обратно.
Когда она вернулась, я завел по новой. Но сначала выдержал паузу. Мать чистила картошку, стараясь, чтобы кожура была тонкая-тонкая.
Я вздохнул и твердо повторил:
— Да, теперь уже все.
— Ну и что?
— А то, что хватит нам это обсуждать.
— Я тебя только об этом и просила!
— Значит, все решено.
— Да и обсуждать-то тут нечего, — вздохнула мать, отрываясь от картошки.
— Может, что-нибудь и нашлось бы, — огрызнулся я.
— Я тебе уже все сказала.
— Из чужого опыта выводов не делают! — выкрикнул я и набрался духу, чтобы нанести последний удар: — Я переезжаю к ней.
Я изображал решимость, но мать, та действительно оставалась совершенно спокойной.
— Что ж поделать! Ты мне это… вроде как объявляешь?
— Вот именно, объявляю.
— Значит, переезжаешь, ну… а что прикажешь мне?
От этих слов у меня перехватило дыхание.
— Ты должна выгнать меня!
Это на нее уже подействовало.
— Говорю тебе: выгони меня.
— А вот этого, Ирка, я не сделаю, — твердо сказала мать.
— Почему? Так было бы лучше.
— Может, и лучше, но так из дома не уходят.
Наши голубые глаза встретились. И мать снова покачала головой.
— Нет!
— Мне казалось, ты будешь меня отговаривать, устроишь сцену, — протянул я несколько разочарованно, — нет, так просто кончить все это нельзя.
— У нас с тобой никогда никаких таких сцен не было. Жили мы с тобой мирно. И что считала нужным, я тебе уже сказала. Мне все это не нравится, но я понимаю, это твои университеты, и не отнимаю их у тебя, это твое.
Я походил по кухне.
— Я все признаю. И тебя понимаю, ведь я твой сын. Но мне это не мешает, твои доводы меня не отпугивают.
— Да нет, все в порядке. И это я от тебя уже слышала. Можешь не повторяться. Все равно мне тебя не понять. Зачем начинать все сначала? Зачем медлить? Чем ты недоволен? Что тебя задерживает?
— Я же вижу, что тебе это не по душе! — вырвалось у меня.
Мать посмотрела на меня и улыбнулась.
— Ирка, ты говоришь не то. У нас с тобой не принято так разговаривать. Мы никогда не ругались, А за своим домом я уж как-нибудь присмотрю.
Это был весьма тонкий выпад против коширжского дома, где и в самом деле были совершенно иные, чем у нас, порядки. Тут мать была абсолютно права. И хотя мне тоже там не все нравилось, я считал себя в большом долгу перед Ивой и верил, что в Коширжах все изменится, что мне удастся перенести туда часть своего дома и самого себя. Но пока что, приходя туда, я еще не был самим собой.
— Наверное, тебе и правда лучше будет переехать. Мы всегда жили по-другому, и я ради чьих-то прекрасных глаз не намерена что-либо менять.
Я махнул рукой.
— Тебе этого не понять.
— Мне все понятно, Ирка.
— Ты что, хочешь меня потерять? — выкрикнул я. Все перевернулось с ног на голову. Ведь это должна была выкрикнуть моя мать. Но я знал ее, она бы никогда себе такого не позволила.
Мать перестала улыбаться.
— Похоже, это уже произошло.
— Ничего не произошло, — загудел я.
Мать резала картошку и бросала ее в кастрюлю. Вода брызгала на стол. Мать всегда отличалась аккуратностью, но теперь ей было не до того.
— Я думал, что встречу дома больше понимания, — сказал я печально, но мать в ответ не заплакала.
Ее голубые глаза просверлили меня.
— Чего ты, собственно, от меня хочешь? О каком еще понимании ты говоришь?
Уточнять мне было не с руки. Ведь мне хотелось, чтобы мать насильно удержала меня дома. Я был согласен с ней, что так из дома не уходят. Но ведь Ива ждала меня в Коширжах.
Мать поставила кастрюлю на плиту.
— Знаешь, что я сделала, когда ты маленьким все время тянул руки к плите?
— Не помню, — сказал я и посмотрел на свои ладони.
— Я тогда нарочно придержала твою руку над огнем — чтобы ты как следует обжегся.
При этом воспоминании в ее глазах вдруг вспыхнули искорки.
— Посмотрим. Ладони у меня гладкие, как у ангелочка, никакого следа.
Мать глубоко вздохнула.
Я взял свою сумку.
— Зайду еще как-нибудь за книжками.
— А плавки ты взял? — с иронией спросила мать.
Как только у меня появилась Ива, я стал ходить на пляж в Подолье, и мать сейчас намекала на это.
— Да, взял, — отрезал я и вытащил из кармана куртки ключи. В левом кармане у меня были ключи от дома, а в правом — от Коширж, чтобы не перепутать. Теперь полагалось выложить те, что от дома. Было самое время.
— Так я вообще никогда не женюсь! — закричал я и бросил ключи на стол.
— А ты что, собираешься жениться?
— Собираюсь, — сказал я твердо.
— Вот и прекрасно, — заключила мать.
— Но ты для этого и пальцем не шевельнула!
Мать пристально посмотрела на меня.
— Разве это моя свадьба, Ирка?
— В Коширжах к этому относятся с гораздо большим пониманием.
— Об этом мы с тобой тоже уже говорили. Ведь когда ты лез к плите, я давала тебе обжечься. Понял?
Я схватился за голову.
— Господи боже мой, наконец-то я выберусь из этой волчьей ямы!
Я кинулся к двери. Матери наверняка было не по себе. Очень уж несправедливо по отношению к ней. Ведь из нашего дома волчью яму делал только я сам.
Но мне нужно было поставить точку, и тут кстати вспомнилось, что как раз сейчас, в эту минуту, моя девушка выгоняет из своего дома Славека. Эта мысль окрылила меня.
— Ума не приложу, как только я мог здесь жить! — крикнул я, разом перечеркивая все двадцать с лишним лет, проведенные дома.
— Мог, Ирка, — тихо сказала мать.
Это меня уже заинтересовало.
— Ты был здесь дома, — просто сказала она.
А у меня мурашки пробежали по коже.
Я повернулся, вышел и хлопнул дверью.
До Коширж я добрался в половине седьмого и, торжествуя в душе, открыл дверь своими ключами. Это была для меня знаменательная минута. Наконец-то я ушел из-под опеки матери. Наконец-то освободился от Карлина.
Ива встретила меня в передней.
— Славек еще здесь. Он привез красное вино.
У нее уже немного блестели глаза.
Она всматривалась в меня. И ни капельки не смущалась, что нарушила нашу предыдущую договоренность.
Я встал на цыпочки, чтобы заглянуть в комнату. Славек и правда сидел на диване, а на столе, рядом с тремя красными гвоздиками, стояла бутыль красного вина.
— Закрой дверь, — резковато сказал я.
Ива послушалась. Вернулась ко мне и с любопытством уставилась на меня. Ее интересовало, сколько я могу выдержать. Мне это было совершенно ясно.
— У тебя что-то глаза сверкают, Ирка!
Глаза, возможно, у меня и сверкали, да только не от вина.
— Я подожду на улице, — сказал я.
Ива потянулась.
— Я ходила с ним в Подолье купаться. Могли бы пойти все вместе.
Мама была права. Ива всех нас развлекала одинаково.
— Ты уже сказала ему? — спросил я. Меня сейчас это угнетало больше, чем все ее купания.
— Еще нет.
— А я был дома и все уже сказал.
Ива даже не поинтересовалась, как повела себя моя мать.
— Лучше сказать ему при тебе.
Мне это не понравилось. Я ведь дома обошелся без Ивы. Справился сам.
— Зачем же при мне?
— Если скажу я одна, он все равно не поверит.
— А мне поверит? Ведь меня-то он вообще не знает.
— Вот вы и познакомитесь, — сказала Ива. И было видно, что эта очная ставка принесла бы ей какое-то странное удовольствие, чего я вообще не понимал. И не хотел понимать. Создавалось впечатление, что Ива до сих пор еще колеблется, еще не порвала нитей, связывающих ее со Славеком, еще только собирается сделать выбор между нами. Я шел к ней один, а нас здесь оказалось вдруг двое.
— Уволь, — сказал я. — Мне достаточно того, что ты о нем рассказывала. Вполне достаточно.
— Но оставь здесь хотя бы сумку.
Что ж, это можно.
И тут Ива решилась зайти еще дальше.
— Ты знаешь, Славек останется ночевать. Не достал места в гостинице.
— Но ведь мы договаривались совсем по-другому! — вырвалось у меня. Я был задет. Я сердился. Она слишком часто меняла свои решения и обещания. В конце концов, так было и со всеми предшествующими ее парнями. — Мы договаривались совсем по-другому, и пусть все так и будет, — повторил я.
— Но я же не знала, что он приедет.
— Последний раз мы говорили с тобой в два часа, и у тебя уже была эта телеграмма.
— Но Славека здесь еще не было, — перебила Ива, глядя на меня в упор. Она ждала, как я себя поведу. Мне стало ясно, что́ надо делать, чтобы отплатить ей, но не захотелось.
— Он приехал в четыре, — сказал я.
— И тут же в дверях сказал, что останется ночевать. Потом мы пошли купаться, а потом стали пить вино. Еще не успели поговорить об этом, — оправдывалась Ива.
— Да он вообще никакой гостиницы не искал. Рассчитывал, что останется у тебя.
— Рассчитывал, — признала Ива, наблюдая, как я начинаю заводиться.
— Так хотя бы не ври, — сказал я резко.
— Ты сердишься на меня, Ирка?
Все начиналось сначала. От меня требовалось, чтобы я сердился, но у меня это как-то плохо получалось. Приходилось принуждать себя.
— Это твое дело, — отрезал я.
Ива положила руки мне на плечи, а потом ладонью дотронулась до моего свитера там, где у меня было сердце. Я эти жесты знал. Так обыкновенно она начинала меня уговаривать.
Я отвел от себя ее руки.
— Буду ждать внизу, Ива, — сказал я и нагнулся, чтобы взять сумку.
— Но он здесь останется ночевать.
Это прозвучало как угроза. Но на меня не подействовало. Я чувствовал, что вообще перестаю бояться. Долг мой все уменьшался. Теперь я уже почти ничего не был ей должен.
— Пусть остается, — сказал я как можно равнодушнее.
Быть самим собой и при этом не совершить ошибку было очень трудно.
— Но, если он останется, тебе нет никакого смысла ждать внизу, — продолжала Ива. Я почувствовал ее горячее дыхание. И запах красного вина с Моравы, которое привез Славек и которое сейчас стояло там перед ним.
Я растерялся, это было логично: чего мне топтаться на улице, если Славек будет здесь с ней спать? Но я изо всех сил цеплялся за наше решение. Ива, глядя на меня, улыбнулась.
— Оставайтесь оба. Ничего особенного. Здесь уже столько людей оставалось ночевать! Я, скажем, постелю нам с тобой в своей комнате, а Славека уложим на диване в гостиной.
Мне это «скажем» страшно не понравилось. Так я себе этого не представлял. Ведь шел к ней с такими надеждами!
— Лучше нам все отложить, — сказал я твердо. Мне никак не хотелось верить, что все кончилось, но я уже стоял в дверях, стоял и взвешивал каждое слово. По-своему повторялась та же ситуация, что и дома в Карлине.
— Я рассчитывал прийти к тебе по-другому, Ива.
Ива применила новое оружие, которое должно было меня задержать. Ей во что бы то ни стало хотелось усадить меня рядом со Славеком.
— А вообще-то тебе есть куда идти?
Это было первое упоминание о моем былом доме, а она ведь очень хорошо поняла, что я свое обещание выполнил и все споры дома уже завершил. Мне действительно идти было некуда.
— Ну, это уж мое дело, — отрезал я.
— А не лучше ли тебе его просто выгнать?
Иву не оставляла ее навязчивая идея. Ведь именно Ива посоветовала, чтоб я вынудил мать выгнать меня из Карлина. Она все время меня испытывала. Мне это было неприятно.
— Он мне ничего плохого не сделал, — взорвался я.
— Ты меня не любишь!
— Нет, я люблю тебя, Ива!
Наши глаза — у нее тоже были голубые, как у меня и у моей матери, — никак не могли встретиться, хотя мне очень этого хотелось.
Я нагнулся, чтобы взять сумку.
— Постою внизу, пока не запрут дом. Остается еще три часа. Это тебе на размышление.
Ива меня не задерживала.
— Сумку ты все-таки оставь, — сказала она.
Я пропустил ее совет мимо ушей.
Долго я ходил по улице и смотрел на окно третьего этажа. Время тянулось медленно. Темнело. В восемь часов Ива открыла окно. Возможно, мы больше никогда не увидимся, промелькнуло у меня в голове, но мне удалось отогнать эту мысль. В квартире включили проигрыватель, зазвучала музыка. Все это мне было хорошо знакомо по ее рассказам. И эти пластинки тоже уже доводилось слышать. Ива вела рисковую игру, но я не терял голову. И уже перестал воспринимать это как игру, да и Ива тоже больше уже не играла. В девять часов погасили свет. И Ива поставила пластинку, которая из всей ее коллекции запомнилась мне лучше всего. Жизнь нельзя было предсказать даже на час-другой вперед. Нити так просто не рвались. Это касалось всех участников этого вечера.
Дом еще не был заперт. Свет на лестнице не горел. Я зажег спичку и нашел их почтовый ящик. Ключи звякнули, ударившись о металл. Еще утром у меня были две связки ключей, а теперь не осталось ни одной. Здесь тоже никто не звал меня обратно.
По дороге домой я твердил себе, что все это не моя вина. Потом зашел в телефонную будку и набрал наш номер.
— Ты еще не спишь, мама? — спросил я.
— Смотрю телевизор, — сказала мать, и по ее голосу ничего нельзя было понять. Удивления она не проявила.
— Не могу попасть домой, — пришлось признаться мне.
Мать молчала. Теперь все зависело от меня.
— Забыл ключи.
— Ключи? У тебя что, нет ключей?
— Ты не поищешь, они должны быть где-то поблизости, — пробормотал я.
Я ждал, чем это кончится, найдет мать ключи или нет. Она заставила меня ждать достаточно долго. Это было наказание. Наверняка стояла у телефона и отсчитывала секунды.
— Нашла, Ирка, — донесся издалека ее спокойный голос.
— Ну хорошо, а то я испугался, что оставил их на работе.
— Нет, ключи лежали на столе.
Голос у матери был твердый и все еще строгий.
Я не знал, как быть дальше. Мать мне помогла.
— Я брошу тебе их из окна.
— Хорошо. Я свистну.
К счастью, возвращение домой оказалось не таким уж позорным.
Вдруг мамин голос изменился.
— А изображение сегодня просто ужасное, настраиваю, настраиваю, а оно все хуже. Как ты это делаешь, Ирка?
Я улыбнулся. Дома меня не хватало.
— Сейчас настрою тебе, — пообещал я и повесил трубку.
Мне было хорошо.
Перевод с чешского Т. Николаевой.
Богумил Ногейл ДРУГ МАКСИМ
Так вот, захотелось мне с ним встретиться.
В моей памяти люди остаются обычно такими, какими я их когда-то знал. А у тебя как? Наверное, так же. Его лицо я уже забыл и представить себе, хоть убей, не мог, но попадись он мне где-нибудь на улице, я тотчас бы его узнал и сказал: это Максим.
Да, его звали Максимом, хотя имя у него было другое. Прозвали его на стройке, и имя это закрепилось за ним; но не так, как закрепляют, скажем, лопату, тачку или койку. Время тогда было такое, и прозвища людям давали по их делам.
Был у нас и Чапаев (им был я), и Жижка, и Тарас Бульба, и Комиссар, и Стаханов, и даже Мичурин. Что ты на это скажешь? В ту пору это было модно? Нет, нам это тогда и в голову не приходило.
Настоящее имя Максима было Драгослав Восагло. Чертовски трудная фамилия, правда? Ну вот, этот человек очень любил книги. Их у него, браток, было больше, чем у всех нас, вместе взятых, грязных портянок, а собиралось их после работы о-го-го сколько! Были у него в основном книги Горького. Иногда он что-нибудь читал нам вслух. Мы слушали его, вдрызг уставшие, и мгновенно засыпали. Частенько я просил его: «Почитай нам, Максим! Почитай еще! Так сладко дремлется, когда ты читаешь. Будто бабушка убаюкивает деток сказками».
Максим был идеалист каких мало. Он говорил, что люди не должны быть равнодушными друг к другу: ведь в каждом человеке скрыто такое, что требует участия, помощи. Когда он встречал парня со шрамом на лице, то уже видел в нем чуть ли не героя, хотя тот наверняка схлопотал себе этот шрам где-нибудь в трактире во время драки. Когда я возмущался безобразиями на стройке, он успокаивал меня: «Знаешь, комдив, к людям надо относиться с доверием, ведь вором-то никто не рождается». Но народ среди нас был уже видавший виды, частенько то у того, то у другого пропадали часы, деньги, а то и еще что поважнее; о том, верно, не рассказывалось в книгах Максима.
Я не говорю, что некоторые его взгляды на жизнь были такими уж неподходящими, но жить, руководствуясь ими, в то время было нельзя. Позднее, когда я вернулся со стройки домой и стал работать в должности, на которой мало было только ставить рекорды, но надо было уметь и посоветовать людям, как жить, я часто вспоминал Максима. Мне так же не хватало теории, как ему в те годы практики. Знаешь, браток, когда постоянно имеешь дело с людьми, не всегда веришь в их добрые умыслы: один приписывает себе работу, которую вообще и не делал, другой крадет мешок цемента, третий чуть ли не у тебя на глазах выставляет раму. Но без веры, без какой-то перспективы жить тоже нельзя, даже в тюрьме, даже если ты осужден пожизненно.
Так вот, значит, я и сказал себе: съезди-ка ты к Максиму, оба вы стали на несколько лет старше, ума у вас прибавилось, опыта тоже. В брошюрках, что проглядывал ты в свободное от работы время, узнал кое-что о политике и экономике, да только житейской мудрости у тебя от этого больше не стало.
Отыскал я в своем старом блокноте его адрес, взял отпуск и поехал. Конечно, я мог ему написать, но не горазд я изливать свои чувства на бумаге. И вот сел я на мотоцикл и понесся в сторону Тршиновиц. Еду, а дорогой все вспоминаю прошлые наши деньки, и когда миновал я стрелку «До Тршиновиц 6 км», то единственно, чего не мог вспомнить, так это его лица. Перед селом, может, то был город (не помню, видел ли я там храм или ратушу), попался навстречу мне парнишка. Я его спрашиваю, не знает ли он Драгослава Восагло, а тот отвечает, что пан инженер-строитель Восагло живет в третьем доме от конца улицы по направлению к Мышкову. Я уточняю: говорю, что ищу Максима, вернее, слесаря Славу Восагло, а не какого-то там пана инженера-строителя. Парень смотрит на меня удивленно и говорит, что другого Восагло в Тршиновицах не знает.
Наверно, это его родственник, решил я, но спросить лишний раз не мешает, да и сделать несколько лишних километров тоже.
Что попусту толковать, я все равно должен его найти. Сворачиваю на автомагистраль в сторону Мышкова и отсчитываю первый, второй, третий дом от края — и что ж я вижу: да это не дом, а вилла с садом, прямо тебе представительство иностранной державы. Какой-то парень поливает из шланга кольраби. Я останавливаю мотоцикл и открываю калитку. Со ступенек веранды навстречу мне сбегает женщина — чисто с картинки из модного журнала, — смотрит на меня, будто я сборщик мусора, не иначе, и справляется, что мне нужно.
Я поглядываю на нее и спрашиваю себя, как мне к ней обратиться — мадам, пани или товарищ, — потому что теперь уже трудно по внешнему виду определить, кто перед тобой. Мужчина тоже переводит на меня свой взгляд; и тут меня осенило, словно я припомнил фотографию из семейного альбома.
— Максим! — кричу я. — Привет, Максим!
— Наверное, вы ошиблись, — обращается ко мне молодая дама, — здесь никакого Максима нет.
— Да как же нет? — кричу я. — Вот он, наш Максим, парняга лопоухий!
Мужчина завернул кран, опустил на землю шланг и направился ко мне, вытирая руки о синий фартук. Подойдя, удивляется:
— Простите, я что-то не припомню… А я говорю:
— Вспомни! Ну как же так! Наш барак, койки, побудки, Фому Гордеева… Ну и комдива Чапаева!
— Боже мой, это невероятно! — восклицает он и снова вытирает руки о фартук. Потом кисло-сладко улыбается и произносит:
— Яничка, это пан…
А как дальше — не знает.
Я сам обращаюсь к пани и представляюсь:
— Гла́ва, Карел Глава.
— Очень приятно, — улыбается она, словно жует мятную конфетку.
— Проходи, — приглашает Максим. — Или ты торопишься?
— Да нет, — отвечаю я, — времени у меня предостаточно, приехал повидаться с другом.
— Рад, очень рад, — говорит он.
Ну, скажу тебе, браток, теперь уж я сам не знал, кто из нас был более озадачен — они или я.
— Вот, пожалуйста, половичок, — обращается ко мне хозяйка, словно я какой-то деревенский недотепа.
— В прихожей мы снимаем обувь, — шепчет Максим мне на ухо.
— Если вы снимаете, то и я сниму, — говорю я. — Если вы пойдете на руках, то и я тоже, только скажите.
— Хи-хи-хи, — смеется она, — пан Глава любит пошутить.
Вхожу в дом. Кругом персидские и прочие ковры, мебель из красного дерева. Ты видишь, браток, какие плечи у меня широкие. Толкаю дверь и — бац! — прямиком по пианино.
— Черт возьми, — с сожалением в голосе произносит Максим и внимательно осматривает, не поцарапался ли где лак.
Она подталкивает меня к креслу, на которое быстро набрасывает покрывало, и предлагает сесть. Я сажусь — почему бы нет! Мне и самому как-то не по себе. У нас дома за дверью нет пианино, зато рядом стоит детская кроватка.
Что поделаешь, говорю я себе, теперь немало таких квартир, где надо бы всюду развесить таблички: «Руками не трогать!» — или: «Осторожно!» У меня дома четверо мальчишек, и разных там царапин на мебели мы попросту не замечаем, иначе каждую минуту приходилось бы раздавать ребятам подзатыльники.
— Послушай, — обращаюсь я к Максиму, — дом у тебя как картинка, участок что монастырский сад. А где дети? Наверху? Сколько их?
Максим краснеет, как в те времена, когда мы сватали на стройке ему одну девушку, и отвечает:
— Знаешь, дружище, о детях мы пока еще не думаем, с детьми слишком много забот, а у нас других обязанностей хватает. — И тотчас же переводит разговор на другое: — Яничка, хорошо бы выпить за встречу. Ты не сбегаешь за бутылочкой красного, я больше всего люблю красное…
А она в ответ:
— Не забывай, Славек, о своем желудке. И учти, что пан Глава приехал на мотоцикле…
Я вмешиваюсь в разговор:
— Что до меня, то не извольте беспокоиться: из меня такой алкоголь в момент улетучится. А что касается Максима, то красное-то очень даже полезно для желудка, это как лекарство или экспортное пиво «Праздрой».
Она соглашается. Максим вручает ей купюру в двадцать крон, она причесывается, подкрашивается и уходит.
Мы сидим, и разговор как-то не клеится. Словно то, о чем я хотел спросить Максима, потеряло сейчас всякий смысл.
— Да, тогда мы жили единой дружной семьей, — говорю я. — Иногда мне чудно́ становится, как удалось нам выдержать такое — и мороз, и холод, и ливни, — ведь даже помыться было негде, да и одежду высушить. Но всегда нас поддерживало и согревало одно — убежденность, что работаем мы во имя будущего.
— Знаешь, — глубокомысленно отвечает Максим и стучит пальцами по столу, — тогда было другое время. Надо было жертвовать собой, чтобы пройти эту ступеньку. Я мечтал стать инженером-строителем, а без хорошей характеристики меня на учебу не приняли бы. Теперь уже все иначе. Мне нечего жаловаться. Пойдем покажу, как мы живем, хотя все, что ты увидишь, стоило нам немалых трудов.
Ну вот, браток, демонстрировал он мне одно чудо техники за другим. Щелкал выключателями, повертывал ручки, нажимал на кнопки, все время что-то с чем-то сравнивал, сдувал пыль, переставлял предметы. Меня так и подмывало спросить, нет ли у него механической канарейки.
— Сейчас мы копим деньги на «фиат», — доверительно сообщил он. — Остается добрать на задние колеса, и тогда — порядок. Так что как-нибудь понаведаемся к тебе.
— Буду рад, — отвечаю я, — приезжайте посмотреть на моих мальчишек, может, возьмете с нас пример.
Между тем вернулась его женушка, принесла бутылку «Плевена».
— Выпьем за встречу… За что еще?
— За первого сына, — предлагаю я, — и с этим вам следует поторопиться, иначе соседи подумают, что дети — ваши внуки.
— Не беспокойтесь… хи-хи-хи, — включается в разговор его жена. — Давайте лучше выпьем за то, чтобы у нас поскорее подошла очередь на машину. Теперь это наша самая большая мечта.
Мы выпили.
— Давай еще, — говорит Максим и наливает.
Мы снова выпили. А его жена к слову вставляет, что мы сейчас пропиваем заднюю левую мигалку, и при этом смеется так, как смеется старая дева, слушая неприличный анекдот.
В этот момент, дружище, глоток вина неожиданно застрял у меня в горле; запершило, я невольно кашлянул… И… ты бы видел, что произошло. Она сидела против меня, и потому почти все брызги, к несчастью, достались ей. В один миг она превратилась в курочку-рябу и запричитала:
— Боже мой! Мое новое платье… И скатерть! Славек, скорее замочи скатерть, иначе пятна не отойдут!
И бросилась в ванную. Максим глянул на меня, как разгневанный барин на растяпу слугу, переставил бокалы и бутылку на стул, схватил скатерть и кинулся следом.
С минуту, браток, я стоял как истукан. Что делать, думаю, когда снова пришел в себя. И вдруг меня осенило: достаю я кошелек, кладу на стол сто крон как бы в счет амортизации: за рвотную жижу, царапину на пианино, химчистку ее платья и прочее — и вылетаю из дому. Моя ненаглядная «ява», не успел я нажать на педаль, моментально завелась. Я вскочил на сиденье, и Тршиновице вмиг остались у меня за спиной.
Километры убегали под моими колесами. И вдруг мне стало смешно, жутко смешно. Еду и хохочу, остановиться не могу. Потом вдруг задумался и перестал смеяться. Ведь если по-серьезному, то в этом действительно нет ничего смешного. Что и говорить: был Максим человеком, а стал рабом.
Перевод с чешского Н. Осецкой.
Ян Папп ПРИКАЗ
— Стой, дальше не пойдем, — сказал первый.
Услышав его слова, второй огляделся вокруг. Небольшая лужайка, слева — густые заросли молодых елочек, справа тоже елки, но повыше: срубить этакую к рождеству, аккурат до потолка будет. Под ними внизу журчит поток. А прямо — косогор, что коровье брюхо, округлый и голый.
— Да, пожалуй, не пойдем, — согласился второй.
Поставив карабин на предохранитель, он перебросил его в левую руку, а правой стал шарить в кармане. Минуту спустя сказал:
— Эй, немец, на-ка, покури! — и кинул тому сигарету.
Немец ловко ее поймал.
— Э-э, — опять произнес второй, — да у тебя спичек нет.
Он подошел к немцу совсем близко и дал прикурить. Руки ощутили горячее, сухое дыхание. Длинная седоватая щетина на подбородке немца мелко дрожала, как иголки у околевающего ежа.
Первый заметил это, но не удивился, спросил:
— Скажи, немец, как звать-то тебя?
Немец не понял. Он зыркал испуганными глазами то на одного, то на другого, а те опять задали ему свой вопрос, стараясь говорить громче и отчетливее, словно немецкий язык отличался от их родного только силой произношения. Первый разъяснил, показывая пальцем на себя:
— Я — Петер, а он — Густо. А ты?.. Как тебя зовут? Фриц?
Немец догадался:
— Nie, nein. Ich bin Kurt. Kurt Ziegler[27].
Он проговорил это быстро, опасливо, почти шепотом, дыша прерывисто, как астматик, и, втягивая щеки, жадно затянулся сигаретой.
Раннее утро, как румяная спросонок лесная нимфа, уже плутало меж деревьев. Пока курили, оно пробежало вверх по косогору, ожемчужив его мягким солнышком.
Первый шепнул второму:
— За что его?
Второй лишь пожал плечами:
— Не знаю. Приказ.
Немец не спускал с них глаз. Лихорадочно втягивал в себя последние глотки дыма. Малюсенький сигаретный окурок он не отбросил в сторону, а опустил во влажную траву и затушил носком сапога.
Первый и второй обменялись взглядами. Второй переложил карабин в правую руку и, поддерживая его левой, сказал:
— Тут жди не жди, ничего не выждешь.
Первый вскинул автомат и, как бы оправдывая себя, пробурчал:
— Да, приказ есть приказ.
Немец увидел, что они приготовились, и сразу покорно сник. Он расстегнул воротник мундира, снял с шеи золотую цепочку, держа ее в ладонях, опустился на колени и стал громко молиться.
Первый и второй прицелились.
Сотрясая лес, грянули выстрелы. Отталкиваясь от стволов и крон деревьев, они какое-то мгновение еще танцевали в многократном эхе, пока не рассеялись в пространстве. Стрелявшие не внимали этим звукам; лишь потом, когда над ними вновь воцарилась тишина, они вдруг смутились и опустили оружие.
Немец поднялся и заплакал. Громко заплакал.
Первый пробормотал:
— Я не могу… Я… я никогда еще не стрелял в безоружного.
В утреннем воздухе расплывалось облачко дыма. В нос ударил запах сгоревшего пороха.
Второй опустил голову, произнося, как заученную фразу, одно и то же:
— Не гожусь я в палачи, не гожусь… В бою хоть самого господа бога убью, а в палачи не гожусь, не гожусь я…
Немец продолжал скулить, закрыв лицо руками.
Первый отчаянно выругался:
— Хватит хныкать, гаденыш! Раньше надо было слезу пускать и в другом месте!
Второй опять полез в карман. Снова вытащили сигареты. Закричал:
— Эй ты, фриц! На, черт тебя подери, закури еще!
Второй снова подошел к немцу, и, когда зажигал спичку, руки его дрожали, чего немец не мог не заметить. Смекнув это, первый тут же накинулся на него:
— Что зенки вылупил, сукин сын?! Это не руки убийцы.
Немец испуганно отступил на шаг и, не спуская с них мокрых глаз, робко, нерешительно упал на колени.
Второй приказал:
— Вставай! Вставай, говорят тебе!
Первый спросил:
— Что делать будем?
Второй сел на пень, положил на колени карабин, задумался. И вскоре сам себе ответил:
— А делать что-то надо.
Весь усыпанный блестками росы, лес сверкал, освещенный солнцем. Казалось, воздух кипел мириадами светлячков, и они, эти светлячки, устав от долгой ночной суеты, истратив весь свой запас света, обессиленные, падали на землю, и земля впитывала их, как сладкий нектар, который, растекаясь по жилам деревьев, наполнял теперь лес чарующим ароматом.
Первый вдруг остро ощутил это благоухание.
— Чуешь, как лес пахнет. А ведь ему никто не отдает приказы.
Второй вздохнул:
— Да… приказ… приказ.
Немец и на сей раз аккуратно положил крошечный окурок на землю и придавил его носком сапога, покрутив им в разные стороны. За эти несколько минут он постарел на десять лет.
— Слышь, а ведь я придумал! — внезапно оживился первый.
Второй посмотрел на него хоть и удивленно, но с какой-то радостью, которую в данный момент он не отважился выказать. Он понял, о чем сейчас пойдет речь, потому и обрадовался, но сдержанно спросил:
— Что придумал?
— Это совсем просто… — сказал первый. Он не спешил выкладывать, поскольку был счастлив, что эта мысль пришла на ум именно ему; ему хотелось насладиться своей находчивостью, разжечь и без того напряженное любопытство второго.
Второй же с нетерпением ждал.
Первый нагнулся, сорвал травинку и, взяв ее в рот, стал медленно перекусывать зубами. Он делал вид, что додумывает свой план до мельчайших подробностей. Наконец сказал:
— Вон за тем деревом, — он показал, за каким, — спрячусь я с автоматом наизготове. А за тем, что рядом с тобой, схоронишься ты с карабином, снятым с предохранителя. Это на всякий случай. Немцу мы заранее растолкуем, в чем дело, а потом кинем ему пистолет с одним патроном. Понимаешь? Пусть он сам застрелится. Ясно? Если же начнет финтить, нам не останется ничего другого, как шарахнуть в него из-за деревьев.
— А что, — согласился второй, — неплохо…
— И приказ выполним, — подытожил первый.
— Ну, я сейчас ему так и объясню… — поднялся второй.
До немца было шагов пять, не больше. Но второй сделал все восемь или девять, но за время этого короткого пути он достал пистолет и вынул из его магазина патроны. Все до единого.
— Слушай, немец. У нас приказ тебя расстрелять. Понимаешь? Рас-стре-лять. Пиф-паф! Да ты и сам знаешь. Поэтому мы и пришли сюда втроем. Понимаешь? Ферштейн?
Немец стоял как вкопанный. Только глазами водил туда-сюда — то на первого, то на второго.
— Вот пистолет, — продолжал второй. — Пис-то-лет. А это — патрон. Один. Да, айн. Ты, — показал он на немца, — приставишь пистолет к своей голове и выстрелишь. Паф! Понимаешь? — показывая ему, что нужно делать, он, как мог, помогал себе жестами.
Немец не отвечал ни «да», ни «нет».
— Мой товарищ — там, я — здесь. Если вздумаешь бежать… Понимаешь? Бе-жать… — Второй изобразил, как бегут. — Мой товарищ оттуда, а я отсюда будем стрелять. Понял? Будем шиссен! Та-та-та! Понял?
Первый посмотрел на часы. Было семь.
— Эй, давай поскорей! Время не ждет!
Второй отдал немцу пистолет без патронов. Когда они оба спрятались за мощными стволами деревьев, второй крикнул первому:
— Ты готов?
— Готов! — раздалось в ответ.
Второй бросил немцу один патрон и попал ему в грудь. Отскочив, патрон упал в траву.
Прошло минут пять.
Немец все еще стоял. Стоял не шелохнувшись, словно из-под земли неожиданно выросла сухая, ни к чему не пригодная коряга.
Первый уже начинал злиться.
— Эй, немец, мать твою в гроб, ну долго ты будешь канителиться! — закричал он.
И тут произошло то, чего никто из них не ожидал. Немец вдруг распрямился, стал смотреть куда-то в небо, что-то бормотал и даже снял с головы фуражку. И к их великому удивлению, отбросил пистолет довольно далеко от себя.
Первый остолбенел. У него чуть дыхание не перехватило от злости. И он вскипел:
— Ах ты, трусливая немецкая свинья!!
Потом резко вскинул автомат, и в этот момент второй подумал: ну, сейчас из немца будет решето.
Немец рухнул на колени, по лицу его градом тек пот. Прижав к губам ладони с цепочкой, он ждал конца.
Но выстрелов не последовало.
Первый опустил автомат и виновато произнес:
— Прости, но в безоружного не могу…
— Да чего уж тут, я понимаю, — ответил второй.
Они сделали шага два вперед, подошли к нему ближе и долго смотрели на него как на привидение.
Потом первый нагнулся к нему и тихо спросил:
— Отчего ты такой трус, немец?..
Немец опустил руки и разжал их. Блеснула золотая цепочка с образком святого. Руки дрожали, дрожал образок, и он ответил дрожащим голосом:
— Ich bin Katholik. Ich möglich nicht puf, puf[28].
Первый опять рассвирепел:
— Ах, ты католик!.. Значит, в себя выстрелить ты не можешь, поскольку ты католик, а в наших ребят запросто… Наших-то небось много положил… Говори, положил, сукин ты сын?!
— Оставь его… — буркнул второй и сплюнул.
Внизу шумел поток. Шумел так, будто над лесом летали голуби. Прежде они не замечали этого шума, но теперь внимательно вслушивались, словно речушка нашептывала им что-то на ухо. Второй вдруг остро ощутил свою кровную связь с этой землей и задумался, зачарованный музыкой, которую природа всегда с неизменным мастерством исполняет на одном из своих инструментов. Сейчас этой музыкой было журчанье горной речки, но ею может быть и дуновение ветерка или шелест крыльев. Всегда найдется такое, что притягивает человека к этой земле. И человек сживается с ней. Ибо земля — добра.
Поэтому второй еще раз сказал:
— Оставь его…
Но первый был более крутого нрава.
— Ты им там не мог сказать, чтобы нам дали какого-нибудь неверующего? Католик, католик… Как нам теперь быть?! Пойми, это же приказ!
И второй прошептал:
— То-то и оно. Приказ есть приказ.
Немец смотрел на них молча. Только углубились морщины на его лице — у губ, носа и глаз. И глаза у него стали какие-то другие. Словно выцвели. И губы обесцветились. Будто к ним прилипли листья пересохшей травы. Желтоватой, сморщенной, сухой травы. Немец, не сводя с них глаз, медленно, как бы готовясь к чему-то тайком, поднял кисти рук к вспотевшей шее и так же медленно, почти торжественно, застегнул на ней цепочку.
Закончив свой ритуал, он повернулся к косогору. И вдруг… побежал. Но не направо или налево, а прямо, вверх, по крутому и открытому склону.
— Удирает! — закричал первый.
И, как по команде, раздалась автоматная очередь, ей вторили выстрелы карабина.
Немец резко остановился, выпрямившись во весь рост, потом дернулся, поворачиваясь набок, и стал клониться к земле.
Скатился он почти на то самое место, откуда начал свой бег.
— Слышь, а как его звали? — спросил первый.
Второй тер руками лицо.
— Кажется, Курт… Курт… Не помню точно.
Первый посмотрел на автомат. Облегченно вздохнул.
— Вот и всё. Мы выполнили приказ.
— Да, — кивнул второй, — выполнили.
Когда они шли лесом назад, под их ногами трещал сухой валежник, а в глаза то и дело ударяли пробивавшиеся сквозь ветки деревьев лучи осеннего солнца. К их лицам приливала кровь.
Лес уже кончался, когда второй спросил:
— Слышь, а чего он не бросился влево, в молодой ельник, или направо, вниз, к речке? Зачем он дунул вверх по косогору?
Первый не отвечал. Когда они прошли еще немного, второй опять заговорил:
— Твоя правда. Самое главное, что мы выполнили приказ.
Перевод со словацкого Н. Попова.
Эдуард Петишка ЛЕГЕНДА О СЧАСТЬЕ
Как письмо, что вернулось: адресат неизвестен, —
остановишь свой бег в урочный час.
Улицы полны неизвестных тебе адресатов,
ибо каждый из них еще несет письмо,
которое его нашло.
Как грустно мять пальцами воздух,
когда у кого-то в руках
шелестит исписанная страница.
Нет послания безжалостней того,
что мы напишем себе сами.
С юных лет он чего-то ждал. Жизнь только начиналась, каждый день был как распахнутые настежь двери, он входил в них в ожидании чего-то, что не имело ни формы, ни названия и было подобно награде. Он был убежден, что заслужил эту награду. Счастье. И ждал счастья, которое неожиданно поразит его, ослепит как молния. Без предупреждения, потому что счастья — он был уверен — нельзя предугадать.
Чем старше он становился, тем меньше признавался себе, что верит в счастье. Он стыдился этой веры, но совсем отказаться от нее не мог. Привык бесконечно ждать, после пятидесяти эта привычка ослабела, как слабеет зрение, но все же не настолько, чтобы появилась нужда в очках.
Шестнадцати лет Войта уже блуждал по окрестностям в меланхолическом одиночестве, какое бывает только в шестнадцать, не потому, что нас покинули друзья, а потому, что мы сами решили покинуть их, чтобы добраться до самой сути некоего познания, которое еще слишком робко и потому доступно лишь ищущему одиночке. А разве одиночество не мать ожидания?
Приехав сюда, он с первого же дня в заброшенном дальнем уголке курортного парка почувствовал себя как дома. Он приехал лечиться, но здесь, в этих зарослях, в сплетении веток и листьев, ему было по-домашнему хорошо. Есть такие места. Увидишь — и ты дома, хоть прежде никогда тут не бывал. Жалко, что идет дождь. Вот если бы на эту бегущую через чащобу тропинку светило солнце!
— Не горячо? — спросила курортная сестра.
Войта оторвался от своих мыслей. Он лежал на спине, под ним — пирог из теплого, почти горячего торфа, и сестричка рукой в резиновой перчатке накладывала ему на живот черную горячую торфяную грязь.
— Нет, не горячо, — ответил он. Хотел сказать сестричке что-нибудь приятное, но ничего не придумал. И лишь добавил: — Все в порядке.
Сестричка пошла смывать с перчаток торф, вода плескалась, вытекая из крана, и всхлипывала в умывальнике. За окном тоже плескалась вода. До середины забеленное окно позволяло видеть только верхнюю половину мира. Дождь устремлялся с крыши в засорившийся желоб и хлестал через край. Навес за окном, откуда носили горячий торф, был дырявый, и тускло мерцавшие шнуры воды свисали под ним, развеваясь по ветру.
— Настанет потоп — и всему придет конец, — заметил Войта с надеждой, которая поразила его самого.
— Да? — отозвалась сестричка. То, что говорили пациенты, ее не касалось, она над этим не задумывалась. И обычно на все отвечала вопросом: «Да?»
Настанет потоп — и всему придет конец. Чему конец? Ерунда какая-то! Сейчас он лечится. На курорте. Вот вернется на работу, тогда действительно можно ждать катастрофы. Или чуда? Вдруг его похвалят. Он никогда не знал, что его ждет. Потоп смыл бы и заброшенный уголок курортного парка. Этого уголка было бы жаль. Хотелось его сохранить.
А виной тому один сад, очень похожий на этот уголок. Сад, на который он набрел как-то воскресным днем, когда ему было шестнадцать и когда он любил бродить за городом. Всегда один, без определенной цели. У него была единственная волнующая и полная тайны цель — что-нибудь найти. Что-нибудь, чего не было ни в квартире, где он жил с родителями и младшим братом, ни в школе, ни в книгах. Счастье? Тогда он не понимал, чего, собственно, ищет. Теперь, когда молодость позади, он смутно сознавал это. Он искал себя, вернее — кого-то, кто бы, подобно ему, страстно мечтал о согласии, гармонии, о чем мир, ввергнутый в войну, словно забыл. Гармония. Да. Но где она?
Если бы хоть кто-то когда-нибудь считался с его пожеланиями! А то ведь в комнату к нему подселили человека, который всюду разбрасывает свою одежду: по стульям, по столу и даже по полу. Когда сегодня утром Войта уходил, этот человек еще спал. Войта встал рано, чтобы по дороге на процедуры купить газету, потому что, когда он возвращался, газет уже не бывало. Вышел заблаговременно, но газету так и не купил. Только взялся за ручку двери, как продавщица, отделенная от него витриной, повернула ключ. Через стекло он видел лежащие на прилавке газеты. Судя по табличке на двери, еще должно быть открыто, однако ей пришло в голову запереть киоск. А ведь прекрасно видела, что за дверью покупатель. Никто не желает хоть в чем-то пойти ему навстречу! Да что там — навстречу! Было бы хорошо, если бы все выполняли свои обязанности хотя бы не хуже его самого. Войте виделась длинная череда проявлений безответственности, халатности, равнодушия — и от этого сильнее заколотилось сердце.
Уже три дня не переставая лил дождь. Дорожки в курортном парке размокли, песок на них был прорезан глубокими бороздами, на газонах стояла вода, маленькие кафе были до отказа забиты людьми, а в его комнате сосед расшвыривал одежду. Мир вокруг был мокр и многолюден — куда ни глянь, сплошной беспорядок!
Войта с трудом заставил себя не думать о соседе, который наверняка снова проспал свои процедуры, не думать о киоскерше, которая закрыла дверь перед самым его носом, — и это ему в общем-то удавалось. Потом прогнал мысль о работе и о выполнении плана — все равно отсюда ничего не ускоришь, сколько об этом ни думай. Он постарался отодвинуть неприятности подальше, в темный угол, отвернулся от этого угла. И поскорее что-нибудь приятное. Что-нибудь.
«Пускай снова будет воскресенье, как четыре десятилетия назад, пускай снова будет это воскресенье», — пожелал он. Закрыл глаза, и воскресенье пришло, обволокло его солнцем и сладким предчувствием чего-то, еще не имеющего названия. Он поднимался по склону холма; город, который он покинул рано утром, был далеко. Здесь, на склоне, росли кусты терновника и шиповника. На терновнике уже были зеленые плоды, шиповник цвел, и розовое море сопровождало Войту до самого дома на косогоре. Никогда прежде Войта здесь не бывал, но сразу почувствовал себя по-домашнему хорошо. Это был необычный дом. Весь из песчаника, который на открытом воздухе посерел и почернел, стал похож на кладку старых замков. Он был двухэтажный, с балконом, украшенным чугунной решеткой. Шиповник подкрался к живой изгороди из роз, окружавшей дом и сад, протягивал колючие пальцы к своим сестрам — вьющимся благородным розам, а те, добредя до самой стены дома, взбирались по ней на балкон. Сказка об уколовшейся шипом дикой розы Спящей Красавице.
Сестричка приоткрыла дверь и заглянула.
— Все в порядке?
— В порядке, — ответил он, не открывая глаз, чтобы не покидать свой наблюдательный пункт за живой изгородью, в которой он уже заметил проем, достаточно широкий, чтобы проскользнуть между разросшимся златоцветом, одичавшим крыжовником и стволами яблонь, с северной стороны покрытых лишайником.
Войта крался по заброшенному саду, как пришедшая поохотиться бездомная кошка, и все поглядывал на дом. Он не был уверен, что за ним никто не наблюдает. «Если кто-нибудь остановит, скажу, что ищу Новаков», — придумал он и стал пробираться дальше, в глубь сада, после зеленых и золотых бликов утопая в глубокой синеве теней. Сад был разбит на склоне, весь то куда-то проваливался, то устремлялся ввысь, в самых неожиданных местах его пересекали ложбинки, которые, очевидно, прежде были дорогами, а ныне, перерезанные живой изгородью, никуда не вели.
Стоя на одной из таких заросших дорог, он вдруг увидел в траве обрызганный солнцем шезлонг и в нем девушку-подростка.
На девушке были синие шорты и синяя блузка с короткими рукавами, она сидела, обняв скрещенные ноги, и смотрела туда, где из гущи кустов вынырнул Войта. Рядом с девушкой в траве примостилась немецкая овчарка; навострив уши, пес уставился на незнакомца. Он вел себя дисциплинированно, не лаял, и только по напряженному подрагиванию передних лап было видно: он ждет лишь приказа, чтобы кинуться на Войту.
— Ни с места, — сказала девушка строго. Как показалось Войте, слишком строго, потому что явно была не старше его. — Ни с места, — повторила она. — Или я натравлю собаку.
Войта и так не сделал бы ни шагу. Он был поражен, что в такой глуши кто-то живет, что тут даже есть шезлонг и что этот «кто-то» — молоденькая девушка. Удивленный, смущенный, он не двигался с места.
Девушка удовлетворенно кивнула, а овчарка свесила большой розовый язык. «Ага, по-собачьи это обозначает «вольно!», — понял Войта.
— Чего тебе? — спросила девушка. Голос у нее был приятный, но строгий.
— Я ищу… — нерешительно произнес Войта, — я ищу Новаков. — И покраснел.
— Ах так! Ясно, — сказала она. — Говори прямо, чего тебе здесь нужно, или я натравлю собаку.
Овчарка убрала розовый язык. И снова была начеку.
— Да так… — Войта тщетно искал отговорку, — так… просто шел мимо… я по воскресеньям всегда…
— Лазаешь по чужим садам? — перебила она. — Подойди. На пять шагов, ровно на пять.
Он не шелохнулся.
— Ты слышал?
— Слышал. Только мной нельзя командовать, как твоим псом.
— Боже, какие мы важные!
— Если я тебе мешаю, могу и уйти, — сказал Войта, но самому хотелось, чтобы он ей не мешал.
— Подойди ближе, — потребовала она.
Но стоило ему пошевелиться, как пес насторожился. — Придержи собаку.
— Не бойся, — рассмеялась девушка. — Аякс тебя не тронет. — И уточнила: — Если я не захочу.
Войта опустился на пень против шезлонга. Вокруг жужжали пчелы, теплый, напоенный солнцем воздух был пронизан порханьем, круженьем, бликами, и все, что Войта вдыхал, видел и слышал, было насыщено тонизирующим ароматом позднего лета, уже открывавшего на верхушках деревьев первые желтые листья — ранние морщинки на гладком челе. Конец лета уже высылал своих гонцов. Войта сидел против девушки, всеми порами вдыхая эту красоту и печаль, пробивавшиеся наружу откуда-то из глубины, точно слезы разлуки.
— Что с тобой? — спросила она.
Разве об этом расскажешь?
— Ничего, — ответил он.
И тут в пчелиное жужжание, в тонкий жалобный звон насекомых ворвался новый звук — протяжный, волнообразный, пустой и мертвый. Звук, который никак не вязался ни с пчелами, ни с мухами. Далекий, то высоко вздымающийся, то стремительно падающий звук сирены. Он звенел тонко — ведь между садом на холме и городом были еще поле, и луг, и лес, и река.
— Тревога, — сказал Войта, продолжая сидеть. Город был так далеко! Девушка быстро поднялась.
— Беги в подвал.
— Зачем? — Ее страх забавлял Войту. — Здесь? В подвал?
— Не изображай героя, — рассердилась девушка. — По ту сторону, — взмахом руки она показала на вершину холма, — аэродром. Знаешь, что здесь могут натворить пикировщики?
— Еще бы! — Он улыбался, но не вставал. Каким возмужавшим и взрослым чувствовал он себя в эти минуты! И все время улыбался.
— Иди. — Лицо ее сморщилось, точно она вот-вот заплачет.
Но нигде ничего не происходило, только сирена вдали завывала тоненьким голоском, словно совесть времени, которое, казалось, навсегда ее утратило. Город, что был за лесом, ни разу по-настоящему не бомбили, слишком он был незначителен, а этот аэродром по другую сторону холма — да таких аэродромов хоть пруд пруди!
— Если не спустишься со мной в подвал, натравлю на тебя собаку, — сказала она.
Он поднялся и пошел. Впереди девушка, за ней пес, а замыкал шествие Войта. Пес временами на него оглядывался. Девушка не оглядывалась. Она спешила.
В коридоре дома солнечные лучи сменились полутьмой, после хрусткого сухого лета Войту обволокла промозглая сырость — он даже вздрогнул. Как будто подвал начинался сразу же за входной дверью. Не успев толком оглядеться, Войта уже спускался вслед за девушкой и псом в подвал. Девушка свернула направо, потом еще раз направо, и они оказались в каком-то сером подземелье. Пахло картошкой. Оконце под самым потолком снаружи было прикрыто защитным козырьком из бетона. В закутке стояли бидон с водой, ящик с песком, лопата и кирка. На скамье были приготовлены три сложенных клетчатых одеяла.
— Ого, да тут у вас настоящее бомбоубежище! — Взмахом руки Войта обвел помещение.
Ничего не ответив, девушка протянула ему одеяло.
— Зачем? — удивился он.
— Накинь, простудишься. — И сама завернулась в одеяло от подмышек до сандалий.
Пес уселся под оконцем на пустые мешки. Это было его место. Убежищем пользовались.
Войта завернулся в одеяло, но продолжал ворчать:
— Ничего бы не случилось, если бы мы остались на солнце.
— Ты хоть знаешь, что такое бомбежка?
Он замолчал. Они сидели рядышком, на одной скамье, закутанные в одеяла. Вдруг наступила такая тишина, что стало слышно, как дышит собака.
— Ты одна тут живешь? — спросил наконец Войта.
— Нет. Тетя с дядей уехали в Прагу.
Пес чуть посапывал. Летняя сушь раздражала его бронхи.
— Ты здесь на каникулах? — снова спросил Войта.
Девушка кивнула. Она сидела совсем близко, стоило протянуть руку, и можно было обнять ее за плечи. Но Войта не посмел.
— Что они так долго тянут? — произнесла девушка. Носком сандалии она нетерпеливо ковыряла кирпичный пол. Снаружи было тихо, но налет мог начаться каждую минуту.
— Не обращай внимания, — с чистой совестью успокаивал ее Войта. Сам он решительно не обращал на это внимания. Как и все в их семье, он был убежден, что война вот-вот кончится и что они благополучно и в добром здравии дождутся мира. О смерти он не думал. Смерть уже воспринималась им только как справедливое возмездие врагу. — Не бойся, — успокаивал он девушку, как недавно та успокаивала его, когда он испугался овчарки.
— Летит! — Она судорожно вцепилась в скамью — даже суставы пальцев побелели. Словно опасалась, что, если она не будет крепко держаться, скамья под ней опрокинется.
Собака отрывисто залаяла. Она тоже услышала где-то там, на непонятно какой высоте, звенящий звук и подняла нос к сводчатому потолку подвала.
По другую сторону холма загрохотали зенитки. Дом сотрясался и дребезжал, казалось, он бьет невидимыми крыльями, — всюду треск, хлопанье, гулкое громыханье.
— Сейчас начнется, — сказала девушка. — Это пулеметные очереди. Стреляют по самолетам на аэродроме… — Она держалась за скамью; грохот рос, небо с воем кидалось на землю, а земля с треском взмывала к небу.
Внезапно девушка отпустила скамью и, обняв Войту, прижалась к нему, а пес подполз и улегся у их ног.
Войта что-то говорил, сам не зная что, и, только когда шум на мгновение стих, услышал свой голос, повторяющий:
— Это ничего, ничего, ничего…
И вновь небо ринулось на землю, а пулемет затарахтел длинной очередью будто совсем рядом. Потом еще раз где-то громыхнуло — и наступила тишина.
Войта понял, что девушка его обнимает. Прижимается к нему всем телом. Он чувствовал ее ногу, ее плечо, ее тело, упругое и нежное, ощутил горячую влагу ее пота, быстро остывавшего здесь, в подвале. Несколько таких секунд достаточно, чтобы любовь пронзила сердце.
Девушка разомкнула руки и отсела дальше. Вновь стало слышно, как дышит собака. Язык свисал из ее пасти. Потом овчарка закрыла пасть, поднялась, заковыляла к выходу и села у двери, как бы ожидая их.
— Аякс, — сказала девушка, и неясно было, то ли она кличет собаку, то ли укоряет, то ли просто хочет выразить охватившее ее чувство неимоверного облегчения.
Пес насторожил уши.
— Вот и все, — сказал Войта. Легко и небрежно. Так по крайней мере ему казалось. На самом деле он произнес это так, точно по складам читал какую-то книгу.
Они сидели на скамье и исподтишка рассматривали друг друга. Девушка делала вид, будто глядит на собаку, Войта — словно не отрывает глаз от оконца. Порой он натыкался на ее взгляд. У нее были большие карие глаза, в подвальном сумраке они сияли.
— Как тебя зовут? — спросила она, продолжая смотреть на собаку.
— Войта, — ответил он, глядя в оконце. — А тебя?
— Маша.
Ветер донес через оконце далекий звук сирены. Протяжное завывание означало отбой. Оно было громче того, что объявляло о начале налета. И не казалось мертвящим.
Они вышли и из сумрака подвала попали в летний солнечный день. По-прежнему жужжали пчелы, теплый воздух дрожал от трепета легких перепончатых крылышек, мушиного жужжания, сухих и густых запахов. Словно ничего не случилось.
Обходили дом с другой стороны, где был фруктовый сад. Войта нес за девушкой свое восхищение и свою преданность. Ему нравилось, как она шла, как рвала красные летние яблоки, как предлагала их ему. Он надкусил яблоко и ощутил еле приметную горечь — как бы привкус ее страха. Он жил в раю, и Ева протянула ему яблоко. Этот рай — место, где он был как дома.
Обогнув дом, они вернулись к шезлонгу. И застыли в изумлении.
Шальная пулеметная очередь прошила шезлонг. Прорванный полосатый тик лохмотьями свисал на траву; пень, на котором недавно сидел Войта, был надколот…
— Ну, как мы себя чувствуем? — спросила сестричка. И, не ожидая ответа, добавила: — Будем вставать.
Войта промолчал. Он видел себя, молодого, стройного и здорового, а рядом — ту девушку в синих шортах, с карими сияющими глазами, внимательно рассматривал обоих в тот момент, когда они уставились на шезлонг. Потом юноша поднял руку с огрызком яблока — огрызок был большой, Войта успел откусить всего два раза — и швырнул его через живую изгородь куда-то в поле.
— Поднимаемся, поднимаемся. — Сестричка стащила с Войты одеяло.
Оно было не клетчатое, а обыкновенное, коричнево-зеленое. Сестричка сняла полиэтилен, прикрывавший торф, и ловкими движениями начала сгребать с его живота еще теплую грязь. Войта смотрел на свое выступающее из торфа тело, на порозовевшую от влажного тепла кожу — на себя, уже ничем не напоминавшего того юношу у шезлонга.
Снова попасть к тому дому удалось только через две недели. Дом был заколочен. Потом Войта ходил туда регулярно. Но напрасно. Ставни были закрыты.
Он возвращался на это место с неотступной мыслью, что должно быть какое-то продолжение. Ведь смысл столь удивительного события не мог сводиться к тому, что все лишь началось. В тот день для него началось все. Большего, пожалуй, и начаться не могло.
Ставни открылись только после войны. Поднимаясь по склону, он увидел, как поблескивает стекло в окнах. Взбежал на холм, набирая в легкие благоухающий сиренью воздух. За живой изгородью цвела белая и лиловая сирень, в небе цвели белые облака, каменный дом тоже цвел, тайно и неприметно.
— Кого вы тут ищете? — спросил незнакомый старик, который жег за изгородью сухие ветки.
Войта назвал имя. Только имя.
Старик ее не знал, но дал Войте адрес прежних домовладельцев. Войта поехал искать их в Прагу. Там жили чужие люди с другой фамилией. Нет, о такой девушке они никогда не слыхали. Маша исчезла. Он надеялся ее найти. Ждал.
В душевой кабине по деревянной решетке забарабанили струйки теплой воды. Войта начал смывать с кожи полосы грязи — рассеянно, без всякой последовательности. Человек ждет, а время бежит, и с бегом времени он ждет всегда на новом месте.
— Ну-ка, покажитесь. — Сестричка взяла из его рук шланг душа. — Я помогу вам. Что сказала бы ваша супруга, если бы вы притащили домой этакую грязь?
— Я не женат.
— Ваше счастье, ей-ей, ваше счастье. — И она направила струю ему на спину.
Счастье?
Когда она проводила его по коридору в комнату отдыха и стала заворачивать в сухую простыню, уже забыв, о чем только что шла речь, он сказал ей, не мог не сказать. Никогда это не было ему так ясно, как теперь.
— Счастье… — сказал он. — А вы знаете, сестричка, что такое счастье? Это то, чего мы ждем.
— Да? — произнесла она.
Но в глубине души Войта был убежден, что счастье не в ожидании.
Он лежал, чистый, распаренный теплым душем, завернутый в простыню, уже снова один, потому что сестричка ушла обкладывать торфом другого пациента. Разумеется, ждать — какое в этом счастье? И еще вопрос: не слишком ли долго он ждал? Возможно, где-то допущена ошибка. Ждать — и только ждать! Возможно, надо было строить жизнь как-то иначе. И все же в сказанном сестричке он ничего не стал бы менять.
За стеной шумел дождь, но в комнате отдыха было сухо и тепло. И Войта отправился по знакомой, пронизанной солнцем дороге вверх по склону. Но что-то в этой дороге теперь перестало ему нравиться.
Перевод с чешского В. Каменской.
Петр Проуза ПОСЛЕДНЕЕ СОЛО ТОНИ ПОЛЛО
— Спешку придумали нетерпеливые люди, которые всегда недовольны, — медленно проговорил пан Польцар, крепко держа меня за руку.
— Ты, Лукашек, побудь тут со мной. До завтра еще столько времени, мало ли что может случиться, обожди ты с этим велосипедом. Может, ты завтра и не поедешь.
— Ну да! Еще как поеду! Мне нужно занять первое место! — выпалил я в обиде.
— Ах, извините, тогда беру свои слова обратно. Раз нужно, значит, нужно. Занимай первое место. А я тебе тогда поднесу медаль. Но все равно погоди маленько, нам с тобой надо тут кое-что доделать.
Нам? В ту минуту я стоял в дверях нашего туалета и по команде пана Польцара подавал ему различные инструменты. Он что-то ловко привинчивал в бачке, толковал при этом о системе, о времени и бог знает о чем, балансируя на маленькой табуретке, которая нестойко держалась на большом стуле.
Я хотел выбежать только на минутку, ведь ребята наверняка ждали меня у дверей, и я хотел им крикнуть, что догоню их, но этот пан Польцар смеялся над физкультурой и спортом, потому и мои тренировки тоже не принимал всерьез.
Он вообще ничего не принимал всерьез, и это мне ужасно нравилось, хотя мама, слушая его, иной раз изо всех сил вращала глазами и мотала головой, указывая при этом на меня, стараясь дать ему понять, что такие речи не для моих ушей.
Что касается прочего, то мама не могла нахвалиться паном Польцаром, потому что он умел починить и исправить в нашей хибаре почти все, а наш дом в Гайнице очень в том нуждался.
Раньше мы ездили сюда, еще с папой, довольно часто, я тогда еще и гвоздя забить как следует не мог, папа надо мной смеялся, и я начинал хохотать вместе с ним.
Это было давно. Потом папа вместо Орлицких гор стал выезжать в заграничные командировки, налаживал там новое оборудование, и через Прагу проносился как метеор, так что меня и не успевал заметить.
Еще позднее они с мамой кричали друг на друга за закрытыми дверями — подразумевалось, что я их не слышу, а потом какое-то время, наоборот, не разговаривали друг с другом совсем и общались через меня, будто два иностранца.
Потом уже ничего не было. Папа исчез, а мама говорила, что в Праге на нее все стены падают и потому мы переедем в наш сельский дом на постоянное жительство.
Так случилось, что в это время ушла на пенсию пани Ганоускова, много лет работавшая на почте в Гайнице, и мама без труда получила ее место, потому что в Праге она заведовала районным отделением связи. Здесь же она должна была делать все.
Все ей приходилось делать и в нашей хибаре, которая в последние годы сильно похилилась. Но потом в дело решительно включился пан Польцар; он жил неподалеку от нас, и ему, видно, надоело глядеть на наше с мамой неумелое хозяйствование.
— Знаете что, паничка, я вам вашу виллу приведу в порядок, мне нельзя терять сноровку. И краска у меня тут еще осталась, и кой-какие доски, и даже новый сортирчик. Я за ним столько гонялся, и вдруг привалило сразу два, куда мне столько, я же не маэстро Липуччи.
Нет, он был вовсе не маэстро и не Липуччи. Пан Польцар был невысок ростом, но крепкий, мускулистый, он ходил особой походкой, делая мелкие быстрые шажки, с его румяного обветренного лица глядели два веселых, ярко-синих глаза. Он любил рассказывать.
В тот день ребята меня не дождались и уехали на тренировку одни, ибо пан Польцар начал мне рассказывать ужасно интересные вещи про маэстро Липуччи, у которого в фургоне было два клозета, потому что он был знаменитым пожирателем огня и у него в связи с этим были неприятности с пищеварением. Дело в том, что пан Польцар много лет был циркачом — мирового класса, как он говорил. С разными цирками он объехал всю Европу, и даже в Америке побывал, и в Японии. Он прогуливался по городам, сами названия которых заставляли меня трепетать: Триест, Копенгаген, Рига, Монте-Карло, Флоренция, Эдинбург. И он описывал эти пункты своих цирковых остановок так зажигательно, как будто я сам гулял с ним по этим городам.
Часто он был в этих отдаленных местах один-одинешенек, единственный чех в пестрой международной труппе, потому что в годы своей самой громкой славы он был Тони Полло, как печатали его имя на цирковых афишах, наилучший в Европе и в мире дрессировщик, укротитель диких зверей. Тони Полло первым из дрессировщиков свел в одну группу львов, тигров и пантер. Номера его были эффектны и часто небезопасны. Позднее он перешел на других зверей — дрессировал медведей, шимпанзе, верблюдов и лам. В конце же своей цирковой жизни, вновь под своим именем Антонин Польцар, он ухаживал за животными других укротителей, чистил их и кормил, а под самый конец он ездил с цирком Умберто.
В Гайницу он вернулся после долгих лет, когда умер его брат и пустовавший домишко уже начал ветшать. Несколько месяцев он поднимал и доводил до кондиции свое хозяйство, потому у него и собралась куча строительных материалов.
В гайницкий дом пан Польцар привез с собой свой малый зверинец: ослика, несколько персидских и сиамских кошек, тяжелого, но при этом очень быстрого сенбернара по имени Юмбо. Во дворе бегали в огромном количестве куры, гуси, утки, в клетках теснились кролики. Все это словно чудом бурно размножалось и росло, так что пан Польцар то и дело предлагал односельчанам котят, гусят, кроликов и яйца.
Из-за этого зоопарка на дому никто его особенно не посещал, да, по правде сказать, пан Польцар никого к себе и не звал. Когда мы окончательно утвердились в Гайнице, пани Ганоускова предупредила маму насчет «этого старого дурака», у которого под кроватью, говорят, свились колечком змеи. Скорпионов в карманах пан Польцар явно не носил, это пани Ганоускова сильно преувеличила, я бы это заметил, приглядываясь к нему, пока он у нас работал.
Досказав мне тогда историю маэстро Липуччи, он вышел со мной на улицу и мелкими быстрыми шажками, немного пригнувшись, будто был в цирковой клетке, направился к своему дому.
Мне надо было торопиться, чтобы убежать, пока не вернулась мама; она бы меня еще задержала обычными разговорами о простуде. С тех пор как мы остались с ней одни, мама все боится, как бы чего не случилось, и все время беспокоится обо мне.
Я оседлал своего золотистого «фаворита» и что есть мочи закрутил педали. Я молнией промчался мимо пана Польцара, который прокричал мне вслед: «Держись крепко! Смотри не упади!»
Я гнал велосипед через всю Гайницу в гору, по дороге, зигзагами поднимавшейся к главному шоссе, которое тоже, слегка изгибаясь, шло на подъем и спускалось только к районному центру, точно двадцать пять километров, отрезок, на котором завтра мы будем соревноваться.
Когда мы переехали из Праги, я первым делом осведомился о велосипедной секции, куда принимают и подростков. Все оказалось просто: случайно в ближайшем райцентре была очень приличная команда велосипедистов.
В команде подростков я и познакомился с Вашеком и Ольдой, которые жили в деревнях неподалеку от Гайницы, и вместе с ними стал ездить на тренировки.
Я нагнал ребят вскоре после выезда на главное шоссе, подстроился к ним и, чтобы как-то оправдаться, рассказывал им урывками, когда мы останавливались, про пана Польцара, то есть, собственно, про Тони Полло, но про медаль и про то, что я должен победить, я им, разумеется, не говорил, потому что победить хотели мы все трое.
В ту последнюю тренировку мы не очень-то выкладывались, но все равно вернулись домой уже затемно. Мама, к моему удивлению, особенно меня не ругала, она знала, что на другой день чемпионат, к тому же была пятница, а в пятницу она сидит на почте до восьми часов и очень устает.
— Пан Польцар велел сказать, что в воскресенье займется ванной, — затараторил я, чтобы она не заметила моей мокрой от пота майки.
Бедняжка мама тотчас поддалась на провокацию и с воодушевлением заговорила о том, что́ мы еще с помощью пана Польцара устроим в своем гайницком гнезде, какой это будет образцово-показательный дом, что в нем и не узнаешь старую развалюху.
Она любила говорить о том, что мы сумели сделать, как бы люди в Праге дивились, чего мы с ней можем добиться. «Людьми», в сущности, был всего один человек — мой папа. Он бы и в самом деле дивился, но только на дом, нас бы он и не заметил.
В субботу я проснулся сам собой невероятно рано и заверил себя, что должен победить. Ради мамы, чтобы ей была радость, ради папы, чтобы можно было это ему сообщить в двух фразах, чтобы видел, чтобы вправду дивился, а еще мне надо победить ради пана Польцара, раз я перед ним так хвалился и раз он мне обещал медаль.
Это было не так легко. Сначала я оторвался и долго ехал один впереди, но на второй половине дистанции меня догнали три парня, в том числе и мой приятель Вашек, на финише я крутил педали что есть мочи, я чувствовал кровь на нёбе, ноги сводила судорога, но я пришел первым.
О соревнованиях написали в районной газете, и с тех пор главный гайницкий болельщик всех видов спорта почтальон Квайзер называл меня «чемпион».
Пан Квайзер писал свою фамилию через Q: Qaiser, и горе тому, кто неосторожно обозначал его как Kvaiser’а, он ужасно этим Q гордился — больше, чем я своим чемпионством. Главной его специальностью был футбол. Он с солидным видом выдавал километровые комментарии по каждому поводу — разумеется, тут был хоккей, но также и атлетика, велосипедный спорт, ручной мяч, плавание, баскетбол, гимнастика, словом, все дисциплины, поминаемые в Спортлото; но футбол он знал во всех тонкостях.
Я носил маме на почту еду, и пан Квайзер, который в обед тоже там обычно бывал, вместо десерта угощал меня своими догадками, каков был результат матчей в первой лиге, — это по понедельникам и вторникам, в остальные дни рассуждал о том, каков этот результат будет. Я сам прилежно читал газету «Спорт», составы команд, входящих в лигу, знал наизусть, поэтому мог со знанием дела подыгрывать ему в его тактических маневрах.
— Пани заведующая, ваш Лукаш — правильный парень, потому что он по-настоящему разбирается в футболе, не то что наш Ярда, который путает пенальти с пеналом, — хвалил меня пан Квайзер маме.
Его сын Ярда, мой соученик, хотел стать астрономом; он решал уравнения для всего класса, но, путая пенальти с пеналом, не мог поддерживать заинтересованный разговор с отцом о футболе. Все-таки лучший вариант, чем мой; я со своим отцом ни о чем не разговариваю.
Роскошные оргии футбольных сплетен разыгрывались на почте каждую пятницу, когда в полдень к почтальону приходил местный парикмахер пан Студанка.
Эти двое уже испокон веков заполняли карточки спортивного тотализатора, «Сазки». Спортлото они презирали; в Спортлото играют только люди спортивно малограмотные, в то время как тотализатор требует хорошо развитых извилин, так любил выражаться почтальон. Они старательно взвешивали шансы отдельных команд, наших и зарубежных, они выдавали двойные, тройные и не знаю какие еще комбинации. За эти годы они уже несколько раз выигрывали вторую премию, но первую всего один-единственный раз, и в их воспоминаниях постоянно фигурировали те двенадцать тысяч крон.
После моего победного финиша произошло еще кое-что. Пан Польцар не забыл про медаль. В первый же день после соревнований, когда он к нам пришел доканчивать ванную, он, правда, до самого обеда ни словом об этом не обмолвился, но, когда подошел обеденный перерыв, хитро поглядел на меня, смеясь глазами, и сказал:
— А теперь приступаем к награждению. Ты занял первое место? Занял. Теперь ты идешь со мной, потому что тебя ждет медаль, как я и обещал.
И в самом деле, мы отправились к нему домой, что само по себе было уже событием выдающимся. Невольно я припомнил ядовитых гадов и прочую нечисть, о которых с содроганием рассказывала пани Ганоускова.
Никаких гадюк или ящериц не было видно. В длинном коридорчике, правда, прогуливался приземистый кроткий ослик, но это и было единственным сюрпризом. С Юмбо и стаей кошек я был уже знаком, так что единственное, что меня в его доме удивило, так это прямо-таки образцовый беспорядок в просторной комнате и прилегающей к ней кухоньке, который привел бы мою маму в ужас. На незастланной постели резвились кошки, на большом столе рядом с остатками завтрака — теперь, летом, — скомканный ярко-красный шерстяной свитер, куча журналов, печеные яблоки, крынка молока и масса других вещей. На двух старинных расписных сельских сундучках стояли кованые подсвечники, всюду царила пестрая и веселая неразбериха.
Но главное зрелище было на стенах комнаты и кухни. Плакат на плакате, один другого ярче, по большей части ослепительные и красочные зарубежные цирковые афиши, а среди них большие фотографии в рамках. Еще там был длинный укротительский бич с серебряной ручкой, а на шнурках свисали три прекрасных цилиндра.
На многих фотографиях выделялся Тони Полло. Молодой атлет в кожаном костюме и высоких сапогах выглядел потрясно, и только веселый взгляд над щегольскими усиками был такой же, как и сейчас.
На многих других фотографиях были разные звери, хищники, но также и слоны, обезьяны и собаки.
Прямо над постелью висела самая большая, прямо-таки гигантская фотография — черно-белая афиша, представлявшая молодую женщину, стоящую на какой-то металлической сетке — это был, как я потом узнал, цирковой батут, — левая рука у нее была победно поднята вверх. Она улыбалась прямо в объектив, гордо и самоуверенно.
Я в женской красоте особенно не разбираюсь, но и без надписи Belle Dina понял, что эта пани в мини-купальнике чрезвычайно привлекательна.
— Вижу, тебе понравилась моя женка, — довольно заметил позади меня пан Польцар и, когда я испуганно к нему обернулся, подмигнул мне с заговорщицким видом.
— Она была ваша жена? — спросил я не слишком остроумно.
— Собственно говоря, нет, Лукашек. Но года три мы прожили с ней вместе, ну, знаешь, как это бывает. У нас был свой фургон, мы вместе переезжали из одного цирка в другой. Кроне, Беролина, Эспланада, Рома, я тогда был в наилучшей форме, отовсюду меня приглашали, а Дина ездила со мной. Свадьбу мы все откладывали на потом, когда будет больше времени, когда будет возможность завернуть в Италию, в Римини, где у Дины было, наверное, девяносто девять родственников. Она, видишь ли, была итальянка, дочка маэстро Липуччи, этого факира и пожирателя огня. Она сама выступала с замечательным акробатическим номером: батут, перекладина и вольтижировка. Так мы ездили да ездили, и вдруг бац тебе, гром среди ясного неба. И надо же такому случиться: среди всей этой пестрой мешанины людей со всех концов Европы нашелся парень из наших краев, какой-то Рудла Огрызок из Упицы, он себя называл Руди Летов, мускулы — во, стройный как кедр, он работал под куполом, ну, так вот, он ее у меня и отбил.
Пан Польцар вдруг замолчал, как будто ему и сейчас было от этого больно. Резким движением он выдвинул ящик стола и из кучи вещей извлек изрядно захватанную, но не начатую пачку сигарет «Старт». Но тут же, так же резко, бросил ее обратно.
Я знал, что доктор строго-настрого запретил ему курить, потому что у него барахлило сердце, как он сам легковесно определял свою болезнь. Я неловко молчал.
Сенбернар Юмбо, видимо, знал своего господина лучше, чем я, он наверняка знал его лучше; он тяжелым шагом приблизился к Польцару вплотную, положил огромные лапы ему на колени и большим языком облизал ему все лицо.
— Поди ты, чертяка!
Он хлопнул пса легонько по носу и опять повернулся ко мне.
— Ты не поверишь, Лукашек, но с той минуты я покатился вниз. У меня не хватало терпения дрессировать больших кошек — львов, тигров, — потом я перестал справляться и с обезьянами, и с верблюдами, во мне осталась только тяга к путешествию, к перемене мест, желание видеть новые лица, иные дома. Но всюду я видел батуты — сначала летишь наверх, а потом неизбежно вниз.
Он вздохнул и замолчал. Я все еще стоял перед фотографией прекрасной Дины и потому решился спросить:
— А как же она? Что было с ней?
— Они приготовили вместе новый номер. Руди ее ловил, говорят, все у них было о’кей, сборы делали отличные. Я о них знать ничего не желал, так что не знаю, правда то или нет. Свадьбу они тоже не сыграли, а потом она вроде просто упала. Повредила позвоночник и больше никогда не выступала — может, торговала мороженым в Римини в кресле на колесиках. Правда, другие говорили, что она отошла и вернулась в цирк, но я не допытывался, не знаю. Я хотел, чтобы она осталась во мне такой, какой была, когда мы любили друг друга. Больше ничего.
Я приглушенно кашлянул.
— Я знаю, Лукашек, растрепался старый дед. Но когда ты спросил про Дину, ты во мне отворил все шлюзы.
Юмбо опять неспешно начал приближаться к сидящему пану Польцару.
— Гляди на него, подлеца, — опять меня утешать собирается! Ладно! Я уже перестал. Теперь будет награждение медалью. И надо это соответственно спрыснуть. Изготовим анисовое питье для подростков, чтобы твоя мама не серчала, что я тебя спаиваю. Лукашек, принеси из кухни пузырек с наклейкой «Шимрандо». Он стоит на полке у плиты. А я пока отполирую медаль.
Над сверкающей удивительной чистотой плитой, топившейся углем, тянулась длинная резная полочка, на которой стояли разные баночки, стаканчики, склянки и пузырьки. Кроме нескольких баночек с исконными наклейками, большинство склянок имело наклейки из лейкопласта, на которых ярко-зеленым фломастером было выведено новое названье.
Бутылочку с голубоватыми кристаллами и надписью «Шимрандо» я нашел между аптечным тюбиком таблеток с наклейкой «Хаксна» и флакончиком побольше с надписью «Gul. Super.», что было, как я впоследствии узнал, сокращением, обозначавшим сверхострую приправу для гуляша.
Я взял «Шимрандо» и понес пану Польцару, перед которым уже стоял графин с водой и два стакана и лежал маленький светло-коричневый кожаный футляр.
— Рам-там-бам, ра-тат-бат, бум-бум-бум, это я играю туш, как, надеюсь, вам известно! Внимание! Для вручения награды становись!
Я стал по стойке «смирно», и Тони Полло, сделав два-три шага, приблизился ко мне вплотную. Он открыл кожаный футляр и церемониально повесил мне на шею небольшую золотистую медаль, висевшую на потрепанной трехцветной ленточке.
— У нее такой же цвет, как у твоего велосипеда. А теперь выпьем!
Из пузырька «Шимрандо» он всыпал немного порошку в графин, и вода тут же бурно закипела. Он налил в оба стаканчика, и мы чокнулись.
Я посмотрел на медаль. На ней был выбит шатер цирка шапито, а в нем надпись «Grand prix Paris, 1946».
Сок по вкусу напоминал грейпфрутовый, и я один выпил почти целый графин. Пан Польцар лишь прихлебывал помаленьку, а сам все рассказывал, что, когда и как в каких странах выпивают, и было видно, что он и сам когда-то как следует попробовал все эти вкусные и крепкие напитки.
Почтальон Квайзер и так всюду раззванивал, что пан Польцар порядочный выпивоха и все, что зарабатывает левой работой сверх пенсии, сейчас же норовит пропустить через горло в «Соколовне».
«Соколовна» была самым популярным местом в Гайнице и занимала, наверное, самый большой дом. В одной его половине помещался гимнастический зал, через который можно было сразу выйти на поле местного общества «Сокол Гайница», которое в группе I Б занимало место в самом конце таблицы. В другой половине здания находился просторный ресторан.
Пан Квайзер пил, разумеется, только лимонад и, даже когда выигрывал в тотализатор, пива не пил, потому что, как он сам неоднократно подчеркивал, был «спортсменом до мозга костей». В ресторан «Соколовна» он, однако, ходил регулярно, вместе с парикмахером Студанкой, который, напротив, пил только пиво, кружку за кружкой. Дело в том, что наша корчма служила биржей новостей и сплетен всех местных болельщиков, игравших в тотализатор, а во время сезона там беспощадно раздраконивали результаты игр местной футбольной команды.
В каникулы спортивный зал пустовал, и мы с ребятами после тренировки забегали туда позаниматься на перекладине или покрутить обруч. Изрядно вспотевшие, мы завершали тренировку лимонадом в буфете и каждый раз видели там пана Польцара, сидевшего за столиком с почтальоном и парикмахером в бурных дебатах.
Тони Полло, разумеется, пива не пил, он любил вино, красное, и, пропустив несколько стаканчиков, начинал добродушно подтрунивать над любимцами пана Квайзера, щедро оплачиваемыми рыцарями зеленого поля, которые на манеже небось попадали бы в обморок со страху перед медвежонком-пандой. Почтальон, при мощной поддержке со стороны цирюльника, издевался над циркачами и всякими их дешевыми штучками.
И вот при одной из таких бесконечных кабацких перебранок пан Польцар поддался на их провокацию и совершил невероятное дело. Он впервые в жизни поставил на карточку столь презираемого им тотализатора. Уверенной рукой он вписывал свои предсказания совершенно вслепую, его ничуть не занимала судьба «Баника Острава» или «Спартака Градец-Кралове», а что такое «Стоук-Сити» или «Астон-Вилла», он вообще не знал.
Достопамятное это событие имело место вскоре после моих «медальных» посиделок у пана Польцара, и я о нем узнал лишь в понедельник, ранним утром, когда к нам в дом ворвался вопящий почтальон — в понедельник почта открывается после двенадцати.
— Чудо! Ужасное чудо! Вы только послушайте, пани заведующая! — закричал пан Квайзер уже в дверях, и я сразу же просочился в переднюю, чтобы ничего не упустить; можно было подумать, что наша почта вознеслась на небеса. — Вы знаете, что случилось?! Нет, я не могу этому поверить, не могу! Старик Польцар угадал все результаты. Он получил первую премию! Это чудовищное чудо абсолютно безграмотного человека! Нет, я этого не переживу!
И в самом деле — почтальон бессильно опустился на лавку и стал вытирать пот со лба.
Господи! Первую премию! Вот это да! Да ведь пан Польцар не знает даже, сколько игроков выходят на поле. Как тут не прийти в отчаяние гайницким экспертам!
Вскоре весть о первой премии облетела всю деревню, и уже приходили люди на почту и спрашивали маму, сколько эта премия составит и когда ее будут выплачивать.
Парикмахер Студанка и почтальон подавили вполне понятную зависть и начали убеждать невозмутимого победителя вложить свой капитал в новые, более масштабные предприятия того же рода, что он тогда наверняка выиграет следующие пятнадцать премий, но пан Польцар лишь улыбался в ответ. Впрочем, он совершенно так же улыбался, выслушивая всякие другие предложения на тему, как с деньгами поступить. Когда обнаружилось, что его выигрыш составляет тринадцать тысяч семьсот крон, и мама сообщила ему это у нас дома, как раз когда он доканчивал ванную, он и глазом не моргнул. В конце концов, недаром же он годами хладнокровно дрессировал хищных зверей.
— Вам бы надо съездить на курорт, подлечить сердечко, а остальное положить на книжку. Или купите цветной телевизор, чтобы дома было у вас развлечение, — посоветовала мама.
У меня тоже была идея, как истратить деньги: «Нет, пан Польцар, лучше купите себе туристическую путевку в «Чедоке» и поезжайте по старым местам, в Париж там или в Монте-Карло, где вы были счастливы».
Пан Польцар хлопнул меня дружески по плечу:
— Хороший совет, Лукашек. Быть счастливым, как раньше. Только здесь, внутри, — при этом он постучал себя по груди, — не поможет никакая политура. Для этого нужно кое-что побольше. И я уже что-то придумал. И это лучше, чем пять цветных телевизоров.
— Что б это такое было? — мама не могла сдержать любопытство.
— Секрет. Пока секрет, — улыбнулся пан Польцар и снова энергично ткнул меня. Но эти его речи совсем сбили меня с панталыку, и я ничего не понял.
Лучше, чем пять цветных телевизоров. Наверное, маленький, живой, цветной, полосатый тигр.
На всякий случай я стал распространять слухи, что победитель собирается завести парочку тигрят, а пан Польцар, сам того не ведая, делал все, чтобы подтвердить мою придумку.
Он поехал в районный центр, а оттуда, по-видимому, куда-то дальше, чего раньше никогда не делал. Кроме того, он пробил в своем доме стенку между передней и жилой комнатой, а в дыре шириною в пять дверей повесил цветастый занавес. По крайней мере так в волнении рассказывал почтальон, который все еще не мог опомниться от шока — надо же, почти четырнадцать тысяч за точно угаданные результаты футбольных встреч.
— Это потому, пан Квайзер, — отвечал я на полном серьезе, — что он готовит место для клетки, где у него будут тигрята.
Когда история о тиграх достигла ушей пани Ганоусковой, она отправилась к председателю национального комитета, требуя, чтобы он вмешался в это дело, не то скоро у нас в Гайнице хищные звери будут бегать по улицам и хватать скотину, а там, глядишь, и людей.
Что ей председатель ответил, не знаю, но факт то, что, когда в один прекрасный день в Гайницу прибыл грузовой фургон с пражским номером, все помчались к дому Польцара, чтобы посмотреть, как будут выгружать маленьких тигров.
Но два парня в комбинезонах, выпрыгнувшие из машины, явно не имели дела с хищниками. Они вынесли из автомобиля что-то длинное и тяжелое, что выглядело как чрезвычайно большой запакованный ковер, а потом еще три свертка.
Зеваки начали разочарованно расходиться, а примерно через двадцать минут вышли из дома и двое иногородних, сели в машину и дали газ. Вслед за ними вышел к калитке и пан Польцар. Как всегда, тонко улыбаясь, он аккуратно запер калитку.
— Представление окончено! — сказал он весело, обращаясь к оставшимся зрителям, среди которых, разумеется, были и почтальон с цирюльником. Когда он опять поворачивал к дому, мне показалось, что он мне подмигивает.
— Может, он купил себе персидский ковер, чтобы его иранские кошки лапки себе не отбили. Это было бы в его вкусе, ведь он чудик старикан, — возмущенно говорил пан Студанка почтальону.
— И то правда, коверный из цирка; но что он угадал и английскую лигу, я до сих пор… — Пан Квайзер не окончил фразу в приливе вновь нахлынувшей горечи.
На другой день — это была суббота — я опять проснулся очень рано. Пан Польцар обещал прийти с утра, чтобы покончить с ванной, а я должен был помогать ему лепить кафель и надо было успеть поесть.
Но он не пришел ни с утра, ни к обеду, и тогда мама послала меня узнать, что с ним; не сожрали ли его тигрята, добавила она шутливо.
Нет, тигры никогда не причинили бы ему зла, но что-то нехорошее тут явно стряслось, потому что калитка у пана Польцара была на запоре.
Недолго думая, я вбежал в соседний двор, где вдоль забора росли яблони, влез на ближайшее дерево и оттуда спрыгнул в запустение Польцарова сада.
Я живо застучал в двери дома — тишина, тогда я постучал громче, после чего взялся за ручку, дверь отворилась, и я вошел.
Под ноги мне бросилась стая кошек, за ними, переваливаясь, быстро двигался сенбернар Юмбо, настойчиво взлаивая.
Я сделал несколько шагов в направлении пестрого занавеса — и все увидел.
Блестящий, сияющий новизной батут начинался еще в передней и простирался почти по всей комнате.
Прямо передо мной на серо-голубой стальной боковине сверкала фирменная этикетка.
«„Бланик“ — батут для воздушных гимнастов и акробатов. 11 680.00».
Тони Полло был одет в безукоризненный черный комбинезон, на ногах — высокие, тоже черные, кожаные сапоги. Он лежал на самом краю батута, прямо под гигантской фотографией соблазнительной и соблазняющей молодой женщины, которая изящно стояла на краю другого батута. Belle Dina.
Я с опаской подобрался как можно ближе к неподвижной черной фигуре. Кожаный комбинезон прославленного укротителя Тони был вроде бы великоват пану Польцару.
Лицо его было очень бледное, и на лбу проступили капли пота. Он дышал медленно и с присвистом, но, увидев над собой меня, заморгал глазами.
Я стоял над ним и не знал, что делать… Пан Польцар невнятно, делая длинные паузы, прохрипел: «В кухне… пузырек… без пяти… двенадцать…»
Я понял. Бросился на кухню, на полке среди тюбиков, баночек, коробочек и прочего стал судорожно искать пузырек с нужной наклейкой. Да, вот он, флакончик с лейкопластом и надписью «В 12 без 5». Без пяти минут двенадцать. Внутри были маленькие розовые таблетки.
На плите стоял полный чайник, я налил немного воды в чашку и вернулся к лежащему пану Польцару. Он показал мне на пальцах, что надо две таблетки.
Я приподнял ему голову, и он медленно, с трудом запил лекарство чаем. Между тем из садика вернулся Юмбо, пришагал к нам и стал с усердием вылизывать бледное лицо хозяина.
— Что с вами, пан Польцар? — спросил я немного погодя, бестолково, просто чтобы как-то заполнить гнетущую паузу.
Он чуть приподнялся и попытался улыбнуться.
— Я исполнил соло, Лукашек… и не будем… смотреть вперед. Сейчас я счастлив…
Голова его опять откинулась назад, он закрыл глаза.
Последнее соло Тони Полло, а также пана Польцара.
Никогда в жизни мне уже не взять такую высоту; но тогда я вылетел из его дома, разбежался и единым мощным прыжком перескочил через запертую калитку.
Отчаянным галопом примчался я домой и сквозь рыданья кричал маме, чтобы она быстрей звонила в город и вызывала «скорую».
Перевод с чешского Н. Беляевой.
Станислав Ракус ПЕСНЬ О РОДНИКОВОЙ ВОДЕ
Году в 1901, на Иосифа, загрохотали по улице Марки подводы, с раннего утра на пустошь возле Гомбойовой халупы свозились груды кирпича, песка, известки и цемента, за возчиками пришли строители, выкопали яму под фундамент, и за два года поднялся дом — не чета всем остальным по улице, настоящий особняк с мансардой и башенкой, с железной оградой на кирпичной кладке. Любо-дорого было глядеть на ярко-зеленые ворота и цифры на фасаде, обозначавшие год окончания стройки. Не успели каменщики возвести стены, а всем уже стало ясно, что дом получится каких еще поискать — щедро изукрашенный, с широкими окнами, с нишами. Люди с любопытством следили за работами, не прочь были посудачить с каменщиками и оглядеть все изнутри, кабы на стройке день-деньской не околачивался Йозеф Гомбой. Его примечали издали: то посиживает себе на бревне, то торчит на куче песка или семенит с кирпичом в руке к кому-нибудь из каменщиков.
Каменщики в услугах Гомбоя, по всему видать, не особенно нуждались, занятые своим делом, они отвечали на его расспросы нехотя, лишь бы отвязался. Только в перерывах, когда Гомбой приносил им к еде воду, перекидывались с ним двумя-тремя словами. Они и сами ничего путем не знали о хозяине дома, который за все время ни разу на стройке не объявился. Из их скупых ответов всего-то и выяснилось, что зовут его Морквач, Якуб Морквач, что никого у него нет, только собаки да пропасть денег, и ему от этого красивого дома, который для него тут ставят, ничего не убудет и не прибудет, таких особняков и всяких доходных домов у Морквача не сосчитать. «С этим важным барином и не потолкуешь как следует, — бросил как-то мастер. — Только заговоришь с ним, как его тут же удушье начинает донимать».
Придет час, Йозеф Гомбой, и ты забудешь сказанное мастером. Забудешь, как волновался, как жадно ловил каждое слово о Моркваче. «Морквач один-одинешенек! — неотвязно вертелось у тебя в голове. — Морквач мается удушьем!» А мастер тем временем припал к твоей воде. К той самой воде, которую ты носил им из своего родникового колодезя. Напился, потом сказал: «Вот он какой, этот Морквач. И глазу не кажет. Заявится на все готовое».
С этой минуты ты стал представлять себе приезд Морквача. Вот он уже здесь. Вылезает из коляски. Ты идешь навстречу ему в праздничном костюме, в начищенных башмаках, в чистой рубахе, подходишь к нему и говоришь: «С прибытием, я сосед ваш!» Он оглядит тебя, такого начищенного, услышит скрытую в твоих словах мольбу и ответит: «Не откажите по доброму старому обычаю пригласить на огонек своего соседа». Или: «Покорнейше прошу разделить с соседом веселую беседу. Пусть ваш приход отгонит от этого дома всякие несчастья и смертные напасти». Тут Морквач вспомнит про свою хворь, представит себе муки смертного удушья и станет еще радушней: «Милости прошу!» Перед тобой отворяются двери, ты переступаешь порог и садишься с Морквачем за стол. Заводишь разговор. Сидишь с ним рядком, киваешь, разводишь руками — словом, беседуешь по душам с человеком, который зазвал тебя на хлеб-соль. «Слышал я, удушьем страдаете, — деликатно говоришь ты ему, — так вы не стесняйтесь, если станет худо, кликните, днем ли, ночью…»
В особняке Морквача уже отмыли окна, уж и мебель завезли, а хозяина нет как нет. А ты, Йозеф Гомбой, все ждешь, с утра до вечера выстаиваешь в дверях своей халупы в лучшем своем костюме, с утра до вечера встречаешь Морквача в чистой рубахе, говоришь с ним, садишься за его стол, хотя Морквача еще нет и в помине. Дни бегут за днями, а Морквач как в воду канул.
«С кем это Гомбой говорит? — толкуют между собой люди с улицы Марки. — Вы только поглядите на этого полоумного! Стоит себе один и руками размахивает. Не иначе как со своими покойниками переговаривается. А уж вырядился-то как!»
И люди начинают вспоминать о покойной его родне, эта кровавая история живет в их памяти и поныне.
Не один год минул с той поры, как в доме Гомбоя, в этой унылой халупе рядом с Морквачевым особняком, жили вместе с ним и сыновья его, Блажей и Юстин. Ныне Гомбой совсем один. Истлела в земле и его жена Магдалена, та самая Магдалена, которая выскочила тогда на порог и раз за разом прокричала в глубь объятой полуденным зноем улицы Марки: «Блажея убили!» Первый ее крик застрял в листве деревьев, наткнулся на глухие стены и лишь легким отголоском долетел до людского слуха. Второй крик ворвался во дворы и палисадники, покатился от дома к дому, от человека к человеку и всколыхнул полуденную тишь улицы, как удар грома. Уже чья-то рука втащила Магдалену в дом и захлопнула дверь, а крик ее все еще висел в воздухе. Перед домом собралась толпа, стучали, тянули за ручку, но дверь не отворялась. Наконец прибыли служители закона и вышибли ее. Был ясный полдень, но в кухне царил полумрак; на табурете сидел Йозеф Гомбой, рядом стоял Юстин, а посередке бросались в глаза свисавшие с кухонного стола ноги убитого. Лица не было видно, его закрывала Магдалена, припавшая к сыновней груди. Все было так дико и невероятно — и тело парня на кухонном столе, и полумрак среди ясного дня, и мертвая тишина, вдруг заглушившая грохот взламываемой двери, что и служители закона, и толпа у входа прямо-таки оцепенели. Ту страшную тишину прервал Йозеф Гомбой. Он встал с табурета и сказал: «Это я его в большом гневе убил». И тогда Магдалена отступила от мертвого тела и подошла к убийце. Встала лицом к лицу и всего только и сказала: «Йозеф!» Мягко так сказала, ласково. Магдалена Гомбойова, мать мертвого Блажея Гомбоя, мягко и любовно выговорила имя того, кто только что убил ее первенца. Этого люди с улицы Марки вовек ей не забыли.
Гомбоя не казнили, а осудили на двадцать лет — якобы убил он в большом гневе, что смягчает его вину. Случилось это вскоре после того, как отзвонили к обедне, то бишь после двенадцати. Гомбой зарубил топором своего первенца Блажея в светлице, в той их нарядной, чистой горенке, в которой они собирались лишь по праздничным дням. Зарубил, ослепленный яростью, в умопомрачении, в пылу стычки. Свара разгорелась в кухне, когда стали звонить к обедне, и продолжалась уже в светлице. В этой парадной их комнате спор о том, кому колоть дрова, вспыхнул с новой силой. В той их чистой, без единой соринки светлице в лицо Гомбою врезался сыновий кулак. Тут оно и случилось. В умопомрачении Гомбой ударил Блажея топором, которым незадолго до того рубил дрова. Вот как в общих чертах обстояло дело, в общих чертах, потому что рассказать яснее Гомбой был не в состоянии. Все только расписывал, какая у них чистая и нарядная светлица, хотя от него требовались подробности убийства, или заговаривал о младенческих годах Блажея, а надо было говорить про то, как он умирал. Но Гомбою виделась лишь их чистая, светлая комната, а сын в ней — уже мертвым, с разрубленной головой. Взял он тогда Блажея на руки и стал носить по дому — ходил и ходил с ним, не зная, куда положить… Носил вот так, и казалось ему, что на руках у него малое дитя, сбивчиво рассказывал Гомбой на следствии. Тельце как перышко, а гнет его к земле… «И вы положили сына на стол?» — «Подошел я к столу, вижу — чистый… И положил я его, пушинку мою, на чистый стол», — сказал Гомбой и снова принялся вспоминать младенческие дни своего первенца. Пока его не прервали.
Эти первые дни, первые недели сыновней жизни маячили перед твоими, Гомбой, глазами и в тюремной камере, из далеких далей приходили они в твои тюремные ночи. Как только Блажей появился на свет, мать Магдалены, Кристина, предупредила тебя: «Смотри, Йозеф, не сломай ему спинку. Будь осторожней. Возьмешь не так, и сломаешь ему хребет». Уж как это тебя тогда поразило, как ты напугался! Осторожно опустил дитя в колыбельку и долго потом не решался брать на руки; Кристину, мать Магдалены, это уже стало смешить, потешались и Магдалена с повитухой Малчичкой. А ты так боялся, что и в сон твой закрался этот страх. Будто лежит твой сыночек и плачет, горько так плачет, причитает в ночной тишине. Да нет, не плач срывается с младенческих уст, а жалостные слова: «Как мне теперь, батюшка, жить со сломанной спиной? Зачем вы меня искалечили? Никто за меня, увечного, замуж не пойдет, все у меня будет из рук валиться, придется христарадничать по чужим дворам. Люди будут пальцами тыкать: «Смотрите, вон идет горбатый Блажей. Поди, сейчас к нам заглянет, куска хлеба просить. Горбатый — а тоже есть хочет». Бритву удержать в руках — и то не смогу, — причитает сын, — сами будете меня брить, слышите, батюшка? А как вас не станет, зарасту бородой. Люди будут пялиться: вон идет побирушка Блажей, гляньте, как бородой оброс, а грязная-то какая, и все потому, что самому ему даже кусок хлеба ко рту не поднести, чужие люди его с ложки кормят. А им что, не у них по бороде течет…»
Вот о чем говорило тебе твое дитя в ночной тишине, вот о чем причитало в твоем сновидении, Йозеф Гомбой. Проснулся ты в холодном поту. Прошли годы, и вернулся к тебе этот сон, преследует он тебя. А в ту ночь, очнувшись, ты подошел со свечой к колыбели и долго глядел на спящего сына, которого вы нарекли Блажеем. Было это в той вашей нарядной светлице, куда вы перебирались всякий раз с рождением детей. Там появился на свет и второй твой сын. И его младенческие годы вспоминаются тебе тюремными ночами. Родился он в черную годину: в тот же день, как положили его в колыбель, Кристину, мать Магдалены, обмыли, обрядили в лучшее платье и положили в гроб, который ты сбил ей гвоздями из досок, покрыл черной краской. Старухина смерть, мирная ее кончина во сне видится тебе сейчас, спустя годы, дурным знамением. Но тогда голова твоя была занята другим. Надобно было подобающе проводить Магдаленину мать, потом как следует, в радости, отметить рождение сына.
Но радость словно стала обходить ваш дом, со дня похорон прошла не одна неделя, а на глаза Магдалены нет-нет да и навертывались слезы, была она грустной и удрученной. Ты даже стал увещевать ее. Мать как-никак отжила свое и отошла в покойном сне, и надо радоваться приходу новой жизни. Но вот наступил вечер, когда тебе открылась истинная причина ее скорби. В тот вечер повитуха бабка Малчичка сказала тебе: «У твоего сына Юстина одна нога короче другой». Помертвел ты тогда, Йозеф Гомбой, ноги как отнялись, без кровинки в лице стоял ты перед Магдаленой, а она жалостно так смотрела и с тоской говорила: «Не хотела я тебя, Йозеф, печалить, скрывала от тебя эти ножки, тайком их омывала…»
Малчичке и самой слова ее были тяжелы, тяжела была ноша недоброй вести, и захотелось бабке облегчить ее. «Всякое бывает, — проговорила она, — может статься, одна ножка потом сравняется с другой, бывает и такое». Ты сразу учуял чистой воды обман, но ноги твои вновь ожили и зашагали, поспешали они у тебя, Йозеф Гомбой, к той поре, когда должно исполниться пророчество повитухи, когда одна ножка по миллиметру, по сантиметру догонит другую. Очнулся ты лишь в Берешовой корчме.
А ноги Юстина так и остались одна короче другой, и ты с этим так и не смирился. И Юстин чувствовал это. Тюремными своими ночами видишь ты Юстина — молчаливого, бледного, с блекло-голубыми глазами. Припоминаешь, как стал бояться этих больших белесых глаз. В них таилась опасная мудрость, они все видели, все понимали. «Не притворяйтесь, отец, — говорили его глаза, — скажите прямо, в тягость я вам с такими-то ногами. Да и кому они такие не были бы в тягость? Стыдитесь вы перед людьми, стараетесь ни словом о моей хромоте не обмолвиться, а все ж не выходит она у вас из головы. Отравляет вам жизнь. Уже и лицо мое вам не нравится, все во мне раздражает. А раз так, то я назло буду вам, отец, мозолить глаза своим уродством».
Ты боялся сыновнего взгляда, его молчания. Старался быть начеку. И все же сколько раз забывался! «Как сегодня работалось? — бывало, радостно встречаешь Блажея. — Рассказывай, сынок!» Потом спохватываешься и притворно, с натугой спрашиваешь: «А у тебя, Юстин, как дела?» Запоздало, без души спросил, Йозеф Гомбой, уж лучше бы промолчал — Юстин все понял, отвечает ухмылкой и молчанием.
Вот о чем горестно вспоминаешь ты, Йозеф Гомбой, тюремными ночами. Если бы вернуть все назад к изначальному! Пусть Юстин родится заново, со своими увечными ножками, пусть закричит первым своим криком, на этот раз вы с ним оба научитесь радоваться неверным его шагам. Но к изначальному возврата нет, впереди лишь тюремные ночи. Да, поздно ты тогда спохватился. Голубые глаза Юстина уже стали все видеть и все понимать. И лишь Блажей, беззаботный Блажей не разглядел затаенного в них мрака. Ведь если бы разглядел, если б догадался, как они опасны, не сорвалось бы с его губ страшное слово — калека. «Калека!» — раз и другой крикнул Блажей Юстину, как раз и другой прокричала потом Магдалена весть о его смерти. А теперь вот раз за разом призываешь ты, Йозеф Гомбой, своего мертвого сына, заговариваешь с ним. «Блажей, а Блажей, — повторяешь снова и снова, — как же это я не рассказал тебе о моем сне, когда ты приснился мне каликой перехожим со сломанным хребтом и грязной бородой. Поделись я с тобой своим сном, поостерегся бы ты, не слетели бы с твоих губ те слова, жестокие те слова!»
От окраинной улицы Марки рукой подать до городской тюрьмы, где сидит за свое злодейство Гомбой. Юстин к отцу не приходит, зато Магдалена наведывается до того часто, что удивляет даже надзирателя Баксу. Чего он только здесь не перевидал, но чтобы мать мирно, без тени упрека глядела в глаза человеку, загубившему ее сына?! Да еще как загубившему! На свиданиях эти двое больше молчат. Только Гомбой всякий раз спрашивает: «Как Юстин?» — «А ничего, — всегда ровным голосом отвечает жена и скоро прощается: — Так я пойду, Йозеф». — «Иди, Магдалена, иди!»
Магдалена возвращается от мужа, а соседкам говорит, что, мол, прошлась по лавкам, кой-чего купить, да на кладбище заглянула — тут она прикладывает к глазам платок. «Врешь, Магдалена, — говорят ей взгляды женщин, — не по лавкам ты ходила, у мужа была, никчемная ты мать! У мужа, который убил твоего сына. Худого слова не слыхали мы от тебя про убийцу, неужто забыла ты разбитую сыновью голову? Юстин твой чахнет, никак в себя не придет, а ты все ходишь лясы точить с душегубом. Мало тебе Блажея, он и Юстина в гроб загонит. Смотри, от парня остались кожа да кости, опомнись, никчемная ты мать, чем любезничать с душегубом, лучше за сыном доглядывай. Нечего ему слоняться у реки как тень, ей-ей свихнется! Да и немудрено — столько всего перенести… Еще доконает его отцово злодейство». Так говорили взгляды женщин, а уста выговаривали другое: «По лавкам ходила, Магдалена? Все, что надо, купила? Как там Юстин? Часом не хворает? Ты уж зла на нас не держи, не наше оно дело, но парень твой вроде как не в себе. Аль не видишь?»
А Юстин и впрямь с того страшного дня совсем истаял, все глядел куда-то вдаль, тоскливо и отрешенно. «Уж коли Гомбой отсидит свой срок живым-здоровым, — рассуждали люди, — все едино этот хромой своего отца того… не простит он ему. Такие не прощают». — «Забудет, все забывается». — «Он-то? Никогда! Попомните, прикончит он его…» — «Что-то будет, это ясно. Третьего дня видел я Юстина у тюремной стены. Не поверите — ногтями ее карябал, руки себе раскровенил. Юстин, кричу я, что ты делаешь? Все руки в крови… Зыркнул на меня, словечка не сказал — и бежать. Прикончит, говоришь? Вряд ли. Не жилец он, не дождется отца…»
А Магдалена все ходила и ходила в тюрьму, уже притерпелась к осуждающим взглядам соседок, не одумалась и тогда, когда заметила, что люди с улицы Марки избегают ее, сторонятся. Вот уже четыре года ее с Гомбоем встречи проходили в странном молчании, ни разу они не поговорили путем, и надзирателя Баксу это даже стало раздражать. Как вдруг настал день, когда Магдалена дважды заговорила. «Йозеф! — молвила она с трудом и замолчала. — Йозеф! — повторила. — Не могу больше скрывать от тебя. Доктор сказал, Юстин и месяца не протянет. И сам он о том знает. Хочет повидаться перед смертью. Может, отпустят тебя».
Юстин умер не через месяц, а через две недели.
Пробьет час, Йозеф Гомбой, и поглотит тебя ночь, наступит для тебя пора пожизненного затмения, и воспоминания покинут тебя, не вспомнишь и то, как пришли за тобой в день похорон те трое, служители закона, чинные и важные. Пришли в твою камеру после дотошного разбирательства, совещаний и привели с собой Магдалену. «Юстин умер, — сказала тебе Магдалена. — Юстин умер». Покачнулась и умолкла. В мертвой тишине прозвучала весть о твоем освобождении, ее принесли с собой те трое…
Не успел ты опомниться, как очутился под чистым полуденным небом, в полдень же, в той вашей чистой горнице умылся и надел лучший свой костюм. В полдень увидел ты и Юстина, лежащего в просторной и круглой кладбищенской часовне. Он лежал разутый, в черных носках. Одна нога упиралась в изножье гроба, а другую отделяла от стенки темная, зияющая пустота. «Гомбоя отпустили на похороны!» — пробежало по толпе. Теперь, когда ноги сына были неподвижны, ты наконец-то рассмотрел их, как и ту темную пустоту, время от времени освещаемую мерцающим пламенем свечей. «Одного отпустили, без охраны, Магдалена его привела». А он смотрел на неподвижного Юстина. Каким же высоким, высоким и худым был он в этой своей неподвижности! Усох до костей. Ты глядел на его сомкнутые веки. «Выпустили Гомбоя, без стражи выпустили». — «Без стражи — это, видно, чтоб не мешать погребению». Перед тем как гроб закрыли крышкой, тебе почудилось, что из-под Юстиновых век блеснули глаза, чуть голубее, чем прежде, они уже не нагоняли страх, взгляд их был ясен. Перед тем как гроб запечатают, ты снова заглядываешь, Йозеф Гомбой, вниз, в ту темную пустоту, с которой началась твоя беда. Воротись, призываешь ты начало, воротись, и мы вместе научимся радоваться неверным твоим шагам.
Пробьет час, Йозеф Гомбой, и поглотит тебя ночь, наступит для тебя пора пожизненного твоего затмения, и воспоминания покинут тебя, но в тот миг, перед тем как опуститься крышке гроба, ты еще верил, что та разделяющая вас с Юстином черная пустота, зияющая пропасть, освещенная слабым мерцанием свечей, преодолима. «Как чудно́ Гомбой на него смотрит! Вроде помешался. Не иначе помешался, — толковали после похорон, — не зря вот уж неделю живет дома без всякого присмотра. Свихнулся, вот его и отпустили досрочно. Да и кто бы, люди добрые, от такого не свихнулся? Одного сына убил, другого уморил. Кто бы это выдюжил? Помешался, вот и разгуливает себе на свободе как ни в чем не бывало. А если на него опять найдет? Заявится к вам, Верона, домой, сядет за стол, и вдруг на него найдет. Попробуй отними у такого нож. А с виду вроде нормальный. То-то и оно, по виду вроде нормальный, и вдруг ни с того ни сего — хвать ножом! Закрывай ворота, Тереза! Да за детьми присматривай, берегите от него детей, детей берегите. А ты, Люция, держи ухо востро, Гомбой к тебе лез с разговором. Вечером постучит и зайдет на огонек. С ножом в кармане. Не говорю, что убить. Просто на него накатит. Дети, не играйте возле его дома. Ты что, оглох? Тебя это тоже касается. Как увидишь Гомбоя, ноги в руки — и домой. У Гомбоя всегда при себе нож, он им вырезает игрушки, так что заруби себе на носу: носит его всегда с собой. И смотри за Янком, за Янком приглядывай, не то голову оторву. А ты мне чтоб не шлялся где ни попадя. Вот дам по уху, чтоб запомнил, а то еще и спину исполосую. Так о чем это я?.. Кто знает, не настанет ли и Магдаленин черед. Намедни тащил ее под руку. Оба мы собственными глазами видали. Боится его, здорово, видать, боится, раз дает себя так таскать. Я бы бежала от такого куда глаза глядят. На ее месте бежала бы на край света! Жаль Блажея. Какой был парень! Загляденье! И калеку жалко, ему бы еще жить да жить. Э-э, Фонза, ты того… Ты лучше меня послушай. Кого из тюрьмы отпустили как душевнобольного, тот уже ни за что не отвечает. Захочет — и пырнет. И ничего ему не будет. Обходи его, Гелена, стороной, говорят же тебе — не замечай его. И Магдалену обходи, надо от них подальше держаться. Подумаешь, первым поздоровался! А ты прикинься, что недослышала, не заметила его, вроде что-то в сумке ищешь и найти не можешь. Он давеча на одного в городе напал, вы слышали, Гомбой на кого-то напал, в проулке, у лавки Гербери? С ножом? А что, может, и с ножом».
Время шло, и людям прискучил постоянный их страх, постоянная осторожность. Гомбой вырезал фигурки из дерева, деревянных кукол-музыкантов, бродячих циркачей. Они с женой уже давно этим кормились, уже давно Магдалена эти его забавные поделки, его бродяг, скрюченных старых музыкантов, продавала на ярмарках и проселочных дорогах.
Людям надоело беспрерывно остерегаться, утомил их страх перед Гомбоем, и лишь в солнечные и ясные дни, когда Гомбой усаживался на порог, тот самый, с которого разнеслась весть о смерти Блажея, когда он там усаживался и принимался вырезать музыкантов, лишь когда в его руках начинал поблескивать нож, людям сразу приходило в голову, как это хорошо, как они правильно сделали, что держались от убийцы подальше.
Гомбой и топором однажды заработал, снова решился взять в руки смертоносный инструмент, рубил, строгал доски. И только когда он стал эти доски обтесывать, да шлифовать, да сбивать и покрывать черной краской, только тогда до всех дошло, отчего это давненько не видали они Магдалены, отчего увядшая, иссохшая Магдалена давненько не попадалась им на глаза. «Может, это совесть ее доконала. Ослабела, слегла, месяц-другой пролежала, помаялась, истаяла, да и испустила дух». — «А если он ее того… Чем черт не шутит, вдруг на Гомбоя через столько-то времени опять накатило?» — «Глупости говоришь». — «Посмотрим, пойдем на похороны, там и посмотрим. Надо пойти, а ежели что заприметим…» «Терпения моего больше нет, — кипятился Яно Бочко, — если угляжу где на ней засохшую кровь, придушу Гомбоя вот этими руками, вот этой своей кувалдой прихлопну как муху, и зачтется мне доброе дело».
Крови на Магдалене видно не было, никаких следов насилия. Ничего такого. Мертвое лицо ее словно бы говорило: «Зашевелилась во мне совесть, в одночасье проснулось во мне раскаяние, и стала я с тех пор сохнуть, и вот лежу теперь, как Юстин, в черных чулках. Настрадалась я, люди добрые, искупила свою вину». А люди жалостливо пели над ней заупокойную молитву. «Наконец-то, милые мои, улетела и я за своим криком, тем самым страшным криком, которым послала вам весть о Блажейовой смерти, не сразу пробудилась во мне совесть, да вот пробудилась». «Крови на ней не видать, верно, своей смертью померла, а все ж не мешало бы ему разок влепить. Прямо тут, на погосте, при всех! Милое дело — вмазать ему при народе!» — рассуждал про себя Яно Бочко. Уж как чесались у Яна руки, у того Яна Бочко, который жил с отцом-матерью на улице Марки, 64, того самого Яна, которого отец всего каких-нибудь два-три года назад стращал Гомбоем, не замечая, что пареньку уже почти нет равных по силе, не замечая могучих его плеч и медвежьих лапищ, — он уже и тогда мог запросто выпустить из Гомбоя дух. Крови не видать, но до чего же чешутся у Яна руки, так и просятся пустить их в ход. «Эх, сгрести бы его сейчас, да приподнять, да хорошенько раскрутить. Доброе дело сделаешь, Яно. Парень ты кремень, а сердце у тебя мягкое, не забыл Блажея, жаль тебе и покойницу. Раскрутить — да и шмякнуть об землю». Нелегко парню с такой силищей, с такими-то кувалдами, прямо как созданными для того, чтоб хватать за грудки да ломать кости, пропадают они без дела. Жаль, повода нет, а то бы Гомбою несдобровать! И назавтра после похорон, и на третий, четвертый день Яно все угрызался, что не сгреб он тогда Гомбоя в охапку и не шваркнул об землю. «Показал бы им, Яно, всей улице показал, что такое мужчина. Сердце что воск, зато кулаки!..» Лишь на пятый день сообразил, на пятый день, когда шел он из Берешовой корчмы, пришло ему вдруг в голову, что не все еще потеряно. И повернул Яно к Гомбойовой халупе. «Вытащу его на улицу и поставлю перед всеми. Вот он перед вами, люди добрые, спросите у него, что он тут еще натворит, на нашей улице. Пусть у честного общества прощения попросит, — рассуждает про себя Яно и шагает еще решительней. — Пусть на коленях просит прощения, правильно я говорю, люди?» — «Верно говоришь, Яно, верно, — согласно кивают люди, все повысыпали на улицу. — Давно бы так, Яно». Вот уже и Гомбойова халупа видна, светится в ней окошко. «Сначала чуток намну ему бока, окорочу его, а потом выволоку за ворота». Вот он уже у двери. «Нам убийцы не нужны, нам нужны стоящие мужики», — скажет он Гомбою и схватит его за грудки. Лапами своими обомнет его, и тот станет как шелковый. Вот уже Ян берется за щеколду. Дверь не заперта, и он малость теряется. Но входит. «Янко! — Гомбой вскакивает с табуретки. — Янко!» — повторяет, и Янко теряется еще больше, до того он сбит с толку, что застывает в двери как вкопанный, а Гомбой давай суетиться, давай сносить на стол сало, хлеб, бутыль паленки, горстями тащит своих деревянных музыкантов, и все-то приговаривает, все сует их Яну. «Выбирай, — говорит, — да бери же, даром даю, бери, какие приглянутся». Яно стоит пень пнем, кулаки его повисли, будто иссякла в них вся сила. Потерял он над ними власть, и это его бесит несказанно. Ни треснуть, ни шмякнуть! Постоял он так, постоял, да и пошел восвояси.
То был последний гость в доме Гомбоя. Даже каменщиков не удалось заманить, тех, что строили Морквачу особняк, а ведь воду его пили взахлеб, пили и оторваться не могли от той прозрачной и чистой родниковой воды, которую носил им Гомбой из своего колодезя.
Давно уже отмыли в новом особняке окна, давно уж и мебель завезли, а Морквача все нет. Вечерами, в сумерках, красивый этот дом мрачнеет, ни огонька в нем. А ты, Йозеф Гомбой, терпеливо ждешь, выглядываешь хозяина от зари до зари и даже ночной порой, никак дождаться не можешь.
«Что с него, полоумного, взять? Вы только гляньте, как руками размахивает, а перед кем? Одна собака с ним».
Приедет Морквач, все-таки приедет. Вечером это случится, когда ясный день на убыль пойдет. Как стемнеет, подкатит коляска, кони станут, и ты, Йозеф Гомбой, скажешь ему: «Я сосед ваш!»
«Совсем тронулся, одна собака с ним, а он вроде толкует с кем-то, руками разводит, а вырядился как! Сдается мне, он и не спит вовсе. Давеча иду из корчмы, а в Гомбойовом оконце кровавый свет горит. Чтоб мне с места не сойти, кровавый да и только! Гляжу, вижу — красный свет». — «Загнул ты, Мишо». — «Да провалиться мне, если вру! Красный как кровь! Иду себе, кругом темно, ни души. Только эта красная точка, прямо жутко стало, я не из пугливых, а тут, скажу вам, оробел. Ладно, иду дальше. А точка впереди все шире, будто кровь из окна хлещет». — «Не болтай, Мишо, пустомеля ты, мозги себе залил, вот и мельтешат в глазах кровавые чертики». — «Не говори, Юло, может статься, не врет он. Люди всякое болтают, про кровь эту…» — «Что такое болтают? Давай выкладывай». — «Появляется оно на пальцах, ночами, кровавое такое знаменье, а уж светит — прямо полыхает. Да вот в Палотове… дед покойный сказывали: у лесника из Палотова, который брата убил, на пальцах кровь выступала. По ночам выступала и светилась». — «За чем же дело стало, айда ночью к Гомбою под окошко, поглядим, что там такое светится, чем это он себе дом освещает». — «Тебе все хихоньки, Шимон, ох, досмеешься когда-нибудь!» — «Эх, дуры вы, бабы!»
Однажды под вечер, за час до сумерек, во вторник это было, завезли к Морквачу свору псов. Отомкнули калитку, запустили собак и уехали. Ты встретил и проводил их молча, дрожа от волнения, было тебе, Йозеф Гомбой, ясно, что Морквач уже в пути. И вот — случилось, перед самыми сумерками это случилось, перед самыми сумерками показалась коляска. Черная, изукрашенная, наглухо закрытая. Перед самыми сумерками кони стали у ворот. Соскочил кучер: «Прибыли, пан Морквач!» И сразу дико разбрехались псы, они скакали, взвивались в прыжках, славя прибывшего хозяина. Один за другим взлетали в прыжках псы чистых кровей. Под их ликование узрел ты, Йозеф Гомбой, Морквача, под их ликование по-старчески, тихонько заскулила твоя собака.
Вот он, этот час, Йозеф Гомбой, вот он, этот миг, тебя отделяет от него лишь несколько шагов. Но ты стоишь, ноги твои отяжелели, тело будто камень, уста твои как запечатаны. Перед самым затмением, перед тем, как навечно найдет на тебя затмение, осенит тебя минута внезапного великого пробуждения, а потом ты сойдешь с ума. В эту ясную минуту ноги твои оказались мудрыми. Не пустили тебя, окаменели, учуяв в собачьем хоре разнобой голосов — голосов крови чистой и крови нечистой, печальный скулеж дворняги. Ты увидел Морквача и только теперь понял, что рубаха у тебя — какая уж она чистая! А костюм? Латка на латке! Лучший твой костюм!
Где истоки того безумия, в которое ты сейчас впадешь, где искать предвестие ночи, которая сейчас тебя поглотит, где ее начало? В гибели Блажея? В тот ясный скорбный полдень тебя вознесла ввысь твоя очистительная жертва. Ты взял на себя преступление Юстина и так, с клеймом убийцы, жил и после его смерти. Умирая, Юстин искупил свою вину, он искупал ее муками раскаяния, крутым и долгим, длиной в четыре года, восхождением на свою Голгофу. Магдалена потом не раз вспоминала, что Юстиновы губы шептали перед смертью твое имя. И не раз повторяла слова, которыми он высвободил тебя из тюрьмы: «Это не отец, а я убил Блажея топором!»
Страшную эту правду он открыл с глазу на глаз людям, явившимся выслушать его исповедь, открыл и слабеющей рукой скрепил ее подписью перед лицом закона, а было это так: пришли трое — позвала их Магдалена, — пришли служители закона, чинные и представительные, и склонились над умирающим, чтоб услышать страшную правду. После долгих совещаний и разбирательств эти трое явились к тебе в камеру в день Юстиновых похорон с вестью о твоем освобождении. И тогда ты взял с них зарок молчания. Почему ты это сделал, зачем не дал разнестись правде о Блажейовой гибели, почему не вышел однажды на порог и не прокричал во всю улицу Марки: «Люди, я не убийца! Не убивал я Блажея!»? Ведь Юстина уже не было в живых. Но еще возносила тебя в выси отцовская твоя жертва, каинова печать сыновнего преступления на твоем челе. В этой выси звучал тебе голос Юстина, из Магдалениных уст летел он к тебе: «Это не отец, а я убил Блажея!» Зазвучит этот голос, и ты всякий раз возвращаешься к смерти Блажея, глядишь из дальней дали на себя и себя видишь. Видишь, как втащил Магдалену с порога в дом, как захлопнул дверь, слышишь свои слова: «Я возьму все на себя! Запомни, Магдалена, и ты, Юстин, запомни — это я убил. Так и говорите: он убил, убил Блажея топором в ссоре и гневе. Скоро сюда придут и начнут выспрашивать, а вы отвечайте так: это он убил, пошел за Блажеем в горницу и там его убил. Беда вам, если скажете что другое».
Распознаешь ты и время, когда зародилась твоя вина. Видишь, как стал чураться Юстинова детства, как, заслышав неровные шаги ребенка, поворачивался к нему спиной. Режут тебе уши эти звуки, радостный топот детских башмачков. И ты оставляешь эту радость без ответа. Треплешь по головке пятилетнего сына, которого вы нарекли Блажеем, возишься с ним на полу, устраиваешь кучу малу. Вы смеетесь, визжите, рычите — ты и Блажей. И Юстин валится на пол, рядышком валится, и тоже смеется. Тогда он еще смеялся. Мрачно глядишь ты, как у ног твоих копошится Юстиново детство, отводишь взгляд от молящих Магдалениных глаз: «Смотри, это же наше дитя, наш Юстин!»
Ныне распознаешь ты, Йозеф Гомбой, свою вину, видишь, как прежде времени уходит от Юстина детство, замечаешь, как постепенно зарождается в нем убийца. Поздно ты спохватился, уже тогда, когда Юстиновы глаза научились жалить, когда стали все подмечать и понимать. И тебя охватил страх. Твоя предупредительность к нему не была любовью, то был просто страх, тебя томили тревога и предчувствие. Однажды ты застал Юстина над спящим Блажеем, он разглядывал его ноги.
И снова ты возвращаешься к Блажейовой смерти, видишь, как бьет Юстина дрожь, как корежат его корчи. Он зарубил брата в горнице. Стоял над ним, скрюченный судорогой. Эта судорога не давала ему выпустить из рук страшное свое оружие, они накрепко срослись, сомкнутая Юстинова ладонь и топор. Ты припадаешь, Йозеф Гомбой, к сыновнему телу, слышишь немоту его сердца, тишину в груди, пронзительную тишину, и все же пытаешься его воскресить. Но это конец. Берешь Блажея на руки, носишь его, ходишь с ним, не понимая, что же делать дальше. Это конец, а ты все ходишь. Потом кладешь его на стол и садишься на табурет. И проваливаешься далеко в глубь, в Блажейово детство, слышишь, как в тебе причитает Блажей, Блажей со сломанным хребтом, побирушка Блажей, обросший бородой. Сидишь как во сне, не в силах пошевелиться. К тебе топочет Юстин в белых детских башмачках на своих увечных ножках. И тут тебя пронзает Юстинов крик: «Я его убил, мама!» В дверях Магдалена, в дверях возникла твоя жена Магдалена. Из Юстиновых рук падает топор, тебя оглушает его стук. Не можешь встать, не можешь слова молвить, Магдалена исчезла с глаз, немотно мечется по кухне. Через минуту она выскочит на порог и в беспамятстве раз и другой прокричит в глубь улицы Марки: «Блажея убили!»
После того как упал топор и перед тем как дважды прокричала Магдалена, ты пережил, Йозеф Гомбой, десятилетия, прожил всю Юстинову жизнь, в твоих ушах отзвучали все шаги Юстиновых увечных ног, за этот короткий миг ты распознал свою вину и возвысился до очистительной жертвы. Взяв на себя Юстиново злодейство, ты и после его смерти жил с клеймом убийцы. Вырезал странствующих музыкантов и на их лицах запечатлевал тайну своей жертвы. Так шло время, и вдруг не по дням, а по часам стала угасать Магдалена, словно в ней, тихой и безответной, вскрылась затаенная рана. В один из дней слегла и больше не встала. Отошла Магдалена, свидетель твоей очистительной жертвы. И этот свидетель, тихая и безответная Магдалена, в последний свой час проронила слова, которые и стали потом истоком твоего безумия, предвестием будущей ночи, ее началом. «Юстин умирал в долгих, страшных муках», — сказала Магдалена и преставилась. Слова ее, отзвучав в твоих ушах, ушли под землю вместе с Магдаленой.
Они пришли за тобой гораздо позже, вкрались в твое одиночество, твое одиночество воскресило их, вдохнуло в них смысл. «Юстин умирал в долгих, страшных муках», — снова говорит Магдалена, но уже на этом не умолкает, говорит дальше: «Это ты заставил его умирать такой страшной смертью, это твоя жертва иссушила его, обескровила. Ты своими руками бросил его в застенок, в беспросветную темницу. Взял на себя его вину и птицей вознесся ввысь. Зачем ты занял его место, зачем упрятал себя туда, где сам он мог за эти годы искупить свою вину, очиститься…» Тяжкий гнет Магдалениных упреков повергает тебя, Йозеф Гомбой, с высот твоей очистительной жертвы. И ты уже лишен права с достоинством глядеть в зловещее лицо улицы Марки, ты ходишь по ней согбенным и бесправным. Негде тебе искать защиты и опоры, и вот ты бродишь и тоскуешь по человеческому голосу. Но никто не отзывается. Кто спасет тебя, кто придет за тобой, распахнет свою дверь, пустит через порог?
Возле твоей халупы стали строить Морквачу особняк. И ты, Йозеф Гомбой, ожил. Без роздыху носил каменщикам свою чистую родниковую воду, они ее пили и никак не могли напиться. Пойми они, из какого она источника, какой отчаянный зов бьет из него ключом, у них тотчас развязались бы языки, навострились уши, они слушали бы и сами говорили, уселись бы за твой стол, и пошла б у вас беседа. И ночь, которая вскоре тебя поглотит, отступила бы.
А Морквачев дом рос не по дням, а по часам. Вот уж и окна заблестели, и башенка вознеслась. И ты ожил. Услышав о Моркваче, стал представлять себе его приезд, ждать его. А это уже были первые признаки будущего безумия.
Перед самым затмением, перед тем, как навсегда нашло оно на тебя, осенит тебя еще минута внезапного великого пробуждения. Прибыл наконец Морквач, ты видишь его и слышишь собачий лай. Вот она, та минута. Что произойдет в тебе сейчас, что бывает при этом переходе во тьму? В миг своего помрачения ты распознал в Моркваче себя, безучастно взирающего на копошащееся у твоих ног Юстиново детство. А в своем выжидании Морквача — Юстина, выжидающего тебя. Ты понял, что Морквач, эта важная птица, не подпустит тебя к себе, как не подпустил ты Юстина… Надвигается тьма, ты уходишь в ночь.
На короткий миг перед безумием, на короткий миг перед помешательством тебя еще охраняли твои окаменевшие ноги. Но вот истек тот миг, а что случилось потом, тебе уж никогда не узнать.
Не узнать, как подбежал ты к Морквачевой калитке, которая захлопнулась перед тобой, как ухватился за нее, как кричал: «Я сосед ваш!..» Не узнаешь, что зубы Морквачевых псов в кровь изгрызли тебе пальцы, а Морквач только стоял и глядел, глядел, любуясь на своих псов.
Вот сейчас заберут тебя, и больше ты уж сюда не воротишься.
Твой дом опустеет, распахнутся осевшие двери, твою собаку Морквач пристрелит скуки ради. Зато твои фигурки, твоих музыкантов-странников растащат дети. А когда они вырастут, когда, научатся читать по их лицам и разбирать тихие, таинственные голоса, удивлению их не будет конца. Музыканты, оказывается, под свои скрипки и гармоники поют песню. Песню, возвращающую к изначальным истокам, к возрождению. Песню о родниковой воде.
Перевод со словацкого Л. Ермиловой.
Мирослав Рафай ОСЕННИЕ РАБОТЫ
На следующий день, после того как участкам развезли зарплату, в контору заявился старый Колая. Прибыл он в кузове развалюхи грузовичка. Скрючившись в три погибели, сидел старый ревматик на еловых бревнах, кое-как набросанных в машину. Спустившись на землю, он с трудом распрямился, скрипя суставами, как ржавая телега, потом плюнул, сосредоточился на какой-то мысли и пошел, вполголоса бормоча те слова, что собирался сейчас выложить начальству. Больше всего он боялся, что снова начнет заикаться и уж тогда ничего толком не объяснит, хотя и приехал в контору по этому делу уже во второй раз.
Он соскреб на порожке глину с ботинок, посмотрел на шофера, который беззаботно закуривал сигарету, и вошел внутрь здания.
Кабинет прораба Беднаржа был в конце коридора. Колая постучал и открыл дверь, сняв берет. Ни слова не говоря, достал из внутреннего кармана полученные вчера деньги, вытащил из них три сотенные и так же молча положил на стол.
Прораб прервал телефонный разговор и, удивленно подняв седые густые брови, посмотрел на Колаю. Видно было, невдомек ему, почему старик оказался здесь и чего хочет. По-стариковски поджав губы и стараясь не заикаться, Колая начал:
— Товарищ инженер, я так не могу… Эти бревна никто не хотел везти. — Он никак не мог побороть волнение. — Вот я и приехал, товарищ инженер… Они говорили мне, чтобы я не ездил: кое-кто, видать, уж на эти бревна глаз положил — что и говорить, хороший лес! Но я сам погрузил все на машину… Только теперь вот не знаю, куда сложить.
Жилистые морщинистые руки старика ходили ходуном; он вдруг попытался почистить беретом испачканные брюки, и на пол полетели маленькие кусочки еловой коры.
— Так, товарищ Колая, понятно, — нетерпеливо сказал Беднарж. — Бревна отвезите на склад. — Его взгляд остановился на деньгах. — А это что?
Колая помялся. Ему нелегко было начать разговор, хотя ради этого сюда он и приехал. Слова, что еще несколько минут тому назад он твердил про себя, вдруг перепутались, смысл их стал неясным, расплывчатым, как лес в октябрьском тумане.
— Не могу я взять эти деньги, товарищ инженер… не могу. Это приписка. Я их не заработал…
Так и не сумев толком ничего объяснить, он повернулся и пошел к двери. Ему, конечно, следовало попытаться втолковать прорабу, почему он возвращает эти деньги, но лицо Беднаржа с телефонной трубкой возле уха выражало нетерпение, и старик подумал, что тот, пожалуй, все равно не поймет.
Увидев, что Колая уходит, Беднарж даже привстал на своем скрипучем стуле, улыбка мигом слетела с его губ. «Вот старый черт, с ума он сошел, что ли? — подумал прораб. — В тот раз шумел, что ему недоплатили, теперь возвращает три сотни из аванса…»
— Подождите, Колая! — остановил его Беднарж и положил трубку на аппарат. — Что случилось? Опять вам неправильно выплатили? В прошлый раз мастер Стиборжик ошибся, но ведь вы получили свое. Или нет? А теперь что случилось? — все так же нетерпеливо спросил он.
— Стиборжик почему-то выписал на три сотни больше, — остановился в дверях Колая. — Я не зарабатывал этих денег, они ваши, государственные, так вы их и возьмите, вот!
Через открытую дверь потянуло сквозняком, со стола на пол полетели бумаги. Колая постоял в ожидании, не скажет ли Беднарж что-нибудь еще, потом аккуратно закрыл за собой дверь и пошел сгружать бревна. Он спешил — засветло надо было вернуться назад, чтобы не добираться потом на стройку восемьдесят километров автобусом. Автобус — это лишние расходы, да и не удобно лезть в него в спецовке, а кроме того, старику почему-то нравилось ездить в кузове, смотреть, как хлопает над головой от ветра широкий грязноватый брезент, слушать рокочущий, согревающий шум мотора.
До стройки Колая добрался под вечер, вошел в свой теплый, прокуренный вагончик. Питнер, здоровенный малый, такой же разнорабочий, как и он сам, валялся на постели в одежде. Повернулся на скрип и вперился в Колаю немигающими глазами. В печке потрескивали дрова, и, когда поленья, обгорая, оседали, сноп рубиновых искр вылетал в щели у дверцы. В раскаленной железной трубе гудело. Другой разнорабочий, Новак, соскочил с верхних нар; загремели под его ногами дрова, с пола медленно поднялась пыль. Пошатываясь, он шагнул навстречу старику, схватил его за плечи грязными руками и отпихнул в сторону, с силой захлопнув дверь.
— Ну, старый хрыч, — процедил Питнер и скрестил ноги в грязных резиновых сапогах. — Старый ты кретин, — сказал он яростно, сверля Колаю глазами. — Ты все же увез бревна? Увез эти пеньки, старая калоша? Тебе разве не втолковали, чтобы ты их не трогал?
Колая съежился и молча направился в правый угол, где стоял шкаф для одежды. Повернув ключик, открыл дверцу. На его вешалке болтались какие-то странные тряпки. Он расправил их — и оторопел, устало опершись лбом о край старой коричневой полки. Пиджак был распорот, серая подкладка высовывалась из разрезанных рукавов. «Зачем они это сделали? — спрашивал он себя. — Как только рука поднялась?..» Губы старика дрожали, он что-то шептал про себя, будто снова боялся забыть то, что хотел сказать. На глаза набежали слезы. Старик смотрел в шкаф и ничего не видел. Брюки его были располосованы на четыре части так, что их не смог бы сшить заново никакой портной.
А те двое злобно смотрели на него. Старик спиной чувствовал их взгляды, слышал тяжелые шаги Новака. Вдруг тот заорал прямо ему в затылок:
— Ты, старая рухлядь! Пеньки, видишь ли, трухлявые пожалел! Созна-ательный! Тебе, старому хрену, разве не говорили, что у нас на этот лес уже есть покупатель? — Сорвав с головы Колаи берет и швырнув его на пол, он вопил, не унимаясь: — Ишь богатей нашелся! Старик, а ума не нажил! Только мы не такие болваны, как ты, мы так просто свое не уступим, нет!
Колая тяжело вздохнул, закрыл дверцу шкафа, поднял с пола берет и, даже не взглянув в сторону Новака, пошел к своей кровати. «Они сами не знают, что делают, — размышлял он, рухнув на кровать в чем был. — Верно, решили, что я их выдам…»
Отвернулся к стене и вдруг почувствовал, как заломило поясницу. Нелегко дались ему эти бревна… Снова лег на спину, посмотрел вверх, на нары Новака, и опять подумал, что никто из них в толк не возьмет, почему он повез эти еловые чурки и вернул три сотни. Сделал он это только ради себя, ради своей совести, и решил сам, хоть и узнал обо всем совершенно случайно. Но говорить об этом с соседями по вагончику смысла нет — понять они не поймут, а все дело обернется против него.
До него доносились голоса Новака и Питнера. Сначала они о чем-то договаривались, потом ругались, потом ругали кого-то. У него давно уже не было тех забот, что волновали их: сыновей своих он женил, дочерей выдал замуж и остался один-одинешенек, переезжает со стройки на стройку, и жизнь в вагончике кажется ему лучше, чем одинокие вечера в пустом деревенском доме. Работа есть, вокруг люди — что еще человеку надо? Сейчас он копает пруды. Кончится эта работа, найдется другая. Зарплата два раза в месяц, денег ему хватает, мало того, пятьсот крон ежемесячно он кладет на сберкнижку. И нельзя сказать, чтобы очень уж приходилось ему утруждать себя за эти деньги. Но он понимает, какая теперь стала жизнь, и поэтому хочет, чтобы все было честь по чести, хочет получать за свою работу на этой стройке или любой другой ровно столько, сколько он действительно заработал.
Старик смотрит вверх, на нары Новака, и рой мыслей одолевает его и не дает покоя. «Да, теперь я могу позволить себе брать только то, что заработал, и ни кроны больше», — думает он. Крикам этих двоих он нисколько не удивлялся, но вот при чем тут его одежда, зачем надо было ее портить? Зачем было так безобразничать, ведь сейчас они и не знают, и знать не могут, какими станут, коль доживут до его лет, когда дети упорхнут от них и в жизни останется одна только работа…
— Молчишь, старый пень, — угрожающе прошипел Питнер, встал с кровати и сделал несколько шагов к его койке. — Надеть бы на тебя смирительную рубашку! Деньги ему, видите ли, не нужны! Так отдай их мне! А он — смотрите на него! — повез эти трухлявые деревяшки на склад! Жаль, что ты ноги себе не переломал, когда лез в эту машину!
Колая даже не пошевелился, все так же недвижно смотрел на нары Новака. Они его не поймут, но он не изменится. И впредь будет поступать так же, если заметит какие-то махинации. И невольно улыбнулся, одобрив себя; Питнер и Новак стояли над ним, сжимая кулаки. Не удостоив их взглядом, старик отвернулся к стене, сбросив ботинки и закутавшись в грязное одеяло.
Утром шел дождь. Низкие разбухшие облака цеплялись за высокие ели. Колая надел прорезиненный плащ с капюшоном и, с трудом вытаскивая ноги из хлюпавшей глины, направился через поле к пруду. Вдоль дороги тянулась и исчезала в ее серпантинах черешневая аллея; карминовый шиповник покачивался на тонких веточках. Старик нашарил под крыльцом ключ, отпер дверь и вошел в строительный вагончик. Стоя в дверях, он оглянулся на котлован пруда, на длинную, поблескивающую от дождя бетонную запруду. Он знал: там, где ему придется сегодня работать, стоит вода и прежде ее надо откачать. Потом они забетонируют дно, чтобы вода не подмыла и не снесла запруду. Он взял ведро и уже собирался идти в котлован, когда услыхал треск мотоцикла. На нем ездил здесь только мастер Стиборжик. Через минуту он ввалился в помещение строителей. Стряхивая воду с плаща, подал Колае руку и взглянул на часы.
— Именно с вами мне и надо поговорить, — сказал он, кладя зеленую каску на стол. — Получается, что вы один тут работаете, а остальные бездельничают.
Колая слушал и обертывал ноги фланелевыми портянками. Делал он это неторопливо, словно выжидал чего-то.
— Колая, — сказал маленький и коренастый Стиборжик и открыл кожаную сумку, набитую бумагами. — Колая, черт возьми, скажу я вам… — Он не знал, как начать, поэтому попробовал обратить все в шутку. — Вы что, решили отбить у меня работу?..
Дождь хлестал по лужам, громко стучал по крыше.
— Прораб Беднарж рассказал мне о вашем… м-м… перерасчете. Не обижайтесь, но он страшно смеялся. Да и как не смеяться? Вы или слишком умны, или же, наоборот, не в своем уме.
— Он так и сказал? — тихо спросил Колая и сунул ногу в сапог.
— Нет. Это я так думаю, — ответил уязвленный Стиборжик и тяжело сел. — Мне теперь нужно переоформлять ваши наряды. Дождь идет и будет идти, а я, вместо того чтобы добывать насосы, запчасти к ним, спецодежду для людей, буду заниматься вашими нарядами. А у нас работа в самом разгаре, цемент мокнет, и, если не подсуетиться вовремя, план нам не выполнить…
— Товарищ мастер, — растерянно заморгал Колая и забарабанил пальцами по шершавому столу, — не теряйте времени на переоформление нарядов… Я ведь записываю то, что делаю… А то, чего у меня не записано, я не делал — поэтому и деньги задарма брать не хочу… вот.
Шум дождя нарушал напряженную тишину. Сквозь щели врывался сюда холодный ветер, хлопал ставней. Стиборжик снял телогрейку, бросил ее на пол рядом с собой. Лысина его блестела от пота.
— Колая, черт вас возьми, — пробормотал он, вытирая ладонью влажное лицо. — Ну где это видано? Я даю ему деньги, а он бросает их в корзину. Это же не мусор, это деньги! — Схватившись за голову, он непонимающе уставился на заросшее худощавое лицо Колаи. — Ха! Возвращать деньги! Они ведь ваши. Другие берут и помалкивают, а Колая бросает их в корзину…
— Я их на стол положил, — с обидой заметил Колая.
Он вдруг почувствовал себя смертельно уставшим и даже пытался не слушать Стиборжика, но голос мастера донимал его.
— «Они не мои… Свои у меня подсчитаны…» Так? — язвил, передразнивая Колаю, Стиборжик и с усмешкой посматривал на старика. — Теперь вам достанется от ребят… Заклюют… до смерти не забудете. И я этому не удивлюсь.
Колая размазал по столу лужицу, натекшую с подоконника, потом отколупнул щепку от скамейки и бросил ее под ноги. Выглянул в окно. С крыши лило как из ведра. Над прудом стоял туман. С высокого бука вдруг сорвалась сломанная ветром ветка и упала перед дверью домика.
— Кое-кто хотел бы прикарманить, что плохо лежит, а вы от своего отказываетесь… — продолжал Стиборжик. — Понять вас не могу! Слава богу, что другим такое не приходит в голову, иначе бы я пропал. Мне важно, чтобы люди работали у меня на стройке… Даже в таких условиях и при такой вот погоде… И сейчас, и зимой… — Он замолчал, снова провел рукой по лицу. — Такие вот, как Голань, Швец, работают без приплат, потому что это — мастера! О них и говорить нечего. Но ведь у меня на участке двадцать человек, и без них на стройке не обойтись! Деньги у меня есть. И если бы я не платил им так, как плачу… — Он махнул рукой, — Да что там говорить…
Колая, опустив голову, не проронил ни слова.
— Есть у меня эти деньги, есть, черт возьми! — прокричал Стиборжик и ударил по деревянной стене так, что стекло в окошке задрожало. — Я даю их вам, как и всем остальным, а вы назад мне суете! Так кто из нас сумасшедший? Я или вы, Колая?!
Старик пошевелил пальцами — ноги в сапогах согрелись, казалось, тепло от них расходится по всему телу.
— Что, я сто раз должен повторять, начальник? — тихо проговорил Колая, и в его голосе было столько упрямства, что Стиборжик снова внимательно посмотрел на него. — Мне эти деньги не нужны, потому что они не мои. Другие думают по-иному. Вчера они мне это доказали, да так, что у меня до сих пор поджилки трясутся. Но деньги я все равно не возьму. В прошлый раз, вы, конечно, помните это, Стиборжик, я тоже разозлился. Только тогда мне дали меньше, чем было положено, а я хотел получить свое. И получил. Теперь я тоже хочу только свое. Чему тут удивляться? Раньше, может, я бы тоже взял, не святой ведь, а теперь по-другому не могу.
— Но ведь вы, Колая, не один работаете в бригаде. И никто, кроме вас, деньги не возвращает!
— Ну, тогда выгоните меня из бригады. Но со стройки я все равно не уйду. Я уже здесь привык, да и работа меня устраивает. Если ребята в бригаде работают плохо, значит, они сами себя обкрадывают. В конце концов, обойдусь я без бригады… Когда вот надо было, я и бревна сам собрал, и погрузил их, и отвез на склад — один! — отвез, чтобы их здесь не разворовали. И заметьте, не попросил за это ни геллера.
Колая знал, что тут он немного кривит душой, потому как любит трястись в машине, да, к тому же, ведь ехал он и по своему делу.
— Вот сейчас идет дождь, — продолжал Колая. — Вся бригада режется в карты. Собрались в одном из вагончиков и ждут не дождутся Стиборжика. И вы туда, наверное, пойдете… А я, старый дурак, даже под дождем буду работать…
Стиборжик мрачно взглянул на старика и поднял с пола телогрейку. Одеваясь, сопел и что-то бормотал себе под нос. Колая взял ведро и лопату, набросил капюшон на голову и направился к двери.
— Так я, Колая, скажу Беднаржу, что вы обсчитались, — бросил ему вслед Стиборжик.
Колая открыл дверь, откинул сломанную ветку бука и сделал шаг в сторону Стиборжика.
— Говорите что хотите, — сказал он твердо. — Я знаю, ребята вам скажут, что у них дети, а у Колаи, мол, нет никого, поэтому деньги ему не нужны. Но, сколько я заработал, я сосчитать сумею, так что не представляйте меня дураком.
Морщинистое лицо его под черным капюшоном побледнело, заросший седой щетиной подбородок дрожал. Как хотелось ему сейчас забраться в кабину машины, в тепло, согреться, услышать шум мотора, подышать запахом бензина, доехать до города, увидеть людей, которым он безразличен, потому что они его не знают, но хоть по крайней мере не издеваются над ним, а потом вернуться назад, в бригаду, где он, как видно, совсем не нужен… «Если бы тут вдруг оказалась машина», — подумал он и под сплошным дождем зашагал в сторону пруда.
Стиборжик выкатил мотоцикл на разбухшую от дождя проселочную дорогу и завел мотор.
Перевод с чешского Т. Мироновой.
Паула Саболова «БАРАНЬИ ГОЛОВЫ»[29]
С приусадебного участка его нетрудно было узнать. Шел он снизу, с Планины. Будь у него мешок в руках, она бы подумала, что он опять тащит чью-то крольчиху на случку. В Чаковке, в этой богом забытой глуши, только один житель промышлял таким немужским ремеслом. На этот раз в руках у него ничего не было. Медленно, поминутно останавливаясь, кашляя, задыхаясь и вытирая пот с лица, поднимался он тяжелым шагом наверх, к ее дому.
Ах, как екнуло и зачастило у нее сердце. Тридцать девять лет она с ним даже словом не перебросилась. Тридцать девять… Такие годы и сосчитать-то долго, а уж прожить… Она еще совсем девчонкой была, крестьянской дочкой, выросшей без отца, когда вышла за него, за парня в «шевиоте» — так называли тогда на Планине покупные костюмы. В «шевиоте» ходили только городские, а свои, деревенские, носили одежку простую, из домотканого холщового полотна.
Многое с годами забывается, но та давняя история стоит перед глазами как вчерашний день.
Жениха для нее присоветовали тогда матери-вдове на ярмарке, да-да, именно на ярмарке. Его брат пас овец на хуторе за Планиной, а на той злосчастной ярмарке торговал всем, что перепадало на стороне. Мать даже не знала, откуда они родом. Разговор они вели степенно, без того шума и крика, к которому все привыкли в здешнем краю. И было лишь известно, что мать их жила где-то далеко, на мадьярской стороне.
Свататься пришел — господи, боже мой! — в черном пиджаке, до блеска начищенных штиблетах, с лихо заломленными на лоб полями шляпы.
— Мама, я не хочу за него! — несмело пролепетала она, столкнувшись с ней в сенях, когда та несла гостям угощение. Сваты в это время сидели за столом в горнице.
— Помалкивай! Парней сейчас нет, война на носу. А тебе уже пора.
— Посмотри, ведь он же весь в «шевиоте»!
— Дуреха ты! Значит, есть у него деньги, раз справляет себе такую одежу. И не пьющий! Рюмка перед ним уже сколько стоит, а он даже не притронулся. Ну-ка, иди скорей в дом, покажись ему.
Свадьба была богатая. Мать потом целых два года расплачивалась с долгами. Не могла она допустить, чтобы два гостя ели из одной тарелки; даже дети и те не ютились со своими надбитыми мисками где-то в сторонке, а у каждого было место за столом и перед каждым — отдельная тарелка. После свадьбы еще долго по всей округе чесали языки, что, мол, вдовушка из Чаковки совсем помешалась на этих тарелках.
А какой только еды не наготовили! И суп с лапшой, и жареное мясо с перцем, одних голубцов, почитай, штук двести завернули, да еще — слыханное ли дело! — кур жареных подавали. Сегодня все это, может, и смешно, но по тем временам был пир на весь мир. Даже кум с кумой не захотели ударить в грязь лицом и принесли всего столько, словно у них было не четыре, а восемь рук. Кум в одной руке держал огромную бутыль вина, а в другой — два литра ржаной паленки. Кума же притащила две корзины пирогов, а за спиной — целый узел разных подарков: полотна на блузку, бежевый, расшитый цветками клевера платок, зеленого бархата на юбку и кофту. Крестница принесла торт, а в корзине — розмарин и барвинок для украшения свадебного стола и гостей. А крестник — ему тогда было четырнадцать, шустрый такой мальчик, — после войны на мине подорвался… Сейчас она уж и не вспомнит, что же он тогда принес? Кур, что ли… Ну да, конечно, кур!
Со стороны жениха на свадьбу пришел лишь его брат — тот самый, что пас овец на Планине, какая-то худая, забитая женщина да кучка сопливых ребятишек.
— А ведь должен был еще прийти и твой младший брат, — осторожно попыталась выведать у жениха невеста, огорчившись скудостью его родни.
— Шут его знает где он. Вообще-то… его приглашали… — невнятно пробурчал жених.
На свадьбе он сидел в том же самом костюме, в каком приходил свататься. Та же шляпа и те же сверкающие штиблеты. Но при дневном свете на его пиджаке там и сям были заметны пятна, их хоть и пытались отчистить уксусом, но пиджак чище не стал. Мать места себе не находила от злости, ведь только теперь до нее дошло, что надеяться на его деньги — дело дохлое. От ее сладкой заискивающей улыбки — ах ты, зятюшка мой, а почему бы и нет, зятюшка мой, все будет, как скажешь, зятюшка мой! — и следа не осталось, и на ее лице, еще не старом, выделялись колючие серые глаза да уголки презрительно сжатых губ. Мать срывала зло на бабах, возившихся на кухне, на мужиках, то и дело прикладывавшихся к паленке, а в полночь, как раз тогда, когда на невесту надевали повойник, обругала двух женщин, стряпавших пироги. Много лет потом они едва здоровались с матерью. На каждой свадьбе — и по сей день так — есть у хозяйки свои любимые и свои гонимые. Обе эти бабы сейчас как два сморщенных яблочка, а обиды забыть не могут.
Через два дня после свадьбы надо было идти рожь косить. Мать разбудила их с первыми петухами. Пока собирались да птицу кормили, муженек-примак подхватил корзинку и, насвистывая, куда-то пошел задами.
— Куда ж тебя черти понесли?! — заорала мать ему вслед. После той несчастной свадьбы она терпеть его не могла.
— Грибы растут, мамаша! Боровики и бараньи головы. Смотрите, какой туман над лесом у Медвежьей горы.
— А рожь?!! Это ж хлеб наш насущный… А тебе наплевать?!
— Рожь подождет.
Если бы он тогда пошел с ними, если бы пошел… А он двинулся своей дорогой. Волосы его как уголь чернели над багровой шеей, штаны, стянутые у пояса, на худом его заду топорщились во все стороны, ноги заплетались — он, бедняга, еще и косолапил.
Чего она только не натерпелась за этот день в поле! Рожь уродилась низкая, она вязала снопы, а мать косила, срезая колосья чуть ли не под самый верх и выкрикивая страшные ругательства. Свалился на нашу голову, подкидыш! Безотцовщина! Мать его небось та еще шалава! Троих прижила от разных мужиков. Голоштанник! Шантрапа!
Вечером он ждал их на дворе, весь сияя от радости. Большая часть боровиков им была уже нарезана и на нитках развешена по окнам для сушки. Баранью голову пока оставил в корзине. Желая скорей похвастаться своей добычей, он от нетерпения ломал пальцы так, что те трещали в суставах.
К грибам никто не притронулся, так они и сгнили, зачервивев.
На другой день опять пошли в поле, уже вместе с примаком. Он не умел даже косу нести на плече. Как же он косить будет! Господи, спаси и помилуй! А как пришли на поле, у нее аж в горле свело от дурного предчувствия.
Примак засучил рукава, весело улыбаясь и присвистывая, сунул за пояс оселок, потуже затянул штаны, взял косу и размахнулся… Но не тут-то было. Коса острием воткнулась в землю. Он размахнулся еще раз — и рожь полегла несрезанная.
Мать, подобрав юбки и уперев руки в мощные бока, разразилась злым, презрительным хохотом.
— Вы над кем смеетесь, мамаша? Надо мной? Ну и косите сами. — Примак отшвырнул косу так, что она зазвенела, и, насвистывая, ушел.
На третий день вечером — была среда, она как раз наливала керосин в лампу — притащился гость. Как-то робко, неуверенно вошел он на двор. Слово за слово завязался разговор, и скоро выяснилось, что гость не кто иной, как младший брат ихнего примака.
Мать его даже сесть не пригласила, отвечала резко, сквозь зубы, не поворачивая головы, и гость растерянно топтался в сенях.
— Так мне уж пора… пойду потихоньку, только знаете… У меня к вам одно дело есть… Я брату Михалу одолжил на свадьбу свой пиджак, шляпу и штиблеты… Тут ничего такого нет, ведь он мне брат… Правда, я в эту субботу тоже собираюсь жениться… Вот пришел вас позвать на свадьбу… А где Михал? Я, как и он, иду в примаки, и эти вещи мне сейчас очень нужны. Ведь другого костюма у меня нет…
Мать вся огнем вспыхнула: распахнула дверки шкафа и вышвырнула в сени, прямо на глиняный пол, черный пиджак, потом туда же полетели из-под кровати штиблеты, а шляпа выпорхнула в палисадник.
Испуганный паренек подбирал свои вещи и прижимал их к груди с таким видом, что было жалко на него смотреть.
В ту ночь она легла одна под тяжелую перину, которая весила, наверное, пудов шесть, не меньше, даже ногой под ней трудно было шевельнуть. Уснуть не могла, все думала и думала, что завтра выскажет матери. Она уже побушевала, хватит, теперь ее очередь. Уж она ей скажет и то и это… Нет, про это лучше не надо. Не ровен час и ее выгонит. Где ей тогда приткнуться? У пастуха за Планиной? Так ей ничего и не сказала. Только утром встала с опухшими глазами, а кожу на лице всю стянуло и высушило, будто огуречным рассолом умылась. Как тогда ночью мать закрыла двери на засов, так и остались они для него навсегда закрытыми.
Можно по пальцам сосчитать, сколько раз она его видела за тридцать девять лет. Другие бабы, что разошлись со своими мужиками, все же встречались с ними глазами хотя бы в церкви, на свадьбах, на гулянье. Старая Корыстарка десять лет не жила со своим, а все же раза три с ним слюбливалась.
А ее мужик?.. Ох, и жалко ей загубленной жизни!.. Где его встретишь? В церковь не ходит, на гулянье тоже. На свадьбах не бывает, ведь родни у него кот наплакал. Так где же? Скорее всего, в лесу у Медвежьей горы, куда он ходит за своими бараньими головами. Из-за этих бараньих голов он совсем посмешищем стал. Чуть где заговорят о грибах, тут же его вспоминают. Спросите у Михала, есть ли сейчас грибы. Никто не найдет, а Михал найдет. У него свои места, о них он никому не расскажет. Никаким дружкам-товарищам, ни за какую водку, ни за что на свете не выдаст он тех заветных мест, где «ягнятся» его барашки. Много находилось охотников его выследить, да не выследили. Покружит, покружит по горе, помотает по лесу и — скроется с глаз.
Так и жила она, нет, скорее существовала, чем жила. Как лоскут неприлатанный, непришитый. Ничего не изведала. Ни деток, ни радости, ни утехи. Мать-вдова с годами становилась все сварливее, все упрямее, пока наконец не парализовало ее на одну сторону.
Когда впервые ей запала в голову мысль о смерти матери — чего греха таить, ведь думала она об этом, думала, — мелькнула надежда, неуловимая, как лучик света средь деревьев: вдруг он вернется, если мать умрет? Отчего бы ему не вернуться? Хозяйства такого, как раньше, уж нет — косить не нужно. Работали бы вместе в кооперативе. Его заработок да ее заработок — здоровье, слава богу, пока есть, работать может, — нехудо жилось бы им вдвоем. Да и жизнь теперь другая стала, напрочь другая, и пусть у того язык отсохнет, кто скажет, что это не так. Эх, родиться бы ей позднее!..
А уж грибов этих — боровиков да бараньих голов — он бы мог собирать, сколько душа пожелает. Пускай бы себе шатался с палочкой по лесу, пускай. Разве он виноват, что не крестьянского роду. Разве виноват, что тогда у него костюма не было.
И все же не вернулся он. Жил у брата на Планине и хлопотал по хозяйству ради его детей. Сейчас уже эти дети — взрослые мужики, и такие дома себе понастроили — что твой дворец. Один из них в институте выучился и работает в самой Праге, профессором в университете.
Чужие теперь благодарны ему за труды, за деньги, за ласку. А ей что досталось? Грешно в ее годы думать об этом, но было у нее с ним только четыре ночи, да и то проведенных в страхе. Не считая нескольких торопливых объятий в хлеву, где они хоронились от настырной матери. Остаться бы им тогда там, рядом с коровами, подольше — вытаращенные глаза их в памяти у нее до сих пор, — глядишь, и сделали бы ребеночка. Хоть одного-единственного! Сейчас бы у него уж свои взрослые дети были.
Нет, не к соседу с крольчихой идет примак Михал, а к ней идет, к ней. Ах ты, господи, ушел молодой парень, а возвращается старик. Задыхающийся старик.
Скрипнула железная калитка. Надо бы ему прийти сюда, как не будет другой работы, да смазать петли вазелином, не мешает и пружину сменить. Собака залилась лаем, примак остановился, озираясь вокруг.
Мать, наверное, из гроба встала бы, увидев, как дочь кинулась ему навстречу. «А спешила-то как, бесстыжая», — потом бубнила бы перекошенными от паралича губами.
— Встречаешь меня, женушка? Раньше нужно было, а матери твоей непутевой пусть земля теперь будет пухом. Ну да не об том пришел к тебе поговорить. Видать, уж не жилец я. Вон как все в груди свистит! До осени не дотяну. Пришел я тебе рассказать, где растут бараньи головы, только тебе одной… Никому еще не раскрыл этой тайны, даже брату…
— Может, в хату пройдете? — позвала она его, совсем как чужого. Неужто и вправду когда-то таращились на них коровы в хлеву? Или у нее все так перепуталось в голове?
— Не стоит, лучше здесь. Так слушай. У Медвежьей горы возьми вправо, а дальше иди напрямик. Дойдешь до обрыва, пройдешь его… Да не по дну, вниз не спускайся, пройди верхом. Как обрыв кончится, сверни налево. Пройди метров сто. Шагов этак сто двадцать… Там начнется чащоба. Иди сквозь нее до тех пор, пока свет в глаза не ударит. И сразу увидишь перед собой граб, а вокруг несколько пней. Вот под этими пеньками и ищи… Ну, я пойду. Счастливо тебе! Ах да, чуть не забыл… Я недавно узнавал, не дадут ли тебе как вдове какой пенсии после моей смерти. Говорят, не дадут. Жалко! Ну, счастливо…
Смотрела она на него и только сейчас поняла, что глаза у нее сдают. Видела все как сквозь оконное стекло, сплошь залитое пеленой дождя…
Закрыла она хату, отвязала собаку и пошла к Медвежьей горе. Как это он говорил?.. Под Медвежьей горой сверни направо и иди, пока не дойдешь до обрыва… Перед глазами все плыло как в тумане, палило солнце, ящерка пробежала под ногами, шелестела трава, щебетали птицы… Она шла и видела его перед собой: молоденький, волосы черные как уголь, порты складками топорщатся на худом заду, косолапит… За ним так и дошла до обрыва, повернула налево. Обступила ее лесная гущина, цеплялась, рвала платье, ветки хлестали по лицу. Она шла, продираясь сквозь заросли, пока не забрезжил свет… Вот и граб перед ней. Большой, зеленый. А на стволе его, вверху, куда только мужская рука может дотянуться, вырезано ножом сердце, истерзанное временем и непогодой, а под ним — буквы:
ГАНИЧКА ЖЕНА МОЯ
Он, милый, и рисовать толком не умел, и писал кое-как. Господи, как же волнуется, как бьется ее сердце — так и вырвалось бы из груди к тому, другому, вырезанному на дереве.
И как ей теперь идти домой с таким сердцем?
Перевод со словацкого Н. Попова.
Франтишек Ставинога НЕОБЫЧАЙНАЯ ИСТОРИЯ ЙОЗЕФА САТРАНА
Йозеф Сатран, по прозванию Палец, работал во вторую смену. И потому первую половину дня посвящал самым неотложным хозяйственным делам, стряпал обед, прибирал в доме или копался в потрохах какой-нибудь авторазвалюхи у себя во дворе.
В то утро он наращивал кирпичную трубу асбестовой. С его крыши открывался вольготный и живописный вид на всю Долину Сусликов. От взора Пальца не могло утаиться и то, что Андула Благова, озираясь, незаметно проскользнула в дом мастера портняжного дела и бальных танцев Леоша Коничека.
Пальца этот факт никоим образом не радовал, ибо в Андулу он был влюблен. Впрочем, Йозеф Сатран был влюблен, конечно же платонически, во всех женщин из Долины Сусликов и тяжко страдал от того, что они, как правило, отдавали предпочтение не ему, а кому-нибудь другому. С того часа, когда доктор Гелена Филипова обрабатывала кровавую отбивную, в которую превратилась его левая рука после взрыва капсюля, он влюбился и в нее тоже и испортил этой доброй докторше не одну минуту жизни.
Палец мог справиться с любой, и с более сложной технической проблемой, нежели обыкновенное увеличение печной тяги. И хотя соседи в Долине Сусликов постоянно подтрунивали над его неудачами на любовном фронте, они весьма высоко ценили его золотые руки и почитали технический талант. Йозефу Сатрану вполне под силу соорудить тут же, совсем из ничего все что угодно, да еще и задарма.
Он давно уже был взрослым парнем, каковыми у нас считаются мужчины, достигшие двадцатипятилетия. Но повзрослеть окончательно ему никак не удавалось.
Еще при жизни отца он выучился на слесаря и слесарил в мастерских шахты «Февраль», ремеслом владел блестяще, даже после того, как от игрушек со взрывчаткой на левой руке у него уцелел один-единственный большой палец. Средний срезало взрывом под корень, а от безымянного остался жалкий обглодыш. Указательный же с перебитым сухожилием скрючился углом. Кроме большого пальца повезло, пожалуй, еще и мизинцу, у которого оторвало лишь фалангу. Хирургу удалось спасти часть ногтевого ложа, из которого теперь торчал ноготок-уродец, похожий на коготь орла.
Впрочем, внешний вид Пальца и без того не ласкал взоры девиц. Застенчивый до нелепости, тощий, долговязый и мосластый, как новорожденный теленок, он доверчиво лупил светло-карие глаза, вызывая подозрение, что, начни кто-нибудь утверждать, будто Колин[30] стоит на труднодоступной вершине, он поверит и этому. Прямые, жирные, вечно немытые патлы он отпустил по моде до самых плеч. Стоило ему повернуть голову, как эта неопрятная грива взлетала, и казалось, что на голове у него нахлобучен изодранный в клочья зонтик. Дышал Палец раскрытым ртом, ибо нос его был забит аденоидами.
Главной же причиной того, что девушки не принимали Йозефа Сатрапа всерьез, был тот факт, что он окончил специальную начальную школу для умственно отсталых детей. И надо сказать, что тут имела место принципиальная педагогическая ошибка учительницы Шафранковой, в достаточной мере неврастеничной и честолюбивой дамы, сурово сжатые губы которой очень походили на капкан браконьера. После двадцати пяти лет ярких педагогических неудач судьба послала этой невезучей училке, пожалуй, идеальный класс. Единственным темным пятном в этом отборном цветнике наших надежд был ученик Йозеф Сатран. К чести учительницы Шафранковой будь сказано, до самого четвертого класса начальной школы она прилагала максимальные усилия, чтобы пробудить дремлющий интеллект ученика Сатрана и дотянуть его познания до выдающегося уровня своего идеального класса. Но ученик Сатран так и не сумел понять, на кой ляд ему нужны какие-то там стороны света, коли их можно определить с помощью того же компаса или по солнцу, ведь в учебнике краеведения черным по белому сказано, что уметь определять стороны света должны моряки, плавающие на океанских судах, путешественники в необитаемых краях, солдаты на марше в неизведанных лесах, туристы, заблудившиеся в незнакомой местности, и тэдэ.
Ученика Сатрана Йозефа не тянуло на палубу заокеанских судов. Не манили также путешествия в необитаемые края, а мысль о непроходимых джунглях просто ужасала. Он не жаждал стать туристом и шататься в незнакомой местности, и уж тем более забираться в эти таинственные тэдэ, ибо он не ведал, что это такое. В свои девять лет он имел весьма точное представление о том, чем заполнит свое время, когда избавится наконец от непонятных требований и претензий учительницы Шафранковой. Его рациональный ум отрицал какую бы то ни было абстракцию, и все проявляемые им эмоции носили исключительно практический и технический характер.
Учительница Шафранкова придерживалась случайно подхваченных ею психологических теорий такого примерно плана: «птица» есть птица, по всеобщей классификации, но прежде всего это животное. Отличительные свойства этого животного — наличие перьев и умение летать. Голова учительницы Шафранковой была забита всяческими прикладными психографическими структурами, долженствующими помогать учащимся отвечать на вопросы типа: что есть птица?
Вырванные из контекста, подобные тесты выглядели достаточно невразумительно. Учительницу Шафранкову в глубине души мучили догадки, что педагог она на самом деле никудышный, поскольку не способна освоить азы психологии. Что касается пункта первого, то это соответствовало истине, но знание или незнание душеиспытующих наук никак не могло повлиять на ее педагогическую квалификацию.
Стремясь утаить сей свой предполагаемый недостаток, Шафранкова выносила жестокие вердикты при оценке умственных способностей своих учеников, чьей души она абсолютнейшим образом не понимала. Что касается ученика Сатрана Йозефа, тут она пришла к твердому убеждению, что его необходимо изъять из обычной школы и поместить в заведение для умственно отсталых. Родителям Сатрана она сообщила, что их сын проявляет исключительное отсутствие интереса к знаниям и без специальной школы из него вырастет редкостный экземпляр тунеядца и обузы для общества.
Ученик Йозеф Сатран, однако, отнюдь не был плохо подготовленным к жизни. Он унаследовал от своего отца страсть к механике.
Йозеф Сатран-старший за гроши — каких-нибудь пять или десять сотенных — покупал остов автомашины и не знал большего счастья, чем копаться в моторах и механизмах, валяясь под жестяной развалиной без окон, дверей, колес или прочего, что хотя бы отдаленно напоминало автомобиль, до поздней ночи. Чтобы потом, непомерно счастливым и до невозможности усталым, с руками, по самые локти перемазанными в масле, свалиться в чистую постель.
Папаша Пальца приволок во двор своего домишки корпус старичка «тудора» выпуска сорок восьмого года и добыл через девятнадцатые руки мотор от «октавии» без каких-либо признаков жизни. После чего отправился в Пльзень и в специализированном магазине купил диски и «обувку». К этому залатанному монстру он приспособил указатели поворота от старого автобуса и торжественно выехал со двора. Сношенные шаровые пальцы бросали машину от тротуара к тротуару, потому что Сатран-старший позабыл проверить управление.
Хотя Сатран-отец и был одержим страстью автолюбителя, но выхлопотать технический паспорт для неуправляемой машины все же не решился. Шаровые пальцы были дефицитом, и найти их даже для более современной машины оказалось невозможным.
Слепленный на живульку «тудор» так и остался стоять в углу двора Сатранов тихим памятником его неистребимому усердию. Но Сатран-старший не отчаялся. Дня через три он приволок корпус машины, рядом с которой неподвижный «тудор» выглядел как автомобиль нефтяного магната.
В отличие от своего папаши Палец, кроме страсти к механике, был наделен еще и талантом. В девять лет он мог снять головку блока и невооруженным глазом определить, в каком состоянии находится клапан, только лишь подгорел или наполовину уже сожжен. Умел сменить тормозные колодки, в большинстве случаев сношенные на нет. Промыв в бензине безнадежно заржавевший тормозной тросик, он принуждал его к послушанию.
Со временем со двора Сатранов перестали выезжать разномастные стреляющие выхлопом уродины с висящими на дверцах ржавыми замками от крольчатника. Сатран-старший стал гонять по дорогам в профессионально собранных машинах, чье изначальное происхождение мог определить лишь специалист.
Однажды, летя по шоссе на таком чуде техники, он переоценил свои шоферские возможности, как до сих пор переоценивал свое искусство механика, и на крутом повороте разбил вдребезги машину, найдя для себя среди обломков железа мгновенную гибель.
Чтобы уберечь единственного сына, мать Йозефа Сатрана запретила ему какую бы то ни было автомеханическую деятельность возле своего дома. К этому времени Палец уже почти выучился на слесаря и стал замечательным механиком. Запрет он переносил тяжело. Позже приятель шахтер разрешил ему поставить у себя во дворе «велорекс», приобретенный за сто восемьдесят пять крон. Езда в подобном трехколесном костоломе, чей ветхий скелет был небрежно прикрыт залатанным брезентом, больше походила на метания взбесившегося быка по обледеневшей пашне, нежели на комфортабельное путешествие.
Нашлась одна девица по имени Консуэла Плечистая, которая снизошла до того, чтобы прокатиться с Пальцем на эдаком «чуде».
Консуэла отличалась очень красными и словно отполированными до блеска икрами ног, кроме того, ноги ее были необычной формы: с внутренней стороны прямые, будто их прочертили по линейке, в то время как их внешние контуры изгибались наружу буйным полукружием. К тому же Консуэла страдала каким-то стоматологическим заболеванием, в результате которого распухшие десны верхней челюсти свисали на нижние ярко-красными сосками. Консуэла любила громко и без причины хохотать. Зубы у нее были мелкие и серые, и потому ее улыбка напоминала картинку из детской сказки про серых мышек, выглядывающих из-под карминовых пуховиков.
В течение всей этой довольно шумной поездки она излагала Пальцу опасения своей матушки, как бы она, Консуэла, спаси бог, «куда-нибудь не подзалетела», ибо все мужики, а «главное, моторизованные», завозят девушек «подальше от людей», чтобы «предаться своим безудержным страстям».
Пальцу и в голову не приходило предаваться чему-либо безудержному. И, хотя «велорекс» вдруг намертво встал посреди леса, однако предаваться страстям у Пальца не было никакой охоты: «велорекс» забастовал сам по себе.
Палец попытался запустить мотор. Трехколесное чудо, рванувшись вперед, подпрыгнуло разок-другой, словно вспугнутая лягушка. Тогда бедняга Палец под взглядом дико хохочущей Консуэлы молча разобрал жиклёр.
Но и прочищенный жиклёр не придал машине необходимой плавности. Впрочем, опытный механик Палец уже знал, что дефект не в карбюраторе. День был сырой. Машина всю зиму простояла, возможно, в баке отстоялась вода. Или попала грязь. Но Палец решил добраться до дому во что бы то ни стало, потому что Консуэла проявляла нетерпение и дико хохотала.
Тем не менее в Пальце и теперь не взыграли безудержные страсти. Непослушание «велорекса» просто-напросто оскорбило его честь механика и шофера, кроме того, он хорошо знал «матушку» Консуэлы, которая работала в той же шахте, что и он, только наверху, и штейгеры перебрасывали ее один другому, как дохлую кошку. Пани Плечистая-старшая была существом с неважнецкой трудовой моралью, одаренная к тому же чрезмерно раздутым эротическим воображением. Она любила ворваться среди ночи в ближайший милицейский участок, чтобы драматически живописать перепуганному прапорщику Ванеку, как на безлюдной улице на нее напал типчик ярко выраженного мужского пола, обнаженный от пояса книзу, а в обратном направлении укутанный в черную куртку с капюшоном, в прорези которого сверкали безумные глаза. После чего прапорщик Ванек добросовестно патрулировал в указанном месте, но обнаруживал лишь две-три смущенных парочки влюбленных да старенького пана учителя Гампапу, который лечил бессонницу ночными прогулками. Пани Плечистая была исключительно безразлична к личной гигиене, восполняя это парфюмерией, а хорошее воспитание — напыщенными фразами из бульварной литературы.
Ввиду все растущего дефицита на литературный брак пани Плечистая переключилась на кинобрак, ввозимый нашими закупщиками из США, или, как они себя величали, страны неограниченных возможностей, где творцы симулируют интерес к расовым да и другим жгучим проблемам современной жизни и где в боевиках вместе с героями бывает большей частью удушен, удавлен, линчеван или иным образом отправлен на тот свет даже намек на хороший вкус. И пока один из таких фильмов шел в живенских кинотеатрах, мамаша Плечистая из кинотеатров не вылезала, а после каждого ее посещения прапорщик Ванек кидался на поиски злоумышленного насильника. Если же в живенские кинотеатры по ошибке попадал фильм хороший, скажем, Элии Казана или Джона Шлезингера, пани Плечистая писала сердитые заявления в культурную рубрику периодической печати, посрамляя в них экспортирующие организации.
Консуэла, хихикая, поддерживала разговор, а Палец поддерживал на ходу свой шальной «велорекс». Нельзя сказать, что у него полностью отсутствовало желание влюбиться, даже в Консуэлу Плечистую. Ведь большого выбора у него, как известно, не было. Палец не обладал ни одним качеством из тех, что мечтают девчонки увидать в своих потенциальных женихах, да и словоохотливым его назвать было бы большим преувеличением. Кроме профессиональных терминов, в его лексиконе содержалось слов эдак двадцать пять, из которых двадцать было нецензурных. Танцевать Палец не танцевал. И этому сложному и, для начала знакомства, чрезвычайно необходимому искусству его не сумел обучить даже мастер портняжного дела и бального танца Леош Коничек, хотя около самого уха своего подопечного отстукивал ритм вальса: и-и раз-два-три, и-и раз-два-три, а в начале курса обнадеживающе провозгласил, что выучивал плясать карманьолу и не таких медведей.
Во время танцев Пальцу казалось, что природа наделила его значительно меньшим количеством суставов, чем его сверстников.
С самого детства Йозеф Палец слышал, как отец, лежа под очередным механическим монстром, матерится, не умея иначе выразить недовольство собственными неудачами, нежели словом, перешедшим к нам из досоциалистических общественных формаций. Это слово стало для Сатрана Йозефа словом-паразитом, как у другой части молодежи, скажем, обращение «чувак — чувиха».
Так, например, он извинялся перед дамой, которой отдавил ноги:
— Я, барышня… извиняюсь, то есть… этово… стервь… пардон!
Из-за аденоидов он гнусавил, и потому конец фразы не всегда бывал произнесен четко и она звучала как личное оскорбление.
Девушки считали Йозефа Сатрана грубым или, того хуже, просто распущенным хулиганом и дружно отказывались от его провожаний.
Все, но не Консуэла Плечистая, в тот прохладный весенний вечер, когда они возвращались из тряского путешествия. Она, правда, попросила, чтобы он не подвозил ее к самому дому, и у нее были на то свои причины. Она велела проводить ее пешком и страшно при этом хохотала.
Палец затолкал «велорекс» под могучий каштан, отважно взял Консуэлу за руку и гордо повел к дому.
Консуэла заливалась безудержным хохотом. Такая уж у нее была веселая привычка, в эту минуту поддержанная уверенностью, что за ней и провожатым подглядывает из-за шторы бывший жених, с которым она разошлась в прошлый вечер. Экс-суженый был обучен на пекаря. При помощи родителей, деда с бабкой, дядьев, теток и одного доверчивого двоюродного братца он одолел покупку «трабанта» за тридцать шесть тысяч, из коих две трети должен был еще выплачивать. На работе он мог разжиться не более чем парой булочек, которые, остыв, имели вкус резиновых покрышек и вызывали подозрение, что их не пекли, а сушили на крыше. От горячих булочек Консуэлу пучило. Угроза быстро разбогатеть была для пекаря столь же велика, как рыбе погибель в водной пучине.
Консуэла завлекала еще каменщика и облицовщика в одном лице. Этот пройдоха, кроме своих ремесел, овладел также сложным искусством получастных коррупционно-левых профессиональных субпоставок. Получастных потому, что большую часть облицовочного материала он попросту крал на родном предприятии; как человек предприимчивый, он тем самым входил как бы в долю с социалистическим сектором. Впрочем, иных причин там трудиться у него не имелось. В свои тридцать пять лет он был сказочно богат. Ездил на плавно покачивающейся «татре-613», выгодно купленной из вторых рук. Консуэле было неизвестно, что ему отказали уже несколько невест из-за его фантастической скупости и по той же причине бросила жена, сбежав с двумя малолетками. Он жил вместе с родителями в большом новом особняке с холлом и тремя ванными комнатами, дом он оценивал в полмиллиона. Ходили слухи, будто он позволял жильцам купаться только раз в неделю, по субботам, если они соглашались мыться в той же воде, что осталась после него. Жене он выдавал для супа рисинки по счету, а на ночь останавливал часы, чтобы не снашивались.
Он несколько раз прокатил Консуэлу в своей дорогой машине, полагая, что чрезмерных претензий у девчонки, которая неустанно хихикает рядом и кокетливо моргает белесыми ресницами, из-за этого не появится. Совершенно очевидно, что надежды Консуэлы Плечистой на этого Гарпагона, выражаясь мягко, были пустыми.
Столь же преувеличенными были и ожидания Пальца, что на Консуэлу произведет впечатление его залатанный «велорекс». У Пальца не было шансов и против задолжавшего по уши пекаря. Он, Палец, играл роль подсадного ухажера в Консуэлином стремлении доказать собственную неотразимость своим мнимым кавалерам. Инсценировкой провожанья Консуэла, увы, тщетно пыталась досадить пекарю, которому она и ее мамаша достаточно обрыдли. Следить из окна за передвижениями этой смешливой и красноногой экс-невесты ему и в голову не приходило. Первоначально Консуэла замышляла кататься вокруг пекарева дома в «татре-613», но ее владелец по субботам и воскресеньям был особенно занят своей получастной деятельностью, и Консуэлино предложение, прерываемое хохотом, решительно отверг.
Палец, вышагивая своей журавлиной походкой, проводил Консуэлу до самой калитки.
У калитки засмущался и встал, переминаясь с ноги на ногу. При несомненной скромности он все-таки полагал, что один-единственный поцелуйчик и возможный намек на следующее свидание — не слишком высокая плата за трудную поездку в ненадежном драндулете.
— Привет, — сказала Консуэла лаконично и неблагодарно. Из дому доносилось унылое завывание ее мамаши. Она, видимо, пела, а может быть, кто-нибудь поставил ей на ногу тяжелую мебель.
— Погоди, — произнес Палец. — Поди-ка.
Это предложение отнюдь не походило на любовный зов. Скорее, создавало впечатление, что он хочет предупредить о какой-то погрешности в ее туалете.
— Чего? — спросила Консуэла.
— Я — (тут вклинилось то самое непечатное слово) — хотел тебе кой-чего сказать.
Слово-паразит так развеселило Консуэлу, что серые мышки ее зубов едва не выскочили из-под карминовых пуховиков.
Палец стоял разинув рот и записным оратором не казался.
— А ты мне лучше напиши, — крикнула Консуэла, давясь смехом, как другие девчонки давятся рыбьей костью. И исчезла в доме.
Любая ирония была глубоко чужда Пальцу. И к предложению Консуэлы он отнесся с полной серьезностью. Да! Палец написал Консуэле письмо, в котором спрашивал, как она поживает и что поделывает. Что он, дескать, поживает хорошо и вспоминает прекрасные минуты, проведенные с нею. Что будет делать Консуэла в следующую субботу? Он не станет ничего делать, если она, Консуэла, примет его приглашение еще на одну прекрасную поездку. Бензин он процедил через фланелевую тряпку, а бак промыл. И поедут они теперь гладенько, как по маслу.
И подписал: С уважением, преданный Сатран Йозеф.
Письменное излияние Пальца Консуэлу не слишком вдохновило. Письмо она кинула в печку и обратила свои поползновения на интересного получастника с «татрой-613».
Еще одно любовное фиаско вызвало у Пальца приступ задумчивости, усиленной тем обстоятельством, что мамаша Сатранова недолго скорбела по трагически усопшему супругу. Кроме стирки замасленного постельного белья, на ее долю в супружестве с ним ничего примечательного не выпало. Ей еще не исполнилось пятидесяти, и она вдруг стала свободной. По отношению к взрослому сыну, который умел все, а значит, и стряпать, она обязательств не имела. Со всем неистовством своего возраста она влюбилась во вдовца с двумя малыми ребятишками и переехала к нему в один из живенских микрорайонов.
Палец остался сиротой в родном доме. Тяжесть одиночества и недосягаемость даже самых малых любовных радостей обрушились на него более чем когда-либо раньше. «Велорекс» стоял теперь в его дворике, но одиночества радикальным образом не изменил.
— Я на тебя удивляюсь, — сказал ему по-приятельски шахтер Козел, тот самый, который во времена запрета на въезд автотранспорта во двор Сатрана держал его «велорекс» в своем гараже. — И чего бы тебе тоже не жениться, коли мать от тебя смылась?
— Никто за меня не идет, — загудел Палец по примеру всех отвергнутых парней и стал задумчиво разглядывать левую руку, которая походила на обглоданный ветром сук горной сосны.
— Чего на руку-то глядеть, — изрек Козел. — У мужика главное не маникюры. У мужика главное струмент да как он с домом управляется.
Козел критическим взглядом окинул прогнившие водостоки и покосившиеся, с облупленной краской, оконные рамы. Дом у Сатрана весьма мало походил на образец индивидуального строительства. Как только начинался дождь, в спальне в каждый угол ставили ведерко, а посредине таз. Отец на такую ерунду внимания не обращал. И Палец родился в этой развалюхе. В младенческом возрасте он то и дело сваливался в таз с дождевой водой и, пока не стал мужчиной, раз в неделю мылся в кухне в цинковой ванне. Ему и в голову не приходило, что будущей невесте такие бытовые условия могут показаться малость устаревшими.
— Я на тебя просто удивляюсь, — заверил его Козел в другой раз и отколупнул от ближайшего окна кусочек засохшей замазки. — На что глаз положишь — все у тебя в руках горит! С закрытыми глазами на любую работу мастак! Кому-никому за спасибочки все дела переделаешь, а собственный дом вот-вот на голову свалится. В такую халупу ни одна баба не пойдет. В твоей кухне ей придется похлебку мешать шестиметровым уполовником, да еще через окошко!
И крышу он окинул опытным взглядом. Был Козел по профессии плотник, на шахте работал крепильщиком.
— Попроси на шахте старые балки, — предложил он. — В поссовете тебе отпустят за гроши бэ-у черепицу. В пятницу ее снимем и к воскресенью, глядишь, крышу покроем. Что до остального — тоже сообразим, а пока дай объявление — и приходи к нам завтра обедать. Будут кнедлики со шпиком.
— Я сам умею стряпать, — ответил Палец.
Пани Козловой стукнуло сорок, она была красивая, и Палец никак не исключал ее из круга своих мысленных любовных объектов. Поглядывать на нее, когда она с горящими щеками суетится возле плиты, ему было отнюдь не противно, и, если б Козел каким-то чудом сгинул, он охотно остался бы с ней навсегда. В данной же ситуации Палец тяжело страдал, и особенно когда пани Козлова, нагнувшись, мыла перед домом ступеньки.
— Коли хочешь жениться, не хвались, что умеешь стряпать, — посоветовал ему многоопытный приятель.
Палец уцепился за совет старшего товарища, как щенок за мамкину титьку. Совет был неплох, Палец ухватился бы и за худший, лишь бы блеснула хоть искорка надежды избавиться от одиночества. Хотя, признаться, он не очень понял намек Козла о настоящем мужском инструменте. Палец признавал, что домишко его запущен, и загорелся желанием исправить то, что упустили два предшествующих поколения Сатранов. Хотя бы во имя будущей и неведомой пока невесты. А свой рабочий инструмент, заботливо уложенный в чистенько оштукатуренной мастерской, он и так содержал в образцовом порядке.
Кроме черепицы они достали в поселке новые оконные рамы, двери, кирпич и водопроводные трубы. На шахте вместо полагающихся ему казенных дров он получил забракованные балки и деревянные колодки, которые до определенной степени изношенности служат в шахте для клети. Козел связал из них превосходный переплет для крыши. Не прошло и месяца, как на доме Пальца уже красовалась отличная черепичная крыша. Во всей Долине Сусликов не было человека, которому Палец не починил бы будильник, водопровод, радио или мотор у автомобиля, а то и циркулярку. Капремонт дома Йозефа Сатрана стал делом добрососедской чести всей Долины Сусликов. Пан Прохазка, строитель на пенсии, которому Палец помогал поддерживать его возлюбленную «татрочку-120» в состоянии, соответствующем требованиям техосмотра, начертил план внутренней перепланировки дома. Здесь уничтожил деревянную переборку, там пририсовал ванную комнату и ватерклозет вместо соответствующей деревянной будочки во дворе.
В восторженном предчувствии близкого осуществления давно желанной мечты Палец выложил все свои скромные сбережения на кухонную мебель, газовую плиту и кухонную печь постоянного горения, словно новая хозяйка, надев фартук, уже ждет за дверью, чтобы поскорее замешать юшку.
Пальцу никогда не приходило в голову, что, оказывая услуги соседям по части механики, он совершает нечто, что требует благодарности или, более того, вознаграждения. Когда они вспрыскивали окончание ремонта, Палец перебрал крушовицкого двенадцатиградусного, и ему вдруг стало казаться, что все соседи и товарищи, которые до той поры над ним подтрунивали, суть ангелы небесные, с ласковым нетерпением ожидающие случая, как бы это обеспечить ему, Пальцу, сладкое и согревающее душу ощущение соседской взаимопомощи и бескорыстной любви. И он, Палец, которым пренебрегает даже красноногая Консуэла Плечистая, поглядывая на него сверху вниз, будто с копра, Палец-недоумок, который учился в особой школе и которого безжалостно покинула родная мать, такого счастья не заслуживает.
За всех этих неправдоподобно прекрасных людей он обнял своего отечески-доброго друга Козла и, всхлипывая, взревел, уткнувшись в его заляпанную известкой куртку.
Козел бросал беспомощные взгляды на развеселых товарищей.
— Ребята, — сказал он растерянно. — Палец-то у нас перебрал! Какой обалдуй постарался его накачать?
Никто не признался, и потому причина охмеления Пальца больше не разбиралась. Растроганного Сатрана уложили отсыпаться и, как во множестве более серьезных случаев, пришли к выводу, что виноват коллектив в целом.
Но если кто-нибудь вообразил, что теперь-то уж Пальцу пришлось изгонять девиц, жаждущих вступить в брак, из отремонтированного дома вилами, тот глубоко заблуждается!
В Долине Сусликов его знали как доброго соседа, который скорее откажется принять сто крон, чем прийти на помощь. На работе его считали надежным мастером. Но девчата на выданье все еще помнили — и красивый дом тому не мог возбранить, — что учился Йозеф в особой школе, да и сейчас он какой-то не такой.
Приведенное в порядок недвижимое отнюдь не укрепило мужской самоуверенности Пальца. Лицом к лицу с женской загадочностью он продолжал краснеть, как пожарный календарь, а если уж открывал рот, чтобы заговорить, то четко произносил лишь то слово-паразит, которое никоим образом невозможно считать самым подходящим для беседы с дамой.
Богатый технический словарный запас в женском обществе ценится невысоко. А девушек, интерес которых к компрессорам и двигателям внутреннего сгорания или в совершенстве отрегулированным тормозам был бы настолько велик, что они не заметили бы бросающихся в глаза странностей Пальца, пока не находилось. Если они и были, то почему-то не попадались на его повседневной трассе: шахта — Долина Сусликов.
Поначалу, пока внешний вид дома еще не приелся, его владелец поддавался ошибочной теории о необычайной притягательности ласкающей взор недвижимости. Он сумел дотащить чуть ли не силком до самой калитки двух-трех девчонок, но тщетно зазывал их зайти в дом, посмотреть внутреннее убранство.
Бегающий взгляд его очень светлых карих глаз, полуоткрытый рот и грубая речь, пересыпанная словами-паразитами, словно заяц, нашпигованный салом, вызывали скорее мрачные подозрения, чем желание остаться с Пальцем наедине. Наоборот, он легко приобрел репутацию опасного маньяка, который заманивает невинные жертвы в утробу своего дома, чтобы там изнасиловать. Всякая девица с радостью хвалится интересом, проявленным к ней маньяком.
— Я на тебя удивляюсь, — сказал ему Козел в третий раз, когда Палец на его вопрос, появилась ли у него наконец девушка, лишь растерянно пожал плечами.
— Говорил же, дай объявление!
Палец рос у Козла на глазах, и тот отлично знал, что он никакой не маньяк и не придурок.
— Да я… — тут следовало уже известное слово-паразит, — как его, не умею. Не знаю… чего там писать! — ответил Палец.
— Пиши, что ты идиот, — вконец обозлился Козел, но быстро сменил гнев на милость, ему было жаль Пальца. Он охотнее всего написал бы объявление за него сам, но управлял угольным комбайном лучше, чем владел пером, и придерживался мнения, что определенные вещи каждый должен делать сам.
Козел только сбегал домой и вернулся с газетой.
— В любой газете можно найти кучу баб, — изрек он поучительно и показал на страницу с объявлением. «Разведенная, 28/180, с трехлетним сыном, ищет надежного мужа. Пароль „Печальный опыт“».
Козел взглянул на Пальца.
— Ты надежный? Да. Как монастырские ворота, — не раздумывая ответил он сам себе и стал читать дальше: — «Двадцатичетырехлетняя брюнетка ищет темноволосого с высш. обр…» постой… это, пожалуй не то…
Козел снова углубился в газету.
— Вот: «Разочарованная, 26/156, ищет симпатичного папу двум дочкам…»
Козел опять взглянул на Пальца, чтобы оценить степень его привлекательности. Результаты обследования он оставил при себе и сунул газету Пальцу в руку.
— Читать умеешь, писать умеешь. Остальному выучишься, — снял он с себя роль посредника, — а мне пора на шахту.
— Погоди, — промямлил Палец с несчастным видом. Все от него сбегали, оставляя в мучительной неуверенности. — А куда посылать-то?
Козел поднял глаза к высокому небу…
— На шахту, в ламповую! — заорал он. Но вернулся и ногтем отчеркнул адрес редакции, помещенный в самом низу газетного листа. Козел побоялся, что ламповщицы на шахте «Февраль» получат предложение с адресом Пальца. Это было бы плохой услугой.
Палец исписал две общие тетрадки в линейку, пока в конце концов его самого не удовлетворило на редкость искренне составленное послание:
«Уважаемая!
Я на свете один, и это плохо. Потому что у каждого на свете должна быть своя любовь. Я тоже хочу иметь свою любовь. Я высокий, 190 сантиметров, калеченная рука левая. Но она любую работу справляет. Так все говорят. Если вы тоже хотите заиметь свою любовь, напишите по адресу.
С уважением преданный Сатран Йозеф.
Долина Сусликов, 153.
Район Живно».
Он извел две дюжины розовых конвертов, пока ему наконец удалось изобразить адрес редакции столь совершенным каллиграфическим почерком, что он оставался довольным собой и на утро следующего дня.
На его пылкий призыв в дом номер 153 явилась пани Ружена Бартошова, женщина с трехлетним сыном и печальным опытом, ста восьмидесяти сантиметров роста и ста девяти килограммов веса, о чем в объявлении скромно умолчала.
Алкающее сердце Пальца забилось сильнее именно над этим объявлением. Печальный опыт незнакомой заявительницы его растрогал. А при личной встрече определенную роль, несомненно, сыграли ее весьма буйные, обещающие вознаградить Пальца за долгое воздержание формы.
Он представлял себе беззащитную заявительницу, держащую на руках перепуганного ребятенка, которую избивает свирепого вида пьянчуга, а она отчаянно взывает о помощи равнодушных соседей.
Палец видел в мечтах, как он, нескладный недотепа, которым все пренебрегают, в последнюю долю секунды выхватывает нож из рук обезумевшего алкоголика и навсегда вышибает того из дверей и из жизни невинной жертвы. При этом сверкали жгучие молнии, играла пленительная музыка и кроны дерев метались в головокружительном танце. Такое Палец видел в одном старом кинофильме, в котором подобные эффектные кадры туманно намекали на нечто, о чем он пока лишь только стыдливо мечтал.
Таким намекам он внимал весьма чутко, а выключив телевизор, погружался в задумчивость.
Ружена Бартошова отнюдь не была ни хрупкой страдалицей, ни невинной жертвой. Ей удалось-таки затащить отца своего Пепичка в ратушу, но его законной супругой она пробыла каких-нибудь пять-шесть часов, не долее. Счастливый жених внезапно и стремительно влюбился в тоненькую свидетельницу невесты еще в течение бурного свадебного дня. Молодая обнаружила их в спальне своих родителей весьма занятыми друг другом. Рослой молодухе не пришлось прилагать больших усилий, чтобы незамедлительно и без исподнего вышвырнуть обоих энтузиастов на улицу. С пятнадцати лет она работала на складе стройматериалов. Предписание, запрещающее женщинам поднимать и переносить тяжести свыше пятнадцати килограммов, она считала комичной придумкой физически ущербных администраторов. Ружена Бартошова без труда прокормилась бы, работая вышибалой в ночном заведении самого низкого пошиба.
— Это вы — пан Сатран? — спросила она и пожала Пальцу руку с силой в несколько атмосфер.
— Чего? — ответил Палец. В тот момент он не знал, действительно ли он пан Сатран. Так к нему обратились впервые в жизни.
— Интересуюсь знать, вы — пан Сатран? — повторила Ружена терпеливо. — Я — Ружена Бартошова. С этого адреса мне кто-то отписал по объявлению. Пароль «Печальный опыт».
— Сатран Йозеф, двадцать восемь ноль четыре! — вскричал Палец. По привычке он назвал свой рабочий номер, как делал это на шахте у кассы в получку.
— А чего это вы так гундосите? — насторожилась Ружена. — Говорите пояснее.
Непосредственность посетительницы произвела такой эффект, что за все время ее визита Палец не произнес больше ни слова. Он ограничивался лишь энергичными кивками и растерянными вздохами сквозь заложенный аденоидами нос.
Зато Ружена разглядывала претендента безо всякого смущения, как барышник разглядывает коня. Печальный опыт она уже имела, теперь ей требовался только положительный. Внешние данные соискателя ее не страшили. Она знала, что красота быстротечна, но, пока она не слиняет, конкурентки летят на нее, словно осы на мед.
Палец водил Ружену по дому, стремясь отвлечь ее внимание от собственных недостатков в пользу недвижимого.
Ружена недовольства не проявляла. Дом был в порядке, а жениха она надеялась привести в божеский вид. У нее было отвращение к карликам, которыми она считала всех мужчин ниже ста восьмидесяти сантиметров. Палец превышал ее норму на целых десять. Его чересчур правдивая честная физиономия с длинным носом над полуоткрытым ртом говорила ей, что с таким мужчиной она печального опыта не повторит, даже если переедет с ним в солнечную Грузию и по местным добрым обычаям проживет там до ста пятидесяти лет.
Свои дальнейшие свершения она для начала ограничила четырьмя пунктами:
1) Зашвырнуть Пальцеву грязнущую спецовку куда-нибудь подальше и обрядить его во все чистое.
2) Отмыть его жирные космы шампунем и березовой водой, а если это не поможет, использовать средство для мытья полов.
3) Прибраться в доме так, как она, хорошая хозяйка, себе это представляет, то есть изъять из спальни разобранный мотор садовой фрезы и иные, неизвестные ей запчасти для машин.
4) Переехать к Сатрану незамедлительно, потому что сейчас она живет с сыном у своих родителей в крохотной квартирке четвертой категории. Отремонтированный дом Пальца с просторным двором и поросшим травой садом ей очень нравился. Надо было подумать и о сыне.
Ружена сообщила о своих планах восторженно кивающему Пальцу и, не желая терять времени даром, поспешила энергично распрощаться.
Со следующего дня Сатран уже имел все, о чем, завидуя соседям, до сих пор лишь мечтал.
Маленький Пепичек проявил исключительные способности к технике. Он очень быстро научился отличать комбинированные клещи от кусачек, обычный ключ от разводного и никогда не путал отвертку с долотом. Палец самоотверженно утирал ему зеленую, так сказать, эвергриновую[31] макаронину под носом и начал собирать части для детского автомобильчика. Через две-три недели всем уже стало ясно, что эта парочка перемазанных маслом механиков проведет свою жизнь под моторами старых автомобилей, чтобы, дожив до почтенного возраста, умереть, протягивая один другому гаечный ключ.
После замечания, сделанного Руженой, Палец напрочь позабыл то самое, уже знакомое нам слово-паразит, так как Пепичек старательно повторял за ним каждое словечко и безуспешно рылся бы в инструментах, разыскивая там поминаемую им особу сомнительной репутации…
Ружена полностью завладела кухней, прачечной и спальней, хотя это последнее поначалу оказалось не так-то просто. В определенных делах Палец был полным профаном и простодушно старался возместить качество количеством, на что получал терпеливое разъяснение, что каждое проявление чувств требует от человека определенной технической подготовки…
Что касается техники, то Палец был способен овладеть ею в любой области.
Под новой крышей домика в Долине Сусликов воцарился мир.
Пока эту идиллию не нарушил шквал в образе матушки Сатрановой.
— Не бывать этому! Не бывать — и точка! — кричала она, как будто собиралась остановить пардубицкую шестиконную упряжку. — Чтобы в моем доме валялась всякая приблудная!
— Ружа — моя… — тут вклинилось смачное словцо, — жена, — загудел Палец. Гнев вернул в его уста вытравленное было Руженой бранное слово-паразит.
— Чего-о-о? — пропела фальцетом мамаша Сатранова и скверно захохотала: — Как ты ее обозвал, так оно и есть! Мне, кстати сказать, ничего про твою женитьбу не известно.
Ружена стояла у плиты, не снимая фартука. В рукавицах-хваталках для горячих кастрюль она была похожа на боксера тяжелого веса, размышляющего, не пора ли послать противника в нокаут. Пока что она лишь наблюдала за матчем и никак себя не проявляла.
— Я на всю жизнь один оставаться не собираюсь, — строптиво ответил Палец. В его словах звучали обвинительные нотки в адрес матери, бросившей его на произвол судьбы в нежном возрасте двадцати пяти лет.
Мамаша Сатранова во все глаза глядела на своего сына-переростка. Он стоял ссутилившись и опустив плечи, на манер всех очень высоких людей. С его сухой, с длинным носом физиономии исчезла вся придурковатость. Мать всегда за него слегка стыдилась и сейчас, когда воспитывала красивых умненьких детишек своего второго мужа, своего сына почти позабыла. Если б сплетницы-бабы не сообщили ей о великих переменах в Долине Сусликов, она так о нем бы и не вспомнила. Йозеф никогда не был ни красивым, ни сообразительным, а стишки для первоклашек невразумительно гундосил, вставляя в текст нецензурную брань.
— И не надо, — согласилась она великодушно. — Но зачем тебе, дураку, брать в дом бабу с ублюдком? Незамужних тебе, что ли, мало? — Нет уж, этого я не допущу! — заявила она решительно. — Полдома мои!
Она тщательно обследовала обновленный дом и обнаружила две толстых тетради Пальца. Он вел дневник.
— Что правда, то правда, — миролюбиво согласился Палец. — Значит, мы выедем. Попрошу на шахте квартиру.
Он был готов бросить родной дом, перестроенный собственными руками, но не Ружу и не Пепичка. Суровое сердце мамаши Сатрановой смягчилось. Она не могла не заметить отмытую гриву сына и добела выстиранную спецовку, которая чуть не резала воздух свежеотутюженной складкой. Мамаша Сатранова видела, что дом приобрел невиданную красоту, как снаружи, так и внутри, и в духе объективности признала, что до подобных перемен никогда бы не дошло, хозяйничай она там с папашей Пальца, чья нерадивость не знала удержу, как чумная зараза.
Ей не так уж чтобы совсем поперек горла была Ружена. Вопреки всем ожиданиям, та сдержалась от враждебных проявлений, хотя соответственно своей физической кондиции вполне могла бы зашвырнуть мамашу Сатранову, не пощадив стекол, через закрытое окно на любое расстояние, побив тем самым легкоатлетический рекорд.
Со двора прибежал Пепичек и стал дергать Пальца за широкую штанину спецовки.
— Йозеф, пошли на улицу, — просил он. Инстинктивно понял, что его огромный друг в данной схватке не самая сильная сторона, и жаждал избавить его от ненужного поражения.
Мамаша Сатранова пожала плечами.
— Тогда давайте женитесь, — заявила она, чтобы дать умный совет и хоть таким образом проявить свою волю. — Мне здесь незаконные с собачьим паспортом ни к чему!
Такого рода слова пришлись Пальцу по душе. Он твердо верил в магическую мощь официальных органов. Свадебный обряд в ратуше и вся Долина Сусликов, оповещенная о гулянке, навсегда избавят его от нежелательной репутации парня «с большим приветом».
В удостоверении личности будет зачеркнуто унизительное «холост». Его заменит «женат», и все встанет на свои места.
Йозеф Сатран — женат.
Этот пункт обеспечит ему пожизненное право на Ружины боксерские объятия и дружбу маленького Пепичка.
Но пока что Ружена о браке не заикалась, а сам он боялся заговорить, чтобы не нарушить блаженства.
Теперь об этом сказала мать, правда, не слишком деликатно, и, уходя, хлопнула дверью, чтобы смягчить унизительность своего поражения. Но слово не воробей…
— Ты как? — Палец взглянул на Ружену.
— Как хочешь, — ответила она равнодушно. — Мне спешить некуда, я тебя не тащу.
Она чувствовала себя несколько оскорбленной налетом матушки Сатрановой, но признавала, что перебралась в чужой дом, не поинтересовавшись, чью недвижимость заняла. Она полагала, что несет ответственность и за Пальца тоже, но не считала приличным его торопить. На самом же деле Ружене с браком надо было спешить, ибо вот уже несколько недель она чувствовала, что ее ночной инструктаж принес свои плоды. Первой этого разговора она начинать не хотела, и атака будущей свекрови была ей, по сути дела, на руку. Подгонять Пальца не было необходимости. В одну январскую субботу Ружена натянула ему на обрубок безымянного золотое колечко и смачно поцеловала.
На Пальце был новый черный костюм и блестящий серебряный галстук. Его физиономия приняла цвет увядшей капусты.
— Аккуратней, когда будешь целовать невесту, гляди не выбей ей глаз своим румпелем, — по-отечески наставлял его Козел. — Не забудь, что носина у тебя будь здоров, номер последний, дальше уже идут канализационные трубы и нефтепроводы.
Свадебный обряд прошел без сучка без задоринки. Наконец-то Йозеф Сатран стал женатым. По этому поводу домик в Долине Сусликов заполнили гости.
Там, где собираются шахтеры, никогда не обходится без небольшого горняцкого оркестрика, состоящего из аккордеона, скрипки, а вместо ударных — примитивного инструмента, сооруженного из зазубренной дубинки и старых жестянок. Инструмент этот зовется «грохало». Шум, производимый грохалом, походит на схватку двух скелетов на крытой жестью крыше. Итак, отголоски свадебного веселья, разносимые западным ветром, заполнили всю Долину Сусликов. Внучата цыгана Дезидера отплясывали чардаш и набивали животы свежеиспеченными булочками.
Явилась мамаша Сатранова с мужем и обоими детьми, вся близкая и далекая родня. Палец никого не забыл пригласить на свое торжество. Пришли товарищи по работе и множество других, которых женихова сторона считала гостями невесты и наоборот.
Уже был съеден свадебный обед. Пепичек нахватался всего подряд, смешивая взаимоисключающие яства. Он сидел на новом унитазе, вздыхал, корчась от боли, и каждую минуту кричал:
— Подотли!
Но тут же снова усаживался на стульчак и снова тяжело вздыхал. Взрослые над ним смеялись и требовали кофе.
И гостей и еды было много. Плиту заполняли кастрюли и горшки. Места не хватало. Пришлось включить газовую, новую.
Ружена поставила на конфорку кастрюлю с водой, повернула ручку и поднесла горящую спичку.
— Газ не идет, — сообщила она и стала искать взглядом мужа. Когда газовой плитой не пользовались, а в кухне, в плите, горел огонь, Палец старательно приворачивал ручку баллона. Огонь и газ — друзья лишь до поры до времени.
Новобрачный сидел в спальне, окруженный друзьями. Он скинул пиджак и, предаваясь обильным возлияниям, сиял как медный таз.
Какой-то паренек, которого женихова сторона полагала за гостя невесты и наоборот, с готовностью выскочил в переднюю и сделал попытку отвернуть колесико баллона с газом. Баллоном еще не пользовались, и колесико заело. Он приложил силу. Колесико поддалось, но вместе с предохранительной гайкой провалилось в горловину баллона.
Десять килограммов сжатого газа вырвались наружу со зловещим шипеньем.
Парень выскочил во двор, как мышь из шахты перед обвалом, предоставив стихии полную свободу действия.
Палец в спальне отставил бутылку и носом, который не обманешь, втянул воздух. Он унюхал, а чутким ухом услышал посвист утекающего газа, увидел, что в печи горит огонь.
— Все-е-е во-о-он! — взревел Палец.
Одним гигантским прыжком он достиг Ружены и двумя дикими толчками вышвырнул ее в переднюю, а затем во двор.
Свадебные гости осатанели. Всеобщим, в высшей степени неорганизованным бегством они заклинили выход.
Палец резко затряс головой, чтобы стряхнуть опьянение, Ошалевшая Ружена ничего не понимала, решив, что ее муж рехнулся от счастья. Но мозг Пальца работал с четкостью отрегулированного четырехтактного двигателя. Необходимо освободить вход, проникнуть в переднюю, оторвать баллон от шланга и закинуть подальше от строений, прежде чем концентрация газа в доме станет критической и произойдет взрыв. Времени, отпущенного ему для свершений, было столь мало, что в сравнении с ним человеческую жизнь можно было уподобить вечности. Палец не имел понятия, сколько людей находится сейчас в его доме.
Дотянув свою длинную, словно стрела подъемного крана, ручищу, Палец вырвал какого-то гостя из закупоренных дверей, будто пробку из бутылки, проник в переднюю и вдруг через открытую дверь уборной увидал голую попку Пепичка.
Не церемонясь, он выбросил мальчонку во двор.
Огненный взрыв пришкварил к его спине нейлоновую сорочку. Он почувствовал, как обжигающий бич огня хлестнул его по спине, — и все! Ничего больше!
Полгода врачи выкраивали полоски уцелевшей кожи с его тела, чтобы залатать обгоревшую спину, с которой снимали черные лоскуты вместе с прикипевшей сорочкой. Длинные волосы обгорели и торчали ежиком, из бинтов он моргал Ружене светло-карими глазами, лишенными ресниц.
— Кто-нибудь помер? — спросил он. — Мне ничего не говорят.
— Никто, — ответила она. — Все успели смыться.
— Я сейчас не больно красивый, — продолжал он. — С меня содрали шкуру, словно с поросенка.
— Так ведь красавцем ты никогда не был, — успокоила его Ружена.
— Что с Пепичком? — сказал он.
— Порядок. Немножко разбил нос. Теперь гундосит навроде тебя.
— А с домом?
— Плохо. Там жить нельзя. Мы у родителей.
Взрыв выбил окна из всех домов в радиусе пятидесяти метров. Приподнял новую крышу на доме Пальца на четверть метра и опустил почти что мимо. Сместившись, вязка сорвала трубу. Взрывная волна смела облицовочную плитку в кухне и в ванной, вышибла окна и двери. Дом стал походить на избитого моравского молодца в шляпчонке набекрень.
— Не боись! Все образуется, — продолжала Ружена, — выйдешь, опять приведешь в порядок.
— А как? — сказал он, не глядя в ее сторону.
— Что — как?
Она засучила рукав, и под кожей заиграл могучий бицепс, лишь слабо напоминающий женственную округлость.
— Вот этой одной рукой я поднесу двадцать кирпичей аж до самой крыши, — сказала она, и не нашлось бы такого человека, который бы ей не поверил.
— Ты вернешься? — спросил он не слишком решительно.
Дом превратился в развалины, а сам он едва не сгорел, как бумажный черт. Когда снимут повязки, вполне могут «женат» исправить на «разведен».
— Почему это я должна возвращаться? — рассердилась она. — Не плети чего не надо, никуда я не уходила.
Перевод с чешского В. Петровой.
Ян Сухл РАЗГОВОР С МАТЕРЬЮ
Сегодняшний вечер принадлежит тебе, мама. Только что проводила Бориса на поезд, можно бы и лечь… Я говорю «вечер», а на самом деле уже чуть ли не полночь… Но как раз сейчас мне меньше всего хочется спать. Разве что немного вытянуть ноги, я ведь не присела с самого утра. Знаешь, как бывает в последний день: еще вот это сделать и об этом не забыть, то и дело смотришь на часы и нервничаешь оттого, что все ближе и ближе миг расставанья. С утра мы ходили на Славин, гуляли около памятников, а потом смотрели вниз на Братиславу. Говорить не хотелось.
Обратно я вела Бориса по Глубокой улице. Остановились на террасе, которую мы в детстве называли наблюдательной вышкой. Я показала Борису дом, где мы тогда жили. С тех пор он не изменился. Только рамы, по-моему, выкрашены в другой цвет. Хотя точно не помню: в семь лет такие мелочи не занимают. Но, как ни странно, моя память многое сохранила о том времени. Ты бы, наверное, удивилась. Да мне и самой удивительно. И именно теперь, когда приезд Бориса так резко и неожиданно вернул меня в те тревожные годы, мне захотелось опять поговорить с тобой.
Взять, к примеру, тот день, когда увели отца.
Я прибежала из школы, все еще покатываясь со смеху — писатель Франё Краль[32], наш учитель, рассказывал смешные сказки. Ах! какие он умел рассказывать сказки!
Ты тогда забыла у меня спросить, что было в школе, а когда я, собирая на стол, расставляла тарелки и приборы — это было моей обязанностью, — сказала:
— Накрывай только на нас двоих. Отцу пришлось уехать.
— Куда?
— Далеко.
— А когда он вернется?
— Не знаю. Может, через неделю, а то и через месяц или через год.
Старшие ребята на улице мне сказали, что отца посадили. Я не поняла, что это значит. И с плачем побежала к тебе.
— Куда папу посадили? Кто его посадил?
Очень трудно объяснить ребенку такие вещи. Ты говорила что-то о злых дядях, утешала, убеждала, что не нужно плакать, я уже большая, должна помогать тебе и заботиться о Верочке.
В тот день во мне что-то оборвалось. Я больше не смеялась так часто и беспричинно, как раньше. Да и на происходящее вокруг смотрела уже другими глазами. Но все равно долго не могла понять, почему мы уехали из нашей красивой квартиры, в окна которой целый день светило солнце, поменяв ее на две маленькие комнатки в гнусном старом доме, холодном и темном.
Или тот случай, ты помнишь, мама… до сих пор, как вспомню, краснею. Мне вдруг ужасно захотелось шоколада.
— Мам, дай крону.
— Нету, доченька.
— Есть! Ты вчера вечером деньги пересчитывала.
— Это на еду. И Верочке нужно платьице купить.
— Шоколад тоже еда.
Когда этот довод не помог, я возмутилась:
— Папа бы дал!..
И тотчас поняла, что сказала гадость. Ты заплакала. А плакать было не в твоих привычках. Но разве могла я знать, как тебе стало трудно сводить концы с концами, как приходится дорожить каждым геллером, заработанным тяжким трудом! Ты ведь пошла в услужение, стирала, убирала в зажиточных семьях. Это была настоящая каторга, но дамочки всякий раз давали понять, что оказывают тебе, жене коммуниста, благодеяние и ты должна быть им признательна, ведь благодаря этому мы не умираем с голоду.
К тому времени мы с тобой должны были думать еще и о Яне. Она появилась у нас примерно через год после ареста отца. Худая, с бледным до синевы лицом, испуганными глазами, грязная и оборванная. Я даже испугалась ее. Жила Яна с отцом, мать умерла, когда Яна была совсем маленькая, она ее и не помнила. Потом, во время какой-то облавы, забрали и отца, вроде бы за то, что он работал без разрешения. Не осталось никого, кто бы позаботился о девочке. Почти месяц она жила одна в квартире, не зная, что с отцом. У нас была ты, а у нее — никого. Это в десять-то лет! На медосмотре врач обнаружил у нее туберкулез и запретил посещать школу, чтобы не заразила других детей. Как бездомная собака, бродила Яна по улицам, питаясь отбросами; в конце концов голод заставил ее просить милостыню. Кто знает, чем бы все кончилось, если бы не ты!
От директора школы, куда ты хотела опять поместить Яну, стало известно, что у девочки в легких каверна величиной с тутовую ягоду. Так было написано в заключении врача. Директор тебе его показал. Однако помочь не согласился и совета никакого не дал. Не хотел вмешиваться, боялся, что начальство будет недовольно. А тебе терять было нечего: все и так знали, что ты жена коммуниста.
Ни на врача, ни на лекарства денег у тебя не было, но все же ты решила спасти девочку. Тебе и в голову не пришло, что от нее могут заразиться твои собственные дети. И уж вообще ты не считалась с тем, что работать придется больше прежнего, ведь, кроме нас двоих, надо будет кормить еще одного ребенка. Ты, которая всю жизнь проработала в библиотеке и не привыкла к изнурительному физическому труду.
Помнится, однажды ты принесла от мясника, где тоже стирала, пакетик костей. Хозяин, сочувствуя тебе, оставил на костях приличные куски мяса. Ты сварила суп, потом обожгла кости в печке. Как сейчас вижу: сидишь у плиты, поворачивая берцовую кость на горячих угольях, отблески огня пламенеют на твоем лице, а потом толчешь в ступе обожженные добела кости, превращая их в муку. Эту самую костную муку ты добавляла Яне в еду. Не знаю, от кого ты услышала про такой способ лечения чахотки. Лишь недавно, совершенно случайно; я узнала, что способ этот был разработан немецким приходским священником Себастьяном Кнейппом, который занимался также и медициной.
Но кто бы его ни изобрел, факт остается фактом: благодаря костной муке, богатой кальцием, Яна выжила. Спустя пять месяцев, когда тебе, бог знает каким образом, удалось отправить ее на рентген, каверны не обнаружили, она заизвестковалась. Потом ты добилась, чтобы Яну снова приняли в школу.
Вот какая ты была, мама. Помогала людям где только могла и во всякое время — и тогда, когда мы жили хорошо: папа, классный типографский работник, набиравший вручную, получал приличные деньги, потому что заказов у него всегда хватало, — и тогда, когда любой другой на твоем месте сказал бы, что уже нечем и не на что помогать. Фашисты в нашей округе прозвали тебя «белокурая жидовка». Это должно было звучать ругательством и издевкой, они презирали тебя за твои убеждения. Но в глазах честных людей прозвище это звучало, по сути дела, похвалой, наградой за доброе сердце, которого те, что так тебя называли, были лишены или давно перестали с ним считаться.
Не стоит, пожалуй, больше думать о тех годах — годах нужды, унижений, неуверенности, страха за судьбу отца.
Впрочем, в конце лихой поры случился один день, о котором хочется сейчас вспомнить. Никогда еще я не видела тебя в таком волнении. Радостном волнении. Причиной было письмо, которое утром принес почтальон. До сих пор храню его. На конверте стоял штемпель: «Банска Быстрица» — и дата: 16.8.1944. Это я помню совершенно точно. Письмо было от дядюшки Эмиля, который просил, чтобы ты с детьми приехала его навестить, что теперь, спустя много лет, он хочет тебя повидать. Что двадцать первого августа будет ждать с вечерним поездом. Никакого дядюшки Эмиля я не знала, а ты только загадочно улыбалась, собирая в дорогу вещи. Янин папа, которого к тому времени выпустили из тюрьмы, одолжил нам денег на билеты.
Только на вокзале в Быстрице, когда ты впорхнула в объятия отца, я увидела, кто такой дядюшка Эмиль. Ты, конечно, узнала почерк, которым было написано письмо, но нам ничего не сказала — наверное, боялась, что проболтаемся. Тогда я едва узнала отца. Совсем как маленькая Верка, которой в момент его ареста не исполнилось и года.
Отцу с товарищами удалось бежать из тюрьмы. Они скрылись в Банской Быстрице: им стало известно о готовящихся там событиях.
До последней минуты мы верили, что Восстание наберет силу, что Банска Быстрица не падет. И вы с отцом сделали для этого все возможное. Ты поступила работать в больницу и часто возвращалась поздно вечером, да и отец порой не выходил из типографии ночи напролет. Я же пеклась о младшей сестре, и мне было приятно сознавать, что я тоже на что-то гожусь.
Потом нам пришлось уйти в горы. До сих пор помню, как вы с отцом впряглись в двухколесную тележку, на которую погрузили несколько одеял, теплую одежду и два узелка с едой и самыми необходимыми вещами. Мы с Веркой шли сзади, я помогала толкать тележку. Дорогу заполонили люди, повозки, орудия. В Балаже, куда мы добрались к ночи, беженцев было больше, чем местных; спали мы в сарае на куче соломы. В предрассветной мгле пошли дальше, в лес, по узкой размытой дороге, круто поднимавшейся вверх. Бросив тележку, взвалили узлы на плечи. Вдруг Верка разревелась: «Я рукавичку потеряла!»
Мы растерянно топтались вокруг нее и тщетно пытались утешить. Верка знать ничего не хотела, подай ей рукавичку. Военные, шедшие за нами, стали требовать, чтобы мы не мешали движению.
— Ну, хватит! — в сердцах прикрикнул на Верку отец и пошел вперед.
Верка испустила душераздирающий вопль, но не двинулась с места.
— Пожалуйста, побудь тут с детьми, — сказала ты отцу. — Я пойду поищу, вдруг найдется.
Отец нехотя послушался и в сердцах закинул тюки, а заодно и Верку на высокий придорожный откос, чтобы не мешать шедшим следом за нами.
Я бросилась за тобой. Натыкаясь на идущих, мы спрашивали, не попадалась ли им красная рукавичка, но они в ответ или чертыхались, или, не замечая нас, шли дальше.
Рукавичка!
При чем тут рукавичка, когда речь идет о жизни? И все-таки после получасовых поисков мы нашли ее, замызганную, втоптанную в грязь.
Сестренка обрадовалась, словно мы нашли клад.
По-моему, я правильно тебя тогда поняла: дело было не в самой рукавичке, просто малышке она напоминала о доме.
Верке вообще не везло, правда? Две недели спустя, когда мы жили в землянке в лесах над Калиште, чуть не до спины обгорело ее сохнувшее у костра пальтишко. Это было куда хуже — заменить его было нечем. Но что любопытно — на этот раз обошлось без плача.
Может, сейчас и пора такая уже подошла, но я до сих пор ощущаю в костях эти бесконечные двадцать два дня, проведенные в студеном и мокром лесном бункере. Ты укутывала нас во что только могла, а сама мерзла и простужалась. Мне никогда не забыть наш последний вечер. Вы с папой сидели у костра. Отец говорил тихо и настойчиво, а ты сперва слабо сопротивлялась, а потом молча склонила голову к нему на плечо. Я знаю, о чем вы вели разговор, я еще не спала. Он настаивал на том, чтобы ты, забрав нас, ушла к его старому дядюшке, в Дубину, он жил там один в целом доме. У него мы должны были провести зиму. Уже тогда, в ноябре, было холодно, снегу навалило по колено. А что будет с нами в январе, в феврале, если не подоспеет Красная Армия? И главное — кончались продукты. Ты соглашалась, но умоляла его пойти вместе с нами. Уговорить его не удалось, он твердил, что пристанет к партизанам — их группа раскинула лагерь чуть выше в горах. В конце концов тебе ничего не оставалось, как согласиться.
Хотя до Дубины по прямой каких-нибудь пятнадцать километров, из-за снежных заносов пройти туда через лесистый горный перевал оказалось невозможно; хочешь не хочешь, надо было возвращаться обратно в Быстрицу. Вы с отцом знали, насколько это опасно. Знал об этом и возница из Калиште, который вез нас обратно. Внизу расхаживали немецкие патрули и гардисты[33]. В случае проверки мы должны были выдавать себя за родственников нашего возницы, попросивших у него приют в это тревожное время.
— Только без слез, девочки! — Эти слова отца, сказанные при прощании, до сих пор звучат у меня в ушах. — Скоро мы снова встретимся. И уже никогда не будем разлучаться.
Могу себе представить, мама, каково тогда было у тебя на душе. В скорую встречу верится с трудом, если в двух шагах, там, за лесом, — немецкие солдаты, и они в два счета могут положить конец всем надеждам — ведь каждому, кто осмеливался помочь партизанам, грозила смерть; как тут поверишь, если и нас, и папу на каждом шагу подстерегали тысячи опасностей.
Тебя терзали страхи о будущем, а мы с Веркой строили догадки насчет того, с бородой ли наш дядюшка или только с маленькой щеточкой усов под носом.
Нам повезло. По дороге нас не останавливали, и поздним вечером, истомленные и голодные, мы постучали к дядюшке в окно. Помнишь, какой он появился тогда в дверях? Для своих восьмидесяти на удивление прямой и высокий.
— Чего вам, люди добрые? — спросил он.
Услышав имя отца, тотчас засуетился, пригласил в дом, растопил печку и начал варить суп.
Отец знал, куда нас посылал. Найти такое прибежище было счастьем. Что было бы с нами, не обернись все так удачно?.. Жаль, что мы не догадались перебраться сюда сразу после ареста отца.
И дядюшкин одинокий домик, и вся Дубина были удобны и по многим другим причинам. Ты знаешь, что я имею в виду, хоть поначалу и хотела это от меня утаить.
Я всегда спала чутко и однажды услышала, как в окошко постучали. Не в то, что выходило на дорогу, а в заднее, глядевшее на косогор, подымавшийся от деревни к лесу. Только я собралась тебя разбудить, как ты сама вскочила и тут же открыла. С кем-то пошепталась тихонько, что-то, как мне показалось, передала, потом закрыла окно и легла снова.
— Кто это приходил ночью? — спросила я утром.
— Да жена священника.
— А зачем?
— Просила взаймы.
На этом разговор и оборвался — ты давала мне понять, что ни к чему быть слишком любопытной.
С женой священника-лютеранина, дядюшкиной племянницей, мы скоро подружились, и она раздобыла для тебя радиоприемник. В тот же день я случайно оказалась у них. И невзначай спросила, зачем она приходила к нам ночью. Она растерялась, как-то странно поглядела на меня и наказала никому больше об этом не упоминать. Наверное, с тобой она поделилась нашим разговором, потому что позже ты рассказала, кто был у нас ночью. Я тогда немножко обиделась — неужто я не умею держать язык за зубами? Я уже и сама немного разбиралась в таких делах и дала себе слово, что буду нема как могила. И не нарушила его, ведь правда, мама?
Раз или два на неделе раздавался по ночам знакомый стук в заднее оконце: там-там-татам. Это подавал о себе весть Юра, связной папиного отряда. Он приходил узнать новости, которые ты ловила по разным радиостанциям, забрать приготовленный провиант, белье или одежду, а если удавалось раздобыть — и лекарства.
Мамочка, дорогая, для меня до сих пор загадка, как из кусочков полотна, тряпок и лоскутков тебе удавалось шить рубахи, трусы, портянки, шарфы, куртки и бог знает что еще, без чего там, в горах, нашим трудно было бы перенести зиму. Как из тех крох, что были припасены для нас, и из того, что удавалось раздобыть, ты набирала узелок еды еще и «для них». Всякий раз Юра, а потом Борис, русский парень, сменивший Юру, когда того ранили, уносили с собой не только известия о продвижении Красной Армии и о втором фронте. Хоть что-нибудь, хоть мешочек картошки, который тебе удавалось выпросить якобы для нас, для детей, — а все-таки…
У меня мороз пробегает по коже, как вспомню про Бориса. Ах, как нам тогда повезло!
Однажды он пришел к нам еще засветло, и ты впустила его в дом через окно. Он уже бывал у нас в горнице. Включили приемник, и вы вместе стали ловить русскую станцию. Меня ты отправила на улицу, караулить. Сестренка была у дядюшки, в его приходском доме, мы навещали их чуть не каждый день. Выхожу из двери и — господи, вот ужас! Бегом обратно!
— Немецкий солдат! — еще от дверей крикнула я.
Бориса как ветром сдуло — выпрыгнул в окно.
А ты едва успела перестроить радио на Братиславу. Закрыть окно уже не хватило времени.
Двери распахнулись, и в дом вошел немец с автоматом в руке. Кто-то его надоумил, не иначе, случайно это произойти не могло. Оглядев все закутки, он остановился у окна.
— Жарко, да? — проговорил он на ломаном чешском. С трудом, но понять можно. Наверное, был из судетских немцев.
— Вода из-под картошки выкипела, — объяснила ты. На плите действительно стояла картошка.
— А ты чего домой бежать? — прикрикнул он на меня.
Я в рев. От страха, а может, подсознательно понимая, что с плачущей девчонки спрос небольшой. Ты заслонила меня своим телом.
— Оставьте ее, она же ребенок!
— Кто тут быль? — Немец начал размахивать автоматом.
— Никого не было.
Он допрашивал, грозил, уговаривал, кричал, и тебе вдруг пришла мысль отослать его к священнику — пусть там спросит, кто мы, можно нам верить или нет. Он поколебался, но пошел. И вскоре вернулся. Разговаривал уже спокойнее, не кричал, но облазил весь дом. Закончив обыск, прищурил злющие глаза:
— Счастье ваше, что завтра уезжаем. А то я бы вам показал! Но все равно — сидеть тихо! Тихо сидеть!
На следующий день жена священника рассказала, какую комедию разыграла она перед эсэсовцем: «В этих местах партизаны?! Да что вы! Туронёва! Побольше бы таких людей! — обрушилась она на него. — Достойная, приличная женщина».
Тут она даже не лукавила. Наговорила с три короба похвал, так что даже если он всему и не поверил, то все-таки подозрительность его убавилась: священникам немцы доверяли.
А мне до сих пор согревает сердце воспоминание, что я успела вас предупредить.
Когда я думаю обо всем случившемся, мне приходит в голову, мама, что мужество — это не только умение стрелять из ружья. Решилась бы я после пережитого страха поступить как ты? Не знаю. А ведь ты сняла лыжи (к тому времени ты уже прилично научилась на них ходить — и вообще, просто невероятно, чего ты только не освоила в свои сорок лет!) и, надев рюкзак, одна отправилась в горы. Ты не хотела, чтобы Борис или кто другой попался немцам и поплатился жизнью. Поэтому рискнула сама. И не прекратила своих походов даже после того, как узнала, что отец не вернулся с задания…
Это не сломило тебя, ты помогала отряду до конца. Сумела одна нести свою боль, таить ее от людей и от нас, детей, не лишала нас надежды до той самой поры, когда радость победы приглушила горе.
Приезд Бориса всколыхнул во мне все эти воспоминания.
Мы переписывались с ним и после того, как тебя не стало. Он мечтал побывать здесь, ты ведь знаешь. Но как-то не получалось. И вдруг — телеграмма. Из Минска. Его посылают по каким-то делам в Братиславу. Надо ли тебе объяснять, что это была за встреча! Он выкроил немного времени, и мы вместе побывали в Дубине, забрались на Колибу, где он партизанил, и через Калиште вернулись обратно.
Сейчас Борис уже на пути к границе, и я снова одна. Хотела было написать Верке, чтобы приехала дня на два, на три — боялась остаться наедине с воспоминаниями, но теперь рада, что не сделала этого. Давно уж так остро не нуждалась я в открытом разговоре с тобой, как в этот вечер.
Не печаль сейчас лишает меня сна, мама. Твоя внезапная болезнь и страшные дни, последовавшие за ней, — это уже отболело, уже пережито. Сегодня, впервые после твоего ухода от нас, когда я вместе с Борисом прошла по всем тем местам, которые врезались мне в память, когда перед моим взором чередой пронеслись все годы, проведенные рядом с тобой, я вдруг поняла ясней, чем когда-либо прежде: сколько же осталось во мне от тебя! Сколько ты дала мне!
Ты даже не можешь себе представить, как я хочу быть похожей на тебя.
Вот только сумею ли?
Перевод с чешского Е. Щербаковой.
Любомир Томек СОБАКА ДЛЯ ГЕНЕРАЛА
По улице с грохотом несся военный газик. Застонали тормоза, газик резко качнуло. Старик укоризненным взглядом бледно-голубых глаз проводил этих полоумных. Черный щенок охотничьей породы, тершийся о его ноги, прижался к стене. Машина остановилась у тротуара. Старик выпрямился, подкрутил усы.
— Великолепный пес, папаша, — прогудел чей-то бас, и из машины выбрался могучего телосложения военный — золото так и сверкает: погоны, звезды, орденов полная грудь.
— Чистокровный, — гордо сказал старик и по привычке в знак приветствия приложил к полям шляпы два пальца.
— Пол-Чехословакии проехал, но это первый сеттер-гордон, которого я здесь вижу. И такой красавец — хоть сейчас на выставку! Мой сын до войны говаривал: на уток без сеттера-гордона — все равно что на зайца без гончей!
Вечером старик отправился выпить стаканчик вина — оно даже не показалось ему сегодня таким скверным — и вот уже в четвертый раз принимался рассказывать:
— Псарня у меня — заведение мирового масштаба! Не беда, что состоит она из одной конуры да одной сучки, зато родословная какая! Прабабушку импортировали из Англии, когда Альбион еще был великой державой, у отца предки — все фон да оф, а из-за моего младшенького сегодня один славный русский генерал чуть носом стекло не продавил! Говорит: поздравляю, папаша, я изъездил всю Европу и близлежащие континенты, а такого сеттера-гордона, ей-богу, в жизни не видывал!
— Ясное дело, дедушка! — смеялись парни за столом. Они пришли сюда немного промочить глотки, целый день разбирали противотанковые заграждения и теперь не прочь были пошутить. — Да, здорово вам повезло, так божиться умеет только советский генерал! А может, и маршал? Ха-ха-ха! И потом, если он «в жизни не видывал» сказал по-чешски, то по-русски бы получилось «в животе не видывал», потому как по-русски живот — это брюхо[34]. Они смеялись, стуча пол-литровыми кружками о картонные подставки. Пиво было препаршивое, но в ту пору оно валило с ног, как настоящее пльзеньское.
Старик на парней не сердился. «Ну есть ли у вас понятие о собаках? — думал он. — Настоящего собачника вмиг опознаешь. Как он затормозил! Эх, и май нынче выдался! Настал мир, наконец-то мир, а у меня лучшие собаки во всей Европе!»
Следующую неделю старик провел в лихорадке международных контактов. А с ним — и вся улица. Сперва приехал шофер, потом молодой лейтенант. А к концу недели пожаловал и сам генерал.
— Дело вот в чем, пан генерал, — несчастным голосом бормотал старик. — Этого щенка я еще перед концом войны продал в деревню. Получил за него мучки на корм остальным собачатам, шпигу для внука, в войну все менялось на продукты, понимаете? Он, крестьянин, и посейчас привозит корм для щенка, а я малыша натаскиваю. И при щенке заодно прикармливаю свою сучку. Во времена рейха трудно было держать собаку, пан генерал. А мои на всех выставках получали медали. И снова будут получать. Не мог я отказаться от псарни, хоть и жалко было щенка, верно?
Генерал гладил черного щенка по спине, почесывал между ушами и под подбородком. Щенок был вне себя от блаженства.
— Жаль… Я хотел купить его у вас для сына. Пять лет не видались. Воевали на разных фронтах. А недавно он получил звание Героя Советского Союза. Вот был бы подарок, когда встретимся!
Старик свесил голову. Глаза его увлажнились, усы как-то обвисли, он переступал с ноги на ногу, точно мальчишка, только старый беспомощный мальчишка: на его сгорбленные плечи свалилась еще одна, до сей поры неведомая тяжесть, и весь он как будто сник под этой тяжестью в своем поношенном костюме, который бессменно прослужил ему все военные годы, а пес, маленький несмышленыш, глупый щенок, уже не казался ему лучшим в Европе.
— Ничего, дед. — Генерал похлопал его по плечу. — Мы пережили кое-что похуже. Переживем и это.
В тот день старику не захотелось идти пить скверное вино. Он отправился в деревню. Объяснял, убеждал, да разве спекулянта уговоришь! Знай твердит, что пес теперь его, он-де заплатил по-царски, всякий скажет. Дать за плюгавую собачонку столько продуктов! Да он и решился на такое только потому, что пес нужен ему позарез. Мол, если все так будут: сегодня продал, завтра на попятную — какая же тогда торговля! Вернулся старик домой ни с чем, и тоска его разбирает. Праздничного настроения как не бывало.
Прошла неделя, другая, и великолепный черный пес начисто старику опротивел. Кормил он его регулярно, что правда, то правда, но дружеских бесед, как прежде, с ним не вел, да и натаскивать его уже не было охоты…
В конце мая снова затарахтел на улице знакомый газик. Старик обрадовался. Но тут же погрустнел. Тошно ему стало.
Генерал даже не вышел из машины.
— Тороплюсь. Уезжаю домой, хотел с вами проститься. И взглянуть напоследок. Чтобы потом рассказывать сыну, какие тут у вас, в Чехословакии, великолепные собаки.
Щенок бросился к машине, закрутил мохнатым хвостом, стал подпрыгивать чуть не до окошка. Генерал раскрыл дверцу, погладил его и передал старику.
— До свиданья, дед, — сказал он и, привычно хлопнув шофера по плечу, приказал ехать.
Старик застыл на тротуаре, словно истукан, прижав к груди щенка, который так и рвался из рук. Он не мог выдавить из себя ни слова, а в глазах снова блеснула предательская влага. Заворчавший мотор подтолкнул его к краю тротуара, заставил вскинуть руки — и щенок упал на колени генерала. А на душе у старика сразу полегчало.
— Это для вашего героя, и за мир, который вы нам принесли! — Он хотел еще крикнуть зычным, как в былые времена, голосом: «И пускай спекулянт лопнет со злости!» Да вовремя одумался — это было бы смешно.
Над землей распростерся июнь. Теплый, солнечный, мирный. Вопли спекулянта если порой и раздавались в ушах старика, то уже как отдаленное лягушачье кваканье, как предсмертный вой радиоглушителей. Вопли спекулянта разбились о фанфары свободы.
Но пора неожиданностей еще не кончилась. Как-то под окнами снова заскрипели тормоза. На этот раз подъехал грузовик. Из распахнутой дверцы спрыгнул наземь солдатик — с виду еще не мужчина, но уже не мальчишка, задира, весельчак. Спрашивает: знаете товарища генерала такого-то? Он велел вам кое-что передать. И в придачу — письмо. Везу из са́мой Словакии. — Вытащил из грузовика большой ящик, похожий на клетку для кроликов. У старика дух перехватило. Генеральский сеттер-гордон!
— Не вижу ничего, прочти, сынок! — попросил он дрожащим голосом.
— Дорогой дедушка, — читал солдатик. — Сердечное спасибо за подарок для сына. К сожалению, вручить его не смогу. Сын погиб…
Старик обнял щенка, как ребенка, беспомощно прижался лицом к черной кудрявой шерсти. И показалось ему в тот миг, будто он обнимает всех детей мира.
Перевод с чешского В. Каменской.
Ольга Фельдекова НЕБО, КОТОРОЕ КРАСИВЕЕ ВЗАПРАВДАШНЕГО
Вчера я была в школе, представляешь? Наша училка Папекова пришла злющая-презлющая — уж не знаю отчего — и говорит:
— Кто сделает красивый рисунок цветными карандашами, получит акварельные краски.
У меня были только цветные карандаши, понимаешь? Всему нашему классу, всем ребятам, папы или мамы купили цветные карандаши. Мне мамочка купила их давным-давно — я тогда еще в школу не ходила — и спрятала, пока подрасту. А когда я была в первом классе, то нашла их в секретере, и мамочка решила: раз я их все равно нашла, то могу ими рисовать. Ведь если кто что-нибудь найдет, так это уже его. А я эти карандаши нашла!
В первом классе мы сначала рисовали лужайку. Я знаю: цветок должен быть такой же большой, как лужайка, потому что он только один и лужайка только одна. Но лужайка разноцветная, а цветок — весь одинакового цвета. И я рисовала только лужайки да цветы. А дети — уже и глаза, и нос. Вот наша учительница Ковачикова — у нее на указательном пальце было кольцо — и говорит:
— Анча, пора уж тебе рисовать и нос, и глаза!
Но я сказала:
— Нет, цветы и лужайки лучше. Я буду рисовать свое, а вы рисуйте свое.
Я и дома так: всегда делаю свое, а мамочка свое. Я не варю суп, а собираю коробки, моей мамочке никогда не придет в голову собирать коробки, а мне — варить взаправдашний суп, а не понарошку, из грязи. Так мы всегда и делаем: я свое, мамочка свое. Но другие дети уже научились рисовать разные разности, а я все цветы да лужайки, цветы да лужайки и только иногда воду. И дети надо мной смеялись:
— Фу, зеленая и синяя!
Я понимала, что это и правда чуточку ФУ. Но рисовала свое. И зеленый карандаш у меня еще в первом классе весь ИЗРИСОВАЛСЯ на эти самые лужайки.
А во втором классе у нас учительница злючка. Не то, что Ковачикова. Папекова. Как треснет прутиком по столу — весь класс под партами! Прутики ей носит Владо Гучала. Он живет рядом с ивняком, и учительница каждый раз велит ему срезать прутик и принести, представляешь?
Вчера Папекова пришла злющая-презлющая — уж не знаю отчего — и говорит:
— Кто сделает красивый рисунок цветными карандашами, получит акварельные краски.
А мне так хотелось рисовать акварельными красками!
Начала я с воды. Зеленым. Ну вот, нарисуем водичку… И водичка потекла! Еще и ботинок в ней плавал, только никто его не разглядел. Бета, которая сидит сзади, посмотрела — и давай смеяться. Но я-то знаю, что в воде плавает ботинок, я сама видела такой старый башмак, когда мы с мамочкой ходили на кладбище. Он плавал в луже. Я его здесь и нарисовала. Разве я виновата, что Бета этот башмак не видела? Не виновата! Потом я стала рисовать травку. Да только не знала, где кончается травка, а где начинается небо.
А когда я уже принялась за небо, ВДРУГ Владо Гучала как высморкается. Нашей Папековой, если кто высморкается, сразу становится плохо. Такая она чудна́я. Ей и стало плохо.
Она как треснет прутиком по столу, прутик сломался, и весь класс испуганно притих. А кто в то время рисовал, кто во всю старался, у тех сломались карандаши. Нас таких было семеро, понимаешь? Кто во всю старался. И все — самые плохие ученики. Потому что остальные уже заканчивали рисунки, а мы хотели их догнать.
Я тоже старалась. И у меня тоже сломался карандаш, как раз зеленый, самый нужный. А я не умею точить карандаши. Попросить учительницу я боялась. А кого еще? Кто поможет? Попробовать, что ли, самой? Но ведь у меня даже ножика нету, мамочка не хочет его давать. Купила мне точилку. Только я не умею определить, когда карандаш отточен и его пора вынимать. Кручу-кручу, пока грифель не сломается.
Сунула я свой зеленый карандаш в точилку. А он и так совсем малюсенький — сточился еще в первом классе, когда мы рисовали лужайки. Я тебе уже про них говорила? Ну вот. Точу себе и точу, а когда вынула — оказалось, я сунула его не тем концом. Ну, и второй конец тоже сломался. Снова сую карандаш в точилку, кручу еще раз, еще и еще, а когда доточила — у меня остался такой крошечный карандашик, что и в руке не удержать. Тут уж ничего красивого не нарисуешь! До самого звонка я и ЧЕРТОЧКИ не провела! Пришлось оставить на листе чистое место. И небо все-все белое, потому что я и небо тоже хотела раскрасить зеленым.
Училка велела подписать рисунки, но я и подписать хотела зеленым, а зеленого у меня не было, и я не подписала. Папекула увидела, собрала все рисунки и сказала, что акварельных красок мне не даст.
Я думала, она поймет, думала, она и сама хоть чуточку любит зеленый цвет и ей тоже будет жалко, что его там НЕ ХВАТАЕТ. И что зеленый карандаш у меня сломался! Думала — поймет, что он сломался из-за ее прутика. Из-за того самого прутика, который принес Владо Гучала. Ну, который высморкался!
Понимаешь? Владо высморкался, и прутик, который он срезал, сломался. Разве можно сморкаться, когда срезаешь такие прутики, которые ломаются? И разве можно срезать такие прутики, которые ломаются, когда высморкаешься, правда ведь?
Пришлось моей мамочке сходить к Папекуле. Они знакомы, моя мамочка тоже учительница, только никого не учит, потому что болеет. Мамочка и говорит Папекуле:
— Меланка, уж ты дай нашей Аничке акварельные краски, она так хочет рисовать акварельными.
Папекула глупая, ну и дала мне сегодня ПО БЛАТУ акварельные краски, понимаешь? А все дети удивлялись: нарисовала такой плохой рисунок, а акварельные краски все равно получила. И весь класс на меня разозлился.
А я подумала: вот возьму и докажу, что умею рисовать акварельными красками лучше всех! Но про себя решила — зеленой рисовать не буду, раз она ТАК меня подвела! Возьму синюю.
Только мамочка забыла меня предупредить, что синяя краска расплывается больше ВСЕХ-ВСЕХ других. Я взяла синюю, да еще Папекалка не дала нам ПОРЯДОЧНОЙ бумаги, а надергала листков из тетрадок для рисования. На таких листках — никто в классе этого не знал, но я-то знала! — краска жутко расплывается. Я знала, что на бумаге из тетрадок краска расплывается, да что толку, раз я не знала, что синяя расплывается больше всех! Мамочка забыла меня предупредить, понимаешь?
Дети рисовали красной, желтой и ВСЯКИМИ другими, и рисунки у них получались КРАСИВЫЕ, РАЗНОЦВЕТНЫЕ, а я взяла синюю, кисточку выбрала самую толстую, сказала себе, что начну не с травы, а с неба, и стала рисовать небо, небо, небо, и все мне казалось, что неба еще мало. И потому — когда подсохло, я снова принялась рисовать небо. Получилось небонебонебонебонебо, весь рисунок — сплошное небо! На траву уже ничуточки бумаги не осталось. Да только синяя краска расплывается, и весь рисунок у меня расплылся. Но я считаю — получилось очень даже хорошо, ведь и небо не бывает всюду одинаковое, где такое, а где такоеТАКОЕ, такоетакое и такоеТАКОЕ…
Иду я сдавать рисунок и думаю: наконец-то Папекалка увидит взаправдашнее небо!
Да, еще я не люблю букву «К». И решила ее выкинуть. Подписалась: Яворсая. Потому что — зачем оно, это «К», правда ведь? Она и так поймет, чей рисунок, раз я Аничка. Аничка в классе только одна. Подписалась: «Анна Яворсая» — и понесла.
Папекула сидела за столом и каждого хвалила, а я подумала: сейчас вы все увидите, когда я покажу ей свое небо, что это за красотища!
Пока я несла рисунок, всё прижимала его к себе — пусть никто не подглядывает!
Но когда приблизилась к учительскому столу, то держала его уже не перед собой, чтоб Папекула не подумала, будто я нарисовала стену, а над головой, чтобы сразу поняла — это небо!
Но то, что у меня было над головой, у нее оказалось ниже носа, и она не поняла, что это небо, глянула одним глазом и сразу — трах прутиком по столу! И прутик снова сломался. Треснула она по столу и говорит:
— Яворская вернет акварельные краски и будет рисовать карандашами.
Я ТАК сегодня плакала! А мамочка утешает:
— Не плачь, я научу тебя рисовать цветными карандашами лучше, чем акварельными красками!
Да ТОЛЬКО я думала, что лучше нарисовать уже нельзя! Просто и Папекула… и даже моя мамочка… и ВСЕ-ВСЕ — глупые. Ничегошеньки не поняли. Ведь такое небо лучше ВЗАПРАВДАШНЕГО, потому что взаправдашнее небо все синее-пресинее, и, когда поглядишь на заводскую трубу, оно и над этой трубой такое же синее, как над другой. А мое — не такое. Мое небо над одной трубой чуточку сине́е, чем над другой.
Если бы Папекула это заметила, она бы поняла, сколько мне пришлось потрудиться, пока получилось у меня такое небо, чтобы оно ПО ПРАВДЕ было красивое. Ни одной травинки не подрисовала, а ведь я ТАК люблю ее рисовать! Но я решила — пускай лучше будет без травы, лишь бы небо получилось красивое!
Перевод со словацкого В. Каменской.
Андрей Ферко ГИБКИЙ ПУТЬ[35]
Город. Вечер. Безликая толпа пешеходов. Они идут, не замечая друг друга. Но есть у них общие цели. Обязанности, увлечения, работа. Чем ближе к цели, тем меньше отчуждения.
Он им завидовал. Сам он бродил без определенной цели. Девушки? Для них он слишком молод и, наверное, чересчур робок. Кино, выставки? Пресная начинка досуга!
— Кто к нам пожаловал! Ну и ну!
— Вот так гость!
— Наконец-то изволил заглянуть.
Вечный прогульщик Митё, и сам-то редко бывавший на занятиях, никого не оставлял в покое.
В раздевалке парни переоделись в белые костюмы. На вешалках повисли выпотрошенные сумки.
— А у нас два чемпиона Словакии…
— Не трепись, откуда им взяться?
— Спорим? Правда, среди школьников.
— Ага, тогда это Лопушик, верно?
— И Острак.
— Ну что ж, здорово, я рад. Думаю, моя роль в этом успехе не последняя.
— Еще бы, ты ведь у нас первый самурай.
Хлопанье «вьетнамок» по длинному коридору, ведущему в спортзал. Стерильная чистота. Все учтиво здороваются с тренером. Школьники уже заканчивают. Перекличка. Реи[36]. «Младшая группа свободна!» Поклоны духу додзе[37]. Спортзал — это додзе. Дух спортзала — тоже додзе. Он живет в центре борцовского ковра. Раскосыми глазами всматривается в приходящих: честны ли они?
Над брезентовым ковром стоит характерный крепкий запах. Запах потных босых ступней. Подходя к ковру, каждый разувается. Поколения босых пяток упорно топчут шершавый брезент в стремлении достичь чего-то.
Ему давно хотелось к ним попасть, и вот он однажды пришел. Долго разведывал, выяснял, колебался. И решился. Почему не попробовать? Если ничего не получится, не ему первому будет от ворот поворот. В худшем случае статистика приплюсует куда следует еще одну единицу. Чтобы произвести приличное впечатление, он даже начистил туфли…
— Такого я еще не видел. По венской программе показывали какие-то соревнования. Наверняка все было подстроено. Такие иппоны[38] в жизни не бывают. Я только глаза таращил, чуть нос не расплющил об экран. Какие иппоны!
Войдя на ковер, поклонились уже все вместе. Мое почтение, господин дух. На всякий случай. Никто в это не верит, но с невежами иногда случались странные вещи. Поклониться не забывает никто. Нужно почтить додзе — вдруг он это видит. Ну и ради тренера тоже. Он бы задал головомойку самому папе римскому, если бы тот не поклонился.
— Почему это, приветствуя, надо именно кланяться?
— Чтобы всякие примитивы спрашивали людей знающих.
— А все-таки — почему?
— По кочану, понимаешь, по капустной голове вроде твоей.
— Ну и гусь же ты!
— И не простой, а певчий.
Больше всего кланяются во время соревнований. Построение команд — реи. Соревнованиям, судьям, друг другу. Вышел на татами — реи. Вошел в квадрат — реи. Перед началом схватки — реи. После схватки — тоже. Построение команд — еще два поклона. Хорошее воспитание. Пресловутая японская учтивость. Противника нужно почитать. Это вежливость.
…Он стал энтузиастом. Приглашал ближнего своего на ковер и месил его. А были времена, когда ближние запросто швыряли его оземь. Едва преодолев первоначальный страх перед падением, он готов был схватиться с кем угодно. Уже и думать позабыл о первом своем приходе. Тогда он набавил себе полгода — только бы попасть в секцию. У них был начинающий его лет и его веса, которому нужен был партнер. Поэтому его и взяли.
— Давайте договоримся: на каждой тренировке кто-нибудь рассказывает анекдот.
— А что, идея.
— Начнем с тебя.
— Да мои все с бородой…
Ему представлялось, что в секции сплошь костоломы и душегубы. Ничуть не бывало. Удалая компашка? Пальцем в небо. Просто люди. Друзья. И еще какие! Первый сорт. Он вживался в их мир. Сперва как младший собрат. Вслушивался в непривычные слова. Усваивал их. Играл ими, как ребенок новыми игрушками.
— Я пошел на тренировку! Был на соревнованиях. Схватки будут послезавтра. Я заделал его ногами. Иппон был что надо!
Он восхищался способностью тренера найти общий язык с сопляками, со всякой шантрапой, его умением добиться своего от любого в секции, даже от какого-нибудь несмышленыша. Согласовать волю ребенка с волей тренера. Увлечь тренировками такие разные и непростые детские характеры. По-доброму. Ласково. Привить им технику падений и бросков. Основные движения.
Со временем он понял, что для тренера все это повторяется из года в год. Но доброту невозможно подменить рутиной. Рутина фальшива. Дети чувствуют душевную халтуру. Нужно настоящее искусство, чтобы найти дорожку к детской душе, завоевать уважение и дружбу десятков ребят. Чтобы воспитать из них бойцов. Мастеров. Тренер — вечный начинающий. Вечно молодой. Из года в год он переживает первые трудности на ковре.
На его глазах сюда приходили многие ребята. Романтика, детские представления о спорте приводили их в этот старый сокольский спортзал. На его глазах многие и уходили — через неделю, месяц, через год. Спорт — это не только развлечение. Победа, успех добываются трудом. Трудно высечь из собственного тела и духа ту самую искру, которая наводит страх на противника и наполняет грудь дыханием победы.
Немногие из учеников проявляли подлинное упорство. Немногие благодаря своему, хотя и довольно скромному, умению одаряли старого тренера золотыми медалями. Медаль остается у юного борца, но заслужили-то они ее вдвоем. И неизвестно еще, чья заслуга больше. Тренер готов оставить в секции хоть всех ребят. Но нельзя оставлять тех, кто обманывает, прогуливает, подводит. Тренеру нужно постоянно наращивать требования к физическим и нравственным качествам учеников. Увеличивать объем нагрузок. Для выбывших нет обратного пути — раз они ушли из секции, значит, перестали уважать ее законы.
— Этот прием ты выполняешь плохо. Смотри, я совсем не меняю точку опоры, вот, делаю так…
Шлеп!
Они вместе проходили отборочные тренировки. Вместе, обессилевшие, брели домой. Разработали даже общий маршрут обратной дороги. Почтительно обращались друг к другу: «Старик». Расходясь, склонялись во взаимном поклоне: в десять часов вечера, на оживленном перекрестке, не обращая внимания на ухмылки прохожих. Церемонно кланялись друг другу. Вместе учились падать. Вместе проверяли друг на друге приобретенные знания.
Очень долго ему не удавалось победить хоть кого-нибудь, хотя бы случайно. А ведь он так старался. Это выводило его из себя. Техники у него не было никакой, особой силой тоже не отличался. Когда он это осознал, наступил перелом. У него нет техники — вот главная беда. Техника побеждает силу. Д о л ж н а побеждать силу. Это логично. Он стал внимательней изучать соперников. Сам он передвигался плохо: в любой момент его можно было подсечь на иппон. При бросках через бедро слишком откидывался назад, недостаточно переносил центр тяжести. Это было его постоянной ошибкой. Прорывы выполнял нечисто. Всегда получалось взаимодействие сил, помогавшее противнику. Приемы выполнял медленно и грубо. Повторялся.
— Тьфу! Дебил! Осел! Коряга.
— Прости, я, кажется, перестарался.
— Да ты самый настоящий садист! Совсем залягал, чтоб тебя!
Он стал выискивать самых классных соперников. Радовался встрече с ними. Наблюдал и запечатлевал в памяти технику тех самых бросков, которые заставляли его лететь на ковер самым позорным образом. Тут же вскакивал и снова провоцировал противника на прием, принуждал его полностью использовать свой технический арсенал. Он вызывал на себя даже такие неприятные приемы, как «рычаг» или «удушение», короче, все, что помогало ему самому приобретать опыт. Он охотно сдавался. А ведь раньше не был на это способен. Раньше он стискивал зубы и сдавался только тогда, когда заставляла боль. Со временем он научился проигрывать. Похлопывал по ковру спокойно, с улыбкой[39]. Это экономило и время, и силы.
— Ты что, постучал от нечего делать?
— Нет, ты меня отлично поймал на прием. Чистая работа.
— В самом деле?
— Да. Я ничего не мог поделать.
Невозможно выигрывать, пока не научишься признавать себя побежденным. Спорт навязывает свои законы. Но доставляет и свои радости. Можно радоваться даже проигрышу — если проиграл более сильному сопернику и при этом чему-то научился. Понять, оценить это чувство не так-то просто. За ним должен стоять критический взгляд на собственное умение. Сдаться с улыбкой, подать руку победившему тебя — это победа над самим собой, которую понимает только спортсмен.
Все сидели в привычной позе. Когда-то ему казалось, что он никогда и ни за что не освоит ее. Вес тела целиком приходится на скрещенные ступни. Через несколько минут они у него отнимались. Он начинал ковылять, подпрыгивать, чтобы вернуть чувствительность онемевшим ногам. Теперь же он спокойно переваливался назад и качался на послушных суставах ступней. Но вот прозвучало: реи! Поклон сидя. Официальная тренировка началась.
Цепочка фигур в белом, подчиненная общей цели, воспроизводит все движения тренера. Маховые упражнения, потом силовые. Динамика, техника. Не просто упражнения, а целая наука. Запах пота. Тепло по всему телу. Влажные кимоно. Тяжелое дыхание и радость от того, что все получается. В общем, тренировка.
Он внимательно наблюдал за более опытными, «стариками». Вот у кого можно поучиться. Они были способны работать на совесть и в то же время оставлять резерв. Участники высшей лиги, они умели экономить силы. Выматываться им незачем. Другое дело, когда нужно согнать вес. Тогда они боролись, одевшись потеплее, боролись, пока к ним не приходило и второе, и третье дыхание.
Второе дыхание. С ним это уже бывало. Выдохся, сдох, и вдруг приходит безмерная жажда бороться, хотя только что уползал с ковра. И сил хоть отбавляй. Вот оно какое чудо — второе дыхание. А после этого спится, как никогда. Бредешь домой, валишься в постель и моментально отключаешься.
— С этим будет трудно. Он, стервец, работает в страшно низкой стойке.
— Я уже имел с ним дело. Вообще-то за такую пассивную борьбу нужно снимать.
Тяжело на тренировке, легко в схватке.
Хруст в коленях. Болят бедра, икры. Никто этого не любит. И все же повторяют упражнения снова и снова. Тяжело на тренировке… Те же упражнения, что на уроках физкультуры. Потом пойдут «фирменные блюда». Раскрепощение ног. Руки прощупывают, разминают суставы ног, массируют колени, притягивают бедренный сустав. Ноги должны быть мягкие, разогретые, упругие. Все мышцы должны «плавать». Это одно из правил безопасности, предупреждения травм.
И все равно травмы неизбежны. Особенно на соревнованиях. Мандраж. Неудачное падение. Заплетенные ноги. Все вперемешку. Ожоги от мата. Хуже, когда перелом, когда порваны мышца или сухожилие. Или кровоизлияние. Они выводят из строя в самый неподходящий момент.
Однажды его бросили на копчик — словно перерубили пополам. Он ходил только семенящими шажками, скрюченный, как рукоятка старого зонтика. Две недели боли и страхов. Переболело. Прошло. А ведь кто знает, кем бы мог стать Моно, если б не покалеченное плечо; Симбо мог бы выступать в высшей лиге, будь у него в порядке сухожилия.
Главное: мягко передвигаться. Не упираться. Не закрепощаться. Свободно. Спокойно. Ничего страшного, если и проиграешь. Лучше отдать схватку, чем получить травму. Или, может, здоровье тебе ни к чему? Помни, здоровье — самая большая драгоценность.
— Становись на четвереньки, ученик! Так! Теперь задери голову. Нет, никакие это не глупости, а очень полезное упражнение. Увидишь, эффект будет замечательный. Разинь рот, растяни губы — отлично! Да, уважаемые зрители, именно так выглядел бронтозавр, поймавший кайф.
— Протестую от имени бронтозавров и требую удовлетворения. Я обращаюсь к наивысшей инстанции — к этому вот верзиле. Пусть он вершит правосудие и пусть воздаст тебе и за несчастных бронтозавров. Хорошо еще, что они вымерли вовремя, иначе им пришлось бы сделать это сейчас.
Постепенно он сживался со своим небольшим коллективом. Когда наступила его очередь рассказать анекдот и все смеялись, он почувствовал, что начинает входить в их круг. Их права были его правами, их проблемы стали его проблемами. Он стал членом семьи.
Силовые упражнения. Отжим в упоре.
— Какой ты бледный!
От этих слов он неизменно валился на землю. Они убивали его наповал. При нагрузке такого рода каждый краснеет как рак. Эта древняя, но все еще популярная шутка всегда застает врасплох. Смех. Мышцы невольно расслабляются. Руки слабеют, подкашиваются, тело плюхается на ковер, все гогочут. Отличный предлог для отдыха. И причина для смеха, для радости.
Не жалеть времени для отработки техники. Техника экономит силы. Она позволяет закончить схватку в одну минуту. Зачем надрываться? Зачем выжимать из себя все соки в течение пяти минут? Лучше взорваться один раз, но как следует. Экономно использовать энергию. Тогда можно одолеть и со слабой дыхалкой. Две полные схватки заставляют попотеть не меньше, чем иная тренировка. Именно поэтому он лишился первого партнера. Тот слишком уставал, часто стал болеть и в конце концов бросил спорт.
А он стал работать шаляй-валяй, то с одним в паре, то с другим, и без особого толку. Ему нужен был постоянный партнер. Тут Братьо пошел в армию, и Моно осиротел. Они попробовали тренироваться вместе — получилось неплохо. Моно выигрывал чаще, но они притерлись. А вот с бывшим напарником дружба распалась. Не было больше контакта.
— Ну, ты хитер! Что это такое?
— Так я тебе все и выложил, держи карман шире! Я этот бросок подсмотрел на чемпионате. Они там большие спецы.
Они уже изучили друг друга. Он ждет прорыва. Атака. Он предугадал ее по искорке, пробежавшей по телу напарника. Они друзья. Но только не на ковре. В схватке каждый норовит вывести другого из равновесия. Падение. Рефлекс. Все можно перевести в безопасное падение. Падения — отличная штука. Могут выручить в любой ситуации. Шлеп!
Прием. Контрприем.
Атака. Защита.
Прорыв. Блок.
У Моно он научился блоку — защитной группировке. Своевременный блок многое спасает. Иногда — все. Блок — это защита. Комбинировать нужно от защиты. И атаковать. Таковы подлинные бойцы. Они осуществляют исконную идею своего спорта — идти вперед. Плести кружева приемов. Прорываться. «Растаскивать» противника. Месить. Бороться до последнего дыхания. Использовать без остатка резервы своих сил, выложиться до конца.
Итак, мы не берем партнера на катагуруми[40]. Пока этот прием не для нас. Ладно. С помощью японских терминов всегда можно договориться. По-деловому. О деле. Хотя бы в общих чертах. То есть обо всем существенном.
А вообще-то нет более увлекательного зрелища, чем схватка двух равноценных технарей. Непосвященный ничего не увидит, просто не сможет увидеть. Понимающий — извлечет многое. Он знает, в чем дело. Схватка двух техничных бойцов. Мечта. Поэма. Удовольствие и наука.
— Такое увидишь нечасто.
— В самом деле, любо-дорого поглядеть. Это большая редкость. Мы ведь, как правило, вызубриваем технические приемы. Ясное дело, многие знают их назубок, а вот прочувствовать, выполнить с душой…
— Потрясный технарь. Каждую схватку ведет иначе, и все на иппон. Самурай!
Быть техничным. В этом суть избранного им спорта. Техника. После каждого соревнования у него все голени были в синяках. Какой-то «мясник» из Михаловиц придушил его подлым, коварным способом. А он не хотел сдаваться. Изворачивался. Надеялся, судья поймет, в чем дело. Его привели в чувство нашатырем. Убийственный, зловонный запах заставил его вскочить на ноги. Он проиграл. Но не сдался.
Еще раз это случилось с ним на тренировке. Виноват был он сам. Нужно было сдаваться: удушение. Он будто в сон погрузился. Плохо ориентировался. Соперник прижал ему сонные артерии. Но дышать было можно. И он решил выдержать.
Вдруг он оказался на каком-то лугу. Такой луг он видел однажды на старой картине. Тихо шелестели белые цветы. Так тихо, что не поймешь, то ли это шелест, то ли тишайший звон. На той картине ему запомнилась старая женщина. Здесь ее с ним не было. Он стал оглядываться: где она? Ему было хорошо, а дальше, он чувствовал, будет еще лучше. Все прежнее куда-то отодвинулось, стало безразличным. Так бы и остаться здесь. И вдруг ему стало неловко: на него смотрели. Любопытные взгляды учеников проникали из дальней дали, мешали вдыхать неповторимый аромат. Аромат белых цветов. Нужно только сказать им: «Не смотрите на меня так» — и тут же снова окунуться в него. Только сказать им, пусть не отсвечивают. Он очнулся. Кто-то бил его по щекам. Пощечины вернули его в реальный мир. Ученики в самом деле смотрели на него.
— Там было чудесно.
— Почему ты не сдавался, осел?
— Можешь мне только позавидовать.
— Кому это надо — иметь тебя на своей совести? Убить калеку, а платить как за целого.
— Не смешно. Твоя хохма заплесневела!
Японцы. С детских лет на татами. Ювелирная техника, традиции. Высокий моральный дух. Патриархат на ковре. Раскосый тренер — царь и бог — наказывает ударами. Абсолютное послушание. Борцы экстра-класса. Мы глядим на них с завистью. У нас нет зрителей. Нет поддержки. Это не футбол. И не тот уровень. Тут не заработаешь даже на аренду спортзала.
Первые соревнования. Участников не хватает. Поставили его, новичка. Оказанное доверие воодушевило его: не подведу, выиграю. Но у него не было шансов. Он передвигался жестко, напряженно. Так жестко ходить не годится. Руки как бульдозер. Упирался в противника. Не помогло — вылетел.
Он пролетел через весь ковер. До сих пор помнит этот бросок. Прыжок во тьму. Эффектно. Экзотично.
Успеху предшествуют литры пота. А пот стекает по каплям. Найти самую подходящую позицию для каждого захвата. Это кропотливый, муравьиный труд. Чувство движения должно войти в плоть и кровь. Чувство чужого движения! Найти выгодную позицию в схватке удается очень редко. Соперники сталкиваются грудь в грудь. Часы, проведенные на татами. Совместный пот.
Сколько в секции было членов — столько у него появилось друзей. Трудно было разобраться: кому говорить «вы», кому — «ты»? Сначала решил быть на «вы» со всеми «стариками». Потом ограничился женатыми. Но на тренировке все равны, и он приспособился к неписаному правилу: всем, кроме тренера, говори «ты». Все воспринимали это как что-то естественное, и он тоже. Привыкать к равенству легко и удобно.
Иногда на него набрасывались сразу трое и всю тренировку лупили его по брюху. Он ни за что не сдавался даже при таком явном перевесе. На него сыпались десятки ударов. А потом он с притворной яростью бросался на каждого из триумвиров, хлестал поясом. Чего ради? Чтобы не оставаться в долгу. Чтобы, смеясь, дать выгуляться молодой силушке, готовой соблазнить на необдуманные поступки.
Пару раз он выиграл на иппон. Позже, размышляя над этим, выяснил, что победный прием провел в состоянии какого-то восторга. Прорыв, бросок в подходящий момент. В единственно подходящий момент, когда ему открылась слабинка у соперника. Это было вознаграждение за десятки часов на татами. Пойти на противника, взять захват, нащупать его центр тяжести. Приподнять, подсечь. Лишить его точки опоры. Швырнуть на землю. Дать понять: ты для меня мешок. Победа. Те редкие моменты, ради которых стоило пролить столько пота.
— Слушай, это было классно. Ну, ты король! Ничего не попишешь, остается только поздравить тебя.
Общий его счет был высокопассивным. Он отлично понимал, что никаких чудес не совершит, но иногда позволял себе помечтать. Он сгонит вес, перейдет в легкую категорию. И в то же время сохранит прежнюю силу и реакцию. Если есть сила, легче выполнить технический прием. Взять, например, Матьо, культуриста, его карьеру. Для такой горы мускулов реакция у него неплохая. Вот он проигрывает. Но не теряется, провоцирует соперника на борьбу лежа. Позволяет захватить себя и — начинает: переходит на мост, опрокидывает противника. Удержание, удушение, заслуженный выигрыш. Соперник принял его манеру боя, его тактику. Это искусство. Может, в легком весе ему удастся выиграть отборочные соревнования. А дальше — первенство Словакии, потом всей республики. И Москва. Или во сне какой-нибудь раскосый благодетель подскажет ему, как выполнять тот или иной прием. Подарит ему тысячу иппонов, тысячу выигранных схваток. А это уже что-то. Это уже был бы взлет.
Иногда же ему казалось, что соревнования не так важны. Главное — тренироваться. Регулярные тренировки. Физическая форма. Быстрота. Радость точных движений. Рандори — вольная схватка. В стойке. В партере. Финты. Смекалка. Но верный путь лежал где-то посредине: регулярные тренировки, увенчанные схватками во славу своего имени и своей секции.
— Я даже не понял, в какую сторону полетел.
— Да, шуганул он тебя.
— Черт знает что, вышибли малыша. А нечего было соваться, милок.
Они улыбались. Комбинировали. Что бы такое для тебя придумать? Как бы тебя раскачать, подсечь? Бросить через бедро? Через плечо? Или просто руками? Или перебросить через вытянутую ногу? Заставить тебя упасть. Любым способом.
Ему нравилось, когда на тренировках они отрабатывали падение кувырком вперед. Через препятствие. Препятствием был кто-нибудь из ребят. Разбег. Прыжок через согнутую спину товарища. Полет, который нужно перевести в падение. Метр. Может быть, два. Полет. Вот это наслаждение, то что надо, самое настоящее. Овладение телом. Овладение волей. Безудержная отвага. Вот что дал ему спорт за недолгое время. Движения — неестественные, неприятные. Боль в переполненных кровью мышцах. Усталость. Кимоно, отяжелевшее от соленой влаги. Разбитые в кровь губы. Ноги в синяках. И единственное, что уравновешивает все это, — триумф. Он этого достиг. Знает это. Научился!
Давно у него ни к чему не было такого сугубо личного отношения, как к движению, которое он освоил. Он овладел им, оно принадлежит ему. Никто не может лишить его этого умения. Мышцы, сухожилия послушны ему. Перестало колоть в боку. Он входил в форму.
— Этот парень, когда был в форме, отжимался От земли триста раз подряд.
— Я, когда в форме, могу приседать сколько угодно. До обалдения.
Дважды на неделе он ходил на плавание. Две тренировки. Два часа баскетбола. Футбол. Физкультура в школе. Учебный поход. Слишком много всего для пяти дней в неделю. И вот — нога. Вена. Vena saphena[41]. Больница. «Придется вам бросать». Озабоченные лица врачей.
Тогда он понял, чего лишился. Общества, в котором царит подлинное равенство. Никто ни на кого не злится. Атмосфера. Дух. Товарищеский дух, объединявший несколько десятков парней. Шутки. Запах ковра. А у него наконец-то стало получаться. Он только-только начал входить в форму. И теперь — нате вам! Калека. Кресло на колесиках. Слезы. Они выступали на глазах при одной мысли об этом. Судьба сурово обошлась с ним. Ну нет! Еще ничего не потеряно. Врачи не видали более послушного пациента, потом — более прилежного посетителя кабинета лечебной физкультуры. И он получил на руки бумагу, где черным по белому было написано, что ему можно бороться. Он чувствовал себя, как если бы судья присудил ему победу над грозным соперником.
— Бери кимоно, собирайся, пошли.
— Не могу. Что-то не идет у меня.
— Пошли. Хочешь добиться чего-нибудь — тренируйся. Пошли.
За это время он поправился. Прежде никогда не задумывался над своим весом. Просто жил с ним, носил его, но не тяготился им. Однажды потребовалось кому-то из них согнать вес, перейти в более легкую весовую категорию. Никому не хотелось изнурять себя на тренировках, одевшись как на Северный полюс. Ничего не пить. Мало есть. Он скрыл, сколько ему нужно согнать, иначе ему бы не разрешили. Почти пять кило. Первые три килограмма сошли легко. На четвертом у него поднялась температура. Постоянный легкий жар. Сухой язык.
Ему снилась вода. Он в озере. Не плавает, а лежит на воде, как на перине. Через лицо перекатываются мелкие волны. Легкие, прохладные. Нет, пить нельзя. Утром съел пол-яблока. На весь день. Это он сгонял уже пятый килограмм. А в школе полоскал рот каждую перемену — чтобы не пахло. Щеки ввалились. Он пошел в сауну. Моно отправился с ним. Ему ничего не нужно было сгонять, но он проходил все мыслимые процедуры заодно с ним. Не ел и не пил, когда они были вместе. Солидарность. Прекрасная вещь, прекрасное слово.
— Слушай, кончай! Ты только погляди на себя. Еще подцепишь чахотку.
— Нужно попробовать хоть раз.
В темной каморке сауны он чувствовал себя отвратительно. Нечем было потеть. Сухая кожа горела. Наконец выступила хоть какая-то влага. Он лизнул свою кожу, она была сладкая. Ни следа соли. Моно тоже лизнул, сказал: «Вкусно». Но ему было не до шуток. Прямо из сауны — на тренировку. В «Славию». Одеться потеплее и вкалывать. Мышечное напряжение опять выгнало немного пота. Оставалось еще сто двадцать граммов. За ночь сами сойдут. Может, и целых триста. Моно, взвешивая его, заодно и подпирал: колени подламывались.
На другой день он собирался выступить в легком весе. Оказалось, ничего не выйдет: у них не набралось команды. Их было всего двое. Мало. В своем же спортзале — и не удастся выступить. Им овладела ярость. Его попросту списали!
Целую неделю он держал вес. Соблюдал диету. Очень скоро понял, как важно для него присутствие Моно. Его моральная поддержка. Будь он один, не устоял бы. Голод и жажда способны поколебать даже самые честолюбивые намерения. Моно был коллективом. Представителем всех остальных. Но на них он не мог не сердиться. Они предали его. Сволочи ленивые. А они взяли и пришли все. Передумали. Его вид, его горькие слова пробудили в них совесть.
И вот наступила его схватка. Легкий вес. Он сумел заменить Симбо — уже ради этого стоило постараться. Но, видимо, перестарался. Сразу почувствовал, насколько сгонка ослабила его организм. Явственнее всего он ощутил свое бессилие в татэсихогатамэ[42].
До сих пор никто не мог удержать его этим приемом. В легком весе на него нашлась управа. Он дал поймать себя на прием. Потом попытался стать на мост — и не дотянул. Противник продолжал висеть на нем, контролировал его. Он проиграл. Обессиленный до предела, до дна. Это дно было осязаемо, ощутимо. На дне души было плохо. Пустыня. Беспомощность.
— Кефа скидывает шесть кило. Перед каждыми соревнованиями. После взвешивания набрасывается на еду. Так нажирается, что набирает семь кило лишнего веса. Потом попробуй сдвинуть его с места.
— Когда сгонял вес Муфти, у него во рту жвачка испортилась. Он жевал ее, чтобы обмануть желудок. И разжевал в кашу.
Он сгонял вес еще несколько раз, пока Симбо не выздоровел. При последней сгонке он весил меньше шестидесяти трех килограммов. У него тогда даже бывали галлюцинации. Потом набрал привычный вес. Поправлялся постепенно. Все опять было в порядке. Лишь временами снилось, что ему нельзя есть, пить.
Однажды случилось так, что и он мог подвести других. Болезненный ушиб позвоночника. Как ему поступить? Бороться в таком состоянии означало ухудшить шансы команды. Он пошел к коллеге, который мог бы выступить вместо него, но того не оказалось дома. Пришлось участвовать самому. Он покидал татами с гримасой боли. Но несколько схваток все же выиграл. Не так уж много, но все же.
Он добавлял себе силы выкриками. Сперва даже слишком часто кричал, потом перестал этим злоупотреблять. Хороший выкрик в нужное время вливает силу и отвагу. Дает телу сигнал к атаке. Ошеломляет, пугает соперника.
Сквозь переплетение конечностей добраться до его горла. «Перекрыть ему кислород». Схватить руку, потянуть на себя, выпрямить и перегнуть в локтевом суставе. Удержание. Держать так, чтобы он ничего не мог сделать, прежде всего — высвободиться. Держать полминуты, пока не раздастся гонг. Втянуть голову в плечи, укоротить шею. Руки начеку. Весь начеку, чтобы соперник не использовал невнимательность, мельчайшую ошибку.
— Что было на соревнованиях?
— Была одна занятная штука. Парень попался на удержание, Судья смотрит, все смотрят. Что-то не то. Парень-то лежал на животе, а ему чуть не засчитали удержание.
Подбадривание. Крики публики. Бойцы сосредоточены, ничего больше не замечают. Кажется, что только во время схватки они живут целеустремленной, полной жизнью. Ничего на свете не существует, кроме соперника, которому нужно доказать свое преимущество.
Схватка. Выходят двое, каждый с надеждой выиграть. Каждый стремится навязать другому свою волю. Выключить из борьбы другого. Выйти в следующий круг. Получить очки за активность. Они подкрадываются друг к другу. Захватывают белоснежные куртки. Ведут борьбу на захват, за малейшее преимущество. До удара гонга не так уж много времени. Когда его величественный звук ударит в уши присутствующих, должно быть ясно, кто из них лучше. Кто победитель.
— С ним я уже боролся. Не могу сказать, кто из нас лучше.
— Сколько у тебя с ним было схваток?
— Даже не помню. Около пяти.
В свободное время он ходил тренироваться к «конкурентам». Они познакомились на соревнованиях. «Шпион», — говорили они со смехом. Но были довольны, когда он стал помогать им раскладывать ковер. Он одолжил одному из них пояс. Белый. «Ты его что, перекрасил?» — спрашивали они. Когда он прощался с ними в первый раз, предложили: «Надумаешь — приходи в любое время». И он приходил. Ему уже не говорили «шпион», а говорили «привет».
Публика. Сплошь участники соревнований. Спортсмены, судьи, тренеры. Все подбадривают своих, но также и тех, чья победа им выгодна, кто может «прокатить» соперника. Здесь все знают друг друга, Зволен, Трнава, Нитра, все клубы, все секции. Все — хорошие борцы. Встречаются не один раз в году. Наполняют галдежем и беготней нетопленые залы. Они немало поездили по родной земле. Им знакомы все спортзалы, особенности всех тамошних ковров. У них везде друзья. Коллеги по увлечению. Они давно перезнакомились и знают, кто чего стоит. На ковер выходят с улыбкой. Не отдают без боя заведомо проигрышную схватку. Стараются не отдать лишнего очка, зато самим набрать побольше. Сражаются.
Судьи. Энтузиасты. Субботы, воскресенья — на татами. Пожилые в борьбе уже не участвуют. Но своим опытом, своей зоркостью помогают повышать мастерство. Все время в движении, контролируют, дают оценки. И оказывают первую помощь, если понадобится. Ведь чрезмерная жажда победы может привести к травме. Перенапряжение сил — к судороге. Удушающий прием по всем правилам — к потере сознания.
— Ну сам скажи, разве тебе не обидно?
— Конечно, обидно.
— Победа, считай, была в кармане. И на тебе, сорвался!
С физической формой у него почти всегда был полный порядок. В школе после физкультуры все с ног валились. Только он да Яно молниеносно собирались и летели на свои тренировки.
Упражнения на расслабление. Одно из лучших — поза трупа. Отключиться от всей мускулатуры, ни о чем не думать. Дышать мерно, неглубоко. Расслабить жилы, нервы. Лежать в самой произвольной позе. Ничто. Ничего. На минуту забыть обо всем. Дух воспарил куда-то. Но далеко ему не улететь, потому что тренер уже предписывает новые упражнения. Вначале дух. Затем тело.
По телу разливается теплая усталость. Натерпевшиеся, обессиленные мышцы массируют, треплют, поколачивают. Чтобы тело стало послушным, ему нужно послужить. Реи. Медитация. Глаза закрыты. Дыхание, главное — дыхание. Мышление в пределах тела. Осознание его границ. Концентрация — сосредоточение всей физической силы. Реи в седе. В стойке. При уходе с татами. Автоматически.
Гибкий путь. Суровый, жесткий спорт. Идти по этому пути может не каждый. Не каждый может найти свой гибкий путь. Свою цель при вечерних прогулках. Гибким шагом идти по гибкому пути к заветной цели. В гущу коллектива. Включиться. Вписаться. Иметь слово. Иметь право совещательного и решающего голоса. Иметь свою точку зрения. Гибкий путь — это свои убеждения. Беседы. Споры. Дружба. Дружба в почти осязаемой форме. Дружба, которая запечатлелась в совместной сгонке, усилии и победе. И во времени.
— Ребята, сегодня Михайлов день!
— Да ты что? Михайлов день в конце сентября.
— Не увиливай, сегодня в самом деле Михайлов день.
— Ах, вот как, хочешь заиграть свои именины? Вздуть его!
— Помогите, убива-а-а-ют, пустите меня!
Шлеп, хлоп, плюх, бац…
Первые лодыри и прогульщики, Митё и Яро, спровоцировали нападение на бедного Мишко. Каждый через это прошел. Почему именно он должен быть исключением? Однако ему не понравилось, что экзекуцию организовали именно эти лодыри. Мишко шепнул пару слов тому, другому. Он имеет на то право. Каждый имеет право. Вскоре парочка провокаторов заойкала и заохала. Больше всех усердствовал Мишко.
Все вместе это называется борцовский ковер. Раскладывание и складывание ковра тоже сюда входит. Эти операции съедают добрую четверть часа на каждой тренировке. Такой уж зал. Помещение маленькое. Чтобы ковер не занимал много места, его нужно тщательно сложить и убрать. А когда понадобится, опять разложить.
Воодушевление. Энтузиазм. Сверхэнтузиазм. Пусть любительский. Собственно, все у них любительское. Но ничего! Они еще добьются своего. Со временем. Их убежденность проникнет в жизнь. Гибкий путь. Техника. Не злоупотреблять своим уменьем. Быть честным, вежливым, деликатным. Мускулы и дух. Спорт. Потом им будет легче. Будут возможности. Будет настоящий спортзал.
— Ну, брат, я тебя растаскал!
— Ладно, признаю — ты был лучше.
— Досталось тебе на орехи.
— Что да, то да.
— Здорово я тебя поймал!
— Мне и самому понравилось.
Спокойствие. Чувство собственного достоинства. Умение ориентироваться в ситуации. Трезвая оценка своих сил и способностей. Перенос спортивных критериев в повседневную жизнь вначале поражал окружающих. Он изменился. К лучшему. Научился признавать поражение, отказываться от проигранного. С улыбкой. Со временем он к этому привык. Но для него неожиданным был момент, когда он сам себя признал. Когда он позволил себе называть себя спортсменом. Это означало подчинить свои действия еще одному критерию: по-спортивному ли я поступаю? Во многих сложных ситуациях это ему помогло. Но и сделало жизнь более трудной. Поначалу больше давало о себе знать это ее усложнение. Но с другой стороны, многое и упростилось, вознаградив его с лихвой. Появилась уверенность. Уверенность, что он поступает правильно. Состояние, когда человек знает, что он прав.
Спорт. Физическое и духовное развитие. Обретение титула, который ты, собственно, присваиваешь себе сам. Спортсмен. Обретение спортивного духа. Вкус к честной игре. Тренированное тело. Защитные рефлексы. Специальные знания. Вот главный выигрыш. Вот самый замечательный иппон.
Финал. Длинный коридор. Дружный топот десятков ног. Пальцы развязывают традиционный, веками установленный узел пояса. Пропотевшие кимоно летят в сумки. Голые тела под душем. Смываются соленые струйки пота. Струйки холодной воды на спину. Изо рта в лицо соседу. Фехтование полотенцами. Куртка, завязанная мертвым узлом. Спрятанная шапка. Погашенный свет. Скрежет ключа в руках нервного сторожа. На улицу вывалился клубок. Орда. Рой. Табун молодняка.
Из пространства, помещения, в котором только что кипела молодая жизнь, — в темноту. Во тьме тоже приходится ходить. Случается иногда, Случаются и непредвиденные стычки. Пьяный.
— Гони монету!
— Оставьте меня в покое.
— Сопляк, давай сюда деньги.
— Да пустите же меня!
Нет, не пустил. Что ж, поделом тебе. Пригодился старый добрый бросок через бедро. Глухой удар тела о землю. Нечленораздельный рев. Угрозы. Но путь свободен.
И в заключение: все едут вместе в пустом трамвае. Трёп.
— Парни, уступите место старушке!
— Эй, тетка, вон там есть свободное место. Для инвалидов.
— Чтоб тебя приподняло да треснуло, какой же я инвалид?
— А то кто же? Я ведь тебя сегодня самолично заломал.
— Ребята, который час?
— Сейчас узнаешь, сколько пробило! — На лоб спросившего сыплются щелчки.
— Вот этот едет зайцем — тот самый, который не уступил место контролеру.
— Купите билетик. Настоящий, трамвайный. Дешево отдам!
А он сидел и слушал. И было у него тепло на душе от сознания, что он — с ними. С этой дружной, равноправной компанией.
Со временем их пути разойдутся. Останутся лишь воспоминания. О молодой дружбе. О молодых временах. А помнишь? Не забыл? Как тогда…
Из них выйдут почтенные отцы семейств. Но некоторые так и не расстанутся с гибким путем. Будут судить, тренировать, передавать эстафету дальше. Другие растолстеют. Превратятся в увальней. Утратят чувство контакта. Но и у них сохранятся воспоминания и спортивный дух — он-то не состарится, как стареет тело.
Он вышел из вагона. Остался один. Свет фонарей обозначил ему дорогу. Он снова готов был затеряться в лесу зданий, в будничной толпе пешеходов. У каждого из них есть свой мир, свой круг, в котором человек перестает быть незнакомым безликим прохожим. Есть этот мир и у него.
Перевод со словацкого Ю. Преснякова.
Андрей Худоба ГЛИНЯНАЯ СКРИПКА
Штефан всю жизнь прожил в деревне. Сколько я его помню, он не менялся. Худое, в красных жилках лицо, седые завитки волос возле ушей, но голубые глаза смотрели молодо. Летом он ходил в темно-синей блузе, какую носят красильщики, зимой — в короткой суконной куртке с облезлым бараньим воротником и серых парусиновых штанах, а на ногах у него были башмаки либо бурки с короткими голенищами из барсучьей шкуры.
Был он высок ростом, узок в плечах, взгляд испытующий и словно бы недоверчивый, походка легкая, пружинистая. Семидесятивосьмилетний молодец, последний из могикан шестого остергомского полка.
В деревне все его хорошо знали, а он держался так, будто не был знаком ни с кем, и, когда шел через деревню, высоко подняв голову и устремив взгляд куда-то вдаль, никого не замечал, но не из чванства, а, скорее, по привычке ходить с поднятой головой.
Впрочем, через деревню ходил он нечасто, разве что выбираясь в корчму или на кладбище. С отцом и прочей родней он жил не в ладу, но своих покойных пращуров чтил всех. Он оказался весьма признательным потомком и не обращал внимания на то, что деревня не разделяет его чувств и даже в чем-то осуждает, истолковывая их как чудачество. А возможно, он просто этим колол им глаза и невольно ворошил их совесть.
Старик, можно сказать, почти не замечал односельчан, и тем не менее, стоило ему появиться в корчме, с ним вежливо все здоровались и каждый с готовностью уступал место. В деревне все знали его ставшую легендарной историю молодости. В их глазах он был человеком, совершившим необыкновенный поступок. Ради девушки-батрачки пренебрег состоянием, порвал с родными, поставил крест на женитьбе, короче, «презрел мирскую суету». Его случай многие пересказывали чуть ли не наизусть и, хотя подобное происходило и с другими, случай Штефана считали из ряда вон выходящим.
Девушку звали Гелена, и родители не дали согласия на их брак. Она батрачила. И, мало того, была иной веры. Гелена вышла замуж за батрака же, но в девятьсот пятнадцатом году он остался на полях войны где-то в Галиции. Штефан между тем благополучно прошел три фронта и в восемнадцатом вернулся с Пьяве домой. В девятнадцатом он был среди красногвардейцев[43], но после жатвы снова появился дома. Две недели он провел под арестом, однако отец выкупил его и собирался оженить. Родные наперебой предлагали ему богатых невест, но он от всех отказался.
А сам зачастил на виноградники, по дороге, пролегавшей мимо пастушьей хижины, где жила Гелена с трехлетним ребенком. После войны ей некуда было податься, и община поселила ее в старой, заброшенной пастушьей хижине. Отца увлечение Штефана выводило из себя, но ни добром, ни угрозами не смог он отвратить сына от виноградников и от Гелены. Поняв наконец тщетность своих усилий, махнул рукой, до того ему сын опостылел. (Отношение его к сыну отразилось и в завещании — Штефану отец оставил дом, но все остальное имущество — землю, деньги — отказал дочери.)
Односельчане в большинстве своем встали на сторону Штефана, но его связь с молодой вдовой не раз бывала предметом их пересудов. Люди фантазировали, горячились, злословили, благословляли и осуждали его (главным образом из-за того, что жили они с Геленой невенчанными), но прошло несколько лет — и даже самые ярые крикуны привыкли и признали отношения Штефана и Гелены законными и достойными.
После смерти отца дом опустел, зато буйно рос виноградник, старательно возделываемый Штефаном. Каждый день, зимой и летом, в зной и ненастье, мерил он шагами дорогу от пастушьей хибары к каменоломне. Он был точнее звонаря, почтальона и гробовщика, и до самого сочельника можно было видеть в винограднике его следы. Там у него стояла мазанка-сторожка, над которой раскинул свои ветви орех, а перед сторожкой был вкопан стол с липовой столешницей, красноватой, как и его обветренное лицо. Здесь был приют этого Агасфера, а путь сюда и обратно, к пастушьей хижине, — его жизненным путем. И еще, кроме как в деревню, больше он никуда и не ходил, при случае замечая, что навидался света на всю жизнь. Цель жизни он обрел в тишине этих мест, повседневно созерцая привычно устойчивые земные пейзажи и небесные метаморфозы. Глиняная мазанка, акации, виноградник, завалинка с кошкой, подвальная кухня с эмалированными ведрами — это и была «суша», которую нашел мореплаватель. Табуретка в кухне, поленья у плиты, тарелки на полке над окном, белые плечи любимой женщины — все это было для него доказательством определенности в жизни.
И еще кое-что.
В углу двора, в сараюшке, у него была низенькая комнатка, куда мы входили затаив дыхание. Здесь пахло глиной, стружкой, красками, вощиной, орехами, а на стенах были развешаны резные деревянные фигурки — пастух с овцами, лошадь с жеребенком, деревянные миски и ложки, глиняные кружки, кувшинчики и поросята, в углу же стоял настоящий контрабас, на котором можно было играть.
Штефан был человек молчаливый, погруженный в себя, но ничуть не высокомерный и не важный. Просто так слов на ветер не бросал. Он мог подолгу слушать собеседника, кивал, ничего не произнося, но, разговорившись, вдруг рассказывал историю совершенно своеобразную, ни на что не похожую, как и его кувшины.
Скажем, о глиняной скрипке.
Эта навязчивая идея не покидала его, он был одержим глиной, которая должна была петь. Глиняную скрипку он видел якобы когда-то в Италии и даже слышал, как на ней играли. Но вот тайну изготовления такой скрипки не узнал до конца, одно стало ему известно: что глина для скрипки была взята особенная, «маслянистая», смешанная к тому же с овечьим сыром. И по весне он бродил в окрестностях деревни в поисках маслянистой глины, в эту пору она вроде бы самая чистая. Дома он ее перемешивал, сушил, разделывал и снова месил. После чего клал вызревать.
— Глина, она ведь живая, — говаривал он. — Глина родится, потом созревает, стареет и умирает. Хорошая скрипка выйдет только лишь из созрелой глины. Самая наилучшая — это которая сама по себе произросла либо ветер ее навеял. И чтоб не было в ней ни песку, ни какой другой примеси, нечистая глина глухая, нету в ней голосу.
И он бродил по полям, по оврагам, по глиняным карьерам, где местные крестьяне брали глину, когда складывали новую печь для хлебов или обмазывали завалинки. А вот по берегам ручьев не искал.
— Вода глину только портит, — объяснял Штефан.
Надо сказать, ручей он вообще недолюбливал — возможно, за то, что весенние воды подмывали и уносили землю его сада за домом. Зато, стоило воде опасть, он выходил с багром на берег и вытаскивал из кустов принесенное половодьем дерево, а затем складывал его у пастушьей хижины и внимательно изучал — не попадется ли подходящего куска для вырезания. Остальное дерево он распиливал, колол и аккуратно складывал вдоль стен дома.
Однажды — уже цвел кизил — за домом раздался сильный взрыв. Над пустовавшей старой каменоломней поднялось серое облако пыли.
Старик как раз занимался тем, что сгребал в саду прошлогоднюю листву. Он так и застыл с граблями в руках. Каменоломня ожила, вызвав у него забытые воспоминания. Он-то раз и навсегда уверился, что позабыл все напрочь. И на тебе, ожила каменоломня, а с ней и все былое.
Еще два раза бабахнуло, а потом наступила такая тишина, что старик услышал шорох жука в старой листве…
У забора показался деревенский мужик, шагавший не спеша и вразвалку, настоящий «силач Бамбула», было ему около тридцати, и все звали его Черный Матё. Остановившись за оградой, он поздоровался и развел руками-лопатами:
— Ничего себе жахнуло, а, батя?
— Да вот я слушаю.
— Мастера приехали, камень проверяют, собираются добывать его.
— Камень? — раздумчиво протянул старик и с недоверием посмотрел в сторону каменоломни.
— Слыхал я вчера в корчме, бают, и машины сюда пригонят. А для взрывника уже и квартиру присматривали.
Старик напряженно выпрямился.
— Как бы только он не сковырнулся вроде горемыки Барнабаша. Сколько лет все взрывал, а потом р-раз… и самого садануло.
— Я про это помню, батя. Мне в ту пору десять лет было, и я видел, как его ишпан[44] Сенеши вез на пролетке.
Старик потер большим пальцем висок и добавил:
— И я как сейчас его помню. Вон там он лежал, под сараем, весь израненный и покалеченный. А какой мужик был! Гарнец пива в зубах поднимал.
— Его вроде в голову ударило.
Старик не ответил и снова посмотрел вниз на каменоломню.
— Опасный камень, лежит друг на дружке, как гонтовая крыша, а от взрыва разлетается во все стороны что твоя шрапнель.
— А вон там, повыше, сказывают, скала крепкая, будто кремень. Один мужик в корчме говорил, что они до самой Сакошки собираются пробивать.
Старик так и взвился.
— Ты что мелешь, там же дорога и лес!
— И мы ему то же: дескать, дорога там и все такое, — а он, значит: ну и что, как раз под дорогой самый наилучший камень.
— Разговоры одни… дорогу нельзя портить, она и на военной карте обозначена, армия им не позволит.
— Вот и крестный Дюро то же говорили, а мужик свое заладил: дескать, все это давно запланировали и потому и армия тут никакой силы не имеет. А надо будет, так и лес заберут.
Оба они разом повернулись и поглядели вверх, на темнеющие на ясном небе очертания раскидистых сосен в самом соку — на пятом десятке.
Старик покачал головой.
— Жаль было б леса. Его еще мой дед сажали, когда лесником у Сенеши служили, берегли его тогда как зеницу ока.
«Силач Бамбула» и старик задумчиво смотрели на сосновый бор, на небо, и взгляды их уносились на обрывках клочковатых облаков.
Старик задумался.
— А где ж мы тогда пройдем на виноградники?
— Вот я и думаю — где же? — наморщил лоб мужик-здоровила и принялся рассуждать вслух: — Низом если идти через долину, то там крутизна большая, а по весне ручьи не перебрести, разве что Сакошку обходить, по-над Балоговым хутором.
— Ты что, какого черта переть туда, уж скорей через Галову яму, куда мы русским мины свозили, но там только пешему пройти, а с телегой нипочем не проедешь.
— А то сделают нам подвесную дорогу и будут нас на веревке тягать наверх. — И Матё ощерился, показав редкие зубы.
Но старик уже не слушал его, занятый собственными мыслями.
Черный Матё не рад был, что разволновал старика, и неловко попытался перевести разговор на другое.
— Эх, да чего там, батя, пускай у тех голова об этом болит, кому положено…
Вялые утешения Матё не успокоили старика.
— Надо председателя спросить, может, и сад наш заберут, он тоже на камне стоит.
Он оперся на грабли и задумался.
Из-под листьев выскочила тощая мышь, обежала кротовью кочку и юркнула в дыру под корнем дерева.
Старик медленными движениями, думая свое, разровнял кротовину и выгреб пятнистый зеленый камешек, положил его на ладонь и пальцем счистил землю.
Холодок от камня проник в него и по жилам поднялся к голове.
Да, сад стоит на камне. И Геленин дом стоит на камне. Само собой, он давно про это знает, но сейчас об этом думалось совершенно по-другому — прежде он относился к камню, как к давней и прочной основе, каменоломня была для него мертва и лишь изредка навевала воспоминания о юных годах — о белых козах, игре в лапту…
А камни он замечал лишь при сенокосе, тогда он собирал их и бросал в кучу на выгон; мягкий зеленый цвет камня был ему привычен.
На этот раз камешек на ладони озадачил его и лишил покоя.
Он смотрел на него с неприязнью, как на давнего друга, оказавшегося на склоне лет вероломным. Никогда не приходило ему в голову, что окажется не в ладу с камнем, что камень стронется с места и станет недругом…
Старик отбросил камешек в кусты и следующую кротовину разравнивал кое-как, слегка, словно боясь снова выковырнуть камень.
К председателю он не пошел и жене ничего не сказал, утешая себя тем, что все это пустые, на ветер, разговоры. Каких только слухов не было на его веку!
Он закинул грабли на чердак и вошел в свою мастерскую.
Утреннее солнце нагрело белые стены, верстак и пол, усыпанный стружками. На дворе переговаривались куры, ветер трепал развешенные перед окнами посконные полотенца, от лежавшей под самым окном пустой бочки доходил сюда винный дух.
В мастерской гудел заблудившийся шмель, садился на желтоватую деревянную миску, принимая ее, видимо, за огромный душистый цветок. Старик оглядел подсыхающее дерево, потрогал глиняные кувшинчики и принялся старательно выгребать из щелей стружки, как будто это было невесть как важно, а сам мыслями был далеко отсюда… В голове у него отдавалось эхо взрывов, затылком он чувствовал настырное апрельское солнышко, слышал смутные Матёвы речи. Прохаживаясь по старым скрипучим половицам, он прислушивался к их звукам, а снизу, из глубины, впервые ощутил враждебное дыхание пестрого зеленого камня.
Присев к окну, старик взял закругленный нож и ловким поворотом вынул кусок из недоконченной деревянной миски.
Снова раздался взрыв.
И еще один.
Испуганно закричал петух на дворе, задребезжало стекло, с шумом выпорхнули из зарослей воробьи, а ласточки умолкли. Его рука замерла, нож застрял в дереве, он наморщил лоб и поднял взгляд к окну. Все словно притихло, замерло, даже дерево под руками притаилось, один только шмель лениво жужжал в воздухе, и неслышно осыпался терновый цвет…
Откуда-то снизу примчался ветерок, но совсем не такой мягкий и приятный, как до этого, — он хлестал с яростным и зловещим свистом, как вода в дырявую лодку. И прилетел он оттуда, откуда старик никогда его не ждал, и постепенно, но прочно затоплял мастерскую посторонним холодом. Холодный запах каменной пыли напрочь прогнал извечно царивший здесь теплый аромат дерева…
Старик снова погрузил нож в дерево, но дрожащая, неверная рука замерла.
Он отложил нож и прислушался, глядя перед собой.
Снова расшумелись ласточки, неторопливо и понемногу возвращалась привычная прежняя тишина с деревом, ножами, часами, старой лампой… Может, и не было ничего, уговаривал он себя, все мне просто примерещилось, пока я дремал, уронив голову… Иллюзия придала ему сил, он снова увидел все кругом в прежнем виде.
Как бы то ни было, подумал он, ничего не поделаешь, придется сходить посмотреть.
Старик, надел куртку и отправился в путь.
Он представил себе косогор, выгон, а под ним зеленоватую скалу. Бессчетное число раз ходил он по ней, но никогда не замечал ее, не чувствовал под ногами. С детства привлекали его земля, глина, а камень был для него безжизненным трупом — чужой стихией. И вот все эти представления вдруг перевернуло. Камень ожил, отозвался, и ему предстоит убедиться в этом…
Ноги служили ему пока что отменно, и он довольно скоро дошел до каменной ямы.
Края ее сверху были черные, с потеками, давно отсюда никто не брал камень, последний раз — лет тридцать назад, в годы кризиса. До того тут было небольшое углубление, и община взялась добывать камень по нужде, чтобы дать кусок хлеба безработным. А потом — вскоре после того, как подорвался Барнабаш, — началась война, и каменоломня опустела…
Старик, осторожно ступая, вошел в карьер и сразу увидел гору свежего щебня, следы мужских сапог у прозрачных лужиц, оставшихся после талого снега. Он нагнулся, поднял зеленоватый обломок, взвесил его на ладони. Он был такой же, как тот, что попался ему утром в саду, от него исходила леденящая угроза. Старик отбросил камень на кучу и вздрогнул от резонанса.
За спиной послышались шаги.
— Ну что, отец, обозреваем, а?
С ним заговорил мужчина средних лет в коротком кожаном пальто, в руке он держал ветку дикого кизила, свидины. Старик досадливо повернулся и, глядя на камни, ответил:
— То-то и оно, обозреваю, как вы говорите. — Обведя взглядом весь карьер, он посмотрел на мужчину: — Услыхал грохот, вот и пришел поглядеть… Живу тут недалеко, вон там, наверху.
— Так что вам хорошо было слышно.
— Вот я и говорю. — Старик снова нагнулся, взял камешек. — Сказывают, собираетесь камень добывать. Правда это?
— Все так, отец, как говорят… Напылим тут вам немного и погрохаем.
— Это не страшно, к такому я смолоду привык, три фронта прошел. — И старик выпрямился.
— А по вас не скажешь, вы мужчина еще хоть куда.
Но старика лесть только раздражила, ему показалось, что незнакомец подлизывается, и он воспринял его как сообщника камня и чужака.
Мужчина махнул прутом, отшиб кончик и поглядел на старика, но, поняв выражение его лица, предпочел промолчать. Старик оглядывал стены карьера, испытующе всматривался в глиняные потеки на почерневшей скале, потом спросил:
— Начнете когда?
— Через месяц-полтора, как только пробы сделают. Тогда привезем машины и начнем добывать камень полным ходом. Может, уже в мае, — заключил незнакомец и самодовольно посмотрел вверх.
— В мае… значит. А как вам камень?
— Камень? Нормальный.
— Нормальный, говорите?
— А что… чем он вам не нравится?
— Тем и не нравится, приятель, что ненадежный, поглядите, как он лежит.
— Что лежит — не побежит, — спокойно возразил незнакомец. — Сверху, правда, малость нависает, но мы с ним справимся, сбросим, как старую крышу.
Старик сказал нарочито безразличным тоном:
— Тут одного минера, было дело, убило. Своими глазами видел. Лежал на моем дворе под сараем.
— Одной жизни ей, думаю, хватит, — сказал мужчина, поглядев на скальную стену, и махнул прутом. — Не бойтесь, когда мы за нее примемся, не будет успевать осыпаться. За два года раздолбаем до самого леса.
— А с дорогой что будет?
— Меньше всего беспокойтесь за дорогу, мы ее живо проложим, не зря имеем дело с камнем.
— Я не про ту, что от карьера пойдет, — объяснил старик, — а вон про ту, что верхом идет, над карьером.
— Через два года ее не будет. Старик даже вскрикнул:
— Как не будет, ведь ей сотни лет, приятель!
— А про нас, хоть бы и тысячу. Трест купил площадь по самый лес, и все, что наше, заберем и вывезем. Дорога, не дорога — нам все едино.
Старик от волнения даже порозовел.
— Как же так — все едино?! Ну, вам, может, оно и так, а вот нам — нет, и военным не все едино, дорога та на воинских картах отмечена, а такую дорогу нельзя убрать.
— Карта — не Священное писание. Инженер начертил, инженер возьмет резинку и сотрет — вот и вся недолга. На бумаге что угодно исправить можно. Куда хуже будет нам — ждет тут нас работа египетская… — Он отшиб еще кусок от прута. — Если б мы собирались брать камень только до дороги, то не стоило б и заводиться. Тут, отец, карьер будет не грошовый, а настоящий, для всего района.
Не слушая его, старик упрямо твердил:
— А деревня? Думаете, деревня разрешит вам? Испортить дорогу — это не ерунда! Как народ на виноградники ходить будет?
Мужчина махнул прутом.
— Пускай вас не заботит такое, отец. Одну дорогу порушим, другую сделаем, где вам захочется, там она и будет.
— Ну и где же? — вырвалось у старика, и он с отвращением посмотрел на молоденькие листики под ногами у мужчины.
Тот указал прутиком на сосновый бор.
— Секретарь обмолвился, будто где-то там, за лесом.
— За Галовой горой? Дак ведь там пеший еще так-сяк пройдет, а как же навоз, воду, кадки туда доставлять?
— Может, вам канатную дорогу повесят, и поедете туда, наверх… фуникуляри-фуникулери… с кадками и бочками… все гуртом.
Старик пронзил взглядом насмешника и отвернулся от него, как апостол от язычника. Пройдя через низкий ожинник, он выбрался на тропинку и, обернувшись, глянул на незнакомца, что ножом полоснул, после чего сплюнул и сказал:
— Дуролом! Сам не знает, что несет.
Занятый мыслями о пришельце и о карьере, брел он через выгон мимо зарослей боярышника с налитыми почками, обошел кругом каменоломню и оказался на дороге, которая вела на плоскогорье, а затем полого поднималась на травянистый кряж и по нему шла до самых виноградников, зеленеющих километрах в трех отсюда. Над пролегающей в ложбине дорогой зеленели черешни, посаженные еще вместе с покойным паном учителем…
Он присел на теплый валун и задумался. Вспомнились рассказы учителя о родном крае, о деревне, окрестностях и об этой дороге, проложенной здесь в давние века. Да, по ней проходили татары, турки, куруцы[45], императорское войско и гардисты… Она вся в рытвинах и колдобинах, глубоко опустившаяся в горный кряж — да и как ей было не опуститься, если столько времени ее протаптывали люди и звери, вымывала вода и выдували ветры…
Он поднялся и в задумчивости продолжал свой путь наверх, но вдруг, споткнувшись о колючую проволоку, остановился и сообразил, что не взял ключи от сторожки. Ах ты, старье безголовое, вот дурень-то, выругал он себя и, повернув назад, снова возвратился через несколько шагов к мыслям о камне. Может, не след было так уж близко принимать к сердцу все эти разговоры, мало ли чего наговорят? Поживем — увидим. И он сердито отшвыривал носком ботинка попадавшиеся на пути камешки.
Войдя во двор, он не окликнул, по обыкновению, собаку.
Старуха сидела в кухне у окна и шила что-то. Когда он вошел, она подняла на него васильковые глаза и молча наблюдала за его поисками в буфете.
— Ты что ищешь, Штевко? — мягко спросила она наконец.
— Да… свои ключи.
— Ключи? С каких же пор ты держишь там ключи? Ты их клал туда в войну, когда в мастерской жили русские.
Старик хлопнул себя по лбу.
— Ну, видала такое! Я уж совсем одурел.
— Вот и я дивлюсь. Куда ты собрался-то?
— Пойду наверх, надо кончить рядок по-над лугом.
— Ты же говорил, что листья в саду сгребешь.
— Сад подождет, первей виноградник, потому как, когда подсохнет, останется на смех тот рядок как заплатка.
Жена прошуршала полотном и замолкла.
Старик открыл было рот, но ничего не сказал и, обернувшись уже в дверях, спросил:
— Слыхала?
— Как не слыхать, не глухая.
— Да я не про взрывы… а что на деревне говорят про камень. Хотят выбрать камень по самый бор.
Она подняла глаза от шитья и добавила:
— Заодно и нас уберут отсюда.
— Кто тебе сказал?
— Заходила Бетка, молока принесла, вчера, мол, в комитете про то говорили.
Старик оборвал ее:
— Болтают только! Так ли оно на самом деле? Нас-то куда денут?
— Вроде хотят в твой дом переселить, кооператив освободит две комнаты.
— Ха! — Он презрительно оттопырил губы. — Небось две передние, с прогнившими половицами?!
— Почем я знаю которые? Люди так говорят.
— Геленка, а ты веришь им?
Жена кротко улыбнулась.
— Верю — не верю… почем я знаю? Только начнут люди болтать — и уж точно чего накаркают.
У старика вздулись жилы на лбу.
— Один дурень сбрехнет, а другие повторяют за ним, думают: врать — не мякину жевать, не подавишься.
И, резко отвернувшись, он ушел в мастерскую. Проходя под окном, заметил мимоходом:
— Сегодня, скорей всего, поздно вернусь.
Старуха вздохнула и снова взялась за шитье.
С сумой через плечо и с палкой в руке направился он в путь, на полого поднимавшийся холм. Шел легко и уверенно, на память зная удобную дорогу. Машинально обходил препятствия, погруженный в свои мысли и сердитый. Дорогу ему освещал какой-то необычный свет, да и сам воздух и почва были словно призрачные, из воспоминаний. Время как-то сбилось для него, и он не знал, полдень сейчас или еще утро.
И не давал покоя все тот же шмель, он гудел то тише, то сильнее, словно догонял его и снова отставал, и гудение его все больше походило на людской говор, на неразличимые голоса людей в комитете: они обсуждали дела о дороге под его ногами, о доме, где сейчас жил, и о двух передних комнатах в доме отца.
Выходит, дорогу эту перекопают, а с карты сотрут, уничтожат.
Дороги не станет, а что же будет? Он напрягал ум, силясь представить себе то, чего еще не было в действительности, но видел мысленным взором лишь какой-то мутный туман. Это было вне его понимания. Пустота. Ничто. Вместо твердой почвы под ногами и уверенности, которая несла его, как конь седока.
Запыхавшись, он остановился и повернулся лицом к деревне.
Внизу ему видна была дорога между двумя рядами молодой акации (отец жив был еще, когда спилили старые деревья), гонтовая крыша, широкая закопченная труба с жестяной покрышкой, деревенские гумна, ярко-зеленая трава на задах и желтовато-зеленые вербы над ручьем. Отсюда он видел каждое новое деревце, каждую новую планку в заборе, прогал в черепице, сорванной ветром или снегом. Отсюда даже ночью виден был светлый берег со старым тополем, на который он не раз забирался, охотясь за дремлющими совами. Отсюда он видел все, и костистую культю тополя, снизу увенчанную неистребимой зеленью…
Еще и этой весной он устоял.
Каждый год ждет старик, что тополь унесет половодьем, что в него ударит с быстрым течением бревно. А он? Как стоял, так и стоит.
Что его только удерживает?
Уж не ждет ли он, пока Штефан вернется «под родительский кров»?
Родительский кров никогда не был для него родным домом. Там властвовал жесткий отец с патриархальными замашками, который так и не понял, откуда в его роду взялась эта «паршивая овца», «иноверец» с зеленовато-светлыми глазами…
Штефану принадлежал там только лужок, тополь, река да высокий глинистый берег, за которым раскинулся широкий мир, куда ему хотелось убежать уже с малых лет. До сих пор все это видит он во сне. И что же — теперь вернуться туда? Оживить сны, как ожила скала? Вернуться в каменный дом, где бродит тень отца? Спуститься вниз, на самое дно засыпанного годами прошлого, снова взяться за ручки дверей, повернуть заржавелым ключом? Снова войти в дом, похожий на заросший диким виноградом склеп? Снова слушать многоголосие в коридоре, во дворе, кладовых и хлеву, слушать, как в пустоте пищат мыши, прислушиваться к завыванию ветра…
Камень предал его, он гонит его туда, вниз, — а ему-то казалось, что он расстался со всем, что было внизу, навсегда, — в дом, стен которого он ни за что не хотел больше видеть…
Снизу, от камня, на него веяло враждебным холодом.
Он повернулся и торопливо зашагал дальше.
По пути он рассматривал попадавшиеся ему камни и думал, что прежде никогда его столько тут не было. Шел он все быстрее и быстрее, умышленно шаркал ногами по земле, чтобы отвлечься, разогнать мрачные мысли о сгущавшихся над головой тучах.
Наконец он остановился возле родника, присел на корточки на широкую кладку и набрал в бутылку воды. Поднявшись, напился, неуверенно огляделся, словно деревья неузнаваемо переместились, и свернул к сторожке.
Отперев дверь, он повесил суму, на ощупь взял мотыгу (гладкое дерево рукояти приободрило его) и вышел, чтобы подровнять рядок виноградника у луга. Запахло иссеченной крапивой, запах этот напомнил ему ненасытных утят, и он совсем близко услышал строгий голос матери.
Опершись на мотыгу, он уставился на глиняную стену низкой сторожки. Стена смотрела на него, словно лицо старого друга, шершавая и рябоватая, но верная и надежная, и крыша сторожки показалась ему лихо надвинутой шляпой старого холостяка, из-под которой лицо это улыбалось ему хитро и задорно.
Сюда он приносил все, что выпадало на его долю, — радость и огорчения, — сюда приходил крестить и хоронить, здесь он прятался от горя и зла, здесь искал он надежный приют в минуты беспомощности, всякий раз когда настигал его наследственный недуг — меланхолия нелюдимости.
Нащупав в кармане ключ, он спустился в погреб и вынес, держа за краешек, кувшин исчерна-красного вина. Взял в сторожке стаканчик, налил себе и, опершись о стол локтями, сел и задумался.
Сперва к нему вернулись старые успокоительные мысли, но потом в эти мысли втерся, поднимаясь откуда-то снизу, зловещий шмелиный гуд. Он выходил вроде бы из-под стола и упрямо напоминал ему один случай в его жизни… Было это в зеленой комнате отца с коричневой кафельной печкой. В косых лучах заходящего солнца глаза отца казались татарскими. «Попомни мои слова: ты еще вернешься в этот дом, вернешься сюда, как глухой пес. Я судьбу твою наперед вижу, Штефан, от нее не уйдешь, вознесись ты хоть под самое небо. Рад будешь и этой крыше над головой, когда господь бог разобьет о твою башку ту глиняную скрипку».
Он смотрел в глаза отцу и невольно отмечал про себя, что у них цвет камня — зеленовато-холодный.
Гуд сменился шумом, словно рядом где-то шумела река, по которой плыли тяжелые стволы акаций. Они ударялись в старый дуплистый тополь, от каждого удара раздавался гулкий звон и в солнечной тишине взлетали мелкие лепестки тернового цвета…
Шум не унимался и только снова перешел в однообразный гул. Старик открыл глаза и беспомощно огляделся вокруг в поисках старых знакомых звуков и голосов. Но напрасно напрягал он слух, ни один не вернулся к нему, все рассеялись, бросили его, как Христовы ученики бросили своего учителя в тяжкую годину. И только пустая тишина, глубокая, темная и сиплая, окружала его. Над ним словно бы вырастали высокие горы из зеленого, цвета ящерицы, камня. Глохну, испуганно подумал старик и в отчаянии прислушался. — не донесется ли до него шорох мышей, листьев или птичий щебет… Нет, совсем ничего, и пустым-пусто, ни живой души, как в заколдованной стране. От страха потемнело в глазах, земля ушла из-под ног, потянуло плесенью, мышами, каменным холодом… Вечернее солнце смотрело на него лицом отца, он видел его торжествующую ухмылку, рука указывала на лавку в углу, где он, бывало, покорно сидел с ложечкой в зажатом кулаке…
— Ну нет, — отчаянно дернулся старик, и его рука непроизвольно, как у слепца, потянулась к кувшину, как к дверной ручке.
В этой напряженной тишине вдруг ни с того ни с сего распахнулась дверь, в сторожку ворвался пахнущий травой сквозняк и нежный щебет…
Лицо старика прояснилось, он улыбнулся с огромным облегчением. Холодные зеленые каменные горы вокруг стали ниже, превратились в покрытые зеленью холмы с шелковицами и черешнями, знакомые голоса незаметно стали возвращаться, приблизились и предметы.
Из темных углов на него смотрели успокаивающие синие глаза.
Он наливал себе и клонился вместе с солнцем все ниже.
Смеркалось, в дверь потянуло прохладой, и его пробрало ознобом до костей. С первой звездой он поднялся, прикрыл дверь и зажег свечку. Щебет исчез, не стало и аромата травы, в желтоватом полумраке снова загудел шмель, и вместо стакана старик почувствовал в руках холодный зеленый камень.
Он допил, торопливо запер сторожку и побрел домой.
* * *
Простудившись, он почти месяц хворал.
Тем временем возле каменоломни вырос деревянный барак, в самом карьере грохотали машины, над деревней громыхало и гудело, грузовые машины разогнали недавнюю тишину и у пастушьей хибары.
Старик напрасно закрывал двери и окна, шум и грохот проникали через толстые стены и двойные рамы. Ежедневно уши закладывало от взрывов, лязгали стальные цепы, дробящие камень. Старик хватался за дерево и глину, но работа не клеилась.
Он предпочитал выходить из дому поздно вечером, но и тогда его беспокоил ветер, приносивший запах каменной пыли и гари.
В конце сентября подрывники добрались к самой дороге.
Однажды после полудня в пастушьей хибаре появились гости: секретарь комитета, официальный оценщик и девица с подведенными глазами и черным блокнотом под мышкой. Они осмотрели комнаты, кладовую, сарай, двор и сеновал. Оценщик, высохший мужчина с запавшим ртом, все осматривал, ощупывал, хмыкал и вполголоса диктовал всклокоченной девице.
Старик сопровождал его, рассеянно отвечал на вопросы и при этом чувствовал себя как подсудимый, которого подозревают в неизвестных ему проступках.
С хмурым видом открыл он перед ними мастерскую.
Девица с прической из сахарной ваты взвизгнула и подбежала к расставленным на полках фигуркам, она мяукала от восторга, гладила деревянные миски, лошадок, дудочки, глиняные кувшинчики и поросят. Одну из мисок она до того расхвалила, что старик подарил ей.
Радость девицы немного взбодрила его, он сам отворил им калитку в сад.
Секретарь поднял яблоко из покрытой росой травы.
— Жалко деревьев, — сказал он и с аппетитом хрустнул яблоком.
— Заплатим, за все заплатим, — подчеркнул оценщик. — Денег столько получит, что до самой смерти не истратит. — Посмотрев на часы, он велел девице: — Пересчитайте деревья, но каждый вид в отдельности.
Девица перепрыгнула через кротовью кочку и крикнула:
— А это что за дерево?
Оценщик повернулся к секретарю:
— Что это за дерево, товарищ секретарь?
— Старая айва, грушевая, другой такой нет во всей округе… Прекрасное дерево, его больше всего будет жаль старику…
— Прибавим, — деловито бросил оценщик и носком ботинка копнул кучку прошлогодних листьев. Увидев забытый коричнево-желтый плод, поднял его, но, откусив, сморщился и отбросил прочь.
Они попрощались со стариком несколько виновато, девица пожелала ему много здоровья. Секретарь, глядя куда-то в небо, сказал:
— Всего вам наилучшего, батя, и не жалейте. Спокойно живите тут до весны. К весне подготовим вам жилье внизу, в деревне.
Оценщик добавил:
— Все вы получите, как положено, официальные бумаги. Решение пришлем через комитет, а деньги переведем через банк.
И они удалились. Старик вышел на галерею и сел на табурет перед дверью. Ноги у него странно обмякли, формы предметов и краски расплывались в глазах, он был разбит, словно неделю копал без передыха. Каменный холод поднимался от ног к самой голове, все вокруг него взывало о помощи, но у старика не было сил, все они без остатка ушли следом за посетителями за ворота. И словно перестали тикать часы, испокон века отмерявшие тут его время. Слова оценщика звучали для него как приговор в конце процесса, который он проиграл… Выселят, вырубят, сломают, увезут… Он видел мужиков, срывавших крышу, кирками врубавшихся в глиняные кирпичи, айва с треском скатилась по косогору, и ее бело-розовый пень смотрел на него мертвым насмешливым лицом отца: «Вот видишь, сын, исполнились мои слова — все это кара за твою гордыню. Бог захочет — и в горах достанет тебя половодьем. Еще и спасибо скажешь за ту крышу, под которой тебе было тесно».
Старик побледнел и пустым взглядом посмотрел в сад.
Из дому вышла старуха:
— Слыхал, Штевко, сказали, что до весны еще останемся.
— А ты и рада, — с горечью глянул он на нее.
— Радуюсь или нет, а и то слава богу, что не на зиму глядя выезжать отсюда придется. Сам знаешь, каково там, внизу…
— А каково там? Как на кладбище.
— Всюду хорошо, когда хорошо. А сколько уж нам осталось… где попало доживем.
Его поразили старухины покорные глаза. Она обрывала сухие листики с розмарина и продолжала:
— Скалу и ту всю в пыль обратят, не то что человека.
Ему вспомнился серебристый розмарин. Тогда, на сестриной свадьбе, он заявил отцу:
— Все, отец, я сюда вниз больше никогда не ворочусь. Мой дом наверху, там, на скале.
И вот же — и скала, оказывается, смертна.
Настанет день — ее разобьют, раздробят и рассыплют по дорогам, она превратится в голубоватую пыль, которая растворится в пустоте, в воздухе.
Старик переплел пальцы и почувствовал запах этой пыли, ее зловещий привкус гари. Он чувствовал ее глубоко в легких и в сердце, пыль давних дорог, пройденных им за всю жизнь, увидел эту пыль, как она блестела на траве, которую косил, на деревьях, которые он сажал.
Зачем он дожил до этого дня?
Старуха, словно читая его мысли, положила руку ему на плечо:
— Не казни себя, Штевко, уж коли скала поддалась — придется и нам.
Зима была неспокойная и своевольная. До рождества выпало много снега, потом все таяло, как на Матея[46], а в день Матея поднялась такая метель, что занесло и дорогу в лощине, ведущую на виноградник.
Старик с сумой на плече брел по запорошенному скользкому насту, в котором отражалось ясное морозное небо. Все звуки были металлически-звонкие, у воздуха был запах хрена со сметаной. Старик и думать забыл о камне, его захватило зрелище ослепительной белизны, воронья, неоглядных далей.
Радовал и здоровый морозный воздух. Остановившись, он расправил грудь и глубоко вздохнул. Недавняя слякоть затронула легкие, по ночам он часто просыпался, выходил на двор, натужно кашляя, и слушал чириканье капели под водостоком. Сырые ветры и оголившаяся земля пугали его близким предвестием весны. А ложась в постель, он слышал треск ломаемой крыши, удары кирок по стенам, звон стекол…
Снег вокруг ослепительно сверкал и искрился. Остановившись на сугробе, старик беспокойно ощупал суму, висевшую на боку.
Там лежало его сокровище — глиняная скрипка.
Он нес ее наверх на первую генеральную репетицию и заранее радовался ее голосу, как мать радуется крику первенца. Он то и дело ощупывал ее и весь порозовел от ходьбы и нетерпеливого ожидания, совсем забыв даже про неприятности со скалой, весело жмурился, глядя вдаль, и ощущал на лице дыхание бодрящей свежести…
И тут он споткнулся о колючую проволоку, и его сковала холодная пустота, открывшаяся впереди. Подрывники дошли до самой дороги, срубили старые черешни, и срезы их светились красноватым светом на голубом снегу. От деревьев остались только пни, а впереди, всего в нескольких шагах, чернела каменная пропасть.
Сияние в глазах старика угасло, зрачки расширились, нижняя губа странно отвисла. Сняв шапку, он долго стоял над пропастью…
Потом он отвернулся и пошел вдоль колючей проволоки, тяжело, словно преодолевал вьюгу. Сума отяжелела, сыпучий снег разъезжался под ногами, позабыл он и про скрипку, в мыслях были только красноватые пни да черная каменная пропасть.
Словно в забытьи вошел он в сторожку, затопил печь, дважды выронив спички.
В висках гулко пульсировала кровь, он вспотел и долго сушил одежду, повернувшись спиной к печке. От печного жара в каморке запахло сухим репейником, деревом и глиной. Старик расстегнул короткую куртку на меху, взял кувшин и пошел к дверцам в погреб, на пороге споткнулся и упал, в глазах у него потемнело. Поднявшись, он обнаружил, что не слышит потрескивания в печке — так заложило уши.
Обратно по лесенке он поднялся с трудом, затем налил раз и другой и жадно выпил. Напряжение внутри спало, но гул в ушах оставался.
Осторожно открыв суму, он достал глиняную скрипку цвета белого хлеба. Подсев с ней к окну, он не спеша начал натягивать ослабленные струны, натягивал их сперва не глядя, и лоб его покрылся испариной от волнения. Наконец он почувствовал под пальцами их нужную упругость и тронул струну, но ничего не услышал. Еще раз и еще — ничего. Он поднес скрипку к самому уху, чувствовал, как она вибрирует, но воспринимал лишь какой-то удаляющийся, замирающий жужжащий гуд.
Испуганно оглядевшись, он не увидел никакого шмеля.
Как это, как это возможно, чтоб он не услышал звука струны? Ведь дома он его слышал, слышал собственными ушами задолго до того, как появилась на свет сама скрипка. Он слышал ее каждую ночь, просыпаясь и лежа без сна. Он слышал звуки скрипки, когда бродил по окрестностям, когда копал глину, в дождь и в лунные ночи, — скрипка пела одну мелодию, услышанную им давным-давно в каменном проеме старинного итальянского дома… Мелодия эта являлась ему и во сне — в синей бархатной блузе, с загорелой шеей, — нашептывала ему наставления, таинственную абракадабру, и потом он целыми днями мучился, раздумывая над ее словами.
А сейчас, когда он наконец создал почти совершенный инструмент, он его не слышит — оглох, видимо.
От испуга его охватил озноб. Он смотрел на скрипку, трогал пальцами, с отчаянием смотрел то на струны, то на пламя в печке, но не слышал ни скрипки, ни треска поленьев.
Не слышал ничего, кроме зловещего жужжащего гуда.
Поздно, поздно, шептал себе старик, все пропало. Я оглох, начисто оглох, повторял он, и губы его дрожали в лихорадке. Он сел за стол, бездумно уперся локтями, и все его существо превратилось в настороженное ухо… Нет… нет, это наверняка временная глухота, завтра, послезавтра слух прояснится. Видать, у него это от тяжелой ходьбы по снегу, от того, что он вспотел, а вот обсохнет, прогреется как следует, и все наладится.
Открыв печку, он набил ее сухими полешками из акации. Вскоре в каморке стало жарко, будто на дворе стоял август. Тяжелый запах сухих трав одурманивал старика сильней, чем вино.
Из-под стола, из подземной глубины, скала светилась зеленым враждебным сиянием, но старик уже не замечал его, голова его падала на грудь, он заснул, и снилось ему, что он слышит свою глиняную скрипочку.
Он спал, а из приоткрытого рта свешивалась тонкая, как паутина, нитка слюны.
Проснулся он оттого, что кто-то тряс его за плечо. Сонно зачмокав, он неловко вытер губы и ошарашенно посмотрел на улыбающегося Матё.
— Я увидал след ваш, — объяснял Матё, размахивая руками-лопатами, — дай, думаю, погляжу, чего вы тут поделываете, а вы… вона… спите.
— Ты что говоришь, Матё?
Матё поразился:
— Вы что же, батя, не слышите меня?
— Да выходит, так оно… того…
Матё закричал:
— Говорю — не слышите меня, что ли?
— Заложило мне уши, черт знает от чего.
— Это от перемены погоды, у меня тоже два дня в ушах звон стоял.
Старик поерзал и предложил:
— Присаживайся да выпей.
Дрожащей рукой он налил в стакан, который Матё с готовностью подставил. Подняв стакан, Матё пожелал ему доброго здоровья.
— Пускай оно вам еще послужит.
Старик кивнул, Матё выпил и похвалил:
— Доброе вино, приберегите его на переезд, приду вам помогу.
Старик машинально кивнул и снова налил. Матё снова выпил и продолжал, размахивая ручищами:
— Так вот оно, батя, добрались до вас, дорогу нам испортили, и все-то им мало. Крушат камень, аж жуть берет, скажу я вам, не пройдет им это, не кончится добром… Скала еще возьмет себе покойника… Верно вам говорю — без человеческой жизни она не обойдется.
Матё таращил глазищи и стучал пальцем по столу, но старик не слышал его и не понимал, потирая себе суставами пальцев наморщенный лоб, словно силясь что-то припомнить. Как ни напрягал он слух, ничего не слышал, и только издали к нему приближался шмелиный гуд, а снизу в тело проникал каменный холод и замораживал сердце. В глазах мельтешило, словно шел снег не то осыпался терновый цвет. Ему показалось, что он дома, лежит на спине, кругом ночь, и в ночной тишине раздается капель, и шумит половодье, и в тополь бухают проплывающие бревна… бум… бум…
Дом отзывается гулом на удары, дребезжит стекло, из красноватого пня черешни выплывает укорительное отцово лицо: «Что оно такое, эта твоя свобода? Все мы рождаемся слугами, слугами и помрем, одна у нас госпожа-повелительница — смерть».
Видения менялись, и старик был бессилен сладить с ними. Балогов хутор с собаками-волками, сестра под фатой, Гелена в трауре (будто синее небо, окутанное чернотой), железные ворота (это когда его хотели силком оженить), белый тополь и почерневший Барнабаш с меловыми белесыми глазами.
В эти видения непонятным образом проникали шевелящиеся Матёвы толстые губы.
— Батя, а помните, как мы им наверх мины тащили? И кирками заледенелую землю колупали, аж искры летели, а немцы по нам… тра-та-та-та-та!
Матё и незнакомец из каменоломни говорили разом, но старик слышал только слова незнакомца. Он стоял перед ним, будто создатель-судия, читал по толстой книге всю его жизнь и говорил все громче, ибо из дальней дали к нему устремлялся шмелиный гуд, да такой сильный, что старик чувствовал, как под ним дрожит земля.
Потом в каменном проеме старинного дома появилась она в бархатной блузе, вытянула руку, и в отрадной, приятной тишине раздался один-единственный, глубокий тон.
Нота «соль», слетевшая со струны глиняной скрипки.
Он медленно опускался на стол, словно невидимая рука мягко, но твердо прижимала его голову к столу.
Напрасно Матё тормошил его за плечо.
— Пойдем, батя, вдвоем вниз, вместе веселее будет.
Старик поднял голову, но она тут же снова упала на стол. Он уткнулся в него лицом и обхватил руками лоб, словно защищая свой сон — плеск дождя и тихий, озабоченный голос: «Штевко, ты чего не спишь?»
— Ты что сказал? Что-о? — отозвался он из своего сна.
— Говорю, домой пошли!
Старик вскочил, мутные глаза его блуждали…
— Домой? Домой нас понесут, Матё.
Шаря по столу в поисках кувшина, он бормотал:
— Пей, Матё, выпей за мое… здоровье… потому как все… все еще… все это…
Голова его снова стала клониться.
Матё нагнулся к старику:
— Не буду больше, батя, с меня хватит. Вона ночь на дворе, темнота, а дорога трудная.
Старик не ответил, распрямил ладони, вытянув пальцы, и глубоко дышал.
Утром его нашли в каменоломне.
Он лежал на зеленоватой скале, скорчившись, волосы его были покрыты инеем. Неподалеку от него валялась сума с куском замерзшего хлеба. Мужики выбрались из каменоломни и пошли по его следам.
Они шли вдоль занесенной снегом колючей проволоки, прямо по старой дороге. По телефону вызвали врача. Врач приехал, осмотрел его и сказал:
— Хорошая смерть.
Перевод со словацкого И. Ивановой.
Милан Цайс ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ
Когда ты пришел в мир,
ты плакал, а все радовались.
Живи так, чтобы все плакали,
когда ты будешь покидать его.
КонфуцийМоросит. Моросит всю вторую половину дня. Он медленно шагает по мокрому тротуару, глубоко засунув руки в карманы. Еле бредет. Не торопится. Ему некуда торопиться. Равнодушно скользит взглядом по блестящим плитам тротуара и по облупившимся стенам домов, мельком смотрит на витрины, поднимает глаза на идущих мимо прохожих. И вновь его взгляд, как будто утомленный однообразием, возвращается к поблескивающим плитам. Он раздражен и издерган. Ему чего-то недостает, но он не мог бы точно определить, чего именно. Понимает, что это бесцельное шатание по улицам — пустая трата времени, но ему все равно.
Дойдя до набережной, он сядет на пятнадцатый и поедет домой. Поужинает, и отец спросит (как, впрочем, и каждый вечер): «Ну, что в школе?» Он, как всегда, ответит: «Да все то же, ничего нового». А мама скажет: «Наш мальчик такой странный, другие хоть спортом занимаются, а этот…» «Да ладно тебе», — буркнет он и какое-то время поскучает у телевизора, потом пойдет к себе в комнату (где спит вместе с четырнадцатилетней сестрой), будет какое-то время читать и переругиваться с ней, потому что она захочет покурить, а он не позволит, как и вчера, и позавчера вечером («вот врежу пару раз!»), и закурит сам, погасит свет и будет глядеть в темноту и мечтать об иной, куда лучшей жизни, чем его теперешняя. Там он всегда бывает не самим собой, а другим, особенным, в точности таким, как герой последнего фильма. В конце концов он уснет и станет именно тем, кем хотел — на целых семь или восемь часов.
Потом он просыпается, встает, спешит в школу, чувствуя, как у него с каждым шагом портится настроение (все время одно и то же, ничего нового!), а там распинается перед ребятами о своей девушке (для которой придумывает имя, потому что девушки у него нет), позволяет собой восхищаться, но самому себе вовсе не кажется героем, ему неприятно, он понимает, что надо бы и взаправду найти какую-нибудь девушку. Он возвращается домой, где его никто не ждет (все на работе и приходят только вечером). Одиночества он не переносит, а потому спешит на улицу. Его тянет в толчею, к витринам, кинотеатрам, он идет слушать шум трамваев и машин, крики и обрывки разговоров. Там ему все так же скверно, но это лучше, чем остаться с ребятами и слушать их болтовню о девочках, которые у них были, есть и когда-нибудь будут.
Вот и сегодня, как и каждый день, он шагает к набережной, чтобы… На краю тротуара стоит старушка с белой палкой. Она переминается с ноги на ногу и постукивает палкой по бетонному бордюру, делает несколько маленьких шажков и боязливо останавливается. Он подходит к старушке, берет ее за руку и переводит на другую сторону; не дожидаясь благодарности, опять засовывает руки в карманы и бредет дальше, к набережной.
Дождь перестает, но вокруг по-прежнему сумрачно; свет дня постепенно меркнет, зажигаются первые фонари, а по улицам расползаются все удлиняющиеся тени. Он выходит на набережную, и сразу в уши врывается пронзительный крик и зов на помощь. Почудилось, думает он, потом настораживается: пронзительный крик слышен снова и снова. Он бежит на крик, его гонит любопытство, хочется знать, что случилось, и ничего не упустить. Сбегает по ступенькам к воде. Видит кучку людей, человек десять, слышит возбужденные голоса и среди них различает тот, пронзительный: «Боже, да помогите же кто-нибудь! Ведь утонет! Павличек… Павличек!»
Он улавливает отчаяние в голосе и видит искаженное ужасом женское лицо. «Где у вас глаза-то были, глупая вы женщина?» — ругается человек в черной шляпе. «Как такое в голову могло прийти! Оставить ребенка играть на лодках. В такое время! Вечером! Да вас посадить надо!» — возмущается кто-то. «Милиция, милиция! Ну конечно, вот так всегда. Где надо, там их нет!» — кричит какой-то бородач рядом.
Он решается; хотя нет, за него решают эти обезумевшие и полные отчаяния глаза с их мольбой о помощи. Ему даже не приходит в голову удивиться, отчего все эти люди вокруг только кричат и ничего не делают. Секунда — и он уже без плаща, а дальше — холод, и дрожь, и плеск воды. Метрах в десяти от него взметнулись руки, показалась голова и опять руки. Закрыв глаза, он делает рывок за рывком вперед. Чувствует, как тяжело плыть, брюки и свитер уже пропитались водой; кажется, что вместо рук куски свинца. Осталось три взмаха, два, один — и вот он держит ребенка за волосы. Теперь плывет медленно. Ощущает во рту вкус грязной воды. И понимает, что вряд ли одолеет оставшиеся несколько метров; силы на исходе, и его охватывает ужас. Сейчас он, пожалуй, не столько плывет, сколько просто держится на воде. Уже совсем темно; до его сознания не доходят крики и подбадривающие возгласы с берега. Знает лишь, что должен доплыть, и судорожно сжимает в руке мокрую прядь волос.
Достигнув наконец берега, он силится еще и приподнять малыша. Ему протягивают руку, а у него нет даже сил за нее ухватиться… Но вот ноги его нащупывают твердые плиты набережной. Ему что-то говорят, но он не слышит, да и стоит ли вслушиваться? Пытается отыскать свой плащ. Тот заляпан отпечатками грязных подошв, но он все же надевает его. Возле уха шелестит: «Я уже было снял пальто, но ты меня опередил!»
А потом до него и вовсе не доходит ничего, кроме неясного шума. Медленно, держась за перила, он поднимается по лестнице, минует зевак; ему холодно, с брюк стекает вода. Садится в пятнадцатый трамвай и закрывает глаза от усталости.
Но его тут же начинают тормошить. «Эй, парень, кто платить-то будет? Дух святой?» Он, не глядя, лезет в карман и вытаскивает проездной, весь размокший; слышен крик водителя: «Вот-вот, напьется, вываляется в луже, а в трамвае потом свинарник!»
Опять закрывает глаза и уже не видит, как все оборачиваются в его сторону. Его знобит, к горлу подступает дурнота. Он выходит из трамвая, бредет домой, шатаясь, поднимается по лестнице, звонит — и последнее, что еще до него доходит, это отцовская затрещина и слова: «Погляди-ка, до чего хорош! Даже стоять не может. Черт побери, ну уж на этот раз я ему устрою».
Но ему на все плевать, оглушает пронизывающая боль в висках, и он куда-то проваливается, летит в головокружительную бездну.
Перевод с чешского И. Безруковой.
Марина Череткова-Галлова ПРИГОВОР
К горлу подкатывает то ли смех, то ли плач, охваченная непонятной радостью, не владея собой, она кидается к окну, отодвигает занавеску, но машины уже и след простыл, вот и хорошо, уже уехала, сгинула в темной глубине улицы, сумрак поглотил и машину, и Камила, вот и хорошо, говорит себе Анка. А ведь всего минуту назад она проводила его до калитки и сказала не без упрека: «Отчего ты так на меня смотришь, иль не нравится что?» Он точно ждал этих слов, люблю, вырвалось у него, смотреть на тебя, напротив, очень ты мне нравишься, оттого и смотрю, нравится, как ловко ты со всем управляешься, любы мне и руки твои — никогда они не знают покоя. И, схватив ее за руки, стал целовать их, но тут она вырвалась и вернулась в дом сама не своя. И вот стоит теперь у окна и заново все переживает, и эти его слова, так ее разбередившие, отгоняет их от себя и тешится ими, как только женщины умеют тешиться ласковыми мужскими словами, душа ее зазывает их в укромный свой уголок, как зазвала она его самого сегодня на ужин. Поужинай с нами, если домой не торопишься, вырвалось у нее невольно, когда он подвез ее к дому. Она была благодарна ему уже за то, что он с такой готовностью съездил в аптеку за лекарством для малыша, а уж отвозить ее домой и вовсе был не обязан, да она и не просила, сам вызвался. Ну и пускай, по крайней мере, собственными глазами увидел, каково живется разведенной женщине с тремя детьми, через стенку с бывшим мужем-пьяницей, занимающим вторую половину дома, несладко живется, а тут еще эти тридцатикилометровые, изо дня в день, поездки на работу, где у нее, у мастера, под началом три десятка баб.
Дорогой их захватил дождь, зарядил не на шутку, дворники не успевали сгонять со стекол воду, пришлось остановиться среди полей у рощи, что это там пахло — прелые прошлогодние листья, невидимые глазу оливы?
Пройдемся немного, сдавленным голосом предложил он и подал ей руку, но держался скромно, только помогал продираться сквозь мокрые заросли, дождь все не кончался, а она беззаботно смеялась, уж и не упомнит в себе такой беззаботности, он промок до нитки, шел и поглядывал на нее задумчиво, а вот она потом совершенно бездумно его пригласила, безо всякого умысла, ведь до самого того дня, когда ему довелось забежать к ним в молочный цех, они почти не замечали друг друга, общались лишь постольку, поскольку того требовала работа. Камил пришел на их предприятие недавно, молодого инженера назначили заместителем начальника производства, она же работала мастером уже не один год. Непонятно, как оно получилось, кто из них был рассеянней в тот момент, когда Камил, столкнувшись с нею, выбил у нее из-под мышки пачку отчетных ведомостей; женщины закатились хохотом, а толстуха Йолана, фасовщица на кефире, крикнула ей: вы от него держитесь подальше, ох, шустрый малый! Бумаги разлетелись по мокрым каменным плитам, у Анки екнуло сердце, хоть и старалась она казаться равнодушной, ничего, мол, такого не произошло, а ведь произошло — руки их встретились, и оба застыли, ничего страшного, тараторила она, все равно у меня там убытки подсчитаны неправильно, зайду к завлабораторией, восстановлю по ее записям, ничего страшного, повторяла, уже поднимаясь по лестнице, а он шел за нею по пятам, потом вдруг пригласил на кофе, и с тех пор они не упускали случая перекинуться словом-другим, вместе ходили перекусить, и на работе уже стали поговаривать…
— Мама, — вдруг захныкал малыш, и Анка отскочила от окна, словно ее уличили в чем-то дурном, кинулась щупать сыну головку, лоб; весь потный, но температуры нет, хоть бы он стал наконец здоровеньким, хоть бы перестала она наконец бояться за него.
— Цыпленочек ты мой болезный! — Анка обняла его в приливе нежности и прижала к себе, горячо надеясь, что прикосновение невинного тельца утихомирит отчаянно стучащее сердце, и удивляясь, откуда у этого слабого существа такая власть над несчастной матерью.
Оба вздрогнули от грохота тяжелых шагов, это он, всполошилась Анка, бывший муж. До сих пор еще нет решения о разделе имущества, вот и расхаживает по всему дому.
— Я тебе покажу, отобью у тебя охоту водить сюда мужиков! — заорал он пьяным голосом, а потом стал обзывать и так и сяк, частенько дозволял себе этак вот напиваться и распускать язык. А две недели назад, когда она была на работе, напоил ее младшенького, с тех пор ребенок болеет и никак не оправится.
— Добром ведь просила, не ходи сюда, слышишь, уйди! — зло шепчет Анка.
— Но-но! — кипит негодованием муж.
Анка прикрывает собой сына и глухо, надрывно шипит:
— Не ходи сюда, просила ведь.
У мужа от пьяной обиды дух перехватывает, не находит, что и сказать, да и язык не ворочается, трудно ему шевелить мозгами, трудно говорить, но он кое-как собирается с силами и, прислонившись к стене, кричит:
— Так мне, стало быть, ход заказан, мне нельзя, а чужим мужикам можно, мне — пошел вон, а каким-то сукиным сынам с машиной — пожалте!
Конца и края этому не видать, затосковала Анка, прикусила язык и силком — сколько раз уже так бывало! — выдворила мужа и замкнула дверь.
Когда она наконец прилегла к малышу, то знала уже, что не заснет; слушала первых петухов, затуманенными глазами смотрела в окно, где уже занимался рассвет, и гнала, гнала от себя воспоминания, ведь что бы ни вспомнилось, все причиняло нестерпимую боль, ох, как болит душа, повторяла она, казалось, хоть малая толика бед должна бы забыться, ан нет, все живо в ней, все проходит перед глазами, включая и сегодняшний ужин с Камилом, все минувшее до самого того неопределенного дня в будущем, о котором она знала, что это будет черный день, вот только неизвестно, который именно и когда наступит.
Была у нее подружка Бета, нескладная, плечи как вешалка, зато уж заводная! Учились в одном классе, а летом вместе отбывали производственную практику на опытной станции, кое-что там зарабатывали, с ребятами заигрывали. В то лето ее подруга первой заприметила нового зоотехника Милана и сразу бегом к Анке, стрижет по сторонам косыми своими глазами. Удивляюсь я тебе, говорит, такой красавчик — а ты и не замечаешь. Анка не поймет, что к чему, Бета хохочет, а зоотехник легок на помине — уже тут как тут, уже несет им портфели, уже Анка соглашается с ним, что с одиннадцатилеткой в жизни особо не развернешься, если уж институт ей не светит, то пусть хотя бы подает заявление в училище молочной промышленности, люди со средним специальным образованием везде нарасхват. Это точно, это точно, кивает головой Бета, она сразу загорелась, пойдем вместе, подруги мы или нет, хотя что я говорю, куда ты денешься от своего Лойзы! Анка залилась краской. Лойза наведывался к ее брату Мишо почитай каждый день, уже прижился в их доме, что верно, то верно, родители и глазом бы не моргнули, выскочи за него Анка сразу же со школьной скамьи, но как смеет Бета так вот распускать язык! Анка потом отчитала ее, но с Беты как с гуся вода, знай себе заливается. У тебя уже есть Лойза, оставь зоотехника мне, говорят, он закладывает, я возьму его в руки, а у тебя кишка тонка.
Неужто пьет, удивилась Анка, а Бета в ответ показала пальцем вперед — Милан как раз повернул в сторону закусочной, к Шурманке; со временем из него получится заправский алкаш, заявляет Бета, а Анка непонятно почему встает на его защиту. Еще и в армии не отслужил, а уже в стакан заглядывает, гнет свое всезнающая Бета, в стакан и на баб, но если уж Анке так хочется, если она готова променять на него Лойзу, пусть берет его себе, а что — ты ему больше приглянулась, у тебя ноги не такие здоровенные, как у меня, помнишь, Пишта сказал: тумбы, мол, у меня как у рояля, но я ему тоже не спустила. Верно, говорю, а все потому, что я из благородной семьи, не как некоторые, рояль у нас стоит в передней, вот я у него эти тумбы и позаимствовала, не каждый может себе такое позволить!
Бета была хохотушкой, скучать не давала. Анке она обещала уломать родителей, если те встанут на дыбы — ни в какое училище, мол, не отпустим. Много на себя берешь, развеселилась и Анка, однажды ей довелось видеть, как Бетина мать таскала дочь за волосы, взгляни на себя, кричала, сущее пугало огородное, а туда же — шутки над парнями шуткует, дошуткуешься — висеть тебе на материной шее вековухой! Анка тогда вступилась за подругу, зря вы так, говорила, вот увидите, Бета найдет себе мужа, да такого, какой нам всем и не снился, у нее ума хватает, она разборчива, не то что я, наша мама частенько сказывает — не умею я выбирать, оттого и хлебну в жизни горя.
Обе они вертели парнями как хотели, но Милан безропотно все сносил, как пришитый таскал за ними портфели, а когда пришла пора идти в армию, сказал Анке: забирают меня, приходи на проводы. Легко ему говорить… Отец обещал ей ноги переломать, у зоотехника за душой ни гроша, а у них в доме шестеро детей, Анка самая младшая, а своевольничает больше других, ни о каких проводах пусть и не заикается!
Всю ночь она проплакала, насквозь подушку промочила, Милан так и не дождался ее, но, по слухам, горевать не горевал, упился, ну а какая пьяному печаль! Анка не хотела этому верить, поссорилась с отцом-матерью, но уж насчет училища настояла на своем, сели они наконец с Бетой в поезд, навалились на Бетины пироги, Анка все не могла успокоиться, только и думают, как бы нас первому встречному сбыть, но не те нынче времена, замуж абы выйти уже не выходят, да и вообще жить по-старому не годится.
Услыхала их худая женщина с землистым лицом, и не понравились ей речи попутчиц. На такие слова они скоры, потому как молоды и глупы. Девчат надо бы отдавать в школы, где учат умению жить, но таких школ на всем этом разнесчастном свете нет, вот женщинам и приходится потом всю жизнь бедовать.
Бета пустилась с соседкой в долгий спор, может, говорила она, ни одна из них в такую школу и не попала бы, ведь и в училище их взяли только потому, что оно в Чехии, а там полагается принимать какой-то процент словаков, и надо эти проценты набрать. А уж в школу, где учат, как жить, туда без блата не попадешь, ни-ни, запальчиво доказывала Бета. Да что там, им и так считай повезло. Вот закончат свое молочное училище, устроятся в чистую лабораторию, весь день в белом халате, пробирки, приборы, графики всякие — чем плохо? — тараторила Бета, выкладывая очередной свой козырь, и под конец заявила — никакая школа умению жить не научит, надо бы учиться жить, пока ты в семье, да кто будет учить, родители? А если они сами на такое не горазды?
Бета чем-то расположила к себе эту изможденную женщину, разговоров хватило на всю дорогу, а на прощание попутчица растолковала им, как доехать троллейбусом, и вот они уже в городе, который прежде видели только на снимках да на карте. Ничего не бойся, не потеряемся, твердила Бета, так оно и было, не потерялись, успели к ночи и в общежитие устроиться. Анка заняла постель у окна и полшкафчика у двери, на шкафчике стояло что-то похожее на поседевший от пыли репродуктор, у каждой была отдельная тумбочка, а еще у каждой из них была теперь своя особая тоска и свои печали, потому что Бета в общежитии стала совсем другой. Анке тоже в первую ночь грезилась строгая мама, а Бета — та вовсе глаз не сомкнула.
Из них двоих она привыкала гораздо тяжелее, все ждала писем, однажды примчалась с конвертом — вот, лежало у дежурной, ага, это твой солдат тебе пишет, по адресу вижу, читай, счастливая ты, тоскует у солдатика сердечко, а вот обо мне и вспомнить некому.
Она вся поникла, села на постель прямо в плаще; мочи нет, все это не по мне, я тут не выдержу, креплюсь изо всех сил, но больше нет моего терпения, уеду я отсюда, Анка.
Вид у нее был самый разнесчастный, Анка глазам своим не верила — всего месяц прошел, а Бету как подменили, жалко ей стало некрасивую свою подругу, возьми, протянула она письмо, читай, нечему завидовать, там ни слова о любви. Милан только и пишет, что о своем солдатском житье, ничего у нас с ним нет и не будет!
Бета недоверчиво сует нос в исписанный листок; вот видишь, и нечего переживать, пишет, потому что хочет получать письма, давай вместе ответим, Бета, не дури, не забивай себе голову напраслиной!
Она утаила от Беты, что сама-то была разочарована этим первым письмом; вечером они дружно собрались в кино, а в субботу и воскресенье строили планы, как проведут дома праздники, сначала рождество, потом Новый год, Бета сразу ожила, а Анка подлаживалась под нее: я Лойзу не забыла, только с Лойзой буду танцевать.
Как решила, так и сделала, танцевала с Лойзой, но что она видит? Бета оживленно говорит о чем-то с новым учителем, раскраснелась вся. Учитель на одну ногу прихрамывает, лицо в прыщах, но ее подругу это, видать, не смущает, так и стелется перед ним, а учителю такое внимание приятно, все тогда на вечере это заметили, с того дня Бете уже никто больше не нужен, даже Анка, и так это далеко зашло, что она и учебу бросила, вышла за своего учителя и частенько потом откровенничала перед подругой — влюблена, мол, в него по уши, у него золотая душа, да и он мною дорожит, а как там твой?
Разговаривала она теперь с Анкой чуть свысока, подражала мужниной учительской интонации, только о нем и говорила, немудрено, что дружба их постепенно угасала.
После свадьбы Бета с учителем переехали в город, получили там кооперативную квартиру, а Бета прекрасное место в «Милэксе», у Анки же все кругом разладилось, а началось со старшей сестры, я вижу, ты за Лойзу особо не держишься, сказала та, похоже, убиваться не будешь, если узнаешь, что теперь я с ним встречаюсь, а вскоре сестра поступила в школу учительницей, вот так-то, Йозефину с той поры в селе величали не иначе как пани учительница, домашние гордились ею, что ж, Лойза парень неплохой, сказал отец, пусть живет у нас.
Чудно́, думала Анка, после всех этих событий в сердце у нее словно что-то оборвалось, лишилась она покоя и стало ей не до веселья, свою сестру-учительницу избегала, будто та и не родная ей вовсе. Анке казалось, что ее предали, сначала Бета, потом сестра — нет, это уже слишком, а тут еще этот предатель Лойза. Милан тоже — о любви ни словечка, о чем угодно писал, но только не об их будущем, а она маялась стыдом, когда мать настырно заглядывала ей в глаза и спрашивала: а ты-то как же? Ее начинало колотить от раздражения, и сам собою рвался крик: оставьте меня в покое! Лойза с отцом резался в карты, вид у него был невозмутимый, а Анку душила бессильная злость, ему все равно, думалось ей, кем он мне доводится, мужем ли, зятем, потом спохватывалась и внушала себе — ведь он сначала меня выбрал и мог бы стать моим мужем, да я сама не захотела.
Вот в таком настроении закончила Анка училище, получила место на формовке сыров; никак она к своему цеху не могла привыкнуть — работали там одни пожилые женщины, оборудование давно отжило свой век, в училище им вбивали в головы современную технологию, а здесь все напоминало чуть ли не времена Марии Терезии. А сырость, холод! О какой производительности тут можно говорить, допотопная технология, порченый сыр стал уже их маркой, гигиены никакой, как можно терпеть такое! — прорабатывала она мастера. А тот отделывался смешками, это, мол, от нас не зависит, с этим ты, девка, обращайся к тем, наверху, а лучше угомонись, наша лавочка и так скоро прикроется, потому как пора ей на слом.
Тоскливо было Анке, но даже душу излить некому, хотела заехать к Бете, узнать, не найдется ли ей место в «Милэксе», а тут оно и случилось, в одну из сред, под белым халатом у нее был надет кожушок, но и он не спасал от холода, надвигался конец месяца, заведующий составлял отчет, производственные потери — такой-то процент, брак не снижается, столько-то процентов списано в кооператив на корм скоту. Такой же конец месяца, как и предыдущие, Анку вконец одолели думы и тоска, и, когда вдруг ее вызвали к проходной, ничто не дрогнуло в ней от предчувствия, а там ждал ее Милан, пришел показаться в гражданском. Не ждала меня? — спросил, переступая с ноги на ногу. Оказалось, он уже работает, там же, на опытной станции, место неплохое, да и видеться они смогут часто. А она как язык проглотила, молча смотрела на него, знакомого и в то же время чужого, — когда он вот так топтался перед нею, улыбался чужой улыбкой и размахивал руками, она хмурилась от напряжения, которое наваливалось на нее, и чувствовала, как зрачки у нее сводит в крохотную точку.
Милан остался ждать ее до конца смены; от него несло спиртным, но, может, это он для храбрости, говорила себе Анка, дорогой оба больше молчали, в селе пахло дымом из печных труб, дома была одна мать, кого это ты к нам ведешь, спросила, приставив к глазам ладонь и прикрывая ею неприветливо нахмуренный лоб. Сама угощай, бросила она Анке и отошла к плите. Анка поставила на стол бутылку, не без умысла поставила, а Милан знай себе опрокидывает стопку за стопкой, пока не потянулась в дом вся семья, отец с Мишо, а за ними и будущие супруги, сестра-учительница с Лойзой. Тут-то и началось, кого я вижу, наконец-то молодой зятек вернулся, с места в карьер брякнул отец. Анка скрылась в боковушку, мать ее выставила, девке и впрямь пора замуж, сама выбрала такого, куда хотела, туда и залетела, заодно три свадьбы сыграем, Мишо как раз приспичило жениться, да и этим двоим уже припекает, а младшей, упрямой головушке, самое время в хомут. Анка и опомниться не успела, а Милан не говорил ни да, ни нет, только ухмылялся на такой оборот дела, захомутали и его, во всем этом самым нестерпимым для Анки было то, что не он первый заговорил о женитьбе.
Свадьбы справили в январе, сразу три молодые пары вышли из ворот, было на что поглядеть. Забили здоровенного борова, поскручивали курам головы, благоухала сдоба, ваниль, дух забивало от трескучего мороза, Милан к концу веселья накачался, на все и всем отвечал глухими смешками, но люди старались не замечать, лишь свекровь на прощание обронила, что из ее сына муж будет никудышный, печься о других не в его нраве.
А дальше не успела Анка опомниться, как уже ездила в «Милэкс», тридцать километров автобусом, уже носила под сердцем первенца, жили, правда, пока у ее родителей, но уже ставили совсем рядом собственный дом. Анкины родные считали, что зять построится без труда, была бы охота, помощниками и нужными знакомствами он не обделен, хватит из материного горшка есть, сказала мать, из своего вкуснее, захотите — будет и у вас дом.
Это правда, вяло соглашалась Анка, плохо переносила она первые месяцы беременности, но что это в сравнении с муками, которые она принимала, поджидая, когда же вернется домой муженек и возьмется за дела на стройке. Мать выразительно поглядывала на стенные ходики и подливала масла в огонь: меня на мякине не проведешь, талдычила дочери, мне он своими байками голову не задурит — дескать, материал достает, а как с нужными людьми не выпить? Откуда-то мать прознала, что зять попал в дурную компанию, где не брезгуют темными махинациями, куда втянули и его, не дай бог попадутся, то первым и подставят. И женщины среди них есть, скотницы с фермы, паленку им носят, старые бесстыдницы, дочь моя, видела б ты их!
Ничего, вот родится сын, внушала себе Анка, и все войдет в свою колею, может, это его образумит, потянет домой, к ребенку.
Она была уже на седьмом месяце, и вот как-то раз мать настояла пойти и привести его.
Стоял мороз, скользко было, ох, как ей было скользко, когда она шла вот так, незваным гостем, покорилась, безвольная от усталости, материной воле, хоть и не верила ей, надеялась никого не застать, однако ж застали, а что тут такого, огрызался хозяин, я как раз свинью заколол, имею право кого хочу позвать на убоину!
А она почти ничего не воспринимала, лишь когда больно заворочался ребенок, попросила: пойдем домой, Милан, пойдем со мной! Но он встал из-за стола, вздернул подбородок и отрезал: не пойду, знаю, кто тебя подначил. Тут вмешалась мать, подняла крик, всем досталось, особливо женщинам и хозяину дома, а зятя своего возлюбленного взашей вытолкала из-за стола и погнала домой как скотину какую, он потом упился вусмерть и с тех пор звал ее не иначе как старой хрычовкой, ничто его больше не могло смягчить, даже рождение сына. Не было у них в семье ни любви, ни достатка, через полгода Анка вернулась на работу, уже мастером, Бета презрительно смерила ее своим долгим косым, а все ж метким взглядом. Поздравляю, сказала. Анка вся сжалась и ничего не ответила. За ребенком приглядывала мать, стройка не подвигалась, мать частенько не скрывала своего недовольства, только вас нам и не хватало на шею, не в деньгах дело, хоть и столуетесь у нас, а в том, что дальше с тобой будет. Хоть вы меня не мучайте, мама, отвечала истерзанная Анка, я уж и так наказана. Куда хотела, туда и залетела, твердила мать, и что ты в нем нашла? Я уже наказана, повторяет Анка, но у матери нет сердца, это еще что, говорит, главное-то впереди. Анка отталкивает тарелку с горячим супом, поворачивает к безжалостной матери побелевшее, страдальческое лицо, типун вам на язык, кричит, я ведь жду второго ребенка!
Мать так и шлепнулась на табуретку, заломила руки. Кабы хоть дом был свой, хоть пустой, да готовый, да ведь не будет этого до самого Судного дня!
Второй сын родился раньше срока, Милановы родители носу не казали, а тут и ее домашние отказались пособлять на стройке, скажи спасибо, что детей твоих нянчу, заявила мать, она злобствовала и не таила своей ненависти к зятю.
На мясопуст Милан устроил пожар — уснул на кухне с бутылкой у ног и сигаретой в руке, после этого они и разошлись, отец зятька своего чуть не задушил, а того на другой день поминай как звали, так вот и наступил конец всему, и плохому, и хорошему, долго потом Анка бегала по врачам с обожженным, перенесшим испуг ребенком, долго приводили в порядок обгоревшую, с выбитыми окнами кухню, Анка в беспамятстве рыдала, на коленях молила брата с отцом помочь ей с этой злосчастной стройкой, не ради него прошу, ради невинных детей своих.
Ни жива ни мертва ходила Анка все эти дни, недели, месяцы. Бета, уже заведующая лабораторией, глядела на нее свысока, детей у нее не было, зато была теперь усадьба с виноградником — кооперативную квартиру они давно поменяли на особняк. Как только дом подведут под крышу — сразу переселюсь, твердила себе Анка. Тем временем Милана выгнали с работы, раскрылись-таки темные дела, хорошо еще, что не посадили, судачили люди, а свекровь во всем винила ее, и в том, что Милан сбежал от них. Бета тоже так считала. Каждая лепит себе мужа по собственному разумению, ты вот, не то что я, училище закончила, а сравни нашу жизнь, тебе она ставит одни двойки, помнишь ту тощую попутчицу с поезда? Права она была. Мне вот от жизни перепадают сплошь пятерки, своему мужу я принесла счастье, а ты и собственных детей делаешь несчастными.
Такой она стала, Бета. Недобрая, злая, обиженно думала Анка, был канун весны, сердце страдало и ныло, тосковало по чем-то смутном, по ласке, что ли, господи, сна, и того лишилась, петушиный крик врывается в рассвет и в ее дрему, тревожную от сонных видений и телесной маяты, ночные сумерки теперь долго не наступают, ночи коротки, отчего нет ей покоя, оттого ли, что нет любви? Да-да, все оттого, может, кому и дано жить в покое без любви, но только не ей, и пускай Бета не винит ее, не изничтожает своими презрительными косыми взглядами, куда ни кинь, нет ей жизни без любви, потому и мужу своему она не принесла счастья, и детей лишила отца. А теперь ничего уж не попишешь.
Так говорила она себе в канун одной из весен, ничего не поделаешь, говорила, но не хватало ей воли стойко нести свой крест, все ж пыталась вспомнить что-нибудь отрадное в своей жизни, хоть один светлый день, и не могла, совсем уж себя истерзала, как вдруг случилось ей как раз в ту пору встретиться с зоотехником Феро Дубаи, он теперь заступил на место ее мужа, раз-другой они уже виделись, однажды при Феро у нее выспрашивали про те мужнины махинации, она готова была провалиться со стыда, почему именно я такого сподобилась, почему аккурат моего мужа выгнали, когда же меня наконец оставят в покое, да, но ведь это и мой позор, и не только его и мой, но и наших детей, ведь он им отец родной.
А Феро Дубаи вежливо поздоровался и сказал: совсем вы себя извели — такая молодая и красивая женщина, а так убиваетесь. Анка невольно рассмеялась; хотя день шел уже на убыль, но вдруг повеяло весенней свежестью, и Анка ощутила ее, да еще как ощутила! Холодок скользнул к ней за ворот, огладил, будто ласковыми руками, плечи, что же это, подумала она и зарделась, улыбка осветила ей лицо, разжались губы, и она совсем по-женски взглянула на Дубаи. Они разговорились о рабочих его делах, о своих заботах и так дошли до ее дома, где Феро и остался. Остался в тот день, заявился и в другой, а потом уже приходил званым и желанным, как она ни боролась с собой — ведь совсем еще мальчишка, что у них может быть общего? Феро был родом из соседнего села, отслужил армию, холостой, единственный сын у родителей, в лице и голосе его сквозила заботливость, и на Анку это действовало, невелика беда, успокаивала она себя, зато он поможет ей, человека иной раз тянет на доброе дело, от этого он порой чувствует себя куда счастливей, чем от чего другого. Феро оставлял теперь у нее свою робу, а ей было без него тоскливо, проведенные порознь минуты тянулись как вечность, она уже не спрашивала себя, что у них общего, махнула рукой и на толки, кружившие по селу, сожалела лишь об одном — что любовь, которую она столько ждала, пришла с таким опозданием.
Феро покрасил ей дом изнутри, помог со всякими доделками, вот он, счастливый мой день, сказала она себе наконец, и у меня теперь есть свой счастливый день. Смеялась над материными причитаниями: совсем ты, дочь, лишилась ума, сколько можно подбирать то, что на дороге валяется, опомнись, у тебя двое детей и ты еще мужнина жена!
Тут она и опомнилась, радость как рукой сняло, а ведь и впрямь она еще не разведена, муж живет у своей матери, ничем, правда, о себе не напоминает, но как все-таки им с Феро быть дальше?
На развод она подала по весне, время шло, лес пестрел шишками и грибами, желтели лисички и багровели сыроежки, когда Анка сказала себе: вот я и влипла, только этого мне не хватало, всякую осторожность потеряла от любви. Наконец отважилась признаться Феро. Долго стояла, подпирая дверной косяк, глядя на насвистывающего Феро, насвистывает себе что-то, как беззаботный мальчишка, но сейчас от ее слов эту его беззаботность как рукой снимет. Надо поговорить, чуть раздраженным и срывающимся голосом выдавила она из себя; дело нешуточное, а он знай себе посвистывает. Анка оттолкнулась от косяка, вдруг почувствовав и решимость, и стыд, ее вина, хотя в такой вине всегда замешаны двое, виновата, да еще и влюблена…
На другой день Феро не пришел, а когда объявился, то это был уже не Феро, сидел, прикуривая одну сигарету от другой, она выставила ради него на стол можжевеловку, из спиртного он предпочитал ее, но сейчас и можжевеловка ему не по вкусу, отхлебывает прямо из горлышка, пить не хочется, но он пьет, молчит, весь поник, тянет его уйти, Анка насквозь его видит, так что ты об этом думаешь, спрашивает его несмело, а ничего, вскидывается Феро, за меня думают мои родичи, только совсем не то, чего б тебе хотелось, можешь не сомневаться!
При чем тут твои родичи? — только и успела спросить Анка, ответа уже не дождалась, Феро как ветром сдуло.
Потом заявилась к ней его мать, получай по заслугам, с горькой усмешкой сказала себе Анка, уже выпроваживая старуху за дверь. Она-де их сына окрутила, стыда у нее нет, вокруг невест хоть отбавляй, так нет же, заарканила его замужняя, с двумя-то детьми, и что ж это делается на белом свете, срамотища, да и только. И не надейся, не возьмет тебя Феро, заявила старая Дубайка в один из дней, заполненных ожиданием, Анка тогда еще надеялась, что он вернется и скажет: оставим все как было, она изболелась вся от этого ожидания, казнилась, что позволяет так легко от себя отделаться, ждет — и только, а он так и не показался, зато пришла старуха, уселась в кухне под окном, поудобнее устроилась на лавке, навалилась всем телом и локтями на дубовый стол. Анка сидела напротив и видела, как просвечивают у ней уши, дурнота подступала к горлу, лицо и язык одеревенели, старуха выговорилась и ушла, не дождавшись от нее ни словечка, ушла, озадаченная и струхнувшая, другая на месте Анки не упустила бы случая по крайности хоть душу на ней отвести, и что этот дурачок в такой нашел, на что польстился, простофиля мой? Ушла, да и вернулась, дважды, растревоженная, возвращалась и садилась на лавку под окном, почем зря честила сына, раз уж сразу признался в отцовстве, кто его знает, что выкинет дальше и как все это со временем обернется.
По третьему разу старуха уже с порога заявила Анке, сидевшей истуканом: вот тебе последнее мое слово — не хочу брать грех на душу, так и быть, пришлю его сюда, может, все останется у вас как о ту пору, когда ты еще над ним власть имела, я, чтоб ты знала, не желаю зла ни тебе, ни дитяти.
Феро объявился в тот же вечер, но ей было худо как никогда, всю выворачивало наизнанку, вот бы заодно и душу вытряхнуло, думалось ей, хоть бы покой наступил, Феро напугался, как заяц, носил ей воду стакан за стаканом, беспомощно чертыхался, наконец посадил к себе на колени, убаюкивая, прижал к себе, потом вдруг заявил: давай бросим все и уедем в Прагу. При чем тут Прага, недоумевала она, ведь Феро зоотехник, а она по молочному делу, что им делать в Праге? Бросить почти готовый дом, а дети, двое на руках да третий на подхвате? Что ты, Феро! Не сразу до нее дошло, что на селе ему глаза исколят разведенной женой, будет он стыдиться ее, а как дошло, тотчас охватило отвращение к самой себе, а заодно и к Феро, хорошо, сказала она, можешь ехать в свою Прагу, только без меня. В Феро взыграло мужское самолюбие. Ты еще пожалеешь об этом, еще как пожалеешь, но Анка не жалела, вот и конец любви, говорила она себе, да еще и удивлялась, что называла это любовью.
Когда их с Миланом разводили, женщина-судья пыталась их помирить, ведь у вас, убеждала она, скоро будет ребенок. Милан в ответ загоготал, а Анка бледнела и краснела.
Через полтора месяца у нее родился третий сын, а пока она лежала в больнице, Милан въехал в дом, заявив, что имеет полное право, занял полдома и устроился в МТС, ему пошли навстречу как человеку в беде, ведь нет большей беды, чем беспутная жена. Он встретил ее пьяной бранью, вел себя как хозяин, а мать ее долго и слышать о ней не хотела, потом-таки пришла, жаль детей, сказала. Так они и жили год за годом, незаметно вырос старший сын, но к родительскому дому привязан не был и уехал учиться в Братиславу, жил в общежитии, домой наведывался не часто, так что, мама, заявил однажды, давай не будем выяснять отношения, замнем для ясности, такой он был, ее первенец, в чем-то походил на Милана, зато младшенький очень ее любил; отца он не знал, Феро жил в Праге, на пятом году женился, с сыном за все это время виделся лишь однажды, в парке у карусели, сразу размяк, ну уж нет, сказала Анка, оставь ребенка в покое, что было, забыть не могу. Да и как тут забыть, Бета и та напоминает, нет у них с учителем детей, а все ж не упустит случая позадирать перед Анкой нос, случись на работе какой недочет, к которому была бы причастна и Анка, сам господь бог не спас бы ее. Про Бету шептались, что тем, кто вхож в ее райские кущи, все сходит с рук, и кое-что в тех кущах происходит тайком от учителя, но в открытую об этом никто и пикнуть не смел, а вот мне, думалось Анке, так и суждено прожить с клеймом, и не снимет его с меня ни работа, ни квалификация.
Считай, десять годов прожили они с бывшим мужем под одной крышей до того дня, как Камил подвез ее к дому, а она зазвала его на ужин…
— Мама, угадай, что я рисую?
— Не знаю, — в который раз терпеливо отвечает она.
Малыш рисовал, расположившись со своими красками по всей кухонной лавке и столу, все удивлялся — как это ты, мама, не можешь угадать, снова и снова требовал внимания к своему художеству.
— Не знаю, не знаю, — повторяла ушедшая в свои мысли Анка, замешивая кислое тесто.
Мальчик, размахивая зажатым в руке красным карандашом, ликовал:
— Сдаешься, мама? Раз не угадала, сдавайся! Сдавайся!
На это его «сдавайся» она словно проснулась, сердце вздрогнуло, вдруг заколотилось, а ведь нет у нее прав на будущее, от будущего она должна отказаться, остаться при настоящем, оставить все как есть, только это, и ничего больше.
Она заставила себя рассмеяться, так надо, ради ребенка надо быть веселой:
— Ничего не поделаешь, сдаюсь!
Сдаюсь, хворенький ты мой цыпленочек. Перед ней все вдруг как молнией высветило: только так и не иначе, больше никакой любви, никаких надежд, приговорить себя к настоящему, к тому, что есть, жить как жила, с наболевшим, мертвым своим сердцем, а с надеждами на будущее покончить раз и навсегда. И сделать это надо сейчас, сию минуту, стоит только заколебаться, и она уже с собой не совладает, пойдет на попятную, отыщет всякие отговорки, лазейки, оправдания, а их так легко найти, стоит лишь сказать себе: разве нет у меня права хоть на крупицу счастья? Есть, но смотря какой ценой. Если за счет другого, то это уже не счастье.
— Дружочек, солнышко мое, — проговорила Анка поспешно, — ты себе рисуй, а я сейчас вернусь.
Она причесалась, сменила брюки на платье — второпях, не заглянув в зеркало, не подкрасив губ.
— Солнышко, мне надо забежать в «Едноту», к тете Шурманке, хочу позвонить на работу, отпроситься, чтобы побыть с тобой, а ты веди себя хорошо, обещаешь? — Голос у нее срывался, дыхание перехватывало, кровь схлынула с лица, как у человека, услышавшего смертный свой приговор.
В «Едноте» было полно народу, она продиралась к прилавку, от собственной решимости в ней росла страдальческая радость, а откуда-то из глубины, со дна сердца, испарялись последние капли сожаления. Ее решение было пока неясным, но оно было, и обратно ход заказан. Вот ее уже поймали цепкие глаза Шурманки, той самой, которой доводилось бывать свидетелем ее мытарств, частенько она прятала от нее Милана, но, случалось, и Анке сочувствовала.
Она пробралась к нише с телефоном, дрожащим пальцем набрала свой рабочий номер; только бы Камил не подошел, но нет, по голосу узнала Эмиля, заведующего, ты на меня будешь злиться, зачастила она, не давая ему опомниться, знаю, завтра утром моя смена, знаю, знаю, в субботу, мне надо было выйти в субботу и воскресенье, но я не выйду, нет, ничего особенного, малышу лучше, Эмиль, ты слышишь, дело в том, что у нас с Камилом в эти дни совпадают смены, но это невозможно, найди мне замену.
Она выпалила это хрипя и задыхаясь и сразу ощутила невыносимую боль, она гнездилась везде, начиная с корней волос, боль причинял даже собственный голос и слетающие с губ слова, можно ли это пережить, думала она и умоляла Эмиля: никогда не ставь меня в одну смену с Камилом.
На трубке остались следы от вспотевшей ладони, с минуту она смотрела, как они исчезают, потом отвернулась; бедолага, подумала Шурманка, не зря, значит, про них с инженером болтают.
Анка пробивала себе путь в толчее, даже не пытаясь скрыть волнения, ни с кем не заговаривала, никого не замечала, шлепала по грязи, дождь лил уже вовсю, как тогда, сказала себе Анка, она увязала в болоте и все замедляла шаг, времени у ней хоть отбавляй, теперь времени хватит до самой смерти.
Позванивал велосипед, она не слышала, велосипедист проехал, обдав ее выходное платье грязью, а, плевать, домой вернулась насквозь промокшая, жаль, совсем из головы вылетело, надо было сыну хоть шоколадку купить.
Бывший муж сидел на ступеньках прямо под дождем. Три кое-как залитые цементом ступеньки вели к его входу; что это он тут сидит, или успел спозаранку набраться? Еще вчера она прошла бы мимо молча, отведя взгляд, а то, чего доброго, зацепит, еще вчера, но не сегодня. На секунду замедлила шаг да и стала, а что сказать — не нашлась, давно уже открывала при нем рот, только чтоб ответить на брань, не один уже год только и огрызаются друг на друга. На нем была грязная рубаха, смятый воротник обнажал заросший затылок, до чего же опустился, живет как в хлеву, а ведь это отец двух моих сыновей. На нее вдруг нахлынула слабость, колени подкосились, и она села ступенькой ниже, чтоб не видеть его глаз, пойду поесть приготовлю, сказала не своим голосом, сама своего голоса не узнала, так он вдруг осел и охрип. Если хочешь, приходи обедать.
Бывший муж глядел ей вслед открыв рот, в низких дождевых тучах купалось солнце, надо было ему ванну приготовить, подумалось ей, пусть бы смыл с себя вековую грязь. Она чувствовала себя смертельно уставшей, эх, поплакать бы сейчас всласть, веки жгло, щипало, но слез не было, ни единой слезинки.
Милан наконец опомнился, что-то забормотал, а она встала, отряхивая платье, не слушая его — еще наслушается, до того наслушается, что голова будет идти кругом.
Зайдя на кухню, глянула, как тут малыш, потом на часы — времени хватит, подумалось ей, — хватит и на обед, и на жизнь, к которой она себя приговорила, к жизни без Камила, к жизни как она есть.
Перевод со словацкого Л. Ермиловой.
Франтишек Чечетка ЗНАТОКИ
Вацлав Стах, заведующий отделением банка, перевез мать из деревни к себе на городскую квартиру. Тем самым и нравственный долг исполнен, рассуждал он, и, кроме того, наконец-то будет возможность вволю насладиться любимым занятием — коллекционированием марок.
— Я взял к себе мать вовсе не для того, чтобы козырять сыновними чувствами, — втолковывал он знакомым. — Просто хочется, чтобы она на склоне лет пожила в свое удовольствие. В сельхозкооперативе обойдутся без нее.
А своему приятелю Гошеку, такому же завзятому филателисту, увлекавшемуся сверх того еще и графологией, Стах говорил:
— Только так, по моим понятиям, дети должны относиться к родителям. Потому что… да вы сами знаете, как тяжело старому человеку жить одному. А женщине в особенности.
Гошек слушал с пониманием — ведь несколько лет назад он похоронил преданную жену, с тех пор жил один и упорно искал помощницу по хозяйству, которая, как он подчеркивал в своих объявлениях, регулярно публикуя их в еженедельнике «Голос юга», станет равноправным членом его скромной семьи. А пока жил один и со всей возможной тщательностью изучал письма, приходившие в ответ на его объявления. Пользуясь своими познаниями в графологии, загадки которой волновали его не меньше, чем филателия, Гошек изучал и за все время не смог отобрать ни одного письма, почерк которого характеризовал бы претендентку с наилучшей стороны.
Как-то раз, когда друзья рассматривали блоки Боснии и Герцеговины, Гошек сказал:
— Представьте, я ни разу не получил ответа, где бы почерк не указывал на определенный человеческий недостаток. Я могу продемонстрировать вам особенности письма, на основании которого вы распознаете в одном случае эгоизм, в другом легкомыслие, в третьем равнодушие — скверная черта, не правда ли? — а то и безалаберность. Судите сами, может ли безалаберная женщина быть хорошей хозяйкой? Надеюсь, вы меня понимаете? В общем, как ни печально, я опять ни на ком не остановился.
Стаха его заботы не очень-то занимали. Он утвердительно кивал, но думал о собственном доме. Его жена, активная общественница, с приездом матери приобрела прекрасную помощницу.
— У нее такой характер, — Стах имел в виду свою мать, — у нее такой характер, милый Гошек, что она совершенно не позволяет себе отдыхать. Она из породы женщин, не выносящих праздности. Мать из деревни, понимаете? А там люди не привыкли бездельничать.
Между тем супруга Стаха весьма хитроумно использовала доброту его матери, о чем тот и не подозревал. Пани Стахова сообразила, что достаточно лишь упомянуть при матери о накопившихся делах — ничего не требуя, боже упаси, разве у нее есть на это право? — лишь упомянуть, и мать все поймет и все сделает.
Вот какую игру придумала молодая хозяйка. Перед тем как уйти на службу, она, взяв детей за руки и обернувшись в дверях, с грустью глядела на гору грязной посуды и говорила: «Ах, дети, вот бы к вам сегодня пришел добрый волшебник… Как бишь его зовут, Яроушек?.. Ах да, домовой. Давайте пригласим его… Хотя нет, зачем приглашать? Он наверняка притаился где-нибудь в цветочком горшке и подглядывает… Было бы замечательно, если б он вымыл посуду, правда, дети? И достирал грязное белье, которое осталось в ванной…
Двери захлопываются, слышится топот ног, удаляющийся смех.
Вечером пани Стахова возвращается с работы, ведя за руки детей. «Дети, посмотрите, добрый волшебник нас услышал и вымыл тарелки… Ах, он даже постирал… Ну что вы, мамочка, я, конечно, знаю, что это все вы… Я пошутила, вы очень добры, огромное спасибо!»
После ужина Стахова сидит у телевизора, мамочка чинит белье, а хозяин ненадолго отрывается от своих марок, чтобы помочь другу составить очередное объявление для «Голоса юга». Они вычеркивают одни слова, заменяют другими, более точными и выразительными, и наконец, завершив свой труд, со спокойной совестью возвращаются к излюбленным занятиям. А объявление пан Гошек завтра же пошлет в редакцию, чтобы оно попало в очередную рубрику «Знакомства».
— Вы не поверите, старина, как точно я определяю по почерку не только характер человека, но и его душевное состояние — печаль из-за одиночества и разочарований, боль несбывшихся надежд. Не раз мне приходило в голову, что, читая эти письма, я проживаю чужие жизни. Вы меня понимаете, дружище?
Стаха в этот момент занимала неизвестная ему прежде зубцовка купленных вчера марок. Тем не менее он поддержал разговор.
— Дорогой Гошек, — сказал он, — наши взгляды во многом совпадают, но сейчас, вы меня извините, ваши слова не находят отклика в моей душе. Все дело в том, что вы лишены того счастья, которое судьба послала мне. У меня спокойная, упорядоченная жизнь, согретая присутствием матери. А ваша мать, дорогой друг, насколько я помню, умерла вскоре после того, как вы закончили учебу. Простите, если я неделикатно касаюсь ваших чувств, но, понимаете, вам не хватает именно того, чем я, к примеру, не обижен. Я не поэт, но меня чрезвычайно волнуют стихи, прославляющие мать. У меня самого нет слов, могу только сказать: мама для моей семьи — это все.
Гошек не был психологом, не то легко заметил бы, что у его друга неспокойно на душе. Стаха озадачила сцена, которую ему довелось наблюдать нынче утром.
Сегодня пани Стахова затеяла свою каждодневную игру с той разницей, что на этот раз она обращалась не к старичку домовому, а к старушке волшебнице.
— Ну вот, дети, — сказала она, стоя в дверях и обводя взглядом кухню, — я говорила с доброй старушкой волшебницей, и она обещала выполнить три мои желания. Я бы хотела… я бы хотела… чтобы она натерла полы… Это первое желание. Теперь второе… Ага, вот… чтоб она повесила занавески. А третье желание… папа, ну подскажи! Хотя у тебя в голове одни марки. Ладно уж, сама придумаю… Пусть она выбьет во дворе ковры из спальни. До свиданья, мамочка. Непременно отдохните, да и прогуляться не мешает.
К вечеру ковры были выбиты, занавески повешены, полы натерты.
— Посмотрите, дети, — воскликнула пани Стахова еще с порога, благоговейно сложив руки, — добрая фея исполнила все наши желания. — И с притворной строгостью: — Зачем вы это сделали, мамочка? Ведь я пошутила, у меня и в мыслях не было требовать с вас такую работу!
А взгляд Стаха упал на крохотное существо, которое поеживалось у окна, грея спину возле батареи парового отопления, на увитые сетью жилок материнские руки, пряди седых волос, полузакрытые глаза.
«Ну и дрянь, — думает Стах, глядя уже на жену, — ну и дрянь», — думает, но не произносит ни слова, потому что, если сказать такое вслух, случится самое страшное — марки будут лежать нетронутыми, вечера с паном Гошеком пропадут в парах горячей воды для мытья посуды, а пыль из ковров, которую сегодня выбила добрая волшебница, заслонит проблему неизвестной ему зубцовки марок. «Дрянь», — думает он и пытается осмыслить только что увиденное. Крохотное существо, сеть жилок на руках, пряди седых волос, полузакрытые глаза… Стареет мать, размышляет он, а все же бодра и деятельна, как прежде. Недаром говорят: отними у деревенского жителя работу — отнимешь смысл жизни. Нет, он на это не пойдет, не может пойти.
Стало быть, проблема решена.
Стах зачерпнул полную ложку супа, и мать, которая этот суп варила, заметила в его глазах удовольствие. Она ждала сыновней улыбки и тоже улыбнулась. Этот день был прожит ею не напрасно.
— …итак, милый Стах, — сказал Гошек, — остается ждать результатов наших страданий. Утром я отнес объявление, и мне обещали завтра непременно его напечатать.
— Очень хорошо, — кивнул Стах.
На следующий день объявление действительно появилось в газете, «…ищу одинокую женщину, равноправного члена семьи и помощницу в домашнем хозяйстве…»
Через неделю Гошек принес письмо и сразу стал читать. Стах слушал и разглядывал редкую серию марок острова Маврикий, воспроизведенную в специальном филателистическом выпуске.
«Уважаемый пан Гошек, — говорилось в письме, — я прочитала ваше объявление, которое было напечатано на прошлой неделе в газете «Голос юга». Сама я вдова, живу у сына. Он обещал, что мне у него будет как в родном доме. Да понимаем мы про родной дом по-разному. Я уже в этом убедилась. Надеюсь, вы-то меня поймете. Я работала в кооперативе, доила коров, жила одиноко. Но и здесь, получается, я совсем одна. Сын и сноха вспоминают обо мне, только когда назначают работу на весь день. Прямо-таки назначают, хотя как-то по-тарабарски, обиняками, а мне это оскорбительно. Стараются деликатность соблюсти, но ведь шила в мешке не утаишь. В общем, не вижу я здесь того, что люди называют сыновней любовью».
Гошек сделал паузу, разгладил тыльной стороной ладони лист, исписанный мелкими буковками, и стал читать дальше.
«Надеюсь, вы находитесь в добром здравии, чего я вам желаю. А если что решите насчет моего письма, думаю, вас не подведу. Что нужно старому человеку? Знать, что даешь другому толику счастья и покоя. И толику покоя для себя самого».
Вооружившись лупой, Гошек стал рассматривать письмо.
— Нет, дорогой Стах, с этим почерком мне не справиться, никак не справиться.
И отложил лупу.
Оторвавшись от брошюры о марках острова Маврикий и убрав пинцет, Стах сплел пыльцы и положил руки на стол, выжидая продолжения.
— Ничего не получается, милый Стах. Я пытался несколько раз. Давно мне не встречался такой почерк. Да, в этих линиях, точнее, в этих разрозненных буквах, иногда неровных, — вся женщина. Но боже мой, как она одинока! Все, что она пишет, — правда. Но каков сын! Что вы о нем скажете?
— Этот малый в лучшем случае человек двоедушный, — ответил Стах. — Думаю, слабоволен, возможно, не без хитрецы, умеет играть на человеческих струнах. Покажите-ка мне письмо, Гошек. Хочу взглянуть на него.
Гошек молча протянул Стаху письмо, на сей раз до странности неохотно, словно отдавал в чужие руки редкий экземпляр из коллекции графологических образцов.
Стах взял письмо и, едва взглянув на него, безошибочно узнал почерк — писала его мать, старушка волшебница из сказки, добрый дух дома, крохотное существо, обитающее в закутке. И тут он вдруг вспомнил, непонятно как, но удалось вспомнить, что в старых сказках домовые обыкновенно жили объедками с хозяйского стола.
Перевод с чешского Е. Гальпериной.
Вера Швенкова ЖАЖДА
Ольга листала журнал мод. Но в нем не было ничего, что смягчало бы изнурительный полуденный зной. Правда, журнал внушал надежду, что после лета наступит осень, но сейчас невозможно было себе это представить.
Несколько раз она пыталась дозвониться до Петера, но его секретарша неизменно ледяным тоном уведомляла, что «пана инженера нет на месте». «Ничего не поделаешь», — подумала Ольга и впервые в жизни в полной мере прочувствовала емкость этих слов: ничего нельзя поделать, нет сил даже двинуться, шевельнуть пальцем, словно ее разом парализовало.
Ольга вспомнила, как впервые увидела Петера: он стоял посреди вестибюля с портфелем под мышкой и переброшенным через руку плащом. Мысли бежали по привычному руслу: зарубежные гости, немцы, пробудут неделю, получат одноместные номера на северной стороне, прекрасный вид, но скверное отопление, благо одни мужчины, перебьются… А тот, что стоит посредине, не похож на иностранца. Лет сорок, легкий намек на брюшко и лысину, и все же мальчишка, беспокойные руки, а взгляд неожиданно серьезный. Он вытащил из портфеля какие-то бумаги, устремился к ней, словно приподнимаясь на цыпочках, и она услышала его голос:
— Тут для нас забронированы номера…
Она улыбнулась ему.
Позже он говорил:
— У тебя необыкновенная улыбка, Оленька. Когда ты мне тогда улыбнулась, я сразу подумал, что мы сможем сблизиться…
С тех пор пролетело шесть лет. Боже мой, шесть лет. И ничего не изменилось. Разве что его сын, тогда девятилетний мальчик, стал юношей. Шесть лет обещаний — «не бойся, поженимся, только вот разведусь, вот только закончу эту работу, потерпи, так сразу не получается». Месяц назад она ему сказала, что ждет ребенка. С тех пор его всегда не оказывалось на месте. «Пана инженера нет».
У нее пересохло горло. Никогда в жизни не испытывала она такой жажды, как в последние дни. Под стойкой была начатая бутылка минеральной воды, выдохшейся и теплой. Попросить бы пана Матушку сходить за свежей…
Пан Матушка спал, сидя в кресле, повернутом к окну — будто в полудреме любуется красотами природы. Белая фуражка сползла набок, сизый нос и пунцовые щеки ясно говорили о том, что и сегодня — как, впрочем, каждый день — он последовал малайской пословице, которая так ему нравится: «Не начинай день, выпив уксуса».
Она открыла журнал на странице с заголовком «Изящна и в дождь» и попробовала представить себе: дождь, настоящая осенняя слякоть, лужи, мокрые листья. Тщетно. Она не могла сейчас даже вообразить, что хоть где-то на земном шаре идет дождь. Словно ее мозг парализовало.
Под окном раздались голоса, и через минуту дверной проем оказался забаррикадированным. Два огромных рюкзака… Девушки из Кошиц! Две альпинистки-хохотушки. Значит, уже пятница.
Пан Матушка вскочил, словно его хлестнули волшебным прутиком. За двадцать лет работы швейцаром он научился спать чутко, как сторожевая собака, — ничто от него не ускользнет. А уж тем более появление его обожаемых восточнословацких красавиц.
— Мы добрались быстрее обычного, да еще и на проезде сэкономили, — защебетала младшая, блондинка с ямочками на щеках. — Приехали автостопом.
— А это не опасно? — забеспокоился пан Матушка. — Я бы в машину не сел. Всюду аварии!
— Опасно? — удивилась блондинка. — Это было чудесно!
— Что ж тут чудесного? — поинтересовался пан Матушка. — Разве шофер?
— Видели бы вы нас! — возбужденно рассказывала девушка, даже разрумянилась. — Как мы сидели на перекрестке за Левочей на рюкзаках и вышивали!
— Что?
— Вышивали. Ни одной машины! Только какой-то дед на волах.
— И он вас не взял?
— Предлагал. Да мы сами отказались, — ответила другая.
— А потом нас подобрал грузовик, из автошколы, но он все время ломался, — прервала ее блондинка, — и… и… и мы останавливались у каждого дерева, и… — она задыхалась от смеха, — пока ребята чинили машину, дед всякий раз нас обгонял… так мы и обгоняли друг друга до самого Кежмарока…
Пан Матушка сдвинул фуражку на затылок.
— То-то вы тут так рано объявились — вас волы подгоняли.
— А в Кежмароке нам повезло. Нас подвезли прямо до места на «татре-603».
— Была б у меня «шестьсоттройка», я бы тоже вас покатал, — произнес пан Матушка.
Ольга дала им ключи и пожелала приятного отдыха. Они ввалились в лифт, и еще с верхних этажей слышался их смех. На том же лифте спустилась бухгалтерша.
— Видали эту парочку? — Она оперлась о стойку, в вырезе ее платья стекала струйка пота. — Что вы на это скажете? Ох уж эти нынешние женщины, легкомысленные, без чувства долга… Где это видано, каждую субботу и воскресенье этак по горам шею себе ломать?
— Пойду проветрюсь, — подмигнул Ольге пан Матушка; он терпеть не мог бухгалтершу. Нахлобучил фуражку на лоб и вышел.
Ольга посмотрела на часы: до конца работы оставался час. «Как-нибудь выдержу», — подумала она. С бухгалтершей, навалившейся на стойку, и с телефоном, который не отвечает.
В последнее время она не спешит с работы сразу домой. Зачем? Ее ждет пустая комната, четыре стены. Пылью покрытые окна.
Она отправлялась теперь в дальние прогулки. Встречала незнакомых людей, группки экскурсантов и отпускников. На скамейках парочками сидели старички, вышедшие насладиться осенью жизни. Всякий раз из леса бодрым шагом выходил одинокий старый человек с хлебной сумкой через плечо и с резной валашкой[47] — он ходил в лес испытать свои силы, доказать, что мы еще прямы, как сосна, хотя наша прямая осанка несколько искусственна. Старушка в романтической шляпке и белых перчатках говорила спутнице: «Обожаю осенние горы. Люблю наведываться сюда, эти места исцеляют душу».
Ольга улыбнулась: места, которые исцеляют душу!
Поболталась возле автобусной остановки — просто так, на всякий случай, вдруг Петер приедет автобусом, пару раз так и бывало. Автобусы приходили и уходили, толпились люди, но Петера не было.
Как она обрадовалась шесть лет назад, когда узнала, что он не иностранец, а просто сопровождает зарубежных гостей. «Не будут нас разделять границы, — подумала она тогда, — может быть, и мы не будем чужими друг другу…»
Он работал на химическом заводе. Свободное время делил между работой, учебой, семьей. Но и для Ольги кое-что оставалось: вечера пятниц. За три дня до пятницы она все закупала, прибирала в комнате, придумывала маленькие сюрпризы, готовила лакомства. Желтая льняная скатерть на столе, желтые мисочки для салата, в вазе ноготки. Так старалась, чтобы комната выглядела как можно уютнее, по-домашнему! Тарелки, стекло — все покупала сервизами, всегда на шесть персон, и никогда не забывала похвастаться перед Петером: «Посмотри, что я достала! Тебе нравится?» А ему было невдомек, что она рассчитывает когда-нибудь завести свою семью.
Каждую пятницу в нервозном ожидании Ольга наводила блеск на всякие безделушки, хрусталь и фарфор. Чтобы все сияло — ради него, для него.
Ольга ускорила шаг. Лес перешел в парк, больничный запах говорил о близости санатория. Миновала здание лечебницы — там сейчас Клару не найдешь — и направилась к теннисным кортам.
Клара сидела на лавочке, кутаясь в клетчатый плед. За проволочной сеткой прыгали две девочки в белых юбчонках, размахивали ракетками, били по мячу.
— Похолодало, — сказала Клара. — Днем пекло, а вечерами уже прохладно. Ничего не поделаешь, осень!
Скинув плед, расстелила на лавочке:
— Садись.
Ольга села — и разом с нее спало все: дневная усталость, изнеможение после убийственного дня. Вытянула ноги, уперлась ступнями в землю, залюбовалась на фигурки девочек. Тишина, покой, легкая игра…
— Дочь у тебя, Клара, уже взрослая.
— Еще бы. Скоро тринадцать. — Клара улыбается. Лицо ее горит, она распрямляет плоскую грудь в зеленом свитере, связанном собственноручно только для того, чтобы доказать, что она и это может. — Не бойся ничего, Оля. Время быстро пробежит, вырастет и твоя.
— Откуда ты знаешь, что будет девочка?
— Интуиция.
— А я не могу себе этого представить. Знаю, что будет ребенок, но не представляю, кто — девочка или мальчик. Не могу.
— Главное, чтоб был здоров.
— И похож на отца.
Клара иронически подняла бровь:
— Отца оставь в стороне. Когда женщина решает родить ребенка, так уж никак не ради мужчины. А если какая-нибудь это делает ради мужика — страшно потом разочаруется!
— Хочешь сказать, мужчина того не стоит?
— Просто он не имеет к этому никакого отношения. Женщина рожает детей ради детей, ради человека, которого ей надо поставить на ноги. Когда ты видишь, как он растет, — это радость, которая вознаграждает тебя за все, что ты вытерпела. Мужчина не имеет с этим ничего общего. Во всяком случае, очень мало. Одним зрителем больше или меньше… — Она вытащила из корзинки апельсин, разделила на дольки. — Завтра мы поедем за город и тебя возьмем. Утром я за тобой заеду. Нечего целыми днями просиживать над фотографией твоего красавца, — сказала она решительно, как старый солдат. Возражать ей было невозможно.
Прибежала Лаура, девчушка в белой, в складку, юбочке, с блестящими глазами, пылающими щечками и радостной улыбкой.
— Поужинаешь с нами, Ольга! — повелительно заявила Клара.
Ольга согласилась. Из комнатки Клары на самом верхнем этаже санатория вечером видны огни завода, где работает Петер.
Среди ночи Ольга проснулась. Что это был за сон? Будто она все блуждает, сначала по двору, на котором выросла, по знакомому двору у бабушки, все там было как наяву: вот колодец с журавлем, явор и белая сирень, садик с зеленым крыжовником и штабель неструганых досок… Только от одного предмета до другого становилось все дальше и дальше, расстояния увеличивались, и скоро двор стал таким огромным, что другой его конец терялся из виду. Ее охватил страх: одна в таком огромном мире, и нигде никого, будто все вымерли…
Потом она блуждала по высокой траве, по лесу, по улицам среди домов и не знала, куда идти, где она и как сюда попала. Заблудилась…
Проснулась с влажным лбом и пересохшими губами.
Встала, большими глотками выпила воды, ощутила, как охлаждается разгоряченное тело. Широко раскрытыми глазами уставилась в темноту. Пустая, пустая комната, лунный свет лежит на безделушках, на оконном стекле, на блестящих предметах.
Ольга мало что помнила из детства: бабушкин дом, цветные стеклышки, солнце, запах дерева, колодец с журавлем, явор, его плоды «носики», которые дети наклеивали на носы. Но главное — солнце. Как будто в те давние времена дождей и не бывало. Но нет, они были, вспомнила она, только быстро проходили, бабушка едва успевала выносить на двор герани, чтобы их покропило. На небе появлялась радуга, широкая, семицветная, мир от этих красок становился веселее. Чудо!
Сестра Анча обучалась шитью в немецкой школе. Она усвоила там два-три немецких слова и хвалилась перед Ольгой: «А знаешь, как надо здороваться по-немецки? Кистиханд[48]!» «Кистиханд, кистиханд», — повторяла маленькая Оля исковерканные немецкие слова — и не успокоилась, пока не проверила свои знания. Как только на лавочке перед домом появилась старенькая пани Хофер, Оля подбежала и, проходя мимо нее, громко произнесла: «Кистиханд!» Старушка мило улыбнулась: «Сервус!» Потом, собрав вокруг себя детвору, которой наговорила, что знает немецкий, Оля громко выкрикнула: «Кистиханд!» И опять старушка Хофер с улыбкой ответила: «Сервус!» Оля набралась смелости и повторила то же в третий раз… На четвертый старушка обиженно ушла домой, и — конец представлению.
Незначительный случай, озорство. Но, став взрослой, Ольга назло себе выучила немецкий язык, благодаря ему ее и приняли в бюро обслуживания гостиницы, где однажды появился Петер. Вся ее жизнь была устремлена к этой встрече. Как же она могла ее избежать?
Вскоре умерла бабушка. Братья и сестры только и думали, как бы поскорее удрать из дома. Отец пил, пропивал все, что зарабатывал. Мать надрывалась с рассвета до темноты, приходила домой поздно вечером, на детей у нее не было времени, она даже разговаривала с ними не иначе как палкой. «Загубили мою жизнь!» — кричала она, выплескивая злобу и раздражение на детей, била их почем зря, пинала, колотила чем придется. Олю обижали не столько побои, сколько то, что мать дубасила ее при посторонних, гонялась за ней по улице, бросала в нее камнями, выкрикивая непристойные ругательства, — и это на глазах у всех. Однажды мать рассвирепела на самого младшего, ему еще и трех не было. Так он ее взбесил, что мать схватила полено и давай охаживать ребенка… Оля видела — малыша уже заливает кровь, и тогда решилась, бросилась к матери, повисла на ее руке: «Не бей его, не бей!» С другой стороны на мать навалился брат, повис на другой руке, так и остановили избиение. Тогда Оля впервые осознала, что силе надо противопоставлять только силу. В конце концов мать сникла, закрыла лицо руками и запричитала: «Несчастные дети, навек прокляты, подняли руку на мать!»
И тогда в душе Ольги поселилась пустота. Она помнила кое-что из того, чему ее учила бабушка: «Не забывай божью заповедь, чти отца своего и мать свою…» Поздно. Она восстала против бога, совершила смертный грех. Нет ей теперь прощения. Бог стал ее врагом, от него можно ждать только проклятия. Как жить человеку, который знает, что хуже того, что есть, с ним уже ничего не может быть? Она ничего не признавала: ни авторитета, ни морали, ни законов. В семнадцать лет ушла из дома. Пошла по рукам. На мужчин пожаловаться не могла — они к ней хорошо относились. Одному она даже обязана хорошим местом в бюро обслуживания гостиницы. Другому, Петеру, безупречной репутацией — ведь шесть лет она жила порядочно, как счастливая молодая жена.
Правда, жить с женатым мужчиной в маленьком городке считалось скандалом. А ей слишком важно было не потерять чудом приобретенное место и положение. И она уединилась, не показывалась на людях. Изолировала себя от них, от их сплетен, никто о ней не заботился, и она никем не интересовалась. Жила как в теплице, отрезанная от мира, отделенная от него стойкой учтивой улыбкой, общими фразами: «Желаю приятного отдыха», «Надеюсь, погода будет хорошей». Соединяла телефонных абонентов: «Момент, переключаю» — и часто думала: «Эти двое на концах провода говорят между собой как человек с человеком, я же — лишь часть аппарата, мой голос звучит как магнитофонная запись». Иной раз ей казалось — она уже мертвая, тогда она сломя голову бежала к Кларе: «Клара, помоги, сделай что-нибудь со мной, разбуди, я на дне». И Клара варит черный кофе, разрешает ей курить, а вместо первой помощи рассказывает анекдоты и ругает ее как извозчик: «Тебе, милочка, надо бы всыпать горяченьких, да как следует, язви твою душу. Такая молодая, здоровая, красивая, мне бы твои двадцать шесть! От кофе и брани Ольга приходила в себя, возвращалась домой, включала телевизор, смотрела в голубоватый полумрак, на улыбающуюся дикторшу, и мысленно спрашивала: «Тебя тоже оставил муж, ты тоже чувствуешь себя восковой куколкой?» Потом включала радио, слушала ночную музыку, такую далекую от живых людей, и уговаривала себя: «Все хорошо, я надежно защищена в этой теплице, ничего мне не грозит, ни слово, ни взгляды, дикторша не может ошибиться и произнести лишнюю фразу, ей даже чихнуть нельзя, этот искусственный мир стопроцентно идеален, рассчитан наперед, никого он не встревожит. У меня тепличная жизнь, работа, горы я вижу только за стеклами, тротуар доводит меня до службы, жизнь моя упорядочение, ничего со мной не может случиться, только потихоньку, только осторожно, только не отступать от предписанных правил, не плевать на пол, не сходить с тротуаров, не поскользнуться на ковре».
Широко открытыми глазами смотрит она в темное небо. Медленной дугой падает звезда. Начало сентября, загадай желание — и оно исполнится. Смешно. «Я зашла слишком далеко, — говорит она себе, — обратного пути уже не преодолеть». Глаза ей резало, в голове стучало, губы пересохли. Месяц отражался в оконном стекле, как в глубокой ночной воде.
Только они вышли из хвойного леса, как сразу увидели — наступила осень. По высокому жнивью бродили гуси, переваливались с боку на бок, выстроившись по росту. На косогорах краснели шиповник и рябина, золотились сухие листья.
За поворотом долина расступилась, и дети, как по команде, закричали:
— Вода! Вода!
Озеро тихое, спокойное. На той стороне, куда подходила дорога, берег кишел людьми, а стоянка — автомобилями. Клара, чуть усмехнувшись, сказала:
— Вот мы и прибыли. Прежде всего поставим палатку, а потом что-нибудь сварим.
— Но, мама! — сделала кислую мину Лаура: ей бы сразу в воду…
— Видите тучку? То-то!! Подавайте колышки!
Небо было безоблачным, но Клара умела подойти к детям: им сразу захотелось построить домик, укрытие от дождя, этакую замену настоящего дома. Они даже стали подгонять друг друга.
— Однажды я ночевала под брезентом с грузовика, — старалась Клара развлечь детей. — И знаете, что случилось? Хлынул ливень, брезентовый навес прогнулся, воды в него натекло, словно в таз. Всю ночь мы только и вычерпывали…
Ольга взяла книгу. Не то чтобы она не любила Кларины истории. Быть может, они были правдивы и кто-нибудь в самом деле все это пережил, а потом рассказал Кларе. Во всяком случае, с ней это случиться не могло. С шестнадцати лет Клара была неизлечимо больна, от туберкулеза в ту пору умирали. У нее удалили половину легкого. Она жила в санатории, в молитвах и мрачных мыслях, готовая покинуть этот свет.
Но час этот все не наступал, и тогда Клара взялась за работу: этому подай, того обслужи, — пациентов ведь всегда больше, чем желающих помочь. Со временем она прослушала специальные курсы. Сестра Клара — воплощение оптимизма… Ей даже удавалось скрывать мучившие ее иногда кровохарканья — любое могло стать последним. Недоверчивые пациенты спрашивали: «Правда, что и у вас, сестра Клара?..» Она только кивала с улыбочкой: «Да, мои-то дела куда хуже, чем ваши, но надо иметь волю к жизни, назло болезни…» Клара родила двух детей, одна их воспитывала. Иной раз, в минуты слабости, признавалась:
— Очень хочется, чтоб у них был отец, но… Могла ли я навязаться здоровому человеку? Я взяла от жизни то, что удалось… Двое здоровых, красивых детей, разве этого мало?
Мальчик был в военном училище, ему нужна была твердая рука, мужской пример. Лаура осталась с матерью — «с ней-то я уж справлюсь, если смерть не помешает…» Смерть подстерегала всюду: за каждым деревом, за каждым кустом, всякий день, всякий час. «Вечером, быть может, начну харкать кровью, к утру опухну, а завтра все кончится. Вот почему, Оля, мне так дорога каждая минута».
Если б не этот призрак за кустом, было бы тут хорошо: солнце, вода, тишина. На озере мелкая рябь, словно оно отзывается на легкое прикосновение ветерка.
— Вечером будет гроза, вот увидишь, — говорит Клара.
Костерок разгорелся, заплясало пламя.
— Все в порядке? — строго проверяет Клара. Дети с удовольствием подчиняются ее приказам.
— Честь имею доложить, все в порядке, генерал, — козыряет Лаура. — Можно в воду? — Она скидывает полотенце, надевает шапочку для купания, из-под нее выбивается несколько кудряшек, а глаза — как зеркала. — Ура!
— Я вам дам «ура», — заворачивает детей Клара. — Сначала остыть, а уж потом нырять! — Даже не умея плавать, она сохраняет тон превосходства перед пловцами.
Наконец дети сбегают к воде. Клара уходит в холодок. Она и тогда, когда мир будет ускользать из рук, не перестанет делать вид, будто все идет по ее приказам. На лбу ее блестят капли пота…
— Последи за ними, ладно? — улыбается она.
Две купальные шапочки, желтая и голубая, ровным темпом удаляются от берега. Ольга смотрит сквозь щелочки полуопущенных век: скоро и она родит ребенка, живого человека. Он будет похож на Петера, будет ходить в детский сад, потом суровой татранской зимой, с замерзшими щечками, дожидаться школьного автобуса. Будет носиться по траве, плавать и… и… Наверное, это будет нелегкая жизнь, но — единственная, и дать ее может ему только она, Ольга, никто, кроме нее.
Она улыбнулась: и этот ребенок обязан своим существованием встрече, что состоялась шесть лет назад, счастливой встрече. «Раз в жизни улыбнулось мне счастье, — говорит себе Ольга, и слова эти — будто из какого-то стихотворения, хотя никак они не подходят к тому, как она живет, до сих пор она никогда так не думала, — один раз улыбнулось мне счастье, разве этого недостаточно?»
Дети уже на середине озера, на минутку у Ольги сжалось сердце: такие маленькие, желторотые, писклявые птенчики — и вот без материнской защиты, далеко от ее рук… Она то и дело замирала в тревоге, пока они не добрались до противоположного берега; тогда встала, замахала им, вызывая их торжествующий ответ. Она махала белым Клариным платком — выдуманная на ходу хитрость, чтобы хоть ненадолго задержать их на том берегу, не дать им, таким уставшим, сразу пуститься в обратный путь. «Отдохните», — громко говорила им Ольга — она училась у Клары внушать свою волю детям, быть матерью, которая знает, чего хочет.
Ибо Клара различала все очень точно и четко, в то время как Ольга видела мир, будто рыба из аквариума, через стекло, когда все двоится, троится, лишенное четких контуров. Клара же не могла себе позволить зря расточать силы: их у нее было мало. Она точно знала, сколько шагов может пройти, сколько минут ей отдыхать и с какими интервалами. И умела сделать так, чтобы никому не надоедать своей усталостью. Она не могла позволить себе тратить ни времени, ни сил, ни денег. На зарплату медсестры кормила двоих детей, дала им все, что нужно, и даже маленькие удовольствия, машину, поездки, спорт, красивую одежду. У нее ничто не пропадало зря: ни самая маленькая тряпочка, ни один геллер, ни одна секунда.
У Ольги уже заболела рука, она перестала махать, девочки снова бросились в воду. Купальщиков было мало: лето кончалось. Лишь несколько закаленных пловцов да эти две сойки. Голубая и желтая шапочки посреди озера, и темп уже не такой ровный, как вначале.
— Оставь их, — сказала Клара, — пусть испытают свои силы.
Ольга повернулась лицом к солнцу, будто загорая, веки ее подергивались. «Пусть за ними следит Клара, у меня не хватает на это нервов». Девочки со щебетом выбрались из воды, отряхнулись, как щенята. Клара ворчала на них:
— Сначала как следует вытереться, досуха, дамы!
Тринадцатилетние «дамы» были похожи на таитянок: загорелые, стройные, только вместо цветочных гирлянд на шее яркие полотенца. Поиграли в бадминтон, погоняли пестрый мяч, то и дело прикладываясь к бутылкам с водой, зажатым между камнями на мелководье.
Ольга собрала посуду, вычистила ее песком. Клара не удержалась от замечания: даже на природе хочешь оставаться образцовой хозяйкой! Образцовая тетя Оля, всегда аккуратная, синий костюмчик, белая блузочка, прямо блеск!
— Ну, ну, не сердись, — отступила Клара, заметив взгляд подруги. — Посмотри, какой сегодня день. — Она повернулась к воде. — Хорошо-то как! Такая роскошь мне и не снилась.
— Роскошь!
— Конечно. Синее небо, зеленый лес. Чудо. Завтра этого уже не будет. Все это надо поскорее впитывать, жадно смотреть, слушать… Ничего не упустить!
— Что ж тут роскошного?
— Роскошь начинается там, где человек имеет возможность помыться несколько раз в день, что необходимо для здоровья…
Ольга засмеялась: она знала Кларины сентенции. И вдруг подумала о тех двух альпинистках: наверное, сейчас они вскарабкались на какой-нибудь пик и оглядываются вокруг, восхищенные всей этой красотой, такие же открытые, как Клара. И говорят себе: стоило проделать утомительную дорогу, теперь будет о чем вспоминать!
Сверкнула молния, ударил гром.
— Гроза идет, — сказала Клара. Села на упавший ствол дерева; от воды сразу потянуло прохладой. — Вообще-то не люблю я время между днем и вечером, между летом и осенью. Этакий естественный женский инстинкт — готовиться к зиме, заботиться о припасах, вязать детям теплые свитера, покупать им лыжные костюмы и теплое белье. Природный женский инстинкт, потребность защититься от холода…
Небо обложило. Из-за холма повалили тучи, словно их извергала какая-то труба.
Девочки прибежали, сложили палатку, Клара их подгоняла — все собрать, проверить, не забыли ли чего. Ну, поехали.
По окошкам автомобиля забарабанили капли, Клара крепко держала руль.
Дождь не переставал. Под порывами ветра хлестал по окну, заливал стекло, шлепал по земле.
Ольга сидела на постели в той же одежде и в том же настроении, в каком Клара высадила ее из машины. Природный женский инстинкт — защититься от холода… Был бы рядом Петер… Но это невозможно. Теперь ей это совершенно ясно. Шесть лет была как слепая, никак не желала понимать.
На нее навалилась усталость от всех прожитых с ним лет, от солнца и воздуха — и от усилий держаться при Кларе хоть сколько-нибудь мужественно. Напряжение не снималось. «Наверное, это от резкой перемены погоды, — думала Ольга, — при таких переменах словно чего-то ждешь, каждый нерв натянут до предела. А может, оттого, что я не выспалась и видела плохие сны?»
По оконному стеклу бежала струйка воды, просочилась внутрь, образовав на подоконнике лужицу. Она увеличивалась, округлялась, и вдруг, словно переполнился бокал, от нее отделилась другая струйка, потекла по стене, жадно впитываемая штукатуркой. Эта струйка стекла прямо на пол — на паркете получилась еще одна лужица с грязной, будто от сажи, водой. Капля за каплей, капля за каплей, медленно, размеренно, в ритме тикающих часов.
Ольга давно не мыла окон. Да и вообще давно не убирала в комнате. Встала, надавив, закрыла неплотно прилегающую раму, принесла тряпку — вытереть лужи. Сначала пол, окно, пятно на стене… Быстро переоделась и принялась за основательную уборку. Вытерла пыль, навела блеск на безделушки — она словно ласкала их, словно просила прощения за то, что совсем их забросила. «Человек не всегда может жить в мире с целым светом, — говорила она себе, — но с самим собой он обязан жить в согласии. Все это стало уже частью меня самой, как же я могла так запустить свою комнату? Из этих чашечек мы пили кофе, а вот фотография Петера на комоде, его улыбка, его высокие брови, красивый выпуклый лоб — все это давно стало частью меня, боже мой, и будет частью меня до самой смерти, эти шесть лет мне никогда не вычеркнуть, я не смогла бы их вычеркнуть, даже если бы и не ждала ребенка. Петера уже не будет со мной. К этому надо привыкнуть — чем скорее, тем лучше. У меня и впрямь есть только то, что было, зато уж этого никто у меня не отнимет».
Ольга приняла душ и поставила кипятить воду для чая. Наливая кипяток в стакан, зацепила его и разбила… Смотрела на осколки и ждала, когда появятся слезы, когда расплачется — от усталости, напряжения и одиночества. Она предвкушала, как поможет ей плач, как он разом снимет все напряжение, давившее ее уже целые недели.
Но слезы не приходили. Ольга поняла, что ждет их как логическое следствие нервотрепки, и ей стало смешно. Она собрала осколки, шепнула им: «Принесите мне счастье», снова вскипятила чай и закуталась в одеяло.
«Отныне мне нужны тишина, покой и хорошее настроение, — сказала она себе строго. — Если что, вскипячу себе чай, спрячусь под одеяло. Фотография меня не оскорбит, а живого не хочу больше видеть».
Она закрыла глаза; ей казалось — дождь кончается. «Вот кончится дождь, выставлю герань на подоконник, подожду, когда появится радуга, раскинется по небосклону, расцветит мир». И в эту минуту к ней вернулось то чудесное, что она помнила с детства: явор, белая сирень, цветущая герань и певучий голос бабушки.
Воскресенье в гостинице — суматошный день. Постояльцы приезжают, уезжают, гостиничный вестибюль напоминает муравейник. Пан Матушка дремлет, а у Ольги полна голова забот.
На лестнице показался приезжий из сто третьего номера, сбежал по красному ковру, лихо взмахнул зонтиком.
— Целую ручки, Оленька! Прекрасный вечер, не так ли? При такой духоте неплохо бы немного водички!
— Воды столько, что и для крокодила хватит, — отозвался швейцар.
— Ах, пан Мату-у-ушка, — приезжий развернулся ловким пируэтом, — а я вас и не заметил!
Пан Матушка надвинул белую фуражку на глаза и притворился спящим. У него был повод обидеться. Швейцара, который сидит тут уже двадцать лет, нельзя не замечать! К тому же жилец из сто третьего номера без надобности произнес его фамилию с долгим «у», а к этому пан Матушка был особенно чувствителен. Бывало, и другие приезжие растягивали его фамилию, особенно жители Липтова. Пан Матушка давно делил людей на липтаков и остальных.
Жилец из сто третьего номера закружился в новом пируэте и нежно проворковал Ольге:
— Милая барышня, у вас все еще не нашлось времени для меня?
— Где ж его взять? — заставила себя улыбнуться Оля.
В это время зазвонил телефон. Она сняла трубку.
— К сожалению, Петер, — сказала она холодно, — сегодня вечером мне некогда. Нет, завтра тоже не смогу. У меня вообще нет времени, пан инженер.
— Я рад, что и с другими вы так же холодны, как со мной, — произнес постоялец сто третьего номера.
Если бы он этого не сказал, возможно, Ольга и сама бы не осознала, что же она ответила Петеру.
— Скажите хоть, как вы себя чувствуете? — настаивал приезжий.
— Спасибо, хорошо, — ответила она официальным тоном.
— Рад, рад, — пропел он и, взмахнув зонтиком, покинул вестибюль.
Пан Матушка словно только этого и ждал. Он с трудом поднялся с кресла, положив фуражку на его спинку.
— День-деньской дрыхнет, словно молодожен в медовый месяц, а по вечерам выходит на охоту… Любит здешние кабачки! Шляется по ним в любую погоду! Тьфу! На это способны только липтаки да кобели, — сказал он угрюмо.
Ольга догадывалась об истинной причине его удрученного состояния: альпинистки из Кошиц еще не вернулись. Вчера утром они отправились в поход, но к вечеру не возвратились… Теперь их разыскивает горная служба.
Швейцар сделал несколько кругов по вестибюлю, а потом обрушился на Ольгу:
— А ты тоже хороша! Надо тебе всякому докладывать, как ты себя чувствуешь?
— Восемь часов в день я обязана быть учтивой. За это мне платят.
Пан Матушка не переставал ходить кругами, как тигр в клетке.
— А тебе не кажется, что ты перегибаешь палку? За такую плату я бы этого не делал. — Он вдруг остановился, взял со спинки кресла фуражку и сказал:
— Пойду-ка в пивную.
В эту минуту дверь лифта открылась и вышла бухгалтерша. Она оперлась на стойку и сказала:
— Нашли их.
— Кого? — спросил пан Матушка. Фуражка его уже снова покоилась на спинке кресла.
— Да тех альпинисток. Мертвыми. Блондинка, говорят, умерла уже под утро, но не из-за травм. Просто замерзла.
Пан Матушка вышел из вестибюля, бездумно постоял перед входом, с непокрытой головой, в легкой рубашке, потом стремительно шагнул под проливной дождь. На спинке кресла осталась забытая белая фуражка.
Перевод со словацкого Н. Аросьевой.
Петер Шевчович ПОМИНКИ ПО ЭВОЧКЕ
— Сейчас я вам ее покажу. Одежду принесли?
Бородатый служитель отворил дверь огромного морозильника и профессиональным движением вытолкнул из него каталку с покойницей. Под белой простыней лежала Эвочка. Холодная, неподвижная, бескровная. Смерть не потрудилась стереть с ее лица следы горестного упрека и удивления.
— Я должна ее… одеть? — робко прошептала мать.
— Мы и сами оденем. В гробу она будет красавица. Пока вы обедаете, закончим вскрытие. — Служитель положил узелок с одеждой к ногам Эвочки.
— Уж вы, пожалуйста, сделайте все как положено. — Старый Грушка подал служителю стокроновую бумажку, и тот благодарно улыбнулся.
Но главный врач от денег отказался.
— Нет, нет, ни в коем случае, — отодвинул он конверт. — Ни в коем случае, ведь мы так и не сумели ее спасти. А если вам так уж хочется, поблагодарите наш коллектив через «Вечерник». Отметьте примерный уход за больной.
— Да, да, — прошептала старушка.
— Последние три-четыре месяца ей пришлось много страдать. Отчего она не обратилась к нам раньше?
— Страдать? — качала головой изможденная старая женщина. — Она всегда улыбалась. И в последнее время тоже.
— Должно быть, не хотела, чтоб и мы страдали, — вздохнул отец.
— Увы, медицина нередко бывает бессильна. Это коварная болезнь.
— Да, да… — Старики не поднимали глаз от пола.
— Диагноз мы теперь научились ставить довольно легко, но чаще всего к нам приходят, когда уже поздно. — Врач старался хоть немного их утешить.
— Да…
— Зато теперь она не страдает.
— Да…
— В отдельных случаях мы побеждаем эту болезнь, но ваша дочь…
— Да… Хорошо хоть, что мы не одни, что у нас семеро внучат, только раскиданы они по всему свету.
— Эх-ма, лучше бы я справил ей свадьбу.
Старик стукнул кулаком по столу и поднялся.
— Простите, — главный врач взглянул на часы, — через три минуты у меня обход, — и на прощанье подал обоим руку.
— Как пролетела жизнь, как пролетела! — запричитала пани Грушкова в больничном коридоре. — Вот мы и старики, а впереди — пустота. — Она семенила за мужем. Обернувшись, тот смерил ее строгим взглядом. А она семенила по коридору и плакала. — Пусто… пусто… пусто…
Похороны прошли торжественно. Сам директор предприятия произнес над белым гробом своей секретарши прочувствованную речь:
— Для всех нас она была примером, пунктуальная, исполнительная, добросовестная… Мы звали ее «наше солнышко». Эвочка вечно будет жить в наших сердцах.
Квартет девушек из заводского клуба «Радость» исполнил несколько задушевных народных песен, похоронную процессию сопровождал духовой оркестр. Это были достойные похороны, и народу собралось много, хотя извещение по чьему-то недосмотру не попало ни в одну газету. Долго-долго стучали комья земли о крышку гроба и мозолистую руку старой женщины сочувственно пожимали руки в черных дамских перчатках. Казалось, перчаткам этим нет конца…
— Примите наше искреннее соболезнование, пани Грушкова…
— Никто никогда не знает, что его ждет завтра…
— У вас хоть семья большая…
— И мы с вами, пани Грушкова…
— Несчастье всех сближает…
— Хорошие люди уходят рано, а всякая дрянь живет…
— Ничего не поделаешь…
— Выше голову, пани Грушкова…
— Самое главное — не поддаваться горю…
Все почтенные дамы, у которых старая Грушкова раз в неделю убирала квартиры — прежде и теперь, — откуда-то прослышали о похоронах и почти все пришли.
— Чтоб не чувствовала себя такой одинокой, пусть видит, что и мы здесь, что мы тоже люди и сочувствуем ей.
— Как она за эти дни постарела!
— Вы заметили, даже плакать не может… Глаза красные, а слез нет!
— И на наши соболезнования отвечает шепотом… Послушайте, как тихо она говорит! Приглашает на поминки. Вы считаете, надо пойти?
— Да ведь заказан автобус, он стоит возле кладбищенских ворот. Разве вы не слышали?
— Думаете, она хотела бы видеть на поминках всех, кого давно знает?
— Такое внимание она оценит. Постараемся облегчить ее горе.
— Разумеется, постараемся.
Поминки в зале общественной столовой «Будущее» были многолюдные и богатые. Присутствовали уважаемые гости: три актрисы, три учительницы, две докторши, заведующая учебной частью школы, дама-психолог, жена заслуженного артиста, жена композитора и даже дочь одного столь знаменитого человека, что в позапрошлом году его именем назвали улицу. Каждая из этих женщин жила в уютной квартирке, и ключи от всех квартир были собраны в одной увесистой связке, покоившейся в кармане пани Грушковой. В каждый из дней недели она поочередно отпирала одну из квартир, пила на кухне черный кофе, читала наказ, что ей нужно прибрать, привести в порядок, добросовестно все выполняла, и после ее ухода квартира благоухала моющими средствами, ибо у чистоты есть свой запах. Если до трех часов в квартире никто не появлялся, ей было чуточку обидно, что не с кем перекинуться словцом, и, взяв оставленные для нее деньги, она уходила. Благодаря этим совершенно одинаковым трудовым дням, неделям, месяцам и годам она смогла вырастить и выдать замуж старшую дочь Мартушку. В приданое Мартушка получила трехкомнатную квартиру и гарнитур мебели для гостиной. Янко женился и ушел в чужой дом; покидая родное гнездо, он получил автомашину. Оставалось обеспечить младшую, Эвочку, но той уже нет.
Все дамы на поминках плакали. Все пришли поглядеть друг на дружку, посравнивать и убедились, что самая старшая из них лет на пятнадцать моложе их приходящей прислуги.
— Тетушка… вы же наша добрая тетушка, пани Грушкова…
— Вы ангел-хранитель наших семей…
— Ваша простая человеческая мудрость — бальзам, проливаемый на наши истерзанные проблемами души.
Каждая старалась превзойти других в поисках лекарства для ее исстрадавшегося сердца. Работающие, вечно занятые, вечно сетующие на нехватку времени женщины всячески выказывали ей свое уважение и признательность.
— Для моих дочерей вы образец порядочности.
— Такие похороны — не только скорбь и печаль, но еще и огромные расходы!
Стоило кому-то произнести слово «расходы», как поднялся пан Шимачек и с достоинством стал собирать в тарелку стокроновые бумажки, хотя к Шимачекам пани Грушкова не ходила уже более десяти лет. Старая женщина и ее муж, бывший грузчик, в оцепенении смотрели на этот ритуал, подливали в опустевшие бокалы вино… Ни словечка не промолвили, когда в группках подвыпивших гостей стали рассказывать анекдоты, когда зазвучали сперва грустные разбойничьи, а потом и задорные народные песни.
— Это вам на пополнение семейной казны, тетушка Грушкова!
Под конец кое-кто даже пожалел, что помещение снято только до десяти вечера, а время бежит так немилосердно быстро.
Но это уже прошлое. Ноющее, незарубцевавшееся и неисцелимое. Все ее прошлое, вчерашнее, недавнее, не очень давнее и совсем далекое, как бы сосредоточилось в связке чужих ключей, которые пани Грушкова распознает на ощупь.
Понедельник — грубые, шероховатые зубцы ключей от квартиры инженерши Ярнецкой.
У пани Бутаровой, муж которой заместитель директора в банке, и потому она боится воров, день уборки — вторник. Как-то супруг привез ей из Швейцарии особо надежный замок, отпирающийся ключиком с зубцами по обе стороны стержня.
Бункашова — учительница, а ее муж — начальник отдела в каком-то министерстве. Инженер. Каждую среду надо отпереть их квартиру одним ключиком обыкновенным и вторым патентованным. Третий ключик от холодильника — его тоже запирают, хотя там обычно ничего не найдешь, кроме бутылки молока, кастрюльки кислого картофельного или чечевичного супа с лавровым листом, сковородки с картошкой или рисом, банки мясных консервов, бутылки пива да записки: «Приятного аппетита, тетя Грушкова».
Четверг — день почти гладкого ключика. Семья Заховаев живет в четырехквартирной вилле, где есть даже собственный дворник. Он каждый раз весело приветствует Грушкову: «Здравствуйте, коллега!» — а порой заходит побеседовать и выпить чашечку кофе.
— Пан Заховай продвигается все выше и выше, коллегушка. И только вопрос времени, когда ему определят казенную помощницу для домашних услуг. Подыщите-ка лучше на четверги кого-нибудь другого.
Но молодая Заховайова думает иначе.
— Вы знаете меня с детства, тетя Верона, можно сказать — еще с пеленок. Ходи́те ко мне, пока силы есть, вы помните столько интересного про мою покойную мамочку…
— Ваша мамочка была очень славная женщина, Геленка…
— Сегодня сделайте только самое необходимое, тетушка, а потом испеките штрудель. К нам на ужин придет венгерский атташе.
— Яблочный? В один я добавлю орехов, в другой маку…
— Разумеется, дорогая. Не могли бы вы ходить ко мне и по пятницам?
— Да ведь по пятницам я хожу к Пекникам. Вы с Палько когда-то вместе играли в песочек.
— Сейчас он, кажется, работает на радио?
— Испокон веку хожу к ним по пятницам. Прежде к его матери, теперь к самому Палько. Пятница, почитай, тридцать лет как пекниковская.
— И верно, вы ведь обслуживаете уже второе поколение.
— Может, и третье, почем знать… Нынче работа не такая тяжелая, есть пылесосы, стиральные машины, ковры не выбивают… и вы, молодые хозяйки, совсем не те, что прежние… Бедняжки вы! Работаете не меньше мужчин, да и получаете столько же, но коли о детях и о доме не позаботится женщина… Думаете, не вижу, как тут все наперекосяк идет, когда вы иной раз в командировке? Нет, хозяйки теперь совсем не те!
— Доставалось вам от прежних?
— Чтобы распекать прислугу, на то была экономка.
У советницы Петипрстой пятьдесят лет назад была экономка Малишкова из Хинорян. А та уж сама подбирала остальную прислугу. Женщину — натирать паркет, гувернантку для семилетней Рут, какого-нибудь безработного — выбивать ковры. Это была бережливая экономка и хорошая кухарка. «Грушкова, сегодня выскоблишь паркет в салоне, сделаешь влажную чистку ковров, вымоешь окна и двери, а если останется время, пересадишь пеларгонии из маленьких горшков в большие».
Бывали и дамы, обходившиеся без экономок, например красавица Фроммерова: «Веронка, вчера у нас были гости — тридцать человек, — а сегодня придут новые. Тридцать лет исполняется только раз в жизни! Поскорей уберите этот хлев, чтоб про Фроммеров никто не сказал дурного слова».
Многие из тех незабвенных хозяек читали романы о красивой любви, вышивали, а временами впадали в меланхолию: «Вот вы работаете, работаете, Веронка, а жизнь проходит стороной… Жаль, что не все могут чувствовать, как она прекрасна, как быстротечна, пестра и многообразна! Но восхитительнее всего любовь. Будьте моей наперсницей, Верона».
Словно собачонки, бегали за ней по огромным квартирам скучающие чванливые барыньки: супруга директора гимназии, супруга министерского советника, фабрикантша, — поверяли до омерзения надоевшие ей интимные тайны и без конца сплетничали, выливая друг на дружку ушаты грязной клеветы, подозрений, непристойностей. Впервые они растерялись и на какое-то время приумолкли после того, как кончилась война. А когда через три года по улицам промаршировали отряды народной милиции, все их прежние «тайны» улетучились, словно их и не было — теперь в каждом слове барынек чувствовался неприкрытый страх.
— Ты столько обо мне знаешь, Веронка, золотце мое, но, конечно, помнишь, как хорошо я к тебе относилась, и не забудешь мою доброту, ты же не из этих фанатиков и не поддашься ослеплению. Ты — чистая душа и не станешь использовать это мне во вред, ведь ты не желаешь нашей гибели!
— Как вы можете подумать обо мне такое, пани Буганова?
— Теперь «пани» будешь ты, Верона. А я, весьма возможно, стану прислугой. Разве не смешно? Все у нас отобрали, поняла ты наконец? Магазин, виллу, надежды… Превратили в нищих да еще выселяют из Братиславы. Хоть поздороваешься со мной при встрече?
— Я буду вас вспоминать.
— Может статься, мы никогда больше не увидимся.
— До смерти вас не забуду, пани Буганова.
— Революция — это еще и то, что теперь у нашего брата знакомые по всему свету, — хвастал в винных погребках ее муж. И демонстрировал приятелям пачку писем и открыток из Швейцарии, Голландии, Канады, Швеции, из Соединенных Штатов и Израиля. — Сплошь барыньки, и каждая подписывается: «Ваша…»! Будет моим детям куда съездить. И пускай себе ездят, коли мне в свое время не довелось! Пускай хоть им будет хорошо.
Бывших владельцев вилл переселили в деревни, а из деревень в виллы понаехали новые хозяйки. Уже через год они перестали откармливать в садовых беседках свиней, поустраивались в разбухшие учреждения и начали проявлять заинтересованность в услугах тетушки Грушковой.
— Мы все обыкновенные, простые женщины. И вы, и мы. Жизнь требует, чтобы мы научились чему-нибудь новому… У каждой из нас есть какие-то способности, надо их использовать. Мир нужно очистить, товарищ Грушкова, весь мир… Тем, что вы будете содержать наши квартиры в чистоте, вы поможете очистить мир. Или вы тоже хотите учиться?
— Не знаю, справлюсь ли. А убирать я умею и люблю.
— Само собой, есть будете с нами за одним столом, за чашкой кофе найдется время побеседовать о новостях.
— Да, да. Я привыкла быть для хозяек чем-то вроде наперсницы.
— Тут, правда, есть маленькая закавыка, гражданка.
— Да? Я слушаю…
— Если вы хотите, чтобы между нами были добрые отношения…
В ту пору ее муж, разозлившись, стукнул как-то кулаком по столу:
— Никогда грузчики так прилично не зарабатывали! Будешь сидеть дома, я тебя прокормлю, сама себе станешь хозяйкой!
— Нет, — погладила она мужа по волосам и заметила, что чернь на его висках уже проткана серебряными нитями. — Ты нас прокормишь, а что заработаю я, будем откладывать на книжку, пускай дети, когда вырастут, имеют все, что только пожелают… Хоть бы и кругосветное путешествие!
Тогда нынешний редактор радиовещания Пекник еще готовился к экзаменам на аттестат зрелости. Каждую пятницу, оторвавшись на минутку от учебника, он слышал, как пани Грушкова рассказывала его матери о своих новых хозяйках.
— Разве они похожи на вас, пани Пекникова? Вы учительница в гимназии. Воспитываете людей. А для этого столько всего нужно знать! Взять хоть Белицову — из той же деревни, что я, из Шарфии. Как и я, кончила только начальную школу и еще полгода назад собиралась разводить в саду кроликов. Всего-то и знает, что своих кроликов, и времени у нее хоть отбавляй. Вот вы и скажите, зачем ей прислуга?
— Пожалуй, и я справилась бы сама.
— Боже упаси, пани, ведь у вас есть другая нужная и прекрасная работа. Тут и говорить нечего. Но почему обыкновенная работница Белицова должна жить как ленивая барынька? Ворочу ей ключ и баста!
Совсем недавно в одну из пятниц редактор Пекник не захотел праздновать свое сорокапятилетие с коллегами по радио. Вернулся домой пораньше, пригласил к столу пани Грушкову, поставил бутылку вина:
— Я хотел поговорить об одной очень важной вещи, тетя Грушкова, О вашем здоровье. Почему вы от всех скрываете, что у вас сахарная болезнь и тромбофлебит?
— Откуда вы знаете? — испугалась Грушкова. — Это известно только…
— С вашим участковым врачом я учился в школе. Берегите себя, тетушка, и первым делом лечитесь.
— Это значит… — Она сглотнула слюну и запнулась. — Ничего… Палько… Ничего это не значит…
А значило это вот что: она ведь никогда не работала ни в учреждении, ни на одну какую-нибудь семью и была довольна, что так умно придумала: с разных людей она брала за каждый рабочий день недели одинаковую плату, и в жестяной коробочке из-под хвойного экстракта, куда она складывала заработанное, собиралось гораздо больше, чем если бы это были ежемесячные авансы да окончательные выплаты. А детям столько нужно, чтобы жить действительно лучше и красивей!
Значило это и другое. С тех пор как у нее начали болеть ноги, поясница, желудок и появились головокружения, она стала все чаще менять хозяек. Стареющие женщины привередничали, им уже трудно было угодить, но она интуитивно угадывала момент, когда пора было самой отказаться от места.
После того как докторша Рапайдусова приютила у себя дочь и зятя с тремя детьми, эта прежде спокойная и снисходительная женщина вдруг стала язвительной и вздорной.
— Уберите как всегда, Грушкова, только хорошенько!
— А вы скажите дочери, чтобы ее детки не носились по всей квартире!
— Между прочим, это прекрасные дети!
— Возможно, но после их беготни не определишь, убрано тут или вовсе не убиралось!
— Моя дочь — психолог и лучше нас с вами знает, что детям запрещать, а что позволять!
— Тогда пускай убирает за ними сама! — Пани Грушкова положила ключи на стол, и с той минуты тридцатилетние добрые отношения были прерваны.
Нынешние молодые женщины значительно менее требовательны, чем образованные старухи. Да и подобрее их. Не завидуют сбережениям, нажитым в многолетнем единоборстве с чужой грязью. Молодая женщина никогда бы не сказала, как бывшая адвокатша Широкайова:
— Я бы не могла купить старшей дочери квартиру, сыну — автомобиль, а для младшей отложить сто тысяч на книжку. Все, что я могу себе позволить, — это пользоваться вашими услугами, Грушкова. Вы — моя единственная роскошь.
Пришлось вернуть ключик и пани Туканской. Ее супруг, заслуженный артист, разъезжал по всему свету, снимал для телевидения многосерийные фильмы, а она тем временем завела шашни с почтальоном. Такой неряха — по всей квартире валялось его грязное белье.
— Я не желаю стирать за вашим любовником, пани Туканская!
— Что, что, что?!
— Пан Туканский — милый, справедливый, хороший человек. Не могу больше смотреть, как вы его обманываете! Да еще с этаким проходимцем! Думаете, у вашего почтальона, кроме вас, нет никого?
— Что вы себе позволяете?!
— Только то, что больше я к вам не приду. Расстанемся, пани Туканская!
— Да вы и так уже никуда не годитесь!
Туканская, в сущности, сказала ей почти то же, что участковый врач. Скоро об этом наверняка будут перешептываться все, когда обратят внимание на ее опухшие, фиолетово-синие больные ноги, на ее тяжелую походку и учащенное дыхание.
Да вот хоть в прошлом году… Вешала она в одной квартире занавески. Вдруг перед глазами все закружилось, она не удержала равновесия, упала со стула — а кругом мебель! — и пребольно обо что-то ударилась. Могла и руку сломать. Или повредить спину, как пани Грейтакова, когда собирала сливы. И у нее тоже отнялись бы ноги. А то могла и до смерти убиться.
Похоже, и правда дело идет к концу: осень на исходе, еще несколько промозглых, холодных деньков — и ударят в ее жизни морозы.
Эвочка умерла в том же возрасте, в каком была она, когда в радости ее зачала. Тридцати трех лет.
Нет-нет да и заметит кто, как люди вокруг стареют, иначе бы редактор Пекник не сказал:
— Прошу вас, тетя Грушкова, когда вы запираетесь в квартирах, не оставляйте ключ в дверях. В вашем возрасте всякое может случиться, а пока то да се, пока явится слесарь, и помереть недолго.
Потом положил на стол портативный магнитофон и попросил ее рассказывать.
— О чем рассказывать?
— О чем хотите. Просто вспоминайте.
— Это к чему же?
— У вас интересные воспоминания.
— Такие уж особенные?
— Жаль будет, если о них не узнают другие.
Редактор разлил по стаканам бурчак[49] и улыбнулся — мол, не волнуйтесь, ничего страшного не случится.
— Хотите запереть мою жизнь в черную коробочку? — усмехнулась пани Грушкова.
— Запрячу ее в кассету.
— А кассету сунете в шкаф, где их целая гора.
— Каждый любит вспоминать.
— Так вот, среди хозяев, которых я хорошо знала…
Он включил магнитофон.
— …кто собирал картины, кто персидские ковры, кто монеты, марки, замки, тарелки, курительные трубки, глиняные кувшинчики, ордена и медали, открытки. Отчего бы не собирать и воспоминания?
Страх перед старостью одолевал ее все больше. И в этом была повинна Эвочка. Уж ей и Христовы годочки подошли[50], а она все не пристроена. И вдруг — вместо свадьбы поминки!
— Теперь, пан Пекник, может статься, жизнь моя пойдет совсем по-иному. Теперь я могла бы жить, как те хозяйки, у которых я служила в молодости. Или как те, послевоенные, которых я люблю больше всех.
В рекламе Бюро путешествий перечислены все страны мира. Перелистываешь ее с мечтательной улыбкой — сколько всюду интересного, сколько всего можно еще увидеть и пережить! Реши пани Грушкова завтра же купить путевку в кругосветный круиз, и то взяла бы у покойной Эвочки лишь четверть отложенного на сберкнижку ей в приданое. В Греции на это приданое можно провести десять великолепных отпусков, в Болгарии — двадцать. Или тоже десять, зато сэкономить на машину, о которой всю жизнь мечтал старый Грушка. Разъезжали бы они по путям-дорогам, куда только пожелают, по городам и замкам, по всей Европе, а то и по Азии. Смешная, неосуществимая мечта. Давно миновали сроки, когда она могла стать явью. Бывший грузчик теперь плохо видит, кровяное давление у него скачет, словно козленок, — того и гляди хватит удар. Такой развалине уже не дадут водительских прав, наверняка не дадут, ведь, даже когда он хотел поменять паспорт, ему сказали: «Зачем, дедушка? Преспокойно доживете и со старым».
— Все у нас уже позади, Йозеф.
— А чего ты хочешь, Веронка?
— Пусто кругом.
— Дашь мне на пиво?
— А что делать с Эвочкиной комнатой? Отдать внучке?
— Виолке? Зачем?
— Ей уже двадцать два. Вдруг надумает выйти замуж?
— А есть необходимость?
— Нет, я просто так. Пусто здесь. Не повысили бы нам квартплату за излишки.
— Сменяем квартиру.
— Когда Виолка выйдет замуж, захочет трехкомнатную. Зачем менять дважды? Эта квартира и так лучше всех, какие у нас были.
— Дашь мне на пиво?
— Возьми из горшочка десять крон.
У любой хозяйки по временам случаются приступы доверия и любви к прислуге. В эти минуты ей дарят свою фотографию, фотографию мужа, всего семейства или детей. Так они и живут в толстом альбоме пани Грушковой — не меняясь, не старея, всегда одинаково улыбающиеся и отретушированно красивые. Время стерло все неприятное, и старческие воспоминания стали похожи на эти фотографии.
— Вы уже член нашей семьи, — говаривали хозяйки.
Вот почему у старой прислуги самая многолюдная родня. Из ее настоящей семьи на поминки по Эвочке пришли только старшая дочь да сын со своими детьми. Но никто из всей «неродной родни» не подсел к пани Грушковой и не спросил: «Придете к нам на будущей неделе, тетушка? Или хотите немножко отдохнуть?» В глубине души она ждала этого, да, видно, хозяйки лучше знают, что́ на поминках положено, а что нет. Пожалуй, она бы ответила: «Еще не решила. Я могу теперь никуда не ходить, ведь жизнь для меня кончилась». Или: «Еще не решила. Может, месяц-другой отдохну, а потом поеду в кругосветное путешествие. Отвечу, когда вернусь». Интересно, как вытянулись бы у них лица. Отчего бы им хоть не сказать: «Приходите, тетя Грушкова, просто так, посидеть, поговорить. Вам легче станет». Уж конечно, это больше бы ее утешило, чем тарелка со стокроновыми бумажками. Но — увы — ни от кого она таких слов не услышала.
После поминок дамы зашли в винный погребок «Байкал», чтобы ближе познакомиться, раз уж их свела эта неожиданная трагедия. Люди, сидевшие за соседними столиками, могли услышать, что какая-то приходящая уборщица в последнее время явно постарела, что у нее трудный характер и уже совсем нету сил. Но человек есть человек, сегодняшние поминки смягчили сердца, и потом, не так-то просто сказать старухе: «Уж вы к нам больше не ходите, пани Грушкова, все равно после вас приходится убирать заново». Это было бы по меньшей мере безнравственно, если не бесчеловечно. Даже когда ни на что не годная уборщица — безумная роскошь и, отказавшись от ее услуг, можно каждый месяц покупать по паре итальянских туфель.
Неделю старая Грушкова в глубоком трауре вкушала сладость безделья. Полных семь дней делила между внуками и внучками Эвочкины вещи: платья и отрезы материй, пальто и лыжи, туфли и сапожки, магнитофон самой лучшей марки, проигрыватель, пишущую машинку. «Каждому что-нибудь, милые дети, на память о вашей тете». Неделю ждала, что в передней зазвонит телефон. Но телефон упорно молчал, зазвонил только раз — и то по ошибке. Быть может, дамы сочли поминки прощаньем с самой Грушковой?
В понедельник она сняла с крюка на кухонном буфете связку ключей и с замирающим сердцем отправилась в квартиру инженерши Ярнецкой. В кухне, на застекленной полке, она, как обычно, нашла стокроновую бумажку и написанный четким почерком наказ:
«Добрый день, сегодня сделайте только самое необходимое, в холодильнике отбивные котлеты».
Во вторник пани Бутарова поджидала ее лично. Раскладывая на журнальном столике пасьянс, она сообщила, что с нынешнего дня вышла на пенсию, но от услуг пани Грушковой не отказывается.
Бункашовы в среду, вместо обычных консервов, оставили ей вареную колбасу с гарниром из савойской капусты.
Четверг неожиданно оказался свободным, ибо дворник в вилле, где жили Заховаи, сказал:
— Велено вам передать, что больше приходить не надо. Заховайова хотела написать сама, да все было некогда.
— Получили казенную прислугу?
— Где там! На два года уезжают в Африку. Умеют же люди устраиваться!
А в пятницу в записке пани Пекниковой была просьба непременно ее дождаться: мол, нужно договориться о чем-то очень важном.
Что теперь может быть для нее важным?
Квартиры она теперь убирает так, чтобы хоть на первый взгляд было чисто: оботрет мебель специальной пахучей жидкостью, проветрит, опрыскает прокуренные комнаты «лесным ароматом». Ощущение чистоты, первое впечатление — важнее того, что по углам на паркете и на плинтусах после ее уборки остается пыль. Старухам не под силу отодвигать тяжелую мебель, выметать из-под нее каждую пылинку. Да, собственно, никому это и не нужно.
— Тетя Веронка, у вас освободились четверги, верно? — начала Геленка Пекникова, жена Палько, налив по рюмочке кубинского ликера.
— Милая девочка, мне прежде всего нужен доктор!
— Гм… Тогда не стоит и говорить… А почему вам нужен доктор?
— Почти у каждой моей прежней хозяйки был свой доктор. И нынче у многих свои доктора.
— Гм…
— Отчего бы не иметь своего доктора и старухе, которая всю жизнь только и знала, что гнуть спину на тяжелой работе?
— Я могу спросить какого-нибудь доктора, не нуждается ли он в женщине для уборки.
— Хоть задаром буду ему убирать, если он по четвергам станет меня осматривать, пропишет хороших лекарств.
— Но вы же, наверное, обращались в поликлинику?
— Некогда, милая, некогда мне сидеть в приемной. Бегать по лабораториям. Клянчить, чтобы сделали рентген. Вот тут у меня, в связке, ключи. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Ну когда мне ходить по докторам? А кабы я по четвергам могла дожидаться доктора в его собственной уютной квартирке — я бы еще долго в силе была. Очень долго, уверяю вас. А надо, милая, надо. В домашней работнице люди нуждаются все больше. Нынче нас днем с огнем не сыщешь. Вымираем, как раки в ручьях, как дикие козы в горных лесах. Я очень вам нужна, Геленка? — Глаза старухи сияли каким-то внутренним светом.
Геленка молча кивнула.
— Всем я нужна! Все работающие люди хотят отдыхать в чистоте. Знаете, как нервничают мои хозяйки — доктора, инженеры или учительницы, когда их отправляют на пенсию? Им хуже, чем мне, — никто бы не доверил им ключей от своего дома! Так и будут сидеть, замурованные в четырех стенах, до самой смерти. Стариков теснят молодые. Надо уступать им дорогу. А мне никому не нужно уступать, золотце мое. Кому нынче охота жить, как жила я? Безмозглой я, право же, не была и жизнь прожила неплохую, но теперь люди загордились. Глупая это гордость, глупая! Ну что тут унизительного — услужить другому? Каждый человек кому-то служит! Ха! У какой из женщин к семидесяти годам скоплено на два кругосветных путешествия? Я бы уже могла вовсе не работать, да вы во мне так нуждаетесь. Могу среди вас выбирать. Вот эта и эта по-настоящему трудятся и не пренебрегают человеком. Они заслуживают мою помощь. Я им нужна. Знаете, как приятно сознавать, что не даром живешь? Получаешь от работы удовольствие. Теперь я буду ходить только к тем хозяйкам, которым помогаю с удовольствием.
— Вы собираетесь покинуть нас, тетя Грушкова?
— К вам я непременно буду ходить, Геленка, непременно. Возле молодых мне как-то лучше.
Примерно через год после смерти Эвочки в связке пани Грушковой уже были ключи только от квартир молодых хозяек. Каждый день около четырех она запирала чужую квартиру на два оборота и ехала автобусом в Соловьиную долину. На кладбище, красивом, как парк, украшала Эвочкину могилу свежими цветами, минутку стояла в задумчивости и пускалась в путь по кладбищенским дорожкам.
Дамы, у которых она служила в молодости, покоятся в пышных могилах с крестами и гипсовыми статуями. Могилы тех, кому она служила в лучшие свои годы, обычно без крестов, но тоже скромностью не отличаются. Скромнее всего выглядят могилы ее хозяек последнего пятнадцатилетия, но их тут совсем немного, обычно хозяйки этих лет покоятся на кладбище крематория, в другом конце города. Нынешние ее хозяйки молоды, каждая чем-то напоминает Эвочку. С ними можно говорить по-матерински. Они выслушают, если надо, спросят, поделятся заботами, и по глазам их прочитаешь, что тебя и твой труд они уважают. А если сморит тебя усталость и ты уберешь в их квартире кое-как, а то и вовсе не уберешь, ни одна не скажет:
— Давайте простимся, пани Грушкова. Не нужно больше приходить — в этом нет смысла.
Сказать так они просто не умеют. И Эвочка бы не сумела. Правда, случается, та или иная забудет оставить на кухне деньги, однако старая Грушкова не напомнит, как бывало:
— Прошлый раз, милостивая пани, у вас были неожиданные расходы?
Зачем? Какая из этих молодых женщин может мечтать о кругосветном путешествии? Им все некогда, а потому остается только завидовать ей, Грушковой, да надеяться, что когда-нибудь, под старость…
Перевод со словацкого В. Каменской.
Людвик Штепан СОЛО ДЛЯ ОРКЕСТРА
Осень прошла, зима не настала. Междуцарствие. Утром заигрывало солнце, а сейчас и собаку на улицу не выгонишь. Дождь хлестал землю короткими и яростными очередями.
Кноблох глядел в окно и усмехался. Все идет как по заказу. Ресторан будет полон. Правда, Лысаку его просьба насчет того, чтобы сегодня опять попробовать, не очень-то понравилась. Он все как-то жался, когда Кноблох пришел к нему утром, но под конец махнул рукой. Лысак не любит музыку. И ему жаль двух столов, которые ради этого придется вынести. Пока рестораном «На развилке» командовала Янакова, все было проще, Янакова всегда проявляла понимание.
— Да, доигрался ты, — ворчал себе под нос Кноблох, стоя перед зеркалом; он уже надел рубашку и по центру, между уголками воротничка, приладил, как полагается, бабочку. Бабочка была из темно-красного бархата и помнила лучшие времена. Тогда Кноблоха еще называли «маэстро» и приглашения ему и его оркестру сыпались как из рога изобилия.
Роговой гребенкой с тиснением на верхней части Кноблох причесал остатки седых волос. С этим делом он управился в два приема, проведя гребенкой сверху вниз и назад один раз на левой стороне, другой — на правой.
Поглядев на могучую лысину, занимавшую почти всю голову, он с отвращением показал себе язык. Рожа в зеркале сделала то же самое.
— Ну ладно, пошли, приятель!
Кноблох надел пиджак и влез в зимнее пальто. По дороге к выходу он было остановился у печки, но топить раздумал. Игра не стоит свеч. Все равно ведь придет ночью, а до четырех часов, когда ему вставать, слишком короткий срок.
Путь его лежал мимо коровника. Ему повстречались Вокач с женой, они сегодня в вечернюю смену.
— Что, музицировать? — еще издали со смехом сказал Вокач.
— Да уж пора, сам видишь.
Вокачиха хмурилась и, когда Вокач остановился поговорить с Кноблохом, пошла потихоньку дальше.
— Я вечерком забегу на тебя посмотреть, Пепик, — зашептал Вокач. — Меня уже с утра жажда одолевает. Но ты знаешь мою старуху.
Кноблох согласно кивнул. И они пошли, каждый своей дорогой.
В ресторане «На развилке» было уже жарко. Туристы всех трех категорий, обманутые вероломной погодой, заказывали кто поздний обед, кто порцию сосисок, и Лысак вертелся как белка в колесе. Поначалу он даже не заметил Кноблоха. Только увидев в углу раскрытые электроорган и прочие инструменты, он, петляя между столиками, приблизился к нему. Улыбнулся виновато.
— У вас нюх что надо, Кноблох. Моя старуха тоже говорила, что кости у нее болят. Мы сорвем хороший куш. Если так пойдет до вечера, плачу две сотни. Но вам придется…
Он осекся, уловив презрение во взгляде Кноблоха.
— Ну, я знаю, что вы к деньгам не того… Искусство, искусство! Нет, этого мне не понять! Для меня искусство — хорошая выручка. Вот это и есть искусство. Гм-гм… Я нацедил пльзеньского. Принести? — спросил он зачем-то — ответ был ясен.
— Лучше сразу два, пан Лысак. На обед у меня был линь, жаренный на масле. А рыбе нужно dreimal schwimmen[51], как говорят немцы.
— Как-то вы все торопитесь… Не понять мне вас, артистов, — сказал он, а сам при этом думал: не зря от тебя твоя сбежала, жить с таким забулдыгой… И ретировался в подсобное помещение.
— У, жадюга, — отвел душу Кноблох. Он наладил усилитель, включил самую малую громкость и начал медленные импровизации блюза.
Посетители стали поднимать головы, отрываясь от своей свинины с кнедликами, гуляша и жаркого, заулыбались. Вот так харчевня! Даже с музыкой!
Кноблох играл с закрытыми глазами. Он перебирал клавиши, потом указательным пальцем усилил звучание вдвое и включил автоматические басы. А ногами пустил в ход механизированный набор ударных.
Люди изумленно переглядывались. Один человек, а играет за целый оркестр. И ведь получается!
Кноблох опять передвинул регулятор громкости, перешел на форте, снова сыграл с начала и до конца тему и дал первую импровизацию. Ногами он обслуживал педали, в руки же взял короткую блестящую медную трубу.
Казалось, трактир «На развилке» потерял сознание. Даже почитателям единственного искусства — пивоваренного — было как-то неловко нарушить тишину. Лысак закрыл кран и перестал наливать пльзеньское.
Кноблох жал на рычажки корнета; его губы, отвыкшие от точного усилия, с трудом выдавали скользящие полутона. Закончив соло для трубы, он бегло проиграл несколько тактов и взял кларнет.
Трактир не дышал.
Только когда бурлящие каскады перешли в спокойный долгий звук и Кноблох, положив кларнет, включил для повторения мотива весь свой «оркестр», люди стали приходить в себя.
— Это прямо — как его? ну этот черный — Армстронг, — громко произнес господин в толстом альпинистском свитере.
Девушка в штормовке за соседним столиком улыбнулась на эти слова. Она хотела сказать своему спутнику: Арно, ты слышал это? Но, взглянув на него, поняла, что нет, не слышал. Потому что Арно как поднял, так и держал над тарелкой вилку с кусочком сосиски, и прядка кудрявых волос упала почти до бровей.
Итка знала, что Арно отключился. Дурачок, думала она. Для него существует только музыка да горы. Потом большой пропуск, а дальше, из нормальных вещей, на первом месте я.
— Ты послушай этот ритм. И переносы, — вдруг сказал Арно. — Самоучки такое не умеют. Ну — вот сейчас! Запинка. Ты слышишь, Итка?
— Не пожелаем ли мы еще чего-нибудь выпить? — заскрипел за ними фальшиво-сладкий баритон Лысака.
— А? Что? — очнулся Арно.
— Еще две кофолы, — ответила за обоих Итка.
— Так, две кофолы, — протяжно сказал Лысак и принял позу «мое почтенье, господа!».
Но прежде чем Лысак успел удалиться, Арно окликнул его.
— Что еще прикажете?
— Я хочу спросить. Кто этот человек? Который играет.
Лысак не знал, чем вызван вопрос. Он изобразил на лице сладко-кислую мину и наклонился пониже к столику.
— Так, один, местный. Скотник на ферме. Говорят, когда-то играл в каком-то ансамбле. Мы, знаете ли, стараемся…
— Да такого джазиста днем с огнем не найдешь!
— А он, знаете ли, этот Кноблох, он… Один он, что ему делать, вот так-то.
И Лысак на всякий случай ретировался. Кто его знает, что тут надо говорить, ворчал он себе под нос. Кругом проблемы… Но дела идут, дела идут, он довольно усмехнулся и крикнул в окошко жене:
— Одна свинина, два раза брненская колбаса с огурцом и три жарких.
А сам взял с полки стаканы для коктейля и приготовил две кофолы.
На дворе небо совсем затянулось, в пять часов настала ночь. Низкие серые тучи висели в кронах сосен у развилки дорог, огни ресторана едва пробивались сквозь густой туман.
— Арно, поедем домой. Мама будет волноваться.
— Последний автобус идет от развилки в восемь, Итка…
— Ну ладно, — кивнула она.
Арно поднялся из-за стола. Она знала, что идет он не в туалет, а… Он всегда так делал, когда музыка брала его за живое.
В консерватории было известно, что иногда он играет в джазе. Официально это было запрещено, но профессор Луна, классный руководитель Арно, аккуратно закрывал оба глаза на это нарушение.
«Музыка, — говорил профессор Луна, — музыка — это не радио, которое можно включить и выключить. Музыка — это болезнь. Единственная прекрасная болезнь».
Арно подошел к Кноблоху, когда тот собирался начать новую серию вариаций. Он сделал хороший глоток холодного пльзеньского и…
— Простите, пожалуйста, маэстро, — осторожно начал Арно. — Мне ужасно нравится, как вы играете. Такое чувство, и такой класс — настоящий джаз, это сразу видно…
Кноблох рассматривал его с удивлением. Кто ему в последний раз сказал «маэстро»? А вот — стоит невысокий паренек, черные курчавые волосы падают на лоб… Когда-то и у него были такие, в школе ему говорили, чтобы он шел в дирижеры: при каждом взмахе палочки волосы будут взлетать.
— Видите ли, я учусь в консерватории… И немножко, вечерами, играю в джазе…
— И вы хотите… Но я же не профессионал, я скотник, обыкновенный скотник на здешней ферме.
— Я знаю, пан Кноблох. Но после войны у вас ведь был свой оркестр! Большой джаз-оркестр Йозефа Кноблоха. Я читал про это.
Кноблох уже собрался все отрицать, но при взгляде на юношу понял, что лгать нельзя.
— Все прошло, все прошло, мальчик. Алкоголь иной раз может… Если хочешь, прими это как предостережение… Ну так на чем ты играешь?
Арно пожал плечами, не зная, выбрать трубу или кларнет. Но смотрел он на трубу. Кноблох улыбнулся и подал ему корнет.
— Спасибо, маэстро, — сказал Арно, прощупывая пальцами меандры инструмента.
— Давай сыграем что-нибудь из Черного Людвика[52], — услышал он голос Кноблоха.
Потом все заполнила музыка.
Оркестр из двух музыкантов вновь заставил затихнуть зал.
А Кноблох вдруг осознал: какая ловкость в обращении с чужим мундштуком — шляпу долой перед этим мальчишкой!
Арно забыл обо всем. Он вкладывал в игру все свое уменье.
И Кноблох тоже. Он закрыл глаза, и ему казалось, что он снова играет, как тогда, в пятидесятом, на большом парадном балу. Большой джаз-оркестр Йозефа Кноблоха закончил свой лучший номер, и овации не смолкали. На авансцену вместе с ведущим вышел главный организатор бала; он улыбался и, когда люди в зале затихли, сказал в микрофон:
— А теперь соло для маэстро Кноблоха.
Дирижер Кноблох подошел к микрофону, сердечно всех поблагодарил, а потом сказал тихо:
— Для меня — не надо. Я предлагаю соло для оркестра!
Зал взорвался овацией, и аплодисменты потонули в могучем потоке звуков вступившего оркестра.
Арно гасил звуки над основой, потом опускал их вниз и раскрывал вширь, а Кноблох обеими руками и ногами создавал иллюзию оркестра, для которого объявлено соло.
В битком набитом ресторане стояло сигаретное марево; в него ровными струйками поднимались от столов новые столбики дыма. Где-то далеко, на другом конце зала, сидела Итка, рядом с ней господин в белом альпинистском свитере.
А между ними текла черная река бешено гонимой музыки — с маленьким бумажным корабликом Луи Армстронга.
Перевод с чешского Н. Беляевой.
Ян Штявницкий МОСТ
Шофер остановил тяжелый грузовик перед вагончиком-бытовкой с надписью «Строительство компрессорной станции 4 на газопроводе Оренбург — Западная граница СССР» и выскочил из кабины. Едва коснувшись ногами земли, крикнул громко:
— Товарищ инженер!
— Слушаю, — отозвался инженер Скленка в полуоткрытое окно.
— Телеграмма.
— Из республики?
— Да.
«Ну вот», — пронеслось в голове Скленки, и руки его бессильно остались лежать на столе. Остро отточенный карандаш выпал из пальцев. Скленка почувствовал, что не в силах подняться. Кровь ударила в голову, в ушах зашумело.
«Виола…»
Перед отъездом в Советский Союз он зашел к своему школьному товарищу — главному врачу областной больницы — и попросил обследовать Виолу. Почему у них нет детей? Осмотрев ее, доктор сказал, что нужна операция, а до тех пор думать о ребенке рано. На другой день он приехал к Скленке на стройку сам и признался, что операция предстоит тяжелая и за исход он не ручается.
Два дня ходил Матей Скленка как в тумане. Грозная опасность нависла над дорогим в его жизни человеком. В субботу, собравшись с силами, он постарался войти в дом так же, как и прежде: с улыбкой на лице, с распростертыми объятиями, в которые всегда с детской радостью бросалась Виола. Продуманный заранее план — он собирался поговорить с ней об операции поздно вечером, уже улегшись в постель, когда не будет видно его лица, — сам собой отпал за ужином. «Говорят, — сказала Виола, — тебя направляют на линию Оренбургского газопровода… Поедешь в Советский Союз, а, Матей? Здорово! На такую стройку! Мне бы очень хотелось поехать с тобой, но не могу. Пока ты будешь там, я лягу в больницу. Сейчас не хочу: ты станешь навещать меня, а больница ни одну женщину не красит. Я же хочу нравиться тебе. И даже очень нравиться. А знаешь почему? Чтобы ты верил: у нас будет красивый ребенок… Я… я никогда не откажусь от мысли о нем. Никогда! Пусть врачи делают со мной все, что хотят…» Он не мог тогда поколебать эту ее надежду.
На службе Скленка сосредоточенно готовился к командировке в СССР, а дома по вечерам они вместе мечтали, как Виола приедет к нему, договаривались, как будут переписываться. Словом, сделал все возможное, чтобы она ни о чем не тревожилась.
Накануне отъезда он снова отправился в больницу и попросил друга сразу же после операции сообщить ему результат. Честно, откровенно, по-мужски. Школьный товарищ молча пожал ему руку…
…Скленка наконец справился с волнением и развернул телеграмму. Полоса света упала на телеграфные ленточки с черными буквами. Он не сразу понял смысл сообщения:
«Одиннадцатого отправлен котел из Праги тчк Приблизительно восемнадцатого будет на разгрузочной станции тчк Организуйте доставку и установку тчк Телеграфируйте когда выслать специалистов для завершения монтажных работ тчк Директор завода тчк».
— Котел! Это же котел! — обрадовался Скленка, и мрачные мысли мигом отступили. Сейчас он уже думал только о котле… Ведь, если его не доставить и не смонтировать вовремя, стройка останется без энергии, и они не смогут работать. — готовить бетон, вести внутреннюю отделку домов… Котел — это жизнь стройки. От него зависит ее темп.
Но почему же все-таки нет вестей от Виолы? Последнее письмо пришло три недели назад. Он догадался, что она уже в больнице, хотя сама Виола этого не писала — видимо, чтобы не волновать его. Почему же молчит врач? Или забыл об уговоре? Неопределенность хуже самой горькой правды. Нет-нет, сейчас об этом лучше не думать… Установят котел, и он прямо отсюда позвонит в больницу…
Скленка тряхнул головой, еще раз внимательно перечитал телеграмму, вложил ее в учетный журнал и, набросив на плечи полушубок, вышел на улицу.
Свежий ветер приятно ударил в лицо, приятно охладил. Окинул взглядом стройку. Рабочие сваривали конструкции, краны поднимали панели будущих жилых домов. Грузовые машины подвозили материалы и исчезали в облаках пыли. Порывы ветра разносили пыль по степи, крутили в воздухе и устилали ею низкую траву. На горизонте виднелись одинокие деревья, в той стороне спокойно нес свои воды Дон.
Скленка любил бродить над рекой. Здесь, на берегу, к нему не раз возвращалось спокойствие. Сколько он передумал тут о Виоле! Когда его охватывало отчаяние, хотелось бросить все и уехать к жене, река будто бы говорила ему: «Не поступай так! Это не принесет вам счастья. Ваше счастье — это не только вы с Виолой, но и ваше дело, твое дело, Матей. И ты не одинок. Посмотри, ведь даже я не одинока. У меня есть берега, остров, птицы, пароход, который проплывает сейчас мимо тебя, солнце, луна и люди…»
Глядя на воду, он успокаивался, вновь обретал душевное равновесие. «Может, пойти к реке?» — подумал он и уже подчинился этой мысли, но тут вдруг решительно зашагал в другую сторону, мимо сложенных панелей. Завидев мастера Фойтека, вечно сосущего леденцы, окликнул:
— Йожу не видел?
— Прораба? — процедил сквозь зубы мастер, отправляя леденец за щеку. — Прораба Ро́зложника?
— Да.
— В колхоз уехал. — И Фойтек подошел поближе к начальнику. — У экскаватора три зуба сломались. А сварочного агрегата нет. Может, у соседей попросить?
— Не слишком ли часто к ним обращаемся? — усомнился Скленка. — То одно, то другое…
— А к кому же еще обращаться? На следующей неделе и мы им поможем: подбросим цемента. К тому же машины не пойдут порожняком.
— Правильно, — задумчиво кивнул Скленка. — Машины надо с толком использовать. Было бы обидно…
Мастер ждал, что еще скажет, инженер, но тот умолк. Тогда Фойтек язвительно заметил:
— Что-то наши до́ма про нас забыли.
— С чего ты взял?
— Обещали, что котел прибудет в середине сентября, а сегодня уже десятое ноября. На твоем месте, — заволновался мастер и перестал сосать леденец, — я бы устроил такой скандал, что стены бы закачались.
— Во-первых, Пало, сегодня не десятое, а одиннадцатое, — поправил Скленка, — а во-вторых, — он улыбнулся, — котел уже есть.
— Есть? — удивился мастер и проглотил конфету. — Ослеп я, что ли? Или ты спрятал его под кровать и теперь греешься один? — пошутил он, думая, что и инженер тоже шутит.
— Сегодня я получил телеграмму, — серьезно сказал Скленка. — Котел отправлен. Числа восемнадцатого прибудет на разгрузочную станцию.
— А оттуда? — не без любопытства спросил Фойтек. — Как мы доставим его? Ведь не иголка, махина будь здоров какая!
— Посоветуемся. Вернется Йожа, скажи, что в пять собираемся в «Белом доме». Позови и Манделя, чтоб все были в сборе.
— Бетон. — Отправив в рот новый леденец, мастер указал на машину, которая привезла готовый бетон. Рабочие помогали шоферу подогнать самосвал так, чтобы масса вытекала в приготовленные формы.
— Не жидковат? — спросил Скленка.
— Что ты, — вступился за бетонщиков Фойтек. — А вообще, если хочешь, можем посмотреть.
Они направились к строящемуся дому. Скленка смотрел на рабочих, на бетономешалку, но мысли его были заняты котлом. «Фойтек прав, — думал он, — это ведь громадина, ее нелегко будет установить…»
— Хороший бетон, верно? — спросил Фойтек.
Скленка машинально кивнул, повернулся и зашагал к бытовке — «Белому дому», как шутливо прозвали его канцелярию.
Они расселись, кто на чем: Скленка опустился на стул, поближе к окну, мастер Фойтек и главный механик Мандель устроились на раскладушке, где прежде спал начальник стройки. Когда Скленка переселился в дом, раскладушку не убрали, она стала служить вместо стола: на ней лежали чертежи, разработки планов отдельных объектов, учетные книги работ, книга предложений и много других бумаг. Мастер Фойтек аккуратно отодвинул их подальше от себя. Если он и не любил что-то, так именно бумаги. Уже за несколько дней до месячного отчета у него портилось настроение, а во время работы над ним он старался поменьше общаться, чтобы не обидеть кого понапрасну из-за собственной злости. Да и как не сердиться, если вместо запаха известки, бетона и железа он должен вдыхать бумажную пыль! Но стоило мастеру сдать отчет, как он снова оживал, с радостью сосал леденцы, весело приветствовал каждого встречного-поперечного.
Прораб Розложник остался стоять в дверях. Полуоткрытым ртом ловил свежий воздух, предвещающий ночные заморозки, покашливал и тер бордово-красные щеки. Когда-то этот полнеющий мужчина увлекался футболом, был лучшим нападающим городской сборной, а сейчас стоял усталый и осоловевший и, казалось, подремывал. В работе Розложник забывал о своих двадцати пяти килограммах лишнего веса и умел увлечь за собой парней, не боясь трудностей.
— Может, закроешь дверь, — произнес Мандель, набивая трубку. — По ногам дует.
— Ага, — обрадовался Розложник. — Скажи, какая неженка! А все потому, что в машинах ездишь. Подожди, от тряски еще геморрой себе схлопочешь. Жаль, врачи не считают это профессиональной болезнью.
Все громко загоготали. Смех отразился от стен, ударил в потолок и вылетел через приоткрытую дверь. Розложник намеренно притворил ее неплотно, оставив щель, чтобы вытягивало табачный дым.
Скленка, улыбнувшись, поднял голову — морщинки вокруг губ и глубокая складка на лбу разгладились — и спросил:
— Начнем?
— Дело за тобой, — все еще шутил Розложник. — Размечтался, а мы тут ждем тебя не дождемся.
— Все о своей Виоле тоскует… — добавил с улыбкой Мандель. — Как только вспомню, что она сотворила со мной в Гуменном, когда мы там фабрику строили, до сих пор опомниться не могу.
— А что? Расскажи! — заторопил его Фойтек.
— Ты не знаешь? — Розложник переступил с ноги на ногу. — Все строители помирали со смеху…
— От стыда я на глаза никому не мог показаться. — Мандель закурил трубку. — Каждый кричал: «Гу… гу-гу… За тобой пришла! Забирать пришла!»
— Ребята, расскажите, — настаивал Фойтек.
— Лучше не рассказывай, мастер у нас человек нервный, вдруг его удар хватит — инсульт третьей степени, если говорить по-научному, — глубокомысленно заявил Розложник. — Так что, жалеючи мастера, лучше об этом не будем.
— Не стоит его дразнить… Расскажу. — Мандель посмотрел на инженера из-за облачка голубого дыма. — Однажды я здорово отпраздновал день своего рождения. Чего только не болтал спьяну! И между прочим брякнул, что, если бы пришла ко мне костлявая с косой, шмякнул бы ее промеж глаз. Наговорившись всласть, положил я голову на подушку, уснул и вдруг слышу, жужжит что-то над ухом. Открываю глаза — сам себе не верю: у кровати стоит костлявая, пальцем тычет на меня и бормочет: «Гу… гу-гу… Забирать пришла!» Я бух с кровати, встал на колени и давай молить о пощаде. Столько я ей наобещал — жена за десять лет такого не слышала. Утром узнаю — это Виола нарядилась. Парней наших, которые все это наблюдали, чуть родимчик не хватил.
Мандель рассказывал эту старую историю, а Скленка вспоминал другую, тоже случившуюся в Гуменном зимней вьюжной ночью.
Ветер тогда сердито бился о стены, но в домике было тепло. Виола лежала рядом, покойно положив голову на его плечо. Он взглянул на жену: она улыбалась, а на глазах у нее были слезы. Он спросил, в чем дело. Виола приподнялась на локте, по-детски размазала слезы и вдруг сказала, что уйдет от него. Она любит его, но детей у них нет. Зачем ему такая жена?.. Он долго не мог подобрать подходящих слов, чтобы утешить Виолу. Все мысли спутались. Он только крепко обнял ее, прижал к себе и принялся что-то бормотать в утешение. Он говорил сумбурно, сбивчиво, но Виола успокоилась и обещала, что никогда больше не скажет ему ничего подобного. Сейчас, через столько лет, он как бы заново осмыслил тот разговор. Виола готова была пожертвовать своим счастьем, чтобы он мог найти счастье с другой. Что большего можно было ожидать от любящей женщины? Виола никогда потом не вспоминала об этом случае. И плачущей он уже никогда ее не видел. Она осталась с ним, потому что поверила, что он счастлив с ней, и пыталась дарить ему только добро и радость. Печаль и боль свою оставляла при себе. Сколько сил ей это стоило! Конечно, ему не надо было уезжать, надо было остаться, когда ей сейчас так трудно. Его дело, его работа, все, что связано с ней, любая мелочь для Виолы так же важны, как и для него самого.
Скленка даже вздрогнул, когда почувствовал, что в комнате стоит тишина.
— Долго же ты о ней думаешь, — полушутя-полусерьезно заметил Розложник. — Мы уже давно расстались с Гуменным.
— С женой всегда трудно расставаться.
— Кому как, — проговорил Мандель и затянулся, придерживая пальцем табак в трубке. — Стоит мне застрять дома хоть на три дня, жена уже готова звонить в правление, чтобы меня поскорее куда-нибудь услали. Туда не пойди, сюда не ступи, всюду ей поперек дороги.
— Ну-ну, — протянул Розложник, — уж кто-кто, а вы настоящая семья строителей. Будете праздновать золотую свадьбу — посчитайте, сколько дней и ночей провели вместе, увидите: медовый месяц ваш еще не кончился.
— Может, это и лучше, чем вечно быть привязанным к юбке, — махнул рукой Мандель.
— Начнем! — сказал инженер Скленка. Он глянул на телеграмму, лежащую в открытом учетном журнале, и повысил голос: — Сегодня нам отправили котел со всем оборудованием. Поздновато, конечно. Тем более мы должны точно знать, все ли у нас подготовлено, чтобы монтаж и пуск котельной прошли без лишних затруднений. У кого есть соображения на этот счет? Кто выступит первый?
— Могу я. — Фойтек повернулся к инженеру.
Как всегда, за щекой Фойтека бугрился леденец, но к леденцам Фойтека все уже давно привыкли и не обращали на это внимания.
— Фундамент для котла и цистерны уже готов. Через два дня будут готовы и разводные трубы в жилых домах. Наполнение труб и их проверка займут один-два дня.
— Добро, — кивнул Скленка и посмотрел на Манделя…
Тот вынул трубку изо рта, облизнул губы, произнес важно:
— С нашей стороны все в порядке.
— Из этого мы узнали многое, — съязвил Розложник.
— А конкретнее! — спросил инженер Скленка.
— Наш тягач не дотянет котел, — неторопливо проговорил Мандель. — Мы это уже обсудили.
— Вот вам и первая палка в колесе!
— Подожди! — Скленка нахмурился. — Не перебивай!
— Для перевозки котла советская сторона может дать нам свой «Ураган». Он и черта из ада вытащит, коль понадобится. — Мандель на минуту замолчал и с сожалением взглянул на гаснущую трубку. Он придерживался неписаного правила: толкуешь с начальством, не держи курева во рту. — Для погрузки на тягач на станции есть кран, я уже договорился.
— А установить котел следует здесь, на месте? — нетерпеливо поинтересовался Скленка.
— Будет сложнее, но, думаю, справимся четырьмя автокранами.
— Интересно, где ты их возьмешь? — буркнул Розложник.
— На базе у нас только один, — проронил Фойтек.
— Это твой план? — положил ладонь на телеграмму инженер Скленка. — Почему ты заранее не проинформировал?
— О чем? — Мандель поджал губы.
— Мне кажется, твой план не продуман, — осторожно заметил инженер, зная, как может среагировать Мандель на такие слова.
— Не продуман?! — рассердился Мандель и, задев трубкой о железный каркас раскладушки, пришел в еще большее раздражение. — Не продуман, говоришь? А что, я с каждой мелочью должен к тебе бегать?
— Должен, потому что это не мелочь, а серьезное дело! — тоже раздраженно ответил Скленка. — Я для того здесь и начальник…
Розложник как-то неестественно сильно раскашлялся. Скленка взглянул на него, и ему показалось, что глаза прораба говорили: «Что ты делаешь? Разве не знаешь Манделя? Он сто раз примерит и лишь потом придет к тебе, если ни он, ни его ребята сами не найдут выхода из положения. Отступись! Не посягай на то, что он может сделать сам…»
— Так что́ ты предлагаешь, расскажи поподробнее, — уже спокойно попросил Скленка и повернулся к Манделю.
— Один автокран у нас есть, — считал на пальцах Мандель.
— Я уже об этом говорил, — вставил Фойтек.
— Тихо! — Скленка поднял руку.
— Второй автокран возьмем с третьей базы, — продолжал Мандель.
— Это более трехсот километров отсюда, — обронил Розложник.
— Третий нам дадут наши строители, — не сдавался Мандель, — а четвертый — советские товарищи с компрессорной станции. Ну?
Все молчали.
— У кого есть вопросы? — официально спросил Скленка.
— Объясни мне одно, Мандель, — доверительно поинтересовался Розложник. — Четыре автокрана — это четыре крановщика. — Розложник опять переступил с ноги на ногу. — У каждого свой характер, своя сноровка. А тут все должны работать слаженно, как колесики в часах. Один затормозит, другой поспешит — центр тяжести сместится, и готово дело — авария. Не так, что ли?
— Прежде чем начнем устанавливать котел, проведем пробу на вагончике. — Мандель, против своего обыкновения, сунул трубку в рот.
— На чем?
— На вагончике, где сейчас склад. Будем передвигать с места на место, пока все крановщики не научатся точно выполнять мои приказы. Всего часок-другой потребуется. — Мандель победоносно пыхнул дымом.
Скленка прокручивал в голове план Манделя. В их положении это был оптимальный вариант.
— Отлично, — с улыбкой заключил инженер и протянул руку к печке, рядом с которой сидел Розложник. — А трасса как?
— До районного центра нормально, — лаконично ответил Розложник. — Потом будет потруднее, а к нам — только по степи.
— Земля сухая, твердая…
— Не везде.
— Тягач поедет медленно.
— Разумеется, — согласился прораб.
— Все? — спросил Скленка, закрывая журнал с телеграммой и готовясь закончить совещание.
— Нет!
— Что еще? — Скленка удивленно посмотрел на тучного Розложника, словно говоря: «Хватит твоих шуток, дружище».
— Мост в Басках не выдержит тягача с котлом.
— Ты прав, Йожа, — кивнул Мандель, не выпуская трубки изо рта. — Опоры сломаются.
— Можно сровнять берега бульдозерами, сделать временную запруду. И тягач пройдет, — заметил Фойтек.
— Сумеете сделать? — Скленка вопросительно глядел на мастера.
— Часа за три.
— Я против, — стремительно поднялся со скамейки Розложник. — Тягач может завязнуть в речном иле. А эта плотина? Стоит «Урагану» немного запоздать, и вода прорвет ее…
— Ты все представляешь в черном свете, — стоял на своем мастер.
— Правильно говорит Йожа, — поддержал Розложника Мандель. — Меня вы щипали, как гуся, когда речь шла о кранах, а заговорили о мосте, так вам все нипочем.
— Что ты предлагаешь? — спросил инженер, подняв взгляд на стоящего Розложника.
— Построить новый мост! — выпалил прораб.
— Что? — вскочил с раскладушки Фойтек. — Новый мост?
— Знаешь, Йожа, не сходи с ума. — Мандель перебросил трубку из одного уголка рта в другой. — Котел ведь прибудет на станцию не через год, а через неделю.
— Это самая невероятная шутка в истории газопровода, — весело сказал Скленка. — Ей бы даже «Рогач» заинтересовался. Как ты их печешь?
— Да нет, я серьезно. — Розложник умоляюще смотрел на товарищей. — Мост можно построить за день. Но лучше, чтобы не останавливать движение, построить ночью! Да, за одну ночь!
— Не болтай ерунду!
— От этих слов даже бетон размякнет.
— Говорили: не ешь столько, а то мозги ожиреют. Вот и результат налицо. Хорошо еще, что тебя не слышат другие.
— Хватит! — крикнул покрасневший Розложник и стукнул кулаком по столу. Глаза его налились кровью. Он жадно втягивал в себя носом воздух, словно задыхался. Крупные капли пота выступили на лбу.
— Не кричи! — приказал Скленка.
— Спорю на свою месячную зарплату, — сказал Розложник, — что смогу построить мост за одну ночь. Только ты, инженер, получи разрешение…
— Мы собрались здесь не для того, чтобы заключать пари. — Скленка оперся ладонями о край стола.
— Тогда дай свое согласие на строительство!
Инженер задумался, остальные терпеливо ждали его решения. А он понимал, что речь идет не только о мосте, но и о взаимном доверии. Либо станут они еще ближе друг другу, либо дружбе — конец. В жизни каждый хочет совершить что-то такое, что надолго осталось бы в памяти. Вот Розложник — построить этот мост… А что, если ничего не выйдет и доставка котла задержится? В ответе будет он. Никто другой, только он, инженер Скленка. Вправе ли он ставить на одну карту страстное желание прораба возвести мост и весь ход стройки?
Скленка посмотрел на Розложника. Тот старался казаться спокойным, хотя внутренне был натянут как струна. Инженер поднял телефонную трубку и, когда ответила почта, попросил:
— Соедините, пожалуйста, с горсоветом, с председателем.
Розложник опустился на скамейку возле печки.
— Вот план. Таким я представляю мост в Басках. — Розложник показал Скленке чертеж. — Детали уточню на месте, надо поглядеть, что там за грунт.
Скленка поднял голову от бумаг, сказал тихо:
— К утру посмотрю. Хотите начать завтра вечером?
— Да. В пять отправимся с базы. Приедешь?
— Конечно, — улыбнулся Скленка одними глазами. — Разве я могу не приехать? Ты ведь собираешься перекрыть все рекорды, кто-то же должен вписать это в историю!
Розложник не принял шутливого тона Скленки. Вертел в толстых пальцах карандаш и, когда настала минута тишины, по-дружески спросил:
— Матей, с тобой что-то происходит… Что-нибудь случилось?
— Все нормально.
— Я бы не сказал. — Прораб склонился над столом. — Ты изменился, Матей. Ходишь возле нас, а не видишь. Может, с Виолой что?
Скленка повернулся к окну, чтобы Розложник не видел его лица.
— Ты знаешь, начало стройки — самое трудное, — осторожно подбирая слова, проговорил Скленка. — Это как с младенцем. Я устал. Вот и все.
— Значит, дело в усталости?
— А в чем же еще? — Скленка схватился за край стола. — Уж не заделался ли ты доктором, что так выспрашиваешь?
— Извини. — Розложник отступил и застегнул пуговицы пальто. — Впредь лучше буду помалкивать.
Он открыл дверь, и в комнату ворвалась струя холодного воздуха. Ветер подбросил чертеж на столе и зашелестел бумагами.
Розложник уже переступил порог, когда Скленка окликнул его:
— Погоди! Вернись.
Розложник потянул дверь на себя, она громко скрипнула. Прораб подошел к Скленке, тот сидел за столом и смотрел в окно на дом, освещенный тусклыми фонарями. Круги света дрожали от ветра, разрываемые черными полосами тьмы. Иногда в этих освещенных кругах сновали люди в комбинезонах, иногда пятна света делались ярче — от фар проезжающих автомашин. Стройка не засыпала и ночью, подчиняя своему ритму мускулы людей и силу машин.
— Может, выпьем? — спросил Розложник.
Скленка покачал головой и остановил взгляд на друге, вместе с которым уже несколько лет кочевал с одной стройки на другую. Все старался похудеть Розложник, а сам только полнел, хотя в нем еще чувствовалась сноровка и ощущалась какая-то неодолимая сила и уверенность: одна проигранная игра погоды не делает. Вполголоса Скленка проговорил:
— Виола в больнице… Предстоит операция… — Он не мог говорить дальше. Розложник нежно обнял его за плечи.
Под потолком тоскливо гудел вентилятор.
— На сегодня забудьте, что вы строители! И что давно расстались с военной формой. Наоборот, представьте себе, что вы служите в армии и сейчас пришли на учения, а я — ваш командир, — обращался к рабочим Розложник и для убедительности помахивал пухлой рукой. Строители улыбались. Вид у прораба был далеко не командирский: ушанка, надвинутая на красные уши, сидела криво, завязки свисали на воротник старенького пальто; расстегнутое, оно было перехвачено ремнем, как обычно у плотников. Брюки в обтяжку — вот-вот лопнут. Тяжелые солдатские ботинки он чистил редко.
— Черт возьми, — протянул, смеясь, слесарь Шмерко, — вот будет потеха!
— Ти-ихо! — высоким голосом крикнул Розложник.
Парни засмеялись еще громче, не понимая, к чему клонит прораб. Вчера он сказал им, что нужны тридцать добровольцев для ночной смены. Особой ночной смены. Причем работа будет не здесь, а в другом месте. Прораба любили за шутки, веселый нрав и открытость души, поэтому идти вызвались все. Но он выбрал ровно столько, сколько намечал, и сказал, чтобы завтра в три они собрались возле столовой. И вот теперь он разговаривал с ними, как с призывниками.
— На военной службе слушают и выполняют приказы. А мы получили приказ нашего генерала.
— Как его зовут? — хихикнул электрик Кмотек, вытирая ладони о промасленные брюки.
— Разве я вам не сказал? — удивился Розложник.
— Не-е-е-т… — закричали все разом. Игра начинала нравиться.
— Наш генерал — инженер Матей Скленка, — с серьезным видом произнес Розложник. — Так как вы его все знаете, я не буду его представлять. Лучше ознакомимся с приказом.
— Давай!.. Слушаем!.. — раздались голоса.
— В приказе номер один говорится, что в ближайшие дни к нам прибудет паровой котел. Как доложила разведка, мост в Басках не выдержит тяжести котла и тягача. Поэтому старый мост необходимо разобрать и заменить его новым. Для выполнения этой задачи отобрано тридцать добровольцев. Начало операции назначено на семнадцать часов московского времени. — Розложник вздохнул.
— А вознаграждение? — совсем не по-военному спросил Шмерко.
— На следующей неделе в это же время, — шутливо ответил вместо прораба шофер Юрко.
— Нет! — твердо произнес Розложник, и лицо его стало совсем серьезным. — Мост должен быть готов к завтрашнему утру!
— Что?
— Как?
— Шутите, товарищ прораб?
— Нет, не шучу. — Розложник подошел поближе к строителям. — Говорю совершенно серьезно. Утром по нему должен пройти самый мощный тягач. Этот приказ мы выполним. Как солдаты! Каждый получит свое задание. Конечно, добровольно. Кто не хочет, может остаться. Возьмем другого. Я убежден: если человек хочет чего-то добиться, то невозможное становится возможным. И я вам, черт возьми, верю. Я все обмозговал, все высчитал, только не определил одну вещь… И знаете какую?
— Ну?
— На сколько раньше мы закончим сумасшедшую работу, которую поручает вам пузан Розложник!.. Ну, что вы на это скажете? — уже с улыбкой спросил прораб.
Строители молчали. Одни улыбались, по лицам других было видно, что они обдумывают и прикидывают. Третьи недоверчиво посматривали на соседей, все еще полагая, что происходящее — всего лишь шутка, в которую они не были посвящены. Нашлись и такие, которые в душе проклинали себя за то, что согласились прийти сюда. А маленький Пунчо забрался на сложенные доски, снял ботинок и принялся забивать вылезший из подметки гвоздь, будто все, о чем тут говорилось, его не касалось.
Розложник, засунув руки в карманы пальто, ждал ответа. Неподалеку от него стоял Фойтек и рядом Мандель с трубкой в зубах. Маленькие облачка дыма, которые он выпускал через сомкнутые губы, подхватывал ветер и вытягивал в тонкие нити.
— Уж раз мы вступили в армию, — нарушил тишину Шмерко, — то будем воевать! Капитан, давай приказ!
Толпа пришла в движение, но Розложник поднял руку. Глаза его светились радостью, щеки покрылись румянцем.
— Шоферами, крановщиками, экскаваторщиками будет командовать Мандель, — крикнул Розложник. — Остальные помогут грузить материал. Через час трогаемся. Ужин и чай нам привезут. А сейчас — разойдись!
Пунчо хотел было козырнуть и повернуться по-военному, но у него заплелись ноги, и он под общий смех едва не свалился с досок.
Первым двинулся автокран. Рядом с шофером сидел Розложник, взволнованный и нетерпеливый. Ему казалось, что он снова футболист, сидит в раздевалке перед началом трудного матча; тело еще отдыхает, а в голове уже зреют сложные комбинации. Он знал: если ожидание затянется, устанешь раньше времени и начало игры будет тяжелым. С мостом сейчас нечто подобное. Чем скорее они придут на место и начнут работу, тем лучше. Энтузиазм, решимость людей нельзя расплескивать. Все это может испариться, улетучиться, и тогда любые усилия окажутся тщетными.
Розложник открыл окно, высунулся. За автокраном следовали грузовики со строительными материалами, дальше — тягач, груженный металлическими конструкциями, потом вплотную механическая мастерская и передвижная электростанция, экскаватор с поднятым ковшом и в конце колонны крытые машины с людьми. Чистое небо быстро темнело, оставляя розовый круг там, где зашло солнце.
— Поедем по дороге или прямиком? — спросил шофер.
— Проедешь? — Розложник втянул голову в плечи и смотрел, как под напором ветра гнутся уже почти голые ветви деревьев.
— Спустимся вниз и свернем. Шоферы там обычно срезают путь.
— А стоит ли?
— Стоит. На десять километров, пожалуй, меньше.
— Тогда давай, — решил Розложник и уселся поудобнее.
Шофер крепче взялся за руль, прибавил газу и, когда автокран въехал в небольшую лощину, соединявшую озимые поля с поблескивающим, озерком, свернул на пастбище. Фары ощупывали землю. Свет то уходил куда-то вверх, то падал вниз, почти к передним колесам. Вслед за ними на всех машинах включили фары. Шофер автокрана видел в зеркальце их мигающие желтые точки.
— И вправду, как на военных учениях, — заметил он шутливо, не глядя на прораба. — Но в армии я водил танк. А вы?
— А я служил в медчасти — у меня травма колена.
Шофер искусно обошел глубокую яму и, когда вывел машину на более ровный участок, весело продолжил:
— А тут вы сразу получили звание капитана инженерных войск.
— Надеюсь, к утру каждый станет маршалом.
Оба негромко засмеялись. Автокран медленно двигался по склону холма. Поднявшись на гребень, они увидели широко разбросанные деревенские домики со светящимися окнами, правильные ряды уличных фонарей и хозяйственные постройки на противоположной стороне долины.
— Где мост? — Шофер повернулся к Розложнику.
— Как спустишься вниз, у первого дома сворачивай на дорогу, а там рукой подать.
С виду мост казался крепким. Но когда строители сняли перекладины, чтобы кран мог поднять настил, то стало ясно, что дерево подгнило. Крепкими были только опоры, выступающие над водой.
— Подымай! — крикнул Пунчо, подцепив на крюк петлю каната. — Только потише.
— Давай! — поднял руку Розложник. — Ровно!
Настил подняли; он плавно качался на ветру, пока автокран переносил его к грузовику, а потом со скрипом уложил на платформу. Шофер дал газ, и машина ушла в темноту.
— Экскаватор! — крикнул Розложник и вбежал в круг, ярко освещенный прожекторами, которые расставил вокруг моста Кмотек. С масленкой в руке он стоял возле экскаватора, прислушиваясь к работе двигателя, и был похож на врача, который собирался осмотреть больного.
Экскаватор подошел к мосту прямо по руслу реки. К нему задним ходом один за другим подогнали грузовики. Могучий ковш зарылся в берег и, полный камней и земли, поплыл к первому грузовику. Открыв пасть, сбросил содержимое в кузов.
— Куда сыплешь? — крикнул Фойтек. — Половину мимо!
Экскаваторщик не ответил, но включил фару, чтобы лучше было видно. Второй ковш наполнил тяжелую «татру».
— Следующая! — махнул рукой Розложник.
— Идем разравнивать! — отрапортовал остановившийся около него Пунчо.
— Каски на голову!
— Выполняй приказ! — крикнул Пунчо напарникам и первым надел каску. Шестеро остальных последовали его примеру. Парни спустились почти к самой воде и стали разравнивать лопатами землю, где предполагалось укрепить основание будущего моста.
За спиной Розложника посыпались фиолетово-голубые искры. Это сваривали конструкции, чтобы несущую часть сразу же ставить на опоры.
— Видимость плохая! — кричал снизу Пунчо.
— Посвети еще прожектором, — обратился Фойтек к электрику.
— Не могу.
— Почему?
— Основная энергия — сварщикам.
— Хорош осветитель!
— Работайте с факелами.
— Давай!
— Сейчас подолью солярки и зажгу.
— Быстро!
— Бегу!
Все трудились, не жалея сил. Достаточно было жеста, слова, и каждый четко выполнял задание. Закончили свою работу плотники — взялись за лопаты. На левом берегу еще грохотал экскаватор, а на правом строители уже укрепляли опоры моста. Розложник успевал всюду и все проблемы решал на ходу. Фойтек следил за доставкой материалов. А Мандель руководил техникой, как офицер танковой ротой. Машины подходили впритык друг к другу. Автокран поднимал конструкции и доставлял их сварщикам.
Лучи прожекторов, свет фар, всполохи электросварки, колеблющееся пламя факелов гнали тьму прочь.
Когда Розложник впервые взглянул на светящийся циферблат часов, было только начало десятого.
— Наверное, остановились, — пробормотал он и кивнул Фойтеку.
— Что? — спросил мастер.
— Поставь экскаватор выше по берегу. Пора возить камни и гальку, готовить насыпь.
— Тягач уже тащит каток. Сейчас начнем, — ответил мастер и исчез в темноте так же неожиданно, как и появился.
Когда приехал на своем газике инженер Скленка, железные конструкции, соединяющие один берег с другим, почти все уже были на своих местах. Автокран стоял на насыпи — предстояло укладывать плиты.
Скленка стоял возле газика. За многие годы работы на стройке он с первого взгляда научился распознавать, где трудятся честно, на совесть, а где лишь делают вид. Здесь работали самозабвенно и как-то по-юношески увлеченно, словно мальчишки, которые пытаются доказать себе, что они уже взрослые, — забыв об усталости, не замечая мелких царапин, влажных от пота рубашек, песка, который ветер бросает в лицо, студеной воды, хлюпающей в ботинках.
За спиной инженера, скрипнув тормозами, остановилась машина.
— Тут не проедем, — произнес кто-то по-русски.
Скленка повернулся. Возле «скорой помощи» стоял человек — видимо, водитель.
— Должны, — ответил ему женский голос из «скорой». — Лену нужно в больницу как можно быстрее. На объезд нет времени.
— Мост разобрали.
— Что же ей теперь, в машине рожать? — Женщина выглянула из окна, сощурилась от яркого света. — Подойди к начальнику, посоветуйся, сделай же что-нибудь!
— Здесь не наши, — заметил водитель.
— А кто?
— Чехословаки… С газопровода.
— Господи, что ты говоришь, — возмутилась женщина. — «Не наши»! Свои! Скажи им. Они помогут!
Водитель натянул кепку на лоб и двинулся к мосту.
— Куда едете, товарищ? — спросил Скленка.
— Да вот, дело трудное… Врачиха торопит, а тут… ни туда, ни сюда.
— Подожди, придумаем что-нибудь.
— Начальник не ты?
— Какое сейчас это имеет значение, — усмехнулся Скленка и энергично зашагал туда, где на укрепленные опоры укладывали железные конструкции. Потом в эти ячейки положат дорожные плиты, и несущая поверхность моста будет готова. — Где Розложник? — спросил он Пунчо.
— Наверно, у автокрана, — кивнул тот в сторону яркого снопа света.
— Приехал на нас посмотреть? — Фойтек увидел инженера. — Ну и что скажешь?
— Санитарную машину нужно переправить на другой берег. Везет… женщину. Наверное, в роддом.
— Еще полчаса и…
— Ребенок не будет ждать, пока мы построим мост, — резко сказал Скленка. — Если настелить доски, проедут?
— Рискованно. Женщина, конечно, прошла бы, а там ее отвезла бы наша «татра»…
— Не знаю, может ли она…
— Подожди! — Мастер придержал Скленку за пальто. — Вот там, выше моста, мы сровняли берег. Если машина не очень низкая — пройдет и по воде. Где она?
Скленка показал на «скорую помощь», возле которой нетерпеливо переминался с ноги на ногу водитель.
— Пусть подъезжает. Попробуем.
Скленка побежал к шоферу, а Фойтек уже распоряжался, чтобы убрали с дороги плиты, сровняли кучи гальки…
Вскоре побросали работу все: закуривали, вытирали пот, следили за «скорой помощью», которая осторожно съезжала к реке. У самой воды машина остановилась.
— Посвети! — крикнул Розложник крановщику.
Автокран развернулся, и сильный луч лег на реку. Водитель тронул машину, и она коснулась воды.
— Пусть «татра» будет наготове, — сказал Скленка. — Боюсь, не проедут…
Разрезая воду, «скорая» ползла к другому берегу. От нее в разные стороны разбегались пенистые изломанные полосы воды. Но вот передние колеса коснулись противоположного берега, и водитель переключил скорость. Взревел мотор. Машина задрожала, но колеса скользили, съезжая назад.
— Трос! — крикнул Розложник. — Скорее тащите сюда трос!
Скленка вспомнил о Виоле. Он все на свете отдал бы, чтобы и ее когда-нибудь вот так же везла в роддом «скорая помощь». Ведь ребенок — сын или дочь — это продолжение жизни, продолжение рода. Не будет этого звена — и все нарушится. Уже ни у кого не будет добрых глаз Виолы…
Новая попытка водителя подняться на берег оказалась безуспешной. И тут Скленка бросился вниз, к реке. Вода была ему выше колен, он уже чувствовал ее холод. Добежав до «скорой», уперся руками в кузов, машина дрожала, колеса буксовали по дну реки, поднимая фонтан брызг. Скленка подналег плечом; полушубок его вмиг стал сырым и грязным.
— Ух! — выдохнул он с шумом и прикрыл глаза.
— Сейчас! — раздался близкий голос Розложника. — Давай, ребята! Раз! Два!
Хлюпанье воды смешалось с тяжелым дыханием мужчин, шумом мотора и колес.
— Ну… у-у! — пыхтел Розложник. Он почти касался лицом забрызганного грязью кузова. Все больше и больше людей окружало машину — через минуту ее почти вынесли на берег.
Скленка кивнул водителю. В другом окне он увидел, как доктор, склонившись над лежащей женщиной, вытирает ей пот со лба. Женщина повернула голову к окну, и Скленка заметил слабую улыбку на ее бледных губах. «Скорая» тронулась. А люди смотрели ей вслед, пока огонек не исчез во тьме.
— Обсохнем и потом закончим мост, — нарушил тишину Розложник. — Что скажешь на это, Матей? — Он повернулся к инженеру. — Ужин и чай в машине.
Скленка посмотрел на строителей. «Если сейчас прервем работу, — размышлял он, — то прежнего темпа уже не взять. Люди устали, промокли…»
— Как решим? — обратился он ко всем. — Отдохнем или закончим разом?
— Леший, а не мост! — крикнул Пунчо и, как по мячу, ударил ногой по гальке. — Закончим его!
— Дай-ка лопату! — поддержал инженер. — Надо согреться!
Он глубоко вонзил лопату в гальку и стал разбрасывать ее. Строители разошлись по своим местам и принялись за работу, словно обретя второе дыхание.
Через некоторое время Скленка почувствовал смертельную усталость. Руки задеревенели, но он продолжал кидать гальку. Скленка не противился усталости: она, хоть и ненадолго, помогала забыть о вспыхнувшей надежде — надежде, которая затеплилась в нем, когда он увидел роженицу в санитарной машине. А Виола, наверное, никогда… Но, может быть… Может быть…
В половине третьего ночи рабочие уже красили перила нового моста. Стоявшие на обочине машины с выключенными моторами и погашенными фарами напоминали заснувших великанов. Кмотек подливал солярку в бак, плотник Шмерко грел руки у еще не остывшего радиатора. Несколько человек разравнивали насыпь. Маленький Пунчо не сводил воспаленных глаз с Розложника, который взад-вперед ходил по новому мосту, словно никак не мог насладиться.
Закончив работу, все собрались на мосту и ждали, что скажет инженер. Скленка уже обдумывал свою будущую короткую речь, но тут вдруг к ним подрулила знакомая «волга» — приехал председатель горсовета.
— Здравствуйте, Иван Юрьевич. — Скленка подал руку председателю. — Только что закончили.
Председатель пожал протянутую руку, громко сказал:
— Спасибо вам…
— За что же? — охрипшим голосом возразил Розложник. — Мост ведь мы для себя строили: котел провезти надо.
— Котел-то вы провезете, а мост нам останется, — взволнованно сказал председатель. — И еще останется легенда… о том, как люди за одну ночь мост построили. Будет стоять мост и о нашей дружбе расскажет…
Открыли бутылку «сливовицы». Скленка первым глотнул немного и пустил бутылку по кругу. Пригубили и остальные.
Брезжил рассвет. Каждому хотелось ласково дотронуться до моста, и каждый знал, что никогда не забудет эту ночь.
— Ты с нами вернешься? — спросил Розложник инженера, когда первые машины двинулись в обратный путь.
— Нет. Поеду на разгрузочную станцию. Вернусь уже с котлом. Так мне будет спокойнее.
Газик выехал на дорогу, взбежал по насыпи на мост и, проехав по нему, помчался к перекрестку. Розложник смотрел ему вслед и упрекал себя за то, что отпустил Матея одного, уставшего и полного тяжелых дум. Мысли о друге омрачали радость этой ночи.
Инженер Скленка вернулся через четыре дня. Котел поставили на подготовленный фундамент, проверили, все ли в порядке, и Скленка сказал Розложнику:
— Подготовь записку о приеме котла. А я составлю текст телеграммы директору завода.
— Когда будем включать, приедешь?
— А как же!
Инженер зашагал к своему вагончику, на ходу подмечая перемены на стройке в его отсутствие. «Сколько мы все-таки еще портим панелей. А гвозди! Когда же люди поймут, что нельзя их разбрасывать! Надо будет сказать об этом на десятиминутке. Да и бетонщики тоже хороши. Бетон жидковат. Течет хорошо, а застынет — что тогда делать будем, ведь ночи уже холодные. С Йожей бы надо составить график работы шоферов в зимнее время».
Открыв дверь вагончика, Скленка увидел на столе письмо. По обратному адресу понял — от бывшего одноклассника. Неестественно долго вскрывал конверт, а потом стремительно пробежал глазами по листу, исписанному мелким почерком. Перечитал несколько раз отдельные строчки.
«Пишу тебе, как другу, откровенно. Операция прошла успешно… Виола молодцом… Но мои опасения подтвердились — детей у вас, к сожалению, не будет…»
Скленка отложил письмо, потер ладонями уставшие глаза. «Детей у вас… не будет». Это звучит, как приговор. Но ведь Виола жива, жива… Это главное. Они никогда больше не расстанутся. Значит, будет радость, будет работа. Мысли о Виоле переплетались с событиями последних дней. «Мы ставим мосты. Человек должен жить так, чтобы на его счету было как можно больше возведенных мостов». Он сегодня же напишет Виоле, напишет так, как они когда-то писали друг другу: радостно, шутливо, весело. Он начнет строить новый мост между ним и Виолой. Разве он может допустить чтобы они смотрели друг на друга сквозь холодную стену отчуждения!
— Матей! — крикнул за окном Розложник. — Техники проверили приборы и заполнили цистерну. Пора включать. Пошли!
— Иду! — Скленка тяжело поднялся со стула.
Перевод со словацкого Т. Мироновой.
Любош Юрик САДОВНИК
Уже несколько недель не было дождя. Земля высохла и потрескалась, превратившись в серую пыль. Горячий ветер поднимал ее и носил клубами. Пыль садилась на поблекшие листья деревьев, на хилые, поникшие цветы. В полдень жара в городе становилась почти невыносимой. Люди, потные и нервозные, передвигались по улицам как тени, без конца хотелось пить и укрыться где-нибудь в холодке. С утра до вечера загоревшие купальщики осаждали озера и пруды. Вода в них постепенно высыхала. Мелел Дунай, превращаясь в речку; обнажившиеся на дне русла камни напоминали оскаленные зубы сдохшего зверя, от которых разило гнилью. Воду экономили и в открытых бассейнах меняли редко. Она была грязной, мутной, на поверхности плавали листья, травинки, кусочки древесины, на дне слоем осел хлор. Солнце палило нещадно, высушивая все вокруг. Скрыться от него было невозможно. Облегчение наступало только вечером, когда на город опускалась прохлада, хотя от асфальта и нагретой земли все еще исходило накопившееся за день тепло. В загородных кафе в потной испарине мужчины опрокидывали одну кружку пива за другой. Иногда по вечерам небо затягивалось густыми, темными тучами, и казалось, что ночью или под утро разразится наконец гроза. Но с рассветом тучи разгонял ветер, и ни одна капля дождя не проливалась на высохшую землю.
Городской парк раскинулся на возвышенности; вода туда не поступала, и старому садовнику приходилось самому таскать ее в гору. В одной руке у него была лейка, в другой — ведро. Отвернув кран, он терпеливо ждал, пока тонкая струйка воды наполнит их до краев. Затем поднимал. Мышцы рук сводила усталость, ладони потрескались, ныла поясница. Путь его лежал наверх, в ту часть парка, где росли цветы. С усилием поднимая ноги, он тяжело ступал по сухой, пыльной тропинке. Солнце мало-помалу клонилось к закату, и все застыло в душном, тяжелом мареве. Садовник был без рубашки, но все равно взмок от пота. Кругом стояла тишина. Шум города сюда не долетал, но не было слышно и птиц. Старику казалось, будто он под стеклянным колпаком, а уши ему заткнули ватой. По лбу стекал пот, во рту и в горле пересохло. На полпути он остановился, опустил на землю ведро с лейкой. Глубоко вздохнул и медленно распрямился. В глазах потемнело, потом зарябило. По телу пробежала дрожь, зашумело в голове. Зачерпнув ладонью воды, отхлебнул из нее, чуток проглотил, остальную выплюнул. Затем, набрав воды снова, смочил ею лоб, затылок и седую грудь. Малость полегчало.
Поднявшись повыше, увидел за забором на лавочке своего соседа. Тот сидел не двигаясь, положив руки на рукоятку мотыги и устремив взгляд на сухие грядки. Оба взглянули друг на друга и обменялись приветствиями.
— Опять тащите? — буркнул сосед. — Да земле этой воды — что пьянице глоток водки. Стоит ли так надрываться? Понять вас не могу!
Садовник сплюнул горячую слюну.
— Стоит, — ответил он. — Не полью цветы, они погибнут.
Сосед заерзал на скамейке.
— Тащи́те, коли силы есть, — буркнул он. — У меня уже нет. Жара всего меня иссушила. И меня, и грядки. Вот, полюбуйтесь!
Помидоры и перец завяли: солнце опалило им листья. Земля потрескалась.
— Черт его знает, когда будет дождь, — продолжал сосед, — черт его знает… — И, внезапно отшвырнув мотыгу в сторону, смолк и насупился.
Садовник нагнулся, поднял ведро и лейку, медленно выпрямился и продолжил свой путь.
— Ну и несите, — крикнул ему вслед сосед. — Все равно выдохнетесь, как и я. Да разве под силу человеку тягаться с такой жарищей, а?
Садовник шел, следя, чтобы ни одна капля не выплеснулась из ведра. Еще несколько таких дней — и он тоже сдастся. «Долго это не выдержишь, схватит усталость — и конец», — думал он на ходу, сгибаясь под тяжестью ноши. Толкнув ногой скрипнувшую калитку, вошел в парк; вид у него за эти дни стал совсем жалкий: трава поредела и пожухла, местами проглядывала серая земля и пыль. Вначале садовник поливал даже траву, но парк был большой, и на такую работу не хватило бы целого дня. Теперь он поливал только розы. Кусты роз были посажены вдоль дорожек, и садовник обходил один ряд за другим. Он наклонял лейку и смотрел, как тоненькая струйка воды, стекая по стеблям, тотчас же впитывалась в потрескавшуюся землю, и у корней оставалось едва заметное влажное пятно. Он понимал, что надо бы пройтись лейкой еще раз, но воды было мало, и потому переходил от одного кустика к другому, не задерживаясь. Розы пока еще переносили жару. Бутоны раскрывались, и по вечерам парк чудесно благоухал. Садовник любил розы больше всего. Между тем вода убывала. Лейка опустела, а он не полил и половины. Выпрямившись, садовник потер спину. Все тело ломило, колени дрожали, и руки, казалось, оттянулись до самой земли. Оглянулся назад, на пройденный участок. Земля под кустами была почти сухой, будто он ее и не поливал, а только прошел мимо с пустыми ведрами. На мгновение он подумал, что лучше бы все бросить, спрятаться куда-нибудь в тень, ведь никому и в голову не придет упрекнуть его в том, что он не заботится о парке. Да и людям уж не до того, чтобы только и делать, что принюхиваться к аромату роз. Но он знал, самое главное сейчас — не сдаться, не отступить, победить усталость. С минуту он отдыхал, потом, подняв ведро и лейку, спустился вниз тем же путем, по которому пришел. Ступал под гору, ведро раскачивалось в руке и временами ударяло его по ноге. Он чувствовал себя намного лучше, да и мускулы, казалось, стали крепче.
— Обещали грозу! — закричал сосед, едва завидев садовника. — По радио передавали — наверняка будет дождь. Кончайте поливать! Слышите? Будет гроза!
Замедлив шаг, садовник повернулся к соседу и взглянул на него. Тот сидел на скамейке, рядом лежал транзистор.
— Говорю вам, бросьте это дело, — снова крикнул сосед.
Но садовник продолжал спускаться вниз и, только пройдя какой-то путь, взглянул на небо: с запада оно затянулось тучами, но так случалось каждый вечер. А солнце палило все по-прежнему. Садовник приблизился к водопроводному крану, подставил под него ведро и лейку и пустил воду. На тучи он не надеялся. Напился, вымыл лицо, Грудь, руки. Наполнив ведро и лейку, поднял их, выпрямился и зашагал. Вначале он не почувствовал тяжести, но, как только пошел в гору, мышцы его напряглись, тело обдало жаром; снова одолевала слабость. Ноги стали подламываться, шагалось труднее, чем раньше. Сделав с десяток шагов, он вдруг опустил ношу на землю.
— Удивляюсь, зачем вы так надрываетесь? — услышал он издалека голос соседа. — К чему себя изнурять? Ведь это же не труд — каторга. Погодите! Обещали грозу!
Садовник с трудом повернул голову, но не увидел соседа: воздух дрожал и переливался всеми цветами радуги. Да, для такой работы он, пожалуй, и в самом деле уже слишком стар, но тотчас же ощутил радость, какую доставляет по весне земля — черная, влажная, плодородная, ароматная! Ее рыхлят и разравнивают граблями, делают посадки, и в благодарность человеку все живое буйствует, растет, жадно тянется к солнцу. Сад полнится ароматами. Пахнут цветы и земля. И человек чувствует себя творцом, работая и созидая.
Садовник глубоко вздохнул и взглянул на тучи: они словно застыли на небе. «Лучше надеяться на себя», — подумал он, наклонился, напряг мышцы, поднял ведро и лейку и двинулся в гору. За спиной услышал, как, орудуя мотыгой, злобствует и не унимается сосед:
— А потом, как свалитесь у этих своих роз, лучше не зовите на помощь… Слышите? Не зовите!
Садовник обернулся на голос, но, ничего не сказав, пожал плечами и продолжил свой путь. Он подымался вверх, как альпинист: ставил ногу, нащупывал твердую основу, наклонялся, переносил тяжесть тела… и каждая его клеточка трепетала от слабости. Земля ходила под ногами, ладони покрылись испариной. В голове шумело, жилы напряглись, пальцы свело, но он знал, что стоит их немного расправить, как ведро и лейка плюхнутся на землю, и он будет не в силах их поднять. И ему уже казалось, что они летят вниз, а вместе с ними — и он. Наконец садовник миновал калитку, остановился, опустил на землю свою ношу. Потом присел на корточки и напился прямо из ведра. Когда поднялся, с лица закапала вода, но он почувствовал себя сильным и уверенным. Усталости как не бывало. Подняв лейку, он начал поливать с того места, где остановился. Приходилось экономить воду, а та, едва касаясь земли, мгновенно впитывалась в нее. Когда лейка опустела, он перелил в нее воду из ведра и продолжил свою работу. Он ни о чем уже не думал, только заботливо поливал цветы, шаг за шагом приближаясь к концу посадок. Остатки воды вылил на последний куст. Потом убрал ведро и лейку в деревянный ящик, достал оттуда садовые ножницы и начал обстригать сухие веточки и пожухлые листья. Закончив работу, убрал в ящик и ножницы, сам сел на скамейку, оперся о деревянную спинку, закурил, вытянул перед собой ноги и сложил на животе руки. Он отдыхал.
Начало темнеть. Парк был пуст и в наступающих сумерках выглядел забытым миром, убогим и ненужным. Садовник курил, медленно выпуская клубы дыма. Им овладевало спокойствие. Докурив сигарету, он бросил ее на землю. Последние лучи солнца, пробиваясь сквозь листву, отбрасывали на его лицо желтую тень. Они уже не были такими горячими, но он почувствовал вдруг какое-то отупение и безразличие ко всему. Прищурив глаза, смотрел на парк, на кустики роз и ощущал себя маленьким, никчемным, нелепым с этим своим тасканием воды для поливки, бессильным против круглой раскаленной бестии, передвигавшейся по небу. Ему вдруг захотелось плюнуть на солнце, да в горле пересохло. На мгновение им завладела апатия — все усилия его бесплодны, любой протест ничтожен, да и сам он — старый, ни на что не годный человек, жизнь которого коротка, в то время как все вокруг: солнце, деревья, трава, вода — вечны и бесконечны в своих таинственных превращениях. Теперь он никуда не спешил. Нечего было делать, не о чем было думать.
Стемнело. За холмами еще виднелись розоватые облака и кусочек ярко-голубого неба, а с противоположной стороны потянулись тяжелые черные тучи. Подул ветер, воздух наполнился дыханием приближающейся грозы. Но садовник не верил ни тучам, ни ветру. Заложив руки за спину, он медленно прохаживался по дорожкам вдоль рядов роз, иногда наклонялся, трогал траву и землю, вырывал два-три стебелька и растирал их на пальцах. Потом следовал дальше. Сумрак уже окутывал предметы, размазывал контуры деревьев, ложился на траву. Садовник обошел парк и снова почувствовал себя уставшим и обессиленным. Тяжело дыша, он опустился на траву возле роз и стал пристально разглядывать бутоны, высыхающие листочки, тонкие с шипами стебельки. Они увядали, погибали, ничтожная толика воды им мало что дала. Ветер усиливался. Он разбрасывал и крутил в воздухе опавшую листву, сухие сучья, сгибал ветки, срывал лепестки с бутонов роз. На западе еще проглядывала узкая светлая полоска неба, а вокруг уже нависли густые черные тучи. Садовник обхватил руками колени и широко раскрытыми глазами уставился в землю. Чувствовал, что именно сейчас его по-настоящему одолела усталость. Попытался встать, но ноги не слушались, и он остался сидеть. Никогда до этого он не ощущал себя таким бессильным, беспомощным, безразличным ко всему. Да, он проиграл. Ветер меж тем усилился и стал холодным, он склонял розы почти до самой земли, подымал пыль и танцевал с ней в порывистых вихрях. Иногда на землю срывались первые несмелые капли дождя, но садовник не замечал этих редких капель. Он сидел и клонился старым телом, словно и его покачивали порывы ветра. Но ему было все равно. Вдруг блеснула молния, и вслед за ней прогремел гром; тучи разверзлись, словно пасть сказочного чудовища; хлынул дождь, внезапно и сильно; большие теплые капли забарабанили по земле.
«Надо поставить бочку для воды», — вспомнил садовник. Он поднялся и нетвердой походкой побрел к садовому ящику, за которым была укрыта железная ржавая бочка для дождевой воды. Бочка уже давно не использовалась по назначению и была забита всяким хламом. Садовник принялся быстро выбрасывать из нее куски дерева, старые тряпки, потом наклонил бочку и выкатил ее под дождь. «Наконец-то! — бормотал он. — Вот и разразился этот проклятый дождь». Он подложил под бочку камешки, чтобы она стояла прямо. Капли тотчас же застучали по дну, и через минуту он услышал, как они уже бьют по поверхности воды. Дождь все усиливался, хлестал по земле; ветер гнул розы и срывал с них лепестки. Садовник стоял недвижимо. Не замечая холода и не чувствуя усталости, он вытянул вперед руки и подставил дождю лицо; он глотал воду и широко раскрывал глаза. Ему казалось, что все вокруг кружится вместе с ним и что тучи низвергаются прямо на него. Он шире расставил ноги, чтобы удержать равновесие, но земля кружилась все быстрей и быстрей. Не в силах устоять на ногах, он медленно опустился на колени. «Ладно, — бормотал упрямо, — пусть так… Зато я показал им, как надо работать!» Потом он тяжело запрокинулся на спину и остался лежать среди поломанных роз, чувствуя себя и дождем, и стихией, которая поила страждущую землю, и всем, что рождалось в ней и олицетворяло жизнь.
Перевод со словацкого Н. Осецкой.
Петер Ярош ОСЕДЛАТЬ СПЯЩЕГО ВЕЛИКАНА
Если человек дотронется до предмета, менее, чем он, заряженного электричеством, произойдет разряд.
(Учебник физики)Посвящаю альпинистам
Доктор юриспруденции Полак указательным пальцем левой руки прикоснулся к тому месту, где надо было поставить подпись. Мариан Сланый услужливо подал Марии Петровской ручку и ободряюще улыбнулся. Молодая женщина склонилась над листом.
— Спасибо, — сказал нотариус. — Это оригинал завещания, а в запечатанном конверте — записи, заметки и дневник вашего покойного мужа Яна Петровского. Это тоже его наследство, и сохранилось оно благодаря присутствующему здесь другу вашего мужа Мариану Сланому.
Бегло глянув на завещание, Мария успела прочесть единственную фразу: «Все завещаю своей жене Марии Петровской…» Положила завещание в сумочку, левым локтем прижала к себе заклеенный конверт с записями, заметками и дневниками мужа, а правую руку подала нотариусу:
— Благодарю вас, доктор!
— С удовольствием и впредь буду оказывать вам помощь, — вежливо улыбнулся нотариус.
— До свиданья! — Мария поспешно вышла в коридор и, не дожидаясь, пока Мариан простится с нотариусом, направилась к выходу. Мариан догнал ее на улице.
— Мария, я хочу пригласить тебя на чашку кофе! — Он так резко подхватил молодую женщину под руку, что та чуть не выронила конверт.
— Хорошо, но только чашечку, — согласилась Мария и крепче прижала конверт.
Усевшись в бистро против нотариальной конторы, они медленно отхлебывали горячий кофе. Мариан таинственно улыбался.
— Чему ты улыбаешься? — спросила Мария.
— Знаешь, что обязан сделать альпинист, когда у него погибает друг?
— Не знаю.
— Жениться на его вдове, если сам он еще не женат…
Он дотронулся до ее указательного пальца. Мария отдернула руку и сунула ее под стол.
— Глупости! Никогда не слыхала о таких обычаях. Между прочим, того же должна хотеть и вдова!
— Это, конечно, всего лишь обычай, но для альпинистов он все равно что неписаный закон. Ты вдова, я не женат, и Ян был моим другом…
Мария поднялась и стала быстро собирать вещи.
— Спасибо за кофе.
— Ты его даже не допила, — улыбнулся он.
— Что-то не хочется. До свиданья.
Мариан не ответил, только кивнул и улыбнулся.
На стоянку машин Мария прибежала запыхавшись. Бросила сумочку и конверт рядом с собой, туда, где обычно сидел Ян. Торопливо включила зажигание. Дома приняла душ, легла на диван и стала читать записки Яна.
* * *
Дневники, заметки и выписки Яна Петровского, сделанные во время экспедиции в Гималаи, на пятую в мире по высоте гору Макалу (8481 м), которую также называют Черным великаном.
21 мая 1980 года.
Сегодня окончательно решено, что наша экспедиция на Макалу состоится! Радуюсь ли я этому? Руководитель экспедиции Мариан Сланый созвал всех участников — 23 человека — на первый сбор в Высокие Татры. Экспедиция продлится с января по июнь 1981 года. Когда я сказал это своей жене Марии, она даже не удивилась. Спросила только: «И Якуб поедет?» Я ответил, что поедет, и мне показалось — она погрустнела.
— Тебе бы не хотелось, чтобы он ехал? — спросил я.
Мария промолчала, потом ответила уклончиво:
— Снова я буду одна!
— Хочешь сказать, что, если бы Якуб не поехал, ты была бы не одна?
— Я хочу, чтобы остался дома ты, — ответила Мария. — Не понимаю, зачем третий раз лазать на одну и ту же гору?
— Потому что она есть! — сердито возразил я и ушел в свою комнату.
* * *
Примечание: Обидно, что мало кто понимает, зачем нужен альпинизм. Обидно, что этого не понимает и Мария. Когда мы с ней поженились, она обещала быть снисходительной к моему увлечению, моему «хобби». Теперь, после года совместной жизни, Мария относится к альпинизму все неприязненнее. Я бы мог подумать, что она не любит альпинизм из любви ко мне, но если бы она действительно меня любила, то принимала бы меня целиком, вместе с моими увлечениями. Любит ли меня Мария? Почему она сегодня спросила про Якуба?
* * *
30 мая 1980 года.
Хочу задать себе вопрос: зачем, собственно, я лезу в горы? Не лучше ли сидеть дома возле жены, у теплой печки, дуть на горячие печеные каштаны, сладко потягиваться в нагретых перинах, словно кошка у очага? Нет! Отвергаю уравновешенное и спокойное «счастьице», люблю счастье неуверенное, ускользающее. Счастье, по-моему, в активности. Почему люди становятся моряками? Потому что есть море! А летчиками? Потому что есть воздух! А альпинистами? Потому что есть горы. Альпинизм! Многие мне говорили, что это необычное увлечение. Кое-кто даже упрекал меня. Но альпинизм — моя страсть. Любовь на всю жизнь. Альпинисты согласятся со мной, иначе они не покидали бы на долгие месяцы свою страну, свою семью. Не отдавали бы все телесные и душевные силы, чтобы подниматься на самые высокие горы. Раз уж горы существуют на свете, человек не может не стремиться их одолеть.
* * *
12 июня 1980 года.
Выписываю для размышлений: Восхождение на гору — это, помимо неимоверного физического и психического напряжения, помимо мобилизации всей воли, еще и творческий акт (акт человеческого творчества). Речь идет о подлинном познании, о стремлении человека отдать всего себя этому познанию. Ориентация человека в пространстве и в мире определяется природой, она руководит своим творением.
* * *
13 июня 1980 года.
Снова выписываю: Для творческого акта человеку, помимо себя самого, необходима природа… Человек познает и творит не только ради самоусовершенствования, что проявляется и в очеловечивании, одухотворении природы, но и ради ее осознания, ради жажды познания, скрытой в самом человеке… Природа существует не только вне, но прежде всего внутри нас. (От себя добавлю: гора, на которую я восхожу, существует не только вне меня, но и во мне, субъективно и объективно. И труднее всего одолеть эту гору внутри себя. Таков мой личный опыт, ибо, как говорится, только совершив поступок, можно взглянуть на него со стороны и правильно оценить.)
* * *
2 июля 1980 года.
Вновь и вновь — сборы, тренировки. Мы все время в скалах. И если никуда не карабкаемся — просто бегаем.
* * *
3 июля 1980 года.
Сегодня ко мне в Татры приехала Мария. Я обещал три дня не отходить от нее ни на шаг. В первый день мы вообще не вылезали из постели. Завтра и послезавтра, вероятно, будет то же самое. Нам хорошо. Мы веселы и счастливы.
* * *
6 июля 1980 года.
Мария уехала, сегодня же после обеда я возвращаюсь наверх, в скалы.
* * *
14 июля 1980 года.
Целые дни тренируемся на отвесных каменных стенах. Иногда под вечер спускаемся вниз, к ближайшей туристской базе, и там ночуем. Удивительно, как быстро здесь убегает отпуск. Зато я снова в хорошей форме. Это меня радует.
Выписываю слова поэта: «Горы как живые!» Поэт был прав.
* * *
21 июля 1980 года.
Второй день идет дождь. Завтра кончается мой отпуск. Сижу на туристской базе с Вило, Марцелом и Иваном. Пьем чай с ромом, разговариваем, читаем, делаем записи. Якуб уехал вчера — у него умерла бабушка. Я знал ее, это была чудесная старушка… Я даже рад, что отпуск кончился. Мы хорошо потренировались, наша мечта подняться на Макалу только окрепла. Завтра уже буду с Марией.
* * *
23 июля 1980 года.
Вчера, как только я встретился с Марией, она спросила:
— Ты знаешь, что у Якуба умерла бабушка?
— Знаю, — ответил я.
— Выходит, и Якуб знает?
— Конечно. Он уехал за день до меня на похороны.
— Слава богу! Я боялась, вы несколько дней будете в скалах и ни о чем не узнаете… А что, если бы и со мной что-нибудь случилось, а ты в скалах…
Мария расплакалась. Я утешал ее. Потом хотел сказать, чтобы хоть при мне она так часто не вспоминала Якуба, но сдержался. У него не было сестры, у нее — брата. Может, они относятся друг к другу как брат с сестрой?
Отмечаю для памяти: альпинисты недоверчивый народ. И меня поначалу приняли с недоверием. Но это продолжалось лишь до тех пор, пока они не поняли, что я тоже альпинист. И Якуб сперва мне не доверял, но потом, во время восхождений, мы стали друзьями. Альпиниста окружают величие и красота, а потому и он должен быть чист душой. В горах мы с Якубом рассказали друг другу о себе все. Или хотя бы многое. Якуб — мой ровесник, он и познакомил меня с Марией, которая позднее стала моей женой. Мария — хорошая жена. Не нравится мне только, что она так часто вспоминает Якуба — правда, так вспоминают брата или отца. Но еще больше не нравится, что мне это не нравится. Люди, которые одолевают горы, должны быть требовательны к себе и тверды. Я же часто размякаю от ревности. А потом начинаю упрекать себя и впадаю в другую крайность: на время становлюсь равнодушен к Марии. Даже если бы в такие дни она вдруг изменила мне, я бы не слишком расстроился. Вот и совершаю глупость за глупостью. И еще больше от этого расстраиваюсь… Если бы не мое «хобби», не знаю, что бы я натворил. Теперь часто думаю о Макалу. Прочел об этой вершине и вообще о Гималаях все, что смог достать. Самое важное выписал и заучил наизусть. Днем и ночью грежу этой горой, мечтаю о ней и одновременно боюсь. Она дразнит меня, провоцирует. Злит. Волнует. Порой представляю себе божественное чувство, которое должны были испытать оба наших парня, Кришшак и Шуберт, а вместе с ними — испанец Кампруби, когда в 1976 году им удалось взять Макалу. Хотелось бы спросить, что они тогда ощущали, но — увы — ни Кришшака, ни Шуберта уже нет в живых, а Кампруби далеко. Карел Шуберт так и остался навеки под вершиной Макалу — еще одна ее жертва… Тогда многие непосвященные спрашивали, какой смысл карабкаться на самые высокие в мире горы, терять не только деньги, но и человеческие жизни? И все-таки, даже если мой или еще чей-либо ответ: «В этом есть большой смысл» — будет выглядеть пристрастным, я не могу ответить иначе. Ведь гималайские экспедиции чехословацких альпинистов доказали по меньшей мере две вещи: высокий авторитет нашего государства и высокий уровень нашего альпинизма. Именно в этом месте мне хочется процитировать слова, сказанные или, точнее, написанные Вильгельмом Геккелем: «Горы, снег, ледники, скалы и бесконечные плато страшно манят к себе, они могучи, труднодоступны. Но есть люди, которые силой воли, выдержкой, мыслью превосходят могущество гор и снежных бурь».
Да, альпинизм не самоцельный рисковый спорт, а средство для преодоления самого себя. И в этом его значительность для человека, его масштабность.
* * *
26 июля 1980 года.
Вчера к нам заходил Я куб. Рассказывал о смерти и похоронах своей бабушки. Мария плакала, да и я с трудом сдерживал слезы. За бутылкой вина и приятной беседой просидели до ночи. Якуб остался у нас до утра. Я завидовал, что у Якуба и Марии столько общих знакомых, о которых они вспоминали. Мария была с нами обоими очень мила. Якуб и правда славный малый, я его люблю. Ночью, после кратких, но прекрасных мгновений любви, Мария шепнула мне на ухо: «Ты мой грибок, ты мой дубок, ты мой грибочек, ты мой дубочек, люблю тебя». Я сомневался только в одном: может ли счастье еще усиливаться, возрастать? И если мне удастся подняться на Макалу, буду ли я счастливее, чем сегодня ночью?
* * *
15 сентября 1980 года.
Я почти забросил дневник. С удивлением вижу, что предыдущая запись сделана чуть ли не два месяца назад. Как бежит время, когда тебя захватывает работа, когда живешь полной жизнью, когда счастлив!..
Подготовка экспедиции идет полным ходом. Тренируемся, пакуем тюки, проводим организационные собрания, дискутируем. До конца года все должно быть в ажуре, потому что в январе 1981-го мы уже отправляемся в Гималаи. Обращение и просьба к дневнику: «Дневник, пожалуйста, не сердись, что я немного тобой манкирую. Я постараюсь это возместить, ей-богу, постараюсь!»
* * *
Записываю: Горы требуют безоговорочной любви, увлеченности, постоянства, упорства, энтузиазма, но также опыта и длительной тренировки. К прекраснейшим деяниям человека принадлежат и высокогорные восхождения. Высота выявляет лучшие духовные качества. Я кое-что в этом смыслю, хотя за плечами у меня всего одно восхождение — семь тысяч метров. Как будет на высоте в восемь тысяч — не знаю. Не знаю по собственному опыту, но знаю опосредствованно. По-моему, Милан высказал в корне противоположную мысль: высота подавляет духовные силы человека.
* * *
21 сентября 1980 года.
Сегодня мы еще раз внимательно осмотрели наше альпинистское снаряжение, проверили прочность пеньковых, нейлоновых и териленовых веревок, легких стремянок, осмотрели крючья, карабины,: кирки, кислородные баллоны, очки, маски и т. д. …Потом произошла странная история. Я хотел вонзить в землю кирку, и вдруг Якуб, не знаю — нечаянно или нарочно, подставил прямо под нее босую ногу. Острие прошло между пальцами, к счастью, совсем их не задев.
* * *
28 сентября 1980 года.
Вчера у Марии был день рождения, двадцать восемь лет. Мы пригласили многих товарищей по экспедиции с женами. Сидели у нас долго, до ночи, славно выпили, пели песни, шутили. Потом легли спать. Якуб, хоть он и неженатый, не пришел. Мария беспокоилась, заставила меня позвонить ему. Но трубку никто не поднял.
* * *
6 октября 1980 года.
Получили от Якуба открытку. Поздравляет Марию и извиняется, что не мог прийти, ибо, как он пишет, именно в это время его сердце «загорелось небывалой любовью к девушке, которая по случайному стечению обстоятельств тоже родилась 27 сентября. Как ты, Мария…» Прочтя открытку, Мария улыбнулась мне и как ни в чем не бывало произнесла: «В следующем году, если доживем, будем праздновать мой день рождения на три дня раньше».
* * *
14 октября 1980 года.
Сегодня мы — наверное, уже в десятый раз — смотрели фильм о предыдущей успешной экспедиции альпинистов на Макалу. Фильм снимали Владо Ондруш и Франтишек Достал. Руководил экспедицией 1976 года Иван Гальфи, а ее членами, помимо уже упомянутых кинооператоров и руководителя, были Зденек Брабец; доктор Яромир Вольф, помощник руководителя и второй врач экспедиции; Милан Кришшак; инженер Милослав Нейман; Егор Новак; Михал Оролин; инженер Леопольд Паленичек; Мирослав Пельц; Владимир Петрик; инженер Йозеф Псотка; Сильва Талла; инженер Иван Фиала; доктор Леош Хладек, первый врач экспедиции; Ян Червинка; Карел Шуберт.
Как я уже писал, в 1976 году на Макалу поднимались Милан Кришшак, Карел Шуберт и испанец Кампруби. Карел Шуберт погиб при спуске, а Милан Кришшак чуть позднее, во время спасательной экспедиции в Татрах. Оба были замечательные парни, вечная им память.
В кадрах короткометражного фильма можно с разных точек увидеть Гималаи и величавую вершину одного из гималайских великанов — Макалу. Макалу! Могучий спящий великан! Могучий черный великан! Итак, скоро мы вступим в единоборство с ним. Розовый гранит с черными полосами — словно монолитная стена. Не правда ли, самый красивый, самый неприступный и самый коварный пик?! Он высится в двадцати километрах юго-восточнее Джомолунгмы (Эвереста) и достигает высоты 8481 метра. Почти восемь с половиной километров. Это пятая по высоте гора в мире. В 1976 году наши ребята поднялись на Макалу по его юго-западному отвесному склону. Технически сложная часть пути превышает четыре километра. Это одно из пяти самых трудных восхождений на восьмикилометровые гималайские пики.
Что-то будет с нами?
* * *
2 ноября 1980 года.
Сбор. Тренируемся, готовимся. Настроение хорошее.
* * *
15 декабря 1980 года.
Подготовка подходит к концу. Времени ни на что другое не остается. Решили, что рождество мы отпразднуем все вместе, с нашими семьями.
* * *
18 декабря 1980 года.
У брата Петера и его жены Зузанки родился сын Юрай. Я хотел посмотреть на него, но в родильный дом нас с Петером пока не пустили. Говорят, через пять-шесть дней. Так что мы с ним два дня пили и потихоньку, за добрым вином, праздновали рождение нового человека, маленького Юрко.
* * *
22 декабря 1980 года.
Пошел снег. Через два дня мы будем в Татрах. Рождество проведем вместе. Мария тоже радуется.
* * *
27 декабря 1980 года.
Рождество было чудесное. По-моему, мы с Марией снова сблизились. Якуб приехал со своей невестой Юлией. Симпатичная девушка — что правда, то правда. Свадьбу собираются справить после возвращения Якуба (да и всех нас) с Гималаев.
* * *
28 декабря 1980 года.
Почти все решили остаться в Татрах до Нового года. Хорошо!
* * *
1 января 1981 года.
Такого Нового года у меня еще не было! Сегодня Мария сказала, что непременно хотела бы иметь от меня ребенка. Мы приняли решение больше не осторожничать. Сперва дети, потом все остальное! У родителей моего отца было одиннадцать детей, и хотя семья жила бедно, но, как говорит отец, еды на всех хватало.
* * *
23 января 1981 года.
Работы перед отправкой прибавилось. И еще у брата Петера вчера был день рождения, опять мы выпили.
* * *
29 января 1981 года.
Сегодня уехала часть экспедиции МАКАЛУ-81. Две «татры» стартовали в Братиславе с площади имени Словацкого национального восстания. Счастливого пути, ребята, через месяц встретимся в Дели! Якуб кивает мне с грузовика и улыбается.
* * *
20 февраля 1981 года.
Опять незаметно промелькнул месяц. Я упаковался, приготовился. Завтра по маршруту Прага — Афины — Кувейт — Бомбей — Дели вылетает вторая часть экспедиции. Некогда даже как следует проститься с Марией. Кажется, не только она, но и все жены членов экспедиции ходят как в тумане. Порой Мария смотрит так, будто меня уже здесь нет, будто я уже уехал. Нужно подойти к ней, обнять, крепко стиснуть, чтобы она почувствовала: я еще тут. Но завтра я все-таки уеду! Завтра меня уже здесь не будет!
* * *
Спрашиваю себя: каковы будут результаты столь долгого самоотречения, столь серьезной подготовки? Отвечу через полгода.
* * *
28 февраля 1981 года.
Сегодня в Дели встретились обе группы. «Татры» с грузом доехали более или менее благополучно, если не считать нескольких вмятин и небольших повреждений. Якуб гоготал мне в лицо и подтрунивал, почему, мол, я не поехал с ними на грузовиках, а пристроился поудобнее — самолетом. Руководитель экспедиции Мариан Сланый услыхал это и говорит: «До сих пор были детские сказочки, теперь начнется настоящая работа. И ее хватит на всех!»
* * *
3 марта 1981 года.
Багаж нашей экспедиции (9000 кг) отправлен сегодня самолетом из Биратнагара в Тумлингтар. Это примерно на неделю сократит пеший переход до базового лагеря. И еще я сегодня понял, что начинаю испытывать нетерпение. Скорее бы наверх, в базовый лагерь! Скорее дотронуться до Макалу, до Могучего черного великана Гималаев, до Спящего великана… И хочу дотронуться, и боязно. Точно мне предстоит бросить вызов судьбе.
* * *
4 марта 1981 года.
С утра мы распределяли между примерно тремястами носильщиками экспедиционный груз, который нужно поднять в базовый лагерь. Мужчины и женщины носят по 30 кг, дети вдвое меньше. Для этих жителей королевства Непал доставка грузов — почти единственная возможность заработка. Они веселы и добры. Их естественность и спокойствие так мне нравятся, что я готов без конца их фотографировать. На шею каждому носильщику повесили бирку с номером и перечнем содержимого поклажи, и начался первый переход — до непальской деревеньки Кхандбари. Солнце жжет вовсю, жара выжимает из нас капельки пота, к которым прилипает дорожная пыль. Наконец-то идем вверх! Докуда? В деревеньке — базар. Тут сошлись продавцы и покупатели со всей округи. Пестрый калейдоскоп лиц, красок и товаров. Будь у меня деньги, я скупил бы все, что здесь продают. Но пока ограничиваюсь кинжалом с инкрустированной рукоятью и ножнами. В пути может пригодиться. Ведь только до базового лагеря 16 дней ходу.
* * *
5 марта 1981 года.
С раннего утра двинулись в путь, направляясь к гребню Кхандбари. Наш караван состоит из 350 человек и порядком растянулся вдоль дороги. Вокруг еще зеленели рисовые поля. Устроив привал, мы выдали носильщикам их первый заработок, неграмотные «расписывались» оттиском пальца. Во время таких коротких привалов они варят на маленьких кострах еду, женщины кормят младенцев. Кое-кто из носильщиков играет в кости, в минуту они проигрывают все, что перед тем заработали. Но относятся к этому спокойно и как ни в чем не бывало продолжают смеяться. А ведь и правда, что тут особенного? На одном из переходов мы встретили местную буддийскую свадьбу. За невестой четыре дня шли пешком. Жених, как мне показалось, был крепко пьян. Большинство гостей тоже. С горами это как-то не вяжется.
* * *
6 марта 1981 года.
Сегодня мы поднялись на гребень Кхандбари, около 2000 метров над уровнем моря. Первый раз вижу главный хребет Гималаев. По плану маршрута устраиваем привалы, отдыхаем (и сейчас, когда я пишу, тоже), непальские женщины из окрестных деревень продают нам местное пиво, которое здесь называют «чанг». Это какая-то мутная, не слишком приятная на вкус жидкость. Но в ней, безусловно, содержится алкоголь. Носильщики пьют чанг с удовольствием. Носильщик Тецег все настойчивее ухаживает за носильщицей Лан. Со смехом пристает к ней, а она, вся просияв, каждый раз стыдливо поворачивается к нему спиной.
* * *
7 марта 1981 года.
Сегодня мы впервые увидели Макалу! Мною овладело страшное волнение, даже отчего-то захотелось по малой нужде. Я поднялся на несколько метров по склону в кусты, ни на секунду не спуская глаз с неба, с Макалу. Нечаянно чуть не окропил носильщика Тецега и носильщицу Лан. Они занимались любовью одетые. Мне стало не по себе, но они только заулыбались — кажется, я им вовсе не помешал. Обольстительница Лан еще успела погладить мою ногу. Я вернулся к каравану. Вершина Макалу разрезала небо, как акула воду. До базового лагеря еще 11 дней пути.
* * *
После обеда мы спустились с высоты около 2400 м над уровнем моря в долину реки Арун, на высоту 870 м. Отдыхаем, стираем и сушим белье, купаемся. Наша с Якубом палатка стоит на прекрасном месте. Из нее открывается великолепный вид на речную долину, на окрестные холмы и на бо́льшую часть лагеря. Рядом, на голой каменной площадке, можно для уюта развести небольшой костер.
* * *
Смешно было смотреть, когда все мы, участники экспедиции, в чем мать родила купались в кристально чистой воде одного из притоков реки Арун, а неподалеку из-за скал на нас удивленно глазели носильщики и носильщицы и, наверное, думали, что мы сошли с ума. Потом они весело над нами потешались, и нам было вдвойне хорошо.
* * *
5 марта 1981 года.
Мы славно выспались и утром с удовольствием снова пустились в путь. Однако переход через Арун нас задержал. Мост был шаткий, несколько тюков с грузом поглотила река. Мне было жалко носильщиков, потерявших груз, а значит — и заработок. Но руководитель экспедиции их не отпустил, поскольку предполагает, что при переходе через седловину Шиптона многие носильщики откажутся идти дальше.
* * *
11 марта 1981 года.
Миновали последнюю деревню, лежащую на пути к базовому лагерю. Деревня называется Ташедоу и расположена примерно на 3000 м выше уровня моря. Остановились на отдых в часе пути от нее. Перед восхождением на седловину Шиптона раздали носильщикам полукеды, полиэтиленовые мешки и темные очки от солнца.
* * *
Записываю: (Очень важно!) Вечером сильно похолодало. Носильщики вместе с нами, участниками экспедиции, грелись у костров. Якуб побежал за чем-то в палатку, и вдруг я вижу, как один из носильщиков подталкивает к нему свою молодую жену и с помощью жестов и минимального запаса английских слов предлагает, чтобы Якуб ее погрел. Якуб чуть поколебался, потом затащил женщину в палатку и опустил полог. Муж-носильщик с довольной улыбкой отошел к ближайшему костру. Он смеялся и спокойно разговаривал. Казалось, о своей жене он просто забыл. Я не торопясь подошел к нашей палатке. Услышал игривый смех женщины и Якуба. Вскоре Якуб высунул голову. Посмотрел на меня удивленно, потом улыбнулся. Рядом с головой Якуба высунулась голова женщины — носильщица тоже мне улыбалась.
— Не хочешь ли и ты погреть ее?
— Нет! — ответил я.
— Знаешь, какие у нее холодные ноги? — Он раздвинул полы палатки, и я увидел красивые босые ноги носильщицы.
Якуб вышел из палатки и хлопнул меня по плечу.
— Лезь к ней!
— Не хочу, — уперся я, а самого била дрожь.
Женщина убежала. И тут это случилось!
— Она говорит по-словацки, — сказал Якуб.
— Ты спятил, — засмеялся я.
— Знаешь, что она мне шептала? — Лицо Якуба вдруг вспыхнуло. — Люблю тебя, ты мой грибок, ты мой дубок, ты мой грибочек, ты мой дубочек!
Я чуть не потерял сознание, но не потому, что последние слова Якуб почти орал мне в ухо. В глазах у меня потемнело и голова закружилась оттого, что эти несколько слов, которые только что произнес Якуб и которые, как он уверял, шептала ему носильщица из Непала, эти несколько слов шептала мне на ухо Мария в самые интимные мгновения нашей жизни, лежа рядом со мной после жарких объятий… Когда ошеломление прошло и я немного опомнился, я подскочил к Якубу, схватил его за воротник и закричал:
— Ты спишь с Марией!
Якуб сперва засмеялся, потом стал серьезен, точно понял, что, сам того не желая, выдал себя.
— Я все тебе объясню, — сказал он. — Зайдем в палатку.
Мы забрались в палатку. Легли рядом. Теперь уж не знаю, отчего я тогда так послушно ему подчинился. Наверное, и сам толком не понимал, что делаю. Впервые за время этой экспедиции мы закурили, хотя давали слово в Гималаях с курением покончить.
— Ты прекрасно знаешь, что мы с Марией росли в одном городе, на одной улице, учились в одной школе, правда, она пошла в школу значительно позже меня… — начал Якуб. — Словом, к чему зря тянуть. Как мужчина мужчине признаюсь: лет восемь назад, когда Марии не было и двадцати, я лишил ее девственности… Около года мы были близки, а потом разошлись. Два года назад я вас познакомил, а в прошлом году вы поженились… Вот и все!
Я долго молчал, думая о том, что сказал Якуб. На первый взгляд все сходилось, все казалось правдой, но я не мог избавиться от ощущения, что многого он не договаривает.
— А почему ты сам на ней не женился?
— Говорю тебе, мы разошлись. Как мужчина и женщина мы друг другу не подходили. Она меня не устраивала… Я люблю ее как человека, но жениться на ней не хотел бы… Не хотел бы спать с ней ни как любовник, ни как муж. Вы-то друг другу подходите, я знаю.
— Она до сих пор тебя любит, — сказал я.
— Ерунда! — чуть не выкрикнул Якуб. — Может, любит как старого друга, но как мужчину — только тебя!
— А почему вы скрыли от меня, что между вами что-то было?
— Это давние дела, — возразил Якуб. — Я познакомил тебя с Марией случайно, а когда увидел, как ты ею заинтересовался, уже не мог сказать… Почему позднее и вообще до сих пор тебе не сказала этого Мария — не знаю!
— Зачем вы оба от меня скрываете, что до сих пор любите друг друга? — не отставал я.
— Не болтай глупости! Спи! — буркнул Якуб и повернулся ко мне спиной.
В глазах у меня стояли слезы. Было страшно обидно. И тогда я решил: отомщу Якубу, убью его! Я вздрогнул, осознав весь ужас задуманного, и сразу понял, что никогда этого не сделаю… Но, может быть, Якуб хочет убить МЕНЯ? — лезли в голову назойливые мысли. Это тоже бессмыслица, я отверг и такую возможность. «Спи!» — приказал я себе. Однако всю ночь промаялся в каком-то полузабытьи. Утром мы с Якубом старались держаться, как будто ничего не случилось, но я понял, что в глаза ему, как прежде, смотреть не могу…
* * *
13 марта 1981 года.
Седловина Шиптона (4250 м над уровнем моря) встретила нас морозом и ветром. Я рад, что на пути к базовому лагерю возникло это препятствие. Оно помогает мне не думать ни о чем, кроме дороги. Дорога, дорога, дорога… Уже два дня я ни разу не взглянул на фотографию Марии. Такое чувство, словно я чего-то стыжусь. Стыжусь? Но мне-то чего стыдиться? И почему только мне?
* * *
С седловины Шиптона мы спустились глубоко вниз, в долину реки Барун-Кхола. При моем смятенном и взволнованном состоянии, старательно скрываемом от остальных, эта долина подействовала на меня как бальзам. Здешние субтропики растрогали меня. Когда я рассматривал какой-то неведомый мне прекрасный цветок, я заметил, что вдруг снова улыбаюсь. Потом почувствовал, что Якуб глядит на меня и тоже улыбается. Но ответить на его улыбку я не смог.
* * *
Шагаем вдоль реки Барун-Кхола по направлению к лагерю Тадоса. Медленно тащимся по долине, о которой Хиллари сказал, что на всем свете не видел ничего красивее. Он пробыл здесь целый год, искал в этих местах снежного человека йети. Но тщетно… Что, если бы я в теперешнем своем состоянии незаметно отделился от экспедиции и остался тут жить один? Может быть, и я превратился бы в йети? Вполне вероятно, что йети — какой-нибудь добровольный гималайский Робинзон.
* * *
Наконец после крутого подъема мы добрались до места, где будет наш базовый лагерь. 18 марта 1981 года мы заложили его на высоте 4850 м над уровнем моря. Руководитель экспедиции, «бара сагиб» Мариан Сланый, помимо прочего, сказал нам: «Там, где кончаются Альпы, начинаются Гималаи. Почему бы гималайский альпинизм не назвать гималаизмом?»
* * *
Во время перехода из Тадосы к базовому лагерю на меня сильно подействовала высота. Я как-то ослабел, но акклиматизируюсь хорошо.
* * *
Носильщики ушли. Мы, альпинисты, и наши непальские спутники-шерпы начинаем готовиться к самой тяжелой и самой важной части экспедиции — к восхождению на гору, на великана Макалу.
* * *
Записываю: Мы почтили память Яна Коуницкого и Карела Шуберта. Вечером, после захода солнца, собрались неподалеку от лагеря на месте их символических могил. Первый погиб на Макалу в 1973 году, второй — в 1976-м.
В такие минуты скорбных воспоминаний о погибших товарищах у всех на глазах слезы. Очевидно, каждый из нас понимал, что и сам может остаться в вечных снегах Макалу.
Но человек наперекор смерти всегда остается победителем.
* * *
19 марта 1981 года.
Утром мы все сошлись в большой клубной палатке, и Мариан Сланый разделил нас на группы. Мы с Якубом оказались в одной группе, состоящей из четырех человек. Когда Сланый сказал об этом, мы оба непроизвольно глянули друг на друга и еле заметно улыбнулись. В ту минуту я действительно порадовался, что мы пойдем вместе. И сейчас еще приятно, как подумаю об этом. Я видел, что Якуб мне доверяет. Снова мне стало стыдно, и я начисто отказался от желания отомстить. Как я счастлив, что сумел подавить в себе этот низменный инстинкт!
* * *
Началась нелегкая работа — уже сегодня! Наша первая группа (Якуб, Милош, Феро и я) вместе с артелью шерпов подняла в гору необходимый материал и на высоте 5820 м над уровнем моря основала лагерь № 1. Климат здесь так суров, что выше 5000 м не увидишь никаких следов жизни. Настоящий лунный пейзаж.
* * *
Примечание: На собственном опыте убеждаешься, что без шерпов тут не справилась бы ни одна экспедиция. Отличные люди эти шерпы! В их лицах и мускулистых фигурах, как сказал уже не помню кто, «запечатлелась долгая история гималайского альпинизма». С поразительной выносливостью поднимают они грузы на самые высокие в мире горы. Без них и нам было бы куда тяжелее, без них нам было бы очень тяжело.
* * *
28 марта 1981 года.
Вторая группа основала лагерь № 2 на высоте 6300 м. На самых трудных участках мы укрепляем страховочные веревки. Пока что беру подъем без напряжения.
* * *
30 марта 1981 года.
Третья группа основала лагерь № 3 на высоте 6900 м. Мы перенесли туда грузы. Сильный мороз и ветер. Но снег не идет, и то хорошо.
Примечание: Сплоченность альпинистов и отдельных альпинистских групп или отрядов — непременное условие успешной работы на такой высоте. Каждый преодолевает подъем в буквальном смысле слова на плечах идущего впереди. Дружеское доверие здесь очень важно.
Попутное замечание: Ледяной ветер усиливает стужу. Пальцы примерзают к металлу «кошек».
* * *
1 апреля 1981 года.
Переночевали в лагере № 2. Оттуда можно было наблюдать чудесную панораму: луна, угасая, заходила, солнце поднималось. По утрам мороз достигает — 30°. Горы вокруг величественны и прекрасны. Глубоко вдыхаю разреженный воздух и стараюсь сохранить присутствие духа, преодолеть страх и головокружение при виде зияющих пропастей. В эти уголки земли редко ступала нога человека. И потому здесь ощущаешь одиночество, тоску, а порой и страх. Иной раз кругом так тихо, словно давно уже настал конец света. А то вдруг ночью ледник затрещит до того оглушительно, точно неподалеку от лагеря происходит артиллерийская стрельба. Думаю о вершине, которая чернеет на морозном небосводе. Она близка и в то же время бесконечно далека. Ночью я на минуту вышел из палатки. Светила ясная луна, и в ее сиянии четко вычерчивались горы. Но когда я глянул на вершину Макалу, мне вдруг почудилось, будто гора шевельнулась. Будто великан под моими ногами вздохнул, как бы пробуждаясь ото сна. Будто я еду верхом на этом спящем великане… Я поскорее залез в палатку. Здесь, между небом и землей, открываешь, как уже кто-то до меня сказал, поистине новые формы бытия нашей планеты. Новые формы бытия вселенной и собственную сущность. Читая тех, кто побывал в этих краях до меня, я поражался, когда они утверждали, что слово «красота» здесь утрачивает смысл, но это верно. Печальны, нечеловечески громадны, величавы и бесконечно пустынны эти вершины. Не удивительно, что человека они страшат и подавляют.
* * *
3 апреля 1981 года.
И в Гималаях случаются дни, когда чувствуешь себя отлично и радуешься, что живешь на свете. Мы в базовом лагере. Тут прекрасно, тепло. Врач лечит больных (пока лишь пустяковые недомогания), повар готовит еду, ребята греются на солнышке, кое-кто, как и я, пишет письма или делает записи в дневнике. Если наверху ты валишься с ног от усталости, то здесь, в базовом лагере, снова чувствуешь себя человеком. Кажется, шерпы рассказывали что-то веселое — их смех заразителен. Иногда они добродушно подтрунивают над кем-нибудь из нас. Я полюбил их и восхищаюсь ими. Можно сказать, что это короли среди носильщиков. Перетаскивать грузы в долинах они отказываются, носят только от 5000 м и выше. Меня удивляет спокойствие этих людей, нигде и никогда они не торопятся. И не только потому, что в Гималаях слишком торопиться вообще нельзя. Спокойствие — в них самих. В укладе их жизни. Причем это характерно не только для шерпов, но и для других непальцев, большинство которых ходят босиком.
Наши носильщики тоже экономят обувь, выданную им в начале подъема к базовому лагерю. Они предпочитают ходить босиком по снегу, по камням, по воде и кишащей пиявками грязи. Непал — страна без асфальтированных дорог. Но я боюсь, я страшусь того, что когда-нибудь, лет этак через 50—100, под Макалу или Джомолунгмой будет проведена обогреваемая автострада, а восход солнца над раковиной Лхоцзе туристы будут наблюдать, нежась в постелях современных кемпингов, и пощиплет их не мороз, а только «шили» — острый красный перец, жгучая приправа здешних блюд. Специальные пушки будут вызывать снежные обвалы, а туристы станут аплодировать этому аттракциону. И даже если небо вдруг побелеет, как молоко, что предвещает неожиданную перемену погоды, ни с кем ничего не случится: стоит укрыться в баре напротив — и вся недолга. Не будет и нынешних транспортных затруднений, связанных с привычной для Гималаев нелетной погодой: пассажирские ракеты, обладающие скоростью звука, будут летать строго по расписанию. Пожалуй, не хотел бы я дожить до таких Гималаев будущего, когда из царства ветров, мороза и одиночества они превратятся в шоу для туристов. Почувствуют ли вообще посетители Гималаев, что они оторвались от Земли и пребывают в каком-то ином мире? Возможно, поэтому я и люблю так местных жителей, так ими восхищаюсь. Не за то, что они носят грузы сами, а не возят их на вьючных животных. (Обычно они тащат груз на спине в большой корзине, облегчая ношу охватывающей лоб лямкой.) Меня восхищает их стойкость, умение улыбкой и весельем встречать самые тяжкие передряги. Они воюют с непогодой, с бурными реками, которые через несколько часов после начала дождей становятся безбрежными потоками, с пиявками, с мошкарой, с угрюмыми, топкими дебрями, с колючими зарослями вокруг рисовых полей, с покрытыми вечной эрозией отвесными склонами, со сланцевыми завалами, с оползнями, которые разрушают и уничтожают дороги и горные тропы, а подчас увлекают за собою в пропасть целые скалы. Но, несмотря на все, эти люди сильны и красивы. Горы научили их терпеливому вниманию, изумительному спокойствию и бесконечному упорству…
Примечание: Случилось важное событие, вернее — торжественное событие! Гонец принес почту, и мне приходится бросать дневник. То, что пишут мне другие, сейчас интересует меня значительно больше, чем то, что пишу я сам. Есть в здешней жизни всего два не менее торжественных момента, чем приход почты: когда кому-нибудь повезет на охоте и когда шерпы раздобудут нам барана. Пишет ли мне кто-нибудь? Есть ли письмо от Марии? Или мне придется завидовать тем, кто получил много писем? Пока кончаю в надежде на вести с родины, которые пойдут кочевать из уст в уста… Вмиг мы забыли даже про Макалу. Ведь это всего-навсего гора, а дома — люди, приславшие нам весточки!!! Приславшие? И хотя совсем недавно мне казалось, что с Гималаев видны все окна мира, теперь ужасно хочется получить обыкновенное письмо из дому.
Примечание: (Спустя два часа.) Пришло письмо от Марии! Как я обрадовался! Сперва десять раз кряду пробежал страничку глазами и только потом начал понимать, что пишет Мария. Она здорова, дома все в порядке! Гора с плеч! Оглядевшись вокруг, я заметил, что и Якуб неподалеку от меня читает письмо. И сразу пахнуло холодом: письмо и конверт точно такие же, как мои. Я прошел за его спиной и успел прочесть полфразы: «…только тогда я буду счастлива!» Мария написала Якубу! Я узнал ее почерк, даже цвет пасты в ее шариковой ручке! Якуб мне улыбнулся и протянул письмо: «Хочешь прочесть?» Но я отрицательно покачал головой. Снова во мне копится злоба, и я тщетно с ней борюсь.
* * *
4 апреля 1981 года.
Не мог уснуть. Четыре часа утра. Сразу же после восхода солнца наша группа направляется к лагерю № 1, ее цель — основать 4-й лагерь. Якуб спит рядом. Как бы мне хотелось прочесть письмо, которое он получил от Марии! Что она ему написала?
Во время краткой ночной полудремы мне приснилось, что мы уже взяли Макалу. Добрались до вершины и сразу же стали другими. Более того, все люди на свете изменились: ведь это новая победа человека над природой! Во сне мы были на вершине Макалу вместе с Якубом. Мы пережили мгновения бесконечной радости, которую давало ощущение победы, взаимного доверия, дружбы. Все, что мы в течение долгих месяцев приносили в жертву этой минуте, оказалось не напрасным. В цепь человеческих достижений мы добавили еще одно звено. Я собственноручно приковал там это «звено» к скале, и Якуб мне помогал. Почти весь мир лежал у наших ног. А под нами, под теплыми туманами, дремали Гималаи. Только наш сказочный конь Макалу, как библейский бог, возносился над землями и водами. И мы были на его хребте. Мы оседлали этого коня, на миг укротили его! Но, увы, окончательно проснувшись, я понял, что за время сна мы не поднялись и на вершок. И вообще, будет ли от этого какой-нибудь толк? К чему это? Черт бы побрал все горы и вершины и альпинизм! Если мне посчастливится отсюда выбраться, никогда больше не возьму в руки крючья, веревку или кирку! Плевал я на все это, буду жить дома, за печкой, заботиться о жене и растить детей. Какой парадокс! Через час мы снова будем карабкаться вверх. Я бы мог заболеть, но врач поймет, что я симулирую. Люблю — и потому симулирую. Ревную — и потому ненавижу. Тьфу, я сам себе становлюсь противен! Но ничего не могу с собой поделать…
* * *
Записываю: Из лагеря № 2 мы сегодня видели самого Магистра или Царя, вершину всех вершин мира — Джомолунгму; рядом с ней — Лхоцзе, а прямо перед собой — Макалу. Ко мне вернулись желание, сила, воля, отвага идти выше!
* * *
Мы основали лагерь № 4 на высоте 7350 м. Когда мы с Якубом начали спуск к лагерю № 3, погода неожиданно испортилась. Над Макалу пронесся ураган. Мороз, снег и сильный ветер так лютовали, что мы не видели дальше, чем на несколько шагов, и ничего не слышали, даже когда кричали, подойдя друг к другу вплотную. И тогда я, как трус, крикнул Якубу в лицо: «Я тебя убью!» Шум вокруг был такой, что Якуб ничего не расслышал и показал мне знаками, что не понимает. «Я убью тебя!» — орал я снова и снова. Якуб улыбнулся. Я неистовствовал. Меня бесило все: и Якуб, и ураган, и Макалу. Не прошло и получаса, как шагавший впереди Якуб, поскользнувшись, упал примерно в пятнадцати метрах от меня. Секунду он лежал неподвижно. От страха, что с ним что-нибудь случилось, у меня заныло сердце. Я осторожно спустился. Помог встать и привязался к нему веревкой. Нет, я бы ни за что, ни за что не причинил ему зла! Когда мы снова, потихоньку, с предосторожностями, начали спускаться, я заметил, что он припадает на правую ногу. Мы пошли еще медленнее. Но все-таки двигались вперед. В полумраке мы чуть не наткнулись на палатку 3-го лагеря. Там нас ждал Лойзо с горячим чаем. Якуб напился чаю, сказал: «Спасибо!» — и заснул. Камень свалился с моих плеч, на сердце удивительно полегчало. Словно меня подменили. Словно я заново родился…
* * *
Мария дочитала записки мужа, но не успела подумать о прочитанном, как зазвонил телефон. Это был руководитель гималайской экспедиции Мариан Сланый.
— Прочла записки Яна?
— Да, — ответила Мария и долго молчала.
— Ты еще там? — снова услышала она голос Мариана.
— Я здесь, — ответила Мария. — Что было потом?
— Между третьим и вторым лагерем всех троих засыпала лавина. Мы никого не нашли.
Мария расплакалась.
— Не плачь, Мария, пожалуйста, не плачь, — уговаривал ее голос в трубке.
— Извини, — сказала Мария, — не могу иначе…
— Пойдешь за меня замуж? — горячо прошептал Мариан Сланый. — Я люблю тебя.
Мария немного помолчала, потом произнесла:
— Да.
* * *
Важное примечание: Все лица и события, изображенные в этом рассказе, вымышлены, и их сходство с кем и с чем бы то ни было может быть лишь случайным.
Перевод со словацкого В. Каменской.
Примечания
1
Имеются в виду бои с гитлеровцами словацких армейских частей, выступавших на стороне антифашистского Словацкого национального восстания 1944 года. — Здесь и далее прим. переводчиков.
(обратно)2
Руководитель, старший (нем.).
(обратно)3
Путна — деревянная полукруглая кадка с лямками для переноса тяжести на спине.
(обратно)4
Речь идет о местном органе власти — национальном комитете.
(обратно)5
Чешский художник Йозеф Манес (1820—1871) обращался к патриотическим темам, делал поэтические иллюстрации к народным песням.
(обратно)6
«Шпаличек» (чеш.; брусок) — название альбома иллюстраций известного чешского художника Миколаша Алеша (1852—1913).
(обратно)7
Чешский Национальный театр создан на пожертвования населения.
(обратно)8
Здесь и ниже — чешские, словацкие и русские народные песни.
(обратно)9
Первая часть государственного гимна Чехословакии.
(обратно)10
Песня на стихи Гейне о мальчике, увидевшем на лужайке розочку.
(обратно)11
«На почте», «На вокзале» (нем.).
(обратно)12
Литературный журнал.
(обратно)13
Внимание! (нем.)
(обратно)14
Больной! (нем.)
(обратно)15
Человек жестокий (лат.).
(обратно)16
Не гуманно (лат.).
(обратно)17
Просторечное название Вацлавской площади, находящейся в центре Праги. Далее упоминаются районы и улицы Праги (тоже в просторечном варианте), характер которых отчетливо виден из контекста.
(обратно)18
Шупак по-чешски означает «оборванец, пересыльный арестант».
(обратно)19
Яров, а также упоминаемые далее Малешице, Горлорезы, Жижков — названия районов Праги, в описываемое здесь время располагавшихся на окраине.
(обратно)20
Сазава — река в центральной части Чехии.
(обратно)21
Шлапак — народный чешский танец.
(обратно)22
Ребенок, мой ребенок (нем.).
(обратно)23
Это женщина. Женщина (нем.).
(обратно)24
Род салата.
(обратно)25
Нецыган (цыган.).
(обратно)26
«Рогач» — сатирический журнал.
(обратно)27
Нет. Меня зовут Курт. Курт Циглер (нем.).
(обратно)28
Я католик. Я… нельзя паф-паф (нем.).
(обратно)29
«Баранья голова» — съедобный гриб необычной формы и очень крупного размера. Множество его шляпок, сросшихся друг с другом, напоминают завитки руна. Иногда его называют «грибом-бараном». Встречается крайне редко. По поверью, нашедшему его приносит счастье.
(обратно)30
Колин — город в долине Лабы.
(обратно)31
От evergreen (англ.) — вечнозеленый.
(обратно)32
Краль, Франё (1903—1955), известный словацкий поэт и писатель, преподавал в школе.
(обратно)33
Гардисты — военизированные части фашистской людовой (католической) партии в Словакии во время второй мировой войны.
(обратно)34
Игра слов: жизнь — по-чешски «живот» (život).
(обратно)35
Так переводится с японского название борьбы дзюдо.
(обратно)36
Реи — приветствие.
(обратно)37
Додзе — дух борцовского зала и сам зал как священное место для укрепления тела и духа.
(обратно)38
Иппон — чистая победа.
(обратно)39
Поймавшись на опасный прием, дзюдоист похлопывает ладонью по ковру или по противнику в знак того, что сдается. Иначе он может получить серьезную травму.
(обратно)40
«Мельница».
(обратно)41
Подкожная вена нижней конечности (лат.).
(обратно)42
Удержание верхом с захватом руки и головы.
(обратно)43
То есть был в Красной Гвардии Словацкой Советской республики (16 июня — 7 июля 1919 г.).
(обратно)44
Ишпан — в старой Венгрии королевский чиновник, управлявший областью — жупой, — в 30-е годы, видимо, Сенеши звали так по старой памяти.
(обратно)45
Куруцы — участники крестьянского и национально-освободительного движения в Австро-Венгрии в XVIII в.
(обратно)46
День Матея приходится на 24 февраля.
(обратно)47
Валашка — топорик на длинной рукоятке — оружие и орудие горцев Словакии.
(обратно)48
От немецкого «Küss’ die Hand» — целую руку.
(обратно)49
Бурчак — молодое неперебродившее вино.
(обратно)50
По библейскому преданию, Христос умер 33-х лет.
(обратно)51
Трижды плавать (нем.).
(обратно)52
Так в Чехословакии называют Луи Армстронга.
(обратно)
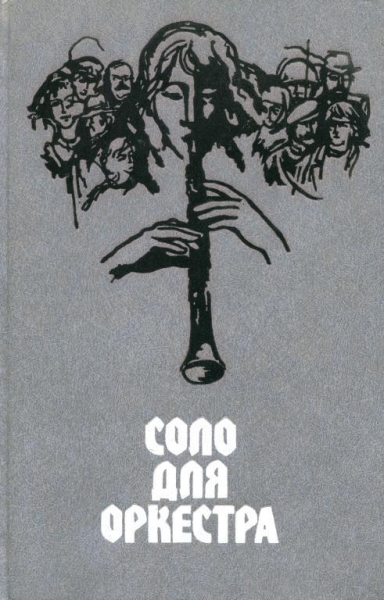







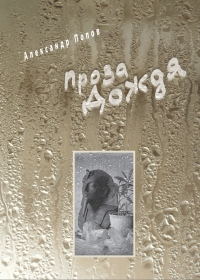

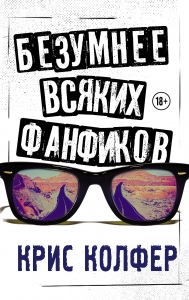

Комментарии к книге «Соло для оркестра», Петер Андрушка
Всего 0 комментариев