Тимоте Де Фомбель Нетландия. Куда уходит детство
Издание осуществлено в рамках Программ содействия издательскому делу при поддержке Французского института
Cet ouvrage a bénéficié du soutien des Programmes d'aide à la publication de l'Institut français
© L’Iconoclaste, Paris, 2017
© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. ООО «Издательский дом «КомпасГид», 2018
* * *
I
Детство живет на зеленых холмах, за рекой, за кустами, за лесом, за горящим амбаром и за коридорами, выстеленными паркетом. Среди прочих дорог есть там и такие, что подводят, петляя, к самому краю, и оттуда, с обрыва высокой скалы или через решетку ограды, открывается вид на соседнее царство, страну далекого завтра, имя которой – взрослая жизнь.
Бывает, дети подходят к этой черте, выглядывают из высокой травы (она им почти по макушку), и там, в соседней долине, им иногда доводится случайно подсмотреть за смертью или за влюбленными. Виденья эти вспыхивают на солнце, подобно осколкам стекла. Они слепят глаза и тут же исчезают, укрывшись за низкими облаками.
Дети бегут обратно в чащу леса, машут луками и стрелами и наивно полагают, что напрочь забыли о том, что увидели. Однако увиденное уже посеяло в них вишневую косточку, которая будет отныне расти там, внутри.
У меня таких косточек была целая горсть. Я даже думаю, что это из-за них мы вообще растем. Прекрасно помню, как глотаешь их с изумленно раскрытыми глазами и испытываешь опасную радость от того, что незнакомые тела, замеченные в долине, вот-вот разлетятся вдребезги. Мы оглядывались по сторонам. Никто нас не видел? Как будто мы что-то украли… Подождав немного, прислушивались к происходящему внутри: как там теперь моя вишневая косточка? Что она делает в мире, невидимом глазу?
Я часто подходил к этой черте, как и все другие дети, что тайком заглядывают на территорию взрослых: видел, например, как плачет на каменном мосту моя мама в объятиях бабушки. Они не знали, что я был там, прятался на берегу. Но я же сам мог отвернуться, потереть глаза, укрыться в дебрях воображаемого, уснуть, уверить себя, что вовсе ничего не видел, броситься с рогаткой гонять скворцов, построить какой-нибудь сложный механизм, ступить на тонкий лед реки, способный выдержать лишь вес ребенка.
Я знаю: на одно незыблемое детство, на висячий сад вроде моего приходятся десятки таких, что кубарем летят с обрыва или с головой пропадают в зыбучем песке. Я вижу, как они проходят мимо – их осажденные и разоренные сады, их взгляд широко раскрытых глаз.
Я спрашиваю сам себя: кому же обязан я тем, что уцелел там, на краю обрыва детства, откуда так легко сорваться вниз? Ведь я же вырос лишь благодаря той самой ограде, и зарослям тернового куста, и строгому караулу, который неустанно несли каштаны – мы были в их тени недосягаемы и неуловимы. В тот день, когда я начал писать, мне самому досталось место дозорного на крепостной стене, и я больше не был маленьким индейцем. Теперь настала моя очередь охранять свой мир и не допускать, чтоб в нем вырубали лес. Мне верилось, что я сумею не подпустить к своим границам рев танков и треск падающих деревьев.
С тех давних пор, когда я был еще индейцем, меня терзал вопрос, в какой момент и по каким сигналам дыма над костром мне станет ясно, что настало время переходить туда, спускаться вниз, в долину. Река обрушивалась с нашего обрыва шумным водопадом – должно быть, бурный там внизу кипел поток. Однажды и мне предстояло спуститься по этой яростной реке – но вот когда?
Сегодня я не могу назвать числа и дня недели, когда произошел тот мой великий переход. Пожалуй, просто наступает утро, когда ты просыпаешься и видишь, что в глазах других внезапно повзрослел. В смятении ты медлишь… Чувствуешь, что не готов, тебе не хочется в дорогу. Но никуда не деться от взгляда, которым тебя встречают и будто оценивают, а тут еще оттуда, снизу, доносится далекий вздох, с долины веет ветер, который ты впервые ощущаешь под рубашкой, и горстка косточек от вишен где-то глубоко внутри вдруг начинает беспокоить и причиняет терпимую, но все же боль.
То, что давно тебя ожидало, уже лежит внизу горой разрозненных деталей. Тогда ты решаешь притвориться. Все начинают с этого: лишь притворяются, что выросли. Пожалуй, это лучший путь – прикидываться взрослым до конца, всю жизнь.
II
Однажды зимним утром я отправился на поиски детства. Я никому ничего об этом не сказал. Мне вздумалось поймать его живым, направить на него луч света и как следует рассмотреть, изучить со всех сторон. Я чувствовал, что детство бьется у меня в груди, что окончательно оно так меня и не покинуло. Но это был полет призрачной бабочки где-то глубоко внутри: трепет невидимых крыльев, от которых оставалось лишь немного пыльцы на руках и шее – я обнаруживал ее там по утрам.
Мне мало было говорить о своем собственном детстве, я хотел отыскать детство абсолютное, общее, найти источник цвета фиалок, с которого все началось.
Я хорошо помню тот день, когда меня охватила потребность поймать детство, зажать его между сомкнутых ладоней, как птицу в клетке, чтобы показывать другим, осторожно разводя большие пальцы: «Смотри, вот оно. Видишь?»
Это произошло со мной в середине жизни. Впереди лежало, быть может, ровно столько же лет, сколько уже было прожито. Но в этой точке я вдруг остро ощутил отсутствие детства в течении мира. Мир походил на степь, сухую пустошь, изрезанную гусеницами танков. Куда ни глянь – нигде нет даже намека на детство. Земля трещит по швам. Ну как же тут взрослеть, когда под рукой нет ни одной испачканной красным соком косточки, способной оживить бубенчик, который так давно молчит?
Я снарядился в путь, как снаряжается охотник на драконов или на химер. Ведь я не мог предугадать, чтó окажется полезным в поисках. Я все предусмотрел: взял плевательные трубки, зелья, ящички и сети, и быстрого коня, и усыпляющие дротики, и даже ложечки и щетки – как те, что ради осторожности используют археологи, когда откапывают из-под земли древние сокровища.
Я был золотоискателем, охотником-безумцем, которого зовет вперед мечта. Узкой горной тропой мы с конем карабкались вверх на отвесные скалы. На откосы падала тень моей поклажи, и сачки торчали за спиной, похожие на букет флажков.
Я понятия не имел, пригодится ли мне когда-нибудь весь этот хлам. Есть сети такого плетения, что на них можно ловить только крупную рыбу. Но есть ли ячейки, которые пропускали бы крупное и удерживали мелочь? Кто сумеет сплести такую странную сеть?
Как поймать одно только детство и сделать так, чтобы там, на дне сети, его не расплющили взрослые, которые вечно давят и удушают своим весом и значительностью?
Я верил: есть на свете страна, где детство живет в безопасности и остается прежним, даже когда мы вырастаем. Далекий, всеми забытый край. Я всюду собирал его следы. Я рисовал его карты в дневниках, но они выходили обрывочными и неточными, без масштаба и розы ветров.
На это потребовалось очень много времени. Путешествие было полно загадок и тревожило своей непредсказуемостью. Я спал при луне под открытым небом и каждый вечер, сидя у костра, дорабатывал план поисков, чтобы на следующий день не сбиться с маршрута. Я зарисовывал свое географическое положение шариковой ручкой: тропинки, границы, водные пути. В отблесках пламени я смастерил себе новое орудие: вырезал ножом рамку, натянул на эту деревянную окружность сетку из бечевки и однажды утром опустился на колени в песок у реки. Не спеша, день за днем, я просеивал песок. Мне не было дела до того, что оставалось в сетке. Меня интересовало лишь то, что просыпалось сквозь сплетенье нитей: песок тончайший, будто струйка дыма.
Это и было оно, детство.
III
Я помню тот далекий летний день, когда, вероятнее всего, покинул детство. Хотя есть у меня и четыре-пять других воспоминаний, которые оспаривают право на причастность к великому переходу. В то утро дед позвал меня к себе, в комнату на втором этаже.
Дело было в самом конце августа, и в летнем воздухе на склоне теплых дней пахло ежевикой, грозой и новыми тетрадями. С тех пор мне трудно различать три эти запаха, потому что они пробуждают во мне одни и те же ощущения: дома вокруг пустеют, и убранные на зиму часы вдруг снова бьют в коробке.
Все началось с того, что на следующий день после пятнадцатого августа летние огни внезапно залило дождем. Соседские дети стали потихоньку испаряться, один за другим. То, что[1] в июле было нашими домами на деревьях и шалашами, теперь походило скорее на руины погибших цивилизаций.
Комната деда и бабушки была командно-диспетчерским пунктом нашей вселенной. Одно ее окно смотрело в сторону восхода, на реку, луг и лес. Второе выходило на закат, там продолжалась речка и росли кувшинки, а еще из этого окна было видно шоссе – единственное свидетельство существования внешнего мира. Из этой комнаты не только следили за сохранностью рая нашего детства – она сама была его живым и жарким сердцем. Это была самая обитаемая комната в лабиринте из камней и черепицы, выстроенном на одном из островов реки Севр. Остальные помещения зимой было невозможно прогреть, сколько бы детей ни посылали в лес за дровами для ненасытной топки этого огромного паровоза.
Дрова и книги – вот что нам приходилось переносить с места на место, из одной библиотеки в другую, по несколько часов каждое лето. Пожалуй, эти странные поручения были единственной платой за сохранность нашего королевства и нашей свободы.
Но не прогретый воздух, не толстый ковер, не уютная бабушкина кушетка, не набитые сокровищами ящики комода и даже не крошечный цветной телевизор, однажды появившийся здесь по нелепому капризу времени (он был столь же неуместен, как микроволновка в замке Спящей Красавицы), – не это было главной силой притяжения комнаты на втором этаже.
По-настоящему радостно билось сердце всякий раз, когда мы поднимались в эту комнату, оттого что там, внутри, были дед и бабушка и что они так по-особенному открывали нам дверь.
Когда я вошел, дед оглянулся и посмотрел на меня. Он стоял перед огромным окном, красивый, как герои фильмов Висконти, в бежевых брюках с высокой талией и рубашке с закатанными рукавами. Бабушка была еще в постели, рядом с ней – засыпанный крошками поднос, а вокруг барашками книг и газет пенились волны одеяла.
В летние дни до одиннадцати утра бабушка принимала гостей, сидя в кровати. Она каждый раз многословно извинялась перед нами, как будто в этом было что-то необычное, из ряда вон выходящее – такой потрясающий и нелепый случай, что ей самой было смешно, и бабушка просила простить ее за внезапный приступ лени.
– Послушай, мой хороший, не знаю, что это со мной такое, но сегодня так не хочется вставать…
Но мы бы здорово удивились, если бы увидели ее одетой раньше полудня.
Каждое утро, всю свою жизнь, она получала завтрак в постель: его готовил дедушка и приносил ей в спальню. Как-то зимой я нашел письмо, которое дед написал бабушке в те времена, когда они были еще женихом и невестой и он только-только вернулся из плена. Я прочел там его слова: «Я сказал Вам однажды, что посвящу всю свою жизнь заботе о Вашем счастье, и добавил, что буду крайне требователен в этом вопросе: не желаю, чтобы Ваше счастье было скромным и простым, меня не устроит, чтобы оно было грошовое, как у многих других. Я хочу, чтобы Ваше счастье было абсолютным, сияющим, ни с чем не сравнимым, чтобы Вы жили в радости и ни на мгновенье не сомневались в моей любви и преданности. Я хочу, чтобы Вы не верили собственным глазам, видя то счастье, в котором живете». Когда я читал это письмо, обоих давно не было на свете, и строки, написанные двадцатилетним юношей, потрясли меня до глубины души, как потрясает всякого человека обещание, которое хранят до конца дней. Такой же оглушительный грохот поднимают детские мечты, когда становятся явью.
В то утро бабушка выскользнула из постели прямо у меня на глазах, подхватила халат и исчезла за дверью ванной комнаты. Я сразу же понял, что исчезла она не случайно. Мы остались с дедушкой наедине. По тому, как он, глядя в окно, вдруг некстати заговорил о жеребенке, которого разглядел где-то вдали: «Смотри, как ему одиноко. Ему бы пару барашков в компанию или осла…» – я догадался, что дед хочет сказать мне что-то совсем другое, что-то очень важное, и я должен к этому как следует подготовиться.
IV
Я не раз слышал это имя – имя лучшего друга его детства: Коко. Они вместе учились в школе и потом всю жизнь не теряли друг друга из виду. Мне слово «Коко» всегда представлялось названием чего-то такого, что существует лишь в теории, в детстве старого человека. Когда дед произносил это имя, он мгновенно перелетал на ту далекую планету, у него даже губы складывались иначе, совсем как у семилетнего ребенка, и самому Коко, чье отражение возникало у дедушки в глазах, тоже всегда было семь. Для меня он остался семилетним навечно. Ну разве можно предположить, чтобы где-то на свете был Коко, который однажды отпраздновал совершеннолетие?
Однако теперь Коко исполнялось восемьдесят, и его родные попросили самого старого друга написать в честь юбиляра поздравительную речь.
Дед смотрел на меня и был как-то странно взволнован.
– Я очень люблю Коко. Я тебе про него рассказывал?
Меня так и подмывало сказать «нет» и еще раз с наслаждением послушать, как взрослый человек произносит эти два слога.
– Проблема в том, – сказал он вдруг, – что я больше не могу писать.
Я попытался улыбнуться. Я прекрасно знал дедушкин слог, музыку его языка. Слова были его сокровищем, он произносил гениальные речи и был блестящим оратором, а если понадобится – шутом, и слова его могли звучать романтично, а могли проникать в душу подобно проповеди. У него сами собой слагались стихи, а единственного героя, которым он по-настоящему восхищался, звали Сирано.
Дедушка повторил, глядя в окно:
– Я больше не в состоянии написать ни слова. Не знаю, в чем тут дело. Ничего не получается.
Я слушал эти незнакомые ноты в его голосе.
– Понимаешь, даже для Коко. Не выходит.
Он обернулся как раз в тот момент, когда с его губ снова слетело это странное имя, и я заметил, что лицо его было сейчас не просто детским, но еще и каким-то потерянным – я никогда не видел его таким. Глаза как будто стали больше, и уголки губ печально опустились.
– Я хотел попросить тебя написать несколько строчек для Коко.
Наверное, я опять улыбнулся – что мне еще оставалось, кроме как улыбнуться? Дедушка просит внука об услуге. Казалось бы, обычное дело. Но в тот день, из-за того, что именно он обращался ко мне, и именно с подобной просьбой, – он, которому не было в этом никакой надобности, обращался с просьбой ко мне, так любившему писать, – в тот день его слова разверзли у меня под ногами пропасть. Обычную пропасть, однажды разверзающуюся между нами и детством.
– Не обязательно писать что-то длинное… – сказал он и посмотрел на свои руки. – Не знаю… Страничку. Я тебе доверяю.
Он ждал ответа, как будто мог получить от меня отказ. Я заговорил не сразу только потому, что мне хотелось еще немного побыть рядом с тем бессмертным дедом, которого я сам себе придумал. Возможно, мне следовало броситься к нему и отчаянно сражаться, чтобы его не потерять. Я был преисполнен страха и вместе с тем – жажды. Одновременно страшился и жаждал этого дедушкиного абсолютного доверия, его отречения, его слабости.
Я стоял, засунув руки в карманы, и упирался пятками в край обрыва детства. Но все мое тело уже медленно подавалось вперед.
Мы слышали, как в ванной бежит вода. Возможно, бабушка слушала нас, прильнув к двери. Дед оперся ладонями о письменный стол. Он старался держаться очень прямо. Пожалуй, даже неправдоподобно прямо.
Я наконец сказал:
– Конечно, что-нибудь напишу.
Дед медленно кивнул.
Он, наизусть читавший нам «Сирано» от первой до последней строчки, отдавал эту роль мне с явным облегчением. Я встану в тень и напишу все за него, а он поставит подпись.
– Это будет просто сонет, ладно?
– Ладно, – ответил он. – Делай как считаешь нужным.
Я обожал сонеты. Сонет – это совсем короткое произведение, в нем меня не успеют рассекретить. Напишу такие четырнадцать строк, что даже сам Коко не догадается: всего за час до того, как это сочинить, поэт был еще ребенком.
Тут дверь ванной распахнулась, и на пороге появилась бабушка в облаке из пара и мыльных пузырей. Она деловито разговаривала сама с собой («Так-так, мои милые, я уже почти готова…») и ни на секунду не задержала взгляда ни на одном из нас, будто давая понять: она ни во что не вмешивается, и наш секрет касается только нас двоих.
Я мог бы отыскать другие места, другие подъемные мосты и потайные лазы, через которые мне когда-то пришлось покинуть детство. Невозможно назвать один-единственный пункт переправы. Подобная растерянность и богатство выбора – счастливое преимущество тех, чей дом не сгорел однажды ночью у них на глазах.
Чтобы выбраться из детства, я шел крошечными шажками, осторожно приближаясь к краю, сбиваясь с пути и забывая дорогу назад.
Мне не выпало на долю той ослепительной вспышки света и ужаса, после которой ребенок сидит, закутавшись в одеяло, на дороге или в углу своей комнаты, и глаза его совершенно сухие, а руки сжаты в кулаки. Такие дети – те, что видели этот огонь, – всегда будут знать с точностью до минуты, в какой момент закончилось их детство.
Наверное, сегодня я пишу все это для того, чтобы пройти через языки пламени вместе с ними, только в обратном направлении, чтобы отыскать на той стороне местá, до которых не добрался огонь.
V
Сначала мир открывался мне через ощущения.
Холод стекла, к которому прижимаешься носом, визг далекой пилы, запах утра, солоноватый вкус деревянной кровати. Я ощущаю, осматриваюсь. Трещины на потолке, дыхание собаки. Прислушиваюсь к голосам за стеной. Комкаю пальцами ткань простыни. За занавеской чья-то тень. Я не дышу, чтобы лучше слышать.
Ребенок – это остров. Он ничего не знает и ничем не владеет. Он лишь догадывается об огромной силе, которая таится под оковами, сжимающими тело. Завтра для него не существует, а прошлое давно исчезло. Ребенок начинается с мгновенья, он – это миг, который застыл во времени и болтается, беспомощный, подобно поплавку среди бескрайнего простора моря, с любопытством озираясь по сторонам.
Он захмелеет от увиденного и пропитается всем, что почувствовал, и лишь после этого начнет воображать. Ребенок обнаружит наконец этот возобновляемый источник энергии: воображение станет той силой, которая растормошит его и сдвинет с места. Он примется бросать в ее поток неодушевленные предметы – все, что попадется под руку: воздушного змея, игрушечный пропеллер, горстку пепла. Он будет фантазировать. Достраивать внутри все, что видит там, снаружи. Он станет совершенствовать свой мир и сочинять истории.
Но сначала у него есть только ощущения. Мир стучится к нему, и ребенок его впускает.
Я помню ночь. Уже несколько секунд, как смолк мотор. Все, мы приехали, понятно. Но открывать глаза пока совсем не хочется. Все замерло. Еще не хлопают ни двери машины, ни крышка багажника.
Я сижу сзади и каждый раз замечаю эту абсолютную тишину, даже если сплю. Наверное, я слышу дыхание, которое доносится с передних сидений, потому что родители наклонились друг к другу. Может, они просто дышат, не двигаясь. А может, целуются. Если идет дождь, их неподвижность длится чуть дольше – можно воспользоваться лишней секундой, чтобы взять разбег. Я сплю. Мне некуда спешить. Для спящих детей дорога – это восхитительная звуковая дорожка.
Я знаю, что родители оглянулись и смотрят на нас. Все звуки прекращаются. Они смотрят долго. Приехали. Они говорят это очень мягко и тихо. На второй раз кто-то из братьев начинает ворочаться. Но я держусь. Если не проколоться, меня, возможно, понесут на руках. Я изо всех сил стараюсь не улыбнуться и чтобы ресницы не дрогнули, но вдруг вспоминаю место, где остановилась наша машина. Мне так и хочется вскочить и броситься бежать. Каникулы. Приехали! Я мог бы прыгнуть прямо в темноту.
Но я держусь. Так хочется, чтобы меня понесли на руках… Так хочется приберечь сюрприз на завтра… Я терпеливо жду.
Когда отец прижмет меня к себе, мы оба станем притворяться, будто не знаем, что я не сплю. Мы оба поежимся, как от холода.
– Приехали…
Я буду чувствовать, что на моем лице остались отпечатки ткани автомобильного сиденья. Мы двинемся по лестнице, пойдем по коридорам и холодным комнатам. Я с закрытыми глазами узнáю звуки закрывающихся дверей, и скрип от отцовских шагов, и запах каменных ступенек – весь этот áтлас ощущений дома, по которому я пробегаю так, будто глаза мои открыты. Постель, куда меня положат, тоже будет мне знакома.
С меня снимают пальто, неловко выворачивая руки. Это тонкое искусство, искусство непостижимое – раздеть уснувшего ребенка.
Постельное белье здесь пахнет дождем и воском. По телу пробегает дрожь, и накрывает волна – мне холодно и радостно. Я зарываюсь в пух подушки, чтобы не заплакать. Гаснет свет.
Но в ту же самую секунду я одновременно нахожусь внизу, под дождем, сижу за рулем другой машины, за воротами, и, кажется, только что заметил, как выключили свет в окне. Все закрыто. Здесь много лет никто не ночевал. Ключа от ворот у меня больше нет.
Я приехал сюда за ребенком, который спит наверху и которым я сам был когда-то. Он лежит в постели и слышит удаляющиеся шаги отца и грохот закрывающейся двери, ведущей на каменную лестницу.
Полночь. Мне не по себе. Выхожу из машины и перелезаю через ограду. Зачем я здесь? Я приехал на поиски того самого сонета, который вывел меня из детства. Он должен быть тут, на третьем этаже, в ящике старого дедовского стола. Он до сих пор лежит там, я в этом совершенно уверен. Я выехал из дома несколько часов назад, на закате, никого не предупредив и ничего не спланировав: мне предстояло взять эту заброшенную крепость штурмом.
Теперь я сижу, балансируя, на верхней перекладине ворот, в лучах автомобильных фар, и меня вдруг настигает воспоминание.
Когда мне было восемь или девять, помню, я вбил себе в голову, что я – объект грандиозного сговора. Моя догадка состояла в том, что в действительности меня нет, меня лишь придумали, а родители и остальные люди просто делают вид, будто я не выдумка. Все вокруг из кожи вон лезли, чтобы убедить меня в реальности моего существования, но я повсюду находил доказательства того, что на самом деле меня нет. А когда окружающие обращались ко мне с самым естественным видом или накрывали на стол с учетом моей персоны, объяснение этому было одно: они просто делали вид, что я есть.
Я не рассказывал об этом никому, кроме старшего брата, явившись однажды к нему в комнату посреди ночи.
– Вот так-то, – завершил я свой рассказ.
Он сидел в темноте и потрясенно молчал.
– Представляешь, какие дела… – добавил я.
Он глубоко задумался; мой рассказ озадачил его и встревожил. В конце концов брат понял, что у нас с ним одинаковая судьба и сам он – жертва точно такого же заговора.
Нас теперь было двое: два призрака, двое отсутствующих, две фикции, которые кто-то изо дня в день придумывает заново, непонятно зачем. Я помню, какое облегчение испытал, когда ко мне присоединился брат, как радостно было обнаружить, что отныне я не один стану каждое утро выходить с фантазиями наперевес навстречу воображаемому.
Впрочем, это серьезное подозрение ничуть меня не огорчало. Оно придавало нашим жизням пластичности. Мы могли подлаживать их под себя, переделывать, как те истории, что рассказывали друг другу. К тому же окружающие тоже заботились о том, чтобы в нашей постановке все шло как по маслу. Тот тип, что следовал за мной по улице, когда я возвращался из школы, оказался там не случайно. Другого я не видел, но слышал, как он бродит ночью по крышам, когда поднимается ветер. Все эти люди внимательно следили за тем, чтобы каждый участник пьесы безупречно исполнял свою роль.
С возрастом мы сталкиваемся с печальными вещами, которые убеждают нас в том, что и мы сами, и другие – действительно существуем. Но все же где-то глубоко во мне запечатлелась мысль о придуманной жизни – той, что создается из ничего каждым нашим новым жестом и действием.
И вот сейчас, когда я собираюсь проникнуть в дом своего детства, меня снова охватывает это ощущение сговора, слежки, и кажется, что там, наверху, за погасшим окном, маленький мальчик выбрался из постели, приподнял занавеску, смотрит на темный силуэт, уцепившийся за решетку ворот, – и понимает, что все это время был прав.
Да, тот тип по-прежнему здесь, он следит за ним… Вы только посмотрите: возомнил, что очень хитрый, раз додумался оставить машину на мосту, а сам даже фары не выключил.
Только вот известно ли этому мальчику, что тип, который следит за ним и чья длинная тень тянется сейчас по фасаду дома, – это тот, кем однажды станет он сам и кто как-то ночью будет сидеть и переводить дыхание на верхней перекладине ворот, отделяющих его от собственного детства?
VI
В иле у болота чьи-то маленькие следы. Восходит солнце. Туман бежит, едва касаясь, по поверхности воды. Я наклоняюсь, чтобы оценить глубину следов. Конь ждет в камышах, присматривая за сапогами, которые я оставил на берегу. Смотрю, куда ведут следы: они доходят до воды. Кто-то приходил сюда попить. Ступня меньше моей ладони, но след совсем неглубокий. Я-то уже в иле по колено… Штаны подвернул, а тетради для сохранности засунул в сапоги.
Смотрю на склонившиеся у воды ивы. Ребенок, вероятно, все еще где-то там. Я опоздал совсем чуть-чуть – мы разминулись. Мне очень нужно отыскать его – его и то королевство, в котором он живет.
Конь вдруг встряхивает головой. Он поворачивает ко мне свой плоский лоб и смотрит прямо в глаза. Может, он наконец-то понял, кого я здесь ищу, и больше не будет принимать меня за сумасшедшего? Может, он тоже чувствует, что воспоминания разбросаны вокруг по камышам?
Были и до меня те, кто однажды утром отправился на поиски детства. Трое волхвов, людоеды, серые волки из старых сказок, солдаты царя Ирода, слуги бесплодных королев, сказители, поэты и все капитаны крюки мира, за которыми неумолимо следует с громким тиканьем время… Все они искали. Каждый – со своей собственной, особой целью. Детство было для них раскаянием, угрозой, добычей, эликсиром… да чем угодно. Но их пути пересекались с моим, и в близости всех этих охотников, чьи погасшие костры встречаются мне на лесных полянах, я узнаю тот самый зов в дорогу, который внезапно поднял меня средь ночи.
Я встал и выпил немного воды из дорожной фляги.
Как бы мне хотелось увидеть его здесь! Как бы хотелось, чтобы из темноты навстречу мне вдруг вышел мальчик в пижаме…
Это маленький хмурый глобус, который шагает со своими темными лесами, озерами и сверкающими городами. Я слышу его дыхание и шарканье ног. Произношу его имя в ночной тишине, и он, конечно, не отвечает. Он забыл, как здесь оказался и зачем выбрался из постели. Я провожаю его.
– Еще ночь, до утра далеко.
Он не понимает. В его мире утро вспыхивает сразу же, стоит ему раскрыть глаза.
– Почему еще не завтра?
Но он мне доверяет и позволяет вести его за руку.
В детстве ночь и время – сокровища, которым нет числа, которые не делишь на часы и на минуты. Ты смотришь на этот полный до краев сундук, окунаешь в него руки по локти и даже глубже, закрываешь глаза и никогда-никогда не можешь нащупать его дна.
Туман начинает растворяться в воде. Я вытираю голые ноги о траву и надеваю сапоги. Пора двигаться дальше. Мой конь подошел совсем близко к воде – и я повторяю за ним.
Конь этот безрассуден, как всякое утро. Грациозен, как каждая новая попытка. Он мчится по дорогам так легко, будто я совсем ничего не вешу.
Я прижимаюсь к самому его уху.
– Отвези меня наверх.
Проходят дни, и я понемногу избавляюсь от снаряжения. Как-то вечером я оставляю под деревом все эти бессмысленные сети и плевательные трубки, веревки и приманки, а на следующий день – книги, которыми планировал руководствоваться в поисках. Я оставляю себе только тетради. Мне нужно лишь то, что хранится внутри меня самого, а больше – ничего.
Я вспоминаю то утро, когда все началось.
Едва поднявшись с постели, я прошел через весь город и не встретил ни одного ребенка. Шел дождь. Я поспешил обратно домой, по пути забегая под козырьки жилых домов в надежде все же обнаружить хоть детский велосипед, хоть рисунок мелом на асфальте. Ничего. Нигде ни следа ребенка. Ни одной сложенной в трость детской коляски в углу крыльца.
В девять утра в нашем городе случилось особенное затмение – детское. Даже в школьном дворе не было слышно детей. А если задрать голову и посмотреть на окна школы, то там были видны лишь лампы дневного света, горящие под потолком.
Я уже и раньше замечал подобную пропажу, но сейчас она впервые меня встревожила, раскрыла мне глаза. Я почувствовал, как мир разом лишился равновесия. В нем стало вдруг бесприютно и пусто.
Укрывшись в безопасности кафе, я сидел за барной стойкой и листал газеты. Нигде ни страницы, ни слова о детстве. И так – каждый день. Ни следа детства. Ни одного детского лица на рябящем экране телевизора в углу. Но тут я увидел за окном на тротуаре женщину, которая нагнулась низко-низко и протянула руку кому-то, кого я не мог видеть – он был скрыт от меня за углом улицы. Женщина улыбалась. Во мне шевельнулась надежда, и я подошел вплотную к окну. Неужели они наконец вернулись?
Но это оказалась всего лишь крошечная собачка, за которой по залитой водой сливной решетке тянулся поводок. Собачка была одета в шерстяной костюмчик, застегнутый на пуговки. Женщина, промокшая под дождем, взяла собачку на руки.
Я снова пошел по улицам, влекомый этим грандиозным отсутствием. Пропавшие было признаки постепенно возвращались: там появлялся вязаный башмачок, оброненный в лужу, тут встречалась мне беременная женщина или попадалась на глаза коляска с просторной люлькой, пристегнутая велосипедным замком. Хотя все эти знаки обещали скорое окончание затмения, я уже успел принять решение о том, что мне пора в путь. Я должен попытаться поймать детство, добраться до этого великого сосуда, который таится где-то в глубоком ущелье, там, наверху.
VII
Но все же однажды мы возникаем в их жизни. Дети задолго слышат наше приближение. Мы расставляем повсюду сотовые вышки и магазины. Освещаем улицы бессчетным числом ламп. Из громкоговорителей несутся призывы больше ничего не бояться, хотя вообще-то до нашего прихода здесь никому никогда и в голову не приходило бояться.
В один прекрасный день мы просто – раз! – и появляемся. Принимаем встревоженный вид, как будто детство – это такая болезнь, которая в конце концов должна пройти. Мы обступаем малышей и придумываем, чем им занять руки и наполнить дни.
Мы объясняем им, что они могут упасть.
Предупреждаем их голод.
Организуем их жизнь.
Мы решаем дать новое название тягучему детскому времени. Мы называем его скукой.
Так начинается оккупация детства.
До нашего прихода часы здесь могли растягиваться, как резинка. Дети тянули время подобно тесту: хочешь – сделай его длинным-длинным, а хочешь – сомни обратно в комок. Летом, в тепле, тесто медленно поднималось. А зимой терпеливо ждало, как ждут, притаившись под землей, луковицы нарциссов.
Закваской для времени были фантазии.
Фантазии лезли через край. Им мало было головы ребенка, они пропитывали все его тело. Когда дракон выпускал из пасти пламя, ребенок чувствовал запах гари, а когда приходилось гнаться по снегу за медведем, дрожал от холода.
Ребенок испытывает все фантазии на собственной шкуре.
Час за часом я куда-то бежал, лежа в постели, а потом открывал глаза, измученный, мокрый с головы до ног, и ноги были как ватные – на таких никак не дойти до родительской спальни. Я обнимал подушку.
Фантазия изливалась из меня. Она изменяла лица прохожих, выращивала кузнечиков до великанских размеров, заставляла табуны диких лошадей скакать по потолку над кроватью и усаживала фей на занавески. Весь мир накрывало фантазией, как горы окутывает туманом.
До оккупации жизнь представляла собой череду мгновений: порой они соприкасались друг с другом, но никогда не смешивались в кучу. Например, простуда, схваченная под дождем, была лишь четками из бусин-мгновений, и каждая бусина до краев наполнялась самой собой. Содержание ее можно было выразить одним или двумя словами, набранными жирным шрифтом, и не было необходимости произносить их вслух: дождь, дом, тишина, дождь, ожидание, рисунок, дождь, еще, светлее, радость, пальто, мокрая трава, падение, грязь, замерзшие пальцы, возвращение, ночная рубашка, огонь, бульон, постель, жар, темнота, слезы, дрожь, молоко с медом, утешение.
Наша жизнь была коллажем из этих событий, и события складывались в историю, но целиком этой истории никто никогда не слышал. Каждое мгновение существовало отдельно, и проживать любое из них означало примерно то же, что сосать сгущенку из тюбика или жевать ириску. Цельные и неделимые, эти сладости полностью поглощают ребенка, набившего ими рот. Все мышцы его лица жуют и глотают вместе с ним, и даже глаза затуманиваются и расширяются от серьезности момента.
Повзрослев, я увидел, как замедлилась мельница времени. Радость длилась теперь дольше, но и боль – тоже. Я уже не спешил поскорее поправиться, если простужался. Печали стали разбавленными, они перемешались с радостями. Дни превратились в записи на промокашке. Я забыл, каково это – переживать мгновение. Вся жизнь моя стала сплавом. Я научился любить это заурядное, неидеальное вещество, в котором было так мало сходства с круглыми камешками детства.
Первые детские годы вспоминаются мне моим персональным каменным веком. Плоский камень всегда был в кармане или в руке. Он скакал по воде. Отталкивался, скакал и исчезал.
Кремнем можно было выбить искру. Огонь – нет, но хотя бы запах гари, и к тому же где-то внутри в извилинах камня таился огонь. Я догадывался, что он откроется мне когда-нибудь позже, когда я стану старше, и эта загадка подхлестывала меня расти поскорее.
В самом начале была вода, совсем давно, но иногда мне кажется, что я кое-что помню и об этом. Детство же началось именно с каменного века, с века отдельных камней и булыжников, или века песка – жидкого камня, в который ныряешь в солнечный день.
Когда мне было около семи, настал век деревянный. Растения вдруг приобняли меня за плечи, я подружился с деревом и в то же время стал его соперником. Я воевал, размахивая деревянной палкой, лазил по деревьям и сшибал цветы ногами, когда бежал через зеленый луг, попадался на крючок ежевике и дул на одуванчик, чтобы развеять его пушинки над землей.
Оно мне было братом, это детство, таящееся под корой деревьев, в их нераскрытых почках и в ветвях, которые измазывают руки чем-то липким, как варенье. Вместе с другом-деревом я строил шалаши, а потом опирался на него, как на клюку, в своих безумных гонках по тротуару. Но плоский камень остался у меня в кармане – как талисман, как напоминание о вечности.
Мне было двенадцать, когда я приехал один вместе с бабушкой в маленький дом под зеленой дубравой, на морском берегу. Это был остров, который в июле вдруг вставал над водой, как подводная лодка, а потом опускался обратно под воду, едва я уезжал.
На этот раз речь идет о другой бабушке, той, что по секрету звала меня Мими-мой-ангел, когда в четыре с половиной года я забирался на ее постель, заваленную книгами.
В любой, даже самый поздний час свет под дверью в ее комнате никогда не гаснет, будто она все время кого-то ждет.
Она всю ночь напролет читает.
С вечера до утра бабушка сидит в постели, волосы, обычно убранные в пучок, спадают на плечи, и она путешествует по далеким жизням. Мне никогда не забыть этой полоски света под дверью, из-за которой я почти всю жизнь был уверен, что читать – это значит ждать кого-то.
Я ухожу с пляжа. Ветер остался там, за дюной. С каждым шагом к запаху папоротника все сильнее примешивается запах жареной картошки. Вхожу на кухню. Бабушка уже поставила на стол две тарелки. Она спрашивает:
– Ходил проведать море?
Картошка щелкает в сковороде в компании розмарина. Дом еще не прогрелся. Я вожу босыми ногами по полу, шурша песком.
– Да. На скалы. Кажется, в прошлом году они были больше.
Она смотрит на меня с улыбкой.
– Это ты растешь…
Сегодня я вдруг ясно слышу ее слова. Я ведь и в самом деле тогда, карабкаясь на скалы, почувствовал себя другим. Возможно, мне следовало бы и этот день вписать в тетрадь воспоминаний об уходящем детстве.
Там, наверху, я ощутил, как что-то соскользнуло с плеч. Так ветер срывает одежду, чтобы пробраться к тебе под кожу. Грудь поднялась от этого внутреннего потока горячего воздуха: мне показалось, что я способен приподняться над самим собой и сверху окинуть самого себя взглядом – увидеть, как я там стою внизу на скалах.
Я пристально осматриваюсь – и вижу, что ждет меня потом. Облака бегут быстрее. Море сворачивается и разворачивается. Очертания теней меняются. Выстраиваются стены перед волнами. Очерчивается белой линией континент. На песке появляются и исчезают люди.
Вот же то, что моя бабушка называет словом «растешь»: подняться в воздух, не слишком высоко, и наконец увидеть оттуда, сверху, себя самого.
VIII
Я приехал за стихотворением, которое пропало тридцать лет назад. Дед больше не стоит у окна своей комнаты. Но я – здесь, под крышей детства. На лбу – фонарик. Передо мной в темноте – ступени деревянной лестницы, ведущие в кабинет. Дом пуст и окутан фантазией. Электричество отключили.
Перебравшись через ограду, прохожу по мокрой траве и нахожу ключ от белой двери – он там же, где всегда. У меня во рту снова привкус пепла, как в тот раз, когда я ударился головой о землю на школьном дворе. Хватаюсь за лестничные перила и поднимаюсь.
Однажды, когда я был совсем маленьким, мне как-то довелось проснуться в этом доме одному среди бела дня. Я выбрался из постели голый, в одних махровых трусиках, и переваливающейся походкой новорожденного волчонка поковылял по коридору, не успев окончательно проснуться от послеобеденного сна. Я заглянул во все спальни, в которых не было ни души, и с прилипшими ко лбу волосами продолжал переходить из комнаты в комнату.
Дом совершенно опустел.
Еще два часа назад я засыпал под гомон лета, под музыкальный гул обеда взрослых, под аромат вина и мяса, который просачивался в двери спален, под крик детей, долетавший от травы к окну, – а проснувшись, обнаружил, что театр пуст.
Я спустился в прихожую, опираясь рукой о стену, на каждой ступеньке замирая и прислушиваясь к собственному дыханию. Больше в доме не было ни звука, ни голоса. Босыми ногами я протопал в кухню, прошел между стульев в столовой, по теплой плитке, по коврам и по голому камню, а потом, вдыхая ароматы зеленых зарослей гостиной, гулял до самого конца вселенной. Никого. Все ушли. Я даже не решался их позвать. Я крепко стиснул губы, как будто только благодаря крепко сжатым губам мне удается стоять на ногах. Вырвись из них хоть звук – и я рухну на пол.
Я разглядывал предметы и мебель. Я наконец-то открыл глаза и увидел мир. Одиночество заставило меня существовать – впервые в жизни. Мне казалось, что и они, предметы, тоже смотрят на меня, как спящие собаки замечают, что мимо проходит в отчаянии их маленький хозяин.
Я подвинул стул к окну и прижался к стеклу лицом. Я очень долго ждал и не отрывал глаз от моста: вдруг там кто-нибудь появится? Потом слез со стула и толкнул входную дверь. Снаружи на меня выплеснулось ведро тепла. Солнце было повсюду, только посередине чернела липа.
Меня нашли стоящим на гальке в ста метрах от дома. Первым патрулем, обнаружившим меня, были мои двоюродные братья и сестры: катаясь на велосипедах, они увидели меня издали и тут же с воинственным улюлюканьем развернулись под платанами и умчались прочь. На этот раз я не стал сдерживать крика, как потерпевший крушение, который видит, что дым из трубы корабля, направившегося было в его сторону, начинает стремительно удаляться. Меня бросили одного уже во второй раз. Я упал в дорожную пыль в ожидании хищных ястребов или собак.
Но они вернулись – их было несколько дюжин: взрослые, дети, все вперемешку, они бежали пешком, плыли на лодках, ехали на мопедах, их созвали краснокожие на велосипедах, и они сходили с ума от безграничного чувства вины: оставили меня одного, а сами пошли выпить кофе где-нибудь в другом месте, на той стороне леса. И я залил их слезами, несмотря на всю их нежность, несмотря на все сладости, которыми мне забили рот, несмотря на поцелуи на моих волосах. Я чудом уцелел, я был героем, меня несли на руках, как воина-победителя.
– Вы посмотрите, какой смелый!
– Ну-ну, все позади…
Они пытались меня рассмешить и для этого целовали в живот. Обещали строить со мной шалаши и катать на лодке. А я задыхался от рыданий, которые так долго держал в себе.
Те времена нередко возвращаются ко мне, и детство вдруг всплывает на поверхность. Оцепенение дневного сна, вкус слез. На коже – мелкие порезы, я прижимаюсь к ним губами.
Когда была война и Сент-Экзюпери кружил над Францией в своем бумажном самолете, ему было больно смотреть с небес на пламя. Он рылся в памяти, пытаясь отыскать воспоминание о защите полной, всеобъемлющей, бескрайней, но такая защита сопутствует нам только в детстве: в памяти нашлись объятья няньки Паулы и утешение родного дома, укрытого средь черных елей. Ему хотелось опереться на это воспоминание, призвать его на помощь. С тех пор как он вырос и всякая надежда растаяла, оставалось лишь твердить себе: «Когда ты взрослый, не от кого ждать защиты».
С фонариком на лбу теперь и я кружил над дедовым письменным столом и тоже понимал, что больше никто не придет осыпать меня поцелуями и не посулит мне сладких гренок. Я перестал быть ребенком и по собственной воле явился сюда на встречу с пустотой. Я ежился от холода и думал обо всех, кто в детстве не изведал утешения, а значит, не изведает его уже никогда.
IX
Это была совершенно круглая комната, заставленная коробками и мебелью. Даже дерево шкафа повторяло округлый изгиб стены. Луч фонаря перемещался по сваленной в кучу рухляди. Я летел с выключенными двигателями над разоренной комнатой. Сырость пробиралась под ворох бумажных листов, и мне казалось, что сейчас среди папок для бумаг возникнут озера и мшистые леса.
Дед никогда ничего не выбрасывал, и, если вдруг выдавался редкий день, когда он решался пойти на жертвы и избавиться от нескольких старых газет, бабушка потихоньку следовала за ним и спасала выброшенное. После этого она тайком заводила папку под названием «Бесценные воспоминания» и ставила ее на полку к десяткам других.
Кабинет находился в башне. Видимо, в горечи траурных дней сюда перетащили бумажные завалы из всех прочих комнат. Здесь устроили склад памяти об ушедших, надеясь когда-нибудь позже найти в себе силы погрузиться в воспоминания. Но чем больше сил, тем нестерпимее желание дышать свежим воздухом. Так что с тех пор здесь каждая бумажка так и лежала неподвижно.
На это кладбище воспоминаний и дохлых мух пролился ливень кратких примечаний. Они, как бабочки, сидели тут и там. На каждой папке, на коробках – всюду я видел надписи: «Хрупкое», «Чрезвычайно ценное», а где-то попадались крупные наклейки со словами «Семейная жизнь», «Радости и печали», которые были написаны бабушкиной рукой и должны были точнейшим образом описать содержимое очередной кипы бумаг.
По комнате были разбросаны и другие послания-указания – ими устилал нашу дорогу детства дед. Одно объявление предостерегало от использования забитого унитаза и призывало присаживаться на корточки под деревьями, другое расписывало, какое это счастье – снимать ботинки, когда входишь в дом, а некоторые, на резиночках, призывали с нежностью обращаться с ручкой слива воды, с велосипедом, с повозкой, запряженной лошадью.
На карточке, озаглавленной «Pro memoria», дед обращался к тем из нас, кто уже умел читать: «Обладатель прекрасного вкуса, догадавшийся воспользоваться зонтом (он и правда очень красивый, к тому же какой удобный чехол!) в такую дурную погоду: почему бы не положить его на место?»
А потом, чуть ниже подписи, душераздирающее восклицание: «Первое сентября, увы! уже!..»
Я один за другим рассматривал эти разрозненные листки, подсказки в сложном квесте, без которых невозможно было бы управлять свободными государствами детства. Под каждой запиской неизменно стояла подпись «Администрация» или «Управляющий», как будто все мы работали на фабрике, производящей счастливые дни. Да так оно и было на самом деле…
Нам повезло: окружающие взрослые не искали днями и ночами, что бы такого нам еще отдать. Наоборот, они внимательно приглядывались к нам, шпионили за нами, высматривая, что бы у нас украсть. Ведь мы владели всем, чего они давно лишились.
В полумраке я с головой нырнул в картонные коробки и напрочь забыл, зачем вообще пришел. Я ворошил сухие листья памяти, перемещаясь от одной горы бумаг к другой. Шли минуты, а может быть, часы – я позабыл про время. Я рыскал с жадностью, разыскивая детство, а находил все время что-то другое, целый слоеный торт из жизней, выложенных друг на друга тонкими листами: каких-то стариков, тетушек-затворниц и юных женихов, солдат и вдов, студентов и свидетелей на свадьбе, взволнованных родителей – да, «радости/печали», как гласила этикетка, копились здесь не меньше сотни лет! Внутри коробок кучей громоздился целый мир, искусно перепутанный и перемешанный – нарочно, чтобы сбить меня с пути.
Но все же я помнил о цели своих поисков, и первыми в этом театре теней мне бросились в глаза послушные дети: их была здесь целая толпа, они сидели на обрезах папок, между страниц, висели, уцепившись руками и ногами за спирали, скрепляющие тетради. Дети! Они все были просто детьми, которые в один прекрасный день нарядились взрослыми, облачились в разные одежды: один вдруг стал точь-в-точь нотариус, другой – наездник, третья нарядилась монахиней. Некоторые взялись за руки, изображая жениха с невестой. Но их серьезный вид не сбил меня с толку: я легко узнал их даже в этой нелепой одежде, которая была им велика и мешала играть.
К четырем утра я так и не нашел сонет, и фонарь на лбу начал понемногу тускнеть. У меня даже появилось подозрение, что дед нарочно избавился от улик – тот самый дед, который никогда и ничего не выбрасывал. Я держал в руках в качестве компенсации записную книжку 1928 года, которую он вел два жарких лета подряд, в тринадцать и в четырнадцать. Я мечтал обнаружить там то, что так искал: следы уходящего детства. Возможно, по этим следам мне удалось бы вернуться обратно.
В этой красной книжке рассказывалось об июльском автомобильном путешествии через всю Францию к горам Юра, о том, как свернули с широкой дороги и обедали где-то у проселка, под высоким дубом, а потом прибыли в отель «Добрый день» в Пор-Лене. В пути их сопровождали то грозы, то изнуряющая жара, то велосипеды, то свадьба Мишелей («…к счастью, погода была прекрасная, в самый раз для того, чтобы осуществить эту небольшую формальность»), три бокала шампанского, которые по такому поводу выпил мой тринадцатилетний дедушка, воздушный шар, однажды утром опустившийся с неба где-то в сельских полях, «людоедский голод» после того, как все утро напролет играл в теннис, – но ни слова, ни намека о великом перевороте…
Если только не считать одной фразы на повороте страницы: «Господин и госпожа Д. приехали сегодня с мадемуазель Розой». За этими словами следовала длинная черта и пустое место. Больше о мадемуазель Розе не было ни слова, но она уже разгуливала у меня в голове и по этой дрожащей длинной черте.
– Сходи-ка покажи Розе сад и пруд.
Прогулка двух детей, которые обращаются друг к другу на «вы» и дружно шагают в огнях заката.
Их силуэты движутся друг за другом. Платье Розы метет подолом лютики. Они не очень понимают, о чем говорить. Мой дед вдруг останавливается у края воды. Рука его в кармане.
Он обращается к Розе:
– Послушайте. Вы слышите?
– Погодите… У вас что, тоже лягушки?
В той же коробке я встретил письмо, одно из тех, что были адресованы «милым родителям», и по нему сразу понял, что дед тогда уже перешел на другую сторону.
Страница за страницей тянулись описания боев, и касок, пробитых пулями, и измученных лошадей, идущих против вражеских танков и самолетов. Боевой товарищ плачет, потому что не хватает сил на выстрел. Железо падает со всех сторон.
В начале письма, прежде чем приступить к описанию этих бессонных ночей, мой дед, младший лейтенант, обращался к цензуре с просьбой пропустить его письмо, а в конце сообщал родителям: «Пишу вам, привалившись спиной к дереву, тетрадь лежит на коленях. Какое счастье: я жив».
Х
Я шел вдоль обрыва, и вдруг откуда-то снизу пахнуло теплом. Я натянул поводья и остановил коня. Мох и трава заколыхались, хотя день был тихий, безветренный. Я подошел ближе. Тепло поднималось откуда-то из-под камней, лежащих у стены обрыва. Будто бы там, под камнями, была пустота, наполненная паром. Я лег на землю, прижался глазом к щели среди камней и увидел, что внизу находится комната ребенка.
Потерянная комната прямо у меня под ногами.
Я посмотрел на неубранную постель. В ней давно никто не спал. Ребенок улетел. Его комната спала под покровом пыли. Я бы не решился войти туда, чтобы не нарушить царящего там беспорядка.
Я давно догадывался, что под всеми известными нам континентами образуется новый, огромный, который временами будоражит наши жизни, даже если мы давно выросли. В такие дни расплавленное детство стекает лавой по склонам или разрушает землетрясениями города. Я не просто так пустился в это приключение. Я искал опушку потерянной страны, которую легко узнал бы по ее особенному свету.
Подземный общий континент не знает ни границ, ни временных пределов. Однажды я прочитал, что Овидий во времена императора Августа играл в шарики орехами – зимой мы с братьями делали то же самое, сидя на холодном плиточном полу. А Ингмар Бергман в шесть лет всем говорил, что его похитили владельцы цирка. Но ведь и меня тоже! Я до сих пор могу в подробностях описать красные и желтые полосы шапито, вот только не помню точно, томился ли вместе со мной в заточении мальчик по фамилии Бергман. Казалось, что в каждом уголке этой нашей общей страны можно было встретить старого знакомого. Что же до тех, кто сбился с пути и не хочет вспоминать дорогу обратно – мне их жаль, им остается только рыться в карманах в поисках конфеток для малышей.
Они забыли детство. Забыли полночный шепот между ярусами двухэтажной кровати:
– Ты спишь?
– Да.
Я вспоминаю детскую, какой она бывала в дни каникул. В ней царил тогда абсолютный, идеальный беспорядок. Смешение форм и материалов. Нечто среднее между хижиной, полем битвы и шхуной. Гнездо, образовавшееся под тяжестью птицы, умятое ее движениями и слепленное испариной ее тела. Гнездо с парусами для выхода в море. Стихийная архитектура леса. Моя комната представляла собой настоящий запутанный клубок, в котором взрослым было ни за что не разобраться.
Здесь с самого рассвета ткалось полотно моих игр, и я был убежден, что каждая вещь в комнате находится на своем месте. Тут ничего нельзя было переставлять и двигать. Хаос защищал меня от мелькания часов. То был порядок примитивный, доисторический. Я до позднего вечера отгонял от себя бегущие часы: придумывал истории и строил замки из простыней, невидимых и невесомых. Пижама служила скафандром, и я хотел сохранить ее навсегда. Если братья или сестренка пытались ко мне присоединиться, я общался с ними замедленными жестами аквалангиста, складывал вместе большой и указательный пальцы. Все в порядке… Входите, но только очень осторожно… За ними закрывались каменные ворота, и они медленно вплывали в морскую бездну.
Позже комната снова преображалась. Она становилась неприступна. Стоящие снаружи могли подумать, что внутри рождается великан. К двери мы придвигали сундук, чтобы никто не мог войти. В комнате что-то творилось: от вибраций сотрясались стены. Отсюда доносились крики и хруст костей. Тут шла война. Соседи у себя за окнами оглядывались и обращали взоры в нашу сторону. Они прекрасно слышали: приближается гроза.
Наконец, с трудом прокладывая путь, в комнату врывалась мама и обнаруживала на ковре пейзаж Аустерлица, разбросанные тут и там мальчишеские тела, истерзанные битвой и утопающие в подушечных сугробах.
Воскресным вечером всегда оставалась надежда на чудо.
В тот час, когда казалось, что все пропало и больше невозможно противиться течению времени, когда мы были вынуждены смириться с тем, что больше ни игра, ни выдумка не смогут отделить нас от утра понедельника и школы, – в этот самый миг вдруг возникал чудесный аромат, который заставлял нас потихоньку выбираться из комнат и прислушиваться.
Такое чудо случалось с нами два-три раза в год.
Я направлялся к кухне, по дороге бросив взгляд на старые часы, висящие в столовой. Отец их переделал, оставил один лишь голый механизм и добавил два свинцовых груза для поворота барабана, которые отлил в консервных банках. Часы показывали шесть.
Через секунду я стоял на плитке кухонного пола. Отец сидел перед огнем и смотрел, как в печи пекутся перепелки. Двенадцать перепелок, которые служили предзнаменованием события куда более грандиозного, чем они сами.
Отец наш становился в этот миг волхвом, способным задержать бег времени.
Сначала он вертел перепелок над огнем, чтоб опалить остатки перьев – вот этот едкий запах мы и чувствовали на другом конце квартиры. А теперь они запекались в глубине печи, отражаясь, как в зеркале, в луже растопленного масла и жира.
Отец неподвижно сидел перед ними, совсем как те дети, с которыми мы познакомились в Африке: они всегда толпились перед очагом и с интересом смотрели, как вращается вертел над огнем. Отец был верен рецепту «из телевизора» и никогда не оставлял без внимания то, что готовит. Он нес караул.
Я стоял на пороге несколько секунд, дожидаясь, пока мы с отцом встретимся взглядом: мне надо было убедиться, что все это мне не снится, – и только после этого выбегал из кухни. Мне хотелось первым разнести благую весть. Что-то будет!
Немного позже, в тот час, когда все дети мира приводили комнату в порядок и собирали на завтра портфель, когда никто не смел уж больше ни на что надеяться, мы покидали Париж в оранжевом микроавтобусе и мчались навстречу общему потоку тех, кто возвращался в город.
Дорога впереди была свободна. Мы не сводили глаз с заката: солнце садилось справа от дороги. Чтобы замедлить его падение, отец прибавлял газу.
За мгновенье до заката мы медленно въезжали в лес Фонтенбло. Я прижимался лбом к стеклу. Стояла осень или, может быть, весна, и это было воскресенье, вечер. Мы парковались на каком-нибудь пустынном пятачке. Перепелки лежали у нас в рюкзаках, завернутые в несколько слоев серебряной бумаги.
Мы поднимались гуськом среди камней и серых буковых стволов и через заросли папоротника шли на луч света, который служил нам ориентиром. Наконец забирались на самый верх. Вот тут-то мы и застигали солнце: розово-золотое, оно падало в сосны. Еще нас поджидал здесь плоский камень.
Мы хватали руками перепелок, еще горячих, и молча вгрызались в них зубами, жадно поглощая одну за другой. Наши руки и лица блестели под лиловым небом. Мы были первобытными детьми, устроившимися на ковре из хвои.
Но очень скоро тень и холод накрывали лес. Мы скакали по камням, чтобы урвать еще немного времени. Родители, похоже, не спешили. В Париж необходимо было вернуться до полуночи. Я смотрел на них, и они казались мне какими-то даже чересчур спокойными – просто смотрели вверх, на первые звезды, и мне на ум вдруг приходила сказка про Мальчика-с-Пальчик. Я наблюдал за ними. В их спокойствии было что-то уж слишком прекрасное. Неужели они задумали бросить нас здесь одних?
Дикие звери наверняка бродили где-то поблизости, их приманили косточки перепелок. Но все же мы скакали веселее прежнего. Эхо наших голосов придавало храбрости. Эхо голосов, а еще – та уверенность в собственных силах, которую порой внушает ночь.
Не так уж много в жизни радостей, подобных этой. И я готов поклясться: в эти воскресенья среди сосен мы не прыгали – летали. Если бы кто-нибудь тогда спросил меня, где я живу, я бы ответил, как Питер Пэн: второй поворот направо, а дальше прямо до утра.
XI
Я почти ничего не помню, и все же существует место, где все это хранится, как живое. Детство живет не в памяти. Оно сохраняется прямо внутри, в нашей плоти и крови. Даже если оно причинило нам боль, даже если мы ополчились против него, все равно мы слеплены из детства и всю жизнь живем, прислонившись спиной к его сумрачным стенам. Детство – это все, что есть у тех, про кого говорят, что детства у них не было.
Я до сих пор чувствую, как движется внутри меня детское тело. Это тело никогда не останавливается, будто крошечная мельница, которую вертит чья-то незримая рука. Ребенок с синими губами, который час за часом не вылезает из воды. Ребенок, уснувший на чемодане. Ребенок, что проснулся в спящем доме и одевается один. Ребенок, который мчится, расставив руки и подставив спину ветру. Ребенок, потерявшийся на улице. Ребенок-клоун. Ребенок, который ест. Ребенок, которому больно. Ребенок, который пишет. Ребенок, бегущий вперед. Ребенок, спрятавшийся так удачно, что все о нем забыли. Ребенок, говорящий сам с собой. Ребенок, плачущий сам с собой. Ребенок, склонившийся над своей разбитой коленкой. Ребенок, которому жарко. Ребенок, волочащий за собой сухое дерево. Ребенок под дождем. Ребенок, у которого на ногах так много грязи, что под ней не видно резиновых сапог. Ребенок, улыбающийся от усталости. Ребенок, летящий под гору на велосипеде, еле удерживающий внутри безумный крик. Ребенок, которому рассказывают сказку. Ребенок в туфлях на высоком каблуке. Ребенок, дрожащий от холода. Ребенок в свете солнца. Ребенок, от нетерпения подгоняющий время.
Даже ночью тело ребенка никогда не останавливается совсем. Если долго смотреть на то, как он спит, можно заметить, что под кожей у него пробегает рябь вроде той, которая поднимается на море при отливе. Его обтекают сны, он сосредоточен на них, словно пилот. Он путешествует.
Только в одном-единственном случае ребенку приходится покинуть тело: когда он читает. Тело читающего ребенка превращается в груду одежды, брошенной как придется. Раскрытая книга лежит на ковре, а куча одежды валяется рядом, соскользнув с кровати или подперев ногами стену. Он читает. Куда он запропастился?
– Ты тут? Ты меня слышишь?
В комнате никого нет. Ребенок сейчас далеко отсюда, в теле гораздо более просторном, где-то в волнах, там, куда нам не дотянуться.
Мне каждый раз требовалось немало времени, чтобы вернуться на землю. Когда я закрывал книгу, меня звали откуда-то снаружи, а я оставался на кровати, оглушенный, ошарашенный. Но вот я вставал и чувствовал, что мне стало тесновато в этой коже и в этом мире. Я делал шаг, потягивался – и оболочка моя трещала по швам. Мне приходилось заново находить равновесие. Я спускался по лестнице и не видел, что за спиной у меня выросли два бумажных крыла.
Я помню, как хранилась в секрете зимняя белая кожа. Тело пряталось под толстым слоем шерсти. Только покрасневший нос и два глаза выглядывали в щель между шарфом и шапкой.
А по вечерам над ванной вырастало облако. Нам говорили:
– Мойтесь и вылезайте!
Но когда тебе четыре, хочется раствориться в воде, исчезнуть. Ведь и в самом деле в этом густом тумане я уже не вижу собственных рук и ног. Я пропадаю.
Чтобы это самое тело не улетучилось, меня необходимо было вырвать из пара, завернуть поплотнее в полотенце и бросить на кровать. Тогда я буду притворяться мертвецом, забальзамированным мылом.
Я стану ждать весны. Стану ждать лета.
Лето длилось целую жизнь. Оно было взрывом свободы. Огромным костром, в который швыряли все прочие времена года – посмотреть, что от них останется. От них не оставалось ровным счетом ничего.
Летом стиралась граница между телом и душой. Они сливались воедино и, казалось, были сделаны из одной и той же гибкой древесины – возможно, из ореха, как рукояти наших луков. Мечтал и размышлял в такое время не только лоб, но и ладонь, и грудь. Я весь сгорал на солнце. Кожа окрашивалась в красный. Я становился алым, как орифламма – флаг средневековых королей. Я изнурял себя и расшибался в кровь. Желания мои были сравнимы с жаждой, а тело было неразумно и еще спокойно обходилось без зеркал.
Мне это тело казалось бессмертным, несмотря на то что через дорогу от дома было кладбище, а на нем – могила маленького мальчика, вокруг которой мы часто собирались. Все мы, четырнадцать детей, садились в круг на этом острове, усеянном останками далеких предков. Колеса наших великов, уложенных в траву, еще крутились вхолостую там, за кладбищенской оградой. Для описания возраста умерших малышей в латыни есть особенное слово для надгробий: annuculum – кусочек года. Наш ребенок, к которому мы приходили на кладбище, прожил даже меньше, чем annuculum.
Это был наш дядя.
Я не мигая смотрел на бабушку и деда, которые приводили нас сюда, и даже не вполне узнавал их в эти минуты. Мы слышали, как дед произносит имя сына. Он разговаривал с ним. А у бабушки лицо вдруг становилось таким печальным и безвольным, каким я больше никогда его не видел. Мы стояли с ними рядом столько, сколько было нужно, наш маленький боевой отряд, дети-партизаны, живые и невредимые, во что бы то ни стало намеренные продолжать сражаться в лесах и у реки во имя этого безымянного солдата.
До десяти лет знакомых мертвецов у меня больше и не было. Вот еще одна причина, по которой первые годы остались в моей памяти светлой поляной, не омраченной тенями. Один-единственный раз я вместе с братьями ждал в машине, пока родители ходили почтить память одного умершего старика. Это был дядя Альбер, чемпион по старости: ему было семь лет, когда умер Виктор Гюго, а сам он умер сто лет спустя и был при этом как две капли воды похож на великого писателя перед смертью. Мы сидели в машине. Отец оставил «дворники» включенными. Альбер, по-видимому, лежал наверху, на синем кабинетном диванчике, в глубине коридора. Я очень жалею, что не поднялся тогда и не взглянул на его закрытые глаза.
На тот момент это было мое самое близкое знакомство со смертью. И вдруг началось: смерть посыпалась со всех сторон, как ветки и листья в ветреный день на лесной дороге.
В то время, когда произошли мои первые смерти, я как раз открывал для себя великий кавардак любви и начинал осознавать свое тело. И то и другое сразу – это был перебор. Рушились мои надежды на мирное существование, пробилась брешь в решетке ограждения. Узнав любовь и смерть, я в то же время узнал законы мироздания – всего, что окружало меня с самых первых дней. До поры до времени их от меня таили, но теперь, открыв их для себя, я не был разочарован: все это я предчувствовал уже давно и теперь сдавал оружие и капитулировал.
Я никогда не пытался удержать детство или сам в нем задержаться. Просто я хотел, чтобы ребенок внутри меня рос, развивался и оставался живым. Потому что, какими бы обещаниями ни кормил меня этот новый мир, край взрослых, в моей жизни было нечто такое, от чего я не собирался отступаться: желание творить и изобретать. Я дал себе этот обет. Я никогда не предам фантазию. Никогда не выпущу из рук нить клубка. Мое детство продолжится – я найду для этого новые способы и не расстанусь с мечтой растить ребенка в себе вечно.
Благодаря той самой нити, которая с тех пор разматывалась за моей спиной, теперь я лезу вверх через леса и травы, взбираюсь на холмы, туда, где был ребенком.
На ночных привалах мне часто снятся двое детей, карабкающиеся вверх по скале, с которой вниз обрушивается вода. Они то появляются, то снова исчезают под потоком, не оставляя попыток одолеть бесшумный водопад. Порой мне кажется, что на них нарядная одежда, а иногда они мелькают среди потоков, одетые в желтые дождевики, и их яркие фигурки похожи на мерцающие огоньки. Но в некоторых снах они являются мне совсем голыми, и вода все так же хлещет сверху и обращает в пену у их ног потерянный карнавальный костюм из бумаги и подвенечное платье. Когда же наконец они взбираются наверх, я вижу их лишь со спины. Они стоят и смотрят на край, который ждет их впереди. И тут я просыпаюсь – всегда за секунду до того, как они навсегда исчезнут в этой устроившейся высоко над миром стране под названием Neverland.
Говорят, есть рыбы, которые умеют подниматься на сто метров по вертикальному потоку водопада. Смогу ли и я так, когда понадобится?
XII
Местность вокруг становилась знакомой. Притоптанная трава у зарослей ежевики, доски и обрывки бечевки, забытые среди деревьев, шум ручейка, похожий на мурлыканье кота.
Идти оставалось недолго. Я чувствовал, что приближаюсь.
Иногда я оглядывался, услышав за спиной чей-то шепот. Я обходил стороной черные аллеи деревьев, похожие на туннели, в конце которых светился круглый выход. Крошечная змейка бросалась в воду. Из леса выступала вдруг чья-то тень. Опускалась ночь.
Я знал эту опасную страну. Конечно, детство опасно, а как же иначе, ведь на протяжении многих тысяч лет большинство детей оттуда не возвращались и пропадали где-то там, не доживая даже до двенадцати лет.
Но вопреки страху я двигался вперед. Дорога была верная. Я высек ее накануне вечером у себя в тетради, пока еще было светло. Отец научил меня никогда не расчерчивать страницы по линейке. Я рисовал карту на ходу, день за днем, от руки: склонялся над бумагой, и на ней появлялись новые линии; когда-то, давным-давно, забравшись с головой под одеяло, я так же водил фонариком по линиям ладони и всякий раз терял дорогу.
Сон был бы сейчас некстати. Темнота мне больше не мешала: я шагал до самого утра рядом с конем и даже не держал его. Мы шли щекой к щеке, я упирался ключицей в лошадиную шею, и чувствовал, и слушал этот мир, и двигался вперед доверчиво, будто слепой. Я позволял коню вести меня через темноту. Я узнавал шум водопада за нашим домом, запах рождения щенков под столом в кухне, апрельский аромат сада во внутреннем дворе, предсмертное хлюпанье креветок в сковородке, дыхание матери над ухом, когда она стрижет мне волосы, хлопанье голубиных крыльев, а под ногами – вспаханные поля, в которых мы добывали червей для ловли угря.
И вот когда эта непреодолимая сверкающая земля была уже совсем рядом, я ступал на другую дорогу, поросшую мхом или засыпанную песком, и меня подгоняла тропинка, бегущая под гору, или вкус кунжута, которым посыпали хлеб, или первые капли на волосах по дороге из школы, первые редкие капли дождя.
Снова наставал день, и я открывал глаза. Обломки домиков высоко в ветвях казались знаками недавнего наводнения. Здесь прокатилась волна, которая пыталась затопить весь этот мир. Уходя, вода оставила в воздухе флажки, на ветках – доски, на земле – примятую траву. А в кустах ежевики виднелись красные шерстяные нитки – останки наших распустившихся шарфов.
Конь мой дремал на ходу, он шел совсем рядом. Теперь не он вел меня, а я его. Настала моя очередь быть провожатым.
Что я буду делать с ребенком, если поймаю его? Когда бабочку прикалывают булавкой и укладывают в коробку под стекло, в ней ничего не остается от бабочки. Цветы, засушенные в гербарии, напоминают мух, раздавленных между страниц старинной книги.
Кто-то давным-давно перелистнул эти страницы. Был вечер. Он оторвал глаза от книжки на секунду – ровно на столько, сколько нужно фразе, чтобы подпрыгнуть и улечься в голове. Он неожиданно заметил в свете облако из крыльев. Летние мошки ласково вернули его обратно в настоящее. Приближалась ночь. Он захлопнул книгу. Когда-нибудь, читая, он обнаружит здесь засушенный труп мошки. Воспоминание, расплющенное на странице.
Как сохранить ребенка на бумаге живым? Как сделать так, чтобы он бежал вприпрыжку между строк?
Пока еще мой беглец все старался оставаться невидимкой. Я не знал, кто из нас двоих кого опережает. Он был повсюду и повсюду заметал следы. Я все никак не мог понять, что он задумал. Он тайно вел какие-то приготовления.
Когда мы жили в Африке, отец нашел однажды столяра в порту и заказал ему штук двадцать пар решетчатых оконных ставен. Их должны были погрузить на корабль, уложить среди бананов, чтобы в один прекрасный день установить на окна нашего дома в двух тысячах миль отсюда. Я впервые видел, чтобы отец доверил подобную задачу кому-нибудь еще – он, который научил нас, что на всей земле не существует ничего такого, что человек не мог бы сделать своими собственными руками.
Столяр был бродячим мастером, ходил от дома к дому с ящиком инструментов. Своей мастерской у него не было. В первый день он устроился на набережной с горой досок, рубанком, пилой и другими необходимыми вещами. Он очертил на земле квадрат – обозначил свою рабочую территорию. Я держал младшую сестру за руку, а братья стояли в сторонке, сложив руки на груди. Мы смотрели, как столяр готовится к работе и затачивает лезвие рубанка. На второй день у его ног лег слой первых стружек. Из досок вырисовывались какие-то странные формы.
Мы завели привычку каждый день после школы приходить взглянуть, как продвигаются его дела. Смотреть было одно удовольствие… Пахло свежим деревом и лагуной. Но никто из нас не решался произнести вслух, что предмет, который выходил из-под его инструментов, совсем не походил на ставень. Это была какая-то большая вытянутая штука, по форме немного напоминающая скелет сома. Мы стояли в сторонке, рядом с отцом, а он смотрел на работу мастера, прищурившись, как будто говорил: «Вот увидите. Подождите. Еще немного – и сами увидите». Но было ясно, что отец понятия не имеет, что же это такое мы тут увидим.
Прошла неделя. Большая рыба совершенствовалась, у нее появлялись подвижные плавники, прикрученные болтами, и маленькие ящички на боку. Но по-прежнему – ни намека на то, что это ставень.
По ночам я пытался представить себе, как эту штуку подвесят к фасаду нашего дома, и уже воображал, как здорово будет устроить в ней домик.
Иногда отец решался подойти к столяру, как праздный любопытствующий, который подходит разведать, нет ли каких новостей. Он спрашивал что-нибудь такое, туманное:
– Ну как тут? Все путем? Идет работа?
– Все путем.
Столяр улыбался. А отец, испытывающий безмерное уважение ко всякого рода таинствам, возвращался к нам с важным видом бригадира.
На десятый день человека на рабочем месте не оказалось. Его творение ждало нас под голубым брезентом на берегу. Мы медленно приблизились, решив воспользоваться отсутствием мастера, чтобы раскрыть наконец его тайну. Окружив работу столяра со всех сторон, мы не сводили глаз с голубого брезента. Когда же вуаль была приподнята и отброшена в сторону, лицо отца просветлело.
Ничего. Ни одного из двадцати пар ставней. Все это время столяр всего лишь готовил себе верстак.
Я нагнулся, заглянул вниз – и обнаружил, что мастер просыпается от послеобеденного сна: он забился в брюхо к деревянному сому, положил голову на табурет и довольно улыбался. Он никуда не спешил и мог приступать к работе. Отец был восхищен.
В моем туманном путешествии ребенок, которого я преследовал, повсюду оставлял древесные опилки. Я прямо у себя внутри устроил верстак для детства. Придал ему такую форму, которая соответствовала пустоте, оставленной во мне. Я не хотел довольствоваться пустотой. Мне нужно было детство настоящее, живое. Такое, которое можно поймать и которое шевелится в ладонях: вертлявое, с острыми локтями, с комом в горле, когда ссорятся родители, умеющее разглядеть пейзажи в трещинах на потолке, готовое смотреть на солнце до ожогов на глазах. Такое детство, что режет палец об острый край травинки и мечтает об огромной куче снега, которая навечно засыплет нам обратную дорогу.
Я не желал довольствоваться лишь скелетом рыбы.
Но все же как-то ночью понял, что от меня вообще ничего не зависит. Охота закончится не так, как я этого хочу.
Должно быть, дело было в полночь. Мой добрый конь дышал совсем рядом. Он никогда не жаловался на тяжелую судьбу. Мы остановились, оба изнемогая от усталости. Я наконец-то прилег поспать у рощи: закрыл глаза и привалился ухом к земле. Из-под земли доносилось постукивание ветвей, которые касались друг друга наверху, у нас над головами.
Среди ночи меня вдруг разбудила тишина. Не двигаясь, я огляделся в полной темноте. Ветер стих, вокруг не слышалось ни звука.
Мой конь исчез.
XIII
Ночь была абсолютной: не за что зацепиться.
Ведь всегда есть какая-то неточность, едва заметное движение или легкий отблеск – словом, какой-нибудь намек, подсказка глазу. Но эта ночь была чернее черноты.
Я медленно поднялся. Возможно, я не лежал все это время на земле, а парил, устроившись на нижних ветках. В такой темноте не действуют законы притяжения. Я шарил в темноте руками, не очень-то надеясь отыскать в ней своего коня. Я прекрасно помнил, что накануне вечером впервые привязал его, как будто почувствовал в своей усталости угрозу. Но конь пропал.
Деревья были здесь, стояли на месте, рядом. Я прислонился к их прохладе спиной, надеясь сориентироваться и мысленно воссоздать пространство, которое, казалось, уходит из-под ног. Было ясно, что сам он сбежать никак не мог. Я думал о воре, о том, как бесшумны были его шаги, когда он приближался в темноте.
Наверное, мне было лет десять, когда в наше отсутствие, во время пасхальных каникул, кто-то устроился в нашем доме. Я помню, как мы вернулись в полночь, прямо накануне первого учебного дня, после двух недель вольной жизни.
– Смотрите!
Он, очевидно, прожил у нас несколько дней. Оставленная им тарелка стояла, терпеливо дожидаясь его возвращения, на десертном столике. Горела лампа, книги громоздились стопками на полу, и там же лежали пластинки, вынутые из конвертов. Мы ходили по дому в куртках, помятых в дороге, и чувствовали себя как в сказке про трех медведей. Кто хлебал из моей чашки? Кто ложился на мою постель? Мы шли и ждали, что сейчас увидим его в одном из зеркал.
Из вещей почти ничего не пропало, но вот морозильник был опустошен: незваный гость ел мороженое десятками порций, а одевался в одежду нашего отца.
Мы вымыли за ним посуду, убрали на полки книжки. Жизнь покатилась дальше, как будто ничего не произошло.
А на следующие каникулы он вернулся. Дорога была ему уже знакома, достаточно было лишь толкнуть створку окна. Отец купил себе немного новой одежды, и наш посетитель снова с радостью ее унес. Вот почему мы поняли, что это тот же самый. У них с отцом, должно быть, совпадали вкусы. Та же история с мороженым из морозилки, с обедами на десертном столике в гостиной, немного приятной музыки на проигрывателе. Все как он любит, мы уже неплохо знали его привычки. Я помню, что он перевесил аппликацию из сухих листьев папоротника, которую я сделал. Она всегда висела в рамке в столовой, а теперь оказалась в прихожей, прямо у окна, через которое он ушел. Мама говорила, что он, наверное, хотел унести картинку с собой, и я страшно этим гордился.
В детстве мне встречались и другие призраки, которые проходили совсем рядом с моей жизнью, но так и не показывались на глаза. Помню Клементину, которую искал целый год. Я записался на занятия танцами из-за того, что в списке учащихся было ее имя, но так ни разу и не решился спросить, есть ли у нас в группе девочка с таким именем. В другой год, в школе, кто-то обронил стихотворение, которое было подписано моей фамилией. Учительница вернула мне его и сказала, что оно очень красивое. Я убрал стихотворение в карман и, спрятавшись за поворотом коридора, прочитал чужие строки в тишине и одиночестве, как письмо, адресованное мне одному.
Но ни один из этих незнакомцев не доводил меня до слез, похитив моего коня, пока я спал. И ни один из них не ходил вокруг меня кругами ночью, чуть не до смерти напугав.
Печаль – острый нож, который рассекает ребенка пополам. Грусть наполняет комнату ребенка до краев. Она просачивается во все углы и щели, и невозможно ее задвинуть к дальней стенке комнаты, чтобы продолжить жить на оставшемся пространстве. Сам воздух становится разрежен, как высоко в горах. День больше не заглядывает в окна, и завтра не наступит никогда.
– Ну что с тобой? Посмотри на меня.
Печаль – это конец всего, необратимость. Я каждый раз лежу, уткнувшись носом в подушку, и жду, что пепел и лава сейчас накроют меня с головой. Все великие трагедии написаны о детях. Федре[2] было три с половиной, Химене[3] – никак не больше семи. «Ввек лейтеся из глаз вы, токи горьких слез!»[4] А Джульетта – та вообще малышка… Все эти девочки придвинули кровать к двери, чтобы от души погоревать. И если они на мгновенье и прерывают свой плач, то лишь для того, чтобы убедиться, что там, за стеной, их слушают.
Я помню детские печали и измены, разрушенную дружбу, страхи и ужасающее чувство вины за пустяковые проступки. Однажды мой отец вывихнул лодыжку, погнавшись за мной из-за какой-то ерунды. Я обернулся точно в тот момент, когда он падал с криком, и крик этот был какой-то незнакомый, измененный замедленным падением. Я тогда надолго спрятался в кладовке, под картонными коробками, и продолжал сидеть там, когда давно умолкли его стенания от боли и крики всех остальных, пытавшихся меня найти. Я твердо решил состариться под этими коробками. Я был уверен, что братья станут потихоньку приносить мне сюда еду и выведут меня на волю в тот день, когда мне исполнится восемнадцать.
Тогда я вновь увижу мир, и похромаю по дороге совсем один, одетый в свои детские обноски, и буду с непривычки ослеплен солнцем.
Но было в детстве кое-что грустнее, чем эти детские печали, которые развеиваются при первом же порыве ветерка.
Отчаяние, которое охватывало без повода и без причины.
Казалось бы, ребенком я ни в чем не испытывал нужды. Я был доволен жизнью, и меня никто не обижал. Но вдруг откуда ни возьмись внутри меня рождался страшный вой: вопила тишина. Хотелось разорвать опутавшую руки и ноги пелену. Снаружи жизнь текла привычно и спокойно, но внутри меня звучал тот страшный крик. Там кто-то задыхался, было слишком тесно, чтобы раскинуть руки и дышать.
Так кричит зверь, угодивший в ловушку.
Все это вышло на поверхность памяти, пока я в темной невесомости парил у рощи. Я снова испытал ту боль, но теперь она была еще острее, боль непонятная, возникшая на земле раньше первого человека, раньше первого ребенка. Я, купавшийся в образах былой свободы, вдруг вспомнил, как трещала по швам моя детская кожа, разрываемая страстным желанием существовать.
Французское слово chétif («тщедушный, болезный») происходит от слова captif («пленный»). Я узнал об этом, когда мне было семнадцать. В то время я заново учил родной язык. Сооружал себе верстак. Я делал вид, будто покинул детство, но тут, склонившись над раскрытым словарем, вдруг осознал, словно увидел в яркой вспышке огненной ракеты, что в те далекие, ранние свои годы был пленен.
Детство – это плен.
Я чувствовал, что в моем детском теле таится все человечество, намотанное само на себя. Клубок из человечества, который в один прекрасный день вдруг размотается, как стебель бамбука после сильного дождя. Но тогда я всего этого еще не знал. Я полагал, что раздвигаюсь, подобно телескопу, и превращаюсь во взрослого постепенно. Все было готово, лежало аккуратной грудой на земле. Когда же прольется дождь и настанет та самая ночь полной луны? И кто придет, чтобы помочь мне размотать клубок, расправить крылья?
Я завидовал рождению жеребят: едва выбравшись из матери, они тут же встают на ноги и, танцуя, убегают прочь. Им-то ничего не надо ждать. Они просто идут себе восвояси, и не пытайся их поймать – все равно удерут. Еще блестящие после рождения, они уже исчезают в лесу.
Когда мой конь сбежал, я снова обнаружил среди ночи ту комнату, обитую войлоком, из которой не выбивается наружу крик. Наверное, мне следовало сдаться, вернуться на землю и махнуть рукой на поиски.
Но я стоял на коленях в траве и ждал, а когда настал день, поднялся на ноги. Весь мокрый от росы, вместо того чтобы отчаяться, я воспринял эту боль как ключ, подсказку. Я узнал ее. Она поможет мне пройти. Крошечная кучка камней на дороге. Пора было двигаться дальше.
До цели осталось всего ничего… Горячо!
XIV
С одной стороны – глубина леса или ночи с их реками и морем. С другой – бездонность ящиков комода. Пожалуй, детство можно было бы нагнать и через эти пять-шесть бескрайних ящиков, которые умели заменить собою все горизонты мира. В дни болезни или плохой погоды они служили мне секретными лазами, через них я убегал из дома.
Южный ящик письменного стола родителей открыть было непросто, но тот, кто ухитрялся выдвинуть его до конца, бывал за это вознагражден. Начать с того, что там восхитительно пахло кожаной обивкой. Я дотягивался носом до верха деревянного каркаса и одновременно цеплялся за него руками, а глаза мои уже пускались в путешествие по ящику внутри.
Мне так ни разу и не удалось составить полный список его содержимого. На это не хватило бы и целой детской жизни, такой короткой и в то же время настолько долгой. Конечно, как и в большинстве других ящиков стола, были там молочные зубы, осколки чашки, ждущие, когда их склеят, семена космеи[5], моток проволоки, веер, фотографии на документы, заграничные монеты, клей-карандаш и сломанные очки. Но среди прочего здесь хранилась еще и старая бальная книжечка из панциря черепахи, а также медаль за лыжную победу, коробка скрепок, карманные часы, точилки для карандашей, перья для ручки, фигурка святого, английская марка, театральный бинокль, палочки благовоний, бритвенные лезвия, сахарные щипцы, перочинный ножик, баночка туши, собачий ошейник, рыболовная леска.
Казалось, ты добрался уже до самого дна, но ящик будто сам производил вещество своего содержимого, и уже через несколько дней волна выносила на поверхность розетки подсвечников, металлические заклепки, шнурки, записную книжку, древние окаменелости, скипидарное масло, маленький замок, штемпельную подушку, пулю от винтовки, расческу для вычесывания вшей, визитные карточки, фитиль керосиновой лампы, весы для писем, старый паспорт, каштан, ластик – и все это вперемешку с карандашной стружкой, ракушками и резинками разных цветов.
В противоположность ящику стола родителей, в 350 километрах в западном направлении находился верхний ящик комода дедушки и бабушки, в их спальне на втором этаже. Я не помню, чтобы этот ящик мне хоть однажды довелось открыть и выдвинуть самому. Он находился слишком высоко и охранялся слишком строго. Но в то время как магия южного ящика распространялась в равной мере на предметы старинные, отжившие свой век и потерявшие родную пару, этот верхний ящик – и размером побольше, и более хрупкий – был наполнен исключительно новыми предметами. Пара нераспечатанных носков в упаковке, шотландский чемоданчик в прозрачной пленке, новенькая механическая мышь в коробке. Поставка новых сокровищ производилась, очевидно, через особый люк в дне ящика, в который въезжали крошечные почтовые фургоны, запряженные парой жуков-хрущей.
Я никогда не думал, что ящик письменного стола, платяной шкаф или сундук могут служить для чего-то иного, кроме как для прохода в неведомые никому миры. Такими же порталами были в моем представлении кладовые, подвалы, погреба и чердаки. Когда люди возмущались, рассказывая, что в жизни их сортируют, навешивая ярлыки, как на содержимое ящиков комодов и шкафов, я и не думал их жалеть. Я слишком горячо любил шкафы, ниши, чемоданы, а с ними заодно – и прочие коробки без дна, как, например, чистые блокноты и тетради. Из них, с той стороны, должно быть, открывался прекрасный вид на нашу жизнь.
Я вспоминаю свою крестную, которая в 18 лет была достаточно миниатюрной для того, чтобы спать в ящике комода, когда в доме собиралось слишком много народу. Она сама была как из сказки, так почему бы ей и не спать в комоде? В тот день, когда я нес ее гроб, он так легко лежал на моем плече, что я был уверен: ее там уже нет. Она улетела вместе со всеми своими талантами и с рецептом, чье странное название в тот день внезапно стало мне понятно: pain perdu[6], «потерянный хлеб».
Пока мы двигались к церкви, я потихоньку озирался по сторонам, и все искал в воздухе над нами чудесное, непредсказуемое существо, которое наверняка летало где-то рядом, и вспомнил, что говорил о феях Джеймс Барри[7]: они так малы, что в них не помещается несколько чувств одновременно.
В моей коллекции есть, конечно, и другие ящики. Ящик стола на авеню Моцарта, который открывался прямиком в прошлый век; ящик моего дяди Пьера с его зажигалкой на солнечной энергии и магнитными мушками; ящик с мотками шерсти; ящик с резиновыми заплатками и дорожными картами; еще помню кухонные шкафчики, полные устричной пыли, большой металлический ящик, набитый калькой, а у одной из моих бабушек в тайном коридоре за ванной комнатой была сказочная коробка из-под печенья, до краев наполненная часовыми стрелками.
Лопатка для рисования, оберточная бумага, семя баобаба в бумажном конверте… Я обожал сокровища выдвижных ящиков, потому что все они были вспышками вполне реальной планеты, которая ждала меня впереди. Детские игрушки по сравнению со всеми этими настоящими предметами не представляли для меня никакого интереса и казались нелепым обманом.
Когда отец подарил нам электрическую железную дорогу, настоящую радость мы испытали от созерцания двух чемоданчиков, которые он сделал своими руками для ее хранения: с крошечными деревянными отсеками, изготовленными специально под размер локомотивов и рельс, и с логотипами – он от руки нарисовал их на коже чемоданов. Все это отец мастерил тайком, перед Рождеством, пользуясь тем, что ночи зимой длинные. Чемоданчики закрывались на замок с секретным кодом.
Железную дорогу мы почти не запускали. У нас было слишком много настоящих серьезных детских дел. Но подарка прекраснее я в своей жизни не припомню…
Мне было, наверное, лет двенадцать, когда однажды, во время недолгой болезни, я нашел во втором ящике гостиной, рядом с маминой кинокамерой, новенькую, нераспечатанную восьмимиллиметровую пленку. По счастью, в то утро я проснулся с температурой под сорок и меня объявили больным. Дверь несколько раз хлопнула, и квартира опустела. Меня оставили одного на целый день, и уже только от этой мысли я почувствовал себя гораздо лучше. Передо мной открывались безграничные возможности.
Часы в столовой пробили десять утра, и путешествие от ящика к ящику было в полном разгаре.
Я разорвал желтую упаковку, заправил пленку в камеру и установил ее на ножку от торшера в одной из спален. Я плохо помню события этого дня, в памяти осталась только горячечная сосредоточенность на деревянном персонаже с шарнирными руками и ногами, которого я усадил на ковер и заставил двигаться. Короткое нажатие на кнопку камеры, едва заметное изменение положения человечка – и так снова и снова до самого вечера. Именно так оживляются картинки в кино, кто-то мне об этом рассказывал. Не знаю, верил ли я в это на самом деле.
Вечером меня спросили:
– Ну как ты тут? Рассказывай.
– Все нормально. Мне уже лучше.
Должно быть, кто-то отправил пленку в лабораторию, не зная, что на ней. Я и сам не знал, что там, и никому о ней не рассказал.
Год спустя, осенью, мы смотрели пленки прошлого лета, которые проецировались на стену одной из комнат, и вдруг перед всей семьей возникло изображение деревянного болванчика. Я успел напрочь забыть про этот день, но пленку прислали по почте, вместе с остальными нашими фильмами.
Я выпрямился и вцепился пальцами в бархат дивана.
Человечек на стене обернулся, как будто что-то искал вокруг себя. Он был живой.
Он взглянул на меня.
Грациозно поднялся с пола. К нему присоединилась маленькая пластилиновая свинья. Вокруг меня раздавались удивленные возгласы. Я не мог поверить своим глазам. Я плакал перед этим невероятным открытием, в темноте вытирая руками мокрые щеки.
Под бормотание проектора, вдыхая его горячий запах и глядя на зависшую в воздухе пыль, я понял, что созданное нами не всегда бывает нам подвластно. Все дело лишь в уверенности и свободе. Нет никаких гарантий, что выйдет хорошо. Но в этом не будет твоей вины. Тебе ведь просто было скучно, к тому же подскочила температура и в ящике комода царил ужасный беспорядок…
Никогда не знаешь.
XV
В начале путешествия времена года и местности сменяли друг друга без всякого порядка. Это была плохо организованная коллекция дней, в которых высоченные сосны окрашивались летними вечерами в кровавые тона, и можно было бегать по песку в пижаме, и сразу же за этим наступала осень с криками ворон и шумом, который поднимают машины, расплескивая лужи на бульваре. А после, без всякой связи, вдруг возникал гул кукурузного поля, горячий камень перрона и ящерицы с дрожащим горлом.
Ребенок забрал у меня коня, но взамен оставил уверенность в том, что я гонюсь не за миражом, не за приманкой. Я уже представлял себе, как кто-то привязывает красные варежки на шею быстрой лани или какого-то другого дикого животного, чтоб загнать меня до полусмерти. Нет, это все-таки был он, собственной персоной. Он сам мне об этом сказал, явившись ночью и похитив все, на что я мог положиться.
Однажды утром я понял, что настали настоящие холода. Я надеялся, что снег поможет мне и покажет следы ребенка. Поджидая меня, тот уже наверняка нашел себе меховую шубу до пят и русскую шапку-ушанку, которую завязал под подбородком.
Дети – единственные, кто достает из сундуков забытую одежду. Я носил вещи мертвых. Давал им новую жизнь. Дождевикам, жилетам, накидкам, вельветовым штанам.
– Я надену этот платок вместо пояса?
– Погоди, он же весь в перьях… Посмотри!
Я сжимал в кулаке остановившиеся часы с погнутыми стрелками. Ходил с тростью, на которую кто-то опирался в свои предсмертные дни. Платья пахли прошлым. Мы торжественно вышагивали под гром вымышленного оргáна. Вместо ладана дымились подожженные шишки. А черная вуаль, которую накинул на глаза мой брат, когда я подошел, чтобы взять его под руку, была вся в соли от засохших слез и из-за этого замечательно хрустела.
Нам не нужно было даже вращать столы, чтоб вызвать духов. Вместо этого мы играли в театр. По улице шла процессия странных пошатывающихся фигур. Ноги аистов, зубы их волчьи, как у кошек ангорских усы![8] На континенте детства, где мы жили, соседями нам были все эти жизни, от которых не осталось ровным счетом ничего.
Были и другие навсегда пропавшие, преследовавшие меня в бессонные охотничьи ночи. За год до моего рождения мама потеряла ребенка, которого тогда ждала. Я всегда считал его своим союзником и был уверен, что, если бы не он, я б не увидел света дня. Я жил с этим убеждением.
Я представлял его с волосами светлее моих и видел, как он закидывает удочку в воду где-то там. Я думал о нем. Мне, кстати, рассказывали, что целый месяц все считали, что вслед за ним я тоже отказался рождаться. Мама была беременна, и я вдруг исчез со всех датчиков. Никто не мог расслышать стука моего сердца. Не помню, что там было у меня на душе в ту пору, и не могу сказать, куда я уходил. Но потом, узнав об этом, я принял свое отсутствие за сомнение, раздумье, не следует ли пойти и исчезнуть вслед за тем, кто был здесь до меня. За те недели я стал с ним очень близок, мы молчали вместе, а потом меня выбросило наружу, как добровольца.
Что, если теперь, много лет спустя, в своем невероятном путешествии фантазера мне удастся тайком пробраться и к нему?
Снега выпало гораздо больше, чем я ожидал. Если на нем и были следы, их засыпало раньше, чем они успели указать мне путь. Но все же повсюду чувствовалось присутствие ребенка. Я был на индейской территории. Когда я останавливался в заброшенных хижинах и разводил огонь, казалось, что кто-то повторяет за мной и делает то же самое внутри меня. Я чувствовал, что осажден.
Порой, когда переставал падать снег, ребенок приходил и наблюдал за мной через щель в стене шалаша. Я тогда отчетливо видел рядом с собой его глаз, не желая признавать, что это всего лишь ледяная капля, в которой отражается пламя моего костра. Я потихоньку выходил наружу. Никого. Даже снег не примят. Я прислонялся к дереву. Разочарование было сравнимо с тем, какое приносил комочек сахара на языке, в который превращалась сладкая вата, а ведь, когда ее держали так высоко у нас над головами, подобно воздушному шару, мы возлагали на нее такие надежды!
Но ребенок наверняка был где-то здесь. Должно быть, он передвигался по верхним веткам и спускался к хижине по стволам деревьев. Я спешно собрал свои тетрадки.
И бросился за ним.
Недели сменяли друг друга все в той же белизне. Со временем инстинкт охотника во мне притупился. Я сломя голову несся в детство.
– Кто первый до липы, тот выиграл!
Снег сошел. Я смотал пальто в комок и затолкал его в дупло дерева для новых путешественников, которые придут сюда после меня.
Ночи становились прекрасными. Я снова, как ребенок, верил в волшебство загаданного желания и в силу падающих звезд. Верил, что все возможно. Мечтал о том, чтобы найти высокую траву, и воду, и солнце.
Бывали вечера, когда мне доводилось, сидя при луне, задуматься о старике, который как-то утром опустился на стул, чтобы прочесть сонет, подаренный ему старейшим из друзей.
Стоял сентябрь. Конверт скользнул к нему под дверь в день юбилея. В стихотворении говорилось о двух мальчишках, которые вдруг замерли среди игры, под школьными часами. Старик, должно быть, много раз перечитал две заключительные строфы:
Ладони отряхнув от белой пыли мела И подбоченившись насмешливо и смело, Ты вдруг взглянул в глаза мне и спросил: «А можно сделать так, чтоб детство нам продлили? Или забудешь ты о том, как мы дружили?» Отвечу: «Нет, Коко, я не забыл».Я сам придумал эти строки однажды поздним летом, свернувшись калачиком у себя в постели и покусывая карандаш. Тихо перечитывал каждую строчку вслух на разные лады. Отсчитывал слоги, опуская поочередно пальцы на простыню. Я писал. Дедушка попросил меня об этом, и я послушался. Какая рана предшествовала этой просьбе деда? Тогда я этого еще не знал. Мы оба стояли на краю обрыва. Слова, которые мне приходили в голову, все были о воспоминаниях. Я писал их за него, хотя ни он, ни я тогда еще не догадывались, что именно воспоминаний-то и не хватало деду: память оставляла его.
Это была его первая капитуляция. А для меня – прореха в ограде, возможность краем глаза заглянуть в тот мир, который настанет после детства. И все-таки потом, в последние дедушкины дни, на лице его будет читаться только детство, и больше ничего.
Несмотря на зарубки на деревьях – эти стрелки, указывающие в небо, чтобы сбить меня с пути, – знаки, которые в разные дни оставлял ребенок, запах сирени по утрам и фальшивый волчий вой по ночам, и несмотря на косточки, что прорастали во мне, я больше не чувствовал, что играю в поиски сокровищ. Во мне росло другое ощущение: будто я кого-то сопровождаю.
И вот в один из первых погожих дней я наконец-то подошел к реке.
XVI
Он прыгал по камням посреди бурного потока.
Он был там, в самом центре грохота, и я смотрел на него – точь-в-точь такого, как я представлял. Он следил, нагнувшись, за кружением водоворота, который пробивал в стене из камня узкие туннели – в них стояла спокойная вода, и детские плечи вполне могли в них пройти. Он вдруг отпрянул, улыбнувшись: капля воды попала ему в лицо.
Меня он будто бы совсем не замечал, и невозможно было поверить, что дело тут в беспечности. Он внимательно следил за всем вокруг, был погружен в настоящий момент и с интересом считал, сколько раз ударится о дно реки дерево, застрявшее между камней. То, что на первый взгляд могло показаться беспечностью, на самом деле было непредусмотрительностью. Он с важным видом созерцал время в одной конкретной точке бурного течения, и его нисколько не волновало ни то, куда бежит вода, ни то, откуда она приходит. Он рискованно прошел по самому краю утеса, сел и опустил босую ногу в гущу потока. Когда он коснулся воды, взметнулись брызги, какие бывают, если дотронуться рапирой до вращающегося мельничного круга. Я живо представил, как дрожь пробрала его до самого затылка.
Меня парализовали его присутствие, светлые волосы и сверкание потока. Я надеялся, что спрятался за шумом. Он вдруг коснулся лба ладонью и выпучил глаза, и губы, кажется, слегка зашевелились. Он сам себе рассказывал историю, а потом потер глаза руками, чтобы ее прогнать.
Он встал, подпрыгнул, приземлился на соседнем камне.
На мгновение, пока он был над водой, я почувствовал на себе его взгляд. Но там, на новом островке, он снова занялся своими нехитрыми заботами.
Потом он вдруг оглянулся и спокойно посмотрел на меня – похоже, мое присутствие его ничуть не удивило. Я не был окончательно уверен, на меня он смотрит или на маленькую бухту поблизости, где мертвые ветки деревьев совсем раскисли от воды. Залив надежно укрывали камни и дерево, поваленное бурей. Но если от бурного потока бухте укрыться удалось, то пена и обломки древесины проникали в нее без труда.
По небу проплывали тяжелые тучи с прогалинами солнца и голубизны. Я подошел к утесу.
Перебираясь с одного каменного островка на другой, я подходил к ребенку все ближе. Он нарочно повернулся ко мне спиной. Но я видел, как через плечо его нет-нет да посматривал любопытный глаз.
Я наконец остановился. Дальше я идти не мог. Он стоял впереди и разглядывал собственную ладонь и тень, которую отбрасывают пальцы. Между нами бежала быстрая вода. Вскоре он забросил свою игру, поднялся на ноги и развернулся всем туловищем ко мне. Он что-то крикнул, но слов я не расслышал.
Он несколько секунд стоял, скрестив руки на груди, как будто ждал, что ему ответит эхо.
Потом спустился в воду, медленно и осторожно, чтобы не унесло, и двинулся ко мне. Он шел, в воде по пояс, и разрезал волну.
Вот он поднялся на мою скалу. С него ручьем текла вода, на камне под ногами вырастало черное пятно. Я сел на корточки – тело давно забыло эту позу.
Он тоже сел, стуча зубами от холода.
Немного посидел, не двигаясь и ничего не говоря.
И наконец спросил:
– Ты его видел?
– Кого?
– Того, который шел за мной.
Я не знал, что отвечать. Опустил глаза и посмотрел на крошечную лужицу, которая образовалась под ним и теперь силилась по камню добраться обратно до реки.
Он повторил:
– Того, который шел за мной. С этими своими тетрадками…
Я сказал:
– Это я.
Он щелкнул зубами, улыбнувшись.
– Нет, это не ты.
Он обхватил колени руками, кожа вся покрылась мурашками от холода.
– Тот был больше и с тетрадками.
Солнце скрылось.
Он поднял руку над головой, показывая рост взрослого человека.
– Так ты его видел или нет?
Водяные пауки скользили по луже, которая собиралась у него под ногами.
– Нет, я его не видел.
Дрожа, он посмотрел наверх, будто услышал, как над нами что-то пролетело – птица или самолет. Я тоже поднял глаза к небу. Но он, вероятно, просто искал солнце, а оно так больше и не выходило. Он поднялся.
– Ты идешь?
Я смотрел на золото, которое осталось у меня на руках, хоть небо было темным, грозовым. Моя тень лежала совсем рядом со мной, даже когда я поднялся, чтобы посмотреть, как он осторожно спускается в воду. Когда вода опять дошла ему до живота, он вскрикнул – и обернулся ко мне.
– Ну же, пошли!
И через несколько секунд еще раз:
– Пошли!
Я увидел, как они вдвоем уходят прочь.
Кто-то отделился от меня, чтобы присоединиться к нему. Кто-то, кого я провожал сюда, сам того не зная.
Он был похож на меня. Мне было странно, что я почти не почувствовал боли. Лишь едва заметный укол в боку в тот миг, когда он отделился.
С неба упали первые капли дождя.
Они вдвоем стали подниматься вверх по течению реки. Сначала прыгали по камням, которые возникали прямо у них под ногами. Потом пошли вдоль берега – там, где помельче и где вода спокойная и исчерченная штрихами дождя. В этом месте река доходила им до коленей.
Я все еще их видел. Они остановились, чтобы набрать плоских камешков. А потом двинулись дальше, с каждым шагом становясь все меньше и меньше. В боку снова закололо. Как бы мне хотелось, чтобы они решили попускать блинчики по воде или искупаться под дождем… Как бы мне хотелось, чтобы они задержались еще хоть ненадолго! Я бы все за это отдал.
Чуть-чуть бы помедлили…
Но они уже ушли.
Я спускался вниз по реке.
Дождь прекратился.
Когда настала ночь, мне показалось, что вдалеке грохочет водопад, там, позади, где зарождается поток. Я слышал барабанный бой, и он манил меня. Я положил свои размокшие тетради сушиться у раскаленных углей и тоже свернулся калачиком у самого костра.
Они, наверное, карабкались вдвоем по водопаду, как тогда, в моем недавнем сне. Поднимались обратно в Нетландию, оглушенные ледяным потоком.
Лишь красота нам дарит утешение. Поэтому я лег на воду и позволил реке, летящей с гор, нести меня назад.
Я возвращался домой.
Ее обрели. Что обрели? Вечность! Артюр Рембо (перевод М. Кудинова)Сноски
1
Католический праздник, день Вознесения Девы Марии.
(обратно)2
Федра – героиня трагедии французского драматурга Жана Расина.
(обратно)3
Химена – героиня трагедии «Сид» французского драматурга Пьера Корнеля.
(обратно)4
Пьер Корнель, «Сид», перевод Павла Катенина.
(обратно)5
Космея – однолетнее растение с белыми, розовыми и красными цветами, семейство астровых.
(обратно)6
Pain perdu – это хлеб не потерянный, а черствый, так называются сладкие гренки из старого, «потерянного» хлеба, который обмакивают в подслащенное взбитое яйцо с молоком и обжаривают на сковородке.
(обратно)7
Джеймс Барри – шотландский писатель, автор книг про Питера Пэна.
(обратно)8
Эдмон Ростан, «Сирано де Бержерак», перевод Вл. Соловьева.
(обратно)




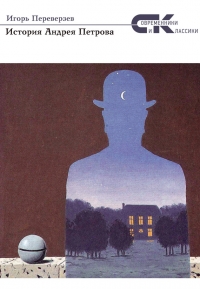

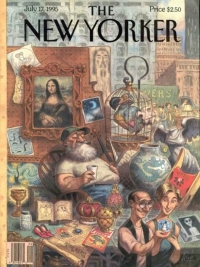




Комментарии к книге «Нетландия. Куда уходит детство», Тимоте де Фомбель
Всего 0 комментариев