Современная китайская проза
ПРЕДИСЛОВИЕ
Современный литературный процесс в Китае динамичен и многосложен, в чем поможет убедиться настоящий сборник современной китайской прозы, который знакомит читателя с повестями и рассказами различных авторов, опубликовавших свои произведения в 1978—1982 годах. Именно в это время наряду с маститыми писателями, вернувшимися в литературу после двадцатилетнего молчания, появляется целая плеяда одаренных прозаиков, творчество которых вносит новый вклад в возрождение и развитие реалистической китайской прозы и отмечено остротой наблюдения и смелостью поисков. Писатели этого творческого направления явно тяготеют к суровой точности воспроизведения реальности. Они не позволяют своему воображению парить над фактами, а эмоциям — растворяться в словесной риторике. Их произведения — это не иллюстрации к событиям жизни, а правдивая летопись пережитого. Эта летопись, разумеется, имеет свою хронологию, а потому последовательность произведений, составивших данный сборник, выстроена не по времени выхода этих произведений в свет, а таким образом, чтобы читатель смог вместе с авторами проследить перипетии различных судеб героев, начиная с 1966 года по восьмидесятые, то есть со времен культурной революции» и до начала осуществления курса «четырех модернизаций в Китае».
Литература, посвященная этому периоду, несет в себе отзвук тех болезненных явлений в развитии китайского общества, которые хоть и отстоят от читателя по времени на двадцать лет, но оставили неизгладимый отпечаток и в жизни, и в творчестве китайского народа. Нельзя оставаться безразличным к историческому прошлому, каким бы оно ни было. Лишь правдивое и мужественное постижение последствий прошлого является залогом полного и бесповоротного разрыва со всем тем, чем оно было омрачено. Описание прошлого и обращение к этой теме в литературной работе зачастую требует от писателя гражданского мужества, и именно это качество творца позволяет ему правдиво отобразить свой личный опыт и впечатления. Произведения, зафиксировавшие эти впечатления и опыт, составили огромный прозаический материал, получивший в Китае название «обличительной литературы» или «литературы шрамов». Жизненные явления, взятые авторами этой литературы для художнического освещения, делают данные произведения свидетельством особой ценности, наполняют их значительным содержанием, верным большой жизненной правде и человечности.
Реалистические произведения «литературы шрамов» изобилуют фактами жестокости, произвола, безвинных страданий. Перед читателем проходят герои, переживающие страх, отчаяние, крушение идеалов, потерю ориентиров в жизни, предстают люди, столкнувшиеся с разгулом безнравственности, с вседозволенностью сильных и их безнаказанностью. Разобщение семей, отчуждение людей, обесценение ценностей, шельмование огромных людских масс и, как следствие этого, опустошенность и цинизм в среде последующего поколения заставляют авторов «обличительной литературы» вновь и вновь устремляться в прошлое и искать оптимальные формы и средства для достоверного изображения действительности.
Боль и горечь пережитого становится в современной прозе китайских писателей постоянной темой. Каждый из пишущих хочет доказать, что люди обязаны знать правду, чтобы все случившееся не повторилось впредь. И поэтому не случайно в настоящее время в Китае появилось множество литературных произведений с одинаковой тематикой, которая порой заслоняет содержание сегодняшней жизни, но зато с предельной точностью воспроизводит прошлое. Документальность и реализм подобной прозы, несомненно, значительны сами по себе, однако позволяют автору зачастую пренебречь поисками новых изобразительных средств, что снижает художественный уровень написанного. Хотя, следует признать, что «литература шрамов» — это не просто документальное повествование, а литература социально-критического направления, которая существует и мужает лишь там, где есть боль и бьется пытливая мысль.
Читатель знает, что проводимая в Китае с мая 1966 по сентябрь 1976 года «великая пролетарская культурная революция» нарушила жизнь страны, нанесла непоправимый урон китайской культуре, искалечила человеческие души. Все это с болью и гневом отражено в «литературе шрамов». Именно эта литература выпустила на свободу джинна правды о «культурной революции», которого теперь невозможно загнать обратно в закупоренный сосуд. Писатели прорвались в «запретную зону», и понятно, что пережитое чем дальше, тем больше будет волновать их умы и сердца, будить мысль и совесть, потому что с течением времени откроются новые факты, высветятся новые подробности и наверняка придет более ясное понимание происшедшего, а самое главное — осмысление его корней и причин. И хочется надеяться, что дальнейшая литературная работа в этом направлении породит в писателях еще большую способность исследовать процессы изнутри и вслед за тем находить новые, все более совершенные художественные средства и образы.
Отрадно отметить, что уже в ряде произведений конца семидесятых — начала восьмидесятых годов правдивое описание событий, акценты на драматизме ситуаций не являются самоцелью. Авторов подобных произведений заботит уже стремление философски осмыслить случившееся, по-своему изъяснить социальные проблемы и оценить исторический опыт, так глубоко выстраданный в их родной стране. Из-под пера граждански мыслящих писателей выходят рассказы и повести, в которых делается попытка осмысления фактов на более широком материале повседневной действительности, перед читателем предстает не просто описание умело высвеченного вопиющего явления беззакония или несправедливости, а довольно сложное сюжетное построение, на фоне которого обязательно происходит раскрытие и самораскрытие образов. Герои живут и действуют, как в реальной жизни, автор не классифицирует своих героев заранее, не раздает им ярлыков с надписью «хороший», «плохой», а приводит читателя к самостоятельным выводам, заставляет думать и оценивать описанное согласно высоким нравственным критериям. Если же автор и не удерживается от суждения, опережающего выводы читателя, то все же делает это в деликатной манере, не навязчиво, вскользь, но чаще приглашает своих читателей к совместным размышлениям о морали и добре. Злу и безнравственности, разумеется, выносится суровый приговор, но публицистический пафос звучания уже несколько снижен; не рассуждения и сентенции автора, а слова и поступки героев заставляют читателя постепенно проникать в глубины социально-нравственного и этико-философского содержания жизни. Подобная задача особенно удается в произведениях, которые называют сейчас в Китае «литературой дум о прошедшем». Этот вид произведений пришел на смену «литературе шрамов» и представляет собой не просто прозу-свидетельство, прозу-документ, а разросшееся повествование, в котором события мрачного прошлого, факты произвола, смута, хаос служат лишь отправной точкой для характеристики героев, для раздумий самого автора и его персонажей. Писатель ставит цель отобразить жизнь, а не случай, показывает человека в сложных условиях существования, а не описывает единичный факт унижения чувства человеческого достоинства или нарушения социалистической законности, попрания демократических прав и свобод. На страницах прозы «раздумий о прошлом» живут и действуют самые обычные люди, иногда и не являвшиеся мишенью критики и нападок, объектом проработочных кампаний, а просто ставшие молчаливыми, запуганными свидетелями всего происходившего, а значит, невольными соучастниками творившихся безобразий. Сколько их, оглупленных, обманутых, как жалки они в своем стремлении укрыться в безопасном месте и переждать, пока другие становятся жертвой, на какие только уловки не идут они, чтобы прикинуться политически правыми, спасти свои жизни, чаще всего ценой жизни своих близких, друзей. Несчастные люди, ставшие таковыми в суровых условиях объективности, а рядом с ними — жуткие фигуры временных хозяев жизни, тоже далеко не одинаковые и по разным причинам оказавшиеся на гребне мутной волны. Вершители судеб, судьи мучеников, инквизиторы. Какова их психология, порождением каких сил они являются? Вот что становится объектом пристального внимания писателя; здесь уже мало одного реализма в изображении действительности: писателя мучают и ведут за собой поиски причины явлений, вопросы социальной справедливости, проблемы нравственного порядка. Авторы китайской прозы, сами свидетели, а иногда и жертвы социальных потрясений и трагедий миллионов, становятся философичны и вводят в свои произведения героев с психологической многомерностью характеров, с богатым внутренним миром, с планом раздумий и переживаний. Таковы и писатели, произведения которых вошли в настоящий сборник.
Представленная на суд читателя китайская проза — это повести и рассказы наших современников в Китае, это проза о нашем времени, или о недавнем прошлом, или о том, что уже, казалось бы, давно прошло — двадцать лет назад все-таки, — но остается актуальным для всех живущих ныне; это проза, которая поднимается на новый уровень осмысления жизненных явлений и непреходящих общечеловеческих ценностей. Читая этот сборник, вы познакомитесь именно с такой прозой, чаще выполненной в жанре традиционного повествования, в жанре субъективно-лирического или лирико-публицистического освещения событий, а также с прозой, которая демонстрирует полную раскованность композиции: свободное перемещение героев во времени, — прозой с ассоциативными отступлениями и с рассуждениями-ответами авторов и их персонажей на главные вопросы сегодняшнего дня.
Важно также отметить, что хотя в потоке новой литературы современного Китая еще и сейчас долгожительствуют прежние темы мрачного десятилетия «культурной революции», а в прозе 1978—1982 годов эта тематика просто доминирует, однако авторы рассказов и повестей, отобранных в сборник, уже признают, что нравственные и моральные характеристики героев носят социальный характер. То есть каждый герой не просто «плохой» или «хороший» человек, не просто наделен индивидуальными особенностями, а определен в отношении социального происхождения и занимаемого в обществе места. Герои не ходульны, не иллюстративны, их функции уже не сводятся лишь к служебным, позволяя автору назидать и морализировать. Проза написана ради самого героя, с пристальным интересом к его внутреннем миру. Несомненно, проза эта своеобычна, так как простодушна, фабула ее не слишком замысловата, а ткань повествования не особенно сложна. А в тех рассказах и повестях, которые посвящены проблемам «выздоровления» и обновления китайского общества, слишком заметно акцентирование на социальных изменениях к лучшему, на том, как позитивные сдвиги в экономике и политике мгновенно начинают оказывать нравственное воздействие на поведение человека.
Конечно, в благоустроенной жизни человек становится добрее, щедрее, может быть, пропадает его суетность, но такие качества, как порядочность, гражданская ответственность, душевное богатство, к сожалению, не являются прямым следствием счастливого существования. Материальные интересы часто, как известно, идут вразрез с духовными. Тут всегда более любопытен и значим психологизм человека, система его ценностей, мир его убеждений. Влияние среды на человека несомненно, но не имеет все же определяющего значения. Какие факторы в большей степени определяют формирование личности, как человек живет и действует в сообществе себе подобных, что за механизмы обусловливают его контактность или, наоборот, приводят его к конфликтной ситуации. В ответе на эти вопросы очень существенна помощь художественной литературы. И чем богаче и разнообразнее применяемые ею изобразительные средства и художественные приемы, тем глубже анализ человеческой личности и самой жизни.
В рассказах нашего сборника читатель встретится с уже сделанной авторами попыткой поставить проблему назревающего психологического и социального конфликта поколений. Кое-кто из авторов обратился к теме любви, почти забытой в китайской литературе последних лет, включил в свое повествование философские раздумья о суете повседневности и могучей вечности природы и бытия.
Давай же познакомимся с этой прозой, читатель, и постараемся увидеть жизнь китайского народа, какою она была двадцать лет назад, а затем, перелистав страницы прошлого, выйдем вместе с авторами и их героями на просторную дорогу больших социальных перемен, дорогу преодоления ошибок и улучшения жизни, так как это и происходит сегодня в стране с миллиардным населением. В тексте самих рассказов и повестей найдем мы и даты, и периоды, и отправные точки социальных изменений и тех значительных позитивных сдвигов, которые нацелены на «модернизацию» общества и построение социализма в Китае.
Итак, открывает настоящий сборник повесть писателя Цун Вэйси «Красная магнолия у каменной стены». Автор повести во время борьбы с «правыми» был в 1957 году репрессирован и лишь в 1979 году, после двадцатилетнего молчания, вернулся к литературному творчеству. В повести показана жизнь людей, подвергавшихся трудовому перевоспитанию в тюрьме. В центре повествования человек трагической судьбы, бывший начальник отдела по «трудовому перевоспитанию», он же бывший сотрудник провинциального комитета государственной безопасности Гэ Лин. Непредсказуемо изменчива жизнь, и теперь сам Гэ Лин на положении своих прежних жертв. Автор показывает, как трудно человеку менять свои представления о жизни, расстаться с прежними убеждениями, извлечь уроки из случившегося. Бедняга Гэ Лин потерял всякую логику и смысл в оценке событий, а потому наивно предполагает, что «бедный и больной председатель Мао не подозревает о тюремных злодеяниях».
Финал повести несколько противоречив с художественной точки зрения, но описание тюремного быта, судеб различных заключенных и типажей тюремного начальства оставляет глубокое впечатление.
Два рассказа другого автора, Шао Хуа, — «Язык» (1979) и «Письмо» (1980) — свидетельствуют о несчастьях двух обычных людей и о том, как эти люди реагируют на то, что происходит с ними. Время в рассказе «Язык» — 1966 год. Бывший начальник уездного отдела народного образования Сюй Мэнци искренен, простодушен, болтлив, неосторожен. Автор добродушно иронизирует над своим героем, который все время попадает в неприятные истории, так как говорит то, что думает. Все, что происходит с Сюй Мэнци, совсем не безобидно, и, хотя ему не грозят арест, суд, расправа, тем не менее его отстранили от занимаемой должности, лишили партбилета, послали трудиться под надзором, и теперь он чистит отхожие места и убирает двор. На нем ярлык контрреволюционера, и жена с дочерью вынуждены «отмежеваться» от Сюй Мэнци. Распадается дружная семья, происходит отчуждение близких людей. Герой одинок, болезненно ощущает, что он — причина несчастий других. И он совершает ошеломляющий читателя поступок, сам себе вынося приговор. Автор замечает, что Сюй поступил далеко не как герой, но вступается за доведенного до отчаяния человека. Натурализм и кажущееся неправдоподобие концовки рассказа снимаются признанием автора, что эту историю ему якобы рассказали в 1972 году, то есть автор желает уведомить читателя, что в основу рассказа положен документальный факт.
А в рассказе «Письмо» описаны события с 1958 по декабрь 1978 года, то есть до III пленума ЦК КПК, который назван героем рассказа «весной в политике». Герой — заместитель секретаря бюро горкома. В 1959 году назван «правым уклонистом» со всеми вытекающими отсюда последствиями, в 1964 году еще раз подвергается идеологической чистке. Он словно загнанный зверь. Друзья обходят его стороной. Меняются лозунги политических кампаний, а на героя навешиваются все новые ярлыки. В нем борются страх и мужество, он страдает и унижен. Каков же финал рассказа, восторжествует ли правда, чем окупится все пережитое?
В том же 1980 году написан и рассказ другого китайского писателя — Ли Чжуня «Манго». Ли Чжунь, 1928 года рождения, из крестьян, начал писать с 1952 года, член правления Союза китайских писателей, создал более пятидесяти рассказов, киносценарист, драматург. В рассказе «Манго» описывается случай, происшедший со стариком Пань Чаоэнем. Бывший крестьянин из бедняков, он теперь заводской рабочий механического цеха, но беден и поныне и уже десять лет живет со своей сварливой и острой на язык женой в заводском общежитии. Старик по-своему мудр, с чувством собственного достоинства, независим. Он озадачен и изумлен происходящим. Всеобщая ложь, преклонение, страх людей друг перед другом. …Автор заканчивает рассказ образом задумавшегося и прозревшего Пань Чаоэня.
Да, унизительно быть обманутым, ошельмованным; как тяжело потом ориентироваться в жизни, как горька и ужасающа может оказаться правда.
Герой рассказа Хань Шаогуна «Юэлань», молодой человек, от лица которого ведется повествование, также испытал на себе ужасающую подмену понятий, обесценение идеи. Городской парнишка, только что закончивший техникум, становится уполномоченным отряда по работе на селе и попадает в Учунскую производственную бригаду, состоящую всего из восемнадцати дворов. 1974 год, деревня после маоцзэдуновских экспериментов в области сельского хозяйства, крайняя бедность, полуголодное существование. Герой наделен властью, но не опьянен ею, не собирается злоупотреблять своим положением, а всего лишь добросовестно выполняет порученное ему дело, ведет борьбу с «капиталистическими тенденциями», проявляет бдительность по отношению к крестьянству с «мелкобуржуазной» психологией. И в результате именно он становится виновником гибели крестьянки Юэлань. Но ведь по итогам года он признан «передовым работником отряда», получает грамоту. И герой теряет покой, душевное равновесие, неловко пытается исправить ошибки, загладить вину. А помочь уже ничем нельзя, остается боль в душе, и пробудившаяся совесть заставляет задуматься о том, в чем раньше не было никаких сомнений.
Напомним, что с конца семидесятых годов в Китае осуществляется новый политический курс в области сельского хозяйства. Эта новизна, к примеру, отражена в произведениях таких китайских писателей, как Шэнь Жун, Цзян Цзылун, Лу Вэньфу, Чжан Синьсинь и других, рассказы и повести которых, к сожалению, не вошли в данный сборник, так как были созданы после 1982 года. Но хотелось бы, чтобы читатель знал, что нищета и голод в китайской деревне становятся ныне лишь воспоминанием, страшным преданием.
Китайская деревня переживает период обновления, выразившийся во введении системы семейных подрядов, «специализированных» фермерских хозяйств; деревня возвращается на путь единоличного хозяйствования. Рассказ «Юэлань» опубликован Хань Шаогуном в 1979 году, и описание китайской деревни 1974 года, данное в рассказе, служит лишь фоном для выявления психологии героев.
Внутренний мир сельских жителей беден, они запуганы, задавлены непосильным трудом, им не до высоких чувств, лишь бы выжить. Но и среди них есть разные люди. Об этом читатель узнает из повести Е Вэйлиня «На реке без ориентиров». Перед нами проходят жители горной деревушки неподалеку от реки Сяошуй. Трудолюбивые, мудрые, отзывчивые, они заставляют молодого героя повести задуматься над целью в жизни. Сталкиваясь с этими людьми, герой учится у них самоотверженности, смелости, приходит к убеждению, что взаимовыручка и поддержка, доброта и щедрость — непременные качества настоящего человека. Повесть построена очень интересно. Она представляет собой воспоминания героя о детстве, юности, о пережитом. Все это сочетается с описанием картин пейзажа, с размышлениями героя над судьбами окружающих его людей. Повесть не имеет цельного сюжета, по существу, представляет лишь один эпизод из жизни героя — его плавание на плоту по реке без ориентиров, свободное плавание по течению. Свободна и мысль героя, подчиненная лишь увиденному. Река как бы выносит навстречу герою людей с различными судьбами. И по мере того, как герой плывет по реке, происходит его взросление, обогащаются душа и мысли. Родной дом, семья, в которой вырос, близкие сердцу люди, существование как страстный поиск контакта с окружающим, радость и сострадание — вот лишь немногие из проблем, которые пытается осмыслить герой.
Прекрасно, когда молодой человек выходит из тесного мирка своего существования в большую жизнь. В повести именно река символизирует человеческую жизнь, самого человека как существо социальное. Птицы, цветы, трава, деревья по ее берегам выражают сокровенный смысл жизни, с их помощью автор предлагает нам своеобразную «поэтическую модель» духовной жизни человека. Не случайно также и то, что повествование ведется от первого лица: это позволяет автору глубже раскрыть ощущение жизни героя, его понимания этой жизни как непрестанного движения. Автор еще раз напоминает читателю, что красоту жизни надо беречь и приумножать, что человек — самое ценное на земле.
Молодежь осмысливает жизнь, постигает ее ценности, ищет для себя ориентиры в жизни и обществе, взрослеет, приобретает жизненную позицию, приступает к решению нравственных, духовных и политических проблем. Так происходит и с героем рассказа Ли То «Послушай эту песню!» (1978). Писатель повествует о событиях 1976 года, точнее, о том, какие перемены произошли с молодым композитором Янь И с начала января по начало апреля, то есть ко дню поминовения усопших, когда тысячи людей открыто выступили против маоистского режима и феодально-фашистской диктатуры. Митинги проходили на площади Тяньаньмэнь, у памятника народным героям, где, по словам Янь И, «китайцы защищали свои права оружием демократии» еще при жизни Мао Цзэдуна. В начале рассказа герой спрашивает себя, «с какого времени он стал человеком, привыкшим к тому, что слова не соответствуют действительности». Янь И признается, что у него «не хватает душевных сил» быть порядочным человеком. Встреча с Ян Лю, девушкой смелой и благородной, помогает герою обрести гражданское мужество, найти в себе душевные силы, чтобы стать нужным людям и своим творчеством внести вклад в дело борьбы за демократию и лучшее будущее страны.
Молодое поколение берет на себя ответственность за судьбу родины — вот в чем хочет убедить читателей Ли То.
А между тем оно такое разное, такое сложное, это молодое поколение. Есть и разочаровавшиеся, и сломленные, и презрительно-циничные, искушенные сами или поднаторевшие на ошибках и разочарованиях отцов, более прагматичные, чем те, кто старше, категоричные и безжалостные. Одного такого встретит читатель в рассказе Ван Мэна «Ночью в большом городе» (1979). Хотя рассказ не совсем об этом молодом человеке, а о писателе среднего поколения, приехавшем на писательскую конференцию из далекой провинции, где он провел двадцать лет. В городе он заодно должен выполнить поручение своего начальника. «Кажется, обычное дело: попросить об услуге друга-однополчанина» — так думает приехавший писатель. Но получается, что все совсем не просто, что он, оказывается, не годится для выполнения такого пустячного дела, так как он недостаточно уверен в себе, печален и робок, как-то провинциален даже, неуклюж и жалок. Ван Мэн замечает про своего героя, что «весь облик его хранил следы пережитого». И читателю становится понятно, что герой — жертва произвола, что двадцать лет назад он как писатель подвергался критике, что находился в провинции не по своей воле, что там, откуда он приехал, народ голодает и сейчас, после падения «банды четырех»[1]. Ван Мэн сообщает нам, что двадцать лет назад творчество его героя признавалось смелым, а теперь, во второй половине семидесятых годов, оно, конечно, уже «недостаточно остро», и мы понимаем, что жизнь далеко ушла вперед, что возникли новые проблемы, настоятельно требующие решения, что наличие жизненного опыта не всегда эквивалентно способности к конструктивной деятельности и умению выходить из создавшихся ситуаций с честью. «Опытные» оказываются зачастую сломленными духовно, да и физического здоровья у них не хватает, чтобы поспеть за несущейся вперед жизнью и перестроиться. И вот здесь встает вопрос: как не стать помехой другим, где найти силы выйти из активной жизни, чтобы уступить дорогу молодым, полным творческих сил, энергии, здорового скепсиса и жажды деятельности? Об этом повесть Ван Мэна «Гладь озера» (1981). Перед нами история жизни шестидесятисемилетнего человека, не только пережившего все, что выпало на его долю, вместе с родной страной, но и умудренного в жизни бедами, испытаниями, потерями, взлетами и падениями. Повествование ведется в двух планах: всего двадцать дней назад герой начал новую жизнь, точнее, поиски новых путей существования, и читатель становится свидетелем новых ощущений и раздумий героя; а на втором плане — история жизни, проступающая через воспоминания. И вот теперь страна на пороге перемен, и шестидесятисемилетний гражданин этой страны также вышел на новый рубеж жизни, подошел к поре подведения итогов и ко времени философских раздумий о целях и смысле существования.
Герой следующего рассказа Ван Мэна — «Слушая море» — тоже пожилой человек, уже семидесятилетний старик-слепец, наполненный пережитым, ушедший в себя, гордый и одинокий. И рядом с ним девочка — жизнь, бьющая через край, нетерпение и категоричность, беззаботность и легкая ранимость отрочества. И эти двое, такие разные, оторвавшись от городской суеты и повседневности, оказываются лицом к лицу с природой, с ее целительной вечностью, со стихией моря. Как возвышается человеческий дух, как близость к природе успокаивает, умудряет человека, дает новые силы и ведет к переосмыслению прежней жизни!
Человек и природа, человек и люди. Каждая человеческая жизнь уникальна и бесценна, наполнена смыслом и связана тысячами нитей с другими жизнями. Именно в других людях ищем мы поддержку и опору, познаем себя и извлекаем уроки, так как у всякого, с кем сводит или сталкивает нас жизнь, есть чему поучиться.
И вот перед читателем рассказ Ван Мэна «Смятение». Спустя двадцать восемь лет герой, некто Лю, по долгу службы вновь приезжает в город, в котором впервые побывал двадцатитрехлетним юношей. Теперь он человек с положением и авторитетом, он искушен в житейских делах, стал «крупным руководителем и большим специалистом». А вот каков он как человек? Перед нами рассказ о потере близости к людям, о вельможном пренебрежении, о равнодушии и скепсисе даже к тому, что было значительным в юности, об очерствении сердца и известковании памяти. Молодые люди, вступающие в жизнь, разочарованные тем, что пришлось пережить стране десять-двадцать лет назад, не верят в будущее, не имеют конкретных целей и идеалов, и управляющий Лю ничего не сделал для них и даже не видит в том нужды.
Старшие рядом с молодыми, ответственность поколений за свое потомство, забота, помощь, сопереживание, внимание к нуждам и устремлениям молодых. Как часто за суетой повседневности мы не замечаем, что дети наши уже выросли, осознают себя, начали строить планы и совершать поступки. А ведь это одновременно означает, что мы уже не молоды, что пора передавать эстафету. Но разве возраст — это только годы? Разве нельзя не стариться душой и в зрелую пору сохранить свежесть и первозданность чувств? Рассказ Ван Мэна «Весенний вечер» — это как раз о супругах-родителях и о дочери-студентке, незаметно ставшей невестой.
В конце сборника читателя ждет повесть китайской писательницы Чжан Канкан «Северное сияние» (1980). В повести описан период жизни китайского общества уже после «культурной революции». Перед нами повесть о любви. Героиня повести — Лу Циньцинь, невеста, у которой, казалось бы, все прекрасно: учеба в университете, наверное, интересная работа в будущем, любящий героиню жених из обеспеченной семьи. Что же нужно молодой девушке, отчего ей не радостно и одиноко? Десятилетия бедствий, когда были попраны понятия добра, честности, когда ощущалась безбудущность существования, уже отошли в прошлое, но след остался. Героиня твердо знает, что счастье в том, чтобы помогать людям, чтобы жизнь была наполнена любовью. В поисках цели и смысла бытия Лу Циньцинь грезит о северном сиянии как воплощении всего лучшего, яркого, необычного в жизни. Окружение девушки, ее друзья и знакомые — это городская молодежь, настроения и жизненные планы которой совершенно иные, чем у Лу Циньцинь. Практицизм, отсутствие всяких иллюзий, стремление к красивой и обеспеченной жизни — все это не свойственно героине; она, напротив, в постоянных исканиях истинных жизненных ценностей, в анализировании своих чувств и мыслей. Героиня оказывается достаточно сильна, чтобы уйти от благополучной, сытой будничной жизни. Она полна общественного энтузиазма, и хочется верить, что перед ней прямой и светлый путь.
Закончен предваряющий экскурс в очередной сборник китайской прозы. Мы предложили вам повести и рассказы восьми разных писателей, благодаря произведениям которых можно окунуться в прошлое Китая, а затем познакомиться с недавними позитивными переменами в судьбах людей и общества. Писателей этого сборника объединяет однозначность нравственных оценок явлений действительности, стремление утвердить идеи гуманизма, ценности человеческой жизни. Обилие интересных фактов, постановка актуальных социальных вопросов, утверждение необходимости моральной ответственности людей за свои поступки, жизнь окружающих и за будущее страны убеждают нас в том, что идеологическая и социальная эффективность искусства возрастает, если искусство глубоко по своему жизненному содержанию и отвечает требованиям художественности.
В последние годы в политической, экономической и культурной жизни Китая происходят значительные изменения. В выступлении председателя Союза китайских писателей Ба Цзиня на IV съезде писателей в декабре 1984 года говорится: «Мы нуждаемся не просто в значительных произведениях, нам необходимы эпические шедевры, необходимы сокровища искусства, достойные нашей эпохи, нам необходимы замечательные произведения, которые могли бы идти в сравнение с блестящей нашей национальной культурой, с самыми прекрасными творениями всего человечества». Надеемся, что в ответ на этот призыв в китайской литературе найдут отражение новые социальные сдвиги, появятся новые темы и герои, достойные обогатить собой сокровищницу мировой прозы.
Н. Федоренко
ЦУН ВЭЙСИ
КРАСНАЯ МАГНОЛИЯ У КАМЕННОЙ СТЕНЫ
Говорят, солнечное затмение наступает в те времена, когда небесный пес пытается проглотить солнце. Тогда хаос царит на земле: невозможно отличить людей от призраков и всякая нечисть, ничего не боясь, обделывает свои дела…
В те годы, когда над Китаем затмилось солнце, за высокой каменной стеной произошла эта история…
I
— Вот твое место!
Жилистый, похожий на высохшее дерево старик ткнул пальцем в узкий, чуть больше полуметра участок на нарах. В голосе его, кроме обычных старческих ноток, прозвучала вдруг какая-то особенная злость. Словно упоенный своей властью офицер отдавал приказ новобранцу.
Новичок, неприятно удивленный, оглянулся и внимательно посмотрел на старика. Лет под шестьдесят, держится прямо, высок и крепок. Кожа на лице напоминает кору горного дерева, выдубленную водой и ветром. Глаза, маленькие, спрятанные под густыми бровями, то прищурены — и тогда лицо принимает безобидное стариковское выражение, то вдруг открываются широко — и тогда во взгляде видна хищная и холодная внутренняя сила.
«Такой пришьет — и глазом не моргнет, — подумал новичок, — а брови-то! Прямо как у бога долголетия…»
Молчание подчиненного старосте не понравилось.
— Ну, что рот разинул? Гэ Лин, — хрипло выкрикнул он, — живо клади свое барахло, переодевайся — и на работу! — В глазках горела все та же неподдельная злоба.
Гэ Лин положил зеленое армейское одеяло на нары. Он не понимал этого человека. Вначале, услышав родной хэбэйский выговор, хотел было с ним заговорить, но взгляд старика остановил его, и он, вздохнув, принялся укладывать вещи.
Гэ Лин чувствовал страшную усталость. Машина, на которой его везли в лагерь, сломалась на полпути, и пришлось топать с охранником 35 километров. Ветер дул с берегов Хуанхэ, залепляя песком нос, глаза и уши. Пот стекал по лицу, прокладывая в налипшей грязи глубокие борозды. Беда была еще в том, что грубые штаны, промокшие от пота, задубели на холодном ветру и, задевая за шрам от старой раны, причиняли острую боль. Рана была давняя, еще со времен земельной реформы, но теперь каждый шаг она превращала в пытку. В конце концов охранник — молодой парнишка — вдруг взял у него мешок с вещами и помог дойти почти до самого лагеря. Отдавая вещи, шепнул:
— Наверное, не помните меня, товарищ Гэ? Вы председательствовали у нас на выпускных экзаменах в академии, — он оглянулся, и голос его дрогнул, — сейчас такие времена… берегите себя…
Потом протянул Гэ чистый носовой платок:
— Вот. Вытрите лицо. Вы так испачкались…
Гэ очень хотелось пожать парнишке руку. Но уже видны были огромные железные ворота и высокая каменная стена.
Старый заключенный отворил калитку, и Гэ Лин словно только сейчас осознал: он — заключенный. Странная штука — жизнь. В партию вступил во время освободительной войны против Японии. Потом революция, война в Корее. Потом направлен в службу общественной безопасности. Заведовал в провинциальном бюро отделом предварительного следствия и исправительно-трудовых лагерей. А теперь сам в тюрьме. Вот парадокс судьбы: он, ответственный работник, который столько раз инспектировал и проверял различные тюрьмы и лагеря, сам заключен в один из них. А командует им преступник, приговоренный когда-то к смертной казни, замененной потом пожизненным заключением, а еще позднее — длительным сроком.
Гэ редко терял присутствие духа. Перед его глазами прошло множество заключенных, и сейчас опыт подсказывал ему, что этот старик, с которым так неожиданно столкнула его судьба, питает к нему какую-то особую, непонятную ненависть. Участок на нарах отвел раза в два меньше обычного. Приказал идти на работу, не дав отдохнуть. Или хотя бы глотнуть воды, что полагается любому новичку. Гэ хотел спросить старика обо всем, но вдруг почувствовал неодолимую усталость. Он прислонился к свертку с вещами, который так и не успел развязать, глаза его сами собой сомкнулись.
— Здесь не дом отдыха! — рявкнул старик.
Ответа не было. Гэ Лин спал крепким сном. Лицо его было покрыто присохшей пылью и песком.
— Гэ Лин, — с яростью крикнул опять старик, — только пришел и уже саботажем заниматься?! Ну, ты свое получишь…
Голова Гэ Лина склонилась на грудь, губы полураскрылись.
— Ты что, оглох? — На этот раз старик постарался крикнуть в самое ухо, но лицо спящего даже не дрогнуло. Ударь рядом гром, Гэ Лин, наверное бы, не проснулся. Только тот, кто прошел километры по песку, против ветра, может по-настоящему оценить короткую передышку и сон.
Любой другой заключенный на месте старосты, видя такое дело, уложил бы спящего поудобнее на нарах, чтоб тот хоть немного выспался перед тяжелой работой. Но старик с обветренным лицом и густыми бровями стоял неподвижно. Он вдруг почувствовал себя охотником, который неожиданно нашел то, что так долго искал, и, прищурившись, злобно смотрел на морщины, на седые волосы спящего. Наконец усмехнулся:
— Постарел. Как и я… Правду говорят: мир тесен. Кто бы мог подумать, что встречу тебя здесь…
Если бы тридцать лет назад ему сказали, что встреча произойдет именно так, он бы рассмеялся.
Ранним утром этого дня, когда занимающаяся заря чуть высветлила темное небо, во всем лагере царила тишина, какая бывает только перед самым подъемом. В это время старика разбудили чьи-то громкие неторопливые шаги. Старик удивился еще больше, когда разглядел перед собой не начальника лагеря, не кого-нибудь из лагерного управления, а недавно назначенного из провинции заместителя по политической части Чжан Лунси — невысокого человека с покрытым оспинами лицом. Яркий луч фонарика ощупал лежащего на нарах старосту и уткнулся ему в лицо. Почувствовав, как застучало сердце, еще ничего не понимая, старик откинул одеяло, наклонился и хриплым со сна голосом спросил:
— Вы… меня ищете?
Чжан Лунси часто заменял слова жестами — для солидности. И на этот раз он кивком указал на выход из барака. Старик, быстро одевшись, последовал за ним к выходу. «В чем дело, — со страхом думал он, стараясь идти чуть позади. — Ведь это не кто-нибудь, а «номер два» в лагерном начальстве. Да еще в такую рань. Неужто из моей группы что-нибудь натворили?» При этой мысли ему стало не по себе.
Они пришли в маленький домик под сторожевой вышкой, куда обычно приходила греться охрана. Чжан Лунси сел на единственный стул и кивнул в сторону табуретки в углу комнаты. Старик не садился, пока начальник опять не кивнул. Тогда он присел и, стараясь не выдать своего страха, испытующе глядел на начальника.
— Ма Юлинь, — по привычке Чжан резко повысил на последнем слоге голос и выговорил его невнятно, — сколько тебе еще осталось?
— Восемь лет! До 1984 года. — Голос Ма Юлиня дрогнул. — Я… был командиром контрреволюционного отряда помещиков… Я бесконечно благодарен нашему правительству за смягчение приговора…
— Хорошо. Нужно постоянно оправдывать доверие. — Чжан Лунси одобрительно кивнул. — Вы, преступники, должны внимательно изучать политические вопросы. А ну-ка, скажи мне, какая сейчас самая главная политическая линия?
Старик стал усиленно вспоминать. Недавно в газете была статья «Борьба с кликой, идущей по капиталистическому пути». Все заключенные по вечерам изучали ее. Он хотел было сказать что-нибудь насчет того, что «клика каппутистов[2] пытается восстановить капитализм», но остановился. Как ему говорить о «каппутистах», когда все они — ветераны партии? Тогда он отчеканил то, что давно вошло в его плоть и кровь:
— Соблюдать закон, выполнять правила тюремного распорядка!
Рука начальника ударила по столу, с какой-то чашки упала крышечка, покатилась и свалилась на пол. Старик вскочил в испуге и поднял ее. Он сказал дрожащим голосом:
— Нет-нет! Сейчас главная линия — «борьба с кликой каппутистов»!
Чжан Лунси так покраснел, что оспины на его лице как будто пропали. Он непременно ударил бы старика, будь тот поближе, но только вскочил, тяжело дыша, и сел опять.
Старик побледнел. Он положил крышечку на угол стола и стоял, не смея сесть, опустив голову. Наконец пробормотал:
— Начальник Чжан! …то есть комиссар Чжан. «Клика каппутистов пытается реставрировать капитализм» — вот главная политическая линия…
Чжан Лунси сердито достал из кармана лист бумаги и ткнул старику.
— Читай!
Ма принял бумагу, начал читать, и лицо его из бледного стало бурым. В документе говорилось, что «заключенный Ма Юлинь раскаялся в своем преступлении, соблюдает закон и хорошо учится. В связи с этим срок его сокращается еще на пять лет». В конце стояла печать лагерного управления.
Руки старика дрожали. Он хотел уже упасть к ногам Чжан Лунси, но тот неожиданно выдернул бумагу. Ошеломленный, Ма переводил взгляд с бумаги на начальника.
— Хочешь получить это? — Чжан искоса взглянул на старосту.
— Да-да, конечно! Ведь я уже двадцать шесть лет в лагере, гражданин начальник.
— Ты плохо учишь политические документы. И отвечаешь нетвердо. Ну ладно, дам тебе еще один шанс… — Чжан сделал паузу и сдвинул брови, — хочу посмотреть, сможешь ли ты бороться с каппутистами!
— Но здесь только… уголовники, гражданин начальник. У нас нет никаких…
— Сегодня пришлют одного. Он «каппутист», «реставратор» и «активный контрреволюционер». К тому же выступал против идей Мао Цзэдуна.
— Реставратор? — Старик невольно вспомнил о своем приговоре, когда и его, командира контрреволюционного отряда, судили как «реставратора». Он был удивлен.
— Это из нынешних реставраторов, — раздраженно объяснил Чжан. — Но он встречался с тобой. Ты ведь из реставраторов прежних, какие были только до революции. У вас старые счеты. Поэтому я и помещаю его в твою группу.
— Его зовут… — старик замер.
— Гэ Лин. Бывший начальник отдела лагерей в провинциальном бюро. — Повысив голос, Чжан отдал приказ: — Будешь держать его по всей строгости. За все отвечаю я. Иди.
Старик, не помня себя, вышел из домика. Но хлопнула дверь, Чжан Лунси нагнал его и протянул бумагу:
— Этого нового «реставратора» не бойся. Выйдешь отсюда через три года. А он, хотя приговора и не было, будь уверен — всю жизнь здесь гнить будет… И могила его, думаю, тоже здесь будет — за этой стеной…
Чжан говорил тихо, но от слов его старик затаил дыхание. Он стоял и смотрел, как фигура в плаще исчезает за железными воротами. Старик вернулся в барак. Он чувствовал себя так, словно хлебнул изрядную порцию вина. Постарался взять себя в руки, но прозвучавшее имя — Гэ Лин — вызвало к жизни давнее, как будто уже забытое: жизнь до революции, богатство, ожесточенную борьбу и бегство… Нет, судьбу не угадаешь. Кто не знал в Хэбэе командира отряда по земельной реформе? Но скоро этот самый герой будет здесь в тюрьме. Да еще у старика под началом. Документ в руках словно подтверждал, что это не сон, что скоро, уже так скоро его отпустят, а Гэ Лин будет сидеть, пока не умрет. И снова старик подумал о превратностях судьбы, о надежде. Он распрямился, почувствовав себя лет на десять моложе.
По своей сути, психологии, поведению старик всегда оставался существом паразитическим. Его можно было сравнить с обыкновенной пиявкой, которая живет за счет чужой крови. В лагере, за каменной стеной, чувствуя направленную на него со всех сторон силу, он извивался, сжимался и прятался. Но стоило только этой внешней силе дать слабину, он тут же словно выпускал присоски. И каждый менее сильный мог стать его добычей…
Сейчас Ма Юлинь решил, что хватит понапрасну тратить энергию и кричать на Гэ Лина. Прищуренные глазки уставились на ногу спящего на краю нар. Старик шагнул поближе и с размаху ударил тяжелым лагерным ботинком. Подскочив от боли, Гэ Лин машинально приложил руку к кровоточащей ране.
— Зачем?!
— Да это я случайно, — медленно сказал Ма. — Но зато видишь как хорошо: ты сразу и проснулся.
У Гэ Лина от боли на лбу выступил пот. Вытирая кровь носовым платком, сдерживая ярость, спросил:
— Как же так можно? Тюремщик, да и только. Если бы… — Он хотел сказать: «Если бы это случилось вчера, на тебя бы надели немедленно наручники!» Но сегодня… он сам заключенный, да еще с такими обвинениями. Фраза повисла в воздухе.
Старик улыбнулся, глазки его заблестели.
— Что, не сладко в тюрьме, гражданин начальник? Спрячь свою гордость в карман и веди себя как следует.
— Ты знаешь меня?
Улыбка еще шире, глазки совсем пропали.
— Разве ты забыл, как приезжал на машине, проверял лагерь? Но большим людям не до таких мелочей! Пройдемте, начальник. Пора квалифицированному рабочему себя показать!
Видя, что разговаривать ни к чему, Гэ кое-как перевязал рану платком, отряхнул пыль с одежды и пошел из барака за стариком.
Скоро на нем была уже лагерная форма. На груди и спине красовались крупные иероглифы: «Исправление трудом».
II
Весна 1976 года была на редкость холодной. Даже земля по низким берегам излучины Хуанхэ — сплошные солончаки — промерзла.
По серому небу низко плыли облака. Снежок сыпал мелкий, будто просеянный. Он падал на лицо и приятно освежал.
Ирригационные работы по превращению солончаков в рисовые поля растянулись на несколько километров. На одном участке виднелись заключенные, одетые все в одинаковую серую форму. Недалеко в ярких разноцветных одеждах трудились крестьяне. Гэ знал этот проект хорошо. В 1975 году, вернувшись на прежнюю работу из «школы 7-го мая» — исправительного лагеря для кадровых работников, — он предложил посылать сюда, на берег реки, заключенных. Заключенные, считал он, участвуя в настоящем деле, постепенно изменят свой взгляд на мир и на общество, почувствуют вкус к труду.
Захватывающее зрелище большой стройки придало ему уверенности, Гэ зашагал быстрее и обогнал старосту. Он не пожалеет себя и принесет пользу и здесь. Приблизившись к заключенным, Гэ вынул из сваленного инструмента мотыгу. Но подоспевший Ма грубо схватил его за руку:
— У нас разделение труда. Пойдешь на другую работу! — И, указав на высокую насыпь, добавил: — Будешь таскать землю наверх.
Ирригационный канал изгибался подковой и был до двадцати метров в ширину. Заключенные, как муравьи, таскали носилки со дна на высокие берега. Молодые люди, раздетые по пояс, подбадривая себя песней, взбирались по круто наклоненным доскам, высыпали землю и сбегали вниз. Те, что постарше, долбили мерзлую землю кирками и мотыгами, наполняли корзины и носилки, а другие наверху разбрасывали ее и трамбовали. Старик приказал Гэ работать с молодыми. Несмотря на свои 55, Гэ не боялся тяжелого труда после долгих лет в «школе 7-го мая». Беспокоила его только открывшаяся рана, потому что, судя по всему, староста откровенно травил его и, скорее всего, не остановится на полпути.
Заключенные остановились, рассматривая новичка. Кто-то сказал негромко:
— Точь-в-точь начальник из города.
Гэ взял себя в руки. Главное — не выглядеть слабым. Он положил мотыгу на землю, подбросил ногой носилки и схватил ручки:
— С кем мне?
Это произвело впечатление. Некоторое время все молчали. Потом несколько молодых людей подняли большие пальцы.
— А он ничего… — крикнул один из них, побойчей, — только вот… — он покрутил пальцем вокруг своей гладко выбритой головы.
Тут и старики заговорили:
— Староста Ма, смотрите, новичок-то уже седой. А грязь носить…
Но Ма одним взглядом заставил их замолчать. Опять наступила тишина.
— Ю Далун! — крикнул староста.
Из толпы вышел рослый широкоплечий парень, раздетый, как и другие, до пояса. Тело его блестело от пота, великолепный торс мог послужить моделью скульптору. Картину портил только тянувшийся по ребрам причудливый шрам.
— Здесь, — сказал он почтительно.
— Будешь с ним носить.
Парень с насмешливым удивлением покачал головой.
— Чем я так провинился, что мне дают эту развалину?
— Ты что, не узнал его? А кто мне рассказывал, как мучил тебя один легавый при расследовании? Приглядись.
Ю Далун посмотрел внимательно на Гэ. Их взгляды встретились.
— А-а. Вот кто к нам пожаловал. — Парень с нескрываемым удовольствием перевел взгляд на надпись «Исправление трудом» на груди Гэ.
Ю Далун был главарем «Пяти драконов», а потом «Феникса». Гэ помнил его хорошо, потому что сам расследовал эти дела в 60-х. Теперь у них одни носилки. Нет, он не боялся этого известного когда-то бандита. Сколько таких перевидал он за свою службу. Но все большую тревогу внушал ему староста. Так ненавидеть. За что?
Тем временем заключенные помоложе, чувствуя поддержку Ма, разгалделись:
— Полицейская птичка попала в клетку!
— Эй, вы только вспомните, как он нас допрашивал?
— Покажи ему, Далун…
— Пусть попробует на своей шкуре!
Лицо Ю Далуна было безучастным. Слова он произносил с расчетом на внешний эффект:
— Тебя же повысили, сделали начальником отдела. Почему же на тебе эта форма? Какое преступление ты совершил? Изнасилование, растление, простая аморалка? Или ты воспользовался своей властью, чтобы…
Гэ чувствовал, как внутри растет гнев и желание ударить этого подлеца. Но бить заключенных? Видно, это слишком глубоко сидит в нем. А там, в бюро, «командир хунвэйбинов», из-за которого все началось, зорко следит за ним. Ударить Ю не только унизить себя, но и поддаться на примитивную провокацию. Ю — это марионетка. За нитку дергает Ма. Бессмысленно драться с псом и доставлять удовольствие хозяину. Разжав кулаки, он сказал:
— Даю слово, что я ни в чем не виновен. Когда-нибудь ты узнаешь… Давай работать.
Но из толпы закричали:
— Если не виновен, почему в сером?
— Да он и перед смертью будет речи произносить. Задай ему, Далун!
Ю Далун сплюнул, показывая всем видом пренебрежение, подкинул ногой ручки носилок и схватился за них. Один из заключенных нагрузил носилки по норме и остановился, думая, что Гэ и этого хватит. Но Ю закричал на него:
— Чего стоишь? У легавых плечи из железа! Или хочешь, чтобы вечером я уронил твою миску и ты остался без ужина? Быстро!
Пожав плечами, заключенный стал бросать землю, и скоро на носилках возвышалась целая пирамида. Многие лица выражали неудовольствие. Гэ знал, что и здесь, за каменными стенами, люди способны отличить добро от зла. Но в этот особый, тяжелый период истории страны даже в самом низшем общественном слое бездушные преступники имеют возможность подавить тех, в ком говорит совесть. И сейчас те, кто сочувствовал ему, молчали. Гэ огляделся. Где-то вдали, за снежной пеленой, трепетали на ветру красные флажки. Граница для заключенных. Кое-где виднелись солдаты охраны.
Он закрыл глаза, чувствуя, как набегают слезы. Неожиданно для себя он простонал что-то неразборчивое.
Ю Далуну показалось, что Гэ, испугавшись носилок, весивших больше ста килограммов, зовет кого-то на помощь. Он ухмыльнулся:
— Не надо никого звать. Все начальство под руководством комиссара Чжана изучает документы по борьбе с «правым поветрием». Всем командует староста Ма. Ну-ка, шевелись! Поехали!
Они ступили на зыбкую, крутую лестницу. Строительный участок превратился в арену, где все зрители предугадывали только один результат. Никто не верил, что Гэ сможет донести эту гору земли до верха.
Гэ шел с трудом, немного пошатываясь. К тому же сразу выяснилось, что Ю Далун решил сыграть с ним грязную шутку.
Он двигал плечами при каждом шаге, и земля в носилках сантиметр за сантиметром смещалась. Они не дошли еще до половины пути, а основную часть груза уже нес Гэ. Он скрипел зубами, нога, причинявшая невыносимую боль, судорожно дрожала. Но он молчал. Это был не просто спор. Для Гэ это была борьба идей.
Пройдя две трети подъема, Гэ Лин потерял ботинок, но продолжал идти, стараясь поудобнее перехватить ручки, отвернуть лицо от сыплющейся земли. Вдруг стало казаться, что плечи и позвоночник у него начали ломаться. Несколько раз он споткнулся и чуть не упал. Он думал: «Нужно выдержать все. Люди смотрят. Скорее носилки сломаются, чем я…»
По участку раздались крики:
— А крепкий попался мент!
— Как трактор!
— Э, они слишком тяжелы для него!
Но вдруг все смолкли — раздался громкий треск, носилки сломались. Гэ стоял, выпрямившись, на берегу канала. Шапка тоже потерялась. Пот заливал глаза, стекал по щекам. Он вытер лицо ладонью.
На строительном участке было тихо. Ветер крутил и подбрасывал снежинки.
Кто-то крикнул:
— Эй, новичок! На ноге кровь.
Кровь просочилась сквозь платок. Гэ, словно только сейчас ощутив боль, сел на землю и обхватил рану руками.
Всему приходит конец. «Достигнув предела, все идет в обратном направлении», — говорит пословица. Но, видно, не всегда. Ю Далун, с детства привыкший видеть в каждом милиционере смертельного врага, не собирался сдаваться. Он хлопнул Гэ по плечу и показал на шрам вдоль ребер.
— Не надо так беспокоиться из-за того, что можешь потерять чуть-чуть крови. Смотри: однажды из меня вылилась целая лужа, но я даже не моргнул. Дал ему сдачи и прикончил. Ты расследовал это дело, и суд вынес приговор о пожизненном заключении. Буду сидеть здесь, пока не сдохну… Вот так. Будем ломать с тобой носилки каждый день. Кто первый уступит — тот подонок. Поехали, еще разок…
Гэ сжал зубы от ярости. Он решил наказать этого мерзавца именем закона. Но когда выпрямился, еще один заключенный встал между ними.
На вид он не был особенно силен — скорее ловок и гибок. Глядя на очки в роговой оправе и сравнительно новую форму, Гэ подумал, что, скорее всего, это студент, который здесь недавно. Рулетка и длинная измерительная планка у него в руках говорили о том, что он работает учетчиком.
К троим живо подскочил Ма и угрожающе крикнул студенту:
— Твое дело — измерять. Не суй нос в то, что тебя не касается. Иначе…
Спокойно, с невинной улыбкой Гао Синь пожал плечами и положил свои инструменты на землю.
— Как скажете, староста Ма. Может, только согреемся немножечко, поработаем. А то я замерз — все стою на месте, меряю…
Лицо Ма вытянулось.
— Ну ты, щенок, — пробурчал он, — я тебе в деды гожусь.
Гао кивнул на Гэ и Ю Далуна:
— Посмотрите-ка! По-моему, они тоже похожи на дедушку и внука…
Заключенные вокруг негромко засмеялись.
Ма насупился. Но тут Ю схватил Гао за руку:
— Ты что о себе думаешь, когда суешь нос в чужие дела?
Неожиданно он схватил планку, поддел соскочивший у Гэ ботинок и поднял высоко вверх, изображая акробата в цирке.
Гао взглянул на покрасневшую от холода ногу Гэ. Улыбка слетела с его лица, и он крикнул:
— Положи немедленно!
С помощью планки Ю Далун метнул ботинок высоко в воздух. Ботинок махнул длинными концами вылезших шнурков и упал на дно канала, в лужу, забрызгав грязной водой стоявших рядом заключенных.
Гао побледнел. Молча снял очки, положил в карман куртки. Потом снял куртку и аккуратно сложил в сторонке. Под светлой тюремной рубашкой обозначилась широкая грудь. Он уступал Ю Далуну в размерах, но его рельефные мускулы заставили того нахмуриться. До тюрьмы Гао учился в институте физкультуры, специализируясь в метании копья, диска и толкании ядра. Он даже был почти спортивной звездой. Осенью 1975-го диск, который он неудачно метнул, перелетел через ограду спортплощадки и убил маленькую девочку. Она оказалась дочерью «каппутиста», который к тому времени уже был помещен в «школу 7-го мая». Один из лидеров хунвэйбинов в институте тут же провозгласил, что это несчастный случай. Он отправился к заместителю начальника бюро общей безопасности провинции товарищу Циню и попросил не проводить расследования. Такой незаурядный атлет, каким был Гао, мог сыграть важную политическую роль. Его попросили выступить от имени спортивных кругов с критикой всех «каппутистов» и их лидеров. Товарищ Цинь согласился сразу же, расследование было остановлено.
Итак, одной жизнью меньше — и ничего. Из-за того, что отец девочки — «каппутист». Узнав обо всем, Гао собрал вещи и пошел к матери убитой. Он отдал ей деньги, сэкономленные им для собственной свадьбы, потом вернулся и сел писать длинное письмо — невесте, которая жила на юге. Затем явился в бюро безопасности и стал настаивать на расследовании.
Поступок Гао, естественно, взволновал весь институт. Было много толков. Для циников и равнодушных он был самым большим дураком в Китае. Для «убежденных революционеров» — открытым представителем «буржуазного гуманизма». Те, кто поддерживал его, помалкивали. Товарищ Цинь был так возмущен поступком Гао, что в корне изменил свое решение и подвел дело к пожизненному заключению. Тем более что это было нетрудно: в те времена закон подчинялся росчерку пера. Гао был заключен в лагерь на берегах Хуанхэ. Ему повезло: он приехал в лагерь в тот момент, когда протеже товарища Циня — комиссар Чжан — находился в городе, проводя занятия с цзаофанями. Гао доложился начальнику лагеря Лу Вэю, которого заключенные звали между собой «усатый Лу». Лу по привычке взялся рукой за усы и, не долго думая, назначил бывшего студента учетчиком. Потом сам пошел на склад, выдал Гао Синю теплую войлочную одежду и дал три дня на отдых.
Сейчас Гао снял свою теплую куртку. Несмотря на рану, Гэ Лин попытался встать и как-то предотвратить драку, но легкоатлет вежливо отстранил его и встал в стойку, готовый к нападению.
Ю Далун тоже стоял, ожидая, выставив кулаки, с привычным презрением глядя на противника. Гао сделал выпад, и тогда Ю отвел удар открытыми ладонями, в стиле китайской борьбы ушу. Потом сам нанес несколько быстрых ударов, целясь в лицо Гао Синю. Уклоняясь, Гао отпрыгивал назад, пока не оказался на самом краю насыпи. Предвкушая легкую и быструю победу, Ю бросился на Гао, вложив в удар вес всего тела, и, выдыхая, издал громкий крик. Но Гао мгновенно нырнул вниз, оказался у него между ногами и перебросил противника через себя. Ю Далун покатился на дно канала. Через некоторое время он встал, покачиваясь, машинально вытирая лицо.
Среди заключенных раздались возгласы одобрения, кто-то даже бросил в воздух шапку.
Но Ю Далун вдруг подобрал с земли палку и двинулся к Гао. В этот момент староста Ма бросил на него быстрый взгляд и тихо сказал:
— Усатый Лу идет.
Ю бросил палку. Все быстро разошлись и принялись за работу. Снова стали подниматься и опускаться ломы и мотыги, наполненные носилки поплыли вверх на насыпь. Всадник на рыжей лошади проехал через флажки, мимо солдат охраны.
III
Лошадь остановилась, коротко всхрапнув. Лу Вэй спрыгнул на землю, затянул потуже старую шинель и поднялся на насыпь. Он шел мимо заключенных, высматривая Гэ Лина.
Он и подумать никогда не мог, что Гэ вдруг окажется в его лагере как преступник. В начале 50-х Лу Вэй, квалифицированный рабочий металлургического завода, поехал добровольцем в Корею. Он стал сапером, а заместителем командира батальона был Гэ Лин. Лу работал кузнецом на прокладке туннеля. Кузница стояла недалеко от штаба, и, заслышав звуки молота, Гэ частенько ходил помогать кузнецам. Так они стали близкими друзьями.
Из Кореи возвращались одним поездом. Оба были направлены в службу безопасности. Лу с отрядом охраны повез группу заключенных к берегам Хуанхэ — закладывать исправительно-трудовой лагерь.
С тех пор прошло двадцать лет. Лу давно стал начальником лагеря, отрастил за это время роскошные усы. В этот день, услышав про Гэ, он вскочил на коня и поспешил в лагерь, все еще не веря, что это правда. Ведь Гэ Лин только недавно вернулся на свой пост после «школы 7-го мая». Как мог он сразу стать «контрреволюционером»? Конечно, это ошибка. И Лу, повернув, поскакал в лагерную контору.
Он не поверил своим глазам, увидев имя Гэ в списках заключенных. Пошел в барак номер три, посмотрел на зеленое армейское одеяло, которым они так часто укрывались на войне. Однажды, Лу уже не помнил, при каких обстоятельствах это было, Гэ приподнял одеяло на штыке, чтобы проверить безопасность укрытия. Автоматная очередь проделала в одеяле несколько дырок… Лу Вэй в каком-то горестном оцепенении сел на нары.
Но вскоре он уже скакал на строительный участок. Завидев Ма, направился к нему, но старик еще издали заговорил первый:
— Разрешите доложить. Драку начал Гао Синь.
— Драку? — Лу удивился. — Из-за чего?
Ма понял, что ошибся. Начальник ничего не заметил. Но делать было нечего, и он продолжил:
— Гао Синь спровоцировал драку и столкнул Ю Далуна в канал. А вообще все произошло из-за этого контрреволюционера, — и он указал на Гэ Лина, сидящего к ним спиной.
Гэ растирал замерзшую ногу. Платок, пропитанный кровью, засох. Лу застыл, глядя на него. Очень хотелось подойти, помочь, сказать что-нибудь. Но сотни глаз наблюдали за ними. Лу достал из кармана наручники и бросил на землю.
— Значит, драка? Нарушение распорядка, сбой в работе… Надеть на них наручники и — в отдельную камеру.
Когда Ма нагнулся за блестящей цепочкой, Лу наступил на нее ногой и сказал Гао Синю:
— Заковать Ма Юлина и Ю Далуна.
— Но я… — забормотал Ма.
— Ты нарушил правила приема заключенных. И солгал мне… Гао Синь, уведи их.
По состоянию Гэ, настроению заключенных и сломанным носилкам Лу Вэй с первого взгляда понял, что произошло. Он направился к Гэ Лину.
Услышав шаги, Гэ обернулся, не в силах сдержать волнения. Несмотря на холод, Лу, как всегда, был без шапки, только кончик носа покраснел.
— Дружище… — Лу осекся, вспомнив, что вокруг заключенные.
Губы Гэ шевельнулись, но он промолчал.
Лу отвел глаза и сказал тихо:
— Иди за мной.
Гэ попытался встать, но нога, закоченевшая в мокром, задубевшем ботинке, подвела. Лу шагнул на помощь, но Гэ Лин пробормотал:
— Не делай этого… Держись подальше.
Лу приказал одному из заключенных помочь Гэ. Они спустились по насыпи к большой палатке, где грелась охрана и лагерный персонал. Посередине палатки стояла раскаленная докрасна железная печка.
Как только заключенный вышел, Лу быстро снял куртку и укутал ею ноги Гэ Лина. Гэ хотел было протестовать, но Лу только усмехнулся. Они молчали, но это молчание было красноречивей многих слов.
Снег повалил гуще. Северный ветер рвал полотнища палатки. Лу вдруг начал расшнуровывать свои ботинки.
— Что ты делаешь? — спросил Гэ. — Зачем?
— Оденешь эти.
— Нет-нет. Мои высохли. Так что все уже нормально.
— Эх, Гэ, дружище. Разве ты не помнишь эти ботинки? Ведь ты подарил их мне в Корее.
— Да… Но если я надену их сегодня, завтра ты будешь спать рядом со мной на нарах. Ты что, совсем голову потерял?
Лу молчал. Начальник лагеря, отдавший свою обувь заключенному, нарушал дисциплину. Один телефонный звонок комиссара Чжана в провинцию товарищу Циню — и все. Гэ, видя, что друг в замешательстве, усадил его рядом и стал рассказывать свою историю.
Гэ был осужден за несколько строчек в записной книжке. Еще в самом начале «культурной революции» его зачислили в «каппутисты» и направили в «школу 7-го мая». Он вместе с другими «каппутистами» выполнял самую тяжелую работу. В апреле, когда таял снег, Гэ распахивал рисовое поле, шагая за быком в ледяной воде. В мае — с рассвета до темноты, пока можно было что-то различить, — он занимался изнурительным трудом — пересаживал рассаду.
Гэ не боялся тяжелой работы и был готов к ней. Но мучили и внушали отвращение те две минуты по утрам, когда он должен был склоняться перед портретом Председателя Мао. Сердце его словно наливалось свинцом в эти минуты. Он почти всегда вспоминал неловкость и унижение, которые он испытывал маленьким мальчиком — когда мать заставляла его склонить колени перед статуей Будды.
Семья Гэ была совсем бедной. Ему было семнадцать, когда в деревню вошли части народно-освободительной армии. Статуи Будды были низвергнуты, на воротах одного из домов появилась вывеска сельского совета. Тогда он впервые услышал о коммунистах и о том, что они атеисты. Это была армия бедняков, и он вступил в нее.
Гэ испытывал настоящую боль, склоняясь утром перед большим портретом Председателя. А когда стоящие вокруг «каппутисты» бормотали предназначенные для декламации лозунги, он молчал. Гэ не верил в богов и не хотел молиться революционному вождю. Ведь это только отдаляет вождя от народа. В конце концов Гэ нашел средство, чтобы не присутствовать на этих утренних молитвах. Он вставал очень рано, шел на поле и полол сорняки, предпочитая обжигающую ледяную воду тем отвратительным минутам.
Поначалу лагерные власти не обращали на него внимания. Но однажды на проверку приехал товарищ Цинь, тогда только что вознесшийся на пост заместителя начальника провинциального бюро. Товарищ Цинь был неприятно изумлен, узнав, что Гэ Лин отсутствует на утренней церемонии перед портретом. Он послал своего любимца Чжана за Гэ.
Когда Гэ явился — босой, заляпанный грязью, — Цинь объявил наказание, состоявшее из двух пунктов. Во-первых, Гэ обязан отстоять перед портретом все то время, которое он пропустил. А во-вторых, в этот день нужно провести собрание заключенных с критикой Гэ Лина, неисправимого «каппутиста», за его контрреволюционные действия.
Казалось, Гэ смирился с наказанием. Он так и стоял, босой, с опущенной головой перед портретом, словно выказывая свою покорность и почтение. Но в душе у него бушевала буря. Множество вопросов теснилось в его голове. Смириться? Думать только о себе? Но что тогда вся жизнь?
Когда его привели на собрание, он уже все решил. Собрание было потрясено его словами. Вместо признания своих ошибок Гэ заговорил о материализме и атеизме, о «Коммунистическом манифесте». Он даже привел цитату: «Мы не нуждаемся в спасителях, снизошедших до управления нами». Лидеры революции — не боги, заключил он. А если кто-то хочет представить дело именно так…
Конечно, договорить ему не дали. Товарищ Цинь тут же объявил что Гэ Лин совершил еще одну контрреволюционную вылазку и должен быть изолирован. Он приказал Чжану Лунси, который выполнял и обязанности редактора многотиражки «Разобьем милицию, прокуратуру и народный суд!», возбудить и предать гласности дело Гэ Лина.
Все было уже готово. Но в это время погиб заместитель Председателя партии Линь Бяо. Утренние и вечерние церемонии перед портретом, выкрикивание придуманных Линь Бяо лозунгов типа «Одно слово Председателя Мао обладает силой десяти тысяч» — вся эта клоунада сразу же прекратилась. На этот раз Гэ был спасен.
Летом 1975-го, после десятилетнего труда на рисовых полях, Гэ вернулся к прежней работе и стал заведовать исправительными лагерями. Но прошло немного времени, и началась кампания «против правого поветрия». Цинь решил, что настал удобный момент.
В начале 76-го, когда Гэ уехал инспектировать какую-то отдаленную тюрьму, товарищ Цинь приказал своим людям вскрыть сейф Гэ Лина и тщательно проверить все записи. В старой записной книжке были обнаружены фразы: «Мы не должны рассматривать Мао Цзэдуна как бога. Или как вождя, которого ни в чем невозможно превзойти. В противном случае все разговоры о нем как о революционном лидере — пустая болтовня» — и т. п.
О Цине шла слава как о жестоком и упорном человеке. Несмотря на не лишенную некоторой элегантности внешность, голубые глаза, улыбку, он был известен своей безжалостностью. Улыбка не мешала ему при случае ударить противника в спину. Товарищ Цинь не имел никакого образования. Он изредка читал книги, но чаще — газеты, и все новые директивы Пекина понимал буквально и дословно.
Он был страшно рад найденным у Гэ строчкам, которые ясно доказывали, что тот давно является противником идей Председателя Мао. Немедленно Цинь позвонил по телефону и отдал приказание отозвать Гэ из командировки. Первоначально он хотел изобразить все дело как последствие произведенной у Гэ кражи, но теперь это было не нужно. Когда Гэ Лин явился, Цинь сообщил ему, что лично приказал проверить его бумаги.
Бледный от бешенства, Гэ почти кричал:
— Это фашистские методы! Я буду протестовать!..
— В настоящий исторический период, — сказал Цинь улыбаясь, — диктатура направлена против «каппутистов» и «реставраторов». Вроде тебя… Ты всю жизнь ненавидел и ненавидишь идеи Председателя. Контрреволюционная деятельность — это для тебя еще слишком мягкое обвинение.
Цинь зачитал список всех преступлений, совершенных Гэ в «школе 7-го мая», и фразы, найденные в блокноте. Потом дал Гэ ручку.
— Все доказано твоими словами и твоими поступками. У тебя найдена контрреволюционная декларация. Подпишись.
Ручка с резким треском сломалась в тяжелой, огрубевшей от многолетнего физического труда руке Гэ. Губы его дрожали.
— Ты не смог сладить со мной при Линь Бяо. И думаешь — выйдет теперь?
Цинь поднял брови:
— Ты выскользнул из сети в прошлый раз. Хотя ты и крупная рыба. Сейчас вожди в Центральном Комитете указывают нам, что все реставраторы должны быть пойманы. На этот раз никто из вас не уйдет.
— Реставраторы? — Гэ подумал, что ослышался.
— Не надо так волноваться. — Цинь улыбнулся. — Это имя дает тебе сама история.
Гэ Лин бросил сломанную ручку на стол.
— Хорошо. А ты знаешь, кому принадлежат слова из моего блокнота?
Цинь продолжал молча улыбаться. Он не хотел признаваться в собственном невежестве.
— Я скажу тебе! — Гэ ударил кулаком по столу. — Чжоу Эньлай произнес эти слова на первом съезде комсомола! Хочешь обвинять — обвиняй нас обоих!
Цинь был явно удивлен. Но через секунду, улыбаясь еще слаще, он взял со стола газету и протянул ее Гэ:
— Главный каппутист в партии. Как ты думаешь, Гэ Лин, кто это?
Гэ прочитал статью дважды. В каком-то оцепенении он отложил газету и сидел, глубоко задумавшись. Цинь опять подтолкнул к нему бумагу:
— Ты горяч. Вот, у меня есть еще одна ручка, — он достал ручку из кармана френча. — Подпиши. Раскаяние принесет тебе только пользу.
Гэ резко встал, распахнул дверь комнаты и, выйдя в коридор, постучал в дверь напротив — к начальнику бюро Лю. Цинь последовал за ним.
— Хочешь видеть начальника? Он послан в «школу 7-го мая», на твое место. За то, что вернул в бюро такого контрреволюционера, как ты. Он проводил неправильную политическую линию.
Гэ хотел что-то сказать, но ярость и бессилие душили его. Он сделал несколько шагов и остановился.
— Я поеду в Пекин… я расскажу правду о тебе.
— А я так и думал, что ты захочешь это сделать. Будешь интриговать против меня в ЦК, да? Но, к сожалению, мы не можем предоставить тебе такой возможности. Ты поедешь в другое место!
Цинь подал знак охраннику у лестницы.
— Сопроводить его в лагерь Хэбин и сдать комиссару Чжану Лунси. Будет сопротивляться — надеть наручники.
Гэ увидел в коридоре сверток своих вещей. На улице уже тарахтела машина. Так, без долгих судебных процедур, он стал заключенным…
Лу Вэй слушал с напряженным вниманием. После паузы он со слезами на глазах обнял Гэ Лина.
— Это фашисты… Они просто маскируются. А настоящих коммунистов шлют в тюрьмы… Чья это диктатура? Над кем?
Гэ кивнул на дверь и приложил палец к губам. Но Лу, не желая сдерживаться, почти закричал:
— Я не боюсь ни этого предателя Циня, ни эту лакейскую душонку — Чжана! Пойдем. Ты согрел ноги? Надевай мои ботинки.
Но Гэ отказался. Надев тюремную обувь, он встал, но зашатался и сел. Рана его снова закровоточила.
— Так. Садись на лошадь и поехали в санчасть.
— Нет. Извини, Лу, но…
— Быстро! Это приказ! — Лу разгорячился. — В Корее я выполнял твои приказы. А теперь ты будешь подчиняться мне.
— Подумай, что будет, если…
— Эх, дружище. Если мы и сейчас будем трусить, бояться ответственности… Поставь себя на мое место. И не спорь больше!
Лу Вэй помог Гэ выйти из палатки.
IV
Бушевала метель. Лу, закрываясь от ветра, вел лошадь, на которой сидел Гэ Лин.
Лу думал о себе, о старой дружбе, которой невозможно изменить. Сквозь метель трудно было что-нибудь разглядеть, но он заметил, что многие на строительном участке смотрят на них с удивлением. Когда подошли к красным флажкам, молодой охранник взял карабин на перевес:
— Стой!
— Это я. Ты что, не узнал? — Лу подошел поближе.
— Товарищ начальник? А кто… — Глаза охранника расширились от удивления.
— Это не преступник, — быстро сказал Лу. — Гэ Лин, начальник отдела исправительных лагерей.
— А почему на нем…
Лу с трудом зажег сигарету, затянулся.
— Товарищ Ян… Разве в наши дни легко отличить овцу от волка?
Солдат кивнул машинально, не отрывая глаз от серой фигуры на лошади.
Снег посыпал еще гуще. Глядя на непроницаемую белую стену, Гэ почему-то вспомнил о старосте. Предчувствие говорило ему, что их со стариком должно что-то связывать.
— Как зовут моего старосту? — спросил Гэ.
— Ма Юлинь, — несмотря на все усилия, сигарета у Лу потухла. Он бросил ее.
Имя прозвучало как удар. Но Гэ все не мог вспомнить ничего определенного.
— Он уже сидел, когда я приехал сюда из Кореи. Он командовал отрядом помещиков до революции. После победы пошел сюда по смертному приговору с отсрочкой. Потом ему дали пожизненное, потом еще сократили.
— Он из Хэбэя?! — Сердце Гэ забилось.
— Уезд Чанли. Восточный Хэбэй.
— Его отец, Ма… Байшу, был крупным помещиком, деспотом, приговорен к смерти во времена земельной реформы?
— Да! Ты что, его знаешь? — Лу взглянул вверх и остановился. — Где ты его встречал?
Гэ вспомнил, как 30 лет назад его отряд в деревне Мацзя привел в исполнение смертный приговор местному деспоту Ма. Чтобы отомстить за отца, сын собрал свою банду и напал на них.
— Чудовищно, — сказал Гэ. — Через тридцать лет в одной камере! Теперь нечему удивляться… А ведь это он ранил меня в ногу!.. Лу, дружище, что происходит?
Лу молча смотрел снизу.
Копыта застучали глухо по замерзшей земле. Заснеженная дорога была пустынной, уводила неведомо куда. Лу шагал задумавшись. Этот мерзавец получил прощение и должен быть тише воды, ниже травы. Как же он смеет? Но тут его осенило. Чжан Лунси! О, подлецы. Лу расстегнул верхние пуговицы шинели, снег охлаждал, успокаивал. Но Лу уже не мог успокоиться, скрипел зубами:
— Мерзавец. Рябой Чжан! Так раньше действовали в тюрьмах гоминьдановцы. На чьей он стороне? За кого он?
— Он всего лишь марионетка, — сказал Гэ. — Нитки дергает кто-то другой.
— Да, конечно… И нитка тянется до самого верха.
Они помолчали, словно прислушиваясь к завываниям ветра. Берега Хуанхэ в марте обычно уже зеленеют. Но в эту весну 1976-го здесь еще царила зима, и все было покрыто снегом.
— Жасмин! — громко закричал вдруг Гэ.
Оба поспешили вперед. Обычно они совсем не обращали внимания на цветы, но в этот день, среди снежной метели, цветок почему-то взволновал и обрадовал их.
Подойдя ближе, они увидели девушку, замотанную в толстый цветной шарф. Этот шарф и бросился им в глаза издали.
Девушка подняла руку, крикнула:
— Эй! Подождите! — и побежала.
Она была худенькой, невысокой. Запыхалась, но сразу видно было, что вынослива и здорова. Долгое путешествие, которое она, судя по всему, совершила, почти не оставило следов. Лу подумал, что девушка, скорее всего, из деревни, но, когда она стряхнула носовым платком снег, обнаружилась явно городская одежда. Короткое серое пальто, какие носят на юге, синие шерстяные брюки. Но больше всего поражали новенькие, насквозь промокшие кроссовки. Девушка хотела обратиться к сидящему на лошади Гэ, но серая форма и иероглифы на груди словно напугали ее, и она опустила голову. Потом внезапно повернулась к Лу:
— Скажите, пожалуйста… это лагерь Хэбин?
Лу Вэй кивнул.
— А вы?..
— Я… — девушка явно не знала, что делать, — я из Пекина. Приехала сюда, чтобы навестить одного… одного… заключенного! — выговорив наконец все это, она покраснела.
— Гм. Судя по говору, вы с юга. А из Пекина, наверное, проездом? — Лу стряхнул снег с ее плеч. — Тяжело добираться сюда в такую погоду.
Его неожиданное участие, добрые нотки произвели на девушку впечатление.
— Я гимнастка. Из команды с юго-запада, — заторопилась она, будто обрадовавшись. — Мы были на соревнованиях в Пекине, а сюда я заехала на обратном пути домой. — Скороговорка вдруг оборвалась. Девушка смотрела на незнакомцев, спохватившись, что сказала слишком много. Как она могла забыть, куда приехала! И что здесь нужно держать язык за зубами!
Глаза ее потемнели, наполнились слезами.
Лу поспешил сказать:
— Я знаю, к кому вы приехали.
Девушка молча смотрела на пожилого усатого мужчину. Пожалуй, он выглядел даже грубее, чем заключенный на лошади. «Это, наверное, тоже преступник, — подумала она. — Но откуда он может знать?»
— Вы приехали к Гао Синю.
Девушка была потрясена и только молча переводила взгляд с одного на другого.
— И я даже знаю, как вас зовут. Чжоу Ли, да?
— Да… — ей явно было приятно, — вы из того же лагеря, что и Гао Синь? Значит, он меня помнит? Что он говорил обо мне? Я послала восемь писем. А он не отвечает…
Вопросы сыпались один за другим — видно, долгое время она задавала их себе. Девушка схватила Лу за руку:
— Уже прошло полгода. Ему, наверное, ужасно тоскливо! Пожалуйста, скажите…
Лу был по-настоящему тронут. Девчонка прошла многие километры в метель, чтобы увидеть человека, приговоренного к пожизненному заключению. За 20 лет он очень редко встречал таких людей. Лагерь — страшная вещь. Люди, как правило, панически боятся иметь с ним что-либо общее. С другой стороны, родственникам таких заключенных, как Гао Синь, не нужно было подчеркивать свою лояльность публичным отречением или чем-то подобным. Достаточно было просто забыть о нем. Но девчонка явно относилась к другому разряду. И Лу не хотелось ее огорчать.
— Ему совсем не плохо. И работает он хорошо…
Неожиданно эти слова произвели обратное действие.
— Как вы думаете, — слезы катились по ее щекам, — есть надежда на изменение приговора?
— Пока я командую этим лагерем, всегда есть надежда. Я и сам хотел что-нибудь сделать для Гао, — успокаивал Лу девушку. — Ведь это несчастный случай. Сначала и следствия не было. А потом вдруг — пожизненное. Абсурд, правда? На что тогда законы? Ничего, в один прекрасный день мы разоблачим всю эту шайку!
Только когда Гэ подтолкнул его, Лу сообразил, что зашел слишком далеко. Он тяжело вздохнул.
— Значит, вы начальник лагеря? — Чжоу Ли подняла заплаканное лицо, словно действительно в сплошной темноте увидела луч надежды. — Пожалуйста, помогите ему! Ведь мы должны были выступать на чемпионате страны. Он первоклассный атлет. Он побил рекорд. Мои родители… и я… очень любим его. Он очень хороший человек.
— Не беспокойтесь, — перебил Лу. — Как раз сейчас он разбирается с двумя провинившимися, а возвращаться будет этой дорогой. Подождите-ка его здесь. Холодно, конечно, зато вы сможете поговорить, сколько захотите. А в лагере вам дадут полчаса, да и то под надзором. Ну что? Договорились?
— Хорошо. — Девушка уже улыбалась. — Вы так добры. Конечно, я подожду здесь. А что холодно — это ничего. — Она поставила чемодан на снег и стала вытирать платком лицо.
Вдали показалась фигура в сером.
— А вот и он! — сказал Лу.
Девушка вздрогнула. Она торопливо стала вытирать лицо, чтобы от слез не осталось следов. Но вдруг замерла — за первой фигурой появилась вторая. К своему изумлению, Лу Вэй увидел, что к ним приближаются Ма Юлинь и Ю Далун.
— Почему вы вернулись, черт побери! — крикнул Лу.
Ю молчал. Ма пробубнил:
— Тут… в общем… Гао Синь встретил комиссара Чжана. Когда пошли в контору за ключами. Комиссар Чжан сам разобрал дело и решил, что наказан должен быть… Гао Синь. Его отвели в карцер.
Чжоу Ли побледнела. Если бы не стоящий рядом Лу, она, наверное, упала бы. Лу Вэй же замер, как будто он не в силах понять, что происходит. Потом неожиданно резко шагнул к заключенным и ударил одного и другого. Он ударил бы еще, если бы не Гэ, который моментально соскочил с лошади и схватил его за руку.
— За двадцать лет, — сказал Лу, переводя дыхание, — я не тронул ни одного заключенного. Но сегодня… вы получите хороший урок. Мерзавцы! Живо в карцер — и ждать меня!
— Успокойся! Успокойся же! — Гэ тряс Лу Вэя за плечи. Наконец тот машинально кивнул. Потом, не говоря ни слова, Лу отвез Гэ в санчасть, а девушку проводил в гостиницу. Когда все было сделано, он вскочил на лошадь и пришпорил ее.
V
Лу скакал, не ощущая холода, стараясь успокоиться и сосредоточиться. На поле боя ты метишься во врага и нажимаешь на курок. Как просто! Но что делать с врагами, насилующими страну под прикрытием революционных лозунгов и цитат классиков? Лу Вэй не был силен в теоретических спорах. Он чувствовал себя усталым, выбитым из колеи. Как бороться с Чжан Лунси? Как повести дело?
Он распахнул дверь и вошел в контору. За длинным столом сидели надзиратели. Все курили и громко разговаривали. Они занимались изучением новых документов по борьбе с правым уклоном. Лу расстегнул шинель и, по привычке скрестив руки на груди, стоял некоторое время, осматривая сидящих. Потом налил стакан воды из графина, выпил и вытер рот тыльной стороной ладони.
— Где Чжан? — спросил он громко.
— Повел Гао Синя в карцер, — ответил кто-то.
— Товарищи! А не забыли ли вы свои главные обязанности? Что поручила нам партия? Или мы похожи на пастухов, пустивших стадо гулять и разлегшихся на отдых? Чего стоят все ваши разговоры о новой линии партии? Наша плохая работа — вот правый уклон!
Надзиратели, которым и самим давно надоело изучение документов и которые оставались в комнате только из страха перед комиссаром, поднялись и стали с шумом выходить. Когда все вышли, Лу, увидев, что пол густо усеян спичками, окурками и прочим мусором, снял шинель, взял стоящий в углу веник и начал подметать. Когда он дошел до середины комнаты, вошел Чжан Лунси.
Комиссар был сильно удивлен, найдя контору пустой. Но сразу все понял, заметив начальника лагеря. Слабые характеры, как правило, боятся по-настоящему решительных, способных на поступки людей, и Чжан Лунси не был исключением. Хотя он и прибыл в лагерь, имея поддержку наверху, но с первого дня старался избегать прямых конфликтов с начальником. Конечно, он не мог не видеть, что Лу Вэй был человек совершенно иных взглядов, жизненных принципов и что рано или поздно им придется столкнуться. Чжан решил, что будет действовать по испытанному методу «рукой пожимаешь руку, ногой делаешь подножку». Он зорко, но незаметно, словно из-под опущенных ресниц, следил за каждым шагом противника. Он ждал стопроцентного случая. Увидев в лагере Гэ Лина, он понял, что этот случай представился. Прежде всего он провел «воспитательную работу» со старостой Ма. Потом созвал надзирателей в контору на изучение «правого поветрия». С одной стороны, на строительном участке в случае осложнений с Гэ (а в этих осложнениях Чжан не сомневался) никто не будет мешать. С другой — Лу Вэй непременно разгонит эти «политические занятия» и даст ему лишнее очко вперед. Все так и выходило. Чжан Лунси решил вести борьбу до конца. Ставкой в этой борьбе была полная власть в лагере. Но дело он вел, используя старую тактику.
— Куда все подевались? — спросил Чжан, изображая наивное удивление. — Я же объяснил всем, какое это важное занятие.
Лу бросил веник и выпрямился.
— Я послал всех на работу.
Обожающий красивые жесты, комиссар многозначительно поднял указательный палец:
— Но, товарищ Лу! Товарищ Цинь лично приказал проводить эти занятия. Ведь потом бюро будет проводить экзамены.
— А разве нельзя заниматься вечером? Среди бела дня собирать всех здесь! А если кто-нибудь сбежит? Кто будет отвечать? Ты? Товарищ Цинь?
— Но ведь охрана на месте? От пули не убежишь.
— Товарищ политический комиссар. Партия послала нас сюда для того, чтобы перевоспитывать. А не для того, чтобы стрелять. — Лу достал из кармана трубку, зажег ее и стал раскуривать. — Надеюсь, ты знаешь курс партии на перевоспитание преступников? Хотя кажется, что иногда ты не можешь отличить нашего человека от врага…
— Что ты хочешь этим сказать? — вдруг перебил Чжан, он грозно нахмурился. — Четкое знание политической линии и умение разбираться в людях — мои главные черты.
Лу Вэй, не в силах больше сдерживаться, ударил по столу трубкой — так, что высыпалась часть табака и пепел.
— Почему ты наказал Гао Синя вместо Ма и Ю? Эти двое издевались над Гэ, а Гао Синь хотел их остановить! Что в этом преступного? Или ты действительно не хочешь отличить черное от белого?
— Товарищ Лу! Разве ты не знаешь, что начался новый исторический период? Классовые отношения изменились, и теперь главными врагами партии и народа являются как раз такие, как Гэ Лин — «каппутисты» и «реставраторы»! — Чжан уже расхаживал по комнате, словно рассуждая вслух. — Мы должны рассматривать борьбу между Ма, Ю и Гао в общем контексте классовой борьбы. То, что Ма и Ю решили пересмотреть свое отношение к Гэ Лину, можно считать прогрессивным явлением. А Гао Синь пытался помочь «реставратору». Так кого же я должен был наказать?
— Чжан Лунси!.. — крикнул Лу.
— Зачем кричать, — Чжан развел руками, — тем более если ты прав…
— Ма Юлинь — вот кто настоящий «реставратор»! И ты даешь ему право измываться над одним из наших лучших людей. Есть в тебе хоть капля совести?!
— О, конечно, — комиссар не терял спокойствия, — Ма был «реставратором». Но он был им до революции. А Гэ — «реставратор» нынешний, семидесятых годов. Да еще причастен к «правому поветрию». Ведь ты же знаешь, что его дело рассматривалось в бюро…
— Покажи мне хоть один документ! Покажи!
— Гэ Лин является контрреволюционером в соответствии с нашей новой конституцией.
— Какой новой конституцией? У нас была и есть только одна… — Лу сверху вниз смотрел на низенького Чжана.
— Есть и новая. — Комиссар неожиданно покраснел. — Ты действительно хочешь посмотреть?
— Да! Да!
Чжан вытянул из кармана книжечку и высоко ее поднял. Это была брошюра Чжан Чунцяо «О всесторонней диктатуре в отношении буржуазии». Он с треском швырнул книжечку на стол:
— Вот новая конституция нового периода социализма! Вот новый закон, по которому и судить и оправдывать!
— Кто принимал этот новый закон? — спросил Лу, беря брошюру.
— Мы — цзаофани! — Голос Чжана задребезжал на самых высоких нотах, затем упал почти до шепота. — Лу, сегодня мы говорим начистоту. Ты не можешь не знать, что все начальники лагерей давно сменены. Кроме тебя! А ты знаешь причину? Да потому, что ты не измазался в период демократической революции. Ты был простым рабочим. И в Корее не командовал. Мы, цзаофани, смотрели на тебя с надеждой, ждали, когда ты сам придешь к нам. Но всему есть предел. Учти, будешь поддерживать этого «каппутиста» — сломаешь шею. В твоем лагере еще слишком много пустых камер. И еще. Будь он наш человек, разве мы просто так напали бы на него?
Комиссар расхаживал по комнате. Голос его то повышался, то понижался, руки летали, лицо то кривилось улыбкой, то принимало каменное выражение. Глаза же неотрывно следили за противником. Он не на шутку боялся, что «старшина Лу» может в ярости броситься на него. Но вопреки ожиданиям, выслушав весь монолог, Лу громко вздохнул и направился к двери.
Чжан расслабился. Не зря считал он себя мастером красноречия. Но вдруг Лу шагнул к доске с ключами, взял ключ от карцера, взглянул на комиссара и вышел.
Когда Чжан опомнился и выбежал за ним, Лу уже сидел на лошади. Не долго думая, комиссар схватил ее под уздцы.
— Зачем тебе ключ?
Лу молчал и глядел в сторону, словно сдерживался и не хотел говорить.
— Лу Вэй! Почему ты взял ключ?
— Почему? Ты знаешь почему, — ответил Лу, его большие руки вдруг задрожали. — Я не оратор. Но у меня есть пара вот этих рабочих рук и сердце коммуниста. И, можешь поверить, я всегда буду бороться против несправедливости… Вот зачем мне ключ.
— Но у тебя нет права! Ты должен следить за производственной работой, а ключи — в ведении конторы!
— А кому же подчиняется контора? Тебе одному? Или нашей партийной организации? Она отвечает перед тридцатью миллионами коммунистов и девятьюстами миллионами граждан страны. — Лу вдруг высоко поднял ключ. — Это всего лишь ключ. Но важно, в чьих он руках. От этого зависит, будет ли наказан виновный или попадет в беду невинный. И здесь я не уступлю тебе ни сантиметра.
Чжан все еще держался за уздцы, когда Лу пришпорил лошадь. Только то, что он успел разжать руки, спасло Чжана, он даже устоял на ногах. Лу поскакал к двухэтажному домику парткома.
Лу не был так прост, как могло показаться. Он беспокоился о Гао Сине, пока не увидел на стене ключ. Он знал, что люди типа Чжана придают огромное значение ключам и прочим атрибутам. Стоит забрать ключ, и такой человек чувствует себя беспомощным. Но Лу понимал также, что Чжан просто так не сдастся. Непосредственно в провинции его поддерживал Цинь, а дальше нитка вела прямо в штаб цзаофаней. Не так давно назначенный начальник провинциального бюро Лю был вдруг сослан в «школу». Потом Гэ Лин. И теперь Цинь — хозяин. Что ему какой-то Лу Вэй. Но Лу чувствовал, что не может поступить иначе, что должен бороться, несмотря ни на что. К тому же он всегда был уверен, что партия и народ будут на стороне справедливости.
В парткоме Лу коротко рассказал обо всем, признался, что ударил двух заключенных, и попросил разбора всего дела. Вечером того же дня было созвано заседание парткома. Комитет рассмотрел вопрос о том, кто должен был быть наказан — Гао Синь или Ма и Ю. Несмотря на откровенные угрозы Чжана, голоса разделились так: десять человек признали виновными старосту и Ю Далуна, двое воздержались и пятеро поддержали комиссара.
После заседания, словно не чувствуя усталости, Лу пошел к карцеру. Метель утихла. Снег сверкал под луной. Но на сердце Лу Вэя было неспокойно. Глядя на луну, он гадал, налетит ли снова метель. Ему даже хотелось, чтобы эта новая вьюга была сильнее, чтобы весь мир занесло снегом. Вдруг он подумал, что Гао скоро встретится со своей девушкой. Вот это пара! — вздохнул он про себя с улыбкой. — Спортивная будет семья… А эта сволочь Цинь дал ему пожизненное. Стоит власти попасть в такие руки…
Лу подошел к зданию без окон, открыл дверь. Внутри стояла мертвая тишина.
— Гао Синь!
Тишина. Лу вздрогнул от нехорошего предчувствия. Он распахнул дверь шире и в слабом свете, исходившем от снега, различил темную фигуру лежащего на узких нарах Гао. Тогда Лу схватил его за плечо и затряс.
— Кто? — воскликнул Гао, вскочив.
— Я. — Лу вздохнул с облегчением. — А ты неплохо здесь устроился.
— Начальник… — Гао виновато улыбнулся, — вы знаете, как только за мной закрылись ворота, я дал себе зарок: сохранять спокойствие духа, что бы ни пришлось испытать. Помните, что сказал премьер Чжоу? Какие бы трудности тебе ни встретились, не плачь, улыбайся!
— Ну, радуйся. У меня есть для тебя действительно хорошие новости.
— Выпускаете из карцера?
— Это одно. Но есть и еще кое-что.
Лу вывел Гао Синя и закрыл дверь. Но вместо рассказа стал вдруг счищать с него грязь. Удивленный, молодой человек поспешил сам очистить свою форму.
— Гао Синь, к тебе приехала… Чжоу Ли!
— Что? Что вы сказали?
Лу повторил.
Лицо Гао, освещенное луной, оставалось задумчивым. Он не улыбался, не радовался, как будто и не слышал того, что ему сказали. Он даже нахмурился, сжал губы, машинально продолжал чистить ладонями форму.
— Ты что? Тебя не радует эта новость?
— Но… я не могу встречаться с ней.
Лу оторопел. Он подумал, что молодой человек не хочет, чтобы любимая видела его в такой одежде.
— Пойди в гостиницу, вымойся.
— Да нет. Я просто не могу… И дело не в том, как я выгляжу. Ни ее, ни меня это не смутит. Но лучше не надо. Очень прошу.
Лу прямо на глазах из радостного и уверенного оптимиста превратился в отчаявшегося пессимиста. Нет, этого он не мог понять. Девчонка с багажом проделала такое путешествие по снегу, в метель. А Гао как будто все равно. Он развел руками:
— Нет, все-таки удивительный тип! В карцере бодр и весел. Теперь, когда любой другой прыгал бы от радости, — несчастен как черт знает что. Делай, что говорю. Пошли!
Лу посмотрел на часы. Одиннадцать. Он заспешил. Гао догнал его:
— Гражданин начальник! Да вы взвесьте все!
Лу остановился на секунду, смерил Гао взглядом:
— Интересно. Ты, наверное, из камня сделан? — Он зашагал опять.
— Да послушайте!
Но Лу, уже не обращая внимания, шел прямо к гостинице. Два ее небольших корпуса ярко светились окнами. Перед самым зданием молодой человек снова схватил его за рукав:
— Я в лагере уже несколько месяцев. И очень уважаю вас. Большинство других — тоже. За вашу честность, прямоту и правдивость. И я все понимаю, но сегодня… не могу вас послушать.
— Да почему?! — зарычал Лу.
— Я… люблю ее. В эти несколько месяцев не было дня, чтобы я не думал о ней. Это ребенок — добрый, честный, невинный. А день назад я прочитал в газете, что ее посылают на соревнования за границу. Вы только подумайте. Такая девушка, как она, еще найдет свое счастье. Обязательно. А я? Никто. Заключенный с пожизненным сроком. Вы, наверное, забыли, о чем мы говорили, когда я только прибыл? Если вы действительно думаете о ней, о ее будущем, то лучше убедите ее уехать. Скажите, что я тут плохо себя веду и вообще…
Но вдруг раздался треск, окно первого этажа над ними распахнулось, и оба услышали громкие всхлипывания.
— Гао… Синь… я… слышала. — И словно боясь, что Гао убежит, Чжоу Ли вытерла шарфом глаза и легко спрыгнула вниз.
Все случилось так быстро, что, прежде чем Гао Синь мог хоть что-нибудь сообразить, девушка уже обняла его, прижавшись к его груди. Гао чувствовал, как дрожат ее руки, в глазах у него защипало. Словно опомнившись, он пытался нежно оттолкнуть девушку, но она только крепче прижалась и еще громче заплакала.
Лу повернулся, стараясь незаметно уйти. Он шел по заснеженному двору и с грустью думал о двух чудесных молодых людях и о смутном времени, в котором им пришлось жить. Кто когда слышал о пожизненном заключении за непреднамеренное убийство? И вдруг Лу похолодел от неожиданной мысли. Он остановился. Что, если о приезде девушки узнает Чжан? Одна телеграмма в Комитет по физкультуре и спорту — и прекрасную гимнастку спишут. И все это за то, что она не бросила человека в беде. Лу повернулся и почти побежал обратно.
— Вам лучше поговорить в номере у Чжоу Ли, — проговорил он. — У вас будет два часа. А завтра утром, но рано, часов в пять, будет машина до железнодорожной станции. Я приду и разбужу. Но… вам лучше никому не говорить, что вы были здесь. Хорошо?
— Почему? — Девушка была удивлена.
Лу повернулся к Гао:
— Расскажешь ей сам.
Тот кивнул.
Лу направился к сторожевой вышке у ворот.
— Есть срочное дело, — сказал он часовому. — Этот заключенный выйдет и вернется часа через два.
Покончив с этим, Лу подумал о Гэ. Каково ему в первую ночь здесь, за каменной стеной? Но сначала нужно перекусить, иначе можно свалиться от усталости.
VI
Глубокой ночью лагерь был погружен в темноту, заключенные спали после тяжелой работы. Но Гэ Лин, смертельно уставший, не мог заснуть.
Зажатый на узком пространстве нар, он ворочался, испытывая то стыд, то ярость, то глубокую горечь: рядом с ним, бок о бок, спал Ма Юлинь. События дня мелькали без остановки в голове Гэ. Болела рана, но что она значила по сравнению с муками сердца. Видя, что не заснуть, Гэ сел.
Ма спал шумно, издавая звук уголком рта. Губы его опухли от удара Лу. Казалось, он доволен всем на свете, даже улыбается. «Не спал бы… так, если б понял, что я его узнал», — подумал Гэ. Одевшись, набросив на плечи шинель, он вышел из барака.
Яркие звезды были рассыпаны по всему небу. Глядя вверх, Гэ Лин думал о том, что происходит с ним здесь, в лагере, во всей стране.
Звук открывающихся ворот прервал его мысли. Вошел Гао Синь и закрыл за собой ворота.
Гэ позвал тихо:
— Гао Синь!
Тот остановился.
Гэ схватил его за руку и спросил с сочувствием:
— Значит, они вас все-таки отпустили?
— Да. — Гао мрачно усмехнулся. — Начальник лагеря освободил.
— А почему так поздно?
— Там было срочное дело, — машинально ответил Гао. Но, вглядевшись в собеседника, упрекнул себя в подозрительности. Он вспомнил драку на строительном участке и как Гэ тащил носилки.
— Я встречался с другом, который приехал издалека. Потому и опоздал.
— С Чжоу Ли? Да?
— Откуда… как вы узнали?
— Мы с Лу Вэем встретили ее. И она нам все рассказала. Рад за тебя. — Гэ улыбнулся. В первый раз после ареста.
Гао нахмурился:
— Но… я порвал с ней… она все плачет…
— Порвал! Почему?
— Если я и выйду отсюда, то буду стариком. Как я смогу…
— Да, — сказал Гэ и помолчал. — Все верно. Но ты на самом деле уверен, что пробудешь здесь долго? Сейчас закон — игрушка в руках определенных людей. Они делают все, что им только захочется. Я, например, был арестован вообще без единой процедуры. Но я хочу, чтобы ты знал: наша партия не будет долго терпеть все это. Народ поднимется и в один прекрасный день прихлопнет этих фашистов. Поверь мне.
— Чжоу Ли говорила то же самое. Вы знаете, она тут подарила мне кое-что. Наверное, чтобы подбодрить.
Гао оглянулся и вытащил из-за пазухи завернутые в вышитый платочек фотографии.
Маленькие глянцевые листочки взволновали Гэ. Они унесли его далеко за каменную стену, в Пекин, на площадь Тяньаньмэнь. Он увидел памятник павшим, море весенних цветов, людей, читающих в толпе страстные стихи.
— Хорошо, — сказал Гэ.
Гао завернул и спрятал фотографии.
— Я тоже хотел бы, — сказал он тихо, — отметить память премьера Чжоу. Послезавтра Праздник весны, Вот было бы хорошо сделать венок.
— Но из чего же?
— Из ивовых прутьев можно сделать основу.
— Хорошо, но где взять цветы?
— Цветы?.. А у меня есть бумага! Можно сделать прекрасные белые цветы.
— Так. Но куда мы возложим венок? Здесь есть хоть один портрет премьера? — Гэ немного подумал, потом добавил: — Кроме того, если Чжан и его компания обнаружат что-нибудь, то нам, конечно, придется худо. Мне-то уже все равно… а ты так молод…
— Товарищ Гэ, я стал членом партии задолго до того, как попал сюда. — Голос Гао Синя был спокоен. Он назвал Гэ запрещенным словом «товарищ».
— Ладно, — сказал Гэ. — Дашь мне бумагу завтра до того, как уйдешь на работу. Я несколько дней не буду работать из-за ноги. Поскольку прах премьера Чжоу Эньлая развеян над горами и реками, мы можем возложить венок, где захотим.
— Во время работы я могу пойти, куда мне будет нужно. Может, отнести венок к Хуанхэ, на плотину?
— Прекрасно! Так и сделаем.
Была уже полночь, когда они попрощались и разошлись по своим баракам.
Войдя в барак, Гэ заметил, что старосты на месте нет. Куда он пошел? Гэ немного подождал, но Ма не возвращался. И Гэ вдруг понял, что староста все слышал и, наверное, уже побежал докладывать. Что делать? Гэ выбежал из барака и бросился к воротам.
Худшие предположения оправдались: Ма стоял с часовым и, видимо, упрашивал пропустить его. Времени на раздумье не было. Гэ подскочил к часовому и выпалил:
— Гражданин начальник охраны! Этот парень — лунатик!
Солдат охраны глядел то на Гэ, то на украшенного синяками Ма и стоял в нерешительности. Но тут вмешался Ма:
— Он был начальником лагерей, — он указал на Гэ, — а теперь «реставратор» и «каппутист»! Он…
Но все три определения вместе выглядели так нелепо, что часовой перестал сомневаться в том, что Ма болен.
— Отойти! — крикнул он, подняв карабин со штыком.
Ма сразу же замолчал и повернул к бараку.
Нервное напряжение вдруг оставило Гэ, он почувствовал усталость. Но когда они завернули за угол, он тихо сказал:
— Стой!
Ма нехотя остановился. Полуосвещенное лицо его выглядело зловеще, глазки, как всегда, с открытой злобой смотрели на Гэ.
— Какие будут приказания, гражданин начальник?
— Куда ты шел так поздно?
— Ага, вы все еще на посту. Хотя одеты мы одинаково и староста, однако же, я. Так вот я спрашиваю: ты почему бежал за мной в такой спешке? А?
Гэ сдержался, только кулаки побелели от напряжения.
— Ты даже не стоишь того, чтобы тебя бить.
— Да, конечно, я такой плохой. — Ма усмехнулся. — Ну а ты? Забыл, кто ты и где ты?
— Цыплят по осени считают, — сказал Гэ. — Зато я знаю, кто ты.
Ма вздрогнул. До этого он был спокоен: разве можно кого-то узнать почти через 30 лет? Да еще таких лет. Когда-то Ма Юлинь, сын богача, был приятным, прекрасно одетым молодым человеком. Сейчас лицо изборождено глубокими морщинами, руки огрубели от тяжелой работы. Его лучшие деньки кончились с началом новой республики. Десятилетия тюрьмы полностью изменили его наружность. Гэ просто не мог в первый же день узнать старого врага. Ма снова успокоился.
— Ты всегда был чиновником, я — заключенным. Мы не могли раньше встречаться.
— Думаешь, твой вид может обмануть меня. — Гэ смотрел Ма прямо в глаза. — Нет, ты все тот же. Так же жесток и груб, как тогда, тридцать лет назад. Отца мы расстреляли, а ты вернулся из Пекина, где учился в университете, и собрал свою банду. Думаешь, я могу забыть все то, что ты натворил? Как, например, вы раздели зимой донага коммуниста и подвесили его за ноги…
Ма был бледен.
— Послушай, — холодно сказал Гэ, — ты, наверное, думаешь, что вот представился случай отомстить за отца и за себя. Не дал мне отдохнуть, погнал на работу и там…
— Ты… ты Гэ Лин! — воскликнул Ма, как будто только что узнав Гэ и хватая его за руку. — Командир земельного отряда! Господи, ну и память у меня.
— Убери руки. И вот что: лучше веди себя тихо и не вздумай сделать какую-нибудь новую подлость. Иначе заплатишь за все. Несмотря на все твои тюремные годы, народ сведет с тобой счеты, и пуля, которую ты не получил, будет тебе обеспечена. Понял?
— Да, да, конечно, — бормотал Ма. — Я ужасно виноват! Я просто, просто ослеп, что не узнал вас сразу.
— Хватит болтать ерунду!
Ма тотчас повернулся и поспешил к бараку.
А Гэ направился к Гао Синю. Он понимал, что Ма все равно что-нибудь предпримет, и потому нужно было срочно предупредить Гао. Неожиданный обыск, обнаружат фотографии, и тогда Гао несдобровать.
Гэ все не приходил. Ма был уверен, что он у Гао Синя. Ма лежал на нарах и смотрел на маленькое окошко, освещенное луной. Он думал, что ему лучше сделать. Угроз Гэ Лина он не боялся, хотя понимал, что действовать в открытую теперь будет трудно. Он был уверен, что Гэ никогда не отпустят на свободу, пусть даже он и сидит без всякого приговора. Вернее, именно потому никогда и не отпустят. Удивляло лишь то, с какой быстротой выпустили Гао Синя. Он пришел к выводу, что в руководстве лагеря, наверное, началась ожесточенная борьба. Нельзя было допустить ошибку и попасть между шестернями этой борьбы, приняв сторону того, кто проиграет.
Ма находился в тюрьме больше 20 лет. За это время он крупно просчитался два раза. Однажды во время Корейской войны он прочел в газете, что американский генерал объявил: скоро вся Корея будет освобождена от коммунистов, его войска пойдут на Харбин, и наступит очередь Китая. Ма спрятал кусок газеты в карман и при удобном случае доставал, с благоговением перечитывая слова американца. Но эта надежда кончилась ничем. Та же газета сообщила о крахе американского наступления. Потом было известие о нападении Чан Кайши на КНР. Опять появилась надежда: он ждал чуда, но все опять кончилось ничем. В конце концов он смирился с мыслью, что прошлого не вернуть, что все попытки свергнуть народную власть похожи на усилия насекомых, старающихся подточить и свалить огромное дерево. Но… смутная надежда снова возникла перед ним. В газетах все чаще стали говорить о «каппутистах», и он потихоньку стал мечтать: в один прекрасный день в каменной стене откроются железные ворота и с воли в них пойдут не отбросы общества, не уголовники и преступники, а бывшие партийцы и кадровые работники. И когда в лагерь прибыл Гэ, для Ма не было вопроса, чью сторону выбирать.
Потрогав несколько раз лежащий в кармане листок бумаги, обещавший ему скорую свободу, Ма окончательно решил, что останется на стороне комиссара Чжана. Но как сообщить о затее Гэ и Гао Синя? Через ворота не пройти. Вдруг он вспомнил, что через день праздник. Такой случай упустить нельзя. Наконец в голову пришла простая мысль: написать комиссару записку. Ведь каждое утро еще до подъема Чжан Лунси обходит все бараки и осматривает специально сделанные ящички. Опытный заключенный всегда может найти и кусочек бумаги, и огрызок карандаша и улучить момент накарябать в тусклом предутреннем свете несколько слов. Ма повернулся на нарах, нащупал в тайнике пустую папиросную пачку, оторвал кусочек бумаги и написал несколько фраз. Потом на цыпочках вышел из барака, опустил листочек в ящик.
Когда Гэ вернулся, Ма лежал тихо, будто спал…
VII
Как Ма Юлинь и ожидал, Чжан рано утром начал свой обход, раскрывая один за другим ящички у бараков. В третьем он и обнаружил записку. Только успев прочесть ее, он тут же побежал к гостинице. Однако Чжоу Ли там уже не было. Тогда Чжан изо всех сил поспешил к автостоянке. Он успел увидеть, как отъезжает грузовик с людьми, а Лу Вэй машет кому-то рукой.
— Что это за девушка? — выпалил Чжан, подбежав.
— Кого ты имеешь в виду? — холодно переспросил Лу. — Там в грузовике их вон сколько.
Чжану нечего было сказать. Он помолчал, потом решился:
— Девушка, ночевавшая у нас в гостинице.
— А вы не слишком любопытны? Это моя племянница.
— Откуда она?
— А вот это уже не ваше дело!
— Лу Вэй! — Чжан покраснел. — Мне кажется, вы зашли слишком далеко. Разве гостям можно встречаться с заключенными ночью? Нужно действовать открыто, честно! Мне пришлось уведомить товарища Циня о вчерашнем заседании парткома. И он просил передать: вы должны отдавать себе отчет в возможных последствиях.
— Последствиях. Думаете, я не понимаю, что могу полететь? Ничего, у меня седьмой разряд, и силенки еще хватает. Ах, иногда я очень скучаю по своему прессу… — Лу по старой привычке закатал рукава. — Посоветуйте товарищу Циню: пусть пошлет меня в цех… Но пока я здесь начальник, виноват, и не подумаю сообразовывать свои поступки с вашей «новой конституцией»!
Лу повернулся и зашагал к конторе.
— Ха-ха! Да вас и к прессу-то, может быть, не допустят! Как можно позволять проносить в лагерь подобные фотографии? Это просто прямая поддержка «каппутистов»!
Неожиданно Лу подбежал к Чжану и схватил его за шиворот.
— А ну, говори! Кто это — «главный каппутист»? Я что-то не пойму. Говори!
Вокруг никого не было. Чжан страшно перепугался, и три слова уже готовы были сорваться с его губ, но в последний момент он все-таки сдержался.
— Товарищ Лу, — сказал он покорно, — ведь я же делаю все только в твоих интересах. От товарища Циня стало известно указание самого молодого нашего партийного лидера: быть предельно бдительными во время весенних праздников, подавлять любые контрреволюционные выступления в крупных городах. Товарищ Цинь также приказал мне приготовить новые камеры.
Лу посмотрел на Чжана, отпустил его и зашагал к лагерю. Голова кружилась, он взял немного снега и на ходу приложил ко лбу. Что означает это новое указание? Хотя ничего удивительного нет: просто всякий, кто почтит память премьера Чжоу, будет объявлен контрреволюционером.
Заключенные уже были выстроены на развод. Лу, взяв у охраны две пары наручников, подошел к третьему бараку.
— Ма Юлинь! Ю Далун!
Двое вышли из строя. Лу залез на небольшую трибунку и громко сказал, обращаясь ко всем:
— Обычно мы не надеваем наручники на сидящих в карцере. Но эти двое — исключение. Они нарушили все правила поведения и, действуя вместе, оклеветали Гао Синя. В результате он, а не они был ошибочно наказан. Вчера партийный комитет лагеря решил: за грубые проступки наказать заключенных Ма Юлиня и Ю Далуна. Надеть наручники и поместить их в карцер.
Некоторые из заключенных выразили одобрение. Но большинство посмотрело на Чжана Лунси, потому что ни для кого не было секретом, кто именно наказал Гао Синя. Комиссар, чуть побледнев, вышел к трибуне и поднял руку, чтобы успокоить ряды:
— Тихо! По имеющимся сведениям, здесь есть заключенный, который держит при себе контрреволюционные фотографии!
По рядам прошел шепот.
— Гао Синь! Выйти из строя! — Голос Чжана звучал торжественно, точно сейчас он собирался оправдать вчерашнее наказание Гао.
Гао вышел из строя, держа свои измерительные приборы.
— Гражданин комиссар! У меня ничего такого нет.
— А если ты лжешь? — грозно крикнул Чжан.
— Тогда надевайте на меня наручники и ведите в карцер. — Легкая усмешка скользнула по лицу Гао. Он мог так усмехнуться на любом допросе, но перед лицом стольких людей это был вызов.
— Обыскать его!
Надзиратель начал тщательно обыскивать Гао. Все замерли. Лу тоже с волнением следил за обыском, предвидя самое худшее, и только уверенный вид парня немного успокоил его.
Надзиратель ничего не нашел. Красный как рак, Чжан отправил заключенных на работу. Потом вместе с надзирателем направился в комнату учетчика с обыском.
На лагерном дворе опять наступила тишина. Лу пошел к Гэ Лину. Гэ закрыл за ним дверь, затем извлек из-под нар маленький пакет.
— Погляди.
Фотографии произвели на Лу глубокое впечатление.
— Народ пробудился и будет бороться, — сказал Гэ. — Трон под всеми этими «лидерами» уже шатается.
Лу в смущении потер глаза, чтобы не показать, как он расчувствовался.
— Мы с Гао тоже хотим…
— Тсс! Это слишком опасно, — прошептал Лу. — Они готовятся к массовым арестам во время праздника.
— А мы уже в тюрьме. Что нам терять? Я только боюсь, как бы это не использовали против тебя.
— Да при чем здесь я! Разве мы не сидели с тобой в одном окопе? Арестуют — так мы снова будем в одном окопе.
— Что за чепуха! Это сумасшествие — самому отдаться им в руки!
— Если бы самому. Ты что, хотел, чтобы тебя арестовали? Ты ветеран, столько лет в партии, а теперь «контра» и «реставратор». Пока в провинции командует Цинь, может случиться все что угодно…
Гэ подтолкнул дверь: снаружи послышались шаги. Лу моментально спрятал сверток в карман. Потом, открыв дверь, громко сказал:
— Следите за раной, иначе болезнь может затянуться.
Они увидели приближающегося Чжана Лунси. На плече у него была лопата, под мышкой — рулон бумаги. Он так спешил, что чуть не врезался в Лу. При виде уходящего начальника лагеря Чжан, казалось, еще больше заторопился. Он вошел в барак и сразу стал осматривать нары Гэ Лина. Ничего не найдя у Гао, Чжан понял, как его провели, и теперь злился на себя за то, что не догадался прийти сюда сразу.
Сначала он тщательно обыскал нары, облазил все закоулки, потом его взгляд упал на одежду Гэ Лина. Он повернул к Гэ мокрое от пота, злое лицо.
— Лучше будет, если ты сам отдашь фотографии!
— Какие еще фотографии?
— Которые вы смотрели вчера с Гао.
Гэ пожал плечами.
— Ты сам заставляешь обыскивать тебя! — Чжан от возбуждения стал шепелявить.
— Как хотите, — спокойно сказал Гэ.
Чжан взялся расстегивать шинель, но Гэ оттолкнул его:
— Уберите руки.
— Что ты хочешь сказать?
— Они слишком грязные.
Гэ медленно расстегнул старую шинель и бросил ее Чжану.
— Обыскивайте. Только учтите, что там могут быть вши. Вы не очень-то заботитесь о чистоте в бараках.
Ничего не обнаружив, Чжан впал в последнюю степень ярости:
— Ну, учти, Гэ Лин. Хоть ты и не подписал свой приговор, на тебе достаточно грехов, чтобы плохо кончить. Кто идет против нас, цзаофаней, рискует сломать себе шею!
Чжан выскочил из барака. С рулоном белой бумаги, изъятой у Гао, он отправился к Ма. Нужно было выяснить все до конца.
Ма мрачно сидел на нарах. Лязг двери заставил его вскочить.
— Ма Юлинь!
— Это вы, гражданин комиссар?
— Ты сам видел фотографии?
— Да-да. Я притворился, что сплю, а сам слушал их разговор. А потом подсмотрел, куда Гэ эти фотографии спрятал. Где-то за нарами, в стене.
— Их было много?
— Семь, может, восемь.
— Я сам все обыскал и ничего не нашел, — сказал Чжан, пристально глядя старику в лицо. — Почему сразу не доложил?
— Меня часовой не пускал. А потом Гэ подоспел и сказал ему, что я лунатик. — Оправдываясь, Ма прижал руки к груди, но боль от наручников заставила его снова опустить их.
— Гражданин комиссар! Все так и было!
— Верю. Если все — правда, я попрошу выпустить тебя пораньше. А теперь скажи, как выглядел часовой.
Ма нахмурился, припоминая.
— Высокий такой. По выговору, скорее всего, из Шаньдуна.
— Когда все это было?
— У меня часов нет. Думаю, около полуночи…
— Ну, хорошо же, Гэ Лин, — процедил Чжан. — Ты пожалеешь, что затеял все это.
Он повернулся к Ма.
— Ладно. Я пойду все уточню и, клянусь, покажу этому Гэ где раки зимуют.
Когда Чжан был у двери, Ма сказал:
— Гражданин комиссар. Я тут придумал кое-что.
Чжан остановился.
— Не знаю, должен ли я говорить…
— Давай.
— Хорошо. По-моему, искать эти фотографии уже без толку. А вот если бы вы могли схватить их с поличным! Они будут делать венок, и, кажется, я знаю, на чем их поймать. Все будет зависеть от вашего согласия.
Ма перешел на шепот, и комиссар был вынужден придвинуться к нему. Сначала Чжана чуть не стошнило от запаха, исходившего от заключенного. Но он сдержался и стал внимательно слушать. Скоро на его лице появилась обычная улыбка. Он и представить не мог, что в голову Ма может прийти такая идея.
Из барака Чжан вышел в приподнятом настроении. Из своего кабинета он позвонил товарищу Циню. Чжан посвятил шефа в подробности плана и положил трубку, но руки его все еще дрожали от возбуждения.
VIII
Все утро Гэ пребывал в тоскливом настроении. Ясно было, что бумаги не достать. Чжан постарался изъять все, что можно. Но главное — Гэ понимал, что борьба еще впереди, и вряд ли она для него хорошо кончится.
Чтобы развеяться, он вышел из барака и пошел по двору, глядя по сторонам и раздумывая, из чего все-таки смастерить венок. Снег растаял под ярким солнцем, оставив большие грязные лужи. Воздух был напоен свежестью и весной.
Высоко в небе над лагерем летели дикие гуси. Они летели на север и скоро исчезли. С крыш капало. Несколько воробьев прыгали возле барака. Гэ свернул за угол и вдруг увидел росшую за каменной стеной магнолию. Ее длинные, усыпанные цветами ветви легли прямо на стену.
Белоснежные, недавно распустившиеся цветы произвели на Гэ необычное впечатление. Перед окном его кабинета в бюро безопасности тоже росла огромная старая магнолия. Но Гэ не обращал на нее внимания и только иной раз сетовал, что дерево заслоняет солнце. Но сейчас цветы показались ему удивительно прекрасными. Он подумал, какой чудесный венок можно было бы сделать из этих цветов.
Однако на такую стену просто так не заберешься. Как раз в этот момент к стене у магнолии подошли двое заключенных с лестницей — видимо, для проверки проводов. Может, их попросить нарвать немного цветов? Гэ уже принял решение, но в последнюю секунду заметил стоящего неподалеку Чжана Лунси. Тогда он повернул в другую сторону, притворившись, что просто прогуливается.
Он вернулся в барак и лег на свое старое армейское одеяло. Настроение не улучшилось. И странно — перед глазами все время стояла магнолия. Как легко можно было бы сорвать цветы, но как назло Чжан так и ходит вокруг. Да еще — в окно видно — руки заложил за спину. Прогуливается, что ли? Нет, видно, наблюдает за ремонтом.
Только когда сгустились сумерки, Чжан ушел. Вернулись заключенные с работы и отправились на ужин. Люди входили и выходили, а Гэ лежал и все сильнее злился на вынужденное бездействие.
После ужина, когда зажглось электрическое освещение, Гэ наконец решил отправиться к своему молодому другу. Но дверь вдруг отворилась, и тот сам появился на пороге. Гао улыбнулся и сразу заговорил:
— Я все знаю, товарищ Гэ. У меня в комнатушке даже кирпичи из пола вынули. Бумагу всю забрали. Вы, наверное, тоже ничего не нашли?
Гэ виновато кивнул.
— Можно где-нибудь достать бумагу?
— Не беспокойтесь! — Гао улыбался как мальчишка. — Я обо всем позабочусь.
— Но как?
— Потом скажу. Приходите ко мне попозже.
Он ушел.
Гэ сидел на краю нар, теребя непривычно небритые щеки. Как можно сделать цветы без бумаги? Или Гао тоже увидел магнолию? Он спортсмен и, пожалуй, сможет залезть на стену. Но солдаты будут стрелять в каждого, кого увидят на стене ночью. Гэ встал и поспешил к Гао.
Гао Синь сидел на нарах, не обращая внимания на беспорядок после обыска и напевая бодрую мелодию какого-то марша. Он мастерил из ивовых прутьев круглую рамку. Услышав шаги, он громко сказал:
— Не маловата ли для сетки от москитов?
— Кого ты хочешь обмануть? — засмеялся Гао.
— А, это вы. Думал, опять Чжан.
— Ну, рассказывай все, что придумал.
— Значит, так. Нам здорово повезло. Сегодня в одном месте, у стены, работали электрики. Они чего-то там не доделали и оставили лестницу. Охрана после двух обычно дремлет, а мне всего-то нужно пару минут, чтобы достать цветы.
— Магнолия?
— Откуда вы знаете?
— Этого делать нельзя, — мрачно сказал Гэ, — слишком опасно.
— Опасно? А выходить на площадь Тяньаньмэнь было не опасно? Премьер Чжоу — наш национальный герой!
Гэ был тронут. Он смотрел на ясное возбужденное лицо Гао и думал, что человеку можно дать пожизненное заключение, заточить, но он все равно останется человеком. И будет так разительно отличаться от тех псевдореволюционеров, разгуливающих на свободе, которые готовы пожертвовать и принципами, и честью ради своего положения.
— Но ты учти, — сказал Гэ как можно убедительнее, — что, с одной стороны, конечно, не должно бояться умереть за правое дело. Но с другой — ведь здесь не Тяньаньмэнь. Мы должны постараться достичь своей цели, но избежать ненужных жертв.
— Что же тогда делать?
Гэ немного подумал.
— Может, так? Многие солдаты знают меня. Я просто попрошу их разрешить сорвать цветы. Если не разрешат, придумаем что-нибудь еще.
Выйдя от Гао, Гэ пошел по двору к вышке. Скоро должна была быть смена часовых. Молодой охранник, тот самый, которого Гэ встретил на стройучастке еще в первый день, стоял у вышки.
— Сяо Ян, — тихо позвал Гэ.
Паренек обернулся и кивнул в ответ головой.
— Завтра праздник, — Гэ показал на магнолию, — можно сорвать цветы для венка премьеру Чжоу?
Сяо Ян подумал и снова кивнул. Ничего страшного, если ветеран, неизвестно за что посаженный, проявит свое уважение к покойному премьеру. Солдаты охраны уже сделали три больших венка. Все, что нужно ветерану, — это палка подлиннее. Сяо Ян не знал, что у стены лежит лестница.
Гэ немного успокоился, но все-таки решил, что цветы будет срывать только сам. Он поспешил к магнолии и еще издали увидел Гао, устанавливающего лестницу. Несмотря на боль, Гэ побежал изо всех сил.
— Тебе нельзя, — сказал он, хватая Гао за руку.
— Товарищ Гэ, я же моложе.
— Нет, тебе нельзя.
— Почему? Ваша рана…
— Часовой не знает тебя. Может случиться все что угодно.
Не слушая больше протестов, Гэ, не теряя времени, стал карабкаться по лестнице. Когда он был на третьей ступеньке, внезапная мысль пронзила его. Отчего заключенные были так беспечны и оставили у самой стены лестницу?
Гао увидел, что Гэ остановился, и потянул его снизу за куртку.
— Ваша рана не зажила. Давайте я.
— Не мешай, — тихо сказал Гэ. Гао был поражен его тоном.
— Что случилось?
Гэ и сам не знал. Он просто чувствовал опасность. Что-то непонятное было в этой как нарочно оставленной лестнице, что-то пугающее. Он вдруг вспомнил, как стоял под пулями банды Ма Юлиня. Почему он это вспомнил сейчас? Скрипя зубами от боли, он стал карабкаться выше.
Именно в этот момент Сяо Ян, стоящий на вышке, был изумлен, заметив Гэ на лестнице. Он уже открыл рот, чтобы крикнуть, остановить, но неожиданно за его спиной возник комиссар Чжан.
— Тихо. Пусть лезет.
— Зачем, товарищ комиссар? Я думал, он палкой…
— Стой тихо. Следи за попыткой к бегству.
— Нет-нет. Он хочет только сорвать цветы. — Парень чуть не плакал.
— Целься.
— Товарищ комиссар! Он руководил отделом в бюро. Он не преступник…
Чжан прищурился.
— Он реставратор. И контрреволюционер. Целься. Я приказываю.
Солдат побледнел. Но продолжал просить:
— Посмотрите! Он рвет цветы.
— А ты знаешь, что он хочет почтить память «главного каппутиста»? Это преступление!
— Но мы тоже сделали венки, — пробормотал Сяо Ян.
— Завтра же утром сжечь. Смотри, его голова уже выше стены. Это нарушение! — Чжан вдруг зашипел, с яростью глядя в лицо солдату: — Если ты нарушишь мой приказ, я засажу тебя в тюрьму на всю жизнь. Или пристрелю просто. Стреляй!
Руки Сяо Яна дрожали.
— Стреляй, черт тебя побери!
Солдат прицелился выше головы, надеясь выстрелом предупредить Гэ, но Чжан заметил это, вырвал карабин и прицелился сам.
Раздался выстрел.
Гэ вздрогнул, покачнулся и упал, прижимая к себе охапку белых цветов. Гао поднял руки, чтобы подхватить его, оба они упали на землю. Глаза Гэ были закрыты, кровь лилась из раны, окрашивая хлопчатобумажную куртку и крепко прижатые к груди белоснежные цветы.
* * *
Двумя днями позже для расследования «попытки к бегству» в лагерь прибыл товарищ Цинь. Был избран новый партком во главе с Чжаном Лунси. Гао Синь был посажен в карцер. Ю Далун стал старостой — вместо Ма, который был досрочно освобожден.
В одну из поздних ночей Цинь с группой своих людей ворвался в комнату Лу Вэя. Но, к своему удивлению, никого там не нашел.
В это время в вагоне экспресса, идущего в Пекин, сидел человек, затянутый в старую армейскую форму. Он ехал, чтобы рассказать правду, рассказать о забрызганных кровью цветах магнолии.
Экспресс, громыхая, рвался вперед, земля Китая, казалось, летела ему навстречу.
Начинался рассвет…
Перевод Д. Саприки.
ШАО ХУА
ЯЗЫК
Язык у Сюй Мэнци был постоянно покрыт сплошным толстым налетом, ибо все соки его организма давно пришли в дисгармонию по причине пылавшего в нем душевного огня. Поэтому скоблить свой язык вошло у Сюя в каждодневную привычку — он всегда проделывал это утром и вечером, покончив с чисткой зубов.
Встав и умывшись в то памятное утро, Сюй Мэнци опять глянул в зеркало на свой язык — за ночь черно-бурый налет стал еще гуще, словно подгоревшая лепешка прилипла к языку, и во рту было сухо-сухо… Вытащив из стаканчика с зубными щетками засунутый туда упругий скребочек и слегка размяв его пальцами, Сюй уже приготовился начать обычную процедуру, как вдруг под окном его одноэтажного домика раздался оглушительный удар. Обернувшись, Сюй бросил взгляд за окно — там неподалеку строительные рабочие выравнивали площадку. Они обмотали стальной трос вокруг обломка какой-то стены и прикрепили другой его конец к трактору; едва тот рванулся с места, стена обрушилась, и в распахнутое окно ворвался песчаный вихрь. Перестав скоблить свой язык, Сюй Мэнци бросился закрывать окно.
— Ты не знаешь, чего это вдруг им понадобилось ломать школьную стену? — спросил он, повернувшись к жене.
Супруга его Ли Шуйжу в это время готовила ему корзинку с обедом и ответила раздраженно:
— Тут со своими делами никак не управишься — нет у меня времени на всякую ерунду!
— Значит, этот Мордастый Ван из уездного ревкома и впрямь собирается возвести здесь свою «резиденцию», ну, ну, — угрюмо пробурчал Сюй Мэнци, снова сгибая упругое нержавеющее лезвие, и, показав зеркалу свой язык, принялся его скоблить.
— Да провались он сквозь землю, тебе-то что за дело?! Всюду надо лезть со своим длинным языком! — взорвалась Ли Шуйжу, грохнув перед ним по столу приготовленной корзинкой с едой — так она обычно выражала несогласие с мужем.
— Что значит «со своим длинным языком»? — повернулся к ней Сюй Мэнци. — Скажешь, я возвел напраслину на Мордастого Вана?! Да кто он такой? Глава какого-то там уездного ревкома, мелкая сошка, но ему, видишь ли, четырехкомнатной квартиры мало — чтобы отгрохать себе особняк, собственной властью перевел школу в другое место да еще, расширяя свой двор, прихватил изрядный кусок наших огородов… А что делать широким массам рабочих и служащих?! Пусть родители с сыновьями и внуками ютятся на одном кане[3], ему наплевать! Это, по-твоему, правильно? Правильно, да? Нет, ты ответь! — Он уже громко кричал, вперившись глазами в жену, словно она-то и была тем самым Мордастым Ваном…
Огромный двор их, насколько хватал глаз, был полон людей — умывавшихся, завтракавших, таскавших воду, и крики мужа разносились повсюду. Со словами: «Тебе что, жить надоело?!» — Ли Шуйжу кинулась закрывать входную дверь.
— Если нет правды, надо об этом говорить во весь голос, меня не запугаешь! Человек умирает только раз… — Сюй Мэнци и не думал понижать голос.
— Хочешь умереть, умирай на здоровье! А ты ведь всю семью за собой тянешь. Вот уж и впрямь контрреволюционер — никак твою натуру не переломить!
Слово «контрреволюционер» будто игла вонзилось ему в солнечное сплетение и заставило все тело Сюй Мэнци содрогнуться от ужаса. Мгновенно обмякнув, он замер на краю кана. «И кто меня вечно тянет за язык?!» — в страхе твердил он про себя, присовокупив к собственным своим мыслям изречение философа: «Поистине натуру человеческую невозможно изменить!»
До великой культурной революции Сюй Мэнци исполнял должность начальника уездного отдела народного образования. Заместитель его Ван Фэнтун, которого все в отделе за глаза величали Мордастым Ваном, был его закадычным другом — с ним они говорили обо всем. И когда в ноябре 1965 года в шанхайской газете «Вэньхуэйбао» появилась статья «О новом варианте исторической драмы „Хай Жуй уходит в отставку“», его закадычный друг, прочитав статью, спросил: «Слушай, похоже, за этой статьей кто-то стоит. Что, собственно, за человек этот Яо Вэньюань[4]?»
А Сюй Мэнци, надо сказать, был большим любителем литературы, он выписывал несколько литературных журналов и просто обожал рассказывать разные малоизвестные подробности и слухи из мира литературы и искусства. «Яо Вэньюань — сын Яо Пэнцзы, — с готовностью выложил он своему другу. — Еще Лу Синь упоминал его отца как предателя. Яо Вэньюань работает редактором в каком-то литературном издании, пишет рецензии. Судя по тому, что выходит из-под его пера, палка по нем плачет!»
Тогда и Сюй Мэнци, и его другу Ван Фэнтуну казалось, что перед ними заурядная рецензия рядового человека на рядовую тему. Нечто такое же обыденное, как слова: «Какая прекрасная нынче погода!» Кто мог тогда подумать, что впоследствии, в разгар «великой культурной революции», лучший друг на основании этих слов обвинит Сюя в «злобной атаке» на «пролетарский штаб»?! Впрочем, Сюй Мэнци и после этого не оценил всей серьезности положения, если не считать внезапного открытия, что под черепушкой его лучшего друга — сплошное дерьмо, но не сделал никаких выводов. Спокойно и весомо, с сознанием собственной правоты защищал он себя на первом «митинге критики».
— Яо Вэньюань был тогда рядовым редактором, — сдержанно говорил Сюй, — никто не мог предположить, что он потом сделает такую карьеру, о какой атаке может быть речь?! А то, что Яо Пэнцзы ренегат, — это исторический факт, зачем мне врать?! Если не верите — могу взять произведения Лу Синя и прочитать вам вслух. Его отец — это его отец, а он — это он, и никакой тут атаки на «пролетарский штаб» не было…
Ему даже в голову не приходило, что своим самооправданием он совершает новую «злобную атаку»! Пять «митингов борьбы» последовали только за то, что он употребил это злосчастное выражение «сделал карьеру»! На следующих митингах ему вообще не дали слова, и, что он сказал раньше, присутствующие тоже не знали. Сообщалось просто: «Бешено нападал на партию, на социализм, развернул атаку на пролетарский штаб, но конкретное содержание его злобных речей повторять не стоит во избежание их распространения». Правда, арестовывать и судить Сюя все же не стали: после нескольких собраний «борьбы и критики» его старый друг наконец решил «милостиво протянуть ему свою высокую руку» и формулировка «антагонистические противоречия» была заменена на «противоречия внутри народа». Однако на нем остался ярлык «контрреволюционер», с поста заведующего отделом его «вычистили», партбилета он лишился и должен был трудиться под надзором органов уездного ревкома. А судьба Вана была иной: по прошествии некоторого времени, когда в уездном ревкоме проводилось совещание по кадровому вопросу, кто-то из заезжего начальства, рассуждая о критике ревизионизма и преодолении личного, привел в пример это «контрреволюционное дело», разоблаченное лучшим другом преступника. Тут все сошлось одно к одному: многообещающего человека заметила какая-то шишка из цзаофаней, посланная на собрание от провинциального ревкома, и сделался Мордастый Ван главой «революционного комитета» в уезде.
Пока Сюй Мэнци прорабатывали, его жене Ли Шуйжу и дочке Сюй Сяоцзин тоже доставалось со всех сторон. Немало дней провели они в «бригаде смертников», где их понуждали «во имя высшей справедливости порвать родственные отношения». В бригаде они, правда, заявили, что «отмежевываются» от мужа и отца, но никаких новых материалов на него не представили. Зато потом всякий раз, с рыданиями вспоминая об этих днях, домашние хором корили Сюя за его болтливый язык. Дружная, хорошая прежде семья ссорилась что ни день — она разбилась вдребезги и расплескалась, как тарелка с похлебкой.
— Ох, язык мой, язык! И зачем только понадобилось мне болтать?! — убивался Сюй Мэнци, сидя на краю кана. Но ведь если поразмыслить как следует, в чем была его вина? Неужели язык нам дается лишь для того, чтобы жрать?!
И пусть ныне, числясь «контрреволюционером», он должен был каждый день с метлой под мышкой являться в органы уездного ревкома чистить отхожие места и подметать двор, одевался Сюй по-прежнему аккуратно, брился чисто и держался на людях со строгим достоинством, как бы всем своим видом безмолвно заявляя: нет, я не виновен.
В это время из внутренней комнаты появилась его двадцатилетняя дочь Сюй Сяоцзин. Сяоцзин была бригадиром «целинной полеводческой бригады» в молодежном опорном пункте на селе. Незадолго перед, тем был объявлен набор студентов в вузы, и, согласно тогдашним правилам для зачисления, необходима была рекомендация бедняков и низших середняков. Учитывая ее личные качества, работу и культурный уровень, бедняки и низшие середняки вынесли постановление: «Рекомендовать представительницу молодежи Сюй Сяоцзин для поступления в вуз, поскольку мы в ней уверены на сто процентов». Вчера вечером дочь возвратилась из молодежного опорного пункта, намереваясь разузнать в уездной комиссии, прошла ли ее кандидатура. Когда-то единственная дочь Сюй Мэнци смотрела на отца с обожанием, словно ее папочка был величайшим гением в Поднебесной, но теперь, хотя она и не считала его контрреволюционером, прежних дочерних чувств уже не было. Выйдя из комнаты, она обернулась прямо к матери:
— Слушай, я все-таки схожу в уездную «комиссию по набору», только не знаю, пройду ли я?
— Но ведь рекомендовали же тебя бедняки и низшие середняки?! — отозвалась мать. — А в отношении проверки культурного уровня как ты сама чувствуешь?
— По логике вещей тут не было бы проблемы, боюсь вот только из-за папы…
Дочь не договорила, даже не глянув в сторону отца, словно он был чем-то вроде стоявшего рядом ведра или деревянной скамейки.
— По логике вещей, по логике вещей! Да что сейчас делается по логике вещей! — взорвалась при этих словах мать, уже не в силах сдерживать себя. — И кто тебя просил распространяться о своем замечательном «папочке»?!
Колючий взгляд жены нащупал Сюя. Сидя с опущенной головой на краю кана, он, даже не поднимая глаз, почувствовал ее взгляд на себе. Людям невыносимо, когда выставляют напоказ их убожество, и все тело его снова охватила дрожь. Он чувствовал, что не только в глазах жены стал как бы ниже ростом, но и перед дочерью должен смиренно склонить голову. «Ох-хо-хо, во всем сам виноват, кто тебя тогда тянул за язык? Сам попал в контрреволюционеры и жену с дочерью впутал…» С этими мыслями он поспешно поднялся, взял под мышку корзинку с едой и, прихватив метлу — свой каждодневный рабочий инструмент, поспешно бежал из дому.
Сюй Мэнци вышел в переулок, зажатый между двумя рядами одноэтажных домишек, и, попетляв немного, выбрался на главную улицу. Стояла поздняя осень, с желтых деревьев по сторонам улицы падали и взлетали под порывами холодного ветра пожухлые листья. Сюй Мэнци несколько раз глубоко вдохнул в себя холодный воздух, и от сердца у него немного отлегло. Это был час, когда по главной улице уездного городка в оба конца ее шагали рабочие и служащие, спешащие на работу. Едва Сюй Мэнци сделал несколько шагов, как сзади его нагнала конная повозка. На месте возницы, помахивая кнутом, сидел директор начальной школы «Заря» Чжоу Тун. На телеге громоздились парты, классные доски и сваленные в беспорядке письменные принадлежности. Поскольку Сюй Мэнци был раньше заведующим уездным отделом народного образования, он прекрасно знал Чжоу Туна. В те дни, когда на уездном «культурно-просветительном фронте» шла «критика этого контрреволюционера» Сюя, директор Чжоу в отличие от тех, кто старался пришить ему все новые и новые преступления, ограничился простым заявлением о своей позиции — Сюй Мэнци догадывался, что в тех обстоятельствах это было не так-то легко. В отсутствие посторонних директор не старался с ним «размежеваться» — напротив, он даже порой говорил что-нибудь в утешение: «Обойдется: выкинь все это из головы…» Сюй Мэнци казалось, что он из тех, у кого есть совесть.
Несколько раз хлестнув лошадь кнутом, директор Чжоу поравнялся с Сюй Мэнци. Сюй оглянулся, и взгляды их встретились.
— Что, переезжает школа? — спросил Сюй Мэнци.
— А что поделаешь? — откликнулся директор Чжоу. — Твой закадычный дружок, нынешний наш хозяин уезда, собирается отгрохать там себе особняк. Соседство школы будет его беспокоить. Дал нам неделю сроку, чтобы убрались. Говорят, людям из тех дворов, что граничат с новой его резиденцией, тоже придется переселиться — дескать, необходимость обеспечения работы на современном этапе «сложной классовой борьбы» этого требует…
— Да кто на него покусится, на этого Мордастого Вана! — не выдержал Сюй Мэнци.
— Видно, совесть у него нечиста…
Разговор этот потихоньку распалял Сюй Мэнци. Уж такой он был человек: стоило ему только столкнуться с несправедливостью, и он уже не в силах был уследить за своим языком.
— Ну и ну! Сегодня этот тип борется с теми, кто «идет по капиталистическому пути», завтра — с «привилегированным сословием» и «новыми аристократами», а сам-то он кто? По-моему, он-то и есть «новый аристократ»! Да разве тот, кто хоть на волосок остался верен массам, мог бы творить такие дела?! Думаешь, после того как подобные люди стали у власти в нашем уезде, дела когда-нибудь пойдут на лад? Черта с два!
Но везде есть уши! Заслышав шаги, Сюй Мэнци обернулся и увидел прямо у себя за спиной здоровенного верзилу. Это был некто Гао Пиньдэ по кличке Заморский Конь, в прошлом работник уездного отдела народного образования. Впоследствии он, пройдя вслед за Мордастым Ваном по телам всех, кто стоял рядом с ним, сменил Сюя на посту заведующего отделом народного образования.
— А ну стой, скотское отродье! — заорал новоиспеченный заведующий отделом, расслышав слова Сюй Мэнци. Надо заметить, что еще в период «критики и борьбы» Гао никогда не называл своего предшественника по имени и, считая даже полную формулу «скотские отродья и змеиные души» слишком для себя обременительной, полагал самым правильным именовать его просто «скотское отродье».
Сюй Мэнци остановился.
— Ты что здесь только что говорил? — Гао Пиньдэ, сверля Сюя гневным и непреклонным взглядом, надвинулся на него своей огромной тушей.
— Ничего я не говорил!
— То есть как это «ничего»?! — возмутился тот, передразнивая Сюя.
— Ну, если ты все слышал, зачем переспрашиваешь?
— Прекрасно, раз ты признаешься — все в порядке! А тебе, Чжоу, я заявляю, — обратился он к директору, — ты тут вместе с контрреволюционным элементом, направив острие атаки против красной власти, нападал на начальника Вана и должен нести политическую ответственность. Так что теперь смотри у меня!
Высказавшись таким образом, он преспокойно удалился.
Текущей задачей Сюй Мэнци, этого поднадзорного «контрреволюционного элемента», была ежедневная чистка отхожих мест учреждений уездного ревкома и уборка двора. Дворик ревкома был невелик, деревья на нем стояли тесно. Стоило подуть осеннему ветру — и летели наземь, кружась, желтые листья. Ширк, ширк, ширк — стал подметать он, размахивая метлой. Он подметал снова и снова, подметал там, где были листья и где их не было. Все тело его покрылось обильным потом, но он по-прежнему подметал, подметал, не останавливаясь, будто хотел вымести всю тоску из сердца. По дворику носились песок и пыль. Но он все мел и мел, а тоска между тем становилась все невыносимее. «Ну почему я никогда не могу попридержать свой язык?! Неужели недостаточно было тех слов, из-за которых меня объявили контрреволюционером? Так нет же, как увижу где несправедливость, снова распускаю язык. Поистине, свой характер не исправишь!»
Когда в пять часов пополудни Сюй Мэнци, зажав под мышкой метлу, пришел домой, его жена давно уже вернулась со смены и готовила ужин. Он поставил метлу в угол, ощущая странную сухость во рту. Прилег на кан, но жена даже внимания на это не обратила. Чувствуя, что все уже пошло прахом, он поднялся, сел, потом подошел к окну и, раскрыв рот, глянул в зеркало. Черно-бурый налет на языке стал еще гуще, во рту ощущался горьковато-терпкий привкус. Вынув из стаканчика с зубными щетками свой скребок, он собрался было почистить перед едой язык, когда вошла дочь.
— Ну как, узнала что-нибудь определенное насчет институтских дел? — заботливо спросила мать, перестав мыть овощи.
— Узнала, что я не прошла! Раз мой отец контрреволюционер, все кончено! — С этими словами она уронила голову на кан и зарыдала: — О-о-о!
— Это ты, ты! Ты во всем виноват! — снова устремила на него свой пронзительный взгляд жена. Сюй Мэнци, чувствуя угрызения совести, все же попробовал оправдаться:
— Ну, не будь тех двух слов, что я сделал плохого?
— Там два слова, здесь два слова — себе жизнь испортил, и вся семья из-за тебя мучается! — С этими словами жена тоже заплакала.
— О-о! — рыдала дочь.
— О-о! — рыдала жена.
Внезапно грохнула дверь, и в комнату ворвались трое, предводительствуемые Заморским Конем.
— Слушай, скотское отродье! — свирепо закричали они, окружив Сюя полукольцом и устремив на него гневные, неумолимые взгляды. — Мы, представляющие здесь Комитет трех поколений, доводим до твоего сведения следующее: признанный контрреволюционером, ты и не думаешь раскаиваться, продолжаешь вести наступление на красную власть и поливать грязью руководящих товарищей из уездного ревкома, совершаешь чудовищные преступления! Завтра в помещении кинотеатра состоится митинг критики и борьбы! В восемь часов вечера, минута в минуту, ты должен быть на месте! Если опоздаешь, вся ответственность ляжет на тебя!
Выпалив это, все трое, словно влекомые вихрем, вылетели за дверь.
Через какое-то время, едва жена пришла в себя от нового потрясения, до ее сознания дошло, что муж снова навлек на себя какую-то страшную беду, грозящую погубить всех.
— Так ты опять болтал, опять что-то ляпнул?! — закричала она, указывая на Сюя пальцем. В гневе жена схватила пучок только что вымытого сельдерея и швырнула ему в лицо. Сельдерей рассыпался по полу, оставив на лице Сюя капельки воды.
— Да что, что я такого сказал? — выкрикнул Сюй, возмущенный этим поступком жены. — Я сказал правду!
— Правду, правду! Если хочешь, чтоб уцелела твоя шкура, разжуй лучше свой язык и проглоти, да так, чтобы он дошел до самого желудка!
Слова жены возмутили Сюя еще сильнее. «Беда за бедой, десять тысяч бед — и все из-за моего языка, — думал он про себя. — Ну, раз от него все несчастья, я тоже не стану церемониться».
— Ладно, смотри, что я сейчас сделаю!.. — крикнул Сюй жене.
Левой рукой он оттянул язык, а правой схватил лежавшую на окне бритву… Миг — и изо рта алым потоком хлынула кровь. Жена и дочь сперва оцепенели от ужаса, потом бросились к нему:
— Зачем, зачем ты это сделал?!
— Папа, ой, папочка!
Вот какую историю рассказали мне в семьдесят втором году. Ее главное действующее лицо куда как незначительно по сравнению с теми, кого Линь Бяо и «банда четырех» замучили до смерти. В конце концов и поступил он вовсе не как герой. Но я не могу без содрогания вспоминать об этом случае: где демократия, где правосудие?!
Перевод И. Лисевича.
ПИСЬМО
Я выходил из горкома, ощущая свинцовую тяжесть в теле и на сердце. Большой горкомовский двор весь был залеплен циркулярами и дацзыбао, и все они изобличали и клеймили меня: «Долой Чжун Шупина и его антипартийные, антинародные, антисоциалистические замыслы!», «Пусть Чжун Шупин перед всеми раскроет свое черное, антипартийное сердце!», «Пусть Чжун Шупин предъявит свое черное антипартийное письмо в ЦК!». Сердце — оно у меня в груди, а черное оно или красное, так не узнаешь: надо вынуть и поглядеть. Что же касается черновика «черного письма в ЦК», он лежал у меня в кармане нательной рубахи; если меня вдруг задержат и обыщут — я пропал.
Это был черновик письма, которое я послал в ЦК еще в конце пятьдесят восьмого года. Называлось оно «Предложение об изменении порядка выборов». У письма была своя предыстория. Я в нашем городском комитете партии заместитель секретаря бюро. По многолетним наблюдениям и опыту я знал, что попадаются у нас в первичных организациях и парткомах руководители, которые ни по моральным своим качествам, ни по способностям не соответствуют занимаемым должностям и у масс авторитетом не пользуются. Однако на перевыборных собраниях их всегда переизбирают. Мне казалось, что такие порядки — особенно эта избирательная «обезличка» — не могут уже отражать подлинную волю членов партии и нужны какие-то перемены… Не знаю уж как, но тот факт, что я отправил письмо в ЦК, стал известен заведующему оргсектором нашего бюро Ли Ганьши. Он доложил об этом секретарю партбюро Чжэн Хуайчжуну. Из-за этого письма осенью пятьдесят девятого, когда развернулась борьба против «правого уклона», меня впервые подвергли критике. А в шестьдесят четвертом, во время «идеологической чистки» — ее горком провел перед тем, как отправить меня на прохождение «четырех чисток»[5] в полном объеме, — я был подвергнут критике уже вторично. Ярлыков, правда, на меня еще не навешивали, «колпаков» не напяливали и даже взыскания не наложили, но тон высказываний был резкий. Писать прямо в ЦК, через голову партбюро, горкома и провинциального комитета, — это «проявление неорганизованности и недисциплинированности»; ЦК мудрее нас в миллионы раз, и письмо мое есть не что иное, как «проявление мании величия»; я возомнил себя умнее самого ЦК, задумал «встать над партией и командовать партией»; а мое предложение изменить порядок выборов, и в частности отменить «обезличку», было названо «тщетной попыткой подменить пролетарскую демократию демократией буржуазной», «отрицанием партийного руководства» и «демагогией». Уступая давлению, я скрепя сердце выступил с «самокритикой» — до сих пор всякий раз краснею, вспоминая об этом. Но черновика я им не выдал.
«Четыре чистки» я прошел дважды: первый раз в деревне, второй — на заводе. Второй этап завершился как раз в мае шестьдесят шестого года. Наш рабочий отряд распустили — оставили только бригаду из нескольких человек, и меня в том числе.
А вскоре разразилась «великая культурная революция». Она началась как буря. Я тогда сразу подумал, что за мной все еще числится «письмо». И уж теперь, надо полагать, мне это так не пройдет! И точно, вскоре к нам в бригаду позвонили из горкома: мне предлагалось срочно вернуться к себе на работу «для участия в кампании».
Хоть и был я уже человек битый, но как пришел на работу, все-таки растерялся: большинство развешанных по всему двору дацзыбао были направлены лично против меня:
«Пусть Чжун Шупин полностью признается в своем преступлении против партии!»
«Пусть Чжун Шупин предъявит свое черное, антипартийное письмо!»
Вот оно! Снова взялись за меня!
Едва я вернулся, наш секретарь бюро Чжэн Хуайчжун сразу вызвал меня к себе для личной беседы. Держался он строго:
— Мы еще не совсем разобрались с вопросом о твоем письме в ЦК. Массы требуют, чтоб мы выяснили все до конца. А главное, мы не разобрались в его содержании: ведь ты до сих пор отказываешься представить черновик. Раньше ты говорил, что он у тебя не сохранился, но этого просто не может быть, так что на этот раз как хочешь, а представь. Иначе партия и массы так тебе этого не оставят. В бригаду свою можешь не возвращаться. Даю тебе время на размышление, а потом изволь принести нам свое письмо — чтобы массы могли его подвергнуть публичной критике!
— Но у меня действительно не осталось черновика.
Он строго сказал:
— Не спеши раньше времени захлопывать дверь — это тебе не поможет!
— Я должен вернуться на завод — сдать дела в бригаде и забрать вещи. Отпусти меня на три дня.
Чжэн подумал, махнул рукой и сказал:
— Ладно.
Черновик у меня был. Почему я не отдал его и не сжег — на то были свои причины. После беседы с Чжэном я отправился домой — жил я там же, в горкоме, на заднем дворе, — и, чувствуя, как колотится сердце, извлек свое письмо со дна сундука. Я еще подумал: «Все несчастья из-за тебя!» — и, не перечитывая — некогда было, — сунул его за пазуху, как бомбу, и поспешно вышел. Я очень боялся, что кто-нибудь задержит меня и обнаружит письмо. Только в поезде я слегка успокоился.
До завода, на котором я проходил «четыре чистки», всего какой-нибудь час езды. Сдавать мне практически было уже нечего. Я сразу понял: на этот раз мне не отвертеться — и поспешил поскорее закончить здесь все свои дела. Товарищи по бригаде знали, что у меня какие-то неприятности, и обходили меня стороной. Войдя к себе в комнату — я там жил один, — я первым делом запер дверь на задвижку и кинулся перечитывать объемистое, в десять тысяч знаков, письмо, которое написал восемь лет назад.
Бумага чуть пожелтела, но листы были сложены аккуратно, знаки выписаны старательно… Лучше бы я его не читал! Мне самому стало не по себе: если б еще там говорилось только про выборы! Содержание письма оказалось намного шире. Я писал, что с той поры, как развернулась борьба против правого уклона, начались нарушения внутрипартийной демократии, а некоторые методы времен большого скачка и нанесенный ими урон являются следствием нарушения принципа демократического централизма. Я поднимал там еще и такие важные вопросы, как образ мыслей и методы работы некоторых руководителей первичных организаций, и уж только затем переходил к необходимости изменить порядок выборов, считая их одним из средств контроля над деятельностью кадровых работников всех ступеней…
«Нет, нельзя отдавать! Ни в коем случае! — воскликнул я про себя. — Стоит отдать, и я — отпетый злодей. И уж тогда за меня так возьмутся… с женой разлучат, с детьми… ну и все такое прочее…» При одной этой мысли я затрепетал…
«Но ведь когда проходит такая большая кампания, — подумал я, — ЦК наверняка наводит порядок в своих архивах. И те письма и предложения, с которыми, по его мнению, надо разобраться, будет, вероятно, отсылать обратно, в соответствующие организации? Да и сама наша организация может послать кого-нибудь за оригиналом. Если это произойдет, будет куда хуже, чем если бы я сам, добровольно отдал черновик. Отдашь по доброй воле — отметят твое «послушание», а может, еще, глядишь, проявят снисхождение. А не отдашь, прослывешь злонамеренным упрямцем и только усугубишь свою „вину“».
«Все это вовсе не обязательно, — подумал я снова, — а может, письмо затерялось? Ведь только представить себе: в стране восемьсот миллионов человек и каждый день от них приходят тысячи, десятки тысяч писем — может, письмо мое руководству и в руки-то не попало, а лежит себе где-нибудь в архиве. Да и мыслимое ли дело — рассылать все эти письма в этакую прорву адресов? А вдруг там — как в бухгалтерии: какие-то бумажки представляют ценность лишь на время, а как решат, что они больше не нужны, их уничтожают — пачками, в установленные сроки. Ах, если бы так оно и было! Нет, лучше не отдавать!
Но ведь я коммунист! У коммуниста не может быть тайн от партии, он должен быть абсолютно искренним. Разве мой отказ отдать письмо не будет проявлением двуличия и низкой партийной сознательности?
Нет! Открыв свою душу Центральному Комитету, я этим уже доказал свою верность партии. А «партия», которую представляет теперь Чжэн Хуайчжун, — это не та партия, какую я ношу у себя в сердце, не этой партии давал я клятву, вступая в ее ряды. И если я теперь что-то от них скрываю — это еще не говорит о низкой моей сознательности…»
Тщательно все взвесив, я решил черновик не отдавать.
Когда душу раздирают противоречия и внутренняя борьба — это тяжко и больно. Но как только примешь решение — сразу становится легче. Я припрятал письмо и решил прогуляться — надо же хоть немного остудить разгоряченную голову! Запер дверь и, выйдя на улицу, бесцельно побрел по ней, миновал ивовую аллею… и сам не заметил, как очутился на окраине. Я поднял голову — и увидел перед собой огороды. Летние овощи уже собрали, осенние еще не посадили, и земля поросла нежной травкой. Я и вправду очень устал и, не противясь отяжелевшему телу, повалился на мягкую прохладную траву. Я глядел на небо — оно было такое синее, а где-то высоко-высоко неподвижно висели облака. И ни звука вокруг — тишина в целом мире! Вот так бы и лежать здесь и никогда не видеть лозунгов с призывом «хватать» такого-то и такого-то, не слышать криков «долой»! Как было бы чудесно! Но за что, за что они меня преследуют? За что клеймят?! Да все за то же письмо. Чтоб не лез с предложениями… И зачем только мне все это понадобилось? Вон другие все больше помалкивают, даже когда и есть что сказать, неприятных вещей словно бы и не замечают, за замасленный кувшин руками не хватаются — и что, разве им плохо? Знал бы раньше — не затевал всей этой истории! Сам во всем виноват, надо же быть таким простофилей!
Откуда-то донеслось звонкое щебетание — словно колокольчики зазвенели. Я поднял голову: на дерево опустилась стайка пичужек. «Ну что, птахи, — спросил я негромко, — как там у вас, в вашем мире, тоже небось «кампании» проводите? А стоит какой из вас чуть-чуть сфальшивить в своих руладах — вы тоже ее, бедную, песочите?» Пичуги в ответ только пискнули и дружно упорхнули. Тут я услыхал чей-то голос, понукавший скотину; неподалеку от меня крестьянин, погоняя пару волов, тянувших соху, принялся перепахивать огород. Старые волы, тяжело дыша, натянув до отказа постромки, еле передвигали ноги. Крестьянин нахлестывал их кнутом. Но они, словно не чувствуя боли, все так же едва тащились по борозде. Эх, стать бы и мне волом! И соху, и кнут, и тупое бездумье — все бы вытерпел. А у меня, как назло, мозги: хочешь не хочешь — думай. Думай — и молчи.
Волы приближались ко мне. Да и вечерело уже — пора возвращаться в реальный мир. Я нехотя встал и побрел на завод, в свою холостяцкую келью. Там я еще не раз перечел письмо. И окончательно решил не отдавать черновик; а если письмо все-таки перешлют к нам сверху — что ж, так тому и быть! Но тут возникла другая проблема: как поступить с черновиком? Ведь я давно объявил им, что его у меня нет. Проще всего было бы его сжечь, но вдруг заметят дым в моей комнате: еще вломится кто и застанет меня за уничтожением единственной улики! Нет, жечь нельзя. Изорвать в клочки и выбросить в унитаз? Этот способ вернее. Но, честно говоря, мне было жаль письма. Как-никак, оно — частица моего духовного опыта и, кто знает, может, станет когда-нибудь одним из документальных свидетельств нашей политической жизни и принесет какую-то пользу? Но если его сохранить, то возвращаться с ним на работу никак нельзя. Куда же его спрятать? Я обшарил взглядом стены: выдолбить в стене отверстие, засунуть туда письмо, потом все ровнехонько замазать, чтоб и следа не осталось, — так, конечно, будет надежно. Но, во-первых, где взять инструмент, да и потом, наследишь еще — штукатурка, известка… Нет, не годится! Я обследовал всю комнату. Засунуть письмо в вентиляционное отверстие? Нет, тоже не пойдет! Может, ему лежать там лет десять, а то и все двадцать; протечет потолок — оно и размокнет. И вдруг над самым окном, между рамой и стеной, я обнаружил щель. Узенькую, почти незаметную. Я отыскал полиэтиленовый пакет для продуктов, вложил в него письмо и осторожно засунул в щель. Потом вспомнил: на днях ремонтировали уборную, и там оставалось с полмешка цемента. Я отправился туда — будто помыть руки, — насыпал в конверт несколько щепоток, вернулся к себе и в чайной ложке смешал цемент с водой. Потом перочинным ножом нанес раствор на стену и замазал щель. Надежнее места не придумаешь: если даже разразится землетрясение — оно погребет письмо под развалинами, и никто ничего не обнаружит. Я оглядел щель, словно любуясь неким шедевром: на стене не было видно ни малейших следов. Я удовлетворенно усмехнулся. Так или иначе, я принял меры. Зато уж теперь упрусь намертво — нет черновика, и баста! А если спросят насчет содержания письма, буду отвечать, как прежде: предлагал, мол, отменить обезличку на выборах, — и ни слова больше. Поверят или не поверят — это уж их дело!
Последующий ход культурной революции опрокинул не только мои прогнозы, но и вообще все и всяческие предположения. Очень скоро бразды руководства кампанией выпали из рук партбюро — испытанный принцип нашего Чжэн Хуайчжуна «топи других, спасай себя» на этот раз ему не помог. Его самого объявили «каппутистом». Погромных дацзыбао о нем было вдвое больше, чем обо мне. Ли Ганьши — тот, что первым пронюхал когда-то о моем письме, — всегда был с Чжэн Хуайчжуном в наилучших отношениях. Теперь он повернул копье против Чжэна и обрушился на него со всей яростью. А в феврале шестьдесят седьмого сколотил вооруженный отряд под названием «Бунт до победного конца!», отобрал у партбюро всю власть и провозгласил себя вожаком. Письмо, само собой, продолжало висеть на мне как тяжкое «преступление против партии», но я уже не был в центре событий — главным нашим «каппутистом» стал теперь Чжэн Хуайчжун. Собственно говоря, этот самый Чжэн Хуайчжун уже лет семь или восемь меня прорабатывал, но в списке его преступлений, откорректированном самим Ли Ганьши, эти его действия квалифицировались отныне как «прикрытие», сам же Чжэн именовался «большим красным зонтом», который якобы меня «прикрывал». Пословица гласит: «Правда — она прямая, да только путь к ней извилист». Путь теперь выпрямили — но почему-то правда искривилась до неузнаваемости!
Как-то раз Ли Ганьши лично затребовал меня и Чжэн Хуайчжуна к себе на допрос — видать, подручные его уже вымотались. Он восседал в кресле-вертушке и встретил нас ехидной улыбкой:
— Та-ак — секретарь со своим замом, нечего сказать, хороша парочка! Ну вот, раньше вы друг друга покрывали, играли в показную критику, ломали перед всеми гнусную комедию, зато теперь как два жука на одной нитке, и уж на сей раз увильнуть не удастся! Ну а сейчас я желаю, чтоб вы надавали друг другу затрещин. А ну давай, Чжун Шупин, врежь ему первый! А ты, Чжэн Хуайчжун, подставляй морду!
Я в жизни никого не бил. Пусть этот Чжэн меня и прорабатывал — разве поднимется у меня рука на него? Я стоял, не зная, как быть. Молодчики Ли Ганьши на меня наседали, а глаза Чжэн Хуайчжуна извинялись и молили: «Ну, давай же, Шупин, бей…» Я нерешительно провел рукой по его голове. Ли Ганьши вскочил:
— Я научу тебя, как надо бить!
И принялся наотмашь хлестать меня по обеим щекам:
— Вот так! Так надо бить!
А месяца через два и город, и горком разбились на две большие фракции. Они захватывали и перезахватывали друг у друга власть, вступали в вооруженные схватки — а нас, прежнее начальство, просто отпихнули в сторону. По чистой случайности я продержался «на обочине» до самого шестьдесят девятого года. За это время, сидя дома, я основательно проштудировал Маркса, Ленина, председателя Мао, читал на улицах дацзыбао. А когда в шестьдесят девятом меня, уже официально, «освобождали» от должности, причиной явилось все то же «письмо». Кое-кто предлагал послать в ЦК за подлинником. Другие возражали: если ЦК не отослал письмо обратно, значит, дает тем самым понять, что вопрос этот не имеет большого значения. А поскольку тогда же предстояло выделить людей для отправки на длительный срок в сельскую производственную бригаду, то всем было уже не до меня и не нашлось охотников лишний раз канителиться с моим письмом. Однако комедию с «освобождением кадрового работника от должности» все же требовалось разыграть. Было устроено общее собрание, я выступил с «самокритикой», и все остались довольны. А затем весь наш кадровый состав: и тех, кто прорабатывал, и тех, кого прорабатывали, — всех подчистую замели в деревню: словчить и отвертеться не удалось уже никому.
После разгрома «четверки» почти все кадровые работники городского комитета партии и бюро горкома — кроме всем ненавистного Ли Ганьши и нескольких его головорезов, взятых под следствие, — вернулись обратно и были восстановлены в прежних должностях. Чжэн Хуайчжун опять стал секретарем бюро, а я — его заместителем. Когда разоблачали преступления Линь Бяо и «четверки», Чжэн говорил об этом со слезами в голосе — но о том, как сам травил других, не проронил ни слова, словно уж кто-кто, а он всегда и во всем был прав. Ну и я, разумеется, тоже не собирался сводить старые счеты: до конца все равно не сочтешься, да и какой смысл?
И кто мог подумать, что два с половиной года спустя после разгрома «четверки» у меня снова возникнут осложнения из-за письма!
На одном из совещаний по вопросам кадровой учебы был поднят вопрос о ранах и язвах, от которых столько лет страдала наша партия. Товарищи попросили меня выступить с заключительным словом. И было в моем выступлении такое место: «…я считаю, что величайшей язвой, от которой страдала в те годы наша партия, было нарушение внутрипартийной и социалистической демократии. Никто не решался говорить правду. Точь-в-точь как только что здесь рассказывали: на митингах врали, на собраниях болтали, разве что дома иной раз отводили душу. А демократия — это когда каждый может обнародовать свое мнение, смело критиковать разные отрицательные явления и обсуждать важные государственные вопросы, смело искать новые теоретические решения и исследовать новые проблемы. Государство и нация, у которых всеобщее состязание во лжи входит в обычай, стоят на краю гибели. Даже если все разом заговорят, небо от этого не рухнет и мы с вами не пропадем. А иначе ведь можно погубить себя, погубить партию и страну! И это не пустые слова — все подтвердилось на практике! Лишь когда каждый сможет смело высказывать правду и смело действовать — пусть даже иногда и ошибаясь, — страна будет развиваться и процветать… Чтоб уяснить эту простейшую истину, мы в свое время заплатили слишком высокую цену!»
А несколько дней спустя я поехал в командировку в Пекин. Апрельский Пекин утопал в весеннем тепле и цветах. И в политике наступила весна — все было проникнуто духом третьего пленума[6]. Покончив со служебными делами, я навестил столичную родню и друзей — порадовался вместе с ними, что удалось выжить в такое лихолетье, и досыта нагоревался…
Когда я был в гостях у одного из старых друзей, он радостно сообщил мне:
— Комиссия партийного контроля при ЦК только что издала проект документа — «О некоторых нормах внутрипартийной политической жизни». Почитай — до чего здорово! Там обобщен и положительный, и отрицательный опыт нашей внутрипартийной жизни за несколько десятилетий. Если будем соблюдать эти нормы — партию ждет большое будущее.
Он вынул документ из ящика стола и передал мне. Я внимательно прочел его дважды. Там было записано все, что мне хотелось сказать по поводу нашей внутрипартийной жизни за последние двадцать лет. И притом намного полнее, глубже, систематичнее, чем я все это себе представлял. Ну а насчет отмены обезлички на выборах давалась совершенно четкая установка. От радости я чуть не расплакался…
Вернувшись домой, я решил: пришло время и моему письму выйти на волю. Назавтра как раз было воскресенье. Я сел в поезд и отправился на завод, где проходил когда-то свои «четыре чистки». Дом, в котором я жил и спрятал свое письмо, стал общежитием для рабочих и служащих. Когда я отворил дверь в бывшую свою комнату, меня встретил пожилой рабочий. Не говоря ни слова, я бросил взгляд на стену над окном — туда, где было спрятано письмо. В этом самом месте новый хозяин пробил дыру для дымохода. По трубе стекал маслянистый нагар.
Я торопливо спросил:
— Товарищ, когда ты пробивал дыру в стене, не видал — там бумаги были спрятаны?
— А в чем дело? Ты сам-то кто?
Я подробно рассказал ему о себе и изложил содержание письма.
Тут старик бросился пожимать мне руку:
— Как же! Как же! Случилось-то все в семьдесят третьем — мы только-только сюда перебрались. В комнате было холодно, вот мы и решили поставить печку; стали пробивать дыру под дымоход и нашли твое письмо. Я его много раз перечитывал — там все здорово было написано. Если бы в самом деле выбирали так, как ты предлагаешь, разве мог бы Линь Бяо с «четверкой» бесчинствовать столько лет? Только ведь по тем временам такое письмо было штукой опасной. А уничтожить его тоже было жалко. Вот я и выдолбил рядом с дымоходом углубление, да в нем и припрятал.
С этими словами старик снял печную трубу, пошуровал кочергой в отверстии для дымохода и вытащил мое письмо.
Оно так и лежало в полиэтиленовом пакете целехонькое, только бумага еще больше пожелтела…
Не прошло после этого и нескольких дней, а уж откуда-то повеяло новым ветром — вдруг начались разговоры, будто с этим самым раскрепощением сознания и развитием демократии хватили, пожалуй, через край; кое-кто даже засомневался — уж не слишком ли вправо качнулся третий пленум; поговаривали, будто партия вновь собирается выступить против правого уклона, и т. д. и т. п. Некий товарищ сообщил мне, что о моем заключительном слове на недавнем совещании по кадровой учебе уже доложено секретарю Чжэну. А Чжэн, привыкший действовать по принципу «куда ветер дует», счел это выступление «демагогией», попыткой вырвать у партии демократические уступки, что равносильно попытке ослабить партийное руководство, и, наконец, «новым изданием» пресловутого моего письма пятьдесят восьмого года. Он был поражен: как это я, пережив культурную революцию, так и не изменил своих взглядов. И решил провести по этому случаю расширенное заседание бюро, дабы, рассмотрев этот новый вопрос вместе с прежним моим письмом, прийти мне «на помощь»…
А чтобы дать мне возможность «собраться с мыслями», он поручил моему приятелю Лу Вэю — заведующему сектором пропаганды — заблаговременно меня обо всем известить.
Как-то вечером Лу Вэй заглянул ко мне домой:
— Ты, говорят, недавно из Пекина?
— Да, уже неделя, как приехал, — ответил я.
— А не слыхал там, в Пекине, какие у них наверху, в ЦК, новые веяния?
Этот Лу Вэй — он из тех, кто имеет привычку перво-наперво выведать, нет ли каких «новых веяний». Я-то, собственно говоря, уже ознакомился в Пекине с проектом постановления «О некоторых нормах внутрипартийной политической жизни» — а ведь это и есть те самые «новые веяния». Однако документ еще не был разослан по организациям, и я ничего о нем не сказал.
Впрочем, все расспросы его оказались только вступлением. Он тут же перешел на другое:
— Слышал я, ты тут на одном совещании…
И пересказал мне в общих словах все, что я говорил в своем заключительном слове о нарушениях принципов демократического централизма.
— Было такое! — сказал я. — Ведь наши видные теоретики, Чжэн и ты, отсутствовали. Вот и заставили утку лезть на насест — попробуй не выступи!
— Товарищ Чжун! — строго сказал Лу Вэй. — Мы с тобой старые соратники, зачем же отмахиваться от добрых советов? Слова твои идут вразрез с необходимостью усилить в настоящий момент партийное руководство и укрепить социалистический строй. Секретарь Чжэн сказал, что собирается провести расширенное заседание бюро и рассмотреть этот вопрос вместе с давним твоим письмом — чтобы помочь тебе!
— Весьма признателен, — сказал я улыбаясь. — Под руководством нашего секретаря все только и делают, что помогают мне.
Два дня спустя бюро и вправду собралось на расширенное заседание. Чжэн Хуайчжун был необычно серьезен, одет подчеркнуто строго, редкие волосы тщательно прилизаны. Он произнес мобилизующую вступительную речь, где в довольно спокойном, впрочем, тоне указал на мои идейные ошибки, после чего предложил товарищам высказаться. Но в этот момент из горкомовской канцелярии принесли пакет с документом, присланным из ЦК. Чжэн вскрыл пакет и взглянул на название — это и был проект постановления «О некоторых нормах внутрипартийной политической жизни». Всем не терпелось ознакомиться с содержанием документа — и присутствующие потребовали тут же огласить его. Чжэн забыл захватить очки, да и дикция у него была неважная, и передал документ Лу Вэю, заведующему сектором пропаганды. Тот зачитал его одним духом. Во время чтения я заметил, как постепенно, почти неуловимо менялось выражение лиц Чжэна и кое-кого из постоянно «помогавших» мне активистов… Когда чтение закончилось, в зале наступила тишина.
Пауза явно затягивалась, но все продолжали молчать. О чем они думали, выслушав этот документ, не знаю — а жаль, очень жаль! Ведь жизнь опять посмеялась над ними.
Пришлось выступить мне.
— Товарищ Чжэн Хуайчжун и вы, товарищи, собиравшиеся взять слово! Вы ведь опять решили меня «проработать» — не так ли?.. За то, что я, коммунист, исполняя свой партийный долг, написал письмо в ЦК, вы прорабатываете меня уже двадцать лет! Да будь моя точка зрения и ошибочной, двадцать лет шельмовать меня за это — не слишком ли? А к каким страшным последствиям и для партии, и для всего нашего общества привела эта ваша привычка мыслить и действовать по шаблону! Пострадал я, вы сами, пострадало государство — неужто вам все еще мало? Должен признать: когда вы все меня критиковали, я не отстаивал свою точку зрения. И теперь я, как коммунист, стыжусь этого. Вот и сегодня — уж не знаю, каким ветром на вас подуло, только вы опять собрались меня прорабатывать. Да неужели вы хотите снова вернуться к тем временам, когда мы с Чжэном обменивались пощечинами?! Вас только что ознакомили с документом ЦК — что в нем сказано? Вы неоднократно домогались, чтоб я представил вам черновик своего письма. Я не отдал вам его — за это мне теперь тоже стыдно. Но сегодня я его принес. Все, о чем я писал там, все это есть в документе ЦК, да и о чем не писал — об этом тоже сказано в документе, причем основательно и подробно. Что ж, прошу вас, «прорабатывайте» меня — но только в соответствии с этим документом! А теперь, как заместитель секретаря бюро, предлагаю прервать заседание — чтобы дать вам время подготовиться к выступлениям. А мне попрошу дать отпуск — хочу наведаться в больницу, проверить здоровье, посмотреть, все ли у меня еще в порядке с мозгами и прочим…
Закончив свое выступление, я положил письмо на стол, ожидая, что скажет Чжэн. Вид у него был жалкий. Он поморгал и, заикаясь, произнес:
— Зна… значит… перерыв!
Я встал и вышел из зала.
Перевод В. Сухорукова.
ЛИ ЧЖУНЬ
МАНГО
Сказано ведь: «Чай — от безделья, вино — с тоски, а табак — от сумятицы в голове». Так вот, к осени шестьдесят восьмого старый Пань Чаоэнь выкуривал уже более двух пачек сигарет в день.
Как обычно поднявшись с постели в пять часов утра, он оделся и первым делом нащупал сигарету. Клубящиеся облачка дыма одно за другим потянулись за окно и, провожаемые взглядом Паня, исчезали в белесой утренней мгле. Пань сидел в глубокой задумчивости, неотрывно глядя в окно. С дерева сорвался лист, завертелся в воздухе и, описывая круги, плавно опустился на землю. Быть может, именно этот опавший лист пробудил у Паня тоску по родным местам. Ведь недаром говорят: «Листья всегда падают под то дерево, на котором выросли». Как знать, не лучше ли вернуться домой, в свою деревню? Да только там совсем есть нечего, каждый месяц будешь голову ломать: где бы купить те самые 42 цзиня зерна, что в городе выдают по карточкам на семью… Даже листья и те не сразу падают на землю — вьются, описывают круги, словно не в силах расстаться с воздухом. Вот и Пань Чаоэнь не мог уехать из города, обуреваемый сомнениями и колебаниями.
Оставив недокуренной третью сигарету, он погасил ее. Старый Пань пристрастился курить сигареты одну за другой и мог, не глядя, прикурить новую от оставшегося бычка. На никотин ему было ровным счетом наплевать. Но иногда он выкуривал лишь полсигареты, и вовсе не из экономии. Просто это соответствовало перепадам в его нынешнем жизненном ритме.
Накурившись, Пань вооружился бамбуковой метлой и отправился подметать улицу. Пань Чаоэнь не принадлежал ни к «черной банде», ни к «каппутистам». Он был старым заводским рабочим из механического цеха. Просто за десять с лишним лет — с той поры как перебрался он в это общежитие — у него вошло в привычку подметать дорогу перед воротами здания. Сметает, бывало, опавшие листья, тряпье всякое и чувствует радость и удовлетворение, когда взору открывается очищенное от мусора цементное покрытие дороги — ни дать ни взять белая яшма. Неспроста говорят: «В бедном доме чаще подметают, бедняк то и дело причесывается». За долгие годы подметать по утрам стало для Паня просто потребностью. Только вот с нынешней весны возникло небольшое затруднение. Дело в том, что заводские цзаофани, то бишь «бунтари», в своем уведомлении строго-настрого наказали: двор, где проживают семейные, и двор общежития убирают три «каппутиста» — директор завода и два его заместителя. Но старый Пань пренебрег этим «строжайшим приказом» — как прежде вооружившись своей большущей метлой, занимался уборкой бок о бок с «каппутистами ».
— Мастер Пань, — подмигивая, шепотом уговаривал его толстяк Фань, заместитель директора завода. — Ты уж больше здесь не подметай, а то ведь нам попадет!
— Так я же не за вас подметаю! — холодно ответил ему Пань.
Вскоре об этом стало известно жене старика, и это привело ее в страшнейший гнев. Постучав назидательно пальцем мужу по лбу, тетушка Пань начала:
— Старый ты чурбан — такого и сотней топоров не перерубишь! Ведь это только «черную банду» в наказание заставляют подметать улицы. А ты чего суешься?
— Мне дела нет — черная банда или не черная! Каждый должен подметать свой двор. Уж ты-то хоть не лезь!
— И чему ты там у себя на заводе только учишься, — не унималась тетушка Пань. — Где твоя классовая позиция? Почему не отмежевался от наших врагов? Ведь сказано: «Нет ничего вкуснее пельменей, нет ничего приятнее, чем полежать поутру». Ты что, не можешь немного поваляться в постели?..
— Да не привык я залеживаться по утрам!
— Мокрая курица! Ни на что-то ты не годишься! Небось забыл указание: «Бороться против всего, что отстаивают враги»? Раз они, идут подметать улицу — так ты не смей. Мы же из крестьян-бедняков, а ты… И так уж соседи говорят: он у тебя как петух, ему по утрам не спится. А что скажут те, кто тебя не знает? Да просто сочтут «сволочью каппутистом» самого что ни на есть низшего сорта! Тебе что, невтерпеж прослыть «каппутистом»? Они вон какие жирные да гладкие, а ты тощий, как шутиха обгорелая!
— Не понимаю я, что ты мелешь! — буркнул Пань Чаоэнь и ушел курить в заднюю комнату.
Когда он говорил «не понимаю», это вовсе не означало, что он сердится. Образность речи тетушки Пань стала притчей во языцех среди соседей. Стоило ей, например, увидеть на чьем-нибудь ребенке курточку не по росту, она тут же восклицала: «Ишь — висит как на дереве!» Или заметит, бывало, на ком-нибудь шапку набекрень, тотчас отчитывает: «Ты что, тарелку на голову напялил?» Жаль, не довелось тетушке Пань хоть малость получиться в детстве, не то бы ей впору было состязаться в острословии с самим Лао Шэ или Чжао Шули[7].
Обычно люди, наделенные даром красноречия, подвержены всяким новым веяниям. А тут во времена «великой культурной революции» разом появилось столько всяких расхожих слов да выражений, что тетушка Пань едва поспевала за модой и прямо с ног сбилась. Пришлось ей все схватывать с лету — без разбору, не вникая в суть. В одну кучу валилось что ни попало — и исторические события и личности, и мифологические герои вместе с церемонными благопожеланиями долголетия, счастья и удачи. И сыпалось все это из тетушки Пань как из рога изобилия. Дошло до того, что собственный ее старик в конце концов перестал понимать ее.
У тетушки Пань только и был этот единственный недостаток, а так она ничего худого в мыслях не держала. И вообще была сама добродетель: сердечна и добра, усердна и бережлива. А уж о дружелюбии ее и говорить нечего, да и долги всегда возвращала в срок. Ее ли вина, что «великая культурная революция» нагрянула так стремительно, каково же было тетушке Пань воспринимать все новые факты и явления с первого слова — как это умеют хунвэйбины, красные охранники. Правда, выступая на уличных собраниях воспоминаний о горьком и тяжелом прошлом, она блистала — пусть и не цвели в ее рассказах «сто цветов», зато уж сто слов цвели самым пышным цветом. Вот только со второй частью лозунга — «на основе старого создавать новое» — у нее явно ничего не клеилось.
Как-то вечером, перед сном, тетушка Пань задумалась. Думала она о своем старике. Что за упрямая башка! Коль упрется, — его и полудюжиной волов с места не сдвинешь. А уж задумает что — тут хоть самого Цинь Шихуанди[8] воскреси, весь свет вверх тормашками переверни, хоть помри и восстань из гроба или, убеждая его, губы изотри напрочь — все равно не думай, не надейся его переубедить.
Тетушка Пань протяжно зевнула…
И тут вдруг явился внук ее Сяо Гэнь — за спиной ранец, а губы надуты — ну прямо пирожок с овощами.
— Бабушка, — заливаясь слезами, жалуется он. — Наши активисты хотят отобрать у меня нарукавную повязку хунвэйбина…
— Это по какому же праву?
— Они говорят, мол, дедушка — «черный бандит».
— Ишь, брехуны, куда хватили! Да наша семья из крестьян-бедняков, а уж я, твоя бабушка…
— Тогда почему дедушка подметает улицу?
— Ах, вот оно что! — кричит тетушка Пань.
Со стуком падает на пол тростниковый веер… И она просыпается — оказывается, все это было во сне.
Такой уж человек тетушка Пань — мысль у нее живая и образная. И привидевшийся ей сон тут же вызвал у нее прилив вдохновения. Сняв потихоньку с курточки внука повязку хунвэйбина, она натянула ее на рукав спецовки старого Пань Чаоэня, а чтобы повязка не сползла, прихватила ее несколькими стежками.
Хлопоты тетушки Пань возымели прямо-таки потрясающее действие.
На следующее утро Пань Чаоэнь, как обычно, оделся, выкурил свои две сигареты и, вооружившись метлой, вышел из дому. Ну и всполошились же трое «каппутистов», прежде стоявших у власти! Растерянно переглядываясь, они никак не могли сообразить, с какой это стати Пань Чаоэнь вышел подметать улицу с нарукавной повязкой хунвэйбина. Наконец заместитель директора Фань — он был посмекалистей — зашептал, обращаясь к товарищам по несчастью:
— Видали? Придется, значит, теперь лучше подметать. Да так, чтобы не пропустить ни единого куриного перышка. Не иначе революционные массы решили направить к нам старого Паня для контроля.
В то утро они подметали улицу с особым усердием, стараясь ни на шаг не отставать от Паня. А когда сходились вместе, промеж четырьмя их метлами начиналось что-то вроде потасовки — ни дать ни взять сражение между героями-воинами, как это бывает в пекинской музыкальной драме. Пыль вздымалась столбом, опавшие листья летели в разные стороны.
— Эй! — начал вдруг толстяк Фань, заместитель директора. — А что, если каждому выделить участок для уборки? Убирай себе свой и не носись с места на место, как на пожаре. Ведь все мы уже не первой молодости… — И тут же быстро добавил: — Мастер Пань, ты больше не подметай. Мы поделим всю территорию на три участка, а твое дело — только осуществлять контроль. Это вовсе не страшно, что революционные массы заставляют нас перевоспитываться в труде. Все это можно понять!
— Послушайте, Фань, — возразил Пань Чаоэнь, — с чего вы взяли… Я вовсе не собираюсь следить за тем, как вы подметаете.
— Ах так! — поспешил поправиться толстяк Фань. — Ну, тогда ты просто руководи нами.
Поняв, что с ними не столкуешься — так и будут талдычить свое, — Пань Чаоэнь вскинул метлу на плечо и отправился восвояси. А «каппутисты» посовещались между собой и решили на всякий случай разделить территорию. Они разбили дорогу на три участка — по одному на брата, а чтоб обозначить границы, положили два камня.
Но в тот же самый вечер заместитель директора Фань получил уведомление от Главного объединенного комитета завода. Поскольку выяснилось, что его происхождение не вызывает сомнений, а к массам он относится хорошо и в труде активен, его ввели в узкий состав нового руководства. Толстяк Фань расчувствовался и проплакал полночи — даже нос у него побагровел. Собираясь завтра отправиться на завод, он все думал и гадал, во что бы ему одеться. И в конце концов напялил на себя спецовку старшего сына. Но живот у него был большой, а одежонка узковата — того и гляди, поползет по швам. Пришлось до утра переставлять пуговицы, но и после этого застегнулся он с превеликим трудом. На другой день, поднявшись ни свет ни заря, он отыскал новый «Цитатник»[9] и сунул его в карман спецовки. Потом вынес свою метлу, поставил ее у стены за воротами и, ведя за руль велосипед, вышел из дому.
В этот самый момент появился и Пань Чаоэнь, собравшийся по своему обыкновению подметать улицу. Увидев, как вырядился заместитель директора Фань, старик не на шутку перепугался. Фань же осклабился — непонятно было, то ли он улыбается, то ли извиняется, а может, просто огорчен предстоящей разлукой. Разобраться в этом, да еще издали, было довольно сложно.
Нет, не зря говорят: «Едва подопрешь старое дерево, глядь, уж и стена покосилась». И такое случается сплошь и рядом. После восстановления Фаня в должности заместителя директора завода выделенный ему для уборки участок дороги взялся подметать старый Пань. Когда об этом прослышали на заводе, руководители массовых организаций пришли в сильное раздражение. Этот выживший из ума старый прохвост, решили они, нарочно смешивает два типа противоречий. Но тут сказал свое слово замдиректора Фань. По его мнению, такая мелочь не стоила и выеденного яйца. Однако, перейдя к вопросу о создании на заводе рабочей агитбригады — органа по оказанию поддержки широким массам левых, — он заметил, что, хотя Пань Чаоэнь и старый рабочий, ни по происхождению своему, ни по трудовым показателям не вызывающий никаких сомнений, привлекать его к участию в агитбригаде не следует: конечно же, рабочий класс должен руководить всем, но старику явно недостает способностей и хватки руководителя.
Отсутствие Пань Чаоэня в составе агитбригады вызвало среди масс в механическом цехе оживленные пересуды. Одни полагали, что ему, до дна испившему чашу горя и страданий в старом обществе и ненавидящему его лютой ненавистью, самое место в рабочей агитбригаде: кто, как не он, мог бы научить уму-разуму имеющихся на предприятии типов из «девятой категории поганцев»[10] на специальных собраниях воспоминаний о тяжелом прошлом! Другие считали: если уж он не в состоянии запомнить ни одной цитаты, значит, дела рабочей агитбригады ему явно не по плечу. Старый Пань никак не реагировал на все эти разговоры — словно бы оглох и ни о чем происходящем вокруг не имел ни малейшего представления. Он, как и прежде, вставал в пять утра, курил, подметал улицу, а к восьми являлся на завод, прихватив с собой алюминиевую коробочку с едой. И хотя механический цех давно уже не работал, Пань ежедневно обходил его, молча выкуривал две сигареты, стоя перед своим станком, и подметал пол. Как-то раз его ученик Сяо Сюй спросил:
— Послушай, мастер, а почему ты не в агитбригаде? По-моему, ты должен войти в нее — и по происхождению своему, и по тому, как ты вообще себя зарекомендовал.
— А зачем? — вздохнул Пань Чаоэнь.
— Ну как зачем, — не унимался Сюй. — Вон старина Вэй вернулся вчера оттуда с зубной пастой. Он говорит — там здорово! Кого только не увидишь: и кадровые работники — из тех, что раньше разъезжали на легковушках да получали по двести юаней в месяц, и всякие там профессора из университетов — авторитеты вонючие! В общем, навалом разного сброда. А уж послушные до чего — сил нет. Что ни прикажешь, все исполнят в точности и беспрекословно. Чтобы ослушаться — ни-ни. Заорешь на них, облаешь — прямо дрожат со страху, а затопаешь ногами — тут же бегут в сортир. Да, не говори — вот где можно по-настоящему показать свою силу и власть!
Старый Пань, словно онемев, уставился в небо и не проронил ни звука.
— Хотя, — продолжал Сяо Сюй, — как вступишь в агитбригаду, наверняка столкнешься с одной закавыкой. Вэй, он уже два дня туда ходит. У них там на столах горами навалены письменные саморазоблачения, всякие клятвы да торжественные обязательства. А некоторых иероглифов старина Вэй не знает. Глянь-ка, он спрашивал у меня, как это читается. — И Сяо Сюй протянул руку, чтобы мастер Пань мог разглядеть написанный у него на ладони иероглиф «искупление».
…Пань Чаоэнь знай себе помалкивал — он размышлял над сценами, полными жестокости и насилия, которые живописал Сяо Сюй.
А тот, откашлявшись и сплюнув, продолжал:
— Ничего, мастер. Вот будет вторая рабочая агитбригада — давай вместе и вступим в нее. Я уж берусь на собраниях зачитывать вслух цитаты, а тебе останется только рассказывать о пережитых страданиях.
— Да нет, не справиться мне.
— Э-э, да ты никак боишься, взойдя на трибуну, лишиться дара речи?
— Не в том дело. Случалось мне и с трибуны выступать. Но тут, прежде чем заговоришь, надо упасть ничком на стол и зарыдать. А я отродясь не плакал — такой уж я человек.
Сяо Сюй так и покатился со смеху.
— Ой-ой! — произнес он наконец. — Вот уж не думал, что ты загнешь такое. Да-а, до чего дошел человек…
Но тут, в самый разгар их беседы, в громкоговорителях заводского радиовещания зазвучал твердый и звонкий голос женщины-диктора:
— Экстренное сообщение! Экстренное сообщение! Высочайшие указания: «Себе — ничего, народу — все!», «Древнее — на службу современности, иноземное — на службу Китаю». Всем товарищам революционным рабочим и служащим завода собраться в девять часов утра перед Стеной большой критики у заводских ворот для встречи манго, присланного из Пекина рабочему классу нашего города великим вождем, председателем Мао. Обратить внимание на следующее: во-первых, у каждого должна быть бесценная красная книжечка и на груди — значок с изображением кормчего; во-вторых, все должны быть опрятно одеты, брать с собой сумки и рюкзаки запрещается; в-третьих, необходимо повысить бдительность, всячески предотвращать подрывную деятельность классового врага; лица, находящиеся под надзором диктатуры, должны быть переведены из отделов и цехов и немедленно сосредоточены в помещении малой столовой…
Не успел замолкнуть голос диктора, как у здания заводоуправления загремели гонги и барабаны. Пань Чаоэнь по опыту хорошо знал: заверениям о том, что пропаганда «высочайших указаний» надолго не затянется, верить нельзя. Стоит оказаться на улице — и наверняка протолчешься там полдня, если не больше. Поэтому на всякий случай следовало прихватить чего-нибудь съестного, Пань глянул на часы — до назначенного времени сбора оставалось полчаса. И он побежал в коммерческую столовую напротив завода, надеясь купить там пару лепешек.
В столовой продавец с веником в руках подгонял посетителей:
— Эй, поторапливайтесь! Ешьте побыстрей! Сегодня мы должны пораньше отрапортовать о выполнении плана!
Пань протянул деньги:
— Мне бы две лепешки…
— Нельзя! Мы должны поскорее отрапортовать о выполнении плана!
— Да у меня тоже срочное дело!..
— Какое там еще срочное дело! Пойми ты, сейчас мы все вместе рапортуем о досрочном выполнении плана! — Продавец вытащил «Цитатник».
Старый Пань быстро повернулся и, притворяясь, будто ничего не слышит, сразу ушел. За спиной у него раздавался лишь звон посуды. Следом за ним из столовой с недовольными лицами опрометью выскакивали посетители.
«Ишь ведь чем пользуются, чтобы разогнать людей!» — пробурчал Пань себе под нос, но вслух ничего не сказал.
Проболтавшись без толку и не купив лепешек, Пань Чаоэнь подумал: «Этак, пожалуй, и без обеда останешься!» И тут же, без промедления, отправился домой. Всю дорогу он бежал трусцой, а когда добрался наконец до дому, взору его предстала такая картина: мамаша Ма Фэнсянь, она жила в восточном дворе, окликнула тетушку Пань. Ма давно уже перевалило за шестьдесят. Тем не менее обе — и она, и тетушка Пань — выступали в уличной концертной бригаде, состоявшей поголовно из одних старух. Тетушка Ма нарядилась в кофту и брюки китайского покроя из гладкой черной бумазеи, на голове у нее красовался большой красный цветок, а пояс оттягивала блестящая лента красного шелка.
— Сестрица Пань, — кричала матушка Ма, — да поскорей же! Сегодня третьей роте нашей концертной бригады приказано обуться в форменные ботинки Народно-освободительной армии!
Кричала она так громко не без умысла: из окон домов высунулось множество голов и матушка Ма не сомневалась — в этот миг все глаза обращены на нее.
Но Пань Чаоэнь старался на нее не смотреть. Согнувшись и наклонив голову, он бочком прошмыгнул мимо. Он не решился взглянуть на ее обильно напудренное лицо и увидел только ногу в армейском ботинке — старуха притопывала ею в такт известной цитате «Приняв решение…», которую мурлыкала себе под нос.
Пань Чаоэнь вошел в комнату; тетушка Пань, склонившись над сундуком, что-то искала. Заслышав шаги и тяжелое дыхание, она поняла, что вернулся старик, и, не оборачиваясь, спросила:
— Ты чего? Разве завод не идет встречать манго?
— Хочу взять пару пампушек! — бросил Пань Чаоэнь, не взглянув на жену, и отправился прямо на кухню. Иметь при себе сумки, как было объявлено по заводскому радио, строго-настрого запрещалось. Поэтому он завернул пампушки в чистую тряпицу и засунул сверток за поясной ремень.
— У вещей будто ноги повырастали! Когда нужно — как назло нигде ничего не найдешь! — ворчала тетушка Пань, все больше выходя из себя.
— А что ты ищешь? — спросил старик.
— Да армейские ботинки Сяо Гэня! Вроде сегодня их примеряла, и, надо же, как сквозь землю провалились!
— Так они же тебе не впору! Как натянешь — сразу лопнут…
Не дав мужу договорить до конца, тетушка Пань метнулась к нему стрелой и едва не зажала ему руками рот. Кивнув на стоящую за воротами Ма Фэнсянь, она постучала ему по лбу пальцем, словно говоря: «Да знаешь, что будет, если тебя услышит кто вроде матушки Ма!»
Тут только Пань Чаоэнь разглядел густо напудренное лицо жены и намалеванные на ее щеках румянами большие круги — ни дать ни взять крышки от банок. От возбуждения она вспотела, и краска с бровей ручьями текла по ее лицу.
— К чему все это! — с отвращением воскликнул старик. Он направился в заднюю комнату, вынес оттуда пару армейских ботинок и положил перед женой — Сяо Гэнь еще вчера вымыл их и поставил за окно сушиться.
Выйдя за ворота, Пань Чаоэнь услышал, как кто-то окликнул его тоненьким голоском:
— Мастер Пань!
Он оглянулся: это была Чжунсю — жена «каппутиста», директора завода У. Робея, она протянула ему сумку.
— Мастер Пань, ведь вы все идете на демонстрацию. Мой-то небось не вернется к обеду. Не сочти за труд, передай ему пару пампушек!
Пань Чаоэнь согласно кивнул.
— Только ты их вытащи из сумки — сумку брать не положено, — сказал он. И тут же заметил: матушка Ма Фэнсянь, известная своей бдительностью по отношению к классовому врагу, глаз не спускает с Чжунсю.
Не обращая на нее внимания, Пань взял у Чжунсю пампушки и собрался идти, но тут из дома вышла его благоверная.
— Ой, не могу! — засмеялась Ма Фэнсянь. — Ну и вырядилась же ты, бабушка Сяо Гэня, — ни дать ни взять старая модница!
— Так ведь манго идем встречать, его же сам председатель Мао… — начала было тетушка Пань. Но тут Ма Фэнсянь стала подавать ей знаки, гримасничая и кивая в сторону Чжунсю. И тетушка Пань сразу закрыла рот, тоже скорчив гримасу: мол, все ясно без слов.
Пань торопливо зашагал на завод, успев еще кое-что услышать из их разговора.
— …во всяком случае, нужно повышать бдительность. Классовым врагам не видать манго как своих ушей. Они, само собой, замышляют диверсии!
— Сестрица Ма, я никогда не видела манго. Какое оно из себя? — допытывалась тетушка Пань.
— Говорят, очень вкусное — слаще всех фруктов! Да разве стали бы наши зарубежные друзья преподносить его в дар, не будь оно таким сладким!..
Подходя к заводским воротам, Пань увидел, что все уже в сборе и в руке у каждого бумажный флажок. Первым делом он забежал в малую столовую — передать пампушки директору У. Еще на пороге он услыхал, как Сунь, начальник охраны, наставляет «вредные элементы и прочую нечисть».
Этот Сунь только-только выбился в кадровые работники и потому исполнял свои обязанности с особым рвением.
— Эй вы, такие-разэтакие!.. А ну, встать всем мордами к стенке! — скомандовал он «черной банде». — Сказано вам: революционные массы вышли сегодня на улицу по важному делу. И чтобы мне никакой тут брехни, никаких безобразий!..
Здесь-то в столовую и вошел Пань Чаоэнь.
— Начальник отдела, — обратился он к Суню. — Тут старине У из дому пампушки прислали…
— Клади сюда! — буркнул Сунь и проворчал еще что-то, чего старый Пань не расслышал.
Раздался треск хлопушек, встречающие манго выстроились в колонны у заводских ворот. Пань Чаоэнь хотел было протиснуться в строй, но его окликнул один из предводителей цзаофаней.
— Флажок, флажок возьми! — закричал он, указывая на цветочную клумбу, рядом с которой лежали флажки.
Пань опрометью бросился туда, схватил бумажный флажок и встал в строй.
На улицах гремели гонги и барабаны, дружно трещали хлопушки, колонны встречающих манго одна за другой выплескивались из улиц и переулков и непрерывным потоком устремлялись к вокзалу. Примерно на расстоянии одного ли от железнодорожной станции движение колонн застопорилось, привокзальная площадь превратилась в море из десятков тысяч притиснутых одна к другой голов, в лес вздымающихся знамен и флагов.
Глядя на колонны рабочих, учащихся и кадровых работников, Пань вместе с радостным возбуждением испытывал и некоторую растерянность. К чувству восторга примешивалась грусть. Он подумал: «И почему это манго ценится так дорого — будто оно не на дереве выросло и созрело? Или, может, с неба упало?..» Мысль о небесах заставила старого Паня вспомнить про Пекин. «Да, так и есть! Ведь манго-то прислали из Пекина!» — подумалось ему… И он вспомнил старый рассказ своего отца: в каком-то давнем году народ собрался встретить Сына Неба, императора, который, как известно, отбыл из Пекина в поездку по стране. Всюду расставили курильницы с благовонными свечами, столы с дарами и яствами. Три дня и три ночи простоял народ на коленях, выстроившись по обочинам дороги. И лишь потом только стало известно, что государь, сопровождая вдовствующую императрицу, совершил прогулку в Лунмэнь, а оттуда проследовал прямо в Сиань, минуя дорогу, вдоль которой тысячи простолюдинов напрасно ждали его, захлебываясь от слез и рыданий. Сколько тогда пришлось елозить на брюхе, бить земные поклоны, даже кровь проливать, обращаясь с мольбами к губернатору, окружному начальнику да к доброй полусотне чиновников рангом пониже, пока наконец монарх и вдовствующая императрица не соизволили милостиво разрешить одному из евнухов проехаться по этой дороге с желтым императорским одеянием, которое несли на бамбуковой палке. Так его величество проявил «безграничную монаршью милость» к простому люду. Рассказывали, будто повсюду, где проносили желтый наряд государя, простолюдины, обливаясь горючими слезами, истошно вопили: «Десять тысяч лет!» А одного пастуха из деревни — тот не склонился в поклоне и украдкой взглянул на желтое одеяние — стражник огрел палкой, да так, что пробил ему голову…
Тут из установленных на улице зычных громкоговорителей раздался величавый, строгий голос:
— Внимание, товарищи, внимание! Торжественная церемония встречи манго объявляется открытой!..
С новой силой затрещали хлопушки, загремели гонги и барабаны. Затем На миг воцарилась тишина — и военный оркестр заиграл песню «Алеет восток»[11].
Старый Пань находился далеко от вокзала и при всем желании не мог увидеть, как манго сняли с поезда. Он лишь по радио мог выслушать сначала речь руководителя городского ревкома, затем — представителя рабочей агитбригады. Но второе выступление явно не получилось столь же возвышенным и взволнованным, как речь руководителя ревкома. Представитель рабочей агитбригады ограничился тем, что зачитал несколько изречений и так при этом растрогался, что зарыдал в голос. А чуть погодя прокричал во всю мочь: «Десять тысяч лет! Десять тысяч раз по десять тысяч лет!»
На какой-то миг перед подъездом вокзала произошла заминка. Но вот красные знамена выстроились полукругом, пришли в движение две колонны по бокам — и автомашина с манго двинулась в путь. Росту старый Пань был небольшого, он отыскал обломок кирпича и встал на него, чтобы хоть что-нибудь увидеть.
Впереди шествовал сверкающий медными трубами оркестр, исполнявший одну из «Цитат»[12] и твердо печатавший шаг. За ним шагали десятки знаменосцев внушительного роста из городского партийного комитета с красными знаменами и флагами. Далее следовали руководители города, и среди них, в самом центре, глава городского ревкома. Он то расточал стоявшим по обе стороны улицы массам благосклонные улыбки и кивки, то, насупив брови, казался вдруг сурово непреклонным и холодным как лед. Наблюдая за столь переменчивым и непростым выражением его лица, старый Пань пожалел его…
Автомашина, на которой везли манго, подъезжала все ближе и ближе — в толпе началась давка. Старого Паня столкнули с его возвышения. К счастью, вокруг была масса людей, и он устоял на ногах. Медленно приближался огромный грузовик, битком набитый вооруженными молодыми бойцами. В передней части кузова находился стол, по обеим сторонам которого стояли двое рабочих с перекинутыми через плечо алыми шелковыми полотнищами и большими красными цветами в руках. Они сопровождали драгоценный плод от самого Пекина, и румяные их лица сияли счастливыми улыбками, словно им уже довелось его отведать.
Видимо, Пань Чаоэнь слишком залюбовался очаровавшими его своим внешним видом рабочими из Пекина — и дело кончилось тем, что самого-то манго он не увидел.
— Которое же здесь манго? Где манго? — шепотом спрашивал он окружающих.
— А вон оно — в маленьком стеклянном ящичке, — ответил кто-то.
Но грузовик уже проехал мимо. Пань раз-другой привстал на цыпочки, но так ничего и не разглядел. Теперь оставалось одно — двигаться вместе с людским потоком вслед за грузовиком в надежде хоть одним глазком увидеть, какое оно из себя, это самое манго.
Лишь через четыре с половиной часа грузовик с манго достиг наконец цели своего путешествия — центральной площади перед зданием городского комитета партии. На площади соорудили навес, по обе стороны его развевались десятки разноцветных флагов. Начиная от ворот, ведущих на площадь, и вплоть до самого навеса, предназначенного для принесения манго дани благоговейного уважения, по обочинам дороги выстроилось множество солдат с автоматами на изготовку. Неожиданно Пань Чаоэнь почувствовал на себе сверлящий взгляд холодных, суровых глаз. Он тревожно огляделся по сторонам — длинный и тощий боец с автоматом так и впился в него сверкающим взглядом. У Паня похолодела спина. Усилием воли он отвернулся и чуть погодя оглянулся — боец по-прежнему не спускал с него глаз. И тут Паня осенило: он вспомнил о двух больших домашних пампушках, засунутых за пояс, со стороны их можно было принять за ручные гранаты.
Чтобы рассеять возникшее у бдительного бойца подозрение, Пань Чаоэнь поспешно приподнял край куртки, вытащил из-за пояса сверток с пампушками и, развернув тряпицу, помахал ими перед глазами молодого солдата. Затем старик откусил большущий кусок, чтобы уж совсем доказать: мол, это всего-навсего хлеб, а не какая-то там таинственная бомба, предназначенная для диверсии против манго.
Чаоэнь только было собрался еще откусить от пампушки, как толпа вдруг с шумом хлынула к западным воротам, их открыли, чтобы как можно больше людей смогли увидеть манго. Старого Паня стиснули, оторвали от земли и дотащили чуть не до самого навеса, где уже находился бесценный плод. Пампушки из рук у него выбили, флажок порвали — зато он увидел манго.
Оно покоилось на столе, установленном в самом центре навеса, предназначенного для принесения манго дани благоговейного уважения. Над ним висел портрет вождя, а по обе стороны от него — многочисленные пожелания вечного долголетия. В стеклянном ящичке кубической формы лежал плод соломенного цвета.
«Что-то вроде желтоватой неспелой дыни», — подумал про себя Пань Чаоэнь, разглядывая манго, но вслух свою мысль высказать не посмел. Кое-кто из собравшихся вокруг вытащил цитатник и с поклоном салютовал им манго. У других были слезы на глазах, а ноги подрагивали, словно они собирались встать на колени. А какой-то тип, и без того высоченного роста, старательно вытягивал шею, с шумом вбирая в себя воздух.
Сам Пань Чаоэнь слез не лил и воздух в себя не вбирал. И невдомек ему было, с чего этот дылда так старается. Всем своим видом он вызывал у старика Паня отвращение.
Не смея долго задерживаться под навесом, Пань Чаоэнь поспешил выбраться наружу.
«Что ж, будем считать, что манго я все-таки увидел!» — вздохнул он с облегчением, очутившись на свежем воздухе. И тут вдруг почувствовал, как ступня его холодеет, нагнувшись, он обнаружил, что потерял один ботинок. Но когда, где — не имел ни малейшего понятия.
Прихрамывая на одну ногу, Пань Чаоэнь покинул площадь, вышел на улицу и тут заметил, что многие прохожие не сводят с него глаз, словно он сам превратился в манго. Подумав немного, он решительно скинул второй ботинок и, усевшись прямо на тротуаре под тунговым деревом, закурил сигарету.
— Мастер Пань! — услышал он голос своего ученика. Сяо Сюй уплетал мороженое и был в приподнятом настроении. — Ты чего здесь сидишь?
— Да вот, решил малость отдохнуть…
— А манго видел?
— Видел. В общем — получил представление.
Оглянувшись по сторонам, Сяо Сюй прошептал Паню на ухо:
— А оно ненастоящее.
Пань испуганно глянул на него, но сказать ничего не посмел.
А Сюй продолжал:
— Оно из воска сделано. Они, как только отъехали от Пекина, настоящее-то манго сразу подменили на восковое! Я, когда стоял рядом, принюхался — ничем оно не пахнет.
— Это кто же тебе рассказал насчет воска? — посерьезнев, спросил Пань Чаоэнь.
— Старина Вэй. Он член комитета по встрече манго!
Старый Пань сидел на тротуаре и не подавал голоса. От голода ли, от жажды — глаза его вдруг застлала сплошная черная пелена.
— Мастер, пойдем! Пошли домой! — стал звать его Сяо Сюй.
— Понимаешь, я тут в давке башмак потерял…
— Ну вот! А сам расселся — и ни с места. Пойдем, помогу тебе ботинок найти. Там, на улице Трех Лошадей у сторожевой вышки, целая гора обуви, которую в сегодняшней давке потеряли.
Сяо Сюй помог старому мастеру подняться, и они отправились к сторожевой башне на улицу Трех Лошадей. Там и в самом деле громоздилась огромная куча обуви.
Увидев ее, Пань Чаоэнь забеспокоился. Вместе с Сяо Сюем они долго в ней копались и даже прорыли узенькую канавку. Наконец Сяо Сюй что-то прикинул, выхватил из кучи черный кожаный ботинок и положил его перед Панем.
— Вот! — воскликнул он. — Надевай — и пошли отсюда!
Пань Чаоэнь заколебался на мгновение, а когда уже собрался было надеть башмак, его вдруг остановил какой-то человек.
— Это ваш ботинок? — спросил он.
Лицо старика мгновенно залилось краской…
— А тебе что? — набросился на незнакомца Сяо Сюй.
— Мне-то? Да мне нужны только мои собственные ботинки! — ответствовал он, показывая себе на ноги. И с возмущением добавил: — Вам пора бы усвоить, как важно бороться с эгоизмом и критиковать ревизионизм»!
— Да и вам следует знать, — отпарировал Сяо Сюй, — что значит: «Себе — ничего, народу — все!»
Начавшейся перепалке, наверно, не было бы конца, если бы Пань не увел наконец Сяо Сюя. А тот все упирался, надеясь отыскать башмак своего мастера.
— Сказано тебе, — отрезал Пань, — не стану я обуваться — пойду назад босиком!
Вернувшись домой, Пань Чаоэнь уселся в комнате. Он не стал обедать, не стал мыть ноги, не стал искать туфли. Понурив голову, он закурил.
Во дворе раздался голос тетушки Пань.
— Вы что, только вернулись? — спрашивала она замдиректора Фаня.
— Да! И вы тоже? — откликнулся тот. — Ну и отличилась сегодня ваша концертная бригада. Сколько народу вам аплодировало!
— А манго видели? — не унималась тетушка Пань.
— Еще бы! Руководство городского ревкома устроило для нас специальную экскурсию.
— И для нас тоже! Я была от него всего в полуметре. Какой аромат! Вы не представляете себе, как дивно оно пахнет! Немножко отдает бананом и еще чуть-чуть хурмой или пекинской грушей…
— А мне, — подхватил Фань, — а мне его аромат немного напомнил запах мандарина. Еще бы ему не пахнуть! Не будь оно таким благоуханным, разве стал бы такой выдающийся и почтенный человек…
Но замдиректора не успел закончить свою тираду, как из дома выскочил Пань Чаоэнь. И, отвесив тетушке Пань звонкую оплеуху, поволок ее в комнату.
— Чтоб ты сдох, полоумный! — истошно вопила она. — За что ты меня ударил? День-деньской пробегала, во рту — ни росинки маковой, да еще туфлю в толчее потеряла…
Никому не известно, что там старый Пань Чаоэнь нашептал своей половине, только она вдруг замолкла.
Ночью старику не спалось. Он оделся, закурил и о чем-то задумался. Окурок в его руке мерцал, как светлячок, — и все же это был пусть небольшой, но настоящий огонь…
Перевод М. Шнейдера.
ХАНЬ ШАОГУН
ЮЭЛАНЬ
Все беды в семье Чаншуня произошли из-за четырех куриц. Случилось это в семьдесят четвертом году. Я был тогда направлен в Учунскую производственную бригаду уполномоченным Отряда по работе на селе. Городского парнишку, недавно окончившего техникум и только начавшего работать самостоятельно, вдруг посылают руководить целой бригадой… Но куда удивительней было то, что многие крестьяне смотрели на меня как на большое начальство и поддакивали каждому моему слову.
В бригаду входило восемнадцать дворов, почти все обитатели которых носили фамилию У; жилища их ютились по краям лессового оврага. Прошлогодняя непогода и неурожай вконец разорили бригаду — на счету ее значилось всего тридцать восемь фэней[13]. Приближалась весенняя страда, а в бригаде не было ни грамма удобрений, только два пустых пластиковых мешка. Пусто было и в свинарнике, если не считать двух жалобно повизгивающих свиноматок, старых и тощих, как дворняги. Даже свиного помета почти не удалось собрать. Где тут с таким гнилым хозяйством перенимать опыт Дачжая и Сяоцзиньчжуана[14] — я ума не мог приложить.
Сослуживцы, знавшие толк в сельском хозяйстве, наставляли меня: первым делом позаботься об удобрениях, это будет твой капитал. Я не мешкая собрал всю бригаду и в соответствии с установками Отряда провел митинг «критики — борьбы» против одного бывшего кулака, потом призвал «начать битву за удобрения, опираясь на классовую борьбу». А затем от имени Отряда добавил: отныне число свиней и кур в личном хозяйстве ограничивается; все обязаны немедленно вернуть взятые в долг суммы и прекратить пользоваться домашними ткацкими и прядильными станками; в течение двух месяцев запрещается расходовать фекалии на приусадебные участки, в целях охраны зеленых удобрений запрещается выпускать свиней и кур на общественное поле…
В первых распоряжениях не было ничего нового, их встретили молча, но два последних запрета вызвали немалый шум. Особенно наседали на меня женщины с ребятишками на руках: «Забросим свои участки, что есть будем? Одну соленую водичку?», «Свиньи еще так-сяк, а как быть с курами и утками? На насестах держать, так чем их кормить, когда и людям-то жевать нечего?», «Что за новые правила, в соседнем уезде так не делают!». Говорили и еще что-то, но я не всегда понимал местный диалект. Сердитые, просящие, протестующие голоса становились все громче, казалось, они вот-вот захлестнут меня с головой — но я держался твердо (как говорят в здешних местах, «ухватясь за аршин, не уступал ни вершка»), и всем пришлось замолчать.
Несколько дней прошли спокойно, новые распоряжения выполнялись, расцвеченные лозунгами дома выглядели по-новому. Вдруг однажды, возвращаясь из большой бригады, я обнаружил в поле кур. Чернушки, пеструшки преспокойно разгуливали между зеленых ростков, выдирали их из земли своими сильными лапами и выклевывали семена.
— Кто выпустил кур в поле?
Ответа не было.
Я крикнул во второй раз, и опять мне никто не ответил.
— Ах, так! Тогда я конфискую этих кур.
Из саманного домика, прятавшегося под большим деревом рядом со свинарником, раздался дрожащий голос: «Это наши, наши…» Из дома вышла женщина лет тридцати, некрасивая, худая, загорелая до черноты, с длинной косой. Глядя на меня тревожно и испуганно, она то и дело вытирала красные от холода руки о черный передник. Кланяясь и улыбаясь, она говорила: «Простите, товарищ начальник, простите! Я там готовила корм для свиней и своему Хайяцзы велела присмотреть, чтобы куры не зашли в поле. А этот пострел где-то заигрался!» Она побежала по меже с криками «Ачи! Ачи!» и, швыряя комья земли, выгнала с поля четырех пеструшек. На обратном пути она не переставала бранить Хайяцзы: «Вот неслух! Одни забавы на уме! Ну погоди, вернется отец, не миновать тебе хорошей взбучки!»
Я не стал больше ей выговаривать и побежал выгонять остальных кур. Но на следующее утро куры вновь, крадучись, вышли в поле; среди них были и те четыре. Я закричал, обернувшись к домику под деревом: «Эй, ваши куры опять на поле!»
Ответом снова было молчание.
— Тогда я этих кур… — начал я угрожающе.
— Ой! — вновь появилась некрасивая женщина, на этот раз пунцовая, словно шелк праздничного халата, такая же суетливая, с тем же встревоженным и испуганным выражением глаз. Она в знакомых уже выражениях обругала своего Хайяцзы, бросая на меня опасливые взгляды.
Кто эта женщина? Я пришел в бригаду недавно, постоянно отлучался то на одно заседание, то на другое и не успел познакомиться со всеми крестьянами. Тем не менее я все-таки вспомнил, что видел ее дважды на женских собраниях, да и в поле приходилось с ней сталкиваться. На работу и на собрания приходила в числе первых, но вела себя не так бойко, как иные: в прениях не выступала, не смеялась, а все больше сидела в углу и шила стельки для туфель. Когда поспевал чайник, она, не дожидаясь просьб, разливала всем чай и при этом чуть заметно улыбалась как бы в знак приветствия. На вид — добрая, работящая женщина, но активисткой ее не назовешь. Как-то пришла даже с просьбой разрешить ей напрясть килограмм пряжи, на что я, разумеется, согласия не дал. В другой раз не написала материала по критике Линь Бяо и Конфуция — грамоты-де у нее маловато, да и муж в отлучке, все дела на ней одной, еще и за свекровью ухаживай, свиней корми… Вот только имя ее я никак не мог припомнить.
В тот вечер перед началом занятий вечерней политшколы я спросил о ней у начальницы женского отряда. Та ответила, не переставая кормить младенца грудью:
— Ее зовут Юэлань, мужа — У Чаншунь. Живут они душа в душу.
— А почему ее нет сегодня на занятиях?
— Отпросилась. У нее часто кровь к голове приливает, это еще от беременности осталось. А в прошлом году ей опухоль вырезали… Не везет человеку!
Большого интереса Юэлань во мне не вызвала. Но в последующие дни среди кур и уток на поле неизменно оказывались ее пеструшки. Я вспылил, решив, что она нарочно выпускает птицу на поле, а все ее оправдания рассчитаны на простака горожанина вроде меня. Нет, видно, без наказания тут не обойтись. И вот я, улучив момент, запустил в ее курицу камнем. Та захлопала крыльями и взлетела. Я бросился вслед, но ни один из брошенных мною камней не достиг цели, лишь несколько перьев, кружась, опустилось на борозду. Я несся с налитыми кровью глазами и вдруг, поскользнувшись, съехал по склону на участок, где с зимы стояла вода. Весь заляпанный грязью, долго не мог я вытащить свои кеды из вязкого ила. Мальчишки-подпаски захлопали в ладоши и закричали:
— Корова! Корова упала в воду! Ну, теперь говядины на всех хватит!
Что мне было делать? Злой и сконфуженный, я помчался советоваться с другими уполномоченными. Один из них, тощий тип по фамилии Ян, затянулся сигаретой и усмехнулся:
— Эх ты, книжный червяк! Подсыпал бы ядохимикатов, и дело с концом. Крестьян нужно брать на испуг, говорить с ними покруче, иначе нам с капитализмом не покончить…
Вернувшись в деревню, я отправился на поиски бригадира У Лю.
Дяде Лю, опытному земледельцу, было далеко за пятьдесят, но в нем что-то осталось от молодого задора: разговорчивый и смешливый, любил он смотреть кино и книжки-картинки, любил рассказывать эпизоды из старинных романов вроде «Речных заводей» или «Истории царств Восточного Чжоу». Были у него и недостатки — не интересовался политучебой, на занятиях клевал носом, а на цигарки использовал газеты или срывал со стены учебные материалы. Вот и сейчас, отдыхая на току, он скручивал цигарку из листа бумаги с призывами критиковать Линь Бяо и Конфуция.
— Дядя Лю… — нахмурился я.
Он обернулся и, увидев меня, изобразил на лице раскаяние:
— Эх, опять я рукам волю дал, никакого соображения нет…
И со смехом отхлестал себя по рукам.
Я выждал немного и перешел к делу:
— Открой-ка амбар и отвесь мне полкило зерна, а заодно достань и ядохимикаты. Я хочу…
— Ядохимикаты? — Он выпустил изо рта клуб дыма.
— Без них кур и уток с поля не прогнать!
— Э-э… — У Лю посерьезнел, но тут же хитро блеснул глазами и подмигнул мне. — Ну, это ты ловко придумал! Да только… У людей в домах пусто, не продашь яиц — бабам масло и соль не на что купить. Куры и утки — последняя наша надежда… Нет, этак нельзя, нельзя…
Лю закачал головой, как игрушка на шарнирах.
— Значит, по-твоему, надо дать волю стихийному развитию?
Он не знал, что такое «стихийное развитие», а когда я объяснил, сказал:
— А разве это социализм, когда тебе ни еды, ни одежки? По-моему, не беда, если куры и поклюют чего на поле, только бы не колосья!
— Так, теперь все ясно! Как могут руководители вести за собой бригаду, когда у самих в голове путаница! — Тут я отругал бригадира, забыв о разнице в возрасте, и минут пятнадцать втолковывал ему, что большая критика должна вызвать большой трудовой подъем, что необходимо соблюдать все правила и исполнять все указания инстанций…
Сидя на корточках, он долго молчал, почесывая бородку, потом сказал:
— Нет уж, простите, в этом деле У Лю вам не помощник. Хотите класть яд — кладите сами!
Он взвалил на плечи небольшой плуг и решительно зашагал прочь.
В тот же день я сам взял полкило зерна, смешал его с сильнодействующим ядохимикатом «1059» и разложил между жилыми постройками и полем. А чтобы яд не повредил рабочему скоту, я сделал так, чтобы кучки зерна были заметны издали — подпаски увидят их и отгонят быков. Но замысел мой успеха не имел.
Я взял с собой командира взвода народного ополчения и пошел проверять, не нарушают ли крестьяне запрет использовать фекалии для собственных огородов. Вдруг от высланных мной в разведку ребятишек я получил сообщение, что куры вновь появились на поле. Малыши кричали, похваляясь друг перед другом: «Это я первый увидел!», «Нет, я!»
Они не обманывали. Действительно, кто-то накрыл кусками черепицы несколько кучек отравленного зерна, а одну кучку прикрыл деревянной миской. Совсем убрать отраву у него, видно, не хватило смелости, и он лишь позаботился о том, чтобы куры не клевали зерно. В отдалении бродило десятка полтора кур. Они явно были встревожены и, увидев меня, завертели головами, словно советовались, в какую сторону им удирать.
Я выругался в душе: до чего же эгоистичны эти крестьяне, никакой социалистической сознательности! Неудивительно, что и с коллективным хозяйством у них ничего не выходит. Бросившись вперед, я раздавил ногой черепицу и расшвырял зерно так, чтобы его больше нельзя было прикрыть. Затем я поднял с земли деревянную миску.
— Это из дома Хайяцзы, — объявила одна из девчушек.
— Чьей бы она ни была, я ее конфискую! Пока не напишут самокритику, обратно не верну.
— Ха-ха, отобрали, отобрали! Да еще бумагу велят написать, вывесят в правлении…
Двое бритоголовых несмышленышей захлопали в ладоши и не без злорадства рассмеялись. Но те, что постарше, смеяться не стали, а побежали сообщить новость взрослым.
В тот же вечер всю деревню облетела весть, особенно взбудоражившая женщин: Юэлань уходила в большую бригаду на земляные работы, вернулась поздно, а соседи недоглядели, и все ее куры подохли от яда.
Я узнал об этом, когда уже смеркалось. Сквозь дым костров, на которых жгли рисовую солому, было видно, что вдалеке, у дома Юэлань, столпились женщины как перед собранием. Я удивился — сколько народу разволновалось из-за такой мелочи! Еще больше удивился я, услыхав доносящийся оттуда горький плач; он лился, дрожа и прерываясь, словно тоненькая струйка ледяной воды.
— Господи, последние четыре курицы! Хайяцзы пора в школу идти, чем же теперь платить будем? Да разве я хотела вредить бригаде, просто у меня другого выхода нет. Сами-то не едим досыта, а уж куры…
Кое-кто из женщин украдкой вытирал глаза полами одежды.
Я ждал, что Юэлань станет бранить меня, но она умолкла, когда я подошел ближе.
Крепко сколоченный, простоватый на вид крестьянин средних лет сидел на корточках, обхватив руками голову. При виде меня он выпрямился. У него было темное лицо, удлиненный подбородок; полотняная рубашка, явно не по росту, продралась на плечах и еле вмещала его широкую грудь. Глядя на окружающих, он все время щурился — наверно, был близорук.
Я окинул его взглядом.
— Тебя зовут Чаншунь, да? Ты, говорят, все время в специализированной бригаде работаешь?
— Там я уже все закончил. — Он улыбнулся и протянул мне помятую сигарету.
— Спасибо, не курю.
Он осторожно спрятал сигарету обратно в пачку, долго потирал руки, потом обратился ко мне с речью:
— Вы, товарищи начальники, право слово, хорошие люди. Да не будь компартии, нового общества, разве вы поехали бы в наши проклятые места, да еще на свои деньги, со своей едой…
Я не любил комплиментов и, оборвав его, сразу заговорил о курах.
— Куры? — Он вздрогнул, по его лицу пробежала горькая усмешка; потом он повернулся к жене и закричал: — Ну, чего ревешь? Шла бы домой! — И снова ко мне с улыбкой: — Что об этом говорить! Просто у бабы моей никакого соображения нет, вся жизнь для нее в этих курах. А по-моему… — Тут он замолк, как бы подыскивая слова, полные губы его чуть заметно шевелились.
Коротко подстриженный мальчонка — наверно, Хайяцзы — подбежал к нему, обхватив ручонками:
— Папа, папа, я хочу в школу! Хочу учиться!
Чаншунь больно щелкнул его по макушке:
— Уймись, неслух!
Мальчик заревел, кто-то из окружающих бросился его успокаивать, другие стали упрекать Чаншуня… Поднялся страшный шум.
— Не нужно его бить, — заговорил я, — бить людей нехорошо, надо, чтобы человек сам все правильно понял. Руководство Отряда надеется, что ваша семья извлечет урок из случившегося и он послужит на благо воспитания всего коллектива. Поэтому вам предлагается немедленно написать самокритику и размножить ее в сотне экземпляров…
— Самокритику? Размножить?.. — Чаншунь задрожал всем телом.
— Вывесить в каждой бригаде, в правлении, в коммуне. Посмотрим, как будет вести себя твоя жена, и решим вопрос — вывешивать ли самокритику в той бригаде, откуда она родом… Самокритика должна быть готова сегодня же.
Чаншунь схватил меня за руку и, не глядя мне в глаза, заговорил медленно, запинаясь:
— Вы бы… Вы сделали бы… доброе дело… Моя жена, она такого не выдержит…
— От меня ничего не зависит — это распоряжение Отряда.
Он умолк и словно застыл, уставясь на камень перед домом.
Тем временем кто-то из женщин уже увел Юэлань. Остальные повздыхали и тоже вскоре разошлись. Лишь ребятишки все еще разглядывали и ощупывали мертвых кур, уже застывших и почерневших.
Люди, ясно почувствовал я, начали меня бояться и стараются держаться подальше. Даже балагур дядя Лю, возвращаясь с работы, вопреки обыкновению не заговорил со мной. Лишь взглянул на кур, вымыл в пруду свою мотыгу и сказал как бы про себя:
— Молодцы! Крепко взялись за классовую борьбу. Вот изведем всех буржуазных кур, буржуазных свиней — сразу с крестьянами легче работать будет…
И, насупившись, зашагал прочь.
Неужели я допустил ошибку? Но, снова обдумав все, решил: нет, наверно, я прав. Я вел борьбу с капиталистическими тенденциями, да и о всех принимаемых мерах предупреждал заранее. Как уполномоченный Отряда, я обязан был проявлять твердость!
Сразу после этих событий я уехал в уездный центр на курсы по агротехнике и на несколько дней оторвался от бригады. Краем уха лишь слышал, как два члена бригады, привозившие удобрения, рассказывали, что в семье Чаншуня не все в порядке. Юэлань вроде бы с расстройства два дня лежала пластом, свекровь на нее сердится — мол, уронила честь семьи, мальчонка плачет, ночами не спит. Сам же Чаншунь, как рабочий вол, весь день надрывается, а вечером придет домой, уронит голову на руки и молчит. Но все эти семейные дела меня не интересовали.
Когда я вернулся в бригаду, мне первым делом сообщили о крупной ссоре между Чаншунем и его женой.
Я направился к Чаншуню. Он сидел на пороге дома, расставив ноги в рваных матерчатых туфлях, скрючив свое большое тело и запустив узловатые пальцы в волосы. Рядом стоял, заложив руки за спину, дядя Лю и сердито выговаривал ему:
— Ты что, спятил? Все вокруг твердят: какая, мол, хорошая пара, а ты? Бык бешеный! Ты прямо как пес, что кусал Люй Дунбиня[15], — ни стыда, ни совести…
Чаншунь долго сидел не шелохнувшись, потом вдруг вскочил и зарычал (тут от него пахнуло перегаром):
— Ну, хватит об этом!
Заметив меня, он вновь медленно опустился на порог.
Из рассказов очевидцев складывалась такая картина: после моего отъезда в деревню приехал с инспекцией помощник начальника Отряда Ян. Ему нужны были типичные примеры «борьбы двух линий», и он стал доискиваться, кто же все-таки укрыл ядохимикаты от кур. Никто не признавался, единственной уликой была деревянная миска из дома Чаншуня. Ясное дело, вся тяжесть наказания обрушилась на его семью. Мало того, что пришлось писать покаяние, вдобавок за каждую курицу решено было взыскать — после сбора урожая — по пять юаней. Партгруппа и совет бригады возражали против этого, но тщетно. В доме Чаншуня стало еще беспокойнее. В тот день Юэлань принялась ворчать на мужа: он, мол, недотепа и хозяин никудышный — в доме ни масла, ни соли, сыну учебники не на что купить, а он ничего придумать не может. На беду, Чаншунь как раз перед тем хлебнул с горя у соседа. Попреки жены и выпитое вино впервые в жизни привели его в ярость: он ударил Юэлань с такой силой, что на ее лице отпечаталась пятерня, и закричал: «А-а, так ты меня еще и винишь! А не по твоей ли бабьей глупости Хайяцзы наш остался без учебников? Из-за кого будем ты штраф платить?» Бедная Юэлань сперва вздрогнула и выронила из рук фарфоровую чашку, потом повернулась и молча вышла из дома с обиженным лицом.
Я стал выговаривать Чаншуню:
— Как ты мог ударить жену? Где она сейчас?
— Не знаю.
— Скорей ищи ее! Одни неприятности от вас…
Ночь была звездная. Голубая дымка окутывала холмы и рощи, влажный ветер доносил с полей острый запах свежевспаханной земли. Лунные блики в быстром горном ручье походили на серебряное крошево. Вдруг откуда-то донеслось первое в эту весну кваканье лягушки. Казалось, ей невмоготу подавать голос в полнейшем одиночестве, но она не умолкала, и в душах людей возникало какое-то странное, необъяснимое чувство.
Но не о ночных красотах думал я, главное — поскорее найти Юэлань, чтобы люди успокоились и завтра могли работать как следует. Досада на Чаншуня и его жену не проходила. Надо же, из-за такого пустяка затеять целую бучу… Что за мелочность! Но к досаде то и дело примешивалось другое чувство — скрытое беспокойство. Только мне некогда было разбираться, откуда оно взялось.
— Юэ… лань! — кричит старый бригадир.
— Юэ… ла-ань! — отвечает ему эхо, отражаясь от горного склона.
Пошел дождь, одежда промокла, но я все бегал в поисках Юэлань, спотыкаясь, проваливаясь в ямы. Наконец ее отыскали в рощице масличных камелий.
Она сидела на камне неподвижно и молча, невозмутимая как изваяние, будто ничего и не случилось. Ее окликали — кто встревоженно, кто ласково, но она не шелохнулась и не открывала рта, глядя перед собой ничего не выражавшим взглядом.
— Пошли домой, дождь вон как разошелся, — сказал я.
Она бросила на меня взгляд, молча поправила волосы, встала и пошла вниз по склону. При свете факела в ее глазах блеснули слезы.
Кто-то остановил ее:
— Не туда идешь! Тебе надо вон куда!
Она остановилась, медленно, как деревянная, повернулась и послушно зашагала в другую сторону.
— Сойди с обочины, там полно колючек, штаны порвешь!
И она покорно стала держаться середины дороги.
В деревню вернулись глубокой ночью. По приглашению Чаншуня я зашел к нему ненадолго. К своему стыду, за месяц с лишним работы в бригаде я ни разу не был в его доме. Едва перешагнув порог, я почувствовал, как во мне стынет кровь, а ноги словно прилипли к полу. Нет, я не поверил своим глазам. Передо мной стояла кровать — створка двери, положенная на сырые кирпичи. Над ней свисал рваный противомоскитный полог, почерневший от дыма: рядом находился очаг. Одеяло все в дырах, простыни не было и в помине. Доска, под которую подставлены были кирпичи, заменяла обеденный стол. От висевшей над очагом лампы (когда-то это была бутылка из-под чернил) падал тусклый свет. Из-за стены — в доме было две маленькие комнаты — шел нехороший запах. Оттуда доносился кашель матери Чаншуня. Мало кто испытывал к этой старухе симпатию. Она без умолку говорила что-то, то еле слышно, то громче; как я понял, она сетовала на невестку — мол, и хозяйство вести не умеет, и вечно болеет; вон из-за лечения в долги влезли, в доме пусто, да и Хайяцзы в школу не на что послать. Свекровь каялась в том, что сосватала сыну не жену, а «банку с лекарствами»…
Вдруг среди этого запустения что-то привлекло к себе мой взгляд, словно вспышка молнии: на стене висела дюжина почетных грамот. Я потихоньку спросил дядю Лю:
— Они что, передовики коммуны?
— А то как же! Чаншунь, он всегда работает за двоих, да и Юэлань баба хорошая, — ответил тот, выпустив изо рта дым. — Взять хоть прошлую весну. Когда сажали рис, наши волы обессилели, совсем не тянули. И Юэлань, чтобы их подкормить, выставила полтора десятка яиц да две бутылки сладкой настойки. Даже денег брать не хотела.
Что-то во мне дрогнуло: Юэлань, добровольно отдающая свои продукты, и та, что выпускает кур на общественное поле, никак не сочетались между собой.
Чаншунь с грустной улыбкой пододвинул ко мне грубо сколоченный табурет:
— Садитесь, товарищ Чжан. Уж не обессудьте, стульев у нас не осталось.
— Как это — не осталось?
— Да вот… — Хозяин смутился и не закончил фразу.
Бригадир выбил пепел из трубки и пояснил:
— На его семье висит большой долг. В прошлом году была команда во что бы то ни стало расплатиться с долгами, вот и пришлось ему продать шкаф, кровать, стулья.
— Откуда же столько долгов у хороших работников?
Чаншунь снова грустно улыбнулся, и опять дядя Лю пришел ему на помощь. По его словам, в прошлом году Юэлань из-за опухоли долго не ходила на работу; да и за вызовы врача и лечение в больнице пришлось выложить пятьсот юаней[16]. Раньше семья еще одолела бы такой расход, но последние годы сплошь были неурожайные, и вообще в делах порядка не стало. Нынче приходит приказ всем рыть водохранилище, на другой год велят засыпать его и превратить в пашню; где можно собрать один урожай риса в год, велят сеять дважды и другими отраслями хозяйства заниматься не разрешают. Люди гнут спину целый день, а зарабатывают гроши. Государство и коммуна помогли Юэлань двумястами юаней, но где было взять остальные триста? В бригаде одни бедняки, занять не у кого…
В доме наступило молчание, только старый бригадир вздыхал, качая головой. Поглаживая грубо сработанный табурет и глядя на круглое, как яблоко, лицо Хайяцзы, высовывавшееся из-под рваного одеяла, я чувствовал какую-то тяжесть, все сильнее давившую на меня. Мне и раньше доводилось слышать, что из-за ошибок руководства и бесконечных кампаний «критики и борьбы» крестьянам в этих местах живется все хуже и хуже, но я никак не ожидал, что положение настолько серьезно.
Бригадир говорил еще что-то, но я его не слушал. Не помню, как я ушел из дома Чаншуня, забыв там свою промокшую накидку. Всю ночь я проворочался без сна.
Назавтра я доложил о положении в семье Юэлань на объединенном заседании Отряда и партгруппы большой бригады. Я предложил освободить семью от уплаты штрафа и помочь устроить Хайяцзы в школу. Разгорелись споры. Ян, помощник командира Отряда, произнес длинную речь о том, что большая критика помогает большому подъему производства. Я с трудом дослушал его — что-то все время отвлекало меня. Наконец я понял: меня беспокоит Юэлань. Почему после всего случившегося вчера она казалась такой спокойной? Что бы это могло предвещать?.. Партийный секретарь шепотом сказал мне:
— Ты бы и вправду сходил посмотреть, что там творится. Наши деревенские иной раз такое выкинут… Недавно тоже свекровь с невесткой не поладили, так чуть до смертоубийства не дошло!
Слова его лишь усилили мою тревогу.
Я ушел потихоньку, не дожидаясь конца собрания, и поспешил в бригаду. Не успев еще войти в деревню, я понял: здесь происходит что-то неладное — видно, мои предчувствия оправдались. В доме Чаншуня — ни души; пусто было и в соседних домах… Наконец заметил я кучку людей — они шли по плотине водохранилища к деревне. Среди них я разглядел «босоногого врача»[17] с медицинской сумкой за плечами; он шел, печально понурясь, и что-то говорил своим спутникам.
— Где вся бригада? — закричал я. — Где Чаншунь? Юэлань?
Какая-то пожилая женщина, глянув на меня, закрыла лицо руками и, плача, поспешила домой.
Так! Значит, то, чего я опасался, все-таки произошло. Мне показалось, будто земля и небо дрогнули, пошли кругом. Кто-то подбежал и рассказал обо всем, что случилось. Никому бы в голову не пришло, что Юэлань может наложить на себя руки. Она казалась такой спокойной и вела себя как обычно. Утром вымыла и перетерла посуду, постирала, подштопала одежду, одела Хайяцзы в новую рубашку, сварила свекрови вкусную кашу из взятого в долг клейкого риса. Придя с работы обедать, Чаншунь не обнаружил ее дома. Бросился на поиски и нашел ее матерчатые туфли на берегу водохранилища…
Труп уже успели вытащить на берег. Худое лицо Юэлань как будто вовсе не изменилось, только в ноздрях темнела застывшая кровь. Чаншунь, в грязи по колени, лежал, обняв тело жены, и рыдал, громко стеная, словно большое раненое животное. Слезы капали на лицо покойной. Потом он стал бить себя кулаком по голове, крича в голос:
— Мать Хайяцзы, не надо мне было трогать тебя! Я ведь в жизни тебя не ударил ни разу, а вот вчера… Ты у меня днем и ночью хлопотала дома и в поле, варила, стирала; утром пойдешь свиньям корм задавать, руки красные от стужи… Как-то захотелось мне ржаных блинов, и ты в жару за семьдесят ли[18] в родную деревню бегала за ржаной мукой, даже взмокла вся… А как больная лежала, лишнего кусочка съесть не хотела; я говорю — положу тебе в суп яйцо, а ты — нет, мол, деньги нужны будут Хайяцзы на учебу… Это я, я кругом виноват! И так тебя свекровь изводила, а тут еще я ударил! Да не со зла ведь, просто уж очень тяжко стало…
Хайяцзы лежал рядом с отцом и хныкал, теребя материнскую руку:
— Ма, я больше не буду просить учебники! Не буду плакать по ночам, когда ты захочешь спать!
Он вытащил из кармана несколько заляпанных грязью рыбешек и положил их на тело матери:
— Смотри, ма, видишь, я уже научился рыбу ловить, скоро сам соберу деньги на учебники, у тебя больше не буду клянчить! Ма, я зову тебя, зову, а ты все молчишь…
Кое-кто из окружающих вытирал слезы, другие о чем-то с возмущением говорили, глаза их сверкали гневом.
Каркнула ворона на дереве и взлетела, громко хлопая крыльями.
Потом кто-то тронул меня за плечо. Я оглянулся — это был дядя Лю. Держа в одной руке мотыгу, другой он протянул мне сверток с одеждой:
— Держи, это твое? Юэлань сегодня заодно и ее…
Он замолк, глаза его были красными.
Так и есть — моя серая накидка, я забыл ее ночью в доме Чаншуня! Выстирана, сложена, и дырка на плече заштопана так аккуратно, незаметно почти. Я вздрогнул, будто меня стегнули плеткой, в носу засвербило, на глаза навернулись слезы. Судорожно сжимая накидку, я смотрел на штопку, и чудилось мне, будто сквозь нее проступает лицо Юэлань. Да, это ее взгляд — такой добрый, покорный, извиняющийся и в то же время разгневанный.
Я повернулся и пошел прочь.
Но куда идти? Нежно-зеленые нити ив вдоль берега водохранилища похожи были на длинные волосы Юэлань. Пробивавшийся среди камней горный ручей казался потоком ее слез. Мелкий дождь окутал все вокруг молочно-белой пеленой, а мне она напомнила бледное лицо Юэлань. Из-за плотины доносился гул и рокот сбрасываемой воды, и мне слышались в нем стенания и жалобы сотен, тысяч таких, как Юэлань…
Я быстро шагал под дождем, промокший до нитки, забрызганный грязью. Эх, Юэлань, как это я опоздал? Я только начал пробуждаться, а ты уже уснула навеки. Нет, я не собираюсь отказываться от своей доли вины и не смею просить у тебя прощения. Но как все это случилось? Ты ведь была за социализм, и наш Отряд, он тоже за социализм. Но разве то, что довело тебя до гибели, — социализм? Я не могу поверить в это! Как же тогда я стал одним из тех, кто погубил тебя? Что все-таки произошло, Юэлань?
По итогам года я был признан «передовым работником Отряда» и получил большую грамоту.
Смерть Юэлань в Отряде практически не обсуждалась. Лишь однажды, вскоре после происшествия, тощий Ян обратился ко мне: «Что это ты последние дни вроде не в себе? Не дури! Можем ли мы углядеть за всеми такими, как эта Юэлань! Политически неразвита, сама искала смерти — ну и что?»
Но боль в душе у меня не проходила. Перед отъездом из бригады я с бьющимся сердцем вошел в дом Чаншуня, но не застал ни его, ни Хайяцзы.
Потом я вернулся в уездный центр, в прежнее свое учреждение. Однажды я столкнулся с дядей Лю, вызванным на какое-то совещание. Он рассказал, что двоюродный брат Чаншуня подыскал ему новую жену, но почему-то поставил условием, чтобы Хайяцзы был отдан на воспитание в другую семью.
Я вздрогнул:
— А ты знаешь, где живет эта семья?
Дядя Лю назвал адрес.
Через несколько дней я поехал туда, нарочно выбрав время, когда Хайяцзы должен был отсутствовать — боялся напомнить ему о матери. Со мной были подарки — новая рубашка и записная книжка.
Приемные родители Хайяцзы, тоже крестьяне, смотрели на меня во все глаза:
— А вы ему кем приходитесь?
— Не надо об этом спрашивать! — Я помолчал, а потом сказал, сдерживая волнение: — Вы уж, пожалуйста, обращайтесь с ним получше, не обижайте мальчика!
— Ну, это само собой…
— Пусть учится как следует, а закончит среднюю школу — постарается поступить в вуз. Я могу платить за его обучение, — сказал я вдруг, сам не зная почему.
— Да уж насчет платы мы как-нибудь сами… А все-таки кто вы ему?
— Не спрашивайте, не надо… Я буду вас навещать!
Я пошел обратно. Мне было ясно: не в моих силах залечить рану в детской душе Хайяцзы, и «плата за обучение» тут не поможет. Но пробудившаяся совесть часто заставляла меня думать об этом несчастном мальчике. Думал я и о том, что у миллионов трудящихся женщин — опоры социализма в нашей стране — не должно быть такой горькой участи, как у матери Хайяцзы… И каждый раз меня охватывало волнение и я глубоко задумывался обо всем, о чем еще должен был думать и думать…
Перевод В. Сорокина.
Е ВЭЙЛИНЬ
НА РЕКЕ БЕЗ ОРИЕНТИРОВ
I
Никогда не забыть мне то плавание летом 1971 года. Меня тогда направили на учебу в университет, в провинциальный центр, и я мечтал поехать туда на машине или на поезде — ведь мне прежде и ездить-то на них не доводилось. Но денег у меня не было, и пришлось мне по совету дедушки добираться до города на обыкновенном плоту с маленькой кабинкой. Поначалу я, естественно, не очень-то рад был этому, но потом вспомнил попавшую как-то мне в руки книжку, в которой рассказывалось про русского ученого Ломоносова: он в детстве отправился в одной лодке с рыбаками из родных мест в поисках знаний, а потом стал знаменитым на всю Европу человеком. Подумал я про того великого ученого, представил, как он, совсем как я, босой и с котомкой плыл в рыбацкой лодке по реке, и стало мне не так грустно.
И как это вышло, что меня направили на учебу? В народе говорят: не ищи добра, а ищи удачи. Честное слово, произошло все совершенно случайно.
В тот год весна пришла рано; в день пробуждения дракона, ко второму февраля, уже зацвел персик и верба распустилась. Но на пятый день вернулись вдруг заморозки, зарядил мелкий дождичек со снегом, по ночам выпадал иней. Однако к десятому числу погода установилась, дождь со снегом кончился, выглянуло солнышко, и снова потеплело. Воробьи стали весело прыгать в лужах. Подул с юга ветер — мягко, словно тонкий шелк, обвевая лицо. И все заговорили, что пришла настоящая весна.
На следующий день дедушка позвал меня сажать тыквы. И говорил со мной не как обычно, а проникновенно и торжественно. Я удивился: как это дед позвал меня с собой сажать тыквы? С малых лет я усвоил, что дедушка относился к тыквам с огромным уважением. Каждый раз, прежде чем варить тыкву, он аккуратно выбирал из нее семена, просушивал их и клал в мешочек, хранившийся у очага. К середине зимы семян накапливалось довольно много; тогда дедушка развязывал мешочек и начинал отбирать семена. В такие минуты он становился очень сосредоточенным: сжимая во рту пустую трубку, сведя к переносице косматые, как колоски, брови, с горящими глазами, он перебирал старческими пальцами семена и пристально разглядывал их, словно купец, рассматривающий драгоценные камни. Отобранные семена он ссыпал в другой мешочек и помещал его в железную коробочку. Каждые несколько дней он доставал ее и вновь просматривал семена, всякий раз отсеивая немного, и в конце концов у него оставалось тридцать-сорок лучших семян. Это свое сокровище он уже хранил не в коробочке, а заворачивал в тряпицу и прятал за пазуху, согревая семена теплом своего тела. Потом всю зиму дедушка вставал очень рано, брал корзинку, совок и собирал навоз за деревенской околицей. А иногда он уходил за пять верст на берег реки Сяошуй и возвращался промокший до колен и с посиневшими от холодной воды ногами. Дедушка всегда хорошо помнил, что чужой навоз и свое семейное богатство ни в коем случае нельзя разбазаривать. С тех пор как я начал соображать, дедушка по три раза на дню говорил мне: нельзя справлять нужду где попало, а делать это нужно только в домашней уборной. Я дедушку слушался и в школе, если вдруг мне приспичит, терпел изо всех сил — так, что даже слезы выступали. Помню, дедушка однажды собрался на праздник, я стал его просить взять и меня с собой, но он велел мне сидеть дома, пообещал принести что-нибудь вкусненькое. И когда он возвратился, в руках у него был большой мешок. Я думал, там гостинцы, весело захлопал в ладоши, заглянул в мешок, а там свежий навоз!
И сколько же внимания отдавал дедушка каждый год севу тыквы! Зато и тыквы у него вырастали как на подбор: все как одна круглые, гладкие, отливающие золотистым оттенком, все величиной с меру зерна. Урожай дедушка собирал ранней осенью, складывал тыквы под кроватью, под столом или горкой у северной стены, и горка та бывала в половину человеческого роста. Каждый раз, уходя по утрам из дома и возвращаясь вечером, дедушка подходил к своим тыквам, постукивал по ним пальцем, ощупывал их. Я прожил на свете двадцать лет, невесть сколько съел этих тыкв, но никогда не смотрел на них с отвращением, потому что они были свидетелями радостей и несчастий нашей семьи. Никогда бы не мог я пренебрежительно отнестись к нашим тыквам.
Я слышал, как старики в деревне говорили, что лет сорок тому назад дедушка работал батраком у одного помещика, и, хотя ему тридцать стукнуло, он все еще был гол как сокол. В семнадцатый год республики (1928) в Хунани случился большой голод, множество народу издалека перебралось в наши места. На пришедших страшно было смотреть. Если им удавалось продать восемнадцатилетнюю девушку за три меры риса, они считали, что им дали хорошую цену. Однажды дедушка возвращался с поля домой, вдруг откуда ни возьмись следом за ним одна девушка: волосы заплетены в толстую косу, сама худющая, ключицы из-под тонкой кофточки так и выпирают наружу. Не говоря ни слова, она дошла до самого дедушкиного дома. Дедушка спросил ее, что ей надо, а она заплакала и говорит ему: «Добрый старший брат, возьми меня к себе!» Дедушка говорит ей: «Ну а на что же мы с тобой жить будем? Сказать по правде, у меня риса ни зернышка, только восемь тыкв». Услыхав, что в доме есть тыквы, девушка вся встрепенулась, глаза у нее засияли, села она у порога и не хочет уходить. Так и осталась она у деда в доме и стала моей бабушкой. Дедушка с бабушкой знали толк в тыквах и в память о своей встрече стали каждый год сеять их, и год от года тыквы у этой четы вырастали все лучше. В затянувшийся период голода они давали семье моего деда выжить, вселяли спокойную уверенность в завтрашнем дне. После освобождения провели передел земли, а потом создали кооперативы, в ту пору производительность постоянно росла, зерна в каждый урожай было в избытке. Но дедушка по-прежнему каждый год самолично сеял тыквы. Если он не съедал их до следующего урожая, то шел продавать на рынок, выменивая на соль, соевый соус, хворост, масло, а случалось, и на табак. Помню, когда я учился в начальных классах, расходы на учебу возмещались продажей тыкв. И голубую полотняную сумку для книг дедушка купил мне на выручку от тыкв. В тот год, когда создали народные коммуны, погода выдалась хорошая, собрали на редкость большой урожай риса, такой, что никто даже не хотел собирать батат. Тогдашний секретарь коммуны Ли Цзячэнь громко объявил, что всех будут три раза в день кормить бесплатно — ешь до отвала, теперь у нас коммунизм! Под тремя большими котлами в деревенской столовой целый день горел огонь, а рядом со столовой была канава, где мыли чашки для еды. По утрам вода в канаве была прозрачная, и было видно, что на дне канавы лежал толстый слой риса. Дедушка при виде этого расхитительства качал головой. А на следующий год весной деда направили от коммуны плавить железо, и, уходя, он не успел высадить свои тыквы и поручил это сделать отцу. Отец же отнесся к этому небрежно — может, потому, что торопился в горы на лесозаготовки. Он выкопал на ближней дамбе несколько ямок, бросил туда семена и ушел. Летом там выросли хилые, величиной с кулак тыквы — кривые, с почерневшей кожурой. Дедушка вернулся, взглянул на тыквы и засмеялся: «Это баклажаны какие-то, а не тыквы». Пришла зима, и серьезность положения обозначилась со всей ясностью. Общественную столовую стало невозможно содержать, подъели все запасы, на человека в день выдавали по чашке риса да немного лебеды в придачу. Время шло, и у людей от голода стали слезиться глаза, руки и ноги распухли, а в сердцах воцарился страх. Вот тогда-то дедушка со злостью и упрекнул отца: «Хорошенькое дельце ты сотворил!» Отец ничего не ответил, только бессильно опустил голову. Чтобы как-то загладить свою вину, отец с матерью потихоньку подкладывали рис из своей чашки деду и мне. На следующий год весной дедушка посадил много тыкв, да уж поздно было. Голод сделал свое дело быстрее, чем созрели тыквы. После праздника весны у нас в коммуне все ели уже только дикие травы, в округе съели подчистую всю живность. В нашей семье все заболели водянкой; стоило дотронуться пальцем до лица, и на нем оставалась ямка. А потом началась лихорадка, отец и мать заразились, целый день лежали в бреду. Первой умерла мать. Она умерла в бамбуковой роще на горе, в руке у нее были зажаты маленькие побеги бамбука. Следом умерла бабушка, а потом пришла очередь отца. Когда отец умер, тыквы были в полном цвету и кое-где появились маленькие плоды величиной с куриное яйцо. Протянул бы отец еще полмесяца или месяц, покуда тыквы поспеют, смог бы, наверное, выжить. Но он не дождался, умер. Похоже, он очень не хотел умирать: глаза были широко раскрыты, так он и смотрел прямо в синее небо. Дедушка тогда вырезал из красной бумаги два кружка да и прилепил, как смог, на глаза. Он так убивался, что и сказать нельзя. Но никого не винил, лишь себя. И потом, много лет спустя, он однажды сказал: «Эх, многое в жизни можно простить, не могу только простить себе, что в тот год я сам не посадил тыквы…» После того жестокого урока дедушка стал еще больше заботиться о тыквах. Двенадцать лет прошло, я уже повзрослел. За последние два года я в деревне всякую работу перепробовал, вот только тыквы не сажал. А в прошлый год весной я вдруг увидал, что дедушка совсем ослабел и землю копать ему уже трудно. Я собрался было посадить тыквы за дедушку, но не осмелился сказать ему об этом. Я знал, что он не захочет поручать мне это дело. А потому, когда на сей раз дедушка сам предложил мне одному посадить тыквы, я просто ушам своим не поверил.
Подошел я к дедушке и недоверчиво спросил его:
— Дедушка, должен ли я посадить тыквы?
Дедушка кивнул, вынул из-за пазухи тряпицу с семенами, осторожно развернул ее: «Вот хорошие семена». Он откашлялся и сказал: «Гляди в оба, запоминай! В семенах главное не размеры, а форма. Те, что спереди острые, а сзади кругленькие, хороши и годятся. А еще надо, чтобы чуть-чуть отливали желтизной и тут вот было два уступчика, а самое лучшее — три… Понял?»
Я внимательно посмотрел на семена: вроде все друг на друга похожи, не углядишь, какое между ними различие. Но я ответил:
— Дедушка, я понял.
Дедушка погладил бородку, оглянулся вокруг и тихо сказал:
— Это секрет, смотри не говори никому, понял?
— Понял, — ответил я, потупившись.
— Дед уже старый, скоро уж в землю желтую возвращаться пора. А ты стал совсем взрослый, того гляди, семьей обзаведешься, пойдут дети. Ты должен научиться сажать тыквы, из года в год сажай их. Понял, что дедушка тебе говорит?
— Дедушка, я понял.
— Ну хорошо… все можно простить, но как это я в тот голодный год сам не посадил тыквы?! Виноват я перед твоим отцом и матерью, и перед бабушкой виноват…
— Дедушка, не говори так.
— Ну, молчу, молчу… — Дедушка потер глаза, развел руками. — Иди-ка вскопай грядки, как вскопаешь, позови меня.
Я взял мотыгу и пошел узкой деревенской улочкой на пустынную дамбу. После долгого дождя выглянуло солнце, и горы перед моим взором были видны четко-четко; трава на лугу уже зазеленела. Почки на тополях у берега Сяошуй еще не распустились, и тонкие ветви деревьев отчетливо выделялись на чистом небосклоне, словно они были нарисованы карандашом. Курчавые светлые облака застыли над вершинами, подобно букету белых цветов. Пара жаворонков где-то в небесной вышине пела свои чистые, словно звуки свирели, песни. На дороге были дождевые лужи, под жаркими лучами солнца поднимались испарения, пахло навозом и перегноем. Это все был пейзаж моей родины, ее звуки, запахи. И все это было мило мне, но ко всему этому я привык, и никаких особенных чувств это не вызывало. Я пришел к дамбе, энергично поплевал на ладони, нагнулся и стал копать. Копаю и думаю про себя: дедушка ничего не пожалел, все сделал, чтобы я смог закончить школу. Заботился о моем образовании, лелеял меня, как крестьянин свое поле. У дедушки расчет такой: «Одно семя обронишь в землю — десять тысяч семян воротятся в амбар». Ну а мне учеба прямо-таки открыла глаза. Великое множество надежд, словно туман весенних дней, поднялось в моей душе. Я стал часто приходить на берег реки Сяошуй, жадно смотреть вдаль и думать о величии океана и его чудесах. Хотелось мне попробовать морской воды и узнать, вправду ли она соленая. Часто смотрел я и на горы, мечтал о раскинувшемся за ними огромном мире. Из учебников я узнал принципы механики, понял, почему ездит автомобиль. Конечно, автомобиль я видел, а вот покататься на нем не довелось. И никак я не мог представить себе, каково же ощущение от езды в машине. Ну а поезда я вообще не видал. Что это такое, железная дорога? На картинках и в кино я, конечно, видел: это две тонкие нитки, а под ними, странное дело, лежат поперек широкие доски! Я стал об этом расспрашивать нашего учителя, тот улыбнулся и сказал: «Учись хорошенько, и ты обязательно прокатишься по железной дороге». Я учился прилежно и все время ждал такого дня, слова учителя не выходили у меня из головы, был в числе лучших учеников, но желанный день так и не настал. Вскоре после того, как началась «культурная революция», школа в коммуне закрылась, учитель уехал, и парты опустели. Я вернулся в деревню, взял оставшиеся от отца инструменты и стал работать в производственной бригаде. Шли зимы и весны, и так минуло четыре года. Работы я не боялся, ведь во мне текла крестьянская кровь. Но весной, когда все вокруг оживало, у меня в груди часто поднималось волнение, на душе становилось неспокойно.
А теперь вот дедушка послал меня сажать тыквы, еще поведал свои секреты, попросив хранить их, — видно, судьба моя будет связана с тыквами. Представил я, как прожил свою жизнь дед, как умерла бабушка, припомнил всю историю нашей семьи — тыквы всегда занимали большое место в жизни каждого ее поколения. Так, видно, и дальше будет. И стало мне от этого тоскливо.
Я разрыхлил две грядки, разогнул спину и отдыхал. Передо мной был пруд с распустившимися кувшинками. Остроконечные листья мягко покачивались, так как толстобрюхие карпы время от времени высовывались из воды, щипали цветы и подталкивали листья. На противоположном берегу девочка лет пяти-шести ловила бабочек. На ней была красная кофточка и синие штаны. Судя по ее наряду, она была не деревенская. Наверное, приехала к кому-нибудь в гости. Я посмотрел вокруг, опустил голову и опять стал рыхлить землю. Едва я копнул пару раз, как вдруг услыхал всплеск: «Плюх!» Гляжу, а та девочка, которая ловила бабочек, упала в пруд и даже не кричит. Видно только, как ее красная кофточка пузырем плавает в воде. Я не долго думая скинул одежду и бросился в воду; разгребая кувшинки, подплыл к девчушке и крепко схватил ее. Пруд был неглубокий, воды в нем было по грудь, и я без труда вынес девочку на берег. Девочка громко заплакала, и на крик сбежалась вся деревня.
Все односельчане заохали, запричитали, и тут только я узнал, что эта девочка — дочь секретаря райкома Ли Цзячэня, а привез ее сюда отдыхать секретарь Лю из парткома коммуны. Кто-то сказал секретарю Лю о случившемся, тот выскочил из дома начальника бригады и, не чуя ног под собой, побежал на пруд. Лицо у него побелело и покрылось холодным потом. Он выхватил у меня из рук ребенка и стал горячо благодарить. Спустя немного он похлопал меня по плечу и сказал покровительственно:
— Ну-ну, я обязательно сообщу секретарю Ли. Тебе это зачтется…
Кто же знал, что этот случай и впрямь перевернет мою жизнь. Я тогда не прислушался к словам секретаря Лю, думал, что он только из вежливости так говорит. Этого секретаря Лю звали Лю Дасюнь. Поскольку он был членом парткома коммуны, все уважительно обращались к нему. Секретарь Лю отвечал за работу наших четырех бригад, часто бывал в окрестных деревнях, сидел за одним столом с членами коммуны, любил пропустить несколько чарок. Целый день ходил он с красным лицом и торчавшим из уголка рта окурком. А человек он был мягкий: о чем бы ни просили его в коммуне, он никогда не отказывал. Но, соглашаясь, тут же забывал. Да неужели? Неужто я и вправду согласился? Ну ты гляди… Вы уж простите, я, видно, в тот день малость лишнего выпил…» В таких случаях он огорченно хлопал себя по лбу и делал страдальческое лицо. Поэтому на него никто не сердился: забыть о том, что обещал во хмелю, так естественно! Но может быть, кое о чем он все же хорошо помнил?
Правда, и на этот раз от секретаря Лю сильно пахло вином. Я, улыбаясь, пошел прочь и принялся сажать тыквы.
Итак, тыквы были посажены, а вскоре на грядках уже появились желтые цветочки, сменившиеся в июле маленькими тыквочками. Однажды в жаркий полдень посыльный коммуны принес мне извещение: Ли Дунпин, из бедняков, по решению парткома коммуны направляется на учебу в железнодорожный институт; а далее число и месяц, когда надлежит явиться в центр провинции. Прочел я это извещение и не верю своим глазам, а сердце так и колотится; я побежал со всех ног сказать дедушке. Кто ж знал, что новость летит быстрее ветра: соседи меня уже встречали в нашем доме. Все были очень рады. С тех пор как Паньгу отделил небо от земли, из нашей деревни вышел только один студент университета. Все говорили, что секретарь Лю хороший партийный работник и что слов он на ветер не бросает. Они так судили: направить на учебу в университет за спасение дочки секретаря райкома Ли — это очень человечно. Молодые люди завидовали мне, все говорили, что я везучий. Дедушка на радостях не закрывал рта, глаза его увлажнялись, и он все повторял, шамкая:
— Спасибо председателю Мао, спасибо коммунистической партии!
Вечером дедушка запер ворота, зажег курительную палочку и воткнул ее в меру с рисом, стоявшую на столике у западной стены. На стене была полочка. Когда-то там были изображения богов, а теперь полочка превратилась в «драгоценную подставку»: на ней был укреплен портрет председателя Мао. Вообще-то дедушка был неверующий, благовония он зажег для того, чтобы выразить благодарность (подобно тому, как грамотные читают цитатник). Дедушка в своей жизни много горя хлебнул, он любил председателя Мао, любил коммунистическую партию. Он твердо верил, что все хорошее и радостное случается благодаря председателю Мао и коммунистической партии, а все плохое и горестное — это от несчастливой судьбы. Двадцать лет назад, в пору земельной реформы, с дедушкой приключилась одна смешная история. Он как-то пришел в городе на рынок покупать портрет председателя Мао. Купил и не уходит, смотрит по сторонам. Продавец спросил его, чего он еще хочет, а дедушка говорит, что хочет купить еще и портрет коммунистической партии. Продавец стал ему терпеливо объяснять: «Уважаемый, коммунистическая партия — это организация, а не человек, откуда же возьмется ее портрет?» А дедушка решительно стоит на своем: «Ты меня не обхитришь, если она не человек, то что ж я тогда желаю ей долгих лет?»[19] Продавец так и не нашелся что ответить. А дедушка не отступает, требует, чтобы ему продали портрет коммунистической партии, и все тут. Сел перед прилавком и ни в какую не уходит; на шум народ сбежался. В конце концов пришел местный начальник и так и эдак дедушке объяснял, еле-еле уговорил его идти домой. Это случилось давно, говорят, тогдашний уездный секретарь упомянул про этот случай в своем докладе, когда говорил о том, как любят коммунистическую партию крестьяне нового Китая. Никто над дедушкой не смеялся, наоборот — все были тронуты его простодушием.
Дедушка воткнул курительную палочку, поманил меня рукой. Я, конечно, понял, чего он хотел, подошел к стене и почтительно отвесил поклон портрету председателя Мао.
— Когда тебе ехать в провинциальный центр? Сказано о том в той бумаге или нет? — спросил меня дедушка.
— Сказано, прибыть двадцать пятого числа — стало быть, девятого числа по старому календарю.
— Второе, третье, четвертое… — Дедушка считал, загибая пальцы. — Н-да, у тебя только семь дней. И как же ты будешь добираться?
— Надо ехать на машине, а потом поездом.
— Сколько это стоит?
— Не знаю…
— Сходи в коммуну, узнай там все…
— Завтра же схожу.
На следующий день с утра, едва я собрался идти, пришел секретарь Лю. Поздоровался и тут же дал понять деду, что это благодаря его, секретаря, усилиям и заботе я нынче могу ехать учиться в город. Еще он сказал: «Конечно, Дунпин и сам зарекомендовал себя с хорошей стороны. Не жалея себя, спас человека, дочку секретаря Ли. Это свидетельство его глубокой любви к партии. Кого же, как не таких, как Дунпин, нам растить и воспитывать?»
Секретарь Лю говорил и дружески похлопывал меня по плечу.
Дедушка весь просиял на радостях и, не зная, как отблагодарить секретаря Лю, долго всплескивал руками, а потом сказал:
— Секретарь Лю, я хочу…
— Что такое!
— Я хочу просить вас, уважаемый, откушать с нами, только вот угощенья хорошего у нас нет…
— Кадры и массы — одна семья, какое там еще угощение, закусим кое-как курятинкой, и ладно.
— Ага, я сейчас курочку, курочку… — радостно подхватил дед.
— Не тратьтесь на всякие там закуски — немного соли, бульону, и хватит. Я человек неприхотливый…
Договорившись, секретарь Лю быстро вышел.
Дедушка велел мне побыстрее вскипятить воду, а сам, взяв бутыль, пошел раздобыть вина. Он бежал, спотыкаясь, по улице и всех окликал. Кто-то спросил его:
— Ты что, с утра уже хлебнул малость?
— Какое там! Секретарь Лю сегодня у нас обедает.
Днем пришел секретарь Лю, в левой руке он держал бутылку вина, в правой — палочки для еды, съел всю курицу и даже бульон выпил без остатка. Дедушка боялся, что он много соли положил, но все обошлось, секретарь Лю, пока ел, не выказал никакого недовольства. Наевшись, он нагнулся, поднял с пола травинку и стал ковырять ею в зубах, потом, широко раскрыв захмелевшие глаза, он заботливо спросил:
— Какие у Дунпина еще сложности с поездкой в город?
Дедушка вытолкал меня из комнаты и лишь после этого спросил:
— Сколько нужно денег, чтобы доехать на машине и поезде?
— Ну, юаней двадцать, никак не меньше, — ответил секретарь Лю.
— Так много? — Дедушка опешил.
Секретарь Лю дважды утвердительно хмыкнул и добавил:
— А чтобы учиться в университете, нужны еще деньги на еду.
— Сколько?
— В месяц десять юаней с лишним.
— Так много? Что ж там за обеды такие? И так каждый месяц?
— Ну, есть-то каждый месяц надо.
— Каждый месяц по десять с лишним юаней… Где же мне такие деньги взять?
— А учиться в университете плохо, что ли? Это все равно что цзюйжэнь[20] по старым временам. — Секретарь Лю стал учить дедушку: — Уважаемый, уж лучше на зерне для кур сэкономить, чем на такое дело деньги жалеть. Вот окончит Дунпин через три года университет, станет кадровым работником. Будет в месяц получать по сорок-пятьдесят юаней, и так каждый месяц, вы прикиньте-ка, сколько за целый год получится! Вам, уважаемый, тогда ни черта бояться не надо будет!
— Так-то оно так, — сказал дедушка, — да только нынче-то ничего не выходит. На дереве деньги висят, да нет лестницы, чтобы приставить к нему и достать.
— Ну и что же делать?
— Пойду поспрашиваю в нашей бригаде.
— Да разве я не знаю, какое положение в производственной бригаде? Вчера хотели купить упряжь на буйвола, и то денег не было… Ну, не получится у Дунпина с поездкой, не будем мучиться, пошлем вместо него другого человека.
— Нет, нет! — поспешно выкрикнул дедушка.
— Если у вас есть что-нибудь ценное, то продайте, — помолчав немного, сказал секретарь Лю.
— Что же продать? Тыквы еще не созрели.
Секретарь Лю громко рассмеялся; дедушка вздохнул.
— Уважаемый, хочу дать вам совет, вы позволите?
— Говорите…
— Разве нет у вас кипарисового гроба?
— Есть, лаком в три слоя покрыт.
— Продайте его мне, я дам за него три сотни юаней. С этими деньгами вам не нужно будет беспокоиться о расходах Дунпина. Ну как?
— Секретарь Лю… — Дедушка вдруг заговорил холодным тоном.
А я тут был, рядышком, стоял и подслушивал за дверью. Услыхав это, я не утерпел, вбежал в комнату и говорю деду:
— Дедушка, не продавай гроб. Я лучше пешком в город пойду!
— Да разве ты дойдешь так далеко? — вздохнул дедушка.
— Хорошо, что у тебя есть воля, я поддерживаю твою революционную решимость! — Секретарь Лю уставился на нас с дедушкой и чеканным голосом проговорил: — «Решительно боритесь с трудностями, развивайте славные традиции Великого похода Красной армии…»
А затем, смеясь, ушел.
Весь вечер дедушка молчал, а его опечаленное лицо походило на сморщенную тыкву. Ближе к ночи дедушка сказал, что пойдет поговорить с Пань Лаоу. Пань Лаоу занимался сплавом леса, моя мать называла его братом, а я его звал дядей. Когда мать была жива, он приходил в наш дом, приносил мне кулечки печенья в красивой обертке, это было мое самое любимое лакомство. Я помнил, что Пань Лаоу смуглый, худой человек, веселый и живой. Пань Лаоу жил в поселке на берегу реки, в тридцати верстах от нашей деревни. Я хотел было сопровождать дедушку, да он не позволил, взял свой посох и ушел. Представил я себе, как этот старый человек идет ночью, ориентируясь по звездам, и на душе у меня стало очень неспокойно. Полночи я не мог заснуть и все прислушивался, как за окном, не умолкая, стрекочут цикады.
К рассвету дедушка уже вернулся и радостно сказал мне:
— Ну, все в порядке. Не нужно денег, у Пань Лаоу как раз составили новый плот и будут сплавлять его по реке в город. Ты поплывешь на плоту…
Я знал: на плоту плыть до провинциального центра не меньше двадцати дней, наверняка мне не успеть в университет к назначенному сроку. Но что я мог сказать? Я даже обрадовался: не нужно будет продавать дедушкин кипарисовый гроб.
Дедушка два дня собирал меня, купил мне большой мешок для вещей, пару тапочек сорок третьего размера.
— Дунпин, ну-ка примерь.
Я надел тапочки, а в них сзади можно еще и кулак засунуть.
— Дедушка, тапочки мне велики, — говорю я.
— Вижу, — говорит дед. — И ведь они вон насколько длиннее сорокового размера, сколько денег зря потратил! Но ничего, нога-то у тебя еще вырастет.
За день до отъезда, вечером, дедушка мне упаковал вещи в две корзинки. В одну положил одежду, в другую — рис, а сверху три маленькие тыквы и сказал: «Жаль, что сорвать тыквы пришлось раньше времени, но зато потом на плоту сваришь их и дядю своего угостишь». Затем он вынул пятнадцать юаней (кроме двух бумажек по пять юаней, все остальные деньги были мелочью), завернул их в тряпочку, сунул мне в карман, вынул иголку с ниткой и принялся зашивать карман сверху.
— Дедушка, я сам зашью.
— Ты у меня неаккуратный, сделаешь кое-как.
Дедушка зашил карман, вздохнул.
— Запомни: одежду не снимай, а иногда ощупывай ее. Как приедешь в институт, первым делом заплати за еду. Мы хоть и бедняки, да не нахлебники у государства… А потом дедушка постарается и будет тебе каждый месяц высылать… Учись хорошенько, будь умником…
Под конец дедушка достал кулек, сунул мне в руку и взволнованно сказал:
— Ты уже совсем большой, а дедушка тебе так ни разу и не купил ничего вкусного… Сегодня уж я твердо решил купить тебе кулечек, сядешь на плот и съешь спокойно. Ну ладно, иди спать, завтра утром дедушка тебя разбудит…
Я развернул кулек, а там оказались не засахаренные фрукты, а штук двадцать белых, источавших гнилостный запах комочков. Я хотел посмеяться — и не смог, на душе у меня стало горько.
Но все проходит, я был молод, отходчив. Вскоре я уже лежал в постели и думал совсем о другом: правда, везет мне здорово, могу поехать учиться в город, да еще в железнодорожный институт! Сбылась моя давнишняя мечта: я не только увижу поезд, но и сам буду строить железные дороги. Да, я должен хорошо учиться, я должен построить железную дорогу, довести ее до моих родных гор, чтобы и дедушка мой смог прокатиться на поезде, и я бы тогда смог отблагодарить его за заботу… Так думая, я заснул.
Среди ночи я проснулся. Свет луны проникал через окошко в комнату. Я увидел, что дедушка босиком, в одной рубахе стоит у моей кровати и тихонько гладит мои волосы, щеки, плечи… Потом, сложив руки на хилой груди, он долго стоял неподвижно, беззвучно шевеля губами, и крупные слезы катились из его глаз и блестели в седой бороде.
Я не удержался, встал и бросился в его объятия. Мне очень многое хотелось сказать дедушке, но я смог выговорить только одну фразу:
— Дедушка, я хочу построить железную дорогу…
На следующий день утром дедушка, неся мои корзинки, проводил меня до берега реки Сяошуй. Кое-кто из соседей тоже пошли провожать меня до околицы и напутствовали:
— Будешь учиться, не забывай дедушку, и нас не забывай!
Солнце уже было высоко, когда мы пришли на берег. У берега, поросшего зеленой травой, покачивался на воде большой плот с кабинкой. На плоту стояли три человека, среди них был худой, в закатанных до колен штанах, совсем седой старик. Я с трудом припомнил, что это дядя Пань Лаоу.
Пань Лаоу перенес мои вещи на плот, а потом протянул руку, втащил на плот меня, похлопал по затылку.
— Что, Дунпин, помнишь еще дядю?
— Помню, — сказал я.
— Вот, парень, ты уж и студент!
Пань Лаоу помахал дедушке рукой: «Ну, почтенный, иди домой, а за внука будь спокоен!»
Все трое разом навалились на шесты, плот тихонько отчалил. Дедушка, словно что-то вдруг вспомнил, поспешно сделал несколько шагов, даже зашел в воду. А плот уже вышел на середину реки и поплыл по течению.
Я обернулся: у пустынного горизонта, за кромкой деревьев виднелись черные крыши — это деревня, в которой я вырос. А на безлюдном берегу дедушка все еще стоял по колено в воде и не отрываясь смотрел в мою сторону. Неожиданно для себя я вдруг крикнул:
— Прощай, родина! Прощай, дедушка!
II
Плот неспешно плыл по реке, делая в час по шесть-семь верст… Сидя на плоту, можно было отчетливо видеть оба берега реки. На Сяошуй нет никаких ориентиров, указывающих фарватер, и потому река предстала моему взору во всей своей простой, естественной красе, как девушка с гор, которая не носит украшений. В верхнем течении реку теснят с обеих сторон темные горы, и она течет словно по коридору. Вода в ней очень чистая, каждая веточка отражающихся в реке деревьев и летящие над ней птицы видны как в зеркале. Если вам придется совершить плавание по Сяошуй, вас непременно охватит необыкновенное чувство — как будто мир вокруг почти что и не существует, птицы летают по дну, а рыбы кружат среди горных вершин. А что касается людей, то нельзя понять, то ли они в воде, то ли на небесах. Вокруг все зеленое, и эта вечная зелень опьяняет. Только вдали над речкой поднимается синеватый туман, его синева манит, влечет куда-то, навевает безбрежные думы. Но стоит вам приблизиться к ней, как эта синева превращается в зелень. Не думайте, что вам удастся когда-нибудь проникнуть в этот волшебный переливающийся мир.
Иногда река вырывается на простор, освобождается из плена гор и утесов и тогда становится сравнительно широкой, мелеет и издает на перекатах приятный шум. Но вот еще поворот, горы снова подступают к реке, и она вновь обретает спокойствие. Сколько на реке поворотов, столько и водоподъемных колес. Огромные колеса медленно вращаются, днем и ночью без остановки, поднимая вверх воду, черпаки опрокидываются и выливают ее в деревянные желоба. Сколько лет вращаются здесь эти колеса? Неизвестно. И сколько еще будут они вращаться? Кажется, они вечны в своем служении. Колеса издают скрипучую песнь, и едва звуки одного затихнут, как приближается другое звучащее колесо. Словно они рассказывают старинную легенду: император Шунь[21] отправился на юг и умер на равнине Цанъу. Его жены — Эхуан и Нюйин — с далекого севера пришли разыскивать могилу своего царственного мужа. Дики и непроходимы были южные горы! Жены Шуня проложили в горах узкую дорогу, эта дорога и стала нынешней рекой Сяошуй, так как скорбящие жены шли по вновь проложенной дороге и плакали, а их слезы падали и превращались в чистую реку. А откуда же на реке Сяошуй так много поворотов? Потому что Эхуан и Нюйин смотрели и налево, и направо, и на восток, и на запад, кружили да петляли в горах. А почему река Сяошуй то глубокая, то мелкая? Потому что Эхуан и Нюйин то бежали быстро вперед, то шли медленно, внимательно глядя под ноги…
Эта причудливая легенда еще больше украшает реку Сяошуй. Такая величественно-спокойная, такая простая и чистая река. Ее величавость навевает печаль, ее чистая простота вселяет гармонию.
Я сидел на плоту и жадно вглядывался в живописные дали по сторонам: смотрел на горы, на деревья, на воду и на небо, смотрел на причудливые камни у берегов. Но вскоре взор мой немного притомился, и я уже мог смотреть только на что-нибудь живое — буйволов, баранов, собак и особенно людей. Затем по берегам уже не осталось живых существ, на глаза попадались только водоподъемные колеса, которые, словно добрые, трудолюбивые старики, подавали воду на поля, даря жизнь растениям. Кто знает, возможно, колеса сознают свою помощь людям, чувствуют себя от этого счастливыми! Только вот в весенний ливень, в летнюю жару, в осеннюю ночь, в холодный зимний дождь, когда не слышно ничего, кроме завывания ветра, и они стоят в полном одиночестве… ах, они несчастны… Потом я поднял голову и стал смотреть на кудрявые облака и птиц, летающих в поднебесье. Казалось, птицы охраняют плот с воздуха. А потом я увидал вдали переправу с каменной пристанью. Рядом несколько женщин стирали белье и били по нему скалкой, но звуков не было слышно, только скалки их мелькали вверх-вниз, вверх-вниз…
Безделье трудно выносить, мне захотелось чем-нибудь заняться, но те трое моих спутников на плоту тоже скучали. Пань Лаоу сидел неподалеку от меня и прочищал проволочкой свою трубку. Прочистит, постучит, раскурит и выпустит из ноздрей две струйки дыма, тающие в воздухе. Потом опять прочистит, опять постучит, опять раскурит… Словно никак не может наиграться. А вон тот молодой сплавщик по имени Ши Гу не произнес ни слова с тех пор, как я сошел на плот. Он очень высокий и худой. На нем тоже короткие штаны, а его обнаженный торс отливает цветом старинной меди. Парень источает красоту, молодость и силу. Он сидит сейчас у кабинки с угрюмым и почти злобным видом и по-волчьи сверкает глазами. Кажется, так и не успокоится, пока не укусит кого-нибудь. Один лишь добросовестный Чжао Лян — трудяга — стоит на носу плота и держит в руках правило. Он невысокого роста, средних лет, на плоском лице радушие и кротость. Он изо всех сил налегает на весло, широко расставляет ноги, его бросает то влево, то вправо. Он кряхтит, с него льется пот, но, как бы ни было ему тяжело, он и не думает звать на помощь.
— Давай левее немного, левее… — лениво командует Пань Лаоу, даже не поднимая век. Он ведь на плоту старший.
Ши Гу по-волчьи глянул на Пань Лаоу и подошел помочь Чжао Ляну.
Пань Лаоу бросил взгляд на Ши Гу и, довольный, расхохотался. Набил трубку, раскурил ее и нетерпеливо сказал мне:
— Ха-ха, в семье поучения, на плоту закон. Люди молодые должны побольше трудиться, из них сила прет, как вода из ключа, вот пусть и находят ей применение.
— Сволочь! — выругался Ши Гу.
— Кто сволочь? — Пань Лаоу встал.
— Ты! — выкрикнул решительно Ши Гу. — Ты-то что делаешь? Когда лес волочить, плот сбивать, кабинку строить, ты, свинья толстомордая, лишь командуешь.
— Эй, парень, ты полегче!
— А ну тебя, с тех пор как отплыли, палец о палец не ударил.
— Не твое дело, чего звенишь зря!
— Ну, хватит. Из тысячи монет за работу тебе четыре сотни, а мне с Чжао Ляном по триста оставил… Только и умеешь, что глотку драть.
Оба начали переругиваться, все больше распаляясь.
— Что, подраться хочешь? — Пань Лаоу засунул трубку за пояс, поплевал на ладони. — Ну давай, парень, подходи. Посмотрим, кто в воде будет!
Ши Гу ухмыльнулся и с горящими глазами двинулся на Пань Лаоу.
Чжао Лян поспешно бросил свое весло, встал между ними, загородил дорогу Ши Гу.
— Это что такое, это…
Я прежде не бывал свидетелем таких сцен и сидел потупившись.
— Пусти, сегодня уж я из него душу вытрясу! — Ши Гу, стараясь отстранить руки Чжао Ляна, рьяно лез на Пань Лаоу.
Но Пань Лаоу хитро глянул на них, одним прыжком оказался позади кабинки и так громко захохотал, что на берегу несколько птиц испуганно взлетели в воздух.
— Ха-ха… — Чжао Лян понял, что Пань Лаоу нарочно разыграл испуг, и сам засмеялся. Одураченный Ши Гу растерянно стоял поодаль, не зная, куда пойти.
— Ладно, хороший петух с псом не дерется, не буду я с тобой драться. — Пань Лаоу тряхнул головой и смерил Ши Гу пронзительным взглядом. — Это потому, что ты по-настоящему и не хотел драться. А если б хотел, Пань Лаоу всыпал бы тебе. Что, браток, хотел на мне зло сорвать? Не выйдет, со мной такой номер не пройдет… Эх, я и сам знаю, жизнь не сахар, я такой же, как ты…
Он вышел из-за кабинки, подошел к Ши Гу и по-дружески положил ему руку на плечо.
— Я-то знаю, дело не в том, что в тебе сила бродит, и не в том, кто сколько денег за работу получает. Просто сейчас мы плывем мимо горы Цзиньшань, вот тебе и невесело. Но только к чему быть таким сердобольным? Из-за бабы мучиться — это пустое. Женщины — как цветы на дереве: сегодня распустились, а завтра опадут. Они как вода в реке: обволокут тебя, окрутят, а там глянь — уж и унеслись далеко-далеко, и след их простыл!
— Чушь порешь! — Ши Гу махнул рукой и сел рядом.
— Я никогда ерунды не говорю. Много знавал я старых сплавщиков, раньше всяк был сам себе голова. Вот и я так семью и не завел, до сих пор бобылем хожу. Как думаете, почему это?
Никто, естественно, не ответил. Пань Лаоу тихим и мягким голосом продолжал, словно разговаривая сам с собой:
— Я с пятнадцати лет плоты сплавлял, для меня небо — одеяло, а вода — постель. Один старый сплавщик наказал мне: сплавщикам ни в коем случае нельзя заводить семью. Не говоря уж о хлопотах и расходах, женщине твоей одно горе выйдет. Покуда ты жив, будет она одна сидеть, а если погибнешь, то и тела твоего не сыщут. Я тогда к этим словам не прислушался, все думал найти хорошую девушку, завести дом, хозяйство. В тот год весной я сплавлял плот до переправы в Сияне, а лес был тогда возле Усиской излучины. В тот день рано утром одна девушка пришла на берег стирать белье, а наш плот как раз поблизости остановился. Она и говорит мне: «Уважаемый сплавщик, позволь мне на твоем плоту постирать». Я говорю: «Заходи, но давай побыстрее, а не то мы тебя с собой увезем». А она мне со смехом и говорит: «Ну и увозите, чего мне бояться?» Смеется она, а зубки у нее такие красивые, белые. Я смотрю, как она белье стирает, разговариваю с ней. Она долго стирала, и я долго с ней говорил. Наконец она встала, одной рукой взяла свою корзинку, другой закинула свою длинную косу на плечо, улыбнулась мне и ушла. А скалку свою забыла на плоту, да я не стал ее догонять и кликать. Очень мне хотелось, чтобы она еще раз пришла за своей скалкой. На следующее утро она действительно пришла, спрашивает меня: «Уважаемый сплавщик, не видали ли вы мою скалку?» Я говорю: «Да вот она, я целый день ждал, когда ты за ней придешь». — «Из-за этой скалки вы целый день пути потеряли». — «Больно скалка хорошая. Жаль было бы, если бы ты ее потеряла». — «Ну и добрый же ты сплавщик. Что же, эта скалка из золота, что ли, сделана?» Туда-сюда, я с этой девушкой четыре дня не расставался. На пятый день пришлось уж мне отчалить. Та девушка пришла меня проводить, у нее слезы на глаза навернулись, сама слова вымолвить не может. Я обещал ей, что, как только доставлю плот в город, тут же вернусь за ней, привезу ей колечко, сережки, кофточку из сучжоуского шелка. Она покраснела, протянула руку, легонько дотронулась пальчиками до пуговиц на моей куртке. И сказала тогда, что от праздника Цинмин до праздника Дуаньян каждый день будет встречать меня на той переправе и будет надевать красную кофточку, чтобы я издалека смог ее заметить…
— Ха, тоже обещала надеть красную кофточку. — Чжао Лян оживился и ткнул Ши Гу пальцем в бок.
Ши Гу поднял голову, посмотрел на Пань Лаоу, глаза его засияли.
— А потом? — Я не слыхал этой истории, и мне было интересно.
Пань Лаоу раскурил трубку, выпустил дым:
— Эх, на конском хвосте да бобы висят! Что и говорить! В тот год весной воды мало было, ну, я у затона Гуаньинь напоролся на пароход, и уйти в сторону нельзя было, пароход вдарил по плоту, плот и разлетелся, бревнышки аж в воздух взмыли, люди в воду упали, девятеро погибли как один. Ну а мы, трое парней, кинулись бревна по реке собирать, да только и половины не собрали. А если бревен нет, то не только денег не дадут, но еще и за потерянные бревна взыщут. А денег нет — будешь в долг работать, пока все не выплатишь… Пришлось даже все с себя продать, осталась только пара штанов. И так, и этак крутился, за любую работу брался, едва успел в день летнего праздника вернуться к той переправе. Гляжу на берег, вижу, что под ивами стоит девушка в красной кофточке. Я хотел позвать ее, да не осмелился: где обещанное мной колечко? Где сережки? Где кофточка шелковая? С чем пойду я свататься к ней в дом? Да и, пойди она за меня замуж, чем я буду кормить ее? Меня долги давят, как мельничный жернов, того и гляди придавят насмерть… Нет, не буду я причинять ей зла… Подумал я так и повернул обратно, и уж далеко ушел, а все еще было видно, как среди зеленых ив выступало красное пятнышко — это она была…
Пань Лаоу привычно тряхнул головой и продолжал:
— Ну, ясное дело, погоревал я маленько, а потом полегчало. Поверил я тогда старому сплавщику: не должен сплавщик заводить семью — вода соединит, да вода и разлучит… Конечно, то было в старое время. Но сейчас-то что изменилось? Река — все та же, плоты — те же, и, как прежде, то ветер, то дождь, и солнце, и комары кусачие; безделье, заботы и гибель людей на плотах — все по-старому… Ох и горькая же доля у сплавщиков!
Пань Лаоу умолк, легонько постучал трубкой. Помолчав немного, Ши Гу отошел к краю плота, лицо его опять стало мрачным.
Чжао Лян взволнованно кашлянул пару раз, глухо сказал:
— Верно, не должен я на полдороге выходить из дела, надо сплавлять.
— Мы же договорились, — сказал ему Пань Лаоу.
— Делать нечего, дома девять ртов есть просят.
— С тремя сотнями выкрутишься.
— Эх и тоскуют и волнуются же за меня жена и дети. — Плоское лицо Чжао Ляна помрачнело, он осторожно спросил: — Старший брат, а с нами вроде того дела не приключится?
— Что? Встретить девушку в красной кофточке?
— Нет, я про плот говорю…
— Не болтай! — зло крикнул Пань Лаоу. — С Пань Лаоу можешь быть спокоен. А случится что, ты ведь меня знаешь. Не получим за работу, так я тебе свои триста отдам!
— Шкура плешивая! — бросил Ши Гу. — Случись что, ты ведь сам гол, как скорлупа яичная!
— Тебе, парень, видно, не терпится со старшим потягаться?
Ши Гу не обратил внимания на слова Пань Лаоу, тяжело вздохнул и ушел спать в кабинку.
На реке поблизости покачивался бамбуковый плот, а на нем стоял старик-рыбак; на краю плота сидели четыре белые цапли и полоскали в воде крылья.
Увидев рыбака, Пань Лаоу повеселел.
— Эй, старина, ты еще жив, рыба есть?
— А, Лаоу, у тебя рука легкая. Есть рыба, на три цзиня с лишним…
— Покажи.
Старик вытащил из бамбукового садка большого карпа с красным хвостом. Карп извивался в его руках и ярко блестел на солнце.
— Молодец, у меня сегодня как раз гость, — сказал Пань Лаоу.
— Кто такой? Может, свидание?
— Да ты что! У меня тут племянник, он на моем плоту в провинциальный центр едет!
— А по какому делу едет?
— По какому делу? Учиться едет! В университет!
— Молодой еще…
— Сила воли не зависит от возраста… Сколько просишь?
— Да как ты скажешь, так и будет!
— За два юаня возьму.
— Я лучше другого покупателя поищу.
— Ищи не ищи, а пойдешь на базар продавать; как ни прячь свой товар, все равно загребут тебя, капиталиста…
— Ай-ай, если нынче уж и рыбу ловить преступление, то вправду… — Старик отдал садок, и бамбуковый плотик поплыл.
Пань Лаоу привязал садок к плоту, чтобы он плыл следом.
— Эй, Дунпин, мы уж тут целый день шумим, а я с тобой еще не поговорил. — Пань Лаоу боялся безделья и потому нашел для себя еще одну тему. — Ты куда же учиться едешь?
— В железнодорожный институт, — уже привычно ответил я.
— И чему же там учат?
— Учат строить железные дороги, паровозы.
— Ха, хорошее дело. Учись, учись побыстрей — и проложишь по берегу Сяошуй железную дорогу. Паровоз-то бежит быстро! — горячо заговорил Пань Лаоу. — Тогда мы плоты сплавим, а обратно на поезде поедем. Не надо будет пешком идти!
Стоявший рядом и слушавший наш разговор Чжао Лян сказал задумчиво:
— Но ведь, если будет железная дорога, паровоз сам бревна повезет, зачем тогда плоты спускать?
— Да, пожалуй. И что ж тогда нам, сплавщикам, делать? На что жить? Нет, не нужно нам железной дороги. — Пань Лаоу покачал головой и засмеялся.
Это был довольно сложный вопрос, никто не мог его решить.
Солнце клонилось к закату, на воде горели золотистые блики, и ослепительные искорки навевали дрему. Не найдя что сказать, Пань Лаоу снова полез в свой кисет. Места, по которым проплывал плот, были точь-в-точь такими, как прежде: ущелья, скалы, деревья, излучины, колеса, кружащие вдали птицы. Потом плот миновал ущелье и поплыл вдоль низкого правого берега, за которым расстилалось широкое поле. На рисовых полях у берега трудилось много мужчин и женщин — они убирали рис. Было видно сверканье серпов и слышен хруст срезаемых стеблей. Не было ни ветерка, который мог бы охладить душившую людей жару: их спины взмокли от пота, время от времени люди разгибались, вставали во весь рост, чтобы передохнуть. Подняв голову, они смотрели на небо и проплывающие вверху облака. Жара сморила и людей на плоту. Пань Лаоу скинул рубаху, потом без всякого смущения снял штаны и совсем голый встал на краю плота и смотрел на берег.
— О-го-го! — что было силы закричал Пань Лаоу.
Голос его достиг берега: первыми на берегу откликнулись два пастушка.
— Эй, гляди…
Убиравшие рис люди тоже разогнули спины и уставились на реку, не понимая, в чем дело. Но скоро они разглядели стоявшего на плоту голого человека. Мужчины начали кричать ему, женщины повернулись спиной. А две смелые бабенки не оробели и громко обругали его:
— Ну ты, дохлятина безмозглая…
— Сукин сын! Камень по тебе плачет!
Пастушки, получив поддержку взрослых, побежали по берегу за плотом и стали бросать в него камни.
— Эй, слабаки, цельтесь получше… — крикнул со смехом пастушкам Пань Лаоу. Чжао Лян посмеивался.
Поначалу я был поражен поведением Пань Лаоу. Но прошло немного времени, и удивление мое рассеялось, я даже жалел, что плот плывет так быстро и бросаемые мальчишками комья земли падают так далеко от нас. Я больше не слышал голосов на берегу и не различал покрытых потом лиц людей.
Пань Лаоу сложил руки и прыгнул в реку, вынырнул, громко фыркнул и крикнул мне:
— Давай сюда, тут здорово, холодно.
Не мог я не поддаться его призыву, вода манила меня. Забыв совет дедушки, я стал стаскивать одежду, но, сняв штаны, вспомнил и замешкался.
— Чего боишься, это ж естество твое… — громко подбадривал меня Пань Лаоу.
Я решительно расстался со штанами и голый бросился в прохладную воду. Какое это было блаженство! Как будто все мое тело разом освободилось от пут, стало свободным и легким! Кожа, так долго не соприкасавшаяся с внешним миром, словно исцелилась в прохладных струях. На меня натыкались рыбки и рачки — то в бок, то в спину, — и я невольно рассмеялся.
— Здорово! Вот из-за этого я и сплавляю плоты! — Пань Лаоу держался рукой за плот, выставив голову, и делился своей жизненной философией. Он говорил: — Вот люди — умные они? Нет, человек — самое глупое существо. К примеру сказать, солнце печет вовсю, кому же не хочется одежду скинуть? Но нет, никто не раздевается, обязательно оставят на себе две-три одежки, а сами потом обливаются. Такой уж человек, сам себе заботы ищет, сам себя мучит… Или вот еще: ты человек, и я такой же человек, так почему ты митинг открываешь, а мне идти на него, ты дунешь в свисток, а я побегу, ты отдашь приказ, а я подчинюсь, ты скажешь, что я капиталист и контрреволюционер, а я голову опущу и мне на грудь бирку нацепят? Неужто люди должны вот так терзать друг друга, друг другу пакость делать? Да, в наше время человек все больше меняется, как его не ненавидеть, не презирать? Я часто думаю, что все триста шестьдесят пять дней в году так и остался бы на плоту, не сошел бы на берег. Я тут сам по себе: что хочу, то и делаю. Но вот странное дело: и счастье, и недовольство куда-то деваются, снова хочу быть с людьми — разными людьми. Почему такое, ну почему?
Пока Пань Лаоу так говорил, моя радостная свобода куда-то исчезла. И у него настроение, по мере того как он говорил, тоже падало. Он выбрался из воды на плот, обсушился на солнышке и надел штаны.
За целый вечер Пань Лаоу больше не проронил ни слова. Он сидел у кабинки, скрестив ноги и положив локти на колени, с выражением невыносимого страдания на лице. Ши Гу так и не вышел из кабинки, он забыл про людей и словно надеялся, что люди забудут про него. Только Чжао Лян все сидел у прави́льного весла и смотрел на реку, лицо его было довольным и незлобивым.
В глубокой тишине не раздавалось ни единого звука, слышно было только, как вода журчит между бревен плота. В душном воздухе стоял какой-то высокий и тихий звук, словно жужжание комаров, но то были не комары. Звук был ровный, переливчатый, печальный. Иногда он долетал с правого берега, иногда с левого. Я никак не мог разобрать, откуда же он, этот странный звук, и кто производит его. Мне было видно, что зеленые кусты по обоим берегам, на склонах гор, поникли под палящим солнцем. Казалось, это они завели свою печальную песнь, жалуясь на мучивший их зной!.. Звук вселял в людей беспокойство, он не только разгонял тишину, но от него еще больше клонило в сон.
…Когда я проснулся, солнце уже село за горизонт, плот почти остановился, причалив к старым тополям на пустынном берегу. Густая листва тополей укрывала плот. В тени деревьев было прохладно, на реке дул тихий ветерок, разгоняя дневную жару. Я почувствовал запах еды — это Пань Лаоу варил ее на костре: передо мной стояла чашка с рыбой и чашка с тушеным мясом.
Пань Лаоу, держа в руке большую бутылку, сказал мне:
— Поешь-ка. Сегодня, будем считать, ты, племянник, у меня в гостях. Ты не пьешь вина?
Я засмеялся, положил себе риса и принялся есть.
Пань Лаоу налил мне вина, отпил глоток.
— Ха, отличное вино, отличное вино! — По всему было видно, что он доволен. Он отпил еще несколько глотков и сказал: — Ну, одному пить — вкуса не почувствуешь. Чжао Лян, иди-ка сюда!
Чжао Лян сидел поблизости и тоже закусывал, рот его был набит едой, он покачал головой и улыбнулся.
— Что такое, брезгуешь пить с Пань Лаоу?
Чжао Ляну ничего не оставалось, как взять свои чашки и подсесть. Пань Лаоу заглянул в чашку Чжао Ляна и засмеялся.
— Овощи пополам с солью — это все, что тебе твоя старуха в дорогу дала?
— Нет, еще есть четыре яйца.
— Надо же! — шутливо воскликнул Пань Лаоу. — Вот странно, и отчего ж ты такой упитанный?
— Я вообще-то сам себя кормлю, — стал объяснять Чжао Лян, ничуть не смутившись. — Каждый год в страдную пору у нас в семье выходило много соевого соуса, вот я и не жалел его…
— Не жалел, точно не жалел! — Пань Лаоу громко рассмеялся.
Чжао Лян не понял, почему тот смеется, и недоуменно уставился на меня. Я тоже не понимал, что тут смешного. По правде говоря, Чжао Лян действительно не жалел соевого соуса, я же дожил до таких лет, а еще не знал вкуса соевого соуса.
— Ешь, ешь, я в рыбу много соуса положил, — сказал Пань Лаоу.
— Угу, — промычал Чжао Лян и положил в рот кусочек мяса.
— Выпей вина.
— Угу. — Чжао Лян отпил немного из чашки Пань Лаоу, встал и пошел со словами: — Вскипятим-ка воды да выпьем чаю. Пойду хвороста принесу.
Видно было, что Чжао Лян не хочет угощаться у Пань Лаоу. Он был щепетилен, сам не одалживался и другим не предлагал.
Пань Лаоу молча выпил чашку, наверное, опять почувствовал, что в вине нет вкуса, и, повернувшись к шалашу, громко крикнул:
— Ши Гу, дело есть, иди, вместе выпьем пару чашек.
Ши Гу наконец-то вылез из шалаша: волосы растрепанные, лицо распухло. Он поглядел на Пань Лаоу, ничего не сказал, взял бутылку, налил себе чашку и, запрокинув голову, одним махом выпил все. Опять налил, опять выпил — и так, не переводя дух, выдул кряду три чашки, словно это была вода.
— Ну, молодец, вот это да! — восторженно сказал Пань Лаоу. — Гляди-ка… — Он одним махом с бульканьем вылил оставшуюся половину бутылки в рот.
— Э-хе-хе, жаль пить-то так… — сокрушенно сказал Чжао Лян.
— Чего жалеть, вино на то и делают, чтобы люди пили… Ши Гу, иди-ка сюда, еще бутылка есть… — Пань Лаоу резко встал, открыл рот, сделал, покачиваясь, несколько шагов, схватил Ши Гу за руку. Ши Гу легко толкнул его плечом, Пань Лаоу отлетел от него и больше к нему не цеплялся.
Старый сплавщик совсем опьянел, долго непрерывно смеялся, а потом заплакал. Он плакал и ругался, ругал районного секретаря Ли Цзячэня, ругал секретаря коммуны Лю:
— А они-то, Ли и Лю… должны же совесть иметь! Я, Пань Лаоу, в бурю прихожу, в дождь уезжаю, зарабатываю на жизнь несколько медяков, а они говорят, что я… кап… капиталист… совсем старика прижали! А какое я преступление совершил… я коммунистов много видал… мы в тот год с районным начальником Сюем братались, штанами поменялись… они себя коммунистами называют… врут они… поганцы…
Пань Лаоу заплакал и поплелся к воде. Чжао Лян схватил его, сказал со злостью Ши Гу:
— Вот до чего ты довел его, что делать теперь?
— Сейчас устроим. — Ши Гу нашел в кабинке веревку и привязал ею Пань Лаоу к столбику на плоту.
Пань Лаоу смотрел вокруг покрасневшими глазами и вдруг крикнул:
— Лю Дасюнь человека связал… Помогите кто-нибудь, помогите же…
Сумерки совсем сгустились, надвинулась черная ночь.
Пань Лаоу плакал, рвался, но в конце концов успокоился. Мы с Чжао Ляном развязали его и отнесли в кабинку спать. Хотя он ничего не соображал, но лицо у него было горестное, сморщенное, мокрое от слез.
— Ох и тяжко у него на душе… — сказал Чжао Лян.
— А что с ним такое? — спросил я.
— Эх! — Вместо ответа Чжао Лян улегся спать.
Я все ждал его ответа, но он быстро уснул и храпел вовсю. Речные комары набились в кабинку и кусали нещадно, словно иголками кололи. Я никак не мог заснуть, хотя и очень устал, и в конце концов выполз из кабинки.
Луна еще не взошла, и надо мной ярко горели россыпи звезд. На берегу виднелись черные силуэты деревьев, от которых становилось немного страшно. Я заметил силуэт человека — это был Ши Гу. Он долго бродил среди кустов, потом остановился и замер, как каменный истукан. Похоже, он что-то говорил сам себе, а потом запел жалостливую песню, мелодия ее была знакома мне:
Я привез браслет, Где твоя рука? Я привез шелка, А твое тело отдано другому! Если есть в тебе любовь, выйди, встреть меня, Я взгляну на тебя и умру со спокойной душой…III
Не помню, когда начал подниматься туман. На рассвете он, словно толстое покрывало, окутал все вокруг: вполз на берег, поднялся над кустами и деревьями, растекся во все стороны. Первым проснулся Чжао Лян. За ним проснулся и я. Туман заполнил нашу кабинку, обволакивал лица. Мы в упор не видели друг друга.
— Ну и туманище! — сказал Чжао Лян.
— Похоже, дождик накрапывает, — сказал я.
— Это ты? Я думал, это Лаоу.
— Он еще спит.
— А Ши Гу?
— Когда я засыпал, он был еще на берегу, в полночь…
— Ты бы позвал его.
— Не посмел я, он злой…
— Не злой он, сердце у него доброе; когда у него все нормально, он веселый… Мы с ним из одной деревни, я его знаю… — Чжао Лян вылез из кабинки и продолжал: — Н-да, не видать что-то, надо идти искать.
— Я тоже пойду.
— Идем.
Мы умылись водой из реки, поднялись на берег. Это была отлогая насыпь, сверху стояли могучие деревья, а вокруг клубился стального цвета туман. Мы шли на ощупь, ступая по колючей траве, роса на траве замочила ноги. Наверху туман был реже и по цвету бледнее. Но на расстоянии в пять шагов по-прежнему ничего не было видно. Мы стали шарить в траве вокруг, наткнулись на что-то темное и скользкое — это был ствол упавшего дерева.
— Ши Гу, ты где? — позвал Чжао Лян.
Вокруг ни звука, и голос Чжао Ляна потонул в тумане. Неизвестно откуда донесся птичий щебет, словно говоривший: «Хороша жизнь! Хороша жизнь!..»
— А что у него за печаль на сердце? — спросил я.
— У кого?
— У Ши Гу.
— Да уж, в этот год, не знаю почему, многим людям выпало несчастье, каждому свое…
— У него, кажется, проблема с женитьбой?
— Угу. — Чжао Лян понизил голос. — Я скажу тебе, но ты никому не передавай, он не хочет, чтобы другие знали…
— Почему?
— Он человека убить замыслил!
Чжао Лян рассказал мне: Ши Гу и одна девушка из его деревни полюбили друг друга. Звали ту девушку Гайгай[22], потому что она родилась в тот год, когда проводили земельную реформу. Она не только была хороша собой, но и характер у нее был мягкий, в делах была смышленая, стала старшей женского звена в производственной бригаде. Ши Гу и Гайгай с детства вместе росли, друг с другом крепко сдружились, и, хотя они не поговаривали о женитьбе, все в деревне считали, что они родились друг для друга. Но два года тому назад у Ши Гу умер отец, а слепая мать слегла в постель, у них появилось много долгов. Делать нечего, пришлось Ши Гу пойти в подсобную бригаду коммуны, заняться сплавом леса. Старинная поговорка гласит: хорошая девушка не носит хворост, хороший юноша не сплавляет лес. Но Гайгай ничего не захотела менять в своей жизни, она жалела Ши Гу и верила в него. Она сказала: «Брат Ши Гу, будь спокоен! Твоя мать — моя мать, утром расчешу волосы, вечером омою ноги. Я присмотрю за ней и твоим хозяйством». Ши Гу, как было положено, отработал два года, скопил денег, отдал долги, а еще купил расшитое цветами одеяло и белую подушку. В этом году после праздника весны Ши Гу и Гайгай собирались зарегистрировать свой брак в коммуне, но тут из уезда пришло извещение о том, что Гайгай направляется в «Группу изучения опыта коммуны Дачжай», пришлось ей уезжать. Гайгай сказала тогда: «Брат Ши Гу, я дней через десять или через полмесяца вернусь, тогда и поженимся, ладно?» Ши Гу ответил: «Хорошо, я тоже плот сплавлю, куплю тебе браслет, колечко, кофточку шелковую…» Гайгай спросила: «Надо ли нынче покупки делать?» «Нужно, нужно, — ответил Ши Гу. — Без этого и жизнь нам будет не в радость». «Ну хорошо, — сказала Гайгай. — Я буду каждый день вставать на цыпочки и смотреть, не едешь ли ты». «Где ты будешь стоять? — спросил Ши Гу. «На берегу под ивами», — сказала Гайгай. «Надевай красную[23] кофту», — сказал Ши Гу. «Почему?» — спросила Гайгай. Ши Гу говорит ей: «Когда я буду возвращаться, издалека смогу тебя увидеть». «Отныне я буду носить только красную кофту, других не надену», — со смехом сказала Гайгай.
— Вот здорово придумано, — сказал я, — всегда носить красную кофту…
Помолчали мы, а Чжао Лян говорит:
— Да ты не все знаешь; прошло два месяца, Ши Гу сплавил свой плот, вернулся в деревню, а девушки в красной кофточке и не видать.
— А куда же делась Гайгай? — поспешно спросил я.
— А Гайгай уехала.
— Куда?
— Замуж вышла!
— Как же она смогла? — Я был поражен.
— Эх, что ж делать-то ей было?.. — Чжао Лян помолчал немного и потом продолжил: — Уехала Гайгай на свою учебу, а через двадцать дней возвратилась в деревню. Она действительно всегда носила красную кофточку и с утра до вечера стояла под ивами на берегу, все ждала Ши Гу. На земле под теми ивами даже две впадинки появились от ее ног. Но только горы высоки, река длинна, Ши Гу к сроку не вернулся. А тут секретарь коммуны Лю сам пришел к ней в дом сватом…
— Секретарь Лю, тот самый Лю Дасюнь?
— Он самый. Он очень хотел сосватать ей своего подопечного, а этот подопечный оказался секретарем отделения коммуны и родственником районного секретаря Ли Цзячэня. Лю Дасюнь и так, и эдак его расхваливал, уламывал Гайгай: «Он в этот раз вместе с тобой был на учебе, ну и приглянулась ты ему! Гайгай, это для тебя отличный шанс!» Гайгай посмеялась и сказала: «Такой шанс редок, но у меня уже есть жених!» Лю Дасюнь глазами захлопал, стал допытываться, кто такой, Гайгай ему сказала, что это Ши Гу. Лю Дасюнь сказал, качая головой: «Сплавщик леса — ну что тут хорошего?» Еще он сказал, что если об этом узнает районный секретарь, то могут быть неприятные последствия. К тому же Гайгай должна проявить комсомольскую сознательность и поступить так, как ей руководители указывают. Гайгай не слушала, посмеивалась и не придала тому разговору значения, по-прежнему ждала Ши Гу и думала, что они вот-вот поженятся. Только через несколько дней разнесся по деревне слух, будто Ши Гу затеял где-то драку, ранил человека. Еще стали поговаривать, что он, мол, продал налево государственные материалы и его забрали. Некоторые кадровые работники заговорили втихую, что, когда Ши Гу вернется в деревню, надо бы устроить над ним суд и наказать его, а то и вовсе послать на исправительные работы… Гайгай не вытерпела, пошла к Лю Дасюню разузнать, что к чему. Лю Дасюнь не стал ей ничего говорить, сказал только, что дело темное, но уж лучше верить слухам, чем не верить. Лю Дасюнь поковырял травинкой в зубах и сказал заплетающимся языком: «Порви-ка ты лучше с ним, а не то тебе хуже будет». Но Гайгай твердо сказала: «Если он подрался, я выплачу штраф, а если он в тюрьму сел, я ему еду буду носить!» Гайгай верила, что Ши Гу не мог сделать ничего плохого. Как бы ни обливали его грязью другие, она ничего в голову не брала. По-прежнему носила красную кофточку, каждый день ждала под ивами своего милого. Кто ж знал, что еще через несколько дней в деревню придет извещение: отцу Гайгай идти дробить камни, а матери Гайгай отправляться на свиноферму коммуны. А не пойти — значит выступить против движения «Учиться у Дачжая». Отцу Гайгай скоро семьдесят стукнет, он уже больной весь, согнулся, как натянутый лук. Мать Гайгай тоже больная, ходит всегда с палкой. Им не то что камни дробить или свиней кормить, им просто из дома уехать смерть неминучая. Вся деревня видела, что это было нарочно подстроено, чтобы сломить Гайгай. Лучшего повода и придумать было невозможно. Гайгай, понятное дело, все сообразила. Плакала она, уж так плакала, что глаза у нее стали вечно красными, и тут-то в отчаянии наказала она отцу с матерью: «Не ходите, и все, посмотрим, что они будут делать». Ну а потом уж пришли народные ополченцы, хотели стариков связать, Гайгай не выдержала, побежала к Лю Дасюню… Лю Дасюнь тут же велел освободить стариков и приказ об отправке их на работы отменил… А уж вскоре, на третий день, ходил к Гайгай тот ее самозваный жених, подарил ей красную кофту. На пятый день Гайгай уехала, ничего с собой не взяла, только старую свою красную кофточку сняла, надела белую[24]…
— А куда Гайгай переселилась после свадьбы?
— В рыбоводческую коммуну, это здесь неподалеку, — сказал Чжао Лян.
— А Ши Гу не мог пойти к Гайгай?
— Ой, этого еще не хватало! Может убийство произойти!
— Он правда задумал убить?
— Ага, он хочет убить того парня, всегда носит с собой большой нож… Эх, ну и дела! Ши Гу! Ши Гу! — отчаянно заорал Чжао Лян.
Туман как будто немного рассеялся, вокруг прояснилось. Среди белых клубов тумана можно было различить лежавшее впереди рисовое поле, кустарники, снопы только что срезанного риса. Мы прошли еще немного вдоль берега и вдруг увидели недалеко от нас смутно вырисовывающиеся фигуры людей. До нас донеслись звуки жатвы. Подошли мы еще ближе, а это группа женщин. Они только что сжали большой участок поля, наверное, они и ночевали здесь. Сейчас они только встали, еще не отошли ото сна. Одни причесывались и умывались у кромки поля, другие сидели на корточках и справляли малую нужду, третьи были полуодеты или еще не успели застегнуть пуговицы. Это все были изнуренные тяжелой работой женщины, их тела задубели от ветра и зноя, а их ум был неразвит и примитивен. Мы подошли к ним, но долго не могли добиться от них слова или какой-нибудь реакции.
— Вы кто такие? — сказала наконец одна крупная тетка сиплым голосом.
— Мы сплавщики, — ответил Чжао Лян.
— Ищете своего человека?
— Да, парня одного, где он?
— Да тут он. Он все звал кого-то целую ночь, теперь спит небось. Молодой еще, а хороший человек!
Голос женщины немного подобрел. Она отвела нас в сторону: под низкими деревцами, на толстой подстилке из рисовой соломы спали двое мужчин. Я вгляделся внимательнее: один из них был Ши Гу. Увидел я, что он сладко спит и не пошел ночью делать свое черное дело, и у меня отлегло от сердца.
— Вы уж не будите его, — сказала сердобольная женщина. — Вчера вечером старый Сюй начал харкать кровью, горячий был, словно уголь, вся одежда промокла у него от пота… Мы тут все просто не знали, что и делать. К счастью, появился этот парень, словно небо его нам послало… Как его зовут?
— Зовут Ши Гу, — сказал Чжао Лян.
— Верно, Ши Гу его звать. Он еще говорил, сестричка у него есть, несколько месяцев назад она вышла замуж и переехала в нашу деревню.
— Ее зовут Гайгай? — поспешно спросил я.
— Да, Гайгай… она…
— Она не сестра ему, — выдал я тайну.
— Она ему сестра по линии жены, — быстро вставил слово Чжао Лян. — Скажи-ка, почтенная, а что за человек этот старик Сюй?
— А это прежний районный начальник Сюй.
— Сюй Минхун? — изумился Чжао Лян.
— Ты знаешь его?
— Во время земельной реформы и создания кооперативов он всем руководил, кто ж из нас его не знает! Старик Сюй хороший человек!
— А кто спорит?!
— А как же он здесь оказался?
— Это долго рассказывать, — сказала женщина. — В пятьдесят восьмом году, когда был большой скачок, наверху сказали, что он против выплавки стали, против общественных столовых, в пятьдесят девятом его сняли, и он вернулся домой простым человеком. А когда началась «культурная революция», Ли Цзячэнь и его люди сказали, что он вредит всем, в прошлом году его к нам направили на исправительные работы… Он изнемог от работы, все харкал кровью, но держался крепко, никогда не жаловался… у всякого, кто хоть чуточку добр, при виде него сердце сжималось от жалости. Вчера наше звено послали сюда убирать рис, мы заявили, что без мужчины молотить нельзя будет, тогда наш секретарь сказал: «Хорошо, дадим вам мужчину…» Он, песья башка, дал нам старика Сюя… Мы старика Сюя жалели, не давали ему молотить, а он не уступал, целый день вкалывал, а потом у него кровь горлом пошла! Ох и горе!
— Почтенный Сюй, почтенный Сюй! — Чжао Лян немного забеспокоился, присел на колени у подстилки, пристально вгляделся в лежавшего рядом с Ши Гу человека. Я тоже наклонился, но в тумане никак не мог разглядеть его лицо.
В это время к нам подошли еще несколько женщин.
— Эх, совсем больной, а к доктору не дают сходить…
— Дом есть, а навестить не дают, родня есть, а повидать не дают…
— Сколько дней он еще проживет?..
— За что ж с хорошим человеком так плохо обошлись?
— Во дворце есть подлый вельможа…
По природе от рождения добрые, крестьянки легонько судачили да вздыхали.
Все вокруг хорошо знали почтенного Сюя, я один не мог взять в толк, кто он такой, какое прегрешение он совершил и почему все так его жалеют, так его уважают и любят.
Ши Гу проснулся, сел, увидел нас и сказал:
— Дядя Чжао Лян, давай отнесем почтенного Сюя на плот.
— Хм, — призадумался Чжао Лян, — а потом куда его?
— Отнесем, а там видно будет, не то он здесь не выживет!
— Да, но это надо с Пань Лаоу обговорить.
— Чего тут обговаривать, человека надо спасать, вот и весь мой сказ!
Я и не заметил, как Пань Лаоу тоже подошел, его голос всех был громче, полон волнения и ненависти. Он сердито разогнал женщин, двинулся к почтенному Сюю.
— Почтенный Сюй, ты здесь, вот уж не думал… Нет, кто-то хочет, чтобы ты помер, а я хочу, чтобы ты жил. — Он командирским тоном сказал Ши Гу: — Давай отнеси его на плот!
Ши Гу взглянул на Пань Лаоу, и во взгляде его была не только покорность, но и благодарность. Он осторожно приподнял находившегося в бессознательном состоянии, почти бездыханного почтенного Сюя. Тут женщины встревоженно, приглушенно загалдели:
— Пусть они отнесут…
— Если не будет человека, то что мы скажем, когда будет проверка?..
Пань Лаоу повернулся и сказал им:
— А, чего тут, скажите, что ничего не видели! Это дело не ваше, мы все на себя берем. Я скажу, что почтенный Сюй умер и я сбросил его в реку!
Женщины замолчали и стояли печально.
— Пошли! — махнул рукой Пань Лаоу.
Ши Гу взвалил себе на закорки почтенного Сюя и понес его, мы с Чжао Ляном поддерживали его с двух сторон, медленно ступая.
— Осторожнее! — покрикивал сзади Пань Лаоу.
Ши Гу замедлил шаг, перевел дух и вступил в плотный туман. Женщины беззвучно прошли за нами десяток с лишним шагов, а потом та большая женщина крикнула:
— Давай назад, нам работать надо!
И вновь незнакомая мне птица завела свою песнь: «Хороша жизнь, хороша жизнь…»
Мы уложили почтенного Сюя в кабинке на плоту как можно удобнее, накрыли его одеялом, подложили под голову подушку. Чжао Лян быстро вскипятил воды, Ши Гу сидел рядом с почтенным Сюем.
На реке по-прежнему лежал густой туман, воды не видно было, но Пань Лаоу без колебаний отчалил. Он правил сам, и его худая фигура маячила на носу плота. Острый взгляд Пань Лаоу, казалось, пронзал туман и прозревал на реке каждый поворот, каждый утес, каждую мель. Теперь это был совсем другой человек — сосредоточенный, решительный, словно он вступил в поединок с собственной жизнью.
Когда мы прошли пять-шесть верст, выглянуло солнце. В тумане оно казалось огромным желтком, его лучи рассеивались в дымке, окрашивая ее в золотистый цвет, дробили ее на мельчайшие капли и разгоняли. Потом проявилось белесое небо, зеленые берега, и я снова увидел таинственную темно-синюю даль. Впереди лежала широкая и покойная река. Пань Лаоу огляделся, бросил править и неторопливо полез в кабинку.
Теперь я смог отчетливо разглядеть лицо Сюй Минхуна, вид которого заставлял сердце сжиматься от жалости: лоб, щеки, подбородок словно сморщились и были покрыты неприятной желтизной. Длинный нос выпирал, будто лезвие ножа. Губ почти не было видно, только белый ряд зубов обозначал его рот. Если бы не чуть заметное дыхание, можно было бы подумать, что это покойник. Невозможно было представить, что этот «покойник» еще вчера молотил весь день под палящим солнцем.
Ши Гу подносил ему на ложечке кипяченую воду, но вода проливалась мимо, и только очень малая ее часть проникала в рот.
Примерно через четверть часа на лице умирающего появились признаки жизни, потом из горла его донесся глухой стон, и он медленно открыл глаза. Удивительно, но его глаза оказались похожими на две чистые жемчужины — влажные, сияющие — и взгляд умный. Еще немного, и эти глаза узнали окружающих.
— Пань Лаоу, это ты? — заговорил почтенный Сюй слабым, но очень чистым и мягким голосом.
— Это я, уважаемый Сюй, это я, ты еще помнишь… — Пань Лаоу был очень взволнован, и у него покраснели глаза.
— Дружище старый, сколько раз я у тебя учился плоты сплавлять. Когда это было в последний раз?
— В тысяча девятьсот пятьдесят седьмом году, в летний праздник.
— Вспомнил, в день летнего праздника мы стояли у Чэньцзяцяо и ели сладкие пирожки. А в пирожке оказался камешек, ты тогда чуть было не побил продавца…
— Верно, ты еще покритиковал меня… Я злой был, но ты, уважаемый Сюй, успокойся, я теперь другой…
Сюй Минхун прикрыл веки, улыбнулся.
— Уважаемый Сюй, а меня ты еще помнишь? — спросил, не утерпев, Чжао Лян.
— А, это ты, старый трудяга Чжао Лян, в пятьдесят восьмом году, когда строили водохранилище в Хуаси, мы с тобой два дня ворочали камни, вспомни-ка.
— Да. — Чжао Лян радостно закивал головой.
— Помню, ты тогда говорил, что старуха твоя родила четырех девочек, а ты хотел мальчика; а сейчас как?
— Сейчас у меня семеро, и все девочки…
— Наверное, не стоит ей больше рожать, воспитание — важное государственное дело, но надо идти навстречу призывам партии… Неужели еще рожать собирается?
— Хочет… — Чжао Лян покраснел от стыда и сказал: — Я в этот раз вернусь домой и скажу ей, что больше рожать не надо, что это наказ уважаемого Сюя…
— Ну а ты кто? — Почтенный Сюй вгляделся в Ши Гу. — Нет, нет, не говори, я сейчас вспомню… А скажи-ка, из какой ты деревни?
— Из Мэйхэкоу я… — торопливо заговорил Ши Гу.
— Верно, ты сын Ши Маня, вот вырос — прямо вылитый отец…
— Мой отец умер за год до великой культурной революции…
— Эх, я уж этого не знаю. Помню, как в пятьдесят седьмом году в праздник середины осени я был в твоем доме, даже ночевал у вас, мы с тобой спали на одной кровати; тебе тогда сколько лет-то было?
— Десять лет. Вы мне вырезали из палки ружье, оно у меня до сих пор есть.
— Точно, а я забыл! А что матушка твоя, как у нее с глазами?
— Давно ослепла.
— Эх, женщины в горах много жгут костров и от этого слепнут. Я давно думал, что нужно изменить очаги, приделать к ним дымоходы, да вот из-за занятости руки все не доходили… Виноват я перед твоей матерью.
— Уважаемый Сюй, очень прошу вас, не говорите так, — выпалил Ши Гу.
Сюй Минхун обратил внимание и на меня, но я был очень молодой, он, конечно, не мог ничего вспомнить.
— А ты, парень, не из города ли приехавший молодой интеллигент?
— Нет, — ответил я, — я из Цзиньчжугоу, моего дедушку зовут Ли Шоугань, а моего отца звали Ли Юаньчан.
— Ли Юаньчан. — Почтенный Сюй вдруг оживился, в глазах его загорелся огонек, голос окреп, руки напряглись, и он присел. — Твой отец умер с голоду, и мать, и твоя бабушка… трое в одной семье умерли, большая беда стряслась! Я тогда написал доклад уездному секретарю, а меня потом обвинили в том, что я клевещу на политику трех красных знамен… но ведь это правда… правда!
Почтенный Сюй не смог продолжить, тело его обмякло, и он упал в постель, закрыл глаза, а из его груди вырвался резкий, нездоровый кашель.
— Уважаемый Сюй! — испуганно вскрикнули разом все.
Почтенный Сюй открыл глаза, к нему вернулось спокойствие. Он спросил:
— Я на плоту?
— Ага, мы тебя отправим домой, попросим доктора тебя осмотреть, — сказал Пань Лаоу.
— Да как же это получится, я ведь нахожусь под надзором… — Помолчав, почтенный Сюй сказал еще: — Ну, поступайте как знаете, все одно, все одно… Вынесите-ка меня наружу, больно душно здесь…
— Снаружи ветер, — сказал Чжао Лян.
— Но ведь там солнце, сверкающее солнце!
Мы вынесли почтенного Сюя наружу, положили его на доски. Свежий воздух и солнце придали ему сил. Он вертел головой, смотря то на небо, то на воду, то на зеленые берега. Потом спросил:
— Товарищи, живется-то несладко, верно?
— Сколько горя хлебнули — и сказать нельзя, — ответил Пань Лаоу. — Боль в сердце самая тяжелая, ее не выплюнешь.
— Но ни в коем случае нельзя винить коммунистическую партию и социализм… Дорога революции сложная, тут все может случиться. А наша великая партия обязательно сметет все преграды, приведет народ к социализму… многие уже поняли, что народ не обманешь… облака никогда не скроют солнца… Что скажете?
Почтенный Сюй погрузился в раздумья. На берегу невидимая птица, вторя его прежним словам, запела: Хороша жизнь, хороша жизнь…»
— Да, что бы ни было, нужно жить хорошо! — сказал вдруг почтенный Сюй, услыхав пение птицы. — Вы знаете, что это за птица? Не знаете? Ну ладно, я вам расскажу одну историю…
— Уважаемый Сюй, вы притомились, — сказал Ши Гу.
— Я не устал. — Почтенный Сюй отвел руку Ши Гу, поднял глаза, словно всматриваясь куда-то в даль.
Вот какую историю рассказал Сюй Минхун:
«Зовут таких птиц «птицами-сестрицами»… Они летают всегда парами и никогда друг с другом не расстаются. Люди говорят, что в каждой паре есть одна старшая сестра и одна младшая. Как их различить? У старшей сестры на спинке есть красное перышко, а у младшей красное перышко на грудке.
Прежде на реке Сяошуй таких птиц не было, они появились только со времен Великого похода. Было это больше тридцати лет тому назад. Однажды в эти места пришел красный отряд, бойцы очень утомились, хотели отдохнуть на горе. Но только они расположились на отдых, как внизу загремели выстрелы — это враги преследовали их. Пришлось отряду идти дальше. Но у восьми бойцов отряда так распухли ноги, что они не могли идти, и командиру ничего не оставалось делать, как спрятать их в укромном месте, чтобы они потом, отдохнув, догнали отряд. Две девушки из отряда остались ухаживать за бойцами.
Этим девушкам было только по девятнадцати лет, они были близняшками и походили друг на друга, как два листочка одного дерева. Они спрятали бойцов в пещере на склоне горы, а враги стали обыскивать гору и три дня не уходили.
Девушки заволновались, подождали, когда бойцы уснут, и стали решать, что делать. Старшая говорит: «Не можем мы прятаться здесь, как мыши». Младшая говорит: «Верно, мы должны пойти собирать целебные травы, чтобы лечить наших товарищей». Старшая говорит: «Снаружи враги». А младшая говорит: «Я не боюсь!»
На следующее утро был густой туман, и девушки ушли из пещеры. Уходя, они наказали раненым, что бы ни случилось, из пещеры не выходить.
Ползком, скрываясь, добрались они до маленького ручья. Уже и солнце взошло. А целебных трав не видно. Младшая говорит: «Сестра, я попью воды!» Старшая намочила платок, передала его младшей. Поползли они дальше, миновали три бамбуковые рощи, три сосновые, солнце уже над головой, а целебных трав все не видно. Младшая говорит: «Сестра, я есть хочу!» Та сорвала листок и дала ей. Ползут они дальше, руки в кровь изодрали о колючки, колени в кровь разбили о камни, солнце уже к западу клонится, а целебных трав нет как нет. Младшая говорит: «Сестра, я устала смертельно». Та положила ее голову себе на колени и дала ей отдохнуть.
Младшая очень быстро уснула. Старшая осмотрелась по сторонам и вдруг заметила одну очень ценную целебную траву: маленький желтый цветок, поддерживаемый семью зелеными листьями. Она тут же окликнула сестру: «Сестричка, скорей проснись!» Та проснулась, увидала цветок, обрадовалась: «Цветок с семью листьями!» Забыв об усталости и голоде, о врагах и опасности, сестрицы стали набивать той травой свои сумки. Уже месяц вышел, подул ветерок, запели цикады в горах. Пошли они назад, подошли к пещере, вдруг видят — огни. Это враги кругом все обыскивают. Младшая и говорит: «Мы должны врагов отвлечь!» Старшая выхватила гранату, бросила во врагов, а потом обе, взявшись за руки, быстро взбежали на соседнюю гору. Враги их окружили, кричали им и в них стреляли. Тут младшей сестре пуля в грудь попала, и она упала. Старшая вскинула ее себе на спину, побежала дальше. Младшая умоляла бросить ее, а старшая отвечает: «Сестричка, надо умереть, так умрем вместе!»
Поднялась сестра на вершину, а сил уж нет. Враги ее обступили, кричат ей: «Сдавайся!»
Они подожгли траву на горе, огонь и дым полнеба заволокли.
— Да здравствует Красная армия!
— Да здравствует КПК!
Это звучали звонкие голоса сестер. А потом из огня взмыли в небо две маленькие птички…»
Мы слушали, затаив дыхание, рассказ Сюй Минхуна. Плот плавно покачивался на воде, берега были ярко освещены солнцем, среди зелени кустов мелькали красные пятна диких цветов. Раздавалось пение тех птичек, казалось, они говорили людям: «Не надо переживать, не надо унывать и печалиться, не надо из-за горестей и невзгод терять веру. Хороша жизнь, хороша жизнь…»
IV
И без того обессиленный, Сюй Минхун утомился, произнося такую длинную речь, и снова лишился чувств. Мы опять отнесли его в кабинку, положили поудобнее. Молчали мы и даже не смотрели друг на друга. Но наше молчание сплотило нас. Мы понимали друг друга сердцем. Через некоторое время стали мы обсуждать, куда лучше отправить почтенного Сюя. Предложение отвезти его домой было отвергнуто. Конечно, дома ему будет хорошо, но ведь завтра его опять куда-нибудь направят, а это будет равнозначно смерти. Нужно найти укромное место, нужно отыскать какого-нибудь бесстрашного человека, и тогда уважаемого Сюя можно будет спасти. Но где есть такое место и такие люди? Мы думали также и о том, чтобы оставить почтенного Сюя на плоту и отвезти его в город. Но на плоту и здоровый-то человек теряет в весе, а такой больной, как почтенный Сюй, на этом открытом всем ветрам плоту наверняка смерть свою встретит. Судили мы, рядили, да так ничего и не придумали. Мир такой огромный, а для почтенного Сюя, выходит, местечка в нем не найдется.
В полдень плот плыл вдоль поросших большими деревьями берегов. Река здесь делала крутую излучину и поворачивала на запад. Пань Лаоу вдруг стал тормозить, и плот остановился в этом безлюдном месте.
— Почему здесь встали? — недоуменно спросил Ши Гу.
— Здесь пристроим почтенного Сюя, — решительно сказал Пань Лаоу.
— А что это за место? — спросил Чжао Лян.
— Это Тыквенная излучина, — ответил Пань Лаоу. — Неподалеку отсюда рыбак Лао Вэйтоу живет.
— Это тот Лао Вэйтоу, которого мы видели вчера? — спросил я.
— Он самый, — кивнул головой Пань Лаоу. — Я прикинул, только к нему и можно будет пристроить нашего Сюя. Лао Вэйтоу — человек добрый и честный, и он тоже знает почтенного Сюя. А главное — он живет совсем один, вокруг ни души, и ни одна собака не разнюхает…
Услышав эти слова, все согласились. Ши Гу сказал:
— Ну ладно, а далеко это отсюда?
— Недалеко, версты четыре-пять, вдоль маленького ручейка через вот этот лес, а там до домика Лао Вэйтоу рукой подать.
— Хорошо, срубим веток, сделаем носилки, — сказал Чжао Лян.
— Не стоит, лучше на спине нести. — Пань Лаоу обратился ко мне: — Дунпин, ты оставайся на плоту, а мы пойдем втроем…
Хотя не очень-то хотелось мне оставаться, я кивнул головой. Ши Гу взвалил уважаемого Сюя на спину. Пань Лаоу и Чжао Лян пошли следом, озираясь по сторонам, не видит ли кто-нибудь; стараясь не шуметь, они вышли на берег и исчезли в густых зарослях. Длинные и худые, похожие на бамбуковые стволы, ноги Сюй Минхуна болтались из стороны в сторону и долго еще были у меня перед глазами. Я думал: выживет ли он?
На берегу было пустынно, а под двумя большими деревьями валялись кости буйвола, и от их белизны становилось немного не по себе. Этот буйвол всю жизнь где-то поблизости надрывался от тяжкой работы. В какой год, в какой месяц забрел он в воду, барахтался, старался выплыть и в конце концов утонул? Звали ли его тогда люди? Искали ли они его? Печалились ли о его несчастной судьбе?.. На берегу не видно было никаких следов, кроме тех, которые только что оставили Пань Лаоу и его товарищи. Видно, в это место и впрямь никто не приходил. Тут я опять подумал о Сюй Минхуне, словно это его белые кости лежали на речном берегу… Внезапно меня охватил страх. Я громко кашлянул, и в ответ мне откликнулось эхо, словно какой-то таинственный незнакомец прокричал мне в ответ. Я хотел было запеть, но не мог выдавить из себя ни звука. Тогда я залез в кабинку, принялся доедать остатки пищи, и, хотя я чувствовал острый голод, рис показался мне безвкусным песком. Я отложил чашку, вылез из кабинки, побродил по плоту туда-сюда, на сердце у меня щемило… Вдруг в траве у берега я заметил какое-то шевеление, пригляделся внимательнее — это заяц. Он объедал траву, быстро-быстро перебирая розовыми губами. Обглодав травинку, заяц поднял голову и как ни в чем не бывало посмотрел на меня. Это был красивый заяц, его пепельная шерсть блестела на солнце. Длинные уши торчали по бокам его головы, словно то была повязка, какие обычно носят девушки с гор. Розовые глаза, похожие на хрусталики, без смущения и тревоги глядели прямо на меня с любопытством и доверчивостью. Заяц как бы спрашивал меня: ты кто такой? Зачем пришел сюда? Видать, неуютно, тоскливо тебе? Иди сюда, поиграем… Мне стало спокойно и весело, будто я и вправду услыхал от него такие слова. Я сошел на берег и подошел к зайцу. Тот отпрыгнул в сторону, пробежал десяток шагов, опять присел и стал смотреть на меня. Я невольно пошел за ним, а он юркнул в густые заросли. Однако он убегал от меня не далеко — может быть, чтобы я мог его заметить, — отбежит чуть-чуть и остановится. Так он завел меня в самую чащу. Ну и густой же это был лес! Гладкие темно-красные стволы деревьев прижимались друг к другу, а их ветви и листья, словно зеленый шатер, склонялись над моей головой, совсем закрывая небо. Среди деревьев порхало множество бабочек. На каждом шагу вокруг меня взлетали рои комаров и мошек. Я думал, что попаду в царство смерти, а оказалось, что в чаще жизнь била ключом! На земле толстым слоем лежали сгнившие плоды, и в воздухе витал приторно-сладкий запах. Запах этот пьянил меня, и, хотя заяц давно уже исчез из виду, я по-прежнему шел вперед. Я увидел в траве пару перепелок, хотел их схватить, да они улетели. На том месте, откуда они взлетели, я нашел маленькое серое яйцо и осторожно положил его в карман. Когда я разогнул спину, я вдруг увидел перед собой просвет и, пройдя немного вперед, вышел к небольшой поляне, на которой стоял примитивный шалаш. На вершке шалаша сушилось много рыбы. Неожиданная находка очень удивила меня: кто же это живет в таком диком и густом лесу? Я постоял на опушке, озираясь, — никого не видно; затем нерешительно двинулся к шалашу, сделал несколько шагов и вдруг отчетливо услышал плач взрослого мужчины.
Плач был непрерывный и очень горестный. Так может плакать только очень страдающий человек.
Я обошел шалаш кругом и увидел старика, который сидел на корточках спиной ко мне, обхватив голову руками, его острые локти тряслись от рыданий. Он перестал плакать — наверное, услыхал шаги или заметил мою тень. Потом резко вскочил на ноги и уставился на меня заплаканными глазами.
— Ты кто такой?
Я сразу же узнал старика по его седым волосам и выступавшим вперед зубам. Это был не кто иной, как рыбак Лао Вэйтоу, повстречавшийся нам вчера.
— Почтенный Вэйда! — крикнул я.
Старик прощупал меня глазами.
— Ты…
— Я… вчера с плота вы продали Пань Лаоу рыбу…
— А-а… студент. — Старик тоже узнал меня, облегченно вздохнул и взволнованно прибавил: — Да, рыба, рыба… больше не будет рыбы. — Говоря это, он опять невольно расстроился.
— Почтенный Вэйда, что с вами?
— На душе у меня нехорошо. Гляди. — Он показал на что-то неподалеку от себя.
И тут только я увидел, что на земле лежали четыре цапли, шеи их были перерезаны, перья в крови.
— Кто же это сделал? — испуганно спросил я.
— Кто сделал… псы бешеные покусали… Ах, боги небесные, я одинокий старик, занимаюсь ловлей рыбы — какое преступление я совершил? Я продаю пойманную рыбу — ну какие законы могу я нарушить? Все любят рыбу есть, и районный секретарь Ли Цзячэнь тоже… Но эти два года житья совсем не стало, ловлю рыбы объявили чуть ли не разбоем, пришлось прятаться от всех, вот и нашел я такое место, откуда и змея не выползет. Рыба есть, да продавать нельзя, остается лишь сушить… Кадровые работники в бригаде говорят, что я занимаюсь неправильным делом, все принуждают меня идти в поле. Я им отвечаю, что не могу, а они мне — что я развожу капитализм, и ругают меня на всех собраниях… Что же мне делать? Если я не буду ловить рыбу, то мне нечего будет есть. Ли Цзячэнь вчера устроил большой митинг, приказал по всему району раздавить капиталистических прихвостней: увидят курицу — резать курицу, увидят утку — резать утку, вырвать все с корнем… Мои верши сломали, цапель погубили!.. О боги небесные, как же мне жить теперь…
Слушая Лао Вэйтоу, я невольно вспомнил отца. Тогда тоже была общественная кампания. Наша Цзиньчжугоу тоже была охвачена, нескольких кур в нашем дворе убили, и отцовского «куриного банка» не стало. И вот теперь мне казалось, что это отец мой рыдает предо мной…
Лао Вэйтоу с заплаканными глазами вырыл ямку, похоронил в ней цапель и насыпал на том месте холмик, обложив его камнями. Покончив с этим, он наконец-то сообразил задать мне вопрос:
— А ты как попал сюда?
— Мы остановились тут, на берегу.
— А где же Пань Лаоу и остальные?
— Ай! — вскрикнул я, вспомнив, что Пань Лаоу и его товарищи понесли почтенного Сюя к Лао Вэйтоу, и поспешно добавил: — Они на берег сошли, отправились вас искать!
— Меня? Зачем?
— У них один тяжелобольной человек, хотели просить вас присмотреть за ним.
— Кто же этот тяжелобольной?
— Почтенный Сюй, они еще называли его «районный председатель Сюй».
— Сюй Минхун?
— Да, его так зовут.
— Что с ним?
— Он умирает, Пань Лаоу хочет спасти его…
— Так что ж ты раньше не сказал?.. Надо его спасать!
Лао Вэйтоу встрепенулся, и в один миг скорбь сошла с его лица. На смену ей пришли мужество и решимость. Он быстро оделся и, не говоря мне ни слова, поспешно ушел, оставив в шалаше на огне котелок, в котором булькала вода, и громко хлопала крышка над кипящим содержимым.
…Кое-как дождался я своих. Солнце почти ушло за горизонт, когда Пань Лаоу и его спутники вернулись на плот. Все они взмокли от пота и выбились из сил. Чжао Лян отвязал концы, оттолкнулся от берега шестом, и плот плавно поплыл по течению, мягко покачиваясь. Все сидели в полном молчании. Теперь, когда почтенного Сюя не было среди нас, каждый погрузился в свои думы, исчезли и наше единение и сплоченность. На плоту воцарилось тягостное, пугающее молчание, как при чуме. Нашим взорам по-прежнему представали вертящиеся колеса, вдали все так же сверкал недосягаемый мир синевы. Я рассказал всем, как встретился в лесу с Лао Вэйтоу, как тот плакал, когда хоронил своих цапель. Я полагал, что рассказами можно разрушить эту гнетущую тишину, и не подумал о том, что на душе у каждого станет еще тяжелее. Чжао Лян непрерывно вздыхал, Ши Гу потирал подбородок, Пань Лаоу с силой стучал трубкой о край плота.
— Не стучи! — раздраженно сказал Ши Гу.
Пань Лаоу, будто нарочно, стал стучать еще громче. Ши Гу бросил на него злобный взгляд.
— Дунпин, — обратился ко мне Чжао Лян, — пойдем-ка закусим.
Я понял, чего он хочет, и, подыграв ему, спросил Пань Лаоу:
— Дядя, поедим тыкв, хорошо?
— Как хочешь. — Пань Лаоу даже не повернул головы.
Чжао Лян скрылся ненадолго в кабинке, потом опять вышел и спросил:
— Ши Гу, а где мои спички?
Ши Гу хлопнул ладонью по карману:
— А, черт, забыл у Лао Вэйтоу.
— А спички-то нынче на вес золота, их и не купишь нигде.
— Виноват, дядя Чжао. — Ши Гу понимал, что обстановка накалилась, и разговаривал мягко.
— Над губой нет волос — до дел больших не дорос, — протянул Пань Лаоу, вынул коробок спичек и передал их Чжао Ляну. — Того, кто теряет спички, заставим есть сырую пищу.
Не успел он договорить, как Ши Гу вскочил, выхватил у Чжао Ляна коробок, размахнулся.
— Сейчас ты у меня поешь горячего!
И спички, описав большую дугу, упали в реку.
Пань Лаоу вспыхнул и сильно ударил Ши Гу в грудь. Тот отшатнулся, но не упал и с искаженным ненавистью лицом уставился на Пань Лаоу, крепко сжимая кулаки. Казалось, никакая сила не сможет ему помешать стереть Пань Лаоу в порошок.
Я с испугу крепко вцепился в руку Чжао Ляна, а тот примирительно звал Ши Гу:
— Ши Гу, Ши Гу… — но тоже не осмеливался приблизиться к нему.
Ши Гу подошел к Пань Лаоу, который ждал его, расставив ноги в боевой стойке и выбросив обе руки вперед. Казалось, драка неминуема. Но в этот момент Ши Гу вдруг обмяк, словно молния пробежала по его телу, он расслабился и перевел взгляд поверх Пань Лаоу, куда-то на берег.
— Гайгай! — душераздирающе вырвалось у него.
Пань Лаоу тоже невольно забыл о враге, потянулся взглядом за его глазами и стал смотреть на берег. На высоком зеленом берегу стояла девушка в красной кофточке, а за ней расстилалось безбрежное голубое небо. Она стояла совсем одна, как прекрасный цветок или как пылающий светлячок.
С громким криком Ши Гу бросился в воду и поплыл к берегу.
— Ши Гу! — Девушка в красной кофточке побежала вниз, и ее черные волосы развевались за ней, словно воронье крыло.
— Кто она? — спросил Пань Лаоу.
— Это Гайгай, возлюбленная Ши Гу, а жизнь их разлучила, — сказал Чжао Лян.
Теперь разлученные возлюбленные вновь встретились на пустынном берегу. Девушка бросилась Ши Гу на грудь и заплакала, не обращая внимания на то, что он в мокрой одежде.
— Давай к берегу, возьмем их на плот! — закричал Пань Лаоу.
— Это… не очень-то хорошо… — потупился Чжао Лян. — Она ведь замужем.
— Так не по своей же воле она замужем, значит, это не считается! — строго сказал Пань Лаоу. — Она — женщина честная, Ши Гу любит ее, мы обязаны помочь им соединиться.
— Как бы нам не досталось от ее мужа…
— Чего боишься! — Пань Лаоу выхватил прави́ло из рук Чжао Ляна, с силой налег на него, плот на месте круто развернулся, бревна заскрипели.
Сплавщики почти вплотную подошли к берегу, и Ши Гу на руках внес девушку на плот. Когда влюбленные оказались на плоту, на берегу появилось несколько людей, у двоих из них за спиной были винтовки.
— Люди идут, прячьтесь скорее. — Чжао Лян поспешно увел Гайгай в кабинку.
В этот момент плот, ведомый Пань Лаоу, уже выровнялся по течению и плавно заскользил вдоль берега.
— Эй, на плоту, вы здесь человека не видели?
— Какого человека?
— Девушку.
— В красной кофточке?
— Да.
Пань Лаоу поднажал на руль, вывел плот на середину реки, а потом показал рукой назад и громко крикнул:
— Пошла туда, наверх.
Плот быстро удалялся от берега, и вскоре фигуры преследователей растворились в надвигающихся сумерках.
— Все в порядке, — произнес Пань Лаоу, довольно улыбаясь, и позвал: — Девушка, выходи, глотни воздуху.
Гайгай вышла из кабинки, поприветствовала Чжао Ляна и подняла свои красивые, ясные глаза на незнакомого ей Пань Лаоу.
— Это дядя Пань, — представил его Ши Гу.
— Дядя Пань, спасибо вам, — нежным голосом проговорила Гайгай.
— Да за что спасибо… Это нужно было, нужно! — Пань Лаоу посмотрел хитро на Ши Гу, тот рассмеялся.
Их недавняя ссора растворилась, как рассеивается туман.
Пань Лаоу расспрашивал Гайгай, как это она оказалась на берегу, неужели ей кто-то сообщил о нашем прибытии, а затем прибавил шутливо:
— Не иначе как тебе по телефону позвонили!
— Да откуда, — рассмеялась Гайгай и, откинув волосы назад, стала неспешно рассказывать.
По ее словам, с тех пор как она переехала в эти места, она каждый день стояла на берегу в красной кофточке. Продолжалось это два месяца. Сколько мимо нее плотов проплыло, а нужного ей человека все не было… В деревне говорили, что она сошла с ума. Да, сердце ее разбито, как тут не сойти с ума… А тот мужчина, к которому ее отвезли, держал Гайгай взаперти, подавал ей еду в окно. Она желала смерти, но и боялась умереть, не повидав прежде Ши Гу… Сегодня днем тетушка Ван Гуйчжи из их деревни тихонько шепнула ей в окно, что рано утром встретила у Тыквенной излучины сплавщиков и среди них был молодой человек по имени Ши Гу, который назвался братом Гайгай…
— Я слова не вымолвила, дождалась, когда тетушка Ван ушла, вылезла в окно… — Тут Гайгай схватила руки Ши Гу, и из глаз ее полились слезы.
На лице ее темнел шрам, на босых ногах виднелись кровоточащие ссадины.
— Гайгай, настрадалась ты, устала, — сочувственно сказал Пань Лаоу. — Отдохни. Сегодня вечером наш плот — твой дом. Выскажи все, что у тебя на сердце, говори с Ши Гу сколько влезет.
Пань Лаоу обнял одной рукой Гайгай, а другой Ши Гу и повел их в кабинку. Чжао Лян пошел следом за ними и приладил ко входу кусок полотна, импровизированный занавес.
Солнце исчезло за нашими спинами. По левому берегу тянулись темные холмы, словно разной высоты ширмы, скрывающие что-то таинственное. Небо над правым берегом озарялось красными всполохами, и казалось, что вся равнина объята пламенем, а лунное сияние — это отсветы от огня. Все еще можно было отчетливо видеть речные дали, только манящая синева уже исчезла, уступив место золотистому свету, пронизывавшему все вокруг. Из этого света соткался купол, под которым речные пейзажи смягчились.
Плот тихо плыл в вечерних сумерках, чуть слышно плескалась вода, дул ласковый вечерний ветерок. Пань Лаоу молча правил, его лицо излучало доброту и любовь. Чжао Лян свернулся калачиком на широкой сосновой доске и мгновенно уснул. А я, обхватив колени руками, смотрел по сторонам, мысли роились в голове моей, но конкретно думать я ни о чем не мог.
Из кабинки доносились голоса Ши Гу и Гайгай, они надеялись, что говорят чуть слышно, но каждое их слово в тихой ночи звучало совершенно отчетливо.
В эту теплую июльскую ночь река словно приняла влюбленных в свои заботливые объятья, убаюкивала их так, что забывались все невзгоды и тревоги. Река молчала, засыпая, но деревья и кусты по берегам жили своей жизнью и исторгали какие-то приглушенные, затаенные звуки, сливавшиеся в невнятный гул, напоминавший говор толпы, в которой все взволнованно вразнобой гудят. Внезапно тишину прорезал плач ребенка, затем послышался хохот безумца, и я понял, что это кричат ночные коты.
Ши Гу и Гайгай беседовали вполголоса:
— Я ждала тебя до последнего, но что мне было делать, не могла же я допустить, чтобы старики страдали из-за меня.
— Я понимаю и не сержусь на тебя, меня только зло душит на тех мерзавцев… Гайгай, пойдем скажем ему!
— Кому скажем? Никто из них не совершил преступления. Интересно только, кто написал мне уведомление?
— Ну тогда я его убью!
— Кого?
— Твоего… мужа!
— Нет, ни в коем случае… Даже тысяча его жизней не стоят твоей одной.
Луны и звезд еще не было, но берега виднелись в ночи отчетливо. Только цвета и формы трудно было различить. Красное превращалось в черное, зеленое — в серое, вода в реке почти застыла и походила на масло. Плот плыл очень медленно. И на пути его возникали какие-то удивительные фигуры: восьмиугольный домик, буйвол с двумя головами, женщина с зонтиком… а это что за чудище? — огромный, черный, косматый, в руке копье. Вот-вот бросит им в тебя! Конечно, становится страшно, но когда плот подплывет поближе к чудищу, видишь, что это одинокий утес, а на нем стоит вытянувшееся в струну высохшее, старое дерево. Да, в ночи размываются очертания, предметы меняют свой облик. Весь мир перевернут, и возникает чувство, что поверить в его реальность — значит навлечь на себя беду. Из кабинки доносились голоса:
— Я не вынесу этого, какой смысл мне жить?
— Нет, нет! Коли есть гора, на ней непременно вырастут деревья, коли устремляется куда-то поток, по нему непременно поплывет лодка! Если будем мы с тобой живы, в один прекрасный день обязательно добьемся своего… Брат Ши Гу, ты помнишь, как мы однажды маленькими пошли с тобой в горы за земляникой?
— Помню.
— Мы тогда заспорили, кто из нас найдет самую большую и сладкую ягоду… порознь пошли: ты — налево, а я — направо.
— Ох и трудно мне было пробираться там!
— И мне тоже, все руки и ноги себе изодрала, а земляники все не было. Я устала до смерти, уж никакой ягоды мне не надо было. Но вспомнила про тебя — я ведь обещала найти для тебя самую большую и сладкую ягоду — и двинулась все же вперед.
— И я тоже.
— А потом мы набрели на целую поляну спелой земляники…
— Ты ела мои ягоды, а я твои…
— Да, стоит только мне подумать о тебе, а тебе вспомнить обо мне, как у нас появятся силы пройти по самой трудной дороге, и самые редкие ягоды попадут к нам в руки…
Взошла половинка луны, и холмы, деревья, трава на берегу оказались посеребренными. От лунного света все живое стало волшебным и чудесным, всякие звуки вдруг стихли. Несколько минут природа пребывала в неподвижности под куполом усеянного звездами неба.
— А колечко, браслет и кофточку, которые я тебе купил, я всегда ношу с собой…
— Правда? Дай поглядеть… Ах, как хороши!
— Носи их!
— Нет, оставь у себя.
— Гайгай…
…
Невидимые цикады поняли, что лунный свет не причинит им вреда, и вскоре застрекотали вновь еще громче прежнего. Безбрежное небо строгое, чистое, прекрасное, временами с него бесшумно падала звезда, оставляя яркий след. Одинокая, потерявшая покой крупная птица кружила над рекой. Невольно захотелось вобрать в себя могучую силу небесного простора, серебристого лунного сияния, стрекота цикад и полета ночной птицы. Воспрянувшая душа и мысли устремляются вслед за той большой птицей и улетают в недосягаемое будущее…
Я не знал, сплю ли я, грежу ли, наяву ли случилось все то, что я тогда увидел, услышал и почувствовал. Я широко раскрыл глаза и увидел на горизонте бледную полоску света. Берега были по-прежнему погружены во мрак, но вода в реке уже несла на себе блики далекой зари. Мои волосы повлажнели от росы, стало прохладно, и я невольно поежился, сложив руки на груди.
Пань Лаоу громко зевнул, изогнулся, потягиваясь, как змея.
Чжао Лян проснулся, потер глаза и сокрушенно сказал:
— Лаоу, ты всю ночь глаз не сомкнул, что ж не разбудил меня?
— Не шуми, не шуми. — Пань Лаоу приложил палец к губам и посмотрел в сторону кабинки. — Дай им побыть вместе подольше.
Но в этот момент Ши Гу и Гайгай вышли из кабинки и молча стали рядом.
— Дядя Пань, я сойду на берег, — произнесла через некоторое время Гайгай.
— Хорошо, я тут затабаню.
— Благодарю вас… — Гайгай вдруг чинно поклонилась нам. Она хотела еще что-то сказать, но не смогла.
— Виноваты мы, — смиренно ответил Пань Лаоу, — спичек нет, лампы и той нет, не можем вам даже чаю горячего предложить!
— Мы всегда будем помнить вашу…
Плот причалил к берегу, Гайгай выпрыгнула, обернулась, долго смотрела на нас и затем попрощалась взглядом с Ши Гу. Она была спокойна, к ней вернулось самообладание. Девушка выразила в своем прощальном взгляде всю любовь, твердость и веру.
Потом она решительно повернулась и зашагала прочь. Шла не оборачиваясь, и было видно, как ее красная кофточка замелькала вверху на берегу. Гайгай постояла на возвышении немного, потом нырнула вниз и пропала.
— Гайгай, — позвал Ши Гу, словно очнувшись от сна.
V
Целое утро мы не могли сварить еду из-за того, что у нас не было спичек, пришлось всем сидеть с пустым брюхом. Пань Лаоу не мог закурить свою трубку, и потому ему было не по себе, все утро он сидел на краю плота и плевал в воду. В конце концов он не смог удержаться, чтобы не припомнить Ши Гу, что это по его вине пропали целых два коробка спичек. В другое время Ши Гу сразу бы взорвался, но сейчас он был смирный, словно ребенок, который сознает, что набедокурил. На лице Ши Гу появилась лишь застенчивая, примирительная улыбка. Только сейчас я сообразил: когда встречаются влюбленные, тепло их любви за одну ночь может сделать их другими людьми. В Ши Гу не осталось и следа его прежней злобы. Честно говоря, я поначалу побаивался его, но сейчас я понял, что он мягкий и добрый.
На берегу виднелась большая куча золы, над которой вился белый дымок, стоявший неподвижным столбиком в безветренном воздухе. Ши Гу обрадованно сказал:
— Дядя Пань, вот и огонь вам закурить. — Он быстро скинул одежду и бросился в воду.
— Ты куда? — крикнул Чжао Лян.
— Принесу огонь! — Ши Гу указал на дымившуюся кучу.
— Ха, а я и не додумался! — Пань Лаоу засмеялся, набил табаком трубку и стал ждать.
Ши Гу зажег на берегу пучок соломы, плывя к нам, пронес его над водой и вскарабкался на плот. Пань Лаоу, приняв от него огонь, тут же растопил очаг. Он, довольный, крякнул и дружески похлопал Ши Гу по плечу.
— Ты, может, жизнь мне спас.
Чжао Лян раздул огонь и взялся готовить еду. Пань Лаоу взялся помогать и приготовить все самое лучшее из общих запасов. Ши Гу тут же одобрил идею, и я, естественно, согласился. Чжао Лян немного помялся, но, не желая омрачать общее веселье, тоже предложил к общему столу два утиных яйца.
Когда еда сварилась, все сели кружком, Пань Лаоу налил каждому вина и, подняв чашку, сказал:
— Ну, давайте за то, чтобы уважаемый Сюй жив остался, а Гайгай и Ши Гу соединились, пожелаем им попутного течения, попутного ветра… поехали!
Ели на этот раз весело и дружно. Все же под конец любящий съязвить Пань Лаоу сказал, что тыква без чеснока получается не очень вкусная, а Чжао Лян попенял Ши Гу на то, что тот много льет в чашку соевого соуса, зря переводит дорогой продукт.
После еды вскипятили чай. Решили, что когда мы приплывем в Шуанхэцзе, то сойдем на берег, закупим все, что нужно каждому, а затем, если в этот вечер будут показывать кино, пойдем вместе смотреть. Чжао Лян особенно волновался, потому что в Шуанхэцзе у него была родственница, она работала в пошивочной артели. А у той женщины жила его самая младшая дочь, которой исполнилось только четыре года. У Ши Гу тоже был родственник в Шуанхэцзе, и он собирался переночевать у него.
— Ты на берегу переночуешь? — спросил Чжао Лян Пань Лаоу.
— У меня нет никого, — ответил Пань Лаоу.
— Подружки-то есть! — рассмеялся Ши Гу. — У Айхуа!
— Осел! К чему ворошишь прошлое… — Пань Лаоу покачал головой, легонько вздохнул.
Ближе к полудню на правом берегу реки показался холм, а на его вершине высокая пагода. Чжао Лян объяснил мне, что скоро будет Шуанхэцзе. Я с малых лет слышал, что Шуанхэцзе прежде был уездный город, а сейчас стал центром района. Это большой город. Домов в нем немало, есть две длинные, пересекающиеся крест-накрест улицы; улицы те очень широкие, по ним в ряд могут идти сразу десять человек или ехать две машины. На одной из улиц стоит трехэтажный универсальный магазин, в нем есть все, что хочешь, даже заморские лошади (так у нас зовут велосипеды). Я с детства мечтал побывать в Шуанхэцзе, но так и не довелось, уж больно далеко это было: по короткой дороге сто пять верст, по длинной — сто восемь, а по реке целых двести будет. И вот сегодня я наконец попал в город. Сердце мое сильно билось от радости.
Вскоре река сделала поворот, мы обогнули пагоду, и я увидел перед собой целый лес черепичных крыш. Плот причалил, мы оделись во все лучшее и сошли на берег. Сегодня, по-видимому, был не базарный день. В городе стояла тишина, а на улицах не было людской толчеи. Всюду валялся мусор и обрывки дацзыбао. Над лавками торговцев в конце улицы был протянут огромный красный плакат. Только немногие из лавок были открыты. Нам сказали, что оперная труппа уезда приехала в Шуанхэцзе давать представление и народ пошел смотреть. Мы зашли в несколько лавок в надежде купить спички, но их нигде не было. Потом в одной маленькой лавчонке старик сказал нам, что спичек в городе нет уже полгода. Спичечная фабрика была разрушена, так как в уездном городе были вооруженные столкновения. Еще он сказал, что артель скобяных товаров стала выпускать серпы для высекания огня, по пять цзяо за штуку.
— Куплю одну штуку, — сказал Пань Лаоу.
Эти серпы я видал в детстве. Дедушка жалел деньги на спички и держал серпы для высекания огня. Потом он решил, что пользоваться ими неудобно. Я тогда часто брал их поиграть, но, сколько ни старался, никак не мог высечь хоть искорку.
А у Пань Лаоу была большая сноровка. Зажав в левой руке бумажный фитилек и кремень, а в правую взяв серп, он с силой ударил серпом по кремню, и вылетевшая искорка попала прямо на фитилек, а тот сразу же начал тлеть. Потом Пань Лаоу перевернул фитилек вниз, дал огню немного набрать силу, тихонько подул, и над бумажкой поднялся язычок пламени.
— Ну, друг, ты и мастер, — сказал старик.
— Я так добывал огонь, когда были японцы. Вот уж не думал, что и сегодня без этого не обойдешься. Видно, время вспять потекло, — со вздохом сказал Пань Лаоу.
— Старший брат, ты уж не мели что в голову взбредет, — поспешно пресек его продавец.
— Я правду говорю, — возмутился Пань Лаоу.
— Так правды-то и нельзя говорить, — сказал старик. — Здесь Шуанхэцзе, кругом политика, всюду классовая борьба!
Пань Лаоу засопел и ничего не ответил. Чжао Лян купил кувшинчик, Ши Гу — полотенце для рук. Выйдя из магазина, они направились к своим родным.
У меня в городе никого не было, и мне не оставалось ничего другого, как пойти за Пань Лаоу. Мне очень хотелось посмотреть театральное представление, но Пань Лаоу повел меня есть. Мы медленно шли по улице, и Пань Лаоу смотрел по сторонам с задумчивым видом. Проходя мимо аптеки, Пань Лаоу заглянул в нее, долго рассматривал выставленные за стеклянным прилавком лекарства, потом опять вышел на улицу.
— Хочу купить немного женьшеня, — тихо сказал он.
— Женьшеня? — удивился я.
— Почтенного Сюя надо женьшенем лечить, чтобы силы у него восстановились. А когда силы к нему вернутся, любую болезнь преодолеет.
— А почему же вы не купили?
— А с кем этот женьшень отправлю? — вздохнул Пань Лаоу.
В это время вдруг стало темнеть, небо заволокли черные тучи, подгоняемые сильным ветром. Вся южная половина неба почернела, издалека донеслись раскаты грома.
— Сейчас гроза будет, надо возвращаться на плот. — Мне было очень жаль, что не удалось посмотреть представление.
Но тучи прошли стороной, и мы остались в городе.
Мы зашли в закусочную, где Пань Лаоу взял две чашки лапши. Неизвестно откуда появившаяся нищенка протянула вдруг разбитую чашку Пань Лаоу.
— Сжальтесь, подайте мне…
Пань Лаоу вздрогнул, вгляделся в нищенку и проговорил упавшим голосом:
— Айхуа…
Нищенка уставилась на него.
— Лаоу… — тихо вскрикнула она, и две грязные слезы скатились по ее щекам.
— Как же ты дошла до этого?
Пань Лаоу торопливо усадил ее, поставил перед ней свою чашку.
— На, поешь, ешь — потом поговорим…
Старушка благодарно кивнула и одним духом все съела. От еды ее лицо порозовело. Если приглядеться внимательнее, она была совсем не старая. Ей было за сорок, круглое лицо, острый подбородок, все еще черные брови, пара узких, длинных глаз. Можно было догадаться, что в молодости она была привлекательной.
— Муж умер, ребенок умер, поросенок и тот сдох. Все говорят, судьба у меня горькая. Положусь на гору — гора обрушится. Положусь на воду — вода утечет, положусь на дерево — дерево повалится. Сердцем положусь на социализм, а в производственной бригаде говорят, что я должница… Я больная, где ж мне еду раздобыть… — Слезы душили ее, и она ничего больше не сказала.
— Ты бы послала мне записку… — сказал Пань Лаоу.
— Нынче всем туго, я не посмела…
Пань Лаоу покачал головой, достал из кармана пять юаней, несколько талонов на зерно и сунул их ей в руку. Он опустил голову, не в силах смотреть на нее.
— Лаоу, ты добрый… Я старая, уж не та Айхуа, которую ты знал прежде… Как мне тебя отблагодарить? — По ее лицу текли слезы. Она молча повернулась и пошла прочь.
— Айхуа! — вдруг крикнул Пань Лаоу.
— А? — обернулась она.
— Ты можешь для меня сделать одно дело?
— Говори, если я смогу…
Пань Лаоу встал, наклонился к ней и тихо сказал:
— Ты помнишь нашего прежнего районного начальника Сюя?
— Сюй Минхуна? Как же не помнить. Во время земельной реформы он был у нас под Новый год. Что с ним?
— Он при смерти… Я дам тебе пятнадцать юаней, купи женьшень и отнеси ему…
— Куда?
— На Тыквенную излучину, к рыбаку Лао Вэйтоу, знаешь его?
— Еще спрашиваешь…
— Будь осторожна, об этом никто не должен знать…
— Понимаю…
— Ну хорошо, тогда иди прямо сейчас!
— Будь спокоен…
Айхуа взяла деньги и бодро вышла из закусочной. Казалось, она выпила какое-то чудодейственное снадобье и к ней вернулись решимость и сила.
Когда мы вышли на улицу, я не утерпел и спросил Пань Лаоу, кто она такая.
— Моя старая симпатия, та самая У Айхуа, о которой Ши Гу на плоту говорил. Я когда-то купил ей колечко и браслет.
— А что ж ты на ней не женился?
— Отчего не женился, говоришь?.. Тогда она служила у одного богача, тот сосватал ее к одному своему работнику. Она ни в какую не соглашалась, просила меня, чтобы я ее взял в жены. А я того работника знал, парень он был здоровый, зарабатывал неплохо… Я сказал ей, что ей лучше за него замуж выйти, она заплакала, упрекала меня в том, что это я со зла ей так присоветовал. А я говорю: «Не со зла я, а добра хочу тебе» — и еще сказал: «Он человек честный, на ногах стоит крепче, чем я, ты с ним не пропадешь…» Судили-рядили, и в конце концов Айхуа меня послушалась… Я ведь и вправду хотел, чтобы ей лучше было, не думал я…
— А может, если бы вы женились на ней, ей сейчас было бы лучше.
— Может быть, а впрочем, кто знает… — Пань Лаоу углубился в воспоминания: — Она в молодости видная была, как свежий цветок… В тот год, когда реформу земельную проводили, я видел ее как-то раз, она днем митинги устраивала против помещиков, а вечерами в самодеятельных представлениях участвовала, словно бабочка порхала. И во время «большого скачка» я тоже видел ее раз: она у домны стояла, лицо озарено красным светом, волосы коротко стрижены — прямо настоящий строитель социализма!.. Видя, что живет она так весело и удачливо, я за нее в душе порадовался… Мне и во сне не снилось, чтоб она могла дойти до такого…
Пань Лаоу остановился, покачал головой, лицо его нахмурилось, словно небо, закрытое тучами.
— Сходи посмотри представление.
— А вы?
— Я не пойду.
— Тогда и я не пойду.
— Ты на меня не смотри, гуляй, коли хочешь, молодежь должна веселиться. Иди! — подгонял он меня. Он уселся на корточки, закурил и больше не обращал на меня внимания.
Я немного потоптался в раздумье, пошел дальше по улице, дошел до перекрестка и едва завернул за угол, как вдруг услыхал частые удары гонга, а потом кто-то закричал пронзительно:
— Самое главное указание — великий вождь председатель Мао учит нас: армия без культуры — невежественная армия. Революционные товарищи, революционные массы! Уездная театральная труппа дает в нашем городе представление, это самое большое представление, самая большая поддержка, самая большая забота руководителей о нас! Представление сейчас начинается! Кто еще не собрался, пусть поспешит на площадь Революции! Это пьеса о борьбе против врагов революции; вопрос о том, смотреть или не смотреть эту пьесу, — это не простой вопрос, это водораздел между революционерами и врагами революции…
От шума и крика голова у меня пошла кругом. Какие-то люди торопливо шли мимо, продавец, в лавке которого мы побывали, обогнал меня, вытирая струившийся по лицу пот рукавом. Вскоре улица заполнилась бегущими людьми, словно где-то случился пожар.
Навстречу нам шли несколько ополченцев с винтовками за плечами и красными повязками на рукавах. Шедший впереди смуглый парень, державший гонг, ткнул им в мою сторону и строгим голосом спросил:
— Ты что здесь делаешь?
Я сбавил шаг.
— Я, я… собираюсь смотреть представление…
— Так беги быстрей! Еще плетешься, так-то ты относишься к врагам революции!
Мне ничего не оставалось делать, как побежать со всех ног, и когда я добежал до конца улицы, то увидел, что вся площадь уже заполнена народом. Откуда-то взявшиеся ополченцы окружили площадь кольцом и следили за порядком. Те, кто хотел смотреть представление, могли войти, а назад уже никого не пускали. У меня не хватило смелости протиснуться вперед, и я примостился сбоку. По правде говоря, мне раньше не доводилось видеть театральное представление, я просто хотел взглянуть, что это такое. Но я почувствовал, что атмосфера на площади была необычной, и немного заволновался. Я не знал, пришли ли сюда Пань Лаоу, Чжао Лян, Ши Гу. Мне очень хотелось их найти, но лишь только я поднялся и стал смотреть по сторонам, как один ополченец крикнул мне:
— А ну сядь, тут нельзя ни ходить, ни болтать.
Ничего не поделаешь: пришлось мне сесть. Через некоторое время на помосте раскрылся занавес. Музыки не было, на помост вышли два человека — один длинный, другой низенький. Длинный был перепоясан ремнем, а сбоку у него висел пистолет. Коротышка держал цитатник в высоко поднятой руке.
Рядом со мной сидел парень с длинными волосами, в белой рубахе и очках, говорил он как уроженец Чанша — видно, интеллигент, посланный в деревню. Он сказал мне, что тот длинный — это местный военный начальник, зовут его Ли, а коротышка — районный секретарь, фамилия его Чэнь. Эти двое всем заправляют в районном комитете. Тот, кого зовут Ли, еще ничего, а секретарь — тот самый вредный…
Ли поднял руку, призывая всех к тишине.
— Товарищи, не надо шуметь, мы сейчас проведем собрание, а после собрания будет представление… Секретарь Чэнь, давай начинай…
Секретарь Чэнь вышел вперед, поднял над головой цитатник, со всей силой помахал им, а потом, припав губами к микрофону, закричал:
— Самое главное указание: ни в коем случае не забывайте о классовой борьбе! Революционные товарищи! Прежде чем смотреть представление, мы сначала наведем критику, чтобы вымести всю поганую нечисть! Мы сейчас их по одному покажем массам!
Затем секретарь Чэнь отдал приказание, и два ополченца вытолкали на помост молодую девушку, вид у нее был вполне приличный, сразу и не догадаешься, какое преступление она могла совершить. Как только она появилась на помосте, толпа загудела, раздался свист.
— Не надо шуметь, не надо шуметь! — Военный начальник развел руками, успокаивая толпу.
— Эта девица совсем стыд потеряла, она маленькая лиса-оборотень… — сказал секретарь Чэнь. — Ей нынче только девятнадцать лет, а она уже хочет зарегистрировать брак, упрямо придерживается реакционных взглядов, идет наперекор политике поздних браков, которую проводит партия; ну как, будем ее критиковать?
Кругом стоял оглушительный свист, ничего не было слышно.
— Повесить на нее табличку!
Кто-то повесил девушке на грудь заранее приготовленную черную табличку. На табличке белыми иероглифами было написано: «Нарушитель указа о поздних браках — Ли Цзуйин».
— Склони голову, признай вину! — Секретарь Чэнь сам пригнул голову девушки.
Несчастная и так уже согнулась в три погибели. Ее волосы упали вниз и закрыли лицо.
— Что выделывают! Пусть рано жениться нельзя, но разве это преступление! — сердито сказал у меня над ухом юноша в очках. — Наш коротконогий черт небось сам на девушку глаз положил, а когда не вышло, тут же мстить начал… А, мать их за ногу, есть справедливость или нет?
После того как девушку уволокли, на сцене прошли, как на карусели, человек семь-восемь — мужчины и женщины, старые и молодые. Хотя военный начальник все требовал тишины, в толпе на него уже не обращали внимания. Старики покуривали, женщины примеривали обновы, кормящие матери расстегивали кофточки и давали грудь младенцам, какие-то юноши, сгрудившись в кружок, молча выбрасывали пальцы, играя на сигареты. На небе были облака, и солнце пекло не так сильно, но в воздухе парило, как перед грозой, и дышать было тяжело. На сцене становилось все меньше порядка, кампания критики еще не кончилась, до представления явно было еще далеко, но люди уже устали от духоты. Вдруг в толпе перед собой я увидел Ши Гу. Он тоже меня заметил и пробрался ко мне.
— И ты здесь? — спросил я.
— Да заставили прийти, убежать нельзя было, — ответил он.
— А Пань Лаоу и Чжао Ляна видел?
— Нет, но, наверное, они тоже тут.
Ши Гу примостился рядом, вытащил из кармана горсть семечек, отсыпал мне и еще угостил сидевшего рядом парня в очках. Тот, лузгая семечки, сердито сказал:
— А знаете, какую табличку надо повесить на этого коротышку секретаря?
— Что-то не соображу сразу, — ответил Ши Гу.
— «Хулиган!» Глядите, стоит перед толпой народа, а на штанах одна пуговица не застегнута, все приличия попирает!
Мы с Ши Гу невольно рассмеялись.
В этот момент на сцену вывели старушку, и я, пораженный, толкнул в бок Ши Гу:
— Это не У Айхуа?
— Кто?
— Ну ты еще о ней говорил на плоту — возлюбленная Пань Лаоу; я только что видел ее в закусочной.
— Да я только слышал о ней от Пань Лаоу, а сам не видал ни разу.
— Она подаяние просит, нищая теперь. Что она еще такое сделала…
— Эту старую дрянь зовут У Айхуа, с молодости все норовила жить получше, а работать поменьше, выражала недовольство политикой партии, специально попрошайничала на улице. А ну говори, ты нарочно социализм чернишь?
У Айхуа что-то сказала в ответ.
Секретарь Чэнь встрепенулся.
— Ах ты, мать твою, ты еще перечить вздумала! У нас доказательства есть! — С этими словами он вытащил из кармана какой-то сверток и потряс им в воздухе. — Товарищи, вы думаете, она и вправду просит подаяние? Нет, у нее в руке разбитая чашка, а в кармане женьшень! Где ж это видано, чтобы человек с женьшенем в кармане побирался?..
— Откуда у нее женьшень?
— Врет он все…
— Небось не разглядел как следует…
Люди не верили насчет женьшеня.
Я знал, что это и вправду был женьшень, сердце у меня забилось сильно, я схватил Ши Гу за руку.
— Брат Ши Гу, плохо дело, плохо дело…
Ши Гу спросил:
— Что такое?
Я рассказал ему о том, как мы с Пань Лаоу встретились в закусочной с Айхуа, Ши Гу от изумления даже привстал.
— Пойдем выйдем на сцену и все объясним.
— Нельзя! Если мы все расскажем, что будет с почтенным Сюем?
Ши Гу в отчаянии вздохнул и снова опустился на корточки.
— Говори, ты зачем, таская с собой женьшень, побираешься?
У Айхуа выпрямилась, подняла голову, громко сказала:
— Женьшень не мой, меня попросили его отнести больному человеку!
— Кто просил, кому отнести?
У Айхуа опустила голову и не ответила.
— Говори! — Секретарь Чэнь с силой ударил ее по спине.
— Нет, я не скажу!
— Раз не хочешь исправляться, не получишь женьшень, иди!
Но У Айхуа вцепилась в секретаря Чэня и завопила как безумная:
— Отдай мне женьшень, отдай мне женьшень!
Секретарь Чэнь что было силы толкнул ее и быстро скрылся за занавесом. У Айхуа упала и подползла к военному начальнику, обхватила руками его ноги и закричала:
— Убейте меня, но не отбирайте женьшень, я должна спасти жизнь одному человеку!
Военный начальник оторопел и машинально повторял:
— Вставай, чего шумишь, вставай…
Я оглянулся по сторонам, поискал глазами Пань Лаоу, но не увидел его. На сердце у меня было тяжело, хоть плачь, я сказал Ши Гу:
— Пойдем отсюда!
— Пойдем!
Но, как только мы встали, стоявший рядом ополченец тут же остановил нас:
— А ну садись!
— Отсюда не уйдешь, — бесстрастно сказал тот парень в очках. — Это в Шуанхэцзе старое правило, этому принудительному порядку Ли Цзячэнь научился по фильмам про японских чертей, это называется «окружение железной стеной»! Ну, мать его… Заставлять под винтовками смотреть представление — это что ж такое?
Наконец зазвучали гонги, раздалась музыка, и пьеса началась. Играли «Гимн Драконьей горе». Наверное, из-за нехватки времени актеры не показали пьесу целиком, а сыграли только отдельные сцены из нее. Когда одна из актрис вышла на сцену с фонарем, юноша в очках сказал:
— Ну и ну, ест много, а двигается мало.
Я не утерпел и спросил его:
— А ты почем знаешь?
— Ты взгляни, какая она толстая.
Актеры играли небрежно, даже из декорации что-то упало со сцены, один актер полез поднимать, вызвав неудовольствие зрителей.
Когда пьеса закончилась, солнце уже село за горизонт, тучи на юге еще больше расплылись и заняли почти все небо, низко в воздухе беспорядочно носились воробьи, раскаты грома становились все слышнее. По всему было видно, собирался дождь, и люди на площади, словно окуриваемые пчелы, заторопились домой. Однако многочисленные ополченцы преградили им дорогу, словно врагам, и приказывали: «Сидите где сидели, не двигаться!»
Потом даже выстрел раздался. Люди притихли, на какое-то время воцарилась тишина.
Вновь раскрылся занавес, и на сцену вышел малорослый секретарь Чэнь, подняв над головой цитатник.
— Рассаживайтесь, будьте внимательны, попросим окружного секретаря Ли Цзячэня дать нам указание! — И он захлопал в ладоши, приглашая того на сцену.
Появился маленький толстяк. У него была большая голова, на макушке торчала фуражка, руки и ноги у него были слишком коротки, издалека он был похож на жирную полевую мышь. В моем представлении окружной секретарь был необыкновенной фигурой, имя Ли Цзячэня означало партийное руководство, означало почет и власть. Но сейчас, глядя на этого человечка, я смутился в душе: неужели это тот, кто руководит четырьмя коммунами района, распоряжается судьбами нескольких десятков тысяч людей? Неужели я смог поехать учиться в город только благодаря этому большеголовому человечку?
— Ну и ну, башка огромная, важности много, злющий такой, никого не признает, помрет от излишнего усердия… — сказал парень в очках, а потом заключил: — Ну точно, нынче такие вот люди всем и командуют!
Ли Цзячэнь стоял с важным видом и две-три минуты молчал. Он знал, что это молчание — важное, многозначительное — больше всего способно напугать простых людей. В конце концов на площади воцарилась тишина.
Он громко прокашлялся и начал говорить гнусавым голосом, словно в банку:
— Товарищи, прежде всего позвольте мне от имени районного комитета Шуанхэцзе, районного ревкома и от себя лично выразить сердечную благодарность приехавшим к нам революционным товарищам артистам, поблагодарить их за то, что они, не считаясь с трудностями, проделали большой путь, чтобы приехать к нам! Они играли очень изящно, умело, очень красиво! Районный комитет решил зарезать свинью и пригласить их на банкет… Однако что для нас самое главное? Чтобы мы все, каждый из нас, глядя на героев революции, сами стали такими героями. Нам нужно учиться героизму, связывать подвиги с практикой… Вы только что видели героиню пьесы — всему сразу у нее не научишься, будем учиться у нее понемногу, по капельке. Сначала усвоим две вещи. Первое: нам нужно учиться у героини решимости не выходить рано замуж…
Ли Цзячэнь говорил что-то новое и необычное, и хотя вновь поднялся небольшой шум, все же люди прислушивались к его словам.
— Эта актриса настоящая военнослужащая, я только что поинтересовался у ее коллег, сколько ей лет, оказывается, тридцать два года. Но детей у нее нет. Значит, она уже прошла стерилизацию!
Толпа загудела.
— Великое открытие! — смеясь, воскликнул юноша в очках.
Ли Цзячэнь был явно доволен своей проницательностью, он улыбнулся, но вдруг лицо его приняло суровое выражение, и он, протянув руку к толпе, звонко закричал:
— А вот у вас, женщины, нисколечко нет понимания! Родите одного — даже в счет не берете, родите двух — считаете, что мало, а некоторые рожают — что свиньи поросятся! Как вы откликаетесь на призывы партии? Ну хорошо, а теперь поговорим о другом. Нам надо учиться также революционной решимости героини: во-первых, не бояться трудностей, а во-вторых, не бояться смерти! Как этому учиться? Этого словами не скажешь. Партийный комитет решил: все собравшиеся на площади сегодня пойдут в ночной бой, будут копать канал. Я сам вас поведу… Не пойти нельзя! Не шумите, крикунов я прикажу привести ко мне… Я закончил. Начальник Ли, начальник Ли!
На сцену выбежал длинный военный начальник.
— Организуйте людей и тут же отправляйтесь, — сказал Ли Цзячэнь.
— Слушаюсь, — ответил начальник Ли.
Тут на площади поднялся невообразимый гвалт, люди кричали:
— Без еды какая работа?
— У нас дети, нам как быть?
Военный начальник кричал и руками размахивал, чтобы успокоить толпу, но все безуспешно. Пришлось ему бежать к Ли Цзячэню за новыми указаниями.
Вернулся он к микрофону и громко сказал:
— Тихо, тихо! Мы сейчас решили: женщины с детьми не пойдут, а насчет еды — когда придем на место, каждый получит по две лепешки…
В толпе понемногу успокоились.
Уже совсем стемнело, ветер бросал людям в лицо тучи невидимой пыли. В небе непрерывно сверкали молнии, вот-вот должен был начаться ливень. Руководимые военным начальником, ополченцы погнали людей по улице куда-то за город, из уличного репродуктора неслась песня героини пьесы:
С дорогой книгой в руке и с сердцем, полным любви… А красное солнце освещает мне путь впереди…Едва мы миновали перекресток, как полил дождь. Над головой гремел гром, и в свете молний я увидел, что Ли Цзячэнь с важным видом стоит в дождевике на насыпи у дороги. Я услыхал его гнусавый голос:
— Спорьте с небом, воюйте с землей, революционеры не боятся смерти… Начальник Ли, зажгите в людях огонь, пусть у них хватит энтузиазма на весь ночной бой…
Плотная колонна шла вперед. Люди ступали нестройно, скользя в дорожной грязи. Кроме ополченцев, отдававших приказания, никто не открывал рта, слышалось только напряженное сопение.
— Ой! — Впереди кто-то упал, мы невольно замедлили шаг.
— Дунпин, бежим! — тихо сказал Ши Гу, схватив меня за рукав.
— Угу, — откликнулся я.
— Ну, разбегаемся… — Ши Гу быстро бросился в сторону и через мгновение уже исчез из виду.
Я тоже пробежал вперед десяток шагов, упал в придорожную канаву, дополз до каких-то зарослей и укрылся в них. Холодный дождь лупил по моей спине, а по груди струился горячий пот. Вода в канаве омывала мои ноги, шею кусали комары, мне было больно и противно, но я боялся пошевелиться. Лишь когда шум уходившей колонны смолк вдалеке, я перевел дух. Но едва я поднялся, намереваясь пойти назад, как меня вдруг осветило лучом карманного фонарика.
— Кто тут? — окликнул кто-то, потом погасил фонарик и подошел ко мне. Прятаться было поздно.
Я узнал подошедшего ко мне человека — это был военный начальник Ли. От страха я весь затрясся.
— Ты что тут делаешь?.. — спросил начальник Ли, но голос его был совсем не строгим.
— Я плоты сплавляю, а проходил тут…
— Живот, что ли, болит?
— Нет… да, немного…
— Живот болит — жизни нет, чего стоишь, иди себе! — сказал он и пошел дальше по дороге.
Видно, он нарочно позволил мне бежать. Почему бы это? Я оторопело постоял немного и побежал обратно. Но не успел я дойти до того перекрестка, через который мы только что проходили, как услыхал голоса. По улице двигался огонь факела и в нескольких шагах от меня остановился. В пляшущем отсвете огня я к своему удивлению опять увидел военного начальника, а рядом с кем насквозь промокшую женщину. Приглядевшись повнимательнее, я понял, что это У Айхуа.
— Начальник Ли, ты же знаешь, что я не дурной человек, я… — Да, это была У Айхуа, ее голос мне был знаком.
— Ну а как же женьшень? — спросил начальник Ли.
— Мне поручили отнести его, я правду говорю…
— Кому отнести?
— Нет, я не могу тебе сказать.
— Даже мне не веришь?
— Ну хорошо, скажу тебе: женьшень я должна была отнести бывшему районному начальнику Сюй Минхуну!
— Почтенному Сюю? А что с ним?
— Я слыхала, что он при смерти…
— А где же он сейчас?
— Нет, этого я не могу сказать…
— Ну ладно… Только вот женьшень в чужие руки попал, теперь его назад не вернешь.
— Что же делать?
— У меня с собой есть двадцать юаней, пойди еще купи!
— Хороший ты человек…
— Возьми-ка деньги… Увидишь почтенного Сюя, передай ему поклон от меня, скажи, что большой Ли его помнит… Ну, иди быстрей!..
Они поспешно разошлись в разные стороны. Улицу осветила вспышка молнии.
Я не осмелился добираться до реки по улицам, забежал за дома и понесся не разбирая дороги. Вскоре я попал в густой лес. Вокруг был кромешный мрак, и я слышал только, как капли дождя барабанили по листьям. Я метался в зарослях, не зная, куда идти. Потом вдруг земля ушла у меня из-под ног, и я рухнул в глубокий овраг.
Едва я выбрался наружу, шагах в десяти от меня кто-то спросил:
— Кто тут?
Я уж собрался бежать наутек, но при свете молнии успел разглядеть лицо спрашивающего.
— А, это ты!
Человек подошел ко мне, его очки блеснули при свете молнии. Это был невоздержанный на язык «интеллигент» из Чанша.
— Удрал? — спросил он меня весело.
Я кивнул.
— А ты что здесь делаешь?
Он поднял короткий бамбуковый сачок.
— Да вот, кузнечиков ловлю… Будет завтра чем закусить.
Я спросил его, как выйти к реке.
Он указал мне путь и помог выбраться из оврага. Я хотел поблагодарить его, но он сказал мне нараспев высоким голосом, как говорят в кино старики из народа:
— Бывай здоров…
Я пробежал несколько десятков шагов и увидел перед собой белевшую в темноте реку. Я перевел дух, вытер пот и непонятно почему почувствовал себя бесстрашным молодым героем из фильмов о войне против японцев. А тот военный начальник Ли напомнил мне командиров из тех же фильмов, которые «белые снаружи и красные внутри». За прошедший вечер я словно прожил целую долгую жизнь. В душе у меня было неспокойно, а к беспокойству примешивалось тягостное недоумение…
VI
Пань Лаоу, Чжао Лян и Ши Гу давно уже вернулись на плот и с нетерпением дожидались меня. Они не прятались от дождя в кабинке и потому вымокли до нитки.
— Ну, паршивец! Пошел на это чертово представление… Если б не сбежал, то все еще вкалывал бы там! — ругался Пань Лаоу, втаскивая меня на плот.
— Хотел убежать, да не вышло сразу… — подавленно ответил я.
Всем, кто был на плоту, хотелось поскорее убраться из этих мест.
— Поплывем, пусть плот развалится, только бы нам здесь не оставаться! — крикнул Пань Лаоу.
— Боюсь, ветер сильный, ливень, ночь темная… — сказал с сомнением Чжао Лян.
— Да ведь Пань Лаоу с вами!
Ши Гу отвязал конец, плот закачался и отчалил от берега.
Шуанхэцзе в конце концов остался позади, только на горизонте долго еще виднелось несколько мерцающих огоньков. Несмотря на ветер и ливень, на темную ночь и ходившие под бревнами плота волны, все мы почувствовали облегчение. В этот момент мне казалось, что в целом мире единственное спокойное и безопасное место — это наш плот.
Но чувство покоя и безопасности владело мной лишь несколько минут, а потом страх наполнил мое сердце. Черное небо, черные берега, черная река, проливной дождь, закрывающий все, словно плотный занавес. Дождь заливал мне лицо так, что я не мог дух перевести. Плот мчался вперед, словно выпущенная на волю дикая лошадь. Казалось, что он не скользит по поверхности, а стремительно врезается в пучину вод. Бревна плота громко скрипели, словно хотели сбросить связывавшие их веревки и разлететься в разные стороны.
— Чего стоишь здесь, иди в кабинку! — крикнул мне Пань Лаоу.
Я не пошевелился. Вдруг вдалеке блеснул яркий белый свет, до слуха донесся грозный раскат грома, ему ответили долгим эхом окрестные горы, словно множество пустых бочек покатилось с левого берега на правый и обратно. Когда гром стих, вновь сверкнула молния, теперь уже намного ближе, она напомнила какое-то фантастическое дерево, ветви которого расходились в разные стороны и как бы раскалывали небо на множество кусков. В это мгновение я увидал широкую реку и деревья на берегу, увидал Пань Лаоу и Ши Гу, которые, стоя плечом к плечу, правили плотом. Я даже увидел родимое пятно на груди у Ши Гу.
— Ох, плохо, давай к берегу, давай к берегу… — услыхал я невесть откуда доносившийся голос Чжао Ляна.
— Не выходит, — натужно ответил Ши Гу.
— Как же быть… кончено! — в отчаянии запричитал Чжао Лян.
— Чего боитесь, давай дальше! — прикрикнул Пань Лаоу.
В этот момент я понял, в каком опасном положении находится плот. Пока бешено несущийся плот не причалит к берегу, мы будем словно ехать верхом на тигре; и жить нам или умереть — решает одно только небо. Внезапно прямо над нашими головами раздался ужасающий гром, и молния, словно меч, рассекла темноту. Я испуганно присел, закрыл ладонями уши и затаил дыхание, словно ожидая, что расколотое молнией небо сейчас обрушится мне на голову и плечи.
Плот рванул вперед, и темный берег стал стремительно приближаться, вот-вот врежемся в него!
— А ну табань! — послышался в темноте крик Пань Лаоу.
Я увидел, как грузная фигура Чжао Ляна метнулась вперед, налегла на весло. Я тоже подбежал, но не мог сообразить, где можно пристроиться.
— Отвали! — Пань Лаоу грубо оттолкнул меня.
Налетел порыв ветра, и циновки на кабинке затрепетали и захлопали на ветру, как смертельно раненная птица.
— Кабинка! — крикнул Пань Лаоу.
Я рванулся к нашему утлому жилищу, попытался пристроить на место разметанные ветром циновки. Но у меня не хватало сил одолеть ветер. Через миг ветер опрокинул кабинку и потащил ее, словно легкую корзинку, в реку. Одно бревно больно ударило меня по спине, и я упал. Я услышал, как мимо меня со звоном промчался какой-то предмет. «Это котел…» — подумал я и вдруг почувствовал острую боль в спине, из последних сил я попытался встать…
— Дунпин, Дунпин! — Испуганный голос Пань Лаоу доносился откуда-то издалека.
Потом я уже ничего не помнил…
Когда я очнулся, дождь перестал, ветер стих, слышен был только мирный плеск волн. Я почувствовал боль в боку и перевернулся лицом вверх. Увидел небеса после бури, по ним плыли гряды облаков, прямо передо мной они были плотные, подальше — реже и светлее. На небе светил месяц и кое-где были видны звезды. Предметы на берегу почти пропадали из виду.
— Дунпин, ты ничего себе не сломал? — спросил стоявший надо мной Пань Лаоу.
— Нет… — сказал я, поднимаясь. Ну и попал же я! Оказывается, я лежал всего в шаге от края плота. Я оглянулся: кабинка исчезла, на плоту вообще не осталось никаких предметов, и от этого он казался очень большим. Из всех вещей на плоту остались на том же самом месте корзинки с моими тыквами и промокшее одеяло.
Не будучи опытным, я подумал, что опасность уже миновала. Но когда я подошел к носу плота и увидел в свете луны настороженные лица Пань Лаоу и его товарищей, я понял, что главная опасность — впереди. Через несколько минут вода вокруг вспенилась и заходила ходуном, словно табун горячих коней. Мимо проплывали какие-то бревна, палки и целые огромные деревья, некоторые наползали прямо на плот, и сдержать их было невозможно. Время от времени с берега обваливались в воду огромные комья земли, увлекая за собой растительность. Казалось, целый мир сотрясался, разваливался, распадался на куски! И только громадные стволы неспешно скользили по воде. Наполовину ушедшие под воду, они напоминали погрузившиеся в грязь колеса.
С берега непрерывно доносились крики ночных кошек.
Течение стало еще более быстрым, берега словно притягивали к себе плот. Пань Лаоу недвижно стоял на носу, широко расставив ноги и наклонившись вперед. Его мокрые седые волосы сбились и шапкой спадали на лоб. Напрягшееся тело в этот момент казалось отлитой из бронзы статуей. Если река делала поворот, Пань Лаоу всем телом налегал на весло и наклонялся в сторону. Чжао Лян и Ши Гу стояли по бокам у переднего края плота, орудуя длинными шестами, сверкавшими при свете молний. Я не мог разглядеть их лиц, но по их вытянутым шеям и напряженным спинам можно было догадаться, что им приходится нелегко. Они постоянно были готовы к тому, что плот понесет к берегу, и, чтобы оттолкнуться вовремя, держали наготове шесты. Но они не учли, что при такой бешеной скорости двумя шестами остановить плот невозможно.
Теперь уже все понимали: в такую бурю нельзя было покидать Шуанхэцзе. Но в борьбе с природой человек не любит уступать. Никто не досадовал, не давал волю чувствам. «И правда, — думал я, — лучше стоять лицом к лицу с грозной стихией, со смертельной опасностью, чем терпеть унижение и насилие в Шуанхэцзе. Наверное, другие тоже так думают!» В детстве дедушка говорил мне, что у сплавщиков есть неписаное правило: что бы ни случилось, люди должны оставаться на плоту и не покидать его до тех пор, пока плот не разнесет. Всегда попадаются трусливые люди, которые бегут с плота, таких называют «упавшими в воду псами», на них пальцем показывают, и они потом стыдятся смотреть людям в глаза. «Лучше погибнуть в воде, чем жить с позором на берегу». Как раз чувство собственного достоинства и делает человека сильным, бесстрашным и красивым!
Впереди был опасный поворот, Пань Лаоу изо всех сил навалился на весло, но вдруг поскользнулся, и весло вырвалось было у него из рук.
— Ай! — оторопело воскликнул я.
Если бы в этот момент Пань Лаоу совсем выпустил весло из рук, он наверняка упал бы в воду под плот, а плот врезался бы в берег. Но Пань был предельно спокоен. Плот миновал опасное место и вышел на середину реки.
— Дядя Пань, как вы?
— Нормально, кажись, ногу себе проткнул.
Пань Лаоу поднял левую ногу, я стал ее осматривать, но раны не было видно, только с краю ступни вытекла темная капля крови. Я пощупал это место: оно припухло и было горячим.
Чжао Лян положил свой шест, подошел к нам, с треском оторвал рукав своей рубахи и перевязал им ногу Пань Лаоу.
— Брат Лаоу, я буду править! — сказал Чжао Лян.
— Нет, — покачал головой Пань Лаоу, не отрывая глаз от реки.
— Ты устал.
— Это место опасное!
— Я понимаю…
— Я не могу тебе позволить…
— Я буду осторожен, ты не волнуйся.
— Нет, у тебя дома семеро малых…
— Сейчас это неважно!
— Тебе неважно, мне важно!
Пань Лаоу сердито оттолкнул Чжао Ляна, тот не издал ни звука.
— Дядя Пань, я молодой и сильный, дайте мне!
Пань Лаоу посмотрел на Ши Гу, покачал головой.
— Дядя Пань… — Ши Гу просил почти умоляющим тоном, протягивая руку к веслу.
Пань Лаоу решительно отстранил руку Ши Гу, тряхнул головой и вдруг мягко сказал:
— Нет, Гайгай ждет тебя, ты не должен рисковать…
— Ну а ты-то, ты! — взволнованно воскликнул Ши Гу.
— Я старый, совсем одинокий, мне-то что…
Пань Лаоу улыбнулся, месяц освещал его мокрое лицо. Я увидал также сверкавшие в глазах Чжао Ляна и Ши Гу огоньки и вдруг почувствовал, как что-то горячее подступило к горлу.
— Что-то закурить охота… — Пань Лаоу отвернулся и больше не обращал ни на кого внимания.
Плыли мы, плыли, и плот, кажется, выбрался к самой середине реки; холмы по берегам стали чуточку ниже и более отлогими, река — шире, и течение в ней — поспокойнее. Луна теперь светила у нас за спинами, ее свет еле пробивался через густые облака. Ши Гу и Чжао Лян обошли плот, собрали все, что на нем осталось. Вдалеке показался огонек, обещавший тепло и уют. После ожесточенной схватки со стихией мы уже думали, что победа близка.
— Это Чэньцзяцяо, — радостно сказал Пань Лаоу.
— А там можно причалить? — спросил Ши Гу.
— Сейчас подумаю… А это еще что? — испуганно крикнул Пань Лаоу.
Впереди показалась какая-то темная преграда, стеной перегородившая реку.
— Ай, это ж вывороченное дерево! — крикнул Ши Гу.
— Не бойсь, давай правее, правее… быстро! — Пань Лаоу взмахнул рукой.
Мы все вчетвером навалились на весло в левую сторону. Но было поздно: дерево было слишком большое, и плот не смог проскочить мимо него. Оно стеной вставало перед нами, все ближе и ближе, торчащие ветки и сучья, словно лапы демона, тянулись к людям, готовые утянуть их в пучину. Пань Лаоу оттолкнул меня, громко крикнул:
— Прыгайте вы…
В этот момент Чжао Лян и Ши Гу оторвались от весла, подбежали к правому краю плота и приготовились прыгнуть. Ши Гу оглянулся и крикнул:
— Дядя Пань!
— Обо мне не думай, позаботься о Дунпине…
Пань Лаоу упорно толкал весло в левую сторону, не теряя надежды обойти опасность.
— Прыгай! — Ши Гу утянул меня в холодную воду. За нами следом прыгнул Чжао Лян.
Когда мы вынырнули из воды, плот с громким треском врезался в дерево. Ветви затопленного дерева закачались и замерли.
— Дядя Пань!
— Брат Лаоу!
Нас вынесло к дереву, мы уцепились за торчавшие из воды ветки. Плот не развалился, его нос уперся в ствол, а середина застряла среди ветвей. Мы взобрались, помогая друг другу, на плот, огляделись: Пань Лаоу нигде не было видно.
— Нету больше почтенного Паня… — скорбно сказал Чжао Лян.
— Не может быть, он плавает здорово… — сказал Ши Гу.
— Но у него же на ноге рана!
— И почему он не прыгнул!
Услыхав разговор Чжао Ляна и Ши Гу, я не выдержал и заплакал.
Луна села на западе, над головой открылись россыпи звезд. В предрассветной тьме мы искали глазами человека на поверхности реки. Когда забрезжил рассвет, Ши Гу предложил разбиться на группы и осмотреть берега.
— Жив дядя Пань или нет, а мы должны его найти, — сказал он.
Я и Чжао Лян отправились на правый берег, Ши Гу — на левый. Хорошо, что река в этом месте была не широкая. Мы с Чжао Ляном поплыли наискосок по течению и вскоре выбрались на прибрежную травку. Было уже светло, мы видели, что и Ши Гу выбрался на противоположный берег. Мы помахали ему и пошли вдоль по течению.
После бури воздух был необыкновенно свеж. Вокруг стояла тишина, одинокая белая цапля ходила вдалеке по оросительным канавам, словно какой-то человек совершал обход полей, проверяя, не погубила ли буря посевы. Кроме цапли, вокруг не видно было ни одного существа.
Вдруг Чжао Лян сказал:
— Гляди, что это?
У самого берега лежал какой-то круглый предмет, мы подумали вначале, что это человеческая голова, подошли поближе, а это одна из тыкв, которые дал мне в дорогу дедушка. Дедушкины слова еще звучали у меня в ушах: «Сготовь-ка на плоту тыквы, дяде твоему тоже понравится…» А теперь Пань Лаоу нет больше!
Похоже, что мы почти добрались до Чэньцзяцяо. Мы остановились и стали смотреть на другой берег. Ши Гу помахал нам оттуда рукой — значит, Пань Лаоу и вправду погиб; горечь непоправимой утраты заполнила наши сердца.
Мы с Чжао Ляном пересекли реку на пароме, Ши Гу поджидал нас на пристани. Втроем мы молча вошли в Чэньцзяцяо. Люди, спозаранку вышедшие на улицу, пугались наших озлобленных, усталых и страдальческих лиц. Некоторые замедляли шаг и пристально нас оглядывали. Ши Гу повел нас с Чжао Ляном в маленький дом для приезжих. Едва мы вошли в него, как какой-то старичок подбежал к нам и радостно объявил:
— Ха, Ши Гу, вы пришли! А Пань Лаоу жив…
Мы обомлели.
— Где он? — спросил, заикаясь, Ши Гу.
— Там, в комнате на заднем дворе. Ну как вы, небось думали, что он в расход вышел! — Старичок сказал, посмеиваясь: — Он же у нас «в воде не тонет»! Еще затемно он сюда ввалился, ну, конечно, потрепало его маленько…
Мы и изумились, и обрадовались и, чуть не отталкивая друг друга, ринулись в ту комнату. В комнате еще горела лампа, Пань Лаоу полулежал на кровати, подложив под спину две подушки, его грудь, руки, ноги и даже лицо были в бинтах, из-под бинтов видны были только нос и два сверкающих глаза. Увидев нас, он весело закричал:
— Ну, друзья, вы что ж так поздно? Я больше всего о тебе беспокоился! — Он схватил меня за руку и улыбнулся, обнажая два ряда желтых зубов.
Чжао Лян, плача и смеясь, растроганно заговорил:
— Брат ты наш, а я уж думал, что ты…
— Чжао Лян, что ты плачешь, ведь сплавщикам любые трудности нипочем… Много повидаешь — удивляться перестанешь! Ну а с плотом что?
— Прибило к дереву, не распался!
Пань Лаоу еще больше повеселел.
— Коль в такой передряге не пропали, свою тысячу наверняка получим!
Чжао Лян со слезами на глазах сказал:
— Ты все об этом, а сам чуть было не погиб.
— Я кричал тебе, чтобы ты прыгал, ты что, не слышал? — сказал Ши Гу.
— Слышал.
— Так чего же не прыгнул?
— Я хотел, чтобы плот боком в дерево врезался, тогда бы он не рассыпался… а потом я бросил весло и прыгнул, хотел зацепиться за дерево, да не смог, меня течением и вынесло к Чэньцзяцяо! Самому идти не пришлось…
Пань Лаоу говорил легко и весело, а Чжао Лян все охал и вздыхал:
— Эх, больше всего жалко мне трубку, у нее такой мундштук был.
Потом Пань Лаоу спросил:
— Ши Гу, а колечко и браслет, которые ты заготовил для Гайгай, тоже пропали?
Ши Гу кивнул.
— Н-да, ничего не осталось. Ну ладно, сами-то живы, и то хорошо… — Потом он вдруг понизил голос и задумчиво произнес: — Все в порядке. Лишь бы живы были, а там что-нибудь придумаем…
— Дядя Пань! — пролепетал растроганный Ши Гу. — Ты всегда думаешь о людях, все о других заботишься…
— Тут уж ничего не поделаешь, — тихо ответил Пань Лаоу, — если не думать о других, в сердце будет пустота. И если люди не будут друг о дружке думать, что ж это за жизнь будет? Никакого толку в ней тогда не будет!
Мы отдыхали в Чэньцзяцяо два дня. За это время мы тратили только деньги Чжао Ляна. Потому что у Пань Лаоу и Ши Гу все деньги вместе с одеждой смыло в реку. Я, помня совет дедушки, не снимал одежды, пятнадцать юаней все еще лежали у меня в кармане целехонькие. Я их достал, но все наотрез отказались их тратить. У Чжао Ляна деньги были зашиты в поясе, всего пятьдесят юаней. Его жена наказала ему отвезти эти деньги в город для старшей дочери, ей в приданое. Обычно прижимистый и даже скупой, Чжао Лян в эти два дня в Чэньцзяцяо был совсем другим. Он покупал нам не только свежих овощей и сои, но два раза побаловал мясом, не забыл купить Пань Лаоу и новую красивую трубку.
На третий день разбухшая было река успокоилась, Пань Лаоу сказал:
— Пора нам за работу!
— Срубим с поваленного дерева ветки и отцепим плот, — сказал Ши Гу.
— Если разом всем налечь, быстро управимся.
— Лаоу, ты у нас ранен, ты лучше со стороны покомандуй, и ладно.
— Да разве меня не откормили, как борова на триста цзиней[25]? — рассмеялся Пань Лаоу.
Ши Гу собирался было уже отругать Пань Лаоу, но тут и он засмеялся.
Настроение у всех у них было хорошее, только у меня на душе кошки скребли. Пань Лаоу заметил, что я невесел, и сказал мне:
— Дунпин, мы тут с плотом, боюсь, должны еще повозиться. Ты на учебу опоздаешь; как тут быть?
— Пусть едет на поезде, — сказал Ши Гу.
— Ему деньги нужны, — сказал Пань Лаоу. — Его дед еле-еле наскреб денег на учебу.
— А сколько стоит на поезде доехать? — тихо спросил Чжао Лян.
— Да юаней пятнадцать хватит, — сказал Пань Лаоу.
Чжао Лян подумал, вынул пятнадцать юаней и сунул мне в руку.
— Вот, возьми, езжай на поезде.
— Дядя Чжао, зачем мне! — Я хотел отдать ему деньги.
— Будем считать, что я тебе дал взаймы.
— Так когда же я смогу отдать?
— Когда-нибудь да сможешь.
— Если дядя Чжао говорит, значит, бери! — похлопал меня по плечу Пань Лаоу. — Деньги — дело несущественное, запомни это!
В тот день мы вместе вышли из дома для приезжих и расстались на перекрестке.
— Иди по этой большой улице, пройдешь вверх до половины горы, там будет шоссе, увидишь автобусную остановку, сядешь там на автобус… — стал подробно объяснять мне Пань Лаоу. — Доедешь на автобусе до Лэншуйтаня и там пересядешь на поезд; как билет купить и на какой поезд садиться, сам расспросишь. Ну ладно, я тебя не буду провожать, иди, да будь осторожен.
— Дядя, я все запомнил. — Я обернулся к Чжао Ляну и Ши Гу. — Дядя Чжао, брат Ши Гу, я пошел.
— Иди, не забывай нас… построй железную дорогу! — сказал Чжао Лян.
— Да, Сяошуй — река норовистая, у сплавщиков жизнь несладкая… — сказал Ши Гу.
Я дошел до шоссе на горе. Река Сяошуй вилась под горой, и я отчетливо различал три человеческие фигурки, которые двигались параллельно мне вдоль берега реки. А потом я увидел длинную песчаную косу, на ней лежало большое дерево, а рядом с ним как-то изменившийся, но все же знакомый плот. Вскоре на косе показались Пань Лаоу и его товарищи. Отсюда они казались мне тремя крохотными куколками. Они напряженно работали, очищая дерево от веток. В этот миг они были так прекрасны, так дороги мне, что захотелось вдруг вернуться к ним и никогда с ними не расставаться.
Я посмотрел вдаль на вьющуюся без конца реку Сяошуй; над рекой стояла легкая голубая дымка. Сяошуй, на тебе нет бакенов, нет семафоров, нет лодок с фонарями. Ты река, на которой совсем нет ориентиров. Ты проста и красива, но сколько опасностей ты таишь, сколько горя можешь принести людям! Со времен Яо и Шуня возникла легенда о твоих извилистых берегах, и ты до сих пор все та же. Когда же ты станешь рекой, удобной для плавания, судоходной, укрощенной рекой?
Я вспомнил дедушку и то, как он подарил мне кулек с засохшими конфетами. Вспомнил почтенного Сюя — ведь его сейчас надо спасать. Вспомнил я и рыбака Лао Вэйтоу, оставшегося без своих ручных птиц, — каково-то будет ему одному. Я думал о красивой и мужественной Гайгай, которую не так-то легко заставить покориться. Я вспомнил побирушку У Айхуа — она не должна отчаиваться из-за того, что дошла до такой жизни. Я вспомнил того интеллигента в очках — умный парень, зря дурачком прикидывается. Еще я вспомнил однообразное гудение комаров, пугающий плач ночных кошек и те старые колеса, — неужто история, подобно им, застрянет на одном месте?
Да, жизнь нашего народа и природы слиты неразделимо! Зимой простые люди ходят босиком по снегу и мерзнут, летом их печет жаркое солнце, осенью они месят своими ногами грязь, а весной они безропотно сносят жестокий голод. Тот, кто этого не испытал, — тот не поймет величия и богатства жизни, ее радостей и ее страданий.
Подъехал красный автобус, я немного нерешительно выступил вперед, поднял руку…
Перевод Г. Синицкого.
ЛИ ТО
ПОСЛУШАЙ ЭТУ ПЕСНЮ
I
Если бы я сам не пережил все это, то никогда бы не поверил, что встреча с ней так перевернет мою жизнь… Обычно я пренебрегал знакомствами с девушками, особенно с заводскими. С ними говорить можно только об эластичных нейлоновых чулках, о пальто на поролоне и о прочей подобной же чепухе. Даже с девчонками из моей агитбригады я и то не заговаривал ни о чем, кроме нашей работы. От их непрерывной нудной болтовни у меня трещала голова.
Как она не похожа на них всех! Подумать только, девчонка с первой же встречи внушает к себе уважение. Вот это человек!
И я хорошо запомнил первую встречу с ней — это было восьмого января 1976 года.
II
Тот день для меня начался тягостно, но не потому, что скончался премьер Чжоу Эньлай, о чем тогда никто еще не знал, а потому, что моего друга Лю Даху наказали: его сняли с должности секретаря молодежной организации цеха позолоты и постановили, что организация в течение года будет внимательно наблюдать за его работой и поведением. Я был очень расстроен — ведь Даху пострадал из-за меня.
Все началось с песенки, которую я сочинил сам — и музыку, и слова.
Последние два года я в свободное время занимался с дедушкой Хуаном, старым другом моего отца, ушедшим на покой композитором. В результате этих занятий и родилась повлекшая за собой столько неприятностей песенка «Я жду…». Я дал ее Даху, а тому она так понравилась, что с его легкой руки ее начали распевать в нашей агитбригаде. И вскоре она стала известна всей молодежи цеха. На беду, нашлись люди, доложившие в завком, что среди рабочей молодежи распространяются «желтые» песенки. Началось расследование. Меня, сочинителя «желтой песенки», к тому же ответственного за литературно-художественную пропаганду в заводском отделении профсоюза, должны были неминуемо вывести на чистую воду, и тогда Даху взял все на себя. Дело раздули, Даху обвинили в «правом уклоне», и завод шумел несколько месяцев.
Все это время я не находил себе места, плохо спал ночами; мне часто виделось, как я публично объявляю себя автором песенки «Я жду…» или же пишу дацзыбао, оправдываю себя и свою песенку, оправдываю молодежь, которая ее поет…
В действительности же я ни на что подобное не решался. Я знал, что у меня не хватит душевных сил. Я ждал: вдруг все это уладится само собой или случится что-нибудь неожиданное на собрании… Но я дождался лишь того, что Даху подвергли наказанию. В последний вечер, когда цеховое собрание наконец закончилось, мы шли домой вместе и молчали.
По дороге домой мы как раз и встретились с ней.
III
Мы стояли у входа в парк Сунь Ятсена и ждали автобуса. Вечер был холодный, на освещенной разноцветными фонарями улице Вечного спокойствия было очень оживленно. Люди спешили домой. Но автобус все не приходил. На остановке скопилось множество народу, у края тротуара стояла целая толпа. Люди молча глядели на проносившиеся мимо машины и на прохожих.
Обычно в таких случаях Даху проявлял нетерпение. «Ну скажи, почему пекинцы такие долготерпеливые? — возмущался он. — Гляди, никто даже не пикнет и не заворчит, все покорно ждут!» Сегодня же, засунув руки в карманы пальто, он тоже покорно молчал. С нами вместе ждали автобуса еще несколько ребят из нашего цеха, тоже возвращавшихся с собрания. Они тоже молчали. Казалось, что холод морозного вечера сковал языки.
Вдруг я услышал негромкий разговор двух девушек и прислушался.
— Ян Лю, ты сегодня была не права.
— Не права? Почему?
— Секретарь разрешил тебе выкрикивать лозунги, и ты зря молчала.
— А я не желаю выкрикивать этот лозунг!
— Это же не простой лозунг.
— Да, не простой. Это призыв давить правый уклон! Какая гадость!
— Тише ты!
— А я не боюсь!
Я обомлел: откуда взялись такие девушки? Любопытство заставило меня оглянуться. Они стояли неподалеку, очень похожие друг на друга — у обеих черные кожаные портфели и серые пушистые шарфы, обычная синяя рабочая одежда, но куртки явно подогнаны портным по фигуре. Та, которую звали Ян Лю, показалась мне постройнее и покрасивее.
Девушки продолжали болтать, но предостережение подруги заставило Ян Лю говорить тише. Я стоял очень близко и поэтому мог кое-что расслышать. В основном говорила Ян Лю. Иногда она, волнуясь, повышала голос. Судя по всему, Ян Лю была очень смелой девушкой: она открыто издевалась над развернувшейся тогда кампанией борьбы с «правоуклонистским поветрием реабилитации»[26]. Я и радовался, и пугался, слушая ее. Скоро я заметил, что окружающие тоже прислушиваются, и многие, без сомнения, одобряют ее слова. Правда, несколько человек нервничали и не скрывали своего беспокойства. Может, как и я, испугались?
Ян Лю продолжала говорить так, словно вокруг вообще никого не было. Наконец она звонко заявила:
— А кто же интриганы? Интриганы они сами! Пока в ЦК партии есть такие мерзавцы, в государстве не будет порядка.
— Ян Лю! — умоляла ее подруга. — Ян Лю!
— А я не боюсь!
К счастью, подошел 22-й. Толпа ринулась на посадку, и через мгновенье автобус был набит битком. Когда автобус тронулся, я спросил Даху:
— Ну как? Ты слыхал?
Даху поднял кверху большой палец:
— Здорово!
Вообще-то Даху, как и я, относился к девчонкам с пренебрежением. Я первый раз услышал от него похвалу девушке.
IV
Я часто спрашиваю себя: с какого времени я стал человеком, привыкшим к тому, что слова не соответствуют действительности? Юноша должен быть пылким и откровенным, говорить смело и без недомолвок. А я? У меня все наоборот. Я очень редко говорю искренне, и это не зависит от того, сколько народу меня слушает — целый зал или три человека. К тому же я поступаю так, даже не задумываясь. А ведь если задуматься — подобная жизнь безнадежна и ужасна! Ленин когда-то говорил, что у человека должна быть на плечах своя голова. А чья голова на плечах у меня?
V
У перекрестка Сисы я сошел с Даху и ребятами из цеха. Оказалось, слова Ян Лю слышали все. По дороге мы заговорили об этой девушке. Вдруг Даху остановился и, показывая рукой вперед, сказал:
— Смотрите! Это же они!
Действительно, совсем недалеко от моего дома стояла Ян Лю с подругой. Девушки с кем-то спорили, и вокруг них уже начали собираться люди.
— Подойдем посмотрим, — предложил Даху.
Мы побежали к ним. Я услышал строгий голосок Ян Лю:
— На каком основании мы должны следовать за вами? Кто вы такой? Какое у вас право?
Мужчина тоном, не допускающим возражений, перебил ее:
— Поменьше болтовни! Сказано, пройдемте, значит, пройдемте!
Но Ян Лю нелегко было запугать:
— Пройти с вами? А кто вы? Может, бродяга? Или бандит? И нам с вами идти?
Подруга, взволнованная и испуганная, тянула ее за локоть и уговаривала:
— Не связывайся с ним, уйдем скорее!
— Уйдем? Как это уйдем! — заорал мужчина и с угрозой продолжил: — Только что вы говорили, что в ЦК партии есть мерзавцы. Кого вы имели в виду? Отвечайте. Я вас спрашиваю!
Вокруг толпилось множество любопытных, но от этих слов в толпе сразу стало тихо. По лицам пробежал испуг. Девушка с нашего завода шепнула мне на ухо:
— Беда! Они напоролись на «мину».
Я и сам уже сообразил, в чем дело, потому что слыхал от многих, что теперь на улицах надо разговаривать очень сдержанно: среди прохожих бродят люди в штатском, которых в народе прозвали «минами». Я понял, что Ян Лю с подругой грозит серьезная опасность, и у меня перехватило дыхание от страха.
От окрика мужчины Ян Лю растерялась, а ее подруга побледнела. Вдруг стоявший со мной рядом Даху вмешался и громко сказал:
— А чего тут спрашивать? Они же называли имена мерзавцев — Линь Бяо и Чэнь Бода[27]!
Я оторопел от неожиданности.
Ян Лю услышала подсказку и поспешно согласилась:
— Да, да, правильно! Я их и имела в виду!
Мужчина не стал ей отвечать. Круто повернувшись, он уставился на Даху и процедил:
— Поменьше встревайте в чужие дела!
Даху, разыгрывая наивность, продолжал:
— Какие такие чужие дела? Сейчас все развернули большую критику… Я услышал, так отчего же не сказать?
— Брехня! Я не слышал ни слова о большой критике! Они…
Но мужчина не успел договорить. Из толпы раздался звонкий молодой голос:
— Товарищ! Ты не расслышал! На что у собак чуткий слух, но бывает, что иная сука и не расслышит!
В толпе захохотали. Наши заводские ребята завопили дикими голосами, чтобы усилить суматоху:
— Кто? Кто тут ругается?.. Ха-ха-ха! Хо-хо-хо!..
Хохот становился громче, все смешалось. Даху схватил меня за руку:
— Быстрее! Тащи их к себе домой, там спрячемся!
Я ничего не понял, но я привык слушаться Даху и отказал бы кому угодно, но только не ему.
Молодежь вопила во все горло, кругом царила полная неразбериха.
— Быстрее за мной, — сказал я шепотом Ян Лю. — Уйдем отсюда!
Она удивилась, но сразу все поняла, и они с подругой, выскользнув из толпы, пошли за мной. Сзади несся истошный вопль «мины»:
— Я вас! Не скроетесь никуда!
Я не удержался и оглянулся назад. Заводские ребята плотным кольцом окружали этого типа, а Даху со смехом кричал ему:
— Товарищ! Ладно тебе! Это же недоразумение.
Своими широкими плечами — Даху был не только трубачом заводской агитбригады, но чемпионом всего района по борьбе в среднем весе — он загораживал уходящих девушек.
VI
Я усадил их в своей крохотной, неприбранной комнатушке, и мы втроем несколько минут молчали. Наконец подруга Ян Лю порывисто поднялась и сказала:
— Мы пойдем, а?
— Не надо, — остановил я ее. — Подождите хотя бы часок.
— Зачем так долго?
Я ничего не ответил.
— Да разве это Пекин? Это какая-то белогвардейская вотчина! — процедила сквозь зубы Ян Лю. Она кипела от возмущения. Ей хотелось сказать что-то еще, но, с трудом сдержавшись, она лишь судорожно скомкала свой шарф.
Мы снова замолчали.
Теперь у меня было время разглядеть обеих девушек. У Ян Лю были тонкие черты и блестящие глаза, резко изогнутые черные брови казались нахмуренными, придавая ее лицу выражение задумчивости и сосредоточенности. Она сидела за моим столом насупившись, в глазах мелькали сполохи ярости. У ее подруги было широкое и круглое лицо с узкими длинными глазами. Она производила впечатление уравновешенного, спокойного человека. Печка в комнате была жарко натоплена, но подруга Ян Лю не снимала шарфа — видимо, не оправилась от испуга. Я был взволнован. Как там сейчас Даху? Не ждет ли нас еще одна «мина» у моего дома? В это время мама позвала меня ужинать.
— Чем так сидеть, послушайте музыку, — предложил я девушкам, достав проигрыватель и пластинки.
Оглянувшись на свою хмурую подругу, Ян Лю согласилась. Пока я с домашними ужинал, из моей комнаты неслись знакомые звуки симфонической поэмы Сметаны «Моя родина». Это была одна из моих любимых вещей. Я никак не ожидал, что Ян Лю выберет именно ее. Эта музыка всегда меня восхищала. Я слышал в ней весенний ветер, что летит над горами и прозрачными родниками, над лесами и крестьянскими домиками в полях…
Я вернулся к себе в комнату, когда музыка уже смолкла. Девушки по-прежнему сидели за столом, что-то разглядывая. Они обернулись ко мне, вежливо улыбаясь. Выражение лица у Ян Лю было теперь совсем другим. Она смотрела на меня с откровенным любопытством и удивлением. Я молча сел.
— Тебя зовут Янь И? — спросила она, кивнув на лежавшую рядом с ней книгу — «Моя жизнь в музыке» Римского-Корсакова. На обложке книги было написано мое имя.
— А меня зовут Ян Лю, — продолжала она. — Ян пишется так же, как у Ян Кайхуэй[28], а Лю, как у Лю Чжисюня[29]. А мою подругу зовут Фэн Юйчжэнь. Подруга кивнула мне, но ничего не сказала.
— Ты любишь музыку? — расспрашивала меня Ян Лю.
— У нас вся семья любит музыку. Мой отец раньше преподавал музыку в средней школе.
— А ты сам сочиняешь музыку, да?
— Откуда ты знаешь? — пробормотал я в изумлении.
— Но ведь это ты сочинил? — Она взяла со стола блокнот и протянула мне.
Вот до чего доводит безалаберность! В блокноте была песня «Я жду…», а сбоку приписано: «Музыка и слова Янь И». С того дня, когда я сделал эту приписку, меня не оставляло опасение, что я поступил рискованно. И вот теперь… Что же делать? Мне очень не хотелось, чтобы Ян Лю узнала о песенке, потому что, по-моему, она была человеком неосторожным.
— Нам обеим понравилось, мы ее даже спели. Настоящая лирическая песенка.
— Да нет, она никуда не годится, — смущенно пробормотал я.
— Кое-что в ней действительно неудачно.
Моя радость сразу же испарилась. Вот ведь неожиданность! Я не знал, что и сказать ей на это «неудачно», но она тотчас без обиняков объяснила мне, что именно ей не нравится:
— Почему в твоей песенке постоянно повторяется слово «жду»? От этого она делается очень печальной. Ты воспеваешь людей, которые в жизни пассивны и все чего-то ждут. К чему прославлять такое настроение?
Ее замечание меня обидело, но я сдержался.
— Может быть, «жду» в моей песенке и то ожидание, о котором говоришь ты, — разные вещи, — ответил я.
— Почему разные? Все одно! — Ян Лю быстро распалялась в споре, но ее подруга, явно боявшаяся любых дискуссий, немедленно вмешалась:
— Нам пора идти.
— Дай договорить! — отмахнулась от нее Ян Лю. — В твоей песенке много прекрасного: раннее утро, приближающаяся весна, первая любовь юности — и это славно. Но почему надо ждать? Можно ли дождаться прекрасной поры! Ничего-то ты не дождешься!
— Если тебе не нравится ждать, то что же, по-твоему, надо делать?
— За все прекрасное в жизни надо бороться, прекрасное надет завоевывать!
Опять она разгорячилась. Увлекающийся человек.
— Ну и как же мне завоевать утренний рассвет? — насмешливо спросил я.
— Сначала добейся, чтобы за тобой по пятам не ходили шпики, а то и самые прекрасные звезды над головой не смогут тебя порадовать. Так или не так? — нисколько не растерявшись, ответила она.
Теперь мне нечего было возразить. Да, один — ноль, и я проиграл. Я взглянул на нее и увидел, что она вовсе и не думает надо мной смеяться, напротив, она глядела на меня строго и искренне, даже заботливо и, честное слово, с теплотой. Никогда ни одна девушка не смотрела на меня так, и я смутился, но до чего же не хотелось признавать себя побежденным в споре!
— Это ты верно. Но надо же видеть и то, что вокруг, а вокруг нынче сплошное ожидание. Только что мы ждали автобуса у парка Сунь Ятсена, было холодно, хотелось есть, многие замерзли, как сосульки, и в ожидании автобуса простояли на остановке двадцать, а то и тридцать минут… Разве им хотелось стоять и ждать? Хочешь не хочешь, а все равно ждешь!
— Такое ожидание глупо, бесцельно и напрасно. Надо было всем протестовать, возмущаться…
— Надо было? Да разве ты не видела, что все и так были возмущены, но никто не сказал ни слова? Все молчали и молчали.
— А ты подумал, что означает такое молчание? Оно означает, что у нас нет элементарнейшей демократии, что у нас фашизм!
— Фашизм? — оторопел я.
По правде говоря, мы с Даху не раз обсуждали положение в стране в последние несколько лет. Многое представлялось мне загадочным и непонятным, во многом мы сомневались, многое приводило нас обоих в отчаяние. Но мы никогда не задумывались, может ли в нашем социалистическом Китае появиться фашизм. Даже в мыслях допустить такое уже преступно. Решительное и категоричное заявление Ян Лю лишило меня дара речи. После долгого молчания я, запинаясь, сказал:
— Так, по-твоему, в Китае уже господствует… фашизм?
Сердце мое забилось учащенно. Не отвечая на вопрос прямо, она сказала:
— А сам ты разве не чувствуешь, что атмосфера фашизма вокруг нас сгущается все больше?
Я вспомнил о сегодняшнем случае на улице. Мое молчание встревожило подругу Ян Лю, и она, встав, потребовала:
— Не надо говорить об этом, пошли отсюда!
— Подожди, я хочу договорить. — Ян Лю упрямо стремилась переубедить меня. — Председатель Мао еще в шестьдесят третьем году предупреждал нас об опасности фашистской контрреволюционной реставрации. Разве мы тогда к нему прислушались? Теперь же яснее ясного, что фашизм утвердился. А мы все еще ничего не видим. Все еще ждем. Чего ждем?
— Что же нам остается, как не ждать?
— Как это «что остается»?! Можно выйти на улицы, устраивать демонстрации, бастовать, не ходить на занятия — да мало ли что еще!
— И тебе позволят?
— Это демократические права народных масс, они записаны в конституции!
— Конституция сейчас — бумажка, детская игрушка-хлопушка!
— Правильно, в этом-то все и дело. Но почему мы, восьмисотмиллионный народ, позволяем себя надувать? Что мы, дети, что ли? Почему нам не подняться, почему не бороться за то, чтобы слова на бумаге превратились в подлинные права? Даже если реализовать лишь половину прав, записанных в конституции, Китай никогда бы не дошел до своего сегодняшнего состояния!
Волнение ее передалось мне, ее уверенность укрепляла меня, но сомнения еще не рассеялись.
— Да, ты права. И тем не менее сейчас наш народ не борется, а выжидает. Как ты думаешь, почему?
Ян Лю нахмурилась, подумала, потом вдруг протянула руку к стоящему на полке томику «Избранное» Маркса и Энгельса. Полистав его, она начала читать вслух то место, где говорилось о немецком бюргерстве как продукте потерпевшей поражение, прерванной революции; о том, что после тридцатилетней войны в Германии немецкое мещанство отличалось особой трусостью, ограниченностью, безынициативностью, своеобразным паразитизмом, и при этом как раз в то время, когда другие крупные державы быстро развивались.
— Китайская мелкая буржуазия точь-в-точь такая же, — оторвалась от книги Ян Лю. — Мелкая буржуазия в Китае — это же бескрайний океан!
Внезапно, словно спохватившись, что наговорила лишнего, она замолчала. Мне с самого начала разговора было не угнаться за ее стремительностью: я не успевал обдумывать ее слова и не знал, как отвечать. Но теперь стоило ей умолкнуть, как мне захотелось, чтобы она говорила еще и еще, словно слова ее были прекрасной музыкой.
— Вот теперь нам действительно пора, — сказала подруга.
Ян Лю поднялась и стала наматывать на шею шарф. Я вдруг понял, что не хочу, чтобы они уходили, и готов просидеть с ними до самого утра. Но они не собирались задерживаться, и мне пришлось проводить девушек до конца моего переулка. Мы вежливо попрощались. Ян Лю сказала:
— Вот мы и познакомились. Если будет время, я приду к тебе послушать музыку, ладно? Я бы еще раз послушала эту вещь Сметаны.
Я не знал, что ей ответить. Помню, что она засмеялась. За весь вечер она рассмеялась в первый раз. От улыбки ее напряженное, суровое лицо стало таким ласковым…
Вернувшись домой, я взял книгу, которую она только что держала в руках, стал листать и нашел то место, которое она мне прочитала.
В эту ночь я опять не мог уснуть.
VII
Наверное, не случайно я сочинил песенку «Я жду…». Лу Синь в прошлом не раз писал о пороках нашей нации. Настроение моей песенки отражало все те же национальные пороки. Сколько же в нашей жизни гнусных привычек, внешне естественных и обычных, — привычек слепого повиновения! «Подождем, пока другие организации попробуют первыми, а нам успеется!» Или: «Посмотрим, как отреагируют наверху, а тогда уж и сделаем!» Или: «Пусть руководство распорядится!» Или: «Подождем указаний, а там посмотрим!» Или: «Подождем прояснения обстановки — так надежнее!»
Да, она была права. Вечное ожидание — вот что вредит нашей партии, государству, нации!
Еще важнее понять, когда и откуда порочная привычка пассивно ждать сложилась у меня самого. Разве этому учила меня партия? Разве этому учил председатель Мао?
Да, есть о чем подумать, и подумать хорошенько…
VIII
Не помню, когда я заснул. Должно быть, незадолго до рассвета. Я не ожидал, что проснусь среди траурных стенаний — весь народ погрузился в глубокую скорбь из-за кончины премьера Чжоу Эньлая.
1976 год был необычной страницей в долгой истории Китая. Период с девятого января и до апрельского дня поминовения усопших был очень важным в жизни множества людей.
Когда памятник народным героям на площади Тяньаньмэнь стоял затопленный морем венков, я вместе с Даху и заводскими ребятами приходил туда ежедневно. Каждый раз, оказываясь на площади, я чувствовал, что становлюсь другим человеком; я сам себе казался новым и незнакомым. Я верю, что тысячи людей, приходивших в эти дни на площадь, испытывали такое же чувство. Ведь люди приходили туда не только почтить память покойного премьера и выразить свою бесконечную скорбь — были и другие, еще более важные и глубокие цели. И с каждым днем эти цели становились для нас все яснее.
Что все это значило? Искренние, горячие слезы, которые ручьями проливались у памятника героям; колонны людей с венками, устремлявшиеся на площадь со всех сторон; траурное пение «Интернационала»; могучий хор, сотрясавший глубокой ночью здание Дома народных собраний; торжественные клятвы, раздававшиеся под мелким весенним дождем в день поминовения усопших; бесконечные коридоры из вывешенных на площади исписанных стихами длинных бумажных лент; взволнованные пылкие речи заплаканных и окровавленных людей…
Разве это не было невиданной по размаху в истории человечества народной демонстрацией, клятвой простых людей подняться и спасти государство и народ? Китайцы защищали свои права оружием демократии. Разве это не было отважной попыткой разгромить фашистскую реставрацию в условиях социализма?
Да, я менялся. Когда в толпе разъяренного народа я вместе со всеми кричал: «Клянемся схватиться насмерть с интриганами внутри партии!», я чувствовал на себе историческую ответственность за защиту революции. Вместе со множеством незнакомых мне людей я на площади гневно клеймил позором лживые измышления газет «Жэньминь жибао» и «Вэньхуэйбао». Вот когда я начал понимать, что такое свобода слова и собраний! Слушая стихи, в которых поименно перечислялись мерзавцы, пролезшие в ЦК партии, я кричал: «Хорошо! Читайте еще!» — и чувствовал себя хозяином государства. У меня же есть право обсуждать партийные и государственные дела и даже критиковать! И я понял, как легко дышится воздухом подлинной демократии. Еще я понял, что быть китайцем — почетно. Я испытывал необычайный восторг, и каждый раз, приходя на площадь, мне хотелось действовать, штурмовать, совершить хоть что-нибудь!
За два дня до праздника поминовения усопших у нас на заводе был выходной, и вся молодежь, все комсомольцы отправились на площадь почтить память премьера Чжоу Эньлая. Мы выстроились в шеренгу у памятника и собирались дать торжественную клятву, когда я заметил рядом с собой незнакомого человека лет шестидесяти, который держал за руку маленькую девочку. Седой, с лицом, изборожденным глубокими морщинами, со шрамом, рассекавшим левую бровь, этот старый боец Народно-освободительной армии, пока мы давали клятву, стоял молча и неподвижно. Мне казалось, что он мысленно клянется вместе с нами. Волосы и короткое пальтишко девочки насквозь промокли под дождем, но она терпеливо стояла вместе с нами, стараясь понять смысл нашей клятвы. Когда были произнесены последние слова, я не выдержал и обнял ребенка.
— Ты поняла смысл нашей клятвы?
Девочка недоуменно посмотрела на меня и, не отвечая на вопрос, спросила сама:
— Дядя, а почему какие-то люди хотели погубить Чжоу Эньлая?
Так вот о чем она думала!
— Дедушка Чжоу мешал им установить фашизм, — прорвало меня.
Старый боец молчал. Уходя, он на прощание пожал мне руку. У него было крепкое, уверенное рукопожатие. Пожимая его руку, я вспомнил Ян Лю. Разделял ли этот старик ее взгляды? Конечно, да! На этой площади сотни тысяч людей думали так же, как она…
Ян Лю, я знал, что ты тоже здесь!
IX
Утром пятого апреля меня, Даху и еще двоих позолотчиков направили работать в филиал завода в северном предместье.
Вечером, возвращаясь на автобусе в город, мы узнали о «событиях» на площади Тяньаньмэнь. Мы разволновались, особенно Даху, который тут же захотел пересесть на другой автобус и поехать прямо на площадь. Я с трудом уговорил его сначала заехать ко мне, оставить рабочую спецовку и сумку, поесть, а уж потом ехать — кто знает, когда мы возвратимся оттуда? При мысли о возможном риске мое сердце тревожно забилось.
Мы вошли во двор моего дома, и я невольно замедлил шаг, потому что услышал знакомую мелодию, дышавшую миром и покоем. Звучала симфоническая поэма Сметаны «Моя родина».
— Ты чего это? — удивился Даху.
Не отвечая ему, я распахнул дверь в комнату. Да, там была Ян Лю.
Даху и Ян Лю быстро познакомились. Ян Лю, по-дружески пожимая ему руку, благодарила Даху за то, что он тогда выручил ее на улице.
— А что с тобой случилось, когда мы ушли? Тебя задержали? — спрашивала она.
— Да нет, все это пустяки, — отмахивался он.
Со времени нашей первой встречи прошло два месяца. Ян Лю похудела, подбородок у нее заострился, личико стало совсем бледным, от недосыпа глаза припухли, но блестели по-прежнему.
То ли потому, что она хмурилась, то ли потому, что держалась спокойнее, мне показалось, что она повзрослела.
— Янь И, я пришла к тебе сегодня по срочному делу, — сказала она торжественно, с хорошо знакомым мне суровым видом.
Я сразу же догадался, что это срочное дело непременно связано с событиями на площади Тяньаньмэнь, и подумал: чтобы она ни попросила, я сделаю!
— Вы слышали о сегодняшних событиях на площади? — спросила она, и мы оба согласно закивали. Она помолчала, потом взглянула на меня: — Ты можешь положить на музыку слова песни?
— Я?.. Я же не композитор. Я ведь просто так… для забавы…
— Знаю. — Она продолжала внимательно смотреть на меня. — Но песню, о которой я говорю, композиторы написать не рискнут.
— А слова? Дай я взгляну.
Она достала из кармана блокнот и вырвала из него листок.
— Это первые фразы, с которых начиналось обращение, приклеенное к памятнику героев.
Я взял листок. Сверху было название: «Мы хотим», а под ним несколько строк:
Мы хотим демократии, мы не хотим фашизма; мы хотим быть сильными и богатыми, мы не хотим бахвальства; мы хотим заниматься делом, мы не хотим интриг и заговоров; мы хотим премьера Чжоу, мы не хотим Франко или Цыси[30].Я прочел, не переводя дыхания, и каждое слово как взрыв отдавалось в моей дрожащей руке. Положить на музыку такую песню?! Я не был готов к этому…
Последние дни я изменился и не так боялся всего, как раньше, но эта просьба меня испугала. Мне потребовалась вся сила воли, чтобы у меня перестали дрожать руки.
— Дай мне почитать. — Даху взял у меня листок, пробежал глазами и замолчал.
— Ну как? Пойдет? — спросила она.
Я рассматривал носки ботинок и ничего не отвечал. В комнате повисла неприятная тишина, только громко тикал круглый будильник на столе. Когда я поднял голову, Даху глядел на меня, и взгляд его был странным, почти укоризненным. Я вздрогнул и отвернулся. Ян Лю не смотрела на меня, она разглядывала лежащий на столе блокнот, на первой странице которого было написано «Я жду… Музыка и слова…». Или мне показалось? Но с каждым мгновением ее взгляд становился холоднее, лицо бледнее и разочарованнее… Сколько это тянулось? Одну, три, пять минут? Когда она повернулась ко мне, чтобы заговорить, я остановил ее рукой:
— Ладно, сделаю!
Мы условились встретиться через два дня в семь утра у памятника с северной стороны.
— Меня ждут на площади, там Фэн Юйчжэнь и еще другие ребята, — заторопилась она.
У меня потеплело на душе. Даже ее пугливая и тихая подруга сейчас, в такое время, там, на площади, ждет, не прячется, не отступает! Мне стало стыдно за свою робость.
Ян Лю встала и перекинула через плечо свой пожелтевший от времени, истертый армейский планшет. Он был туго набит и от резкого движения Ян Лю лопнул. Содержимое посыпалось на пол. В основном это были брошюры Маркса и Ленина.
— Зачем ты таскаешь с собой столько книг? — заворчал Даху.
— Откуда я знаю, когда и где меня схватят? Посадят в тюрьму, а без книг помрешь от скуки, — запихивая брошюры в планшет, буднично ответила Ян Лю.
Мы оба вздрогнули, переглянулись и замолчали. Ну что тут скажешь? Вот это девушка!
Я нашел нитку с иголкой, а Даху сгреб планшет и сказал:
— Давай я!
Я никогда не видал его за такой работой, но, неуклюже и неумело, он все-таки зашил планшет.
Мы вдвоем проводили Ян Лю до конца переулка. В прошлый раз, прощаясь, я не пожал ей руку, теперь она сама протянула ее мне.
— Может, когда-нибудь смогу наконец спокойно послушать у тебя музыку. Пластинок у тебя много, — сказала она.
Я не знал, что сказать, и, смущенно кивая головой, сжимал ее узкую руку с твердыми бугорками мозолей на ладони.
Она ушла. Час пик давно кончился, прохожих стало меньше. Мы вдвоем смотрели ей вслед и уже собирались возвращаться, как вдруг из двери магазина выскользнул человек и устремился за ней вдогонку. Сердце у меня екнуло.
— Не тот ли?.. — схватил я Даху за рукав.
— А я пойду посмотрю, — шепотом ответил мне он и зашагал по улице.
X
Я быстро проглотил ужин и принялся за работу. Взяв гармонику, стал подбирать мелодию. Если мне что-то нравилось, сразу записывал. И вдруг, часам к девяти, у меня дело пошло, песня зазвучала в моей голове — не отдельные отрывки, а целая мелодия. Увы, слова этой песни были нескладными, и приспособить к ним мелодию мне не удавалось — не хватало профессионализма. Разволновавшись, я вспомнил про дедушку Хуана. Почему бы не попросить его помочь?
Я заколебался. У меня не было твердой уверенности, что он пойдет мне навстречу. Конечно, дедушка Хуан был старым другом моего отца, но с детских лет я помнил его по-старомодному строгим и даже побаивался его. Последние два года, когда я ходил к нему заниматься, я обнаружил, что он и у себя дома держится так же недоступно и замкнуто. Кроме того, он никогда не говорил о политике. Если мы, молодые ребята, заводили разговор о положении в стране, он либо прикрывал глаза, делая вид, что не слушает нас, либо принимался читать книгу. Как-то раз мы хотели рассказать ему о борьбе двух линий в ЦК, причем нам эти новости казались чрезвычайно важными, но он выбранил нас. Его лицо добрело, только когда разговор шел об искусстве, музыке или композиции. Во время занятий со мной он был терпелив и всячески поощрял меня.
Как поведет себя в серьезную минуту такой странный старик? Не выгонит ли он меня из своего дома, если я покажу ему слова песни? Но попытка не пытка, и я побрел к дедушке Хуану, который жил в квартале «Мир». В автобусе пассажиры говорили, что события на площади принимают серьезный оборот и могут привести к важным последствиям. Я пришел в волнение: меня тревожила судьба Ян Лю и Даху и к тому же я боялся нарваться на неприятности в доме Хуана. Поэтому, объясняя дедушке Хуану цель моего прихода, я был взвинчен до крайности.
Увидев слова песни, дедушка Хуан первым делом намертво запер дверь и опустил оконные занавески, затем уселся и долго думал, разглядывая текст. Он молчал, руки у него дрожали.
Я разволновался еще больше.
— Зачем вам эта песня? — глухо спросил дедушка Хуан.
— Мы будем петь ее на площади Тяньаньмэнь, — ответил я.
Лицо старика не дрогнуло, но руки затряслись еще сильнее. Я растерялся. Вдруг он встал, обнял меня и усадил за стол. Он смотрел на меня серьезно и торжественно.
— Дедушка!.. — воскликнул я.
Неожиданно голова его качнулась и наклонилась. Я не мог сразу понять, в чем дело, и только потом понял, что старик мне поклонился. Я вскочил и бросился к нему. Мы обнялись. По морщинистому и испещренному старческими пятнами лицу текли слезы.
— Дитя мое, — заговорил он, — пока в Китае есть молодежь, готовая рисковать жизнью, государство не погибнет и не погибнет китайская нация… Милый ты мой!..
Старик разрыдался у меня на плече. Я обнимал его, утирал ему слезы, и мне было стыдно. «Ян Лю куда больше меня заслужила его уважение, — думал я. — Я того не стою».
Где же ты теперь, Ян Лю? Что с тобой?
XI
Можем ли мы, молодежь, спасти наше государство? Спасти нашу нацию?
Прежде такой уверенности у меня не было. Раньше, даже не задумываясь серьезно, я считал, что спасать государство и нацию — дело партии и вождя. Что можем сделать мы, молодые люди? Только следовать за ними!
Какой глупостью кажется мне все это теперь! Разве председатель Мао не говорил молодежи, что все надежды возлагаются на нее? Разве пролетарские революционеры старшего поколения не взяли на свои плечи ответственность за судьбы государства, когда им было по двадцать лет или даже меньше? Да кому же, как не нам, принадлежит будущее? Кто же, как не мы, способен свершить великие дела на китайской земле? О, наша молодежь!
XII
В тот вечер мы с дедушкой Хуаном трудились за его пианино до двух часов ночи, пока песня не была написана. Я остался ночевать у него и проснулся уже в начале седьмого. Сунув в карман готовую песню «Мы хотим», я занял у дедушки Хуана велосипед и поехал на площадь Тяньаньмэнь.
По дороге я думал только о том, что моя песня — теперь это была настоящая песня — прозвучит на площади, что ее будут петь сотни тысяч людей! Я ничуть не сомневался, что тем, кто столько дней и ночей боролся у памятника героям, песня понравится. Непременно понравится!
У моего велосипеда словно выросли крылья.
Когда я выехал на проспект Вечного спокойствия, я понял, что происходит что-то неладное. Обычно на центральной улице оживленно по утрам в любое время года, всегда чувствуется бодрое, приподнятое настроение. Сегодня же машины и велосипеды проносились в полной тишине, не было слышно ни звонков, ни клаксонов, лица людей были мрачными и пасмурными.
На площадь я приехал с дурными предчувствиями.
Сначала мне трудно было поверить своим глазам. Еще вчера кипевшая толпами площадь была пустынна. Редкие, разрозненные кучки прохожих только усиливали впечатление безжизненности.
Я подъехал к памятнику. Было семь часов десять минут. Ян Лю нигде не было видно. Вокруг памятника ходили по двое и по трое люди с напряженными, хмурыми лицами. Казалось, они что-то ищут.
Что же здесь произошло?
Я начал спрашивать, но на мои вопросы отвечали молчанием или шарахались от меня, не скрывая испуга.
Меня заинтересовало, что же разыскивают люди, которые бродят по площади, и я стал ходить за ними следом. Я увидел пятна крови. Северная и западная части площади были в пятнах спекшейся крови, и даже посреди площади было тоже много бурых пятен. И я понял, что здесь произошло.
Я смотрел на величественную и строгую площадь, мне хотелось кричать, но у меня, казалось, пропал голос. Слезы навертывались на глаза и застилали все вокруг…
Я знал, что Ян Лю не придет, но все же повернулся и пошел к памятнику. Несколько человек молча стояли у беломраморной ограды обелиска. Я подошел поближе и разглядел на белом мраморе уже почерневшие пятна крови. Рядом с самым большим пятном кто-то написал на камне: «Молчание, молчание! Если молчание не взорвать, то все мы погибнем молча!» Начертанные кровью слова пугали и потрясали. Вдруг девочка-подросток с двумя короткими торчащими косичками не сдержалась и громко зарыдала.
— Не надо, опасно! — остановил ее мужчина средних лет.
Девочка закусила губу и, заливаясь слезами, бросилась бежать прочь от памятника. Было видно, как вздрагивают ее плечи от сдерживаемых рыданий.
Эта бегущая девочка и бродящие по площади люди-тени довели меня до исступления. Я понял, что мой час настал, пора сделать решающий шаг. Ждать больше нечего. Полагаться больше не на кого. Пора совершить то, что я хотел, но не решался сделать с той самой поры, как скончался премьер Чжоу Эньлай. И я это сделаю!
Немного успокоившись, я вытащил из кармана кусок черной изоляционной ленты. Потом достал из куртки листки бумаги с текстом песни и прилепил по одному с каждой стороны памятника. Пока никто не обратил на меня внимания, я прикрепил листки с песней и к белому мрамору ограды.
Когда я отходил от памятника, несколько человек уже читали написанное. Краем глаза я заметил, что с площади ко мне устремились какие-то подозрительного вида типы. Я отчетливо разглядел их свирепые лица, они не сулили мне ничего хорошего. Но я не боялся. Мне было радостно! Я был горд собой. Вдруг мне послышался далекий поющий голос Ян Лю, потом ее голос зазвучал все ближе и громче. Я слышал ясно и отчетливо, как Ян Лю поет мою песню. Нет, она поет не одна, с ней вместе поют тысячи людей! Послушайте, как торжественно и прекрасно звучит моя песня! Даже огромная, просторная площадь в эту минуту стала казаться мне маленькой и тесной…
Перевод А. Желоховцева.
ВАН МЭН
НОЧЬЮ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
Разом вспыхнули уличные фонари. Чэнь Гао показалось, будто над его головой заструились два сверкающих потока. Потекли две нескончаемые световые реки. На тротуар легли густые стройные тени ясеней. Люди, толпившиеся на остановке в ожидании автобуса, тоже вдруг обрели тени.
Проносились грузовики, легковые машины, автобусы, велосипедисты; звучали автомобильные гудки, разговоры, смех. На город опускались сумерки, и уже появились первые приметы вечернего оживления, сначала еще робкие; но вот зажглись, привлекая взгляд, неоновые рекламы, засветились вертящиеся разноцветные огни над дверями парикмахерских. Опять завивка, длинные волосы, высокие каблуки, длинные платья без рукавов. В воздухе аромат духов и косметики. Похоже, городские женщины вновь понемногу начинают обращать внимание на свою внешность; кое-кого это раздражает.
Уже больше двадцати лет Чэнь Гао не бывал в большом городе. Двадцать лет он провел в далекой провинции, в крошечном городке. Там на улицах зажигался едва каждый третий фонарь, да и то лишь на несколько вечеров в месяц; остальные не зажигались вовсе. Никто не знал, было это следствием общего запустения или нехватки электроэнергии… Впрочем, какая разница — тамошние жители начинали работать с восходом солнца и работали до заката, словно крестьяне в поле. После шести часов, когда закрывались все учреждения, предприятия, магазины, люди сидели по домам, приглядывая за детьми, курили, стирали или вспоминали прежнюю жизнь.
Подошел большой ярко-голубой автобус. Кондукторша что-то говорила в микрофон, пока, теснясь, выходили пассажиры. Чэнь Гао вместе с другими сумел протолкнуться в автобус. Он был переполнен. Но пассажиры, кажется, вполне довольны. Кондукторша, молодая и розовощекая, объявляла остановки громко и четко. В его далеком городке она могла бы вести концерт в рабочем клубе. Она включила крохотную лампочку и начала продавать билеты. За окнами мелькали уличные фонари, деревья, дома, люди. Автобус подошел к следующей остановке. Опять, едва кондукторша объявила ее название, зажегся свет, и пассажиры стали проталкиваться к выходу.
В автобус вошли два молодых парня в рабочих спецовках, продолжая что-то горячо обсуждать. «Основной вопрос — демократия, демократия — это…» — доказывал один. Хоть Чэнь Гао пробыл здесь, в городе, только неделю, он понял, что тут демократия — тема столь же популярная, как бараньи ноги там, где он жил. Возможно, в городе лучше со снабжением, и людей не волнуют такие пустяки, как баранина.
Впрочем, зачем противопоставлять демократию баранине? Без демократии вы вряд ли увидите баранину на своей тарелке. Демократия, которая не смогла дать людям сочную баранину, оказалась пустой болтовней. Чэнь приехал в город на писательскую конференцию по проблемам рассказа и драматургии. После падения «банды четырех» он опубликовал несколько рассказов. Некоторые критики утверждали, что стиль его стал более зрелым и гибким. Но большинство придерживалось мнения, что эти работы — ниже его прежнего уровня. Тот, кто уделяет слишком много внимания бараньим ногам, вряд ли напишет хороший рассказ. Впрочем, уже одно то, что баранину вообще признали необходимой, было огромным шагом вперед. Когда Чэнь Гао ехал в город на конференцию, их поезд задержался больше чем на час из-за происшествия на маленькой железнодорожной станции. Жителей там было мало, но зато бараньих ног — в изобилии. И вот, спеша продать пассажирам своего барана, какой-то бедняга захотел пролезть под стоявшим поездом. Поезд тронулся, и его задавило. Это произвело тяжелое впечатление на Чэнь Гао.
Когда-то на различных писательских конференциях он всегда оказывался самым молодым, а теперь стал вдруг писателем среднего поколения; да и выглядел он провинциалом: кожа на лице потемнела, а весь облик хранил следы пережитого. Молодые участники высказывали свежие, смелые, острые мысли. Правда, почти никто не касался собственно литературных проблем, хотя председательствующий и пытался вернуть обсуждение к главной теме конференции. Однако молодые говорили все больше об обстоятельствах, которые привели к возникновению «банды четырех», о феодализме, демократии, законности, морали. Их беспокоило, к примеру, то, что все больше молодежи шатается по паркам, танцует под электрогитары и что в связи с этим собирается предпринять парковая администрация. Предлагалось, в частности, каждые три часа объявлять по радио, что подобные танцы запрещены, и после двух предупреждений штрафовать нарушителей. Чэнь Гао тоже высказал свое мнение, показавшееся после резких суждений молодых весьма робким. «Мы должны действовать постепенно, — сказал он, — и начинать следует с самих себя». Впрочем, вряд ли даже самая малая часть всех этих замечательных предложений будет выполнена. Чэнь испытывал воодушевление и растерянность одновременно.
Автобус подошел к конечной остановке, но был по-прежнему переполнен. Пассажиров разморило, и мало кто обращал внимание на кондукторшу — она сердито требовала предъявить билеты. Чэнь, как настоящий провинциал, высоко поднял свой билет, но девушка даже не глянула в его сторону. Тогда он вежливо протянул ей билет, но она его не взяла.
Выйдя из автобуса, он достал записную книжку и, перелистав ее, нашел адрес. Прохожие, у которых он спросил дорогу, с готовностью стали давать объяснения. Ну что ж, хорошо хоть горожане сохраняли свою традиционную вежливость. Поблагодарив, он покинул ярко освещенную остановку. И вскоре понял, что заблудился среди новых домов.
Дело было не в сложной планировке кварталов — планировка была, пожалуй, даже слишком проста. Все дома шестиэтажные, каждый — близнец соседнего. На всех балконах груды хлама. В окнах или желтые абажуры, или белые лампы дневного света. Из всех окон неслись одинаковые звуки. Телевидение передавало футбольный матч китайской команды и какого-то зарубежного клуба. Кажется, китайцы только что забили мяч. Сквозь яростные крики болельщиков на стадионе и зрителей у экранов слышался знакомый голос спортивного комментатора Чжан Чжи. Из других окон доносился перестук молотков, детские крики, споры взрослых.
Эти звуки, свет, множество вещей, которыми набиты дома, одинаковые, как спичечные коробки, показались Чэню странными, чужими, пожалуй, даже смешными. Деревья — вершины были вровень с крышами — придавали картине нечто таинственное. В том далеком городке по ночам слышался только собачий лай. Чэнь научился узнавать собак по голосу; знал он и их хозяев. Иногда по улицам с грохотом проносились тяжелые грузовики, слепя встречных светом фар, и долго потом глаза никак не могли привыкнуть к темноте, а в окрестных домишках все ходило ходуном.
Чэнь пожалел, что углубился в лабиринт домов. «Не надо было сворачивать с той освещенной улицы», — подумал он. И зачем он вышел из набитого людьми автобуса; как хорошо было ехать вместе со всеми по широкому бульвару! Теперь он один в темноте. А мог бы остаться в гостинице, поговорить с молодыми о проблемах, возникших в результате дурного правления «банды четырех», поболтать о дальних странах, о Токио, Гонконге, Сингапуре над тарелкой с омарами и вареными орешками, за кружкой прохладного пива. Вместо всего этого он для чего-то отправился в такую даль, ищет зачем-то дом, почему-то должен улаживать чужое дело с незнакомым человеком. Впрочем, с делом как раз все ясно — обычное поручение, ничего особенного. Просто Чэнь для этого неподходящий человек. С бо́льшим успехом он мог бы станцевать на сцене партию принца в «Лебедином озере», даже несмотря на хромоту, которая — теперь уже почти незаметная — осталась как память о том, что сейчас называют «произволом».
Ему стало грустно, нахлынули печальные воспоминания двадцатилетней давности — той поры, когда он покидал этот город, напечатав несколько рассказов, которые были сочтены слишком смелыми; сейчас эти рассказы считаются недостаточно острыми. То, что произошло с ним, случилось с очень многими, с подавляющим большинством, и только немногие продолжали наслаждаться жизнью.
Должно быть, уже недалеко: похоже, вон тот дом на противоположной стороне как раз ему и нужен. Словно нарочно, на его пути оказалась какая-то стройка. Видимо, собираются прокладывать трубы. Хотя какие же трубы — для чего тогда кирпич и черепица? Скорее, здесь будет дом или столовая, а может, и общественный туалет. Как бы там ни было, сейчас перед ним канава, слишком широкая, чтобы ее перепрыгнуть. Он поискал переходные мостки. Конечно же, их не было. Идти в обход или прыгать? «Не так уж я стар», — сказал он себе. Отступил на несколько шагов и разбежался. Проклятье! Как раз в момент толчка нога увязла в песке, и он свалился в канаву. Хорошо еще, на дне не было ничего твердого или острого. Лишь минут через десять он пришел в себя после падения. Усмехнувшись, кое-как отряхнув одежду, вылез наверх — и ступил прямо в лужу. Он быстро отдернул ногу, но было поздно. Ботинок и носок промокли насквозь. Ощущение отвратительное — словно ешь рис с песком. Чэнь поднял голову и увидел одинокую лампочку на покосившемся столбе, оранжевую, как апельсин. Лампочка эта показалась ему похожей на крохотный вопросительный знак посреди огромной черной классной доски, а может, она напоминала восклицательный знак…
Он подошел к дому; из окон по-прежнему неслись крики и свист. Наверно, гости забили гол. Он пригляделся к номеру над подъездом, кажется, этот дом ему и нужен. Но лучше еще раз уточнить у кого-нибудь из прохожих.
Опять возникли неприятные воспоминания. Один руководящий товарищ из того далекого городка (Чэнь сталкивался с ним по службе и весьма его уважал), узнав, что Чэнь уезжает, дал ему письмо и поручил разыскать в городе управляющего одной фирмой. «В армии мы были друзьями, — пояснил он. — В письме я все написал. Дело в том, что наша машина шанхайского автозавода давно уже вышла из строя. Где только не пытались ее чинить — никак не можем найти запчасти. А этот мой друг руководит сборочным заводом и когда-то заверял меня, что отремонтирует любой автомобиль. Найди его и, если обо всем договоритесь, дай телеграмму».
Кажется, обычное дело: попросить об услуге друга-однополчанина. Один начальник вполне может попросить другого начальника, к тому же своего приятеля, починить автомобиль, да еще не собственный, а государственный. Чэнь так и не нашел предлога отказать начальнику. Бараньи ноги нужны — это просто и понятно; вот и поручения — их надо выполнять. Он всегда охотно выполнял просьбы коллег, когда у них были поручения в город. Но, взвалив на себя это дело, он вдруг ощутил такую неловкость, словно ему тесны башмаки или брюки на нем со штанинами разного цвета.
Начальник, видимо, понял его состояние, потому что уже несколько раз торопил его телеграммами. «Не ради своей же выгоды стараюсь, — уговаривал Чэнь себя. — Я на этой машине никогда не ездил и ездить не буду». И вот все сомнения позади. Он проделал долгий путь: автобус, широкие бульвары, остановки, сверкающие, как театральные подмостки, канава, в которую он свалился. И наконец он у цели — пусть костюм его перепачкан грязью, а нога нещадно болит.
Чэнь быстро поднялся на четвертый этаж, отыскал квартиру и, сдерживая волнение, постучал осторожно, но так, чтобы стук был слышен.
Никакого ответа. Потом из-за двери послышались слабые звуки. Чэнь приложил ухо к двери. Похоже на музыку. Он ощутил нечто вроде облегчения: ему вдруг показалось обидным не застать никого дома. Он вновь постучал, теперь уже громче.
Донесся звук шагов, потом щелчок замка. Дверь отворилась, и на пороге показался молодой парень с копной нечесаных волос, в нижнем белье и шлепанцах. Он был мускулист и белокож.
— Вам кого? — спросил он, неприязненно скривив рот.
— Я ищу товарища Н., — сказал Чэнь Гао, сверясь с адресом на конверте.
— Его нет. — Парень собирался захлопнуть дверь, но Чэнь шагнул вперед и, стараясь говорить и вести себя «по-городскому», представился возможно вежливее и спросил:
— Вы, вероятно, родственник товарища Н., — (парень почти наверняка его сын, и совсем необязательно говорить ему «вы»), — не откажите в любезности выслушать меня и передать все товарищу Н.
На лестнице царил полумрак, и Чэнь не мог разглядеть выражение лица парня, однако понял, что тот нахмурился. Поколебавшись, парень буркнул: «Входите», повернулся и двинулся в квартиру, словно он был не хозяин, принимающий гостя, а медсестра, равнодушно ведущая пациента к зубному врачу.
Чэнь Гао последовал за ним. Их шаги, звучавшие по-разному, вторили друг другу в сумрачной тишине коридора. Они миновали одну за другой несколько дверей, двери были и справа, и слева, их было много — Чэнь никогда не видел столько дверей в одной квартире. Наконец парень распахнул одну из них; их сразу окутал мягкий свет, тихая музыка, тонкий аромат вина.
Кровать с металлической сеткой, ярко-желтое шелковое одеяло, модный торшер. Дверца стоявшей у кровати тумбочки распахнута, виден новый сложный замочек — как раз такой многие друзья Чэня из далекого городка просили привезти, и Чэнь безуспешно искал его в магазинах. Стулья из пальмового дерева, кресло, круглый стол. На нем скатерть, словно взятая из постановки образцовой пьесы «Красный фонарь». Заграничный стереомагнитофон; звучит томная сентиментальная песенка, впрочем, певец из Гонконга поет ее, пожалуй, слишком громко. Здесь, слушая подобное пение, можно и усмехнуться, но, прозвучи все это в том далеком городке, жители перепугались бы, словно в город ворвалась вражеская конница. В этой комнате только стакан на тумбочке возле кровати показался Чэню знакомым и близким. Так бывает, когда на чужбине вдруг повстречаешь земляка, и даже если прежде вы не были коротко знакомы да и характером несхожи, все равно вы почти всегда станете друзьями.
Чэнь заметил у двери шаткий табурет, пододвинул его и сел: он помнил, что весь перепачкан грязью. Потом начал объяснять, зачем пришел. Сказав несколько слов, умолк. Он думал: парень поймет намек и приглушит магнитофон. Но тот не шелохнулся, и Чэню пришлось продолжать. Ему было трудно, он все время запинался, подыскивая слово поточнее. И все-таки вместо того, чтобы сказать: «Прошу вас передать товарищу Н. эту просьбу», он говорил: «Сделайте, пожалуйста, одолжение», словно собирался просить взаймы. Когда надо было сказать: «Я пришел по делу», он, робея, говорил: «Мне необходима ваша помощь». Даже голос его изменился и звучал, как затупившаяся пила.
Он хотел передать письмо, но парень и не подумал встать с кресла и взять его. Пришлось Чэню, который был, верно, вдвое старше, встать и самому подойти к парню. Он увидел вблизи лицо в юношеских прыщах, безразличное, равнодушное.
Парень вскрыл конверт, пробежал глазами письмо и презрительно усмехнулся; все это время он, не переставая, постукивал ногой в такт мелодии. И магнитофон, и песня в исполнении гонконгской звезды оказались новостью для Чэня. Не то чтобы он был противником подобного пения — просто он знал ему цену, а потому улыбнулся скорее снисходительно.
— Этот ваш начальник, он что, действительно дружил в армии с моим отцом? Что-то я никогда не слышал о таком.
Чэнь вдруг ощутил горький стыд.
— Молод ты еще! Отец мог и не рассказывать тебе о нем. — Теперь уже Чэнь Гао отбросил ту вежливость, которой требовало его положение гостя.
— Отец говорит, с тех пор, как он стал ремонтировать автомобили, у него вдруг обнаружилось слишком много однополчан.
Чэню стало жарко, стремительно колотилось сердце, на лбу выступили капли пота.
— Ты хочешь сказать, что твой отец не знаком с товарищем Н.?! Да знаешь ли ты, что он с тысяча девятьсот тридцать шестого года находился в Яньани! В прошлом году его статью напечатал журнал «Хунци»! Его старший брат — командующий Энским военным округом!
Чэнь так распалился, что речь его напоминала лозунги или газетные призывы, особенно когда он стал превозносить заслуги Н. и упомянул его знаменитого брата. Потом он как-то обмяк, пот заливал ему глаза.
Парень только презрительно ухмылялся.
Чэнь Гао опустил голову, он стыдился самого себя.
— Вот что я вам скажу, — произнес парень вставая, точно собирался сделать важное заявление, — сейчас, чтобы повернуть любое дело, нужно, во-первых, что-нибудь иметь — что вы можете нам предложить в обмен?
— Мы… У нас… — бормотал Чэнь. — Бараньи ноги! — вдруг выпалил он.
— Бараньи ноги?! Не подойдет! — Парень опять улыбнулся. Его недавнее презрение сменилось жалостью. — Во-вторых, вам следует подучиться обделывать дела. И вообще, зачем вам мой отец? Что-нибудь на обмен, умелый маклер, поддержка какой-нибудь знаменитости — и успех обеспечен! — Помолчав, он добавил: — А отец уехал в Бэйдайхэ… по делам. — Он не сказал «отдыхать», но кто же не знает, зачем ездят на курорт Бэйдайхэ…
У Чэнь Гао все плыло перед глазами. Он двинулся было к двери, потом замедлил шаг и прислушался. Звучала балетная музыка венгерского композитора. Он увидел вдруг желтый лист, кружащийся, словно в танце, над голубым озером, которое с трех сторон обступили снеговые вершины; а дальше за озером тот городок. Дикий гусь опускается на озерную гладь.
Чэнь Гао быстро спускался по темной лестнице. Его шатало, ноги заплетались, как у пьяного. Он слышал стук и не понимал: звук ли это шагов, или так бешено колотится сердце. Он вышел на улицу и взглянул вверх. Тусклая оранжевая лампочка на покосившемся столбе вдруг показалась ему кроваво-красным глазом отвратительного чудовища. Страшным, таинственным глазом.
Чэнь бросился прочь, легко перемахнул через канаву, прислушался. Футбольный матч кончился; спокойный голос диктора сообщал прогноз погоды. Чэнь поспешил на остановку. Здесь было многолюдно. Молодые работницы, видимо едущие в ночную смену, спокойно обсуждали вопрос о премиях. Шептались, тесно обнявшись, юноша и девушка. Чэнь Гао вошел в автобус и пристроился возле двери. Кондукторша на этот раз другая, уже немолодая, худая — острые ключицы проступают сквозь ткань кофты. За последние двадцать трудных лет Чэнь многое понял, узнал цену всему, чего был лишен. Но, как и прежде, любил свет фонарей, ночных работниц, демократию, премии, бараньи ноги…
Раздался звонок, и двери автобуса разом захлопнулись. Поплыли назад фонари, тени деревьев.
— Кому билеты? — спросила кондукторша и, не дождавшись, пока Чэнь Гао разыщет мелочь, выключила свою лампочку. В это время обычно ездят только ночные рабочие, а у них проездные на весь месяц.
Перевод И. Смирнова.
СМЯТЕНИЕ
I
Впервые в городе Т. он побывал двадцать восемь лет назад. Это же четверть века! И даже с лишком. Двадцатитрехлетний выпускник университета, ста с небольшим цзиней веса, он уже сшил себе «суньятсеновку» из чесучи, которую почитал тканью для высокопоставленных лиц, и, не забыв дополнить ее серой кепкой с коротким козырьком, с огромным воодушевлением отправился в первую в своей жизни командировку. Все ему было внове, всему он дивился: и поезду, в котором сидел, и проводнице, уже который раз драившей шваброй пол, и оравшему на весь вагон громкоговорителю, и круглым талончикам на чай, наколотым на пупочку крышки огромной кружки, — на них были обозначены тарифы по станциям. И вот еще чему — транжирной поездке, этакой прорве денег: десять с чем-то юаней на билет в жесткий сидячий от Пекина до Т., сто юаней при себе на дорожные расходы. Эту сотню он крепко-накрепко зашпилил парой булавок в крохотный кармашек нательной рубашки.
Теперь ему пятьдесят один, он только что назначен управляющим неким учреждением по охране окружающей среды и в Т. направляется на деловое совещание. Зарплата, правда, не слишком высокая, но должность, как разъяснили кадровики, входит в особую категорию: пониже министра, но выше начальника управления и директора производственной компании. И красный, и квалифицированный[31], в расцвете лет и сил, снискавший благоволение начальства и завоевавший доверие масс, руководитель без чиновного духа, специалист без загибов, даже зависти к своей счастливой судьбе избежал — в общем, редкий перспективный кадр. После III пленума ЦК раздобрел, так что пришлось принимать меры, чтобы остановиться на нынешних 141 цзине. Повседневная габардиновая армейская форма (ее китель отличается от «суньятсеновки» в основном клапанами, прикрывающими четыре пуговицы карманов) всегда была вычищена до блеска, а на случай праздничных церемоний, встреч с зарубежными гостями или поездок за границу висели у него добротные шерстяные костюмы. Головных уборов не носил и верхнюю пуговицу на кителе не застегивал.
В жестком спальном вагоне ехал помощник, которого он прихватил с собой в командировку, а сам — в мягком. Какова цена билета, сколько отпущено на командировку, он не знал, просто не удосужился поинтересоваться. Отдельное купе? Мягкое? Ему все равно — сидел, просматривая материалы: документы Госсовета, извещения, отчеты, подборки, кое-что на иностранных языках. Покачивание вагона убаюкало его, но среди ночи же и разбудило, он натянул свитер, откинул москитную сетку и цветистую занавеску и засмотрелся на луну — сопровождая поезд, она подрагивала вместе с ним. Лунный свет расстилался над всходами на белесых полях, обволакивая дальние горы и могильники, сдвигал со своих мест тени и растворял деревья, оставляя от них лишь силуэты. Поезд, подумалось ему, — корабль, рассекающий море. Он закурил, но после пары затяжек загасил сигарету, чтобы «не загрязнять окружающую среду» в купе.
— Двадцать восемь лет! — чуть слышно пробормотал он.
Это всем известная семья Из села Саньшилипу в Суйдэ, Полюбила парня девица, Прикипели сердцем к дружке друг[32].«Сяло» вместо «село», «серце» вместо «сердце» — ну, совсем по-деревенски.
— Еще давай!
— Еще! Еще раз!
— «Змей на ветру»: соло на свирели.
Вот тебе и поезд — какой отработанный конферанс!
3 — 5 — 1 665321…[33]
Тогда, в 1954 году, он оказался в одном вагоне с артистками из ансамбля народных песен. (Отчего, кстати, в гастрольных поездках они не брали спальных мест?) Трудно сказать, кто из пассажиров начал «подстрекать», но стоило им заикнуться, как артистки, хотя дело подошло к полуночи, тут же запели, взбудоражив, переполошив весь вагон и даже соседние, привлекая пассажиров и проводников в аккуратных синих формах.
На мгновенье он будто унесся в ритмы тогдашнего «Змея на ветру», в переливчатый голос свирели. Сколько же радости принес этот «Змей»!
Но свирель отступила, заглушенная перестуком колес.
II
В тот раз он прибыл на старый вокзал города и, подхватив вещички, через виадук вышел на привокзальную площадь, оглушенный зазывными воплями торговцев — что твой стрекот летних цикад. Початки кукурузы, пачки соевого творога, рисовая каша с яйцами, фасолевое мороженое, а вон еще журнал «Кино в массы»… Он протянул руку ко внутреннему кармашку — проверить, на месте ли деньги, а мальчишки-лоточники решили, что он собирается достать их, и ринулись к нему.
На сей раз, когда ровно в десять двенадцать утра поезд подошел к перрону, вещи подхватил помощник, а он вышел из вагона налегке, пожимая руки прибывшим на вокзал начальнику управления Вану, его заместителю Ли, завотделом У и референту Чжао.
— Как ночь прошла, управляющий Лю?
— Добро пожаловать, управляющий Лю.
— Управляющий Лю впервые в нашем городе? …О, бывали в пятидесятые годы, так вы старожил города Т., ха-ха-ха…
Все управляющий Лю да управляющий Лю… На работе это стало уже привычным. Он сам и его новая должность внушают уважение. Это, конечно, прекрасно. Главное — помогает в работе по охране окружающей среды. И все же эти бесконечные «управляющий» да «управляющий» чего-то его, казалось, лишали.
— Кто вы?
— Лю. Можете обращаться на ты.
А такой была встреча в его прошлый приезд в Т.
Они вышли из здания вокзала, направились к ожидавшей машине, и в этот миг из-за тучки выглянуло солнце, ослепительными лучами рванувшись к прямой, как кисть, дороге, прятавшейся до сих пор за деревьями. От пешеходных тропок проезжую часть отделяли клумбы цветов и газон.
Существовала ли она в те годы, эта широкая дорога? И такие потоки людей и машин? Автобусы на улицах Т. соседствовали тогда с ишаками, запряженными в телегу.
— Вокзал новый, — пояснили встречавшие, — да и шоссе сооружено в пятьдесят восьмом, как раз в период большого скачка[34]…
Ну, конечно, город растет. Вот только в воздухе пахнет гарью, содержание примесей явно превышает принятые у нас нормы: тут и неразложившиеся окислы азота в смеси, и окись углерода, и, похоже, радиоактивные элементы. Явно допотопные источники энергии, отсталая технология. Ну-ну, собственным носом определил, без приборов, а ведь не специалист!
Он сел в серебристый «шанхай», специально для него поданный, машина сорвалась с места и через четыре минуты уже въезжала в гостиничные ворота, украшенные изящными фонарями. Через пять минут он вошел в приготовленные для него апартаменты. Ему одному предназначались двуспальная кровать, письменный стол и отдельная гостиная. Туалет на «интуристовском» уровне, унитаз и умывальник опечатаны полосками бумаги с английскими и японскими надписями, уверявшими, что после дезинфекции ни один человек ими не пользовался.
В первый его приезд еще и рекомендательных писем в ходу не было. Забросив за спину зеленую холщовую сумку, он попросил предоставить ему коечку за шестьдесят фэней в ночь. Его поместили в мрачную комнату на четверых. Соседи все много старше. Говорливый и контактный музыкант из труппы театра банцзы[35], молчаливый монах, вернувшийся к мирской жизни. Жил с ними еще несчастный страдалец — крестьянин, у которого жена умерла при родах, а новорожденный младенец заболел водянкой мозга: голова раздулась, как тыква. Он привез ребенка в Т. на консультацию и взял место в гостинице. Это, конечно, здорово всем мешало, но, сочувствуя крестьянину, ни гостиничный персонал, ни соседи по комнате не возражали. Лю, такой юный по сравнению с бедным отцом, с дрожью в голосе называл его «братом». И всякую свободную от работы минутку помогал ухаживать за младенцем. И плакал от жалости, когда через несколько дней крестьянин уехал, прижимая к груди так и не излеченного ребенка.
III
Не успел он после обеда войти в номер, как затрещал телефон.
Звонил помощник, внизу, говорит, какая-то гражданка хочет его видеть, утверждает, будто он знает ее по пятидесятым годам.
— Как ее зовут?..
— Лу Цайфэн, — произнес помощник, а может, и не так, он недослышал.
— Кто это?
— Называет себя учительницей, школа № 1.
Он пошарил в памяти: Лу Цайфэн? У Цайфэн? Лу Цайбэн? Чу Цзайфэн? Нет, и близко ничего похожего.
— Не помню такой. Расспроси ее, прими сам, если надо, пусть расскажет, что у нее за дело. Заговорит о старой дружбе, вырази от моего имени благодарность, объясни, как ограничен во времени, сколько дел. Ну а если жалоба, снабди письмом в соответствующую инстанцию.
Ну и ну, кто бы мог подумать, что и в Т. к нему станут рваться?! Слишком многим стал он нужен в последние год-два: бывшим соседям, бывшим соученикам (от школы до университета), бывшим соратникам, бывшим коллегам, бывшим сопалатникам по госпиталю, бывшим товарищам по «коровьим загонам»[36]… А также сегодняшним сослуживцам сверху и снизу, справа и слева… Нет, он не забывал о важности «связи с массами», как всякий высокопоставленный чиновник, понимал, что разрыв этой связи много опасней, чем, скажем, неустраненная загрязненность воды и воздуха или избыточный шум. Однако после года сверхусилий, вложенных в эти контакты, осознал элементарную истину: даже если полностью предать забвению работу и все двадцать четыре часа суток посвятить приему столь горячо любимых «масс», всех их нужд он все равно не удовлетворит. Любезно встретишь — так тот пожалует к тебе вторично, возомнив, будто ты обязал его к этому визиту, а ведь обращались-то к нему с проблемами гораздо более щекотливыми, чем соединение при высокой температуре NOx.
И вот вам, пожалуйста, не успел прибыть в Т., какая-то «портняжка Му»[37] врывается! Ему стало немного не по себе.
Как беззаботно он жил двадцать восемь лет назад! Все вокруг — товарищи, надо навалиться — навалимся, помочь кому — поможем. Все молоды, все заняты, прошлое не отягощало, времени на треп не было, от дел не увиливали. Последние дни той командировки в Т. он маялся животом, так горничная с косичками таскала ему в номер лекарства, бульон, протертую пищу, он был ей страшно благодарен, но они даже имени друг у друга не спросили.
IV
После обеда он отправился на механический завод, осмотрел новую технику, которую там поставили на очистке гальванических процессов, и не смог удержаться от довольно банальных указаний (которые, как говорят, «воодушевляют и приносят огромную помощь» заводчанам), после чего вернулся в гостиницу. На него навалилась усталость.
А та неугомонная гражданка все ожидала в проходной. Он не заметил ее и не остановил «шанхай» у ворот, но, едва вошел к себе, затрещал телефон.
— Вы не помните меня? Я — Чу (или Лу? У?)… Вы позволите пройти к вам?
Ей удалось упросить дежурного, и тот разрешил позвонить прямо в номер.
Он собирался сказать ей, что ему надо отдохнуть, что им, возможно, и говорить-то не о чем, что ему пора обедать, что в настоящее время он намерен обсуждать лишь вопросы комплексного использования распыления с двойной встречной очисткой… Но ничего этого так и не сказал, а лишь вздохнул:
— Ну хорошо.
Как же так? Вот ехал он на механический завод — и неужели никаких следов прошлого? Даже в парке Солнечного озера? Не раз хаживал он туда в пятьдесят четвертом, сидел на скамье, грезя о любви, о своей работе, о будущем. Гуляли в том запущенном парке редко, зажали его со всех сторон хижины да огороды, засорили сухие деревья, заполонили одичавшие собаки. Сегодня парк Солнечного озера обступили высокие здания, а рядом на огромной территории сооружалась великолепная выставка достижений местного хозяйства: Т. как-никак — центр провинции. Машина быстро проскочила мимо, но торопливый взгляд отметил толпы гуляющих, хотя было отнюдь не воскресенье.
Лишь повторный стук достиг его ушей. Стоя спиной к двери и глядя в окно, он крикнул:
— Войдите.
Осторожно повернулась ручка двери, нарушив ход мыслей, и задумавшийся управляющий Лю нехотя вернулся к действительности. Его глазам предстала маленькая, худенькая женщина с черными волосами, еще не тронутыми осенью. В стандартной синей униформе, коротко стриженная и небрежно причесанная. Учительнице, подумал он, положено следить за собой. Но глаза ее: в них, казалось бы покорных и робких, горел огонь упорства. Вопреки возрасту, одежде, манерам, всей атмосфере этого задымленного выше всяких нормативов, пропахшего серой городка. Сердце его дрогнуло.
— Да, да, это вы. Ничуть не изменились, я бы и на улице вас узнала… Нет, пожалуй, изменились, стали походить на… — сбивчиво говорила она, протягивая руку.
Банальна — как все его посетители. Утверждают, что не изменился — в форме, дескать, держится; и одновременно — что изменился: намек на жизненные успехи, на положение. Вот и эта гражданка, собирается, как говорится, сбыть ему и щит, и копье, и все, разумеется, наилучшее[38]. Скукота!
Им овладело холодное равнодушие. Она, похоже, ни с чем не считается. Достала из сумки какой-то допотопный блокнот в глянцевой обложке.
— Вы не вспомнили меня? — спросила с надеждой в голосе.
Нет, не вспомнил. Взял блокнот, открыл, на первой страничке увидел не слишком искусную акварель: из-за горы, рассыпая мириады лучей, встает солнце. Недоумение не рассеялось, а у учительницы с черными волосами, не тронутыми осенью, от волнения дрогнул голос:
— Перелистайте страничку, прошу вас, перелистайте…
Вверху второй страницы было написано:
«Цель жизни — украсить жизнь других людей.
Незнакомому доброму другу
в канун Нового, 1952 года
подносит этот блокнот
Лю Цзюньфэн»А ниже — строчка помельче:
«Ваше завтра будет ярчайшим. Прошу исполнить танец».
Что?! Его имя, явно его почерк, только иероглифы какие-то неуклюжие, детская рука. Однако он ничего не помнит. Неужто так обессилела память?
Учительница принялась вспоминать о том вечере 31 декабря 1951 года. Группа студентов промышленного института, где учился Лю Цзюньфэн, договорилась встретить Новый год с выпускницами средней школы при институте. Каждый заготовил подарок, надписал и прибавил какое-нибудь пожелание. Подарки завернули в праздничную красную бумагу, разложили на две кучки — от студентов и от школьниц, потом все стали тянуть, возбужденно разглядывать, что да от кого, затем разыскивать дарителей, благодарить, знакомиться, беседовать, а в конце пожелания, что в надписях, исполнялись.
Золотые деньки, золотое времечко! Жизнь услаждала, как игра, а игры были торжественны, как сама судьба.
В самом деле, все ведь было — и эта встреча Нового года, и веселые дары. Подробности уже ускользнули, но сам факт новогоднего вечера обозначился в памяти, и он не стал отнекиваться.
— Мы с вами о многом говорили на том вечере. Я ведь знала, что вы были и блестящим студентом, и комсомольским групоргом. Меня заразила ваша вера в жизнь. Потому и храню ваш подарок с этой надписью и восходящим солнцем. Надпись мне очень понравилась. Девочки из класса получали тряпичные куколки, кастаньеты за юань тридцать, просто леденцы — разве идет это в какое-нибудь сравнение с моим подарком?! Нет, я воистину самая везучая.
В памяти Лю Цзюньфэна смутно, как сквозь паутину, начал проступать блокнот в глянцевой обложке, но ни рисунок, ни надпись, ни тем более тогдашняя школьница, которая сейчас вдруг объявилась перед ним, пока не всплыли. Тридцать с лишним лет! Судьба то подбрасывала его вверх, то швыряла вниз, ежегодно мелькали перед ним десятки, сотни новых лиц, и чем их оказывалось больше, тем верней они забывались. Хотя о многих, очень многих помнить было важней, чем об этой учительнице.
— Я очень дорожу вашим блокнотом и, глядя на него, всегда вспоминаю те годы. Они многому научили меня, и, сколько бы времени ни прошло, этого мне не забыть. И всякий раз, когда вспоминаю, моя жизнь словно поворачивается к лучшему…
— Простите великодушно… Но я забыл… — с виноватой улыбкой покачал он головой. Не мог покривить душой, притворяясь, будто помнит. К чему обманывать эту по всей видимости заслуживающую уважения, но все же несколько назойливую женщину, случайно встреченную тридцать с лишним лет назад?
— В позапрошлом году в газете я вдруг увидела вашу фамилию и сразу поняла, что это именно вы. Прочитала, что вы участвовали в работе Комитета ООН по окружающей среде в Женеве или Стокгольме, уж не помню сейчас. И после этого принялась повсюду выискивать ваше имя. Видела вашу статью в журнале «Наука и окружающая среда». Какая ученость! Вы стали крупным руководителем и большим специалистом, до чего же я рада за вас! И для меня почетно! Я уверена, что опорой для четырех модернизаций будут комсомольцы пятидесятых! Кто знает, может, вы станете заместителем премьера! Почему бы и нет?
Замахав руками, Лю Цзюньфэн уставился на нее, надеясь по выражению лица определить, насколько искренни эти комплименты.
— Извините, что побеспокоила, я знаю, как вы загружены. Осенью пятьдесят второго я поступила в пединститут, на китайскую филологию, в пятьдесят шестом распределили в Т., в среднюю школу. Ах, простите, я, кажется, слишком болтлива. Сейчас веду выпускной класс, ребята боятся, что не пройдут в вузы, и не видят в жизни большого смысла, груз раздумий-то им не по возрасту, крохам этаким. Читаю им горьковского «Буревестника», «Кто самые любимые» Вэй Вэя[39], сама слезы лью, а среди них сидят совсем равнодушные. Жизнь прекрасна, убеждаю их, а они не верят. А как-то, представляете, спрашивают — что прекрасного в вашей жизни? Ну и рассвирепела же я: до них не доходит, как я люблю свою работу, как жажду вложить в них веру в идеалы… Но по силам ли мне, козявке, встряхнуть их души! Как хорошо, что вы тут, ваш блокнот я уже показывала ребятам, и это взволновало их. Простите, вы мне протянули палец, а я всю руку хватаю. Может, вы придете к нам побеседовать с классом, минут десять, не больше, ну, даже и слов никаких не надо, пусть они только глянут, так сказать, живьем, простите мне мою грубость, на вас, большого человека, столь многого достигшего. Пусть поймут, что человек может чего-то достичь, только живи — масса дел ждет тебя, у жизни широкие горизонты…
Управляющий Лю был растроган — какая прекрасная душа у этой давно им забытой старой знакомой (пусть даже знакомство их фактически односторонне)! И все же… Черт возьми, он что, прибыл в Т. толкать речи перед школьниками? Служить живым экспонатом «большого человека»? Он же не черный орангутанг! Он не желает потакать этой примитивной страсти поглазеть на него. Его программа, всего на пять дней, расписана по минутам: отчеты, доклады, резолюции, связь с Пекином, да еще найти время уточнить кое-какие параметры в своих личных исследованиях. Какое-то интервью корреспонденту местного телевидения запланировано — скука смертная! Он инженер, номенклатура, а не бодисатва[40], исполняющий желания и простирающий свою милость на все сущее. Всем подряд пожимать руки не намерен, об избирательных бюллетенях не помышляет. Да и спохватилась гражданка слишком поздно.
— Невозможно, моя программа вся расписана, вот так, — отрубил он и собрался выпроводить гостью.
— А вечером? — чуть не заплакала учительница. — Посидите у меня немного, а? Я приглашу только старосту и комсомольский актив, приготовлю поесть, и вы скажете им несколько слов, ну, пока будете ужинать, а потом вернетесь к своим делам… Вот, правда, готовлю я не очень…
Он не успел отреагировать, как послышался громкий разговор, смех, распахнулась дверь — с протокольным визитом явились руководители провинции и города. Манеры у них были внушительные, голоса громкие. Они словно не видели, что в комнате есть кто-то еще. Лю Цзюньфэн и не заметил, как исчезла учительница.
V
Работы в городе Т. у управляющего Лю было пропасть. Совещания носили узкопрофессиональный характер, однако то и дело выходили за рамки специальных проблем. Обсуждали не только как применять технические новинки, добрую часть времени приходилось уделять и тому, как завоевать доверие руководства, как поднять активность масс, как разрешать диалектическое противоречие между охраной окружающей среды и расширением производства, режимом экономии, урегулированием экономики и так далее. Одним словом, «ключевое звено — контроль со стороны парткомов, дело пойдет, лишь если опираться на массы, идеологическая работа — предпосылка развития как охраны среды, так и производства!» Все это, вероятно, не входило в сферу его компетенции, но без подобных проблем не существовало ни одной профессии. Уж коли специалиста назначают руководителем — изволь большую часть времени отдавать вопросам, выходящим за рамки твоей специальности. Он трезво смотрел на все это, не роптал и лишь криво усмехался, в очередной раз выслушивая на совещаниях все эти банальные истины и истинные банальности.
Учительница Лу (или У?), не расставаясь с надеждой, звонила и звонила, и в конце концов он согласился прийти к ней на четвертый вечер, чтобы за ужином познакомиться со «сливками» класса, школьной номенклатурой, «в общем, не больше часа», предупредил он. Даже по телефону было слышно, как дрогнул голос учительницы, «взволнованной до слез», если можно так выразиться.
В суете удалось урвать время, целых полдня, на отдых — руководящие товарищи соответствующих ведомств провинции и города повезли его к старому буддийскому храму в Сосновых горах. Сопровождающие наперебой, точно это какая-нибудь модерновая скульптура из камня или стали, рекомендовали ему «чжоуский кипарис», стоявший тут с незапамятных времен династии Чжоу[41], наш, можно сказать, предок и даже с еще живительными соками, текущими в омертвелом стволе этого ископаемого. Когда-то, подумал он, удастся и в городе сделать воздух таким же чистым, как в Сосновых горах.
В 1954 году он тоже ездил в Сосновые горы, час прождал автобус у Большого западного моста, машины к храму тогда ходили раз в два часа. Автобус был набит так, что не продохнуть. А последний обратный рейс прозевал. Вернулся в город — столовые и магазины уже закрыты, даже частной лавчонки не сумел отыскать. Обшарил карманы, и полтора старых, твердых леденца стали его ужином. Древний кипарис истаял, а полтора леденца задержались в памяти, окрашенные былой восторженностью и радостной гордостью.
На третий вечер два руководящих товарища из провинции и города повели его на спектакль в жанре банцзы «Цин Сяндянь». Как-то в минуту отдыха он обронил в разговоре с референтом Чжао фразу: в 1954 году слышал-де тут два банцзы — «Посеченный камыш» и «Возвращение счастья и славы». И тот немедленно устроил билеты на спектакль. Это в Пекине столичные ганьбу обливают приезжих прохладной водицей, на местах же отношение к гостям что выдержанное вино. Классически простое, без излишних эмоций пение в банцзы исторгло у него слезы, он переживал за Цин Сянлянь, аплодировал Бао Хэйцзы[42], еще раз глубоко прочувствовав, сколь долго и страстно ожидал справедливых баогунов[43] народ. Но свою растроганность спектаклем этот моложавый руководитель нового типа, владевший иностранными языками, выезжавший за рубеж и для местной номенклатуры «по-заморски» образованный, квалифицированный, сумел без всякой нарочитости преподнести как волнение, вызванное отношением к нему здешних товарищей. Неудивительно, что хозяева сочли его вполне своим человеком.
Он старался найти нужный тон во всех этих церемонных беседах, протокольной суете. Нельзя забывать, что он только-только поднялся наверх и на ногах стоял еще нетвердо, так что укрепление добрых отношений на местах имело для него прямо-таки политическое значение — быть может, в реализации его программы охраны среды гораздо большее, чем, допустим, установка нескольких десульфирующих пыле- и дымоуловителей.
Наутро после спектакля на совещании начальник управления Ван пригласил его к себе на домашний ужин — «в компании», так сказать, со вторым секретарем парткома провинции Ли, заместителем председателя провинциального правительства Чжао и мэром города Чжу. Отказаться он, разумеется, не мог. Но как быть с учительницей Лу (или У?), чье приглашение он уже принял? Ничего другого не оставалось, как пренебречь дневным сном[44] и, выкурив пару послеобеденных сигарет, ринуться в школу № 1 разыскивать учительницу Му. Она, оказывается, не Лу, не У, не Чу, а Му — это он выяснил у школьного персонала, когда расспрашивал, где та живет. Учительница хлопотала на кухне. Медленно передвигался, заторможенно реагируя, ее муж, недавно переведенный сюда откуда-то. Поговаривали, что он наглотался метило-ртутных испарений. Домишко у учительницы был маленький, ветхий, а на стене висел выцветший портрет Зои[45], видимо чей-то давний, еще от тех времен, дар. Неужели она все еще живет в пятидесятых? Рядом — факсимильная каллиграфия Лу Синя. И кактус, слишком величественный для этого дома и его обитателей.
На беседу с ней и мужем времени уже не осталось, он успел лишь выразить сожаление, что не имеет возможности встретиться, как она хотела, с ее учениками. Через двадцать минут управляющему Лю надлежало занять почетное место в президиуме очередного совещания по охране среды. Предстоит выступить с обобщающим докладом. Текст — в папке для бумаг. Папка и помощник — в «шанхае» у входа. Он распорядился мотор не глушить, и тот сейчас тарахтел под окнами учительского дома.
— Спасибо, что все же заглянули к нам в школу, я непременно расскажу об этом ребятам! — На ресницах учительницы сверкнули слезинки.
Ужин прошел весьма успешно, способствуя и отдохновению, и делу. После второй рюмки секретарь Ли стал проще, ближе, раскованней. Приезд старины Лю, заметил он, окажет значительное воздействие на работу по охране окружающей среды в провинции. Пересмотрим и распределим сумму отчислений из бюджета, проинформируем провинцию. Он лично — полностью за сотрудничество с учреждениями, которые возглавляет управляющий Лю, и вот вам пример эффективности работы — теплоэлектростанция, куда пришли и успех, и новая техника, и идеи, и материалы. Секретарь всесторонне обыграл этот пример. А затем, похлопав старину Лю по плечу, с чувством произнес:
— В будущем году удаляюсь от дел, завтрашний Китай уповает на таких, как вы!
Так управляющий Лю и не выкроил времени побродить по городу старыми маршрутами пятьдесят четвертого года, не сходил к большому мосту на западной окраине, где он тогда гулял. Мост, казавшийся прежде великолепным, теперь, из окна машины, выглядел убогим. Скоро завершат сооружение нового, сообщил ему начальник управления Ван, а этот снесут. Он исчезнет, и останется еще меньше старины пятидесятых годов. А как не сносить? Ну, останови он машину, пройдись пешочком — признал ли бы что-нибудь еще из прошлого?
VI
Ни прошлое не вспомнил, ни душу не излил, даже отведать чашку яиц в барде[46] не сходил. Это блюдо двадцать восемь лет назад исторгало у него восторженные ахи. Ничего восхитительней не пробовал. Пусть теперь нынешние двадцатитрехлетние дегустируют, его сегодняшняя задача — не дегустация, а работа, сродни воловьей, его долг — очищать воздух и воду, хотя бы и для того, чтобы молодежь имела возможность наслаждаться деликатесами.
Вот так и прокрутился он все пять дней, ни на прогулке к храму, ни в домашнем застолье не прекращая служебных разговоров. И наконец в одиннадцать двадцать вечера его отвезли на новый вокзал, куда он прибыл пять дней назад. Протокольный уровень проводов был выше, чем при встрече: помимо начальника управления Вана, его заместителя Ли, завотделом У и референта Чжао, лично явился на вокзал второй секретарь Ли.
А на перроне его уже ждали: изможденная энтузиастка учительница, больше обычного растрепанная прохладным ночным ветерком, так боялась прозевать Лю Цзюньфэна, что приехала, как она сообщила, за сорок минут. Она держала в руках тот старый блокнот и умоляла Лю Цзюньфэна начертать ей еще пару строк и расписаться.
— Тридцать лет назад вы воодушевили меня. Тридцать лет спустя…
Он не дослушал, что говорила ему эта женщина с черными волосами, не тронутыми осенью, черт знает что такое, это переходит все границы, и отстранил ее, чуть не толкнул.
Простился с местными товарищами, поблагодарил за теплый прием, выразил удовлетворение поездкой и беседами, а за минуту до отхода высунулся в открытое окно и дал начальнику управления Вану наказ довести на ТЭС дело до конца.
— Рассчитываю на вас! — заключил он.
Поезд тронулся, поплыли назад лица, руки, ноги местных руководителей, как вдруг в грудь ему врезалась нейлоновая сетка с яблоками — это в вагон влетел прощальный дар учительницы. Он увидел ее, торопливо бежавшую вровень с поездом и просиявшую, буквально всплеснувшуюся радостью, когда она поняла, что он принял яблоки.
VII
Город Т. остался позади. Былой облик его исчез, и за время командировки управляющий Лю не сумел пробудить уснувших воспоминаний, раскопать свидетельства памяти. Да и сам он переменился, стал суетным, занятым, самоуверенным. Уже не звучат в ушах прежние ритмы и мелодии «Змей на ветру», «Саньшилипу», а доведись ему сейчас их услышать, они вряд ли вызовут тогдашнее волнение. Давно обратились в прах и тело, и душа младенца, пораженного водянкой мозга. Завтра утром в Пекине жена не сможет встретить его. На вокзал придут лишь подчиненные. Поезд шел, он смотрел на яблоки и ощущал что-то вроде раскаяния: неужто и в самом деле не мог отыскать минутки для встречи с ее учениками? Сантименты тут ни к чему, он решительно обязан был настроить славных ребят на большие свершения, ну, хотя бы ради того, чтобы больше не случалось таких метиловых отравлений, как у мужа учительницы Му. Он стал обдумывать новую надпись для учительницы, мысль такая — пусть каждый из нас на своем посту вносит реальный вклад в «четыре модернизации». Надо, будет непременно послать это в Т. сразу по прибытии в Пекин. Он попросил помощника напомнить. А тот заметил:
— Психованная какая-то эта учительница, как я погляжу.
И все же чем-то он остался неудовлетворен. Удивительное дело! Собственно, по рабочим итогам и по оказанным ему почестям нынешнюю командировку не сравнить с той, двадцать восемь лет назад, так отчего же где-то в тайниках души таится ощущение, будто та, двадцативосьмилетней давности, поездка неизмеримо милее и дороже ему? И заставляет оглядываться назад?
Но это же невозможно. Ни 1954 года, ни его самого тогдашнего (не столь уж и удачливого, как видится ему сегодня) уже не вернуть. Время не идет вспять, восьмидесятые бросают свой вызов, и сверхтяжела ноша, что взвалил он на себя сегодня. Вероятно, он уже не такой симпатяга, как в 1954 году и тем более в 1951 году, когда делал эту надпись «незнакомому другу», возможно, горячности поубавилось… И все-таки делать дело и быть приятным — не совсем одно и то же. Жеребенок, конечно, симпатичнее лошади и уж тем более трактора, однако на пашню ведут лошадь, а еще лучше трактор. Симпатиями не накормишь и атмосферу не очистишь.
— В котором часу, — обратился он к помощнику, — послезавтра мы встречаемся с японскими измерителями?
Но совсем рассеять впечатление, оставшееся от встречи с учительницей Му, он оказался не в силах. После возвращения в Пекин прошло немало времени, а нет-нет да и вспомнит он о ней — и всякий раз в душе начинает копошиться чуть заметное, но, видимо, надолго засевшее в ней смятение.
Перевод С. Торопцева.
СЛУШАЯ МОРЕ
Знаю, знаю, как замотаны мои читатели. Будильник поднимает вас в шесть, час на утренний туалет и завтрак. А пампушек-то маловато, придется еще в очереди за лепешками постоять. У дочки ремешок на ранце оборвался, она его так набивает, что идти прямо не может, тут и до искривления позвоночника недалеко. Сын, пыхтя, ищет пуговицу для своей «гонконгки», а к этой рубашке подходящую подобрать непросто. Кто-то барабанит в дверь — оказывается, пора платить за электричество, два юаня семьдесят шесть фэней. Куда мелочь запропастилась? Никак не разойдемся. Наконец вы хватаете велосипед и опрометью выскакиваете за дверь. Или мчитесь к остановке, зажав в руке проездной. Народу — пропасть, подряд два экспресса не остановились, очереди конца-краю не видно. И у навеса велосипедной мастерской — толпа жаждущих подкачать шины. Долго ли, коротко, но вы все же добираетесь до насоса, надеваете на ниппель резиновый переходник и под свист воздуха обмозговываете, чем предстоит заняться на работе и за чем следует заскочить в овощную лавку на обратном пути — за баклажанами или кочанчиком капусты…
И потому на сей раз, читатель, я хочу увести тебя подальше от всей этой толчеи, суеты, нервотрепки. Давай-ка отправимся к морю, на пляж, залитый ослепительным летним солнцем, в дом отдыха под сенью дерев, где во влажном воздухе нет ни бензина, ни гари. Тебе, верно, кажется, что это несусветная даль — где-то за морями-небесами. Как говорится в сунских[47] «Записях странствующего вельможи о виденном»: «…и вельможи, в отдалении пребывающие, и те, кто дань издалека везут, — все о местах, что за морями-небесами, то есть в дали дальней находятся, сказывают».
ПРЕЛЮДИЯ
Итак, очутились мы с вами в доме отдыха «Крабья лагуна», некогда, в пятидесятые годы, довольно известном. Тридцать лет назад здесь проводили лето иностранные специалисты, а простые китайцы о таком и не помышляли. Стройные шеренги каменных коттеджей окружает огромный парк с тенистыми тропками, фруктовым садом, клумбами, ухоженными газонами, которые регулярно подстригаются парковыми рабочими, с буйным разнотравьем и соснами, высаженными много лет назад, но все еще выпускающими молодые побеги. Дома не похожи один на другой, но каждый имеет обращенный к морю балкон, уставленный допотопными выцветшими, кое-где уже без прутьев плетеными шезлонгами, и, лежа в этих обломках прошлого, всегда: утром и вечером, в сумерках и при свете дня, в дождь и ветер, в жару и прохладу — можно видеть море, то ясное, то туманное, то спокойное, то бурное, то свинцовое, то бирюзовое. Свистели над морем ветра, стучали дожди, жаркие лета сменялись зимами, приливы — отливами, смещались звезды и созвездия, и так канули куда-то тридцать лет. Обветшали здания, откровенно старомодной выглядит мебель, а вокруг выросли гостиницы куда как красивей и комфортабельней. И вот, подобно стареющей женщине, которая уже не может ожидать от жизни всего, что знала в былые золотые деньки, дом отдыха к восьмидесятым годам двадцатого века стал рядовой турбазой, где при наличии свободных комнат может остановиться любая группа или частное лицо, были б монеты да документ в кармане.
Публика тут была пестрая и надолго не задерживалась. В центре ее внимания обычно оказывались путешествующие молодожены (не всегда, правда, молодые) — ярко одетые, сияющие, радостные, счастливые и ничего не замечающие вокруг себя. От них не хотелось отрывать взгляда, может быть, в тайной надежде урвать и себе частичку счастья. Придира скептик, возможно, найдет в этих мужчинах и женщинах не один изъян, но большинству они казались красивыми, деликатными, нежными — если не от природы, то хотя бы по воспитанию.
Ну, вот возьмите эту пару из четвертого номера восточного блока. На молодой женщине — розовая блузка с короткими рукавами, расклешенные брючки кофейного цвета, множество завитков, аккуратно уложенных и завершающихся ровной челочкой — и как только ухитрялась, фена у нее с собой, конечно, не было, да и в парикмахерскую вряд ли ежедневно бегала. Выдвинутые скулы несколько портили лицо, делая его угловатым, но все равно оно изливало свет молодости — сияющая луна! Супруг выглядел постарше, от уголков глаз побежали морщинки, и новехонький серый костюм из легкой ткани «палас» сидел мешковато, подчеркивая неуклюжесть, и все-таки даже неловкие движения были озарены хмельным счастьем.
Эта парочка никогда не расставалась и не закрывала рта. У воды их не видели — видимо, плавать не умели, но, похоже, нисколько о том не горевали, ибо для них в эти дни ничто не существовало: ни люди, ни море, ни сосны с ивами, ни белые облачка на голубом небе. Даже глубокой ночью, уже погружаясь в сон, они продолжали что-то бормотать. Не волнуйтесь, слышать их было некому, да эти нескончаемые тирады и предназначались друг для друга, и только один другого и мог услышать и понять. Ближе к рассвету, когда сон окончательно смаривал их, ровное дыхание и легкое поскрипывание пружин казались продолжением все того же немолчного шепота: тебя-тебя-тебя… люблю-люблю-люблю…
А другие изнывали от скуки. Так, на втором этаже единственного здесь трехэтажного корпуса, где были сосредоточены все административные службы, в седьмом номере жили три шофера. Они не отдыхали, они возили отдыхающих. И пока автобус стоял на приколе — если, конечно, не требовалось что-то в нем подремонтировать, — убивали время за картами, источавшими аромат цветочного одеколона. Когда для комплекта недоставало игрока, они звали горничных, и те не возражали против такой компании. Играли всерьез, лица суровые, словно они за рулем грузовика с прицепом на узком мосту. Время от времени игроки поднимали глаза на партнера, выслушивали его, порой яростно обвиняли в нарушении правил, и тогда начинались грубые перебранки, прерывавшие игру. Оставалось только расходиться, раз и навсегда разорвав все и всяческие отношения. Но тут горничные принимались гадать на картах. Каждая по-своему, и потому судьба всякий раз выпадала иная. Гадание расслабляло и примиряло. Логика была простая, но беспроигрышная: выпадет доброе предзнаменование — шофер ликует, а на дурной знак отвечает громким хохотом: доскриплю, еще обставлю судьбу! «Привалило!» — восклицали они с таким видом, будто сорвали банк или схватили изрядный куш. Вражда испарялась, огонь гас, и они резались в «сто очков»: сбрасывали дам, козыряли червями, прокидывали оставшиеся масти, наносили решающие удары — и так до глубокой ночи, не помышляя о сне.
Встречались в доме отдыха этакие самозваные покорители морей, те, кто с морем на «ты» и бросает ему вызов, полагая, что оно только лишь для них и существует. В любую погоду, в штиль и в шторм, обнажив крепкие мышцы и демонстрируя загар, они в купальных костюмах шествовали к пляжу, привычным жестом бросали махровые полотенца или банные простыни под пластиковый навес, разминали прессы и торсы и входили в море с независимым видом, будто въезжали в собственную вотчину или, опершись о седло, вскакивали на любимого скакуна. Когда море бурлило недостаточно, они били руками по поверхности, вспенивая перед собой воду, и недовольно бурчали: «Нет, не то!» — презрительно игнорируя прочих, жалких в своем страхе перед водой и даже на мелководье цепляющихся за спасательные круги или протянутые руки. Пара взмахов кролем: шлеп, шлеп — и полусотни метров как не бывало — или же баттерфляем: плюх, плюх, торс взметнется над водой и вновь погрузится — и, сопровождаемые завистливыми взглядами, покорители морей оставляют позади людское месиво. А там, вдали, они уж иные: экономят силы, отдыхают на спине, вольно разбросав все четыре конечности, покачиваются на волнах посреди беспредельности.
Что мне берег, что мне суша! Быть может, беззаботно распластавшись в центре моря, именно так они думают о взлелеявшей их суше, чье тяготение жаждут сбросить. И, возможно, на какой-то миг им почудится, что погибла, погрузилась на дно, ушла от них эта суша со всей ее деловой, размеренной, шумной, насыщенной жизнью. Где еще, кроме этого бескрайнего океанского простора, обретешь такое нескончаемое движение и покачивание, бездонное небо, неудержимый бросок вперед, взгляд, не встречающий преград, освобождение души от жалкого тела, ее взлет в необъятный космос!
И что им сетка от акул! Как раз она-то и становится для наших пловцов начальной точкой отсчета, до нее от берега тянется как бы «нуль-пространство», и лишь с прорывом за сеть разворачивается битва любви и покорения моря. Не боятся акул они, что ли? Боятся, конечно, в человечьих ли силах сопротивляться быстрой, точно молния, хищнице с острыми, как у пилы, зубами? Да ведь не оторвешься решительно от сетки, сколь бы далеко от берега она ни была, хоть на пятьсот, хоть на тысячу метров, — не взыграет плоть, не воспарит дух!
А потом навалится усталость, и вдруг осознаешь собственную слабость и ничтожность, откроешь, как огромно море, слишком огромно даже для атомного корабля, не только для пловца, и твой порыв, если не безрассудный, то дерзкий, обернется бременем, тяжкими путами — вот тогда только и оценишь сетку от акул, и тебя вновь потянет к суше, как к дому родному. Сколь бы ни был ты храбр, дерзок, высокомерен, отправляясь в путь, всласть наплававшись, ты вернешься в дом, ополоснешься пресной водой, насухо разотрешься полотенцем и за стаканом горячего чая или с душистой сигаретой в зубах, возможно, воскликнешь: «И все-таки на земле лучше!» Это-то открытие: «на земле лучше!» — и есть важнейший итог твоего заплыва.
Но как же это мы с вами забыли о толстяках из двенадцатой комнаты западного блока: крабы под пиво, рюмка водочки — приморский рай, да и только! Про местный деликатес они прознали сразу по приезде. Поутру — на рынок за крабами да в лавку за бутылками, а после обеда — пьют, жуют, срывают панцири и до самого ужина чешут языки. Не подумайте, однако, что это какие-нибудь вульгарные обжоры, просто таков уж стиль их отдыха — поесть послаще, выпить покрепче. Далеко не каждый прошел курс плавательных наук, и уж тем более не у всякого есть легкая надувная лодочка, так что обглодать клешню да запить пивком — самое милое дело и для пожилого прораба, и для среднего служащего, и даже для ученого или художника. Видите вон того загорелого коротышку с массивной шеей? Всякий раз, нагрузившись, он достает бумагу и с горестными воздыханиями принимается нанизывать лирические стихи — строку за строкой, строфу за строфой. До чего же эти тонкие, изящные, нежные, как слеза или вздох, как грусть или восторг, стихи не похожи на автора в тот миг, когда, расставив ноги, он поглощает крабов!
Давайте, однако, оставим пока толстяков в покое. У всякого свои пристрастия, нам их никто навязывать не собирается, и вы не завидуйте чужим радостям.
Но один человек раздражал всю эту довольную, наслаждающуюся, смакующую жизнь толпу. Высохший слепой старик с нетвердой походкой. На первый взгляд вполне здоровые, его глаза были застывшими, неживыми. Его поддерживала под руку девочка лет восьми, а может, и одиннадцати. Питание-то становится лучше — дети развиваются быстрее. Ясными, зоркими глазками она стреляла туда-сюда, вбирая в себя приморские красоты. Но чем бы она ни была увлечена, девочка ни на миг не забывала о слепце.
Казалось, высохший старик напоминал беспечным курортникам и гулякам, всей этой весело снующей толпе о недолговечности весеннего цветения, о бренности бытия. При виде его морщинистого лица, остановившегося взгляда, согбенной фигуры разом слетали улыбки, замирал смех, мгновенно серьезнели люди, опьяненные любовью, возбужденные плаваньем, объевшиеся крабами, поглощенные картами, переполненные стихами. И все же к нему неудержимо влекло смутное чувство, будто он участвует в какой-то торжественной, чуть ли не траурной церемонии. И лишь густая шевелюра седых волос, отливающих серебром, напоминала о жизни, что не вся еще угасла в старике.
— Я приехал послушать море, — так бормотал он себе под нос, порой лишь шевеля беззвучно губами, и так же отвечал любопытным, когда те интересовались:
— Зачем это вы, папаша, в ваши-то годы, да еще с вашими глазами, тащились в этакую даль?
СЛУШАЯ МОШЕК
Первое, что услышал старик, был не рокот моря, а зуденье мошкары. Поезд, на котором они ехали с внучкой (кто знает, внучка ли она ему? Но будем считать так), опоздал, совершенно вымотав голодных и сонных пассажиров. Пожевав в восемнадцатом номере восточного блока, куда их определили, черствых пампушек, оставшихся от дорожной снеди, старик произнес:
— Солененького бы еще, вот бы славно было.
На что девочка ответила:
— Пораньше бы приехать — вот что было бы славно.
Они дружно повздыхали и, повздыхав, успокоились, будто и впрямь солененького поели.
— Ложись, детка, ты устала.
— Нет, не устала. А вы?
— Я-то? Да и мне пора.
Но ему не спалось. Дождавшись, пока девочка заснет, он встал, прислушался, нащупал дверь на балкон, осторожно открыл и через десять секунд уже сидел в шезлонге.
Мягкий муссон, звездное, безлунное небо. Старику не нужны были календари — луну он воспринимал кожей. Ощущения поразительные: в ясную лунную ночь — легкое прикосновение, сдержанное возбуждение, пробегающее по телу, даже какое-то давление — словно бы лунного луча. Сегодня ничего похожего не было — только распахнутость неба, только тишина да свежесть, только ветер.
Ан, нет, не тишина тут — какой-то гомон. Когда люди затихли и на души снизошел покой, встрепенулась мать-природа. И раньше всех прочих звуков старик услышал мошек: со всех сторон неслось зуденье, пронзительное, лихорадочное, суетное. То ли драка отчаянных сорванцов, то ли свара дерзких девиц, то ли хруст хрупких предметов, в первый миг даже уши хотелось заткнуть. А потом каким-то непонятным образом все это назойливое жужжание отодвинулось на задний план, и он услышал далекое, грозное, тяжелое дыхание моря. Еще более древнего, чем он сам, старца!
Душа затрепетала, как трепещет сама собой тонкая струна, свободно повисшая в воздухе, и из запредельности той его, последней зрячей осени явилась гряда белых тучек. Лет двадцать уже не видел он белых туч, и та, последняя, их вереница все плывет и плывет перед погаснувшим взором. И еще последняя тростинка той осени все так же трепещет в порывах холодного ветра! Черт бы побрал эту мошкару, ведь только что вас не было слышно! Откуда вы вновь взялись? И зачем именно здесь, среди могучего, вечного рева прибоя, понадобился ваш дребезжащий писк, бессмысленный и ничтожный.
Но вот ведь что поразительно: когда грозный, неторопливый, предвечный гул прибоя овладел слухом и стал незримым аккомпанементом, отдаленным фоном, зуденье мошкары отчего-то вдруг перестало казаться столь суетным. Звякают, будто махонький колокольчик у ворот, трезвонят, словно кумушки на улице, бухают, как монах по деревянной рыбине в буддийском храме, и еще как-то необъяснимо протяжно пришептывают: каждая мошка тянет свое, на что-то надеясь, о чем-то печалясь.
— Они вовсе не тушуются перед лицом великого океана… — пробормотал он наконец, нарушив молчание.
Девчушка проснулась и, стукнув дверью, выскочила к старику:
— Вы что-то сказали, дедушка? Почему вы не спите?
— Ты что босая? Пол-то цементный, простынешь… — утратив зрение, старик обрел тонкость ощущений и безошибочно полагался на них. Он кашлянул, чуть смущенный тем, что забылся и прервал сон внучки. Молодым людям положено сладко спать, вкусно есть, весело играть, радостно трудиться. — Мошки, говорю, — извиняющимся шепотом объяснил старик, — этакие тихони, а зудят беспрерывно, словно море переспорить хотят. А прибой, слышишь, рокочет?
— Да что вы, дедушка! Это мошкара. Ну и писк! Какой там еще прибой? Ну и ну, чего это они беснуются? Верещат-то как, верещат!
— Иди, детка, ложись, мошки ведь тебе не мешают?
— Пока сплю, нет, а проснусь, так мешают. — И, помолчав, девочка добавила: — Но это все же приятнее, чем грохот грузовиков у нас под окнами в городе…
Они ушли с балкона, и старик тоже лег, подложив под голову руку, согнутую в локте. А в комнату, наверное, через приотворенную дверь, ворвался писк мошкары, и с потолка, из-под стола, из кроватей — отовсюду, казалось, летело зуденье, трепещущее, как скрипичная струна, или опадающие листы, или рябь на поверхности озера. В это мгновение выглянула ущербная, точно лук со спущенной тетивой, луна и сквозь старые занавески пустила свой луч на плечо старика и серебристые волосы. Весь переполненный жужжанием, он почувствовал, будто в этом луче сам превращается в ничтожную мошку и вопит, вопит изо всех сил — но издает лишь дребезжащее попискивание. Обитательнице лугов да трещин в стенах, мошке привычны пышность летних трав и шероховатость глиняных стен. Быть может, пройдет не так уж много времени, и она ляжет пылинкой в землю, опустится пузырьком в море, но сейчас-то лето, а летний мир принадлежит ей, мошке, баловню великого океана и великой земли, и дано ей сейчас кричать, славить лето, и осень, и даже белые снега таинственной, непостижимой для нее зимы. Ему же самому положено восславить великий океан и великую землю, взывая к чувствам сопутников, к дружбе и любви, к ушедшей жене, к лучу луны, морскому прибою, крабам и рассвету. Вот-вот алая заря погрузит мошку в сон. Жены давно нет с ним, да-да, но ведь она была, он помнит, и слезы выступают на его незрячих глазах. Они существуют, эти слезы, и крохотная мошка — существует, и они с женой, и все сущее — существует. Не им тягаться с бесконечно большими величинами, и бесконечность приведет их когда-нибудь к нулю, но, когда они приблизятся, нуль как бы станет для них знаменателем и ушлет в бесконечность, и тем самым они вкусят от вечности. Каждый из них занимает свое собственное, четко определенное место между нулем и бесконечностью, связывая их. Кричи же, ничтожная мошка: лови мгновенье, пока в силах кричать.
Прибой умолк, отступил, и остался лишь мир ничтожной мошки.
— Идем же, идем быстрей! — бормотала во сне девочка, перебирая ногами.
Безмятежная, ласковая, короткая летняя ночь.
А чуть развиднелось — угомонилась мошкара и запели птахи, певуньи познатнее мошек. Мир мошкары становился миром птиц, а затем и миром человека.
СЛУШАЯ ВОЛНЫ
На следующий вечер они пришли к морю, девочка расстелила на песке простыню, и старик прилег. Она присела рядом, но тут же вскочила и помчалась к кромке воды, туда, где прибой мог бы омыть ей ступни. Набежала и откатилась волна, девочка почувствовала, как песок под ногами начал проваливаться, вскрикнула, но тут же успокоилась: опустился-то он совсем немного, так что, стой она хоть до утра, вода и до коленей не доберется. Почему это море, захотелось ей понять, не останавливается ни на миг?
Успокоился ветер, затихли волны, лишь неторопливое, размеренное, расслабленное дыхание моря долетало до старика. Шелестя, накатывалась вода. С шумом ударяла в песчаный берег, нет, даже не ударяла, а нежно поглаживала, как мать проводит по лбу ребенка, как гладят щеки любимой. С шорохом набежав на берег, волна разбивалась на множество потоков, шумных, как горные ручьи, и скатывалась обратно в море.
«…а море окутал туман, И берег родной целует волна…»В пятидесятые годы он был еще крепок и, как все тогдашние молодые люди, часто слушал песню Соловьева-Седого «Уходим завтра в море». Хотя, в общем-то, она ему не так уж и нравилась: банальные слова и сентиментальна сверх всякой меры. Но сейчас вспомнилась именно эта песня его мужественной молодости, и он словно воочию увидел и туман, окутавший море, и волну, целующую родной берег. Вытянутую, неровную, податливую, изменчивую линию берега, созданную накатами прибоя.
— Нет, все же хорошая песня. Это я был излишне суетлив.
— О чем это вы? — Девчушка, тонко воспринимающая смену настроений старика, беспокоилась всегда, даже во сне.
— Об одной песне.
— Какой песне?
В самом деле, какой? Старик молчал. Вряд ли она знает, и не для ее возраста слово «целует», пусть даже это поцелуй всего лишь моря с берегом.
— Вот о таком же, как сейчас, тихом, умиротворенном море, — уклончиво ответил он.
— Нет, дедушка, море непослушное, брюки мне намочило.
— Ну посиди тут, — старик чуть подвинулся. — Не подходи так близко к воде, еще волна унесет…
— Что вы, дедушка… — возразила девочка, однако от моря отошла. — Расскажите о своем детстве, — попросила она.
И старик начал:
— Помню, был у меня брат-близнец, ох, как мы с ним были похожи, не отличишь. Ты не знаешь его, он давно, еще в сорок третьем, погиб в японской жандармерии. Впрочем, ты, наверное, и не слышала, что такое жандармерия.
— А вот и слышала, — уловив в голосе старика снисходительные нотки, капризно протянула девочка. — «Докладываю начальнику Мацуи, впереди обнаружен Ли Сянъян…» Начальник Мацуи — это же японский жандарм, да? Мы смотрели «Партизан на равнине»[48].
— Ну ладно. Так вот, когда нам было по пять лет, мы подрались. Как-то утром я стал рассказывать сон — сижу на большом коне, а конь красный. И вдруг братец заявляет, что тоже видел сон, и во сне тоже сидел на большом коне, и конь тоже был красным. Я замолчал — да как огрею его. Хоть и был я моложе на четыре часа, но скор на руку и всякий раз первым лез в драку. Он не стерпел, мы сцепились, принялись толкаться, лягаться, кусаться, мама растащила нас, пустив в ход метлу. Я ему весь нос раскровенил…
— Я думаю, дедушка, он был не прав, с чего это вдруг стал повторять точно такой же сон…
Старик молчал. Она так далека от этого, а пытается влезть в их детские раздоры, все разложить по полочкам — кто прав, кто виноват. Через семь десятков лет и ему не так-то просто рассудить прошлое. Наверное, зря он тогда накинулся на брата — тот имел право на любые сны, даже такие же, как у него, и рассказывать о них имел право. Нельзя было распускать руки, разбивать нос брату. Чем дольше старик жил, тем больше верил, что они и в самом деле видели один и тот же сон.
«Все-уш-ло, все-уш-ло», — пробормотало море.
— Вот бы иметь такую душу, как у моря…
— Что, дедушка?
— Душу, говорю, иметь бы такую, как у моря… Что такое душа, знаешь?
— Нам объяснял учитель. Но я не поняла.
— …Вот слушай, что приключилось двадцать лет назад, еще до твоего появления на свет. Был у нас один болтун, любую тему сводил к самому себе. Чуть какое собрание, идет на трибуну — и пошло: я, я, я. Я — то-то, я — такой-то… Наверное, были у него и достоинства, но я терпеть его не мог. Потом он ушел от нас, в какой-то мере из-за меня. Но откуда возникла во мне эта нетерпимость? А была бы душа такая, как у моря… Однако зачем я это рассказываю? Ты ведь еще слишком мала, чтобы понять…
— Да поняла, все поняла, есть у нас в классе одна цаца. Мы прозвали ее «хапуга». Чуть кто получит на экзамене хоть на балл выше, чем она, сразу морду кривит. Но когда она в первом полугодии по языку схватила только восемьдесят три[49], я очень обрадовалась…
— Э, детка, так не годится, нельзя злорадствовать…
Девочка надулась и отошла от старика.
Небо распахнуто, море распахнуто, и он больше не произносит ни слова, только слушает степенное, неспешное дыхание моря, ощущает весь этот безбрежный, необъятный мир, и такое чувство, будто он вновь, запеленатый, лежит в люльке. Огромное море качает его, напевает колыбельную, овевает своим дуновеньем. Он улыбается, просит прощения, засыпает.
— Прости, — произносит старик.
СЛУШАЯ ПРИБОЙ
Невдалеке от берега из моря торчало несколько черных камней причудливой формы. Высокий прилив, вероятно, закрывал их полностью. Но чаще они выставляли наружу свои вершины, оббитые, обточенные, покрытые трещинами от палящего солнца, яростного ветра, соленых волн, от чехарды дней и ночей да череды знойных лет и суровых зим, а огромные, массивные лоснящиеся тела прятали под водой. Эту гряду валунов называли «тигриным порожком», видя в них сходство с тигром. На самом же деле, когда смотришь на причудливые формы, натянутые сравнения лишь обескураживают, и чем дольше смотришь, тем меньше камни походят на зверя. В сущности, ни на что они не похожи! Они никого не копируют, они — сами по себе.
А теперь позвольте предложить вам забраться вместе с моими героями на самый большой из камней. Трудность в том, что они отделены от берега полосой кипящего прибоя. Для большинства из вас, читатели, это проще простого, вы же можете, как говорят в народе, «перейти реку», то есть море, «нащупывая камушки». Запросто шлепая по воде — море тут мелкое. А наш слепой, прошедшей ночью слышавший бурное штормовое море, как решился он перебраться через эту воду, если даже не видит, глубока она или мелка?
Как бы там ни было, но он уже перешел и сидит на вознесенной над морем вершине, а внучка стоит рядом и ошалело верещит:
— Здорово! До чего здорово! Раз, еще раз, еще… — пересчитывает она белые барашки, бьющие по камням. — Дедушка, мы в самом центре моря, оно со всех сторон… Еще раз, ну и удар!
Старик улыбается, представляя себе, как на самом деле выглядит этот ее «центр моря». До берега от силы метра два — какой уж тут «центр»? Однако и на слух казалось, что волны, да-да, наступают со всех сторон. С яростным ревом, отчаянными, грозными, тяжелыми ударами они били по камням. Ба-бах… Он почти видел это крошево волн, разбивающихся о камни и рассыпающихся во все стороны мелкими, незаметными крупицами воды и соли. Завершив свой взлет в сумеречную пустоту неба, крупинки низвергались вниз, на камни, на тело старика, на поверхность моря. Стучали, ухали, шипели изломанные струйки и капли, смолкая уже через мгновение («мы вновь разбиты!»). Старик слышал громоподобный удар волны и неотвратимо следующее за ним шипенье бесчисленных разбегающихся ручейков — и чувствовал себя неуютно. Битва волн с камнями, понимал он, должна завершиться поражением волн, и еще поражением, и еще, он, казалось, ощущал боль этих поражений, но он также и знал, что в конце концов струйкам дано умиротворенно вернуться в материнское лоно.
Ба-бах, та-та-та, будто вызов его настроению, ответ на него, набежала новая волна, не дав тонким струйкам отзвенеть. Еще более грозная, могучая, патетичная волна. То, что он сейчас услыхал, было уже не единичным ударом, а отчаянным штурмом десятков, сотен, тысяч валов. Море разверзлось, море взбурлило, укрепило свой дух и ринулось на примолкшие камни и сушу, показывая, на что способно.
Так что же, возможно, море и не потерпит поражения? Не смирится? В краткой передышке великий океан лишь накапливал силы, готовясь к новым жарким схваткам.
Крак! — нет, это не хруст переломанных костей волн. Это салют моря, клич моря, это любовь и соперничество между морем и сушей, воинственный азарт, изощренное упорство, созидательный талант моря.
Волны бились, ухали, шипели — нет, то была не капель слез, не склоненная голова побежденного, а невинность возвращенной молодости, чистота вновь обретенной простоты, жизнерадостность детства и юмор зрелых лет, это была любовь каждого пузырька пены к их матери — огромному морю. Ведь оно внушило им отвагу, этим ничем не выдающимся слабеньким крупицам воды и соли, побудило их крошечные тельца слиться в громады волн и бросило одну за другой — вперед, вперед, вперед. В яростном порыве забыв о ласке, они, потерпев временную неудачу, возвращались в материнские объятия, отдыхали, готовясь к слиянию в новые валы.
— А скажи-ка, детка, кто кого пересилит, волны или камни? — встрепенувшись, обратился старик к девочке.
Она не ответила — видимо, ее душа витала где-то далеко, и он с грустью подумал, что не стоит отвлекать девочку от созерцания моря.
— Гляньте-ка, дедушка, скорей, вон там летит большая птица, какие огромные у нее крылья!.. Смеркается, а она все летает.
Ее «гляньте-ка» нисколько не удивило старика, в разговорах между собой они не избегали слова «смотреть». И он ответил:
— Она не устанет, правда? Такие птицы не устают.
И только тут до девочки дошло, что старик что-то спросил у нее.
— Что вы сказали? Кто пересилит? Да кто же это знает? Ведь камни-то вон какие крепкие, а море свирепое — ого-го! Или камни все-таки рухнут, да? Знаете, чего мне хочется? Когда-нибудь приехать к морю, стать военным моряком… корабли водить… или построить у моря дом с башней и лестницей, мы будем там вместе жить, ладно?
— Ну конечно, я не оставлю тебя, кому же еще, как не мне, быть рядом с тобой?
Старик прислонился к камню… Кому ведомо, как долго они еще сидели там этим вечером?
ФИНАЛ
Через несколько дней от дома отдыха отъехал автобус и, покинув приморский курорт, направился в город, откуда прибыли все эти люди. Знакомая нам парочка молодоженов продолжала нежно ворковать, шоферу пришлось оторваться от карт, ибо, ведя машину, нельзя думать о тузе черв, и он с гонором горожанина и автомобилиста поносил крестьянские подводы, загромождавшие дорогу. Лица асов плавания лоснились и стали гораздо чернее, чем были по приезде. Они сидели, выпятив грудь, и короткие рукава не скрывали мышц. Громкими голосами, никого не замечая, роняли: «пять тысяч метров», «на одном дыхании», «никаких судорог» — и бурно обсуждали, к какому морю поехать будущим летом. Среди дружеской компании, увлекавшейся лишь снедью да питием, оказался один страдалец с восковой физиономией и насупленными бровями. Вы угадали: чревоугодие не довело до добра — он переел, его пронесло.
Наш слепой с девочкой тоже там сидели, лицо старика обветрилось, распрямились морщины души. С автобуса сошел без помощи внучки. Быть может, он что-то еще видел? Во всяком случае, старик шагал по дороге так, будто ему открыто все.
Перевод С. Торопцева.
ВЕСЕННИЙ ВЕЧЕР
В воскресенье доцент Ли Цзинсинь принимал гостей. Проводив вечером последних, он вернулся в квартиру и еще с порога принялся смеяться.
— Что так разошелся? — с немым вопросом обратилась к нему Ваньчжэнь, собиравшая чашки со стола.
У доцента от хохота тряслась голова:
— Ох, уж эти наши гости, ничего-то их и не волнует, кроме сердечных проблем собственных чад. Неужели в пятьдесят лет им больше не о чем говорить? Детки крутят любовь, женятся, а взрослые — в суете, ажиотаже, без конца пережевывают, кто, с кем да как! Или чем старше, тем…
— Да будет тебе, воображала! — остановила его жена. — Они ж не философы, не доценты, с ними не подискутируешь о Фейербахе…
Ваньчжэнь была его «предохранителем» и, чуть муж начинал ерничать, как вот только что, тут же отрезвляла, обдавала холодным душем, опускала на грешную землю, не допуская словесных излишеств. Хотя на мир, он прекрасно это знал, они смотрели совершенно одинаково. Сама передавала ему сущий анекдот о машинистке из их конторы. Девице двадцать семь, перестарок, так что подыскать ей дружка — адова работа. Но вот обе стороны выказали готовность встретиться, назначили местечко — и представь себе, позади нее маячит тень папаши, позади него — мамаши! Ребята встретились, а папаша не думает уходить, замер метрах в трех и сверлит парня глазами, как полицейский воришку. Мамаша поначалу блюла дистанцию, метров семь, потом видит, он прилип к дочке, а она что, хуже, рванула вперед и встала совсем рядом, в паре метров. Папаша тоже не прост, видя такое дело, приблизился еще на метр — и стоят, голубчики, кучкой. Молодые как воды в рот набрали, старики свирепо пялятся друг на друга… Можешь представить, чем все завершилось.
— Чем в дела ребят лезть, лучше сами бы поворковали в другом уголочке… — вот таким манером Ли Цзинсинь и высказался тогда, выслушав рассказ жены.
— Пакостник! — одернула та, и оба расхохотались.
— Не всегда виноваты взрослые, — подытожила Ваньчжэнь другую историю. Есть у них на работе женщина ее лет. Единственный отпрыск задумал жениться и потребовал у родителей две тысячи юаней и пятнадцатиметровую комнату. Откуда у них? Чадо выказало строптивый нрав, расколошматило дома все тарелки, миски, чашки, вазочки, даже пепельницу. Мать схватилась за сердце — и каюк.
Грустно. Повздыхали, попереживали.
— Ма, есть хочу! — вышла из другой комнаты Фанфан, их дочь-третьекурсница, и потянулась к сахарнице и коробке с печеньем.
— Не кусочничай, сейчас приготовлю лапшу с куриной подливкой, креветки…
— А можно что-нибудь скоренькое? Мне тут кой-куда надо…
— Извини, Фанфан, вы с папой собирались послушать Шуберта, но мы не предполагали, что столько гостей набежит.
В этой семье царили мир и согласие. Просвещенный, или, быть может, даже лучше сказать — возвышенный, дух. Несмотря на двадцать два метра их квартирки и семьдесят юаней зарплаты старины Ли (это был предел, хотя два года назад его произвели в доценты и дважды прибавляли оклад). Никаких денежных ссор, никаких сомнений, недоверия между ними не возникало. И в шуточках, которые они отпускали в адрес родителей, устраивающих браки своих деток, невольно проскальзывала гордость за себя.
«Вот видишь, — словно бы говорили они, — мы не такие, и дочка у нас совсем другая…»
Трапеза в этой семье была наслаждением, отдыхом после работы, собранием близких (порой с добавлением двух-трех друзей). А когда дочь поступила в университет и втроем приходилось обедать реже, ради такого случая они всякий раз торжественно накрывали стол, создавая чуть не праздничную атмосферу. Вот и сейчас, кроме повседневной лапши, были выставлены четыре миски с закусками, прежде всего юмэньсунь — тушенные в масле ростки бамбука — непременный спутник их празднеств.
— У вас, помнится, спартакиада вот-вот должна начаться?
— Слушай, папа, давай в следующий выходной обойдемся без гостей, а втроем погуляем в парке Ихэюань.
— Плесни-ка еще подливки! В столовой у вас все такая же бурда?
— Скоро перевыборы в комитет комсомола, меня, говорят, введут, как я ни отказывалась… Не потяну, да разве прислушаются? Ма, где мои туфли с ремешками?
— Поедешь в общежитие? Вечером? Похоже, дождь собирается, останься лучше, утром, до полседьмого, 332-й еще не набит…
— Что за шутки? Какой дождь? Вечерняя сводка обещала погоду. А и пойдет — не беда…
— Веришь сводкам? Ну, догматик, «фаньшист»[50]…
Застолье начиналось, как всегда, в полной гармонии, однако постепенно дочь стала проявлять признаки нервозности, упрямо твердила, что дождя не будет, не ответила на вопрос, скоро ли начнется университетская спартакиада, изменилось ли что-нибудь в столовой, более того — свое любимое юмэньсунь, которое всегда ела да нахваливала, сейчас безразлично защипнула палочками пару раз и отставила.
— Все-то у вас догматики, а сами чуть что — сразу за Фейербаха хватаетесь… — с этими словами Фанфан, не дожидаясь окончания ужина, поднялась из-за стола, вымыла руки, сменила обувь и, бросив «я поехала», вышла.
— Ах, дети, дети! Помнишь, она еще была крохой, я попросила тебя дать ей лимонада, а ты схватил молочный рожок с уксусом и меня же потом и обвинил, будто я налила уксус в бутылку из-под лимонада, хорошо, Фанфан не стала пить, заплакала… Оглянуться не успели — она уже студентка!
— И не говори. Но до чего же они загружены, эти школьники, с первого класса над головой уроки висят, экзамены… А прокрутятся в школе да институте лет пятнадцать, получат распределение — и никому не нужны! Помнишь, какой ажиотаж был в ноябре семьдесят седьмого, когда после «культурной революции» возобновили прием в вузы, с каким усердием все вкалывали… И что же? Разбросали по должностям, а ребята там, как я узнал, целыми днями филонят… — с сердцем высказался доцент.
Постучали в дверь — соседская девочка, толстушка Ван Сяоюй. Они с Фанфан учились в одной группе и обычно после выходных вместе возвращались из дома в университетское общежитие.
— А Фанфан где? Ушла? Хм-м, — протянула она удивленно, а потом голос вдруг резко упал.
Родители всполошились:
— Она не зашла за тобой?
Хмыканье заставило Ваньчжэнь насторожиться, и, ожидая ответа, она буквально сверлила девушку глазами, словно подгоняя: «Ну-ка, отвечай! Я знаю, что ты знаешь…»
— Тетя Ваньчжэнь, я… — Толстушка зажмурила маленькие глазки, не в силах вынести этот допрос, тем более что рядом с суровым лицом страдальца стоял Ли Цзинсинь. Сглотнув комок в горле, Сяоюй попыталась объяснить: — У Фанфан, кажется, появился приятель, водит сто седьмой троллейбус, про него и в газете писали, мы часто ездили в его машине, и вот как раз… Маршрут начинается от Белокаменного моста… Его семья… Вчера у Белокаменного… Он вроде бы сказал, сегодня в Бамбуковом парке[51]… А может, и не там… Ой, не говорите, что я проболталась…
Что такое? Оба лишились дара речи, поражены, словно ударом, даже еще до конца не осознав услышанное, они смотрели друг на друга, и им казалось, что морщин на лице и седины в волосах стало вдруг больше. «А мы-то с тобой про молочный рожок…» — можно было прочитать в их огорченных, разочарованных, трогательных немых усмешках. И, видя эту ошарашенность друг друга, они прыснули. Глаза мужа устремились в угол комнаты, и Ваньчжэнь тоже взглянула на трехногий чайный столик. На трех точках опоры покоилась их жизнь, а три точки — это вам и окружность, и плоскость, и стабильный кронштейн. Неужели одна из ножек зашаталась, потихоньку отходит от них? Или следует ожидать сверхкомплектной четвертой ножки? Что же принесет появление четвертого? Кто он? Какие у него права на Фанфан? В уголке глаза Ваньчжэнь навернулась слезинка, но она не позволила ей пролиться, удержав, сдавив, поглотив напрягшимся веком. Ли Цзинсинь лишь потер руки, вскочил и принялся убирать со стола. Показывая, что сегодня протереть стол, подмести пол, помыть посуду положено именно ему.
Ваньчжэнь вздрогнула, засуетилась и около самой мойки на кухне поскользнулась — видимо, Ли Цзинсинь мыл посуду слишком усердно. Руки разжались, расписная миска прекрасной таншаньской керамики грохнулась на пол, Ли Цзинсинь кинулся поднимать жену и до крови порезался о черепок.
— У тебя кровь! Вот наказанье, ей всего-то двадцать один! Смажь «Двести двадцатой»[52]! Восемь мисочек осталось, некомплект! А может, она ошиблась? Помнишь, пятнадцатого я поела новогодних рисовых пирожков юаньсяо, и живот разболелся, ты приволок грузовую тележку, взгромоздился в седло и повез меня в больницу, а не следующий день, шестнадцатого, в первый месяц года быка, родилась Фанфан! Нам-то почему не сказала, мы что, феодалы какие? Да не надо пластырь, вон там марлечка, разве не видишь? О небо, кран не мог закрыть, капает же, беречь надо воду, Гуантинское водохранилище высохнет. Мала еще, что она может понимать? Шашни с шофером, кошмар, слов не подберу, или среди сокурсников парня не нашлось? Спешить-то куда? Болит еще? Доверять нам должна, где ее чувство ответственности, единственная ведь дочь, забыла, что ли?! Нет-нет, не потому, что троллейбус водит, не презираю, нет, но она-то изучает язык, литературу — откуда у них общий язык? Будут вместе обсуждать правила дорожного движения? Грубо вмешиваться нельзя, но не умыть же, так сказать, руки, снять с себя ответственность, ничего не видеть, ни о чем не спрашивать! Цзинсинь, неужто мы в самом деле состарились?
Что мог тут сказать Ли Цзинсинь? В таком деле ни собственная находчивость, ни история философии тебе не помощник, в душе полный разброд, и думал он только об одном: дочери нет дома, а без нее их двухкомнатная, четырнадцать и восемь квадратных метров, квартирка пуста, совсем пуста. Рано или поздно этот день должен был прийти, но настолько рано… Как поступить? Поначалу решил перевести в шутку, подтрунить над собой и женой: дескать, «Фанфан-то, скромница, лишь в двадцать один дружком обзавелась. А тебе, когда на свидания ко мне бегала под четвертую иву в Шичахай[53], и двадцати не было!»
Не до шуток сейчас. А какой она была тогда, под ивами на берегу Шичахай, с толстенными черными косами, изящная, безмятежная! Ну к чему сейчас психовать? Лишь через год, убедившись, что любят, что это на всю жизнь, они по всей форме объявили родителям, и что же, старики так же переполошились, били миски, руки резали? Когда они поженились, им вдвоем было меньше, чем сейчас каждому из них. Тогда еще не агитировали за поздние браки. Он, разумеется, всецело за нынешнюю демографическую политику, и, даже если будет еще круче, еще строже, народ поймет… Но любовь — это же совсем другое. Какую девушку не волнует весна? В каком юноше не пробуждаются страсти? Им нужна, точнее, они жаждут любви. Как сокрушался о собственной дочери старина Чжоу, самый припозднившийся их сегодняшний гость. Держал он ее в строгих правилах, в двадцать два влюбилась, но «возраст не вышел», и по доброте душевной принялись с обеих сторон на нее давить — осуждать да убеждать. Теперь дочери тридцать один, и знакомили ее, и сватали, а что толку: ей приглянется — родителям нет, им приглянется — дочь ни в какую, старики в панике, спят и видят дочку замужем, уже согласны на любого, чуть не официальную гарантию невмешательства дали, кого хочешь приветим, а дочь и говорить на эту тему не хочет, чуть кто заикнется — поворачивается и уходит. В дневнике — мать вчера тайком заглянула — записала, что твердо решила остаться одинокой. Старый Чжоу слезу пустил, рассказывая об этом.
Сто седьмой троллейбус… Что же это за парень? Неужели придется примириться с шофером? В троллейбусе познакомились? Вот это класс обслуживания! Жажда творить добро!
— Не волнуйся, разберемся, разберемся, непременно разберемся… — Ли Цзинсинь отчего-то чувствовал себя виноватым перед Ваньчжэнь, словно не то что-то сделал.
И, наверно, вид его в этот момент был таким забавно-растерянным, что Ваньчжэнь улыбнулась, и он улыбнулся в ответ, правда, это не развеяло облачка грусти на ее лице.
— Ах, боюсь, она так доверчива, ее легко окрутить, а среди этих нынешних молодых людей такие есть подонки, ты не станешь отрицать…
— Не такая уж кроха, мы в ее годы…
— Да что ты сравниваешь? Мы уходили от родителей в подполье, в революцию, сами вершили свои судьбы. А Фанфан сызмала при нас, мы учим ее, подсказываем, что можно, чего не следует делать, так зачем ей от нас-то скрывать?
Некорректно поставлен вопрос, да-да, некорректно. В молодости Лу Синь был эволюционистом и лишь впоследствии принял теорию классов. Да и Маркс поначалу не всегда последовательно анализировал сущность человека и проблемы отчуждения. И как это он ухитрился порезаться — вон как далеко от руки до цементного пола?! А дочка старины Чжоу в самом деле хочет остаться бобылихой? Вряд ли, просто чем сильнее давили, тем выше ценила она свои чувства и глубже прятала их, кажется, он понимает ее, сочувствует, не отдаваться же, в самом деле, вот так, не задумываясь, первому попавшемуся с «соответствующими данными», ушли из нее былые простые, чистые, пылкие чувства, нет больше ни решимости, ни желаний, и не так-то просто ей теперь загореться. Ее-то он понял, а Фанфан? Полная растерянность, ничего не ясно. Попробуй пойми, когда бьет по тебе самому, а разобраться в себе — нет ничего труднее.
Однако это «разберемся, разберемся» — единственное, что оставалось им, последняя надежда.
Тут-то и предложил он Ваньчжэнь прогуляться. Словно бы намекнул — пойдем, там и разберемся, и Ваньчжэнь догадалась, спросила глазами:
— Что, поищем сто седьмой?
— Поищем, — беззвучно подтвердил он.
— К Белокаменному? — молча уточнила она. И так же молча он ответил:
— Да.
— В Бамбуковый парк? — изгибом бровей изобразила она вопрос.
Невольно улыбнувшись, он шепнул:
— Просто пройдемся, оглядимся, не станем же мы их выслеживать.
Было уже семь сорок три, когда они вышли, он запер дверь, а Ваньчжэнь беспокойно сунулась проверять, нажала на ручку, толкнула, дверь, конечно, не поддалась. На лестнице темнотища, лампочка перегорела, площадка завалена хламом — какие-то деревяшки, горшки, велосипеды, дырявые кастрюли. Не место этому, конечно, на лестнице, да ведь как удобно вытащить все на площадку, не загромождая ограниченные собственные «кв. м», так что и без того узкая лестница стала еще уже. Пока с превеликим трудом спускались они со своего шестого этажа, в небе загорелись первые звезды, одна поярче, три тусклые, и на востоке еще какие-то слабо посверкивали. А на западе закат испускал последние лучи, такие бледные, что лишь после лестничного мрака и можно было их заметить.
Рядышком прошествовали Ли Цзинсинь с женой к остановке, спрятавшейся от фонаря в тень дерева. Воскресным вечером многие возвращались к себе в пригород, стоял длинный хвост, и им удалось влезть лишь в третью машину, а задние остались поджидать следующей. Ли Цзинсинь изо всех сил старался помочь Ваньчжэнь протиснуться внутрь, а потом пробраться к выходу, прокладывал ей путь, расталкивая плечами пассажиров и расчищая для Ваньчжэнь хотя бы крошечное пространство, свободное от толчеи. А сойдя у Белокаменного моста, они остолбенели — экое столпотворение: у одного на тележке пирожки с повидлом, другой предлагает свежие журналы и вечерние газеты, третий расставил пиалы с чаем, выложил семечки (это все частная инициатива вчерашних школьников, еще не получивших государственного распределения), а еще тут торговали и простоквашей, и мороженым таким-сяким — весна-то в разгаре, а им и невдомек.
Купив билеты, они прошли в Бамбуковый парк мимо клумб, полыхавших алым и багровым. Пару лет назад люди одевались иначе, а сейчас все было удобным и модным — свитера, кофты, накидки, демисезонные пальто, брюки, и Ли Цзинсинь тут же вспомнил одного своего приятеля, такого же примерно возраста, который недавно так яростно поносил брюки клеш, словно они влияли на судьбы страны и Солнечной системы.
Умиляли юные парочки: чуть пригрело, высыпали в парк, на улицы — всюду. Зимой-то прятались по разным подветренным, а порой и не слишком хорошо защищенным от ветра местечкам. Возможно, не стоило бы им публично обниматься, да еще столь страстно, это ведь не в наших национальных традициях. Правда, не лучший это способ сохранения традиций — подсматривать за молодежью, не нашедшей для любовных объяснений более укромного места. Непристойно — не смотри, как говаривали мудрецы.
Улыбнувшись этим сценкам в воскресном парке, Ли Цзинсинь с женой переглянулись. «Вот и мы, старики, влились в ряды юных влюбленных». И улыбнулись вновь.
— А дочь? — чуть нахмурилась Ваньчжэнь. — С этим ее неизвестным и сомнительным новым приятелем?
Вдруг Ли Цзинсинь потянул жену за рукав:
— Это не Фанфан, вон там?
— Где?
— Да вон же.
— Не похоже.
— Она, она.
— Ой, и правда…
Весь этот диалог они провели, не издав ни звука: случаются ситуации, когда люди немеют и в силах общаться лишь движением глаз, мимикой, жестами.
Впереди маячили долговязая девица и здоровенный малый. В груди у Ли Цзинсиня и Ваньчжэнь что-то оборвалось, и они спрятались за ствол дерева. Ваньчжэнь не отрывала глаз от далеких неясных фигур, пока не понимая, тревожно ей или приятно, а Ли Цзинсинь, увидев дочь, сразу как-то смешался: это же просто невоспитанно, вульгарно — выслеживать. Потянул жену прочь, но та уперлась, откуда только силы взялись, впрочем, разве больной рукой ухватишь?
Но они ошиблись. Подойдя поближе, увидели — нет, не дочь. Лицо несколько больше вытянуто, губы потолще, хотя, в общем, что-то есть в фигуре, энергичной походке — Фанфан, да и только.
Ли Цзинсинь с Ваньчжэнь переглянулись, начиная догадываться, что дочь им тут не найти. И глубоко вздохнули, точно скинув груз с души.
Давненько здесь я не бывал, А ведь девицы тут что надо…Наглухо примолкнувший было Ли Цзинсинь вдруг замурлыкал старую песенку, из которой помнил лишь две строчки, да и те всякий раз пел на новый мотив.
Давненько здесь я не бывал, в самом деле, давненько. Сколько же? Когда появился ребенок, времени для прогулок у них уже не осталось. Значит, больше двадцати лет. Таких замечательных вечерних прогулок вдвоем по парку не было. Неспешных, именно прогулок — не вылазок в магазин за овощами к зиме или за продовольственными да промтоварными карточками. И они пошли по Бамбуковому парку, купили двухцветное мороженое, Ваньчжэнь сняла обертку, и Ли Цзинсинь выбросил обе бумажки в урну. Лизнув, она даже зажмурилась от наслаждения, как девочка, и почмокала языком:
— До чего вкусно!
— Да уж, — отозвался он и, забыв, как надо обращаться с мороженым, почему-то отхватил огромный кусище, точно деревенщина от лепешки, доцент называется, а разит таким провинциализмом, что Ваньчжэнь, не выдержав, расхохоталась.
— Над чем смеешься?
Не отвечая, она продолжала хохотать.
— Может, посидим?
Какой он все-таки чуткий! Но не так-то просто оказалось найти местечко, и в конце концов, махнув рукой, они устроились прямо на склоне холма.
Давненько здесь я не бывал, давненько не сиживал на склонах.
А потом они отправились к другому концу парка, быть может думая встретить дочь и в то же время, похоже, надеясь, что не окажется там никакой дочери и никакого шофера — не исключено, что его и вовсе-то нет. Долго шли, потом, увидев мужчину, который со смаком тянул через соломинку вишневую водичку, купили пару бутылок. Не допив, Ваньчжэнь протянула Ли Цзинсиню свою, на треть еще полную:
— Не могу больше, пей!
— Тоже не хочу, и так живот раздуло.
— Ну, тогда…
Ваньчжэнь не знала, как поступить. Ли Цзинсинь взял у нее бутылку, в два глотка выдул, шумно рыгнул и в смущении отер губы.
Пошли помедленней, и, хотя никто не произнес ни слова, обоим было ясно, что поиски эти ни к чему, не тот метод. Когда-то давным-давно, в молодые годы, так же неспешно мерили они улицы да переулки. Однажды вот таким же теплым осенним вечером, кажется, пятьдесят третьего года они встретились под своей четвертой ивой в Шичахай. Было полнолуние. Они катались на лодке под ясной луной, словно бы распахнувшей и освежившей небосвод, плеск воды, смех, песни, звуки свирели и дребезжанье трамвая по улице Дианьмэнь заполняли пространство. Их знакомство было тогда еще недолгим, и они сидели рядышком счастливые, чуть смущенные. Вместе любовались далекой луной. Пересчитали на ней все тени и пятна, потом сошли на берег. Ваньчжэнь жила в западной части города, в Сидани, у моста Ганьшицяо, и в тот день ей непременно надо было вернуться домой. Он предложил пройти остановку, а в Дунгуаньфан сесть на тринадцатый, она согласилась. Болтая, добрели до Дунгуаньфан, но расставаться не хотелось, и пошли к следующей остановке. От Чанцяо — еще одну. От Пинаньли — дальше. Так и добрались до самого моста Ганьшицяо. Шли не торопясь, и, когда подошли к мосту, было уже поздно, вечерняя смена давно разъехалась по домам, на улицах ни души. Путь для них прозвучал ноктюрном — песнью ночи, озаренной лучами весны. Как унять ликование, если рядом — твоя любовь, твой друг, твоя луна, твое солнце? Как не переполниться нежностью? Гордостью? Что такое спутник жизни? Тот, кто шагает рядом с тобой. Разве не будут они всегда рядом друг с другом шагать по улицам Пекина, по рытвинам да колдобинам жизненного пути? И разве не тогда, неспешно шагая плечом к плечу, наконец прочувствовали они, как это радостно — идти по жизни рядом — и как они неотделимы друг от друга?
Весь обратный путь к себе в общежитие в Дунсы на восточной окраине города он словно бы ощущал присутствие Ваньчжэнь, хотелось кричать от радости, петь, вернуться к мосту Ганьшицяо, вызвать ее и опять пройти по всему осеннему городу, чтобы вместе встретить солнце утра.
Этим весенним вечером в Бамбуковом парке дочери они не нашли, зато им померещились они сами, двадцатилетние, той осенней ночью в Шичахай и у Чанцяо, в Пинаньли, Сисы, у Глазурного рынка. Осень сменилась зимой, весной, после двадцати пришли и двадцать два, и двадцать три, весны и лета, осени и зимы, годы и годы пропылили весну их юности, и пеленки они стирали, и самокритику для особой контрольной комиссии писали, и за угольными брикетами для печурки бегали, и кунжутное пюре по карточкам покупали. А сегодня что-то смешалось в привычном ритме, и они, как встарь, идут рядом, неспешно, очарованные весенним вечером в Бамбуковом парке, и нет им еще пятидесяти, и впереди на долгом совместном пути — не одна весна, не один парк, склон холма, мороженое, вишневая вода, пить которую надо непременно вдвоем.
Да и нет никаких оснований считать, что все обстоит именно так, как сообщила им Ван Сяоюй. Что рисовать ужасы, когда еще и кисти в руках нет? Ну, встречается Фанфан со своим шофером, это ведь пока не стихийное бедствие, а если и стихия — что они могут ей противопоставить сверх своих сил и возможностей? Кто поручится, что крепкий спутник той долговязой девицы, что фигурой и походкой напомнила им Фанфан, — не шофер? Да, они стирали пеленки Фанфан, делали ей прививки от оспы, обертывали учебники. Ваньчжэнь мать, ей положено делать стойку при виде первых весенних всплесков у дочери. Да только все меньше и меньше девочка будет нуждаться в их помощи.
Вышли из парка, и Ли Цзинсинь предложил пройти остановку до Вэйгунцунь и там сесть. Они переглянулись с улыбкой, наконец вспомнив то, чего забывать не следовало. Хотя, конечно, прямо до своей Чжунгуаньцунь не пошли: сорок девять — это все же не двадцать один.
«Оказывается, мы еще не состарились, не очерствели сердца настолько, чтобы не заметить весеннего вечера в парке, жизнь вот только слишком дергала, тянула, трясла, и перестали мы слышать шепот весенних вечеров, воспринимать речь Белокаменного моста и Бамбукового парка. Разумеется, дочери надо напомнить — дорожи жизнью! Но тем более надо напомнить самим себе, еще далеко не добравшимся до финиша, — дорожи тем, что осталось! Пусть узка и захламлена лестничная клетка, будем чаще выходить, ведь рано или поздно Фанфан отыщет и спутника, и свою дорогу, а мы свою, еще не такую короткую, должны пройти до конца и пройти как следует».
Этим вечером они легли поздно. На своих двадцати двух квадратных метрах на шестом этаже попили жасминного чайку. Говорили, говорили — о времени года, о погоде, о переменах в городе, об утреннем завтраке и завтрашних лекциях, о своей молодости и детстве Фанфан. Подождем, решили они, поглядим, есть ли о чем беседовать с дочерью. Их глаза светились нежностью, о чем бы они ни говорили и что бы ни делали, каждый видел — рядом родной человек. Похоже, вечер этот как-то особенно сблизил их.
Ибо, помимо обычных фраз, они обменивались еще и беззвучными, как это вы уже прочитали выше. И вот что в этом безмолвном диалоге всплыло у них из глубин души:
«Пусть гложут нас тайные тревоги и беспокойства, обуревают надежды и трепет, пожелаем Фанфан любви и счастья, а сами давай будем беречь свои дни, которых осталось уже меньше, чем прошло. У отца и матери оперившейся дочери не угасло еще чувство, и не станем пренебрегать им, ибо чувство это неотделимо от всей нашей жизни. И пусть у нас, подошедших к пятидесятилетнему рубежу супругов, чувство до конца останется таким же свежим и глубоким, нежным и долгим, неприкрашенным, изначальным, каким оно было сегодняшним вечером».
Перевод С. Торопцева.
ГЛАДЬ ОЗЕРА[54] Повесть
I
Многое было в его жизни, многое, что трудно себе представить, во что невозможно поверить, — все это было, завершилось и ушло. А мир стоит, и ничто в нем не сдвинулось.
Шестьдесят семь лет — мыслимо ли?! Куда делись годы детства? Молодости? Да и зрелости? Где они? Ведь даже змея ни одного в небо не запустил, не носился, вцепившись в бечеву, по свежей траве за городом, взглядом, духом, всеми помыслами возносясь с ветром в ослепительную высь, и крича, и хохоча, и беснуясь, как всякий нормальный, здоровый, отчаянный парень. Через стену ни разу не перемахнул, не забрался на крышу или развилку дерева, не страшась ни подзатыльников за порванную рубаху, ни мохнатых гусениц, до крови обжигавших лицо ядовитыми волосками. Детство — оно, говорят, должно быть ловким, как белка, бесстрашным, как пантера. А он сжимал окоченевшими ручонками печеный батат, дожевывая по дороге в школу; он слушал отжившие мамины рассказы о волке, переодевшемся в бабушку, о глупом зяте, случайно превратившем тещу в старую свинью; лишь в новогоднюю ночь он взрывал хлопушки и весь год жил ожиданием следующих взрывов… Вот так, а мальчишкой ему больше не бывать.
Пятилетним он не сознавал, какое это сокровище — пять лет, в девятнадцать не задумывался над очарованием своих девятнадцати, в тридцать пять (а было это в 1949 году) полагал, что не состарится вовек, в пятьдесят два (этакий пятидесятидвухлетний живчик!), когда великая пролетарская культурная революция начала присматриваться к нему да испытывать, а две «веры», в народ и партию, поддерживали его в этом состязании на стойкость с самим временем, он радовался, оставляя позади еще один день. Молил время ускорить свой бег, чтобы канули в прошлое тяжкие, темные дни. И пришел победный октябрь 1976 года, они воспрянули, разом скинув с плеч десяток лет; Сюмэй захотелось купить себе новую расшитую стеганую куртку. «И вновь мы молоды!» — радостно воскликнул он, когда после десятилетнего перерыва вместе с Сюмэй, сидевшей справа, председателем комитета и его женой, сидевшими слева, вновь услышал Го Ланьин в роли Седой девушки.
И он понесся по параболе, как снаряд, в океане времени, к сегодняшнему дню опустившись — или нет, лучше сказать: достигнув вехи «шестьдесят семь».
Шестьдесят семь не столь уж и пугающая цифра, если бы не внезапный уход из жизни Сюмэй. На шесть лет моложе, маленькая, со спины прямо женщина в расцвете лет, с ясными глазами на овальном, как гусиное яйцо, лице. Поражала чернота ее волос — если, конечно, не присматриваться, но ведь было-то ей за шестьдесят. Любила посмеяться, поболтать тонким голоском. Все считали ее крепкой и отнюдь не старой. Обманчивый вид здоровья создавал румянец на щеках. А ведь было это симптомом гипертонии и сердечной недостаточности: как же он-то не понял?!
Горда была «до смерти», как он говаривал, и стыдилась собственной слабости. Бывало, оденется не по сезону, дрожит вся, но, стоит кому-нибудь подойти с заботливым вопросом, отрежет: «Не замерзла». Бывало, не успеет пообедать, но неизменно твердит: «Не голодна». Бывало, глаза слипаются, лоб в холодной испарине, но, через силу улыбнувшись вниманию, произносит: «Не устала». Куда бы ее ни направили, все исполняла безоговорочно: «Никаких трудностей, нет проблем».
В то мрачное десятилетие[55], чтобы выжить, надо было ловчить. Ловчили все, и плохие и хорошие, важно было — ради чего. Если ловчит, «топя» других, — дурной человек. Чтобы спастись — нормальный. Если ловчит, увертываясь от жала ультралеваков, укрывая товарищей, друзей, добрых людей, — это нравственно. И когда кто-нибудь на собрании витийствовал по-газетному насчет «критики Дэн Сяопина», а, вернувшись с собрания, в кругу близких друзей поносил Цзян Цин, лишь безнадежный индюк или откровенный прихвостень «банды четырех» мог обвинить такого человека в «двурушничестве».
Сюмэй вовсе не умела ловчить. Вот и натерпелась. Она руководила одним театральным коллективом, который Цзян Цин сделала «объектом» своего внимания. И вскоре всем стали известны слова Цзян Цин: «Чэнь Сюмэй — мой смертельный враг…»
Дальше — пробел. Даже Ли Чжэньчжуну не рассказала. «Ничего особенного, — отстранение улыбалась она. — Разве не видишь, со мной все в порядке? Пока не поседела!» Но седые волоски уже появились, и она, Ли Чжэньчжун знал это, тайком выдергивала их. Как-то он намекнул ей, что уж лучше не дергать, а просто покрасить, так она рассмеялась: «Что, это уже не будет обманом?»
Лишь после того, как на два дня свалилась с сильнейшей головной болью, Ли Чжэньчжун смог заставить ее сходить к врачу. Повел насильно, отложив все неотложные дела, к самому известному терапевту, заведующему отделением самой известной клиники. Этот облысевший, толстый, небольшого роста, с утонченными манерами, солидный доктор обучался в Германии. Он терпеливо выслушал все, что они изложили ему, противореча друг другу: Ли Чжэньчжун утрировал серьезность симптомов, тогда как Сюмэй старалась краски смягчить.
Душа врача — бесстрастная водная гладь. Обучавшийся в Берлине доктор, вежливо улыбаясь, невозмутимо осматривал Сюмэй. Будто не живого человека, а фрезерный станок. Ли Чжэньчжуна передернуло. С тех пор как разгромили «банду четырех», люди стали постепенно привыкать к горячей откровенности и добросердечию.
Закончив осмотр, однако, старик начал нервничать и даже слегка заикаться. Состояние, сказал он, неважное, особенно тревожит давление: слишком мал интервал между диастолой и систолой, а это дурной знак. Сюмэй необходимо немедленно оставить работу, чтобы полечиться.
Выйдя от врача, Сюмэй, как нарочно, почувствовала себя лучше. Решительно отпустила машину, чтобы пройтись пешком. И улыбнулась Чжэньчжуну:
— Ну его, он мерит китайцев немецкими мерками, придавил его гранит заморских наук. Вот возьми одежду: три года новая, три года ветшает, но подштопай — и еще на три года. А мы, люди? Десять лет в порядке, десять — болеем, а потом еще десять — кряхтим. Лет тридцать еще протяну! Хочется увидеть, что принесут нам четыре модернизации! Ты о себе позаботься, больно смотреть, как ты с желудком маешься!
Полдня они препирались, после чего она все-таки согласилась осенью поехать на юг в санаторий.
Было это в прошлом году — в июле восьмидесятого. В ноябре она действительно отправилась в Цунхуа на горячие источники. «Здесь, в санатории, — писала оттуда, — такая тишина, что голова моя, похоже, кружится еще больше, и в глазах рябит; продержусь от силы месяц, нет, дней двадцать и вернусь домой…»
Ли Чжэньчжун бросился к телефону, убеждая ее «подремонтироваться» на курорте. Однако и двадцати дней не прошло, как ему позвонили: Сюмэй без сознания — кровоизлияние в мозг.
Случилось это после того, как она посмотрела телефильм о сенсационном суде над Цзян Цин. В глубоком забытьи Сюмэй не казалась больной, лицо раскраснелось, словно она выпила. Только дышала уж очень тяжело. На третий после потери сознания день она уже не могла глотать, и ее кормили через трубку, вставленную в нос. Ах, какая мука! Сердце Ли Чжэньчжуна судорожно сжалось. На пятый день Сюмэй как будто очнулась, открыла глаза, но он не понял, видит ли, узнает ли его. Шевельнула рукой, показав, что надо убрать из носа резиновую трубку. Настал момент последнего прощания, сказала Ли Чжэньчжуну опытная медсестра, и тогда, не отрывая взгляда от жены, он легенько, как бы пробуя, окликнул:
— Сюмэй!
Ее рука, которую Ли Чжэньчжун держал в своей, чуть дрогнула.
— У-чи-тель-Ли! — позвала она словно из соседней комнаты, отгороженная стеной.
Учитель Ли! Она зовет его! Уже сорок лет к нему так не обращались. И никто другой, мелькнуло в голове, уже не назовет его учителем Ли: одни вообще не знают, а другие вряд ли помнят, что свою армейскую службу когда-то он начал с того, что обучал бойцов грамоте.
Слезы заволокли глаза.
— Великая Янцзы — велика? — прошептала Сюмэй так слабо, что услышать ее, понять ее смог только он один.
— Да, велика, очень велика… — ответил он, а только он один и мог так ответить.
Замолчала, прикрыла глаза.
Неужели сейчас она уйдет? Ему хотелось кричать, вопить, взывать, но он боялся ее потревожить, увеличить уже и без того предостаточную ее боль.
Кто знает, сколько прошло времени, когда она вновь открыла глаза — и теперь уже явно узнала его.
— Чжэньчжун, вода высохла, прости, покидаю тебя… — И крохотная слезинка выступила в уголке глаза, только одна слезинка.
— Нет, не высохнут воды великой Янцзы, в Янцзы много воды, очень много, велик ее поток, будь спокойна…
— Нет ребенка… — с болью выдохнула Сюмэй. Ли Чжэньчжун знал, как страдала она из-за этого.
— Есть, да есть же… — Утверждая это, он вовсе не имел в виду трех детей, военных сирот, которых они вырастили, двух девочек и мальчика, давно уже вставших на ноги. Просто сам он одиночества без детей не ощущал, да и не должна была Сюмэй страдать, только себя одну и виня. Ну что за глупость!
— У-чи-тель-Ли!
Голос был чуть слышен, так что он даже засомневался: в самом ли деле она позвала его? Или ему захотелось, чтобы она вновь и вновь звала его? Нет, прошептав раз, она повторила:
— У-чи-тель-Ли.
Много чего было у них в жизни, но уже за одно это «учитель Ли» он готов был десять тысяч раз возвращаться в сей мир, чтобы воздать ей.
Он держал ее руку в своей, пока она не ушла навек.
II
Вскоре после того, как Сюмэй покинула его, ему стукнуло шестьдесят семь, он лег в госпиталь, и ему иссекли четыре пятых желудка. Месяцем раньше он уже приходил сюда — присутствовал на траурной церемонии, прощался со своим старым начальником… Бывает, все бывает, но ничто в мире не сдвигается, мир от этого не дряхлеет и не рушится, и не тускнеют, не остывают лучи весны, и не кренится, не падает пагода Шести гармоний, что особенно прекрасно.
Так он подумал, любуясь знаменитым памятником древности — пагодой Шести гармоний у реки Цяньтан, возле которой царило экскурсионное оживление, — и возрадовался.
Когда туристы упиваются красотой пагоды, на них самих тоже стоит посмотреть. С радостными воплями мчались к пагоде пионеры в красных галстуках, и их южный цзяннаньский говор показался Ли Чжэньчжуну непривычным и забавным. Южная речь, пожалуй, мягче северной. Голосовые связки у южан чище, что ли? Ни песка, ни пыли нет в воздухе! Одетый с иголочки гид с круглой бляхой «Китайского турагентства» и мегафоном на полупроводниках рассказывал на звучном гуандунском диалекте гостям из Сянгана и Аомэня о пагоде и большом мосте через реку. С каждым днем смелее прихорашиваются девушки, становясь все краше. В моду, похоже, входят платья с колышущимися на груди оборками. Разглядывая на ходу туристическую схему, с величайшей серьезностью задавал время от времени вопросы — с таким видом, будто он не на экскурсии, а в научной экспедиции, — молодой боец Освободительной армии в новехоньком мундире, тщательно подогнанном и застегнутом на все пуговицы, — в общем-то, не такой уж и молодой, в его армейские времена средний возраст роты был, пожалуй, ниже, чем у этого товарища.
Внимание многих привлекали две женщины, внешностью и одеждой походившие друг на друга, как сестры-близняшки. Густобровые, большеглазые, до черноты загорелые, в цветистых платочках, не скрывавших иссиня-черного узла волос и блестящих серебристых заколок, в светлых полотняных кофточках, облегающих черных юбках с листьями лотосов по подолу, в лакированных туфельках на штампованной подошве. Дешевые и красивые, эти туфли подходят и женщинам, и мужчинам. На плечах модные сумочки из искусственной кожи. Так, говорят, обычно и ходят здешние крестьянки, а дальним предком сумочки, вероятно, был желтый мешочек с благовониями, который брали с собой паломники, припадавшие к стопам Будды. Мешочек с благовониями стал сумочкой из искусственной кожи, расшитые туфли — лакированными, и вот уже крестьяне вливаются в шеренги любознательных экскурсантов. Такого в последние годы, да что там годы — тысячелетия, не случалось. Газеты писали о двух разбогатевших крестьянах из-под Тяньцзиня, которые сели в самолет и на пять дней махнули в Пекин. Ли Чжэньчжун усмехнулся.
У подножия пагоды Шести гармоний, что стоит на берегу Цяньтан в городе Ханчжоу провинции Чжэцзян, как и в любом другом месте, околачивались юнцы, которых следовало остерегаться и обходить. На них болтались европейские одежки с чужого плеча, сшитые из каких-то немыслимых тряпиц, без линии, рисунка, фасона, сморщенные галстуки совершенно диких расцветок и, разумеется, непременные клеши, длинноватые для их коротких ног. И все в грубо сработанных, будто самоделки, темных очках. С ярлычками на стеклах, дабы продемонстрировать, что это подлинный гонконгский товар, приобретенный за «настоящую» цену. Нашлепки на очках — верх глупости, мелкотравчатости, безмозглости, плюнуть хочется, и приезжие, в том числе из-за рубежа, откровенно посмеивались над этим. Не раз в ядовитых статьях эту глупость осуждала столичная газета «Бэйцзин ваньбао». Критика, похоже, начинает действовать, и в Пекине такого уже не встретишь. Но на юге эти штучки все еще в чести и цветут пышным цветом.
М-да, воистину сквозь тернии!.. Кое-кто волок на себе квадрофоническую систему; машина, конечно, отменная, но изрыгала она манерные шлягеры в исполнении третьесортных гонконгских певичек, сопровождаемые каким-то фривольным и пошлым аккомпанементом.
А эта вульгарная речь, от которой уши вянут, перемежающаяся бранью, бесцеремонность, наглость, хулиганские морды, вспыльчивость: чуть что — сразу «под ружье», — что за наказание, какой позор! Неужто вовсе не коснулись их подлинные ценности человечества, настоящая музыка, истинная культура и нет в них никаких стремлений и чаяний?
— Наверх, братец! — вывел Ли Чжэньчжуна из задумчивости седобровый, но еще стройный старец. Ли Чжэньчжун вздрогнул. Для этого старца с еще более, чем у святого Шоусина, длинными и белыми бровями он сам — молодое поколение. Быть может, даже кажется тому юнцом? И старик решил, будто он вздыхает, колеблется, прикидывая высоту пагоды.
Ли Чжэньчжун согласно кивнул, но не двинулся. Наверх? Или не стоит? Осилит? Или нет?
Ведь всего полгода как из-под ножа. Когда Сюмэй покинула наш мир, у него резко обострилась язва, боли в желудке стали невыносимыми, он не мог есть, шла кровавая рвота. Немедленная операция, решили врачи, и он покорно согласился. Уход Сюмэй, как это ни странно, не убил в нем жажды жизни. Он всегда считал, что не вынесет, если Сюмэй покинет его, лучше уйти вместе с ней, чем жить одному. Но после похорон объял его неведомый покой. Будто корабль разгрузил трюмы, и утих ветер, в тебе никакой тяжести, покачиваешься на волнах. Будто дерево поздней осенью обронило почти всю листву, но кое-что еще осталось — красные, словно окрашенные закатом, самые большие, самые красивые, самые стойкие листы, прильнув к могучим ветвям, все так же безмятежно подставляют себя лучам осеннего солнца. Что теперь праздно вспоминать о весенних птахах, бутонах и нежных побегах, о летних грозах, сочном и буйном росте, о дружестве с травами, диким кустарником, с фазанами да лисами?! Те последние красные листья сами по себе — память о весенних цветах, летних громах и молниях, о милых своих живых друзьях.
Смерть Сюмэй словно обдала его ледяным душем, он дрожал так, что зуб на зуб не попадал. До костей пробирал холод, и он начал подпрыгивать — аж в глазах потемнело… А потом вылез из-под душа, обсох, согрелся, взгляд очистился, и необыкновенное спокойствие воцарилось в душе. Все виделось четко, ясно, реально. Словно не только его, а весь мир, всех людей и предметы — все омыл ледяной душ.
Вот почему, когда врачи категорично заявили, что необходима немедленная резекция желудка, ибо не исключены необратимые изменения стенки, он не пал духом и даже шутил. Заявил врачам, что нечего мямлить, утаивать что-то от него, старого коммуниста, революционера, ответработника, закаленного кровью и железом. Рождение, старение, болезни, смерть — путь нормальный. Когда его везли в операционную, он сам поразился, как внутри все легко и спокойно. А ведь последние два года с грустью думал о том, что, всю жизнь отдав трудной борьбе, так и не увидит родину по-настоящему цветущей и могучей. Он пришел в ужас, обнаружив, что зрение ослабло настолько, что в столовой меню прочитать не может, строчки сливаются, бывало, вверх ногами держал, так что официант начинал сомневаться, грамотен ли он; оказалось, что от него ускользают самые простые слова: Ли называл Чжаном, газету — документом, а прилавок — коробкой; стало ясно, что память уходит катастрофически: читает информационный бюллетень и начисто забывает только что прочитанный абзац, бормочет какие-то слова, а что собирался сказать — не помнит. И вот теперь, когда врач дал ему наркоз и принялся отсчитывать: «Раз, два, три», душа его вдруг прояснилась. Все может случиться, но позади у меня единственно возможный, самый верный, самый действенный путь — революция, которой я отдал всю жизнь, не отклоняясь, не колеблясь. И не жалея себя. Увы, в жизни много дурного, Китай пока не разбогател и не обогнал других… Все это будет — завтра.
Когда он вдохнул наркотические пары, в голове загудело, будто по нервам — натянутым струнам — прошелся властный смычок… и он заснул.
Очнувшись, увидел врача, медсестру, а рядом — своего секретаря, начальника, сына и дочь. Вторая, младшая, служила в армии и не успела приехать. Он был слаб и немощен. Ему показалось, что и родные, и коллеги, и друзья уже подготовились к тому, что он больше не откроет глаз. Они его любили, они заботились о нем, желали выздоровления и ради этого шли на все, и все же, засни он тут навеки, это был бы естественный и вполне терпимый ход вещей. Не насилуя себя, он смежил веки, отдыхая, и слабой улыбкой ответил на их заботливые вопрошающие взгляды. Он благодарил их, понимая, что перед тем властным смычком не только они, но и знаменитый терапевт, хирург, фармацевт, анестезиолог, медицинские сестры — все бессильны.
Ли Чжэньчжун стал быстро поправляться. Гистология показала, что клетки стенки желудка не имеют признаков ракового перерождения, и все подозрения на возможность метастазов были отметены. Операцию провели тщательно, осложнений не возникло. Условия для высокой номенклатуры в госпитале были отменными, поводов нервничать, паниковать, падать духом, волноваться, страдать и уж тем более закатывать истерики у него не появлялось. «Вы образцовый пациент», — сказал ему врач и объяснил, что еще лет пять-семь можно нормально работать.
Однако первое, что он сделал, встав с постели после операции, — написал второе прошение об уходе на покой. Первое подавал в конце семьдесят девятого, когда печально подсчитал, какая уйма всяческих «постов» в комитете, где он занимал должность зампреда. А уж в подведомственных учреждениях, компаниях, управлениях, отделах командиров стало больше, чем солдат, — бывает, три начальника руководят одним подчиненным и тянут резину, ставят рогатки, отфутболивают, а все фактически проворачивает один работяга. Смех и грех, только начни реформировать — увязнешь. Как-то он сидел на симпозиуме, так добрая половина жаждавших выступить ученых и администраторов их системы оказались столь дряхлыми старцами, что тексты выступлений пришлось зачитывать диктору. Из каждых десяти одному для передвижения требовалась чья-то помощь или специальное кресло-каталка.
Надо подать пример, подумал он, — передать смену молодым и крепким. Написал прошение об отставке, однако препятствий возникло больше, чем предполагал. Одни решили, что он просто не сработался с первым номером или сам захотел занять первое кресло. Другие — что в свои шестьдесят пять он сделал это в пику тем, кто годами постарше и здоровьем поплоше. А кое-кто вообще понял это как трюк — чтобы зарплату подняли. И ведь именно те субъекты, что судили-рядили за спиной, разносили провокационные слухи о распрях между ним и главой учреждения, — именно они то и дело подходили к нему, притворялись заботливыми и тактично увещевали, что-де ни к чему лезть на рожон из-за того, что первое лицо что-то сказал не так или сделал не то, надо быть выше этого, уметь, как говорится, управлять лодкой в животе канцлера… Хоть плачь, хоть смейся. «Мы всегда считали старину Ли порядочным человеком», — посмеивались субчики, будто бы целиком и полностью стоя на его стороне, радея о делах, дабы ко всеобщему удовольствию все и уладить. Подлаживались к нему, сочувствовали, а на самом деле коварно и упорно толкали к разногласиям, которые уже становились реальностью.
Но сейчас у него появились достаточно веские доводы. Жаль, правда: почему для этого необходимо было потерять здоровье, расхвораться, как бы принять эстафетную палочку после траурной церемонии? Лес не так обновляют, молодые саженцы должны прижиться задолго до полной вырубки старых деревьев — только тогда не гибнет лес, вечно пребывая в буйном росте, только в таком лесу не смолкает пение птиц, и только такой лес дает древесину и для строительства высокого дома, и на мебель в этот дом. «И нам принадлежит этот мир, и вам, но останется-то он вам». Ли Чжэньчжуну придется отойти на задний план.
Отставку еще не утвердили, но согласились предоставить ему отдых «в перемене мест». Уже не на «посту», хотя и без резолюции, а привычки руководить с больничной койки он не обрел. В результате, подлечившись, смог исполнить заветное: поездить по своей прекрасной родине и в каком-нибудь санатории засесть за мемуары.
Вот так по весне 1981 года, когда пошли в рост травы и распелись птахи, он и объявился у подножия пагоды Шести гармоний на берегу реки Цяньтан.
Осилит ли? — спросил сам себя, припоминая, что же сказал тот седобровый старец, побуждая его двинуться вверх? Что имел в виду? А, вот что: «Наверх! Разок поднимешься — все меньше останется».
Разок поднимешься — все меньше останется; истина не только для пожилых, но лишь в преклонные лета такое может прийти в голову. Безрадостно, но достаточно ценно. Представим себе на миг, что жизнь беспредельна и каждый, отмахав миллионы лет, имеет впереди еще миллионы миллионов и на пагоду Шести гармоний может подняться несчетное число раз, — какова цена такой жизни? И каков будет смысл в подъеме на пагоду Шести гармоний?
Но жизнь — предельна и даже, пожалуй, слишком коротка. Для Ли Чжэньчжуна вопрос стоит иначе: не «разок поднимешься — меньше останется», а только разок — и все, и если сейчас не подняться, то дальше возможности не представится.
Он влился в поток карабкающихся вверх и ступил на лестницу. Несмотря на зажженные лампы, после яркого солнца она показалась мрачной. Тесно сжатый рокочущим, плещущим потоком, он невесть сколько времени карабкался вверх, обливаясь потом и света белого не видя, задохнулся и уже начал сомневаться, мудро ли поступил, решив все же взбираться. Сзади к нему прижимался, чуть не упираясь руками, какой-то юнец, а деться некуда, потому что сверху, толкаясь, стекал встречный поток. Ужасно узкая лестница! Уж сколько ступенек он отмахал, а и до первого балкона не добрался, так как же осилит все семь этажей (тринадцать, если смотреть снаружи)? Эксперимент, похоже, преждевременный, ограничимся самым низким уровнем, и на сей раз довольно… И только он подумал об этом, как впереди мелькнул свет, ход выровнялся и расширился — они вышли на первый круговой балкон.
Окно за окном, и в каждом свой прелестный, полный очарования вид. Юная парочка, прижавшись друг к другу, любовалась рекой Цяньтан: контражурная фотография, эмоциональная и изысканная. Ли Чжэньчжун уловил, как они горячо выдохнули: «Хорошо-то!» — и неспешно направились к следующему проему, чтобы насладиться с другого ракурса. Ли Чжэньчжун занял их место и узрел за окном бесконечность мироздания. Могучая Цяньтан, разлившись чуть не на тысячу ли, казалась совсем близкой, и незыблемо высился над ней мост. Разумеется, размах не тот, что у Большого Нанкинского через Янцзы, который взлетает в небеса, чуть не покидая землю, взметнувшийся над просторами родины, но ведь здесь первый современный мост, построенный собственными силами наших инженеров и рабочих. Ли Чжэньчжуну было десять лет, когда его начинали строить, это история, от нее не отмахнешься!
Он шел по галерее, и разрозненные пейзажи в проемах соединялись в панораму. Вздох изумления исторгали горы, вон там. А какие раскидистые деревья — утепляющий склоны покров! Клены красны, как зоревые облака, сверкают листья камфарных деревьев, тисовые листы тяжело набухли, а у платанов только-только вытянулись. Все так густо, тесно, наполненно, вознесенные вверх изломанные кривые заштриховали каждый квадратный метр и земли, и неба… Все вместе — единая колышущаяся, живая, пышная зеленая масса, и она, точно мягкая морская волна, поддержала его, успокоила.
Оказалось, он и не устал вовсе. Мир, прекрасный и чистый, взбодрил его. Он прислушался к биению сердца, к дыханию, кровообращению, пульсации клеток, их делению, к транссудации, обмену веществ. Все рапортовали: «Докладываем: ваш организм функционирует нормально!» Он улыбнулся. И продолжил восхождение. Как здорово быть альпинистом, пусть даже с этими неприятными юнцами в одной связке, все равно это прибавляет энергии, энтузиазма и слегка безрассудства. О, с восхождением укорачиваются пролеты между балконами. Дополз до второго, снаружи это был четвертый. Если экономить силы, то можно и дальше — карабкаться и смотреть, смотреть и ликовать, ликовать и карабкаться выше. «Окину взглядом сотни ли и — дальше по ступеням вверх» — вся великая танская поэзия, понял он, в этих двух строках, нет, не только танская — в них суть всей национальной китайской поэзии. Дальше по ступеням вверх он добрался до третьего балкона, а потом еще дальше — до четвертого. Этаж за этажом: как все четко, как гармонично, особенно если сопоставить с нашей сумятицей, когда целыми днями занимаются тем, чем заниматься вряд ли стоит, — ну точно свора собак рвет бараньи кишки! И вот он добрался до верхнего балкона — седьмого, а если считать снаружи — тринадцатого, и раскинулись окрест прелести весеннего юга!
Когда он осмотрелся, его охватило гордое волнение. Рядом стояла та юная пара. А может, подумал он, эти ребята в темных очках с нашлепками не так уж и противны, как показалось сначала, они ведь не спекулировать очками забрались на эту верхотуру, а, как и сам Ли Чжэньчжун, восхититься красотами родины. Изогнутая, петляющая, будто начертанная боговдохновенной кистью, река Цяньтан делала два четких извива. А в какое величавое половодье превратится она после шестнадцатого дня восьмого лунного месяца! Теснились друг к другу поля нежно-зеленого заливного риса и раскинувшихся ковром озимых — что твоя шахматная доска. Крошечный, словно игрушечный, поезд полз, погромыхивая, пыхтя, дым расползался по ясному небу и рассеивался, растворялся. Поразительно: забрался на самый верх, а кажется, что земля, наоборот, приблизилась! Не иначе, пагода устремлена не к небесам с плывущими тучками, а к земле, к полям, изрешеченным межами, к буйволам с искривленными рогами, к реке, изборожденной рябью волн, к мосту, прочно сцепившему берега, к фабричным дымам, к каждому зеленому деревцу, корнями вросшему в почву, даже к каждому полевому цветку, к каждой былинке. Ли Чжэньчжуну показалось, будто и сам он ринулся к реке, мосту, буйволам и крошечным былинкам, чтобы в каждой крупице земли, каждом камне, каждой травинке и каждом деревце родины растворить свои клетки и атомы, свою любовь и память.
Когда Ли Чжэньчжун уйдет, все останется: пагода, мост, деревья, молодежь, нравится она ему или нет, ни на гран ничто не изменится, река будет так же течь, так же будут зеленеть изумрудные горы, возвышаться древняя пагода, а молодежь — петь, наряжаться, влюбляться… Невыразимо светлое, широкое чувство омыло душу Ли Чжэньчжуна. Не только для того, чтобы полюбоваться сегодняшней щедрой прелестью речных берегов, поднялся он на пагоду Шести гармоний, но и для того, чтобы прозреть ту их щедрую прелесть, какой она была в их с Сюмэй давние времена и какой останется после них. Он насладился настоящим, но увидел и прошедшее, и грядущее. То, что никогда не исчезнет, никогда не прервется, — вечность!
— Отец, и ты поднялся? Ну, ты силен! — вывел его из транса звонкий голос.
Сияющая юная улыбка, отблеск голубого неба в глазах, ослепительный ряд ровных зубов, с дружеским энтузиазмом протянутая девичья рука — все это мгновенно растворило осадок от непочтительного «отец», и ее пожатие как бы перелило ему немного счастья и порыва юности. Чуть позже крепким рукопожатием он обменялся и с широкоплечим молодым супругом.
— Вот уж не думала на вас тут наткнуться, — хохотнув, поспешила объяснить женщина, будто это была невесть какая радость — повстречать на пагоде Ли Чжэньчжуна. — И как вам удалось взобраться? Не на машине же? Не иначе на чьих-нибудь руках или загривке. — При этом она рыскала глазами, будто в самом деле хотела увидеть того, кто притащил сюда Ли Чжэньчжуна.
Он улыбнулся, решив, что это вполне достаточный ответ на насмешливое одобрение молодых людей. Потом сам поинтересовался:
— Давно вы здесь?
— Только что приехали, — отвечала по-прежнему она, — на пароходе из Сучжоу, всю ночь плыли по Юньхэ, под луной — восхитительно!
— Долго думаете пробыть в Ханчжоу?
— Дня два-три, отпуск уже кончается, а на обратном пути еще хочется в море выплыть!
— Где остановились? — Ли Чжэньчжун знал, как трудно найти жилье в разгар туристического сезона.
— Да, кстати, — повернулась она к мужу, — где же мы поселимся?
Похоже, эта тема вызвала раздражение у молодого супруга, и он с укором воскликнул:
— Я же говорил, что сначала надо найти жилье, а уж потом гулять, а тебе ни до чего дела нет! — В укоре, однако, сквозили любовь и нежность. — Даже не поели как следует, а тебе все равно! — добавил он.
— Пустяки, успокойся, мы везучие. — И она повернулась к Ли Чжэньчжуну. — Вы не сердитесь, что я назвала вас отцом? Или, может, называть вас «товарищ начальник»?
— Почему «начальник»? — даже замахал руками Ли Чжэньчжун.
— Вы думаете, я слепая? Вот вы сейчас смотрели вниз, заложив руки за спину, — ну прямо президент компании или начальник управления, на министра или зампремьера, пожалуй, не тянете…
— Лицзюнь! — одернул ее супруг.
Улыбнувшись, как ни в чем не бывало она продолжала:
— Ну как? Глаз не промах? А вы сами? Вы-то где остановились?
— В гостинице «Доблесть».
— «Доблесть», — повторила женщина, которую, оказывается, так красиво звали Лицзюнь. — Если ничего не придумаем, вечером найдем вас, ладно?
— Лицзюнь! — громко воскликнул муж.
— А что такого? Он поможет. Душевный же человек, разве не видишь?
Ли Чжэньчжуну стало приятно, ему нравилась непосредственность Лицзюнь, хотя слегка раздражала болтливость, и, ответив неопределенно, он распрощался с ними.
III
Конечно, ни о каком знакомстве и речи быть не может, но эта юная пара произвела впечатление на Ли Чжэньчжуна. Обретаю нужный опыт, решил он, кроме того, это явное знамение — встреча с молодыми людьми именно сейчас, на новом этапе жизни, начавшемся двадцать дней назад, уже после смерти Сюмэй, его болезни, операции, когда, покидая руководящий пост, он вступает в период отдыха, размышлений и воспоминаний о своем боевом поприще.
Двадцать дней назад он сел в поезд в одном из городов на севере страны, а вскоре подошло время ужина. «Пройдите в вагон-ресторан, товарищ начальник!» — робко пригласила его официантка с чистым личиком и парой косичек. Он кивнул, удовлетворенно улыбаясь, довольный выказанным уважением, но и насторожился: какие там еще начальники в поезде? Чувствовал он себя сейчас лишь старцем, умиротворенным собственным закатом… И в таком настроении неторопливо проследовал в ресторан, сел за столик, покрытый белоснежной скатертью и украшенный изумрудной травкой в вазочке. Над столиком висела цветная фотография в рамке — гора Хуаншань в дымке облаков. Он заказал бутылку пива, тарелочку соленой утки, миску чилимсов с горошком и суп с сычуаньской капустой. С упоением вслушивался в бульканье пива. Ненароком взглянув в окно, насладился видом на поля и деревушку, промелькнувшую в золоте бледного заката. На стене у придорожных домиков углядел голубые рекламные щиты. Рекламировали все больше какую-то пудру «Балет». С парфюмерией он не был знаком. Но теперь будет, из чего следует, что реклама, намалеванная на щитах по обе стороны железной дороги, вещь эффективная. По ассоциации вспомнил, что в молодости из поезда часто видел рекламу слабительного «Жэньдань» и тигровой мази, но тогда любая реклама, любая торговля и сами торгаши вызывали у него отвращение, ибо компартия и социализм, полагал он, не совместимы ни с какой торговой рекламой… Сегодня в нем уже нет такой категоричности. Отхлебнул пива и поразился своему хорошему настроению и аппетиту. Приступил к соленой утке, мясистой, без жира, молоденькой, упругой — в общем, превосходной. Через какое-то время, однако, что-то стало давить, пучить. И лишь тут Ли Чжэньчжун вспомнил, что остался без четырех пятых желудка. В это время подоспел ярко-зеленый горошек, розовые чилимсы, блестящие, масленые, и он понял, что ввязался в авантюру, возжелав этого обилия, «высоких показателей», а желудочек-то крошечный — как ему со всем управиться? Видимо, следовало ограничиться мисочкой янчуньмянь — «весенней лапши», — ну, от силы еще глазуньей из пары яиц.
Вот поди ж ты, оказывается, сжился с жидкой и полужидкой пищей — столько месяцев сидел на рисовых кашицах да лотосовой похлебке. Видимо, составляя рацион, не надо ударяться ни в «левую», ни в «правую» крайности, и тогда будет в самый раз. Но как же это нелегко!
С другого конца в вагон-ресторан вошла молодая пара, и Ли Чжэньчжун вздрогнул. Ибо это было время ужина лишь пассажиров из мягких вагонов, посеребренных, вовсе седых или лысых, морщинистых, заторможенных, несуетных. А эта парочка, улыбаясь, влетела ураганом. У дверей затормозили, огляделись и приковали к себе ответные взгляды сидящих. Как ухитрились они в дороге сохранить одежду такой новенькой, ладной, аккуратной, чистой, без пылинки? И сами будто только из косметического кабинета да туалетной комнаты — умытые, подстриженные. Пышные смоляные волосы женщины стягивала голубая шелковая лента, слегка удлиненное, отнюдь не совершенной красоты лицо под тонким слоем пудры казалось нежно-белым, что, право, попадается не так уж часто. На отвороте прелестного серого костюма сверкала брошь — корзиночка с цветами из искусственного жемчуга, а лицо сияло счастьем и юностью, озарявшими всякого, кто взглядывал на нее. Крепкую фигуру мужчины подчеркивал землистого цвета костюм из джерси с нейлоновой нитью. Он не производил впечатления высокого человека, но, когда они встали рядом, оказалось, что он все-таки выше. Защитник, к такому не задирайся — густые брови, большие глаза, массивный подбородок, широкие плечи, бугры мышц на руках, выпуклый торс.
Осмотревшись, они направились к столику Ли Чжэньчжуна и сели напротив. И тут к ним подошла та самая официантка с чистым личиком и косичками и спросила:
— Вы из какого вагона?
Вопрос несколько удивил — он больше приличествовал контролеру при посадке на поезд, а не официанту. Помедлив, молодой человек хладнокровно сказал:
— Два пива, пожалуйста, и холодную закуску.
— Вы из какого вагона? — нетерпеливо и без всякой робости повысила голос официантка.
— К чему вам знать, из какого мы вагона? — парировал мужчина.
— Сейчас обслуживаем пассажиров мягких вагонов, а для жестких ужин закончился; вы разве не видели, как по вагонам повезли на тележках коробочки с рисом и овощами?
— Каково? — Мужчина повернулся к спутнице. — Так и должно было быть, я чувствовал, а ты не верила. Каково? — В его тоне звучало больше удовлетворения, чем раздражения.
— И кому это нужно? — вовсе не думая об официантке, возразила ему женщина азартно, но все с той же веселой легкостью. — Неужели и ужин надо делить на мягкий и жесткий? Ведь мягкие и жесткие вагоны — это спальные и сидячие места, так зачем еще какие-то отличия? Разные залы ожидания, разное обслуживание, даже еда другая…
У официантки с косичками застыло лицо, и она отрубила:
— Такой порядок!
— Пошли, — поднялся мужчина.
— Не торопись. — Приветливость женщины не исчезла, казалось, радость ее не в силах погасить даже такая ситуация, к чему бы она ни вела. — Девушка, давайте Выясним, не пугайте нас этим словечком «порядок», я тоже знакома с правилами и порядками на железной дороге. Вы так резко отделяете мягкие места от жестких, что, боюсь, это может неблагоприятно сказаться на нашей общей тенденции к стабильности и сплочению. Минуточку, я не кончила, я вам еще объясню, что мы двое — на особом положении…
— К чему ты все это говоришь? — В голосе мужчины выплеснулась обида.
— Не беспокойся, я пробовала, в каждом десятке есть не менее семи с половиной разумных людей, готовых помочь ближнему. Я оптимистка, только так и можно жить. А теперь позвольте вам сообщить, товарищ официант вагона-ресторана, что мы вчера поженились, и это, можно сказать, свадебное путешествие; так разве не положено нам поесть несколько получше? Вам не будет стыдно поздравить нас рисом с овощами?
Будто небольшая бомбочка, нет, скорее ракета, салют сотрясли этот рафинированный вагон-ресторан, все старцы, поглощавшие пищу, отложили палочки и повернули головы, а официантка почувствовала себя неловко. Возведенная с помощью «порядка» линия укреплений оказалась прорванной смелостью и настойчивостью молодой женщины, а лихая декларация насчет свадебного путешествия бросила в краску и заставила опустить голову. (Верно, еще не замужем?)
— Пусть ужинают! — согласилась пожилая женщина в очках с черной оправой, сидевшая за соседним столиком.
— Тут ужинайте! Сюда, сюда, садитесь с нами! Поздравляем, желаем счастья, ужинайте здесь! — загалдели посетители ресторана, возбужденные видом молодого счастья.
А официантка пробурчала:
— Пойду спрошу у начальства.
Она ушла, и молодая женщина улыбнулась.
— Я же чувствовала, она тоже душевный человек, только вот по всякому поводу к начальству бежит, завтра чихнуть захочет — пойдет за указаниями.
Весь вагон-ресторан дружно рассмеялся.
Явилось начальство — директор ресторана, человек средних лет с шаньдунским выговором и мягкими манерами. Он осведомился у молодых людей, какие блюда им по вкусу и что будут пить, маотай или «Улянъе», подсказал, что кое-что можно приготовить специально для них — например, на пару́ особую сельдь-гильзу, которая лишь по весне заходит из моря в реки. Это блюдо, принялся он нахваливать, готовят лишь для руководства, начиная с министров, и для иностранных гостей, начиная с послов.
— Значит, новобрачные стоят на уровне министров? — вставила молодая женщина, вновь вызвав общий смех.
А директор пояснил посетителям:
— У нас нет выхода! Поезд переполнен, и, если все придут сюда, начнется такое столпотворение, что почтенные товарищи, как вы, и поесть не смогут…
Кто-то поинтересовался:
— А почему нельзя прицепить еще один вагон-ресторан?
— Вместо пассажирского вагона? Тогда и вовсе билет не купишь. В общем, китайцев слишком много, и либо мы все вместе наваливаемся на один котел, либо ждем своей очереди… Но мы тут еще, когда завершается ужин в мягких вагонах, открываем вечерний буфет для всех, и из мягких, и из жестких, кто платит, тот и ест, так в это время столько народу набегает, что мы уже не в силах гарантировать качество пищи… Ох, тяжко! Ну, ладно, ладно, вон несут вино…
Воистину то была отменная, восхитительная вечерняя трапеза. Кухня, беседа, атмосфера — все изысканно. Настоящий свадебный банкет в довольно оригинальном стиле, пусть даже яства оказались не столь шикарные, как в столичном ресторане «Цуйхуалоу». Мчался вперед поезд, стучали колеса, приветственно ревел паровоз. За окном мелькали деревья — как букеты молодоженам. Ли Чжэньчжун поднял тост за молодую пару, пожелал счастья, как собственным детям. Эти пришельцы в вагоне-ресторане казались алыми цветками, пробившимися среди кустов, они и ослепляли, и бодрили. Или бурлящей закваской в клейком рисе, от которой тот, размягчаясь, становится сладким, выпускает винный уксус, пьянит и горячит. Ли Чжэньчжун покачивался на мягком стуле и испытывал неподдельный интерес, начиная понимать, что счастье — это не только радость, но еще и умение и сила. Ах, как бы ему хотелось, чтобы Сюмэй сидела рядом и они вместе подняли тост за эту славную рабочую пару! Оказалось, они рабочие и до сих пор не видели ни Хуанхэ, ни Янцзы, ни океана. В «культурную революцию» их «перевоспитывали» вдали друг от друга в сельхозбригадах Внутренней Монголии и Хэйлунцзяна и лишь в семьдесят седьмом «оформили» возвращение. Свадебный маршрут был таким: Нанкин, Уси, Сучжоу, Ханчжоу, Шанхай, Цзинань, Циндао, оттуда морем в Тангу и наконец обратно в Пекин. Вернутся на завод, может, стоит устроить пирушку для мастеров? Надо подумать.
Ли Чжэньчжун прислушивался к разговору, присматривался к тем проявлениям интимных отношений, на какие они отваживались, и думал о Сюмэй, о пройденных с нею боевых десятилетиях. Вовеки не забудется их свадьба в погранрайоновской пещере весной 1942 года. Высыпали на кан финики, арахис, каштаны, началась свадебная церемония, и политкомиссар сорок минут рассказывал о положении на фронтах Отечественной войны в Советском Союзе и войны сопротивления японцам в Китае, о Сталинграде, Ленинграде, о борьбе против «истребительных походов» чанкайшистов и о работе Мао Цзэдуна «О затяжной войне»…
Да, все — лишь миг, все уходит, но — размеренно и торжественно. Когда он сам уйдет к Сюмэй и вместе с ней вольется в неспешную, величавую вечность, а вот эти молодожены достигнут его сегодняшнего возраста, как, интересно, будут проходить свадьбы у тогдашних молодых? Жизнь станет счастливой, и что же — они забудут все, что было до них? Нет никакой гарантии, что нас будут помнить вечно! Какое поколение может быть уверено в вечной памяти потомков? Наверное, остается уповать лишь на то, чтобы память их не прервалась слишком скоро. Нет, самое главное — оставить им плоды нашей борьбы, нашего созидания. Надо помнить, что молодожены третьего, четвертого, всей череды поколений — все уйдут в прошлое и перед взором грядущего их заключит в себе одно-единственное отрезвляющее слово…
IV
…История.
Да, все потом будет собрано историей, она оценит, произведет отбор, и в реке истории обретем мы судьбу вечную.
А потому мемуары — дело крайне важное. По возвращении из вагона-ресторана Ли Чжэньчжун погрузился в воспоминания и размышления.
Его вылепила и воспитала жизнь, во всем многообразии содержания и форм. Когда в тридцатые годы, включившись в студенческое движение за спасение родины и сопротивление Японии, он испытал на себе удары шашек и водопроводных труб, он еще не стал коммунистом, не занял место в авангарде национального освобождения, и тем не менее его продержали месяц в кутузке. Соседом по набитой камере оказался Сун У — герой, мужественно отдавший жизнь революции. Он дал Ли Чжэньчжуну рекомендацию в партию. Сюмэй была младшей сестрой Сун У. Короткие двадцать шесть тюремных дней — испытательный срок, за который Ли Чжэньчжун прошел курс партучебы (уж не знаю, сколько лет потребовалось бы на это сейчас). По выходе из тюрьмы стал кандидатом в члены партии — гораздо более убедительным, чем нынешние кандидаты, получающие санкцию на вступление лишь после дюжины уроков партучебы, дюжины заявлений, дюжины собеседований да дюжины всяких там формальных проверок. Тогда его хотя бы не распирало самодовольство, жажда по случаю вступления в партию созвать гостей, кой-кого отблагодарить, а затем превратиться в степенного партийного бонзу. В то время он и слов-то таких не знал — «вступить в партию ради карьеры». Напротив, тогда кровь кипела, он рвался в бой, на жертвы, чтобы на плахе или на поле брани принять славную смерть. Да, вступая в партию, он готовился под дулом вражеских винтовок запеть «Интернационал»:
Вставай, проклятьем заклейменный, Весь мир голодных и рабов!А кто из нынешних неопартийцев готов к такому? Впрочем, по каким резонам, на каком основании он требует от сегодняшних новых членов партии именно такой готовности?
Он поднялся со своей мягкой полки, пригладил волосы, открыл дверь, вышел в коридор, опустил пружинистое пластиковое сиденье у окна и присел. Взглянул на придорожные фонари, сливающиеся в огненный поток, на черные силуэты деревьев и домов — и почувствовал, что в размышлениях забрел куда-то не туда. Среди лишений, разумеется, воодушевляет героическая патетика кровавой борьбы с могущественными силами тьмы. Но ведь борьба — не сама по себе, а во имя ликвидации лишений, уничтожения сил тьмы. Ни тьма, ни лишения как таковые восхвалений, любви, сожалений не заслуживают, и никому не позволено искусственно выискивать надуманных врагов или фальшивые страдания. В тот или иной момент развитие может и замедляться, но в целом темп нашей жизни не вековечные, монотонные интерлюдии старинного хуциня, столь опьянявшие когда-то его старого отца. Быть может, юным молодоженам, совершающим свадебное путешествие, не суждено испытать то же волнение, что испытал он в тюрьме, проходя курс партучебы. Но о чем тут горевать? Это другое поколение. И, вне всякого сомнения, придет к ним свой собственный суровый опыт.
«Они должны стать счастливее нас. К чему иначе вся наша борьба, все наши страдания? Так ведь, верно?»
Перед его глазами оставалось темное окно, поля без конца и края, уже чуть подернутое дымкой, но все такое же родное и умиротворяющее лицо Сюмэй.
V
На следующий день в восемь с чем-то утра поезд миновал Большой Нанкинский мост. Уже лет десять он существует, а пассажиры по-прежнему ждут его с нетерпением. Даже иностранцы и возвращающиеся на родину эмигранты-китайцы из мягких вагонов вытягивали шеи, крутили глазами, окликали друг друга:
— Вот-вот подъедем, вот-вот!
— Вон он, эстакада, не видите?
Высоко подвешено солнце, стремится на восток река, долго гудит паровоз, и по стыкам колеса стучат. Поля и рощи в пойме там, вдали, казались крошечными, точно модельки в ящике с песком, но довольно четкими. По противоположному берегу летела черная точка — автомобиль. Огромный мост надвигался на Ли Чжэньчжуна, и восторг в душе смешивался со смущением. Прекрасно, что он существует, этот мост, не то все, кто стремится сюда, на берега Янцзы, чтобы взглянуть на знаменитые памятники, стелы с эпитафиями, дворцы да павильоны, парки да рощи, фигурки каменных будд и архатов, на эту квинтэссенцию мудрости и мастерства народа, — все приезжие вправе были бы задать вопрос: а чем же потомки дополнили прекрасные просторы?
Сразу за мостом — Нанкинский вокзал, и Ли Чжэньчжун увидел, как проворно выпрыгнули на перрон молодожены, попрощались со случайными попутчиками и направились к выходу. Каждый со своим баулом, а у женщины еще изящная сумочка — все такое же чистенькое и жизнеутверждающее, как и они сами. Ли Чжэньчжун с улыбкой следил, как они выходят со станции, вливаются в людской поток, растворяются в нем. А потом они исчезли из памяти — или, может, затаились в дальнем ее уголке?
И кто бы мог подумать, что спустя двадцать дней на старинной пагоде Шести гармоний у реки Цяньтан под Ханчжоу они встретятся вновь? Как говаривали некогда, всему свой жребий, да только какой?
Спустившись с пагоды и сев в машину, вы через какие-нибудь три минуты попадете в парк Тигрового следа. По преданию, объясняет путеводитель, когда-то тут не было источников, но монах, впавший в транс, узрел белобородого старца, и было ему откровение, а на следующий день монах увидел, как тигр роет землю (не лучше ли сказать «буравит»? Да боюсь, в древности не было такого слова, так что лучше сказать «роет»). Вот тогда и брызнула вода из источника, который считают «третьим в Поднебесной». Впрочем, к чему пустословие? Хватит с нас «теории вершин», по которой некий старец — первый в Поднебесной, а какой-то середнячок задвинут на третье место.
Экскурсантов и тут что муравьев, будто на храмовый праздник торопятся. Множество людей деревенского вида продавали чайные листья, обработанные особым здешним способом, предлагали свои услуги гиды, настоящие и самоучки, давая туристам, впервые знакомящимся со здешними красотами, стереотипные и лишь частично верные пояснения. На горе, где, по преданию, появился тигр, сейчас стоит его изображение. Художник сочтет его примитивным, любой сноровистый малец спроворит из глины поживее, поинтересней. Но туристам требуется не художественное ваяние, а иллюстрация к старинному преданию — вот-де так все оно и было. Без этого неживого, фальшивого тигра, по размерам, очертаниям, цвету точной копии зверя из зоопарка, не оказалось бы свидетельств «тигрового следа» и не повалил бы сюда народ. А так этот суррогат обвивают устрашающие очереди жаждущих сфотографироваться верхом на тигре.
К чайным столикам тоже не протолкнешься, как же: вода Тигрового следа, чай Драконова колодца — все самое-самое! В парках и на спортплощадках, в кинотеатрах и магазинах, на железнодорожной станции и речной пристани, на набережной и на вершине горы — словом, во всех общественных местах люди, люди, люди, мужчины и женщины, стар и млад, все куда-то лезут, кого-то толкают, давят, сжимают. Мы опасно приближаемся к так называемому демографическому взрыву. Но, с другой стороны, это ведь и знак повышающегося жизненного уровня и душевного подъема народа. Всплеск туризма — воистину продукт нового этапа истории, эпохальное веяние!
…Допив чай, встал посетитель и обратил смеющееся лицо к Ли Чжэньчжуну, будто говоря: «Извините, заставил долго ждать», и Ли Чжэньчжун тоже улыбнулся ему, словно бы отвечая: «Спасибо, что уступили место!» Обмен мимолетными улыбками доставил обоим пусть крошечное, но удовольствие.
Тут же подскочил паренек, услужливо убрал пустую кружку и осведомился, что угодно Ли Чжэньчжуну. На рукаве у него была повязка с красной надписью «Обслуживание», а на груди приколот значок 42-й ханчжоуской школы. Ли Чжэньчжун возрадовался было уровню обслуживания в чайном кооперативе «Тигровый след», но потом сообразил, что это же школьники используют каникулы, чтобы «учиться у Лэй Фэна», и творят «добрые дела», помогая здешнему персоналу, который в выходные дни сбивается с ног, не успевая обслужить клиентов. Он с удовольствием поблагодарил паренька, сказал, какой бы ему хотелось чай, и расплатился.
Паренек принес кружку, а он думал о том, что политика не должна отрываться от жизни. Если у нас такая политика, что жизнь топчется на месте, не становится краше день ото дня, а вода Тигрового следа — все чище, чай Драконова колодца — все ароматнее и у рабочих и крестьян, тружеников, которые из поколения в поколение прозябали на самом дне жизни, не появляется возможности наслаждаться чаем Драконова колодца в такой уютной обстановке, проникаясь очарованием родной природы, — тогда какой прок в этой политике?!
Он отпил глоток — о, что-то необычайное, здешний чай отмывает до ослепительной чистоты все и внутри, и снаружи. Как бы о нем поизящнее выразиться? Ага: «подобно яшмы звону, тонок».
Легонько подув на зеленоватые чаинки, плававшие по поверхности, он отпил еще глоток — чуть терпкий, настоявшийся. А уж аромат! Во рту блаженство, комфорт, несказанность. Он явственно почувствовал, как это ощущение спускается по пищеводу в его жалкую одну пятую желудка. Чтобы приласкать и понежить его.
От следующего глотка выступил пот, расширились сосуды, прояснилась голова, тело и дух воспарили. Будто и не было никакой усталости от восхождения на пагоду, в мышцах приятная истома. Может, путь его еще не кончен? Прощаясь, председатель комитета напутствовал: «Отдохни, надеюсь, скоро вернешься к работе, не так уж ты стар!»
Не стар? Разумеется, ведь 67 — это не 76. Но возвращаться на руководящий пост? Нет, даже если бы медицина и сотворила ему такое чудо, как желудок из легированной стали.
Не в здоровье дело. Ну что, действительно, мыкаться ему в руководителях по гроб жизни? Не лучше ли несколько раньше, чем принято, вывести на передовые рубежи товарищей более энергичных и решительных? Вот уже полгода, как он не у дел, и жизнь открывает ему столько заманчивого: отдыхать, размышлять, путешествовать, более того — стать рядовой частичкой массы, влиться в людской поток, в человеческое море.
Откуда взять время и силы на долгие путешествия, пока работаешь? Китайцев тьма, и всегда кто-то возникает рядом, один окликнет, другой за рукав потянет, пройтись одному не удавалось. Крутятся вокруг тебя всякие прохиндеи, изображают заботу, помощь, а на самом деле принюхиваются, откуда ветер дует, чем пахнет, что творится наверху и на какую дорожку им свернуть. Их ведь лишь одно и заботит — как бы пристроиться к твоим правам, положению, авторитету, чтобы поживиться да себя возвысить. Мысли об этом отбивали аппетит и сон. Так и остаешься всю жизнь оторванным от народа, не слышишь биения его пульса, его чувств, и вся твоя агит- да оргработа отдалена от людей. А ведь быть среди масс — важнейшее достоинство коммуниста! Ничего-то тебе не известно — ни как отдыхают люди, ни как стоят в очереди к фотографу, ни как ужасен чад над чайными столиками, отравляющий прекрасный пейзаж!
Неподалеку от Ли Чжэньчжуна под небольшим навесом стоял котел для кипячения воды. Дымоход слишком укоротили, и под ветром из него, точно ядовитый газ, валил густой дым и плыл над головами туристов. Менялось направление ветра — дым прижимался к земле, обволакивая посетителей, кружки голубой керамики со знаменитым чаем Драконова колодца, желтоватые плетеные столы и стулья. Ли Чжэньчжун закашлялся. Энтузиазм, вызванный «самым-самым» чаем, пошел на убыль.
И все-таки славно! Разве это не прекрасно — путешествовать по интересным местам, посиживать да беседовать без предвзятости, без заданий, без концепций, под которые следует подгонять факты, — просто взмыть надо всем, от всего отрешиться?! Почему же это чудо посетило его лишь теперь, когда стал он старым и немощным? Почему для этого нужна была операция? Не будь этих бесконечных заседаний, докладов, документов, папок с бумагами, оставайся время на отдых и сближение с «хозяевами жизни», разве не лучше узнали бы номенклатурные «слуги» реальную действительность и, прежде чем что-то решить, могли бы сопоставить разные точки зрения на ту или иную проблему, взглянуть шире и тем самым избежать многих просчетов? Разве не поднялся бы уровень руководителей, имей мы побольше времени на книги, путешествия, раздумья, статьи, лечение; были бы здоровей, жили дольше, знали больше, и душа стала бы шире!
Тогда, возможно, и Сюмэй спохватилась бы вовремя. Не умирать следовало ей — жить! Увы, не суждено было нам попутешествовать по чудесным просторам родины, размягчающим душу, испить по кружечке чая у дерева под горой, пусть даже вдыхая дымный смрад…
VI
— Ай-ай-ай, начальник Ли, мой добрый начальник Ли, вы ли это? Иной раз железные башмаки стопчешь, пока доберешься до вас, а тут сами на пути оказались! Вот уж не думал не гадал…
Ли Чжэньчжун еще не успел сообразить, кто перед ним, как на него обрушилась лавина дружелюбных восклицаний. Да это же, с трудом признал он, малыш Чжан — его давний подчиненный Чжан Цинь. «Малышом» его называли лет сорок назад, когда был он еще «чертенком» — связным Восьмой армии. Впрочем, в глазах Ли Чжэньчжуна он оставался тем же «малышом» — старым малышом Чжаном!
Сейчас перед ним стоял, конечно, уже не тот чертенок в обмотках, до того тощий, что армейская форма самого маленького размера болталась на нем как на вешалке! Вещмешок в левой руке, походная фляга в правой, и на поясе пара самодельных гранат! И не тот это Чжан Цинь, который в пятидесятые годы стал секретарем укома партии и угощал его сушеными финиками. Тогда он частенько работал по ночам, беспрерывно дымя, и от напряжения глаза вечно были красными. С тех пор он сильно полысел и теперь напоминал бродягу Трехволосика, героя дореволюционных серийных карикатур. Маленькие, но мясистые, сильные ладони беспрерывно двигались, брюшко округлилось. Как меняет человека время! Одет он был в голубую рубашку и отутюженные легкие серые с серебристым отливом брюки. Рановато, конечно, выскочил в следующий сезон, но зато элегантно, раскованно. Да, не слабо! А что за лицо — бронза! Сразу видно, питается нормально, спит достаточно, нервная система не расшатана и бодрости хоть отбавляй. От хорошо знакомого малыша Чжана остались лишь энтузиазм, отзывчивость, легкий налет фанфаронства, лихости, сметливости, хватки да болтливость сверх всякой меры.
— Мой старый командир, вы уже в порядке? Слышал, кой-какие волнения были, кхе-кхе, не надо, не надо! Нам с вами, глядите-ка, еще резвиться да резвиться! Время слечь пока не подошло! Стареть нельзя, и не думайте! Кхе-кхе. — Он покачал головой, повздыхал и, понизив голос, спросил: — Мою телеграмму соболезнования по поводу сестры Сюмэй получили? И считаете меня неблагодарным? Конечно, я должен был приехать на похороны! Но не сумел вырваться, кручусь с утра до вечера, в уборную заскочить некогда!
Завершив приветственный монолог, он присел и махнул официанту, чтобы нес чайку, да побыстрей. И с шумом, как бычок, втянул в себя разом полкружки дымящегося чая. В этой привычке к кипятку Ли Чжэньчжун узнал маленького связного, что всегда, даже когда пил воду, спешил так, словно от этого зависела жизнь. Лишь глотнув чаю, он ответил Ли Чжэньчжуну, поинтересовавшемуся, как жизнь:
— Считаюсь руководителем-универсалом, да много не достиг! После Освобождения заведовал отделом пропаганды, орготделом, возглавлял кооператив по сбыту, транспортное управление, был секретарем парткома пединститута… Вот разве что на женскую лигу не ставили. А теперь бросили на туризм.
— Прекрасно, — улыбнулся Ли Чжэньчжун. — Сегодня это горячая точка…
— Какая еще горячая точка? Кто на что-то способен,-сюда не идет. Все рвутся к кадрам, к трудовым ресурсам, всем дай покомандовать — не людьми, так финансами, не в промышленности, так в торговле, где материалы, средства и все в этом роде. А что светит мне? Можете презирать меня, командир, но не скрою от вас, что в семьдесят седьмом на собрании требовали от меня «чистосердечно все рассказать»! Понимаете, в семьдесят первом кому-то понадобилось сделать меня начальником рабочей группы этой «новой красной власти»! Начистоту так начистоту, и чем больше, тем чище! Но ваш товарищ Чжан Цинь только на побегушках и был, а ведь ни одного преступления против совести не совершил. Ни вреда никому не причинил, не «утопил» никого. Ни доносов, ни заверений в преданности не писал! Вот так. Даже когда критиковали Дэн Сяопина, на сцену-то вылезти пришлось, но ничего от себя, только газету зачитал. Так что стали проверять: ни слова, ни запятой Чжану не припишешь!
— Ну видишь, чему-то все же научился, — довольно резко, хотя и с улыбкой, обрезал его Ли Чжэньчжун, потом покачал головой. — Политический сумбур заставляет даже запятые списывать из газет, а это ужасно, невыносимо.
— Конечно, конечно, — согласно кивнул Чжан Цинь, — полностью принимаю ваше замечание, мне тоже было нелегко! Уму непостижимо, сколько всего нагородили, а ведь уже и японцев прогнали, и Чан Кайши! Помню, вы учили меня простейшим иероглифам, с трудом выводил «до-лой-им-пе-риа-лизм», под силу ли мне было разобраться, если сегодня нам говорили одно, а завтра противоположное? Только и оставалось, что ошибки совершать! Призывали нас «серьезно учиться», «повышать бдительность»… это, разумеется, прекрасно — серьезно учиться, а вот бдеть оказалось непросто! Панацеи от всего, что натворили в нашем Китае, не придумал бы, наверное, даже Маркс, возвратись он в мир!
Ли Чжэньчжун усмехнулся его монологу и подумал о слабостях «малыша»: всласть покушать; себя не в худшем свете представить, так, слегка, особенно не заостряя; покейфовать да побалагурить! Еще в военные времена ему постоянно приходилось строчить объяснительные записки, когда поедал крестьянских кур или гладил ручки девушкам из агитбригад. Конечно, он никому не вредил, не «топил». Ли Чжэньчжун был в этом уверен. На любом посту Чжан Цинь трудился с превеликой охотой и любовью, старался дойти до точки, избежать проколов, и эту черту следует занести ему в актив. Бывало, ворчал, околесицу нес и все же в любом деле искал изюминку. Как и в женщинах, вспомнил Ли Чжэньчжун: в каждой, считал, что-то есть, и тянулся к женщинам. Даже к тем, которых, по общему мнению, добиваться не стоило. А Чжан Цинь смотрел иначе: «Волосы-то какие длинные, чернущие!», «Ты сзади глянь — до чего ладная баба!»
— Что там в голове у человека правильное, что нет, распознать, в сущности, несложно, — продолжал Чжан Цинь, придвигая стул вплотную. — Достаточно побыли в дураках, хватит. Говорили-то красно, громко — мертвого разбудишь, петух с испугу яйцо снесет, — а где она, правда? Вот, скажем, в сельском хозяйстве: там народ не проведешь. А тут мы что, слепые? Китайцам палец в рот не клади! Всего два года, как политику выправили, а уж и свинина появилась, и яиц навалом; заезжали в деревню, видели? Новые дома у многих, в два, три этажа. Эти деревенские теперь в город и не хотят переселяться.
— Да, — довольно кивнул Ли Чжэньчжун, — лучше стало, деревня меняется даже быстрее, чем предполагали.
А Чжан Цинь продолжал:
— Ну, туризм так туризм, это тоже нужно! А в этих местах, я бы сказал, основа основ! Нет в мире второго такого края! Я в прошлом году с делегацией за границу ездил, много чего посмотрел, умеют в Европе красоту сооружать, не стану отрицать, все эти мраморные дворцы, островерхая готика, газоны, клумбы, скульптуры, фонтаны, фонари с патиной старины… А индустрия развлечений? Нос нам утрут запросто. Но в парках ничего не смыслят, тут мы их задавим, — какая-нибудь беседочка, галерейка, искусственная горка, мосток каменный! Пейзажи у нас несравненные! А туризм ведь не только прибыль, он затрагивает и экономику, и политику, и духовную культуру, тут вам и патриотизм, и интернационализм! Наладь это дело — все пойдет в гору: торговля и обслуживание, внешние связи и единый фронт, здравоохранение и печать, трудоустройство молодежи, ну, и живопись, архитектура, эстрада, литература да история, и денежное обращение, и наше движение за прекрасное в человеке! Но о чем мы раньше-то думали? Мозги окостенели? Запорами страдали, денежное дерево боялись потрясти, питались одним лишь северо-западным ветром — дело ли это? А этот клич «Разрушим четыре старья»? Крушили прошлое, завещанное предками, и теперь тратим миллионы народных юаней на восстановление; ох-хо-хо, поднимем ли?.. Эка я разворчался, матерщинников-то сейчас много — мало тех, кто дело делает!
— Ты-то сам из трудяг, я знаю! Это наше сокровище — такие, как ты, годные для любого кресла! — чуть ревниво похвалил его Ли Чжэньчжун.
Да, есть слабинки, вульгарен, зато работяга. Здоровый дух, не отстает от потока жизни. То говорит: довольно ворчать, то заявит такое, что и в уши не лезет. Но жил весело, оптимистично, рубил правду-матку не оглядываясь, точно испытывал при этом облегчение и удовлетворение. Ну а некоторые вчерашние, скажем, упущения — да, больно, а попробуй без боли оторвать омертвевшую кожу. И ужасно, и приятно — ужасно приятно! Чжан Цинь допил чай, подлил еще кипятку и с шумом выдул сразу полкружки.
— Ошпариться не боишься? — спросил Ли Чжэньчжун.
— Ошпариться? Да, можно. А, пустяки! Тут надо кое-что изменить, котел стоит слишком близко, воздух портит. Ну разве это дело?!
— Исправлять нам придется слишком многое! — задумчиво подхватил Ли Чжэньчжун. — Слушай, что происходит: столько сидим с тобой, а ты не закуриваешь?
— Курить? Давно забыл об этом! Лет двадцать еще протянуть надо, на модернизацию взглянуть! Во всем люблю последовательность. Отказаться от курева было нелегко, но уж раз бросил — ни единой затяжки, чтоб никакая контрольная комиссия не подкопалась! Ха-ха-ха… Оставляю вас, командир. — Чжан Цинь поднялся, белоснежным платком вытер потный затылок и уже совсем было шагнул прочь, но вдруг доверительно склонился к Ли Чжэньчжуну. — Вы сказали, старина Ли, что остановились в «Доблести»? А рядом, в Сююани, живет товарищ Юй Вэйлинь, знаете ее?
— Да-да, встречались когда-то в освобожденных районах, — кивнул тот.
Чжан Цинь вновь сел, лицо исказилось гримасой — то ли улыбнулся, то ли всплакнуть собрался.
— Помогите, прошу вас. Дело в том, что гостиничный комплекс, куда входит и парк Сююань, передан в нашу туристическую систему, а сестра Юй уперлась: останусь в Сююани, не желаю переселяться. Это же парк, туда билеты уже начали продавать, в доме, где она живет, предполагается сделать буфет, а она не дает. Государство в убытке, и немалом. Когда мы предложили ей переехать, она раскричалась, пошла жаловаться, что мы-де продаем родину иностранцам, стали маклерами капитализма да ревизионизма. Какие только ярлыки не сыпались!.. Может, намекнете ей? И по стажу, и по должности вы выше, чем она, намекнете, может, послушается…
— Так она, кажется, из этих мест? Почему же приходится в Сююани жить? Своего дома нет, что ли?
— В «культурную революцию» ее дом заняли, в семьдесят седьмом, вернувшись наконец в родные края, она подняла шум. Вы же ее знаете. Чуть что — сразу в бой: за должность, квалификационный разряд, машину, возможность подать доклад наверх, попасть в объектив телекамеры, на обед с иностранцами… Из-за своего дома принялась бомбардировать письмами ЦК, парткомы провинции и города, крайком, рыдала в кабинете первого секретаря, вот и поселили ее временно в Сююани. Она, конечно, была вне себя от восторга. Ей, оказывается, сначала предложили номер в «Доблести», но ее, видите ли, этаж не устроил, лифт ей противопоказан — какой-то метроптоз, а то и инфаркт грозит… Тогда ей дали на выбор пару домов, но оба не понравились… Ну ладно, ладно, — сменил тему Чжан Цинь, видимо заметив, как нахмурился Ли Чжэньчжун, — вы на отдыхе, не забивайте себе голову этими капризами. Ногу кулаком не перешибешь. Все решает ЦК партии, дом в Бэйдайхэ в семьдесят девятом передан уже управлению туризмом, появились новые «Положения»… Единственное, что меня беспокоит, — как бы эта дамочка себя не осрамила! В глазах партии!
И он торопливо пошел прочь. Ли Чжэньчжун заметил, что в другом углу чайной его ждали двое — видимо, подчиненные. Так что здесь Чжан Цинь появился, конечно, не ради кружечки чая Драконова колодца. Ох уж этот разлюбезный «универсал», суетный, не раз обруганный, — почти час отдал беседе со мной. Старая боевая дружба — что выдержанное вино: чем дольше стоит, тем крепче становится!
Но что произошло с Юй Вэйлинь? В те давние времена, кажется, не была такой взбалмошной, напористой, сверх меры энергичной? Видимо, переменилась.
И он покачал головой, не слишком веря в это.
Порыв ветра принес аромат свежей листвы и пение птиц. Да, постарел он, сник — столько времени не обращал внимания на склоны, поросшие тихим леском. Когда голова бывала забита мыслями, когда его занимали дела или беседы, он всегда забывал, где он, что с ним. Сидит тут бог знает сколько, но ни бодрящий дух листьев, ни сладкое пение птах не дошли до его сознания.
Покачивая головой, он прикрыл глаза — и ощутил страшную усталость. Чжан Цинь вернул его к воспоминаниям, к привычной энергии, к суете. К духу хлопотливой, беспокойной, суматошной жизни. Полной противоречий и обид, упреков и распрей. Устремленной к новому и постоянно создающей это новое. Вот покинул он передовую, отправился подремонтировать бренное тело, в сущности, в преклонные уже годы удалился на покой, к птичьему пению и лесным ароматам, горной красе и к глади озера, а не отгородиться от партийных забот, от жизни народа, от треволнений бытия!
VII
После обеда Ли Чжэньчжун прилег, долго лежал и не понял, заснул или нет, однако и это для старика наслаждение. Перед глазами все искрилась гладь озера, колыхались ниспадающие ветви ив, теснились гряды гор, пламенели азалии, простирались водные просторы, клубился дым. Потом это стало отодвигаться, отдаляться, рассеиваться, истаивать, и он очутился в пустоте неба — то ли в самолете, взлетающем или идущем на посадку, то ли на взмывшей вверх, но твердо стоящей на земле древней пагоде — и упивается нетленными просторами родины.
Потеплело, окно и дверь на балкон были распахнуты. Лежал, впитывая множество шумов, обычно не воспринимаемых. В усталой дреме слух, освободившись от контроля сознания, на удивление обострился и стал фиксировать самые разные звуки, летящие по воздуху. Где-то вдали шумели, забавлялись, ссорились, ругались, плакали, вопили и вновь играли и визжали от удовольствия ребятишки. Много забавного услышал Ли Чжэньчжун, порой даже задевало что-то, кое-что пытался запомнить, считал, что все ясно, а потом оказалось, ни словечка не осталось в памяти. Так, детская возня да еще какие-то железные стуки, вероятно со стройки. Пообедать рабочие не пошли, ревели клаксоны, то протяжно, то отрывисто, в каком-то далеке раздался гудок паровоза… из всего этого и складывался немолчный ритм трудового процесса. Отрадно, что так трудолюбивы, так педантичны в работе китайцы. Чуть покалывало сердце, потом отпустило. Зазвонил телефон. За стенкой или там, у дежурного? Кто-то снял трубку, прокричал несколько раз по-китайски «вэй, вэй», затем сказал «хэлло», видимо, звонил иностранец; над головой передвинули стул — скрежет так резанул, будто Ли Чжэньчжун вдохнул наркотиков. Смех. Кто это? Смеются обычно молодые, но, бывает, и старики, если не расстались еще со здоровьем и бодростью. Ли Чжэньчжуну тоже захотелось посмеяться, и он в самом деле славно посмеялся — не издав ни звука. Раздражал какой-то шум. Кран? Водопад? Вода в ванной? Кто-то пошел через речку вброд? В «школе 7 мая» заступившая вечерняя смена поливает озимые? Какое-то жужжание: пчела? Скорее, мотоцикл, нет, пожалуй, не мотоцикл — самолет, военный. Прекрасное чистое небо таит в себе конфликты и угрозы, и поэтому кружат здесь военные самолеты; привет тебе, летчик! И вновь щебечут птицы, шумят дети, приставая к матерям, трезвонит телефон, шуршат шины, смеется молодежь, а потом все стихает — никаких звуков:
У-чи-тель-Ли!
— Да здесь же я! — закричал он громко (или показалось, что громко). Бам-бам-бам, сильно загрохотали в дверь, будто ломился грабитель, он даже на миг смешался, потом сообразил, что стучит коридорный, встал, открыл дверь, тот внес его полдник: чашечку укрепляющего лотосового аррорута и пару кусков пирога — таким образом гостиничная администрация выказывала особое внимание к его больному желудку. Он взглянул на часы: ого, уже три.
Перекусив, попытался вспомнить, что за крики ребят врывались в его сон. Что они кричали? Он же все это, казалось, отчетливо зафиксировал. А сейчас не может вспомнить ни слова. Отдохнул, теперь пора за мемуары садиться. Один старый приятель, эрудит, советовал ему писать не пером, а кистью — это и успокаивает, и позволяет сосредоточиться, отбросить лишние мысли, своего рода психотерапия. Взмах кисти — черта вниз, откидная влево, вправо: так он вспоминал свою жизнь перед антияпонской войной, в бурях студенческого движения за спасение Родины, напевал «мой дом — в Дунбэе, на берегах Сунгари, где в лесной глуши таятся угольные рудники…» и со слезами на глазах рассказывал, как сорвал голос, агитируя за бойкот японских товаров, описывал обыски, костры, трескучие морозы, пронизывающие ветра. Вот дошел он до того митинга за спасение Родины, на котором впервые расписался кровью. Было ему семнадцать. Революция взволновала молодежь, а без молодого волнения не было бы и революции! Вот прогоним японских чертей, и все будет расчудесно! Вот разобьем эту развалину, чанкайшистскую армию, и все будет расчудесно! Вот сокрушим правых, очистимся от спеси, чиновности, изнеженности, упадничества, озлобленности, от всех этих «пяти нездоровых проявлений», и все будет расчудесно! Вот перебьемся еще три года, перегоним Англию, догоним Америку, преобразим страну, и все будет расчудесно! Вот проведем «четыре чистки», завершим движение за социалистическое воспитание, и все очистится, похорошеет, все будет как надо! В долгих битвах китайский народ перевернул землю и небо, правда, в пафосе свершений слегка перестарался и глупостей натворил, но в общем вошел в новый исторический этап.
Спустя полтора часа у Ли Чжэньчжуна заныла рука, да и режим требовал закрыть тушечницу, осушить кисть, надеть на нее колпачок и положить в недавно приобретенный изящный, красивый, неправильной формы футляр…
— Ну, хватит! — невольно вздохнул он, обрывая воспоминания о том, как в молодые годы председатель Мао декламировал «Весну в садах Чанша». Теперь он покоится в хрустальном саркофаге в мавзолее.
Скрип двери вырвал Ли Чжэньчжуна из прошлого, и какую-то долю секунды он не мог понять, что произошло, показалось, что по затылку ударили чем-то твердым, он отпрянул, не удержал равновесия и очутился на полу, в глазах потемнело, сердце замерло. С трудом поднялся, осознал, где находится, услышал бешеный стук собственного сердца и увидел в распахнутых дверях пожарника, врывающегося в комнату. Лишь спустя время он сообразил, что это не пожарник, а Юй Вэйлинь, о которой утром они говорили с Чжан Цинем.
Почтенная Юй была на год старше Ли Чжэньчжуна, ей в этом году исполнилось шестьдесят восемь. Но она не согнулась — прямая, высокая. Плоское лицо — в густой паутине морщин. Иные врезаны временем, но другие, похоже, добавлены не бурями жизни, трудами, волнениями, раздумьями, а чем-то вроде переживаний от горького лекарства или страданий от прикусанного языка. Зрачки в больших глазах не двигались. Пепельные волосы собраны за ушами. Прибавьте к этому полушерстяной френч — ну прямо старый, солидный номенклатурный работник, перед которым можно лишь трепетать. Вид весьма и весьма бодрый, правда, голос слегка дрожит да слова путаются — как говорят, Ли надевает шапку Чжана.
До «культурной революции» она руководила органами пропаганды, после разгрома «банды четырех» ее хотели поставить во главе одного управления, но она отказалась — это-де понижение — и потребовала объяснений, за какую такую провинность понижают. Тогда ей предоставили руководящую должность в НПКСК[56], она было согласилась, но сердито заметила Ли Чжэньчжуну:
— Затирают, это же ясно! Решили подвесить в пустоте. Делают вид, будто это повышение, а на самом-то деле понижение.
За двадцать дней пребывания тут Ли Чжэньчжун частенько беседовал с почтенной дамой. О военных годах, о лекциях, на которые приходили со складными стульчиками, об агитации среди пленных, политических тенденциях, о Мао Цзэдуне, Чжоу Эньлае, Лю Шаоци, о пещерах Яньани, о санитарном отряде, о нелепом экстремизме во время «трех чисток» и «трех выправлений».
— Или вот молодежь, — говорила она, — какая была молодежь в наше время! Не думала о смерти, спасала страну и нацию очертя голову, кровь кипела, Великий поход — на двадцать пять тысяч ли, неколебимая преданность: что партия укажет, то исполняли. А нынешние? Только о деньгах и думают, о замужестве да женитьбе, гардеробе, магнитофоне, озоруют, шкодят, бунт же — дело правое[57], вот и раскрепостили сознание без каких бы то ни было ограничений!
Как-то она спросила:
— А вы не размышляли об искусстве? Что было в наше время? Возьмут группу пленных, и вызывает меня начальник политотдела: «Слушай, Юй, сооруди-ка пьеску, разыграй перед пленными, проведи классовое воспитание!» И я отвечаю: «Есть, приступаю к выполнению задачи!» В тот же вечер и состряпаю: помещик берет за горло должника-крестьянина, тот бросается в реку. Утром порепетируем, после обеда ставим, зрители в слезах, занавес опускается — бегут с покаянными письмами, а после вечернего рапорта, который продолжается целый час, девяносто процентов пленных вступают в Народно-освободительную армию и утром обращают винтовки против Чан Кайши… Ну а сейчас? Что за штука сегодняшнее искусство? Сплошная любовь, объятия да поцелуи, песенки шлют на далекие заставы. Бедные пограничники! От таких песенок раскиснешь — как границу-то охранять? Пойдешь в театр, там вскрывают темные пятна, завершая трагическими финалами, — повеситься хочется зрителю или по крайней мере уйти из мира в монахи. До чего докатились — слизали у «свободного Запада» какой-то вонючий, затхлый поток сознания, тоже мне проза, фраза начинается тут, а кончается вон где, вожу указательным пальцем по словам, иероглиф за иероглифом, запятая за запятой, голова кругом идет, давление скачет, и все равно ничего не понимаю. Даже я, всю жизнь проработавшая в искусстве; а каково рабочим, крестьянам, солдатам? Каждый иероглиф злой, как тигр, так бы и накинулся на читателя, хорошо, я его пальцем прижимаю!
На все это ворчание Ли Чжэньчжун только улыбался и покачивал головой — соглашаясь или протестуя. Резонно, правильно, хотя в чем-то, возможно, перебарщивает. Старая ворчунья! Чему, однако, удивляться? В Китае на рубеже семидесятых-восьмидесятых годов брюзжанье вошло в привычку, стало какой-то страстью, каждодневной необходимостью. Не ворчишь — значит, тебе ничего не надо, нет обид, но нет и заслуг, трудишься спустя рукава. Ну и как прикажете к этому относиться? Или без ворчанья свинину не переваришь, глоток чая не сделаешь, солнце не опустится за гору, остановится бег дней?
Порой Ли Чжэньчжун пытался понять, как же она живет в этом пятикомнатном «высокономенклатурном» особняке в прекрасном саду Сююань. Чем еще, кроме воспоминаний о славном прошлом и бичевания «зловредных нынешних времен», занимается в своем благородном доме? Что так озаботило, встревожило ее? Неясно. По поверхности бродила — так, мелькала — мыслишка, что ему, конечно, не следует вмешиваться в здешние дела — и не с руки, и не так уж это ему интересно.
Однако на ту Юй Вэйлинь будничных дней, озабоченную лишь воспоминаниями, совсем не походила та, что ворвалась в комнату, как пожарник, набросилась, испугав до полусмерти, и сейчас стояла перед ним. Вся красная, губы поджаты, тонкие, как листики ивы, брови поникли, миндалевидные глаза широко раскрыты — более подходящие сравнения подобрать трудно, хотя и эти, конечно, наивны, да ведь предки наши не выработали специальных выражений, чтобы передать гнев пожилой женщины.
Она молча плюхнулась на диван — челюсть дрожит, лицо посерело, резко обозначились морщины.
— Что случилось? Не волнуйтесь так, сестра Юй!
— Скажу, старина Ли. Нам надо поговорить, нам нельзя не поговорить. До чего мы докатились, спрошу я вас?!
Вопрос ошеломил Ли Чжэньчжуна, он раскрыл рот — и промолчал.
— Как это мы не покладая рук трудились всю жизнь во имя революции — и пали в такое болото?
Ли Чжэньчжун все не мог сдвинуться с места, его била нервная дрожь.
— Что же произошло? — спросил он наконец. — Где вы были?
— В комиссии по проверке дисциплины!
— Что? Зачем вас побеспокоили? Расскажите по порядку. — Ли Чжэньчжун налил ей воды и попытался взять себя в руки. Вот оно как, комиссия по проверке дисциплины! То-то она решила, что небо обрушилось. Неужели Чжан Цинь передал дело с домом туда? Так ли уж это было необходимо? А комиссия что, предложила ей уйти на пенсию? Вряд ли, это не входит в ее функции. Да и зачем?
Юй Вэйлинь с шумом сделала несколько глотков, краснота мало-помалу стала сходить с лица, и тогда она объяснила:
— Не они меня побеспокоили, а я к ним обратилась, пожаловалась на этого секретаря Чжана! Это же когти «банды четырех», авангард ревизионизма! Во что он хочет превратить Сююань? Разве это рядовой парк? В шестьдесят третьем тут жил сам А., в шестьдесят пятом обедали Б. и В. В семьдесят шестом в Сююань заезжал Г.[58] Место исторического, политического значения, а они лишь о выручке думают! Всего две недели назад открыли парк, а уже налетела всякая шпана, хулиганье, контрреволюционеры, капиталисты, беглые помещики из-за границы вернулись! Заплевали дорожки, потоптали цветы, пообломали ветви, камнями птиц распугали, яблочной кожурой да конфетными обертками пруд замусорили, понаписали всюду «Я тут гулял». Как выйдут через ворота на мощеную главную аллею, сразу начинают выковыривать камни. Зачем, спрашивается? И двадцати дней не прошло, а от каменного узора ничего не осталось. Даже медные петли на окнах в «Кабинете шепота сосен» и те сорвали, ворюги! Теперь в рамах зияют провалы. Последние дни потеплело, так гуляк набежало до невозможности. Сбывают приезжим листья деревьев под видом чайных, на билеты меняют яйца, спиральные раковины, моллюсков, частные лавочки устроили, краденым торгуют, заводят кассеты с гонконгскими и тайваньскими песенками, а жаргон какой, ругаются, бывает, руки в ход пускают… Женщины размалеванные, напудренные, в ожерельях, с серьгами, под цветастыми нейлоновыми зонтиками — ну прямо шлюхи какие-то, мужчин арканят — не тайная, а вполне откровенная проституция!
— Не слишком ли вы? — мягко осадил ее Ли Чжэньчжун.
— Вовсе нет, — взвилась Юй Вэйлинь, и голос ее зазвенел. — Я еще не сказала об иностранцах, щеголяют в своих западных нарядах, носы задирают, а рядом наши убогие сопровождающие. Здесь, на своей китайской земле, китайцы все уступают им — лучшую пищу, лучшие гостиницы, лучшие вагоны, машины, корабли. В парке из старых товарищей одна я и осталась, да уж и меня теснят, требуют переселяться. Вы взгляните, во что превратили Сююань, разве нам не должно быть стыдно перед душами павших? Страна меняет свой цвет, и у меня сердце болит, старина Ли, скажите мне, что же это творится, в конце концов?
— А вы не перебарщиваете? — покачал головой Ли Чжэньчжун. — Все это действительно есть, но описываете вы как-то однобоко, нагнетая ужасы. Это же хорошо, что парк Сююань открыли, — связь с массами укрепится. Я ходил туда недавно: все не так страшно, как вы изобразили. Доброе дело сделали, открыв для народа еще один парк. После Освобождения прошло тридцать лет, а только сейчас политика встала на правильный путь, реформы — дело замечательное. Зачем вы тут все это наговорили? Не стоит все подряд отрицать. И потом, я в связи с этим считаю, что вам все-таки лучше переехать. Ну что за дело — жить в парке!
— Что вы сказали, старина Ли? — Широко открытыми глазами Юй Вэйлинь уставилась на Ли Чжэньчжуна, будто увидела впервые. Разволновавшись, достала носовой платок, смахнула выступившие слезы и с болью спросила: — Как же вы не понимаете? Я не должна уезжать. Ни пяди не уступлю! Один только шаг — и начнется отступление. Вчера ко мне приходила Юнь Фанфан, вы ведь знаете ее — мой старый боевой друг! Мы говорили, говорили, а потом она расплакалась, обревелась вся. Не дают ей вернуться к работе, а она же еще не старая, на добрый десяток лет моложе меня. Когда-то была таким живчиком: к этому руководителю подскочит, того пригласит пообедать, а третий поднимается на сцену, чтобы руку ей пожать! В пятидесятые годы за границу ездила, несколько премий Всемирного фестиваля молодежи завоевала! А сейчас? Запретили выступать! Кому сейчас улыбается судьба? Китайцы — не китайцы, иностранцы — не иностранцы, голоса не поставлены, никакой профессиональной выучки, нашего прошлого совершенно не знают, даже не могут сказать, на юг или на север смотрят входы яньаньских пещер! Только и знают, что торговать своей молодостью, густыми волосами, нежной кожей, яркими личиками, блеском глаз!
Ого, в ней еще проглядывает та решительная девочка, порвавшая с семьей, твердо ушедшая в самостоятельную жизнь, тот боец, храбро наступавший под градом пуль, тот цветок, подпоясанный красной лентой и с жаром танцевавший народный танец янгэ, та суровая женщина, что своими руками похоронила молодого мужа, погибшего в боях.
Есть воспоминания, останавливающие бег реки времени! Ох уж эта старость! Ну зачем дана она людям? В силах ли кто миновать ее? Трудные, святые мгновенья, дни и ночи в боях, волнениях, и вот все ушли и никогда не вернутся. Себя он почему-то старым не чувствовал, даже представить такого не мог, не ассоциировал с собой это слово «старость»… Неужели пряди его, поутру такие черные, к вечеру покроются снежком?!
Увы, покрылись, а Сюмэй ушла раньше, чем он. Она так любила зажаренные фрикадельки, золотистые пампушки, рис в котле, частенько пекла ему треугольное печенье: раскатает тесто, посолит, смажет маслицем, порубит, перевернет один за одним кусочки, вновь раскатает — и получаются треугольные, многослойные печенюшки. Таких никто больше не делает! А как любила она петь одну шансийскую народную песенку! Звонкая речка Янь, прозрачная речка Янь, любимый ушел в солдаты, в армию сопротивления японцам, если гвоздь из хорошего железа, он не гнется. У нее был приятный, чистый голосок, как у юной девушки, да она и смущалась точно девушка. Уж сколько лет прошло, как они поженились, а стеснялась петь ему в полный голос, отговаривалась, что-де поет плохо. На самом деле замечательно пела. Кто сейчас умеет петь такие песни?
Да, нынешней молодежи уже не по душе лирические синьтянью, которые Юнь Фанфан наполняла почвенным духом! О небо! Эта молодежь, чья душа отравлена десятилетием смуты, ни во что не верит, легко отбрасывает все замечательное, революционное, народное, массовое…
Что же делать? Что делать? Нам, дочиста ограбленным, предстоит много работы, реформ, перед нами полноводная река, бурный разлив — как тут не помутиться голове? Каким образом суметь сохранить былую чистоту дистиллированной воды сосуда? Но зачем же видеть во всем черноту, желать, чтобы время повернуло вспять? А как постичь разумность? К новому ли ведет то, что непривычно старикам? Разве можно преобразить мир, ничего в нем не меняя, далеко ли мы так уйдем? Почему лишь прошлое стоит перед нашими глазами и не замечаем мы ни настоящего, ни будущего?
VIII
— Мы состарились. И с этим ничего не поделаешь. А пока мы стареем, подрастает новое поколение, строится новая жизнь. Нам, конечно, не хочется считать себя стариками, ведь сколько предстоит еще сделать. Многое надо оставить молодежи — богатство, мудрость и уж тем более примеры, образцы… — медленно, мягко заговорил Ли Чжэньчжун, дождавшись, пока Юй Вэйлинь успокоится и ей станет стыдно своих слов.
— Какой молодежи? — тут же вновь взвилась Юй Вэйлинь. — Современной? В состоянии ли она подхватить эстафету? Это еще надо посмотреть!
Не все мог принять Ли Чжэньчжун в этом тезисе. Нравится тебе молодежь или нет, но будущее принадлежит ей, это факт несомненный, ни от чьей воли не зависящий. Единственное, что мы можем, — постараться передать «эстафету» лучшим, в наилучшем виде и в нужный час, но в самом этом процессе сомнений быть не должно.
— Хм, да я бы так и не сердилась сегодня, не будь этой молодежи. До смерти зла!
Ли Чжэньчжун вопросительно поднял на нее глаза.
— Общественные нравы сейчас возмутительны, — сердито выдохнула Юй Вэйлинь. — Возвращаюсь я из комиссии по проверке дисциплины, смотрю, у озера на скамейке сидит парочка, день в разгаре, а она привалилась к нему, он гладит ее волосы — тьфу, глаза бы мои не смотрели! Ну, подошла я поближе, покашляла — и ухом не ведут, будто меня тут нет. Встала перед ними — свое продолжают, даже глаз не подняли. Не стерпела я и выдала им: «Мерзко! Слов нет!» Парень ничего не ответил, а девка меня же и обругала…
— Обругала вас? Как же? — Ли Чжэньчжун не понимал, зачем она вообще затеяла эту историю.
Юй Вэйлинь поколебалась в нерешительности, но потом ответила:
— Все так же развалясь, девица подняла на меня глаза и спросила: «Ты что, больная?» Ну скажите, что делать с сегодняшней молодежью?
У Ли Чжэньчжуна брови полезли вверх, он опустил голову и не знал, смеяться ему или плакать.
— Кхе-кхе, а стоило ли все это принимать всерьез? — без нажима посоветовал он ей. К чему, правда? Деликатно помогая Юй Вэйлинь спуститься с лестницы, вежливо отказался от приглашения зайти к ней «отведать пиалу лапши с чилимсом». После чего отправился в столовую. Где взял стакан виноградного вина, так называемого сухого, не сладкого, с легкой кислинкой, и у него взыграл аппетит. Сладкое — это для детишек.
Кто знает, почему то, а не иное задерживается в памяти? Весь ужин перед его глазами как живая оставалась сестра Юй, так что это у них была как бы общая трапеза. Нижние веки у нее набрякли и отвисли. По щекам змеились морщины, удлиняясь и углубляясь в минуты дурного настроения. А когда она начинала говорить, волнуясь, рот западал, точно она что-то сосет. Неужели это старческое — жалеть себя, убиваться и прошлым отгораживаться от сегодняшнего? Ведь вся эта «зловредность нынешних времен», в которую она тычет пальцем, всего лишь откровенный эгоизм невоспитанных юнцов.
Нет. Сюмэй даже перед кончиной так не брюзжала. Отнюдь не во всех проблемах разбиралась Сюмэй, не всегда видела перспективу. Но она была исполнена любви — к жизни, работе, молодежи, ко всем товарищам вокруг. В ней не умирала какая-то наивная вера. «Все будет хорошо», — любила она повторять. И верила, что все будет хорошо, как люди верят, что зима непременно сменится весной, а когда отцветут цветы, загустеет листва в кронах. Даже серьезно заболев, она не говорила о своих страданиях и оставалась спокойной до самого конца.
Лишь теперь Ли Чжэньчжун постепенно начинал осознавать, за что всего больше любил Сюмэй. Оказывается, любовь не имеет объяснений, да и не требует их, ибо это не алгебраическое уравнение. Сейчас Сюмэй, этот тихий, спокойный большой ребенок, вспомнилась особенно отчетливо и выпукло, как барельеф, оттененный капризами сестры Юй. Сюмэй никогда не сердилась, не взрывалась. Быть может, ее недостатком была излишняя робость — даже петь громко стеснялась… Ах, отчего он не сказал ей все это при жизни?! Они оба были так замотаны, что даже свободными вечерами говорили все больше на серьезные темы.
…Тот незабываемый конец недели в декабре 1956 года! Они в квартире вдвоем — и без единого телефонного звонка, без визитов, без документов, требующих резолюций, без материалов, ожидающих указаний, без сводок, бюллетеней, отчетов. Вечер принадлежал только им двоим. Они в расцвете лет, полны сил, ему сорок два, ей и сорока не было — воистину золотое время и золотой возраст! Тем не менее весь вечер они проговорили о Египте, Ближнем Востоке, Суэце. Неужто, с долей недоумения подумал он, египетские проблемы и в самом деле были настолько важными, неотделимыми от любви и семьи?..
После ужина Ли Чжэньчжун неторопливо вышел из гостиницы. Миновал поля, вдыхая воздух, настоянный на запахе пшеницы, с легкой отдушиной удобрений и свежего дыхания гор и озер, пересек асфальтированное шоссе, прошел вдоль парка Хуаган и вышел на дамбу Су Ши. По берегам Сиху росли ивы — какие-то не такие, как всюду, в последних лучах заходящего солнца они казались необычно тонкими, кроткими, притихшими. Их слабость и чувственное помахивание ветвями, пышность и таинственность, свежесть и простота — все это напомнило Ли Чжэньчжуну само человечество с его неиссякаемостью и слабостью, никогда не завершающимся развитием и неисчерпаемым энтузиазмом, напомнило поток ощущений собственной жизни — слабых, но близких, которых трудно избежать даже мужественному борцу. Неиссякаемость человечества приветствуют тонкими ветвями плакучие ивы, без слов открывая душу, переливаются светлые воды, поутру голубовато-зеленые, а потом ярко-желтые, оранжевые, коричневые, фиолетовые, многозначительно улыбаются из мрака ночи, лишь взору влюбленного являя свою покорную изменчивость.
Это нелегко — нести бремя красоты. Нежной, умиротворенно-величавой, меланхоличной, неповторимой красоты Сиху, от которой у Ли Чжэньчжуна поначалу перехватывало дыхание. Ему, старому коммунисту, всю жизнь отдавшему пламенной революции, служаке, проведшему жизнь в борьбе, сотрясшей небо и землю, в ратных подвигах, кидавшемуся в бой с лозунгами на устах, под градом пуль, познавшему на жизненном пути победы и поражения, славу и страдания, эти красоты были в общем-то чужды. «Я не праздный гуляка, и беззаботности в таком количестве у меня никогда не было!» — бурчал он, приехав в Ханчжоу.
Прошло, вероятно, немало времени, пока возник в нем интерес к окрестностям озера. Так встречают давно потерянного родственника, с которым никогда не жили вместе, даже сталкиваясь на улицах, не узнавали друг друга, но вдруг ощутили кровное родство, и после первой неловкости заговорили их неотторжимые друг от друга гены априорных ощущений. Так, преодолевая собственную строптивость, порой принимают рекомендации простодушных сватов, сначала полагая, будто между молодыми вовсе ничего общего нет, но затем приглядываются, и в итоге все завершается любовью. То же самое произошло между Ли Чжэньчжуном и озером Сиху — вошло что-то «априорное». Он проникся этой красотой. Многое повидал он в жизни: необозримость невозмутимых сосен, красное светило над морем, соленое озеро в горах, извивающийся дракон Великой стены… и все спешил вобрать в себя. А к этой утонченной красоте его немощное тело прикоснулось впервые. Вечную прелесть и многообразие бескрайних просторов нашей родины дано постичь лишь равным им по широте и красоте душам!
Поначалу ему хотелось восстать против Купидона, воцарявшегося вечерами в окрестностях Сиху. Чуть спустится закатная дымка, по берегам озера, по тропкам и дорогам, огибающим его с севера, запада и юга, на парящих мосточках и пустынных холмах, на дамбе Бо Цзюйи, а особенно на отдаленной дамбе Су Ши, погруженной в тишину, — всюду высыпали парочки, образуя чуть ли не шествие. Сколько людей, столько и любви, так что Китай, несомненно, самая любвеобильная страна в мире. Во время прогулок его, бывало, почти подталкивали к идущим впереди парочкам, и эта уж слишком сладостная картинка заставляла ускорить шаг. Он спешил оторваться от них и отыскивал плоский камень над самым озером. Смотрел на вечерние краски, сверканье звезд, водную гладь, силуэты гор, притихший город. И ему становилось ясно, что тут всюду улыбка Купидона, что, куда бы он ни забрался, где-нибудь рядом, под деревом ли, у воды, на складных стульчиках, прислоненных к стволу, просто на траве, около беседки или облокотившись на поручни моста, окажутся влюбленные. Для него, разумеется, весна юности, любовь — развеявшийся дымок, но он не мог расстаться с глубокой нежностью к молодому поколению, ощущением счастья, даже какой-то гордости, некоего отцовского благословения. Да, он стареет, но жизнь — жизнь все еще молода! Все еще молодо озеро Сиху! Неуничтожима весна, цветущая среди гор и озер нашей страны! Что сильнее может согреть душу человека?
Только потому, думал он, и достоин любви этот мир, неостановимый в своем движении, непрестанно обновляющийся. Только потому развивается человечество, только потому существует жизнь, которую мы так любим, что есть и рождение, и старость, болезни, смерть, есть и родильные дома, и крематории, и детские сады, и приюты для престарелых, и обряды бракосочетания, и траурные церемонии, и молочные рожки для грудничков, и «утки» для стариков, и прорезающиеся молочные зубки, и выпадающие кариозные зубы, и свежие цветы, и опадающие листы, есть весна, лето, осень, зима — и вновь весна, вновь лето, вновь осень, вновь зима…
Порой он завидовал молодежи, ее жизненной силе, смеху. Она бывает саркастичной, смотрит на людей, не замечая их, ибо чувствует: мир нуждается в том, чтобы молодежь привела его в порядок. Вот потому-то жизнь и полна надежд, что входят в этот мир все новые и новые люди, чистые и наивные, всему удивляющиеся, всем недовольные, все жаждущие испытать. Как много дано молодежи! Вечерами на дамбе Су Ши он особенно остро ощущал это.
Но осознают ли эти молодые люди, упоенные сладкими поцелуями, сколь тяжела ноша завтрашнего дня? Сколькими лишениями полны жизнь и борьба, как драгоценен опыт поколения Ли Чжэньчжуна, добытый ценой крови, жизни, пота и слез? Не пустят ли они по ветру все завещанные им революционные завоевания? Пожалуй, стоит обсудить с ними все это. Помнится, в конце тридцатых он агитировал и поднимал ровесников… Жизнь-то, в конце концов, еще не угасла в нем, он, конечно, старая, но знающая дорогу кляча, и его ответственность — да, ответственность — велика, как гора, нескончаема, как река!
До чего ж все это занятно! Отдыхая в дивных краях, степенно любуясь полудиском луны, поднимающейся над ханчжоуской пагодой, вслушиваясь в кваканье лягушат, восхищаясь яхтсменами, рассекающими гладь озера, следя за хохочущим велосипедистом, стремительно съезжающим с пустынного моста, взметнувшегося над озером, обдумывать серьезные государственные проблемы…
IX
И вот пробуждение.
Здравствуй, утро! Здравствуй, новый день! Необыкновенно яркий и стократ драгоценный, как каждый из уже немногих оставшихся ему дней. Здравствуй, чистый гостиничный номер! Здравствуйте, окна и шторы! Дай-ка я откину занавеску, распахну створки — ах, дождь! Кап-кап, кап-кап. Вытяну руку, дотронусь до этой сетки струй, свисающих с неба, несущих земле свежесть. А по каменным ступеням с шумом стекают ручьи, с крыши по водосточным желобам ниспадают струи. Здравствуй, весенний дождь! Здравствуйте, персики, зеленеющие в весеннем дожде! Перед окном прижались друг к другу два персиковых дерева, раскрыв под дождем свою яркую прелесть и трогательную чистоту. Почему так задержались на них цветы? Ведь сезон их цветения уже миновал. Люди, сновавшие перед гостиницей, раскрыли зонтики — как хороши эти красные цветы на черном поле! Сменилась эпоха, зонты и те обрели красоту и изящество, а когда-то Ли Чжэньчжун ходил с увесистым оранжевым зонтом из промасленной ткани. Здравствуйте, зонтики! Под окном затарахтела машина, разок гуднула и, резко повернув, исчезла, только брызги из-под колес полетели. Здравствуй, машина, здравствуйте, брызги!
Напевая песни революции, от которых когда-то у него бурлила кровь, он застелил постель, оделся, прибрал в комнате, умылся. Вся эта повседневность не оставляла его равнодушным, а наполняла радостью. Сделал несколько приседаний, но появились неприятные ощущения в ногах и пояснице. Пришлось немного передохнуть, привалившись к кровати. Дождь принес прохладу, он достал вязаный жилет и, саркастически улыбнувшись собственной изнеженности, приказал организму: «Изволь-ка держаться, у меня пятилетний план! А уж через пять лет как тебе будет угодно! И нечего диктовать свои условия!»
Рассмеялся над этим «воззванием к организму». И так, улыбаясь, спустился по лестнице. Услышал молодые голоса, которые в этой гостинице раздавались не часто. Прибавил шагу и в отдалении увидел тех самых молодоженов, с которыми уже пару раз сталкивался.
Женщина (ее, кажется, звали Лицзюнь) накинула прозрачный дождевик. Сквозь него просвечивали полотняная кофточка и синие джинсы. Ботики телесного цвета с молниями не нарушали стиля. Мужчина был с черным зонтом и в сандалиях на босу ногу. В противоположность Ли Чжэньчжуну он в дождливый день оделся скупо — силоновая рубашка с короткими рукавами и шорты, — вероятно, чтобы не затруднять движений и меньше намокнуть. Они поздоровались. Руки были холодные и влажные. Ли Чжэньчжун обратил внимание на черные круги под глазами — видимо, ночью недоспали.
— Ну и где же вы остановились? — спросил он. — Вечером не искали меня?
— Мы-то? — подмигнула женщина своему спутнику. — Мы живем в гостинице «До блеска». — И расхохоталась.
— А, в нашей «Доблести»? — слегка удивился Ли Чжэньчжун. — В каком номере?
— Да не в «Доблести», а «До блеска» — в бане, — еще пуще залилась женщина.
— Где отмывают до блеска. Семьдесят фэней — полочка; другого и не надо. В разгар сезона и баня для жилья сгодится.
Ли Чжэньчжуну кровь бросилась в лицо. Не в таких местах надо жить молодым людям, побольше гостиниц нам требуется, столовых, квартир… Чем китайская молодежь хуже иностранной, разве не достойна она лучшей жизни?
Чтобы собеседники не заметили, он постарался тут же обуздать взметнувшиеся было чувства. И с жаром пригласил их позавтракать вместе с ним. Те радостно согласились.
Но, придя в ресторан, они достали из сумки десяток сваренных с пряностями «чайных яиц» и пяток рисовых цзунцзы в тростниковых листьях — утром купили на рынке, цзунцзы тут много, не то что на севере. От радушия Ли Чжэньчжуна не отказались, но ограничились парой стаканов черного чая.
— Как гуляется? — поинтересовался тот.
— Я вам так скажу, — ответила Лицзюнь, — эта поездка подняла мой идейный уровень.
— Как это? — удивился Ли Чжэньчжун.
— Оказывается, обычно мы довольствуемся забавами. Так уж живем, что о политике не думаем. Работа не пыльная, монету гребем и замыкаемся в своих семейках…
— Так ли? — запротестовал муж.
— Он волевой, не то что я, я говорю только о себе, — продолжала Лицзюнь, — но вот я увидела Янцзы, большой мост, увидела это огромное, на восемьсот ли, озеро Тайху, увидела пагоду Хуцюта и парк Чжочжэнюань и еще это Сиху… До чего же чудесную родину оставили нам предки! Ах, как прекрасен Китай! И как много требуется еще сделать… Всюду такая нищета, бедность… Бедность, бедность — на роду она, что ли, написана китайцам!
— Прекрасные реки и горы, трудолюбивый народ, огромное отставание и колоссальная ответственность. Вот что я вынес из поездки, — подытожил муж.
— Замечательно вы сказали! Да, вы подниметесь выше нашего поколения! — воодушевился Ли Чжэньчжун. — А на сегодня вы что планируете?
— Нам бы хотелось пригласить вас прогуляться в парк Сююань, — одновременно произнесли молодые люди.
— Что? Дождь ведь! — усомнился Ли Чжэньчжун.
— Под дождем только и гулять! Ах, «чудо — дождь, над горой — пелена»! Подумайте, часто ли нам выпадает возможность погулять невзирая на дождь? Прогулка под дождем — это такая редкость, интересно, не то что при ясном небе, а? — воскликнула Лицзюнь.
Раскрыв зонтик, Ли Чжэньчжун отправился вслед за ними.
Парк Сююань был официально открыт на третий день после его приезда. Раньше он входил в комплекс гостиницы «Доблесть», и лишь ее постояльцы имели право гулять по его дорожкам, а рядовой народ не пускали. Но и постояльцам доступна была лишь северо-западная часть парка, юго-восточная же, именуемая «Двориком уточек-неразлучниц», оставалась для них — даже самых высокопоставленных — запретной. Этот «Дворик уточек-неразлучниц» был оборудован по самому высокому разряду, и там останавливались руководители страны и главы иностранных государств. Так что Сююань, в особенности «Дворик уточек-неразлучниц», оставался местом таинственным и глухим. Говорят, когда в 1976 году сюда заезжали «вожди» из тогдашней «группы ЦК по культурной революции», из гостиницы всех вытряхнули, окружили ее постами со всех сторон, и если прохожий метров за двадцать вдруг замедлял шаг, его тут же подгоняли, начинал осматриваться — немедленно следовал окрик, ну а уж коли останавливался, чтобы полюбоваться парком, мгновенно забирали и подвергали дознанию… Когда Ли Чжэньчжун приехал сюда, люди, выплескивая наболевшее, шептались, что пора бы открыть и «Дворик уточек-неразлучниц». Удивляться тут нечему.
Первые несколько дней после открытия парка сюда было просто паломничество, всех переполняло возбуждение, любопытство; осмотрев же, некоторые разочаровывались — дескать, «и только-то?». Раньше ведь ходили легенды, будто здесь такое великолепие, всякие хитрые штуковины… Слухи оказались сильно преувеличенными!
Конечно, постояльцев гостиницы парк Сююань услаждал уже меньше. Раньше «кто попало» сюда не входил, гуляли избранные, и те, кто был допущен, могли неспешно фланировать среди изысканной тишины, вольготно наслаждаться, и еще изысканней, утонченней становились души этих особо чувствительных высокономенклатурных руководителей. А как только ворота распахнулись, сюда хлынули толпы, ворвался смех, ликованье, шумный гомон, была нарушена чинность и, как жаловалась Юй Вэйлинь, вывернуты камни узорчатого рисунка дорожек, растоптаны газоны, замусорен пруд, поломаны оконные рамы, раздается ругань, возникают драки, бывает, и гадят… Все так. Но Ли Чжэньчжун считал, что эти проблемы постепенно будут разрешены, надо только воспитать в людях чувство хозяина, а возврат к прошлому, закрытие парка принесут плоды еще худшие.
Дождь изменил тональность пейзажей. В нависающей с северо-запада пелене облаков прорисовывались, как на картине тушью, дальние горы, словно фон, специально «продуманный» для деревьев и парковых строений, слитый в единое целое с облаками, дождем, серой дымкой в воздухе, — неразделимые, они дополняли друг друга. Горы как бы утратили незыблемость и массивность, размягчились, округлились, заколыхались, как мираж. Раззадоренной весенним дождем поверхности пруда стало трудно сохранять невозмутимость, и она вся пошла пятнами да точками, кругами да линиями, полосами да бороздками, колыханиями да покачиваниями. И все: выгнутый каменный мосток, взмывающий вверх конек беседки, причудливых форм валуны, рассекающие поверхность озера Тайху, и эти буйные побеги на старых бамбуках, резные окна и галереи, — все было омыто, выбелено струями, все обретало в весеннем дожде живительную силу. И так трогательны были скатывающиеся жемчужинки воды — видимо, пришел час, когда в падающих каплях начинают выражаться весенние чувства самих валунов и бамбуков. Оказывается, струи дождя, колеблемые легким ветерком, — особый весенний язык земных существ.
И зонтики — всех видов и форм. Нет, одиночество — не для людей! И еще не решено, кому больше принадлежит весна: цветам, травам, деревьям — или людям. В одеждах еще оставалась какая-то нерешительность, стыдливость, точно люди робко искали подходящее. Но зонты выбирали с гораздо большей смелостью. Все эти оранжевые, розовые, лиловые и голубые мокрые зонтики в один миг распахивались под небом, собирались при входе на галерею или в беседку, отряхивались от жемчужинок воды, а затем вздымались, чтобы защитить от дождя: воистину пестрые бабочки, то раскидывающие крылышки, то прячущие их. Окутав горы и воды, дождь придал им какой-то выставочный вид. Дождем любовались, по дождю шлепали, о дожде говорили, с дождем играли, от дождя прятались — все обретало живой интерес. Вот уж трудно было представить себе, что прогулка в дождливый день окажется такой приятной! Спасибо этой молодой паре.
Какая-то девчушка самозабвенно шлепала по лужам, привлекая всеобщее внимание.
— Взгляните, сколько в ней радости, вот как гулять надо! — обратилась Лицзюнь к Ли Чжэньчжуну. В этот момент поднялся ветер, колыхнув завесу дождя, и струи обдали их троих, как раз заходивших в беседку, будто обласкав прохладой. — Не простыньте! — Лицзюнь потащила Ли Чжэньчжуна поглубже в беседку, и они невольно рассмеялись.
Та веселящаяся девчушка тоже поскакала к беседке и заскочила внутрь, вся точно мокрая курица, веселая мокрая курица, выжимая волосы и вытирая лицо.
— Холодно, ты же простудишься! — окликнула ее Лицзюнь. Ей как будто нравилось заговаривать с незнакомыми людьми.
— Нет, я люблю мокнуть под дождем, — ответила девочка с южным акцентом.
Рядом с ней, подумал Ли Чжэньчжун, Лицзюнь уже кажется взрослой, сдержанной горожанкой. Молодежь приносит в жизнь горячность и своеобразие. Отчего же Юй Вэйлинь не хочет этого видеть? Разве не порадовали бы ее эти веселые молодые туристы, открой она шире глаза? К чему уповать лишь на те дни, когда лунообразные ворота парка Сююань оставались на запоре? В сущности, ведь тогда и ее, Юй Вэйлинь, тут не было.
И он предложил молодой паре:
— Пошли, вон за тем поворотом я выведу вас в одно местечко, где мы хорошо посидим, ладно?
— Посидим? Чайная, что ли? Чашечка аррорута из лотосов озера Сиху?
— Не то. Тут пока живет одна старая дама, навестим ее, вытащим погулять. А порошок аррорутовый, я думаю, у нее найдется, — пояснил Ли Чжэньчжун.
Молодые люди не стали возражать. Миновали деревянный мосток, обогнули несколько искусственных горок, прошли вдоль узорчатой стены и оказались в бамбуковой рощице. Весь вид портил мусорный бак, полный прелых листьев, рыбьих голов, яичной скорлупы, раковин моллюсков и обрывков бумаги. Намоченное дождем, все это выглядело весьма непрезентабельно. Сюда выносила мусор Юй Вэйлинь. Несколько табличек «Посторонним вход воспрещен» искривились или вовсе слетели с толстых стволов бамбуков на землю. А за всем этим и виднелся тот самый пятикомнатный дом. Обветшавший довольно-таки. Но, несмотря на облезшую краску, еще можно было разобрать следы былых памятных надписей и стихов. Дом как бы тщился сохранить дух старинной интеллигентности. Теперь это просто жилище, а через какое-то время, согласно проектам Чжан Циня, тут будут продавать пирожные, мороженое, кока-колу да лимонад. Любопытное превращение.
Размышляя над этим, Ли Чжэньчжун постучался в ближнюю дверь.
Изнутри донесся неприветливый голос Юй Вэйлинь:
— Это не общественный парк, а частная квартира!
— Ну а я как раз и ищу частное лицо, — рассмеялся Ли Чжэньчжун.
— Кого именно?
— Да открывайте же скорей, сестра Юй, это я, старина Ли, с гостями.
Лишь после такого объяснения дверь со скрипом раскрылась.
Увидев за спиной Ли Чжэньчжуна его спутников, Юй Вэйлинь сначала опешила, но затем буркнула: «Очень рада» — и провела их в комнату для гостей.
— И представить себе не могла, что под таким ливнем вы появитесь в Сююане, да еще в сопровождении молодых людей. Чьи же это дети? — многозначительно спросила она, сделав ударение на «чьи».
— Э, ну да, мы тут вместе гуляли…
Юй Вэйлинь переключила внимание на молодую пару. Лицзюнь сняла плащ и сидела прямо, откинув волосы, с поднятой головой встретив ее изучающий взгляд. Улыбнулась было, но улыбка, не успев распространиться по лицу, натолкнулась на какое-то препятствие и застыла, а глаза испуганно расширились.
И Юй Вэйлинь начала с улыбки, которая затем тоже стала угасать. Вдруг Юй Вэйлинь воспламенилась. Повернулась к Ли Чжэньчжуну и шепотом спросила:
— Так… чья же это дочь?
Она понизила голос, хотя было ясно, что шепот достигнет ушей Лицзюнь.
Только тут уразумел Ли Чжэньчжун смысл этих «чьи», «чья». Юй Вэйлинь явно ошиблась, решив, что лишь потому Ли Чжэньчжун под дождем отправился на прогулку с этой парочкой, что то были не рядовые молодые люди. И разъяснил со снисходительной улыбкой:
— Ничья, мы случайно встретились, вот и все.
Он еще не успел закончить, как лицо Юй Вэйлинь одеревенело, и тоном следователя она обратилась к Лицзюнь:
— Не вы ли это вчера в шестнадцать пятнадцать на той скамейке…
— Да, мы, — прямо глядя в глаза Юй Вэйлинь, ответила Лицзюнь.
— Я… я… я не могу радоваться вашему появлению. — Юй Вэйлинь отвернулась, показав гостям спину, ее всю трясло.
Ли Чжэньчжун испуганно поднялся. А Лицзюнь невозмутимо взглянула на Юй Вэйлинь и мужа, улыбнулась им, а затем и Ли Чжэньчжуну. Взмахнула рукой, будто отгоняя мошку, перебросила плащ на другую руку, подхватила супруга и неторопливо направилась из комнаты.
Ли Чжэньчжун сделал было шаг вперед, но потом повернулся к Юй Вэйлинь.
— В чем дело, сестра Юй?
— Вот они-то и обозвали меня больной!
Лицзюнь была уже у двери и повернулась, услышав эти слова.
— Не надо говорить «они», только я одна. И теперь вижу, что не ошиблась.
— Лицзюнь! — одернул ее муж.
— Др свидания! — помахала та Ли Чжэньчжуну.
Юй Вэйлинь в изнеможении опустилась в плетеное кресло — прямо на шелковое набивное покрывало.
Ли Чжэньчжуну стало не по себе. Поначалу он держал в основном сторону молодых людей. Но последняя реплика Лицзюнь, в особенности это «не ошиблась», возмутила его, даже причинила боль. Что за развязность, бесцеремонность?! Юй Вэйлинь по возрасту годится ей в матери, разве можно так разговаривать с пожилой женщиной? И потом — отчего бы не принять во внимание, что это старый боевой друг Ли Чжэньчжуна?
— Извините, — с неподдельным сочувствием и безмерным сожалением сказал он Юй Вэйлинь. — Такого не ожидал. Ребята показались славными. Мы ведь только в поезде… — И он рассказал, как познакомился с молодой парой, и еще раз выразил сожаление.
Юй Вэйлинь слушала и отпускала комментарии:
— Ну что ж на вас-то обижаться? Вы ведь не нарочно. Терпеть не могу эту молодежь! Я вам неровня, но мы товарищи, и я скажу откровенно: боюсь, вы слишком долго работали в центральных учреждениях и несколько отдалились от практической жизни! Сейчас всякий народ попадается, будьте внимательны. Зачем это они сразу помчались в гостиницу «Доблесть» разыскивать вас? Там ведь живут руководящие товарищи! Что? А вы хоть имена их знаете? Как? Лицзюнь? До чего противное имя! Прошу вас, подумайте, не стоит ли обратиться в соответствующие инстанции…
Ли Чжэньчжун был в смятении. К нему возвращалось то болезненное состояние, когда он слышал лишь звуки, не воспринимая смысла. То ли дрема наваливается, то ли голова слегка кружится. Голос Юй Вэйлинь гремел в ушах. Он хотел сделать шаг навстречу этому суетному, резкому, прерывающемуся голосу, а мир вокруг него то погружался во тьму, то высветлялся, расплывался и вновь возникал. Янцзы стремится на восток, пролет за пролетом моста, грохот, вспышки, утренний ветерок, ущербная луна, зеленая сосна, изумрудные бамбуки, птица Пэн раскинула гигантские крылья… Объятия молодых людей… Я кого-то убил, ранил, захватил американские винтовки… Тело Ли Чжэньчжуна обмякло, и он соскользнул со стула, на котором сидел. Юй Вэйлинь испуганно вскрикнула.
X
Ли Чжэньчжуна отвезли б ближайший госпиталь ВВС. В санитарной машине он очнулся, увидел врача, медсестру, Чжан Циня и Юй Вэйлинь. Выразил им свою благодарность, ничего, кроме усталости, не чувствуя, никакой болезни. Но в госпитале принялись его тщательно, дотошно исследовать и докрутили до того, что он несколько раз терял сознание. Просветили, сделали кардиограмму, энцефалограмму, ультразвуком прощупали печень, и кровь из уха взяли, и маленьким молоточком простукали берцовую кость, отнесли мочу и кал на анализ. Он весь изошел потом, пока набрал достаточное количество. Не обнаружив никакой болезни, врач стал вглядываться в зрачки, осветив их ручным фонариком.
— С нервами у меня все в порядке, — заявил Ли Чжэньчжун. Закашлялся, и тогда врач выложил диагноз — «инфицированы верхние дыхательные пути». Чжан Цинь и Юй Вэйлинь остались врачом весьма недовольны, но Ли Чжэньчжун и сам понял, что никаких изменений в организме не произошло, и предложил прекратить исследования, но врач настоял на госпитализации.
Ли Чжэньчжун провел на койке две с лишним недели. Врачи считали, что нельзя выписывать, пока не установят причину обмороков. Местное начальство, навещавшее его, тоже полагало, что тут таится какая-то опасность, рекомендовало больше не разгуливать одному, советуя брать сопровождающего. Трижды звонило руководство его собственного учреждения. Но сам он считал, что проблемы никакой не существует, и настаивал на выписке. Ясно, что это сигнал, видимо, в тот день он поступил несколько опрометчиво, взобравшись на пагоду Шести гармоний. И в то же время Ли Чжэньчжун раздумывал: а может, по этой-то причине решение подняться на пагоду было верным? Надо ловить момент, время не возвращается, кто знает, не поднимись тогда — не поднялся бы никогда?
Вернувшись в гостиницу, узнал, что Юй Вэйлинь выехала из парка Сююань. Они встретились еще раз. Настроение ее сильно поднялось. Она пригласила Ли Чжэньчжуна в свое новое жилище отведать лущеных чилимсов.
Кто убедил ее, он так и не выяснил. И конечно, она ни словом не обмолвилась об инциденте с Лицзюнь. Ли Чжэньчжун знал, что молодая пара уже уехала, вернулась на свой завод. Интересно, поможет ли им в работе и учебе горячая любовь к прекрасным просторам родины, осознание своей ответственности перед ними? Упорней ли станет их каждодневная борьба за минуты и секунды? Или ничто не сдвинулось — и они по-прежнему относятся к работе с прохладцей, лишь вышибая монету?
«Все минуло. Тех, кто оставит след в эпохе, узришь ты днесь!» — предвечная истина в этих поэтических строках председателя Мао! Чем старше он становился годами и слабее телом, тем больше оглядывался на ушедшие времена, но и тем больше его тянуло сблизиться с молодежью, понять ее. Однако это нелегко, и не только тем, кто, как Юй Вэйлинь, не желает сближаться, но и ему самому, уже лишенному возможности жить одной жизнью с молодежью. Они путешествуют, останавливаясь в банных номерах по семьдесят фэней за ночь (и это, говорят, еще «по высшему разряду», многие молодые люди проводят свои туристические ночи в нишах паровозных депо или просто под открытым небом). Позволит ли ему здоровье провести ночь в бане на полке?
А ведь лето уже, раскинулись листья лотосов, ивовые пряди слетают в воду, еще прелестнее стали озеро и горы окрест. Потеплело, и Ли Чжэньчжун решил перебраться в Далянь. Один его старый боевой друг, работающий на тамошней базе ВМС, настойчиво слал письма с приглашением. Или съездить в Куньмин? И там есть у него хороший знакомый, тоже зовет. Перед лицом непрестанно обновляющейся природы, к которой всегда возвращается весна, и новыми поколениями молодежи, обретающей достаток, заговорившей собственным голосом, Ли Чжэньчжуна не напугали застарелые недуги. Но его все еще настораживала мысль, каким станет Китай через двадцать, тридцать, пятьдесят лет. Каким станет мир? Какую одежду придумают, какие песни, какие прически будут у молодежи тех лет? Уже и Ханчжоу застроили небоскребами из стали и стекла… Так сохранят ли для потомков свою притягательную силу старинное предание о Бай Нянцзы и история Юэ Фэя? Долго ли пребудет над Сиху этот дух древнего покоя? Как станет дальше развиваться наша страна, наша жизнь, какие ждут нас перемены? И что в этом стремительно развивающемся мире сохранит свое непреходящее значение?
Ему так хотелось знать это! Так хотелось знать!
Перевод С. Торопцева.
ЧЖАН КАНКАН
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ
I
Они были когда-то чистыми, как жемчужины, эти капельки, но потом утратили свою чистоту и, чтобы вернуть ее, поднялись на небо. И там, в его холодной вышине, снова стали кристально чистыми и, легко кружась, опускались на землю, неся в мир что-то новое и удивительное. Беззаботные, будто ангелы, вольные, свободные, они ложились на плоскую крышу четырнадцатиэтажного телецентра, привлекавшего к себе внимание всего города; укутывали большую клумбу перед главным корпусом института, маковку заброшенной православной церкви, голые тополя вдоль шоссе, величественную громаду Дворца Севера и рядом с ним приземистые, насквозь продуваемые бараки… Они весело, радостно и самозабвенно кружились в буйном танце, подчиняясь какому-то своему, особому ритму, и казалось, над городом плывет нежная, едва слышная мелодия… Даже ледяной северный ветер вдруг словно бы потеплел и принялся мастерить из снежинок новое убранство для студеного города льдов и снегов.
Лу Циньцинь распахнула тяжелую дверь и вскрикнула от восторга, увидев пляшущие снежинки. В этом городе за долгую зиму снег бывал частым гостем, но она каждый раз по-детски радовалась ему.
Хлопали двери: учащиеся, плотно зажав под мышками папки, расходились после занятий. Никто не окликнул Циньцинь, никто с ней не попрощался. Все спешили, девушки торопливо застегивали теплые пальто, завязывали шарфы; парни опускали уши своих ушанок, лихо сбивая их на затылок; скрипели по снегу кожаные сапожки. На багажниках велосипедов кто вез мешок с мукой, узкий и длинный, кто — скрипку; на руле — коробку с пареным рисом на завтрак. Однажды Циньцинь видела, как кто-то вез на багажнике своего маленького сынишку. Просто не верится, что это университет. Какой-то парень в залоснившейся шапке бежит впереди, наверняка грузчик из продмага, торопится, чтобы не опоздать. По воскресеньям многие работают и, на занятиях народу совсем мало. А у Циньцинь на заводе в воскресенье выходной. Вечерний университет не похож на обычный: никто там друг с другом — ни слова, будто и незнакомы, хотя уже несколько месяцев вместе ходят на занятия, у каждого куча дел, вот и разбегаются. А может быть, студенты теперь вообще другими стали, или это только в вечернем университете? Но в обычный университет никогда не попасть… Кружись теперь, как снежинка над землей.
— Циньцинь, ты еще не ушла? — послышался за спиной тоненький голосок.
Циньцинь сняла варежку, смахнула с ресниц снежинки. Ее окликнула толстушка, ровесница, с которой они сидели за одним столом. У толстушки было странное имя — Суна, Циньцинь прочла его на обложке ее тетради. Суна словно знала, что пойдет снег: под желтое пальто с капюшоном надела красный пушистый свитер.
— В снежном краю надо быть начеку, — хохотнула толстушка и, наклонившись к уху, прошептала: — Сегодня воскресенье, пошли на танцы.
Циньцинь мотнула головой.
— Вчера, лунной ночью… — запела Суна и ушла. За воротами мелькнула тень: ее кто-то ждал.
Циньцинь слегка потопала стынущими ногами и подставила лицо снегу. Не пошла на танцы, а почему, кто запретил ей? Что плохого в танцах? Ласковая мелодия успокаивает, под нее отдыхаешь, а потом закружишься, и грусть как рукой снимет. Она любит танцы, но… это же воскресенье, проклятое воскресенье, когда с обеда и до вечера не принадлежишь себе. Ну зачем она стоит здесь, под снегом? Сейчас он прибежит, пыхтя и отдуваясь, будет ее искать… Лучше самой пойти к нему и вовремя поспеть, все равно долго так продолжаться не может, через два месяца, когда наступит праздник Весны восемьдесят первого года, ей придется переселиться к нему насовсем.
«Насовсем?» — Циньцинь стало страшно. Через два месяца? Так скоро? И насовсем? Свершится непременное для каждого человека «историческое событие»: свадьба. Да-да, весь смысл свадьбы в том, чтобы раз и навсегда, а если не навсегда, зачем тогда свадьба? Она уже расписалась на официальном бланке — иначе не зарегистрируют в очереди на предметы домашнего обихода. На таком условии он согласился, чтобы она продолжала посещать занятия: подпись в «обмен» на университет.
Циньцинь невольно ускорила шаг. Ее подгоняли невеселые мысли, что-то смутное, на что она не находила ответа. Что с ней творится? Стоит вспомнить о свадьбе — и небо становится тяжелым, серо-свинцовым, снег — тусклым, а музыка в транзисторе — щемяще-печальной. Но ведь не могила же ее ждет, а новая, веселенькая квартирка. «Неужели я чокнутая, как теперь модно выражаться. Да и какая девушка в двадцать пять лет не хочет замуж? Сказать — никто не поверит».
Погруженная в свои мысли, она едва не упала. Снег мягкий, пушистый, но под ним лед. Зимой город превращается в гигантский каток. В детстве Циньцинь любила ходить на каток, любила с разбега проехаться по льду, но последние два года редко удавалось покататься: то на работу, то на курсы японского языка в университет, то ухажер — как положено, «треп про любовь», а по правде говоря, просто время вместе убивали.
Трамвай подкатил мягко, рельсы отчетливо темнели на снегу. Циньцинь влетела в вагон, стряхнула с себя снег, ей стало жаль снежинок. Они падали на землю такие чистые, такие белые, что весь город от них стал похож на хрустальный дворец. Всю ночь завывал ветер, на снегу появились следы от ног, снежинки почернели, смерзлись в бесформенные комья, стали неразличимы, и теперь надо было ждать свежего снега, чтобы город снова засверкал зимней красой.
Трамвай звякнул, остановился у кинотеатра. Люди посыпались из вагона, словно горох. Циньцинь стала разглядывать выкрашенный голубой краской деревянный павильон. И палисадник, обнесенный изгородью, летом был очень красив, а сейчас толстый снежный полог все укрыл: и осыпавшиеся ноготки, и ромашки, и маттиолу, и широкую крашеную железную крышу, и высокое крыльцо, и каменные скамьи под вишнями. Снег был чистый, всю зиму сюда никто не забредал, и пустой дворик казался таинственным, как в сказках, которые Циньцинь читала в детстве. Лет десять тому назад Циньцинь непременно принялась бы сочинять трогательную сказку о старом камине, в котором трещат дрова, о санях, запряженных одиннадцатью лошадьми, в которых ездит сама Снежная королева. Вот подлетают к дверям сани, и сходит с них красавица королева, а в корзинке у нее свежие цветы — в декабре…
— Что там так воняет в корзине? — раздается хриплый голос. От того, кто спрашивает, сильно тянет чесночным духом.
— А тебе что за дело? Сам весь провонял!
Начинается перебранка, кто-то наступает Циньцинь на ногу тяжелым сапогом, и она вздрагивает от боли.
— Жрешь гнилую рыбу и тухлые креветки!
— А тебе завидно? Во сне видишь гнилую рыбу и тухлые креветки!
Вот тебе и старинный камин, и королевские сани, и корзина с цветами, и рождественская елка. Куда все подевалось? Трамвай набит пассажирами, как консервная банка сардинами, спертый воздух, ругань и давка. На остановке половина пассажиров вываливается: магазин Чурина. Воскресенье — нужны сани с серебряными колокольцами, которые подкатили бы прямо к подъезду универсального магазина… Оттуда выходят нарядно одетые парочки с узлами и пакетами — покупки к собственной свадьбе или свадебные подарки друзьям. Полумертвые от усталости, стиснутые в длинной очереди, они орут: «Мне! Сюда давай!» Конечно, им нужно все самое новое и самое модное. Не задумываясь, они бросают двухмесячную зарплату — да и чему удивляться? Это вполне естественно. Сколько лет люди сидели взаперти, словно в клетке! Старый камин давно развалился; центральное отопление может обогреть самый высокий дом, горячая вода идет по трубам на любой этаж, и по случаю свадьбы нет нужды в декабре идти в лес за свежими цветами. Вот из магазина вышла молодая женщина с нейлоновыми цветами — наверняка будут «цвести» в доме, пока ее дети не вырастут и не начнут сами «трепаться про любовь».
Вагон опустел. Сквозь окно без стекла Циньцинь видит широкую, большую улицу, по обеим сторонам которой ярко горят красным светом крупные иероглифы «радость». Люди потоком входят и выходят: хлопочут — и радуются, радуются — и опять хлопочут. Рядом с подъездом, над которым самый большой иероглиф, останавливается грузовик, и парни и девушки принимаются загружать его узорчатыми тюками. «Это люди с торгово-финансового фронта», — думает Циньцинь. В кабине грузовика сидит нарядно одетая девушка, на ней жемчужное ожерелье, серьги и кольца. Вид у нее равнодушный, словно ей безразлично, куда ее повезут и какая судьба ее ждет.
Циньцинь хмыкнула про себя. Свадьба, не иначе как свадьба! Сегодня, наверное, благоприятный день. Может, и лунный, и солнечный календари сулят счастье в браке именно сегодня? Люди мечтают о счастье, а те, кто развелся, говорят, что день свадьбы у них случайно пришелся на нечетное число по лунному календарю. Пройдет два месяца, и на собственной свадьбе Циньцинь послушно сядет на кровать и, по обычаю этого города, позволит ему надеть ей туфельки и завязать шнурки, после чего они сядут в такси. В прежние времена туфельки были расшитыми, с цветами, а теперь — обыкновенные, кожаные; раньше невеста садилась в узорчатый, крытый шелком паланкин, а теперь — в такси; материальное благосостояние с каждым днем улучшается, ну а душа человека, меняется ли она?
Как только такси двинется с места, невесте положено громко заплакать, иначе назовут неблагодарной. И тогда от свекрови доброго отношения не жди. Сороковые ли годы или восьмидесятые — не важно, обычай есть обычай. Циньцинь не раз бывала на свадьбах своих подруг по заводу — все громко плакали, жалобно голосили, только вряд ли они искренне горевали. И потом, зачем плакать, если они собираются жить счастливо? Правда, свадьба — это конец свободной жизни, к тому же брак налагает на человека серьезную ответственность. Вся радость — в узорчатом паланкине, в котором тебя принесут в дом мужа, и радость эта исчезнет вместе с паланкином. Глядя на плачущих подруг, Циньцинь искренне страдала, уж наверняка сильнее, чем сама невеста. Она представила себе день собственной свадьбы, когда сама она должна будет плакать, и боялась, что добром это не кончится…
Допустим, она будет плакать всю дорогу, но, как только начнется свадебная церемония, надо будет быстро вытереть слезы, изобразить на лице небывалое счастье и со смущенным видом подносить гостям зажигалку… Циньцинь бывала на свадьбах много раз, и все они были похожи одна на другую. Разница заключалась лишь в том, что одних молодых она знала лучше, а других хуже, а прочее — одежда, поздравления, убранство в доме — все было одинаково. Если прийти туда через год, уже будет ребенок, в коридоре будут висеть пеленки, а молодая мать в шелковом ватном халате с залоснившимися рукавами примется радостно щебетать про своего драгоценного малыша: какой у него нынче цвет стула, что он пролепетал. В таких случаях надо сказать что-то приятное и бежать без оглядки. И так «навеки»? Стоило Циньцинь закрыть глаза — и перед ней с поразительной ясностью вставала картина семейного счастья, до которого оставалось два месяца. Да, он будет образцовым мужем, на зависть подружкам. Он сможет обеспечить ее. Закажет ей сапоги из телячьей кожи, из одного чуринского магазина побежит в другой, побывает даже в центральных магазинах… Нет, хватит! Раз он такой, она нарочно в день свадьбы наденет туфельки без шнурков. Она сама спрыгнет с кровати и быстро сунет ноги в туфли; интересно, что он тогда будет делать?
— Постойте, я сойду, — громко крикнула она. Кондуктор что-то недовольно пробурчал, двери открылись, и она выпрыгнула из вагона. На остановке было очень скользко, она едва не упала, но ее поддержали крепкие руки.
— Это ты… — Она обернулась. Он стоял перед ней — меховая шапка и плечи были засыпаны снегом — и ласково глядел на нее большими круглыми глазами. Она знала, что он будет ее ждать на этой остановке, но чуть было не проехала мимо.
— Почему так поздно? — спросил он, все еще поддерживая ее.
— Снег… трамвай, — стала она оправдываться.
— Мать тебя ждет, пельменей накрутила, в начинку положила сельдерея.
— Сельдерея? Откуда в такое время сельдерей?
— Тепличный, его не так просто купить, да и стоит немало, восемь мао[59] за цзинь.
— Ну и ну!
— Ко мне приятели пришли, на тебя поглядеть…
— Поглядеть?..
— Люди полезные. Кстати, сегодня купил торшер. Теперь все в ажуре.
Это означало, что надо лишь дождаться счастливого дня, накрыть стол, заказать такси…
— Ты не рада? — растерянно спросил он.
Да и отчего бы не радоваться? Все так делают. Значит, так надо. К тому же его отец — заведующий управлением снабжения и сбыта, а ее — всего лишь начальник отдела пропаганды, так что его отец рангом повыше; у него одна младшая сестра, а у нее — два младших брата; по зарплате он плотник третьего разряда, а она — сборщица второго, так что ей с ним не тягаться; школу он окончил в шестьдесят девятом, а она только в семьдесят третьем; Циньцинь была хороша собой, по красоте ей можно было дать девяносто очков из ста, а Фу Юньсян (так звали жениха) был рослым и плотным, внушительного вида мужчиной, хотя и несколько грубоватым. У него были большие уши, правильной формы нос… В общем, он всем очень нравился. Так почему же не радоваться? Квартира давно приготовлена: в его комнате стоит новенький, девятнадцать цуней по диагонали, отечественный, черно-белый телевизор. Мама часто говорит: «Не прыгай с одной горы на другую только потому, что другая выше: так недолго и забыть, какую фамилию носишь». У мамы всегда при себе карманный безмен в расшитом футлярчике — покупая продукты, сама их взвешивает, чтобы не обманули. Ее не проведешь. Зятя тоже подобрала безошибочно.
— Ну и снег, сколько снегу… — печально говорит Циньцинь, ускоряя шаг.
Впереди, в снежной круговерти, светился белыми и желтыми огнями двухэтажный дом Фу Юньсяна. На втором этаже — узкие, высокие окна; крыша остроконечная, треугольная; наверху — небольшая мансарда; крыльцо украшено резьбой по дереву… Сквозь метель Циньцинь видит сказочные, прекрасные образы детства, но вот она ступила на крыльцо, услышала донесшийся изнутри нестройный шум хмельных голосов, стук костяшек мацзяна, и прекрасные видения мгновенно растаяли.
II
— Девять палок!
— Десять палок!
— Моя!
— Эх, сглупил, мать твою, не ту выложил, дурак, назад возьму!
— Отвались от кости, ублюдок! Что положил, то к столу прилипло. Припечатано, не тронь!
— Ходи-и! А-а-а!
Ей стало тошно. Противно было смотреть на лихорадочно мелькавшие над столом руки, на выложенные стенкой костяшки, на груды отброшенных костяшек — все наводило тоску. Эта игра не вызывала у нее ни симпатии, ни даже интереса — она и костей не различала, и Фу Юньсян не раз посмеивался над ней, но она не обращала на это никакого внимания. Может, ей сейчас лучше помочь его матери делать пельмени — во всяком случае, это куда приятнее, чем сидеть здесь за столом и смотреть, как играют в мацзян…
— Сестра Цинь! — вдруг крикнула одна из девушек и, расхохотавшись, бросилась к Цинь. Это была Ямочка, миловидная хохотушка лет двадцати. Она все время смеялась, без всякой причины, при этом на ее пухлых щечках играли ямочки. Все знали, что она с особым уважением относится к Циньцинь за то, что у той ресницы были на полтора миллиметра длиннее.
— Какая ты, в университет ходишь, а нас совсем забыла, — лопотала Ямочка, повиснув у Циньцинь на шее.
— Да разве это университет, вечерний… — усмехнулась Циньцинь.
— Плохой ли, хороший ли — не важно, главное, диплом, с ним удобнее и в техотдел пробиться, — с важностью заявил Фу Юньсян. Он одобрял учебу в университете, хотя понимал, что дело это нелегкое. — Иди сюда, Циньцинь, я тебе представлю моих новых друзей. Вот молодой Чжао, он из НИИ легкой промышленности, мы прозвали его Блохой, его папаша — начальник городского управления по трудоустройству.
У Чжао было бледное холеное лицо, глаза рассеянно бегали.
— А это агент по сбыту с мясокомбината.
— Меня зовут Гань, — сказал агент, почтительно приподнявшись с места, и как-то фальшиво рассмеялся. Лицо у него было в прыщах и угрях. Циньцинь кивнула им и села в мягкое кресло у стены. На магнитофоне крутилась давно знакомая ей пленка, но слов песни она ни разу не могла разобрать. Она вспомнила, что соседка у нее за стеной тоже купила себе магнитофон, записала иностранные песенки и прокручивает их гостям. Как услышишь знакомый мотив, сразу знаешь: у соседки гости. Но такая музыка почему-то не нравилась Циньцинь.
— Циньцинь!
Девушка обернулась.
— Тюлень, ты тоже пришел?
Это был рабочий с ее завода, он отпустил себе длинные волосы. Парень дружил с Фу Юньсяном, а прозвали его Тюленем потому, что ловко жонглировал мячом, поддавая его головой и носом, и любил демонстрировать свое мастерство.
Они снова принялись играть в мацзян; уйти было неловко, и Циньцинь от нечего делать осматривала комнату, в которой ей предстояло жить. Ничего не скажешь, все прекрасно устроено: в углу стоял книжный шкаф, который она просила Фу Юньсяна купить, и не пустой, а с книгами. Циньцинь с интересом рассматривала толстый том «Избранных сочинений» Маркса и Ленина, который соседствовал с «Блюдами китайской и западной кухни»; ниже лежали «Убийство в Восточном экспрессе» и «Тайна древнегреческой гробницы», а еще ниже — «Практический справочник по медицине» и «Модные выкройки»…
Циньцинь едва удержалась, чтобы не прыснуть. Этот шкаф с книгами навел ее на мысль о том, что в нем такая же неразбериха, как в голове Фу Юньсяна и его приятелей, и, что туда ни положи, ничего не поможет. Что ж, живем в век синтетики, да разве сама она не выучилась недавно добавлять в красный чай сливки?..
— В следующий раз возьму реванш, — вдруг сказал Гань и, смеясь своим странным смехом, со стуком смешал кости.
Фу Юньсян выключил магнитофон и включил телевизор: показывали какой-то балет.
— Погляди, как скачет. Красавица!
Ямочка повернулась и уставилась на экран, причмокивая губами.
— Представляю, сколько у этой девочки поклонников!
— Да ей за сорок! — перебил Блоха. — Это же знаменитая артистка!
— А что толку, что знаменитая? Славой сыт не будешь, — сказал Фу Юньсян.
— А то, что ей денежки платят не только за выступление, но и за репетицию! И жалованье у нее огромное, чтобы лучше старалась. — Гань вытащил сверкающую зажигалку.
— Послушай, Блоха, помоги достать подешевле двухдорожечный японский маг «Санъё». Очень надо, — заискивающе проговорила Ямочка.
— «Санъё» уже вышел из моды. За границей теперь самая лучшая марка «Панасоник», с компьютером и двумя дорожками. Красота! — Блоха вильнул своим широким задом. — А купить маг мне ничего не стоит. Положись на меня. Я вот купил мотоцикл — его везут из Гуанчжоу, через три дня доставят. Была бы валюта, а купить все можно.
Ямочка ахала, таращила глаза и восхищалась Блохой.
— Какие сейчас в моде сигареты? Из импортных — «Мальборо»?
— Я предпочитаю «Сильвер стар».
— Говорят, в Пекине теперь вместо пива подают «гэвасы».
— Подумаешь! Скажи Ганю, он тебе целый ящик достанет.
— Какие звучные иностранные слова! Виски, коньяк, квас. Даже жарко становится. Говорят, американское яблоко стукнешь, а оно все равно три дня не чернеет.
— Циньцинь, ты принесла то, что обещала? — вдруг спросил Фу Юньсян и потянулся к пачке сигарет, брошенной на стел Ганем.
— Принесла.
Циньцинь пошла к вешалке, порылась в кармане пальто. Речь шла о валютных чеках, которые выпросила у знакомых ее мать. Но в кармане ничего не было.
— Кошелек потеряла? — встревожился Фу Юньсян.
Она растерянно кивнула, тут же сообразив, куда делся кошелек…
— Жулье, карманники!.. Знают, у кого красть. Сразу увидели, что дура! Ну что стоишь как вкопанная? — Он злился, кричал, метался по комнате. — Там еще были деньги?
— Юань с мелочью и продталоны, — неохотно ответила девушка.
Он облегченно вздохнул и пошел к телевизору поправить антенну.
— Хм, карманники!.. — лениво проговорил Гань. — Сволочь подлая, мать их! Безработные! Что им прикажете делать, работы-то нет. А ведь они не родились воришками. Годами ждут работы, сколько же можно объедать родителей. Теперь при виде денег сатанеют… У нас на оптовой базе есть лоточники, всей семьей торгуют, как увидят грош, глаза кровью наливаются, весь день бегают, разносят кровяную колбасу да ребрышки, а заработок на всех меньше сотни…
— Да еще тебе дать надо, чтобы отпустил дефицитной свиной печенки. Верно? — язвительно сказала Ямочка.
— А сама не такая? Замуж хочешь только за гонконгца. Девчонки из театра, которые служанок играют, уехали с гонконгским антрепренером, хотя ни слова не знали по-гонконгски и разговаривать с ним не могли. А почему? На денежки польстились! Так что нечего ломаться и строить из себя невесть что! — Гань сдул с сигареты бело-серый пепел.
Ямочка покраснела от обиды и обратилась за поддержкой к Циньцинь.
— Ну и что, если ради денег? Кому я мешаю? Главное — не делать людям зла. Правда, Циньцинь?
Циньцинь рассеянно кивала, она думала о своем и не прислушивалась к разговору.
— Не приставай к ней, — вмешался Фу Юньсян. — Она одна знает своего бога. Ее библию никому не понять, сколько лет твердит, что помогать людям — счастье. Давай лучше я тебе отвечу, я в этом деле разобрался. У меня свой жизненный принцип: клади сахар в рот себе, а не чужому дяде. Человек по натуре своей эгоист. По натуре, поняла? А с натурой ничего не поделаешь…
— Это уж точно, — поддакнул Гань, не в силах унять нервную дрожь в ноге. — Думаешь, на свете есть бескорыстные люди? Брехня, хорошо, если не все себе гребут, сочетают личное с общественным…
— По-твоему, герои, которых загубила «банда четырех», такие, как Чжан Чжисинь, тоже эгоисты? — не выдержала Циньцинь. Она взяла со стола конфету, но не стала есть, и то развертывала ее, то снова завертывала.
— Я тоже ненавижу «банду четырех», — сказал Фу Юньсян, включив телевизор и усаживаясь на софе. — Если б не великая культурная революция, я давно поступил бы в университет. Повезло бы в учебе, глядишь, поехал бы за границу. А теперь забыл все начисто, даже на вечерний не сдал, чего с меня спрашивать? Не вор и не бродяга — и то хорошо.
— Говорят, в будущем году на образование ассигновано много денег, — вступил в разговор Тюлень. — Пока это только слухи.
— Нас не коснется, — отмахнулся Фу Юньсян. — Вот наш Гань. Отправили его в деревню, женился там на простой бабе, наплодил кучу ребятишек, а получает сорок юаней. Как ему жить без приработка? А не выслали б его — давно стал бы монтером четвертого разряда. Или наша Ямочка — она не знает даже, что такое Европа и где она находится. Ее письмо невозможно прочесть, зато хрустящие купюры она обожает!
— Фу! — обиделась Ямочка.
— А наш Блоха? Когда у него отца в хлеву заперли, сестра спятила и утопилась в Сунгари…
— Все это я знаю, — сказала Циньцинь. — Да, если бы не десятилетие бедствий, разве докатились бы молодые люди до такого? Родились в засуху, выросли — наводнение! Доброту и честность попирали на глазах, а подлость человеческая цвела чертополохом. Повзрослели — а остались темными. Выжили — а нервы шалят. Да, столько горя и бед выпало на долю этого поколения, но…
— Давайте поговорим о Блохе, — хлопнул Блоху по плечу Фу Юньсян.
— Надоело, бросьте, — вскочил Блоха. — Лучше не надо. Стоит только нам собраться, выпить — и пошло. Десять лет то да се, с души воротит. Озноб и головная боль от этих десяти лет. Если вам хочется — болтайте, а меня не троньте. Мне плевать: четыре какие-то модернизации, накопление ядерного оружия — семь земных шаров уже взорвать можно, ударишь раз — и все на воздух взлетит. Чем больше модернизаций, тем хуже. Я каждый день хожу в контору: ты — мне, я — тебе, махнемся без убытку. Ой, надоело! Зачем живем? Лишь бы жить? Да я бы завтра ушел на пенсию!
— Что ты говоришь? — ахнула Циньцинь. — С какой стати на пенсию?
— Удивляешься? Пенсия — последний ход в человеческой жизни. Что дальше? На работу, с работы, квартира, мебель, женитьба, планирование семьи и, наконец, пенсия. Боюсь, что, пока я до пенсии доживу, Сунгари так загрязнят, что единой рыбешки из нее не выудишь. Люблю рыбку ловить! Выйду на пенсию, куплю мотоцикл и поеду на озеро Цзинбоху ловить рыбу…
— Недурно, — рассмеялся Фу Юньсян. — Неплохо придумал, возьмешь и меня с собой!
Гань смеялся и щурился. Ямочка хихикала, и даже Тюлень захохотал, разинув рот.
Циньцинь дернула себя за ухо: ее раздражал их смех. Они просто так болтали или же в самом деле им было интересно? В этом доме всегда хохотали, непонятно почему. Пили пиво, закусывали жареным цыпленком и, повторяя фразы из юмористических передач, шутили. А то вдруг разражались хохотом, хотя было совсем не смешно. Особенно любили смаковать сальности. А если поговорить всерьез? Никто не поймет, да и кому интересно?..
— Ты что, не веришь мне? — удивленно подмигивал ей Блоха, прикидываясь простачком. — Ты не согласна? А что еще, по-твоему, есть в жизни?
— Нет, ты скажи: чего ждешь от жизни? — Фу Юньсян поднес ей чашку горячего кофе.
Она не знала, что ответить, и смотрела на пар, который шел из чашки. В самом деле, о какой жизни она мечтает? Прежде она об этом не задумывалась. Будущее представлялось смутным, оно ускользало, как сигаретный дым. Но и раньше, в деревне, и потом, на заводе, когда пролетали годы и один день походил на другой — монотонные, будничные, безрадостные, — она считала, что все это временно: как переправа, как мост, как паром, на котором плывешь к другому берегу. В спокойных водах ее будней иногда мелькал луч надежды, долгое ожидание томило, но вдруг прерывалось мгновенной нечаянной радостью. Жизнь непременно изменится, не придется больше корчевать мотыгой сорняки, делая одни и те же механические движения, не придется втискиваться в автобус в темноте, ранним утром и поздним вечером, с корзинкой в руках выстаивать очереди на рынке… А что будет? Танцы под гитару летом на набережной, ленивое перелистывание иллюстрированных иностранных журналов в просторной квартире? Нет, не такой жизни она хотела, ее желания этим не ограничивались… Так что же тогда? Она молчала — то ли не знала, чего именно ей хочется, то ли не умела высказаться, но она чувствовала, что ей не нужно ни горячего кофе, ни всех этих людей. Она просто устала.
— Не так, не так, не так, как сейчас. — Она вдруг встала и взволнованно заговорила: — Пусть будет все не так!
Она залпом выпила кофе и пошла одеваться.
— Ты куда собралась? — удивился Фу Юньсян.
— Забыла, я забыла блокнот с конспектами, в аудитории забыла, — бормотала она. — Только сейчас вспомнила. Там сейчас школьники занимаются, им сдают помещение; если опоздаю, его могут унести. Я возьму и вернусь… Сразу же…
— Подумаешь, блокнот… — Он недовольно передернул плечами, но, взглянув на нее, сказал мягче: — Ехать так ехать, я тебя провожу, метель…
— Не надо, у тебя же гости. — Она обмотала шею шарфом и выбежала.
— Скорей возвращайся! — крикнула вслед ей Ямочка. — А то моему братцу пельмени в горло не полезут…
На улице было холодно, но чистый, свежий воздух бодрил. Искрящийся снег, укрывший все вокруг, вселял уверенность в будущем. После душной комнаты мысли у Циньцинь прояснились. Блокнот она и вправду забыла в аудитории, и надо было срочно за ним ехать, так что это не был просто предлог. В деревне, куда ее выслали, она провела три года, но, вернувшись в город, по-прежнему не умела лгать, хотя ей было тошно от бессмысленной болтовни в компании Фу Юньсяна и куда приятнее брести по чистому снегу, не останавливаясь, не оглядываясь…
Снег ложился бесшумно, заполняя пространство, разлетаясь под порывами ветра. Иногда снежинки серебристыми звездочками проплывали перед нею и вдруг исчезали — может быть, им не хотелось именно здесь лечь на землю и растаять? И они отчаянно противились судьбе, стремясь куда-то… Циньцинь казалось, что она летит вместе со снежинками, только не знает куда и нет у нее крыльев, а лечь на землю здесь ей не хотелось…
Ей было тоскливо. Снежная пелена, казалось, окутала ее невыразимой печалью. В жарко натопленной комнате, среди суеты и ленивого празднословия, Циньцинь устала, разболелась голова. И все же она не знала, какой должна стать ее жизнь. Зачем, к примеру, она поступила на вечерний? Ради моды? Или ради надежды? А какой, собственно, надежды? Кто подскажет ей?
III
Неужели Дед Мороз принес подарки издалека, с самого Северного полюса? Чистота святыни, прозрачность кристалла, блеск хрусталя. Утреннее солнце пробралось сквозь оконные рамы, и в его слабых лучах все стало свежим и каким-то объемным. Возникший мир можно было бы сравнить с подводным царством южных морей, где беззвучно проплывают причудливые тропические рыбы, вздымаются прихотливо изогнутые кораллы, полощутся водоросли и ползут морские звезды… Его можно бы сравнить с облаками над вершиной горы Хуаншань, сквозь белый полог которых островами прорезываются горные вершины, а сами облака проносятся в небесах свободно и вольно. А еще можно сравнить с пышным грушевым цветом, ослепительно белым… Да, морозный узор, ледяная чистота, убранство Снежной королевы — непревзойденные красота и изящество!..
Как в детском калейдоскопе, сменяются бесчисленные комбинации — сколько чудес для игры воображения! Белые грибы на зеленом лугу после летнего дождичка, за ними — стая белых лебедей, пролетающих над осенним болотом… А вот сама девочка-снегурочка, сестричка льда и снега. Она является в морозную ночь, ранним утром скупо разворачивает свои узоры — ненадолго, чтобы не успели люди найти свои мечты, — и снова исчезает. Что же она сегодня задержалась? Она знала, что поздним вечером приду я? Или же знала, что сегодня воскресенье и в пустой аудитории ее никто не увидит?
Циньцинь долго стояла у окна и как завороженная глядела на белоснежно чистые, как драгоценная яшма, расцветающие на стекле морозные узоры. Поздним вечером топили слабее, в помещении стало холодно, и узоры все росли и росли. Дома у Циньцинь всегда было тепло, даже жарко, никаких узоров на оконном стекле не бывало, но, когда несколько лет назад она работала в деревне и жила в общежитии, там она видела множество узоров. Только никто не обращал на них внимания, потому что все дрожали от холода, тогда тяжело жилось. Ей и самой в голову не приходило, что узоры на стекле красивы. И вот теперь она снова увидела их на окне университетской аудитории и обрадовалась им, как старым знакомым. Узоры напоминали взметнувшееся кверху застывшее пламя факела или же замершую в броске к небесам пену на гребне морской волны. Там не было никакой преднамеренности; свободной и раскованной мощью веяло от морозной картины…
«Северное сияние, — подумала вдруг Циньцинь. — Таким должно быть и северное сияние». От этой вдруг пришедшей мысли захватило дух. «Если свет будет серебристым, то на небе запылают такие же узоры… Да-да, это именно так, можно считать, что я его увидела…» Она протянула руку и хотела теплом ладони растопить морозную картинку, но вдруг отдернула руку и замерла, только сердце забилось чаще.
— Возьмешь меня с собой? — Она была тогда совсем маленькой, едва доставала до парты.
— Не возьму. — Дядя надевал перед зеркалом свою новую меховую шапку. Серый мех с длинным ворсом был как у медвежонка.
— Вправду не возьмешь?
— Вправду не возьму.
— А я тебя не отпущу. — Она залезла на стол и сдернула с дяди шапку. — И денег не дам.
Она изо всех сил прижала шапку к животу, в кулачке поблескивала серебряная монетка.
— Все равно не возьму, — невозмутимо повторил дядя.
— А я зареву. — Она закрыла лицо руками, искоса поглядывая на него.
— Заревешь? Тогда наверняка не возьму. Только трусишки плачут. А трусишек в экспедицию не берут.
— Что такое экспедиция? — Она всхлипывала, но слез не было.
— На этот раз я пойду на Мохэ, потом на Хума — наблюдать северное сияние, поняла? Это самое красивое сияние. С ним ничто не сравнится. Сияние расцвечивает небо будто цветными карандашами.
— Ты говоришь, оно самое красивое? А польза от него какая?
Дядя, смеясь, погладил ее по голове.
— И польза от него есть. Кто увидит северное сияние, тот найдет свое счастье. Поняла?
Она тогда еще плохо понимала, поэтому многое забыла. Это было на рассвете, на окне сверкали ледяные узоры, словно раскрытые серебряные веера. Она смотрела в окно на удалявшегося дядю, из-под его высоких кожаных сапог летела снежная пыль. Он ушел на крайний север к Мохэ. Ушел, чтобы больше не вернуться. Через несколько месяцев он погиб во время пурги, и домой прислали его меховую шапку с длинным ворсом. Неужели так трудно найти это таинственное северное сияние? Пережитое в детстве запоминается на всю жизнь, и долгие годы ей снилась тайна, о которой поведал дядя…
Восемнадцати лет она вошла в школьную канцелярию по трудоустройству.
— Нет ли строительного полка на Мохэ? — спросила она.
— Нет.
— А госхоз там есть?
— Нету.
— Ну хоть что-нибудь там есть? Звено, бригада, коммуна?
— Ничего нет. Есть на Хулани, есть в Суйхуа. Подойдет? Оттуда недалеко. Ты хочешь на Мохэ, потому что там тяжелее, чем всюду…
Мастер из рабочей агитбригады, видно, решил, что перед ним активистка движения, рвущаяся в деревню.
— Нет, не поэтому. — Она осеклась. А почему? Потому что на Мохэ можно увидеть северное сияние? Как глупо. Теперь главное — классовая борьба, а ты ищешь какое-то северное сияние. Типичные мелкобуржуазные устремления.
Она отправилась в госхоз в Суйхуа. Бескрайние зеленеющие пшеничные нивы, голубые плещущие водохранилища, сверкающие утренние зори, пленительные вечера — все это там было, не было только северного сияния. Она то и дело запрокидывала голову, глядя в небо с надеждой увидеть хоть один луч таинственного света. Один-единственный — больше ей не нужно. Но она так ничего и не увидела. У кого только она не спрашивала! Но здешние жители не слышали ничего подобного. Значит, это было редкое небесное явление, но оно было! А то, что существует, можно увидеть, утешала себя Циньцинь. Прошли годы, она вернулась в город с его закопченным, темным небом, и надежды увидеть северное сияние почти не осталось. Да и кого может увлечь северное сияние в наш век деловитости и спешки?
— Ты видел северное сияние? Слыхал о нем что-нибудь, когда был в производственной бригаде на Хума? — спрашивала она. Они сидели вдвоем на каменном выступе крутого речного берега. От закатного солнца на воду, прямо у их ног, легла кроваво-красная полоса.
— Опять ты про северное сияние, — с раздражением сказал Фу Юньсян. — Зачем оно тебе, милая? Тогда летом в степи его можно было увидеть, но вставать глубокой ночью и глазеть на какую-то чепуху? Нам же чуть свет на работу надо было!
— Так ты не видел? — От изумления брови у нее поползли кверху.
— Болтовня все это: прекрасное-распрекрасное северное сияние, а что от него толку? Будь оно нимбом святого Будды, тогда стоило бы ему поклониться, попросить, чтоб оно помогло поскорее вернуться из деревни в город и устроиться на хорошую работу… — Он бросал камешки в воду.
Циньцинь вдруг сразу почувствовала, что он ей чужой, совсем чужой, будто она и не знала его никогда, а ведь у них уже год была любовь, его считали ее женихом. Как же она его раньше не узнала? Когда всей семьей сидели и пили вино, хохотали и веселились? Тогда было лето. Но разве не собирается она за него замуж? Два месяца, шестьдесят дней, сегодня день уже не считается, значит, пятьдесят девять. Красная крупная свадебная надпись, такси, обряд с туфельками, потом она будет подносить гостям огонь, чтобы прикурили, потом все разойдутся и в новой квартире смешанного «китайско-западного» стиля зажжется бра с изображением летящей на луну сказочной феи Чан Э. Свет режет глаза, хотя и полумрак. Он приблизится как тень, совсем чужой ей человек. Погаснет бра, тьма поглотит тень, и на нее пахнет табачно-водочным перегаром… На миг мелькнет свет далекой звезды, поманит ее, она взглянет вверх, но звезда исчезнет. И ничего не останется, кроме его голоса и дурацких слов, заглушающих ее рыдания. Она знала, что в новом доме за толстыми занавесками ей никогда не увидеть волшебного света, никогда, никогда… Циньцинь отбросила назад свои блестящие черные волосы, сорвала с шеи шарф и стала утирать бежавшие по щекам слезы. Почему так болит душа? Она же сама согласилась! Теперь все зашло так далеко, назад не повернешь. Ее сочтут помешанной, а он? Ему будет больно. Надо бы вернуться, а то он прибежит искать ее, будет стоять на остановке, весь обсыпанный снегом. Надо бы вернуться, на окнах те же морозные узоры, что и в далеком детстве, когда дядя уходил в свою экспедицию. Он ушел тогда искать северное сияние, которое еще прекраснее, чем снег и лед. Скоро стемнеет и ничего не будет видно…
Циньцинь утерла слезы, ей почудилось, что здесь кто-то есть. Она пошла на ощупь искать свой блокнот.
Вдруг на пол посыпались карандаши и ластики, и только сейчас девушка разглядела в темноте человека.
— Кто это? — испуганно вскрикнула она.
— Незнакомый вам, — раздался в ответ низкий мужской голос, торжественный, как у судьи, и далекий, словно с неба.
Циньцинь растерялась, не зная, как ей быть.
— Ты что здесь делаешь? — немного придя в себя, спросила Циньцинь.
— Извините, но это общая аудитория. Вы не заметили меня, когда вошли, а я не хотел вам мешать. Я зубрю японский, и если бы не вы…
Он стал подбирать с пола рассыпавшиеся карандаши.
Наконец она догадалась зажечь свет. Если бы не эти карандаши, она незаметно ушла бы. Увы.
От двух сорокаваттных ламп дневного света толстые стекла его очков заблестели. Глаза под ними казались выпуклыми. Они все время мигали, и выражение у них было презрительное. Покатый лоб, вместо бороды — редкие короткие волоски на подбородке, но лицо, слегка удлиненное, оставляло ощущение красоты и изящества; тонкие губы насмешливо улыбались…
Он молча смотрел на Циньцинь. Может, смеялся над ней? А может, ждал, что она сейчас спросит: «Откуда ты? Почему я тебя раньше не видела?» — «Я тоже тебя не видел», — ответил бы он. «Я знаю, ты учишься на вечернем японском отделении и решил воспользоваться пустой аудиторией вечерней школы». — «А ты тоже студентка вечернего отделения, я знаю, так что можешь не предъявлять мне свой студбилет… Почему ты плакала?» — «Я не плакала». — «Плакала, я слышал. У тебя горе?» — «Какое горе? Я счастлива, собираюсь замуж. Меня с ним познакомили, я ему нравлюсь и его семье тоже, и мне не на что жаловаться, а откажусь — другого такого не найти, человек он обеспеченный. Я должна выйти за него, вот моя печаль. Нет, нет, не то, ты не знаешь, ничего не знаешь, всего не расскажешь сразу, и ты ни о чем не спрашивай, мы ведь даже незнакомы с тобой…»
Стекла очков блестели при свете ламп, тонкие губы шевелились, но он ни о чем не спросил, словно все на свете было ему безразлично.
— Я… Я кошелек потеряла. — Она сказала это, чтобы объяснить свои слезы, и от этого ей стало смешно.
— Кошелек? — со вздохом произнес он. — У меня никогда не было кошелька, потому что никогда не было денег. Уважаемые воры, выбросьте, пожалуйста, все кошельки в отхожие ямы, ибо в кошельках проживает людская алчность и ютятся черные души.
— Уважаемые? Почему воры уважаемые? — ахнула Циньцинь.
— По-честному, — всплеснул он руками, — воры все крайние индивидуалисты, наживаются на людской беде, из алчности даже готовы человека жизни лишить. Впрочем, не стоит говорить о социальных причинах, порождающих воровство, потому что настоящее зло нашей жизни — не воры, а пираты, примеряющие короны императоров и императриц. Вот кто пожирает плоды народного труда и разгуливает на свободе, неуязвимый для закона. Какой-нибудь бюрократ единым росчерком пера может в одну секунду пустить на ветер миллионы народных денег.
— Разве так бывает? — Циньцинь побледнела. Ее новый знакомый не предложил ей сесть, и она продолжала стоять, вместо того чтобы собрать рассыпанные карандаши и уйти.
— Вот тебе конкретный пример. У нас в университете был преподаватель, очень хороший, безупречный работник, жена его тоже преподавала. Жилплощади у них не было, и им приходилось жить в разных местах, дети у них совсем маленькие. В общем, живут трудно. Когда началось упорядочивание заработной платы, руководство факультета заботилось лишь о том, чтобы повысить себе ставки, а их обоих отчислили, как якобы не соответствующих должности. И пожаловаться некуда.
Циньцинь стало страшно. Она боялась трагических историй. Зачем он ей об этом рассказывает?
— А вот еще пример. — Он провел перочинным ножом по столу. — В прошлом году в нашем университете при распределении направляли всех в глубинку, но достаточно было записки замминистра, чтобы его будущего зятя отправили на работу в Пекин. Кто же теперь поверит пустой догматической болтовне, когда вопят, что у молодежи нет коммунистической морали! Всем противно видеть пропасть между реальной жизнью и политическим воспитанием. Нет уж, куда лучше позаботиться о собственном благополучии… Именно так реагируют все на лозунг: «Политику на первое место!» Я говорю все это, чтобы ты лучше поняла нынешнюю действительность.
Он оказался очень словоохотливым, причем говорил свободно, непринужденно и очень складно. Циньцинь невольно почувствовала к нему уважение, слушая, как резко и смело он обо всем судит. При этом на губах его играла усмешка, на лице не было и тени гнева, голос звучал спокойно и ровно, будто все, о чем он говорил, его не касалось.
— Эх, не вовремя появилось на свет наше поколение, понапрасну растратило силы и молодость. Сами мы ничего хорошего не видели, а можно ли поверить на слово, что жизнь прекрасна? Если идеал далек, как мираж, можно ли заставить в него поверить? Мне говорят, что это нигилизм, но, по-моему, такой нигилизм куда лучше, чем слепой идеализм молодежи пятидесятых-шестидесятых годов…
Циньцинь только ахала.
— Да зачем я все это тебе говорю? — Он встал и собрал свои книги. — Разве ты сама думаешь иначе? Все так думают, но молчат, каждый день твердят: «Правда, правда!» Но правда похожа на любовницу, с которой хорошо встречаться тайком от других. Мы с тобой незнакомы, вот почему я так разоткровенничался. Ты подумала, что я болтун? Но когда другие болтают, я молчу и читаю газету…
— Так ты не со всеми так говоришь? — осторожно спросила она; — И тебе не скучно? Вы же студенты…
— Студенты? А ты не студентка? Ах да, вечерница. Но они отличаются от тебя только институтским значком, еще носят очки. Университет? Сборная солянка, площадка молодняка, градусник для измерения скачущей температуры общества. Считал его раем, да разочаровался во всем. Ребята устраивают вечера знакомств, ищут связи, двери…
— Зачем? — рассмеялась она.
— Все ради распределения. А девушки думают только о завивке, им не до иностранных языков. Эге, а ты сама почему без завивки? — Он повертел пальцем, изображая, как девушки завиваются.
— Я? — растерялась она. Надо было сказать: «Вот через пятьдесят девять дней я уже буду совсем другая, ты меня не узнаешь: на свадьбу завьюсь», но она ничего не сказала.
— Ладно. Что-то я слишком разговорился, надо идти. Тут нигде не найдешь спокойного местечка! А ты продолжай рассматривать стекло, никто тебе больше не помешает. Люди добры, пока не столкнутся их интересы. — Он взял стопку книг под мышку и вышел, словно ее здесь и не было.
— А!.. — Циньцинь испугалась, что он вот так просто, навсегда исчезнет, ей захотелось с ним познакомиться, но что сказать, она не знала. — Ваша специальность — японский?
— Да.
— Я тоже учусь японскому. Не могли бы вы мне помочь?
— Можно. — Он кивнул головой без всякого энтузиазма. — Только у меня мало времени. — Немного помолчав, он спросил: — А ты кем работаешь? Ты такая простодушная…
— Сборщицей на приборостроительном заводе. Мое имя Циньцинь, а вас как зовут?
— Меня зовут Фэй Юань, я студент факультета иностранных языков, набор семьдесят седьмого года, первая группа. Кстати, иероглифы моего имени входят в слова «бесконечные расходы».
Он тряхнул волосами и вышел, слегка наклонив голову набок, высокий, изящный и немного надменный. «Продолжай рассматривать стекло» — его голос все еще звучал здесь, сам он ушел. Но за окном стало темно, а узоры на стекле потеряли свою привлекательность. «Северное сияние… Знает ли он о северном сиянии?..» — вдруг пришло ей в голову, когда, найдя свой блокнот, она спускалась по лестнице.
IV
Жизнь идет вперед в привычном темпе, не ускоряя и не замедляя его. Она оставляет разные следы, в зависимости от места, рельефа, почвы. Каждый человек живет в своем маленьком мире, тысячью нитей связанном с большим миром, и эти нити нелегко разорвать. В пронизывающе-холодном апреле 1976 года миллионы людей вместе проливали кровь и слезы. Мгновенно растаяли завалы и сровнялись рвы сомнений, самозащиты, подозрительности и предосторожности, которые десять лет разделяли их души. Но столь недолгим было возникшее единение, разрушенное неумолимым потоком времени, скрытое новыми наносами. В морозную зиму 1980 года на город с реки наползал туман, скрадывая перспективу, и молодежь металась в тоске и поисках еще неистовее, чем четыре года тому назад…
Октябрьские события 1976 года, потрясшие китайскую землю, застали Циньцинь в госхозе. Она даже вообразить не могла, какие серьезные перемены произойдут в Китае. В дальней, глухой деревеньке жизнь текла спокойно, как ручеек, без суеты и треволнений. Когда объявили о разгроме «банды четырех», Циньцинь смотрела, как команды высланных в деревню образованных молодых людей Шанхая, Харбина и провинции Чжэцзян от нечего делать гоняли мяч на баскетбольной площадке. Казалось, ничто их не касается, пусть небо рушится! Эти образованные молодые люди с юга были старше ее, уже лет восемь жили в деревне, везде побывали, всего повидали, во всем разобрались и стали совершенно равнодушными. Но работали они с огоньком, умели быстро жать поливной рис, водить грузовики. Любили говорить на местном северо-восточном диалекте, вставляя в него южные слова, так что получалось: «Мы любим кушать сигареты» — или: «Бандиты из бухгалтерии блудят с зарплатой». Наибольшим счастьем для них была поездка к родным. После возвращения они не уставали рассказывать о новостях. Первые представления Циньцинь об обществе сложились именно в госхозе, но она пробыла там недолго, а может быть, если бы осталась еще года на два, не была бы такой наивной. Ее биография уместилась бы на половинке листа. Во время культурной революции отца ее постигла участь многих, и она выучилась сама покупать дешевые овощи, готовить их и ухаживать за малым братишкой. Отца скоро выпустили и назначили «спецом» в пропагандистскую бригаду на заводе. Ее послали в деревню, потом вернули в город, случались и неприятности, но несравнимые с теми, что выпадали на долю других. Ей не приходилось защищать свою жизнь, поэтому она меньше видела зла, чем другие. «Если ты попросишь отпустить тебя из деревни, сославшись на болезнь, то, будь ты невинной, как сама Линь Дайюй[60], все равно придется отдаться», — сказала ей подруга по бригаде, которая была постарше. Циньцинь всегда с уважением и завистью относилась к студентам с юга, которых распределили в этот пограничный госхоз.
К ним прислали выпускника строительного института и назначили его заведующим столовой. Он часто ошибался, когда считал деньги, продавая талоны на рис и овощи, потому что в это же время читал. Он не утратил веры в свой идеал, хотя жил в трудных условиях и терпеливо сносил преследования. Ему оставалось только читать и размышлять. Циньцинь украдкой наблюдала за ним, старалась понять, что он за человек, а потом ей стало тревожно за него. У него был больной желудок, и он часто менялся в лице от боли. Однажды он получил от врача разрешение съездить в Харбин на просвечивание. Через три дня он вернулся, привезя с собой много книг.
— Просветили тебя? — спросила его Циньцинь.
— Просвечивали, — небрежно бросил он. Они разгружали уголь, ему стало жарко, и он сбросил пальто. Из кармана вывалился пакет с надписью: «Барий», так что и спрашивать было нечего: не ходил он на просвечивание. Циньцинь стало его жаль. Через некоторое время его перевели в провинцию Гуйчжоу. От подруги, которую отправили туда же продавщицей, она узнала, что ему разрешили преподавать физику в средней школе, и он больше не будет продавать талоны. Когда он уезжал, Циньцинь ушла в степь, собрала букет красных саранок и бросила его в реку. А если б он не уехал? А если б у нее не было там подруги? Циньцинь плакала от странных, непривычных мыслей. Если в ней и зарождалось к нему чувство, то оно прошло вместе с брошенным в воду букетом. Таких увлеченных людей ей больше не приходилось встречать. Он был южанин, говорил с присвистом «с» вместо «ш», и она над ним посмеивалась.
— До чего же ты простодушна, — бросил он ей как-то, когда она подобрала на дороге упавший с грузовика сноп и понесла его на ток. Больше он ей никогда ничего не говорил, где он теперь, она не знала, — и вот почему-то он снова пришел ей на память.
Может, Фэй Юань чем-то его напомнил? Фэй Юань тоже говорил с южным акцентом. «Ты такая простодушная», — сказал он ей. Полчаса не поговорили, с чего же он взял? Как будто сам очень сложный! А ей так хотелось стать сложнее, она слышала, что сложным называют все непонятное и мучительное. В госхозе жизнь была нелегкой, труд тяжелым, ели быстро, давились, спали крепко, но мало, грустить не было времени. Но она верила, что будут зеленеющие нивы и ее мечты о далеких краях когда-нибудь осуществятся: Она вернулась в город, поступила на завод, а жизнь стала еще монотоннее, еще бесцветнее. Она плыла по ней, как лодка в бескрайнем море, нагруженная мечтами. Вокруг — водная гладь, а если и попадется одинокий островок, то он необитаем. Выйдешь на остров и снова ловишь взглядом белый парус, а под парусом все то же одиночество и грусть. Сколько ни зови, никто не откликнется.
На заводе открылась библиотека, и Циньцинь все свободное от занятий время читала романы. И чем больше она читала, тем меньше нравилась ей собственная жизнь. В госхозе никаких книг не было, там жизнь напоминала пруд без воды. Циньцинь не понимала, здоровые у нее сейчас настроения или нет. За последние четыре года в обществе произошло множество перемен, но скоро ли эти перемены коснуться ее лично? Каждое утро она вставала с мыслью, что вот сегодня должно случиться что-нибудь необыкновенное, но дни текли, похожие один на другой. Фу Юньсян мог сменить костюм, но его слова, даже интонации оставались неизменными. Она надеялась, что завтра все будет не так, но приходило «завтра», и все оставалось по-прежнему…
После истории с блокнотом Циньцинь ходила на занятия с еще большим рвением. Учиться на вечернем отделении было трудно: к концу семестра осталось меньше половины учащихся. Одних не отпускало с работы начальство, они не ходили на занятия и потом не могли нагнать; другие бросили учебу по семейным обстоятельствам. Одна женщина тридцати четырех лет, у которой было двое детей, начала было изучать японский язык, но пришлось бросить, потому что все время болели дети. Циньцинь работала в утреннюю смену, и вечером ничто не мешало ей посещать занятия, правда, Фу Юньсян иногда звал ее в кино. Ей нравился японский, нравилось, как из чужого четкого ритма фраз пробивался неукротимый дух энергичной японской нации. Она прочла книжку «Бурное столетие», в которой рассказывалось о развитии и подъеме японской нации за сто лет со времени реформ Мэйдзи. Казалось, с этого островного государства до нее долетел зов… Слышала она и зов родного китайского народа — то тихий, еле слышный, то громкий и уверенный. Смешные мысли, но они помогали ей учить японский. В ее группе все учились примерно одинаково, но Циньцинь всегда хотелось чьей-то помощи, и она очень обрадовалась знакомству с Фэй Юанем. Фэй Юань любил философствовать и этим напоминал немца прошлого столетия. Разговор с ним приносил пользу. А вот Фу Юньсян больше походил на практичного француза или делового еврея…
Циньцинь теперь нарочно уходила с занятий последней и оглядывалась по сторонам в надежде встретить Фэй Юаня. Она находила всевозможные предлоги, чтобы зайти в главное здание, где в широких полутемных коридорах стояли узкие учебные столы и стулья и собирались группами студенты: кто учил пройденное, кто шептался, кто сидел, уставясь взглядом в стену, кто зубрил монотонным голосом… Циньцинь очень завидовала им, потому что сама не добрала на экзаменах четырнадцати баллов для поступления на дневной. Когда она готовилась к экзаменам, мать постоянно приводила в дом каких-то людей, надеясь, что они помогут при поступлении, они только отрывали ее от дела разговорами, а то бы она набрала нужные баллы. И вот появился Фу Юньсян — как компенсация за недобранные баллы. Мама любила его гораздо больше, чем сама Циньцинь. Каждое воскресенье он приносил им свиную печенку и живых карпов — не так просто было их купить! Циньцинь подарил отрез экспортного шелка, короткую и широкую модную импортную куртку и очень красивые сапожки на высоком каблуке из белой телячьей кожи — их тоже не купишь в магазине. Он мог достать все, и Циньцинь часто мучила мысль о том, что и она вещь, которую он собирается купить, пустив в ход свою милость и щедрость. Он появлялся с большим свертком или маленькой изящной коробочкой, уговаривал, Циньцинь послушно мерила платья или туфли, которые он принес, а потом прятала их в сундук. Он вечно был чем-то занят, даже газеты не успевал прочесть. Он не возражал против ее занятий японским, но в шутку звал ее ведьмочкой и так уморительно подражал ее произношению и интонациям, что все буквально покатывались со смеху.
Циньцинь очень хотелось поговорить с кем-нибудь по-японски, услышать хоть несколько, пусть простых фраз. В полутемном коридоре университета слышались приглушенные голоса, кто шептал что-то, кто бормотал, и от этого на душе становилось теплее и сердце сильнее билось… Здесь мог быть и он тоже.
С того раза Циньцинь его больше не видела. В университете он так и не появлялся. Может, поискать в библиотеке? Или подойти к его аудитории? Почему тогда в воскресенье он забрел в среднюю школу? Хотел тишины? Нет, к его аудитории она не подойдет просто так. Причины для этого нет. Однажды после занятий она решила спуститься в подвальный этаж главного здания. Там помещался методический кабинет, который вечером уже не работал. Зачем ее туда понесло? Ведь там так темно, что страх разбирает.
Вдруг до нее донесся низкий протяжный голос, повторявший японские слова. Сердце забилось сильнее. Она узнала этот голос, хотя слышала его всего один раз. Она не могла его забыть.
— Доната дэска?[61] — окликнула она громко.
— Аната вадэ дзондзи найка мо сирэмасэн[62], — последовал ответ.
— Ииэ, ватакуси-ва дзондзитэ имас[63].
— Дэва, Аната-ва доната дэска[64].
— Ватаси-ва химахима-то…[65] — Она запнулась, не зная что еще сказать.
— Так это ты, та самая, которая изучала оконные стекла? — Он вышел из темноты и протянул ей руку.
— Тебе здесь не холодно? До чего же ты прилежный, — сказала она с нескрываемым восхищением.
— Прилежный? Да нет, просто хочу получить при распределении местечко получше, — подмигнул он. — Чтобы жить, надо есть.
Циньцинь не ожидала подобного ответа и оторопела.
— Ты учишь урок? — спросила она.
— Урок? Думаешь, одними уроками можно чего-то достичь? Только дураки ограничиваются зубрежкой уроков. А я хочу поступить в аспирантуру при университете Васэда. — И он быстро заговорил по-японски, нараспев, словно читал стихи.
— Понятно? — спросил он, понизив голос так, как спрашивает учитель у ученицы.
— Нет… — Она покраснела. — Я ничего не поняла.
— Это я перевел на японский рубаи персидского поэта: «Мы жалкие шашки на доске, день и ночь нами играют, пойдешь ли на запад, пойдешь ли на восток, все равно запрут или съедят, а после хода все равно всех уберут в ящик одного за другим». Намек поняла? Глубина! Вот человеческая жизнь: люди — пешки, судьба ими играет, а мечты — синоним иллюзий.
Словно холодный ветер пронесся по подвалу. Циньцинь вздрогнула.
— Ты меня искала? — задумчиво спросил он.
— Нет… То есть да. Я хотела спросить, но не важно…
— Прости! — Он сложил руки. — Нету времени, еще надо подготовиться на завтра. А ты не торопишься?
— Не очень.
— Тогда давай встретимся в воскресенье. Я буду либо здесь, либо в общежитии, третий корпус, комната триста тридцать три.
Циньцинь заколебалась, она хотела сказать, что в воскресенье занята, но не успела: он скрылся в темноте.
«Не следует ему мешать, — думала Циньцинь. — У него и так огромная нагрузка. Да, как же мне быть в воскресенье?»
В субботу пошел мягкий крупный снег, и вечером Фу Юньсян пригласил ее покататься на лыжах. Завтра парень из военного городка возьмет у отца джип, можно всей компанией отправиться на машине в Шанчжи и ее прихватить.
— Прихватить? Я не поеду, — раздраженно ответила она. — Тебя прихватят, ты и цепляйся, а я не хочу за ними тянуться.
Тянуться — это что-то новое, наверняка услышала это словечко на своем вечернем. Тянутся — так говорили о тех, кто подражал детям ответственных работников, задавался, напускал на себя развязность, называл автобус «колымагой», а при знакомстве хвастливо заявлял: «Возьми номер моего телефона!» А на деле телефон был коммунальный, один на целый дом, а то и на квартал. Циньцинь не понимала, почему никто не подражает хорошему, откуда у людей столько тщеславия, неужели они думают, что развязность — признак обеспеченной жизни? Отец Фу Юньсяна заведовал где-то небольшим отделом, а сам Фу Юньсян старался дружить с сыновьями работников провинциального комитета.
Неожиданный снегопад был для Циньцинь весьма кстати. Она пошла на занятия и увидела объявление:
«Студентам всех факультетов! В связи с заносами на товарной станции в воскресенье во второй половине дня все как один на расчистку снега!»
Так бывало каждую зиму. Из-за снежных заносов останавливался транспорт, и жители города, красные от мороза, с лопатами и кирками, выходили расчищать снег. Циньцинь всегда активно участвовала в этом мероприятии, но сегодня оно ее и обрадовало, и огорчило. Фэй Юань пойдет на расчистку снега, и его не найдешь. И все же Циньцинь пошла к третьему корпусу, втайне надеясь на удачу. Проезжую часть уже расчистили, и показались серые бетонные квадраты. Своей белизной снег слепил глаза, с веток на плечи Циньцинь падали сдуваемые ветром пушистые комки. Девушка нашла комнату с номером триста тридцать три, постучала. Никто не ответил. «Ушел чистить снег», — подумала она и только собралась уйти, как дверь вдруг тихо отворилась.
— Это ты? — Он стоял на пороге со словарем в руках. Циньцинь удивилась, хотя надеялась застать его.
— Ты не пошел чистить снег? — вырвалось у нее.
— Снег? — изумленно спросил он. — Тратить время на нечто эфемерное, что может за один день растаять? На такое способны только карьеристы, стремящиеся пролезть в партию.
— А ты не такой?
— Не такой. Если собрать весь гемоглобин из еще не растраченных красных кровяных шариков, то всего лишь патриот.
— Ты ни во что не веришь?
— Возможно. А зачем верить? Верят в то, что есть везде, или в то, чего нет нигде. Бог во мне самом, безразлично где: в подземном аду или небесном раю, и я вижу единственный выход — самоспасение! Наше поколение само должно себя спасать!
— В первую очередь себя или государство?
— Конечно же, себя! Слова: «Большая река полноводна, значит, и в малых речках много воды» — идут вразрез с наукой. Лишь в том случае большая река будет полноводной, если в нее вольется вода множества малых речушек. То же и с людьми. Если миллиард китайцев выдвинет сто тысяч ученых, Китай будет спасен. А какой смысл чистить снег? Да ты что стоишь? Уходить собралась?
Циньцинь так и не переступила порог и стояла в дверях. В этой небольшой комнате были четыре пары двухэтажных нар на восемь человек. Под нарами стояли сундуки, возле окна — стол с двумя ящиками. Чтобы сесть на нары, надо было пригнуться, да и сесть, собственно, было некуда, везде валялись книги. Одна стопка книг была почему-то подмочена водой.
— Не везет, отопление прорвало. — Фэй Юань сгреб с постели книги. — Потекло прямо на сундук с книгами, но что поделаешь, таковы условия жизни в нашем университете, хорошо хоть, что мы заметили. А слесаря нет — наверное, ушел снег чистить. Присаживайся!
Циньцинь с напускным равнодушием села на постель, но тут одна из ножек вдруг отвалилась. Оказалось, это была не ножка, а подложенный вместо нее толстый фотоальбом в жестком переплете, очень старый и отсыревший.
— Твой? — спросила она, поднимая альбом.
— Считай, что мой. — Он небрежно полистал альбом и бросил его на стол. — Все, что от меня прежнего осталось. Теперь я уже не тот. Теперь я вот какой. — Он указал на висевшие над постелью в простенькой рамке две фотографии. На одной он был снят анфас с закрытыми глазами, заткнув пальцами уши; на другой, очень неясной, был снят со спины. Рядом с фотографиями на длинной белой полоске бумаги было написано стихотворение:
Я песню спеть хочу, которую не пел, Но каждый день лишь прикасаюсь к струнам.— Стихи Тагора? — оживилась Циньцинь; оказывается, он тоже любит Тагора. Фу Юньсян терпеть не мог стихи и называл поэтов «лунатиками». А почему, интересно, Фэй Юаню понравились эти строки? Ей самой нравилось другое стихотворение Тагора:
Скажи мне, плод, — спросил цветок, — Где ты? Далек ли от меня? — В твоем я сердце! — Плод ответил.Она знала наизусть много стихов. Например, такие:
Стать радости огнем моим мечтам возможно, Желаниям моим стать родником любви…Она хотела было почитать ему эти стихи, но он принялся листать словарь, тогда Циньцинь снова взялась за фотоальбом.
— Почему ты сказал, что тебя прежнего больше нет?
— Сама посмотри, — ответил он, не отрываясь от словаря.
Циньцинь не нравилась и казалась странной его манера держаться. Он был настолько поглощен своим словарем, что забыл обо всем на свете, и она сочла неудобным обращаться к нему.
Рассматривая альбом, она натолкнулась на интересную фотографию: у самолета стоит какой-то иностранный генерал, а китайский мальчик вручает ему букет. Мальчик очень хорошенький, черноволосый. Глаза наивные, вопрошающие. На лице — выражение безграничного счастья, словно перед ним распахнулся весь мир. Это был Фэй Юань двадцать лет назад, в каком-то большом южном городе. Его блестящие кожаные ботиночки говорили о счастливом детстве, о благополучии семьи. Жизнь могла бы привести его прямехонько в салон самолета, чтобы он взлетел заре навстречу, к облакам, а он почему-то очутился здесь. В тесной комнате на восьмерых было сыро: прорвало отопление…
Другой лист: он уже взрослый, в лице — одержимость. Он стоит на трибуне с мегафоном в руках, на рукаве — хунвэйбиновская повязка, предмет мечтаний самой Циньцинь в детстве. Он что-то провозглашает, взывая ко всему миру. Что именно? Может быть, он клянется: «Умрем, защищая…» — или грозится: «Сметем всю нечисть, уродов и чудовищ…» Циньцинь тогда тоже что-то кричала, хотя и не понимала смысла выкрикиваемых слов. Значит, тогда в нем бурлила кровь? А теперь он холоден, равнодушен, совсем другой человек, словно оставшийся в коконе мотылек, так и не вылетевший на волю. Тогда он верил, что защищает истину, и она тоже этому верила. Но что есть истина? Он сошел с трибуны, словно упал на землю с лестницы, которая вела в пустоту, к ложным истинам. Упал и расшибся, душа его — кровоточащая рана, в пустых глазах — тоска…
В альбоме фотография всей его семьи, дата — октябрь 1968 года. Явно снялись на память перед отъездом в деревню. Рядом с ним отец, он очень похож на отца; одет отец просто, лицо у него интеллигентное, вид изможденный, усталый, печальный; сидит он прямо, брови сомкнуты — волевой человек. А вот мать. Она очень хороша собой, тонкая, изящная, еще изящнее Фэй Юаня. Она сидит с торжественным видом, без улыбки, спокойно, с плотно сомкнутыми губами, в ней чувствуется уверенность в себе, так свойственная интеллигентным женщинам. Можно даже подумать, что она — супруга посла. Была там еще девушка, сестренка Фэй Юаня, она как-то вся сжалась — то ли от яркого света в павильоне, то ли по привычке всегда прятаться за брата. А вот и он сам, лицо открытое, уверенное, беззаботное, словно он собирается ехать в степь навстречу солнцу, в бескрайние просторы, где все цветет и реют красные знамена. На губах его тогда не было кривой усмешки. В глазах горел энтузиазм.
Циньцинь вдруг захотелось увидеть того, прежнего Фэй Юаня.
— Твой отец… — вырвалось у нее. — Где сейчас твои родители?
— Умерли, — отвечал он, не поднимая глаз.
— Кем он был? — вздрогнув, спросила Циньцинь.
— Он был послом в одной из стран Восточной Европы.
— А от чего умер?
— По известным всем причинам, о которых никто не узнает, он умер в тюрьме в семидесятом году.
Было слышно, как из трубы капает вода.
Циньцинь хотелось утешить его, но она боялась, что не найдет нужных слов: ведь он наверняка слышал много слов утешения и ей не придумать ничего нового. Может, он нашел утешение в своем словаре?
На следующей странице альбома Циньцинь увидела фотографию молодых людей в деревне на уездном слете активистов: у всех были пушистые меховые шапки, на ватных телогрейках — бумажные красные цветы. Она с трудом узнала его среди прочих. Здесь он выглядел простодушным крепким крестьянским парнем, только улыбка была вымученной. На лбу появились морщины, как на красной бумаге, из которой сделаны цветы. Под фотографией подпись: 1970 год, уезд Тунцзян.
Как раз в 1970 году отец его умер в тюрьме. А он продолжал участвовать в слетах уездных активистов, упоминался в отчетах — трудно поверить. Но так было. Об этом правдиво рассказывали фотографии. Циньцинь вспомнила активисток своего отряда. Однажды она отпросилась на здравпункт, и они тайком пошли за ней; а однажды, когда у командира отряда завелись вши, Циньцинь посоветовала ей получше вымыть голову. «У тебя нет вшей, значит, ты еще не перевоспиталась», — злобно ответила ей девушка-начальница. Хоть плачь, хоть смейся. Да, вполне можно было представить себе Фэй Юаня сидящим рядом с такими вот людьми, и Циньцинь при этой мысли покраснела. Ей стало за него стыдно. Но разве сама она не рыла землю исступленно, как одержимая, только чтобы попасть на Доску почета?
Листать дальше? Осталось всего несколько листов. Вот фотография вся в пятнах. Что на ней, стопки? Нет, эмалированный кувшин, миска, кружка для чистки зубов, бутылка — все свалено в кучу, брошено, словно был вдруг услышан зов о помощи заблудившихся в чужих краях сирот. Стопка, кажется, полная, даже чудится противный запах водки. А где он сам? Его на фотографии нет. Наверное, валяется пьяный в грязи и лохмотьях на голой земляной лежанке-кане, без циновки, — пьянство и грязь! Почему так? Разве он не пример для всех высланных в уезд образованных молодых людей? Он пьяница? Циньцинь когда-то понюхала водку и теперь явственно ощущала ее запах, исходивший от фотографии.
Она вытащила снимок из альбома и протерла его платком. На обратной стороне была аккуратная надпись:
«День, когда Артур вернулся из тюрьмы. 13 сентября 1971 года».
Циньцинь хорошо помнила: 13 сентября 1971 года Линь Бяо взорвал себя. Какая связь между ним и Артуром? Она читала «Овод» и помнила, что когда Овод в первый раз вышел из тюрьмы, то был потрясен обманом священника, утратил веру и помышлял о самоубийстве. Может, и Фэй Юань был близок к самоубийству? Циньцинь в детстве тоже хотела однажды покончить с собой, когда отец нарушил свое обещание и вместо нее взял с собой в гости к бабушке в Далянь братишку. Ей и в самом деле хотелось тогда умереть! Ну а Фэй Юаню не хотелось умирать, и он стал пить…
Циньцинь уже хотела отложить в сторону альбом, но из него выпала фотокарточка: на ней были запечатлены цветы, гора чистых, невинных, белых, как снег, цветов. Она видела их четыре года назад во время телепередачи, посвященной памяти Чжоу Эньлая и реабилитации участников событий 5 апреля 1976 года[66]. Это были цветы для покойного премьера, которые украшали его гроб вместе с вечнозелеными ветвями сосен и кипарисов, расцветшими в суровом, студеном январе.
— Сам снимал? — спросила девушка.
Он не спеша поднял голову, отложил словарь, поправил очки и, равнодушно глядя на фотографию, сказал:
— В январе тысяча девятьсот семьдесят шестого года ездил домой к родным, проездом был в Пекине и все сам видел. Премьер, великий человек — и так трагично кончил: ну есть ли справедливость на земле? С того дня я ни во что больше не верю, понятно?
Он опустил голову, низким, хриплым голосом сказал:
— Надо бы сжечь альбом, зачем он мне? Тебе не следовало его смотреть, мала еще, ничего не поймешь.
«Почему не пойму? Почему? Думаешь, я мало пережила? Я же пришла к тебе», — возмущалась она про себя, как обиженный ребенок. Но зачем она пришла? Чтобы учиться японскому? Она и сама не знала. Обычно она из дома шла в цех, из цеха — на занятия, после занятий ехала к Фу Юньсяну. Но ни к кому еще не влекло ее так, как к Фэй Юаню. Какой же он на самом деле? Этого она не знала, знала только, что он не такой, как Фу Юньсян. Забавно, она собралась за Фу Юньсяна замуж. Зачем же ей было приходить сюда? Неужели только затем, чтобы учить японский? Да, только затем. Японский надо знать, иначе не прочтешь торговые маркировки и инструкции по применению приборов, потому что приборы в основном импортируются из Японии… И все же не за этим пошла она к Фэй Юаню, ей хотелось услышать от него простые китайские слова, которых она так и не дождалась от Фу Юньсяна. Да, китайские, а не японские! Иначе она не смотрела бы так долго альбом, не стерпела бы пренебрежения к себе Фэй Юаня, который демонстративно листал словарь, не вглядывалась бы так пристально в старые, выцветшие фотографии двадцатилетней давности. Что же это с ней творится?
— Ты хочешь меня о чем-нибудь спросить? — со вздохом произнес Фэй Юань, отложив наконец словарь. Он испытующе смотрел на девушку, словно оценивая ее, и взгляд его потеплел.
— Да, по японской грамматике…
За окном раздался хохот, радостные восклицания, лязг железных лопат. Циньцинь подбежала к окну и увидела, что дорожка уже очищена от снега, а под высоким тополем стоит толстый снеговик, ослепительно белый, с черными глазами из кусочков угля и торчащим кверху носом-морковкой. Вокруг снеговика толпился народ, какой-то парнишка в короткой черной куртке, взобравшись на табуретку, прилаживал ему огромное отвислое ухо — кажется, из капустного листа.
— Взгляни-ка, — со смехом обратилась девушка к Фэй Юаню. Но тот не шевельнулся, лишь покосился в сторону окна. Снеговик его не интересовал, зато, увидев парня в черной куртке, Фэй Юань вскочил, распахнул окно и громко крикнул:
— Цзэн Чу, Цзэн Чу!
Уже было прилажено и второе ухо, парень, потирая руки, любовался собственной работой. Он подмигнул Фэй Юаню, сложил ладони рупором и закричал:
— Иди сюда! Хватит корпеть над книгами, а то роботом станешь! Поди посмотри на снеговика!
— Ты мне нужен! — поморщился Фэй Юань. — Труба протекла, иди чинить, а то прорвется!
— Не бойся, за час ничего не случится, — сказал парень. — Посмотри на мою снежную скульптуру и скажи, могу я считаться студентом скульптурного факультета или нет.
— Тебе надо в политехнический на теплотехнику поступать, — сердито ответил Фэй Юань, — некогда мне с тобой шутить, поднимайся!
— Куда спешить? Брось мне свою старую шапку, я снеговику плешь прикрою, а то простудится, — согревая руки за пазухой, отшучивался парень под общий хохот.
— Снег убрали, а они все еще там, не надоело, — проворчал Фэй Юань и сбросил вниз картонную коробку, которую сразу же разодрали и смастерили для снеговика колпак, отчего вид у него стал солиднее. — Нашли чем заниматься, — вздохнул Фэй Юань, поплотнее закрывая окно.
Циньцинь с любопытством разглядывала снеговика, а он словно улыбался ей в ответ. Парень воткнул снеговику в руку обломанную метлу, снял с ветки свою брезентовую сумку с инструментом и пошел к Фэй Юаню.
— Почему они не пошли на товарную станцию? — спросила Циньцинь.
— Наверное, их оставили чистить снег в университете, — ответил Фэй Юань.
— Трубы чиним! — На пороге показалась коренастая фигура парня. Он запыхался, взбегая по лестнице. Увидев Циньцинь, парень невольно подтянулся, с грохотом сбросил на пол инструмент и подошел к окну.
— Сначала доложу тебе приятную новость, — сказал он деловым тоном, с трудом скрывая игривое настроение, — угадай-ка…
— Не знаю.
— Студенты с физфака рассказали: приезжал из США профессор Колумбийского университета Ли Чжэндао и отобрал четырех аспирантов. Все они моложе тридцати, а знания первоклассные. Выходит, китайцы ничуть не уступают иностранцам, а при желании могут их превзойти!
— Я-то думал, что-то необычайное, — холодно оборвал его Фэй Юань. — А ты чего-радуешься? Можно подумать, что тебя отобрали…
— Ты… — Цзэн Чу что-то хотел сказать, но раздумал, извлек из сумки гаечный ключ и полез проверять трубу.
— Работы много? — спросил Фэй Юань, картинно скрестив на груди руки.
— Где холодная и горячая вода, всегда так. С работой хорошо, за полную нагрузку премия полагается, за дополнительную смену — доплата.
Он постучал ключом по трубе, поднялся и сказал:
— Надо за концами сходить, — и вдруг задел рукавом лежавшую на столе книжку. — Фэй, друг, дай почитать!
— Чего?
— Книгу, эту книгу.
— Пока нет, ее трудно достать. Погоди, через день-другой снова спрошу.
Цзэн Чу кивнул и ушел, напевая романс «Есть в Испании долина, помнит весь о ней народ…».
Голос у него был густой, низкий, но не очень приятный, однако песня показалась Циньцинь простой и трогательной.
V
— Слесарь, — извиняющимся тоном произнес Фэй Юань. — Он еще вернется, но нам не помешает, давай поговорим.
— Слесарь? — удивилась Циньцинь. — А какую книжку он у тебя просил?
Глядя в окно на снеговика и развлекающихся молодых людей, Циньцинь решила, что Цзэн Чу — рабочий парень, из тех, кто любую работу умеет обратить в забаву, любит насмешничать и дразнить, может так зло подшутить, что жизнь не мила станет. Но разве такие ребята интересуются книгами?
— Он просил книгу по теории экономики, — ответил Фэй Юань. — Думаешь, наш слесарь необразован? Наоборот, у нас теперь много таких, их словно выбросили на помойку, как выбрасывает невежда случайно попавшую ему в руки яшму. Сколько произошло подобных трагедий! Цзэн Чу на год моложе меня, студент-неудачник. Недавно попал в группу японского языка на вечернем, кто-то похлопотал за него. Без связей сюда не попадешь!
— Правда? — удивилась Циньцинь, не помня этого студента. Он между тем вернулся, вежливо постучал и, бросив на сундук куртку, принялся работать.
Циньцинь оглядела его с любопытством. Невысокий, но крепкий, руки сильные, внешность самая заурядная, острижен под ежик, лицо квадратное, в общем, обыкновенный рабочий парень, ничего примечательного. Встретив такого на улице, не обратишь внимания. Только глаза живые, умные, добрые. Синяя чистая спецовка, на груди яркий красивый значок с изображением скачущего оленя. Парень выглядел моложе своего возраста, скрытая гордость никак не вязалась с его скромной внешностью, и Циньцинь внимательно приглядывалась к нему, силясь вспомнить, не встречала ли она его прежде. Конечно, не на занятиях.
Наконец ей все же удалось вспомнить, что этого насмешника она действительно видела однажды летом, у буфетной стойки в ресторане на набережной, он тогда тоже всех веселил…
День выдался знойный, ивы на набережной поникли от жары, песок на пляже жег ступни. Циньцинь с Фу Юньсяном проезжали мимо парка имени Сталина, и Фу Юньсян предложил выпить фруктовой воды. Они вошли в ресторанчик на набережной — деревянный дом в русском стиле, украшенный резьбой по дереву, с крестами и большой открытой террасой. Издали он был похож на сказочный домик, а оказался деревянным сараем, заваленным водочными бутылками, где было темно от дыма. Все толкались, шумели, скандалили. Циньцинь встала у стойки и начала потягивать через соломинку фруктовую воду, когда Фу Юньсян подтолкнул ее.
К стойке пробивался парень, держа в охапке пустые бутылки, видно намереваясь их сдать, но буфетчик был занят, и парень принялся расставлять свои бутылки в ящике.
— Полюбуйся на дурака! — подмигнул Фу Юньсян и отпил из стакана. — Смешает в ящике все бутылки, кто тогда разберет, где его, где чужие.
И как раз в этот момент из-за стойки раздался пронзительный крик:
«Ты поставил двенадцать, а кто видел? Ну, кто?»
«Говорю тебе, что поставил их в ящик», — загудел в ответ парень.
«В ящик? А кто их считал? Двенадцать? А почему не двадцать?»
«Все видели, — побагровев, кричал парень, — двенадцать поставил».
Он огляделся, ища поддержки, и, запинаясь, сказал:
«Ты… Тебе… Мне твоих денег не надо, а слова выбирай!»
Официантка в белой косынке подошла к стойке, где уже столпились привлеченные шумом зеваки, любители скандалов. Фу Юньсян допил свою бутылку и, размахивая ею, тоже протиснулся к стойке:
«Не шуми, не шуми, здесь по-честному обслуживают, ни одна бутылка не пропадет — премия обеспечена! Я могу подтвердить, что он поставил ровно двенадцать бутылок, не больше и не меньше. Могу все пересчитать, но тогда премия пополам! — Он тряхнул ящиком, зазвенели бутылки. — Не хватит, отнеси на мой счет или вот возьми деньги, а будет перебор, позвони мне».
С важным видом Фу Юньсян выложил на прилавок два юаня.
«Нечего форсить, иди отсюда», — засмеялась официантка.
Фу Юньсян взял парня за плечо и вывел из толпы.
«Впредь не будь дураком, — сказал он ему. — Ты хотел ей помочь расставить бутылки, а она тебя же заподозрила в нечестности!»
Фу Юньсяна распирало от гордости, и он подмигнул Циньцинь: вот, мол, я каков!
Парню было неловко, он кивнул Фу Юньсяну и молча ушел. Циньцинь запомнила, что парень был дочерна загорелый, а глаза маленькие, блестящие. На рубашке значок — скачущий олень. Да это он, точно. Что же это он, даже бутылки сдать не сумел? По простоте душевной считал, что все такие же честные, как он? Редко встретишь теперь такого человека.
— Фэй, ты читал статьи по экономической реформе? — спросил слесарь, не прерывая работы. — Их печатали в газетах и журналах.
— Чего тебе? — не расслышав, переспросил Фэй Юань и снова погрузился в словарь.
— Мне очень понравилось, как написано в одной статье: Китай в настоящее время — большая лаборатория, где проводят эксперименты. Одни эксперименты удаются, другие — нет. Более того, вместо открытия может произойти взрыв. А общий смысл статьи таков, глухая стена пробита, никакие трудности нас не остановят. Вспомни второй том «Капитала» Маркса…
— Опять «Капитал»! — Фэй Юань захлопнул словарь. — Сколько раз тебе говорил: не болтай глупостей. Система управления предприятиями и реформа хозяйственной структуры тебя совершенно не касаются. Грызешь черствую лепешку, накрываешься невесть чем, а еще рассуждаешь о социальных обследованиях. Кто станет в холод и голод сколачивать общественную группу для экономических обследований, да и вообще до тебя никому нет дела! Чтобы достичь какого-то результата, должно пройти немало лет, а тебе сейчас надо поесть досыта и нужна хорошая служба, а не грязная, тяжелая работа слесаря! Лучше возьмись за японский, через два года переведешь книгу или будешь работать в научно-исследовательском институте, можешь поступить в аспирантуру, и все пути тебе открыты. Без «Капитала» обойдешься. Да и кто в него теперь верит?
Против ожиданий Фэй Юань говорил взволнованно и горячо — значит, не мог промолчать. Однако лицо его оставалось по-прежнему невозмутимым. Ну и слесарь, даже имя у него редкое, надо запомнить. А парень обернулся и засмеялся, да так простодушно, что невольно вспомнился случай с бутылками.
— Ты утверждаешь, что спасение государства в науке. Если бы не черные волосы, я счел бы тебя восьмидесятилетним старцем, — с подкупающей непринужденностью ответил парень. — Наши ответственные работники все постарели, а молодые состарились душевно, хотя республика наша совсем еще молодая. Экономика у нас подобна больному гипертонией, к тому же страдающему малокровием и несварением желудка. Клубок противоречий! — Сидя спиной к Циньцинь, юноша старательно закручивал гайку. — Я всегда считал, что слишком долго мы не выправляли левацких ошибок в экономическом строительстве, реформы одной лишь хозяйственной структуры недостаточно, чтобы решить все проблемы; нужна реформа структуры политической…
— Не надо, не надо о политике, — прервал его Фэй Юань, с опаской глянув на Циньцинь. — Надоело! Я слышать о ней не могу! Меня тошнит! Нам необходимо совершенно иное миросозерцание, рожденное нашей эпохой, которое явится подлинным открытием в области познаний о месте и ценности человека в обществе. Итальянское Возрождение утверждало естественную сущность человека, гуманисты смело заявили: человек стремится к счастью, потому что так предопределено природой и нельзя идти против собственного естества. Буржуазные просветители восемнадцатого столетия в Европе выдвинули в качестве гарантии человеческого счастья благоприятные социальные условия. Руссо писал, что человек рождается свободным, но общество лишает его этой свободы. Великая французская революция провозгласила лозунг свободы, равенства и братства. Русские революционеры-демократы считали эгоизм единственным принципом человеческого поведения, даже Чернышевский говорил о разумном эгоизме. Полемика вокруг смысла жизни в новейшей истории углубила человеческое самопознание, а мы одним махом отринули все это драгоценное идейное богатство!..
Он говорил и говорил. Да, сегодня нельзя не задумываться о смысле жизни: годами подавлялись самые обычные человеческие чувства и желания.
— Не забывай слова Белинского: «Социальность… вот девиз мой». Социальность или погибель, — спокойно возразил Цзэн Чу, поднимаясь на ноги. — Индивид не может существовать без общества, марксизм считает человека совокупностью общественных отношений, реализация ценности человека находится в зависимости от социально-экономического развития, важно, в какой степени человек освободился от частнособственнической психологии. Нельзя размышлять о смысле жизни, оставляя в стороне человека и общество. Подай мне тазик!
Циньцинь вытащила из-под нар таз для умывания и передала парню. Их разговор был ей не очень понятен. Но она не столько старалась вникнуть в его сущность, сколько пыталась уяснить себе разницу в их суждениях. Цзэн Чу открыл кран и, когда таз наполнился ржавой водой, пошел ее выливать.
— Все это старые песни, — с иронией произнес Фэй Юань. — Десять лет назад я, как и ты, верил в них. Верил в борьбу против самого понятия «личное». А какой итог? Общество безжалостно выбросило меня за борт. И разве хоть кто-нибудь мне помог? Лишь ценой собственных отчаянных усилий мне удалось чего-то добиться. Эгоизм — широкое философское понятие, свойство всего живого, без эгоизма невозможно развитие общества. Я сознательный, мыслящий эгоист, в моем эгоизме нет изъянов, он никому не приносит вреда. Вред приносит тот, кто старается представить себя возвышенным и благородным.
— Пойми, — сказал Цзэн Чу, надевая куртку, — если бы ничего не изменилось за последние четыре года, ты побоялся бы разглагольствовать о своих теориях. Человек — частичка общества, и если гнаться только за личным счастьем, то счастья в итоге не будет, оно станет недостижимым. Если по-серьезному размышлять о смысле жизни, неизбежно появится желание изменить существующие условия…
— Беда с тобой, — качал головой Фэй Юань. — Разве окружающие условия и социальная атмосфера не определяют именно твою жизненную позицию? Мало ты, видно, пострадал! Поживешь с мое, перестанешь молоть чепуху. Уверен: обожжешься снова — и сменишь символ веры.
— Символ веры, говоришь? — торжественным тоном произнес Цзэн Чу. — Символ веры не так легко сменить.
Он говорил, осторожно подбирая слова, чтобы не упустить бесконечно важный и дорогой ему смысл.
— Я уже наговорился на эту тему досыта. Душа спокойна, как лунная поверхность, ни ветра, ни волн, — пожал плечами Фэй Юань.
Цзэн Чу поднял пуговицу, которая оторвалась от куртки и упала на пол.
— Ну, для пустого сердца все вокруг бесцветно. Важно другое: что именно опустошает душу?
— Давай пришью, — сказала Циньцинь, — а то потеряешь.
Молодые люди вели разговор, совершенно забыв о ней. Оно и понятно. Что могла она сказать о самопознании или о социальной сущности? Ей захотелось сделать им что-нибудь приятное.
— Иголка есть? — спросила она у Фэй Юаня.
— Не надо, я сам пришью, — стал отказываться Цзэн Чу. — Я могу даже сшить пальто с отложным воротником, брюки дудочкой, европейскую юбку, детские слюнявчики. Честное слово, не хвастаюсь. Не веришь?
Он рассмеялся по-детски простодушно, будто и не было серьезного разговора, и на прощанье сказал Фэй Юаню:
— Знаешь, в парке Чжаолинь сделали фигуры из льда с подсветкой, там даже и лебедь есть…
Фэй Юань усмехнулся, но Циньцинь казалось, что он не слушает Цзэн Чу, настолько был он равнодушен и холоден. Словно мерцающий свет далекой звезды.
Цзэн Чу пошел по коридору, напевая свою любимую песню «Есть в Испании долина…». По мере того как он удалялся, голос его становился все тише, и в комнате снова воцарилась тоскливая тишина, в которой слышно было, как тикают на руке у Циньцинь часы.
— Пережил бы он то, что мне довелось пережить, не стал бы так разглагольствовать, — со вздохом произнес Фэй Юань, устремив взгляд на висевшие над кроватью фотографии. — Циньцинь, — вдруг окликнул он ее едва слышно, с дрожью в голосе, и волнение его передалось девушке. — Ты такая чистая, такая наивная… А знаешь, она уехала…
Циньцинь чувствовала на себе его пристальный взгляд, хотя за стеклами очков глаз не было видно.
— Кто она? — спросила Циньцинь, хотя отлично знала, о ком идет речь.
— Весной семьдесят седьмого года она уехала на юг, бросила меня. — Он понурил голову. — Тогда я понял, до чего лицемерными и подлыми бывают люди, понял, что свое, личное, — это то, на чем держится мир. Ты совсем еще ребенок, чистый, наивный, в тебе сохранилась природная доброта, это удивительно!
— Нет, нет, — смущенно возразила она, теребя свой шарф. Она вовсе не наивная. Собирается замуж, а сама пришла к парню, с которым едва знакома. Хороша наивность! Нет, Фэй Юань должен считать ее подлой и скверной. Циньцинь покраснела, слезы навернулись на глаза, она готова была от стыда спрятаться под нары. — Нет!
— Не спорь, — безапелляционно заявил Фэй Юань. — В первый же вечер, как я тебя увидел, я понял, что ты не занимаешься исследованием стекла, просто тебя очаровали узоры, которые мороз нарисовал на стекле. Кого может привлечь в нашем мире, мире растленных душ, святая чистота и эфемерность морозных узоров? А ты ими любовалась и в то же время грустила в одиночестве…
Голос его звучал ровно, нежно и мягко, как свежий снег. Циньцинь дрожала. Ей хотелось прижаться к нему и плакать. Одиночество? Он единственный понял, как она одинока, как ей тоскливо. Рядом люди, и кажется, ты неотделима от них, а сердце одиноко. Живешь, как стекло в воде, как асбест в огне!.. И вот встретился человек, который понял ее, понял ее тоску. Но почему в его голосе нет теплоты, почему он так скован, его холодность причиняет ей боль, ранит душу? Циньцинь стало не по себе. Она взглянула на окно. Мороз уже стал рисовать на стекле свои узоры. Эти узоры, наверное, частые гости в холодном студенческом общежитии. Узоры великолепны, в них чудятся отблески зорь, сказочные феи в белоснежных шелковых платьях, порхающие по серебристой обители. А может быть, такие же узоры были на дядиной меховой шапке, заиндевевшей от мороза?
— Ты видел северное сияние? — быстро спросила Циньцинь и сама смутилась от заданного невпопад вопроса.
Он молчал. Сердце у Циньцинь готово было выскочить из груди. Неужели он ответит так, как ей хотелось бы?
— Ты знаешь про северное сияние? — повторила она.
Он кивнул.
Вопрос был несколько странный. Девушка и сама это почувствовала. Сама-то она не видела северного сияния, но ей хотелось знать совсем другое. Может, он, как Фу Юньсян, захочет вымаливать дары у святого Будды? Нет, он не такой…
— Северное сияние — это цветные световые столбы и полосы, часто наблюдаемые на небе в высоких широтах, — заговорил Фэй Юань тоном учителя. — Испускаемые солнцем микрочастицы улавливаются магнитными полюсами земли, воздействуют на молекулы газов в верхних слоях атмосферы и вызывают свечение. Понятно? Это частое явление для высоких широт, которое в северном полушарии можно назвать северным сиянием.
— Нет! — горячо возразила Циньцинь. — На Северо-Востоке Китая и в Синьцзяне оно бывает в периоды повышения солнечной активности. Дядя…
А зачем она ему это говорит? Какое отношение он имеет к дяде?
— Если и бывает, то очень редко, как случайное явление. — Он вынул щипчики и принялся стричь ногти. — Почему тебя интересует северное сияние? Конечно, это очень красиво, но кто из нас его видел? Да если бы даже оно засияло у нас над головой, из труб все равно валил бы дым и копоть, а крестьяне по-прежнему рылись бы в желтой грязи… Так стоит ли верить, что над землей воссияет идеальный божественный свет? Я ни во что не верю… Что это ты?
Циньцинь закрыла руками глаза, они болели, их жгло; она боялась взглянуть на Фэй Юаня, словно перед ней предстал совсем другой человек, а прежний, созданный ее воображением, никогда больше не возродится. Сердце у нее упало, и ей казалось, будто она летит в бездну, в страшное подземелье из слышанной в детстве сказки «Дюймовочка», толстый черный крот хочет взять ее замуж. Откуда это отчаяние? Ведь северное сияние — и в самом деле редкое явление, редкое и случайное, никак не связанное с их жизнью. Есть оно или нет его — не все ли равно? Фэй Юань говорил правду, знал он больше, чем Фу Юньсян, почему же на нее нахлынула такая тоска? Пришла заниматься японским, а завела речь о северном сиянии.
— Напрасно отняла у тебя время, — произнесла Циньцинь тоном провинившейся школьницы, достала конспекты и принялась торопливо их пролистывать.
Из стопки книг Фэй Юань вынул одну небольшую, в изящном дорогом переплете:
— Возьми почитай… Если будет время, приходи почаще, ладно? Я ведь тоже страдаю от одиночества…
Холодное закатное солнце сверкало на разрисованных морозом окнах. Циньцинь бездумно смотрела на стихи, висевшие над постелью Фэй Юаня, напрасно силясь понять, что особенного он в них увидел.
Я песню спеть хочу, которую не пел, Но каждый день лишь прикасаюсь к струнам.VI
Дни бежали, и когда по утрам она срывала календарный листок, ей казалось, будто стена отчуждения, которую она сама воздвигла, становится все выше, все плотнее. День свадьбы неумолимо приближался, и с его приближением росло отчаянье в душе Циньцинь. Раньше Новый год был ее любимым праздником, теперь же ей хотелось, чтобы время остановилось. Недавно выпал обильный снег, но пешеходы уже протоптали тропинки, а мостовые сделались черными, блестящими и скользкими: велосипедисты часто падали, причем велосипед летел в одну сторону, а велосипедист — в другую. Грузовики проезжали в облаках снежной пыли, напоминавшей цементную; только на крышах снег оставался нетронутым и сверкал белизной. Раньше Циньцинь с нетерпением ждала весну, когда снег растает и завком устроит для молодых рабочих поездку за город, где можно расположиться на свежей траве Солнечного острова, под деревьями выпить пива, закусить пирожками с мясом, а потом петь песни под аккордеон. Это был один из самых веселых дней в году, но теперь девушке хотелось, чтобы все время шел снег и зима не кончалась, чтобы никогда не настал тот страшный день.
«Еще неделя прошла, — подумала она с тоской, глядя на хризантемы в горшке, стоявшие на подоконнике. — Осталось сорок семь дней, всего сорок семь…»
— Сегодня воскресенье, — донесся из кухни мамин голос. — Надень шубку, которую тебе подарил Фу Юньсян.
Что же, надо примерить и надеть, ведь рано или поздно придется ее носить. Что-то упало на пол, разбилось. Оказалось, что это термостакан, сохраняющий тепло, который Фу Юньсян подарил ей ко дню рождения в прошлом году. Ей не было жалко стакана, разве только это дурной знак.
— Что с тобой? Ходишь будто потерянная, — удивилась мать. — Сглазили тебя, что ли? Или обидел кто? Ну чем тебе не пара Фу Юньсян? В институте учишься, а людей избегаешь…
— Помолчи, мамочка, ладно? — Циньцинь хлопнула дверью. Разве поймет ее мать? А могла бы понять, Циньцинь все выложила бы ей начистоту. Больше тридцати лет прошло с того дня, как ее отнесли в узорчатом паланкине в дом мужа, и она спокойно провела там всю жизнь, родила и вырастила детей. Даже тайцы в джунглях признают право на любовь, а мать никогда не знала любви. Вот и хочет, чтобы дети так же прожили жизнь. Есть достаток, чего же еще желать? Отец тоже возмущался: «Чего ты терзаешься?!» Родители твердо усвоили жизненные принципы своего поколения и всячески стремились навязать их детям, забывая о трагедиях, случавшихся в прошлом. Им была чужда неудовлетворенность собственной судьбой. Она вызывала в них гнев. Их не радовал весенний ветер, от которого в горах и долинах лопаются почки и зеленеют ивы. Во многих семьях теперь не было согласия между поколениями. И дело тут было не только в образовании, но и в отсутствии взаимопонимания. Циньцинь не считала, что все родители не правы, к тому же старшие чаще молодых оказывались и веселыми, и жизнерадостными, вполне довольными своей судьбой. Ее же родители были совсем другими, да и семьи, с которыми она общалась, тоже. Будь у Циньцинь старшая сестра, девушка не страдала бы от одиночества. Заводские подруги с нетерпением ждали свадьбы Циньцинь, мечтая повеселиться, а ей не о чем было с ними говорить. У заводских ворот на доске постоянно появлялись объявления то о соревнованиях по пинг-понгу, то о наборе учащихся в театральную труппу или художественную студию, то о художественной выставке, организованной профкомом, о лекции по литературе или о вечере поэзии. Однажды пригласили из провинции выступить молодого отличника производства. Но вечера заполняли у молодежи лишь половину досуга, а куда девать остальное свободное время? Циньцинь не покидало чувство безотчетной тоски, о которой она не могла бы никому рассказать. Все эти мероприятия были для нее чем-то далеким, как свет на другом берегу реки или красавец водопад на противоположной стороне горного ущелья.
Она читала книги о молодежи пятидесятых годов, честной, бескорыстной, готовой к самопожертвованию, смело глядящей в будущее. Какими же счастливыми были эти люди! А что стало с ними потом? Счастье постепенно уплывало от них и к концу шестидесятых годов сменилось страданьем. Циньцинь не разделяла их взглядов, их отношения к жизни. Чего-то в них не было, самого важного, и подражать им Циньцинь совсем не хотелось. Но прошедшие годы по-прежнему алели для нее пламенем энтузиазма. Давно канули в прошлое тридцатые годы. Осталось ли от прошлого хоть что-нибудь в нынешнем обществе? Циньцинь верила, что осталось. Но друзья ее не верили. А Фу Юньсян вообще не хотел думать о подобных вещах. «Нашла из-за чего терзаться», — говорил он. И Циньцинь, натолкнувшись на глухую стену непонимания, перестала с ним спорить. Ее тоскующая душа жаждала стимула, именуемого чувством времени. Но каково оно, это чувство времени восьмидесятых годов? Хоть бы встретить человека, который вместе с ней стал бы доискиваться смысла человеческого существования…
Была у Циньцинь в деревне подруга, старше ее, родом из Пекина, которая потом вернулась туда. Она говорила: «Жизнь человека без любви неполноценна. Полюбишь — и найдешь в любимом самое себя, будешь тогда к себе требовательнее, станешь лучше, сбудутся мечты, найдешь свое место в жизни. Выйти замуж и народить детей — дело немудреное, а вот полюбить трудно, любовь — ей предела нет».
Ее слова запали в душу Циньцинь. Да, полюбить и в самом деле нелегко. Ни разу не увидела Циньцинь в своем женихе самое себя и потому не могла понять, что это значит. Ей не о чем было говорить с Фу Юньсяном, а он вовсе не желал, чтобы она стала требовательнее к себе, стала лучше. И все же через сорок дней она «найдет свое место в жизни», бок о бок с ним. Мелькали листки календаря, ночи становились короче, время не остановишь, чего же она, глупая, ждет, ведь теперь ничего не изменишь. Фу Юньсян уже несколько раз звал ее сняться на свадебной фотографии, откладывать больше нельзя. Ей двадцать пять, а она еще никого не любила: то ли не встретился тот, кто по сердцу, то ли нет такого на свете.
На этой неделе она не пошла к Фэй Юаню, хотя вопросов по японскому накопилось уйма; ей почему-то не хотелось спускаться в темный подвал. В глубине души она уважала Фэй Юаня за остроту мысли и аналитический склад ума. Тоскуя, она мечтала о том, кто сможет ее понять — неважно, кто бы он ни был, — с кем можно говорить не только о японском языке, но и о жизни. Может ли она раскрыть душу Фэй Юаню? А если раскроет, что подумает он о ней? Северное сияние для него просто явление природы, и разговор о нем он счел болтовней, на которую не стоит тратить время. О себе он чересчур высокого мнения, считает себя осью, вокруг которой вращается общество. Как же можно с ним быть откровенной? Можно снова попросить его позаниматься японским, но если узнает Фу Юньсян, то устроит скандал…
Быстро позавтракав, она стала собирать сумку, чтобы идти в университет.
— Впору тебе шуба или нет? — спрашивала мать. — Юньсян сказал, что, если не годится, надо отдать портному, пусть перешьет.
— Не годится! Не подходит! — крикнула Циньцинь уже с лестницы, хотя совсем забыла ее примерить.
В воскресенье было большое движение, и Циньцинь едва не опоздала, уже прозвенел звонок, когда, запыхавшись, она побежала ко второму корпусу, чуть не сбив с ног какого-то человека. Это был Цзэн Чу, тот самый слесарь, которого она видела у Фэй Юаня. Он явился в своей неизменно промасленной куртке, с застиранной, выцветшей холщовой сумкой для книг на плече, словно школьник. Теперь Циньцинь вспомнила его, он всегда закидывал лямку через голову и торопливо шел в последний ряд. Сейчас он разговаривал с каким-то велосипедистом, вытаращив глаза и побагровев от возмущения, даже уши у него покраснели.
— Сколько раз вам надо говорить? На четвертом этаже плохо работает отопление, к утру полотенца замерзают и встают колом!
— Знаю, знаю, непременно скажу в котельной, чтобы увеличили давление, — неохотно ответил тот, поигрывая педалью велосипеда.
— Бесполезно! Дело не в котле, все упирается в циркуляцию. Еще до начала отопительного сезона я предлагал проверить сеть…
— Технические вопросы потом, мне сейчас некогда. А ты не болтай лишнего, — с пренебрежением опытного и старшего по возрасту человека отвечал ему собеседник, усаживаясь на велосипед.
— Ты так не уедешь! — закричал Цзэн Чу и вцепился в багажник — велосипед упал.
— Чертенок, — засмеялся велосипедист, поднявшись и отряхиваясь от снега. — Усердие не по разуму. Ты же слесарь, куда суешься? Сеть планируем проверить в будущем году, спешки нет.
Циньцинь уже была далеко, но все еще слышала, как кричал Цзэн Чу:
— Знаю я вас! В будущем году перенесете на следующую пятилетку. Все студенты перемерзнут! Вас бы поселить на четвертом этаже, и хоть раз вам бы там заночевать!
Циньцинь невольно замедлила шаг. Этот парень ко всему относился с душой. Когда лепил снежного человека, радовался, как ребенок, а сейчас был по-настоящему зол. Он обогнал ее и, когда она вошла в аудиторию, уже сидел с блокнотом, как обычно, в заднем ряду.
«Что со мной сегодня?» Она не знала и не была расположена заниматься. У него лямка перекинута через плечо, на спецовке значок с оленем, волосы коротко острижены… А почему олень? Почему после занятий он первым выбегает и его нигде не найдешь? Целую неделю Циньцинь искала случай поговорить с ним, но он вел себя так, словно не был с ней знаком. Набивает себе цену или просто застенчив? Простой рабочий паренек, чего воображать? Но почему ей так хочется с ним поговорить? Правда, он читал «Капитал», учит японский, знает иностранные слова, например «девиз», и произносит их с таким серьезным видом. Что же он за человек? Почему Фэй Юань назвал его неудачником? На разочарованного он не похож. Глаза ясные, блестят. Не болтун, и слушать его интересно, может насмешить, с ним нескучно… Да я ведь видела его из автобуса как-то утром: он ждал, когда откроется библиотека, и пританцовывал, чтобы не замерзли ноги.
— Пойдем? — затормошила ее Суна, сидевшая рядом, когда урок кончился. Она была сегодня нарядно одета, в светло-коричневом пальто с ворсом, под пальто — куртка из терилена с хлопком, на воротнике блестящая застежка в форме лютни.
— Мы собираемся в гости к актрисе оперного театра, — хвастаясь, сказала она и поправила прическу. — Пойдешь с нами? Она знаменитость, весь город о ней говорит, скоро за границу поедет. Знаешь, сколько желающих к ней пробиться, но она не всех принимает.
Циньцинь отрицательно мотнула головой.
— Ну даешь! — фыркнула Суна, сморщив при этом нос. — Не умеешь ты жить! Ведь теперь перед нами все двери открыты, каждый может найти себе дело по душе. Я вот люблю знаменитостей, хочешь, с кем-нибудь познакомлю?
Циньцинь лишь усмехнулась в ответ. Познакомиться ей хотелось, уж очень скучно она живет. Но вовсе не со знаменитостью… А с кем же тогда?
— Бай-бай. — Суна помахала рукой.
— Постой! — Циньцинь догнала ее и, запинаясь, спросила: — Ты его знаешь?
— Кого?
— Здешнего слесаря, Цзэн Чу, он ходит с сумкой через плечо.
— Ах, этого! — Суна удивилась, а потом с видом человека, который все знает, презрительно спросила: — А тебе он зачем?
— Да просто так спросила…
— Лучше не спрашивала бы. — И Суна зашептала ей на ухо, обдавая приторным ароматом духов: — Он отсидел в палицзы[67] год и три месяца, только в позапрошлом году выпустили. Я все узнала! Сначала думала, он герой и отец большой человек, — брехня! Матери нет. У мачехи рос, а сейчас один живет, в халупе, еду сварить негде! Заводские ребята говорили: дурак, мозги как у ящерицы, на начальство замахнулся. Была у него прекрасная работа, выгодная, кладовщиком служил на большом складе, а теперь вот выгнали, в слесари подался…
— Что ты говоришь? Неужели правда? — Циньцинь побледнела и схватилась за перила, в груди у нее защемило.
— Все правда, до единого слова, ручаюсь, я про всех все знаю, никогда не совру, — с жаром клялась Суна, все больше распаляясь, — Ты пойми, его взяли в январе тысяча девятьсот семьдесят седьмого. — Тут она жестом показала, как защелкиваются наручники. — Это уже после «банды четырех», значит, дело не пустячное, с политикой связано, с инцидентом на пекинской Тяньаньмэнь и борьбой с современными суевериями. В общем, настоящее преступление. Его посадили, но он не утихомирился, что-то записывал, тогда ему заломили руки за спину, надели наручники и продержали так две недели!..
Циньцинь стало страшно, она даже зажмурилась.
— Еще говорят, он псих. Сорвал где-то простую травку и поставил в бутылку с водой, а когда травка засохла, рыдал как ненормальный и вопил на всю камеру, что нельзя было ее срывать, потом налил в бутылку воду для полоскания рта. Смешно! И так просидел он год и три месяца. За политику. Заводское начальство тут ни при чем. А когда был кладовщиком, донес, что начальство списывает новые машины, на металлолом, а прибыль между собой делит; у них там все замешаны, сверху донизу, общая игра идет. Два года бился этот дурак головой о стену — и добился: выгнали вон, едва не остался безработным. В прошлом году его реабилитировали, но директор завода в воде не тонет, в огне не горит, по-прежнему ловит рыбку — в общем, все как было. Один псих не унимается. С виду он добрый, а в голове дурь, но это не сразу разглядишь…
— Откуда же ты?.. — Циньцинь удивилась, как это Суна так подробно все разузнала про Цзэн Чу.
— Откуда я знаю? — живо откликнулась словоохотливая Суна. — Мой сосед, паренек, тоже сидел за пустяк: барашка увел. Цзэн Чу раньше выпустили, он приходил к его матери, бедная прикована к постели, не встает, так он ей, чужой женщине, деньги давал, она его до сих пор вспоминает. А паренек вышел из заключения и исправился. Ой, уже двенадцать, я побежала!
— Погоди, — остановила ее Циньцинь.
— Чего? Говори!
— Почему у него нет никого из близких?
— Близких? — вытаращила глаза Суна и засмеялась. — Как нету? Человеку уже тридцать! Матери нет, так подружка есть.
Циньцинь прикусила губу и внимательно разглядывала до блеска отполированные каменные ступени, даже не заметив, как соскользнула с плеча на пол ее черная сумочка.
— Дуреха ты, — хлопнула по плечу ее Суна. — Когда его посадили, девица его слиняла. Он на нее убухал зарплату за пять лет, все для дома купил, жениться собрался, бац — и сцапали! Увели в наручниках, а когда вышел — у нее уже ребенок от другого, и ничего она ему не вернула, вот какие бывают люди! Любит, не любит — я давно поняла, лови момент, при чем тут любовь? Муж — это муж, а любовник — любовник! Разница! Ну, ты меня извини, я побежала! Вот такая любовь!
Она тряхнула головой, как бы отгоняя все, что мешает жить, и звонко застучала высокими каблучками, сбегая с лестницы. Потом, словно о чем-то вспомнив, вернулась.
— Ай, — крикнула она, — ты что, влюбилась?
У Циньцинь на глаза навернулись слезы, и она, утирая их, качала головой.
— Не знаю, есть ли на свете любовь, но, по-моему, лучше всего себя любить. Вот скажу тебе для примера: я работаю нянечкой в детском саду. Знаешь, что наша мелюзга говорит? Одна девочка: «В кино говорят про любовь! Любить — значит стать мамой». Другая ей отвечает: «Нет, любовь — это папа и мама вместе». Третья: «Нет, любовь — это когда разводятся!» Подумай, в пять лет знают все про любовь, а главное, правильно говорят; может, у тебя что-нибудь случилось, так ты не горюй, пойдем со мной, развеешься.
Она ласково привлекла к себе Циньцинь. Но та отстранилась. Ей почему-то хотелось плакать. И не только сейчас. Даже на танцах она едва сдерживала слезы. Сколько раз на нее накатывала тоска! Развеселиться нетрудно, даже самого грустного человека можно рассмешить. А потом что? Что остается от веселья? Оно исчезает бесследно, а вот слезы горя, муки, страдания, свои и чужие, оставляют в душе горечь. Суна такая откровенная и такая легкомысленная. Она мещанка, и красота у нее пошлая…
Суна скорчила гримаску и убежала.
Циньцинь так и осталась стоять в растерянности; история Цзэн Чу ее поразила, как было бы хорошо, окажись все, что сказала Суна, выдумкой, но, увы, Циньцинь знала, что это правда. Вот, значит, какой он, этот Цзэн Чу. Манеры у него, конечно, не ахти какие, зато он правдив. А в глазах, хоть они и блестят, затаилась скорбь от пережитого. Да, ни она, ни Фэй Юань не представляют себе, до чего этот парень несчастлив.
Она закинула шарф за плечо и спустилась по лестнице.
А почему же он всегда поет, с беззаботным видом проверяет отопление, интересуется экономической структурой и ледяными фигурами в парке, подсвеченным лебедем, на которого даже она не ходила смотреть?
Как все это увязать?
Интересно, каким он был в тюрьме? На окно поставил бутылку с травой, чтобы можно было узнать его камеру, чтобы изредка птичка подлетала к окну. О, если бы Циньцинь тогда его знала, она непременно принесла бы ему передачу…
— Здравствуй, Циньцинь!
Услышав свое имя, Циньцинь невольно остановилась, протирая глаза. Как ей хотелось сейчас увидеть значок с оленем и перекинутую через плечо холщовую сумку… Но перед ней стоял Фэй Юань в сверкающих очках. Воротник темно-серого суконного пальто был поднят, наполовину скрывая красивое лицо молодого человека.
— Здравствуй, — смущенно ответила Циньцинь, все еще находясь под впечатлением рассказа Суны.
— Ко мне не заходила? — прошептал он с напускным равнодушием, но она сразу поняла: Фэй Юань здесь не случайно.
— Нет, — простодушно ответила она.
— Что-нибудь трудное задавали на этой неделе?
— Нет.
— А книжку прочла?
— Прочла, очень полезная. Она, наверное, тебе нужна?
— Нет, не нужна, оставь себе, пригодится. — Он вытащил из кармана ослепительно белый продолговатый конверт с мелкой японской надписью и разноцветными иностранными марками. — Хочу с тобой посоветоваться.
— Со мной? Посоветоваться?
— Слушай, мой дядя — профессор, преподает в одном из японских университетов, он согласен платить за мое обучение, и я могу поехать учиться за границу за собственный счет. Оформить это будет несложно.
— Правда? — обрадовалась Циньцинь, она всегда радовалась за других.
— Вот я и подумал, — он ходил взад и вперед, заложив руки за спину, потом повернулся и, пристально глядя на Циньцинь, произнес: — Ехать мне или не ехать? Вернусь я непременно. Я хоть и не коммунист, но патриот.
— Конечно, вернешься, — сказала девушка. — Что тебе там делать?
— А может, подождать, поехать года через два, после окончания университета? — Он в упор глядел на Циньцинь. — Не с кем посоветоваться… Что ты скажешь?
— Я? — смущенно произнесла Циньцинь, теребя конец шарфа. Она вдруг заметила на нем красивую этикетку, на которой был изображен скачущий олень. Заметила впервые и подумала: интересное совпадение. Олень весело скачет по лесам и полянам, прыгает через свалившиеся сухие деревья, кучи хвороста, колючий кустарник, через кристально чистые таежные ручьи. Ей тоже хотелось бы так прыгать, но не в маленьком островном государстве на Тихом океане, а в раздольных степях по берегам Сунгари, где она побывала…
— Что же ты скажешь? — нетерпеливо повторил Фэй Юань.
— Не знаю, правда не знаю, — выдавив из себя улыбку, ответила Циньцинь.
Зачем он у нее спрашивает? Окончить университет и поехать учиться дальше? Зачем? Она этого не понимала и потому не могла ответить. Но ведь надо что-то сказать, а то он плохо о ней подумает. И вдруг ни с того ни с сего она спросила:
— А как у тебя с отоплением?
— Ты еще помнишь про отопление? — Взгляд его помрачнел.
Ну что ей за дело до его отопления? Она хотела спросить о другом: «Где живет слесарь? Говорят, в халупе?» Фэй Юань наверняка знает; если бы сказал, она непременно пошла бы туда. Ради любопытства, от скуки, от страха? Ей просто хочется знать, как парень живет, и сравнить его жизнь со своей. Вот и все. Но Фэй Юань этому не поверит. А зачем, в самом деле, она пойдет? Она и сама не знает, но ей нужно знать, где он живет…
— Пойдешь смотреть ледяные фигуры? — спросила Циньцинь. — Мы непременно пойдем!
— Кто это — мы? — удивился Фэй Юань, слегка прищурившись.
Может, сказать: я и Фу Юньсян? Нет, тогда он подумает, что я нарочно так говорю, чтобы с ним не идти. Циньцинь покраснела.
— Я с подругами.
Фэй Юань нахмурился.
— Не хочу видеть ничего ледяного, я уже достаточно промерз в нашем холодном мире. Стоит ли строить ледяные дворцы для того лишь, чтобы доказать, что вода прозрачна и чиста? Ведь это значит обманывать и себя, и других. В самой прозрачной ледяной глыбе все равно есть грязь, как и в воде; есть в ее прозрачности что-то фальшивое; она светится только ночью, в темноте. Лед красив, но ведь он растает весной. Умрет. Я могу изменить условия собственной жизни, но для объективной действительности лекарства не существует.
Он сунул конверт в карман, пробормотал: «Прости!» — и заспешил к выходу. Колыхнулись тяжелые портьеры, и внутрь ворвалось облако морозного воздуха.
«Да, это он верно сказал: лекарства не существует», — вздохнула Циньцинь, глядя, как мелькает высокая фигура Фэй Юаня среди редких берез в роще перед корпусом.
VII
Откладывать больше было нельзя. Если идти прямо по большому проспекту, то выйдешь к известной в Харбине фотографии «Сунгари». Войдешь в павильон, секунда — и готово, все кончено: «счастье навеки», свадебная фотография. Выдолбишь из дерева лодку, на прежнее место его не посадишь. Циньцинь все понимала, но шла рядом с женихом, как привязанная, будто ее насильно ведут в тюрьму.
Фу Юньсян желал сняться в этой фотографии потому, что здесь можно было взять напрокат самое дорогое платье и роскошный костюм, к тому же здесь у него служил приятель.
— Мастер Ван обещал: он потом увеличит фото до одного чи и двух цуней[68] и выставит в витрине, а через три месяца отдаст нам бесплатно, — сказал очень довольный Фу Юньсян. — По-моему, фотографии надо сделать непременно цветные. Ты надень зелененькие сережки, их не отличишь от настоящей бирюзы. И к твоему цвету лица они очень идут. Вообще-то они поддельные, в магазине «Дружба» стоят четыре пятьдесят, а фотография берет за разовое пользование целых два юаня. Обдираловка! Надо будет поторговаться. Как-никак приятель…
Говорил он громко, как разносчик, рекламирующий свой товар, и Циньцинь оборвала его:
— Тише!
— Подумаешь, — огрызнулся он, но голос понизил. — Угадай, о чем я думал сегодня утром?
— О фотографии.
— Так, да не так! Я думал, что нам повезло, свадьба весьма кстати. Представь, что мы поженились бы на несколько лет раньше, когда были одеты в рабочую одежду с огромными значками — из-за этих бандитских ублюдков! А теперь на тебе длинное платье, в волосах — цветы, прелестно! Это же один раз в жизни бывает, люди должны жить по-людски, а не как скоты, верно? Очень хорошо, что скинули эту «банду четырех»… Давай побродим по рынку? Мать просила захватить для нее два цзиня батата, а то все распродадут к вечеру…
Она кивнула, и Фу Юньсян удивился, потому что обычно она не любила ходить на рынок из-за толкотни.
Теперь по крайней мере они придут в фотографию на полчаса позже. Хоть на десять минут, хоть на минуту позже, и то хорошо. Циньцинь ждала чуда — например, пожара в фотографии. Увы, пожар не поможет: сгорит одна фотография, найдется другая; лучше пусть пленка кончится, четыре года назад пленка была дефицитом, а теперь ее сколько угодно; или пусть у Фу Юньсяна вскочит чирей и распухнет лицо, но за неделю чирей заживет, и опять придется идти в фотографию; единственное, что ее может спасти, — это землетрясение: провалится весь город под землю, все люди, в том числе и она, Фу Юньсян и фотограф… Нет, это слишком жестоко. Но что же делать? Неужели фотографироваться? Нет, надо ждать чуда. В средние века мог бы появиться, например, рыцарь с длинным мечом, посадил бы ее на седло и увез; даже в мрачном подземелье, где жила Дюймовочка, нашлась милая ласточка и за день до свадьбы унесла ее в дальние теплые края… Циньцинь погрузилась в мечты о чуде, которое избавило бы ее от «счастья навеки»…
— Почему два мао за палочку? Позавчера стоило полтора! — крикнул Фу Юньсян, бросив обратно в деревянный ящик засахаренные мороженые яблочки на палочке, которые хотел купить у разносчика.
— Опять все подорожало, даже засахаренные фрукты, — проворчал Фу Юньсян и потащил Циньцинь к тележке, торгующей от магазина.
— Почем пара термосов? Красивые, мне нравятся.
— Баллонов к ним нет.
— А без баллонов много не продашь, — сказал Фу Юньсян.
— В лавке напротив есть баллон.
— У частников всегда все есть, от кожаных ботинок до копченой колбасы, — проговорил Фу Юньсян. — Пойдем купим колбасы.
— Она же твердая, не разжуешь, — робко возразила Циньцинь.
— А ты жуй как следует.
— Она жесткая, невкусная.
— Ты просто не чувствуешь вкуса.
Пожалуй, Фу Юньсян прав. Она перестала ощущать вкус. В деревне Циньцинь все с аппетитом ела.
— Апельсины сладкие? — спросил Фу Юньсян, шаря в корзине, накрытой войлоком.
— Кисло-сладкие, — пропел в ответ молодой человек в толстом ватнике.
Фу Юньсян вдруг развеселился.
«С чего это он?» — подумала Циньцинь, с безучастным видом стоявшая рядом.
Кисло-сладкие? Вся жизнь кисло-сладкая. Правда, бывает еще горькая, жжет, как перец или как гнилая проросшая картошка. Кто чувствует горечь жизни, тот не совсем еще омертвел. Раньше все казалось Циньцинь вкусным, на самом же деле она именно тогда не ощущала вкуса.
— Заведем свой дом. — Фу Юньсян подтолкнул ее. — Купим аквариум с золотыми рыбками.
Он залюбовался золотыми рыбками в тазу, вокруг которого толпился народ: на улице мороз, а рыбки спокойно плавают.
«Хорошо им, — подумала Циньцинь, — могут поплакать, если захотят, потому что вокруг вода и ничего не видно». Но вдруг ей стало жаль рыбок до боли. Ведь их выловили из родных рек и озер, привезли сюда и пустили в тесный аквариум; рыбы наверняка плачут, только беззвучно, потому и глаза у них выпучены, от слез…
— Дайте два цзиня печеного батата, — сказал Фу Юньсян старухе, возле которой стояла закутанная в тряпье жаровня, и стал выбирать.
— У меня весь батат хороший, — проворчала старуха в рваном ватнике, из которого торчала клочьями вата.
— Вежливости тут не понимают, им деньги подавай, — проворчал Фу Юньсян и пошел дальше, уже основательно набив сумку.
Циньцинь оглянулась. На холодном ветру старуха хрипло кричала, зазывая покупателей, и девушка вспомнила, как однажды их грузовик увяз в грязи и они укрылись от дождя в ближайшей деревне. Тогда одна старуха в лохмотьях сунула ей в руку горячий, только что сваренный початок молодой кукурузы…
— Опять ты задумалась? — повернулся к ней Фу Юньсян. — Взгляни-ка, мама говорит, что тебе надо купить такую кофту.
Он показал на лоток, где лежали яркие шерстяные кофты, очень дорогие.
— Не нужно мне.
— А что тебе нужно?
— Ничего.
— Ты говорила, что хочешь импортную куклу за десять юаней и восемь мао.
— Да я пошутила. А если захочу, сама куплю.
Куклу? Ей, женщине двадцати пяти лет? В деревне как-то ей пришлось несколько дней поработать в детском саду, она тогда спросила ребятишек: «Какие у вас дома игрушки?» — «А что такое игрушки?» — зашумели дети. Они в глаза их не видели, играли со стекляшками и спичечными коробками. Все по-разному живут. Взять хоть эту толкучку. Одни продают кукурузные початки, другие — дорогую кожаную обувь.
Конечно, рынок не сравнить с государственными магазинами, где несколько лет назад на прилавках ничего не было. Жизнь непрерывно меняется. Надежды и разочарования переплетаются с реформами и беспорядками, к радости примешивается тревога; но можно ли было верить, что после смутного десятилетия за одну ночь исчезнут нищета и отсталость? Что за спадом непременно последует скачок? Даже в обществе высокого материального уровня неизвестно, как будет развиваться духовная культура. Исчезнут ли тоска и одиночество, обман и предательство? Несколько лет назад все жили без надежды, по раз и навсегда установленному порядку, лишь в глубине, в молчаливой тишине, зрели гнев и возмущение несправедливостью. И вдруг пробудилась вся страна, словно произошло извержение вулкана. И люди стали жить по-человечески, подводные течения забурлили на поверхности, брызгая пеной, снося старые дамбы; из бури рождались цветы нового… Поток перемен захлестывал все, и на глазах менялось вокруг даже то, на что прежде вовсе не обращали внимания. Когда перемены захватили Циньцинь, она и сама не смогла бы сказать; но бегущий поток заливал любые берега, а с плывущей лодки можно было непрерывно сравнивать позавчерашнее со вчерашним, вчерашнее с сегодняшним, сегодняшнее с завтрашним.
Коснулись они и Циньцинь, хотя она и не знала, когда именно это случилось. Ее сверстники и сверстницы, добрые и злые, все рвались в желанную гавань. И какое счастье отвечает главному течению времени, а не брызгам выплеснутой мутной пены?
Обычно все познается в сравнении, а тут Циньцинь зашла в тупик. Конечно, Фу Юньсян был лучше заводских ребят во всех отношениях. Семья, зарплата, внешность, характер… Она тоже, по меркам 1980 года, вполне подходящая невеста. До 1976 года она не котировалась бы, но, к счастью, тогда она была еще мала. Сейчас все по-другому — белый поварской халат ценится выше, чем зеленая армейская форма. Соседка-официантка просмотрела тридцать девять фотографий и выбрала учителя средней школы с высшим образованием, которого в прошлом году отвергла. «Наша Циньцинь должна непременно найти себе техника», — говорила мама, и скоро действительно кто-то привел в дом парня-техника: брови тонкие, как у девушки, глаза — щелочки, голос высокий, тон капризный, как у барышни. Как он был ей противен! Он пригласил ее в кино, а потом повел в ресторан «Бэйцзин» ужинать и заказал суп с ушками хуньдунь. Доев суп, он вдруг вскочил и заорал: «Одного не хватает!» — «С чего ты взял, что не хватает?» — удивилась Циньцинь. «Я же считал!» — ответил он и, размахивая чашкой, помчался к официанту. Вернулся он, конечно, с победой — на дне чашки одиноко плавало ушко, но Циньцинь уже убежала.
Затем появился Фу Юньсян и тоже повел ее в кино; когда на обратном пути они проходили мимо ресторана «Бэйцзин», Циньцинь предложила:
— Зайдем, поедим суп с ушками хуньдунь.
Платить она решила сама: ведь она угощает. Когда подали суп, она даже не почувствовала вкуса, в ушах до сих пор звучало: «Одного не хватает!» Она поклялась, что, если и Фу Юньсян заорет, никакой любви в ее жизни больше не будет. Но, к счастью, этого не случилось. Фу Юньсян с аппетитом проглотил свой суп и даже оставил немного на донышке. У нее отлегло от сердца, она стала улыбаться, он выдержал экзамен. Насколько он лучше техника, которому «одного не хватает», вспомнишь — и волосы на голове шевелятся! Фу Юньсян — плотник третьего разряда, владеет профессией, мастер своего дела, по характеру добрый. Да разве встретишь в жизни человека во всех отношениях идеального? У Фу Юньсяна много достоинств, успокаивала себя Циньцинь.
— Чем я тебе понравилась? — спросила она Фу Юньсяна.
— Чем? — Он засмеялся, долго думал, потом сказал: — Ты добрая. Я это сразу понял, когда мы первый раз в кино пошли. Разве девушки угощают? Я как-то пошел с одной поужинать, и пришлось выложить десять юаней…
Она была уязвлена. А собственно, чем? Она сравнивает, и он тоже. По крайней мере понял, что добрая, — значит, умнее других. Она знала на заводе молодежного активиста, который из кожи лез вон, чтобы взять жену из высокопоставленной семьи, и женился на дочке начальника управления, уродине. Карьерист. А вот Фу Юньсян не карьерист. Люди жить хотят. Он не заорал: «Одного не хватает!» — но то и дело спрашивал: «Почем такая капуста?» Ну и что в этом дурного? Вон какая на ней красивая шерстяная кофточка!
— Пойдем быстрей! — торопил Фу Юньсян. — А то еле плетемся. Опоздаем.
Плетись не плетись, делу не поможешь. Сейчас они пройдут каток, свернут за угол, там и фотография. Щелк! — и готово; конец всему, больше никаких сравнений.
Как красиво катается на коньках девочка! На ней вязаная шапочка из красных с золотом ниток, такой же свитер — девочка порхает, словно снежинка, слетевшая с небес. Ее душа поет, она чертит на льду картину своего счастливого будущего. Циньцинь в детстве тоже любила кататься на коньках. Конечно, у нее не было таких нейлоновых брюк небесно-голубого цвета, она носила шерстяные рейтузы, связанные матерью. Она заняла по танцам на льду второе место в городе и в качестве приза получила коньки. А девочка молодец, на одном дыхании делает столько поворотов, так ловко держит равновесие. Она предвкушает победу на соревнованиях, видит, как ее засыпают цветами.
У каждого в детстве есть своя мечта о счастье. И жизнь кажется ровной, как каток. Циньцинь редко падала на льду, в жизни тоже не оступалась. Ей везло, ее всегда окружали вниманием и заботой. Почему же ей так тоскливо? С тех пор как она отдала коньки, ни разу от души не веселилась. Да, ни соревнований, ни букетов, вместо этого — свадебное платье и украшения для невест. «Дай-ка я еще разок гляну на тебя, девочка. И я была такой же, как ты. Я снова почувствовала себя маленькой. Все это кончилось. Детство, юность, мечты — все ушло и никогда не вернется. Мне так хочется поцеловать твои румяные от мороза щеки. Попрощаться, как Дюймовочка прощалась с красным цветочком, перед тем как сойти в подземелье. Дюймовочку в последний момент спасла ласточка, но такое бывает лишь в сказке. Прощай, девочка, когда вырастешь, пусть тебе встретится человек по сердцу, которого ты будешь любить».
— Быстрее! — говорил Фу Юньсян. — Захочешь посмотреть танцы на льду, я тебе достану билет.
И вот она перед большим зеркалом в фотографии. Со всех стен на нее глядят лица, в самых разнообразных ракурсах. Фу Юньсян оставил ее, а сам пошел договариваться. Конечно, чуда не будет. Как все невесты, она наденет свадебное платье, накинет прозрачную фату, накрасит губы, подведет брови и будет улыбаться, но в меру, чтобы не было морщин. Рот приоткрыт, но чуть-чуть, чтобы вид был неглупый; если не улыбаться, подумают, что ты несчастлива. Еще одна пара для свадебной фотографии…
Циньцинь вдруг вспомнила репродукцию картины русского художника Журавлева «Перед венцом», которую видела в журнале. На картине плачущая девушка в свадебном наряде на коленях перед купцом, ее женихом, рядом ее отец, позарившийся на купеческое богатство, ради которого пожертвовал счастьем дочери.
Почему она вдруг вспомнила эту картину? Быть может, потому, что фотография дает напрокат свадебный наряд, очень похожий на тот, в котором изображена на картине невеста? Она тоже будет несчастной женой, только не сможет стать на колени и заплакать. Слезами горю не поможешь, и потом, ее ведь никто не принуждает, она все делает добровольно и выходит замуж не ради денег или какой-нибудь выгоды, а потому, что они «подходят» друг другу. Но сколько семей несчастливы потому, что супруги не подходят друг другу? Если она выбросится из окна, пожалеют ее или нет? Скорее заподозрят в преступлении. Она будет в сто раз несчастнее, чем невеста на картине, потому что ей некого винить и ненавидеть, во всем виновата она сама.
Фу Юньсян протиснулся к ней сквозь очередь и, сияя улыбкой, помахал квитанцией:
— Договорился, прокат платья за полцены, пойдем наряжаться.
Надо идти. Чуда не произойдет. Все это глупость. Наденешь свадебный наряд — и все.
— Народу много, придется обождать, — досадовал Фу Юньсян у входа в примерочную.
Жди не жди, все равно рано или поздно придется наряжаться. И тогда не мечтай ни о рыцарях, ни о ласточках.
— Когда будут снимать, гляди повеселее, — шептал Фу Юньсян ей на ухо, уговаривая как малого ребенка. — Ты у меня всегда грустная, но улыбка тебе идет, наденешь венок и будешь похожа на японскую кинозвезду Нацукэ.
Циньцинь фыркнула. А почему бы ей не улыбаться? Надо улыбаться. В детстве она тайком доставала у матери из шкафа старый, засохший венок и примеряла его перед зеркалом. У каждой девочки есть свои секреты, и разве она не мечтала о замужестве? Разве три года назад не вышила две нейлоновые наволочки?
Фу Юньсян с восхищением разглядывал снимки, развешанные вокруг зеркал, и то и дело оборачивался к ней.
Не пройдет и получаса, щелкнет фотоаппарат, и он станет ее мужем. Мужем? Циньцинь охватило отчаяние. Разве она его любит? Она хотела выйти замуж, но не за него. Ей даже в голову не могло прийти, что они станут мужем и женой. Ведь она никогда его не любила. Она вообще не встречала человека, которого смогла бы полюбить.
— Теперь наша очередь, — радостно произнес Фу Юньсян и взял Циньцинь под руку.
Войти туда все равно что войти в дом мужа. Отказаться? Заплакать? Слезы не помогут, чуда не случится, но ведь не на эшафот же ее ведут, не в могилу…
— Ты причешись, а я возьму платье. — Фу Юньсян заботливо воткнул ей гребень в волосы и прошел внутрь.
Циньцинь распустила волосы, черные и блестящие, причесала их на пробор, затем собрала в узел, точь-в-точь как у невесты на одном из снимков.
В зеркале что-то блеснуло.
На ручке гребня был изображен бегущий олень. Он сам не знает, куда бежит, но не останавливается. Жизнь не стоит на месте, она меняется. Какой же она будет, ее жизнь? Она не знает, только не такой…
В зеркале снова сверкнуло.
Циньцинь обомлела. Она не успела ничего толком разглядеть, но ясно видела свет.
— Северное сияние, — прошептала она. — Неужели правда?
Она зажмурилась, а когда открыла глаза, в зеркале было только ее отражение.
Нет-нет, она видела. Это был свет ее жизни, только она знала о нем, только она его видела. Она должна искать его, пока не найдет. Не нужен ей Фу Юньсян, не нужен белый рабочий халат на приборостроительном заводе, не нужна новая квартира с комфортом, а вот свет ей необходим. Жизнь без него все равно что тело без души. Без этого света нет надежды. Она не любит Фу Юньсяна не потому, что он грубый, практичный и недалекий. Совсем не поэтому. Но почему же тогда? Не потому ли, что существует северное сияние и она увидела его в решающий момент своей жизни? Уж лучше испытывать неудовлетворенность, чем жить так, как Фу Юньсян и его компания, барахтаясь в житейском море без всякого смысла, без всякой цели…
Циньцинь торопливо утерла слезы, схватила шарф и выбежала из фотографии.
VIII
— Все выложила? — Фэй Юань стоял в коридоре, прислонившись к наглухо запертой стеклянной двери, с лицом сумрачным, как небо перед снегопадом.
— Да, — ответила Циньцинь, опустив голову. Больше часа рассказывала она Фэй Юаню — в сущности, малознакомому человеку — о том, что произошло. Говорила горячо, сбивчиво, обливаясь от волнения потом, словно кающаяся школьница, не столько от сознания собственной вины, сколько под строгим взглядом Фэй Юаня. Он слушал ее молча, равнодушно и так же равнодушно, как всегда, смотрел на нее. С первых же слов Циньцинь ощутила неловкость. У нее было такое чувство, словно она изливает душу не человеку, а пню. Ей то и дело хотелось прервать свой рассказ, и вся история уже показалась ей пошлой и ненужной. Циньцинь рассказывала не очень связно, была чересчур многословна, и под конец ей самой надоело говорить, а Фэй Юаню — слушать. Не возникло у них того взаимопонимания, которое бывает между сверстниками. Фэй Юань словно бы все предвидел: и то, что существует такой Фу Юньсян, и то, что она сбежит из фотографии. И только когда она сказала: «Снимайся не снимайся — все равно ничего не изменишь, — и чуть слышно добавила: — Потому что… давно записалась в очередь на вступление в брак», у Фэй Юаня вырвался вздох.
Циньцинь вздрогнула, будто ее обдало ледяным ветром. Почему он вздохнул? Удивился? Рассердился? Или просто не ожидал, что она способна с таким человеком записаться в очередь на вступление в брак? Молчал он долго, так долго, что за это время можно было рассказать еще по крайней мере два забавных случая — например, про влюбленных, которые легли на рельсы, чтобы покончить с собой, или о том, как недавние враги неожиданно влюбились друг в друга…
— Все выложила? — разочарованно повторил Фэй Юань, прервав наконец молчание. Вот как он ответил на ее откровенность! А ведь она мчалась по скользким, обледенелым улицам и прибежала, сама не отдавая себе в том отчета, именно сюда, к нему. Нет, не то хотела она от него услышать.
— Так все и было, — закончила она свой рассказ. — Приготовила себе горькое вино, поднесла к губам, а выпить его нет ни сил, ни желания.
— Если не пить, так что делать? — сиплым голосом произнес он, подойдя к ней вплотную.
— Сама не знаю. Вот и пришла к тебе за советом. Ты лучше меня знаешь жизнь. Хотелось бы с ним порвать. Совсем. — Она решительно тряхнула головой, в глазах стояли слезы.
— Порвать? — удивленно спросил он, поправив очки.
— Да, порвать. Пойти наперекор судьбе. Раньше я ничего не понимала, готова была добровольно надеть кандалы — многие так поступают, звон цепей принимают за музыку, сами себя обманывают! Теперь я знаю, что все можно изменить. Почему бы не сбросить ошейник в последний момент, пока его еще не защелкнули, и не убежать? Я думаю, что еще не поздно. — Циньцинь отвернулась.
— Жаль, но уже поздно, слишком поздно. — Он снова вздохнул. — Записались в очередь на вступление в брак… Ты понимаешь, что это значит? Я и сам раньше не представлял. Скажи ты мне вовремя, ничего подобного не случилось бы. — Он стал протирать очки, словно это могло помочь ему вычеркнуть из памяти неприятные воспоминания.
— Я и прежде страдала, очень страдала, но не хотела никому об этом говорить. Раз уж так случилось, думала, пусть все идет своим чередом. — Циньцинь говорила, а из глаз у нее лились слезы. — А молчала я потому, что некому было сказать, ведь не всякий поймет.
Голос у нее дрогнул, она почувствовала, что сейчас зарыдает, и закусила губу.
— Я не то хотел сказать, я думал, ты простая, наивная, я не знал тебя.
Видно было, что Фэй Юань страдает глубоко. Лицо у него стало злым, даже жестоким, в нем не осталось ни теплоты, ни участия. Такое лицо способно было остудить даже вулканическую лаву. Почему же так получается? Разве сам он не говорил?
— Ты говорил, что цель жизни — добиться счастья в реальном мире. Говорил, что счастье — в любви. Что каждый должен ценить свою жизнь, не сковывать себя предрассудками. — В голосе Циньцинь звучала решимость. — До сих пор я жила не так, как надо. Я хочу настоящей любви! И я найду достойного человека… Посоветуй же, как мне быть…
Из-за слез она не видела выражения лица Фэй Юаня, только блеск очков.
— Ты должен посоветовать, ты знаешь, ты можешь! — Циньцинь цеплялась за последнюю надежду.
— Нет, ничего я не знаю. — Он смотрел на нее в упор, скрестив на груди руки. — Я правда не знаю. Извини, но ты сама мне все рассказала. Жизнь сложна, наше существование — иллюзия и безнадежность… Что мы можем изменить? Если даже ты его бросишь, станет ли твоя жизнь осмысленнее? Представь себе, что подумают люди, если узнают, что я одобряю твой разрыв с женихом, ты только вообрази…
В полумрак коридора проник лунный свет и озарил бледное с тонкими чертами лицо Фэй Юаня. Снаружи, нагоняя тоску, закаркала ворона, тяжелые портьеры колыхались от порывов холодного ветра.
— Спасибо, до свидания! — Циньцинь вежливо протянула руку. Почему бы его не поблагодарить? Слезы у нее уже высохли.
— Так и уйдешь? — Он пожал ей руку своей холодной, словно из бронзы, рукой. — Может, возьмешь что-нибудь почитать?
Она покачала головой, улыбнулась и, замотавшись шарфом, пошла к двери. Уже выходя, услыхала:
— Циньцинь…
Он окликнул ее едва слышно — и так и остался стоять в темной глубине коридора, зов его был скорее похож на робкий вздох.
Вздохи… Всюду вздохи! Столько критиканов на свете! Они ничего не делают, только критикуют. Но ведь не для того человек рожден, чтобы пользоваться готовеньким. И Фу Юньсян такой же, хотя он деловой и напористый, и Фэй Юань, который ее так привлекал вначале. Его хватило лишь на то, чтобы взмахнуть волшебным рыцарским мечом, показать ей дальние просторы, а когда у нее случилась беда, отвернулся. Как умно рассуждал, а помочь не сумел. Он только и знает, что размышлять о жизненном пути, а сам не сделал еще и шагу. Он любит только себя, до остальных ему дела нет: любит жизнь, но себя еще больше. Суровая действительность надломила его. От него, от прежнего, осталась лишь тень, она приняла ее за идеал.
«Могу ли я полюбить такого?» — спросила себя Циньцинь и содрогнулась при одной мысли об этом. Еще недавно она так надеялась на него, бежала к нему. Может быть, в ней зарождалась любовь, или это было стремление понять смысл жизни? Разочарование, одно лишь разочарование. О Фу Юньсяне она не могла так сказать: на него она никогда не надеялась, но Фэй Юань…
А если и в самом деле не существует на свете такого человека и все именно так, как он говорит, одни лишь иллюзии и отчаяние? Что же ей в конце концов нужно? Профессия, положение, внешность, влечение… Да, такой человек еще не родился. Во всяком случае, ей ни разу не встретился. Просто она не знает, кого смогла бы полюбить. А если и встретит такого в людском море, они не узнают друг друга — и каждый пойдет своей дорогой. Она вспомнила наставления своей старшей подруги: «Не то что наивная девочка, даже женщина, познавшая многих мужчин, не знает, кого полюбит на всю жизнь. Здесь таинство души, гармония, когда один позовет, а другой тоже откликнется». Теперь эти слова казались Циньцинь еще загадочнее, чем прежде.
«Нет такого человека, — утешала себя Циньцинь, — если я до того дошла, что должна прибегать к посторонней помощи, то стоит ли дальше жить? Фэй Юаня я полюбить не смогу. Это точно. Пропади пропадом всякая любовь. Никто мне не нужен. Я работаю на заводе — разве этого мало? Можно и без любви прожить. Все равно солнце всходит и заходит. Что это со мной? Почему я стала такой бесчувственной? Разве я не убежала от зеркала потому, что бегущий олень так легко и быстро скачет? Разве не потекли у меня по щекам слезы? Сердце мое дрожит и плачет, но кто его услышит? Неужели в этом холодном краю нет хоть одной нежной души? Нет, нет…»
Раздались оглушительные, восторженные возгласы, аплодисменты, топот ног, словно лед тронулся на реке. Она не заметила, как забрела на каток. Раньше, чуть выдавалась свободная минута, бегала смотреть хоккей. Там кипела жизнь — яростная, радостная, отважная, жизнь сильных и сметливых людей. Вот и сегодня ноги сами понесли ее на каток. Снег опушил ресницы, от ходьбы ей стало жарко, она раскраснелась.
Спортсмены в разноцветных костюмах носились по льду, словно огненные звезды. Казалось, прыгают яркие пятна. Когда спортсмены оказались близко от Циньцинь, она видела их возбужденные, блестящие глаза. Клюшки гребли по льду, как весла. Шайбы почти не было видно, она кружилась, взлетала, уносясь от охотников в шлемах, как волшебная птица. Ребята боролись отчаянно, они бегали с такой быстротой, что у зрителей дух захватывало и в глазах мелькало. Яростная баталия на льду делала все житейское будничным, незначительным, скучным.
Коньки свободно скользили по льду, как шасси у взлетающего самолета. Это и есть настоящее счастье! Кто умеет скользить по льду, тот рано или поздно оторвется от земли и взлетит…
Коньки — давно позабытые друзья! Ваши тонкие лезвия выдерживают вес человека — и справляются. Чтобы быстро скользить на узеньких полосках стали, нужно соблюдать равновесие. Чем отличается каток от подмостков, на которых проходит человеческая жизнь? Неведомо, когда ты споткнешься и упадешь, далеко ли тебя забросит судьба, а подымешься — скользи снова. Ты же всегда мечтала, чтобы люди смело вставали и выпрямлялись…
Ты бежишь, ты летишь, ты стремительно бороздишь лед, словно ты родилась на свет для того, чтобы чертить по льду борозды. Так разве же не вышли вновь на лед звезды фигурного катания и чемпионы хоккея? Впрочем, это неважно; совсем неважно, потому что залитый водой лед за одну ночь стирает с себя все накопившиеся борозды и шрамы. Они остаются только в истории спорта, а катку страшны безлюдье и пустота, а не свистящий звук разрезаемого льда…
Рядом с ней схватились двое — в красном и в голубом. И не успели зрители опомниться, как один из них вылетел за зеленый бортик и бухнулся в снег под большим тополем; парень катился прямо к ней. Зрители закричали в тревоге; Циньцинь бросилась поднимать пострадавшего.
— Ушибся? Больно? — взволнованно спрашивала она, стоя в снегу на коленях. Парень был очень бледный.
— Ничего, — с трудом проговорил он. На лбу у него пульсировала жилка. Он напрягся всем телом, уперся руками в снег и поднялся, как раненый боец. Он стоял в глубоком снегу, и пар шел у него изо рта. А к нему уже со всех сторон бежали: зрители, игроки, тренеры.
— Здорово ушибся?
— Озверели, бесстыжие, сталкиваются лбами, думают таким образом счет изменить, — возмущенно кричал кто-то.
— Ну и ну! — вдруг крикнул пострадавший. — Я и не знал, что у меня такие крепкие кости! Потрещали — и ничего!
Он зашагал к бортику и ловким движением перемахнул через него.
До чего же знакомый голос! И лицо тоже. Облокотясь о бортик, парень смотрел на нее с благодарной улыбкой.
Она едва сдержала готовый вырваться крик. Как он попал сюда? Несчастный, замученный, он еще может шайбу гонять? В хоккейных доспехах его не узнать, закован, как средневековый рыцарь. Неужели это он, скромный и молчаливый, а здесь сильный и дерзкий. Она ни за что не поверила бы, если бы не увидела собственными глазами. Сколько энергии и силы! «Я не знаю тебя, но хорошо помню. Ты — сирота, рос без матери».
Он смешался с толпой спортсменов — игроков одной команды не различишь, разве что по номеру. Бывает, что два человека похожи друг на друга как две капли воды, но стоит им заговорить — и каждый самим собой становится. Простой слесарь, а шайбу гоняет. Когда же он успел выучиться? Еще в школе. Рос без матери, кто же ему купил коньки? Где же он? Теперь не узнаешь. Наверное, тот, кто быстрее всех бегает, как олень…
— Цзэн Чу! — крикнула Циньцинь. Но голос ее потонул в общем шуме, и она смутилась, покраснела.
Олень поскакал по льду, и шайба застучала звонко, как бронзовый колокольчик на его рогах.
— Циньцинь! — раздался отчаянный голос, и вместо бегущего оленя появился Фу Юньсян. — Циньцинь!
Он кричал так, словно произошло землетрясение. Ей в голову не могло прийти, что он найдет ее здесь. Видно, обежал весь город. Вид у него был жалкий: без шапки, уши красные от мороза, на редких усах сосульки…
— Ты… — Он не мог говорить, задыхался, губы дрожали.
Она смутилась и невольно опустила глаза, ей стало стыдно. Он никогда не сделал ей ничего дурного, почему же она с ним так поступила? Ведь все равно конец будет один, зачем же она убежала из фотографии? Зачем заставила его метаться по городу, мерзнуть, искать ее, волноваться?
— Пойдем! — зарычал он, словно разъяренный медведь.
Она огляделась, отошла от бортика. Ей не хотелось, чтобы их видели. В это время снова раздался восторженный рев: матч кончился. Кто выиграл: красные или голубые? Конечно, голубые. Ведь он голубой.
— Пойдем! — Он грубо схватил ее за руку. Мимо пробегали возбужденные болельщики, и Циньцинь все время оглядывалась, опасаясь, как бы Цзэн Чу ее не заметил.
— Ну почему ты так сделала, скажи? — Фу Юньсян стучал зубами от холода.
Он не может выйти так быстро, ему еще надо переодеться, надеть свою черную промасленную куртку.
— Скажи — почему?..
Стоять здесь нельзя, никак нельзя. Черная куртка…
— Пойдешь или нет? — заорал Фу Юньсян грубо, с угрозой в голосе и своей громадной кистью так стиснул ей руку, что она пальцем пошевельнуть не могла. Циньцинь еще раз огляделась по сторонам и послушно пошла за Фу Юньсяном.
На трамвайной остановке было полно народу: как раз кончилась смена.
— Отпусти, я сама пойду. — Циньцинь вырвала руку.
Фу Юньсян прислонился к стволу облетелого вяза и молчал в изнеможении. Ей вдруг стало его жаль. Сейчас он скажет: «Я тебя люблю, ты же знаешь». Он ее любит, а она его нет. Надо было давно ему об этом сказать, а она зачем-то тянула. Неожиданно для нее Фу Юньсян зло произнес:
— Ты обманула меня! — И губы у него задрожали.
Он сказал «обманула», а не «я люблю тебя». Если бы он сказал «я люблю», она расплакалась бы и, кто знает, может быть, смирилась бы со своей участью. Нет, не смирилась бы…
— Скажи мне наконец, почему, ну почему? — без конца повторял он. Было темно, свистел ветер, он прикрыл руками красные от мороза уши.
Подошел трамвай, и толпа ринулась на штурм. Он тоже подался вперед, но не стал садиться в вагон, а вернулся и уже более мягко спросил:
— Скажи откровенно: ты убежала потому, что живот схватило?
— Нет.
— Тогда… знакомого встретила?
— Нет.
— Или… опять забыла блокнот на занятиях?
— Нет! — сердито выкрикнула она. — Нет!
Она кричала так громко, что на них стали оглядываться. Кто-то, темной тенью маячивший под фонарем, направился было к ним, хотел подойти, но, видно, раздумал и вернулся.
— Так почему же? — Фу Юньсян тяжело дышал, не переставая тереть уши. — Что я скажу родителям? Друзьям?
— Почему, почему? Ты что, до сих пор ничего не понял? — Циньцинь с трудом сдерживала ярость. — Потому что ничего не будет, вот почему. Я с самого начала не хотела идти в фотографию. Я вообще ничего не хочу!
— Не хочешь надевать фату и фотографироваться, так бы и сказала. Это вовсе не обязательно, но зачем издеваться над человеком?..
— Я замуж за тебя не хочу! — резко оборвала его Циньцинь и вздохнула: — И никогда не хотела!
— Чего ты раскапризничалась? Шутить вздумала? — мрачно спросил Фу Юньсян. — Наконец-то высказалась! Не иначе как у тебя нервное расстройство!
— Пусти меня! Оставь! — Циньцинь заплакала, закрыв лицо руками. — Я не хочу тебя видеть, лучше умру, чем выйду за тебя!..
Фу Юньсян обомлел, даже рот разинул, а потом закричал:
— Бесстыжая, Паучиха! Знаю я тебя! С каждым крутишь, чтобы в паутине своей запутать.
Паутина? Почему паутина? Впрочем, не только паук вьет паутину, человек тоже. Только паук вьет ее, чтобы раздобыть себе пропитание, а человек — чтобы устроить гнездышко. А Циньцинь родом из тайги и вьет паутину для кокона, чтобы скрыл ее сердце, пока из него не вылетит прекрасная бабочка. Но Фу Юньсяну этого никогда не понять, никогда!
— Паутина? — насмехалась над ним она. — Да, мне нужна паутина, много паутины, я свяжу из нее шестнадцать одеял, себе в приданое!
— Психопатка!
Подошел трамвай. Человек под фонарем продолжал неподвижно стоять.
— Поехали? — Он легонько подтолкнул ее.
— А еще я свяжу из паутины тридцать наволочек!
— Поехали! Не поедешь, так я…
Циньцинь ошеломленно на него посмотрела. Что он?.. Под трамвай бросится? Если бы у него хватило на это храбрости, она из жалости, возможно, изменила бы свое решение. «Нет, он ни за что этого не сделает. А то и я вслед за ним бросилась бы…»
— Не поедешь, так я уши себе отморожу! — крикнул он в отчаянии.
— Поезжай один! — твердо произнесла Циньцинь. В ее душе оборвалась последняя ниточка привязанности к нему.
— Ну, дождешься! — Стуча зубами, он влез в трамвай, и дверь за ним с шумом захлопнулась. Окна вагона заиндевели, из-под колес взметнулись облака снежной пыли.
«Кончено», — подумала Циньцинь, прислонившись к вязу. Слезинки замерзли у нее на щеках, и крохотные сосульки скатились за воротник под шарф. Девушка дрожала от холода. Чтобы не упасть от усталости, она обхватила руками дерево и тихонько заплакала.
Все кончилось, так и не начавшись. Он сказал: «Дождешься» — и, разъяренный, уехал. Заварится каша: родители будут ругать, родственники, знакомые расспрашивать, подруги любопытствовать, соседи коситься, за ее спиной будут шептаться, пойдут слухи и пересуды… На заводе — сенсация. История начнет обрастать вымышленными подробностями. Обрушится гора, прорвутся шлюзы — ее раздавит, захлестнет, сил отбиваться нет. Оправдываться ей нечем. У нее совсем не такой отец, какой изображен на картине Журавлева, а у Фу Юньсяна нет ничего общего с женихом-кротом из сказки о Дюймовочке. Никто ее не принуждал, никто не обманывал, она все делала сама, добровольно — но вопреки собственному желанию! Теперь ее ославят. В этой трагедии ей отведена роль злодейки. Ее ждет позор… Все кончилось, так и не начавшись. Уважение, добрая слава… Всему конец! Всему! Как бы отец не выгнал ее из дома…
Но какое же преступление она совершила? Неужели никто не может ее понять? Она принялась в исступлении колотить кулаками по вязу, но не в силах была пробудить его от зимнего сна. А может быть, вяз мертв? В нем не было никаких признаков жизни. Вот выход: смерть! — мелькнуло в голове. Разве не читала она про влюбленных, лишивших себя жизни? Но ведь она еще не нашла свою любовь. А если бы и нашла…
— Можно мне проводить вас домой? — неожиданно раздался приглушенный голос, словно долетевший до нее из ствола вяза.
Она испуганно обернулась — уж не приснилось ли ей? Перед ней стоял Цзэн Чу.
— Простите, я слышал весь разговор. — Он переминался с ноги на ногу. — Я вышел с катка и увидел вас. Испугался, как бы он вас не ударил… Вот…
Он широко улыбался, показывая белоснежные зубы.
— Вы не обиделись? Такой уж я человек. Вечно вмешиваюсь в чужие дела. Холодно. Вы можете простудиться. Это нам, закаленным, мороз нипочем.
Циньцинь давно заметила человека, стоявшего у фонаря, только не знала, кто он.
— Вы все слышали? — Она равнодушно посмотрела на него.
— Нет, не все, издали плохо слышно. Я только понял, что вам плохо.
Она ничего не ответила.
— Вы думаете о смерти? — Он простодушно засмеялся, без малейших признаков мировой скорби, которую любили напускать на себя иные молодые люди. Постукивая по дереву, он заговорил бодрым голосом: — Возьмите, к примеру, дерево. Ничто не может помешать ему вырасти: ни метели, ни ураганы, ни молния, ни гром, ни гусеницы. А вырастет, люди его непременно срубят, сделают столы и табуретки или сожгут. Такова судьба дерева, в ней оно себя исчерпывает, реализует свою ценность. Так же и человек. Он рожден для страданий и радостей: только надо, чтобы и радости его, и страдания имели смысл, какое-то значение… Хотите, я провожу вас домой?
Дерево? Погруженный в зимнюю спячку вяз для него послужил примером философии жизни: комментарий к смерти, иллюстрация существования. Как его осенило такое удачное сравнение? Что я, нарочно остановилась здесь? Кто ты? Белая береза или красноствольный кедр? Или искалеченное ударом грома дерево на вершине сопки? На вид ты прост и обычен, но суть дерева ты понял. Да, ты сам, наверное, редкостный фрукт, как тот желтый ананас, который существует, но который никто не опознает…
— Хотите, я провожу вас домой? — повторил он, глядя в сторону, словно принимая важное, решение.
Провожать меня?
Боится, как бы не побили. А может, думает, что она в обморок упадет. Нет уж, спасибо. Нечего ее жалеть. Ей не жалость нужна, а уважение, понимание, любовь. Помочь хочет. Можно подумать, будто он сильная личность. Ну, расскажет она ему про свои беды, а он кому про свои расскажет? Слесарь, а какой самонадеянный. Уж не думает ли он, что она может в него влюбиться? Красивые слова, приятный голос — нет, этим ее не удивишь. Ей нужны поступки, дела.
— Вы хотите?.. — нерешительно спросил он, запахивая куртку.
— Нет! Нет! — отказалась она.
Он молча повернулся и ушел, неслышно ступая в своих черных залатанных матерчатых туфлях на резиновой подошве.
Так бежит олененок по снежной равнине, легконогий, стремительный, естественный, бесшумный. На снегу он оставляет свой след, но никто не знает, куда он приведет.
Ей хотелось крикнуть: «Цзэн Чу!» Она рвалась к нему всей душой и неподвижно стояла с закрытыми глазами, а когда открыла их — его уже не было. Над снежными крышами поплыл, сгущаясь, ночной зимний туман. На западной стороне небосвода засветилась розовая заря.
Она с трудом поборола в себе желание броситься вдогонку, бежать сломя голову туда, за угол сказочной покосившейся сараюшки, где скрылась его плотная, коренастая фигура…
IX
Узоры, которые мороз нарисовал на стекле, от тепла исчезли бесследно. Занятия вошли в свою колею, отопление работало, в аудитории было тепло, и не осталось почвы для глупых и праздных фантазий…
— Ай, о чем преподаватель сейчас говорил? — Циньцинь толкнула сидевшую рядом Суну… Он обычно сидел в последнем ряду, и она сразу заметила, что его место пустует. Может быть, опоздает? Но он вообще не пришел. Он давно перестал ходить. Может быть, что-нибудь случилось?..
Она не слушала преподавателя, и ей снова пришлось обратиться к Суне́.
Прошла неделя, Фу Юньсян не подавал о себе никаких вестей. Но так просто он ее не оставит. Наверное, советуется с родителями: попугать ее самоубийством или пригрозить силой? Надо как-то его убедить. Что бы такое придумать? Дома узнают, разразится буря. Кто может ей помочь? Один сказал, что слишком поздно. Другой пожалел, но она из гордости его отвергла…
— Пойдем, урок кончился. Чего сидеть? Что это с тобой творится? — тормошила ее Суна. — Улыбаться разучилась, подбородок заострился. Вставай же? Восьми еще нет, пойдем со мной к костюмерше в театр — у нее есть очень хороший крем для лица.
Циньцинь покачала головой. Всего два дня не виделись, а у Суны́ опять новая прическа: волосы начесаны и уложены. Она очень привлекательная, девочки ей завидуют, но чересчур навязчивая… Он и сегодня не пришел. Вдруг ее осенило.
— У меня к тебе просьба, — набравшись духу, произнесла она.
— Знаю какая, — подмигнула заговорщически Суна. — Ты не сказала, а я уже знаю!
— Что знаешь? — Циньцинь смутилась, словно выдала свою тайну.
— Он не ходит на занятия, а ты соскучилась.
— Кто?
— Цзэн Чу, тот слесарь.
Циньцинь потупилась.
— Я только что все узнала. Его избили хулиганы. Им тоже досталось, но трое на одного…
— Да ты что? — вскрикнула Циньцинь.
— Говорят, это начальство ему так отомстило, подговорило хулиганов. К ним на завод комиссия из города прибыла, безобразия там у них, вот и решили башку ему проломить, чтоб не вылезал… История эта долгая, потом как-нибудь расскажу, я пошла…
— Постой. — Циньцинь отчаянно вцепилась ей в руку, обтянутую перчаткой. — Не знаешь, где он живет?
— Ну… — Суна загадочно рассмеялась, передернув плечами.
— Суна, милая, ты же знаешь, — умоляла Циньцинь.
— Сама пойдешь. — Суна вздохнула с досадой. — Отсюда недалеко. На Мацзягоу, напротив русской церкви, где служил раньше длинноволосый поп.
— Спасибо тебе, Суна! Спасибо! Ах ты моя дорогая… Ну, потом поговорим! — Циньцинь выскочила из аудитории и побежала к воротам.
Несмотря на позднее время, от снега было светло, как днем, только тени стали длиннее. Ветер свистел в электрических проводах. Но молодости ночь не страшна. Циньцинь решила найти Цзэн Чу, чего бы ей это ни стоило.
Купол старой церкви величественно и строго возвышался во мраке ночи. Тяжелые чугунные ворота были заперты, тусклый фонарик едва освещал занесенный снегом двор, в котором не было ни тропинки, ни следов. Старый, разбитый колокол стонал под порывами ветра. Циньцинь обошла вокруг церкви. В детстве ей случалось бывать здесь, и она смутно помнила, как угнетающе действовали на нее протяжные песнопения верующих. Неужели стоять на коленях, плакать и каяться — это жизнь? Нет, жизнь скорее похожа на голубей, которые живут под куполом церкви; по утрам они взмывают в небо и кружатся, как снежинки… Недалеко от церкви каток. Там тоже все крутится, вертится, мчится…
«Вера». Он произнес это слово, когда она впервые его увидела, произнес торжественно, словно на молитве. А живет он напротив церкви, в покосившейся халупе. Она вытащила из сумки фонарик, но снег перед хижиной аккуратно подметен, в окошке светится огонек. Циньцинь постучала, и сердце у нее замерло.
Что она ему скажет? «Пришла к вам?» — «Зачем пришли?» — «Не знаю». — «Зачем приходить, раз не знаете? Можно, я вас провожу?» — «Не надо». — «Зачем же вы пришли? Вы страдаете? Я вижу…» — «Нет… Да. Мне больно. Говорят, вы больны, ранены… Я пришла вас проведать»…
На стук никто не откликнулся. Циньцинь постояла в нерешительности и вдруг услышала за окошком хохот и громкие голоса.
— Выиграл?!
— Выиграл, это точно. В молодежном клубе, я сам видел, от доски не отрывался. Сначала робел: японец несколько лет завоевывал звание чемпиона, мощно играет: фишки зажмет в ладони и мечет на доску, словно кости. А наш молодой лохматый парнишка, по прозвищу Индюк, еще зеленый совсем, вынудил…
— Я его знаю, решительный парень, в прошлом году стал чемпионом трех северо-восточных провинций по облавным шашкам вэйци.
— Он, именно он. Я и не ожидал. Это наш китайский длинный меч! Сел за стол, сидит не шелохнется, моргнет — и ход, не успеешь разглядеть — окружение, противник растерялся, начался разгром…
— Здорово!
— Молодец! Постоял за наших!
— У китайцев тоже есть воля!
— Сегодня наш праздник!
— «Чистое небо в ясный летний день. Солнечный остров манит к себе людей…» — запел кто-то, отбивая такт ногой. Смех, пение, топот, стук палочек для еды по умывальному тазу. И еще звуки какого-то неизвестного инструмента…
Циньцинь встала на цыпочки, заглянула в окошко: в комнате было полно молодых людей. Двое из них пели и танцевали в обнимку с табуреткой. Цзэн Чу лежал в углу на отапливаемой лежанке-кане с забинтованной головой. В руке он держал губную гармонику. Поднес ее к губам, но поморщился, видно от боли, и принялся отбивать такт гармоникой по лежанке.
— «Охотник, охотник, с любимым ружьем за плечами…» — запел кто-то.
— Мы победили! — орал другой.
— Наш день, наш праздник!
— Слава Индюку!
— Впереди еще соревнования по баскетболу, футболу, волейболу и хоккею! — крикнул Цзэн Чу, подбросив вверх подушку. — Победу китайской команде!..
Кто-то подкинул термос, но не поймал, и тот грохнулся на пол, разбившись под общий хохот вдребезги.
— Теперь Цзэн Чу остался без кипятка!
— Если в будущем году мы выиграем на соревнованиях по волейболу, я куплю ему новый!
— Сначала прихвати пива, чтобы обмыть!..
Снова взрыв хохота. Они беззаботно смеялись, весело и чистосердечно; крохотная комнатушка ходуном ходила от безудержного веселья. Циньцинь показалось, что она заглянула в мартен с бушующей огненной лавой. Здесь совсем другая жизнь. Зависть закралась в сердце Циньцинь. Как ей хотелось быть там, вместе с ними! Вот о чем она всегда мечтала! Из дома в прихожую вел коридорчик. Она постучала, но стука никто не услышал. Поколебавшись, она нерешительно толкнула дверь, и незапертая дверь со скрипом отворилась. Она проскользнула внутрь, прикрыла дверь, сняла с головы платок и перевела дух. Вдруг с потолка что-то обрушилось, чуть ли не прямо ей на голову. Она поглядела вверх на черный, неразличимый в темноте потолок — не иначе как обвалилась штукатурка. Под ногами шаткий пол ходуном ходил при каждом ее шаге, заставляя всякий раз вздрагивать. Халупа — вот ее первое впечатление.
Собравшиеся внутри не обратили никакого внимания на скрип двери. Они жарко и увлеченно спорили. Она не знала, что ей теперь делать. Эта одноэтажная постройка скорее походила на сарай или чулан, чем на жилище. Стены в прихожей покосились, щели между кирпичами напоминали разинутые рты. В доме было сыро, и по нему гулял ветер; в углах проступал иней, даже сверкали две сосульки. На пылающей печке кипел чайник и стоял закопченный до черноты алюминиевый котелок. На столе лежала кухонная доска и секач; на подоконнике — несколько картофелин и промороженный вилок капусты.
Веселье неожиданно прекратилось, и Циньцинь услышала чей-то низкий гнусавый голос:
— По-моему, даже самый выдающийся человек все равно эгоист. Вы спросите почему? Да потому, что он должен осуществить свой идеал, выполнить свою миссию, какое бы бремя он на себя ни взвалил и кому бы ни посвятил свою жизнь, иначе душа его не сможет найти утешения. На дискуссии о смысле человеческой жизни в городском молодежном клубе я говорил то же самое.
— Я отрицаю подобный вздор, — возразил кто-то тонким визгливым голосом. — По-твоему, делать что-то ради пользы других — это только мотивировка, а эгоизм — движущая сила? Типичное мещанство, вот что это! Настоящая социалистическая мораль должна основываться на альтруизме; совершать поступки следует, исходя из альтруистических мотивов; порождая альтруистический эффект, поступок объективно достигает определенной степени удовлетворения эгоистического чувства. Маркс, Бруно, Цю Цзинь — все великие исторические личности, по-твоему, спасали собственные души? Но для успокоения собственной души существуют тысячи способов, в том числе благотворительность, пожертвования. И в этом случае не грозит виселица. Да разве способен человек с мелкой душонкой пойти на подвиг ради всеобщего блага? Спроси Цзэн Чу, он тебе скажет!
— Я в судьи не гожусь, — услышала она хорошо знакомый голос. — По-моему, в Китае слишком увлекаются теорией. Идут бесконечные споры: «Во имя чего?» — и всегда абстрактно, догматично, в отрыве от практики. А надо, наоборот, сосредоточить все мысли на том, как жить, то есть на методах и средствах достижения цели. Возьмем дерево: главное, как его вырастить, сделать пригодным к употреблению. Возьмем, к примеру, дом: его надо строить прочным, долговечным. Вот практическая позиция! И дом, и дерево должны приносить пользу; не важно, «во имя чего», важно, что для пользы людей. Неужели это так трудно понять? Вот почему меня прежде всего интересует отношение человека к жизни. Человек должен стремиться к разумному общественному устройству; если же придерживаться курса прошлых лет, наше государство не станет ни богатым, ни сильным…
— Почему же я все время испытываю чувство одиночества и опустошенности? — возразил гнусавый голос. — Почему так часто говорят о знакомой мне самому дисгармонии с окружающим миром? Может, это «болезнь века»? Кто способен ответить на вопрос о смысле человеческой жизни? Даже великий человек, по-моему, не сможет…
Все рассмеялись.
— А по-моему, ответить на этот вопрос нетрудно, труднее научиться правильно воспринимать жизнь, — ответил Цзэн Чу. — Это не поучение, не суесловие, а самая что ни на есть банальная история. Почему при одинаковых обстоятельствах люди по-разному воспринимают жизнь? Скука жизни, видимо, чаще всего определяется субъективностью воспитания. Я уверен, что истину, добро и красоту можно найти, если глубже заглянуть в жизнь, если бороться за правду, справедливость.
— Прекрасно, благородно! — снова раздался визгливый голос, после чего зазвенели чайные чашки.
— Опять уклонились от темы, — недовольно сказал женский голос. — Экономические вопросы вы всегда сводите к идеологии, а то и к политике. Как будто не можете жить без болтовни о смысле жизни…
— Само собой, — произнес кто-то. — Сократ сказал, что неосмысленной жизнью жить не стоит.
— Вернемся к теме. У меня есть новая идея для экономики, — зачастил кто-то звонким голосом, будто щелкая на счетах костяшками. — По-моему, лучший способ — повсюду сажать арбузы! Весной посадил — осенью съел. Это тебе не грецкие орехи или цитрусовые: сколько лет надо ждать, чтобы съесть плод. Если же слишком высоки отчисления на накопления, а прибыль низка, то возникает разрыв между спросом и предложением…
— Разве можно сажать одни арбузы? — возразил Цзэн Чу. — Тогда не будет ни грецких орехов, ни цитрусовых. Конечно, хотелось бы, чтобы грецкие орехи начинали плодоносить пораньше, пока я жив и могу их съесть, но не страшно, если на первый год…
— Ты хорошо написал реферат «Предложения по развитию экономики нашего государства» о модернизации Китая, о наших недостатках и преимуществах. Но о преимуществах хотелось бы услышать подробнее, расскажи, — попросил кто-то.
— Если вкратце, то я считаю, что наше государство, как и другие государства Востока, отдает предпочтение развитию коллективистских форм, а в идеологии — морально-этических принципов. Мы обязаны сохранить это богатство восточной цивилизации. Западная цивилизация, напротив, предпочитает индивидуалистическое развитие, а в идеологии — гедонизм. Сочетание Востока и Запада лучше всего реализовано в Японии. Там рыночная экономика и свободная конкуренция, но в то же время сохранены формы коллективистского развития, традиционные для восточных государств, что и дало успех. Китай огромная, но бедная страна с высокой плотностью населения, и в короткий срок нам не достичь ни богатства, ни процветания. В прошлом мы делали упор на коллективистские формы общественного бытия, пренебрегая моментом конкуренции между коллективами. Это неверно. Если исходить из государственных интересов, боюсь, нам придется в политике и системе нравственных, социальных ценностей придерживаться коллективистских форм, конкуренции между коллективами и обогащения коллективов, пока мы не найдем более совершенный в структурном отношении путь. В то же время переходное состояние сельского хозяйства… — уверенно говорил Цзэн Чу.
— Значит, экономическая реформа должна исходить из комплексного принципа — учитывать любые преимущества, — перебили его. — И очень важные и малозначительные. А любых недостатков, и крупных и мелких, избегать.
— Совершенно верно.
— Время позднее. Остановимся пока на этом, — раздался женский голос. — Давайте разберем темы, если нет возражения, через три недели обменяемся рефератами и проведем обсуждение.
— Что проку в наших занятиях? — вздохнул кто-то. — У меня ни в чем нет уверенности. Сестренка насмехается надо мной, говорит, мы изведем себя спорами и не доживем до модернизации. Может, лучше нам самим сначала модернизироваться?
Наступило молчание.
— Да, нам пока трудно, — произнес Цзэн Чу. — Сил мало, никто нас не понимает, но для меня лично это не важно. Гораздо важнее мое собственное отношение к жизни, моя позиция…
Покосившиеся стены, сквозящее окно, сосульки, иней в углах, мерзлая картошка — все говорило о том, что для Цзэн Чу действительно главное — его собственное восприятие жизни. Чужое мнение его не интересовало.
— Ай, чайник выкипел, — крикнул кто-то тонким голосом, по полу застучали шаги, из комнаты выскочил человек и наткнулся прямо на Циньцинь.
— Ты? — удивленно вскричал он.
Циньцинь никак не могла понять, откуда здесь взялся Тюлень.
— Ты знаешь Цзэн Чу? — спросил парень.
— Да, а ты?
— Вот пришел послушать. У Фу Юньсяна, конечно, весело, но здесь интересно. Заходи, чего стоишь?
— Кто там? — донесся голос Цзэн Чу.
— Входи же! — Тюлень втолкнул ее в комнату.
Она вошла и смущенно взглянула на Цзэн Чу. Тот лежал под тонким войлочным одеялом, на бинте, обмотанном вокруг головы, темнели пятна крови. В комнате было полно народу.
— Вы? — удивился Цзэн Чу.
Постепенно все начали расходиться. Кто со студенческим значком, кто в рабочей спецовке, кто с сумкой, кто с портфелем.
— Не беспокойся, — шепнул какой-то парень на ухо Цзэн Чу. — Твои материалы я вручил лично главному редактору газеты. К тебе придут из горкома — может быть, даже завтра.
— Ничего. — Цзэн Чу помахал кулаками. — Не так-то легко со мной расправиться. Весной найду тренера, займусь боксом, чтобы защищать людей от подонков.
Он еще собирается драться? Циньцинь только сейчас заметила, какие у него сильные руки. Видно, занимался китайской гимнастикой. Такого не сломишь, он смелый, отчаянный, даст отпор любому хулигану. Циньцинь всегда нравились смелые… Когда все разошлись, в комнате стало тихо, только чайник уютно посапывал. Циньцинь подсыпала в печку угля, закрыла конфорку и стала искать стакан, но на столе стояла чашка, перевернутая вверх дном.
Цзэн Чу рассмеялся, пошарил рукой по лежанке и вытащил кружку, видавшую виды, с отбитой во многих местах эмалью. Циньцинь налила в нее кипятку.
— А у вас такая есть? — спросил он, не зная, что сказать.
— Нет.
Когда ее послали в деревню, то дали не кружку, а шесть «драгоценных» красных книжечек.
— Надо иметь такую кружку, — сказал Цзэн Чу. — С ней не пропадешь. Из нее и есть можно, и пить. И хранить в ней что необходимо.
Циньцинь пила чай и с любопытством осматривала комнату. Маленькая, не больше десяти квадратных метров, с аккуратно застеленным узким каном-лежаком, каких в городах уже не бывает. Покрытый полиэтиленовой пленкой квадратный стол, две табуретки, этажерка необычной конструкции, не покрытая лаком. На этажерке — чемодан из зеленой парусины. Вот и все. Потолок оклеен бумагой, на стенах ни картин, ни надписей, только висит карта мира и потертый футляр для скрипки. В углу — гантели и ракетка для бадминтона. Окошко затянуто куском голубой материи, чтобы напоминало небо. На подоконнике и под окном, прямо на полу, в глиняных плошках росли кактусы и опунции.
— Почему у вас нет цветов? — спросила Циньцинь.
— А кактусы? Ведь они тоже цветут. Редко, правда, но это еще интереснее: приходится долго ждать, зато еще больше их бережешь. Я их люблю за выносливость и неприхотливость. — Цзэн Чу вдруг резко отвернулся к стене.
— Голова заболела? — встревожилась Циньцинь. Ей хотелось что-нибудь для него сделать, ну хоть пуговицу пришить, как тогда. — Рана серьезная?
— Нет, не очень. — Он через силу улыбнулся.
— Могу я вам чем-нибудь помочь? — смущенно спросила она, думая о белой чашке, перевернутой кверху дном.
— Ничего не надо, мне сварили лапшу…
Циньцинь легонько смахнула пыль с чашки. Чашка старая, очень старая, с трещинками, дно сверху грязное. Почему она перевернута кверху дном? Она же не антикварная и не жертвенный сосуд. Странно. Почему он вдруг замолчал? Устал, наверное. «Напрасно я тогда не позволила ему проводить меня».
Вдруг сиденье под Циньцинь жалобно заскрипело, она испугалась и неловким движением сбросила чашку, которая покатилась под стол.
— Вы… — Глаза у него сделались круглыми, он покраснел. — Чуть не разбили…
Сбросив одеяло, он полез под стол, достал чашку, посмотрел ее на свет и, облегченно вздохнув, водворил на прежнее место, после чего снова лег. Видимо, чашкой он очень дорожил.
Циньцинь была удивлена; неужели он до такой степени мелочный? Будь это резной нефрит, она, конечно, извинилась бы за неловкость; но так разволноваться из-за простой чашки. Ведь ее можно купить в любой лавке. И Циньцинь с обиженным видом принялась разглядывать кактусы.
— Извините, — сказал он, смущенно ероша волосы. — Я немного погорячился… Не сердитесь…
— Не буду, — примирительно сказала Циньцинь.
— Сам не пойму, как это я не сдержался. Но если бы вы знали историю этой чашки, не удивлялись бы. Сейчас я вам все объясню. Всякий человек может ошибиться. — Последние слова он произнес совсем тихо.
Значит, у этой чашки есть своя история, и Циньцинь никогда не узнала бы ее, если бы ненароком не уронила на пол. Пусть теперь Цзэн Чу сердится на нее сколько угодно, она не станет на него обижаться.
А Цзэн Чу мечтательно смотрел на кактусы, вспоминая, как он мальчишкой бегал по лесам и горам.
— Вы ведь не знаете, что я не уроженец Северо-Востока. До шестнадцати лет я рос в маленькой деревеньке на севере провинции Цзянсу. Мать умерла, когда мне еще не было трех лет. Мачеха меня терпеть не могла. За столом самые лучшие куски отдавала родным детям, заставляя их есть побыстрее, чтобы мне меньше досталось. А то возьмет да припрячет для них что-нибудь вкусненькое. Они сами мне об этом рассказывали. До чего же мне стало обидно. Я работал с утра до вечера, резал траву, кормил гусей, ходил в горы за хворостом, рубил его, таскал. До двенадцати лет у меня не было новых ботинок. Учился я прилежно. В четырнадцать лет сдал экзамен в уездную среднюю школу и переехал в школьное общежитие. В то время тем, кто успешно сдал экзамен, полагалась стипендия, и я из стипендии платил за обучение. В каникулы и зимой и летом подрабатывал: бурлачил, толкал шестом лодки, нанимался грузчиком, дробил камень. Не гнушался никакой работой! Учителя хорошо ко мне относились, на еду мне хватало стипендии. Пожалуй, я утомил вас своими рассказами? Однажды, это было первого мая, все разъехались по домам, только мне некуда было деваться. Одному из товарищей я отдал последние семь мао, у него не хватало денег на билет. К тому же будто нарочно у меня украли талоны на продовольствие. В общем, я остался и без еды, и без денег, а занять было не у кого, да я и не хотел. Сидел в классе один, голодный, вдруг — о, радость! — из тетради выпала бумажка в пять фэней. Я тотчас же побежал в лавку, купил два ляна пареного риса и стал на ходу его есть. Потом вспомнил, что в лавке стоит бадья с отваром от соленых овощей, за который денег не берут, и вернулся. Но бадью не увидел. Спрашиваю у служанки: «Где бадья с отваром?» А она рукой на задний двор показывает. Пошел я туда, но в бадье увидел не отвар, а помои. И так мне стало обидно. Сироте всегда бывает обиднее, чем другим. Потом жизнь меня научила сносить унижения, а тогда я, хоть и был голоден, подошел к моей обидчице, вывалил на стол рис и вышел с гордо поднятой головой. Вышел и тут же упал в обморок от голода. Очнулся — лежу на обочине дороги, и какой-то старик кормит меня из чашки супом с ушками хуньдунь. Ногти у старика длинные, тело прикрыто лохмотьями. Оказалось потом, что он нищий, его выгнала из дому невестка. Ел я этот суп, а у самого по щекам текли слезы и капали в чашку. Порция одна стоит один мао. Поклонился я старику в ноги, сунул чашку за пазуху и убежал. С того дня я с этой чашкой не расстаюсь. Бывают люди хорошие, бывают плохие. Так и жизнь. Раньше мы думали, что она неизменно прекрасна. Потом впали в отчаяние, встретившись с несправедливостью. С тех пор как существует человечество, не прекращается борьба добра и зла. Того старика я никогда не забуду: он научил меня понимать жизнь…
«Оказывается, и простая чашка может быть полна глубокого смысла. А будь на месте Цзэн Чу другой? Весь мир показался бы ему бадьей с помоями. Пять фэней за чашку пареного риса, надо же! Таких дней я не знала, значит, могу считать себя счастливой. Впрочем, нет, он счастливее. Ведь он мог совсем опуститься. Пойти по дурной дорожке… Как жил он потом? Почему он смотрит в сторону? Боится, что наскучил? Я готова слушать его хоть до утра…»
— А что потом? — взволнованно спросила Циньцинь. У нее было такое чувство, будто она была вместе с ним в далекой и бедной северной Цзянсу.
— Ничего, ничего интересного.
Цзэн Чу, видимо, не хотел рассказывать все до конца.
— Как ты попал на Северо-Восток?
— Очень просто. Учился во втором классе средней школы, когда обо мне узнал дядя, брат моей матери, и забрал к себе. После окончания вуза его распределили на Северо-Восток, куда он приехал с семьей и служил техником. Он научил меня бегать на коньках, покупал книги. Два года, проведенных в его семье, были самыми счастливыми в моей жизни. А потом началась «великая культурная революция». Меня услали в деревню, а через год дядин завод перевели из Харбина в глубь страны. Я проработал в госхозе несколько лет. Рабочим или крестьянином я не был и потому не мог поступить в институт. В город вернуться я тоже не мог до тысяча девятьсот семьдесят шестого года. Собрался было изучать систему административно-хозяйственного управления госхозом, но заведующий отделением всячески мне препятствовал. Он даже подыскал для меня работу в городе, только бы я уехал! Была у меня тогда подруга, так и она уговаривала меня переводиться в город. Вот и вся моя жизнь. Ее за три минуты рассказать можно.
Он говорил о десяти годах невзгод и лишений спокойно, уверенно, даже с усмешкой.
— Значит… вы не поступали в университет? — спросила она. Это больше всего ее удручало.
— Я родился неудачником, — смеясь, ответил Цзэн Чу. — В семьдесят седьмом и семьдесят восьмом годах я еще был сосланным, а оттуда не подашь заявления в университет. Прошлый год был последний, когда я мог поступить, учитывая мой возраст. Два экзамена сдал благополучно, а на третий поехал на велосипеде, задумался и сбил с ног старуху. Пришлось везти ее в больницу. А когда приехал в университет, экзамены закончились…
Циньцинь долго молчала. Впервые встретила она такого человека. Вот Фу Юньсян везучий, а этот — неудачник. От подобной несправедливости хотелось громко кричать. Судьба вручала ключи от успеха не тому, кому следовало, нарушая тем самым гармонию в обществе. Но неудачи не ожесточили Цзэн Чу, не выбили у него из-под ног почву. Если бы ей рассказали о таком человеке, она не поверила бы, заявив, что о таких пишут только в книгах, а в жизни их не бывает.
Ночь тиха, слышны дальние свистки паровоза. Очень поздно, тебе надо бы уйти. Почему не хочется уходить? Может, многое хочется сказать ему? Он ведь так настрадался, ему теперь посильно любое бремя. Расскажи ему — и он научит тебя, как дальше жить…
Он взял со стола будильник и со скрипом завел его. Это он напоминает, что тебе пора уходить. Он утомился, на повязке сквозь бинты проступает кровь. А в живых черных глазах нет печали. В этих глазах, в их широком взгляде на мир растворяются и отступают далеко-далеко все заботы, которые так щедро сыплет на него жизнь…
— Простите, что не смогу проводить вас. — Он завел будильник. — Вас интересуют экономические вопросы?
Она поднялась и едва не крикнула: «Нет! Меня интересуешь ты сам! И ничего больше! Ты загадка, и я хочу тебя разгадать. Ты рассказал мне про дерево и его ценность, про суп с ушками хуньдунь и про рынок. А я могу рассказать тебе о фотографии и прочих моих бедах, но все они, вместе взятые, не идут в сравнение с одной твоей чашкой. Каждый человек думает, что несчастнее его нет на свете, причитает и жалуется… Но по-настоящему несчастны лишь те, кому пожаловаться некому. Они и не жалуются, а терпят молча, несут в себе свое горе…»
— До свидания, — прошептала она дрогнувшим голосом и посмотрела на свои новенькие сапожки. Ей хотелось сказать: «Если я нужна тебе…» — но она не решилась, губы у нее дрожали.
Дверь за Циньцинь захлопнулась. Во всем переулке светилось узкой полоской только одно окошко — его окошко. В темном небе величественно возвышалась церковь, торжественная и строгая.
«Вера, вера… — думала она. — Но жизнь не может сводиться лишь к молитвам и стоянию на коленях».
X
Ей приснилось, будто она едет по бескрайней снежной равнине верхом на молодом олене. Спина у него блестящая, теплая. На снегу растут кактусы. Они тянутся к ней своими колючими лапами. Олень увит золотистыми цветами весенней сливы, лепестки падают, кружатся в воздухе, превращаются в снежинки…
Она проснулась, едва рассвело. В призрачном зимнем свете все вокруг дрожало и расплывалось. Падал снег.
Снегопад был густой, за окном все белым-бело, и даже высокие березы во дворе скрылись за белой пеленой. Мутное, серое небо угнетало, как цинковый лист, мешая свободно дышать. Снежные хлопья тяжело, грузно ложились на землю, чтобы больше никогда не подняться. Она сама тоже…
Кто сказал, что снег легкий? В Сибири, например, целая деревня может оказаться погребенной под снегом до самых крыш; с Тянь-Шаня сходят грозные снежные лавины; в Харбине трамвай пробирается между снежными валами… Снег ложится пластами, все толще и толще… как наслаивается в сердце отчаяние, чтобы больше никогда не растаять…
Все в доме спали, одна Циньцинь бодрствовала. Она никак не могла забыть разыгравшийся накануне скандал.
В комнату к Циньцинь ворвалась обезумевшая мать, она хватала все, что ей попадало под руку, швыряла на пол и орала:
— Бесстыжая! Плюнула человеку в лицо, ну а я тебе плюну, вырастила тебя на свою голову!
Мать буйствовала до полуночи. Отец, который давно бросил курить, курил сигарету за сигаретой и вздыхал:
— Вот беда, вот несчастье, как же так случилось? Как я людям в глаза смотреть буду?
Затем в полном составе явилась семья Фу Юньсяна, торжественно, официально, «для переговоров на уровне чрезвычайных послов». Мать Фу Юньсяна зачитала тридцать два пункта, из которых явствовало, что ее сын подло обманут, что Лу Циньцинь опозорила и его, и всю его семью, за что несет полную ответственность. Старшая сестра жениха вела себя словно сваха, которую обвели вокруг пальца.
— Поищи другого, — кричала она. — Посмотрим, кого ты выберешь. Студент не подойдет, техник тоже; инженера обзовешь дураком! Профессора тебе надо? Да у профессоров куча детей! Высоко летаешь, а где сядешь? Судьба, как бумага, рвется. Смотри, как бы в девках не остаться…
Циньцинь решила молчать. Они допоздна шумели, но она слова не вымолвила. Сидела с безучастным видом, а мать с отцом, виновато улыбаясь, без конца извинялись. Циньцинь их жалела — наверное, не избежать им людского осуждения, — и, когда семья Фу Юньсяна наконец покинула дом, долго плакала, забившись в угол. Уже ночью Циньцинь пришлось выдержать двухчасовую атаку тетки, сестры отца. Наговорила она много, но все сводилось к одному: «Замуж надо выйти непременно. А выйдешь, хороший ли муж, плохой ли — терпи. Сама выбрала. Не понимаю, чем плох Фу Юньсян». «Не хочу за него замуж! Лучше всю жизнь одна проживу, — в отчаянии думала Циньцинь. — Никто меня не понимает!» И она снова заплакала. Последнее время глаза у нее были на мокром месте.
Тетка ушла, ворча и негодуя. Циньцинь вместе с ней спустилась по лестнице и проводила до дверей. Ей было совестно, что из-за нее пожилая женщина, под шестьдесят, прибежала среди ночи. У входа стоял человек; судя по его виду, он сильно продрог на холодном ветру. Только тетка отошла, как он направился к Циньцинь и крикнул:
— Постой-ка!
Это был Фу Юньсян. Видимо, он пришел вместе со своими родными, но наверх не поднялся и до сих пор стоял на улице. Одну руку он держал в кармане пальто, а другую — за спиной, дышал хрипло и часто.
— Порвать со мной хочешь? Почему же раньше молчала? В чем я перед тобой виноват?
— Знаешь, — тихо произнесла Циньцинь, — бывает, человек не сразу может разобраться в своих чувствах. Для этого нужно время… Ты не виноват, я одна во всем виновата — и перед тобой, и перед самой собой…
Он упал на колени, обхватил ее ноги, что-то звякнуло и покатилось в снег.
— Циньцинь!.. Вернись, одумайся… Все будет хорошо… Я не могу…
Она едва не упала, ощутив запах бриолина, исходивший от его волос. Она не помнила, как вернулась в дом; шла, спотыкаясь, под ногами скрипел снег. Она из окна увидела, что он все еще стоит под фонарем.
Ночью шел снег и засыпал следы Фу Юньсяна. Лишь в душе следы пережитого остаются на всю жизнь. Удачи и неудачи, взлет и падение, несправедливость — они остаются на всю жизнь. Можно оступиться, потом исправить свою ошибку, но в душе сохранится след. Стоит ли мучиться, суетиться? Разве не могут загубить жизнь сплетни и пересуды, хула? Снежинки, когда их множество, способны свалить огромное дерево, а человек не дерево, он травинка, ее может вырвать с корнем порыв ветра.
Циньцинь вскочила, быстро оделась и выбежала вон. От ветра и снега нельзя было открыть глаза. У Циньцинь они со вчерашнего дня были красные и опухли, потому что она не переставала плакать. Было скользко, и девушка шла с трудом, снег падал на шарф. Вот и стеклянная теплица, такая, как на дачах в России, за зеленым забором, вся занесенная снегом.
Дом у Фу Юньсяна двухэтажный, с узкими окнами и деревянным крылечком с резьбой. Прямо как в сказке. А войдешь — и нет сказки.
«Я вернулась. — Она шла как потерянная, шепча эти слова. — Что бы там ни было, ты хороший человек. Я тебя не виню, сама виновата. Я знаю, что брак — общая судьба до конца дней — не совпадает с той целью, которую Цзэн Чу поставил перед собой в жизни, что ему не нужен брак. Я пропаду. Идеал далек, как облако, а я — в трясине. Из халупы я ушла, но теперь сил у меня больше нет. Я понимаю, такой брак сведет меня в могилу. Прости меня, но я так думаю и не могу отогнать эту мрачную мысль. Нам с тобой не будет весело, я никогда не испытывала сладостей любви. Факт! Я тебя не люблю. Я не уверена, что ты меня по-настоящему любишь. Может, ты не способен любить по-настоящему. Я долго обманывалась сама, не верила самой себе, тебя тоже обманула. Я никого не хотела обманывать! И все же чувство к Цзэн Чу овладевало мною все сильнее. Да, как бы ни приходилось страдать, нельзя обманывать ни себя, ни других…
Зачем человек живет? В чем смысл жизни? Я думала об этом до головной боли, до обморока, до безумия. Но не нашла ответа. Может быть, не стоит размышлять о смысле жизни? И все же я хочу жить по-другому, не так, как прежде, более осмысленно. Впереди страданье, нелегкий труд и никакой гарантии на успех, я это поняла, а ты нет. Еще я поняла, что нельзя думать только о себе! Ты бы тоже засомневался, тебе бы тоже стало стыдно, понял бы, что жизнь не должна быть такой. Даже в тяжелое десятилетие находились люди, искавшие выход к свету, и на сером пепле, оставленном бедствием, на черной, выжженной земле прорастает молодая зелень; взлетит из-под пепла прекрасный феникс… Нет, увы, так ты не думаешь, ты не будешь думать обо мне, вот почему мы пришли к такому печальному концу. Прости, прости меня! Я помню, как ты обо мне заботился, но я не люблю тебя… Ах, если бы о нас так заботились раньше и вместо поучений и назиданий пустили бы нас в большой мир, мы были бы сейчас более зрелыми, более богатыми духовно, я поняла бы, как надо жить, и со мной не случилось бы ничего подобного. Нравственность и доброта! Я готова нести тяжкое бремя, нет, не смогу, не вынесу, пропаду, поэтому я и возвращаюсь к тебе… Сможешь ли ты меня простить? Я наделала много глупостей и должна за это расплачиваться».
Она сняла варежку, хотела нажать кнопку звонка, но кнопка была очень высоко. Циньцинь поскользнулась, выронила варежку. Зеленую варежку, которую она сама сшила, толстую и теплую. Она подняла и стала стряхивать варежку — и вдруг ей почудилось, что у нее в руках не варежка, а колючий кактус. Сердце взволнованно забилось, она сунула варежку за пазуху.
Из дому доносились звуки радио — передавали программу на день, значит, все уже встали.
Можно нажать на кнопку звонка.
А на крыльце везде — кактусы, кактусы…
Слышны шаги, кто-то подошел к двери. Скрипнула задвижка.
Она спрыгнула с крыльца прямо в снег и, прижимая к груди варежку, со всех ног побежала прочь, скользя по снегу.
— Циньцинь! — донесся ей вслед отчаянный крик.
…Снег все идет. Может, снежинки сначала взлетели ввысь с бескрайних равнин, снедаемые жаждой очищения, чтобы освободиться от грязи людской и лишь потом, в морозной вышине выкристаллизовавшись для новой жизни, возродиться в первозданной чистоте и затем опуститься на землю? Расскажут ли они нашему сегодняшнему миру что-нибудь интересное?..
Кактусы, вы растете не у заснеженных дорог, вы растете на подоконнике в маленькой, убогой комнатушке, в плошках и блюдцах, зеленые и сильные, похожие то на ладонь, то на кулак, то на палец, то на локоть… Вы похожи на руки простых людей, созидателей жизни, вы, словно мозолями, покрыты колючками, вы, способные изменить все вокруг, только свою судьбу не можете изменить!
Она ворвалась в комнату без стука. Дверь не была заперта.
— Я пришла! Если я нужна тебе… — крикнула она. Нет, это он ей нужен. Она поняла это, когда тянулась к звонку, там, в другом доме. В комнате никого не было, и она казалась осиротевшей и унылой.
На постели аккуратно сложено тоненькое одеяло. А человека нет. Только кактусы ее приветствовали, а может быть, прощались с ней?
Циньцинь в изнеможении опустилась на табуретку.
На столе — раскрытая книга, рядом в беспорядке стопки книг с закладками — литература по экономическим вопросам. Под книгами — исписанные мелким аккуратным почерком листы бумаги, самой дешевой, которую продают на вес. Среди книг и рукописей — та самая чашка с голубым ободком и блокнот. Громко тикает будильник. Он очень старый, но работает исправно.
Цзэн Чу, видимо, ушел завтракать, подумала Циньцинь, поколебавшись, раскрыла блокнот. Оттуда выпал пожелтевший от времени белый лоскут. На нем столбцы написанных кровью знаков, местами почерневших, местами выцветших: «Клянусь до самой смерти стоять за… Цзэн Чу, 1966 год».
Письмо, написанное кровью. Значит, и он писал клятву кровью? Прокусывал палец или перочинным ножиком укалывал кожу, по капле выдавливая кровь. Значит, и он в порыве бурного энтузиазма, во власти суеверий был обманут, был…
Письма кровью — это часть нашей истории: роковая ошибка, которую мог совершить каждый молодой человек, честный и чистый, впав в заблуждение. Но почему он не отринул это позорное прошлое? Почему не сжег, не бросил в реку, не выкинул вот этот кусочек материи?
Рядом с этим письмом другое, судя по смыслу — завещание. На нем кисточкой начертаны красивые знаки: «Прощай, жизнь! Цзэн Чу. 1970». Видимо, позднее слово «жизнь» было взято в кружок, внизу авторучкой дописано «1971», а к слову «прощай» проведена стрелка.
Циньцинь была в недоумении. Написал завещание, а сам жив, да еще такой бодрый и жизнерадостный. Он, словно кактус, вынослив, тверд и упрям. Как он выжил? Какое несчастье внушило ему мысль о смерти? Его не поймешь, не разгадаешь…
Дверь приоткрылась, и в нее просунулась голова.
— Цзэн дома? — спросил круглолицый мальчик лет девяти.
— Заходи, — сказала Циньцинь. — Он тебе нужен?
— Да, — захныкал мальчик. — Старший брат разбил мячом стекло у соседки, а сказал на меня, и мама ему поверила, хочу попросить Цзэна, чтобы заступился. Когда мама подралась со старухой, Цзэн их помирил…
— Он у вас что, народный депутат? — пошутила Циньцинь.
— Нет, не депутат, — помолчав, возразил мальчик. — Но во все встревает.
— Встревает на мою голову. Поглядел бы он мне в глаза! Я хоть и старая, да от меня так просто не отмахнешься, — зачастил под окном женский голос. — Мои помои, куда хочу, туда и лью, не твое это дело! Нажрался досыта, теперь начал в чужие дела встревать.
Легко было себе представить старуху, которая орет, подбоченившись.
Из соседнего дома вышла на крик седая женщина:
— Вы не правы, помои и мусор надо выносить куда положено. Цзэн за вами и убирал. Чем скандалить, вы бы лучше Постарались понять, что к чему.
— Он убирал?! Да кто его просил!
— Постой, постой! — раздался наконец знакомый, такой долгожданный голос. — Если будешь бросать мусор перед дверью, мы выльем на него помои со всей улицы, и у тебя перед входом намерзнет целая гора. Весной растает и пойдет зловоние. Ну как вот с ней быть? — продолжал он, уже обращаясь к соседке, и вместе с ней вошел в дом. Лицо его раскраснелось от мороза, брови заиндевели, в руке он держал лепешку, из кармана куртки торчал надорванный конверт. Соседка положила на плиту пирожки.
— Ешь, пока горячие. Мне из деревни прислали, — ласково приговаривала она. — Рана еще не зажила, а ты уже бегаешь?
— Вкусно пахнут! — сказал Цзэн Чу. — Очень вкусно. Вы обо мне заботитесь, тетушка Ван. Ну а у вас как с квартирой?
Они не видели стоявшую за дверью Циньцинь.
— Ходила в домоуправление, ничего нового, — вздохнула соседка. — Напрасно время у вас отнимаю, пишем заявления, а ответа никакого. Камень в воду бросишь, и то круги пойдут. А здесь семь человек живут на девяти квадратных метрах, и все равно не ставят на очередь. До смерти обидно!
— Не сердитесь и не волнуйтесь. Этим делу не поможешь. Напишем и восемь, и десять, хоть сто раз напишем, а не поможет, пойдем в район жаловаться.
— Ешь, милый, ешь. Простые пирожки с горохом — не бог весть что. Я и сама знаю, говори не говори — толку никакого, а вот побеседую с тобой — и на душе легче.
— Вы проходите, — засуетился Цзэн Чу. — Садитесь.
Вдруг он заметил Циньцинь и ахнул от удивления, в глазах у него вспыхнула искорка радости.
Соседка рассмеялась и вышла, уведя с собой мальчика.
Циньцинь теребила шарф потными от волнения руками. Почему она так нервничает? Надо бы улыбнуться…
— Я пришла… — запинаясь, проговорила она, — чтобы рассказать…
Он посмотрел на нее серьезно и в то же время ласково.
— Я уже знаю, все знаю — мне рассказал Тюлень. Если вам будет тяжело, в любое время…
В любое время? Нет, хочу сегодня, сейчас, сию минуту!..
Он выскочил в прихожую, чтобы добавить уголь в печку, и пламя сразу загудело, словно паровоз.
— Не волнуйтесь, вам помогут, — крикнул он из прихожей. — Без горя не бывает. Но кто способен испытывать угрызения совести — еще душой не очерствел, и у него все впереди. А в жизни столько хорошего! Чем острее переживешь, тем больше жизненной энергии.
Он вошел в комнату с вымазанным сажей носом.
— Верно я говорю?
Циньцинь лишь кивала головой, и, как ни сдерживала слезы, они капали прямо на его завещание, которое она держала в руках.
— Ах, вы прочитали! — Он растерялся.
— Почему, ну почему ты не сжег? — Она помахала листком бумаги. — Десять лет бережешь.
Он рассмеялся:
— А почему не сберечь? Еще Конфуций говорил: повторяй старое, чтобы узнать новое.
— Перестань! Зачем было это писать? Ведь ничего дурного ты не сделал?
— Все с отчаяния. С каждым может случиться, особенно с человеком нашего поколения. Вот только не припомню, из-за чего мне пришло в голову расстаться с жизнью. Из-за унижения, оскорбления, обмана или из-за случайно брошенной кем-то фразы… Но, как видишь, я ничего не сделал с собой. Почему? Тоже не помню. Может быть, увидел в лесу оленя или девочку, собирающую цветы на речном берегу… В жизни много хорошего. А иначе не стоило бы жить.
— Слово «жизнь» ты обвел кружком, а к «прощай» провел стрелку, это уже в тысяча девятьсот семьдесят первом году. И все же ты не расстался с жизнью.
— Это как сказать, — уже серьезнее отвечал он. — «Прощай» я сказал своему прошлому. В семьдесят первом я стал по-другому мыслить, изменил свой жизненный путь. Как бы тебе это объяснить… Например, когда Артур тайком сел на корабль, началась вторая часть его жизни…
— Как ты выстоял? Ведь тебя преследовали несчастья.
— Выстоял? — усмехнулся он. — Я оступался, заглядывал в пропасть, но не упал. Вышел из тюрьмы и узнаю, что она… Моя прежняя подруга… Замуж вышла. Я чуть с ума не сошел от горя. Побежал к ней, злоба во мне кипела, все что угодно мог натворить… Но как я увидел через окно, что она качает колыбель с младенцем и оба они такие умиротворенные, такие спокойные! Сердце дрогнуло, и я тихонько ушел. У каждого свое понятие о счастье, и каждый вправе к нему стремиться. Если же что-то препятствует счастью — например, общество или объективные условия, — не следует в этом винить какого-то конкретного человека. Я должен был ненавидеть, но не ее, мстить, но не ей, а десятилетию смуты, крайнему левачеству, невежеству и другому реальному злу…
— Что ты знаешь о северном сиянии? — вдруг совершенно не к месту спросила Циньцинь.
— Северном сиянии?
— Да, северном сиянии. Это великолепное небесное явление, крайне редко наблюдаемое в низких широтах; но оно случалось в районах Хума и Мохэ, оно похоже сразу на все — на молнию, на факелы, на гигантскую помету, на серебряные волны, на радугу, на зарю. — Циньцинь говорила, не переводя дыхания. — Ты видел или, может быть, слышал, да? Как я мечтаю увидеть это сияние. Когда я была маленькой, дядя говорил мне, что тот, кто увидит северное сияние, непременно будет счастливым…
— Ты совсем еще маленькая, наивная девочка, — прищурившись, ласково сказал Цзэн Чу, рассмеялся и отвернул на окне занавески; убогую комнатушку залил яркий солнечный свет, отраженный снегом. — Лет десять назад я тоже увлекался северным сиянием. Я люблю астрономию и в первый же день, когда мы приехали в деревню, совсем один ушел в степь полюбоваться этим небесным явлением. И конечно, я ничего не увидел. Я расспрашивал местных жителей, и они говорили, что никогда не видели никакого сияния и ничего о нем не знают. Я был огорчен и разочарован. И все же ученые утверждают, что такое явление наблюдается. Я даже видел фотографии. Очень красиво! Просто великолепно! Видела ты его или не видела, признаешь или нет, объективно оно существует. За нашу жизнь мы, может быть, его увидим, а может, и не увидим, но оно все-таки может появиться…
Он посмотрел на кактусы и добавил:
— Теперь я уже не жажду, как прежде в детстве, увидеть это сияние. Я ремонтирую трубы центрального отопления. Их надо проверять и чинить по одной. Плохо починенные чиню снова. Словом, занимаюсь конкретным и полезным делом. Трубы мои не сияют волшебным светом, но дают тепло.
Солнечный зайчик заиграл сквозь заросшее льдом окошко и запрыгал по неровной стене. Похожи ли морозные узоры на стекле на северное сияние? Мелькающие, как в калейдоскопе, снопы, пятна, дуги, полосы, занавеси света… Нет, нет, северное сияние должно быть неизмеримо прекраснее, хоть и никто здесь не видел его, но оно все-таки существует. Может быть, здесь нам придется долго ждать, пройдет много времени, и все же оно явится и нам.
— Спасибо… — Она пристально глядела на маленького оленя у него на груди. — Спасибо.
У нее перехватило дыхание, ей хотелось пожать его горячие и сильные руки.
— Пойдем погуляем? Снег перестал, — робко проговорил он. — Я давно не был на набережной… Мне опять возвратили рукопись, вот и письмо из Академии общественных наук с отказом в публикации. Ничего, я все равно буду писать, потому что уверен, что идея моя верна, только я не умею ее изложить как следует и развить. — Он протянул ей конверт.
— Будешь еще писать?
— Непременно, — ответил он решительно.
— Твоя рана зажила?
— Чепуха, — он мотнул головой, — царапина. Стоит ли обращать внимание? Тебя интересуют экономические вопросы? Приходи к нам на обсуждения, буду рад. Мир велик. Говорят, в Шанхае на швейной фабрике группа молодежи занялась исследованием модернизации системы управления производством и написала книгу о гибкой организации труда, профессиональном наставничестве и прочем.
«Опять он об экономических вопросах», — подумала про себя Циньцинь, слегка поморщившись.
…Река Сунгари очень широкая и зимой превращается в снежную равнину.
Вдали звенел колокольчик запряженной лошади — видно было лишь черную точку, ползущую по снегу, а в детской сказке стремительно проносились санки с одиннадцатью впряженными лошадьми…
Маленький мальчик в ярко-желтом, золотистом свитере распластался на своих новеньких деревянных санках и ласточкой понесся с высокого речного берега на лед; на самолетной скорости его вынесло далеко, аж на середину реки. Следующие же санки, попав на речной лед, вдруг завертелись на одном месте, и в морозном воздухе раздался звонкий детский смех.
Цзэн Чу сгреб горсть снега и бросил снежок с обрыва, но рассыпавшийся под ветром снег запорошил ему лицо и голову. Он попробовал увернуться и поскользнулся, нелепо качнулся, теряя равновесие, и шлепнулся с веселым хохотом.
— Ты всегда такой? Тебе не бывает грустно? — Она опустилась на корточки.
Она внимательно всматривалась в полосы чистого льда, оставшиеся после санок. Лед был прозрачный, с зеленоватым отливом, под ним чувствовалась речная вода, и, наверное, можно было сквозь него разглядеть даже плавающих у дна рыб…
Она набрала пригоршню снега и стала растирать его в руках.
— Зачем грустить, чтобы тебя жалели? Не хочу. Наверное, потому, что мне не везло. Я никогда ничего не имел, так что терять мне было нечего. Я не сетую на судьбу, как другие, не люблю. Надо бороться с обстоятельствами, иначе ничего не добьешься. К тому же человек должен жить не только для себя, но и для других. Я не пощажу себя ради своих идеалов и никогда от них не отрекусь. Погляди, буера! — Он показал на реку.
Она увидела скользящие по льду лодки с туго надутыми парусами. Лодки были приземистыми, паруса треугольными: грубо сколоченная из досок платформа опиралась на пару треугольных железных полозьев; белые паруса бились на ветру. В лодках сидели ребятишки в ярких вязаных шапочках. Они кричали, шумели. Циньцинь и Цзэн Чу побежали к буерам.
«Скорее бы наступала весна», — вдруг подумала девушка. Она раскраснелась, шарф размотался, и его трепал ветер.
— Когда сойдет лед, покатаемся на лодке? Ты умеешь грести? — Она посмотрела ему прямо в глаза, черные, с огоньком.
— Умею. — Изо рта у него шел пар. — Но, знаешь, с той поры, когда сойдет лед, и до настоящей весны пройдет много времени, будет грязь и распутица, появятся ямы-ловушки, зато все оживет. И хотя нелегко будет пройти по оттаявшей дороге, уверен, что мы сможем пройти.
— Я грести не умею, — призналась она. — Раньше боялась…
— Я тебя научу. И плавать надо научиться. Чего бояться? Тебе же не нужно переплывать через Сунгари. Камни не растворяются в воде, только соль. Это я давно понял…
Маленькая девочка в красной шубке, похожая на красный шерстяной мячик, вдруг вылетела на санках с берега на самую середину Сунгари. И Циньцинь вспомнила себя в вязаной шапочке, когда, совсем еще маленькая, она бегала на коньках… Как далеко ушла та пора! Дальше таинственного северного сияния, которое не разглядишь и не потрогаешь в бескрайней небесной высоте, где оно озаряет крошечный уголок вселенной.
Циньцинь зажмурилась, ослепительное сияние исчезло, и перед ней возник олень, нет, целое стадо скачущих по снежной равнине оленей… Нет, не олени, а четверка гнедых коней, скачущих с того берега, впряженных в тяжелые сани: Циньцинь и Цзэн Чу, когда были в деревне, часто ездили на таких грубых и прочных санях, тяжело груженных, покрытых ослепительно сверкавшим на солнце снегом…
Перевод А. Желоховцева.
Примечания
1
«Банда четырех» — ближайшие соратники Мао Цзэдуна: его супруга Цзян Цин и три бывших члена Политбюро ЦК КПК — Ван Хунвэнь, Чжан Чуньцяо и Яо Вэньюань.
(обратно)2
«Каппутист», то есть «идущий по капиталистическому пути», — один из расхожих политических ярлыков времен «культурной революции». — Здесь и далее прим. перев.
(обратно)3
Кан — отапливаемая дымоходом глинобитная лежанка в китайском доме.
(обратно)4
Яо Вэньюань — один из пресловутой «банды четырех», возглавлявшей «культурную революцию». Его печально известная статья, посвященная пьесе драматурга У Ханя «Хай Жуй уходит в отставку», явилась сигналом к наступлению на оппозиционные силы и была лично одобрена Мао Цзэдуном.
(обратно)5
«Четыре чистки» — одна из многочисленных кампаний «культурной революции» по перевоспитанию, состоявшая из чисток: «политической», «идеологической», «экономической» и «организационной».
(обратно)6
Третий пленум ЦК КПК одиннадцатого созыва состоялся в декабре 1978 г. На нем был провозглашен новый политический и экономический курс. И, в частности, были приняты решения о «раскрепощении сознания» и о возвращении к принципам демократического централизма.
(обратно)7
Лао Шэ (1899—1966) — выдающийся китайский писатель, автор романов «Рикша», «Записки о кошачьем городе», и др. Покончил жизнь самоубийством во время «культурной революции». Чжао Шули (1906—1970) — выдающийся китайский писатель, автор повестей и рассказов, погиб во время «культурной революции».
(обратно)8
Цинь Шихуанди (III в. до н. э.) — китайский император, основатель централизованной империи, отличавшийся особой жестокостью. Кумир Мао Цзэдуна.
(обратно)9
«Цитатник» — красная книжечка карманного формата, составленная под контролем Линь Бяо; помещенные в ней выдержки из речей и статей Мао Цзэдуна в обязательном порядке заучивались наизусть.
(обратно)10
Наряду с восемью официально установленными в КНР категориями классовых врагов — помещики, кулаки и т. п. — в годы «культурной революции» появилась и «девятая категория поганцев», к которым стали относить неугодную маоистскому режиму интеллигенцию.
(обратно)11
«Алеет восток, солнце встает: в Китае родился Мао Цзэдун» — песня, прославляющая Мао.
(обратно)12
В разгар «культурной революции» многие цитаты из сочинений Мао были положены на музыку.
(обратно)13
Фэнь — мелкая монета, сотая часть юаня.
(обратно)14
Дачжай и Сяоцзиньчжуан — два села, в начале 70-х годов объявленные «образцами» осуществления тогдашних левацких установок в области сельского хозяйства. Дачжай — народная коммуна, якобы развивавшая хозяйство на основе принципа «опоры на собственные силы»; в 1979 г. было официально признано, что сведения о ней подтасовывались. Сяоцзиньчжуан — коммуна, в которой художественной самодеятельностью руководила Цзян Цин.
(обратно)15
Люй Дунбинь — даосский святой, герой многочисленных преданий.
(обратно)16
Юань — основная денежная единица КНР.
(обратно)17
«Босоногие врачи» — крестьяне, прошедшие краткосрочные медицинские курсы и оказывавшие первую помощь больным в условиях острой нехватки квалифицированного медперсонала и больниц.
(обратно)18
Ли — китайская мера длины, равна 576 м.
(обратно)19
В китайском языке пожелание долгой жизни и словосочетание «да здравствует» — одно и то же.
(обратно)20
Кандидат (вторая степень из трех ученых степеней в системе государственных экзаменов на должности в Китае при династиях Мин и Цин).
(обратно)21
Один из легендарных китайских императоров, мифический герой.
(обратно)22
Гайгай — в переводе с китайского означает «реформа».
(обратно)23
В Китае красный цвет — цвет невесты.
(обратно)24
Белый цвет в Китае — цвет траура.
(обратно)25
Цзинь — мера веса, равная 0,5 кг.
(обратно)26
В 1975 г. маоисты вели кампанию против реабилитации осужденных членов КПК.
(обратно)27
В 1976 г. Линь Бяо, заместитель председателя ЦК КПК, и Чэнь Бода, руководитель «группы ЦК КПК по культурной революции», уже были осуждены официально.
(обратно)28
Ян Кайхуэй — вторая жена Мао Цзэдуна, расстреляна гоминьдановцами в 1930 г.
(обратно)29
Лю Чжисюнь — коммунист, друг Мао Цзэдуна, погиб в бою в 1933 г.
(обратно)30
Цыси (1835—1908) — китайская императрица, трижды была регентом: в 1861—1873, в 1875—1889 и в 1898—1908 гг., самодержавно управляя Цинской империей.
(обратно)31
Устойчивая формула политической характеристики в КНР.
(обратно)32
Герой вспоминает популярную народную песню «Саньшилипу».
(обратно)33
Форма записи китайских нот.
(обратно)34
«Большой скачок» — одна из политических кампаний в КНР.
(обратно)35
Банцзы — одна из местных разновидностей национального музыкального театра.
(обратно)36
«Коровьи загоны» — образное обозначение мест принудительного «трудового перевоспитания» в годы «культурной революции».
(обратно)37
Все созвучные варианты имени учительницы, значащие: «У — собирательница песен», «Лу — щедрая», «Чу — перелицовщица». «Портняжка Му» звучит как «Му Цайфэн».
(обратно)38
Намек на древнюю притчу о ловком торговце, расхваливавшем копья, перед которыми будто бы не устоит ни один щит, и щиты, которые отразят удар любого копья.
(обратно)39
Вэй Вэй — современный прозаик; «Кто самые любимые» — книга его очерков о войне в КНДР в начале 50-х гг.
(обратно)40
Святой буддийского пантеона.
(обратно)41
Древняя династия Чжоу: XI—III вв. до нашей эры.
(обратно)42
Цин Сянлянь, Бао Хэйцзы — персонажи традиционного театра.
(обратно)43
Баогун — театральный персонаж, легендарный справедливый судья.
(обратно)44
Рабочий режим учреждений в КНР включает послеобеденный отдых.
(обратно)45
Зои Космодемьянской.
(обратно)46
Барда — гуща, остающаяся после перегонки вина.
(обратно)47
Сун — название средневековой (960—1279) династии.
(обратно)48
Один из так называемых «образцовых» спектаклей времен «культурной революции».
(обратно)49
В китайских школах стобалльная система оценок.
(обратно)50
«Фань-ши» (букв.: «все, что…») — сегодняшний политический термин в КНР, направленный против леваков-догматиков, признающих только «все то, что» говорил Мао Цзэдун, и отвергающих «все, что» он не упоминал.
(обратно)51
Парк в западной части Пекина, где к XIII в. был буддийский храм и заросший бамбуком дворик.
(обратно)52
Антисептическая ртутная мазь.
(обратно)53
Парк в северной части Пекина — три озерка, заросшие ивами.
(обратно)54
Герои, сюжет этой повести, Сююань и все прочее являются чистейшей выдумкой и не должны ассоциироваться с каким-либо конкретным городом, конкретной провинцией. — Прим. автора.
(обратно)55
Имеется в виду «культурная революция».
(обратно)56
Народный политический консультативный совет Китая — образованная в 1949 г. организация Единого народно-демократического фронта в КНР.
(обратно)57
Левацкий лозунг периода «культурной революции».
(обратно)58
А., Б., В., Г. — имена уже умерших руководящих товарищей из ЦК, которые называла Юй Вэйлинь. — Прим. автора.
(обратно)59
Мао — 0,1 юаня.
(обратно)60
Героиня классического романа Цао Сюэциня «Сон в Красном тереме».
(обратно)61
Кто? (япон. вежл.)
(обратно)62
Вы не знаете (япон.).
(обратно)63
Нет, знаю (япон.).
(обратно)64
Кто же вы тогда? (япон.)
(обратно)65
Я в свободное от работы время… (япон.)
(обратно)66
5 апреля 1976 г. в день поминовения премьера Чжоу Эньлая в Пекине состоялась многотысячная демонстрация.
(обратно)67
Искаженное русское слово «полиция», которое вошло в диалект Северо-Восточного Китая.
(обратно)68
Один чи и два цуня — 40 см.
(обратно)
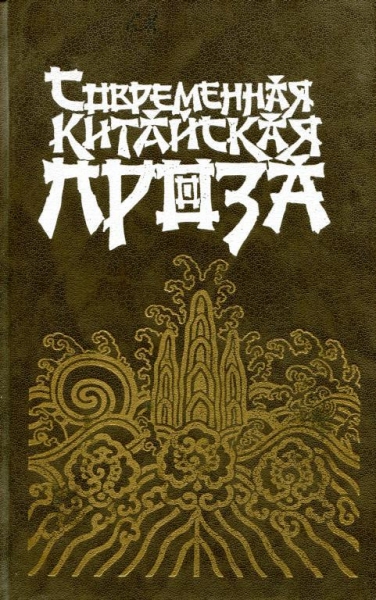
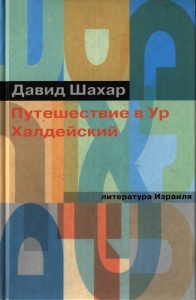






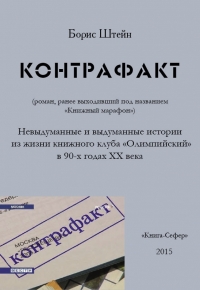


Комментарии к книге «Современная китайская проза», Цун Вэйси
Всего 0 комментариев