Журнал«Знамя»11, 2018
От автора | Мне тридцать один год, всю жизнь живу в Перми, отучился в училище на автослесаря. Работал на кладбище, заводе, вышибалой в клубе. Сейчас работаю журналистом-фрилансером. В основном пишу для интернет-журнала «Звезда». Женат. Писать рассказы начал года три назад.
Павел Селуков
Счастливый Пушкин
рассказы
ОДИН ДЕНЬ
Пермь. 2012 год. Я пил, как бедуин, только водку. Не знаю. Помереть, наверное, хотел. Но я трус. Все трусы так помирают — от непрямых действий в свой адрес. Если честно, я даже не знаю, почему пил. Катя не любит? Ну так она меня никогда не любила. Сын умер? Я его и не знал совсем. Перспектив в жизни нет? А у кого они есть? Призвания своего не знаю? Боже мой, а есть ли оно вообще? Я сначала в Бога верил. Мне бабушка в детстве Библию читала. А потом перестал верить. Повзрослел. Не знаю, как это связано, но ушла из меня уверенность, что все непременно сложится и гармония придет. Гармония на призвание похожа. Слово есть, а за ним ничего не стоит. Пустое, в сущности, слово. Как бутылка водочная, когда утро понедельника за окном.
У меня все пустое, на самом деле. Жена даже ушла, чтобы не терпеть моих пустот. Она меня любит, но все равно ушла, потому что ей больно смотреть на то, что я с собой делаю. Я только три дня способен не пить, а затем снова пью. У меня рекорд есть. Я два часа на новой работе проработал. Жена меня в этом винит. А чего меня винить? Я не могу жить. Не умею просто жить, не получается у меня. Я по-разному пробовал жить. Криминально пробовал. Продавцом-консультантом пробовал. Вахтовиком пробовал. На заводе пробовал. Охранником в магазине пробовал. И внутренне тоже по-разному пробовал. Пробовал рыбалкой. Пробовал книжками. Пробовал фильмами всякими. Пробовал в спортзале пропадать. Не пропал. Нигде буквально не пропал. Везде как какаха в проруби болтался. Как будто меня из Эдема выгнали, и я слоняюсь.
У меня даже к деньгам несерьезное отношение. Жену это особенно бесит. Но я ее люблю. Мне перед ней стыдно. Когда она от меня уходит, я выкарабкиваться начинаю. Три недели назад вот начал. Жена ушла, а я протрезвел и работу полез искать. Нашел. Два через два. Охранник в магазин вина и сыра «Ля Кав». Солидное место. На табуретке надо целый день сидеть и книжки читать. Я когда от пьянки отойду, имею товарный вид. У некоторых алкашей есть такая особенность — прилично выглядеть. А я еще говорить могу. Работодатели на это покупаются, потому что я сам на это покупаюсь. Я в такие моменты искренне верю, что завязал с водкой, и теперь буду работать с утра до ночи, чтобы иметь благосостояние. Но это все выдумка от начала до конца. Плевать я хотел на благосостояние. Просто мне перед женой стыдно. Я это все для нее делаю, а не для себя. А знаете, в чем главная подлость? Ничего-то мы не можем сделать для других, если нам самим этого не хочется. А стыд — очень зыбкое чувство и быстро проходит.
Я когда в «Ля Кав» устроился, прилично себя вел. С девчонками-продавщицами подружился. Они меня порядочным таким мужиком считали. Сыром угощали и хамоном. Я неделю проработал, пока не почувствовал, что конец близко. С хамона все началось. Там такой порядок был — продавщицы ногу дорезали, а кость забирали себе, чтобы с нее остатки мяса срезать. По очереди забирали. А тут мне предложили. Для них это большая ценность была, и они как бы совершили жест. А я проигнорировал. Мне вдруг впадлу стало за толстосумами подъедать. Предвестник всех моих срывов — выкаблучиваться там, где другие радуются. Тут, правда, я стерпел. Не пригубил ничего. Отказался — и все. А на следующий день дегустация была. Вечером девчонки остатки по бутылкам слили и пошли в камору пить. Они весь день из-за этих остатков тряслись, потому что вино дорогое, а попробовать хочется. Меня, конечно, позвали. А мне стрёмно одёнки допивать. И смотреть, как девчонки целый день богатеев облизывают, тоже неприятно.
Мне вдруг вообще все в этом магазине стало неприятно. Как будто я не на своем месте нахожусь, и от этого у меня внутри болит, потому что мироздание вроде как выдавливает меня отсюда. Томление прямо такое, предобморочное. Пройтись решил. Смотрю — кальвадос за две тыщи стоит. Повертел в руках. А пока вертел, крышку нечаянно открыл и отпил треть. Вы не подумайте — я не идиот. Знал, что рискованно мне в алкогольный магазин устраиваться. Просто других вариантов не было, а мне перед женой очень хотелось исправиться. Исправился. Едва от горлышка оторвался, сразу Витальке позвонил. Тот через час подвалил. А я уже бутылку кальвадоса даванул и закурил посреди магазина на радостях. Девчонки набежали. Поздняк метаться. Я уже неприличный, уже с матерком, по фене ботаю, нигде не работаю. Они обалдели, а мне смешно. Речи обличительные в духе Герберта Маркузе говорю. Цицеронствую во всю Ивановскую. На губах улыбочки скверные и гоготок. И даже как-то стыдно, что перед женой было так стыдно. Освобождающая какая-то фигня. Как будто по трезвянке все святое, а ты этого святого не достоин. А по пьяни ничего святого нет, и ты тут в самый раз получаешься.
Виталька когда пришел, я еще бутылку кальвадоса взял, и мы к Оперному двинули. В счет зарплаты, типа. Аккурат недельный оклад выходил за две-то бутылки. У Оперного мы с девушкой познакомились. Мара зовут. Она «Сплин» любила, а Виталька гитару взял, чтобы рок базлать. Побазлали. Допили кальвадос. Тут Мара говорит — я на Компросе хату снимаю, айда ко мне. А я такой — не боишься? А она — чего? А я — ну как? А она — да брось! Пошли, короче. По дороге два флакона водки зацепили. Угорать, так угорать, фигли ветру титьки мять. Это присказка такая. Я когда под мухой, из меня присказки так и прут. Тянет, видимо, к народности. Чтобы под метафорическими ногами появилась метафорическая почва.
Мара снимала двухкомнатную хату. Вообще, когда из компросовских окон на Пермь смотришь, то это какая-то другая Пермь, не Пролетарская. Я все время в окно смотрел, пока мы водку пили. И в форточку курил, у Мары это запросто. А потом мы все зачем-то разделись до нижнего белья. Я разделся. Виталька разделся. Мара разделась. Не для эротики, а потому что жарко, наверное. А может, чтобы стать племенем. Или чтобы преодолеть власть пола над личностью. Не знаю. Мы так и уснули полуголыми на диване, когда водку допили. К Маре даже никто не приставал, потому что она своей в доску оказалась.
Я ночью проснулся. Луна взошла. Смотрю — Виталька Мару обнимает. И главное, платонически так, нежно, как сестру. Я аж залюбовался. Жене сразу захотел позвонить. Но не позвонил. На часы посмотрел и не позвонил. Три часа ночи все-таки. А надо было. Прогуляться пошел. То есть брюки пошел искать. Нашел. И ключи еще нашел от машины. Я свою-то продал, чтобы долги за квартиру заплатить. А Мара «Дэу Матиз» водила. Я всегда хотел на такой маленькой машинке прокатиться. Они с Виталькой так сладко спали, что я не стал будить. Дверь тихонько притворил и на улицу спустился. Отыскал машину. Красненькая такая, вызывающая. Сел. Завел. Выехал задом. Коробка — автомат, между прочим. Я когда подшофе, очень люблю водить. Меня ответственность будоражит. Я сначала по Компросу ездил туда-сюда, а потом в Мотовилиху двинул.
Если честно, я поэтому машину и взял, чтобы в Мотовилиху съездить. На Рабочем поселке Катя жила. Вот к ней я и поехал. Думал — встану под окнами и буду на них смотреть. Приехал. Встал. Смотрю. А там везде свет горит, словно случилось что-то. Не утерпел — поднялся. Полчаса, наверное, у двери мялся. Потом позвонил. Лучше б жене позвонил. Бессовестный я человек. А главное, понимаю, что бессовестный, но ничего с собой поделать не могу. Дверь открыла Катя. В халате зеленом. «Чего пришел?» — говорит. «Не люблю тебя», — говорит. «Уходи», — говорит. А я молчу и лицом ее любуюсь, запоминаю. Я когда ее лицом любуюсь, мне Бог мерещится, которого я в детстве видел. А Катя такая — хочешь посмотреть, как я живу? А я — хочу. Я не знал совсем, как она живет. Откуда мне знать, как она живет, если я ей до этого только по телефону пять раз пьяный звонил? Я и адрес ее у знакомых ментов недавно только узнал.
Зашел. Коридор тусклый. Обои. Повсюду книги старые. Нечеловеческое какое-то количество книг. «Зачем, — говорю, — тебе столько книг?» А она: «Это муж притаскивает. Он болен. Все буквально с улицы тащит. Я «Газелями» эту макулатуру вывожу». «Понятно», — говорю. А самому ничего не понятно. Зачем она с ним живет, если можно жить со мной? Или со мной нельзя? Я вообще жену люблю или Катю? А как ей со мной жить, если, предположим, жить, когда я тоже не подарок? А кто подарок?
Пока я все это думал, мы в гостиной оказались. Там девчонка какая-то сидела лет восьми. Агу, ага, в слюнях вся. Катина дочь. От собирателя книг. Сюр похмельный. «Ты зачем, — говорю — это все мне показываешь? Почему ночью не спишь?». А Катя: «Чтоб ты перестал мне звонить и в любви признаваться. У меня дочь больная и муж больной. Если я слабину дам, их по интернатам рассуют. К нам психолог раз в месяц приходит и спрашивает дочку: а не бьют ли тебя, не ругают ли, всем ли ты довольна, все ли у тебя хорошо? А Настенька бестолковая. Все агу да ага. И за электричество долг. Отключить могут. Вот как мне стирать без электричества? На Каму ходить? Камнем белье мутузить? А не сплю я потому, что дочка не спит. И муж пьяный полночи по квартире ходил и окна руками крестил от бесов».
Я молчал. У меня от ее слов пелена с глаз спала, и я вместо Кати потасканную тридцатипятилетнюю бабу увидел. А потом мне стыдно стало, потому что, пока я ее любил безответно, и призвание искал, и оплакивал перспективы, она тут книги «Газелями» вывозила. Пойду, говорю. Чего тут еще скажешь? А она — иди. И вдруг села на диван и заплакала. Я тоже сел. Люстра пыльная. Штабеля книг. Дочка сопли жует. Донцова на столе с «ослиными ушами» лежит. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!.. Ничего-то мы ни про кого не знаем. И про себя не знаем. И любить не умеем, а только прикидываемся. Тошно стало, хоть заново бухай. Только толку-то. Не о чем мне больше пить. Не прощаясь, ушел. Дверь затворил, как будто склеп запечатал.
Вернулся на Компрос. По дороге думал педаль давануть и в столб въехать. На скорости. Подушек-то нет. Не въехал. Я только думать могу надрывно, а действовать — кишка тонка. Аккуратно доехал. Поднялся к Маре. Ключи на место положил. Спят, родные. Брат Виталька и сестра Маринка. Пусть спят. Домой поеду. Вот под липами посижу, первого автобуса дождусь, и поеду. Не о чем мне больше пить. Делать что-нибудь буду. Не знаю пока — что, но что-нибудь делать буду. Авось перемелется. Все ведь проходит. И это пройдет. Собственно, так я и стал писать рассказы.
СЧАСТЛИВЫЙ ПУШКИН
Виталий и Анжела сошлись два года назад. Она работала в «Евросети» продавцом-консультантом и обожала Инстаграм. Ни то ни другое в двадцать три года не считается преступлением. Еще Анжела любила дискотеки и необременительное веселье. Уважала шампанское «Боско». Курила тонкие сигареты «Вог». Раз в месяц посещала маникюрный салон. Мечтала о пышной свадьбе. Смотрела телепередачи аналоговых телеканалов. Сдобная, кипучая, чуть нагловатая — от нее исходила вулканическая энергия. Виталий был иного замеса. Созерцатель и молчун, он мог часами читать исторические книжки, размышлять о смысле жизни, гулять по осеннему лесу в декадентском настроении. Его витиеватая речь изобиловала внезапными цитатами из Овидия, Библии, Венички Ерофеева. Он искренне не считал, что ему должно быть хорошо всегда. Такие закидоны вполне простительны двадцативосьмилетнему парню.
Главной заковыкой Виталия было его происхождение. Исторгнутый из рабоче-крестьянской среды в осмысленное существование, он захватил с собой некоторые дурацкие привычки. Например, парень выбирал девушек исключительно по внешности, самому себе не отдавая в этом отчета. Так нувориш продолжает держать нож левой рукой, искренне не понимая — а почему королева морщится? Собственно, причин, по которым Анжела и Виталий съехались, было четыре: Виталий любил пышных девушек, Анжела любила высоких брюнетов, Виталий жил с мамой в однокомнатной квартире, Анжеле влетал в копеечку съём однушки.
Иными словами — молодые сошлись не потому, что были духовно близки, и не потому, что противоположности притягиваются, а потому, что у нас ипотека дорогая. Ну и секса хочется.
Визуально совместный быт Анжелы и Виталия протекал гладко. Она торговала телефонами, Виталий реставрировал ванны. Вечерами они встречались на кухне. Ужинали. Занимались любовью. Иногда ходили в ресторан. Иногда ходили в кино. Иногда просто ходили. Например, по городу. Приглядывались. Притирались. Через месяц Виталий пукнул в присутствии Анжелы. Еще через месяц Анжела пукнула в присутствии Виталия. Их связь окрепла. Маски сползали с лиц. Спустя полгода они сползли совершенно. Виталий осознал это внезапно. Он читал новый роман Мариши Пессл, когда в комнату вошла Анжела и включила телепередачу «Давай поженимся!».
— Анжела, я читаю.
— А я смотрю телевизор.
Виталий промолчал и ушел в ванную. Вскоре он стал проводить там целые вечера. Прошла неделя. В полной мере ощутив, что что-то идет не так, парень стал звать Анжелу на всякие свидания. Например, они сходили на спектакль и в киносалон «Премьер». Оба свидания показались Анжеле скучными. Чтобы познакомить Виталия с яркой жизнью, она повела его в «Май тай» и «Блэк бар». Клубы Виталий нашел глупыми. Он был на том этапе человеческой жизни, когда отвечать на все вечные философские вопросы уже не хочется, а вот ответить хотя бы на парочку просто необходимо. Он уже побродил по клубам, уже попил до рассвета, уже переболел творчеством Курта Кобейна.
Анжела находилась посреди этого заболевания. Философию она именовала «шмаласофией», а Виталия все чаще называла нудным.
В общем-то, к десятому месяцу совместной жизни никакой особой совместной жизни между ними не было. Анжела каждую неделю врала про корпоративы и уходила на дискотеки. Виталий читал книжки и гулял в лесу. Даже покупка кота не смогла их сблизить. Собственно, когда дело уже шло к мирному расставанию, в силу вступили секс и практицизм. Общеизвестно — когда семейную пару не связывает ничего, кроме секса, секс становится потрясающим. Секс — это объективация. То есть объективированная попытка преодолеть отчуждение. Соответственно, чем сильнее отчуждение, тем яростней эта попытка. Это как пытаться вытащить кусок мяса спичкой — ты как бы одновременно его и вытаскиваешь, и заталкиваешь глубже, при этом остановиться нет никакой возможности. С практицизмом еще проще. Виталий не хотел возвращаться к маме, а снимать квартиру одному, будучи реставратором ванн, не получалось.
Анжела самостоятельно платить за квартиру тоже не могла. Молодые стали ссориться. Страстно мириться. Виталий ударился в просвещение. Его изощренные попытки наградить Анжелу святой народной простотой все чаще увенчивались успехом. Например, ее нежелание читать книги он приписывал мудрой фразе: «Во многом знании — много горя». А ее влечение к тупым передачам парень оправдывал способностью черпать душевную пищу даже из неглубокого. В ответ на просвещение Анжела хрипло смеялась и поводила грудью. Темпераментные стычки между молодыми перемежались многодневным молчанием. И тот и другая потихоньку смирялись с нелюбовью. На двенадцатом месяце жизни оба пришли к ясному пониманию, что совместный быт и привычка достаточные основания для брака. Виталий и Анжела напоминали алкоголиков, для которых самое главное — уважение. Я не сомневаюсь, что роковой брак был бы заключен, если бы не случай.
Аспирант Миша Касатонов, школьный приятель Виталика, неожиданно нагрянул в Пермь из Петербурга. Друзья встретились в Центральной кофейне. Они оба были смущены, потому что много лет не виделись. Миша тоже читал Маришу Пессл. За обсуждением книги и Петербурга пролетело три часа. Под занавес встречи Виталий искренне недоумевал, почему Миша Касатонов не женщина. Или почему не женщина он. Хотя бы по этим фантазиям можно судить о глубине мучений молодого человека. Уже прощаясь, Миша подарил другу петербуржские юмористические сувениры: гипсовый бюст Пушкина размером с два кулака и «Повести Белкина». Пушкина Виталий очень любил. Он совершенно не попал под мейнстримное к нему отношение и считал его чуть ли не единственным русским писателем, способным передать оттенки нежности и счастья. И хоть бюст был штамповкой, а «Повести Белкина» Виталий читал много раз, подарок он принял с трепетом и придал ему даже слишком большое значение.
Смешно, но когда он поставил Пушкина на телевизор, то вдруг осознал, что перед ним самое родное лицо в этой квартире. Вечером, когда Виталий реставрировал ванну, это лицо было раскрашено красным кислотным маркером. Анжела нарисовала смешному кудряшу усы, вампирские клыки и шрам на шее. Потом отошла, полюбовалась и добавила внушительный фингал. Когда Виталий вернулся домой и все это увидел, то вдруг встал перед Анжелой на колени и страшно заорал:
— Ну почему? Почему тебе это смешно? Я не понимаю! Это ведь Пушкин... Ну, Пушкин. Пушкин. Пушкин...
Анжела была лаконична:
— Пушкин-шмушкин.
Виталия будто бы стеганули кнутом по глазам. Он резко зажмурился и как бы завис. А потом быстро промчался по квартире и побросал вещи в большую спортивную сумку. В тот же вечер парень вернулся к маме. На следующий день он остыл и захотел помириться с Анжелой. Уже потянувшись к телефону, Виталий мазнул взглядом по комнате и снова увидел разрисованного поэта. Вернул руку. Через два месяца он встретил одну филологиню и теперь очень счастлив. Анжела тоже не внакладе. Она сошлась с коллегой по работе, на которого давно поглядывала с интересом. Видите, как Александр Сергеевич все хорошо устроил? Сейчас вместо одной несчастной семьи в Перми живут две счастливые.
ФИКУС
Пермь. Апрель. Я сижу в кабинете и вопросительно гляжу на фикус. Его кто-то протер от многовековой пыли, и мне интересно кто. В кабинет вбегает Ярослава. Она маленького роста и похожа на хорька. Когда я вижу Ярославу, я проговариваю ее имя про себя, потому что юмор помогает мне жить. Улыбаясь как бы своим мыслям, я спрашиваю:
— Вам чего, Ярослава Михайловна?
При этом я стараюсь дышать в сторону, потому что в воскресенье выпивал со знакомой стюардессой, а кичиться насыщенной личной жизнью не в моих правилах.
Ярослава молчит. Ее подвижный носик ощупывает воздух. Острые скулы наливаются красными пятнами гнева. Я закидываю ногу на ногу, потому что утро грозит быть многообещающим. Мне понятно, почему молчит Ярослава — она считает, что молчание усилит ее будущую речь. Что ж, посмотрим. Я перевожу взгляд на фикус. Сколько он тут стоит? Я занял этот кабинет десять лет назад. Фикус уже был на посту. До меня здесь сидела Елена Витальевна. Двадцать два года. Она говорит, что фикус не приносила. Получается, фикус стоит тут больше тридцати двух лет. Это вообще возможно с точки зрения биологии? По венам забегали остатки вчерашнего мескалина. Я вдруг представил, что фикус вышагнул из кадки, выхватил самурайский меч и голосом Кристофера Ламберта проговорил: «Должен остаться только один из нас!». Мамочки мои, срань Господня!
Я резко зажмурился и отогнал проклятую «волну». Красная, как рак, Ярослава заговорила. Ее речь напоминала оползень. Мне стало грустно. Я почему-то вспомнил Сергея Бодрова.
— Альберт Тарасович, я так больше не могу! Я не могу выходить на сцену и гнать порнографию! У меня нет уверенности, что это искусство, понимаете? Я ходила на встречу с режиссером Звягинцевым, и он мне сказал, то есть не мне одной, а нам всем, что настоящее искусство должно быть настоящим! А я не уверена, что мое искусство настоящее. Ну, вот с чем от меня уходят люди? Я не понимаю, с чем от меня уходят люди. Вы понимаете, с чем от меня уходят люди? Звягинцев говорит, что я, то есть мы все, должны задавать себе два вопроса: зачем я это делаю и для кого я это делаю? Вот вы знаете, зачем я это делаю? Потому что лично я не могу ответить категорически…
— Категорично.
— Что?
— Тут лучше использовать слово «категорично», чем «категорически».
— Вы издеваетесь? При чем тут «категорично» или «категорически», если я все равно не знаю, зачем я это делаю?! Нам нужно пересмотреть программу. У меня есть идеи. Я вижу свое выступление по-другому. Я хочу перемен, понимаете? Иного художественного воплощения. Иных смыслов.
Ярослава пощелкала пальцами и закончила:
— Иной творческой глубины.
Вытянув букву «ы» неприлично длинно, она села в кресло и уставилась на меня зелеными немигающими глазами. Я осторожно заговорил:
— Ярослава Михайловна...
— Да!
— Это не вы протерли фикус?
— Боже мой, какой фикус?! Я говорю с вами про творчество, про космос, который ношу в себе. Я принесла программу. Вот...
Ярослава вытащила из сумки кипу листочков и обрушила их на стол.
— Поймите, Альберт Тарасович, для меня главное — честно выразить себя.
— Это, кажется, Брюс Ли сказал?
— Какой Брюс Ли, Альберт Тарасович? Это сказал Бродский!
— Да? А по-моему Брюс Ли. Ладно. От меня-то вы чего хотите?
Похмелье давало о себе знать, и мне хотелось выпить чекушку «Старого Кенигсберга», чтобы ясноголово почитать в Интернете про фикусы.
— Я хочу, чтобы мы вместе пересмотрели программу. Я хочу изложить идеи...
— Излагайте.
На подоконник села синичка и запрыгала туда-сюда. Из-за тучек выглянуло солнце. По всему видать, за окном происходила жизнь. Эх, подайте мне жареных перепелов, рюмку водки и вчерашнюю стюардессу прямо на стол! Я пресыщенно посмотрел на Ярославу. Она шуршала листочками, поблескивая красными скулами в мою сторону. Если бы мы были в фильме Тарантино, я бы ее пристрелил.
— Для начала нужно обсудить мой выход. Мне кажется, это должно быть что-то легкое, но со вкусом. Такая весенняя нежность, но без вычурности. Я предлагаю Шопена.
— Фредерика Шопена?
— А разве есть еще какой-то Шопен?
— Ладно. Допустим. Что дальше?
— Дальше — видеоряд. Помните «Зеркало» Тарковского?
— Помню.
— Та же идея, только вместо Да Винчи библейские рисунки Рафаэля.
— Пухлые младенцы?
— Да, ангелочки под музыку Шопена в затемненном зале.
— А потом?
— А потом выхожу я, одетая, как Мария Магдалина, и читаю стихи про Пасху. Бродского, Ахматову, Вознесенского, Быкова, Уильяма Блейка. Ну, вы понимаете.
— Понимаю-понимаю. А дальше?
— Дальше сцена медленно заполняется людьми. Сначала выходят фокусники и показывают фокусы. Они символизируют чудо Пасхи. Потом выходят гимнасты и всячески скачут, как бы символизируя кипение жизни. Потом выходят дрессировщики и выпускают голубей.
— В зале? Они же нагадят?
— Не нагадят.
— Нагадят.
— Альберт Тарасович, вы ничего не понимаете в голубях! Это специальные голуби.
— Которые не гадят?
— Прекратите произносить это ужасное слово! Мы выпустим одного голубя. Он сразу улетит в открытое окно. Красиво пролетит по залу и вылетит в окно. А когда я буду читать последнее стихотворение, а на сцене будет твориться невообразимое, все вдруг замрут, музыка оборвется и тут голубь влетит в окно и сядет мне на плечо.
— Голубь в курсе?
Ярослава замахала на меня руками и закончила свою речь.
— Это как бы просимволизирует воскресение Христа и его возвращение на землю в ипостаси Святого Духа. Как вам такая программа?
Ярослава победительно сверкнула глазами и скромно потупилась, как Бог после сотворения мира. Я откашлялся.
— Программа сногсшибательная. У меня только четыре уточняющих вопроса. Первое — где вы возьмете гимнастов? Второе — где вы возьмете фокусников? Третье — где вы возьмете голубя? И четвертое — вам не кажется, что это слишком сложно для детского сада? Я понимаю, что вы аниматор и вам хочется большего, однако дети в этом не виноваты.
Ярослава вскочила и забегала по кабинету.
— Моей дочери очень понравилось!
— Вашей дочери пятнадцать.
— Гимнасты, голубь и фокусники стоят недорого!
— Денег нет. И вообще...
— Что, что вообще?!
— Я передумал праздновать Пасху в своем садике. Какой-то слишком религиозный праздник, на мой вкус. Будем праздновать День космонавтики. Расскажите детишкам про Гагарина и покажите слайды.
— И все? То есть как обычно?
— Как обычно, Ярослава Михайловна. Все. Идите. У меня видеоконференция с Минобром.
Ярослава полыхнула скулами и бросилась на меня с кулаками. Тут из кадки выпрыгнул фикус и перерубил ее пополам. Шучу. Я схватил фурию за руки, и она сразу успокоилась. Это тоже обычная практика. Ярослава психует стабильно раз в месяц, потому что у нее нету мужа, но есть месячные. В этом смысле биология очень несправедливая штука. Выпроводив аниматоршу, я открыл чекушку и жадно отпил треть. Подошел к фикусу. Этот аксакал кое-что знал про биологию. Знал и молчал. Надо будет спросить Елену Михайловну о чуваке, который заправлял детским садом № 407 до нее. Может быть, это он принес чертов фикус?
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


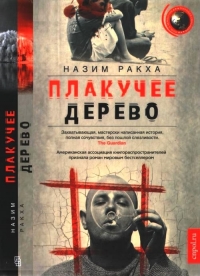



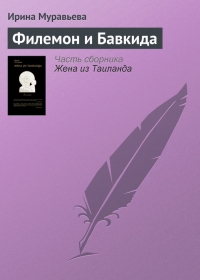
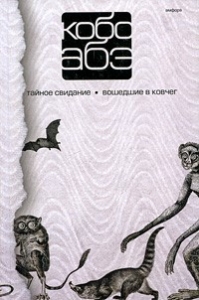
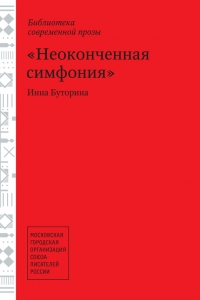
Комментарии к книге «Счастливый Пушкин», Павел Владимирович Селуков
Всего 0 комментариев