Розамунда Пилчер Собиратели ракушек
Rosamunde Pilcher
The Shell Seekers
© 1987 by Rosamunde Pilcher
© И. Бернштейн (наследник), перевод (пролог, гл. 1–5), 2018
© Ю. Жукова, перевод (гл. 6–9), 2018
© И. Архангельская (наследник), перевод (гл. 10–11), 2018
© Г. Здорных (наследники), перевод (гл. 12–16), 2018
© Издание на русском языке, оформление ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2018
Издательство АЗБУКА®
* * *
Посвящается моим детям и детям моих детей
Пролог
Такси, старый «ровер», пропахший сигаретным дымом, не спеша ехало по пустынной загородной дороге. Был самый конец февраля, холодный сказочный зимний день в белом инее, под бледным, ясным небом. Солнце светило, протягивая тени, но не дарило тепла, и вспаханные поля лежали твердые, как камень. Над крышами разбросанных тут и там ферм и каменных домишек из труб отвесными столбами восходил дым. У кормушек с сеном толпились овцы, обремененные отросшей шерстью и будущими ягнятами.
Пенелопа Килинг, сидя на заднем сиденье, смотрела сквозь пыльные стекла. Никогда еще давно знакомые ей места не казались такими красивыми.
Дорога круто изогнулась, здесь стоял дорожный столб, указывающий направление на Темпл-Пудли. Шофер притормозил, со скрипом переключил скорость, и машина, свернув, покатила с прискоком под гору между высокими стенами колючей живой изгороди. И вот уже деревня — домики из золотистого котсуолдского песчаника, газетный киоск, мясная лавка, пивная «Сьюдли Армз» и церковь в глубине за старинным кладбищем и строем пристойно сумрачных тисов. Народу почти не видно. Школьники все на занятиях, остальных на улицу не пустил холод. Только один старик, руки в варежках, на шее шарф, прогуливает дряхлого пса.
— Который дом? — через плечо спросил таксист.
Она нетерпеливо подалась вперед, волнуясь бог знает почему.
— Еще совсем немножко проехать. Через деревню. Белые ворота справа. Вон, видите? Распахнутые. Приехали!
Таксист въехал в ворота и остановился у заднего крыльца.
Пенелопа вылезла из машины, кутаясь от холода в синюю накидку. Достала из сумочки ключ и пошла отпирать дверь. Водитель у нее за спиной, поднатужившись, открыл багажник и достал ее маленький чемодан. Она обернулась, протянула за чемоданом руку, но он не отдал и озабоченно спросил:
— Вас что же, некому встретить?
— Некому. Я живу одна, и все думают, что я еще в больнице.
— А вы как, ничего? Одна управитесь?
Она посмотрела в его доброе лицо. Совсем молодой, волосы густые, светлые.
— Ну конечно, — улыбнувшись, ответила она.
Он помялся, видно опасаясь быть навязчивым. Потом все-таки сказал:
— Хотите, я могу внести вещи в дом. Наверх втащить, если надо.
— Большое спасибо, вы очень любезны. Но я могу все сама…
— Мне ничего не стоит.
Он вошел вслед за ней в кухню. Она открыла дверь и проводила его вверх по узкой деревянной лестнице. В доме стоял запах стерильной чистоты. Миссис Плэкетт, дай ей Бог здоровья, в отсутствие Пенелопы не теряла времени даром. Она любит, когда хозяйки нет дома, — можно переделать уйму дел: вымыть белые перильца лестницы, откипятить пыльные тряпки, перечистить медь и серебро.
Дверь спальни была приоткрыта. Пенелопа вошла, молодой человек следом. Он поставил чемодан на пол.
— Могу я что-нибудь еще для вас сделать?
— Нет. Абсолютно ничего. Сколько с меня?
Он, слегка смущаясь, назвал сумму, будто ему об этом неловко было говорить. Она заплатила и оставила ему сдачу. Он поблагодарил, и они спустились обратно в кухню.
Но он медлил, не уходил. Ей подумалось, что, наверное, у него есть бабушка ее возраста, за которую болит душа.
— Вам ничего больше не надо?
— Уверяю вас, нет. А завтра придет моя приятельница миссис Плэкетт. И я уже буду не одна.
Это его почему-то успокоило.
— Ну, я пошел тогда.
— До свидания. И спасибо вам.
— Не стоит благодарности.
Он уехал, а она вернулась в дом и закрыла за собой дверь. Одна. Какое облегчение! Дома. В своем доме, среди своих вещей, на своей кухне. Гудела колонка отопления, давая блаженное тепло. Пенелопа расстегнула крючки накидки, сбросила ее на спинку стула. На чисто выскобленном кухонном столике стопкой лежала почта; Пенелопа перебрала ее, но не нашла ничего важного или занимательного и, оставив все как было, открыла стеклянную дверь в зимний сад. Мысль, что любимые цветы, может, погибают от холода или жажды, все эти последние дни не давала ей покоя, но миссис Плэкетт их тоже не обошла своей заботой. Земля в горшках была влажная, рыхлая, зелень яркая, здоровая. На ранней герани появилась шляпка крохотных бутонов, гиацинты подросли на три дюйма, не меньше. За стеклом виднелся настоящий сад, скованный инеем, голые ветки — как кружево на фоне блеклого неба, но и там во мху под каштаном уже белели подснежники и золотились верхние чашечки аконитов.
Пенелопа возвратилась в кухню и поднялась наверх. Она хотела было распаковать чемодан, но вместо этого позволила себе роскошь просто послоняться по комнатам и порадоваться возвращению домой. Она открывала дверь за дверью, оглядывала каждую комнату, смотрела в каждое окно, трогала мебель, поправляла занавески. Все на своих местах. Ни малейших перемен. Наконец, снова спустившись вниз, она взяла из кухни почту и, пройдя через столовую, расположилась в гостиной. Здесь собрано все самое ценное, что у нее есть: письменный стол, цветы и картины. В камине лежала растопка. Пенелопа чиркнула спичкой и, опустившись на колени, подожгла газету. Побежал огонек, вспыхнули и затрещали лучины, она уложила сверху поленья, и языки пламени взметнулись к дымоходу. Теперь дом окончательно ожил, и, когда это приятное дело было сделано, не осталось больше причины откладывать звонок кому-нибудь из детей с признанием в своем поступке.
Но которому звонить? Пенелопа сидела в своем кресле и раздумывала. Вообще-то, надо бы позвонить Нэнси, она старшая и считает, что несет всю ответственность за мать. Но Нэнси придет в ужас, всполошится, набросится с упреками. И Пенелопа решила, что еще не настолько хорошо себя чувствует, чтобы разговаривать с Нэнси.
Тогда Ноэль? Может быть, ему следует оказать предпочтение как единственному мужчине в семье? Но мысль о том, чтобы обратиться за помощью или советом к Ноэлю, была смехотворна. Пенелопа даже улыбнулась. «Ноэль, я вышла из больницы под расписку и нахожусь дома». На это сообщение он, вероятнее всего, отзовется односложно: «Да?»
И она поступила так, как с самого начала знала, что поступит. Сняла трубку и набрала лондонский рабочий номер Оливии.
— «Ве-не-ра», — пропела телефонистка название журнала.
— Не могли бы вы соединить меня с Оливией Килинг?
— Ми-ну-точку.
Пенелопа ждала.
— Секретарь мисс Килинг слушает.
Дозвониться на работу Оливии почти так же трудно, как к президенту Соединенных Штатов.
— Можно мне поговорить с мисс Килинг?
— К сожалению, мисс Килинг сейчас на совещании.
— За круглым столом у директора или у себя в офисе?
— У себя в офисе… — В голосе секретарши слышалось вполне естественное замешательство. — Но у нее посетители.
— Тогда, будьте добры, прервите ее. Это ее мать, у меня срочное дело.
— А… подождать никак нельзя?
— Ни минуты, — твердо ответила Пенелопа. — Я ее долго не задержу.
— Ну, хорошо.
Опять ожидание. Наконец голос Оливии:
— Мамочка?
— Прости, что оторвала тебя.
— Мамочка, что-то случилось?
— Нет, все в порядке.
— Слава тебе господи! Ты из больницы говоришь?
— Нет, из дому.
— Из дому? Когда ты успела очутиться дома?
— Сегодня, примерно в половине третьего.
— Но ведь тебя собирались продержать там по крайней мере неделю!
— Да, собирались. Но я так соскучилась и устала, ночью глаз не сомкнула, а напротив меня лежала старушка, она не закрывала рта, все время говорила, говорила, вернее, бредила, бедняжка. Ну, я и сказала доктору, что не выдержу больше ни секунды, собрала свои пожитки и уехала.
— Вышла под расписку, — сокрушенно, но без тени удивления произнесла Оливия.
— Именно так. Я чувствую себя совершенно нормально. Взяла хорошее такси с очень милым водителем, и он привез меня домой.
— А доктор разве не возражал?
— Громогласно! Но воспрепятствовать мне не мог.
— Ну, мамочка, — в голосе Оливии был сдавленный смех, — безобразница ты. Я собиралась на этот уик-энд приехать к тебе в больницу. Знаешь, привезти фунт винограду и самой же все съесть.
— Ты можешь приехать сюда, — сказала Пенелопа и сразу же раскаялась: не получилось бы слишком просительно, жалобно, будто ей скучно и одиноко.
— Ну-у… если у тебя действительно все в порядке, я бы, пожалуй, отложила несколько свой визит. Честно сказать, я на этой неделе ужасно занята. Мамочка, а Нэнси ты уже звонила?
— Нет. Думала позвонить, но потом струсила. Ты ведь знаешь, какая она. Поднимет шум. Позвоню завтра, когда в доме будет миссис Плэкетт, тогда меня уже нельзя будет выбить с укрепленных позиций.
— А как ты себя чувствуешь? Только честно.
— Совершенно нормально. Просто, как я уже сказала, не выспалась.
— Ты не будешь перетруждаться, обещаешь? Не ринешься в сад срочно рыть канавы и пересаживать деревья?
— Нет, не буду, да и земля еще мерзлая, как камень.
— Слава богу хоть за это. Мамочка, я должна идти, у меня тут коллега в кабинете…
— Знаю. Твоя секретарша сказала. Прости, что я оторвала тебя, но мне хотелось, чтобы ты знала, что происходит.
— Хорошо, что позвонила. Будем держать связь. А ты побалуй себя немножко.
— Обязательно. До свидания, моя дорогая.
— До свидания, мамочка.
Пенелопа поставила телефон на стол и откинулась в кресле.
Ну вот. И больше никаких дел. Она вдруг почувствовала, что безумно устала. Но то была приятная усталость, которую утоляла, успокаивала знакомая обстановка, как будто дом — это добрый человек, как будто ее обняли за плечи любящие руки. Сидя в своем глубоком кресле в обогретой, полуосвещенной камином комнате, Пенелопа с удивлением испытала давно забытое ощущение беспричинного счастья. Это потому, что я жива. Мне шестьдесят четыре года, и у меня, если верить этим дуракам-докторам, только что был инфаркт. Или что-то вроде того. Но я осталась жива, и теперь это в прошлом. Я никогда больше не буду об этом ни говорить, ни думать. Потому что я жива. Могу чувствовать, осязать, видеть, слышать, обонять; могу позаботиться о себе, выйти под расписку из больницы, взять такси и приехать домой. В саду проглянули первые подснежники, и весна идет. И я ее увижу. Я буду любоваться этим ежегодным чудом и чувствовать, как с каждой неделей все теплей становятся солнечные лучи. А я жива и смогу видеть все это и принять участие в чудесном преображении.
Ей вспомнилась острота обаятельного Мориса Шевалье[1], который на вопрос, как ему нравится быть семидесятилетним, ответил: «Терпимо. Если учесть, какая этому существует альтернатива».
Пенелопа Килинг чувствовала себя даже в тысячу раз лучше, чем терпимо. Теперь ее жизнь — не просто существование, которое принимаешь как должное, а премия, добавка, и каждый предстоящий день сулит радостное приключение. Время не будет тянуться вечно. Я не растрачу впустую ни одной секунды, пообещала Пенелопа себе. Она никогда еще не ощущала в себе столько силы и оптимизма. Словно она снова молода, только начинает жить и вот-вот должно случиться что-то чудесное.
1. Нэнси
Иногда она с горечью думала, что у нее, Нэнси Чемберлейн, любое, самое простое и невинное предприятие неизбежно наталкивается на досадные осложнения.
Вот, например, сегодня. Пасмурный мартовский день. Она всего-то только и собиралась завтра сесть в поезд, отправляющийся в 9.15 из Челтнема, поехать в Лондон, пообедать с сестрой Оливией, может быть, забежать в «Хэрродс»[2] — и вернуться обратно домой. Уж кажется, не преступный замысел. Она не намеревалась транжирить деньги и не на свидание к любовнику ехала, а скорее по велению долга; надо было кое-что обсудить, принять ответственные решения; тем не менее стоило ей заикнуться домашним о своих планах, как обстоятельства сразу же сплоченными рядами выстроились у нее на пути и она столкнулась с возражениями и, что еще хуже, с таким непониманием, что вырывалась из дому уже словно из горящего здания.
Накануне вечером, договорившись с Оливией по телефону о встрече, она пошла искать детей. Они оказались в маленькой гостиной, которую Нэнси предпочитала величать библиотекой, — валялись на диване у камина и смотрели телепередачу. У них была комната для игр с телевизором, но в ней отсутствовал камин и стоял смертельный холод, да и телевизор там был старый, черно-белый, так что, естественно, они почти все время проводили здесь.
— Мои хорошие, я должна завтра ехать в Лондон, встретиться с тетей Оливией и поговорить с ней насчет бабушки Пен…
— Если ты уедешь в Лондон, кто же отвезет перековать Молнию?
Это возражение поступило от Мелани. Она говорила, не вынимая изо рта кончик косы и не спуская взгляда с телевизора, где во весь экран бесновался знаменитый рок-певец. У четырнадцатилетней Мелани был сейчас, как успокаивала себя ее мать, трудный возраст.
Вопрос этот Нэнси предвидела и была к нему готова.
— Я попрошу Крофтвея, он должен сам управиться.
Крофтвей был вечно насупленный садовник и мастер на все руки, проживавший вдвоем с женой в квартирке над конюшней. Лошадей он терпеть не мог и постоянно наводил на них ужас громким голосом и неумелым обращением, однако заниматься ими входило в его обязанности, что он с неохотой и делал — втаскивал взмыленных коней в клеть для перевозки и с таким громоздким грузом гнал грузовик на всевозможные скачки и мероприятия детского конного клуба. В этих поездках он у Нэнси назывался грумом.
Вслед за сестрой и одиннадцатилетний Руперт выступил со своим возражением:
— Я сговорился зайти к Томми Робсону. У него есть интересные футбольные журналы, он сказал, что даст мне их почитать. Кто же меня привезет домой?
Нэнси в первый раз о таком уговоре слышала. Стараясь изо всех сил не терять хладнокровия и понимая, что предложить перенести этот визит на другой день значит вызвать стоны и вопли: «Так нечестно!», она подавила досаду и сказала как можно более ровным голосом, что домой он сможет приехать на автобусе.
— Да-а, а на остановку пешком идти!
— Ну там же всего четверть мили, — заметила Нэнси и примирительно улыбнулась. — Раз в жизни можно сходить, это не смертельно.
Она надеялась, что мальчик улыбнется в ответ, но он только цыкнул зубом и снова уставился в телевизор.
Нэнси подождала. Чего? Может быть, проявления какого-то интереса к делам, имеющим значение для всей семьи? Даже корыстный вопрос, какие подарки мать привезет из Лондона, и то был бы лучше, чем ничего. Но дети уже забыли о ней и сосредоточили внимание на телеэкране. Она вдруг почувствовала, что этот грохот и вой невыносимы, и поспешила выйти из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. В коридоре на нее пахнуло пронизывающим холодом, который шел от каменного пола и поднимался вверх по ледяной лестнице.
Минувшая зима была студеная. Нэнси любила повторять — себе или подвернувшемуся невольному слушателю, — что не боится холода. Она не мерзлячка по натуре. К тому же, рассуждала она, в своем доме холод не чувствуется, всегда столько дел, не успеваешь озябнуть.
Но теперь, после неприятного объяснения с детьми, когда еще предстояло на кухне «сказать пару слов» угрюмой миссис Крофтвей, ее пробрала дрожь, и она плотнее запахнула толстую вязаную кофту, видя, как от сквозняка из щели под входной дверью шевелится у порога вытертый половичок.
Дом, в котором они живут, очень старый, ему не меньше двухсот лет, это бывший дом священника, стоящий на краю живописной деревушки среди Котсуолдских холмов. У Чемберлейнов и почтовый адрес такой: просто «Дом Священника», Бэмуорт, Глостершир. Хороший адрес, одно удовольствие давать его в магазинах: «Запишите за мной — миссис Джордж Чемберлейн, „Дом Священника“, Бэмуорт, Глостершир». Она и бумагу почтовую себе такую заказала в «Хэрродсе»: голубую, а сверху — тисненый адрес. Нэнси вообще придавала значение таким мелочам. Они задают тон.
Они с Джорджем поселились здесь вскоре после свадьбы. Как раз незадолго перед тем прежнему бэмуортскому викарию, видно, ударила кровь в голову, и он восстал, заявив в вышестоящие инстанции, что ни один человек, пусть даже и труженик на духовной ниве, не в состоянии на свое убогое жалованье существовать и содержать семью в таком чудовищно большом, неудобном и холодном жилище. Епархиальные власти подумали-подумали и после посещения архидьякона, который, переночевав там, простудился и чуть не умер от пневмонии, согласились построить для священника новый дом. В результате на противоположном краю деревни был возведен кирпичный коттедж, а старый дом священника объявлен к продаже.
И Джордж с Нэнси его купили.
— Мы его сразу же схватили, — рассказывала Нэнси знакомым, в том смысле, что, мол, вот какие они с Джорджем быстрые и сообразительные. И действительно, дом достался им за гроши, но, как выяснилось, только потому, что других желающих вообще не было.
— Здесь, конечно, потребуется много работы, но дом — загляденье, в позднегеоргианском стиле… и большой участок… конюшни, денники… и Джорджу до работы, в Челтнем, всего полчаса езды. То есть все идеально.
Дом и вправду был идеален. Для Нэнси, выросшей в Лондоне, он был воплощением грез, расцветших на благодатной почве романов Барбары Картленд и Джорджетты Хейер, которые она поглощала с жадностью. Жить в деревне и быть замужем за деревенским сквайром было пределом ее жизненных устремлений, а перед тем, конечно, непременный «сезон» в Лондоне и свадьба, и чтобы были подружки невесты, и белые туалеты, и фотография в «Тэтлере». И все у нее сбылось, кроме лондонского «сезона», и прямо из-под венца она оказалась молодой хозяйкой деревенского дома среди Котсуолдских холмов, с конюшней, где содержалась лошадь, и широкой лужайкой, на которой можно устраивать приходские праздники. И с подходящим кругом знакомств. И с собаками соответствующей породы. Муж у нее стал председателем местного комитета консерваторов и во время воскресной утрени зачитывал в церкви отрывки из Библии.
Поначалу все шло хорошо. Денег хватало, старый дом отремонтировали, обустроили, сделали новый белый фасад, провели центральное отопление, Нэнси обставила комнаты викторианской мебелью — мужниным наследством, а свою спальню щедро декорировала вощеными ситцами в цветочек. Но годы шли, росла инфляция, цены на жидкое топливо и жалованье работникам увеличивались, нанимать людей для работы в доме и в саду оказывалось труднее и труднее. Содержание этого дома становилось год от года все более тяжелым бременем, и Нэнси иногда казалось, что, пожалуй, они с Джорджем отхватили кусок не по зубам.
Мало этого, оглянуться они не успели, как на них еще навалились кошмарные расходы по обучению детей. Мелани и Руперт были определены приходящими учениками в местные частные школы. Предполагалось, что Мелани останется учиться в своей до окончания второй ступени, но Руперта ждал «Чарльзуорт», закрытая школа, где учился его отец. Мальчика внесли в список учащихся буквально на следующий день после рождения и одновременно выправили скромную страховку на образование, да только суммы, которую можно будет по ней получить теперь, в 1984 году, не хватит и на железнодорожный билет, чтобы доехать до места.
Однажды, ночуя в Лондоне, Нэнси поделилась своими заботами с сестрой Оливией, надеясь получить от этой деловой дамы практический совет. Но Оливия ей не посочувствовала. Она сказала, что они с Джорджем дураки.
— Закрытые школы — это пережиток. Пошлите его в местную, пусть живет общей жизнью со сверстниками. Это будет полезнее, чем разреженная атмосфера старосветских традиций.
Но это было немыслимо. Ни Джордж, ни Нэнси не допускали даже и мысли о государственном образовании для своего единственного сына. Нэнси иногда втайне даже воображала Руперта в Итоне, а заодно и себя, Четвертого июня, присутствующей на выпускном празднестве, в шляпе с широченными полями; «Чарльзуорт» — конечно, школа солидная и знаменитая, а все-таки до Итона чуть-чуть недотягивает. Впрочем, с Оливией Нэнси такими мыслями не поделилась.
— Об этом не может быть речи, — кратко ответила она.
— Тогда пусть он попытается сдать экзамены на государственную или именную стипендию. Пусть сам о себе немного позаботится. Какой смысл вбухивать все свои средства в мальчишку?
Но Руперт не книжная душа. Он не может рассчитывать ни на какие стипендии, и Джордж с Нэнси это отлично знали.
— Ну, если так, — отмахнулась Оливия, — по-моему, у вас нет другого выбора, как продать «Дом Священника» и приобрести себе что-нибудь поменьше. Подумай, какая будет экономия, если вам не придется тратиться на эту старую развалину.
Но такой выход внушал Нэнси еще больший ужас, чем перспектива государственного образования для сына. И не просто потому, что это было бы капитуляцией, отказом от всего, к чему она всю жизнь стремилась. У нее еще шевелилось противное подозрение, что их семья — она сама, и Джордж, и дети, — поселившись в уютном домике где-нибудь на окраине Челтнема, без лошадей, без «Женского института», без комитета консерваторов, без спортивных состязаний и приходских праздников, сразу потеряют значительность, станут неинтересны теперешним светским знакомым и растают, как тени, отойдя в сонм забытых и ничтожных.
Нэнси снова передернуло от холода. Надо взять себя в руки. Она прогнала гнетущие воспоминания и решительно зашагала по каменным плитам коридора в кухню. Здесь всегда было тепло и уютно — огромная колонка отопления никогда не отключалась. Нэнси иногда, особенно в холодное время года, приходила в голову мысль, что хорошо бы им всем поселиться в кухне… Всякая другая семья на их месте, вероятно, поддалась бы соблазну и проводила зиму здесь. Но они — не всякая семья. Вот мать Нэнси, Пенелопа Килинг, в свое время действительно жила в просторной полуподвальной кухне большого дома на Оукли-стрит — стряпала и кормила домочадцев за большим, начисто выскобленным кухонным столом; здесь же писала письма, и воспитывала детей, и штопала одежду, и даже принимала бесконечную череду гостей. Но Нэнси, которая всегда дулась на мать и в то же время слегка стыдилась ее, была противницей такого теплого и неформального образа жизни. «Когда я выйду замуж, — еще ребенком твердила она себе, — у меня будет гостиная и столовая, как у людей, а на кухню я буду заходить как можно реже».
У них с Джорджем, по счастью, вкусы сошлись. Несколько лет назад, после всестороннего обсуждения, супруги согласились, что удобство завтрака в кухне перевешивает связанное с этим некоторое снижение стандартов. Но дальше этого ни он, ни она идти были не намерены. Так что обеды и ужины подавались в огромной столовой с высокими потолками, за безупречно накрытым столом, при соблюдении всех формальностей, заменяющих домашний уют. Отапливалось это помещение электрическим камином, установленным в углублении настоящего, а когда к ужину бывали гости, Нэнси включала электрический камин заранее, часа за два, и недоумевала, почему дамы являлись к ней, закутанные в шали? Или еще хуже… Был один незабываемый случай, когда Нэнси углядела под жилеткой у гостя, облаченного в смокинг, шерстяной пуловер с глубоким вырезом! Разумеется, этого господина никогда больше не приглашали.
Миссис Крофтвей стояла у раковины и чистила картошку к ужину. Это была женщина высоких достоинств (не то что ее невоздержанный на язык муж), которая исполняла свои обязанности всегда в белом халате, как будто от этого ее стряпня могла стать лучше и вкусней. Нет, конечно. Но, по крайней мере, ее присутствие в кухне означало, что Нэнси не должна сама заниматься готовкой.
Она решила сразу взять быка за рога:
— Кстати, миссис Крофтвей, у меня несколько изменились планы. Я завтра должна ехать в Лондон, встретиться с сестрой. Надо обсудить мамины дела, а это не телефонный разговор.
— Я думала, ваша мама вышла из больницы и снова дома.
— Верно. Но я вчера разговаривала по телефону с ее врачом, и он говорит, что ей не следует больше жить одной. Инфаркт не обширный, и она очень быстро поправилась, но все-таки… нельзя полагаться…
Она рассказывала все это миссис Крофтвей не потому, что ожидала от нее поддержки или даже обыкновенного сочувствия. Просто разговаривать о болезнях эта женщина очень любила, и Нэнси рассчитывала таким образом привести ее в благосклонное расположение духа.
— Моя мать перенесла инфаркт, так она после него до того переменилась, узнать было нельзя. Лицо посинело, руки распухли, обручальное кольцо пришлось на пальце распиливать.
— Я этого не знала, миссис Крофтвей.
— И с тех пор одна она уже жить не могла. Мы с Крофтвеем взяли ее к себе, отдали ей лучшую комнату окнами в палисадник, но я намучилась, уж и не расскажешь как! Целый день бегала вверх-вниз по лестнице, а она чуть что — палкой в пол колотила. Я просто в клубок нервов превратилась, доктор говорил, что никогда не видел женщины с такими нервами. Он положил мать в больницу, и она там померла.
На этом печальное повествование окончилось. Миссис Крофтвей снова принялась за картофель, а Нэнси неуклюже пролепетала:
— Очень… прискорбно. Я понимаю, как вам трудно пришлось. Сколько же лет было вашей матери?
— Без одной недели восемьдесят шесть.
— Ну-у… — Нэнси постаралась принять бодрый тон. — Нашей маме только шестьдесят четыре, так что я уверена, она еще будет здорова.
Миссис Крофтвей швырнула очищенную картофелину в кастрюлю и обернулась к Нэнси. Она редко глядела собеседнику в лицо, но тому, кому доводилось встретиться с ней взором, становилось страшно: глаза у нее были почти белые, немигающие.
Относительно матери Нэнси, миссис Килинг, у миссис Крофтвей имелось собственное мнение. Они хоть и виделись только однажды, когда та в кои-то веки приезжала погостить в «Дом Священника», ну, да миссис Крофтвей много и не надо. Длинная такая дылда, глаза чернющие, как у цыганки, и одета в такое, что впору старьевщику отдать. А гонору-то! Явилась в кухню посуду, видите ли, мыть, когда у миссис Крофтвей во всем свой подход, она не выносит, чтобы в ее дела лезли посторонние.
— Надо же, у нее инфаркт оказался, — сказала она. — А на вид здоровая такая.
— Да, — слабым голосом подтвердила Нэнси. — Это была полная неожиданность. Для всех нас, — добавила она благочестивым тоном, словно матери уже нет в живых, и теперь о ней можно говорить тепло.
Миссис Крофтвей поджала губы.
— Неужто ей всего шестьдесят четыре? — недоверчиво переспросила она. — А на вид старше. Я думала, ей уже за семьдесят.
— Нет, шестьдесят четыре.
— А вам тогда сколько же?
Это было уже чересчур. Нэнси вся сжалась от возмущения и почувствовала, что у нее запылали щеки. Ей так хотелось набраться храбрости и приструнить эту женщину, сказав, чтобы та не совала нос куда не просят! Но миссис Крофтвей могла разозлиться и вместе с мужем уйти от них, а что тогда Нэнси делать одной с садом, лошадьми, огромным домом и прожорливым семейством?
— Мне… — Она вдруг охрипла, прокашлялась и начала заново: — Мне, вообще-то, сорок три.
— Всего только? А я бы вам меньше пятидесяти не дала.
Нэнси усмехнулась, превращая все в шутку, — что же ей еще было делать?
— Вы не слишком-то мне льстите, миссис Крофтвей.
— Это все полнота ваша, вот в чем дело. Хуже нет, когда фигуру разнесет, сразу старишься. Надо вам на диету садиться… Толстеть вредно, эдак еще, глядишь, — она залилась квакающим смехом, — и вас тоже инфаркт разобьет.
«Я вас ненавижу, миссис Крофтвей. Я вас ненавижу».
— На этой неделе в журнале «Вуменз оун» хорошая диета была напечатана… Первый день съедаешь один грейпфрут, второй — один йогурт. Или, может, наоборот, не помню… Могу, если хотите, вырезать и вам принести.
— Вы очень любезны. Может быть. Пожалуй, — пробормотала Нэнси дрожащим голосом. Потом взяла себя в руки, выпрямилась и сумела положить конец этому совершенно не туда зашедшему разговору. — Да, миссис Крофтвей, я, собственно, хотела с вами договориться насчет завтрашнего дня. Я еду поездом на девять пятнадцать, так что прибраться перед отъездом не успею, придется уж вам по возможности… и будьте так добры, накормите, пожалуйста, собак, хорошо?.. Я оставлю им еду в мисках. И потом, может быть, вы их выведете немного побегать по участку?.. И еще… — Она торопилась перечислить все поручения, прежде чем миссис Крофтвей успеет возразить. — И пожалуйста, передайте от меня Крофтвею, чтоб он отвез подковать Молнию, кузнец нам назначил на завтра, и я не хотела бы пропускать.
— Ну, — покачала головой миссис Крофтвей, — уж и не знаю, как он один сумеет ее в клеть завести…
— Сумеет, не в первый раз… А вечером, когда я вернусь, хорошо бы баранины на ужин, котлеты или что-нибудь… И чтобы Крофтвей дал своей замечательной брюссельской капусты…
С Джорджем Нэнси удалось поговорить только после ужина. Раньше не было ни одной свободной минутки, столько хлопот — усадить детей за домашние уроки, найти балетные туфельки Мелани, потом накрыть ужин, потом убрать со стола, потом позвонить жене викария, чтобы завтра вечером ее, Нэнси, в «Женском институте» не ждали, и еще тысяча всяких мелочей, прежде чем появилась возможность поговорить с мужем, который домой приезжает не раньше семи и слышать ничего не хочет, пока не насидится у камина с газетой и стаканчиком виски.
Но вот наконец со всеми делами было покончено, и Нэнси присоединилась к мужу, отдыхающему в «библиотеке». Входя, она с силой закрыла за собой дверь в надежде, что муж услышит и поднимет голову, но он даже не выглянул из-за своей «Таймс». Тогда она подошла к столику с напитками, налила себе виски и, пройдя через всю комнату, уселась во второе кресло, по другую сторону от камина. Нэнси знала: если промедлить еще немного, муж протянет руку, включит телевизор и начнет смотреть последние известия.
Поэтому она твердо произнесла:
— Джордж.
— Угу?
— Джордж, оторвись на минуту и послушай.
Он дочитал фразу и с неохотой опустил газету. Мужу Нэнси было уже за пятьдесят, но выглядел он еще старше: волосы седые и с залысинами, на носу — очки без оправы, темный костюм, темный галстук. Господин в летах. Адвокат, он заботился о том, чтобы его внешность соответствовала его занятию, очевидно надеясь таким способом внушить доверие клиентам, но Нэнси иногда думала, что, может быть, если бы он прифрантился немного, носил хороший твид и очки в роговой оправе, у него и дела, наверное, шли бы лучше. Потому что эти края, с тех пор как рядом было проложено Лондонское шоссе, сделались очень модными. Здесь стала селиться обеспеченная публика, старые фермы за бешеные цены переходили в руки новых хозяев, самые ветхие развалюшки раскупались и перестраивались в комфортабельные загородные коттеджи. Агенты по недвижимости и строительные объединения процветали и богатели, в самых заштатных городишках открывались дорогие магазины, и Нэнси просто не могла понять, почему от этого благоденствия не может перепасть и юридической конторе «Чемберлейн, Плантвелл и Ричардс»? Ведь стоит только руку протянуть… Но Джордж был старомоден, упрямо держался традиций и панически боялся перемен. К тому же он был осторожен и подозрителен. Он спросил:
— Ну, что я должен слушать?
— Я завтра еду в Лондон, встречаюсь за обедом с Оливией. Нам надо посоветоваться насчет мамы.
— А в чем дело теперь?
— Ох, Джордж, неужели ты не знаешь, в чем дело? Ведь я тебе рассказывала. Мамин врач считает, что ей нельзя больше жить одной.
— И что вы в связи с этим намерены предпринять?
— Н-ну… надо найти ей экономку. Или компаньонку.
— Ей это не понравится, — заметил Джордж.
— Да… И кроме того, даже если мы и подберем кого-то… хватит ли у мамы денег платить? Хорошая помощница стоит фунтов сорок или пятьдесят в неделю. Я знаю, мама получила колоссальную сумму за наш старый дом на Оукли-стрит, и в «Подмор Тэтч»[3] ей не понадобилось вложить ни фартинга, кроме как на постройку этого дурацкого зимнего сада. Но ведь те деньги в ценных бумагах, их трогать нельзя. Как же она будет оплачивать экономку?
Джордж заерзал в кресле, дотянулся до своего виски и ответил:
— Понятия не имею.
Нэнси вздохнула.
— Она такая скрытная и такая самостоятельная! Не дает возможности себе помогать. Если бы только она нам доверилась и поручила тебе вести дела, у меня лично камень бы с плеч свалился. В конце концов, я у нее старшая, а ни Оливия, ни Ноэль пальцем не шевельнут, чтобы помочь.
Все это Джордж уже неоднократно слышал.
— А ее… э-э… приходящая? Миссис… как бишь ее?
— Плэкетт. Она приходит только три раза в неделю по утрам убирать, у нее свой дом и семья.
Джордж поставил стакан. Он сидел лицом к огню, сложив пальцы шалашом, кончик к кончику. Помолчав, он проговорил:
— Не вижу причин так уж нервничать.
Он словно урезонивает тупого клиента! Нэнси обиделась.
— А я и не нервничаю.
Он пропустил ее реплику мимо ушей.
— Что тебя беспокоит? Только деньги? Или же ты опасаешься, что не найдется такой самоотверженной женщины, которая бы согласилась жить с твоей матерью?
— И то и другое, — вынуждена была признать Нэнси.
— И чего же ты ждешь в этой ситуации от Оливии?
— По крайней мере, она может со мной все обсудить. Она в жизни ничего не сделала для мамы… да и ни для кого из родни, если на то пошло, — с горечью добавила Нэнси. — Когда мама решила продать дом на Оукли-стрит и объявила, что уедет жить обратно в Корнуолл, в Порткеррис, я одна приняла адовы муки, убеждая ее, что это было бы безумием. И она все равно бы, наверное, туда уехала, если бы ты не нашел ей «Подмор Тэтч». Так она поблизости от нас, в каких-то двадцати милях, и мы можем за ней присматривать. А если бы она, со своим больным сердцем, была сейчас в Порткеррисе, бог знает как далеко? Мы бы понятия не имели, что с ней!
— Давай не будем отвлекаться от темы, — адвокатским тоном предложил Джордж.
Нэнси не обратила внимания на его слова. Несколько глотков виски согрели ее и разворошили угли старых обид.
— А Ноэль так вообще, можно сказать, забыл мать, после того как продали дом на Оукли-стрит и ему пришлось отселиться. Для него это был чувствительный удар. Дожил до двадцати трех лет и никогда не платил за квартиру! Ни единого гроша не давал матери, питался за ее счет, пил ее джин, жил на дармовщину! Воображаю, как ему понравилось, когда пришлось обеспечивать себя самому!
Джордж тяжело вздохнул. Он был такого же невысокого мнения о Ноэле, как и об Оливии. А теща, Пенелопа Килинг, всю жизнь оставалась для него загадкой. Надо же, чтобы такая совершенно нормальная женщина, как Нэнси, была отпрыском столь странного семейства, это просто удивительно!
Он допил свое виски, встал с кресла, подложил в огонь полено и пошел налить себе еще. Звякнул стаканом и сказал с другого конца комнаты:
— Допустим худшее. Допустим, у твоей матери не окажется средств на экономку. — Он возвратился к камину и опять уселся в кресло напротив жены. — Допустим, что тебе не удастся найти человека, который возьмет на себя труд составить ей компанию. Что тогда? Предлагаешь, чтобы она поселилась у нас?
Нэнси представила себе бесконечные претензии миссис Крофтвей, неизбежные жалобы детей на строгую бабушку. Вспомнила про мамашу миссис Крофтвей, как той пришлось распилить обручальное кольцо и как она лежала в кровати и колотила палкой в пол…
И она ответила со слезами в голосе:
— Мне кажется, я этого не вынесу.
— Я тоже, — признался Джордж.
— Может быть, Оливия…
— Оливия? — скептически повторил Джордж. — Чтобы Оливия даже близко подпустила кого-нибудь к своей личной жизни? Ты смеешься.
— Ну а Ноэль тем более исключается.
— По-моему, все исключается. — Джордж украдкой сдвинул манжет и посмотрел на часы. Он не собирался пропускать вечерние новости. — И я не могу предложить ничего дельного, пока ты не разберешься с Оливией.
Нэнси опять оскорбилась. Они с Оливией не очень близки, это правда… в сущности, у них нет ничего общего… но слово «разберешься» ее неприятно задело. Как будто они с сестрой всю жизнь только и делают, что выясняют отношения. Она раскрыла было рот, чтобы выразить Джорджу свое неудовольствие, но он опередил ее, включив телевизор и тем самым положив конец супружеской беседе. Было ровно девять часов, и он приготовился насладиться своей ежедневной дозой забастовок, бомб, убийств и финансовых катастроф, а на закуску сообщением о том, что завтра с утра ожидается холод и после обеда над всей страной пройдут дожди.
Нэнси, отчаявшись, посидела немного, потом встала с кресла. Джордж, по-видимому, даже не понял, что она предпринимает решительный шаг. Нэнси подошла к столику с напитками, снова щедрой рукой наполнила свой стакан и вышла из комнаты, тихо прикрыв за собой дверь. Поднявшись по лестнице, она прошла через спальню в ванную, заткнула пробкой ванну, открыла краны, налила себе ароматной эссенции с той же щедростью, что и виски. И пять минут спустя уже предавалась своему самому любимому занятию: лежа в горячей ванне, пить холодное виски.
Утопая в мыльной пене, среди клубов горячего пара, Нэнси упивалась жалостью к самой себе. Роль жены и матери так неблагодарна! Ты посвящаешь жизнь мужу и детям, уважительно обращаешься с прислугой, не оставляешь заботами лошадей и собак, ведешь дом, покупаешь продукты, стираешь — ну и где спасибо? Кто тебя ценит?
Никто.
На глаза Нэнси навернулись слезы, смешиваясь с мыльной водой и паром. Ей так хотелось признания, любви, ласки, хотелось, чтобы ее кто-то обнял, приголубил и сказал, что она удивительная, что она все делает великолепно!
В ее жизни был только один человек, на которого всегда можно положиться. Конечно, когда-то и папа был с ней очень мил, но вот кто действительно постоянно поддерживал ее веру в себя и во всех случаях принимал ее сторону, так это Долли Килинг, ее бабушка.
Долли Килинг никогда не ладила с невесткой, была равнодушна к Оливии и недолюбливала Ноэля, а вот Нэнси, свою любимицу, обожала и баловала. Когда, бывало, Пенелопа собиралась отправить старшую дочь в гости, одетую в старомодный батистовый балахончик с чужого плеча, вмешивалась бабушка Килинг и покупала пышное платье из органди с рукавами фонариком. Долли восхищалась красотой Нэнси, водила ее в кондитерские и в театр на пантомимы…
Когда Нэнси обручилась с Джорджем, в семье начались скандалы. Отец к этому времени уже не жил с ними, а мать никак не могла взять в толк, почему дочери непременно нужна традиционная «белая» свадьба, с подружками, шаферами во фраках и приемом в ресторане? Пенелопе все это представлялось дурью и пустой тратой денег. Разве не лучше скромно обвенчаться в присутствии родных, а потом устроить праздничный обед за большим столом в полуподвальной кухне на Оукли-стрит? Или в саду. Сад при доме большой, места уйма, и розы уже расцветут.
Нэнси плакала, хлопала дверьми, говорила, что ее не понимают и никогда не понимали. В конце концов она надулась так, что отношения могли испортиться на всю жизнь, не вмешайся любящая бабушка Килинг. С Пенелопы была снята вся ответственность — чему она несказанно радовалась, — и за дело взялась Долли. В результате лучшей свадьбы и вообразить было нельзя. Венчание в соборе Святой Троицы, на невесте — белое платье со шлейфом, подружки в розовом, а после — банкет на Найтсбридж, 23, с церемониймейстером в красном фраке и с огромными, пышными букетами на столах. Явился вызванный бабушкой душка-папа, такой красивый в визитке, — он вел невесту к алтарю, и даже старомодный наряд Пенелопы, весь в кружевах и бархате, не омрачил великолепного праздника.
Как Нэнси сейчас не хватало бабушки Килинг! Раздобревшая сорокалетняя женщина лежала в ванне и плакала. Она хотела к бабушке, хотела утешения, сочувствия, похвал. «Дорогая, ты такая молодец, ты столько делаешь для своей семьи и для матери, а они не ценят, будто так и надо».
Ей даже слышался любимый голос — но только в воображении, потому что Долли Килинг уже не было на свете. Минул год, как эта железная маленькая леди с нарумяненными щечками и наманикюренными ногтями, носившая лиловые трикотажные костюмы, тихо скончалась во сне в возрасте восьмидесяти семи лет. Печальное событие произошло в небольшой частной гостинице в Кенсингтоне, где она в компании еще нескольких стариков и старух сочла удобным провести свои закатные годы, и тело ее было вывезено служителями похоронного бюро, с которым администрация гостиницы предусмотрительно заключила соответствующий долгосрочный контракт.
Следующий день начался, как Нэнси и опасалась, очень плохо. От вчерашнего виски у нее болела голова, было еще холоднее, чем вчера, и темно — хоть глаз выколи, когда она в половине восьмого заставила себя вылезти из-под одеяла. Одеваясь, Нэнси с горечью убедилась, что самая нарядная юбка не застегивается на поясе, и ей пришлось воспользоваться булавкой. Она надела свитер из натуральной шерсти точно в цвет юбки, отведя глаза от складок жира, выступивших из-под огромного бронированного лифа, потом натянула нейлоновые чулки, тогда как обычно ходила в шерстяных. Тут ей показалось, что в них будет очень холодно, и она, сунув ноги в высокие сапоги, с трудом застегнула молнию.
Внизу оказалось не лучше. Одну из собак стошнило, колонка отопления была чуть теплая, а в кладовке лежало только три яйца. Нэнси выпустила собак, убрала за ними и наполнила колонку специальным, безумно дорогим топливом, моля Бога, чтобы огонь не успел погаснуть, не то от миссис Крофтвей жалоб не оберешься. Потом крикнула детям, чтобы поторапливались, вскипятила чайник, сварила три яйца, поджарила тосты, собрала на стол. Руперт и Мелани спустились более или менее одетые, переругиваясь на ходу: Руперт утверждал, что Мелани куда-то подевала его учебник по географии, а она заявила, что он врун и вообще у него учебника по географии никогда не было, а потом потребовала у матери двадцать пять пенсов на прощальный подарок для миссис Липер.
Нэнси о миссис Липер впервые слышала.
От Джорджа ожидать помощи не приходилось. Он появился в разгар перепалки, съел одно яйцо, выпил чашку чаю и уехал. Нэнси слышала, как выезжал его «ровер», пока в спешке складывала на сушилку тарелки, оставляя их на дальнейшее усмотрение миссис Крофтвей.
— Если ты не брала мою «Географию»…
За дверью скулили собаки. Нэнси впустила их, вспомнила, что надо накормить, наполнила миски сухарями и открыла банку собачьих консервов «Бонзо», второпях порезав палец.
— Смотри, какая ты нескладная, — заметил Руперт.
Нэнси повернулась к нему спиной, пустила холодную воду и подержала палец под краном, пока не перестала идти кровь.
— Если я не принесу двадцать пять пенсов, миссис Ролингс знаешь как обозлится…
Нэнси побежала наверх подкраситься перед уходом. Аккуратно наложить румяна и подвести брови времени уже не было, так что результат получился сомнительный, но ничего не поделаешь. Некогда. Она достала из шкафа шубку и шапочку из такого же меха, разыскала перчатки и сумку из змеиной кожи. Когда она вывернула в нее содержимое своей будничной сумки, естественно, оказалось, что замок не защелкивается. Не важно. Ничего не поделаешь. Нет времени.
Нэнси сбежала вниз по лестнице, на бегу зовя детей. Как ни удивительно, они появились сразу и подхватили свои ранцы. Мелани нахлобучила на голову уродливую школьную шляпу. Они выбежали друг за другом через заднюю дверь, за угол к гаражу, забрались в машину — мотор, слава тебе господи, завелся с первой попытки — и поехали.
Она развезла детей по школам, высадила у ворот, даже толком не попрощавшись, и помчалась в Челтнем. Было уже десять минут десятого, когда она выскочила из машины на пристанционной стоянке, и двенадцать минут — когда отошла от кассы, купив льготный обратный билет. Нэнси успела даже с обворожительной — как она надеялась — улыбкой купить без очереди в газетном киоске «Дейли телеграф», а также — безумное мотовство! — «Харперс энд Куин». Уже заплатив, она увидела, что номер старый, за прошлый месяц, но возвращать его и получать обратно деньги времени уже не было. Да и не важно, что старый, — все равно глянцевый, яркий, он будет в дороге отличным развлечением. С этой мыслью Нэнси вылетела на перрон, как раз когда подошел лондонский поезд, открыла первую попавшуюся дверь, нашла свободное место и села. Запыхавшаяся, с отчаянно колотящимся сердцем, она закрыла глаза и постаралась отдышаться. Вот так, наверное, чувствуешь себя, спасшись от пожара.
Через какое-то время, после нескольких глубоких вдохов и обращенных к самой себе успокоительных фраз, Нэнси немного пришла в себя. В вагоне, слава богу, было тепло. Она открыла глаза, расстегнула шубку и, устроившись поудобнее, стала смотреть в окно, на проплывающий мимо черный зимний пейзаж. Под размеренный ритм движения издерганные ее нервы постепенно успокоились. Она любила ездить на поезде: ни телефонных звонков, ни забот — сиди спокойно и ни о чем не думай.
Головная боль прошла. Нэнси достала из сумки пудреницу и стала рассматривать в маленьком зеркальце свое лицо — припудрила нос, подправила на губах помаду. Новый журнал покоился у нее на коленях, обещая массу удовольствия, словно неоткрытая коробка шоколадных конфет с темной корочкой снаружи и мягкой начинкой внутри. Нэнси начала перелистывать страницы. Сначала рекламный раздел: меха, виллы на юге Испании, коттеджи в горной Шотландии на условиях совместного пользования; драгоценности; косметика, которая не только сделает вас красивее, но и благотворно воздействует на кожу лица; морские круизы и многое другое…
Вдруг ее внимание привлек разворот: компания «Бутби», специализирующаяся на торговле произведениями искусства, объявляла аукцион викторианской живописи, который состоится в собственной галерее компании на Бонд-стрит в среду, 21 марта. В качестве иллюстрации была опубликована репродукция картины Лоренса Стерна (1865–1945) под названием «У источника» (1904), изображающая группу молодых женщин в разных ракурсах, с бронзовыми кувшинами на плечах или у бедра. Наверное, это рабыни, подумала Нэнси, разглядывая репродукцию, вон у них и ноги босые, и лица сумрачные (что неудивительно: видно, что кувшины тяжелые), и вместо одежды лохмотья, иссиня-зеленые и ржаво-красные, которые едва прикрывают тело, так что видны округлые груди и розовые соски.
Джордж и Нэнси не интересовались живописью, равно как и музыкой или театром. В «Доме Священника» висели, конечно, картины, обязательные для всякого приличного жилища: гравюры со сценами охоты и несколько живописных полотен, изображающих либо убитого оленя, либо верного охотничьего пса с фазаном в зубах; они достались Джорджу в наследство от отца. Как-то раз, когда понадобилось убить в Лондоне два часа, супруги зашли в галерею Тейт и исправно осмотрели выставку Констебла, — правда, в памяти у Нэнси остались лишь раскидистые зеленые деревья на полотнах да боль в уставших ногах.
Но эта картина даже хуже, чем Констебл. Нэнси смотрела и только диву давалась: неужели кому-то захочется повесить такое безобразие у себя на стену, не говоря уж о том, чтобы заплатить за нее большие деньги? Окажись это полотно у нее самой, оно бы кончило свои дни где-нибудь на чердаке, а то и вовсе угодило бы в костер.
Интерес Нэнси к этой картине вызвали вовсе не ее художественные достоинства, а имя автора: Лоренс Стерн. Ведь это был отец Пенелопы Килинг и, следовательно, ее, Нэнси, родной дед.
Как ни странно, но его творчества она почти совсем не знала. К тому времени, когда она родилась, его слава, вершина которой пришлась на рубеж столетий, померкла и сошла на нет, а работы, давно распроданные и развезенные по разным странам, забыты. В материнском доме на Оукли-стрит висели только три картины Лоренса Стерна — два неоконченных панно составляли пару: это были две аллегорические фигуры нимф, разбрасывающих лилии по травянистому, усеянному белыми маргаритками склону.
Третья висела в холле на первом этаже, под лестницей — в доме больше нигде не нашлось места для такого большого полотна. Написанная маслом в последние годы жизни Стерна, картина называлась «Собиратели ракушек» — много моря в белых барашках, пляж и небо, по которому бегут облака. Когда Пенелопа переселялась с Оукли-стрит в глостерширский дом, все три драгоценные картины переехали вместе с ней — панно попали на лестничную площадку, а «Собиратели ракушек» — в гостиную, где был пересеченный балками потолок; из-за огромной картины комната казалась совсем крошечной. Нэнси вскоре привыкла к ним и просто перестала замечать, они были неотъемлемой частью маминого дома, так же как продавленные диваны и кресла, как высушенные букеты, втиснутые в белые и синие вазы, как вкусные запахи готовящейся пищи.
Честно сказать, Нэнси уже много лет вообще не вспоминала о Лоренсе Стерне, но сейчас, согревшись в меховой шубе и теплых сапожках, она разомлела, убаюканная ездой, и воспоминания ухватили ее за полы и потянули в далекое прошлое. Впрочем, вспоминать ей было почти нечего. Она родилась в конце 1940 года, в Корнуолле, в маленькой деревенской больнице, и всю войну жила там, в Порткеррисе, в Карн-коттедже — доме своего деда. Но ее младенческие воспоминания о старике были смутными, неконкретными. Водил ли он ее когда-нибудь гулять, брал ли на колени, читал ли ей книжки? Во всяком случае, она этого не помнила. Единственное, что ясно отпечаталось у Нэнси в памяти, это как после окончания войны они с мамой садятся в лондонский поезд и навсегда покидают Порткеррис. Почему-то это событие ярко запечатлелось в ее детском мозгу.
Лоренс Стерн приехал с ними на вокзал. Очень старый, очень высокого роста, уже дряхлеющий, он остановился на перроне возле их открытого окна и, опираясь на трость с серебряным набалдашником, на прощание поцеловал Пенелопу. Длинные белые волосы спускались на плечи его пальто с пелериной, а из шерстяных вязаных митенок торчали искривленные, безжизненные пальцы, белые, как кость.
В последнюю минуту, когда состав уже тронулся, Пенелопа схватила дочку на руки и подняла к окну, а дед протянул руку и погладил ее по круглой щечке. Нэнси запомнился холод его пальцев, словно прикосновение мрамора к коже. Больше ни на что времени не было. Поезд набрал скорость, платформа дугой ушла назад, а Лоренс стоял на ней, все уменьшаясь, и махал, махал широкополой черной шляпой, посылая им прощальный привет. Таково было первое и последнее воспоминание Нэнси о дедушке. Через год он умер.
Дела давно минувшие, сказала она себе. Никаких причин для сентиментальности. Но удивительно, неужели кто-то сейчас готов покупать работы Стерна? «У источника». Нэнси недоуменно тряхнула головой и, отмахнувшись от непонятного, с упоением погрузилась в новости светской хроники.
2. Оливия
Нового фотографа звали Лайл Медуин. Он был совсем молоденький, с мягкими каштановыми волосами, подстриженными «под горшок», и с ласковыми глазами на нежном лице. Во всем облике — что-то неземное, что-то от глубоко верующего монастырского послушника. Оливии даже трудно было себе представить, что он с таким успехом пробежал дистанцию в гонках своей профессии и никто не перерезал ему глотку.
Они стояли у столика перед окном в ее кабинете. На столике он разложил свои работы: штук двадцать крупных глянцевых цветных фотографий. Оливия их уже внимательно рассмотрела и пришла к выводу, что ей нравится. Во-первых, в них много света. Снимки для модных журналов, по ее мнению, прежде всего должны ясно показывать фактуру ткани, фасон, складки на юбке, вязку свитера, — а у него все это дано очень отчетливо, броско, так, что взгляд мимо не скользнет. Но, кроме того, в его работах было много жизни, движения, удовольствия, даже нежности.
Оливия подняла один лист: мужчина атлетического сложения бежит трусцой в полосе прибоя. Ослепительно-белый спортивный костюм на ярко-синем фоне моря: загар, пот, даже соленый запах морского воздуха и физического здоровья.
— Где это вы снимали?
— На Малибу. Реклама спортивной одежды.
— А вот это?
Она взяла в руки другой лист — вечер, молодая женщина в разлетевшемся оранжевом шифоне, лицо повернуто к огненному закату.
— Это Пойнт-Рис… иллюстрация к редакционной статье в американском «Вог».
Оливия положила снимки и обернулась, присев на край стола. Это уравняло их в росте и позволило смотреть глаза в глаза.
— Расскажите о себе.
Он пожал плечами.
— Учился в технологическом колледже. Потом немного пожил свободным художником, а потом пошел к Тоби Страйберу и несколько лет проработал у него ассистентом.
— Тоби мне вас и рекомендовал.
— А потом, когда ушел от Тоби, поехал в Лос-Анджелес, последние три года работаю там.
— И немалого достигли.
Он скромно усмехнулся:
— Да, кое-чего.
Одет он был по-лос-анджелесски. Белые кроссовки, джинсы-варенки, белая рубашка, линялая джинсовая куртка. И, как уступка лондонским холодам, — шерстяное кашне кораллового цвета, обмотанное вокруг загорелой шеи. Вид, хотя и небрежный, тем не менее восхитительно чистый, как свежевыстиранное, высушенное на солнышке, но еще не выглаженное белье. Очень привлекательный молодой человек.
— Карла ввела вас в курс дела? — (Карла была редактором отдела мод.) — Речь идет об июльском номере, последний материал о моделях летнего сезона. После этого мы переходим к твидам и осенней охоте.
— Да… Она говорила о съемках на натуре.
— Есть предложения, где именно?
— Мы подумали об Ивисе… У меня там кое-какие знакомства.
— Ивиса.
Он с готовностью отступился:
— Если вам больше нравится где-то еще, у меня нет возражений. В Марокко, например.
— Да нет. — Оливия отошла от столика и снова села в свое кресло. — Мы давно туда не выезжали… Но только мне кажется, не надо пляжных сюжетов. Лучше что-нибудь деревенское для фона — козы, овцы, трудолюбивые крестьяне в поле. Пригласить кого-нибудь из местных жителей для правдоподобия. У них удивительные лица. И они обожают сниматься…
— Чудесно.
— Тогда договоритесь с Карлой.
Он замялся.
— Значит, работа — моя?
— Разумеется, ваша. Постарайтесь сделать ее получше.
— Обязательно. Спасибо…
Он принялся собирать фотографии и складывать в папку. У Оливии на столе зажужжал селектор. Она надавила кнопку и спросила секретаршу:
— Что там?
— Городской звонок, мисс Килинг.
Оливия взглянула на часы. Двенадцать пятнадцать.
— Кто это? Я уезжаю обедать.
— Какой-то мистер Генри Спотсвуд.
Генри Спотсвуд. Что еще, черт побери, за Генри Спотсвуд? Ах да, вспомнила. Человек, с которым она познакомилась третьего дня на вечеринке у Риджвеев, — седые виски, высокий, одного с ней роста. Но он тогда назвался Хэнком.
— Соедините, Джейн.
Оливия потянулась к телефонной трубке, в эту минуту Лайл Медуин, с папкой под мышкой, неслышно пересек комнату и открыл дверь, чтобы уйти.
— Пока, — беззвучно выговорил он с порога. Она подняла руку, улыбнулась, но его уже не было.
— Мисс Килинг?
— Да.
— Оливия, это Хэнк Спотсвуд, мы вместе были у Риджвеев.
— Как же, помню.
— У меня выдался свободный часок-другой. Может, перекусим где-нибудь?
— Что? Сегодня?
— Да, прямо сейчас.
— Очень жаль, не могу. Ко мне приезжает сестра из загорода, я обедаю с ней. На самом деле меня уже не должно тут быть, я опаздываю.
— Какая жалость! А как насчет ужина?
Звук его голоса помог припомнить ускользнувшие из памяти подробности. Голубые глаза. Приятное, волевое, типично американское лицо. Темный костюм, современная рубашка, воротничок с пуговичками на уголках.
— Неплохая мысль.
— Отлично. Куда бы вы хотели пойти?
Оливия мгновение поколебалась, затем приняла решение.
— А не хотите, в порядке исключения, один раз поужинать не в ресторане, а в домашней обстановке?
— Как это понимать?
— Приезжайте ко мне, и я возьму на себя труд угостить вас ужином.
— Вот это здорово! — Тон у него был удивленный, но обрадованный. — Однако не слишком ли это хлопотно для вас?
— Никаких хлопот, — улыбнулась Оливия. — Приезжайте часов в восемь.
Она продиктовала адрес, рассказала, как доехать, на случай если попадется тупоумный таксист, и, простившись, повесила трубку.
Хэнк Спотсвуд. Как мило, с улыбкой подумала она. Но тут же, взглянув на часы, выбросила его из головы, встала из-за стола, схватила пальто, шляпу, сумочку и перчатки и выбежала из редакции, торопясь на свидание с сестрой.
Они договорились встретиться в ресторане «Кетнерс» в Сохо, и Оливия заказала там столик. Она всегда приезжала туда на деловые обеды и не видела причин искать другое место, хотя Нэнси, конечно, было бы уютнее у «Харви Николса» или еще где-нибудь, куда приезжают дать передышку натруженным ногам домохозяйки с покупками.
В результате это был «Кетнерс». Оливия опоздала, и Нэнси уже ждала ее — расплывшаяся еще больше прежнего, в своем сиреневом вязаном костюме, на голове — шапочка из желтого меха, сливающаяся с тусклыми белокурыми кудрями, словно двухэтажная шевелюра. Она сидела за низким столиком, одинокая женщина в море дельцов-мужчин, с сумкой на коленях, перед высоким стаканом джина с тоником, и была здесь так не к месту, так нелепа, что Оливия испытала укол совести и извинилась неожиданно искренне и горячо:
— Нэнси, прости ради бога, меня задержали, так неудачно! Ты давно ждешь?
Они не поцеловались. Между ними это было не принято.
— Ничего.
— Ты пока, я вижу, подкрепилась… Еще стаканчик не хочешь? Я заказала столик на без четверти час, не упустить бы.
— Добрый день, мисс Килинг.
— Хэлло, Джерард. Нет, спасибо, пить мы не будем, у нас туговато со временем.
— У вас заказан столик?
— Да. На без четверти час. К сожалению, я немного опоздала.
— Это не важно. Прошу сюда.
Он пошел вперед, но Оливия подождала, пока Нэнси выберется из кресла, прихватит сумку и журнал, одернет свитер на обширном заду, и только потом двинулась вслед за ним в зал. Там было тепло и тесно, в воздухе стоял гул мужских голосов. Сестер проводили к столику в дальнем углу, где обычно обедала Оливия, и после неизбежных подобострастных церемоний наконец усадили на полукруглую банкетку, задвинули столиком и подали пухлые папки меню.
— Стаканчик хереса, пока вы выбираете?
— Мне, пожалуйста, перье, Джерард… А моей сестре… — Она повернулась к Нэнси. — Хочешь какого-нибудь вина?
— Да, с удовольствием.
Оливия, не заглядывая в карту вин, заказала полбутылки фирменного белого.
— Так, теперь, что ты будешь есть?
Нэнси не знала, что выбрать. В меню было перечислено столько всего, причем исключительно по-французски. Она могла бы сидеть, раздумывая до вечера, — Оливия это хорошо знала, поэтому выдвинула несколько предложений, и в конце концов Нэнси согласилась на консоме и телячий эскалоп с грибами. Себе Оливия заказала омлет и зеленый салат. Когда все было улажено и официант удалился, она начала с вопроса:
— Как ты доехала? Благополучно?
— Да, вполне. Собиралась, конечно, впопыхах: детей надо было в школу отвезти. Но я успела на поезд в девять пятнадцать.
— Как они?
Оливия постаралась придать своему тону заинтересованность, но Нэнси знала, что это неискренне, и не стала углубляться в подробности:
— Нормально.
— А Джордж?
— По-моему, хорошо.
— А собаки? — не отступалась Оливия.
— Здоровы, — ответила было Нэнси, но потом вспомнила: — Одну сегодня утром вырвало.
Оливия скривилась.
— Не рассказывай, пожалуйста. Дай поесть.
Принесли напитки, перье для Оливии и белое вино для Нэнси. Расторопный официант откупорил бутылку, налил в бокал немного и замер в выжидательной позе. Нэнси спохватилась, что полагается попробовать, пригубила и с понимающим видом, поджав губы, произнесла: «Превосходно», после чего бутылка была поставлена на середину стола и официант с каменным лицом удалился.
Оливия налила себе перье.
— Ты никогда не пьешь вино? — спросила Нэнси.
— За деловым обедом — никогда.
Нэнси кокетливо вздернула брови:
— Разве у нас деловой обед?
— А разве нет? Мы ведь собираемся говорить о делах. В связи с мамочкой. — Это детское слово, как всегда, вызвало у Нэнси раздражение. Трое детей Пенелопы называли мать каждый по-своему. Ноэль говорил ей «ма». Сама Нэнси уже много лет звала ее «маман», находя, что эта форма обращения лучше всего соответствует их возрасту и ее, Нэнси, статусу замужней дамы. Одна Оливия — самая современная и житейски закаленная — упорно говорила «мамочка». Нэнси даже удивлялась: неужели сестра не понимает, как это смешно звучит в ее устах? — И давай приступим, а то у меня мало времени.
Это холодное замечание оказалось последней каплей. А Нэнси-то примчалась к ней в город из Глостершира, успев подтереть за собакой, и порезать в спешке палец о консервную банку, и отвезти детей в школу, и чуть ли не на ходу впрыгнуть в поезд! Ее захлестнула обида.
Подумаешь, у нее мало времени!
Ну почему Оливия такая резкая, бессердечная, бесчувственная?! Неужели нельзя посидеть рядышком и поговорить по душам, как полагается сестрам, не строя из себя вечно занятую деловую даму, как будто жизнь Нэнси, у которой свои незыблемые приоритеты: дом, муж, дети, — совсем уж ничего не значит?
Когда они были маленькие, хорошенькой считалась Нэнси: золотоволосая, голубоглазая, обаятельная и (спасибо бабушке Килинг) нарядная. Именно Нэнси привлекала всеобщее внимание, вызывала восхищение, покоряла мальчиков. А Оливия была умная и честолюбивая — ее занимали книги, экзамены, отметки, — но внешне неинтересная, напомнила себе Нэнси, совершенно неинтересная.
Нескладная, высокая, худая, плоскогрудая, в очках и демонстративно, вызывающе равнодушная к мужскому полу, Оливия всегда надменно умолкала, когда в доме появлялся кто-нибудь из сестриных поклонников, а то и вовсе уходила к себе — книжку почитать.
Хотя, конечно, у нее были и свои достоинства, ведь она была дочь своих родителей, — густые волосы, цветом и блеском напоминающие полированное красное дерево, и черные глаза, унаследованные от матери, которые сверкали, как у какой-то умной, насмешливой птицы.
И подумать только, долговязая зубрила-студентка, младшая сестра, которую никто не приглашал танцевать, в какой-то момент, неизвестно когда и как, преобразилась вот в это дивное диво — тридцативосьмилетнюю Оливию. В потрясающе деловую даму, редактора журнала «Венера».
Вид у нее сегодня был, как всегда, безупречный. Вряд ли очаровательный, но страшно шикарный. Глубоко сидящая черная велюровая шляпа, черное пальто с фалдами, шелковая блузка кремового цвета, золотая цепочка, золотые серьги, на руках на каждом пальце перстень. Лицо бледное, губы ярко-красные, и даже черная оправа очков идет ей. Нэнси же не дура. Когда они шли через зал, она ощущала внимание мужчин, замечала скрытые взгляды, повернутые головы и при этом знала, что смотрят не на нее, миловидную Нэнси, а на Оливию.
Нэнси не знала темных тайн в жизни Оливии. Вплоть до той удивительной истории, случившейся пять лет назад, она искренне считала, что ее сестра либо девственница, либо совершенно бесполое существо (было, конечно, и еще одно, совсем уж жуткое предположение, которое пришло Нэнси в голову после ознакомления с модной биографией Виты Сэквилль-Уэст, но об этом, говорила она себе, лучше не думать).
Типичная представительница племени умных и деятельных женщин, Оливия, похоже, думала только о своей карьере и продвигалась все выше и выше, пока наконец не стала литературным редактором «Венеры», серьезного, преуспевающего женского журнала, в котором проработала уже семь лет. Ее имя значилось в составе редколлегии; фотографии время от времени появлялись на его страницах как иллюстрации к какой-нибудь статье, а один раз она даже выступала по телевидению, отвечая на вопросы в передаче «Для дома, для семьи».
И вдруг, когда все у нее так удачно складывалось — так сказать, на гребне успеха, — Оливия совершила неожиданный и странный для нее поступок. Поехала отдыхать на остров Ивиса, познакомилась с мужчиной по имени Космо Гамильтон и домой не вернулась. То есть в конце концов вернулась, но только после того, как прожила на острове целый год. Главный редактор узнал об этом только тогда, когда с Ивисы пришло письмо, где Оливия сообщала, что уходит с работы. Когда Нэнси услышала от матери эту потрясающую новость, она сначала просто не поверила своим ушам. Себе она сказала, что потрясена, так как это слишком уж неприлично; но на самом деле где-то в глубине души ощутила, что Оливия ее обскакала. Тогда Нэнси не терпелось скорее поделиться с Джорджем, убедиться, что он потрясен не меньше. Но его реакция оказалась неожиданной.
— Интересно, — все, что он сказал.
— Ты, кажется, не особенно удивлен?
— Не особенно.
Нэнси нахмурила брови.
— Джордж, мы говорим об Оливии.
— Знаю, что об Оливии. — Он взглянул на взволнованное лицо жены и чуть не рассмеялся. — Нэнси, неужели ты воображаешь, что Оливия всю жизнь была эдакой добродетельной паинькой-монахиней? Это она-то, самостоятельная молодая женщина, которая живет одна в своей лондонской квартире и умеет держать язык за зубами! Если ты и вправду так думала, значит ты глупее, чем я считал.
Нэнси почувствовала жжение в глазах.
— Но… но я себе представляла…
— Что ты себе представляла?
— Ах, Джордж, ведь она такая дурнушка.
— Да нет, Нэнси, — сказал ей Джордж. — Она вовсе не дурнушка.
— Я думала, она тебе не нравится.
— Мне — нет, — подтвердил он и развернул газету, кладя конец разговору.
Джорджу было несвойственно высказываться в такой категорической манере. И проницательность ему тоже была несвойственна. Но Нэнси после долгих размышлений в конце концов пришла к выводу, что он, пожалуй, прав насчет Оливии, и, освоившись с новой для себя ситуацией, без особого труда сумела обернуть ее к своей выгоде. Ну разве не шикарно, разве не современно иметь таких блестящих, экстравагантных родственников — совсем как в пьесах Ноэля Коуарда, — которыми можно при случае похвастаться? Нужно только обойти аккуратно сожительство во грехе, а в остальном — чем не тема для светского застольного разговора? «Оливия… ну знаете, моя умная сестрица… это так романтично! Бросила все ради любви. Живет теперь на Ивисе. Дом — ну просто картинка!»
Воображение уже рисовало Нэнси другие восхитительные и, можно надеяться, даровые возможности: «Не исключено, что летом мы все туда поедем на недельку-другую. Хотя, конечно, все зависит от расписания в детском конном клубе. Мы, матери, — рабы конного клуба, не правда ли?» Однако Оливия пригласила только Пенелопу. Та с радостью поехала и прогостила на Ивисе больше месяца, семейство же Чемберлейн приглашения так и не дождалось, и этого Нэнси сестре простить не смогла.
В ресторане было очень тепло. Нэнси пожалела, что надела свитер, а не блузку, но снять его уже не могла и поэтому отпила еще немного охлажденного вина. У нее почему-то дрожали руки.
Сидящая рядом Оливия спросила:
— Ты что, виделась с мамочкой?
— Да, конечно. — Нэнси поставила стакан. — Я была у нее в больнице.
— Ну и как она?
— Учитывая диагноз, прекрасно.
— А это точно, что был инфаркт?
— Точно. Ее пару дней продержали в интенсивной терапии, потом перевели в палату, ну а она выписалась под расписку и уехала домой.
— Лечащему врачу это, должно быть, не понравилось.
— Конечно. Он был очень недоволен. Даже позвонил мне. И он сказал, что она не должна жить одна.
— Ты не считаешь, что нужно выслушать еще чье-нибудь мнение?
— Оливия, он очень хороший врач! — возмутилась Нэнси.
— Обычный сельский терапевт.
— Его это обидит…
— Вздор. Я считаю, что сначала надо устроить мамочке консультацию, а уж потом думать о компаньонке или экономке.
— Ты же знаешь, что она никогда не согласится на консультацию.
— Значит, не надо ее трогать. Зачем навязывать ей общество какой-то неизвестной сомнительной личности, если она хочет жить одна? К ее услугам эта милая миссис Плэкетт, которая приходит три раза в неделю, и соседи, я уверена, с удовольствием будут за ней приглядывать. Ведь она живет там уже пять лет, и ее все знают.
— Но подумай, что, если у нее будет еще один инфаркт, а никого не окажется рядом и она умрет? Или упадет с лестницы? Или это случится в машине, и произойдет авария? Ведь кто-то пострадает, может, даже погибнет?
Оливия не к месту рассмеялась:
— Вот уж не предполагала, что у тебя такая богатая фантазия! Но будем реалистами. Если она попадет в аварию, то наличие экономки в доме ничего не изменит. Честно сказать, по-моему, нам не стоит беспокоиться.
— Но мы должны беспокоиться!
— Почему?
— Дело не только в экономке… Есть еще и другие вещи, о которых надо подумать. Сад, например. Это целых два акра, и она всегда обрабатывала его сама. И овощи выкапывала, и газоны косила. Все сама. Нельзя, чтобы она и дальше занималась таким тяжелым физическим трудом.
— Она и не собирается, — сказала Оливия, и Нэнси опять нахмурила брови. — У меня с ней на днях был длинный телефонный разговор…
— Ты мне не сказала.
— Не успела, к слову не пришлось. Голос у мамочки совершенно здоровый, бодрый, она прекрасно себя чувствует и сказала, что доктор — дурак, а если с ней поселят какую-нибудь женщину, то кончится тем, что она ее удушит. Ведь дом маленький, и они целыми днями будут спотыкаться друг о друга. С этим я не могла не согласиться. А что до сада, то она еще перед тем, как попала в больницу с этим своим сомнительным инфарктом, пришла к выводу, что ей такая работа уже не по плечу, и обратилась в «Помощь садоводу». Оттуда ей пришлют садовника на два-три дня в неделю. Кажется, он приступает к работе в этот понедельник.
От рассказа сестры настроение у Нэнси далеко не улучшилось. Мать с Оливией как будто вступили в заговор у нее за спиной.
— Не уверена, что это такой уж хороший выход. Откуда мы знаем, какой человек попадется? Мало ли кого могут прислать. Гораздо лучше было бы нанять какого-нибудь хорошего работника из деревни.
— Все хорошие работники из деревни работают на электронной фабрике в Пудли…
Нэнси готова была продолжить спор, но ее реплику опередило появление заказанного супа. Он прибыл в круглом глиняном горшке и источал восхитительный аромат. Нэнси вдруг почувствовала, что страшно проголодалась, взяла ложку и потянулась за теплой слоеной булочкой.
Через некоторое время она обиженно выговорила:
— Тебе даже в голову не пришло посоветоваться с Джорджем и со мной.
— Господи, да о чем тут советоваться? Это исключительно мамочкино дело и никого больше не касается. Нет, правда, Нэнси, вы с Джорджем обращаетесь с ней так, будто она выжила из ума. А ей всего шестьдесят четыре, она в расцвете сил, достаточно крепкая и совершенно самостоятельная. Перестаньте вы к ней приставать.
Нэнси вскипела:
— Приставать?! Может быть, если бы ты и Ноэль немножко больше к ней, как ты выражаешься, приставали, это бы сняло с моих плеч часть забот.
— Во-первых, никогда не объединяй меня с Ноэлем, — ледяным голосом ответила Оливия. — А во-вторых, если у тебя на плечах и лежит непомерный груз забот, то ты его сама выдумала и сама на себя взвалила.
— Зачем мы с Джорджем беспокоимся? Слова благодарности не услышим!
— А за что вас благодарить?
— За многое. Если бы мы не убедили маман, что это безумие, она бы уехала обратно в Корнуолл и жила бы там сейчас в рыбацкой хижине.
— А я до сих пор не понимаю, чем вам этот план не понравился?
— Оливия! Жить за сотни миль от всех, на другом конце страны… просто нелепость. Я ей так и сказала. Человек не может вернуться в прошлое. А она именно к этому и стремилась, хотела возвратить свою молодость. Кончилось бы все катастрофой. И потом, ведь именно Джордж нашел ей «Подмор Тэтч». Даже ты не станешь отрицать, что это прелестный, подходящий во всех отношениях домик. И все благодаря Джорджу. Не забывай, пожалуйста. Благодаря Джорджу.
— Джорджу ура, ура, ура!
Тут их снова прервали — глиняная супница была убрана, появились телячий эскалоп и омлет. Остатки вина были перелиты к Нэнси в бокал, Оливия потянулась за салатом. Наконец официант исчез, и Нэнси спросила:
— Сколько будет стоить этот садовник? Работники из агентства обычно обходятся страшно дорого.
— Ах, Нэнси, ну какая разница?
— Как это, какая разница? Хватит ли у маман средств на него? Меня это беспокоит. Она отказывается говорить о деньгах и при этом бывает ужасно расточительна.
— Мамочка? Расточительна? Да она медного гроша на себя не потратит.
— Зато постоянно принимает гостей. На еду и напитки у нее, должно быть, уходят астрономические суммы. И этот дурацкий зимний сад, который она пристроила к дому! Джордж пытался ее отговорить. Лучше бы потратила деньги на двойные рамы.
— Наверное, ей не нужны двойные рамы.
— Тебя это просто не касается. — Голос Нэнси возмущенно дрогнул. — Ты не желаешь задумываться о будущем.
— О каком будущем, Нэнси? Просвети меня.
— Она может дожить до девяноста.
— Дай бог.
— Ее капитала на все время не хватит.
У Оливии насмешливо блеснули глаза.
— И вы с Джорджем боитесь оказаться со старой неимущей родительницей на руках? Еще одна статья расхода сверх того, что идет на содержание вашего холодного дома и обучение детей в самых дорогих школах?
— Как мы считаем нужным тратить свои деньги, не твое дело.
— А как мамочка считает нужным тратить свои — не твое.
На это Нэнси не нашла что ответить. Она отвернулась от Оливии и стала есть эскалоп. Сбоку Оливии было видно, что она покраснела и подбородок у нее слегка дрожит. Ей же всего сорок три года, подумала Оливия, а она уже выглядит жирной, жалкой старухой! Она вдруг почувствовала жалость к сестре, жалость и даже что-то вроде вины. И сказала уже другим, более дружелюбным, ободряющим тоном:
— Не стоит так беспокоиться, Нэнси, уверяю тебя. Мамочка получила приличную сумму за лондонский дом, и у нее еще много осталось, даже после покупки «Подмор Тэтч». Лоренс Стерн, возможно, сам того не знал, однако он оставил ее неплохо обеспеченной. И это имело большое значение для всех нас: для тебя, меня и Ноэля, потому что от нашего папаши, приходится признать, в финансовом отношении проку был ноль.
Нэнси вдруг остро почувствовала, что у нее больше нет сил. Она устала спорить и не выносила, когда Оливия говорила о папе в таком тоне. При других обстоятельствах она бы немедленно ринулась на защиту дорогого покойника, но сейчас совершенно пала духом. Встреча с Оливией оказалась пустой тратой времени. Они не приняли никаких решений о матери, деньгах, экономке — вообще ни о чем. Оливия, как всегда, заговорила ее, и в результате Нэнси чувствовала себя, словно раздавленная паровым катком.
Вкусный обед был съеден. Оливия взглянула на часы и спросила, хочет ли Нэнси кофе. Та поинтересовалась, хватит ли им времени, и Оливия ответила, что у нее еще есть пять минут. Тогда Нэнси сказала, что хочет, и заказала. Нэнси заставила себя не думать про пудинги и пирожные, которые успела мельком заметить на тележке со сладостями, и взяла с банкетки купленный на вокзале «Харперс энд Куин».
— Ты это видела?
Она перелистала страницы, нашла рекламу аукциона «Бутби» и протянула сестре. Оливия бросила на журнал небрежный взгляд и кивнула:
— Видела. Картина будет продаваться в следующую среду.
— Правда удивительно? — Нэнси взяла журнал обратно. — Неужели найдется человек, который захочет купить это уродство?
— Нэнси, уверяю тебя, многие захотят купить это уродство.
— Ты шутишь.
— Вовсе нет. — Заметив искреннее недоумение на лице сестры, Оливия рассмеялась. — Господи, Нэнси, где вы с Джорджем жили все последние годы? Сейчас очень возрос интерес к живописи конца века. Лоренс Стерн, Альма-Тадема, Джон Вильям Уотерхаус… Все это продается на аукционах за огромные деньги.
Нэнси попыталась взглянуть на мрачную картину по-новому. Нет, все то же самое.
— Но… почему? — упрямо повторила она.
Оливия пожала плечами:
— Стали ценить эту технику. Ну, и то, что теперь их картины стали редкостью.
— Вот ты говоришь — огромные деньги, а что это значит? За какую сумму, по-твоему, ее могут продать?
— Понятия не имею.
— К примеру.
— Н-ну… — Оливия, задумавшись, поджала губы. — Скажем… двести тысяч.
— Двести тысяч? Вот за это?
— Плюс-минус каких-нибудь несколько пенсов.
— Да почему же? — чуть не в голос закричала Нэнси.
— Я же сказала. Они теперь стали редкостью. А вещи вообще приобретают цену по мере спроса. Лоренс Стерн плодовитостью не отличался. Если приглядеться к деталям на этом полотне, понятно почему. Наверняка он работал над ним не месяц и не два.
— А где все его картины?
— Ушли. Распроданы. Некоторые, я думаю, продавались прямо с мольберта, когда еще и краски не просохли. В любом уважающем себя частном собрании и в любой публичной художественной галерее мира непременно есть одна-две работы Лоренса Стерна. На аукционах они появляются теперь крайне редко. И не забудь, он бросил писать задолго до войны, ведь у него так изуродовало артритом пальцы, что он уже не мог держать кисть. Должно быть, продавал все, что брали, и еще спасибо говорил, надо же было существовать и содержать семью. Денег у него никогда не было, — правда, на наше счастье, он унаследовал от отца большой дом в Лондоне, а потом сумел выкупить в полную собственность Карн-коттедж. Почти все наше образование — это средства от продажи Карн-коттеджа, а на деньги за дом на Оукли-стрит мамочка сейчас живет.
Нэнси слушала сестру, но не очень внимательно. Она отвлекалась на обдумывание и взвешивание вновь открывшихся возможностей.
Нарочито безразличным голосом она задала вопрос:
— А мамины картины?
— «Собиратели ракушек»?
— Ну да. И те два панно на лестнице.
— И что же?
— Если их продать, за них много дадут?
— Думаю, да.
Нэнси судорожно сглотнула. У нее пересохло во рту.
— Сколько?
— Нэнси, это же не моя область.
— Ну хоть приблизительно.
— Я бы сказала… примерно пятьсот тысяч.
— Пятьсот тысяч, — едва слышно выговорила Нэнси. Она ошеломленно откинулась на спинку стула. Полмиллиона. Она представила себе цифры на бумаге, с обозначением фунтов и с множеством нулей.
В это время принесли кофе, черный, дымящийся, ароматный. Нэнси кашлянула и только со второй попытки сумела произнести вслух:
— Полмиллиона.
— Около того. — Оливия подвинула к сестре через столик сахарницу и сдержанно улыбнулась. — Теперь тебе ясно, что вам с Джорджем незачем волноваться за мамочку?
На том разговор закончился. Они молча выпили кофе, Оливия подписала чек, и сестры поднялись из-за столика. У подъезда, поскольку им надо было ехать в разные стороны, они попросили вызвать два такси, и так как Оливия торопилась, она села в первое. Нэнси попрощалась с сестрой у машины и проводила ее глазами. Пока они обедали, дождь пошел довольно сильный, но Нэнси стояла, выйдя из-под козырька, и не замечала холодных струй.
Полмиллиона.
Подъехало ее такси. Она не забыла дать на чай швейцару, велела шоферу отвезти ее в «Хэрродс» и забралась в машину. Такси тронулось. Нэнси откинулась на спинку сиденья и уставилась на струящиеся за окнами потоки невидящими глазами. Разговор с Оливией ничего не дал, но время она потратила не зря. От тайной радости у нее громко колотилось сердце.
Полмиллиона фунтов!
Своей успешной карьерой Оливия Килинг была во многом обязана ценному благоприобретенному свойству: умению забыть обо всем постороннем и сосредоточиться на чем-то одном. Ее жизнь была подобна подводной лодке, разгороженной водонепроницаемыми переборками на отдельные отсеки, между которыми нет сообщения. Так, утром она, отключив мысли от Хэнка Спотсвуда, сосредоточилась на том, чтобы разобраться с Нэнси. Точно так же теперь, едва переступив порог редакции, она забыла про Нэнси и мелкие семейные заботы и снова стала редактором «Венеры», занятым исключительно делами своего журнала. До вечера она успела продиктовать письма, провести совещание с директором по рекламе, договориться о встрече с подписчиками в Дорчестере и устроить давно назревавшую головомойку заведующей отделом художественной прозы, напрямик предупредив бедную женщину, что «Венера» вообще перестанет печатать беллетристику и она останется без места, если не сможет найти для публикации вещи получше тех опусов, которые регулярно приносит Оливии на одобрение. Эта женщина, мать-одиночка, воспитывающая двоих детей, естественно, ударилась в слезы, но Оливия осталась неумолима; интересы журнала для нее были превыше всего, и она, протянув сотруднице косметическую салфетку, дала две недели на то, чтобы та, словно фокусник, вынула из шляпы зайца.
На все это ушло немало сил. Слава богу, была пятница, конец рабочей недели. Оливия работала до шести вечера, потом разобрала все, что накопилось на столе, собрала свои пожитки, спустилась на лифте в подземный гараж, завела машину и поехала домой.
Пробки были страшные, но она давно ездила по Лондону в часы пик и привыкла к ним. За журналом уже словно захлопнулась водонепроницаемая дверь, он перестал для нее существовать. И рабочего дня с его заботами тоже как не бывало. Оливия вернулась мыслями к Нэнси, к семейным проблемам.
Пожалуй, резковато она с сестрой разговаривала — упрекнула, что та делает из мухи слона, преувеличивая серьезность материнской болезни, отмахнулась от рекомендаций провинциального врача. А все потому, что Нэнси, чуть что, всегда устраивает панику… Впрочем, это неудивительно, у нее, бедняги, такая неинтересная жизнь… Но не только поэтому: Оливия, как маленькая девочка, не хотела поверить в то, что мама может быть больна. Мама всегда здорова, даже бессмертна. Оливия не соглашалась признавать Пенелопу больной. Не допускала мысли, что та может умереть.
Инфаркт. И не у кого-нибудь, а у мамочки, которая в жизни ничем не болела. Высокая, крепкая, энергичная, всем интересующаяся, но главное — она всегда есть. Оливия вспомнила полуподвальную кухню в доме на Оукли-стрит, живое сердце этого несуразно большого лондонского строения. Там всегда варился суп на плите, вокруг чисто выскобленного деревянного стола собирались люди, которые часами сидели и разговаривали над кружкой кофе или рюмкой чего-нибудь крепкого, пока мамочка гладила белье или латала старые простыни. До сих пор при слове «надежный» Оливии представлялся этот уютный уголок в материнском доме.
И вот теперь — это. Оливия вздохнула. Может быть, доктор и прав. Может быть, действительно надо, чтобы с Пенелопой кто-то постоянно жил. Лучше всего самой съездить к ней, переговорить обо всем и, если понадобится, все организовать. Завтра суббота. Возьму и съезжу к ней завтра, сказала себе Оливия, и на душе у нее сразу полегчало. Отправлюсь с утра и проведу с ней целый день. Принятое решение она тут же выбросила из головы, и образовавшуюся пустоту медленно заполнило приятное предвкушение сегодняшнего вечера.
Она уже почти приехала. Но сначала завернула в местный супермаркет, поставила машину и сделала кое-какие покупки: взяла упаковку черного хлеба, сливочного масла, горшочек паштета из гусиной печенки, котлеты по-киевски, зелень для салата. А также оливкового масла, свежих персиков, сыр, бутылку виски, пару бутылок вина. Кроме того, купила цветов, целую охапку желтых нарциссов, свалила все в багажник и проехала остаток пути до Рэнферли-роуд.
Оливия жила в одном из красных кирпичных домиков постройки начала века с эркером, палисадником и выложенной плитками дорожкой. С улицы он казался заурядным до боли, но тем сильнее оказывалось впечатление от неожиданно современного интерьера. Перегородки на первом этаже сняты, так что вместо нескольких тесных комнаток образовалось одно просторное помещение с кухней, отделенной от столовой только стойкой наподобие той, что бывают в барах, и открытой лестницей на второй этаж. В дальнем конце — стеклянные двери в сад, и сквозь них открывается совершенно деревенский вид: по ту сторону ограды стоит церковь на незастроенном участке в пол-акра, где в летнюю пору под сенью старого дуба устраиваются пикники воскресной школы.
Естественно было бы и весь дом декорировать в деревенском стиле, с мебелью из полированной сосны, с цветастыми драпировками. Но у Оливии внутреннее убранство было выдержано в строгом стиле модерн, как в роскошной квартире на крыше небоскреба где-нибудь в центре города. Основной тон был белый, любимый цвет Оливии, цвет роскоши и света: белые пластиковые плитки пола, белые стены и шторы, белая груботканая хлопчатобумажная обивка глубоких, греховно соблазнительных диванов и кресел, белые лампы и абажуры. Однако впечатления холода не возникало, так как по белоснежному фону горели пятна чистых ярких красок. Алые и оранжевые диванные подушки, пестрые испанские коврики, ослепительные живописные абстракции в серебряных рамах. Обеденный стол стеклянный, стулья вокруг него черные, а одна из стен выкрашена ярко-синим, и на ней Оливия разместила целую фотогалерею родных и знакомых.
Кроме того, здесь было тепло, уютно и ослепительно чисто. Уже много лет к Оливии ежедневно приходила соседка, которая все мыла и начищала до блеска. Вот и сейчас здесь ощущался запах мебельной полировки, а к нему примешивался аромат голубых гиацинтов — Оливия еще осенью высадила в горшок луковицы, и они теперь цвели и благоухали.
Не спеша, стараясь полностью расслабиться, Оливия принялась за приготовления к предстоящему вечеру. Задернула шторы, зажгла огонь в камине (он был газовый, но с бутафорскими поленьями, и такой же теплый и приятный, как настоящий дровяной), вставила кассету в магнитофон, налила себе немного виски. Прошла на кухню, нарезала и смешала салат, приготовила заправку, накрыла на стол, поставила вино на лед.
Было уже почти половина восьмого. Оливия поднялась наверх. Ее спальня выходила в сад. Здесь тоже все было белое: толстый ковер от стены до стены, огромная двуспальная кровать. Она бросила взгляд на кровать, подумала о Хэнке Спотсвуде, минуту поколебалась, а потом сняла белье и постелила свежее, льдисто-хрустящее, свежевыглаженное, льняное. И только покончив с этим, разделась и налила себе ванну.
Ритуал вечерней ванны означал для Оливии несколько драгоценных минут полной раскованности. Лежа в клубах душистого пара, она давала мыслям волю скользить с предмета на предмет. Здесь в голову приходили разные приятные вещи — планы на предстоящий отпуск, фасоны платьев на будущие месяцы, какие-то смутные фантазии, связанные с очередным любовником.
Но почему-то в этот вечер Оливия опять стала думать о Нэнси — вернулась ли та уже в свой кошмарный дом, к своей несимпатичной семье? Да, верно, у нее есть трудности, но она их сама создает. У них с Джорджем непомерные претензии, и живут они не по средствам, да еще и сами себя уговорили, что им этого мало. Забавно вспомнить, какое у Нэнси было лицо — челюсть отвисла, глаза на лбу, — когда она услышала, сколько могут стоить полотна Лоренса Стерна. Нэнси вообще не способна скрывать свои мысли, особенно если застать ее врасплох, и в тот момент у нее на лице было написано глубокое изумление, которое тут же сменила расчетливая алчность — ей уже, конечно, рисовались и оплаченные школьные счета, и двойные рамы в окнах «Дома Священника», и вообще обеспеченное благополучие всего клана Чемберлейнов.
Оливию это не пугало. Она не опасалась за судьбу «Собирателей ракушек». Это полотно — свадебный подарок Лоренса Стерна дочери, и оно для Пенелопы дороже всех денег на свете. Она его никогда не продаст. Придется Нэнси — и Ноэлю тоже — смириться с естественным ходом вещей и дождаться смерти матери, — что, как от души надеялась Оливия, произойдет еще, даст бог, очень не скоро.
Она выкинула из головы Нэнси и стала думать о других, более приятных вещах. Этот молодой фотограф Лайл Медуин. Умница. Прекрасные работы. Просто находка. И понимает собеседника с полуслова.
«Ивиса», — назвал он. Она невольно повторила за ним это слово, и он, чутко уловив в ее тоне сомнение, сразу же выдвинул альтернативное предложение. Ивиса. Только сейчас, когда по коже расслабленно стекает выжатая из губки теплая вода, Оливия понимает, что этот минутный и, кажется, ничего не значащий разговор оживил воспоминания, и они за весь день так и не ушли, а затаились за ее мыслями и дождались своего часа.
Об Ивисе она не думала уже много месяцев. Но вот сегодня сама сказала: «Лучше что-нибудь деревенское для фона… Козы, овцы, трудолюбивые крестьяне в поле…» И ясно представила себе низкий, длинный дом с красной черепичной крышей, весь увитый бугенвиллеей и виноградом. Услышала звяканье коровьих колокольцев, петушиный крик. Почуяла запах разогретой сосновой и можжевеловой хвои в теплом морском ветре. И ощутила на затылке знойные лучи средиземноморского солнца.
3. Космо
С Космо Гамильтоном Оливия познакомилась на яхте. Дело было летом 1979 года, она тогда отдыхала с друзьями.
Оливия яхты не любила — внизу теснота, слишком много людей на слишком маленьком пространстве, а на палубе постоянно обо что-то спотыкаешься, набиваешь шишки то на коленке, то на макушке. Но эта яхта была большая, крейсерская, она стояла в порту на якоре, и добирались до нее на моторной лодке. Оливия поехала туда нехотя, просто за компанию, вместе с остальными, и худшие ее опасения оправдались: много народу, сидеть негде, и все такие жутко веселые, все запанибрата, пьют коктейль «Кровавая Мэри», громко смеются и обсуждают шикарный званый вечер, на котором все были вчера, а Оливия и ее знакомые не были.
Она стояла в кокпите, крепко держа стакан, и с ней плечом к плечу стояли еще десятка полтора гостей. Ощущение такое, будто надо поддерживать светский разговор в до отказа набитом лифте. И что еще ужасно в этих увеселениях на воде — нет возможности потихоньку уйти, просто выскользнуть из дверей на улицу, поймать такси и вернуться домой. Как в ловушке. Да еще зажатая нос к носу с каким-то мужчиной без подбородка, который воображает, будто тебе безумно интересно услышать, что он служит в дворцовой гвардии, и машина у него хорошая, а все равно из Гемпшира, где он живет, до Виндзора ему ехать ровно столько-то часов и столько-то минут.
У Оливии от скуки свело скулы. Когда гвардеец на минуту отвернулся, чтобы наполнить опустевший стакан, она тут же обратилась в бегство: выкарабкалась из кокпита на палубу и прошла вперед мимо каютной надстройки, на крыше которой загорала какая-то молодая особа — практически нагишом. На передней палубе Оливия отыскала незанятый уголок и села прямо на доски, прислонившись спиной к мачте. Гомон голосов долетал до нее и сюда, но, по крайней мере, можно было побыть одной. Было жарко. Она сидела и с тоской смотрела на море.
Вдруг к ее ногам упала тень. Она подняла голову, опасаясь опять увидеть виндзорского гвардейца, но это оказался мужчина с бородой. Она обратила на него внимание, как только взошла на борт, но поговорить им до сих пор не пришлось. Борода у него была с проседью, а густые волосы — белые как снег. Очень высокого роста, мускулистый, поджарый, в белой рубахе и выцветших, просоленных джинсах.
Он спросил:
— Принести вам еще выпить?
— Да нет, пожалуй.
— Вы хотите побыть одна?
Голос приятный. И непохоже, чтобы он стал, распространяясь о своей персоне, пользоваться вместо личного местоимения словом «человек». Она ответила:
— Не обязательно.
Он присел рядом на корточки. Их глаза оказались на одном уровне, и Оливия увидела, что у него они такого же размытого, светло-голубого цвета, как джинсы. А лицо загорелое, в глубоких складках. Похож на писателя.
— Тогда можно мне с вами посидеть?
Она было замялась, но потом с улыбкой ответила:
— Отчего же нет.
Он назвался: Космо Гамильтон. Живет здесь, на острове, уже двадцать пять лет. Нет, не писатель. Когда-то имел свою контору проката яхт. Потом служил в одной лондонской фирме, которая занималась устройством туристических поездок. А теперь просто свободный человек, сам себе господин.
Оливия, неизвестно почему, заинтересовалась.
— И вам не скучно?
— Почему же мне должно быть скучно?
— Ведь у вас нет никаких дел.
— У меня тысяча дел.
— Назовите хотя бы два.
Он посмотрел на нее смеющимися глазами.
— Вы меня обижаете.
И действительно, у него такой деятельный, работящий вид, что трудно подозревать в нем бездельника. Оливия улыбнулась:
— Я шучу.
Он тоже улыбнулся, сощурив уголки глаз, и улыбка озарила его лицо теплым светом. Оливия почувствовала, как сердце у нее в груди гулко забилось.
— У меня есть яхта, — принялся объяснять он, — и дом. И сад. Полки с книгами. Две козы. И три дюжины кур-бентамок — судя по последним подсчетам. Бентамки, как известно, быстро размножаются.
— Вы сами ходите за курами? Или ваша жена?
— Моя жена живет в Уэйбридже. Мы разведены.
— И вы один?
— Не совсем. У меня есть дочь. Она ходит в школу в Англии, так что в учебное время живет с матерью. А на каникулы приезжает ко мне.
— Сколько ей?
— Тринадцать. Зовут Антонией.
— Она, должно быть, любит приезжать сюда?
— Да. Нам тут хорошо живется. А вас как зовут?
— Оливия Килинг.
— Где вы поселились?
— В «Лос-Пиньос».
— Вы одна?
— Нет, с друзьями. Поэтому и здесь оказалась. Кому-то из нашей компании прислали приглашение, и мы все притащились.
— Я видел, как вы поднимались на борт.
Она сказала:
— Терпеть не могу яхты.
И он засмеялся.
На следующее утро он появился в гостинице, разыскивая Оливию. И застал ее одну возле бассейна. Было рано, ее друзья еще спали в своих номерах. Но она уже искупалась и распорядилась, чтобы ей подали завтрак на террасе у бассейна.
— Доброе утро.
Она подняла голову и увидела против солнца его, облитого ослепительным светом.
— Здравствуйте.
Волосы у нее висели мокрыми прядями, на плечах был белый махровый халат.
— Можно мне присесть к вам?
— Если хотите. — Она ногой подтолкнула к нему стул. — Вы завтракали?
— Да. — Он сел. — Часа два назад.
— Может быть, кофе?
— Нет, и кофе не буду.
— Тогда чем могу быть полезна?
— Я приехал узнать, не согласитесь ли вы провести со мной сегодняшний день?
— Приглашение распространяется на моих друзей?
— Нет. Только вы.
Он смотрел ей прямо в лицо ровным, немигающим взглядом. Она почувствовала, что ей брошен вызов, и почему-то смутилась. Оливия много лет не смущалась. Чтобы спрятать это непривычное состояние и занять руки, она взяла из фруктовой корзинки на столе апельсин и попробовала надорвать грубую кожуру.
— А что же я скажу остальным?
— Просто скажите, что проведете сегодня день со мной.
Апельсиновая кожура не поддавалась, у Оливии даже заболел большой палец.
— А что мы будем делать?
— Я думал отъехать подальше на яхте… захватить провизию для пикника… Дайте-ка, — не вытерпел он, протянул руку через стол и отнял у нее апельсин. — Так вы его никогда не очистите.
Он достал из заднего кармана ножик и разрезал кожуру апельсина на четыре сектора.
Следя за его руками, Оливия сказала:
— Я терпеть не могу яхты.
— Знаю. Вы вчера говорили. — Он положил ножик в задний карман, легко снял кожуру и протянул очищенный апельсин Оливии.
Она молча взяла, и он спросил:
— Ну так как, да или нет?
Оливия с улыбкой откинулась на спинку стула. Она разделила апельсин на дольки и стала есть одну за другой. Космо молча наблюдал за ней. Знойный день уже начал вступать в свои права. Рот Оливин наполнился свежим цитрусовым вкусом. Она довольно сожмурилась, как кошка на пригреве, не спеша управилась с апельсином, облизала пальцы, посмотрела через стол на терпеливо ожидающего ответа собеседника и сказала:
— Да.
В тот день Оливия узнала, что на самом деле вовсе не так плохо относится к яхтам. Та, что принадлежала Космо, оказалась не такой большой, как вчерашняя, и гораздо симпатичнее. Во-первых, здесь они были вдвоем; во-вторых, не качались бесцельно на якоре, а отчалили, подняли парус и вышли, обогнув волнолом, в открытое море, а затем пошли вдоль берега, пока не достигли маленькой голубой бухточки, которую туристы на острове не дали себе труда открыть. Здесь бросили якорь и стали купаться, прыгая в море прямо с палубы и взбираясь обратно по капризной веревочной лестнице.
Солнце в вышине так палило, что Космо натянул над кокпитом тент, и они поели в его тени. Хлеб, помидоры, кружочки колбасы салями, фрукты, сыр и вино, сладкое и холодное — потому что он привязал бутылки за горлышко и спустил на веревках прямо в море.
Потом было время, чтобы безмятежно растянуться на палубе и позагорать; а еще позже, когда ветер совсем стих и солнце поползло вниз по небосклону и его водянистые отблески заиграли на белом потолке каюты, настало время для любви.
На следующее утро он опять появился в гостинице — подъехал в маленьком старом открытом «ситроене», напоминающем скорее мусорный бак на колесах, и увез Оливию вглубь острова, к себе домой. К этому времени в компании, с которой она приехала отдыхать, на нее, вполне естественно, начали злиться. Мужчина, приглашенный специально, чтобы составить ей компанию, выразил свои претензии, и произошла перепалка, после чего тот самым отвратительным образом надулся. Тем проще было уехать.
Опять сияло великолепное утро. Дорога уходила на холмы, через сонные золотые деревни, мимо белых церквушек, мимо ферм, где на скудных лугах паслись козы и ходили по кругу, вращая жернова, многотерпеливые мулы.
Здесь все было такое же, как и столетия назад, не затронутое коммерцией и туризмом. Чем дальше они ехали, тем хуже делалась дорога: кончился гудрон, «ситроен» покатился, проваливаясь и подпрыгивая, по узкому проселку, затененному раскидистыми пиниями, и наконец остановился у подножия старой оливы.
Космо выключил мотор, и они вылезли из машины. В лицо Оливии пахнул прохладный ветерок — далеко внизу проблеснула морская синева. Дальше вниз шла тропа, пересекала миндальную рощу, и там, где она снова выходила на открытое место, стоял дом — длинный, под красной черепичной крышей, белые стены в лиловых пятнах цветущих бугенвиллей. А за ним открывался прекрасный вид на береговой склон и море. Вдоль дома тянулась веранда, увитая виноградом, а перед ней — заросший сад, посреди которого блестела бирюзовая вода маленького бассейна.
— Вот это да! — только и смогла выговорить Оливия.
— Заходи, я покажу тебе все.
Дом был построен очень странно; перед каждым порогом — по две-три ступеньки где вверх, где вниз, в нем не было и двух комнат на одном уровне. Когда-то здесь жило фермерское семейство, поэтому гостиная и кухня до сих пор находились на втором этаже, а нижние помещения, где раньше располагались конюшня, хлев и свинарник, теперь служили спальнями.
Внутри было просто — беленые стены, самая скромная мебель — и прохладно. Небольшие цветные половички на грубых тесаных половицах, стулья с плетеными тростниковыми сиденьями, дощатые скобленые столы. Шторы только в гостиной на втором этаже, а всем прочим окнам в глубоких амбразурах оставалось довольствоваться ставнями.
Но были и восхитительные штрихи — диваны и кресла с мягкими подушками под яркими хлопчатобумажными покрывалами; вазы с цветами; поленья, сохнущие в деревенских корзинах у открытого очага. В кухне с потолочной балки у стены свисала медная посуда и пахло травами и специями. И все выдавало присутствие человека образованного, думающего, прожившего здесь уже двадцать пять лет: сотни книг, не только в шкафах, но и на столах, подоконниках, на комоде у кровати; хорошие картины, множество фотографий, подставки с долгоиграющими пластинками возле проигрывателя.
Наконец экскурсия закончилась, и Космо через низенькую дверь, опять же вниз по ступенькам, вывел Оливию в красную прихожую, а оттуда на веранду.
Оливия встала спиной к открывшемуся виду, разглядывая белый фасад дома.
— Я даже и представить себе не могла такого совершенства!
— Посиди тут, полюбуйся пейзажем, а я принесу тебе бокал вина.
На каменных плитах веранды стоял стол и несколько плетеных кресел. Но Оливии не хотелось садиться. Она подошла к парапету и облокотилась. Вокруг в глиняных горшках цвели, благоухая лимоном, вьющиеся герани, и между ними сомкнутыми рядами деловито маршировали туда-сюда полчища муравьев. На душу Оливии снизошел безграничный покой. Если прислушаться, можно было различить слабые, приглушенные звуки, составляющие тишину. Далекий коровий бубенчик. Мирное, удовлетворенное кудахтанье кур откуда-то из сада. Шорох ветра.
Целый новый мир. Они отъехали всего на несколько километров, а Оливии казалось, будто от гостиницы, знакомых, коктейлей, бассейна, шумных улиц и магазинов, ярких огней и оглушительных танцевальных шлягеров ее отделяет тысяча миль. А еще дальше — Лондон, «Венера», дом, работа. Все это тает, теряет реальность, словно забытый сон о жизни, которой на самом деле никогда не было. Она как долго-долго пустовавший сосуд, который теперь медленно заполняется тишиной. «Я могла бы здесь остаться», — раздался несмелый голосок, будто кто-то легонько потянул за рукав. — «Здесь я могла бы остаться».
Она услышала за спиной шлепки сандалий по ступеням. Обернулась и стала смотреть, как он выходит из темного проема, высокий, пригибая голову под притолокой. Он нес бутылку с вином и два стакана, а солнце стояло высоко и отбрасывало ему за спину короткую черную тень. Поставив на столик стаканы и заиндевелую бутылку в каплях влаги, он достал из кармана джинсов сигару, чиркнул спичкой, закурил.
Когда заструился голубой дымок, Оливия сказала:
— Я не знала, что ты куришь.
— Только сигары. Изредка. Когда-то курил сигареты по полсотне в день, но потом избавился от этой привычки. Однако сегодня такой день, когда, кажется, можно дать себе небольшую поблажку. — Он уже откупорил бутылку и теперь наполнял стаканы. Один взял себе, другой протянул Оливии. Холодный как лед. — За что будем пить?
— За твой дом, не знаю, как он называется.
— «Высота».
— За «Высоту». И за ее хозяина.
Они выпили. Космо сказал:
— Я наблюдал за тобой из кухонного окна. Ты стояла не шевелясь. Интересно, о чем ты думала?
— Что здесь… реальность тает.
— А это хорошо?
— Кажется, да. Я… — Она задумалась, подыскивая подходящие слова, потому что ей вдруг показалось очень важным выразить все точно. — Я не особенно домашнее существо. Мне тридцать три года, я работаю в журнале «Венера» редактором отдела, добивалась этого положения много лет. С тех пор как окончила университет, содержу себя сама, и не подумай, что это я жалуюсь, наоборот, ничего другого мне никогда и не нужно было. Замуж не хочу, и детей мне не надо. Навсегда — это не про меня.
— И что же?
— А то, что здесь… в этом доме, мне кажется, я могла бы остаться, не опасаясь, что окажусь узницей или пущу корни. Не знаю почему. — Она улыбнулась, глядя ему в лицо. — Право, не знаю.
— Оставайся, — сказал он.
— На весь день? На ночь?
— Нет. Оставайся вообще.
— Мама учила меня никогда не принимать приглашений вообще, на неопределенное время. Всегда должна быть назначена дата приезда и дата отъезда, так она говорила.
— И совершенно верно. Скажем, дата приезда — сегодня. А дату отъезда ты назначишь сама.
Оливия вглядывалась в его лицо, угадывая подтекст и мотивы. Потом спросила:
— Ты предлагаешь мне поселиться здесь, у тебя?
— Да.
— А работа? У меня прекрасная работа, Космо. Большое жалованье, большая ответственность. Теперешнего положения я добивалась всю свою взрослую жизнь.
— Значит, самое время взять годичный отпуск. Ни мужчина, ни даже женщина не может работать без передышки.
Годичный отпуск. Двенадцать месяцев для себя. Перерыв в работе на двенадцать месяцев — это еще в пределах допустимого. Большее означало бы бросить работу.
— У меня еще есть дом. И машина.
— Уступи их пока своей лучшей подруге.
— А родные?
— Пригласи их сюда.
Пригласить сюда родных. Оливия представила себе, как Нэнси жарит бока на краю плавательного бассейна, а Джордж сидит под крышей в шляпе, чтобы не обгореть. Представила, как Ноэль рыщет по нудистским пляжам и возвращается к ужину с добычей — очередной пышнотелой блондинкой, изъясняющейся на каком-нибудь никому не ведомом языке. Представила мамочку… но мамочка — это совсем другое дело, и ничего смешного. Тут все для нее подходит — и этот большой дом-лабиринт, и заросший сад. И миндальные рощи, и раскаленная на солнце веранда, и курочки-бентамки, курочки особенно. Мамочка будет в восхищении. Недаром же и она, Оливия, сразу полюбила этот дом и почувствовала себя в нем уютно. Это какая-то тайна. Вслух она сказала:
— Не у одной меня имеется родня. Тебе тоже надо подумать кое о ком.
— У меня только Антония.
— Разве этого мало? Нельзя же ее травмировать.
Космо со слегка смущенным видом потер затылок.
— Боюсь, что сейчас не самый подходящий момент для таких разговоров, однако все же замечу, что здесь и раньше бывали дамы.
Оливия рассмеялась:
— И Антония была не против?
— Она относилась к этому с пониманием. Философски. Заводила друзей. А вообще, она очень независимая.
Оба помолчали. Он ждал ответа. Оливия сидела, не отводя взгляда от стакана с вином.
— Это очень ответственное решение, Космо.
— Знаю. Ты должна подумать. Может, приготовим что-нибудь и за едой все обсудим?
Они вернулись в дом. Космо объявил, что сейчас приготовит спагетти с ветчиной и грибами, а Оливия, убедившись, что на кухне ей с ним не тягаться, ушла обратно в сад. Там она отыскала огород, нарвала зелени, несколько помидоров и даже нашла в тени под листами маленькие тыковки. Все это она принесла на кухню, вымыла, нарезала для салата. Они ели за кухонным столом, а потом Космо сказал, что наступило время послеобеденной сиесты. Они легли, и это было даже лучше, чем в первый раз.
В четыре часа, когда зной немного спал, они спустились к бассейну, поплавали нагишом, а потом лежали на солнце, обсыхая.
Космо рассказывал о себе. Ему пятьдесят пять лет. Едва окончив школу, он был сразу же призван в армию и всю войну состоял на действительной службе. Жизнь эта, как ни странно, пришлась ему по вкусу, так что, когда война кончилась, он решил остаться сверхсрочно офицером в регулярных войсках. Но в тридцать лет получил немного денег в наследство от деда. Оказавшись впервые в жизни финансово независимым, поспешил демобилизоваться и, не связанный никакими узами и обязанностями, отправился путешествовать по свету. Добравшись до Ивисы, где тогда еще не расцвела тлетворная цивилизация и жизнь была потрясающе дешева, он с первого взгляда влюбился в этот остров и решил здесь обосноваться, так что на этом его путешествия закончились.
— А твоя жена? — спросила Оливия.
— Что — жена?
— Когда она появилась?
— Умер отец, и я приехал на похороны. Пожил немного с матерью, помог уладить дела. Мне тогда был сорок один год, не так уж мало. Я познакомился с Джейн в гостях у моих лондонских знакомых. Она была твоего возраста. Держала цветочный магазин. У меня было тоскливо на душе, уж не знаю почему. Может, все-таки потому, что потерял отца. До этого я никогда в жизни не раскисал. А тогда затосковал, возвращаться домой одному не хотелось. Джейн была очень милая, готова хоть сейчас под венец, и жизнь на Ивисе представлялась ей безумно романтичной. В этом была моя главная ошибка: надо было сначала привезти ее сюда на смотрины, как привозят свою девушку познакомиться с родителями. А я этого не сделал. Мы поженились в Лондоне, и она в первый раз вошла сюда уже как моя жена.
— Она была здесь счастлива?
— Поначалу. А потом заскучала по Лондону, по знакомым, ей хотелось ходить в театры, на концерты в Алберт-холл, ездить по магазинам, в гости, за город на уик-энд.
— А как же Антония?
— Антония родилась здесь, она у нас местная. Я думал, появление ребенка немного успокоит мать, но вышло только хуже. И тогда мы вполне по-дружески решили расстаться. Безо всяких взаимных претензий и обид, потому что не на что было обижаться. Джейн увезла Антонию и растила ее до восьми лет, а с тех пор, как девочка стала ходить в школу, она на летние и пасхальные каникулы приезжает сюда и живет со мной.
— А тебе это не трудно?
— Нет. У меня с ней нет хлопот. Здесь есть славная чета, Томеу и Мария, они живут на маленькой ферме дальше по дороге. Томеу помогает мне в саду, а Мария приходит убирать в доме и присматривать за моей дочерью. Они подружились, и Антония в результате выросла двуязычной.
Стало прохладно. Оливия села, дотянулась до своей блузки, просунула руки в рукава, застегнула пуговицы. Космо тоже зашевелился и, заявив, что после этого разговора ему захотелось пить, предложил принести чего-нибудь. Она высказалась в пользу крепкого горячего чая. Космо поднялся и побрел к дому ставить чайник. Заросший сад скрыл его из виду, а Оливия осталась у бассейна. Она наслаждалась безмятежным одиночеством, уверенная, что с минуты на минуту он вернется. Вода в бассейне была гладкой как зеркало, и в ней отражалась стоящая на той стороне статуя мальчика, играющего на дудочке.
Низко пролетела чайка. Оливия, задрав голову, любовалась ее непринужденным полетом на широко распахнутых, подсвеченных закатом крыльях. В этот миг она поняла, что останется у Космо. Подарит себе один сказочный год.
Оказалось, что сжигание мостов довольно болезненная операция. Надо было о многом позаботиться. Прежде всего съездить в город, в отель «Лос-Пиньос», забрать вещи, расплатиться и освободить номер. Все это они проделали тихонько, тайком, чтобы никто не заметил, — вместо того чтобы разыскать друзей и все объяснить, Оливия трусливо уклонилась от встречи, оставив у портье записку с маловразумительными объяснениями своего поступка.
Затем ей пришлось посылать телеграммы, писать несколько писем, переговариваться с Лондоном по трескучей телефонной линии. Когда со всем этим было покончено, она ждала, что испытает радостное облегчение, но вместо этого ее почему-то охватила какая-то непонятная паника. Она почувствовала, что опустошена и совершенно без сил. Ее стошнило. Она скрыла это от Космо, но, когда он нашел ее лежащей ничком на кушетке, в слезах от дурноты и бессилия, все обнаружилось.
Он проявил удивительное понимание, уложив ее спать в комнатке Антонии, в полном покое и одиночестве, и она провела там три ночи и два дня, приподнимая голову, только чтобы выпить принесенного им горячего молока, съесть кусочек хлеба с маслом или дольку какого-нибудь фрукта.
На третье утро Оливия проснулась и почувствовала, что все прошло. Она выздоровела, отдохнула, пришла в себя, ее переполняла бодрость и упоительная радость жизни. Сладко потянувшись, она встала с кровати, распахнула ставни и вдохнула полной грудью свежесть раннего жемчужного утра. Пахло влажной, росистой землей, пели петухи. Оливия накинула халат и поднялась по лестнице в кухню. Вскипятила чайник, заварила чай. И, поставив на поднос две чашки, спустилась по другой лестнице в спальню Космо.
Ставни там были еще закрыты, стоял полумрак. Но Космо уже не спал.
Когда она вошла, он сказал:
— Привет.
— Доброе утро. Я принесла тебе утренний чай.
Она поставила поднос сбоку от кровати и отошла к окну распахнуть ставни. Косые лучи низкого солнца залили комнату светом. Космо протянул руку к часам.
— Половина восьмого. Ты ранняя пташка.
— Я пришла сказать, что мне лучше. — Она присела на край кровати. — И попросить прощения за слабость. И еще поблагодарить тебя за понимание и доброту.
— Как же ты собираешься меня благодарить?
— Н-ну, мне известен один способ, да вот не знаю, не слишком ли еще рано.
Космо улыбнулся и подвинулся, освобождая место.
— Это никогда не рано.
А потом:
— Ты — само совершенство.
Она, удовлетворенная, лежала на сгибе его руки.
— Как и ты, Космо, я тоже обладаю некоторым опытом.
— Скажите мне, мисс Килинг, — произнес он тоном персонажа пьесы Ноэля Коуарда, — когда вы лишились невинности? Я знаю, наши слушатели хотели бы это знать.
— На первом курсе.
— В каком колледже?
— Это имеет значение?
— Как знать.
— Маргарет-холл.
Он поцеловал ее. И сказал:
— Я тебя люблю.
И это было уже не из Ноэля Коуарда.
Полетели дни, один за другим, безоблачные, жаркие, длинные и свободные, наполненные самыми бесцельными занятиями. Оливия купалась в бассейне, спала, бродила по саду, заходила накормить бентамок, собрать яйца или немного пополоть грядки. Познакомилась с Томеу и Марией, которых нисколько не смутило ее появление в доме, — каждое утро они приветствовали ее широкими улыбками и сердечными рукопожатиями. Она понемногу учила названия испанских блюд, наблюдала, как Мария готовит грандиозные паэльи. Ее перестало волновать, как одеться. Она целыми днями обходилась без косметики, бродила босиком, в старых джинсах или в бикини. Иногда они вдвоем ходили с кошелкой в деревню что-то купить, но, по молчаливому уговору, не появлялись ни в городе, ни на пляже.
Обдумывая теперь на досуге свою жизнь, Оливия обнаружила, что впервые очутилась в таких условиях, когда не надо работать, напрягаться, карабкаться вверх по лестнице избранной карьеры. Смолоду она поставила перед собой одну простую и ясную цель: быть всегда лучше всех. Первой в классе, первой по результатам экзаменов. Выкладывалась за стипендию, за хорошие оценки, засиживаясь до света над учебниками, чтобы еще раз все просмотреть, убедиться, что помнит, что ее примут в университет. А потом, в Оксфорде, опять все началось сначала — медленная и упорная подготовка к решающим выпускным экзаменам. Окончив с отличием по английскому и философии, она, казалось бы, могла сделать передышку, но слишком сильна была в ней внутренняя энергия. И, боясь потерять разгон, пропустить шанс, она сразу пошла работать. С тех пор минуло одиннадцать лет, и она ни разу не позволила себе расслабиться.
Все это в прошлом. И никаких сожалений. Теперь ей стало ясно, что встреча с Космо и полный выход из игры случились как раз вовремя. Лекарство нашлось прежде, чем стал ясен диагноз. Организм благодарно отозвался на перемену. Волосы у нее стали блестящими, темные глаза в густых ресницах лучились покоем, и даже черты лица словно утратили напряженную резкость, разгладились. Высокая, худощавая, загорелая до смуглоты, Оливия гляделась в зеркало и впервые в жизни видела себя по-настоящему красивой.
Как-то она осталась в доме одна. Космо отправился в город взять газеты и письма, а заодно глянуть на свою яхту, стоящую в бухте. Оливия лежала на террасе и наблюдала за двумя птичками, резвящимися в ветвях оливы.
Глядя на их игры, она вдруг ощутила странную пустоту. Стала копаться в себе, анализировать и обнаружила скуку. Не то чтобы ей надоел этот дом или Космо, нет. Надоела себе она сама, пустая, неприбранная, безрадостная, точно нежилая комната. Поразмыслив над этим новым положением вещей, Оливия поднялась с кресла и пошла в дом выбрать себе что-нибудь почитать.
К тому времени, когда Космо возвратился, она так увлеклась, что даже не услышала его шагов, и вздрогнула, когда он вдруг очутился перед ней.
— Я запарился и умираю от жажды, — начал было он, но не договорил и удивленно заглянул ей в лицо. — Оливия, я и не знал, что ты носишь очки.
Она отложила книгу.
— Только когда читаю, или работаю, или хожу на деловые обеды с тугодумами-бизнесменами, которые должны меня уважать. А вообще, я ношу контактные линзы.
— Я не замечал.
— Тебе не нравится? Это может как-то повлиять на наши отношения?
— Совсем нет. В очках ты кажешься ужасно умной.
— Я и есть ужасно умная.
— А что это за книга?
— Джордж Эллиот, «Мельница на Флоссе».
— Смотри только не вообрази себя бедняжкой Мегги Талливер.
— Я никогда не воображаю себя героинями книг. У тебя чудесная библиотека. Здесь есть все, что я хотела бы перечитать или прочитать впервые. Я, наверное, весь год просижу, уткнувшись носом в книгу.
— Не возражаю, только с условием, что время от времени будешь отрываться для удовлетворения моих плотских желаний.
— Договорились.
Он нагнулся, поцеловал ее и пошел в дом взять банку пива.
Она прочла «Мельницу на Флоссе», потом «Гудящие высоты», потом Джейн Остин. Прочла Сартра, прочла «В поисках утраченного времени» и в первый раз — «Войну и мир». Она читала классику, биографии, романы писателей, о которых раньше никогда даже не слышала. Прочитала Джона Чивера, и Джозефа Конрада, и растрепанный альманах «Искатели приключений», который удивительно живо напомнил ей детство в доме на Оукли-стрит.
А так как все эти книги были для Космо старыми добрыми знакомыми, вечера теперь стали проходить за увлекательными литературными беседами, обычно под музыку — «Из Нового Света» Дворжака, вариации «Энигма» Элгара, целые симфонии и оперы от увертюры до финала.
Чтобы быть в курсе событий, Космо раз в неделю получал из Лондона «Таймс». Однажды, прочитав в газете статью о сокровищах галереи Тейт, Оливия рассказала ему о Лоренсе Стерне.
— Он мой дед, отец моей матери.
Ей было приятно видеть, какое впечатление произвели эти слова на Космо.
— Вот это да! Почему же ты раньше не сказала?
— Не знаю. Я вообще о нем редко говорю. Да теперь его мало кто знает! Устаревший и забытый художник.
— И какой художник! — Космо наморщил лоб, подсчитывая: — Но он ведь родился… постой-ка… где-то в восемьсот шестидесятые годы. Он, по-видимому, был уже глубоким стариком к тому времени, когда ты появилась на свет.
— Его вообще тогда уже не было в живых. Он умер в тысяча девятьсот сорок пятом в своей постели в собственном доме в Порткеррисе.
— Так, значит, вы проводили каникулы и праздники в Корнуолле?
— Да нет. В его бывшем доме всегда жили чужие люди, жильцы. В конце концов мамочка его совсем продала. Ей пришлось это сделать, потому что нам все время не хватало денег. И это вторая причина, почему мы никуда не ездили на каникулы.
— Вы не чувствовали себя ущемленными?
— Нэнси ужасно страдала. И Ноэль страдал бы тоже, если бы не умел устраиваться. Он всегда заводил дружбу с подходящими мальчиками и получал всякие приглашения — то на яхте поплавать, то на лыжах покататься, то погостить у кого-то на вилле на юге Франции.
— А ты? — ласково спросил Космо.
— А мне было все равно. Я и не хотела никуда уезжать. Мы жили в просторном доме на Оукли-стрит, с большим садом, и к моим услугам были все музеи, библиотеки, картинные галереи — ходи куда хочешь. — Она улыбнулась, вспомнив ту интересную жизнь. — Дом принадлежал нашей матери. Лоренс Стерн в конце войны переписал его на нее. Отец у нас был довольно… — она замялась, подыскивая подходящее слово, — легковесный человек. Толковым и предприимчивым его не назовешь. Наверное, понимая это, дед позаботился о том, чтобы мама была материально независимой и имела хотя бы дом, где растить детей. Ему тогда было уже за восемьдесят, и все суставы у него были изуродованы артритом. Он понимал, что ему жить там уже не придется.
— Твоя мать и теперь в нем живет?
— Нет. Такой большой дом стало слишком трудно и дорого содержать, и в прошлом году она наконец согласилась его продать и уехать из Лондона. У нее была мечта снова поселиться в Порткеррисе, но моя сестра Нэнси ее отговорила и подыскала домик в деревне Темпл-Пудли, в Глостершире. Надо отдать Нэнси справедливость — домик очень милый, и мамочке в нем хорошо. Единственное, что в нем огорчает, это название «Подмор Тэтч». — Она неодобрительно наморщила нос, и Космо рассмеялся. — Нет, правда, согласись, что это звучит немного посконно.
— Можно назвать его «Монрепо». Он, наверное, весь увешан прелестными картинами Лоренса Стерна?
— Нет, к сожалению. У мамочки их только три, и это обидно, потому что, судя по состоянию рынка, года через два им цены не будет.
Разговор перешел на викторианских живописцев, а потом на Огастеса Джона. Космо сходил в дом и принес его двухтомную биографию, которую Оливия читала, но выразила желание прочесть еще раз. Они долго обсуждали этого художника и сошлись на том, что, несмотря на все его пороки, этот старый светский брюзга не вызывает ничего, кроме восхищения, хотя в живописи оба предпочитают ему его сестру Гвен.
Придя к такому выводу, они приняли душ, оделись сравнительно пристойно и отправились пешком в деревню, в бар Педро, где можно было сидеть и пить прямо под звездным небом. Нежданно-негаданно появился молодой человек с гитарой, сел на табурет и просто, безо всяких церемоний, начал играть вторую часть «Гитарного концерта» Родриго, наполняя жаркую тьму ночи этой томной и торжественной музыкой, выражающей душу Испании.
Через неделю ожидался приезд Антонии. Мария затеяла в ее комнате генеральную уборку, вытащила всю мебель на веранду, принялась белить стены, перестирывать байковые одеяла, накидки и яростно выбивать прутом половички и коврики.
Из-за суматохи скорое появление девочки становилось словно еще ближе, и от этого на душе у Оливии заскребли кошки. Не из эгоизма, — хотя, конечно, перспектива делить Космо с другой женщиной, пусть даже тринадцати лет, и притом его родной дочерью, была по меньшей мере малоприятной, — а из-за того, что боялась не оправдать его ожиданий: сказать что-нибудь не то, совершить бестактный поступок. По отзывам Космо, Антония была девочка милая и без комплексов, но Оливии от этого легче не становилось, ведь опытом в общении с детьми она не обладала. Ноэль родился, когда ей было десять лет, и, пока он подрос настолько, чтобы с ним можно было общаться, она уже фактически оставила родной дом и ушла в мир. Есть, правда, дети Нэнси, но они такие несносные и невоспитанные, что от них Оливия всегда старалась держаться подальше. Что же они с Антонией скажут друг другу? О чем будут говорить? И чем заниматься?
Вечером, наплававшись в бассейне и расположившись в шезлонге рядом с Космо, она поделилась с ним своими опасениями.
— Понимаешь, мне очень не хочется вам помешать. Вы с Антонией так близки, и ей неизбежно должно показаться, что я тебя отнимаю. В конце концов, ей же всего тринадцать лет, а это трудный возраст, и ревность с ее стороны — вполне естественная реакция.
Он вздохнул.
— Ну как мне убедить тебя, что ничего этого не будет?
— Третий всегда лишний, даже в самых благоприятных условиях. Антонии наверняка захочется иногда остаться с тобой с глазу на глаз. А что, если я этого не почувствую и не уйду вовремя? Нет, Космо, согласись, у меня есть причины волноваться.
Он помолчал, подумал. И наконец со вздохом ответил:
— Очевидно, убедить тебя в беспочвенности этих страхов мне не удастся. В таком случае давай поищем выход из положения. Что, если, пока Антония будет жить у нас, мы пригласим погостить еще кого-нибудь четвертого? Для компании. Тебе так будет легче?
Такое предложение все меняло.
— Да-да, конечно, будет. Какой ты умный! Кого позовем?
— Кого захочешь, лишь бы это не был молодой сексуальный мужчина.
— А если мою маму?
— Она приедет?
— Непременно.
— Но в ее присутствии нам не надо будет спать в разных комнатах? Я уже не в том возрасте, чтобы красться ночью по коридору, могу в темноте с лестницы свалиться.
— Мама не склонна к иллюзиям, тем более на мой счет. — Оливия воодушевилась. — Космо, она тебе понравится. Мне просто не терпится вас познакомить.
— В таком случае не будем терять время. — Он вылез из шезлонга и стал натягивать джинсы. — Давай поворачивайся, девочка. Если мы успеем мобилизовать твою маму и оповестить Антонию, они смогут встретиться в Хитроу и прилететь сюда вместе, одним самолетом. Антония еще робеет летать одна, а твоей матери, я думаю, будет с ней занятно.
— Но куда мы направляемся? — спросила Оливия, торопливо проталкивая пуговицы в петли.
— Пойдем в деревню и позвоним по телефону от Педро. Ты знаешь номер телефона в Глостершире? Номер «Подмор Тэтч», «Соломенной крыши»? — Он произнес это название с нажимом, даже с издевкой, и поглядел на часы. — В Англии сейчас половина седьмого. Твоя мама в это время дома? Чем она может быть занята вечером в половине седьмого?
— Работает в саду. Или стряпает ужин на десятерых. Или угощает кого-то стаканчиком спиртного.
Скорей бы уже она очутилась здесь.
Самолет из Лондона с промежуточной посадкой в Валенсии прибывал в девять пятнадцать. Мария, с нетерпением ждавшая приезда Антонии, вызвалась прийти и приготовить ужин. Оставив ее организовывать грандиозное пиршество, Оливия и Космо поехали в аэропорт. Оба, хотя и не признавались в этом друг другу, слегка волновались, вследствие чего приехали много раньше срока и вынуждены были дожидаться в безлюдном зале добрых сорок минут, прежде чем женский голос среди треска и помех объявил по радио на испанском языке, что самолет совершил посадку. Затем опять ожидание, пока пассажиры проходили иммиграционный контроль, получали багаж; но вот наконец двери открылись и в зал валом повалили люди: бледные страдальцы-туристы; семейства местных жителей с вереницами детишек; таинственные дельцы в черных очках и щегольских костюмах; священник и две монахини… Наконец, когда Оливия уже начала думать, что, должно быть, они опоздали на самолет, появились Пенелопа Килинг и Антония Гамильтон.
Они раздобыли тележку, навалили на нее вещи, но у нее заедали колеса, она все время ехала не туда, а они обе почему-то от этого помирали со смеху, причем так увлеклись смехом, болтовней и управлением непослушной тележкой, что даже не сразу заметили Космо и Оливию.
Волнение Оливии отчасти объяснялось тем, что всякий раз после более или менее длительной разлуки с Пенелопой ей становилось страшно, не окажется ли, что мать переменилась? Не обязательно постарела, но, может быть, как-то сникла, выдохлась, чуть заметно сдала. Однако, увидев Пенелопу, она сразу же успокоилась. Все в порядке. Вид, как всегда, оживленный и потрясающе изысканный. Высокая, прямая, густые серебристые волосы собраны в пучок низко на затылке, темные глаза искрятся весельем, и даже сражение с тележкой ни на йоту не убавило ее гордого достоинства. Разумеется, она вся обвешана сумками и корзинками и одета в старую темно-синюю суконную накидку, которая на самом деле — флотский плащ, купленный у обедневшей капитанской вдовы еще в конце войны и с тех пор верно служивший Пенелопе во всех случаях, от свадеб до похорон.
И Антония… Оливия успела разглядеть высокую стройную девочку, с виду старше своих тринадцати лет, с прямыми золотистыми волосами за спиной, в джинсах, футболке и красном хлопчатобумажном пиджаке.
На большее времени не было. Космо поднял руки и окликнул дочь по имени. Антония оставила Пенелопу и тележку и с развевающимися волосами, держа в одной руке ласты, а в другой холщовую сумку, устремилась к ним, пробираясь сквозь толпу обремененных чемоданами людей, чтобы повиснуть у Космо на шее. Он подхватил ее, закружил, оторвав от пола длинные спички-ноги, звучно поцеловал и поставил обратно.
— Ты выросла.
Это было сказано с укоризной.
— Знаю. На целый дюйм.
И Антония повернулась к Оливии. У нее оказался нос в веснушках и смеющийся рот, чересчур большой для круглого личика, а глаза серо-зеленые, окаймленные длинными, густыми белесыми ресницами. Взгляд открытый, приветливый, заинтересованный.
— Здравствуй. Я Оливия.
Антония высвободилась из объятий отца, зажала под мышкой резиновые ласты и протянула ей руку:
— Здравствуйте.
И Оливия, глядя в это юное, ясное лицо, поняла, что Космо был прав и опасаться ей совершенно нечего. Обезоруженная, покоренная непринужденной сердечностью девочки, она пожала протянутую руку.
— Вот хорошо, что ты приехала, — сказала она и, преодолев этот рубеж, оставила дочь с отцом, а сама пошла навстречу матери, терпеливо сторожившей вещи. Пенелопа, вся засветившись, молчаливым любовным жестом раскинула ей навстречу руки, и Оливия, счастливая, бросилась в эти объятия. Она обняла мать изо всех сил, прижимаясь лицом к прохладной гладкой щеке и вдыхая родной аромат знакомых материнских духов.
— Дорогая моя, хорошая, — проговорила Пенелопа. — Прямо не верится, что я здесь.
Подошли Космо с Антонией, и заговорили все разом:
— Космо, это моя мама Пенелопа Килинг…
— Вы легко нашли друг друга в Хитроу?
— Безо всякого труда: я держала газету в руке и розу в зубах.
— Папа́, мы так весело летели! Одного человека стошнило…
— Это весь ваш багаж?
— Долго пришлось ждать в Валенсии?
— …а стюардесса вылила целый стакан апельсинового сока на монахиню, представляешь?
Наконец Космо навел порядок, взял на себя управление строптивой тележкой и вывел их из зала прибытия пассажиров в теплую синюю звездную ночь, наполненную бензиновой гарью и стрекотом цикад. Все они как-то умудрились втиснуться в «ситроен»: Пенелопа на переднем сиденье, Антония и Оливия сзади, туда же навалили вещи и поехали.
— Как поживают Мария и Томеу? И бентамки? — затарахтела Антония. — А ты знаешь, папа́, у меня в этом году «отлично» по французскому! Ой, смотрите-ка, новая дискотека! И роликовый каток! Давайте приедем покататься на роликах, ладно, папа́? И за эти каникулы я обязательно должна научиться виндсерфингу… Если брать уроки, это очень дорого?
Знакомая дорога вела в гору, в сельские места, где по холмам кое-где мерцали огоньки ферм и в воздухе стоял пряный смолистый дух. Подъезжая к дому, они увидели сквозь ветви миндальных деревьев, что Мария зажгла все наружное освещение, так что получилась настоящая праздничная иллюминация. Едва Космо остановил машину и они начали выбираться наружу, как в ярком свете подошли Мария с Томеу — она плотная, загорелая, в черном платье и переднике, а он по такому случаю чисто выбритый и в свежей рубахе.
— Hola, señor, — поздоровался Томеу.
Марию же интересовала только ее любимица:
— Антония!
— Мария! — Девочка выскочила из машины и бегом бросилась к ней обниматься.
— Antonia. Mi nina. Favorita. Cómo esta usted?[4]
Приехали.
Вход в комнату Пенелопы (некогда стойло для ослика) был прямо с веранды. Это была совсем маленькая комнатка, места хватало только для кровати и комода, а платяной шкаф заменяли вбитые в стену деревянные колышки. Но Мария произвела тут такую же тщательную уборку, как у Антонии, и все теперь сияло чистотой и белизной, благоухало мылом и свежевыглаженным бельем, а Оливия поставила на тумбочку у кровати бело-синий кувшин с чайными розами и положила несколько книг. Две ступеньки вверх, и другая дверь открывалась внутрь дома. Оливия открыла ее и объяснила матери, как найти единственную ванную.
— Водопровод не всегда хорошо работает в зависимости от того, довольно ли воды в колодце, так что, если с первого раза вода в уборной не спустится, надо повторить попытку.
— Все замечательно. Изумительное тут место. — Пенелопа сняла синюю накидку, повесила на колышек и, наклонившись над кроватью, стала разбирать чемодан. — И Космо производит самое приятное впечатление. А ты так хорошо выглядишь. Я никогда тебя не видела такой цветущей.
Оливия, сидя на кровати, смотрела, как мать раскладывает вещи по ящикам.
— Спасибо, что ты так сразу приехала, по первому зову. Ты просто ангел. Мне показалось, что, когда приедет Антония, — лучше, чтобы и ты была. Конечно, я пригласила тебя не только поэтому. Я с первого дня, как очутилась здесь, мечтала показать тебе этот дом.
— Ты же знаешь, я люблю все делать экспромтом. Я позвонила Нэнси, сообщила, что еду к тебе, и ей так завидно стало, что ее не зовут, что она говорила со мной раздраженно, но я не обратила на это ни малейшего внимания. А малышка Антония — такое прелестное существо. Совсем не застенчивая, смеялась и болтала весь день. Вот бы детям Нэнси хоть немного ее общительности и хороших манер. Один только бог знает, за какой грех я наказана такими внуками…
— А как Ноэль? Ты давно его не видела?
— Давно. Уже несколько месяцев. На днях позвонила ему, жив ли? Выяснилось, что жив.
— Что делает?
— Подыскал себе новую квартиру, вблизи от Кингз-роуд. Во что она ему обойдется, я даже не отважилась спросить, это его проблема. Думает оставить издательское дело и заняться рекламой, говорит, что у него есть очень полезные связи. Ну, и собирался в Каус на уик-энд. В общем, как всегда.
— Ну а ты сама? Что у тебя слышно? Как «Подмор Тэтч»?
— Милый мой домик, — любовно отозвалась Пенелопа. — Достроили наконец зимний сад, не могу тебе передать, как славно получилось. Я посадила куст жасмина и один корень дикого винограда и купила очень изящное плетеное кресло.
— Тебе давно нужно было подкупить садовую мебель.
— Зацвела магнолия — в первый раз. Мне подрезали глицинию. Приезжали в гости Аткинсоны, и было так тепло, что мы ужинали в саду. Они справлялись о тебе и шлют самые сердечные приветы. — Пенелопа улыбнулась гордой материнской улыбкой. — Когда я возвращусь домой, смогу сообщить им, что такой цветущей и красивой я тебя никогда не видела.
— Тебя очень удивило, что я поселилась у Космо, бросила работу и вообще как будто с ума сошла?
— Пожалуй, да. Но потом я подумала: а почему бы и нет? Ты всю жизнь работала на износ; я иногда видела, какая ты усталая, озабоченная, и просто опасалась за твое здоровье.
— Ты мне не говорила.
— Оливия, ты сама себе госпожа, и я не имею права вмешиваться в твою жизнь. Но это не значит, что я о тебе не беспокоюсь.
— И оказывается, ты была совершенно права. Я тут переболела. Приняла решение, обрубила канаты, сожгла корабли и после этого совсем расквасилась. Трое суток подряд спала. Космо вел себя как настоящий ангел. На четвертый день я очнулась и выздоровела. Я даже не подозревала, что так вымоталась. Наверное, если бы не осталась здесь, кончилось бы тем, что попала в клинику с нервным срывом.
— Не смей об этом даже думать.
Во время разговора Пенелопа, не переставая сновать по комнатке, раскладывала по ящикам комода свои пожитки, развешивала на стене знакомые поношенные платья. Как это похоже на нее — не привезти ни одного модного туалета, купленного специально для этой поездки! Впрочем, Оливия знала, что ее мать даже в этих старых вещах будет иметь самый изысканный и неповторимый вид.
Но, к ее немалому удивлению, нашлась и обнова. Напоследок из чемодана появилось одеяние из изумрудно-зеленого натурального шелка. Разложенное на кровати, оно оказалось роскошным и напоминало нечто среднее между казакином и восточным халатом с золотым шитьем, — ну прямо из «Тысячи и одной ночи»!
Оливия смотрела на него с восхищением.
— Где ты раздобыла такую прелесть?
— Верно ведь, хорош? Марокканский, по-моему. Купила у Роз Пилкингтон. Ее мать привезла этот наряд из довоенной развлекательной поездки в Марракеш, а она недавно нашла на дне старого сундука.
— Ты в нем будешь как императрица.
— Погоди, это еще не все.
Казакин, надетый на плечики, примкнул к выцветшим бумажным платьям на стене, а Пенелопа стала рыться в бездонной кожаной сумке, которую по прибытии сняла с плеча.
— Я ведь тебе писала, что бедняжка тетя Этель умерла? Представь, она оставила мне наследство. Я получила его по почте всего несколько дней назад, как раз когда собиралась к тебе.
— Тетя Этель оставила наследство? Я думала, у нее ничего не было.
— Я тоже. Но она в своем репертуаре — сумела удивить даже напоследок.
Тетя Этель действительно всю жизнь не переставала удивлять.
Единственная сестра Лоренса Стерна, много моложе его, она на исходе Первой мировой войны, тридцати трех лет от роду, решила, что, поскольку цвет английской молодежи полег на полях сражений во Франции, ей ничего не остается, как смириться с судьбой старой девы. И, нисколько не обескураженная, стала жить одна, стараясь получать от жизни как можно больше удовольствия. Поселилась в крохотном домишке в Патни, когда это еще был далеко не «хороший район», при случае пускала в дом какого-нибудь жильца (или любовника — никто точно не знал) и давала уроки игры на фортепиано, на что и существовала. Казалось бы, что может быть безрадостнее. Но тетя Этель даже в этой нищете умудрялась радоваться жизни, и каждый ее день был полон захватывающих приключений. Когда Оливия, Нэнси и Ноэль были маленькие, приезд тети Этель всякий раз был радостным событием, и не только из-за подарков, которые она обязательно привозила, но и потому, что с ней всегда было весело — она нисколько не походила на других взрослых. А еще интереснее было в гостях у нее: никогда не знаешь, что может случиться. Однажды, когда они сели пить чай с кривобоким пирогом, который испекла тетя, в комнате обвалился потолок. В другой раз стали жечь костер в конце ее крошечного садика, огонь перекинулся на ограду, и приехали пожарники в машине с колоколом. А еще она учила их плясать канкан и петь вульгарные куплеты, полные двусмысленностей, над которыми Оливия стыдливо хихикала, а Нэнси надувала губы, притворяясь, будто ничего не понимает.
С виду тетя Этель была похожа на козявку: сухонькая, на ногах туфельки детского размера, крашеные рыжие волосики и вечно дымящаяся сигарета в руке. Но, несмотря на неряшливый облик и образ жизни (а может быть, именно благодаря этому), она имела массу друзей, и не было города во всей Англии, где не жила бы какая-нибудь ее школьная подруга или бывший поклонник. Этель всегда звали, дорожили ее веселым обществом, и она часто у них гостила, но между поездками в провинцию обязательно возвращалась в Лондон, к выставкам и концертам, без которых не могла жить, к усердной переписке с подругами и друзьями, к осиротевшему жильцу, если у нее в это время был жилец, к урокам фортепиано и к телефонным разговорам. Она без конца звонила своему биржевому маклеру, должно быть ангельски терпеливому человеку, и, если ее жалкие акции поднимались на один пункт, позволяла себе на закате два розовых джина вместо одного. Это у нее называлось «кутнуть на всю катушку».
На восьмом десятке, когда даже ей стали не под силу суета и дороговизна лондонской жизни, Этель переехала в Бат и поселилась со своими закадычными друзьями Милли и Бобби Родвэй. Но потом Бобби оставил этот мир, а за ним вскоре последовала и Милли, и тетя Этель осталась одна. Какое-то время она еще справлялась в одиночку, бодрая и несгибаемая, как всегда, но старость исподволь все-таки взяла свое — Этель споткнулась у себя на пороге о молочную бутылку и сломала шейку бедра. После этого она стала сдавать с головокружительной быстротой и сделалась такой беспомощной и слабой, что районные власти в конце концов поместили ее в приют для престарелых. Здесь ее, закутанную в шали, трясущуюся и плохо соображающую, регулярно навещала Пенелопа, ездившая в Бат на своем стареньком «вольво» сначала из Лондона, а потом из Глостершира. Раза два Оливия сопровождала мать в этих поездках, но они производили на нее такое тяжелое, гнетущее впечатление, что она под любым предлогом старалась от них уклониться.
— Так трогательно с ее стороны… — говорила теперь Пенелопа с нежностью. — Знаешь, ведь ей почти исполнилось девяносто пять. Это уже слишком… Ага, вот они.
Она нашла на дне сумки то, что искала, — старый, потертый кожаный футлярчик. Нажала защелку, крышка откинулась, и Оливия увидела на выцветшей бархатной подушечке пару серег.
— Ой! — непроизвольно сорвалось у нее с языка.
Они были восхитительно красивы — два кружка жемчужинок, а в них по крестику из золота и эмали, окруженных бриллиантами, и внизу болтаются подвески — жемчужинки с рубинами. Это было украшение из другой эпохи, замысловатая роскошь Ренессанса.
— И это — ее? — изумилась Оливия.
— Чудо, верно?
— Но откуда они у нее взялись?
— Не имею понятия. Последние полстолетия пылились в банке.
— Антикварная вещь.
— Нет, я думаю, викторианская. Из Италии, вероятно.
— Наверное, тетя Этель получила их в наследство от матери.
— Может быть. А может быть, выиграла в карты. Или получила в подарок от богатого обожателя. Это ведь тетя Этель, так что возможны любые варианты.
— Ты их отдавала на оценку?
— Времени не было. Они миленькие, но стоят, я думаю, недорого. Главное, они изумительно подходят к казакину. Прямо как будто специально для него предназначались.
— Верно. — Оливия отдала футляр с серьгами матери. — Но, пожалуйста, обещай мне, когда вернешься, оценить их и застраховать.
— Хорошо. Пожалуй. Я так плохо разбираюсь в этих вещах.
И она сунула футляр обратно в сумку.
Вещи были уже распакованы. Пенелопа закрыла пустой чемодан, сунула под кровать и повернулась к зеркалу на стене. Вынула черепаховые шпильки, распустила волосы, и они повисли, прошитые серебряными нитями, но, как и прежде, густые и здоровые, у нее за спиной. Перекинув волосы через плечо, Пенелопа взяла щетку. Оливия с удовольствием наблюдала знакомый с детства ритуал: поднятый локоть, скользящие, длинные взмахи.
— А ты, моя дорогая? Каковы твои планы?
— Я проведу здесь год. Двенадцатимесячный отпуск.
— Твой главный редактор знает, что ты намерена потом вернуться?
— Нет.
— Пойдешь опять работать в «Венеру»?
— Может быть. А может, еще куда-нибудь.
Пенелопа отложила щетку, собрала волосы в жгут, закрутила, заложила и приколола шпильками.
— Теперь схожу умоюсь и буду готова ко всему.
— Не споткнись на ступеньках.
Пенелопа вышла из комнаты. Оливия осталась ждать, сидя на кровати. Ее переполняло чувство благодарности к матери, которая так спокойно и разумно отнеслась к происходящему. Другая ведь сразу принялась бы расспрашивать, строить романтические прожекты насчет дочери и Космо, представлять ее стоящей у алтаря в белом туалете удачного покроя, который хорошо смотрится со спины… При одной только мысли об этом Оливии стало сразу и смешно, и противно до отвращения.
Пенелопа вернулась, и Оливия поднялась ей навстречу.
— Может, пойдем чего-нибудь поедим?
— Да, я немного проголодалась. — Пенелопа взглянула на часы. — Бог ты мой, почти половина двенадцатого!
— Ну и что? Ты в Испании. Пошли посмотрим, что нам приготовила Мария.
Они вышли на веранду. За пределами освещенного круга лежала тьма, плотная и теплая, как синий бархат. Оливия привела мать по каменным ступеням в кухню, где при свечах сидели вокруг стола Космо, Антония, Мария и Томеу, распивали бутылку вина и болтали, перебивая друг друга, — испанская речь звучала с пулеметной частотой кастаньет.
— Она замечательная, — сказал Космо.
Они опять остались одни, и это было как возвращение домой. Голова Оливии лежала на сгибе его руки. Говорили негромко, чтобы не потревожить спящих обитателей дома.
— Мамочка? Я так и знала, что она тебе понравится.
— Теперь понятно, в кого ты такая красивая.
— Да она в сто раз красивее меня.
— Надо ее здесь всем показать. Мне просто не простят, если я позволю ей уехать обратно в Англию, ни с кем не познакомив.
— И значит — что?
— Значит, мы соберем гостей. Не откладывая. Начинаем светскую жизнь.
Званый вечер. Это нечто новое. После той неудачной попойки на яхте Космо и Оливия жили отшельниками, ни с кем даже словом не перебрасывались, если не считать Томеу с Марией да двух-трех местных крестьян, проводивших вечера в баре у Педро.
Она спросила:
— Кого же мы можем пригласить?
Он рассмеялся беззвучно. Она почувствовала, как трясется обнимающая ее рука.
— Дорогая моя, у меня для тебя сюрприз: здесь полно моих знакомых! Ведь я же прожил на острове добрых двадцать пять лет. Или ты думала, что я пария и никто не хочет со мной знаться?
— Я вообще об этом не задумывалась, — честно призналась Оливия. — Мне никто не нужен был, кроме тебя.
— Мне тоже. И потом я считал, что тебе полезно отдохнуть от людей. Я очень о тебе беспокоился, когда ты несколько дней только и знала, что спала. И решил, что лучше будет до поры пожить в тишине.
— А-а. — Она ни о чем подобном не догадывалась, принимая все как должное. Теперь, задним числом, ей самой было странно, что она могла считать естественным это добровольное затворничество. — Я и не задумывалась…
— Вот теперь и подумай. Как тебе эта затея насчет гостей?
— Замечательно.
— Простая вечеринка или настоящий светский раут?
— Да-да, настоящий светский раут. Мамочка привезла вечерний туалет.
На следующее утро за завтраком Космо составлял список гостей. Ему помогала и в то же время мешала Антония.
— Папочка, обязательно пригласи мадам Санже.
— Не могу. Она умерла.
— Ну тогда хоть Антуана. Он-то ведь может приехать.
— Я думал, ты этого назойливого старого козла не выносишь.
— Да, пожалуй, но все равно я хочу его видеть. И мальчиков Хардбек, они такие милые; может быть, они пригласят меня заняться виндсерфингом, и тогда нам не придется платить за уроки.
Наконец список был составлен, и Космо отправился в бар Педро обзванивать всех с приглашениями. Тем из фигурирующих в списке, у кого не было телефона, приглашения доставлялись в письменном виде. Их развозил Томеу на «ситроене» Космо, с риском для самого себя и случайных встречных. Вскоре посыпались ответы, и было определено общее количество ожидаемых гостей: семьдесят человек. На Оливию эта цифра произвела сильное впечатление, но Космо только отмахнулся: всем известно, что он человек скромный, разве это размах?
Был приглашен электрик, который развесил на деревьях возле бассейна гирлянды разноцветных электрических ламп. Томеу мел и прибирал, сколачивал столы на козлах, безжалостно выбивал кресла и подушки. Антонии поручили перетирать рюмки и стаканы, мыть редко используемый чайный сервиз, к ней же обращались, когда надо было отыскать где-нибудь на забытой полке скатерти и салфетки. Оливия и Космо, вооружившись метровым списком, съездили по жаре в город и накупили всякой бакалеи, оливкового масла, жареного миндаля, кубиков льда в мешочках, апельсинов, лимонов и ящиков с винами. Все это время Мария и Пенелопа дружно трудились на кухне, где в полном взаимном согласии, несмотря на отсутствие общего языка, варили свинину, жарили кур, готовили паэлью, взбивали яйца, заваривали соусы, месили тесто и резали помидоры.
Наконец все было готово. Съезд гостей назначили на девять, а в восемь Оливия пошла принять душ и одеться. В комнате на кровати сидел Космо, свежевыбритый и благоухающий, и пытался продеть золотые запонки в манжеты белой рубашки.
— Мария так сильно накрахмалила эти чертовы манжеты, я никак не могу проткнуть петли.
Она села рядом и взяла у него из рук рубашку и запонки. Он обвел ее взглядом.
— Что ты наденешь?
— У меня есть два красивых новых платья, привезенных, чтобы форсить в гостинице «Лос-Пиньос», но так ни разу не надетых. Не было случая. В моей жизни появился ты, и мне пришлось ходить исключительно в лохмотьях.
— И в котором из них ты сегодня будешь?
— Оба висят в шкафу. Выбери ты.
Он встал, открыл дверцы, пошарил, стуча плечиками, пока не нашел платья. Одно было короткое, из алого шифона, с многослойным, напоминающим облако, подолом. Второе — до пола, холодновато-голубое, без талии, ниспадающее прямо от оголенных плеч на шнурочках-бретельках. Космо выбрал голубое, как и предполагала Оливия. Она поцеловала его, а потом, отдав рубашку, ушла в душ, а когда вернулась, он уже ушел. Она не спеша, очень тщательно занялась своим туалетом — наложила грим, причесалась, надела серьги, надушилась. Наконец обула и застегнула изящные босоножки и осторожно просунула руки и голову в платье. Шелк окутал тело, легкий и прохладный, как воздух. Сделаешь шаг, и он летит следом. Платье-ветерок.
Постучали в дверь, Оливия сказала: «Войдите». Это оказалась Антония.
— Оливия, как, по-вашему, это годится?.. — Она оборвала фразу и расширила глаза. — Ух, как красиво! Замечательное платье!
— Спасибо. Ну-ка покажись.
— Мама купила это в Уэйбридже, и мне тоже тогда показалось, что хорошо, но теперь я не уверена. Мария говорит, что недостаточно нарядно.
Антония была одета в белый матросский костюм с плиссированной юбкой и большим квадратным воротником, обшитым синей тесьмой. На коричневых голых ногах — белые сандалии, а золотисто-рыжие волосы заплетены в две косички и связаны вместе синим бантом.
— По-моему, безупречно! Ты вся такая чистая, наглаженная, как… прямо не знаю… как новенький пакетик из магазина.
Антония прыснула.
— Папа́ говорит, чтобы ты шла вниз. Гости начали собираться.
— А моя мама там?
— Да, на веранде, и выглядит потрясающе. Пошли?
Она ухватила Оливию за руку и потащила к дверям. Так, держась за руки, они и спустились на залитую светом веранду. В ее дальнем конце Оливия увидела Пенелопу, беседующую с каким-то кавалером, и убедилась, что не ошиблась: в шелковом казакине и наследственных драгоценностях ее мать была действительно словно настоящая императрица.
С этого вечера жизнь в «Высоте» резко переменилась. Если раньше здесь царило бесцельное одиночество, то теперь у Оливии и Космо не было свободного дня. Посыпались приглашения — на обеды, пикники, чаепития в саду, прогулки на яхте. То и дело подъезжали и отъезжали автомобили, у бассейна постоянно собиралось человек по десять, в том числе и сверстники Антонии. Космо в конце концов сговорился насчет уроков виндсерфинга, и они все вместе стали возить ее к морю. Оливия с Пенелопой лежали на пляже, якобы следя за тем, как Антония постепенно овладевает этим безумно трудным видом спорта, а на самом деле предаваясь любимому занятию Пенелопы — наблюдению за людьми. А так как те, за кем они наблюдали, и старые, и молодые, представали перед ними практически голыми, ее комментарии носили отчасти раблезианский характер, и, уткнув носы в песок, обе давились от смеха. Изредка, как дар судьбы, случались свободные дни. Все оставались дома, не выходя за пределы усадьбы, а Пенелопа в старой соломенной шляпе и выцветшем ситцевом платье, загоревшая до смуглоты, — настоящая островитянка — брала секатор и принималась сражаться с разросшимися розовыми кустами. Все то и дело лезли в бассейн — освежиться и подвигаться. Вечерами же, когда зной спадал, отправлялись на прогулки по окрестностям — через поля, мимо крестьянских домов и дворов, где вместе с козами и курами блаженно копошились в пыли голозадые ребятишки, пока их матери снимали белье с веревок или доставали воду из колодцев.
Когда Пенелопе пришло время уезжать, все были страшно расстроены. От Космо, которого поддержали Оливия и дочь, она получила официальное приглашение погостить еще, но, растроганная, все же отказалась.
— Рыба и гости через трое суток портятся, а я здесь уже целый месяц.
— Но вы не рыба и не гость и нисколько не испортились, — возразила Антония.
— Ты милая девочка, но все-таки мне надо домой. Я и так слишком долго отсутствовала. Мой сад мне этого не простит.
— Но вы ведь приедете еще? Да? — не отступалась та.
Она не ответила. В наступившем молчании Космо заглянул в глаза Оливии.
— Ну, пожалуйста, обещайте, что приедете.
Пенелопа с улыбкой похлопала Антонию по руке:
— Может быть. Когда-нибудь.
Провожать ее в аэропорт поехали все. Она уже попрощалась и ушла, но они подождали, пока взлетит ее самолет. Когда в бескрайнем небе замер гул мотора и причин задерживаться больше не было, все трое печально вернулись к машине, расселись по местам и поехали домой, не нарушая молчания.
— Без нее стало как-то не так, — грустно заметила Антония, когда они шли через террасу.
— Без нее всегда не так, — отозвалась Оливия.
«Подмор Тэтч»
Темпл-Пудли, Глостершир
17 августа
Мои дорогие Оливия и Космо!
Даже не знаю, как выразить свою благодарность за вашу доброту и за чудесный месяц на Ивисе, который вы мне подарили. Живя у вас, я постоянно чувствовала себя дорогой гостьей и купалась в вашей любви, а домой вернулась, наполненная прекрасными воспоминаниями, словно толстый семейный фотоальбом. «Высота» — дом совершенно волшебный, ваши соседи — милые и гостеприимные люди, а сам остров — даже, а вернее, в особенности нудистские пляжи — просто прелесть. Мне всех вас тут очень не хватает, а больше всего Антонии. Давно мне не приходилось дружить с такой обаятельной девочкой. Я бы могла до бесконечности изливать восторги, но вы ведь сами знаете, как я вам благодарна. Извините, что не написала раньше, не было свободной минуты. В саду буйство сорняков, бутоны с розовых кустов все опали. Надо будет, наверное, все-таки завести садовника.
Кстати, о садовнике. По пути домой я остановилась на два дня в Лондоне у Фридманов и побывала на прелестном концерте в Фестивал-холле. Кроме того, я снесла, как ты велела, Оливия, серьги в «Коллигвудс» на оценку. Ты не поверишь, там сказали, что они стоят по меньшей мере 4000 фунтов! Я, конечно, упала в обморок, а потом поинтересовалась, нельзя ли их застраховать, но страховой взнос оказался такой огромный, что я по приезде домой просто сдала их на хранение в банк. Видно, так уж им, бедненьким, суждено — пролежать всю жизнь в банке. Можно, конечно, их продать, но жалко, они такие красивые. И все-таки приятно знать, что они там лежат и всегда можно получить за них деньги, если я вдруг задумаю какое-нибудь безумство вроде приобретения электрической газонокосилки (вот в связи с чем упомянуты садовники).
В прошлое воскресенье приезжали обедать Нэнси и Джордж с детьми, якобы для того, чтобы послушать мой рассказ об Ивисе, а на самом деле чтобы самим рассказать о злодействах Крофтвеев и о приглашении на обед, которое они, Чемберлейны, получили от лорда-наместника. Я накормила их фазанами, свежей цветной капустой со своего огорода, подала еще тертые яблоки с изюмом и орешками, приправленные коньяком, но Мелани и Руперт капризничали, ссорились и даже не старались скрыть недовольства. Нэнси перед ними пасует, а Джорджу до их безобразных манер, похоже, нет дела. Все это меня так раздосадовало, что я нарочно взяла и рассказала Нэнси про серьги. Она сначала слушала равнодушно, — ведь никогда не навещала бедную тетю Этель, — но, когда я дошла до волшебных слов «четыре тысячи фунтов», сразу сделала стойку, как охотничья собака, почуявшая дичь. У Нэнси всегда что на уме, то и на лице, так что я легко прочла ее разыгравшиеся фантазии, вплоть до первого бала Мелани, и как в «Харперс энд Куин» будет напечатано: «Мелани Чемберлейн, одна из самых очаровательных дебютанток сезона, была в белом гипюре и знаменитых золотых с рубинами серьгах своей бабушки». Возможно, я ошибаюсь. Нехорошо это и жестоко по отношению к родной дочери, но все же не могу удержаться, чтобы не поделиться с вами своими забавными наблюдениями.
Спасибо еще раз. Такие невыразительные слова, но чем еще можно выразить благодарность?
С любовью,
ПенелопаПроходили месяцы, и минуло Рождество. Начался февраль. Еще недавно лили дожди, свирепствовали ветры, и Оливия с Космо почти все время сидели дома у полыхающего камина, — как вдруг в воздухе запахло весной, зацвел миндаль, стало тепло, и в полдень уже тянуло посидеть в саду.
Февраль. К этому времени Оливия уже считала, что знает о Космо все. И ошибалась. Однажды под вечер она шла по садовой дорожке от курятника к дому, держа в руке корзинку с яйцами, и услышала, что подъехал автомобиль и остановился под оливой. Как раз когда она поднималась по ступенькам на веранду, показался незнакомый мужчина и пошел к ней. С виду местный, но одет по-городскому: коричневый костюм, белый воротничок, галстук. На голове соломенная шляпа, в руке портфель.
Она вопросительно улыбнулась, он снял шляпу.
— Buenos dias[5].
— Buenos dias.
— Сеньор Гамильтон?
Космо был в доме, писал письма.
— Да?
Он ответил по-английски:
— Нельзя ли мне его повидать? Скажите, что это Карлос Барсельо. Я подожду.
Оливия отправилась на поиски и нашла Космо за письменным столом в гостиной.
— К тебе гость, — объявила она. — Некто Карлос Барсельо.
— Карлос? О господи, я совсем забыл, что он должен приехать. — Космо положил перо и встал. — Пойду поговорю с ним.
Оливия услышала, как он сбежал по лестнице, услышала приветствие:
— Hombre![6]
Она отнесла яйца на кухню и осторожно, по одному, выложила их из корзинки в желтую фарфоровую миску. А потом, снедаемая любопытством, подошла и выглянула в окошко: Космо и господин Барсельо, оживленно беседуя, прошли по направлению к бассейну. Пробыв там недолго, они вернулись к дому и некоторое время осматривали колодец. Потом было слышно, что они вошли внутрь, но не дальше спален. Спустили воду в уборной. Должно быть, господин Барсельо — водопроводчик?
Наконец они снова показались на веранде. Еще немного поболтали, а затем распрощались, и Оливия услышала, как машина господина Барсельо завелась и уехала. Потом на лестнице раздались шаги Космо. Он вернулся в гостиную, подложил полено в камин и, по-видимому, снова принялся за письма.
Было без малого пять часов. Оливия вскипятила воду, заварила чай и, поставив на поднос, отнесла ему.
— Кто это был? — спросила она, расставляя чашки.
Он еще не закончил писать.
— М-м?
— Твой гость, господин Барсельо. Кто он?
Космо обернулся к ней и спросил, посмеиваясь:
— Почему это тебя так заинтересовало?
— Я же его раньше никогда не видела. И для водопроводчика он слишком нарядный.
— Кто тебе сказал, что он водопроводчик?
— А разве нет?
— Господи, конечно нет, — ответил Космо. — Он мой домовладелец.
— Домовладелец?!
— Ну да. Хозяин этого дома.
Оливии вдруг стало холодно, зябко. Она обхватила себя за локти и посмотрела на Космо, ожидая, что он объяснится, растолкует ей, что она не так поняла, что это ошибка.
— То есть этот дом не твой?
— Нет.
— Ты прожил в нем двадцать пять лет, но он тебе не принадлежит?
— Я же сказал: нет.
Для Оливии это звучало чудовищно, почти непристойно. Дом, в котором столько прожито, весь пропитанный их общими воспоминаниями; сад и обихоженный огород; бассейн; вид из окон. Все это чье-то чужое. И всегда было чужим. Собственность Карлоса Барсельо.
— Почему же ты его не купил?
— Он не хочет продавать.
— А другой ты приглядеть не думал?
— Другого я не хочу. — Космо поднялся из-за стола, разогнувшись с трудом, словно устал писать. Отодвинул стул, подошел к камину, где на полке лежали сигары, и, стоя спиной к Оливии, сказал: — К тому же, с тех пор как Антония пошла учиться, я должен платить за школу, и ни на что больше у меня денег нет.
На полке стоял стаканчик с лучинами. Он взял одну, наклонился к огню, зажег.
«Ни на что больше у меня денег нет». О деньгах они никогда не говорили, не было случая. Все эти месяцы, живя с ним вместе, Оливия просто вносила свою долю в ежедневные расходы: платила то за покупки в гастрономе, то за бензин на заправочной станции. Случалось, что у Космо не бывало при себе наличности, и тогда она платила по счету в баре или ресторане. В конце концов, у нее же есть средства, она живет с Космо вместе, но не на его содержании. Теперь ей хотелось задать ему несколько вопросов, но она не решалась, заранее страшась ответов.
Оливия молча смотрела, как он раскурил сигару, выбросил лучину в огонь и повернулся к ней лицом, прислонясь к каминной полке.
— У тебя вид такой, будто ты потрясена до глубины души.
— Я и вправду потрясена. Мне просто не верится. Это полностью противоречит моим представлениям о жизни. Быть владельцем своего дома для меня всегда было очень важно. Человек тогда ощущает себя в безопасности, морально и материально. Наш дом на Оукли-стрит был собственностью нашей матери, и поэтому мы, дети, чувствовали себя уверенно. Никто не мог лишить нас его. Одно из самых чудесных ощущений в жизни — это когда мы приходили с улицы под крышу, закрывали за собой дверь и были у себя дома.
Космо ничего на это не возразил, только поинтересовался:
— А теперешний дом в Лондоне — твоя собственность?
— Еще нет. Но будет через два года, когда я кончу выплачивать за него взносы строительной компании.
— Какая ты деловая дама.
— Не обязательно быть такой уж деловой дамой, чтобы сообразить, что нет смысла двадцать лет платить за аренду дома и в конце концов остаться с пустыми руками.
— Ты считаешь, что я дурак?
— Да нет же, Космо. Я так вовсе не считаю. Мне легко представить, как это получилось, но я, естественно, беспокоюсь.
— Обо мне?
— Да, о тебе. Я только сейчас поняла, что, живя здесь столько времени, ни разу не задумалась о том, на какие средства мы существуем.
— Хочешь это узнать?
— Только если ты сам пожелаешь рассказать.
— На доход от небольших капиталовложений, которые оставил мне дед, и мою армейскую пенсию.
— И все?
— В общей сложности да.
— А если с тобой что-нибудь случится, твоя пенсия умрет вместе с тобой?
— Конечно. — Он улыбнулся и заглянул ей в глаза, стараясь вызвать на ее нахмуренном лице ответную улыбку. — Но не будем пока еще меня хоронить. Мне же только пятьдесят пять.
— А как же Антония?
— Я не могу оставить ей то, чего у меня нет. Будем надеяться, что к тому времени, когда я откину копыта, она найдет себе богатого мужа.
До сих пор они спорили, не горячась. Но эти слова возмутили Оливию до глубины души, и она пришла в ярость.
— Космо, не смей говорить такие безобразные викторианские глупости! Ты обрекаешь Антонию на вечную зависимость от мужчины. У нее должны быть свои деньги! У каждой женщины должна быть какая-то собственность!
— Я не знал, что ты придаешь деньгам такое значение.
— Не придаю я им значения. И никогда не придавала. Деньги важны только тогда, когда их нет. И только для того, чтобы покупать ценности — не гоночные автомобили, меховые манто или круизы на Гавайи и прочий хлам, а настоящие ценности: независимость, свободу, достоинство. И знания. И свободное время.
— Ты ради этого всю жизнь работала? Ради возможности показать нос самодовольному викторианскому отцу семейства?
— Прекрати! Ты хочешь представить меня заядлой феминисткой, эдакой отвратительной грубой лесбиянкой с мерзким плакатом в руках.
На это Космо ничего не ответил, и Оливия сразу же устыдилась своего взрыва, пожалев о сказанных в запальчивости словах. До сих пор они ни разу не ссорились. Ярость ее улеглась, уступив место здравому смыслу, и она постаралась сдержанно ответить на его вопрос:
— Да, отчасти ради этого. Я рассказывала тебе, что отец у нас был несерьезный человек. Он не оказал на меня ни малейшего влияния. И я всю жизнь стремлюсь походить на маму, быть сильной и ни от кого не зависеть. Кроме того, у меня есть внутренняя творческая потребность писать, и журналистская работа, которой я занимаюсь, эту потребность удовлетворяет. Так что мне повезло: я делаю то, что мне нравится, и за это получаю жалованье. Но и это еще не все. Меня тянет неодолимо к делу, к трудной, конфликтной работе, к ответственным решениям, к авралам. Я нуждаюсь в нагрузках, во всплесках адреналина. Это меня вдохновляет.
— И дает тебе счастье?
— Счастье? Ах, Космо! Синей птицы не существует. Конца радуги на земле нет. Скажем так: за работой я никогда не бываю абсолютно несчастной. А без работы не бываю абсолютно счастливой. Это понятно?
— Так что же, ты не была здесь абсолютно счастлива?
— Эти месяцы с тобой особенные, ничего подобного со мной никогда не происходило. Это словно сон, вырванный у времени. И я никогда не перестану испытывать бесконечную благодарность тебе за этот подарок, который у меня никто не сможет отнять. Мне тут было хорошо, по-настоящему хорошо. Но ведь невозможно грезить до бесконечности. Приходит время очнуться. Скоро я начну нервничать, может, даже раздражаться. Ты будешь недоумевать, что со мной, и я, наверное, тоже. А потом я начну потихоньку в себе разбираться, и выяснится, что мне пора вернуться в Лондон, подобрать и связать оборванную нить и продолжить свою жизнь.
— Когда же это будет?
— Наверное, где-то через месяц. В марте.
— Ты же говорила, год. А это только десять месяцев.
— Знаю. Но в апреле опять приедет Антония. Лучше, чтобы меня к тому времени здесь уже не было.
— А мне показалось, что вы друг другу понравились.
— Вот именно. Поэтому я и уеду. Не надо, чтобы она рассчитывала увидеть здесь меня. Кроме того, у меня много дел — например, надо позаботиться о моей дальнейшей работе.
— Тебя возьмут на старое место?
— Если нет, найду новое, так даже лучше.
— Ты очень самоуверенна.
— Ничего не поделаешь.
Космо глубоко вздохнул и с досадой швырнул недокуренную сигару в огонь.
— А если бы я попросил тебя выйти за меня замуж, что бы ты сказала?
Оливия только выговорила безнадежно:
— Ох, Космо!
— Видишь ли, мне трудно представить себе будущее без тебя.
— Если бы я вышла замуж, то только за тебя, — сказала она ему. — Но я уже объясняла тебе в первый же день, как очутилась в твоем доме, что у меня никогда не было желания обзавестись семьей, детьми. Я могу любить кого-то. Восхищаться. Но все равно мне необходимо жить своей, отдельной жизнью. Оставаться собой. Я нуждаюсь в одиночестве.
Он сказал:
— Я тебя люблю.
Оливия перешла через разделяющее их пространство комнаты, обвила его руками за пояс, положила голову ему на плечо. Сквозь свитер и рубашку раздавались толчки его сердца. Она сказала:
— Я заварила чай, а мы его так и не пили. Теперь уж он, конечно, остыл.
— Знаю. — Космо провел ладонью по ее волосам. — Ты еще приедешь на Ивису?
— Наверное, нет.
— А писать будешь, чтобы не потерять связь?
— Буду присылать открытки на Рождество. С птичками.
Он взял ее лицо в ладони, повернул к себе. В его светлых глазах была бесконечная грусть.
— Теперь я знаю, — проговорил он.
— Что?
— Что мне суждено потерять тебя навсегда.
4. Ноэль
В тот же самый день, в непогожую, пасмурную пятницу, в половине пятого, когда Оливия устраивала разнос литературной редакторше, а Нэнси, забыв обо всем, расхаживала по торговому залу «Хэрродса», их брат Ноэль освободил свой рабочий стол в футуристической конторе «Венборн и Уэйнберг, рекламные агенты» и ушел домой. Вообще-то, контора закрывалась в половине шестого, но, когда человек проработал на одном месте пять лет, он может себе позволить иногда уйти с работы раньше времени. Сослуживцы привыкли к его вольностям, никто даже бровью не повел, а на случай, если на пути к лифту ему встретится один из владельцев фирмы, у Ноэля всегда было готово объяснение: «Что-то неможется, грипп. Должно быть, надо пойти лечь в постель».
Владельцы фирмы ему не встретились, и ложиться в постель он вовсе не собирался, а намеревался поехать на уик-энд в Уилтшир к неким Эрли, с которыми был незнаком. С Камиллой Эрли училась вместе Амабель, его теперешняя подруга.
— У них большой съезд гостей по случаю скачек в субботу, так что, я думаю, сойдет, — сказала ему Амабель.
— А отопление там центральное? — поинтересовался предусмотрительный Ноэль; в это время года сидеть и дрожать у жалкого каминного огня ему не улыбалось.
— Господи, конечно! У них вообще денег куры не клюют. За Камиллой в школу приезжали на шикарном «бентли».
Это звучало многообещающе. В таких домах можно завязать полезные знакомства. И теперь, спускаясь в лифте, Ноэль отринул все насущные заботы, устремившись мыслью в завтрашний день. Если Амабель не опоздает, они успеют выбраться из Лондона, прежде чем всеобщий автомобильный исход запрудит дороги. И хорошо бы она приехала на своей машине, на ней бы и отправились. А то двигатель его «ягуара» начал подозрительно постукивать. К тому же если машина будет ее, глядишь, ему и на бензин не придется раскошеливаться.
Он вышел на улицу. Найтсбридж струился дождем и прочно стоял дорожными пробками. Обычно Ноэль ездил с работы к себе в Челси на автобусе, а иногда даже, летними вечерами, шел пешком по Слоун-стрит. Но сейчас, дрожа от холода, он плюнул на траты и остановил такси. Доехал до половины Кингз-роуд, заплатил шоферу, вылез и свернул за угол, откуда до «Вернон-меншенс» уже было рукой подать.
Его машина стояла у края тротуара — «ягуар-Е», отличный, спортивный, но… приобретенный десять лет назад. Ноэль купил его у одного разорившегося парня, само собой, за гроши, но потом, дома, обнаружил, что все днище проржавело, тормоза не схватывают, а бензина «ягуар» жрет неимоверное количество, что твой пьяница — пива. И вот теперь еще стук какой-то. Ноэль задержался, скользнул взглядом по шинам, одну пнул. Приспущена. Если, к несчастью, придется ехать в своем «ягуаре», не останется ничего другого, как заехать в автосервис, чтобы подкачали.
Он перешел на другую сторону. Открыл парадное. Воздух внутри был нечистый, спертый. Рядом с лестницей — лифт, но в свою квартиру на втором этаже Ноэль поднимался пешком. Ступени покрывала ковровая дорожка, и пол в коридоре, куда выходила его квартира, тоже. Он повернул ключ, вошел, закрыл за собой дверь. Все. Он дома.
Дом. Просто анекдот.
Эти квартиры проектировались в расчете на городских дельцов, которые, не выдержав нагрузки ежевечерних поездок домой в Саррей, Сассекс или Бакингемшир, получали возможность в будни переночевать в Лондоне. В них были маленькая прихожая со стенным шкафом, где можно повесить костюм, крохотная ванная, кухня размером с камбуз на прогулочной яхте и жилая комната. За раздвижной дверью находился закуток, который целиком занимала двуспальная кровать, которую невозможно застелить — не подберешься, а летом там было так душно, что Ноэль, махнув рукой, просто ложился на диване.
Меблировка и убранство тоже принадлежали компании, что сильно повышало и без того немалую квартплату. Все было выдержано в бежево-коричневых, безрадостных тонах. Окно в комнате выходило прямо на глухую кирпичную стену нового супермаркета, внизу тесный переулок и ряд гаражей с висячими замками на воротах. Солнце в квартиру не заглядывало, стены, когда-то кремовые, пожелтели, как прогорклый маргарин.
Но зато район хороший. А для Ноэля это было главным — важная черта его рекламного портрета, так же как спортивный автомобиль, рубашки «Харви и Хадсон», обувь от «Гуччи». Все эти подробности имели в его жизни большое значение, потому что из-за семейных неурядиц и финансовых трудностей он в свое время учился не в закрытом интернате, а в дневной школе в Лондоне и потому не завел полезных связей, которые сами идут в руки выпускникам Итона, Харроу или Веллингтона. Это мучило его и в тридцать лет.
После школы получить работу для него не было проблемы. Ему предоставила место семейная фирма отца «Килинг и Филипс» — солидное, с традициями, издательское дело, и он проработал там целых пять лет, а уж потом переключился на рекламу, занятие куда более прибыльное и увлекательное. А вот о положении в обществе ему приходилось заботиться самому, полагаясь исключительно на собственные достоинства. Которых, слава тебе господи, у него хватало. Высокий рост, приятная наружность, способности к спорту и смолоду усвоенные приветливые, обезоруживающе искренние манеры. Он умел быть обаятельным с женщинами старше себя, тактично-почтительным с мужчинами того же возраста и, пустив в ход прямо-таки шпионские терпение и хитрость, легко просочился в высшие сферы лондонского света. Из года в год он числился у титулованных мамаш в списках кавалеров, подлежащих приглашению на первые балы, и, пока длился лондонский сезон, почти не спал — возвращался засветло, стаскивал фрак и крахмальную рубашку, становился под душ и бежал на службу. По субботам и воскресеньям неизменно бывал на регатах и скачках. Получал приглашения в Давос покататься на горных лыжах и в Садерленд на рыбалку, и время от времени его красивое лицо появлялось на глянцевых страницах журнала «Харперс энд Куин» — «за шутливым разговором с любезной хозяйкой».
Словом, Ноэль, конечно, немалого достиг. Но потом ему вдруг все это обрыдло. Захотелось большего. А то застрял человек, и ни туда ни сюда.
Однокомнатная квартирка обступила его со всех сторон и не сводила глаз, дожидаясь решительного шага, будто нищая семья. Ноэль задернул шторы, включил лампу. Стало чуточку легче. Он вытащил из кармана номер «Таймс» и швырнул на столик. Пиджак снял, бросил на кресло. Сходил на кухню, налил виски в стакан, насыпал льда из холодильника. Вернулся в комнату, сел на диван и развернул газету.
Сначала биржевые новости. Акции «Консолидейтед Кейблс» поднялись на один пункт. Затем спортивная страница. Кобыла Алый Цветок пришла четвертой, то есть полсотни выброшено на ветер. Прочел рецензию на новый спектакль. И наконец аукционы. У «Кристи» картина Милле продана без малого за восемьсот тысяч фунтов.
Восемьсот тысяч…
От тоски и зависти к горлу подступила тошнота. Ноэль отложил газету, отпил глоток виски и стал думать о картине Лоренса Стерна «У источника», которая на той неделе будет продаваться в «Бутби». Так же как его сестра Нэнси, он ни во что не ставил работы своего деда, но, в отличие от нее, был в курсе того, что за последнее время в художественном мире резко оживился интерес к викторианской живописи. Он следил за постепенным ростом цен в артистических салонах и знал, что теперь они достигли фантастических сумм, на его взгляд — ни с чем не сообразных.
Курс на высшей точке, а ему нечего предложить на продажу. Лоренс Стерн — его родной дед, а у Ноэля нет ни одной картины. И ни у кого из них нет. В доме на Оукли-стрит висели три, но мама увезла их с собой в Глостершир, хотя ее «Соломенная крыша» кажется от больших полотен совсем низенькой.
Интересно, какая им сейчас цена? Пять сотен, шесть, тысяча? Может, все-таки попробовать поговорить с мамой, вдруг она согласится продать? Если бы это удалось, вырученные деньги пришлось бы, конечно, поделить. Нэнси, во всяком случае, своего не упустит. Но даже тогда ему достался бы порядочный куш. Воображение Ноэля, осторожно принюхиваясь, поползло вперед. Забрезжили ослепительные планы. Можно будет немедленно бросить эту каторжную работу у «Венборна и Уэйнберга» и завести самостоятельное дельце. Не реклама, а брокерские товарные операции, игра по-крупному.
А что для этого нужно? Престижный адрес в Вест-Энде, телефон, компьютер и побольше апломба. Все это у него есть. Доить мелкую сошку, крупным инвесторам предоставлять выгодные условия и так выйти на большую игру. Ноэль ощутил почти эротическое возбуждение. А что? Вполне осуществимо. Не хватает только капитала, чтобы привести всю машину в движение.
«Собиратели ракушек». Пожалуй, надо будет в конце той недели съездить навестить маму. Он у нее, кажется, уже несколько месяцев не был. А она недавно болела — Нэнси сообщила ему об этом по телефону заупокойным голосом, вот и отличный предлог для посещения «Соломенной крыши», а уж там можно будет осторожненько перевести разговор на картины. Если мама начнет упираться или ссылаться на закон о налоге на прибыль, он расскажет о своем приятеле Эдвине Манди, который занимается перепродажей произведений искусства, он большой дока по части вывоза в Европу и вложения выручки в швейцарские банки, где деньги защищены от ненасытной пасти Британского налогового управления. Именно Эдвин первым обратил внимание Ноэля на то, какие огромные деньги платят теперь в Нью-Йорке и Лондоне за аллегорические картины, которые были модны на рубеже веков. Он даже как-то предложил Ноэлю стать его компаньоном. Но тот пораскинул умом и воздержался — Эдвин, как он знал, занимается довольно рискованными делами, а попасть в тюрьму даже на одну неделю ему вовсе не улыбалось.
Все это так трудно. Ноэль глубоко вздохнул, допил виски и взглянул на часы. Четверть шестого. Амабель должна заехать за ним в половине. Он поднялся с дивана, достал из стенного шкафа в прихожей чемодан и быстро сложил все необходимое. В этих делах он был мастер, набил руку за столько-то лет, так что на сборы ушло не больше пяти минут. Затем он разделся и пошел в ванную принимать душ и бриться. Вода в кране обжигала, и это было еще одним преимуществом жизни в этой кроличьей клетке. После горячего душа, выбритый и благоухающий, Ноэль почувствовал себя бодрее. Он оделся во все свежее для поездки за город: хлопчатобумажная рубашка, тонкий свитер, твидовый пиджак. Сумку с туалетными принадлежностями положил в чемодан на самый верх, застегнул молнию. А снятое белье скомкал и запихнул в угол на кухне: авось женщина, которая у него убирает, при случае постирает.
Она делала это не всегда, а иногда и вовсе не приходила. То ли дело, с грустью вспомнилось Ноэлю, было раньше, до того как мама затеяла, не подумав ни о ком, кроме себя, продать дом на Оукли-стрит. Там-то к его услугам было все самое лучшее. Независимость — собственный ключ от входной двери и отдельные две комнаты на верхнем этаже и одновременно все удобства жизни в семье. Горячая вода круглые сутки, топящиеся камины, продукты в кладовке, вино в погребе, летом большой тенистый сад, через дорогу кабак, река в двух шагах. Белье ему стирали, постель убирали, рубашки гладили, и все совершенно бесплатно, ни рулона туалетной бумаги не приходилось покупать на собственные деньги. И притом еще мама, как человек независимый, если и слышала скрип лестницы и женские шаги в коридоре, то делала вид, будто ничего не знает и знать не желает. Ноэлю казалось, что эта блаженная жизнь продлится вечно, что если какие-то перемены и произойдут, то вносить их будет он, и, когда мама объявила ему о своем решении продать дом и уехать из Лондона, у него словно земля из-под ног ушла.
— А как же я? — спросил он. — Мне-то что, черт возьми, делать?
— Милый Ноэль, тебе двадцать три года, и всю жизнь ты прожил в этом доме. Кажется, настало время вылететь из гнезда. Ты наверняка сумеешь устроиться.
Устроиться… Платить за квартиру, покупать еду, виски, тратиться на разные кошмарные вещи, вроде порошка для ванны, оплачивать счета из прачечной!.. Ноэль до последней минуты оставался на Оукли-стрит, все надеялся, что, может быть, мать еще передумает, и съехал, только когда к подъезду уже подали фургон для перевозки ее имущества в Глостершир. Многие его вещи в конце концов тоже уехали туда, потому что в тесной квартирке, которую он снял, не было места для барахла, накопившегося за годы, и теперь они лежали, сложенные в тесной комнатушке, формально выделенной ему в новом доме.
Ездить туда Ноэль старался как можно реже — злился на мать и за то, что она с ним так поступила, и за то, что ей так хорошо живется без него. Могла бы хоть иногда вздохнуть о прежних временах, когда они жили вместе. Но нет, похоже, она не скучала по сыну нисколько. И этого он никак не мог понять, потому что ему-то ее очень не хватало.
От горьких мыслей его отвлекло прибытие Амабель всего с пятнадцатиминутным опозданием. Затренькал звонок, Ноэль открыл дверь. Она стояла перед ним со всем своим багажом — двумя набитыми дорожными сумками, из одной торчала пара грязных зеленых резиновых сапог.
— Привет!
— Ты опоздала.
— Знаю. Прости.
Она вошла, втащила сумки, а он защелкнул замок и поцеловал ее.
— Что тебя задержало?
— Такси не могла поймать, и пробки ужасные.
Такси… Он сник.
— Почему же ты не приехала на своей машине?
— У меня шина проколота. И нет запаски. И потом, я все равно не умею колесо менять.
Этого следовало ожидать. От нее в практических делах ни малейшего проку, такой неорганизованной женщины Ноэль еще никогда не видел. Двадцать лет от роду, росточком с ребенка, птичьи косточки и худа как щепка. Бледная до прозрачности кожа, глаза виноградно-зеленые, большие, в густых ресницах, прямые светлые волосы распущены, то и дело падают на лицо. И одета немыслимо легко для холодного дождливого вечера: джинсы в обтяжку, футболка и кургузая джинсовая курточка. На ногах легкие туфельки, голые лодыжки выглядывают из-под штанин. Ну, словом, с виду — типичный заморыш из трущоб, а на самом деле — достопочтенная Амабель Ремингтон-Люард, дочь лорда Стоквуда, которому принадлежат обширные земельные владения в Лестершире. Именно это обстоятельство и привлекло Ноэля. Да еще ее жалкий, сиротский облик, который неизвестно почему возбуждал его.
Ну что же. Придется ехать в Уилтшир на его «ягуаре». Подавив досаду, он сказал:
— Ладно, пора отправляться. Надо будет еще заехать в сервис подкачать баллоны и заправиться.
— Ах ты господи! Вот неудача!
— Ты дорогу знаешь?
— Куда? В сервис?
— Нет, куда мы едем.
— Ну конечно знаю.
— Как называется их дом?
— «Чарборн». Я была там тысячу раз.
Он глянул на Амабель с высоты своего роста, перевел взгляд на ее багаж — если можно так назвать две жалкие сумки.
— Это вся твоя одежда?
— Я даже резиновые сапоги захватила.
— Амабель, ведь еще зима. И завтра мы должны присутствовать на скачках. Ты пальто взяла?
— Нет, оно осталось в деревне с прошлого воскресенья. — Она пожала костлявыми плечиками. — Дадут там что-нибудь. У Камиллы полно всякого тряпья.
— Не в этом дело. Сначала нам еще надо доехать, а в «ягуаре» печка то работает, то нет. Не хватало только, чтобы ты свалилась мне на руки с воспалением легких.
— Прости.
Но в ее голосе не слышалось ни малейшего раскаяния. Ноэль, подавив досаду, раздвинул дверцы стенного шкафа и стал рыться в его плотно утрамбованном содержимом. Наконец он нашел то, что искал: старое-престарое мужское пальто из толстого темного твида с выцветшим бархатным воротником и на подкладке из потертого кроличьего меха.
— На вот, — сказал он. — Можешь пока надеть.
— Ух ты!
Амабель пришла в восторг, но не от его заботы, как он отлично знал, а от пальто, такого великолепно старого, выцветшего. Она вообще обожала старье и тратила уйму времени и денег у антикварных прилавков на Портобелло-роуд, покупая какие-то обвислые вечерние платья тридцатых годов или ридикюли из бусин. Теперь она взяла у него из рук это заслуженное старинное одеяние и просунула руки в рукава. Конечно, она в нем утонула, но подол все-таки по полу не волочился.
— Какая дивная вещь. Откуда она у тебя?
— Это пальто моего деда. Я успел прихватить его из маминого шкафа, когда она продавала лондонский дом.
— А можно мне взять его насовсем?
— Насовсем нельзя. Но можешь носить до понедельника. Гости на скачках от изумления в обморок попадают, но зато им будет о чем языки чесать.
Амабель завернулась в пальто плотнее и рассмеялась, не столько над его остроумным замечанием, сколько от удовольствия ощутить себя одетой в пальто на меху. И при этом стала так похожа на жадного, вороватого ребенка, что Ноэль сразу ощутил желание, которое при обычных обстоятельствах тут же и удовлетворил бы, затащив ее в постель. Но сейчас не было времени. Это пришлось отложить на потом.
Дорога в Уилтшир оказалась хуже, чем он предвидел. Не переставая лил дождь, машины на магистралях, ведущих из города, двигались в три ряда со скоростью улитки. Но вот наконец они выбрались на шоссе, и можно было немного прибавить газу, а мотор оказался настолько любезен, что не застучал, и даже печка хоть и не в полную силу, но работала.
В начале пути они болтали, потом Амабель умолкла.
Ноэль решил, что она уснула, как всегда в таких случаях, но потом краем глаза уловил какую-то возню рядом на сиденье. Значит, она не спит.
Он спросил:
— Что там у тебя?
— Хруст какой-то.
— Хруст? — Ноэль сразу испугался, вообразив, что это неполадки в моторе и сейчас вспыхнет пламя. Со страху он даже немного сбавил скорость.
— Ага. Шуршит. Ну, знаешь, как будто бумага.
— Да где?
— В пальто где-то. — Она снова пощупала полу. — Тут в кармане дырка, — наверное, что-то попало под подкладку.
Ноэль вздохнул с облегчением и снова разогнал машину до восьмидесяти миль в час.
— Я уж думал, мы сейчас загоримся.
— Я один раз нашла у мамы за подкладкой пальто старую монету в полкроны. Может, там у тебя пятифунтовая бумажка?
— Скорее какое-нибудь старое письмо. Или обертка от конфеты. Приедем — расследуем.
Спустя час они добрались до места. Амабель, как ни странно, дорогу помнила и показала Ноэлю, где свернуть с шоссе. Потом они миновали несколько городков и наконец по извилистой грунтовке через вечереющие поля въехали в деревню Чарборн. Здесь было очень живописно, несмотря на дождь и вечерний сумрак. Вдоль улицы тянулись булыжные тротуарчики и стояли, прячась за палисадниками, дома под камышовыми крышами, мелькнули кабачок, церквушка, началась дубовая аллея. Впереди показались внушительные ворота.
— Приехали.
«Ягуар» завернул в ворота, миновал сторожку, покатил через парк. Ноэль увидел в свете фар белый, приземистый дом в георгианском стиле, радующий глаз пропорциональностью. Зашторенные окна лучились огнями. Описав полукруг по гравию, он остановился у парадного входа и заглушил мотор.
Они вышли из машины, достали из багажника вещи и поднялись по ступеням к закрытой двери. Амабель нащупала кованое кольцо звонка, потянула, но потом сказала: «Ждать не обязательно», — и открыла дверь сама.
Они вошли в прихожую с каменным полом. Сквозь стеклянные двери был виден большой холл, ярко освещенный, с деревянными панелями по стенам и величественной лестницей посредине. Ноэль и Амабель еще переминались у порога, когда в глубине холла открылась дверь и им навстречу засеменила полная седая женщина в цветном переднике поверх бирюзового платья из синтетики. Жена садовника, помогающая по дому ввиду съезда гостей, решил Ноэль.
Она распахнула перед ними стеклянную дверь.
— Здравствуйте. Входите, пожалуйста. Мистер Килинг и мисс Ремингтон-Люард? Правильно. Миссис Эрли только что поднялась к себе принять ванну, а Камилла и полковник пошли в конюшни, но миссис Эрли велела, чтобы я вас встретила и проводила в ваши комнаты. Это весь ваш багаж? Ужасная погода, не правда ли? Как вы доехали? Дождь льет как из ведра.
В мраморном камине полыхал огонь, разливая по дому упоительное тепло. Жена садовника плотно закрыла входную дверь.
— Будьте любезны, идите за мной. Вы сами сможете управиться со своими вещами?
Они смогли. Амабель, закутанная в мужское пальто, поволокла сумку с резиновыми сапогами, а Ноэль нес вторую сумку и свой чемодан. Нагруженные, они вслед за толстухой в переднике стали подниматься по лестнице.
— Остальные гости Камиллы приехали к чаю, — говорила она, — но сейчас все разошлись по своим комнатам переодеваться. И миссис Эрли велела мне сказать вам, что ужин в восемь, но, если вы спуститесь на четверть часа раньше, напитки будут в библиотеке и вы сможете со всеми познакомиться.
На повороте лестницы за аркой начинался коридор. Пол был застлан красной дорожкой, по стенам развешаны гравюры, изображающие лошадей и всадников, и всюду стоял типичный запах загородного дома, содержащегося в образцовом порядке, — аромат свежего постельного белья, лаванды и мебельной полировки.
— Вот ваша комната, милочка. — Женщина распахнула дверь и пропустила Амабель вперед. — А ваша, мистер Килинг, будет вон та… Между ними — ванная. Надеюсь, вы найдете все, что вам будет нужно, но, если чего не окажется, дайте знать.
— Спасибо большое.
— Я скажу миссис Эрли, что вы спуститесь без четверти восемь.
Она удалилась с любезной улыбкой на устах, закрыв за собой дверь. Ноэль, оказавшись в одиночестве, поставил чемодан и огляделся. За годы визитов в чужие дома он так навострил глаз, что мог сразу, едва переступив порог, оценить, на что можно в данном случае рассчитывать, и даже разработал свою шкалу оценок.
Одна звездочка — это низший балл: сырой деревенский коттедж с полным набором своих прелестей — сквозняками, комковатым тюфяком, отвратительной едой и для утоления жажды — одним только пивом. Гостями там обычно были родственники, скучные, с дурно воспитанными детьми. Очутившись среди них, Ноэль, как правило, спохватывался, что у него неотложное дело в городе и в воскресенье с первым же утренним поездом удирал домой. Две звездочки — это, по большей части, дома в армейском округе Саррея, гости — спортивные молодые девушки и юноши — учащиеся Сандхерстской военной академии. Главное развлечение — теннис на замуравевшем корте, завершавшийся коллективным посещением местного кабака. Три звездочки — простые старомодные деревенские усадьбы, множество собак на подворье, лошади в конюшнях, в каминах тлеющие поленья, обильная пища из своих продуктов и почти всегда превосходное вино. А четыре звездочки — высший балл, жилища самых богатых. Дворецкий. Слуги распаковывают твои вещи. В спальне растоплен камин. Четырехзвездочные уик-энды обычно устраивались по случаю первого бала очередной дебютантки где-нибудь по соседству. В саду ставился большой навес, под ним горел фонарь, всю ночь напролет играл оркестр, выписанный из Лондона за фантастическую сумму, и в седьмом часу утра еще лилось рекой шампанское.
Чарборну Ноэль сразу же выставил три звездочки. Что ж, неплохо. Ему, разумеется, отвели не самую лучшую комнату, однако она его вполне устраивала: удобная, со старинной, тяжелой викторианской мебелью и плотными штофными занавесями. Здесь было все, что нужно. Ноэль снял пиджак и бросил его на кровать. Потом прошел через всю комнату и открыл вторую дверь, которая вела в просторную ванную с ковром на полу и огромной ванной в коробе из красного дерева. Оттуда вела еще одна дверь, и он попробовал ручку, ожидая, что она окажется заперта, но дверь открылась, и он попал в комнату Амабель. Все еще в меховом пальто, она наугад вытаскивала из дорожной сумки какие-то вещи, выпускала из рук, и они падали на пол у ее ног, как осенние листья.
Амабель оглянулась и увидела ухмылку на его лице.
— Чего ты смеешься?
— Радуюсь, что у хозяйки этого дома хороший вкус и свободные взгляды.
— В каком смысле? — не поняла Амабель. Она иногда проявляла редкую тупость.
— В том смысле, что в одну комнату она бы нас не поместила ни при каких обстоятельствах, но ее ни в малейшей мере не интересует, что мы вздумаем делать под покровом ночи.
— Ясное дело, — сказала Амабель. — Было время обучаться.
Она пошарила на самом дне сумки и вытащила какое-то длинное черное, скрученное жгутом одеяние.
— Это что? — спросил Ноэль.
— Платье на сегодняшний вечер.
— Слегка мятое.
Амабель встряхнула его на вытянутых руках.
— Это джерси, оно не мнется. Как ты думаешь, вода горячая?
— Наверное.
— Здорово. Я приму ванну. Пусти мне воду, ладно?
Он вернулся в ванную, заткнул пробку и открыл краны. А потом прошел к себе, распаковал чемодан, повесил костюмы в большой шкаф, рубашки уложил в ящики комода. На дне чемодана у него лежала серебряная охотничья фляга. Ему было слышно, что Амабель уже плещется в ванне, и в открытую дверь вползал, клубясь словно дым, ароматный пар. С флягой в руке Ноэль вошел в ванную, налил немного виски в два стаканчика для полоскания и добавил туда холодной воды из-под крана. Амабель начала мыть голову. Она постоянно мыла голову, но волосы от этого чище не казались. Ноэль поставил один из стаканчиков на табурет возле ванны, где она могла достать его, когда промоет глаза. Потом прошел в ее комнату, подобрал с пола дедовское пальто и, вернувшись с ним в ванную, сел на крышку унитаза. Свой стаканчик виски он поставил в мыльницу на раковине и приступил к расследованию.
Пар в ванной немного рассеялся. Амабель подняла голову, откинула с лица мокрые пряди волос, разлепила веки и, сразу увидев стаканчик, взяла его с табурета.
— А ты что там делаешь? — спросила она Ноэля.
— Да вот, ищу пятифунтовую бумажку.
Сквозь толстую материю он нащупал, где шуршит. Нашел дырочку в кармане, надорвал пошире, чтобы пролезла рука, и стал шарить вслепую, продвигая руку все глубже между твидовым верхом и сухой кроличьей мездрой. Ему попадались то пух, то клочки меха. Ноэль сжал зубы — а вдруг там дохлая мышь или еще какая-нибудь гадость — и, победив отвращение, продолжил поиски. Наконец в дальнем углу, у самого шва, его пальцы нащупали то, что искали. Зажав находку, Ноэль осторожно выпростал руку. Пальто соскользнуло с колен на пол, а в пальцах остался сложенный листок тонкой бумаги: старый, пожелтелый, точно драгоценный пергамент.
— Что там? — поинтересовалась Амабель.
— Не пятерка. Похоже, что письма.
— Черт, как обидно.
Ноэль бережно, чтобы не порвать, расправил листок. Тот оказался исписан старомодным наклонным очерком, буквы были выведены тонким металлическим пером.
Дафтон-холл, Линкольншир
8 мая, 1898
Дорогой Стерн!
Благодарю Вас за письмо из Рапалло. Полагаю, сейчас Вы уже снова в Париже. Я рассчитываю, если даст Бог, быть во Франции через месяц, и тогда побывать у Вас в студии, чтобы рассмотреть этюд маслом к «Террасным садам». Когда все будет готово к моему отъезду, я оповещу Вас телеграфом о дате и времени моего посещения.
Искренне Ваш,
Эрнест УолластонНоэль молча прочел письмо. Задумался. Потом поднял голову и посмотрел на Амабель.
— Поразительно, — проговорил он.
— Что там написано?
— Поразительная находка.
— Ноэль, ну прошу тебя, прочитай мне, пожалуйста.
Он прочитал ей. Она выслушала, но ничего не поняла.
— А что тут такого поразительного?
— Это письмо, адресованное моему деду.
— Ну и что?
— Ты слышала когда-нибудь про Лоренса Стерна?
— Не-а.
— Он был художник. Очень известный викторианский живописец.
— Да? Я не знала. То-то у него было такое отличное пальто.
Ноэль пропустил ее нелепое замечание мимо ушей.
— Письмо от Эрнеста Уолластона.
— Он тоже художник?
— Да нет же, дремучая ты невежда, он не художник. Он был промышленник, миллионер. Потом его возвели в пэры, и он стал называться лордом Дафтоном.
— А при чем тут картина… как ее?
— «Террасные сады». Она была заказная. Уолластон заказал ее Лоренсу Стерну для своего дома.
— Я ее не знаю.
— А надо бы знать. Картина знаменитая. Последние десять лет она висит в Нью-Йорке в Метрополитен-музее.
— А что на ней нарисовано?
Ноэль задумался и свел брови, силясь припомнить, как выглядит картина, которую он видел только в репродукциях на страницах художественных журналов.
— Терраса. Видимо, в Италии, недаром же Стерн ездил в Рапалло. Группа женщин у балюстрады; все вокруг в цветущих розовых кустах. Кипарисы и голубое море, и мальчик, играющий на арфе. По-своему очень красиво. — Ноэль еще раз заглянул в письмо, и вдруг все встало на свои места: он ясно представил себе, как было дело. Эрнест Уолластон разбогател, занял высокое положение в обществе, наверное, уже построил себе роскошный дом в Линкольншире, который ему надо было соответственно обставить. Закупил мебель. Во Франции ему на заказ ткали ковры, а так как наследственных фамильных портретов у него не было и полотен Гейнсборо и Зоффани тоже, он заказал по картине самым модным современным живописцам. По тем временам написать живописное полотно было примерно как теперь снять кинофильм. Натура, костюмы, типажи — обо всем надо было позаботиться. Затем, когда это было улажено, художник делал черновой этюд маслом и показывал заказчику. Мастеру предстояло несколько месяцев работы, поэтому он хотел удостовериться, что по завершении ее получится именно то, что желает заказчик, и деньги ему будут уплачены.
— Поняла, — задумчиво сказала Амабель, снова погружаясь в воду, так что волосы всплыли вокруг ее головы, словно у Офелии. — Но я все-таки не пойму, почему ты так разволновался?
— Просто я… я никогда не задумывался об этих этюдах. Я совсем о них забыл.
— А это что-то важное?
— Не знаю. Может быть.
— Тогда выходит, я умница, что обратила внимание на этот хруст?
— Да, выходит, ты умница.
Ноэль сложил листок, сунул в карман, допил виски и встал с унитаза.
— Половина восьмого, — сказал он, взглянув на часы. — Тебе пора привинчивать коньки.
— А ты куда?
— Переодеваться.
Он оставил ее в ванне, прошел в свою комнату и плотно закрыл за собой дверь. А потом тихонько отворил дверь в коридор, вышел и спустился по лестнице в холл, бесшумно шагая по толстым коврам. Внизу он остановился, огляделся. Никого. Только с людской половины доносились голоса и уютное позвякивание посуды вместе с аппетитными ароматами стряпни. Впрочем, ему сейчас было не до этого, мысли его заняты одним: где найти телефон? Он нашелся быстро: на этом же этаже, в застекленном уголке под лестницей. Ноэль забрался туда, закрыл дверь и быстро набрал лондонский номер. Ответили сразу:
— Эдвин Манди слушает.
— Эдвин, это Ноэль Килинг.
— Ноэль! Давно тебя не видно, не слышно. — Голос вальяжный, с хрипотцой и с легким оттенком кокни, от которого Эдвину так и не удалось до конца избавиться. — Как делишки?
— В порядке. Понимаешь, у меня сейчас мало времени. Я тут за городом, в одном доме. Мне просто нужно у тебя кое-что спросить.
— Сделай милость, старина.
— Это по поводу Лоренса Стерна. Знаешь его?
— Да.
— Ты не слыхал, случайно, не появлялись ли на рынке в последнее время его черновые этюды к большим картинам?
Пауза. Потом Эдвин настороженно произнес:
— Вопрос интересный. Почему ты спрашиваешь? У тебя они есть, что ли?
— Нет. Я не знаю даже, существуют ли они вообще. Потому и позвонил тебе.
— Ни в одном салоне, насколько мне известно, их к продаже не предлагали. Но ведь есть еще много мелких перекупщиков по всей стране.
— И сколько… — Ноэль кашлянул и попробовал сформулировать вопрос по-другому: — При теперешнем состоянии рынка, на сколько, по-твоему, такой этюд потянет?
— Смотря к какой он картине. Если к одной из знаменитых, то тысячи на четыре или пять… Но это я просто так говорю, старина, наобум. Точно я смогу сказать, только когда увижу своими глазами.
— Я же сказал, у меня ничего нет.
— А чего же звонишь?
— Просто я вдруг сообразил, что эти этюды могут где-то лежать, а мы про них даже не знаем.
— То есть в доме твоей матери?
— Не знаю. Где-то же они должны быть.
— Если найдешь, — светским тоном сказал Эдвин, — реализовать их, я надеюсь, ты поручишь мне?
Однако Ноэль поостерегся так сразу связывать себя обещанием.
— Сначала до них добраться надо, — ответил он и, прежде чем Эдвин успел еще что-то сказать, поспешил закончить разговор: — Я должен идти, Эдвин. Ужин через пять минут, а я еще даже не переоделся. Спасибо за помощь и прости, что побеспокоил.
— Никакого беспокойства, мой мальчик. Рад, что помог. Интересная возможность. Удачной охоты.
Ноэль в задумчивости повесил трубку. Четыре или пять тысяч. О таких суммах он и помыслить не мог. Он вздохнул полной грудью и вышел в холл. Здесь по-прежнему никого не было, а так как никто его не видел, то и деньги за разговор оставлять не обязательно.
5. Хэнк
В самую последнюю минуту, когда уже были завершены все приготовления к ужину a deux[7] с Хэнком Спотсвудом, Оливия вдруг спохватилась, что не успела позвонить матери и договориться насчет своего приезда в субботу. Белый телефонный аппарат стоял рядом с диваном, на котором она сидела, но, уже сняв трубку и начав набирать номер, она услышала, что в переулок медленно въехало такси. Почему-то она сразу почувствовала, что это Хэнк, и заколебалась. Пенелопа если уж говорила по телефону, то любила выкладывать и выслушивать все новости, так что не могло быть и речи о том, чтобы просто сообщить о своем предстоящем приезде и повесить трубку. Такси остановилось у ее дома. Оливия перестала крутить телефонный диск и положила трубку на рычаг. Лучше позвонить потом. Мамочка ложится не раньше полуночи.
Оливия поднялась с дивана, поправила примятую подушку и осмотрелась, чтобы удостовериться, что в квартире все безупречно. Освещение приглушенное, напитки выставлены, тут же лед в ведерке, стереосистема играет тихую, едва слышную музыку. Оливия повернулась к зеркалу над камином, тронула волосы, поправила воротник кремовой атласной блузы от Шанель. В ушах у нее были жемчужные серьги, и вечерний макияж тоже был мягкого жемчужного тона, нежный и очень женственный, совсем не похожий на ее яркий дневной грим.
Слышно было, как открылась и закрылась калитка. Шаги. Звонок у входной двери. Оливия неторопливо пошла открывать.
— Добрый вечер.
Он стоял у порога под дождем. Красивый, мужественный мужчина лет под пятьдесят, держащий в руке, как и можно было предвидеть, букет красных роз на длинных стеблях.
— Здравствуйте.
— Входите. Жуткая погода. Но вы все-таки добрались.
— Ясное дело. Без проблем. — Он вошел, она закрыла за ним дверь, и он протянул ей розы: — Небольшое приношение.
Он улыбнулся. Она и забыла, какая у него обаятельная улыбка и ровные, очень белые, американские зубы.
— Чудесные! — Она приняла у него букет и машинально наклонилась, чтобы понюхать, но розы были парниковые, без запаха. — Вы очень любезны. Снимайте пальто и наливайте себе чего-нибудь выпить, а я пойду поставлю их в воду.
Она вышла с букетом в кухню, достала вазу, наполнила ее водой и сунула туда розы прямо как были, не тратя времени на аранжировку. Они сразу же сами живописно раскинулись в вазе. С цветами в руке Оливия возвратилась в гостиную и торжественно поставила вазу на видное место — на бюро. Красные розы на фоне белой стены зарделись, словно капли крови.
— Это вы замечательно придумали, — обернувшись к гостю, сказала она. — Вы тут выпили чего-нибудь?
— Да. Стаканчик виски. Я никаких правил не нарушил? — Он поставил стакан. — А вам что налить?
— То же. С водой и со льдом.
Она забралась с ногами на диван и, непринужденно устроившись в уголке, стала смотреть, как он управляется с бутылками и стаканами. Он подал ей виски, а сам уселся в кресло по ту сторону камина. И приветственно поднял свой стакан.
— За здоровье, — сказала Оливия.
Выпили. Разговорились. Беседа лилась легко и непринужденно. Он выразил восхищение ее домом, заинтересовался висящими на стене картинами, спросил, где она работает и давно ли знает Риджвеев, у которых они два дня назад познакомились. А затем в ответ на ее тактичные вопросы стал рассказывать о себе. Его бизнес — ковры, в Англию он приехал на международную конференцию по текстилю. Остановился в «Рице». Сам из Нью-Йорка, но переехал на работу в Джорджию, город Долтон.
— Это, должно быть, серьезные перемены в жизни. Нью-Йорк, и вдруг Джорджия.
— Да, конечно. — Он повертел в ладонях стакан. — Но переезд пришелся на удобный момент: незадолго перед тем мы расстались с женой, и перемены в быту прошли довольно безболезненно.
— Мне очень жаль.
— Не о чем жалеть. Обычное дело.
— А дети у вас есть?
— Двое. Подростки. Мальчик и девочка.
— Удается с ними видеться?
— А как же. Они проводят у меня летние каникулы. Детям на юге хорошо. Можно в любое время года играть в теннис, ездить верхом, купаться. Мы вступили в местный клуб, и они завели много знакомств среди сверстников.
— Да, это здорово.
Оба замолчали. Оливия тактично ждала, чтобы он, если захочет, мог достать бумажник и показать фотографии. Но, к счастью, Хэнк никаких фотографий показывать не стал. Оливии он все больше и больше нравился. Она сказала:
— У вас стакан пустой. Налить еще?
Разговор продолжался. Они перешли к более серьезным темам: к американской политике, экономическому равновесию между Англией и Америкой. Его взгляды оказались либеральными и прагматическими; он, правда, голосовал, по его собственным словам, за республиканцев, однако чувствовалось, что проблемы третьего мира его глубоко заботят.
Оливия между тем покосилась на часы и с удивлением увидела, что уже девять.
— По-моему, пора поесть, — сказала она.
Он встал, взял стаканы, из которых они пили, и пошел следом за ней — в ее маленькую столовую. Оливия включила слабый свет, и стал виден изысканно накрытый стол, лучащийся хрусталем и серебром, с корзинкой ранних лилий посредине. Несмотря на полумрак, Хэнк сразу обратил внимание на синюю стену, всю увешанную фотографиями в рамочках, и очень оживился.
— Смотрите-ка! До чего здорово придумано.
— Семейные фотографии, как правило, некуда девать. Я долго думала и решила вопрос радикально: заклеила ими стену.
Она прошла за стойку кухоньки, чтобы взять паштет и черный хлеб, а он стоял к ней спиной и разглядывал снимки, точно любитель живописи в картинной галерее.
— Кто эта красотка?
— Моя сестра Нэнси.
— Она очаровательна.
— Да. Была. Но теперь очень сдала, что называется, расползлась, постарела. А девушкой и вправду была очаровательна. Тут она снята незадолго до свадьбы.
— Где она живет?
— В Глостершире. У нее двое несносных детей и зануда-муж. А предел счастья для нее — это тащить по скаковому полю пару ньюфаундлендов на поводках и орать приветствия всем знакомым на трибунах. — Хэнк обернулся, на лице у него было написано глубочайшее недоумение. Оливия рассмеялась. — Вы, конечно, не понимаете, о чем я говорю?
— Только самый общий смысл. — Он вернулся к разглядыванию снимков. — А кто эта красивая дама?
— Это мама.
— А портрет отца у вас тут есть?
— Нет. Отца нет в живых. А это мой брат Ноэль. Красавец-мужчина с голубыми глазами.
— Действительно хорош собой. Он женат?
— Нет. Ему уже почти тридцать, а он все еще холост.
— У него, конечно, есть девушка?
— Такой, чтобы жила с ним вместе, нет. И никогда не было. Он всю жизнь боится потерять свободу. Знаете, из тех, кто не может принять приглашение на вечеринку из страха, что поступит другое, более престижное.
Хэнк беззвучно рассмеялся.
— Вы беспощадны к своим родным.
— Знаю. Но какой смысл цепляться за сентиментальные иллюзии, особенно в моем возрасте?
Она вышла из-за стойки и расставила на столе паштет, масло и черный хлеб с поджаристой корочкой. Потом взяла спички и зажгла свечи.
— А кто это?
— На которую вы смотрите?
— Вот. Мужчина с девочкой.
— А, это. — Оливия подошла и встала с ним рядом. — Этого мужчину зовут Космо Гамильтон. Рядом его дочь Антония.
— Миловидная девчушка.
— Этот снимок я сделала пять лет назад. Теперь ей должно быть восемнадцать.
— Ваши родственники?
— Нет, это друг. Бывший друг. Любовник, если точнее. У него дом на Ивисе. Пять лет назад я оставила работу и целый год прожила там с ним.
Хэнк вздернул брови:
— Целый год! Прожить столько с человеком — это большой срок.
— Время пролетело очень быстро.
Она чувствовала на себе его взгляд.
— Вы его любили?
— Да. Больше, чем кого бы то ни было в жизни.
— А почему вы не вышли за него замуж? Или он был женат?
— Нет, жены у него не было. Но я не хотела выходить за него, потому что не хотела выходить ни за кого. И теперь не хочу.
— Вы с ним видитесь?
— Нет. Я с ним простилась, и на том наш роман закончился.
— А что его дочка, Антония?
— Не знаю.
— Вы не переписываетесь?
Оливия пожала плечами.
— Я посылаю ему поздравительную открытку каждое Рождество. Так мы уговорились. Одну открытку в год. С птичкой.
— Не особенно-то щедро, по-моему.
— Да, в самом деле. Вам, наверное, трудно это понять, но главное, Космо понимает. — Она улыбнулась. — А теперь, когда с моими близкими покончено, не пора ли налить вина и что-нибудь поесть?
Он сказал:
— Завтра суббота. Что вы обычно делаете по субботам?
— Иногда уезжаю из города до понедельника. Иногда остаюсь дома. Расслабляюсь. Распоясываюсь. Зову знакомых выпить и поболтать.
— У вас уже есть планы на завтра?
— А что?
— Я не назначал на субботу никаких встреч и подумал, может, возьмем машину и поедем куда-нибудь вместе? Вы бы показали мне вашу английскую природу, о которой я столько читал, но никогда не было времени поехать посмотреть своими глазами.
Ужин кончился. Они оставили тарелки на столе, выключили свет и с кофе и коньяком вернулись к камину. Теперь оба сидели на диване вполоборота друг к другу: темная голова Оливии откинута на малиновую индийскую подушку, ноги подогнуты, одна лакированная туфелька соскочила и лежит на ковре.
Она сказала:
— Я хотела завтра съездить в Глостершир к матери.
— Она вас ждет?
— Да нет. Я думала созвониться с ней перед сном.
— А это обязательно?
Оливия задумалась. Она уже решила, что поедет, а когда решение принято, можно больше не беспокоиться. Но теперь…
— Не то чтобы обязательно, — ответила она. — Просто мама была нездорова, и я у нее давно не была, а надо бы.
— А я не мог бы вас уговорить перенести поездку на другой день?
Она улыбнулась, отпила еще глоток крепкого черного кофе и твердо поставила чашечку точно на середину блюдца.
— Как же вы будете меня уговаривать?
— Ну, я попытался бы соблазнить вас обедом в четырехзвездочном ресторане. Или катанием на пароходе по реке. Или прогулкой по лугам. Тем, что вам больше нравится.
Оливия обдумала приманки.
— Наверное, я могла бы отложить поездку к маме на неделю. Завтра она меня не ждет, так что не огорчится.
— Значит, вы согласны?
Она приняла решение:
— Да.
— Мне взять машину напрокат?
— У меня есть своя, в отличном состоянии.
— Куда же мы отправимся?
Оливия пожала плечами:
— В Новый лес. Вверх по берегу Темзы до Хенли. Можно поехать в Кент и посмотреть сады в Сиссингхерсте.
— Отложим решение на завтра?
— Можно и так.
— В котором часу назначим выезд?
— Надо бы пораньше. Чтобы успеть выбраться из города, пока улицы не запружены.
— В таком случае мне, пожалуй, пора возвращаться к себе в отель.
— Да, — сказала Оливия. — Пожалуй, пора.
Но ни он, ни она не двинулись с места. Их взгляды устремились навстречу друг другу с противоположных концов большого белого дивана. Соприкоснулись. В комнате стояла тишина, пленка в магнитофоне кончилась. По окнам струился дождь. Мимо дома проехала машина. Часы на каминной полке отсчитывали секунду за секундой. Был уже почти час ночи.
Наконец он, как она и ожидала, придвинулся к ней, обнял одной рукой за плечи, притянул к себе. Теперь ее голова уже не покоилась на малиновой подушке, а легла на его теплую, крепкую грудь. Свободной рукой он отвел волосы с ее щеки, повернул к себе за подбородок и, наклонившись, поцеловал в губы. Рука его с подбородка скользнула ей на шею и дальше вниз, на маленькую выпуклость груди.
— Я весь вечер этого хотел, — проговорил он.
— А я весь вечер этого ждала.
— Мы выезжаем рано утром… Тебе не кажется, что мне бессмысленно уезжать в «Риц» ради каких-то четырех часов сна, а потом возвращаться обратно?
— Да, ужасно глупо.
— Можно я останусь?
— Отчего же нет?
Он отстранился и посмотрел ей в лицо. В его взгляде была странная смесь желания и усмешки.
— Есть, правда, одно препятствие, — сказал он. — У меня нет бритвы и зубной щетки.
— У меня имеется и то и другое. Нераспечатанное. На всякий случай.
Он сказал, смеясь:
— Ты поразительная женщина.
— Да, мне говорили.
Оливия, как всегда, проснулась рано. Часы показывали половину восьмого. В просвет между шторами просачивался холодный свежий утренний воздух. Только-только рассвело. На небе ни облачка. Кажется, погода обещает быть хорошей.
Оливия немножко полежала, сонная, расслабленная, с улыбкой вспоминая минувшую ночь и предвкушая удовольствия предстоящего дня. Потом, повернув голову, стала с удовольствием разглядывать лицо мужчины, спящего на другой стороне ее широкой кровати. Одна подогнутая рука под головой, другая — поверх пушистого белого одеяла, загорелая, как и все его крепкое, моложавое тело, и покрытая мягким золотистым пушком. Оливия протянула руку и погладила его локоть, осторожно, как какую-нибудь фарфоровую безделушку, просто ради удовольствия ощутить кончиками пальцев фактуру и форму.
Легкое прикосновение не потревожило его сон, и, когда она отняла пальцы, он продолжал спать.
А Оливия окончательно проснулась и почувствовала прилив бешеной энергии. Ей захотелось поскорее отправиться в путь. Осторожно отвернув одеяло, она вылезла из постели, сунула ноги в домашние туфли, надела розовый шерстяной халат, перетянула тонкую талию поясом и, поплотнее закрыв за собой дверь спальни, спустилась вниз.
День действительно обещал быть прекрасным. Ночью чуть-чуть подморозило, но бледное утреннее небо было безоблачно, и первые низкие лучи зимнего солнца уже легли вдоль пустынной улицы. Оливия отворила входную дверь, внесла молоко на кухню и поставила бутылки в холодильник. Потом собрала со стола оставшуюся от ужина посуду, сунула ее в моечную машину и накрыла стол к завтраку. Она насыпала кофе в кофеварку, достала бекон и яйца, а также коробку сухих хлопьев. Потом зашла в гостиную, поправила диванные подушки, собрала и вынесла грязные стаканы и кофейные чашки, развела огонь в камине. Подаренные Хэнком розы начали раскрываться, протягивая лепестки, точно молящие руки. Оливия опять понюхала их, но они, бедняжки, по-прежнему не пахли. «Не обращайте внимания, — сказала она им. — Зато вы красивые. Вот и будьте довольны тем, что имеете».
Стукнула крышка почтового ящика, на половичок под дверью упала прибывшая почта. Оливия сделала шаг к двери, но в это время зазвонил телефон, и она, бросившись к аппарату, поспешила снять трубку, чтобы пронзительный звонок не разбудил спящего наверху Хэнка.
— Алло?
В зеркале над каминной полкой она увидела свое отражение — утреннее обнаженное лицо, прядь волос поперек щеки. Убрала волосы с лица и, так как никто не отвечал, повторила еще раз:
— Ал-ло-о?
В трубке затрещало, загудело, и женский голос произнес:
— Оливия?
— Да.
— Оливия, это Антония.
— Антония?
— Антония Гамильтон. Дочь Космо.
— Антония! — Оливия с ногами забралась в угол дивана и обхватила телефонную трубку ладонями. — Ты откуда говоришь?
— С Ивисы.
— А слышно хорошо, как будто ты где-то по соседству.
— Знаю. Спасибо хоть тут хорошая линия.
Юный голос звучал как-то странно. Оливия перестала улыбаться и сильнее сдавила белую гладкую трубку.
— А ты что звонишь?
— Оливия, я должна была тебе сообщить. К сожалению, у меня печальная новость. Папа умер. Умер. Умер Космо.
— Умер, — повторила Оливия шепотом, не сознавая того, что говорит вслух.
— Он скончался в четверг поздно ночью. В клинике… Вчера были похороны.
— Но… — Космо умер. Не может быть. — Но… как же? Отчего?
— Я… я не могу сказать по телефону.
Антония на Ивисе без Космо.
— Откуда ты звонишь?
— От Педро.
— Где ты живешь?
— Дома.
— Ты одна там?
— Нет. Томеу и Мария перебрались сюда ко мне. Они очень мне помогли.
— Но…
— Оливия, мне надо в Лондон. Я не могу здесь оставаться. Во-первых, дом не мой… и вообще, по тысяче разных причин. И я должна подыскать себе работу. Если я приеду, можно мне несколько дней пожить у тебя, пока я не устроюсь? Я бы не стала тебя просить о такой услуге, но больше некого.
Оливия колебалась, проклиная сама себя за это, но всем существом восставая против мысли о чьем бы то ни было, даже и этой девочки, вторжении в драгоценную обособленность своего дома и своей личной жизни.
— А… твоя мама?
— Она вышла замуж. Живет теперь на севере, в Хаддерсфильде. А я не хочу туда… Это я тоже потом объясню. Всего на несколько дней, понимаешь? Мне только надо наладить свою жизнь.
— Когда ты думаешь приехать?
— На той неделе. В четверг, может быть, если достану билет. Оливия, это будет всего несколько дней, пока я не налажу свою жизнь.
Ее умоляющий голосок звучал беспомощно и жалобно, как когда-то в детстве. Оливии вдруг отчетливо вспомнилось, как она увидела Антонию в первый раз — бегущей по гранитному полу аэропорта Ивисы и с разбегу бросающейся на шею Космо. Как ты можешь, эгоистка несчастная? Ведь это Антония тебя просит о помощи, дочь Космо, а Космо больше нет, и то, что она обратились к тебе, для тебя величайшая честь. Хоть раз в жизни перестань думать только о себе.
И с приветливой, успокаивающей улыбкой, словно Антония могла ее видеть, Оливия твердо сказала, стараясь придать своему голосу побольше уверенности и тепла:
— Конечно приезжай. Сообщи мне номер рейса, я встречу тебя в Хитроу. Тогда обо всем и поговорим.
— Ой, ты просто ангел! Я тебе ну нисколечко не буду мешать.
— Ну конечно не будешь. — Практичный, натренированный ум Оливии уже переключился на возможные проблемы: — Как у тебя с деньгами?
— С деньгами?.. — растерянно переспросила Антония, как будто о таких вещах даже не задумывалась; возможно, так и было. — Вроде бы нормально.
— На авиабилет хватит?
— Да, я думаю. Только-только.
— Сообщи о приезде, я буду ждать.
— Спасибо, спасибо, Оливия! И я… мне очень грустно это, насчет папы…
— Мне тоже грустно. — Это было более чем мягко сказано. Оливия закрыла глаза, чтобы как-то отгородиться от не до конца осознанной боли. — Он очень много для меня значил.
— Ага. — Было слышно, что Антония плачет. Оливия почти ощутила кожей влагу ее слез. — До свидания, Оливия.
— До свидания.
Антония положила трубку.
Немного спустя заторможенным движением Оливия тоже опустила белую трубку своего телефона. И сразу почувствовала страшный холод. Обхватив себя руками, забившись в угол дивана, она смотрела на свою нарядную, чистую комнату. Ничего не изменилось, все на месте, и тем не менее все не так, как было. Нет больше Космо, Космо умер. Остаток жизни ей предстоит теперь прожить в мире, где Космо нет. Она вспомнила теплый вечер, когда они сидели за столиком перед баром Педро и какой-то юноша играл на гитаре концерт Родриго, наполняя ночь музыкой Испании. Почему именно тот вечер, ведь у нее осталась от жизни с Космо целая сокровищница воспоминаний?
На лестнице раздались шаги. Оливия подняла голову. Сверху к ней спускался Хэнк Спотсвуд. Он был в ее белом мохнатом халате — вид нисколько не комичный, потому что халат, вообще-то, был мужской и ему вполне по размеру. Слава богу, что он не смешон сейчас, иначе она бы, кажется, не вынесла. И это бесконечно глупо, потому что не все ли равно, смешон он или нет, когда Космо умер?
Она смотрела на него и молчала. Он сказал:
— Я слышал, телефон звонил.
— А я надеялась, что он тебя не разбудит.
Оливия не знала, что лицо у нее серое и черные глаза — как две дыры. Он спросил:
— Что случилось?
У него была легкая светлая щетина на щеках и всклокоченные волосы. Оливия вспомнила минувшую ночь и порадовалась, что это был он.
— Умер Космо. Тот человек, о котором я тебе вчера рассказывала. На Ивисе.
— О господи!
Хэнк пересек комнату, сел рядом, обхватил ее и прижал к груди, как ребенка, которого надо утешить. Она уткнулась лицом в шершавую ткань халата. Ей так хотелось заплакать! Чтобы хлынули из глаз слезы, вырвалось наружу горе, сдавившее сердце. Но слез не было. Оливия с детства не умела плакать.
— А кто звонил? — спросил Хэнк.
— Его дочь. Антония. Бедная девочка. Он умер в четверг ночью, вчера были похороны. Больше я ничего не знаю.
— Сколько ему было лет?
— Я думаю… около шестидесяти. Но он был такой молодой!
— Что случилось?
— Не знаю. Она не хотела рассказывать по телефону. Сказала только, что он скончался в клинике. Она… она хочет приехать в Лондон. Она приедет на той неделе. И поживет несколько дней у меня.
Он промолчал, только еще крепче обнял ее, легонько похлопывая по плечу, словно испуганную нервную лошадь. И она понемногу успокоилась. Согрелась. Положила ладони ему на грудь, уперлась и отодвинулась — снова прежняя Оливия, полностью владеющая собой.
— Прости, — проговорила она. — Такая эмоциональность мне обычно не свойственна.
— Может быть, я могу чем-то помочь?
— Здесь никто и ничем не может помочь. Все кончено.
— А как насчет сегодняшней поездки? Ты не хочешь все отменить? Я немедленно исчезну с твоих глаз, если ты захочешь остаться одна.
— Нет, я не хочу остаться одна. Меньше всего мне сейчас нужно быть одной. — Она собрала и расставила по местам свои разбежавшиеся мысли. Первым делом надо сообщить о смерти Космо маме. — Но, боюсь, в Сиссингхерст или Хенли мы на этот раз не попадем. Мне все же придется поехать в Глостершир к маме. Я сказала тебе, что она была нездорова, но на самом деле у нее были проблемы с сердцем. И она очень хорошо относилась к Космо. Когда я жила на Ивисе, она приехала и гостила у нас целый месяц. Это было счастливое время. Наверное, самое счастливое в моей жизни. Поэтому я должна сказать ей, что он умер, и должна при этом быть рядом с ней. — Оливия заглянула ему в глаза. — Может быть, поедешь со мной? Это ужасно далеко, конечно, но мамочка накормит нас обедом, и можно будет спокойно посидеть у нее до вечера.
— Поеду с большим удовольствием. И машину поведу.
Твердый, как скала. Оливия благодарно улыбнулась.
— Сейчас я ей позвоню. — Она потянулась за трубкой. — Скажу, чтобы ждала нас к обеду.
— А нельзя нам взять ее с собой и поехать пообедать где-нибудь?
— Ты не знаешь мою мамочку, — ответила Оливия, набирая номер.
Хэнк не стал спорить. Поднявшись с дивана, он сказал:
— Кажется, кофе уже капает. Что, если я приготовлю завтрак?
Они выехали в девять, Оливия — на пассажирском сиденье своего темно-зеленого «альфасада», Хэнк — за рулем. Поначалу он был напряжен, каждую минуту напоминая себе, что здесь левостороннее движение, но потом, залив бак у бензоколонки, стал понемногу осваиваться и набирать скорость. Подъезжая к Оксфорду, они уже делали добрых семьдесят миль в час.
В пути не разговаривали. Все его внимание было сосредоточено на встречных и попутных машинах и на извивах большого шоссе. А Оливия рада была помолчать, она сидела, зарывшись подбородком в меховой воротник и провожая невидящими глазами проносящиеся мимо унылые пейзажи.
Но после Оксфорда стало лучше. Был ясный, свежий зимний день, невысокое солнышко, поднявшись по краю в холодное небо, растопило иней на лугу и на пашне и отбросило поперек дороги кружевные тени оголенных деревьев. Фермеры начали пахоту, тучи чаек вились над тракторами и свежевывернутыми пластами черной земли. «Альфасад» проезжал через маленькие городки, кипящие субботним оживлением. Вдоль узких улочек стояли припаркованные семейные автомашины, доставившие жителей отдаленных деревень в город за покупками, по тротуарам сновали мамаши с детьми и колясками и стояли в ряд палатки, заваленные грудами яркой одежды, пластиковыми игрушками, надувными шариками, цветами, свежими фруктами и овощами. Еще дальше, во дворе пивной, собрались местные охотники — лошади били подковами, скулили и взлаивали псы, дудели охотничьи рога, громко переговаривались всадники в нарядных алых фраках. Хэнк едва верил собственным глазам.
— Ну, ты посмотри только! — восхитился он и хотел было остановиться, чтобы налюбоваться вдоволь, но молодой полисмен сделал ему знак не задерживаясь следовать дальше. Хэнк разочарованно бросил последний взгляд на это истинно английское зрелище и дал газ.
— Просто сцена из кинофильма: старая корчма, мощеный двор. Надо же, а у меня нет с собой фотоаппарата.
Оливии было приятно это слышать.
— Вот, а ты собирался поездить по живописным местам. Мог бы всю страну исколесить, а такого не увидеть.
— Да, похоже, у меня сегодня счастливый день.
Уже начинались Котсуолдские холмы. Сузившаяся дорога извивалась среди мокрых лугов, бежала по старинным каменным мостикам. Дома и фермы, сложенные из медвяного котсуолдского камня, золотились в солнечном свете, при каждом — цветник, который летом запестреет всеми цветами радуги, и фруктовый сад, где росли ухоженные яблони и сливы.
— Понятно, почему твоя мать решила поселиться в этих местах. Нигде не видел такой красивой природы. И столько зелени.
— Как это ни странно, но мамочка не из-за красивых пейзажей сюда переехала. Когда продали лондонский дом, у нее было твердое намерение поселиться в Корнуолле. Она жила там в молодости, и я думаю, ей очень хотелось возвратиться в те края. Но моя сестра Нэнси считала, что это слишком далеко, далеко от нас, и нашла ей этот домик. И вышло, как оказалось, к лучшему, хотя тогда я сердилась на Нэнси за то, что она вмешивается.
— Ваша мать живет одна?
— Да. И это проблема. Доктора говорят, что ей нужен кто-нибудь — компаньонка или экономка, но я-то знаю, что присутствие чужого человека будет ей в тягость. Она страшно независимая, да и не такая уж старая, всего шестьдесят четыре года. По-моему, обходиться с мамочкой как с выжившей из ума старухой унизительно для нее. Она целые дни занята: готовит, работает в огороде, принимает гостей, читает все, что достанет, музыку слушает, ведет длинные, интересные разговоры по телефону. А иногда соберется и уедет за границу в гости к кому-нибудь из знакомых, обычно во Францию. Ее отец был художником, и в молодости она много жила в Париже. — Оливия с улыбкой обернулась к Хэнку. — Зачем только я тебе все это рассказываю? Ты же скоро сам все увидишь.
— А на Ивисе ей понравилось?
— Очень. Космо жил в бывшем крестьянском доме, на горе. Совсем деревенская жизнь, как раз в мамином вкусе. Чуть выдавалась свободная минутка, как она тут же хваталась за садовые ножницы и уходила в сад, будто у себя дома.
— Она знакома с Антонией?
— Да. Они жили там у нас в одно и то же время. И стали большими друзьями. Никаких возрастных барьеров. Мама удивительно умеет находить общий язык с молодежью. Гораздо лучше, чем я. — Она примолкла, а потом добавила в неожиданном порыве искренности: — Я и сейчас еще не вполне уверена, что поступаю правильно: конечно, я хочу помочь дочери Космо, но меня пугает, что кто-то у меня поселится даже на короткое время. Стыдно, да?
— Нет, не стыдно. Естественно. Сколько она хочет у тебя прожить?
— Наверное, пока не устроится на работу и не найдет себе жилье.
— А специальность у нее какая-нибудь есть?
— Понятия не имею. Вряд ли.
Оливия глубоко вздохнула. После утренних переживаний она чувствовала себя душевно и физически разбитой. Ей предстояло как-то сжиться с горестным осознанием смерти Космо, а ее со всех сторон обступили, требуя участия, другие люди со своими проблемами. Приедет Антония, и надо будет ее утешать, поддерживать, подбадривать, вернее всего, кончится тем, что придется и работу подыскивать. Нэнси будет по-прежнему донимать телефонными разговорами про экономку для мамы, а мамочка будет отчаянно обороняться от всех попыток кого-то ей навязать. И сверх того еще…
Внезапно мысль ее остановилась. И осторожно попятилась. Нэнси. Мамочка. Антония. Ну конечно же! Выход найден. Все проблемы, если их верно сгруппировать, разрешаются одна через другую, как бывало в школе, когда громоздкие вычисления с дробными числами давали красивый и простой ответ.
Оливия сказала:
— Мне сейчас пришла в голову замечательная мысль.
— Какая?
— Антония может пока пожить у мамочки.
Если она и рассчитывала на бурное одобрение со стороны Хэнка, то не получила его. Он подумал, помолчал, а потом осмотрительно спросил:
— Но согласится ли Антония?
— Ну конечно же. Я же говорила тебе, они очень привязались друг к другу. Когда мамочка уезжала с Ивисы, Антония не хотела ее отпускать. И будет очень уместно, если теперь, только что потеряв отца, она поживет недельку-другую в покое у мамочки и немного придет в себя, прежде чем начать колесить по Лондону в поисках работы.
— Да, тут ты права.
— И для мамочки Антония лучше, чем какая-то экономка в доме. Просто приехал погостить близкий человек. Сегодня же предложу ей такой вариант. Посмотрим, как она к нему отнесется. Хотя я уверена, что она не откажет. Почти уверена.
Оливия всегда оживлялась, когда ей приходилось преодолевать трудности и принимать решения. Вот и теперь она сразу приободрилась. Села прямее, опустила щиток от солнца, осмотрела себя в зеркале, прикрепленном на нем с обратной стороны. Лицо по-прежнему без кровинки, под глазами синяки. Черный мех воротника еще сильнее оттеняет белизну щек. Хоть бы мамочка не обратила внимания… Оливия подкрасила губы, расчесала волосы, подняла на место щиток и стала смотреть на дорогу.
Уже проехали Берфорд, оставалось мили три пути, не больше, и дорога становилась знакомой.
— Здесь направо, — сказала Оливия Хэнку, и он, сбавив скорость, осторожно съехал на узкую грунтовку с указателем: «Темпл-Пудли». Дорога серпантином вела по отлогому подъему, пока наконец сверху взгляду не открылась деревня — далеко внизу, точно игрушечная, угнездившаяся в долине, через которую серебристой тесемкой вилась речка Уиндраш. Вот и первые домики на въезде, сложенные все из того же золотистого песчаника, старинные и прелестные. Мелькнула деревянная церковь за тисовой изгородью, стадо овец с пастухом, несколько автомобилей в ряд, припаркованных у местного трактира под названием «Сьюдли Армз».
Хэнк остановился и выключил зажигание.
Оливия удивленно обернулась.
— Тебе захотелось подкрепиться? — вежливо спросила она.
Он улыбнулся и покачал головой.
— Да нет. Но тебе, наверное, приятнее встретиться с мамой с глазу на глаз. Я выйду здесь, а попозже подойду. Только объясни, как найти ее дом.
— Третий от угла, справа, с белыми воротами. Только это совершенно не обязательно.
— Знаю. — Он похлопал ее по руке. — Но, по-моему, так вам обеим будет проще.
— Ты ужасно милый, — сказала Оливия от души.
— Мне бы хотелось принести ей что-нибудь. Как ты думаешь, если я попрошу хозяина продать две бутылки вина, он не откажет?
— Конечно. Тем более если ты скажешь, что это для миссис Килинг. Он постарается всучить тебе свой самый дорогой кларет.
Хэнк, весело ухмыляясь, вышел из машины. Оливия подождала, пока он прошел по мощеному двору к входной двери и шагнул за порог, предусмотрительно пригнув голову. А когда он скрылся, отстегнула ремень, перелезла на водительское место и включила зажигание. Было уже почти двенадцать часов.
Пенелопа Килинг стояла посреди своей теплой, тесной кухоньки, размышляя о том, что еще надо сделать. Но оказалось, что нечего, все уже было сделано. Она даже поднялась в спальню и сменила обычную домашнюю одежду на нечто более подходящее для приема неожиданных гостей. Оливия всегда такая элегантная, надо хоть немного привести себя в порядок. Пенелопа надела юбку из плотной льняной ткани с вышивкой, любимую и очень старую (когда-то это была штора), шерстяную мужскую рубашку в полоску и сверху вязаный жилет цвета красных пионов. На ногах у нее были темные толстые чулки и грубые шнурованные башмаки. Повесив на шею длинную золотую цепочку, заново закрутив и заколов волосы и опрыскав себя слегка духами, она, полная радостного предвкушения, спустилась обратно. Оливия теперь бывала здесь нечасто, но от этого каждый ее приезд становился только драгоценнее, и с тех пор как она позвонила сегодня утром, Пенелопа была вся в приятных хлопотах, готовясь к встрече.
Наконец все было готово. Камины в гостиной и столовой топятся, поднос с напитками и стаканами выставлен, пробка с графина снята, чтобы температура вина сравнялась с температурой воздуха в доме. А тут, в кухне, воздух пропитан ароматом медленно поджаривающегося говяжьего филе с луком и хрустящей картошкой. Пенелопа замесила тесто, нарезала яблок, разморозила бобы, почистила морковь. Позже она уложит на дощечке сыр, намелет кофе, наполнит сливочник густыми сливками, специально купленными на молочной ферме. Повязав передник, чтобы не забрызгать парадную юбку, она перемыла оставшиеся кастрюли и миски и поставила их на сушилку. Убрала на место кое-какую кухонную утварь, вытерла стол влажной тряпкой, наполнила водой кувшин и полила герань. После чего сняла передник и повесила на крючок.
Стиральная машина уже кончила работать. Пенелопа устраивала стирку только в хорошую погоду, когда можно вывесить белье сушиться на дворе, так как машина у нее была без центрифуги. И вообще лучше, когда белье сушится на воздухе, оно тогда приятно пахнет свежестью и гораздо легче гладится.
С минуты на минуту должна была появиться Оливия со своим приятелем, но Пенелопа все-таки взяла большую плетеную корзину, вывалила в нее мокрое белье и, уперев в бедро, понесла из кухни через зимний сад во двор. Она пересекла лужайку, нырнула в просвет в колючей изгороди и очутилась в яблоневом саду. Это было одно только название, что сад, а в действительности там, не то что в цветнике и на грядках, все осталось, как было при прежних хозяевах: несколько старых узловатых деревьев и терновые кусты, а за ними плавное течение тихой речушки.
Между тремя яблонями была протянута веревка. На ней Пенелопа сушила белье. Развешивать его на свежем воздухе доставляло ей большое удовольствие. Пел дрозд, из низкой мокрой травы уже выглядывали первые ростки цветочных луковиц. Она их сама здесь посадила, много-много, и желтые нарциссы, и крокусы, и осциллы, и подснежники. А когда отцветали они, то в высокой траве поднимали головки другие дикие цветы — примулы, васильки, красные маки. Их семена она тоже разбрасывала своими руками.
Простыни, рубашки, наволочки, чулки и пижамы плясали и хлопали на ветру. Освободив корзинку, Пенелопа подхватила ее и пошла обратно, но не спеша. Она заглянула по пути в огород — посмотреть, не полакомились ли кролики ее ранней капустой, а потом еще завернула к молодому кустику калины пахучей, от ее тонких веточек, густо одетых розовым цветом, пахло, на диво, разгаром лета. Надо будет принести садовые ножницы, срезать пару веток и поставить в гостиной для аромата. Она двинулась дальше, но задержалась опять, на этот раз — чтобы полюбоваться своим домом. Он стоял, залитый солнечным светом, перед ним раскинулась широкая зеленая лужайка, а позади темнели голые кроны дубов и синело чистое, прозрачное небо. Продолговатое, приземистое строение, белые стены, перекрещенные бревнами, под серой камышовой кровлей, нависающей над верхними окнами, точно густые, лохматые брови.
«Подмор Тэтч». «Соломенная крыша». Оливия говорила, что это дурацкое название; она всякий раз стыдилась, когда надо было его произнести, и даже предлагала Пенелопе выдумать другое. Но Пенелопа знала, что дому, как и человеку, имя дается раз и навсегда и изменить его нельзя. К тому же она узнала от викария, что в деревне действительно двести лет назад жил кровельщик, которого звали Вильям Подмор, и он крыл дома камышом и соломой. С тех пор и осталось за домом такое имя. Этот довод положил конец разногласиям.
Когда-то тут были два отдельных строения, но потом кто-то из предыдущих владельцев соединил их в одно, просто-напросто пробив двери в капитальной стене. Так получилось, что в доме две входные двери, две шаткие лестницы, ведущие на верхний этаж, и две ванные. И все комнаты соединяются между собой, что, может быть, не вполне удобно, если любишь побыть в одиночестве. Внизу находятся кухня, столовая и гостиная, а кроме того, еще и прежняя, вторая кухня, теперь чулан, в котором у Пенелопы хранятся соломенные шляпы, резиновые сапоги, холщовый фартук, цветочные горшки, корзинки, совки и цапки. Над чуланом на втором этаже расположена клетушка, забитая имуществом Ноэля, и дальше в ряд три более или менее просторные спальни. Та, что над кухней, — хозяйкина.
Но это еще не все: под самой крышей во всю длину дома тянется темный, пыльный чердак, а в нем хранится все, что Пенелопа не смогла заставить себя выбросить, когда перебиралась с Оукли-стрит, но для чего больше нигде не было места. Уже лет пять она давала себе обещание, что уж этой зимой обязательно все там разберет, но, поднявшись по шаткой лесенке и оглядевшись, из года в год, угнетенная грандиозностью задачи, малодушно откладывала ее решение на потом.
Сад, когда Пенелопа сюда переехала, был весь заросший, но это как раз и было интересно. Работа в саду была ее страстью, каждую свободную минуту она проводила на земле: выпалывала траву, вскапывала грядки и клумбы, возила навоз в тачке, вырубала засохшие кусты, сажала рассаду, отводила черенки, высеивала семена. И теперь, по прошествии пяти лет, могла стоять и с законной гордостью смотреть на плоды своих трудов. Что теперь и делала, забыв об Оливии, забыв о времени.
С ней это в последние годы часто случалось. Время перестало много значить для Пенелопы. Одно из преимуществ старости — не надо постоянно куда-то торопиться. Всю жизнь Пенелопа о ком-нибудь заботилась, а вот теперь ей не о ком думать, кроме как о самой себе. И есть время на то, чтобы постоять, посмотреть. Вспомнить. И видится все шире, как с вершины после долгого, трудного восхождения, ведь раз уж ты здесь, глупо не постоять и не полюбоваться сверху.
Конечно, у старости есть и свои недостатки: одиночество, болезни. Об этом много говорят. Но в шестьдесят четыре года — возраст не такой уж древний — Пенелопа своим одиночеством просто наслаждалась. Раньше она никогда не жила одна, и сначала ей было непривычно, но постепенно она научилась ценить возможность быть предоставленной самой себе, позволять себе разные предосудительные вольности — вставать, когда хочется, чесать, где чешется, засиживаться до двух часов ночи, чтобы послушать хороший концерт. Или вот еще — еда. Пенелопа всю жизнь готовила на семью и кормила друзей. Она была отличная кухарка, но с течением времени обнаружила в себе тайную неприличную склонность закусывать на ходу и чем попало. Например, неподогретой фасолью, чайной ложечкой прямо из банки. Или покупной сметанной заправкой для салата, намазанной на свежий зеленый лист. Или простым соленым огурцом, какие она, когда жила на Оукли-стрит, постеснялась бы выставить на стол.
Да и в болезни тоже нашлась своя положительная сторона. После той небольшой заминки, которую глупые врачи назвали инфарктом, Пенелопа впервые осознала неотвратимость своей смерти. Это ее не испугало, потому что она смерти никогда не боялась, но обострило все чувства и напомнило о том, что церковь зовет грехом упущения. Пенелопа не была религиозна и о грехах своих, которых с церковной точки зрения у нее, конечно, была уйма, обычно не размышляла, но теперь стала перебирать в уме все, что не удосужилась в жизни сделать. И тут, наряду с совершенно невыполнимыми фантазиями — вроде подъема на горные пики Бутана или перехода через Сирийскую пустыню, чтобы увидеть развалины Пальмиры, от чего теперь приходилось окончательно отказаться, у нее появилось неотступное желание, даже какая-то внутренняя потребность съездить в Порткеррис.
Сорок лет — это слишком много. Сорок лет прошло с тех пор, как она села с Нэнси в поезд, попрощалась с отцом и уехала в Лондон. Год спустя он умер, и она, оставив Нэнси на свекровь, вернулась в Корнуолл на похороны. После похорон они с Дорис два дня разбирали в Карн-коттедже его вещи, а потом надо было возвращаться в Лондон к неотложным обязанностям жены и матери. И с тех пор Пенелопа в Порткеррисе больше не бывала. А ведь хотелось. Отвезу туда детей на каникулы, говорила она себе. Пусть поиграют на пляже, как я когда-то, побродят по вересковым зарослям, нарвут цветов. Но так это и не осуществилось. Почему? Куда с молниеносной быстротой пронеслись годы, будто вода в быстрой речке под мостом? Возможности вроде были, но все упущены, она не воспользовалась ни одной: то времени не было, то денег на билеты; да и забот хватало — у нее на руках был большой дом, и отношения с жильцами, и воспитание детей, и Амброз.
Несколько лет она сохраняла Карн-коттедж за собой, не желая признать, что его нужно продать, что она все равно никогда больше в нем жить не будет. Она сдавала его через агентство жильцам и упорно твердила себе, что когда-нибудь еще вернется. Возьмет детей и покажет им квадратный белый дом на горе, и при нем таинственный сад за высокой изгородью, и вид на залив, и маяк.
Так продолжалось, покуда однажды, когда жизнь стала особенно трудна, из агентства не сообщили, что пожилой супружеской чете приглянулся ее дом и они хотят его купить, чтобы поселиться в нем на старости лет. Люди эти были еще и очень богаты. У Пенелопы с тремя детьми, которым надо было дать образование, с мужем, от которого не только не было помощи, но еще и самого приходилось содержать, просто не оставалось иного выхода, как принять выгодное предложение. И Карн-коттедж был продан.
С тех пор она перестала думать о поездке в Корнуолл. Правда, после продажи лондонского дома заикнулась было раз-другой о том, чтобы поселиться в Порткеррисе в каком-нибудь каменном доме с пальмой, но этому решительно воспротивилась Нэнси, и наверное, правильно. К тому же, надо отдать Нэнси должное, Пенелопа, едва только увидела «Подмор Тэтч», сразу же поняла, что хочет жить только здесь и нигде больше.
И все же… все же хорошо было бы разок, один разок, до «отбоя» съездить в Порткеррис. Остановиться можно у Дорис. Взять бы с собой еще Оливию…
Оливия заехала в открытые ворота. «Альфасад» покатил по скрежещущему гравию, мимо старого покосившегося сарая, исполняющего обязанности гаража и склада садового инвентаря, и остановился у второй входной двери маминого дома. Сквозь стекло в верхней половине двери были видны маленькая прихожая, пол в пластиковых квадратах, плащи и пальто на вешалке, шляпы, надетые на рога потраченной молью оленьей головы, зонтичная стойка из белого с синим фаянса, топорщащаяся зонтиками, тростями и даже двумя клюшками для гольфа. Из прихожей Оливия прошла прямо в кухню, всю наполненную теплым, аппетитным духом жарящегося мяса.
— Мамочка?
Ответа не было. Оливия вышла в зимний сад и сквозь стекло сразу увидела Пенелопу на противоположном краю лужайки — она стояла, прижав к боку пустую бельевую корзину и задумчиво глядя перед собой, а ветер шевелил ее растрепавшиеся волосы.
Оливия распахнула дверь в сад и шагнула через порог на просвеченный солнцем холод.
— Ау!
Пенелопа очнулась, увидела дочь и заторопилась к ней по стриженой траве.
— Дорогая моя!
Оливия еще не видела мать после болезни и внимательно всмотрелась, ища и боясь найти в ее облике перемены. Но она только немного похудела, а в остальном казалась такой же, как всегда, — вид здоровый, щеки разрумянились, молодая, упругая, длинноногая. Хорошо бы не рассказывать ей о смерти Космо, чтобы сохранилось на ее лице это счастливое выражение. Люди остаются живыми, пока кто-нибудь не сообщит тебе об их смерти. Хорошо бы вообще никто не приносил никому таких известий.
— Оливия, как я тебе рада!
— Что это ты там стояла с пустой корзиной в руках?
— Просто стояла, и все. Смотрела. Чудесный день. Доехали благополучно? — Она заглянула Оливии через плечо. — А где же твой друг?
— Вышел у трактира купить тебе подарок.
— Ну, это совершенно лишнее.
Пенелопа на ходу кое-как вытерла ноги у порога и вошла в дом. Оливия вошла следом, закрыла за собой дверь. В зимнем саду на каменном плитчатом полу были расставлены плетеные кресла и табуретки, и на всех сиденьях — выцветшие диванные подушки. Здесь было очень тепло, душно от зелени и влажной земли и нежно пахло цветущими фрезиями, любимым цветком Пенелопы.
— Он просто проявил деликатность. — Оливия швырнула сумку на светлый сосновый столик. — Мне надо тебе кое-что сообщить.
Пенелопа поставила рядом с сумкой бельевую корзину и повернулась к дочери. Улыбка медленно сошла с ее губ, прекрасные темные глаза взглянули встревоженно. Но голос, когда она проговорила: «Оливия, на тебе лица нет», был тверд и ясен, как всегда.
Это придало Оливии храбрости. Она сказала:
— Да, я знаю. Мне только утром стало известно. К сожалению, печальная новость. Умер Космо.
— Космо? Космо Гамильтон? Умер?
— Звонила Антония с Ивисы.
— Космо, — повторила Пенелопа, и лицо ее выразило боль и печаль. — Не могу поверить… Такой славный человек. — Она не заплакала, но Оливия и не ожидала от нее слез, мать не из тех, кто плачет. Она за всю жизнь ни разу не видела Пенелопу плачущей, но румянец схлынул с ее щек, и рука сама прижалась к груди, словно стараясь унять сердцебиение. — Славный, милый человек. Голубка моя! Ах, какое горе! Вы так много значили друг для друга. Как ты?
— А ты-то как? Я боялась тебе сказать.
— Я ничего. Это от неожиданности. — Она слепо протянула руку, нащупала стул и медленно, тяжело села.
Оливия с тревогой посмотрела на нее, окликнула:
— Мамочка?
— До чего глупо. Мне как-то немного не по себе.
— Может быть, глоток коньяка?
Пенелопа слабо улыбнулась, закрыла глаза.
— Прекрасная мысль.
— Сейчас принесу.
— Он стоит в…
— Я знаю, где он стоит. — Оливия скинула свою сумку на пол, пододвинула скамейку. — Положи сюда ноги… сиди и не двигайся… я сейчас, в одно мгновение.
Бутылка с коньяком стояла в буфете в столовой. Оливия достала ее, принесла в кухню, наполнила две лекарственные рюмки. Рука у нее дрожала. Горлышко бутылки звякнуло о край рюмки. Несколько капель пролилось на стол. Но это не имело значения. Ничего сейчас не имело значения, кроме мамочки и ее ненадежного сердца. Только бы не еще один инфаркт! Господи, только бы у нее не было еще одного инфаркта! С двумя рюмками Оливия вернулась в зимний сад.
— Вот.
Она вложила рюмку в руку матери. Обе молча сделали по нескольку глотков. От неразбавленного коньяка сразу стало теплее и покойнее. Пенелопа слабо улыбнулась:
— Как ты думаешь, это старческая слабость — когда вдруг во что бы то ни стало нужно немедленно выпить глоток спиртного?
— Вовсе нет. Мне тоже нужно было выпить.
— Бедняжка моя. — Пенелопа отпила еще. Цвет возвращался к ее щекам. — Ну вот. А теперь расскажи мне все сначала.
Оливия рассказала. Хотя рассказывать-то было почти нечего.
— Ты его любила, — сказала Пенелопа, когда она замолчала, не спрашивая, а утверждая.
— Да. За тот год он стал частью меня. Он оказал на меня такое сильное влияние, как никто за всю жизнь.
— Тебе надо было выйти за него замуж.
— Он этого и хотел. Но я не могла, мамочка, понимаешь? Не могла.
— Очень жаль.
— Не жалей. Мне так лучше.
Пенелопа кивнула, соглашаясь.
— А как Антония? Что с ней? Бедная девочка. Она присутствовала при этом?
— Да.
— Что с ней будет? Останется жить на Ивисе?
— Нет. Это невозможно. Дом не был собственностью Космо. Антонии негде жить. Ее мать вышла замуж, живет на севере. И по-видимому, средств у нее нет.
— Что же Антония собирается делать?
— Возвращается в Англию. На той неделе. В Лондон. Пару дней погостит у меня. Хочет устроиться на работу.
— Но она еще так молода. Сколько ей теперь?
— Восемнадцать. Уже не ребенок.
— Девочкой она была такая обаятельная.
— Ты хотела бы с ней повидаться?
— Даже очень.
— А ты бы… — Оливия отпила еще глоток коньяка. Он обжег горло, разлился теплом в желудке, прибавил ей силы и храбрости. — Ты не хочешь, чтобы она погостила у тебя? Пожила бы месяц или два?
— Почему ты спрашиваешь?
— По нескольким причинам. Во-первых, я думаю, Антонии понадобится время, чтобы собраться с мыслями, осмотреться и решить, чем ей в жизни заняться. А во-вторых, Нэнси не дает мне покоя, говорит, что доктора не велят тебе после инфаркта жить одной.
Оливия объяснила все без околичностей, прямо, как всегда говорила с матерью, не кривя душой и не прибегая к обходным маневрам. И в этом был один из секретов их особой душевной близости и согласия, благодаря которым они никогда не ссорились даже в самых трудных обстоятельствах.
— Доктора ничего не понимают, — самоуверенно возразила Пенелопа, тоже взбодренная коньяком.
— И я так думаю. Но Нэнси не согласна. И до тех пор, пока с тобой кто-нибудь не поселится, она не выпустит из рук телефонную трубку. Так что, видишь, согласившись приютить Антонию, ты заодно и мне окажешь большую услугу. И тебе самой будет приятно. Тогда на Ивисе вы с ней целый месяц шептались и хихикали. Ты будешь не одна и ей поможешь в трудную пору.
Но Пенелопа еще сомневалась.
— А не будет ли ей со мной скучно? Тут ведь нет никаких развлечений, а она в свои восемнадцать лет уже, наверное, вошла во вкус современной веселой жизни.
— Не показалась она мне по телефону любительницей веселой жизни. Какой была раньше, такой, по-моему, и осталась. Ну а если Антонию потянет к цветным огням, дискотекам и кавалерам, можно познакомить ее с Ноэлем.
Боже упаси, подумала Пенелопа. Но вслух не сказала.
— Когда она приезжает?
— Собирается прилететь в Лондон во вторник. Я могу доставить ее к тебе к исходу той недели.
Оливия вопросительно смотрела на мать, стараясь мысленно внушить ей утвердительный ответ. Но Пенелопа молчала и думала теперь, видимо, о чем-то постороннем и забавном, так как выражение лица у нее сделалось смешливым, глаза улыбались.
— Ты о чем это?
— Да вот, вспомнила вдруг тот пляж, где Антония училась виндсерфингу, и как там повсюду валялись голые тела, прокопченные до черноты, эти пожилые дамы с обвислыми грудями. Ну и зрелище! Помнишь, как мы смеялись?
— Помню и никогда не забуду.
— Счастливое было время.
— Да. Очень. Так можно ей приехать?
— Антонии? Ну конечно, если она согласится. И пусть живет, сколько захочет. Мне будет только лучше: я снова стану молодой.
Так, когда подошел Хэнк, кризис уже разрешился: предложение Оливии было принято, боль, потрясение и печаль на время отодвинуты в сторону. Жизнь продолжалась. Согретая и ободренная коньяком и разговором с матерью, Оливия снова чувствовала себя хозяйкой положения. Услышав звонок, она вскочила и пошла через кухню встретить Хэнка. В руке у него был бумажный пакет, который он, когда состоялось знакомство, вежливо вручил Пенелопе. Она поставила пакет на кухонный стол и, принадлежа к той породе людей, которым только и стоит преподносить подарки, поспешила развернуть бумагу. На свет появились две бутылки, и, когда с них содрали обертку, ее восторг был лучше всякой награды:
— О, «Шато латур гран крю»! Какая прелесть! Как это вы уломали мистера Ходжкинса из «Сьюдли Армз» уступить их вам?
— По совету Оливии я только упомянул, кому они предназначаются, как он со всех ног бросился выполнять мою просьбу.
— А я и не подозревала, что у него хранятся в погребе такие сокровища. Жизнь полна чудес. Большое вам спасибо. Мы их выпьем за обедом. Но только я уже открыла другое вино…
— Тогда это приберегите для какого-нибудь торжества, — предложил Хэнк.
— Так и сделаю.
Она поставила бутылки на буфет, и только тогда Хэнк снял пальто. Оливия повесила его рядом со старыми плащами в прихожей, и все прошли в гостиную. Это была довольно тесная комната, и она не переставала удивляться тому, как много своих любимых вещей ухитрилась разместить здесь ее мать. Старый диван и кресла с полосатой обивкой, прикрытые яркими индийскими покрывалами и декоративными подушечками. Бюро, как всегда с поднятым верхом, заваленное письмами и счетами. Рабочий столик, лампы, драгоценные половички поверх машинного ковра. Книги, картины, высушенные букеты в фарфоровых кувшинчиках. На всех свободных горизонтальных поверхностях — фотографии в рамках, фигурки, серебряные безделушки. И повсюду разбросаны журналы, газеты, каталоги семян, а в углу дивана неоконченное вязанье. Здесь были собраны в четырех стенах все увлечения деятельной жизни. Но внимание Хэнка, как каждого впервые входящего сюда человека, сразу же привлекла картина над большим открытым очагом.
Живописное полотно размером примерно пять футов на три занимало в комнате главенствующее положение. «Собиратели ракушек». Оливии и самой никогда не надоедало его разглядывать, хотя ей с детских лет была знакома каждая подробность. Смотришь — и чувствуешь на лице соленый морской ветер. По бурному небу бегут облака; море все в пляшущих белых бурунах, волны прибоя с шипением разбиваются о береговую отмель. Нежные розовато-серые оттенки песка; мелкие лужи, оставленные отливом, прозрачно отсвечивают невидимым солнцем. И три детские фигуры в нижнем левом углу картины: две девочки в соломенных шляпах и высоко подоткнутых платьях и мальчик. Босые ноги покрыты коричневым загаром, три головы, склоненные над красным ведерком, разглядывают что-то внутри.
— Ого! — Хэнк растерялся и не находил слов. — Вот так картина!
— Правда замечательная? — гордо и восторженно подхватила обрадованная Пенелопа. — Моя самая большая драгоценность.
— Бог ты мой! — Он поискал глазами подпись. — Чья это?
— Моего отца. Лоренса Стерна.
— Ваш отец — Лоренс Стерн? А Оливия мне ничего не сказала.
— Я оставила это маме. Она расскажет лучше.
— А я думал, он… мне казалось… что он прерафаэлит.
Пенелопа кивнула:
— Правильно.
— А это больше похоже на импрессионизм.
— Верно. Интересно, да?
— Когда она написана?
— Около тысяча девятьсот двадцать седьмого года. У отца была студия в Порткеррисе, на северном берегу, и он писал прямо из окна. Картина называется «Собиратели ракушек», девочка слева — это я.
— Но почему же манера совсем другая?
Пенелопа пожала плечами:
— По разным причинам. Во-первых, всякий художник должен развиваться, двигаться вперед, иначе он ничего не стоит. А кроме того, у отца к этому времени начался артрит, и он уже физически не способен был выписывать все так тонко, тщательно, подробно, как раньше.
— Сколько же ему было лет?
— В двадцать седьмом? Шестьдесят два, я думаю. Я у него поздний ребенок, он женился только в пятьдесят пять лет.
— У вас есть еще его работы?
Хэнк обвел взглядом стены, увешанные картинами, словно на выставке.
— Не здесь, — отозвалась Пенелопа. — Это в основном полотна его знакомых. Но есть еще два парных панно, неоконченные, они висят на лестнице. Это его самая последняя работа, он тогда уже с трудом удерживал в пальцах кисть из-за своего артрита. Потому и не завершил их.
— Из-за артрита? Как жестока судьба!
— Да. Это очень печально. Но он очень мужественно, философически к этому относился. Любил повторять: «Я за свои деньги накатался вволю». И больше ни слова. Но, конечно, для него это было ужасно. Еще долго после того, как перестал работать, он держал студию: бывало, заскучает, или «Черный Пес за горло ухватит», как он говорил, и уйдет из дому к себе в студию, а там просто сядет у окна и сидит, глядя на берег и море.
— А ты его помнишь? — спросил Хэнк у Оливии.
Она покачала головой:
— Нет. Я родилась, когда его уже не было в живых. А вот моя сестра Нэнси родилась в его доме в Порткеррисе.
— Он у вас еще есть, этот дом?
— Нет, — печально ответила Пенелопа. — В конце концов пришлось его продать.
— Вы там бываете?
— Я не была в Порткеррисе сорок лет. Но странно, как раз сегодня утром думала, что надо бы мне все-таки туда съездить, взглянуть еще раз на старые места. — Она обернулась к Оливии. — Почему бы тебе не поехать со мной? Остановиться можно у Дорис.
— Я… — Оливия, застигнутая врасплох, замялась, не зная, что сказать. — Даже не знаю…
— Можно поехать в любое удобное для тебя время… — Пенелопа вдруг прикусила губу. — Какая же я глупая. Конечно, ты не можешь принимать такие внезапные решения.
— Мамочка, мне очень жаль, но это действительно довольно сложно. Отпуск мне полагается не раньше лета, и я уже уговорилась ехать с друзьями в Грецию. У них там вилла и яхта.
Это была не совсем правда: разговоры такие имели место, но окончательно еще ничего не было решено; однако свободные дни у нее всегда на вес золота, и она так мечтала о солнце. Едва договорив, Оливия сразу же испытала угрызения совести, потому что взгляд Пенелопы затуманило разочарование, которое мгновенно сменила понимающая улыбка.
— Ну конечно. Я просто не подумала. Пришло в голову, и все. Совершенно не обязательно, чтобы со мной кто-то ехал.
— Одной в машине туда слишком далеко.
— Можно прекрасно добраться и поездом.
— Возьми с собой Лалу Фридман. Она с удовольствием съездит в Корнуолл.
— Лалу? О ней я не подумала. Ну хорошо, посмотрим… — И, сменив тему, Пенелопа обернулась к Хэнку. — Ну вот, мы тут болтаем, как сороки, а бедному человеку даже выпить нечего. Что вам налить?
Обед проходил неторопливо, непринужденно и был необыкновенно вкусным. Пока ели нежный розовый ростбиф под хреном, любезно нарезанный Хэнком, хрустящие жареные овощи и йоркширский пудинг с густой коричневой подливой, Пенелопа засыпала Хэнка вопросами. Про Америку, про его дом, про жену и детей. Не для того, чтобы по долгу хозяйки поддерживать застольную беседу, а из искреннего интереса. Люди ее всегда интересовали, особенно новые знакомые, приезжие из дальних стран, тем более если у них приятная наружность и хорошие манеры.
— Вы живете в Долтоне, штат Джорджия? Мне это трудно себе представить: Долтон, Джорджия! В квартире, или у вас есть дом с садом?
— У меня есть дом и сад, но только мы это называем двором.
— В таком климате, я думаю, можно выращивать что угодно.
— К сожалению, я мало в этом разбираюсь. Просто нанимаю садовника, и он поддерживает порядок. Стыдно признаться, но сам я даже газонов своих не стригу.
— И очень разумно. Чего же тут стыдиться?
— А вы, миссис Килинг?
— Мамочка никогда не использует наемный труд, — сказала Оливия. — Все, что ты видишь за окном, создано исключительно ее руками.
Хэнк удивленно вздернул брови.
— Даже не верится. И потом, ведь тут столько работы!
Пенелопа рассмеялась:
— Ну что вы так испуганно на меня смотрите? Для меня это не труд, а огромное удовольствие. Однако есть предел нашим возможностям, и с понедельника под барабанный бой и звуки фанфар у меня начинает работать садовник.
Оливия раскрыла рот от удивления.
— Вот как? В самом деле?
— Я же сказала тебе, что попробую кого-нибудь подыскать.
— Да, но мне как-то трудно было в это поверить.
— В Пудли есть очень хорошая фирма «Помощь садоводу». По-моему, название не слишком удачное, но это к делу не относится; так вот, они будут три раза в неделю присылать сюда молодого человека, и землю копать придется в основном ему, а если он покладистый, то можно будет поручить ему и пилить дрова или приносить уголь в дом. Словом, посмотрим, как получится. Если это окажется неуклюжий лентяй или его услуги будут стоить слишком дорого, всегда можно расторгнуть соглашение. Хэнк, пожалуйста, возьмите еще кусок.
Обильный обед затянулся чуть не до вечера. Встали из-за стола где-то около четырех часов. Оливия вызвалась заняться посудой, но мать не позволила. Вместо этого они надели пальто и вышли в сад подышать свежим воздухом. Пенелопа поводила их по своим владениям, показывая, где что растет; Хэнк помог ей подвязать ветку клематиса, а Оливия нашла под старой яблоней расцветшие анемоны и нарвала маленький букетик, чтобы взять с собой в Лондон.
Когда пора было прощаться, Хэнк поцеловал Пенелопу.
— Не знаю, как вас благодарить. Было просто замечательно.
— Приезжайте опять.
— Может, и приеду когда-нибудь.
— А когда вы возвращаетесь в Америку?
— Завтра утром.
— Что так быстро? Жалко. Но мне было очень приятно с вами познакомиться.
— Мне тоже.
Он отошел к автомобилю и, открыв дверцу, стал ждать Оливию.
— До свидания, мамочка.
— Моя дорогая! — Они обнялись. — Мне очень жаль Космо. Но ты не грусти. Просто будь благодарна судьбе за то, что он у тебя был. Нельзя оглядываться назад. Не стоит ни о чем сожалеть.
— Да. Ни о чем, — с мужественной улыбкой отозвалась Оливия.
— И если от тебя не поступит других известий, я буду ждать тебя через неделю с Антонией.
— Я еще позвоню.
— До свидания, дорогая моя.
Они уехали. Оливия уехала. Ее дочь, в красивом коричневом пальто, с поднятым до ушей норковым воротничком, с букетиком анемонов, зажатым в кулаке. Совсем как в детстве. Пенелопе было ее так жаль! Для родителей дети всегда остаются детьми, даже если они преуспевающие деловые дамы тридцати восьми лет. Сама ты можешь вынести любые страдания, но видеть, как страдает твое дитя, невыносимо. Душа Пенелопы полетела за Оливией в Лондон, а тело, уставшее после дня трудов, увело ее обратно в дом.
К утру ленивая усталость не прошла. И на душе было тяжело, непонятно почему. Но, когда Пенелопа окончательно проснулась, она вспомнила: Космо. За окном лило, гостей к воскресному обеду на этот раз не ожидалось, и она позволила себе до половины десятого проваляться в постели. Потом встала, собралась и пошла на почту получить воскресные газеты. В церкви звонили колокола, кое-кто из прихожан сворачивал под кладбищенские ворота, торопясь к утренней службе. Пенелопа в который раз пожалела, что не религиозна по-настоящему. Она, конечно, верила в Бога и посещала церковь в дни Рождества и Пасхи, потому что во что-то верить надо, иначе жизнь невыносима. Но сейчас, при виде этих людей, гуськом идущих по дорожке между старинными покосившимися надгробиями, ее потянуло присоединиться к ним и в этой общности обрести утешение. Но нет. Это и раньше у нее не получалось, и теперь не получится. И Бог тут ни при чем; просто такой уж у нее склад ума.
Вернувшись домой, Пенелопа разожгла камин и села читать «Обсервер», а потом собрала себе поесть: кусок холодного ростбифа, яблоко и стакан вина. Поев на кухне, вернулась в гостиную и прилегла вздремнуть на диван. Когда проснулась, дождь уже кончился. Надев сапоги и старую куртку, Пенелопа вышла в сад. Розы она обрезала и подкормила компостом осенью, но все-таки еще остались сухие побеги, и она приступила к работе, углубившись в колючие заросли.
Как всегда, за работой мысли ее были целиком поглощены цветами и Пенелопа утратила ощущение времени, поэтому очень удивилась, когда, выпрямив затекшую спину, увидела двух человек, идущих к ней по траве, — она не слышала, как подъехала машина, и гостей сегодня не ждала.
Это были девушка и мужчина. Рослый и очень красивый молодой человек, темноволосый, синеглазый, шел к ней, руки в карманы. Амброз. У Пенелопы екнуло сердце, но она тут же одернула себя. Глупости! Это был не Амброз, явившийся к ней из прошлого, а ее сын Ноэль, который так похож на своего покойного отца, что всякий раз при его неожиданном появлении ей на минуту становилось не по себе.
Ноэль и, естественно, с девушкой.
Пенелопа успокоилась, сумела улыбнуться, сунула в карман садовые ножницы, сняла рукавицы и выбралась из розового куста.
— Привет, ма.
Подойдя к матери и все так же не вынимая рук из карманов, он наклонился и чмокнул ее в щеку.
— Какой сюрприз! Откуда ты взялся?
— Мы гостили в Уилтшире. И решили заехать по пути, узнать, как ты тут.
Уилтшир? Заехать по пути из Уилтшира? Да это огромный крюк.
— Ма, знакомься, это Амабель.
— Здравствуйте.
— Привет, — произнесла Амабель, не протягивая руки.
Маленькая, как девочка, волосы рассыпаны по плечам, точно водоросли, круглые бледно-зеленые крыжовины-глаза. Одета в просторное, по щиколотки, твидовое пальто, которое сразу показалось Пенелопе знакомым, а со второго взгляда она узнала в нем старое пальто Лоренса Стерна, непонятным образом исчезнувшее при переезде из Лондона.
Она снова повернулась к Ноэлю:
— Ты гостил в Уилтшире? У кого же?
— Да у одних людей, Эрли, это знакомые Амабель. Но мы сразу после второго завтрака уехали, и я подумал… ведь я не видел тебя после больницы, дай-ка заеду, узнаю, как у тебя дела. — Он улыбнулся своей самой обворожительной улыбкой. — Надо сказать, ты выглядишь потрясающе. Я думал, увижу тебя бледной, слабой, лежащей на диване…
Упоминание о больнице рассердило Пенелопу.
— Паника на пустом месте. Ничего со мной не было. Нэнси, как всегда, сделала из мухи слона. Терпеть не могу, когда надо мной охают. — Она тут же раскаялась в своих словах, ведь он так трогательно приехал издалека навестить мать. — Славно, что ты беспокоишься обо мне, но у меня все в полном порядке. И я очень рада вашему приезду. Который час? Боже, почти половина пятого! Выпьете у меня чаю? Идемте в дом. Ты отведи Амабель, Ноэль, а я через две минуты присоединюсь к вам, только сниму сапоги.
Они пошли по траве ко входу со стороны зимнего сада, а Пенелопа постояла, посмотрела им вслед, а потом вернулась в дом через черный ход, где переобулась в туфли, повесила куртку, затем поднялась наверх, прошла к себе через пустые спальни, вымыла руки, причесалась. Спустившись по второй лестнице, она поставила кипятить чайник, собрала поднос. В жестянке нашлась половина фруктового торта. Ноэль его любит, а у этой девочки, Амабель, вид такой, будто она всю жизнь недоедает. Может быть, анорексия? Похоже, что так. Ноэль всегда находит себе каких-то немыслимых подружек.
Пенелопа заварила чай и внесла поднос в гостиную. Амабель, уже без пальто, сидела, забившись с ногами в угол дивана, похожая на тощего котенка, а Ноэль подкладывал поленья в прогоравший камин. Пенелопа поставила поднос. Амабель сказала:
— Потрясный дом.
Пенелопа постаралась ответить как можно дружелюбнее:
— Правда, уютный?
Глаза-крыжовины обратились на «Собирателей ракушек».
— Потрясная картина.
— На нее все обращают внимание.
— Это Корнуолл?
— Да, Порткеррис.
— Я так и знала. Я жила там один раз в каникулы, но все время лил дождь.
— Надо же.
Больше Пенелопа не нашла что сказать и, заполняя паузу, стала разливать чай. Когда с этим было покончено, чашки розданы и торт нарезан, она попробовала возобновить беседу:
— Ну а теперь расскажите, как вам было в гостях? Весело?
Да, очень весело, сообщили они. Домашняя вечеринка на десять человек, в субботу скачки, потом все ужинали у кого-то из соседей, потом были танцы, спать легли только в четыре часа.
На взгляд Пенелопы, это было ужасно, но она только сказала:
— Да? Замечательно!
Оказалось, что больше им сообщить нечего, и ей снова пришлось взять дело в свои руки. Она стала рассказывать, что к ней приезжала Оливия с приятелем-американцем, но Амабель подавила зевок, а Ноэль, сидевший на скамеечке у камина, сложив чуть не пополам длинные ноги и поставив чашку с чаем рядом на пол, слушал хотя и вежливо, но без особого интереса. Говорить ли ему о смерти Космо? Пенелопа подумала и решила, что не стоит. Может быть, поделиться новостью, что к ней приедет пожить Антония? Пожалуй, не надо и этого. С Космо Ноэль не был знаком, и семейные дела его мало занимали. Его вообще, по совести говоря, мало что занимало, кроме собственной персоны, он пошел в отца не только внешне, но и характером.
Пенелопа собралась было справиться о его работе и уже открыла рот, чтобы спросить, как идут дела, но он опередил ее:
— Ма, кстати, о Корнуолле… — Они что, туда ездили? — Ты знаешь, что одна из картин твоего отца будет на этой неделе продаваться с аукциона в «Бутби»? «У источника». По слухам, она должна пойти где-то за двести тысяч. Интересно будет, правда?
— Я об этом знаю. Оливия сказала вчера за обедом.
— Тебе надо поехать в Лондон. Чтобы лично присутствовать. Должно быть очень занятно.
— А ты собираешься там быть?
— Если сумею выбраться с работы.
— Удивительно, как вошли в моду эти старые полотна. И какие за них теперь деньги платят. Бедный папа́ в гробу бы перевернулся, если бы знал.
— «Бутби», я думаю, на них прилично нагрел руки. Ты видела, какую рекламу они поместили в «Санди Таймс»?
— Нет, «Таймс» я еще не успела посмотреть.
Неразвернутая газета лежала на стуле у нее за спиной. Ноэль протянул руку, взял газету, нашел то, что искал, и, перегнув, показал матери. Пенелопа увидела внизу страницы традиционную рекламную шапку художественного салона «Бутби».
— Вот это: «Второстепенная работа или крупное открытие?»
Она пригляделась к мелкому шрифту. Сообщалось, что через аукцион «Бутби» были проданы два небольших полотна, близких по манере и сюжету. Одно пошло за триста сорок фунтов, а за другое уплачено свыше шестнадцати тысяч.
Чувствуя на себе взгляд Ноэля, Пенелопа стала читать дальше: «Аукцион „Бутби“ немало способствовал серьезной переоценке викторианской живописи, еще недавно совершенно не пользовавшейся вниманием. Наши компетентные консультации — к услугам потенциальных клиентов. Если у вас есть что-нибудь относящееся к этому периоду, что вы хотели бы оценить, почему бы вам не позвонить нашему эксперту мистеру Рою Брукнеру, который с удовольствием приедет и выскажет свое мнение совершенно бесплатно».
Дальше шли адрес и номер телефона и больше ничего.
Пенелопа свернула газету и отложила в сторону. Ноэль ждал. Она подняла голову и посмотрела на него:
— Почему ты хотел, чтобы я это прочитала?
— Просто подумал, что, может, ты заинтересуешься.
— Заинтересуюсь возможностью оценить мои картины?
— Не все, конечно. Картины Лоренса Стерна.
— Чтобы застраховать? — ровным голосом спросила Пенелопа.
— Ну, если угодно. Я не знаю, на какую сумму они у тебя застрахованы. Но имей в виду, сейчас пик рынка. На днях Милле был продан за восемьсот тысяч.
— Но у меня нет Милле.
— А ты… не склонна продать?..
— Продать?! Картины моего отца?
— Не «Собирателей ракушек», понятное дело. Но, может быть, панно?
— Они не окончены. И, наверное, ничего не стоят.
— Это ты так думаешь. Потому-то и надо обратиться к оценщику. Прямо сейчас. Если ты будешь знать их цену, ты, может быть, передумаешь. В конце-то концов, они висят на лестнице, кто их видит? Ты сама-то, наверное, на них не смотришь никогда. И даже не заметишь их отсутствия.
— Откуда ты знаешь, замечу я их отсутствие или нет?
Он пожал плечами:
— Нетрудно догадаться. Работа посредственная, сюжет тошнотворный.
— Если эти панно тебе так не нравятся, хорошо, что ты больше не живешь там, где они могут тебе досаждать. — Пенелопа отвернулась от сына. — Амабель, милочка, может быть, еще чашечку чаю?
Ноэль знал: когда мать начинает говорить высокомерным ледяным тоном, значит терпение ее на пределе и с минуты на минуту может последовать взрыв. Дальнейшие уговоры принесут больше вреда, чем пользы, они будут только подпитывать ее упрямство. Но, по крайней мере, ему удалось заговорить с ней на эту тему и заронить, так сказать, нужные семена. Потом, оставшись одна, она еще поразмыслит и, вполне возможно, примет его точку зрения. Поэтому Ноэль с обворожительной улыбкой, сделав на полном ходу поворот кругом, поспешил признать себя побежденным:
— Ладно. Твоя взяла. Не будем больше об этом.
Поставив чашку, он сдвинул манжету и взглянул на часы.
— Ты торопишься?
— Особенно рассиживаться, конечно, некогда. До Лондона путь неблизкий, и пробки на дорогах будут кошмарные. Да, ма, ты не знаешь, моя ракетка наверху? У меня назначена игра, а я нигде не могу ее найти.
— Не знаю, — ответила Пенелопа, радуясь перемене темы. Комнатка Ноэля на втором этаже была забита коробками и чемоданами с его одеждой, а также разным спортинвентарем, но сам Ноэль заглядывал туда редко. Он вообще почти никогда не оставался ночевать у матери в Глостершире, и Пенелопа не имела представления, что и где там лежит. — Может быть, поднимешься и взглянешь?
— Да, пожалуй. — Он разогнул длинные ноги, встал. — Я быстро.
Слышно было, как он поднимается по лестнице. Амабель опять украдкой зевнула. Она уныло сидела на диване, похожая на скорбную русалку.
— Вы давно знакомы с Ноэлем? — обратилась к ней Пенелопа нарочито светским тоном.
— Месяца три.
— А живете вы в Лондоне?
— Родители живут в Лестершире, а я в Лондоне снимаю квартиру.
— Работаете?
— Только если нужда заставляет.
— Не хотите ли еще чаю?
— Нет, но я бы съела еще кусок торта.
Пенелопа положила ей торт. Амабель стала есть. Что, если взять потихоньку и почитать газету? — подумала Пенелопа. Молодые девушки бывают обаятельны, а бывают удивительно несимпатичны, как, например, Амабель, которая не обучена даже тому, что жевать надо с закрытым ртом.
В конце концов, отказавшись от попыток занять гостью разговором, она убрала со стола, сложила все на поднос и понесла в кухню, а Амабель осталась сидеть, не пошевелившись. Казалось, она вот-вот заснет.
К тому времени, как Пенелопа перемыла чашки и блюдца, Ноэль еще не спустился. Неужели он так долго ищет ракетку? Решив помочь ему, Пенелопа поднялась наверх по второй лестнице, из кухни, и прошла через пустые спальни в ту часть дома, где находилась комнатка Ноэля. Дверь была открыта, но его внутри не было. Пенелопа остановилась в недоумении и услышала над головой осторожные шаги. На чердаке? Что ему там понадобилось?
Она увидела, что к квадратному люку в потолке приставлена старая садовая лестница.
— Ноэль?
Он появился почти сразу: сначала показались длинные ноги, потом он выбрался из люка и спустился по перекладинам.
— Господи, что это ты делал на чердаке?
Он подошел. Пиджак в пуху, паутина в волосах.
— Не мог найти чертову ракетку, подумал, может, на чердак попала.
— Глупости какие. На чердаке ничего нет, кроме старого хлама с Оукли-стрит.
Он рассмеялся, отряхивая ладонью пыль.
— Что верно, то верно.
— Должно быть, ты плохо искал. — Она вошла в забитую вещами комнатушку, сдвинула в сторону ворох старых пальто и крикетные щитки, и под ними оказалась пропавшая ракетка. — Вот же она, недотепа! Ты никогда не умел ничего найти.
— О черт! Прости. Спасибо.
Он взял ракетку у нее из рук. Пенелопа заглянула в его невинное лицо и сказала:
— Амабель одета в пальто моего отца. Когда ты успел прибрать его к рукам?
Но и это его не обескуражило.
— Прихватил во время великого переселения. Ты его никогда не носила, а оно — просто чудо.
— Следовало бы спросить разрешения.
— Знаю. Вернуть тебе его?
— Да нет, конечно. Оставь у себя. — Она представила себе, как Амабель ходит в этой роскошной рухляди. Она и, можно не сомневаться, еще многие другие девицы. — Уверена, что ты употребишь его с большей пользой, чем я.
Когда они возвратились в гостиную, Амабель спала. Ноэль разбудил ее, она поднялась, заспанная, зевая и тараща глаза. Он подал ей дедовское пальто, поцеловал мать на прощание, и они уехали. Пенелопа, проводив их, вернулась в дом. Она заперла дверь и постояла на кухне, охваченная каким-то тревожным чувством. Что Ноэль искал на чердаке? Он же отлично знал, что ракетки там нет и быть не может, что же он надеялся там найти?
Она прошла в гостиную, подложила еще одно полено в огонь. Брошенная газета по-прежнему лежала на полу. Пенелопа, наклонившись, подобрала ее и перечитала объявление «Бутби». А потом подошла к своему бюро и, аккуратно вырезав объявление, спрятала его в одном из ящичков.
Среди ночи она проснулась как от толчка. Поднялся ветер; в темноте за окнами снова лил дождь, струясь по дрожащим стеклам. «Я ездила в Корнуолл, но там все время лил дождь», — сказала Амабель. Порткеррис. Пенелопе вспомнилась ее комнатка в Карн-коттедже, где она девочкой лежала, как сейчас, в темноте, а далеко внизу шумно разливались по галечнику волны прибоя, и шевелились занавески на открытом окне, и лучи вращающегося маяка пробегали по беленым стенам. Вспомнился сад, где цвела пахучая эскалония; и засаженная деревьями дорога, уводящая на вересковые холмы; и вид, который открывался сверху: ширь залива, ослепительная морская синева. Море было одним из магнитов, тянувших ее в Корнуолл. В Глостершире тоже красиво, но моря здесь нет, а она так по нему соскучилась! Это правда, что Прошлое — другая страна. Но разве нельзя туда съездить? Что может ей помешать? Одна или с кем-нибудь, не важно. Пока еще не поздно, она отправится на запад и посетит тот щербатый коготь Британии, где когда-то жила и любила, где была молодой.
6. Лоренс
Ей было девятнадцать лет. Между сводками новостей, которые все с волнением кидались слушать, радио передавало модные танго и фокстроты — «Дождь идет», «Китайскую серенаду», музыку из последнего фильма с Фредом Астером и Джинджер Роджерс. Все лето городок был наводнен отдыхающими. Детские ведерки, лопатки, пахнущие резиной на жарком солнце пляжные мячи покупались нарасхват, светские дамы, живущие в гостинице «Замок», шокировали местных жителей, разгуливая по улицам в пляжных пижамах и загорая в вызывающих купальных костюмах — коротенькие трусики и открытые лифчики. Сейчас большая часть отдыхающих уехала, но те, кто остался, все еще бродили по берегу; тенты и кабинки пока не убирали.
Пенелопа шагала у кромки воды и смотрела на детей, играющих под присмотром нянь в форменных платьях, которые сидели в шезлонгах и вязали, то и дело бросая озабоченные взгляды на своих питомцев, а те строили замки из песка и с визгом бежали навстречу волнам по мелководью.
Было теплое солнечное воскресное утро, в такую погоду так и тянет из дому. Пенелопа позвала с собой Софи, но та сказала, что надо готовить обед, она решила запечь курицу в овощах. Папа́ после завтрака надел свою старую широкополую шляпу и пошел в мастерскую. Пенелопа зайдет за ним, они вместе вернутся в Карн-коттедж и, как всегда, сядут за уже накрытый стол.
— Попроси его не заходить в кафе, голубка. Сегодня не стоит. Возвращайтесь прямо домой.
Пенелопа обещала. К тому времени, как Софи подаст тушенную в овощах курицу, все уже свершится, вся страна будет знать.
Она подошла к концу пляжа: тут начинались скалы и был трамплин для прыжков в воду. Поднявшись по бетонным ступенькам, она оказалась на узкой, мощенной камнем улочке, которая вилась между неровными рядами выбеленных домов. Тут было великое множество кошек, которые ели рыбьи внутренности, выброшенные в канаву, а над головой кружили чайки, они садились на коньки крыш и на трубы, оглядывали мир холодными желтыми глазами и хрипло кричали, приглашая неведомо кого подраться.
У подножия горы стояла церковь. Звонили колокола, сзывая прихожан на утреннюю службу, и люди — их было много, гораздо больше, чем всегда, — тяжело ступали по усыпанной галькой дорожке и исчезали в темноте за высокими дубовыми дверями. Собрался весь город: темные костюмы и платья, строгие шляпы, серьезные лица, неторопливая походка. Никто не улыбался, не говорил друг другу: «Доброе утро».
Было без пяти одиннадцать. Прилив наполовину схлынул, и в порту привязанные к причалу рыбацкие лодки опустились обнажившимися днищами на деревянные подпорки. Какая странная, неожиданная пустота! Только несколько мальчишек гоняли старую банку из-под сардин, да на той стороне залива рыбак чинил свою лодку. Удары молотка громко разносились над опустевшим берегом.
Раздался бой церковных часов, и облепившие колокольню чайки сорвались облаком белых плещущих крыльев, громко возмущаясь, что мелодичный звон их потревожил. Пенелопа медленно побрела дальше, засунув руки в карманы вязаного жакета; налетающий порывами ветер трепал ее длинные темные волосы, закрывая лицо. И вдруг она почувствовала, что совершенно одна. Вокруг не было ни души. Она пошла прочь из порта и, поднимаясь по крутой улочке, услышала из открытых окон последние удары Биг-Бена. Потом начал говорить голос. Ей представилось, как в домах все члены семьи собрались вокруг приемников и сидят рядом, поддерживая друг друга.
Теперь она была в самом сердце старого города, среди лабиринта мощенных камнем улочек, неожиданно выбегающих на площадь или на пустынное северное взморье. Она слышала, как на берегу с шумом разбиваются волны, чувствовала, как крепчает ветер. Он подхватывал подол ее ситцевого платья, трепал волосы. Она повернула за угол и увидела берег, лавочку миссис Томас — хозяйка открыла ее на час-полтора, чтобы продать газеты. Их кипы высились на прилавке возле двери, чернели заголовки, высокие и мрачные, будто надгробные памятники. В кармане у Пенелопы было несколько мелких монет. От волнения ей ужасно захотелось есть, она вошла в лавочку и купила за два пенса мятную шоколадку.
— Вышла погулять, деточка? — спросила миссис Томас.
— Да. Иду за папа́. Он в мастерской.
— И умница, что гуляешь, утро-то какое славное.
— Да.
— Ну вот, наконец-то началось. — Она протянула Пенелопе плитку шоколада. — Мы объявили войну этим проклятым немцам, мистер Чемберлен сейчас сообщил. — Миссис Томас было шестьдесят лет. Она уже пережила одну мировую войну, так же как отец Пенелопы и миллионы ни в чем не повинных жителей Европы. В 1916 году был убит ее муж, а сейчас сына Стивена уже призвали рядовым в пехотный полк под командованием герцога Корнуэльского. — Так уж, видно, суждено. Нельзя больше оставаться в стороне. Несчастные поляки погибают тысячами.
— Да, конечно.
Пенелопа взяла шоколадку.
— Передай папе привет, деточка. Он в добром здравии, надеюсь?
— Да, спасибо.
— Ну, до свидания, деточка.
— До свидания.
Выйдя на улицу, Пенелопа вдруг сразу замерзла. Ветер разыгрался и насквозь пронизывал ее одежду — легкое ситцевое платье и вязаный жакет. Она развернула шоколадку и откусила. Война… Она подняла глаза к небу, словно ожидая, что в нем уже появились эскадрильи бомбардировщиков, какие она видела в кино: они шли друг за другом, точно волны прибоя, накрывая огнем Польшу. Но в вышине были только быстро летящие облака. Война. Какое странное слово. Как смерть. Чем чаще ты его произносишь, чем глубже вдумываешься, тем дальше от тебя ускользает его смысл. Откусывая шоколад, она шла по узкой мощеной улочке к мастерской Лоренса Стерна. Сейчас он обнимет ее, а она скажет, что пора домой, мама ждет к обеду и просила сегодня не заглядывать в кафе и не пить пиво, и еще она ему скажет, что война все-таки началась.
Мастерская помещалась в старом рыбацком сарае, высоченном, щелястом, с огромным окном на север, из которого открывался вид на полосу берега и море. Давным-давно отец установил здесь большую пузатую печку и вывел через крышу трубу, но, даже когда печка раскалялась, в мастерской все равно было холодно.
Холодно было и сейчас.
Лоренс Стерн не работал уже больше десяти лет, но здесь всюду лежали принадлежности его ремесла, — казалось, он сейчас возьмет кисти и начнет писать. Это были холсты, мольберты, выдавленные наполовину тюбики с красками, палитры с засохшей краской. На задрапированном возвышении кресло для натуры, шаткий столик с гипсовой головой мужчины и стопкой старых номеров журнала «Живопись». Запах был такой знакомый, что защемило сердце: пахло масляными красками и скипидаром, соленым ветром, который врывался в открытое окно.
В углу Пенелопа увидела водные лыжи, на которых каталась летом, на стуле лежало забытое полосатое пляжное полотенце. Будет ли еще одно лето, подумала она, понадобятся ли кому-нибудь эти вещи?
Ветер рванул дверь и с грохотом захлопнул за ней. Лоренс обернулся. Он сидел боком у окна на диване, скрестив длинные ноги и опершись локтем о подоконник, и глядел на чаек, на облака, на сине-бирюзовое море, разбивающееся о берег в нескончаемой череде волн.
— Папа́…
Ему было семьдесят четыре года. Был он высокий, породистый, с загорелым дочерна лицом в глубоких складках и голубыми молодыми глазами. Одет тоже как молодой человек, небрежно и экстравагантно: красные выцветшие парусиновые брюки, зеленый вельветовый пиджак, на шее вместо галстука косынка в горошек. Только волосы выдавали его возраст, они были белые как снег и, вопреки моде, длинные. Волосы и еще руки, скрюченные, искалеченные артритом, который так жестоко отнял у него любимое искусство.
— Папа́!
Взгляд у него был отрешенный. Казалось, он не узнал ее, словно это пришел кто-то чужой и принес злую весть — да, такой вестницей зла она и явилась сейчас к нему. Но вдруг он улыбнулся и поднял руку, привычным жестом ласково приветствуя ее.
— Доченька, любимая!
Она приблизилась к нему. Нанесенный ветром песок скрипел под ногами, точно по неструганым доскам пола рассыпали мешок сахара. Он обнял ее.
— Что ты ешь?
— Мятный шоколад.
— Аппетит испортишь.
— Ты всегда так говоришь. — Она отстранилась от него. — Отломить тебе?
Он покачал головой:
— Не надо.
Она положила остатки плитки в карман вязаного жакета и сказала:
— Война началась.
Он кивнул.
— Мне миссис Томас сказала.
— Знаю. Я уже давно знаю.
— Софи тушит курицу с овощами. Она не велела мне пускать тебя в «Шхуну», просила ничего там не пить. Велела сразу же идти домой.
— Ну что же, пойдем.
Но он не двинулся с места. Она закрыла и заперла окно. Теперь шум разбивающихся волн стал тише. Шляпа Лоренса лежала на полу. Она подняла ее и подала отцу, он надел ее и встал. Она взяла его под руку, и они отправились в долгий путь домой.
Карн-коттедж стоял на горе, высоко над городом, — небольшой квадратный белый домик посреди сада, окруженного высоким забором. Когда ты входил в калитку и закрывал ее за собой, то словно оказывался в тайном укромном мире, где никто не мог тебя найти, даже ветер. Хоть лето и кончилось, трава ярко зеленела, на цветниках Софи пылали хризантемы, георгины, львиный зев. Фасад дома был скрыт кустами цветущей красной герани с пестрыми, как у плюща, листьями и клематисом, который каждый год в мае покрывался облаком светло-лиловых цветов и пышно цвел все лето. За живой изгородью из эскалоний прятались огород и крошечный пруд, где плавали утки Софи, а по траве расхаживали куры.
Она ждала их в саду и уже срезала огромный букет георгинов. Услышав, как хлопнула калитка, Софи выпрямилась и пошла им навстречу, похожая на мальчика в своих брючках, сандалиях на веревочной подошве и бело-голубом в полоску свитере. Ее темные волосы были коротко подстрижены и не мешали любоваться стройной загорелой шеей и изящной головкой. Глаза у Софи были карие, большие и лучистые. Многие говорили, что самое красивое в ней — глаза, но стоило ей улыбнуться, и все тотчас понимали, что ошиблись.
Софи, жена Лоренса и мать Пенелопы, была француженка. Ее отец, Филипп Шарльру, и Лоренс были ровесниками. В старые добрые времена, еще до Первой мировой войны, они делили на двоих студию в Париже, и, когда Лоренс в первый раз увидел Софи, она была еще совсем маленькой девочкой. Они водили ее играть в Тюильри, а иногда брали с собой в кафе, где собирались с приятелями, пили легкое вино и шутили с хорошенькими девушками. Компания была очень дружная, им и в голову не приходило, что эта приятная беззаботная жизнь вот-вот кончится, но началась война и не только разбросала их семьи, но и разъединила их страны, всю Европу, весь мир.
Они потеряли друг друга. В 1918 году Лоренсу было пятьдесят лет, в солдаты он не годился по возрасту, и ему пришлось четыре ужасных года работать водителем санитарной машины во Франции. Потом его ранило в ногу, он был демобилизован по инвалидности и отправлен в Англию. Он остался жив! Другим не так повезло. Филиппа, Лоренс знал, убили. Что стало с его женой и ребенком? Когда война кончилась, Лоренс вернулся в Париж и стал их искать, но они словно в воду канули. Париж был холодный, голодный, печальный. Казалось, все его жители в трауре; даже улицы, которые всегда вызывали у Лоренса восхищение, теперь словно лишились своего обаяния. Он уехал в Лондон и поселился в доме на Оукли-стрит, принадлежащем его семье. Родители умерли, он остался один, а зачем одному такой огромный дом да еще с пристройками? Лоренс решил, что оставит себе полуподвал и бельэтаж, а верх будет сдавать тем, кто способен хоть сколько-то платить за жилье. В большом саду за домом была его мастерская. Он отпер ее, выкинул скопившийся хлам и, отбросив прочь воспоминания о войне, взялся за кисти и соединил порвавшуюся было нить жизни.
Работалось мучительно трудно. Однажды, когда трудился над сложнейшей композицией, пришел один из жильцов и сказал, что к нему гость. Лоренс чуть не зарычал: у него и так ничего не получается, он в тоске и в бешенстве, а тут еще от работы отрывают, этого он вообще не выносил. Он злобно швырнул кисти, вытер руки тряпкой и с хмурым лицом пошел через сад в дом. В кухне возле плиты стояла девушка, грея руки, и вид у нее был такой, будто она заледенела от холода. Лоренс не узнал ее.
— Что вам угодно?
Худенькая, кожа да кости, темные волосы стянуты в строгий узел на затылке, пальто чуть не светится, из-под него виден вытянувшийся подол юбки, туфли сбиты и стерты. Кто к нему пришел — нищий бездомный ребенок?
— Лоренс, — произнесла девушка.
Что-то в его памяти отозвалось на звук ее голоса. Он приблизился к ней, взял за подбородок и повернул лицо к окну, к свету.
— Софи?
— Да, это я.
Не может быть. Он отказывался в это поверить.
Она приехала в Англию, чтобы разыскать его. У нее никого не осталось, а он был самым близким другом ее отца. «Если со мной что-нибудь случится, — часто говорил ей Филипп, — найди Лоренса Стерна, поезжай к нему. Он тебе поможет». И вот Филиппа убили, а мать ее умерла во время эпидемии гриппа, который свирепствовал в Европе после войны.
— Я был в Париже, искал вас, — сказал Лоренс. — Где ты была?
— В Лионе, там живет мамина сестра.
— Почему ты не осталась у нее?
— Я хотела найти вас.
И она осталась у него. Нужно признаться, появилась она как нельзя более кстати: один роман у него кончился, другой еще не начался, а он был мужчина красивый, с бурным темпераментом, и с ранней молодости, когда он приехал в Париж учиться, вокруг него вились хорошенькие женщины; не успевал он расстаться с одной, как в его жизнь впархивала другая, словно ждала своего часа, — теперь, когда он вспоминал их, ему представлялась терпеливая очередь за хлебом. Но Софи к ним не относилась. Она была совсем ребенок. И этот ребенок стал вести дом с искусством вышколенной хозяйки-француженки: она стряпала, ходила за покупками, чинила и штопала, стирала шторы, мыла полы. Никогда о Лоренсе так не заботились. Что касается самой Софи, она очень скоро перестала напоминать бездомную сироту, и, хотя не прибавила в весе ни унции, на ее щеках появился румянец, каштановые волосы стали роскошными, блестящими, и он начал ее писать. Она принесла ему удачу. Работалось ему легко, и все картины покупали нарасхват. Он дал ей денег и велел купить одежды, и она пришла домой гордая и счастливая в простеньком дешевом платье. Как она была хороша! В тот день он перестал считать ее ребенком. Софи была женщиной, и эта женщина однажды ночью пришла к нему в комнату и тихо легла рядом с ним на кровать. У нее было изумительное тело, и он не прогнал ее, потому что был страстно влюблен — наверное, первый раз в жизни. Она стала его возлюбленной. Через месяц она уже была беременна. На седьмом небе от счастья Лоренс женился на ней.
Во время ее беременности они впервые отправились путешествовать в Корнуолл. Путешествие закончилось в Порткеррисе, который чуть ли не все английские художники уже открыли, многие там даже обосновались. Первым делом Стерны сняли рыбацкий сарай под студию и прожили в нем два долгих зимних месяца почти в первобытных условиях, но неописуемо счастливые. Потом они узнали, что продается Карн-коттедж. Лоренс не поскупился на комиссионные, и дом достался ему. В нем и родилась Пенелопа. Семья проводила в Порткеррисе все лето; когда же задували осенние штормовые ветры, Карн-коттедж запирали или сдавали кому-нибудь на зиму, а сами возвращались в Лондон, в полуподвал старого, теплого, полного друзей дома на Оукли-стрит. Переезды совершались в автомобиле, потому что теперь Лоренс был гордым обладателем внушительного «бентли» с объемом двигателя четыре с половиной литра, откидным парусиновым верхом и огромными фарами системы «Лукас». На его широких подножках было очень удобно сидеть, когда устраивали пикник; крепкие кожаные ремни надежно удерживали верх. Иногда весной они забирали с собой сестру Лоренса Этель, набив машину чемоданами и коробками, переправлялись на пароме во Францию и мчались к Средиземному морю, где среди зарослей мимозы и красных скал жили Шарль и Шанталь Ренье — старые друзья Лоренса из предвоенной молодости в Париже; у них была здесь старая запущенная вилла с садом, царство цикад и ящериц. Во время этих путешествий все говорили только по-французски, даже тетя Этель начинала чувствовать себя истинной француженкой, едва нога ее ступала на землю Кале: щеголяла в лихо заломленном баскском берете и курила одну за другой сигареты «Галуаз». Взрослые всюду брали с собой Пенелопу — так они и ходили: девочка, юная мама, похожая на старшую сестру, и пожилой отец, которого можно было принять за дедушку.
Пенелопа была убеждена, что у нее самые лучшие родители в мире. Когда ее приглашали в гости к другим детям и она сидела за скучным чопорным обедом, а строгие гувернантки зорко следили, чтобы их питомец, упаси бог, не совершил какой-нибудь оплошности, или чей-нибудь отец затевал шумные игры, она удивлялась, почему все так безропотно подчиняются требованиям скучнейшей дисциплины, и мечтала поскорее попасть домой…
Сейчас, встретив их, Софи ничего не сказала о войне, которая только что началась. Она лишь поцеловала мужа, обняла за плечи дочь и показала им срезанный букет георгинов — буйный взрыв красок: оранжевых, бордовых, пурпурных, желтых.
— Это напоминает мне русский балет, — сказала она с очаровательным акцентом, от которого так и не избавилась. — Жаль, они без запаха. — Она улыбнулась. — Но все равно красивые. Я думала, вы еще не скоро придете, а вы уже и дома. Я так рада. Давайте откроем бутылку вина и будем есть.
Через два дня, во вторник, война пришла и к ним. Кто-то позвонил в дверь, Пенелопа открыла и увидела на пороге мисс Паусон. Мисс Паусон была одна из мужеподобных дам, которые время от времени забредали в Порткеррис. Лоренс называл их жертвами тридцатых годов; отвергнув естественные радости, какие дают женщине семья, муж, дом, дети, они зарабатывали на жизнь чем придется, и чаще всего их работа была связана с животными: они давали уроки верховой езды, разводили или фотографировали собак, принадлежащих другим людям. Мисс Паусон держала королевских спаниелей, и в городе ее все знали: она дрессировала своих питомцев на пляже, а потом вела всю свору на поводках домой, а они тянули в разные стороны.
Жила мисс Паусон вместе с мисс Приди, тихой молчаливой дамой, учительницей танцев. Это были не народные танцы, не классический балет, а совершенно новое направление в хореографии, основанное на позах скульптур на фризах греческих храмов, глубоком дыхании и эвритмии. Время от времени она показывала достижения своих учениц в ратуше. Однажды Софи купила билеты на концерт, и Лоренс с Пенелопой покорно отправились с ней. Все трое были ошеломлены. Мисс Приди и пять ее учениц (были среди них совсем молоденькие, были и взрослые, уж этим-то следовало соображать) вышли на сцену босиком, в оранжевых туниках до колен и с широкими повязками на лбу. Они образовали на сцене полукруг, и мисс Приди шагнула вперед. Ясным, звонким голоском, который хорошо слышали даже те, кто сидел в задних рядах, она сообщила, что выступление необходимо предварить небольшим объяснением и она просит у публики внимания. Дело в том, что она пользуется особой методой и обучает не танцам в общепринятом понимании этого слова, а серии упражнений и движений, которые являются, по сути, продолжением естественных функций человеческого тела.
— С ума сойти, — прошипел Лоренс, и Пенелопе пришлось толкнуть его локтем в бок, чтобы молчал.
Мисс Приди лепетала еще что-то, потом вернулась на свое место, и потеха началась. Она хлопнула в ладоши, скомандовала «раз»; все ученицы, включая ее саму, легли на спину на пол и замерли, будто их оглушили или даже убили. Заинтригованная публика стала тянуть шеи. «Два», — произнесла Приди, и лежащие начали медленно поднимать ноги вверх, носочками к потолку. Юбки оранжевых туник упали на пол, явив взорам шесть пар пышных оранжевых же шаровар, схваченных у колен резинкой. На Лоренса напал приступ кашля. Он вскочил, кинулся по проходу к задней двери и исчез. На представление он не вернулся, а Софи с Пенелопой просидели два часа, зажимая рты руками и трясясь от сдерживаемого смеха так, что стулья под ними ходили ходуном.
В шестнадцать лет Пенелопа прочла «Колодец одиночества». После этого она стала смотреть на мисс Паусон и мисс Приди другими глазами, но по своей наивности не поняла сути их отношений.
И вот теперь перед ней на пороге стояла мисс Паусон в грубых башмаках, брюках и жакете на молнии, в галстуке под воротничком мужской рубашки и небрежно сдвинутом набок берете на седых коротко подстриженных волосах. В руках она держала папку с бумагами, через плечо висел противогаз. Одета она была явно для участия в боевых действиях, а дай ей ружье и патронташ, составила бы гордость любого уважающего себя партизанского отряда.
— Доброе утро, мисс Паусон.
— Ваша мама дома, деточка? Я пришла поговорить о размещении эвакуированных.
Появилась Софи, и мисс Паусон провели в гостиную. Поскольку было ясно, что явилась она с официальным визитом, все трое сели за стоящий посреди комнаты стол. Мисс Паусон отвинтила колпачок авторучки.
— Итак, приступим к делу. — Никаких отвлекающих разговоров на посторонние темы; важна каждая минута, как на военном совете. — Сколько у вас комнат?
Лицо Софи выразило удивление. Мисс Паусон и мисс Приди не раз бывали в Карн-коттедже и отлично знали, сколько там комнат. Но гостья так вошла в свою роль, с таким наслаждением ее играла, что было бы грешно испортить ей удовольствие. И Софи ответила:
— Четыре. Вот эта, столовая, кабинет Лоренса и кухня.
Мисс Паусон написала «четыре» в соответствующей графе своей анкеты.
— А наверху?
— Наша спальня, спальня Пенелопы, комната для гостей и ванная.
— Комната для гостей?
— Я не хочу, чтобы там кто-то поселился. Сестре Лоренса, Этель, уже немало лет, а живет она в Лондоне одна и, если город начнут бомбить, наверняка переедет к нам.
— Понятно. Как обстоит дело с уборными?
— Тут все в порядке, — заверила Софи, — уборная у нас есть. В ванной.
— Всего одна?
— Есть еще во дворе, за кухней, но там мы складываем дрова.
Мисс Паусон записала: «Один ватерклозет, одна уборная во дворе».
— Так, а что на чердаке?
— На чердаке?
— Сколько кроватей там можно поставить?
Софи ужаснулась:
— На чердаке жить нельзя. Там темно и полно пауков. — Потом добавила неуверенно: — Но, может быть, в прежние времена там спала служанка? Вот ужас-то!
Мисс Паусон сочла это предположение убедительным доводом.
— В таком случае я записываю, что у вас на чердаке можно разместить троих. Сейчас не приходится быть слишком разборчивыми. Не забывайте: идет война.
— Разве непременно нужно помещать эвакуированных к нам?
— Конечно; их ко всем поселят. Мы все должны внести свою лепту.
— И кто же будет жить у нас?
— Может быть, лондонцы из Ист-Энда. Я постараюсь найти для вас мать с двумя детьми. Ну что же… — Она собрала свои бумаги и встала. — Мне пора. Нужно зайти еще в двенадцать домов, если не больше.
И мисс Паусон ушла, такая же суровая и официальная. Когда они прощались, Пенелопа так и ждала, что она отдаст честь, но, увы, та просто повернулась и зашагала по дорожке сада к калитке. Софи закрыла дверь и посмотрела на дочь, не зная, что делать — смеяться или плакать. Трое эвакуированных на чердаке! Они поднялись поглядеть, что там творится, и увидели поистине мерзость запустения: темно, пыльно, все затянуто паутиной, пахнет мышами и старой обувью. Софи сморщила носик и попыталась открыть одно из мансардных окон, но не тут-то было. Старые обои с безобразным рисунком отклеились от потолка. Пенелопа протянула руку к повисшей в углу полоске и дернула. Обои рухнули на пол, свернувшись спиралью, в облаке обвалившейся штукатурки.
— Если побелить, будет вполне сносно, — сказала она, подошла к другому окну, протерла стекло и выглянула. — А вид отсюда просто изумительный!
— Эвакуированным будет не до видов из окна.
— Откуда ты знаешь? Перестань, Софи, ну что ты так расстроилась. Если приедут люди, им надо где-то жить. Выбора все равно нет.
И Пенелопа начала трудиться во имя Победы. Она содрала обои и побелила потолок и стены, вымыла окна, покрасила рамы, отскребла пол. Софи пошла на аукцион и купила там ковер, три дивана-кровати, гардероб красного дерева и комод, легкие и плотные занавески на окна, гравюру, называвшуюся «В окрестностях Вальпараисо», и статуэтку девочки с большим мячом. За все она заплатила восемь фунтов, четырнадцать шиллингов и девять пенсов. Мебель привез и втащил по лестнице добродушный детина в кепке и длинном белом переднике. Софи налила ему большую кружку пива, дала полкроны, и он ушел чрезвычайно довольный, а они с Пенелопой постелили постели, повесили занавески, и на этом приготовления закончились. Им осталось лишь ждать, когда прибудут эвакуированные, хоть они и надеялись вопреки всему, что все как-нибудь обойдется и никто к ним не явится.
Но эвакуированные явились. Молодая женщина с двумя сыновьями — Дорис Поттер, Рональд и Кларк. Дорис была блондинкой с прической а-ля Джинджер Роджерс и в узкой черной юбке. Мужа ее звали Берт, он был уже мобилизован и находился во Франции, в экспедиционных войсках. Сыновьям было одному шесть, другому семь лет, Рональд получил свое имя в честь Рональда Колмена, Кларк в честь Кларка Гейбла. Мальчишки были малорослые, худые, бледные, с рахитичными коленками и жесткими сухими волосами, которые стояли торчком, точно щетина кисти. Они приехали на поезде из Хекни[8], где жили. Дальше Саут-Энда[9] они в жизни не бывали, и к их ветхим курточкам были пришпилены багажные ярлыки с именами на тот случай, если потеряются по дороге.
С вторжением Поттеров мирный уклад жизни в Карн-коттедже был нарушен. Рональд с Кларком писались по ночам в постель, на второй день они разбили окно, оборвали все цветы в саду Софи, наелись зеленых яблок, и у них начался понос, потом они подожгли сарай, где хранился садовый инструмент, и сарай сгорел дотла.
Лоренс отнесся к пожару философски, заметив только: «Жаль, сорванцы не сгорели вместе с сараем».
И в то же время они напоминали жалких зверьков, всего боялись. Им не нравился городок, не нравилось море — зачем оно такое большое? Они пугались коров, кур, уток, мокриц. Им было страшно спать на чердаке, они рассказывали друг другу истории про привидений и тряслись от ужаса.
Завтрак, обед и ужин превратились в форменный кошмар, и не потому, что иссякли темы разговоров, нет, просто Рональд и Кларк совершенно не умели вести себя за столом. Они жевали, не закрывая рта, набивали рот едой и принимались пить, хватали масленку, вырывали друг у друга графин с водой, ссорились, дрались и напрочь отказывались есть полезную здоровую пищу, которую готовила Софи, — пудинги, овощные рагу и салаты.
Но это бы еще полбеды: в доме все оглохли от шума. Мальчишки не умолкали ни на миг, они то радостно визжали, то злобно вопили, дразнили друг друга, бранились. Дорис только подливала масла в огонь. Она не разговаривала со своими детьми, а орала на них:
— Это что же ты делаешь, свинья ты такая? Ну посмей мне еще раз так изгваздаться — шкуру чулком спущу! Ты посмотри на свои руки! А ноги? Ужас, просто ужас! Когда ты их в последний раз мыл? Теперь тебя за месяц не ототрешь!
У Пенелопы голова шла кругом от криков, и все-таки она понимала, что Дорис, при всей своей грубости и расхлябанности, — хорошая мать и обожает сорванцов, а орет на них просто потому, что орала всю жизнь, чтобы ее было слышно в дальнем конце улицы в Хекни, где они родились и выросли; вероятно, точно так же орала на нее мать. Она просто не понимает, что с детьми можно обращаться иначе. Естественно, когда Дорис звала Рональда и Кларка, они и не думали отзываться. Она же вместо того, чтобы пойти поискать их, поднимала голос на октаву выше и продолжала вопить так, что стекла звенели.
Наконец терпение у Лоренса лопнуло, и он объявил Софи, что с него довольно: если Поттеры не утихомирятся, он соберет свои вещи и уйдет жить в студию. Он не шутил, и Софи, возмутившись, что оказалась в таком идиотском положении, ворвалась в кухню и выплеснула свой гнев на Дорис.
— Почему вы все время на них орете? — Когда она волновалась, ее акцент становился более заметным, а сейчас она так рассердилась, что и сама кричала, как рыбная торговка. — Ваши дети за углом, вот тут, рядом. Зачем же так вопить? Mon Dieu, ведь у нас совсем маленький дом, и вы вашим криком свели нас всех с ума!
Дорис растерялась, но не обиделась. У нее был легкий характер, к тому же она была неглупа и отлично понимала, как им повезло, что они попали к Стернам. Другие эвакуированные рассказывали, каково им живется, а ведь и она могла попасть к какой-нибудь старой чванливой зануде, которая обращалась бы с ней как с прислугой и поселила бы в кухне.
— Извините, — беззлобно сказала она и засмеялась. — Это у меня просто такая привычка.
— А ваши дети! — Софи немного успокоилась, но решила, что надо ковать железо, пока горячо. — Они совершенно не умеют вести себя за столом. Если вы не в состоянии их научить, это сделаю я. И они должны уяснить, что надо слушаться. Они будут, не сомневайтесь, только надо говорить спокойно. Они не глухие, но если вы и дальше будете на них орать, то действительно оглохнут.
Дорис пожала плечами.
— Хорошо, — с удовольствием согласилась она, — давайте попробуем. Вы, я вижу, хотите приготовить к обеду картошку? Давайте я почищу.
После этого разговора дела пошли на лад. Криков поубавилось, Софи и Пенелопа дружно взялись за воспитание мальчишек, и скоро те научились говорить «спасибо» и «пожалуйста», перестали чавкать, просили передать им соль и перец. Наука не прошла даром и для Дорис, она следила за каждым своим шагом, оттопыривала мизинчик, держа чашку, деликатно вытирала рот салфеткой. Пенелопа водила ребят на пляж и учила строить замки из песка; они совсем не боялись воды и очень скоро научились плавать по-собачьи. Потом начались занятия в школе, и большую часть дня они проводили вне дома. Дорис, которая всю жизнь питалась консервами, начала постигать основы кулинарного искусства, помогала убирать дом. Все постепенно утряслось. Софи и Пенелопа понимали, что им никогда не переделать Дорис и ее детей, но жизнь в Карн-коттедже стала более или менее сносной.
На третьем этаже дома на Оукли-стрит жили Питер и Элизабет Клиффорд. Другие жильцы снимали квартиру и потом съезжали, за ними селились новые, но Клиффорды прожили там пятнадцать лет, и за это время стали самыми близкими друзьями Стернов. Питеру уже стукнуло семьдесят. Врач-психиатр, он учился в Вене у Фрейда и сделал блестящую карьеру — был профессором в одной из лучших лондонских клиник. Сейчас он ушел на пенсию, но работу не бросил и каждый год ездил в Вену читать лекции в университете.
Детей у Клиффордов не было, и Питера всегда сопровождала в этих поездках жена. Она была на несколько лет моложе его и одарена не менее ярко. До того как выйти за него замуж, она много путешествовала, училась в Германии и во Франции, написала несколько серьезных политических романов, исследований и эссе, это были поистине шедевры, созданные глубоким, свободным умом ученого, которые завоевали признание во всем мире.
Клиффорды первыми рассказали Софи и Лоренсу о зловещих переменах, происходящих в Германии. Задернув шторы, они просиживали до рассвета за кофе и коньяком, и их приглушенные голоса звучали взволнованно и тревожно. Эту тему обсуждали только со Стернами, со всеми же остальными были чрезвычайно сдержанны, и никогда свои взгляды не обнародовали. Дело в том, что многие друзья Клиффордов в Австрии и Германии были евреями, и официальные визиты в Вену давали отличное прикрытие для нелегальной деятельности.
Прямо под носом у властей они, рискуя если не жизнью, то свободой, налаживали связи, добывали паспорта, организовывали выезд, снабжали людей деньгами. Их изобретательность и настойчивость помогли многим еврейским семьям бежать из страны, тайно пересечь охраняемые границы и оказаться на свободе — в Англии или даже в Америке, где они и оставались. Все эти люди приезжали без гроша, вынужденные бросить имущество, состояние, кто-то даже богатство, но зато они обретали свободу. Клиффорды продолжали свою опасную деятельность, пока в начале 1938 года новое правительство не дало понять, что их присутствие в стране нежелательно. Кто-то проговорился. Они попали в черный список лиц, не внушающих доверия.
В январе 1940-го, вскоре после Нового года, Лоренс, Софи и Пенелопа устроили семейный совет. Карн-коттедж был переполнен, Дорис с детьми, судя по всему, предстояло жить там до окончания войны, и Стерны решили, что речи быть не может о возвращении на Оукли-стрит. Но Софи не могла так легко бросить свой лондонский дом на произвол судьбы. Она не была в нем уже полгода: ей нужно было собрать плату у жильцов, повесить в комнатах маскировочные шторы, составить список имущества, найти человека, который согласился бы ухаживать за садом. Кроме того, следовало забрать зимние вещи, ведь начались сильные холода, а центрального отопления в Карн-коттедже не было. И конечно, ей хотелось повидать Клиффордов.
Лоренс горячо поддержал жену. Помимо всего прочего, он беспокоился о «Собирателях ракушек», висевших в спальне над камином. Мало ли что может случиться, когда станут бомбить Лондон, а налеты, без всякого сомнения, скоро начнутся…
Софи обещала позаботиться о картине: упаковать и привезти в Порткеррис, где пока относительно спокойно. Она позвонила Элизабет Клиффорд и сообщила, что вместе с Пенелопой едет в Лондон. Через три дня вся семья пришла на вокзал, и мать с дочерью сели в поезд. Лоренс остался. Он решил не ездить в Лондон и присмотреть за их маленьким домом, а Дорис поручено было позаботиться о Лоренсе, и она пришла в восторг от возложенной на нее ответственности. За все время, что Стерны прожили вместе, они расставались в первый раз, и, когда поезд тронулся, Софи заплакала, словно боялась, что больше не увидит мужа.
Как же долго они ехали! В вагоне было смертельно холодно, ресторан не работал, в Плимуте в поезд погрузились моряки-новобранцы: они заполнили все вагоны, загромоздили проходы вещмешками, курили, играли в карты. Пенелопа оказалась втиснутой в угол, рядом с ней сидел молоденький новобранец. Ему было мучительно неловко в новой с иголочки форме; едва поезд тронулся, он мгновенно заснул, положив голову ей на плечо. Стемнело рано, при скудном свете тусклых лампочек было невозможно читать. В довершение ко всему поезд задержали в Рединге, и на Паддингтонский вокзал он прибыл с опозданием на три часа.
Затемненный Лондон казался призрачным. Им неслыханно повезло: они поймали такси, разделив его с еще двумя пассажирами, ехавшими в том же направлении. Такси медленно ползло по темным пустынным улицам, лил дождь, холод пронизывал до костей. У Пенелопы сжалось сердце. Она всегда так радовалась возвращению домой, а сейчас…
Но Элизабет ждала их, она уже давно все приготовила и прислушивалась, не подъехало ли такси. Когда Софи расплатилась с шофером и они ощупью спустились в кромешной тьме к входу в полуподвал, дверь распахнулась и их быстро втащили внутрь, так что предательский луч света не успел вырваться на улицу и нарушить затемнение.
— Ах, бедняжки вы мои, я и не чаяла вас дождаться. Как задержался поезд!
До чего же они обрадовались друг другу! Обнимались, целовались, рассказывали, как измучились дорогой, потом стали смеяться и не могли остановиться: какое счастье, что все позади — и поезд, и холод, и тьма. Наконец-то они дома!
Большая знакомая комната занимала весь полуподвальный этаж. Со стороны улицы находились кухня и столовая, со стороны сада гостиная. Она была ярко освещена, потому что Элизабет завесила окна одеялами — они отлично служили светомаскировочными шторами, печь топилась; булькал куриный суп, пел чайник. Софи и Пенелопа сняли пальто и принялись греть руки, а Элизабет заварила чай и сделала тосты с корицей. Вскоре все уже сидели за столом, как прежде, ели импровизированный ужин (Пенелопа умирала с голоду) и говорили все разом, рассказывая о том, что случилось за эти полгода. Им было так хорошо, так уютно, что изнурительное путешествие сразу позабылось.
— А как наш дорогой Лоренс?
— Хорошо, только беспокоится о «Собирателях ракушек» — вдруг в дом попадет бомба и картина погибнет. Мы и приехали, по сути, из-за нее — упаковать и увезти с собой в Корнуолл. — Софи засмеялась. — Все остальное его не интересует.
— На чьем попечении он остался? — Элизабет рассказали о Дорис. — Эвакуированная! Господи, какая это для вас обуза! — Она щебетала, рассказывая о последних событиях. — Я должна перед вами покаяться. Молодого человека, который жил в мансарде, призвали в армию, и я пустила туда молодых супругов. Это беженцы из Мюнхена. В Англии они уже год, жили в Сент-Джонз-Вуд, но им отказали от квартиры, и они остались на улице, нигде не могли найти пристанища. Я увидела, в каком они отчаянии, и предложила поселиться здесь. Простите меня ради бога, это наглое самоуправство с моей стороны, но эти люди действительно оказались в ужасном положении; к тому же, я уверена, они будут хорошими жильцами.
— Вы правильно поступили, умница, я очень рада. — Софи с нежностью улыбнулась: мужественная Элизабет верна себе. — Как их зовут?
— Вилли и Лала Фридман. Вы непременно должны с ними познакомиться. Они придут к нам сегодня пить кофе, так что поднимайтесь с Пенелопой после ужина сюда, хорошо? Конечно, после того, как отдохнете. Питер дождаться вас не может. Наконец-то мы будем говорить, говорить, говорить, как в старые добрые времена.
Элизабет вся сияла. Умение радоваться в этой обаятельной женщине привлекало всех. Она не менялась. Мудрые, проницательные глаза так же ярко сверкали на ее красивом немолодом лице; густые волнистые седые волосы собраны на затылке в узел, который вот-вот рассыплется, потому что несколько шпилек не удерживают такую тяжесть. Одета не модно, но элегантно — как бы над модой; пальцы с распухшими суставами унизаны кольцами.
— Ну конечно придем, — отозвалась Софи.
— К девяти, ладно? Наконец-то наговоримся!
Когда они поднялись к Элизабет, Фридманы уже были там, сидели и грелись возле горящей газовой печки в гостиной, обставленной старинной мебелью. Оба были очень молоды и чувствовали себя ужасно скованно; увидев Софи и Пенелопу, тотчас же вскочили — знакомиться. Однако Пенелопа заметила в них что-то стариковское, и еще чувство собственного достоинства, свойственное беднякам, которое не зависит от возраста: когда они улыбнулись, здороваясь, улыбка тронула только их губы.
Сначала все шло хорошо. Завязался оживленный разговор. Выяснилось, что Вилли в Мюнхене изучал право, а сейчас зарабатывает на жизнь, делая переводы для одного из лондонских издательств. Лала готовилась стать пианисткой и давала уроки музыки. Бледная экзотическая красавица, она сидела очень спокойно, а вот Вилли нервно барабанил по столу пальцами, курил сигарету за сигаретой, то и дело вскакивал.
Он прожил в Англии уже год, но, тайком наблюдая за ним, Пенелопа подумала, что вид у него такой, будто он здесь всего несколько дней. И ее наполнило сострадание к этому человеку: в чужой стране, без друзей, вырванный из привычного окружения, он вынужден начинать все заново, да еще приходится зарабатывать на жизнь нудной нелюбимой работой. К тому же его наверняка терзает неотступная тревога за родных, которые остались в Германии. Она представила себе его отца, мать, братьев, сестер, чья жизнь висит на волоске. Ведь их каждую ночь могут забрать: звонок или стук в дверь на рассвете — и все, конец, наступило то, чего нет страшнее на свете.
Элизабет вышла и принесла из своей маленькой кухоньки поднос с чашками, горячий кофе и корзиночку с печеньем. Питер достал бутылку коньяка «Gordon Bleu», крошечные рюмочки цветного стекла и налил всем. Софи улыбнулась Вилли своей очаровательной улыбкой и сказала:
— Я очень рада, что вы поселились у нас. Надеюсь, вам будет здесь хорошо. Жаль только, что мы уедем, нужно возвращаться в Корнуолл, там у нас много подопечных. Нижний этаж мы сдавать не будем, вдруг захочется приехать, побывать в Лондоне, повидаться с вами. Но, если начнутся бомбежки, вы все, пожалуйста, обязательно спускайтесь туда — это будет бомбоубежище.
Предложение Софи было и разумно, и своевременно. До сих пор воздушную тревогу объявляли всего несколько раз, и потом через несколько минут следовал отбой. Но люди были готовы к настоящей войне. На улицах Лондона лежали мешки с песком, парки были перерыты траншеями, всюду устроены бомбоубежища и установлены цистерны с водой на случай пожара. В небе висели аэростаты, на улицах и площадях стояли зенитные орудия в маскировочных сетках, и возле каждого — боевой расчет. Солдаты уже много недель ждали, что вот сейчас, через минуту, начнется.
Да, то, что предложила Софи, было и разумно, и своевременно, но с Вилли Фридманом после ее слов случилось что-то странное. Он сказал «спасибо» и залпом проглотил свой коньяк; а когда Питер молча наполнил его рюмку, не стал возражать. Вилли словно прорвало. Он так благодарен Софи, так благодарен Элизабет за ее доброту. Если б не она, они бы остались без крова. Если бы не такие люди, как Элизабет и Питер, они с Лалой давно бы погибли. Или еще хуже…
— Полно, Вилли, — сказал Питер, — успокойтесь, не надо.
Но Вилли уже не мог остановиться, он не владел собой. Выпив одним глотком вторую рюмку, протянул руку к бутылке и снова налил себе. Лала сидела как каменная и с ужасом глядела на мужа большими темными глазами, но не пыталась помешать ему. Он говорил, задыхаясь от волнения, говорил, говорил, а сидящие в гостиной в оцепенении слушали его. Пенелопа посмотрела на Питера, но он, настороженный и мрачный, неотрывно глядел на молодого человека, чья душа была так жестоко надорвана. Наверное, Питер считал, что тому надо выговориться, что рано или поздно пережитое должно выплеснуться наружу, и уж пусть лучше это произойдет сейчас, когда он и его юная жена окружены друзьями, когда им ничто не угрожает в этой уютной комнате, сквозь шторы которой не пробивается ни один луч света.
И Вилли рассказывал о том, чему был сам свидетелем, о том, что ему рассказывали другие, о том, что произошло с его друзьями. Пенелопе хотелось заткнуть уши, зажмурить глаза, стереть страшные образы. Но она продолжала слушать, и ее медленно затягивал кровавый кошмар. Она не испытывала ничего похожего, когда смотрела кинохронику, слушала сводки новостей по радио, читала газеты. Абстрактный, отвлеченный ужас стал живой, реальной угрозой, дохнул ей холодом прямо в лицо. Совершается чудовищное: люди зверски убивают людей, и каждый в ответе за это озверение. Так вот что такое война? Это не просто необходимость постоянно носить с собой противогаз и плотно занавешивать окна, посмеиваясь над мисс Паусон, белить чердак и устраивать там эвакуированных, это кровь и смерть, ад без надежды на избавление. И в этом аду надо жить, не убегая и не прячась, а еще лучше взять меч и бороться.
Меча у Пенелопы не было, но рано утром она сказала Софи, что идет за покупками, и ушла из дому, Когда она вернулась в полдень с пустыми руками, Софи изумилась:
— Я думала, ты ходишь по магазинам.
Пенелопа села за кухонный стол напротив матери и объявила, что дошла до первого же призывного пункта, где записалась добровольцем на все то время, что будет длиться война, в женскую вспомогательную службу военно-морских сил.
7. Антония
Рассвет подкрадывался нехотя, словно через силу. Наконец Пенелопе все-таки удалось заснуть, но скоро она снова проснулась и увидела, что темнота почти рассеялась, наступает утро. Было удивительно тихо. В открытое окно вливался холодный воздух, каштан тянул к серому, с погасшими звездами небу свои голые ветви.
В мыслях ее, как и всегда, был Корнуолл, точно яркий многоцветный сон, но вот сон взмахнул крыльями и улетел прочь, в прошлое, где, наверное, и был его дом. Рональд и Кларк из маленьких сорванцов превратились в солидных мужчин, вполне преуспевают. Их мать теперь зовется не Дорис Поттер, а Дорис Пенберт, ей скоро семьдесят, и она живет в маленьком беленом домике в старой части Порткерриса с его мощенными камнем улочками. Лоренса и Софи давно нет, как нет и Клиффордов; продан Карн-коттедж, продан дом на Оукли-стрит, а сама Пенелопа живет здесь, в графстве Глостершир, в собственном доме, именуемом «Подмор Тэтч», или «Соломенная крыша», и сейчас лежит у себя в спальне, в постели. И ей не девятнадцать лет, а шестьдесят четыре года. Это иногда ошеломляет ее, потому что она не чувствует прошедших лет, и порой ей кажется, что время сыграло с ней злую шутку. Она не просто пожилая женщина, она старуха. Старуха, у которой вдруг так затрепыхалось глупое шальное сердце, что она оказалась в больнице. Старуха с тремя взрослыми детьми, оказавшаяся одна среди множества новых людей и заполнившая их заботами свою жизнь. Нэнси, Оливия, Ноэль. И конечно, Антония Гамильтон, которая приедет к ней… постойте, когда же она приедет? В конце следующей недели? Нет, этой. А сегодня понедельник, утро. В понедельник утром является миссис Плэкетт, она приезжает на велосипеде из Пудли, точная, как часы. Да, и еще садовник. Сегодня в половине девятого начнет работать садовник, которого она наняла.
Ничто не могло так взбодрить Пенелопу, как мысль о садовнике. Она включила ночник и посмотрела на часы. Половина восьмого. Нужно скорей вставать, одеваться и успеть все сделать к приезду садовника, иначе он подумает, что его наняла ленивая старуха. А как известно, у ленивых хозяев и слуги бездельники. Кто любил повторять эту старую пословицу? Конечно, ее свекровь, Долли Килинг, кто же еще. Пенелопа услышала голос Долли, представила, как та проводит пальцем по каминной полке, проверяя, нет ли там пыли, и срывает покрывало с кровати — убедиться, что сбившаяся с ног прислуга аккуратно застелила простыни. Бедная Долли, и ее давно нет. Она до последнего дня свято блюла приличия, но ее смерть не вызвала у Пенелопы чувства утраты, и это очень печально.
Итак, половина восьмого. Больше нет времени предаваться воспоминаниям о Долли Килинг, которую она никогда не любила. Пенелопа встала с постели. За час она успела принять ванну, одеться, затопить печку, отпереть все двери и позавтракать — крепкий кофе, яйцо вкрутую, тост и мед. Налив вторую чашку кофе, она стала прислушиваться, не подъезжает ли машина. Пенелопа никогда раньше не нанимала садовых рабочих, но знала, что они ездят в маленьких, симпатичных зеленых фургончиках с надписью «Помощь садоводам» белой краской по бортам. Ей часто приходилось видеть такие фургончики, от них исходило ощущение энергии, целеустремленности, деловитости. Сейчас Пенелопа слегка робела. У нее никогда в жизни не было наемного садовника, и она надеялась, что он не окажется угрюмым или слишком самоуверенным. Нужно сразу же внушить ему, что он не должен ничего подстригать и вырубать без ее разрешения. Для начала она поручит ему сделать что-нибудь совсем простое. Пусть подровняет живую изгородь из боярышника в дальнем конце фруктового сада. Надо надеяться, он справится с ее маленькой бензопилой. Интересно, хватит ли в гараже бензина? Пожалуй, пока есть время, надо пойти проверить и, если надо, залить.
Но оказалось, что времени нет, потому что на дорожке к дому вдруг раздались шаги и прервали ее тревожные размышления. Пенелопа поставила чашечку и приподнялась, всматриваясь в окно. В свете ясного студеного утра к ней приближался высокий молодой человек в куртке из непромокаемой ткани цвета хаки и в джинсах, заправленных в резиновые сапоги. Голова непокрыта, волосы русые. Вот он на миг остановился и неуверенно огляделся, вероятно сомневаясь, туда ли попал. Она разглядела широкий разворот его плеч, твердый подбородок, овал лица. Вчера, когда Ноэль шел к ней по стриженой траве, сердце Пенелопы на миг перестало биться, — точно так же оно остановилось и сейчас. Она оперлась рукой о стол, закрыла глаза и глубоко вздохнула. Сердце бешено заколотилось и стало успокаиваться. Она открыла глаза. В дверь позвонили.
Пенелопа прошла через веранду и отворила дверь. Он стоял перед ней. Высокий. Выше ее.
— Доброе утро, — сказал он.
— Доброе утро.
— Вы миссис Килинг?
— Да.
— Я из «Помощи садоводам».
Он не улыбался. Глаза смотрели пристально, голубые, как льдинки, лицо было худое, с выступающими скулами, загорелое, тонкая кожа покраснела от утреннего морозца. На шее красный шерстяной шарф, но руки без перчаток.
Она заглянула поверх его плеча.
— Я ждала, что подъедет машина.
— А я на велосипеде. Оставил его у ворот. Сомневался, этот ли дом.
— Я думала, «Помощь садоводам» всегда предоставляет своим работникам фургоны — зеленые, с белой надписью.
— Не обязательно. Я приехал на велосипеде. — Пенелопа нахмурилась. Он сунул руку в карман. — Вот письмо от моего начальства. — Молодой человек вынул листок из кармана, развернул и протянул ей. Она увидела бланк агентства, прочла, что он действительно тот, за кого себя выдает, и тотчас же смутилась.
— Ну что вы, я ни на минуту не усомнилась, просто я подумала…
— Это «Подмор Тэтч»? — Молодой человек положил письмо в карман.
— Да, конечно. Пожалуйста… проходите в дом…
— Спасибо, не беспокойтесь. Лучше объясните мне, что я должен делать, и покажите, где у вас хранятся садовые инструменты. Я с собой ничего не привез, ведь я на велосипеде.
— Не беспокойтесь, у меня все есть. — Она чувствовала, что голос ее звучит взволнованно, но она и в самом деле волновалась. — Подождите, пожалуйста, минуту… я надену пальто…
— Конечно.
Пенелопа вернулась в дом, надела пальто и сапоги, сняла с крючка ключ от гаража. Выйдя на крыльцо, она увидела приставленный к стене дома велосипед — видно, молодой человек сходил за ним к воротам.
— Здесь не мешает?
— Нет-нет, нисколько.
Она провела его по усыпанной гравием дорожке, отперла гараж. Он помог ей открыть двери, и она включила свет. Глазам предстал привычный хаос: ее старенький «вольво», три детских велосипеда, которые у нее не хватало духу выкинуть, дряхлая детская коляска, газонокосилки, грабли, лопаты, вилы, мотыга.
Она пробралась к древнему комоду — реликвия из дома на Оукли-стрит, — где держала молотки, отвертки, ржавые коробки с гвоздями, мотки шпагата. На комоде стояла бензопила.
— Вы умеете ею работать?
— Конечно.
— Замечательно. Тогда посмотрите, есть ли бензин. — К счастью, бензин был. Немного, но на сегодня хватит. — Мне бы хотелось подрезать живую изгородь из боярышника.
— Отлично. — Он положил на плечо бензопилу и взял канистру. — Теперь покажите, где работать, и дальше я уже буду действовать сам.
Но Пенелопа пошла с ним — убедиться, что он не перепутал; они обогнули дом, пересекли покрытую инеем лужайку, миновали заросли бирючины, прошли через весь сад, и перед ними встала живая изгородь из боярышника, крепко сцепившего свои густые колючие ветки. За изгородью тихо струилась неглубокая холодная речка Уиндраш.
— Красиво у вас здесь, — заметил он.
— Да, очень красиво. Я бы хотела срезать кусты вот до сих пор, ниже не надо.
— Вы будете топить печь срезанными ветками?
Пенелопе это не приходило в голову.
— А они хорошо горят?
— Просто великолепно.
— Ну что ж, тогда оставьте те, что потолще. А мелкие сожгите на костре.
— Договорились. — Он опустил на землю пилу и канистру с бензином. — Так я начну?
Судя по тону, он ждал, что Пенелопа уйдет, но она не желала уходить.
— Вы весь день будете работать?
— До половины пятого, если вас это устраивает. Летом я начинаю в восемь и заканчиваю в четыре.
— А когда у вас перерыв на обед?
— С двенадцати до часу. Один час.
— Ну что же… — Он уже стоял к ней спиной. — Если что-нибудь понадобится, я дома.
Он присел на корточки, отвинтил крышку бачка длинными ловкими пальцами и ничего не сказал в ответ на ее слова, только кивнул. Было ясно, что она ему мешает. Пенелопа пошла прочь, досадуя на себя и в то же время посмеиваясь над своей навязчивостью. В кухне на столе стояла ее недопитая чашечка кофе. Она отпила глоток и, выяснив, что кофе остыл, вылила его в раковину.
К тому времени, когда приехала миссис Плэкетт, бензопила выла уже добрых полчаса, а из дальнего конца сада в тихий безветренный воздух кольцами поднимался дым костра, разнося аромат горящих веток.
— Явился, значит, — констатировала миссис Плэкетт, с трудом протискиваясь в дверь. На ней был меховой капюшон с опушкой, в руках пластиковый пакет с домашними туфлями и передником.
Она отлично знала, что Пенелопа наняла садовника, как знала почти все, что происходит в жизни ее хозяйки. Они были очень близкие подруги и ничего друг от друга не таили. Когда механик из гаража в Пудли сделал ребеночка дочери миссис Плэкетт, Линде, миссис Килинг была первой, кому миссис Плэкетт поведала о своей беде. Пенелопа заявила, что Линда ни в коем случае не должна выходить замуж за этого бездельника, и стояла на своем как скала, а ребенку связала нарядное белое платьице. И она оказалась права, потому что вскоре после того, как ребенок родился, Линда познакомилась с Чарли Уилрайтом, парнем, о каком только можно мечтать. Он женился на Линде, удочерил ее ребенка, и сейчас они ждали своего. Все сложилось как нельзя лучше, и миссис Плэкетт до сих пор была благодарна миссис Килинг за участие к ее горю и за мудрый совет.
— Кто — садовник? Да, работает.
— Я еще когда по городку ехала, увидела дым костра. — Миссис Плэкетт сняла меховой капюшон, расстегнула пальто. — А фургон где же?
— Он приехал на велосипеде.
— Как его зовут?
— Я не спросила.
— А на вид каков?
— Молодой, судя по речи — интеллигентный, очень красивый.
— Будем надеяться, он не из сомнительных гастролеров.
— На сомнительного гастролера он не похож.
— Не похож, говорите? — Миссис Плэкетт завязала тесемки фартука. — Что же, посмотрим. — Она потерла распухшие красные руки. — Ну и холодище. Да еще и сыро.
— Выпейте чашечку чаю, — по традиции предложила Пенелопа.
— С удовольствием, — по традиции согласилась миссис Плэкетт.
И утро завертелось.
Пропылесосив комнаты, миссис Плэкетт отполировала медные прутья лестницы, крепящие ковер, вымыла пол в кухне, погладила стопку белья, протерла воском мебель, изведя не менее полубанки, и в четверть первого отправилась домой, в Пудли, кормить обедом мужа. Дом сверкал чистотой и благоухал уютными домашними запахами. Пенелопа взглянула на часы и принялась готовить обед для двоих. Поставила разогревать овощной суп. Достала из кладовой половину холодной курицы, румяный ржаной хлеб, печеные яблоки и кувшинчик сливок. Постелила на кухонный стол ситцевую клетчатую скатерть. Если бы светило солнце, она накрыла бы стол в зимнем саду, но небо было затянуто низкими свинцовыми тучами, день так и не разгулялся. Пенелопа поставила возле второго прибора стакан и банку пива. А потом он, наверное, выпьет чаю. Суп начал закипать, распространяя приятный запах. Скоро он придет. Она села и стала ждать.
В десять минут первого он так и не появился, и тогда она пошла его искать. Изгородь оказалась аккуратно подстрижена, костер дотлевал, ветки потолще распилены в полешки и сложены, а садовника нигде не видно. Пенелопа собралась позвать его, но вспомнила, что не спросила имени, и пошла обратно к дому. Что же, может быть, он поработал у нее одно утро и решил, что с него хватит? Бросил все и уехал — и больше не вернется? Но за домом стоит его велосипед, значит он где-то здесь. Она прошла по дорожке дальше и увидела его в гараже: он сидел на перевернутом ведре и перекусывал всухомятку — ел бутерброд, завернутый, судя по кроссворду, в «Таймс».
Отыскав его наконец в таком захламленном, холодном и неуютном помещении, Пенелопа возмутилась до глубины души:
— Боже мой, что вы тут делаете?
Она появилась так неожиданно и обратилась к нему так резко, что он испуганно вскочил и уронил газету. Ведро с грохотом покатилось. Он не мог ей ответить, рот его был полон, сначала надо было прожевать и проглотить бутерброд. Он покраснел и ужасно смутился.
— Я… я обедаю.
— Что? Обедаете?!
— С двенадцати до часу у меня обед. Вы не возражали.
— Вы что же, собираетесь обедать здесь? В гараже, на перевернутом ведре? Идемте в дом, мы будем обедать вместе. Я думала, что мы договорились.
— С вами?!
— А как же иначе? Разве другие люди, для которых вы работаете, не приглашают вас к столу?
— Нет.
— Какая черствость! В жизни не встречала ничего подобного. Да разве у вас хватит сил работать целый день на одном-единственном бутерброде?
— У меня-то хватит.
— Ну уж нет, я этого не допущу. Бросьте ваш черствый хлеб и идемте со мной.
Он был в ужасном замешательстве, но все же подчинился ей, однако бутерброд свой, конечно, не выбросил, а завернул в обрывок бумаги и положил в багажник велосипеда. Потом подобрал газету и убрал туда же, поднял ведро и поставил на место. Только после этого они вошли в дом. Он снял куртку и оказался в штопаном-перештопаном синем шерстяном свитере. Вымыл и вытер руки и сел за стол. Она поставила перед ним большую тарелку дымящегося супа, сказала, чтобы сам резал хлеб и мазал маслом. Себе она налила тарелку поменьше и села рядом с ним.
— Очень любезно с вашей стороны, — сказал он.
— Ничуть. Просто у меня так принято. Нет, я неправильно сказала — у меня-то никогда раньше не было садовника, но вот мои родители, если они нанимали кого-нибудь работать в саду, то обязательно приглашали его пообедать. Я и не представляла себе, что может быть иначе, вот и получилось недоразумение. Простите меня, пожалуйста, это я виновата, что вы меня не поняли.
— Мне и в голову такого не пришло.
— Да, надо было сразу все объяснить. А теперь расскажите мне о себе. Как вас зовут?
— Данус Мьюирфильд.
— Отличное имя!
— По-моему, самое обыкновенное.
— Я имела в виду, что оно идеально подходит для садовника. Иногда поражаешься, до чего имя человека соответствует его занятиям. Ну, мог ли Шарль де Голль не стать спасителем Франции? Или вспомним беднягу Элджера Хисса. С такой фамилией нельзя было не стать шпионом.
— Когда я был маленький, у нас в церкви был священник по имени мистер Патерностер.
— Ну вот видите, я права. А где вы жили тогда? И где учились?
— В Эдинбурге.
— В Эдинбурге! Стало быть, вы шотландец.
— Да.
— А чем занимается ваш отец?
— Он поверенный.
— Поверенный. Как старомодно и мило. А вы не захотели стать юристом, как и он?
— Сначала хотел, но потом… — Данус пожал плечами. — Потом передумал и поступил в сельскохозяйственный институт.
— Сколько вам лет?
— Двадцать четыре.
Пенелопа удивилась — он выглядел старше.
— Вам нравится работать в «Помощи садоводам»?
— Вполне. Для разнообразия.
— Сколько вы уже тут работаете?
— Почти полгода.
— Вы женаты?
— Нет.
— А где живете?
— В домике на ферме у Соукомбов. Это за Пудли, очень близко.
— Я знакома с Соукомбами. Домик удобный?
— Да, ничего.
— А кто о вас заботится?
— Я сам.
Она вспомнила ужасный бутерброд с белым хлебом, и ей представились неуютное жилище, неубранная постель, белье, повешенное сушиться вокруг печки. Наверное, он никогда ничего себе не готовит.
— Вы учились в Эдинбурге? — спросила она, вдруг почувствовав жадный интерес к этому молодому человеку. Что с ним случилось, почему он оказался в таких стесненных обстоятельствах?
— Да.
— И после школы сразу поступили в сельскохозяйственный институт?
— Нет, я два года прожил в Америке. Работал на ранчо у скотовода в Арканзасе.
— А я ни разу не была в Америке.
— О, это удивительная страна!
— Вы не думали остаться там навсегда?
— Думал, но не остался.
— И вы все время жили в Арканзасе?
— Нет, я много путешествовал и неплохо знаю страну. Даже прожил полгода на Виргинских островах.
— Как интересно!
Данус доел суп. Пенелопа спросила, не хочет ли он еще, и он сказал: «Спасибо, с удовольствием», так что она снова наполнила его тарелку. Он взял ложку и сказал:
— Вы говорили, у вас никогда не было садовника. Вы что же, делали здесь все сами?
— Да, — подтвердила Пенелопа с гордостью. — Когда я сюда переехала, все было в полном запустении.
— Значит, вы очень образованный садовод.
— Ну, не знаю.
— Вы здесь всегда жили?
— Нет, я почти всю жизнь провела в Лондоне, и у меня был большой сад, а в детстве я жила в Корнуолле, там он тоже был. Мне повезло — где бы я ни оказывалась, при доме всегда был сад. Не представляю, как можно жить без сада.
— У вас есть семья?
— Да, трое детей, все взрослые. Одна из дочерей замужем, так что у меня есть еще и двое внуков.
— У моей сестры тоже двое детей, — сказал он. — Она вышла замуж за фермера и живет в графстве Перт.
— Вы ездите домой в Шотландию?
— Да, раза два-три в год.
— Как там, должно быть, красиво!
— Да, очень.
После супа Данус съел почти всю курицу и печеные яблоки. Пива пить не стал, но с благодарностью принял от Пенелопы чашку чая. Потом посмотрел на часы и встал. Было без пяти час.
— Боярышник я подстриг, — сказал он. — Покажите, куда сложить поленья, я снесу их к дому. Какое задание вы мне дадите потом? И еще: сколько раз в неделю вы хотите, чтобы я приезжал?
— В агентстве я говорила о трех днях, но, если вы и дальше будете работать такими темпами, пожалуй, хватит и двух.
— Хорошо. Это вам решать.
— Сколько я должна вам платить?
— Вы будете платить агентству, а оно — мне.
— Надеюсь, платят вам прилично?
— Мне хватает.
Он взял куртку с вешалки и надел.
— Почему агентство не дало вам фургона? — спросила она.
— Я не вожу автомобиль.
— Как? Сейчас все молодые люди это умеют. Вы легко научитесь.
— Я не говорил, что не умею. Я сказал, что не вожу.
Пенелопа показала ему, где сложить поленья, дала следующее задание — перекопать участок под овощи — и вернулась в кухню мыть посуду. «Я не говорил, что не умею водить. Я сказал, что не вожу». Не стал пить пиво. Может быть, он нарушил правила в пьяном виде и полиция отобрала у него права? Задавил человека и поклялся себе, что никогда в жизни не возьмет в рот ни капли спиртного? Пенелопа вздрогнула: какой ужас! И все же не исключено, что произошла трагедия, перевернувшая всю его жизнь. Этим многое можно было бы объяснить — напряженное выражение лица, неулыбчивость, тяжелый взгляд ярких глаз. Что-то в них таится за щитом настороженности, какая-то тайна. И все-таки он ей понравился. Даже очень понравился.
На следующий день, во вторник, в девять вечера Ноэль Килинг свернул в своем «ягуаре» на Рэнферли-роуд и, проехав несколько сот метров по темной, залитой дождем улице, остановился у дома своей сестры Оливии. Они не договаривались о встрече, поэтому он был уверен, что не застанет ее, — вечером это дело безнадежное. Ноэль не знал другой женщины, которая бы проводила столько времени в обществе. Но, к его изумлению, занавешенное окно ее гостиной было освещено. Он вышел из машины, запер ее и, пройдя несколько шагов по дорожке, позвонил. Через минуту дверь открылась, и на пороге появилась Оливия в ярко-красном шерстяном халате, без макияжа и в очках. Она явно не ждала гостей.
— Привет, — сказал он.
— Ноэль, ты? — В голосе ее было вполне объяснимое изумление, ибо брат не имел обыкновения заезжать к ней запросто, хотя жил всего в паре миль отсюда. — Что случилось?
— Ничего, просто захотелось повидаться. Ты работаешь?
— Да. Готовлюсь к завтрашней встрече, она назначена на утро. Но это не важно, заходи.
— Мы были с друзьями в Патни.
Ноэль пригладил волосы и прошел за ней в гостиную. Как всегда, здесь было удивительно тепло, светло, всюду цветы… Он позавидовал сестре. Он всегда ей завидовал. Не только ее яркой карьере, но и тому искусству, с которым она умела оформить каждую деталь своей жизни деловой женщины. На низком столике у камина лежали ее папка, множество бумаг, пачка корректуры. Она мгновенно все это сгребла и перенесла на письменный стол, ловко, чуть ли не одним движением приведя в порядок. Ноэль подошел к камину, якобы чтобы погреть руки, а на самом деле взглянуть на приглашения, которые Оливия складывала на каминную полку, и поинтересоваться ее светской жизнью. Так, приглашение на свадьбу (он такого не получил), на вернисаж для узкого круга в новой картинной галерее на Уолтон-стрит…
— Ты что-нибудь ел? — спросила она.
— Несколько кушеток.
Это была их старая семейная шутка: говорить «кушетка» вместо «канапе»[10].
— Хочешь что-нибудь?
— А у тебя есть?
— От ужина остался кусок пиццы, можешь съесть его, если хочешь. И еще печенье и сыр.
— Великолепно.
— Сейчас принесу. А ты пока налей себе что-нибудь.
Оливия пошла на кухню, которая была рядом со столовой, зажигая по пути свет, а Ноэль, последовав ее совету, налил себе виски, слегка разбавив содовой. Потом с удовольствием присоединился к ней, пододвинув высокий табурет к стойке, отделявшей кухню от столовой, и удобно устроился, — словно завсегдатай бара со знакомой барменшей.
— В воскресенье я ездил к маме, — сказал он.
— Да? А я была у нее в субботу.
— Она мне рассказывала. И про твое новое увлечение — американца, который притащился вместе с тобой, тоже. Как она, на твой взгляд?
— После всего, что случилось, по-моему, неплохо.
— Это действительно был сердечный приступ, как ты думаешь?
— Во всяком случае, для нас это сигнал. — Оливия криво усмехнулась. — Нэнси, например, уже похоронила ее и даже памятник поставила. — Ноэль засмеялся и покачал головой. Уж к кому к кому, а к Нэнси они всегда относились одинаково. — Конечно, мама себя не щадит. Она всю жизнь слишком много трудилась. Но сейчас, слава богу, согласилась нанять садовника. Это уже немало.
— Я пытался уговорить ее приехать завтра в Лондон.
— Зачем?
— Чтобы пойти на аукцион «Бутби», там выставлен на продажу Лоренс Стерн. Узнала бы, во сколько его оценят.
— Ах да, «У источника». Я и забыла, что аукцион завтра. И что же, она приедет?
— Нет.
— Ну и правильно, зачем? Она-то денег за акварель не получит.
— Не получит. — Ноэль пристально глядел в свой стакан. — Но может получить, продав свою картину.
— Если ты имеешь в виду «Собирателей ракушек», то советую тебе забыть об этом. Мама скорее умрет, чем расстанется с ними.
— А панно?
Оливия встревоженно нахмурилась:
— Ты говорил о них с мамой?
— А почему бы и нет? Согласись, они ужасны. И висят на площадке без всякого толка. Если их снять, она и не заметит.
— Это неоконченные работы.
— Все твердят, что они неоконченные. Даже надоело. А я уверен, что им цены нет.
Оливия помолчала, потом сказала:
— Предположим, мама согласится их продать. — Она взяла поднос, поставила на него тарелку, положила вилку и ножи, деревянную дощечку для сыра. — Ты собираешься дать ей совет, как распорядиться полученными деньгами, или предоставишь решать самой?
— Деньги, которые отдаешь, пока жив, вдвое ценнее тех, что останутся после твоей смерти.
— Ага. Стало быть, ты нацелился прикарманить их прямо сейчас.
— Речь идет не только обо мне. Нас ведь трое. И не смотри на меня с таким царственным презрением, Оливия, ничего постыдного тут нет. Сейчас всем туго приходится, согласись, а у Нэнси в голове только одно — деньги, деньги, деньги. Вечно нудит, как все дорого.
— Значит, это будете ты и Нэнси. Меня из списка вычеркни.
Ноэль повертел в руке стакан.
— Но отговаривать маму ты не будешь?
— Мне от нее ничего не надо, она и так нам достаточно дала. Я хочу, чтобы она жила в свое удовольствие, ни о чем не тревожась и не думая о деньгах.
— У нее есть деньги. Мы все это знаем.
— Да, сейчас есть. А о будущем ты подумал? Надеюсь, она доживет до глубокой старости.
— Тем более надо продать этих жутких нимф. И выгодно вложить деньги, чтобы обеспечить ей старость.
— Я не хочу обсуждать эту тему.
— Значит, ты не одобряешь мою идею?
Оливия, ничего не ответив, взяла поднос и понесла его к камину. Идя за ней, Ноэль подумал, что не знает другой женщины, которая умеет дать отпор столь жестко и непреклонно, если с чем-то не согласна.
Она резко поставила поднос на низкий столик, выпрямилась и посмотрела брату прямо в глаза:
— Нет, не одобряю.
— Но почему?
— Оставь маму в покое.
— Пожалуйста. — Ноэль легко уступил, зная, что это лучший способ в конце концов добиться своего, и, устроившись в одном из глубоких кресел, принялся за импровизированный ужин. Оливия прислонилась спиной к каминной полке и засунула руки глубоко в карманы. Он вонзил вилку в пиццу, чувствуя на себе ее упорный взгляд. — Бог с ними, с панно. Поговорим о чем-нибудь другом.
— О чем, например?
— Например, об эскизах, которые Лоренс Стерн должен был делать к своим большим полотнам. Ты когда-нибудь слышала о них от мамы и вообще подозревала об их существовании?
Он весь день сомневался, рассказывать ли Оливии о письме, которое он обнаружил, и о том, что оно сулит, и в конце концов решил рискнуть. Оливия сильный союзник, поэтому очень важно склонить ее на свою сторону. Из них троих только она имеет влияние на мать.
Задавая вопрос, Ноэль не сводил глаз с ее лица: на нем проступила настороженность, потом застыло подозрение. Этого он и ждал.
Оливия молчала.
— Нет, — наконец произнесла она. И этого он тоже ждал, причем знал, что сестра сказала правду, потому что она всегда говорит правду. — Никогда не слышала.
— Дело в том, что они наверняка существуют.
— Что толкает тебя на эти бесплодные поиски?
Ноэль рассказал ей о найденном письме.
— «Террасные сады»? Эта картина находится в Нью-Йорке, в Метрополитен-музее.
— Совершенно верно. И если дед написал этюд для «Садов», то почему нет набросков к «Источнику», к «Влюбленному рыбаку» и ко всем его прочим картинам, которые давно стали классикой и наводят скуку на посетителей музеев всех мало-мальски уважающих себя столиц мира?
Оливия задумалась. Потом спросила:
— Может быть, он их уничтожил?
— Глупости. Старик никогда ничего не уничтожал, ты знаешь это не хуже меня. В жизни не видел дома, который был бы так забит старым хламом, как наш на Оукли-стрит. Ну разве что «Подмор Тэтч». Мамин чердак может в любую минуту загореться. Если бы какой-нибудь страховой агент увидел, что там творится, с ним бы припадок случился.
— Ты туда давно заглядывал?
— В воскресенье, искал свою ракетку.
— Это все, что ты там искал?
— Ну, я вообще поглядел, что там и как.
— Например, не засунута ли куда-нибудь папка с набросками Лоренса Стерна?
— Что-то вроде того.
— Но ты ее не нашел.
— Разумеется, нет. В этом хаосе вообще ничего не найдешь.
— Мама знает, что именно ты искал?
— Нет.
— Какой же ты жалкий слизняк, Ноэль! Почему тебе всегда надо делать все тайком?
— Потому что мама не имеет ни малейшего представления, что у нее там свалено, как не знала, чем загроможден чердак на Оукли-стрит.
— Ну и что ты там углядел?
— Спроси лучше, чего не углядел. Старые коробки, сундуки с платьями, связки писем. Портновские манекены, игрушечные коляски, скамеечки для ног, мешки с шерстяной пряжей, весы, коробки с деревянными кубиками, пачки журналов, альбомы с узорами для вязания, старые рамы для картин… назови наугад любую вещь, какая придет тебе в голову, и будь уверена — она там! Поверь, это очень опасно, в любую минуту хлам может загореться. Да еще при такой крыше. Одной искры в ветреный день довольно, чтобы дом сгорел в несколько минут, никакие пожарные приехать не успеют. Остается только надеяться, что мама выпрыгнет из окна и не сгорит заживо. Слушай, пицца потрясающая. Ты сама пекла?
— Я никогда ничего не готовлю. Все покупаю в кулинарии.
Оливия подошла к столу за его спиной. Ноэль услышал, как она наливает себе виски, и улыбнулся. Теперь он знал, что сумел вселить в нее тревогу и привлечь к себе внимание, а может быть, даже вызвать сочувствие. Она вернулась к камину, села на диван, сжала в руках стакан и уставилась на него.
— Ноэль, ты правда считаешь, что чердак может загореться?
— Да, конечно. Просто уверен.
— И что, по-твоему, мы должны сделать?
— Освободить его.
— Мама никогда не согласится.
— Ну, тогда хотя бы разобрать. Но большая часть хлама совершенно бесполезна, ее можно только сжечь — например, стопки журналов, альбомы для вязания, шерстяную пряжу…
— Пряжу-то зачем?
— Ее всю съела моль.
Оливия промолчала. Он доел пиццу и принялся за сыр — отрезал кусочек своего любимого «бри».
— Признайся, Ноэль, ты нарочно раздуваешь из мухи слона, чтобы под этим предлогом произвести розыски. Так вот, если ты найдешь эти эскизы или еще что-нибудь ценное, не забывай: в мамином доме все принадлежит ей.
Он встретил ее взгляд, изобразив оскорбленную невинность.
— Неужели ты подумала, что я способен стащить их?
— Не исключено.
Он счел за благо пропустить эту реплику мимо ушей.
— Если мы найдем эти эскизы, как ты думаешь, сколько они могут стоить? Наверное, не меньше пяти тысяч фунтов каждый.
— Ты говоришь о них с такой уверенностью, будто знаешь, что они там.
— Ничего подобного, я ничего не знаю! Я просто предполагаю, что они могут там быть. Но гораздо важнее другое: чердак опасен в пожарном отношении, и я считаю, что оставлять его в таком состоянии просто преступление.
— Тебе не кажется, что в связи с этим следует произвести переоценку дома и отразить это в страховом полисе?
— Когда Джордж Чемберлейн покупал для мамы коттедж, он все учел. Может быть, тебе стоит переговорить с ним. Кстати, в эти выходные я свободен. Поеду к маме в пятницу вечером и начну разгребать авгиевы конюшни. Позвоню ей и предупрежу.
— Ты спросишь ее об эскизах?
— А как ты считаешь — стоит?
Оливия ответила не сразу.
— Нет, не стоит, — наконец произнесла она. Ноэль удивленно раскрыл глаза. — Мама может разволноваться, а я не хочу, чтобы она волновалась. Если ты найдешь эскизы, можно сказать, а если же нет — не стоит ее тревожить. Но не смей и заикаться о продаже картин, понял? Они не имеют к тебе никакого отношения.
Ноэль прижал руку к сердцу.
— Честное скаутское. — Он ухмыльнулся. — А ведь я тебя убедил.
— Ты гнусный, скользкий прохиндей, и тебе меня никогда не убедить.
Притворившись, будто не слышит ее слов, он молча доел ужин, встал и пошел к столу налить себе еще виски.
— Ты действительно поедешь? К маме, в «Подмор Тэтч»? — спросила она.
— Не вижу причин отказываться от поездки. — Он вернулся к своему креслу. — А что?
— Можешь оказать мне услугу?
— Услугу?
— Тебе что-нибудь говорит имя Космо Гамильтон?
— Космо Гамильтон? Еще бы! Возлюбленный из солнечной Испании. Неужели он снова возник в твоей жизни?
— Нет, он не возникал в моей жизни. Он из нее ушел. Космо Гамильтон умер.
— Что? Умер?! — Ноэль был искренне потрясен. Лицо у Оливии было спокойное, только очень бледное и как бы застывшее, и ему стало стыдно за свое игривое предположение. — Господи, какое несчастье! Что же с ним произошло?
— Не знаю. Он умер в больнице.
— Когда ты узнала?
— В пятницу.
— Но ведь он был еще совсем молод.
— Ему было шестьдесят лет.
— Тяжело тебе сейчас.
— Да, не стану скрывать. Но тут вот еще что — у Космо осталась дочь, Антония. Она прилетает завтра в Хитроу с Ивисы, поживет у меня несколько дней, а потом поедет в «Подмор Тэтч» и присмотрит за мамой.
— А мама в курсе?
— Конечно. Мы в субботу обо всем договорились.
— Мне она ничего не сказала.
— Я была уверена, что не скажет.
— Сколько ей лет, этой девочке… Антонии?
— Восемнадцать. Я хотела сама отвезти ее и провести с ними субботу и воскресенье, но должна встретиться с одним человеком…
Ноэль поднял бровь — он снова стал самим собой.
— Деловая встреча или свидание?
— Деловая встреча. С дизайнером-французом. Это ужасный чудак, он остановился в отеле «Риц», и мне непременно нужно с ним кое-что обсудить.
— И потому?..
— И потому, если ты в пятницу поедешь в Глостершир, захвати, пожалуйста, Антонию. Ты сделаешь мне большое одолжение.
— А она хорошенькая?
— От этого зависит твое согласие?
— Ну что ты, просто интересно.
— В тринадцать лет она была очаровательна.
— Можешь поклясться, что это не конопатая толстуха?
— Боже упаси! Когда мама приехала к нам на Ивису, Антония тоже была там. Они сразу же подружились. Понимаешь, с тех пор как мама заболела, Нэнси постоянно твердит, что она не должна жить одна. А с Антонией она и не будет одна. По-моему, все очень удачно складывается.
— Ты хорошо все рассчитала.
Оливия не обратила внимания на эту шпильку.
— Так ты отвезешь ее?
— Конечно, почему бы нет?
— Когда ты за ней заедешь?
«Так, это будет пятница, вечер», — прикинул он.
— В шесть.
— Я обязательно вернусь к этому времени из редакции. — Оливия вдруг улыбнулась. Она не улыбалась весь вечер, и сейчас ее улыбка возродила между ними теплоту и привязанность. На миг они снова стали любящими братом и сестрой, которые с удовольствием провели вместе вечер. — Спасибо, Ноэль.
Утром из редакции Оливия позвонила Пенелопе:
— Доброе утро, мамочка!
— Оливия, ты?
— Послушай, голубчик, у меня все изменилось. Я в пятницу не смогу приехать, мне нужно встретиться с одним зазнайкой-французом, а он свободен только в субботу и в воскресенье. Так обидно!
— А как же Антония?
— Ее привезет Ноэль. Он тебе еще не звонил?
— Нет.
— Позвонит. Он приедет в пятницу и пробудет у тебя два дня. Вчера мы с ним устроили семейный совет и решили, что нужно как можно скорее разобрать твой чердак, иначе дом сгорит; я и не подозревала, что ты накопила там столько хлама. Старьевщица!
— Семейный совет? — Пенелопа удивилась, да и было чему. — Вы с Ноэлем?
— Да, он заехал ко мне вчера вечером, и я накормила его ужином. Он рассказал, что искал что-то у тебя на чердаке и пришел в ужас — тот забит бог знает чем и в любую минуту может загореться. И мы решили, что Ноэль приедет к тебе и все разберет. Ты не волнуйся, мы вовсе не собираемся давить на тебя, просто очень встревожились. Ноэль обещал, что не будет ничего выбрасывать и жечь без твоего согласия. По-моему, это очень мило с его стороны. Он сам вызвался все сделать, так что, пожалуйста, не обижайся и не говори, что мы обращаемся с тобой, как с выжившей из ума старухой.
— Я вовсе не обижаюсь и тоже благодарна Ноэлю. Я и сама уже лет пять как собираюсь навести там порядок, но, как только наступает зима, нахожу тысячу предлогов отложить это дело. Как ты думаешь, Ноэль один справится?
— Но ведь с вами будет Антония. Может быть, это занятие отвлечет ее от грустных мыслей. Только дай мне слово, что сама ни к чему не прикоснешься.
Пенелопе пришла в голову блестящая идея.
— Можно позвать Дануса. Еще одна пара сильных мужских рук не помешает, к тому же он будет жечь костер.
— Кто такой Данус?
— Мой садовник.
— Ах да, я и забыла. Какой он?
— Замечательный. Антония уже прилетела?
— Нет. Я поеду встречать ее сегодня вечером.
— Поцелуй ее за меня и скажи, что я жду ее не дождусь.
— Скажу. Они с Ноэлем приедут к тебе в пятницу вечером, к ужину. Так жалко, что я не смогу быть с вами.
— Мне тоже. Я очень соскучилась. Но не огорчайся, приезжай, когда сможешь вырваться.
— До свидания, мамочка.
— До свидания, голубчик.
Вечером позвонил Ноэль:
— Привет, ма.
— Здравствуй, Ноэль.
— Ну как ты?
— Отлично. Я слышала, ты приедешь на субботу и воскресенье.
— Оливия с тобой говорила?
— Да, утром.
— Она велела мне приехать и разгрузить чердак. Говорит, ее мучают кошмары: пожар и ты задыхаешься в дыму.
— Знаю, она говорила. По-моему, вы хорошо придумали. Я вам очень благодарна.
— Потрясающе. Это надо где-то записать. Мы боялись, ты нас на пушечный выстрел к дому не подпустишь.
— Ну и зря боялись. — Пенелопе не очень-то льстил образ старой, упрямой самодурки, который навязывал ей сын. — Я попрошу Дануса приехать помочь тебе. Это мой садовник. Я уверена, он согласится. Он замечательно умеет жечь костры.
Ноэль помедлил, потом сказал:
— Великолепно.
— А ты привезешь Антонию. Итак, я жду вас в пятницу вечером. Пожалуйста, не гони!
Пенелопа уже хотела положить трубку, но он, почувствовав это, закричал: «Ма!» — и она снова поднесла ее к уху.
— Прости, я думала, мы обо всем договорились.
— Я хотел рассказать тебе об аукционе. Я ведь был сегодня у «Бутби». Как ты думаешь, за сколько ушла картина «У источника»?
— Понятия не имею.
— За двести сорок пять тысяч восемьсот фунтов.
— Да что ты! Кто же ее купил?
— Какая-то американская картинная галерея. Кажется, в Денвере, штат Колорадо.
Пенелопа удивленно покачала головой, словно он мог видеть ее.
— Это очень большие деньги.
— Подумать страшно!
— Да уж, задуматься есть над чем.
Когда в четверг Пенелопа спустилась из спальни вниз, садовник уже работал. В прошлый раз она дала ему ключ от гаража, чтобы он мог брать садовые инструменты, и сейчас, вставая, видела, как он вскапывает огород. Она не стала беспокоить его, потому что уже поняла: Данус не только чрезвычайно трудолюбив, но и ценит одиночество, а значит, ему не понравится, если она будет то и дело прибегать, давать указания, проверять, как идут дела, и вообще надоедать. Если ему что-то понадобится, он сам придет и спросит. Если нет — будет просто работать, и все.
И все же без четверти двенадцать, закончив немногочисленные дела по дому и положив хлеб в духовку, чтобы согреть, Пенелопа сняла фартук и пошла в сад поздороваться и напомнить, что ждет его обедать. Сегодня было теплее, между тучами проглядывало голубое небо. Солнце еще не грело, но она решила накрыть стол в зимнем саду и поесть там.
— Доброе утро.
Данус увидел ее, выпрямился и оперся о лопату. Воздух тихого безветренного утра был наполнен крепкими здоровыми запахами свежевскопанной земли и смеси компоста с перепревшим конским навозом, которую он принес из ее идеально приготовленной компостной кучи.
— Доброе утро, миссис Килинг.
Он снял свою куртку и свитер и работал в рубашке с закатанными рукавами. Тонкие загорелые руки были перевиты несильными мускулами. Пенелопа не сводила с него глаз. Вот он поднял руку и вытер тыльной стороной кисти испачканный землей подбородок. Этот жест пронзил ее ощущением, что она давно знает юношу, но сейчас она была к этому готова, и сердце ее не остановилось, а наполнилось радостью.
— Вам, видно, жарко, — сказала она.
Он кивнул:
— Разогрелся от работы.
— Обед будет готов в двенадцать.
— Спасибо, не опоздаю.
И он продолжил копать. Вокруг них порхала малиновка — вероятно, ее в равной мере привлекали и общество людей, и червяки. До чего милые птахи, вечно вьются рядом с людьми! Пенелопа пошла домой, сорвав по пути несколько диких нарциссов. Цветы были бархатистые, их нежный запах кружил голову, и ей вспомнились бледно-желтые примулы Корнуолла, расцветающие под укрытием живой изгороди, когда вся остальная земля еще во власти зимы.
Нужно скорее ехать, подумала Пенелопа. Весна в Корнуолле — волшебное время. Нужно спешить, иначе может быть поздно.
— Что вы делаете в выходные, Данус? — спросила она.
Сегодня она подала ветчину, картофельное пюре и цветную капусту, а на десерт пирожки с вареньем и заварной крем на взбитых яйцах. Это был настоящий полноценный обед, а не легкая закуска — так, на скорую руку, червячка заморить. Она села вместе с ним за стол и подумала, что эдак можно и растолстеть.
— Так, ничего особенного.
— Ни у кого не работаете?
— Иногда меня приглашает по субботам утром управляющий банком Пудли. Он больше любит играть в гольф, чем возиться в саду, и жена его жалуется, что все заросло сорняками.
Пенелопа улыбнулась:
— Бедняга. А что в воскресенье?
— По воскресеньям я свободен.
— Может быть, вы пришли бы на денек поработать? Платить я буду вам, а не агентству, это только справедливо, потому что я хочу попросить вас помочь мне не в саду.
Данус, как следовало ожидать, слегка удивился:
— Какую же работу я должен буду делать?
Пенелопа рассказала ему о намерении Ноэля разобрать чердак.
— Там столько хлама, и все нужно стащить вниз и разобрать. Один он просто не справится. Я и подумала, может быть, вы сможете прийти помочь?
— Конечно приду. Но просто так, платить мне ничего не надо.
— Но…
— Не будем говорить об этом, — решительно сказал он. — Никакой платы. Во сколько я должен быть здесь?
— Часов в девять.
— Прекрасно.
— Обедать будет целое общество. Ко мне на месяц-полтора приезжает одна девушка. Ноэль привезет ее завтра вечером. Ее зовут Антонией.
— Рад за вас.
— Я тоже рада.
— Вам с ней будет не так одиноко.
Нэнси мало интересовалась газетами. Если ей надо было ехать в городок за покупками, — а это случалось почти каждое утро, потому что она ухитрялась почти не разговаривать с миссис Крофтвей и в результате постоянно выяснялось, что кончилось сливочное масло, нет растворимого кофе или приправы для соуса, — то она покупала на почте «Дейли мейл» или «Вуменз оун»[11] и просматривала их за кофе с бутербродами и шоколадными пирожными, которые составляли ее обед. «Таймс» появлялась в доме только вечером, ее привозил в своем кейсе Джордж.
В четверг у миссис Крофтвей был выходной, и это значило, что, когда Джордж вернется с работы, Нэнси будет орудовать на кухне. На ужин планировались пирожки с рыбой, миссис Крофтвей их уже приготовила, а ее муж принес еще корзину омерзительной перезревшей брюссельской капусты, которую выращивал сам, и сейчас Нэнси выливала овощной бульон в раковину, уверенная, что дети ее есть не станут. Тут она и услышала, что подъехала машина. Через минуту дверь в кухню отворилась, потом затворилась, и рядом с ней оказался муж, усталый и словно бы обвисший в своем сером костюме. Она от души надеялась, что день у него был не слишком утомительный. Когда такое случалось, он вымещал раздражение на ней.
Нэнси жизнерадостно улыбнулась мужу. Хорошее настроение у Джорджа бывало чрезвычайно редко, но она всеми силами старалась создавать иллюзию, пусть даже для одной себя, что между ними существуют нежная привязанность и глубокое понимание.
— Привет, милый! Как прошел день?
— Нормально.
Он швырнул кейс на стол и извлек из него «Таймс».
— Вот, посмотри.
Нэнси была потрясена — какая деловитость! Обычно он, явившись домой, бормотал ей что-то в знак приветствия и уходил в библиотеку отдохнуть часок в тишине перед ужином. Видно, случилось что-то из ряда вон выходящее. Только бы не атомная война! Нэнси оставила брюссельскую капусту, вытерла руки и подбежала к мужу. Он развернул на столе газету, нашел раздел «Искусство» и ткнул длинным белым пальцем в какую-то статью.
Нэнси беспомощно посмотрела на расплывающиеся строчки и сказала:
— Без очков не вижу.
Джордж тяжело вздохнул — ну чего еще ждать от этой недотепы?
— Это сообщение об аукционах, Нэнси. Вчера у «Бутби» была продана картина твоего деда.
— Как вчера? — Она вовсе не забыла о полотне «У источника», напротив, после обеда с Оливией в «Кетнерс» неотступно думала об их разговоре, но ее так поглотили мысли о цене картины, которая висит у матери, в «Подмор Тэтч», что она потеряла счет дням. Впрочем, она всегда плохо помнила даты.
— Знаешь, за сколько она ушла? — (Нэнси раскрыла рот от изумления и покачала головой.) — За двести сорок пять тысяч восемьсот фунтов.
Он произнес магические слова ясно и четко, чтобы они дошли до ее сознания. Нэнси почувствовала, что сейчас потеряет сознание. Она оперлась о кухонный стол, чтобы не упасть, и поглядела на мужа вытаращенными глазами.
— Купил ее какой-то американец. Обидно, что все сколько-нибудь ценное уплывает из Англии.
Наконец к ней вернулся голос, и она пролепетала:
— А ведь картина на редкость безобразная.
Джордж улыбнулся ледяной улыбкой без тени юмора.
— К счастью для «Бутби» и для ее предыдущего владельца, не все разделяют твое мнение.
Но Нэнси не обратила внимания на ехидную реплику.
— Значит, Оливия не намного ошиблась.
— О чем ты?
— Мы говорили с ней об этой картине, когда обедали у Кеттнера, и она назвала примерно такую же сумму. — Нэнси посмотрела на Джорджа. — И еще сказала, что «Собиратели ракушек» и две другие картины, которые висят у мамы, стоят не меньше полумиллиона. Может быть, она и тут права.
— Без сомнения. Наша Оливия очень редко ошибается. Она вращается в таком обществе, что в курсе всего.
Нэнси опустилась на стул, ноги устали держать ее грузное тело.
— Как ты думаешь, Джордж, мама догадывается об их истинной стоимости?
— Вряд ли. — Он поджал губы. — Поговорю-ка я с ней. Нужно пересмотреть размеры страхового вознаграждения. Кто угодно может войти в дом и просто снять картины со стен. Насколько мне известно, она никогда в жизни не запирает дверь.
Нэнси разволновалась. Она не рассказывала Джорджу о своей беседе с сестрой, потому что он не выносил Оливию и постоянно демонстрировал пренебрежение к ее суждениям о чем бы то ни было. Но на сей раз он сам завел разговор о картинах деда и облегчил ее задачу. Надо ковать железо, пока горячо, решила она и сказала:
— Может быть, стоит поехать повидать маму и все обсудить?
— Что обсудить — условия страхования?
— Если взносы так сильно увеличатся, может быть, она… — Голос у Нэнси сорвался. Она откашлялась. — Может быть, мама решит, что проще продать их. Оливия говорит, сейчас на этих старых викторианских художников бешеный спрос… — Эта фраза показалась Нэнси восхитительно профессиональной, и она была горда собой. — Было бы жаль упустить такую возможность.
В кои-то веки Джордж задумался над ее словами. Сжал губы, снова прочел параграф с сообщением о продаже и тщательно, аккуратно сложил газету.
— Решай сама, — сказал он.
— Ах, Джордж, полмиллиона! Я и представить себе не могу столько денег.
— Не забывай, придется заплатить налоги.
— Ну и что с того! Нет, мы должны ехать. Тем более что я так давно с мамой не виделась. Пора проверить, как там идут дела. А потом я заведу речь о картинах. Очень деликатно. — Лицо Джорджа выразило сомнение. Оба они знали, что уж чем-чем, а деликатностью Нэнси не отличается. — Поеду, но сначала позвоню.
— Мама? Добрый вечер.
— А, Нэнси.
— Ну как ты?
— Хорошо. А ты?
— Очень устала?
— Кто — ты или я?
— Ты, конечно. Садовник начал работать?
— Да. Приезжал в понедельник и сегодня.
— Надеюсь, он свое дело знает?
— Я им довольна.
— Ты решила что-нибудь относительно компаньонки? Я дала объявление в нашу местную газету, но, к сожалению, никто не откликнулся. Ни единого звонка.
— Об этом ты, пожалуйста, больше не хлопочи. Завтра вечером приезжает Антония, она пока поживет со мной.
— Антония? Это еще кто такая?
— Антония Гамильтон. Видимо, мы все забыли рассказать тебе. Я думала, ты знаешь о ней от Оливии.
— Нет, — отрезала Нэнси ледяным тоном. — Никто мне ничего не рассказал.
— Так вот, случилось ужасное несчастье. Этот очаровательный человек, возлюбленный Оливии, который жил на острове Ивиса, умер. И его дочь собирается пожить у меня: она должна немного успокоиться и решить, что делать дальше.
Нэнси была в бешенстве:
— Ну, знаете, я вас совершенно не понимаю! Никто обо мне не подумал, никто не сказал ни слова! А я-то беспокоюсь, даю объявления!
— Не сердись, доченька, у меня столько дел, что я просто забыла тебе сказать. Но нет худа без добра: теперь тебе больше не надо тревожиться обо мне.
— Но что это за девушка?
— Я думаю, очень славная.
— Сколько ей лет?
— Всего восемнадцать. Мне с ней будет очень хорошо.
— Когда она приезжает?
— Я же сказала — завтра вечером. Ноэль привезет ее из Лондона. Он пробудет у меня субботу и воскресенье и разберет чердак. Они с Оливией боятся, что там может в любую минуту случиться пожар. — Нэнси молчала, и Пенелопа предложила: — Почему бы вам всем не приехать в воскресенье к обеду? Возьмите с собой детей. Повидаешься с Ноэлем, увидишь Антонию.
«И заведу разговор о картинах».
— Спасибо… — Нэнси колебалась. — Я бы с удовольствием. Только подожди минутку, я переговорю с Джорджем…
Оставив трубку возле телефона, она пошла искать мужа и нашла его очень скоро: разумеется, он сидел в глубоком кресле, укрывшись за страницами «Таймс».
— Джордж! — Он опустил газету. — Она приглашает нас всех к обеду в воскресенье, — прошептала Нэнси, словно боялась, что мать услышит, хотя телефон был в другой комнате.
— Я не могу, — тотчас отказался Джордж. — У меня завтрак у епископа, потом собрание.
— Тогда я поеду с детьми.
— Помнится, дети приглашены к Уэйнрайтам.
— Ах да, я и забыла. Ну что ж, придется ехать одной.
— Видно, так.
Нэнси вернулась к телефону:
— Мама, ты слушаешь?
— Да, все еще слушаю.
— Джордж и дети в воскресенье заняты, а я с удовольствием приеду, если ты не против.
— Одна? — Кажется, в голосе матери прозвучала радость, но Нэнси решила об этом не задумываться. — Замечательно. Приезжай к двенадцати, поболтаем. До встречи.
Нэнси положила трубку и пошла рассказать Джорджу, как все устроилось. Потом она долго жаловалась на черствость и высокомерие Оливии, которая нашла компаньонку для матери, не ударив при этом пальцем о палец, и даже не сочла нужным сообщить об этом ей, Нэнси.
— …А ты знаешь, сколько ей лет? Восемнадцать! Уверена, это никчемная пустышка, которая будет целый день валяться в постели, ожидая, чтобы за ней ухаживали. Маме забот только прибавится. Согласись, Джордж, Оливия могла бы посоветоваться со мной. Или хотя бы известить. Ведь это я взяла на себя ответственность заботиться о маме, и вот, пожалуйста. Никто со мной не считается, как будто меня и нет. Какое удивительное бездушие… Ты согласен, Джордж?
Но Джордж уже давно перестал ее слушать и погрузился в газету. Нэнси вздохнула и ушла на кухню, где выместила свое возмущение на брюссельской капусте.
Ноэль с Антонией приехали в четверть десятого, когда Пенелопе уже представлялась искореженная груда металла на обочине, в которую превратился «ягуар», и в нем два трупа. Дождь лил стеной, и она каждую минуту бросалась к кухонному окну, с трепетом всматриваясь в сторону ворот; а когда наконец решила позвонить в полицию, услышала шум машины со стороны городка, та затормозила, свернула с шоссе на дорожку — благодарение Богу! — потом въехала в ворота и остановилась на заднем дворе.
Пенелопа заставила себя успокоиться. Ноэль не выносил, когда из-за него тревожились, к тому же они с Антонией наверняка выехали из Лондона часов в шесть, а то и позже, так что изводиться было просто глупо. Она отбросила прочь беспокойство, изобразила приветливую безмятежную улыбку и пошла включать свет во дворе и открывать дверь.
Она увидела длинную, элегантную, кое-где поцарапанную машину Ноэля. Он уже вышел под дождь и открывал другую дверцу. Выскочила Антония, волоча за собой то ли рюкзак, то ли сумку. «Беги скорее под крышу», — сказал ей Ноэль, и она, нагнув голову под проливным дождем, бросилась к веранде прямо в объятия Пенелопы.
Антония поставила сумку на коврик, и они крепко обнялись, Пенелопа почувствовала облегчение и нежность. Антония же просто радовалась, что наконец-то оказалась рядом с единственным человеком на свете, которого ей сейчас хотелось видеть.
— Антония! — Разжав объятия, Пенелопа взяла девушку за руку и втянула в теплую светлую кухню; холод, дождь и тьма остались за закрытой дверью. — Слава богу, я думала, вы никогда не приедете.
— Я тоже.
Она почти не изменилась и казалась той же тринадцатилетней девочкой. Пожалуй, подросла, но осталась такой же тоненькой и хрупкой. Длинные ноги, прекрасная фигура, рот уже не кажется таким крупным на округлившемся личике, а в остальном такая же: веснушки на носу, приподнятые к вискам зеленоватые глаза, длинные густые светлые ресницы, тяжелые медно-золотые прямые волосы падают на плечи, и даже одежда словно бы та же — джинсы, белая водолазка и толстый мужской пуловер.
— До чего ж я рада, что ты здесь! Ехать было тяжело? Такого ливня я давно не помню.
— Да, дорога была нелегкой.
Вошел Ноэль и внес не только ее чемодан и свою сумку, но и забытый на пороге рюкзак Антонии.
— Здравствуй, Ноэль! — (Он поставил вещи.) — Какой кошмарный ливень.
— Будем надеяться, стихия угомонится и дождь не будет лить все выходные напролет, иначе нам ничего не удастся разобрать. — Он потянул носом. — А что это так вкусно пахнет?
— Пастуший пирог.
— Ой, умираю с голоду!
— Еще бы. Я отведу Антонию наверх, покажу ей комнату, и сразу сядем ужинать. Ты пока налей себе виски. Тебе сейчас просто необходимо выпить. Мы скоро вернемся. Идем, Антония…
Она взяла рюкзак, Антония — свой чемодан, и они пошли наверх. Поднялись на крошечную площадку, вошли в спальню, через нее во вторую.
— Какой чудесный дом, — сказала Антония.
— В нем трудно уединиться, здесь все комнаты сообщаются.
— Как у нас на Ивисе.
— На самом деле это не один коттедж, а два. До сих пор даже сохранились две лестницы и два входа. Ну вот, пришли.
Пенелопа положила рюкзак и оглядела любовно приготовленную комнату, проверяя, не упустила ли чего. Здесь было очень приятно. Белый, закрепленный у стен ковер, — новый, все остальные вещи привезены с Оукли-стрит. Две кровати с блестящими спинками, занавески с розами из более легкой ткани, чем покрывала. Туалетный столик красного дерева, стулья с мягкими спинками. В хрустальной вазе букетик диких нарциссов, покрывало на одной из кроватей отвернуто, чтоб было видно белоснежное белье и розовые одеяла.
— Это гардероб, а вон та дверь — в ванную, за ней комната Ноэля. Ванная у вас одна на двоих, но, если он будет принимать душ, ты можешь воспользоваться моей, она в другом конце дома. Что еще?.. — Как будто все рассказала. — Что ты сейчас будешь делать? Примешь ванну? Времени сколько угодно.
— Нет, но я с удовольствием умоюсь. И сразу же спущусь к вам.
Под глазами у Антонии лежали глубокие тени, словно она их специально наложила.
— Ты, я думаю, устала, — сказала Пенелопа.
— Да уж. Но тут еще перелет сказывается. Я до сих пор не пришла в себя.
— Ничего, главное, что ты здесь и тебе больше не надо никуда ехать, пока сама не захочешь. Умоешься, приходи вниз, Ноэль нальет тебе вина.
Ноэль сидел в кухне за столом с большим стаканом темного виски с содовой и читал газету. Пенелопа закрыла за собой дверь, и он поднял голову:
— Все в порядке?
— Бедная девочка, она держится из последних сил.
— Да. Она почти всю дорогу молчала. Я думал, спит, но оказалось, нет.
— Она за эти годы совсем не изменилась. Тот же прелестный ребенок, что и пять лет назад.
— Смотри, я ведь могу и влюбиться.
Пенелопа строго посмотрела на него:
— Ты будешь вести себя с этой девочкой безупречно.
Ноэль изобразил полнейшую невинность:
— Господи, о чем ты?
— Отлично знаешь о чем.
Он добродушно усмехнулся, сдаваясь:
— После того как я разгребу хлам на твоем чердаке, я свалюсь и засну мертвым сном, так что ни на что не буду годен.
— От души надеюсь.
— Ради бога, перестань, ма, она же совсем не в моем вкусе, неужели ты не понимаешь… белесые ресницы, ну кому это может понравиться! Как у кролика. Я сейчас умру голодной смертью. Когда мы будем ужинать?
— Как только Антония спустится. — Пенелопа открыла духовку и взглянула на пастуший пирог — не подгорел ли. Нет, как раз готов. Она закрыла дверцу.
— Что ты думаешь об аукционе в среду? «У источника» купил за баснословную цену американский музей, — сообщил Ноэль.
— Просто невероятно, я тебе уже говорила.
— Ты решила, что будешь делать?
— А я должна что-то делать?
— Не понимаю твоего упрямства. За нее дали почти четверть миллиона! Тебе принадлежат три работы Лоренса Стерна, а они сейчас в цене, и это меняет ситуацию. В прошлый раз я сказал, как, на мой взгляд, следует поступить. Нужно, чтобы картины оценили самые авторитетные искусствоведы. Если ты по-прежнему не хочешь продавать их, то, ради всего святого, хотя бы застрахуй заново. В один прекрасный день, когда ты будешь в саду увлеченно заниматься розами, какой-нибудь шутник спокойно войдет в дом, снимет картины и просто унесет. Уж слишком ты доверчива.
Пенелопа пристально смотрела на него через стол, и в душе ее благодарность за сыновнюю заботу боролась с неприятным подозрением, что Ноэль, как истинный сын своего отца, чего-то от нее добивается. Он ответил ей ясным открытым взглядом голубых глаз, но сомнения не исчезли.
— Ладно, я подумаю, — наконец проговорила она. — Но знай, я никогда в жизни не продам «Собирателей ракушек», слишком это большое счастье — смотреть на них. Это все, что мне осталось от прошлого, от моего детства, от жизни в Корнуолле, от Порткерриса.
Ноэль слегка испугался:
— Что такое? Почему вдруг зарыдали скрипки? Ты же никогда не была сентиментальной, это на тебя не похоже.
— Никакой сентиментальности. Просто меня в последнее время неудержимо тянет побывать там еще раз. Наверное, это все из-за моря. Мне хочется его увидеть. А почему бы и нет? Что может мне помешать? Поеду хотя бы на несколько дней.
— Ты уверена, что это разумно? Не лучше ли сохранить приятные воспоминания? Ведь все меняется, и всегда к худшему.
— Море не меняется, — упрямо возразила Пенелопа.
— Но у тебя же там никого не осталось.
— Осталась Дорис. Я могу пожить у нее.
— Дорис? Это кто?
— Эвакуированная, которую к нам поселили в начале войны. Она жила с нами в Карн-коттедже, а потом так и осталась в Порткеррисе, не захотела возвращаться в Хекни. Мы до сих пор переписываемся, и она всегда зовет меня к себе в гости… — Пенелопа помедлила и спросила сына: — Ты поедешь со мной?
— Я? С тобой? — Уж чего-чего, а такой просьбы он не ожидал и сейчас даже не попытался скрыть изумления.
— Составил бы мне компанию. — Ее слова прозвучали жалобно, точно она страдала от одиночества. Она решила зайти с другого конца: — Мы оба получили бы большое удовольствие. Я мало о чем жалею в жизни, но одного себе не могу простить: надо было свозить вас всех в Порткеррис, когда вы были маленькие, но как-то все не получалось, сама не знаю почему.
Оба чувствовали неловкость, и Ноэль решил обратить все в шутку:
— Я вроде бы уже вышел из того возраста, когда строят из песка замки на берегу.
Мать не отозвалась на шутку.
— Там много интересного помимо замков.
— Например?
— Я показала бы тебе Карн-коттедж — дом, где мы жили. Мастерскую твоего деда. Картинную галерею, которую он основал. Ты вдруг так заинтересовался его картинами, что тебе, наверное, захочется увидеть, где он их писал.
Она мастерски умела наносить удары ниже пояса, хотя нечасто пользовалась своим искусством. Ноэль отпил глоток виски, надеясь обрести утраченное равновесие.
— Когда ты хочешь поехать?
— Чем скорей, тем лучше. Пока весна не кончилась и не наступило лето.
Он вздохнул с облегчением, получив отличный повод для отказа.
— Сейчас я не смогу вырваться — работа.
— Даже в выходные, если понедельник совпадает с праздником?
— Ма, у нас сейчас жуткий цейтнот, я смогу вырваться в отпуск не раньше июля.
— Ну что ж, нет так нет. Будь добр, Ноэль, открой бутылку вина.
Он страшно обрадовался, что мать переменила тему, но на душе у него все же скребли кошки. Он встал:
— Не сердись, пожалуйста. Я бы с удовольствием поехал с тобой.
— Да, конечно, — отозвалась Пенелопа. — Я не сомневаюсь.
Антония появилась без четверти десять. Ноэль разлил вино, и они сели за стол, где уже лежал на блюде пастуший пирог, были поданы салат из свежих фруктов, печенье, сыр. Потом Ноэль сварил себе кофе и, объявив, что, прежде чем приняться завтра за разборку, должен определить объем работы, взял кофе и отправился наверх.
Когда он ушел, Антония тоже встала и принялась собирать посуду, но Пенелопа остановила ее:
— Не надо. Я вымою все в машине. Уже почти одиннадцать, ты, наверное, засыпаешь на ходу. Может быть, сейчас примешь ванну?
— Да, с удовольствием. Мне почему-то кажется, что я ужасно грязная. Наверное, это Лондон так на меня подействовал.
— Он и на меня так действует. Налей полную ванну горячей воды и хорошенько отмокни.
— Ужин был замечательный. Спасибо.
— Милая моя девочка… — Пенелопа была так растрогана, что вдруг словно онемела. А ей хотелось столько сказать! — Когда ты ляжешь, может быть, я зайду пожелать тебе покойной ночи.
— Правда?
— Договорились.
Антония ушла, а Пенелопа медленно убрала со стола, загрузила посудомоечную машину, выставила за дверь молочные бутылки и накрыла стол для завтрака. В этом доме с открытыми дверями и деревянными потолками гулко разносились все звуки; она слышала, как Антония наливает ванну, шаги Ноэля, пробирающегося через заставленный чердак. Бедняга, он взвалил на себя непосильный труд. Дай бог только, чтобы Ноэль не остановился на полпути, тогда ей вовсе не совладать с хаосом. Антония открыла пробку ванны, и вода с шумом устремилась вниз по трубе. Пенелопа повесила посудное полотенце, выключила свет и стала подниматься наверх.
Антония лежала в постели, но не спала, а просматривала журнал, который Пенелопа положила ей на столик у кровати. Ее обнаженные тонкие руки были темны от загара, шелковистые волосы рассыпались по белой льняной наволочке.
Пенелопа закрыла за собой дверь.
— Приятно было поплескаться?
— Божественно. — Антония улыбнулась. — Ничего, что я налила в воду эти восхитительные растворы для ванн, которые у вас там стоят?
— Я для тебя их и поставила. — Пенелопа села на край кровати. — Тебе это пошло на пользу. Вид уже не такой замученный.
— Да. Я словно заново родилась. Чувствую себя бодрой, и страшно хочется говорить, говорить, говорить. Кажется, я сегодня не усну.
Наверху, над балками потолка, послышался шум — на чердаке что-то волокли по полу.
— Может быть, оно и к лучшему: вон какой грохот Ноэль устроил.
Раздался глухой удар, словно уронили что-то тяжелое, и потом голос Ноэля: «Ах ты черт!»
Пенелопа засмеялась, засмеялась и Антония, потом вдруг перестала, и ее глаза наполнились слезами.
— Милая моя девочка.
— Ужасно глупо… — Она шмыгнула носом, ощупью нашла платок и высморкалась. — Просто мне так хорошо здесь, с вами, я снова могу радоваться всяким пустякам. Помните, как мы с вами раньше смеялись? Когда вы у нас жили, все время случалось что-нибудь смешное. После вашего отъезда такого уж не было.
Она взяла себя в руки. Слезы отступили, не пролившись, и Пенелопа тихо спросила:
— Хочешь, поговорим?
— Хочу.
— Расскажешь мне о Космо?
— Да.
— Какое горе! Когда Оливия мне рассказала, я… у меня в сознании не умещалось. Мне так жаль…
— Он умер от рака.
— Я не знала, что у него рак.
— Рак легких.
— Но ведь он же не курил.
— Раньше курил, до того, как вы познакомились. Даже до того, как он встретился с Оливией. Выкуривал по пятьдесят сигарет в день. Потом-то он бросил, но все равно это убило его.
— Ты была с ним?
— Да. Я с ним жила последние два года. После того, как мама снова вышла замуж.
— Тебя огорчил ее брак?
— Нет, я была очень рада за нее, но мне не нравится ее новый муж. Впрочем, это не имеет значения, главное, чтобы ей нравился. Она переехала из Уэйбриджа на север, потому что он родом оттуда.
— Чем он занимается?
— У него фабрика, там делают шерстяную пряжу.
— Ты была там?
— Да, ездила на Рождество после того, как они поженились. Это было ужасно. У него два сына, настоящие выродки. Я еле выдержала несколько дней, один из них меня чуть не изнасиловал. Может быть, я слегка преувеличиваю, но из-за них-то я и не захотела вернуться к матери, когда папа́ умер. Просто не могла, и все. И единственным человеком в мире, к кому я в состоянии была обратиться за помощью, оказалась Оливия.
— Да, понимаю. Но расскажи мне еще о Космо.
— Он прекрасно себя чувствовал, никому и в голову не приходило, что он болен. И вдруг с полгода назад он начал кашлять. Кашель был ужасный, он кашлял всю ночь и не мог заснуть. Я тоже не спала, лежала и уговаривала себя, что ничего страшного, все пройдет. Но в конце концов я убедила его, что надо показаться доктору, и он поехал в местную больницу сделать рентген и всякие анализы. Там он и остался. Его разрезали, удалили пол-легкого, зашили и сказали мне, что скоро отпустят домой, но он умер, так и не придя в сознание.
— Ты была одна?
— Да, я была одна. Правда, Мария и Томеу были все время рядом, а мне и в голову не приходило, что дела его так плохи, поэтому я сначала не очень тревожилась и боялась. И потом, все случилось так быстро. Только сегодня мы были вместе, в нашем любимом доме, все было как всегда, а завтра он умер. Конечно, на самом деле прошло несколько дней, а не один, но мне так казалось.
— Что ты делала?
— Что я делала… Страшно вымолвить, но нужно было его хоронить. Понимаете, на Ивисе хоронят умерших сразу, на следующий же день. Никогда бы не подумала, что на острове, где почти ни у кого нет телевизоров, новость распространится так быстро — вечером все уже знали, словно жители оповестили друг друга при помощи костров или барабанного боя, как дикие туземцы. У него было великое множество друзей. И не только среди нашего круга, его любили и все местные: те, с кем он пил в баре Педро, рыбаки из порта, фермеры, которые жили в округе. И все они пришли.
— Где его похоронили?
— На маленьком церковном кладбище в деревне.
— Но… но там ведь католическая церковь.
— Да, верно. Но так и следовало. Папа́ не ходил в церковь, но в детстве его крестили в католическую веру. И потом, он был в большой дружбе с деревенским священником. Священник такой добрый, так меня утешал. Он служил заупокойную службу не в церкви, а у могилы, при ярком солнце. Люди подходили и клали на могилу цветы, образовалась целая гора. Это было так красиво. А потом все вернулись в дом, Мария приготовила стол, все ели, пили вино и потом тихо разошлись. Вот как все было.
— Да. То, что ты рассказала, очень печально, но удивительно возвышенно. Скажи, ты и Оливии все это рассказала?
— Не все. Она и не хотела знать всего.
— Узнаю свою дочь. Когда ее чувства глубоко задеты, она их прячет, словно сама перед собой притворяется, что ничего не произошло.
— Да, знаю. То есть я это поняла. И не огорчилась.
— Что ты делала, когда жила у нее в Лондоне?
— Ничего особенного. Съездила в «Маркс энд Спенсерз», купила себе теплые вещи. И еще встретилась с поверенным отца. Это было очень тяжело.
Пенелопу охватила жалость к девочке.
— Он тебе ничего не оставил?
— Почти ничего. Бедняга, ему и нечего было оставить.
— А дом на Ивисе?
— Он никогда нам не принадлежал. Его владелец некто Карлос Барсельо. К тому же мне бы не хотелось там жить. А если бы и хотелось, все равно платить нечем.
— У отца была яхта. Что случилось с ней?
— Яхту он продал вскоре после того, как Оливия уехала. А другую так и не купил.
— А как же его вещи — книги, мебель, картины?
— Томеу договорился с другом, что тот будет держать все у себя, пока я не пришлю за ними или пока не наберусь храбрости и сама не приеду забрать.
— Я знаю, Антония, сейчас в это невозможно поверить, но такое время настанет.
Антония закинула руки за голову и уставилась в потолок.
— Сейчас я уже в порядке, — сказала она. — Мне очень тяжело, но не потому, что он умер. Если бы он перенес операцию и выжил, то жизнь его была бы сплошным страданием и болью, он не протянул бы и года. Мне врач объяснил. Так что смерть была милосердным избавлением. Только печально, что годы после разлуки с Оливией он прожил так одиноко. У него больше никого не было. Он слишком любил Оливию. Наверное, она была его единственной настоящей любовью.
Теперь в доме стояла тишина. Топот и грохот на чердаке прекратились, и Пенелопа догадалась, что Ноэль, признав свое поражение, спустился вниз.
Она заговорила, тщательно выбирая слова:
— Оливия ведь его тоже любила. Больше, чем кого-либо другого в своей жизни.
— Он хотел жениться на ней, но она отказалась.
— Ты винишь ее за это?
— Нет, что вы. Я восхищаюсь ею. Она поступила честно и мужественно.
— Она своеобразный человек.
— Знаю.
— Понимаешь, она никогда не хотела выходить замуж. Ей внушают ужас зависимость, несвобода, крепкие корни.
— Она так любит свою работу.
— Да, любит. Для нее работа важнее всего на свете.
Антония задумалась.
— Странно, — сказала она. — Это можно было бы понять, если бы у нее было несчастное детство или если бы она пережила какое-то тяжелое потрясение. Но с такой матерью, как вы, ничего подобного и представить невозможно. Она сильно отличается от ваших остальных детей?
— Как земля и небо. — Пенелопа улыбнулась. — Нэнси — прямая противоположность Оливии. Она всегда только о том и мечтала, чтобы выйти замуж и иметь собственный дом, быть эдакой владелицей поместья. Но ничего дурного я в этом не вижу. Она счастлива. Во всяком случае, мне кажется, что счастлива. Она получила от жизни именно то, что хотела.
— А вы? — спросила Антония. — Вы хотели выйти замуж?
— Я? Господи, это было так давно, я почти и не помню. Знаешь, я об этом вообще не задумывалась. Мне было девятнадцать лет, шла война. А во время войны не строишь планы на будущее. Просто живешь сегодняшним днем, и все.
— Что случилось с вашим мужем?
— С Амброзом? Он умер через несколько лет после того, как Нэнси вышла замуж.
— Вам было одиноко?
— Я была одна. Но одиночество — это совсем другое.
— Никто из моих родных и друзей еще не умирал. Космо первый.
— Да, первая встреча со смертью, когда она уносит близкого человека, особенно ужасна. Но проходит время, и ты привыкаешь жить с этим чувством потери.
— Наверное. Он часто повторял: «Мы всю жизнь только и делаем, что смиряемся».
— Мудрые слова. Некоторые только так и могут жить. Но тебя, хотелось бы верить, ждет лучшая доля.
Антония улыбнулась. Журнал давно уже лежал на полу, лихорадочный блеск в ее глазах смягчился. Она была похожа на сонного ребенка.
— Ты устала, — сказала Пенелопа.
— Ужасно. Кажется, я сейчас засну.
— Поспи подольше. — Пенелопа встала с кровати, подошла к окну и раздвинула шторы. Дождь перестал, откуда-то из темноты донесся крик совы. — Покойной ночи. — Она выключила свет.
— Пенелопа!
— Что, детка?
— Как мне хорошо здесь! С вами.
— Спи, моя девочка. — Она закрыла дверь.
Дом был погружен в тишину. Внизу свет был выключен. Видно, Ноэль решил, что на сегодня хватит, и лег спать. Да и ей пора, она все дела переделала.
У себя в комнате Пенелопа стала не спеша готовиться ко сну: почистила зубы, расчесала волосы, намазала лицо кремом, подошла к окну в ночной рубашке, откинула тяжелые шторы. В открытые створки влетел легкий ветер, влажный и холодный, принесший свежие запахи земли. Казалось, это ее сад проснулся после долгого зимнего сна и устремился навстречу наступающей весне. Снова ухнула сова, и так тиха была ночь, что слышен был сонный лепет речушки за садом.
Она вернулась к кровати, легла и выключила лампу. Ее усталое, отяжелевшее тело с благодарностью ощутило прохладу белья и мягкость подушек, но сна не было и в помине; простодушное любопытство Антонии растревожило прошлое, всколыхнуло то, что вспоминать не хотелось. Пенелопа отвечала на вопросы девушки уклончиво: она не лгала ей, но и не говорила всей правды. А правда была запутанная, и путь к ней тернист и долог. Слишком издалека надо начинать разматывать переплетение причин и следствий, определивших ход событий. Она и сама уже не помнила, когда в последний раз говорила об Амброзе, произносила его имя, думала о нем. Но сейчас, глядя в печальную прозрачную темноту, почувствовала, что выхода нет, придется вернуться к истокам. И Пенелопа стала погружаться в прошлое. Странное это было ощущение, она словно смотрела старый фильм или перелистывала ветхие страницы древнего альбома с фотографиями. Вдруг все стало оживать под ее взглядом, и она с изумлением обнаружила, что снимки ничуть не выцвели, они такие же яркие, четкие и живые, как много лет назад.
8. Амброз
Офицер женской вспомогательной службы военно-морских сил аккуратно сложила бумаги и отвинтила колпачок вечной ручки.
— Итак, Стерн, нам остается решить, в какую часть вас направить.
Пенелопа сидела за столом напротив нее и внимательно рассматривала. У офицера были две голубые нашивки на рукаве и коротко подстриженные волосы. Воротничок такой жесткий, а галстук так туго затянут, что непонятно, как она еще не задохнулась; часы мужские, а рядом на столе лежат кожаный портсигар и массивная золотая зажигалка. «Так, еще одна мисс Паусон», — подумала Пенелопа и сразу почувствовала к ней расположение.
— У вас есть специальность?
— К сожалению, нет.
— Умеете стенографировать, печатать?
— Не умею.
— Есть у вас диплом об окончании университета?
— Нет.
— Вы должны говорить «мэм», когда разговариваете со мной.
— Хорошо, мэм.
Офицер откашлялась; детское выражение и мечтательные карие глаза этой новенькой, поступившей рядовой в женскую вспомогательную службу, привели ее в полное замешательство. На девушке была форма, но почему-то казалось, что она надела ее по ошибке: слишком уж она высокая, слишком длинные у нее ноги, а волосы, волосы — просто ужас: густые, длинные, темные, сколотые в огромный пышный узел, который грозил вот-вот развалиться.
— Полагаю, вы учились в школе?
Она была уверена, что рядовая Стерн воспитывалась дома, с чинной гувернанткой, — такой у этой девушки был вид. Болтает по-французски, пишет акварели, и все, больше ничего не умеет. Но рядовая Стерн ответила:
— Да.
— В пансионе?
— Нет, в обычной школе. Когда мы жили в Лондоне, я ходила в школу мисс Притчет, а когда уезжали в Порткеррис — в тамошнюю гимназию. Порткеррис находится в Корнуолле, — доброжелательно объяснила Пенелопа.
Офицеру смертельно захотелось закурить сигарету.
— Значит, вы впервые расстались с домом?
— Да.
— Вы должны называть меня «мэм».
— Да, мэм.
Офицер вздохнула. Ох, намучается она с этой Стерн. Интеллигентная девушка, без высшего образования, делать ничего не умеет.
— Хоть готовить-то вы можете? — без всякой надежды спросила она.
— Так себе.
Оставалось только одно.
— Увы, в таком случае придется вам работать официанткой.
Рядовая Стерн радостно улыбнулась, довольная, что наконец-то для нее нашлось какое-то занятие.
— Хорошо.
Офицер вписала что-то в анкету и завинтила колпачок ручки. Пенелопа ждала, что будет дальше.
— Вот, собственно, и все.
Пенелопа встала, но офицер не отпустила ее.
— Стерн, надо что-то сделать с вашими волосами. Это недопустимо.
— Что недопустимо? — удивилась Пенелопа.
— Волосы не должны прикасаться к воротничку: таковы требования устава военно-морских сил. Сходите к парикмахеру и постригитесь.
— Ой нет, я не хочу их стричь.
— Ну не знаю… придумайте что-нибудь. Попробуйте скрутить их в тугой аккуратный узел.
— Да, конечно, я попробую.
— Тогда можете идти.
И она пошла.
— До свидания. — Пенелопа уже почти закрыла дверь, но вдруг снова распахнула ее и сказала: — Мэм.
Ее направили в Королевское училище морской артиллерии, которое находилось на корабле «Экселлент» у острова Уэйл. Направили официанткой, но не в солдатскую столовую, а в офицерскую кают-компанию — вероятно, по причине «хороших манер». Она накрывала там столы, разносила напитки, сообщала, кого вызывают к телефону, чистила серебро и подавала еду. Была у нее еще одна обязанность: вечером, перед наступлением темноты, обходить все каюты и опускать светомаскировочные шторы; если в каюте кто-то был, она стучала в дверь и говорила: «Простите, сэр, но необходимо затемнить корабль». Пенелопа была идеальной горничной, и платили ей тридцать шиллингов за полмесяца. Каждые две недели она приходила получать жалованье, выстаивала очередь, отдавала честь кассиру с угрюмым лицом — выражение у него было такое, будто он не выносит женщин, вероятно, так и было, — называла свое имя, и он вручал ей тощий желтый конверт.
Просьба «затемнить корабль» была лишь одной-единственной фразой из того нового языка, который ей предстояло выучить, и она провела неделю в учебно-запасной части, осваивая его. Спальня на этом языке называлась каютой, пол — палубой; Пенелопа не выходила на работу, а заступала на дежурство, кухня называлась камбузом, часы — склянками, а когда девушка ссорилась с молодым человеком, то говорила, что играет отбой. Но поскольку молодого человека у Пенелопы не было и она ни с кем не ссорилась, то и случая использовать это выражение ей не представилось.
Остров Уэйл был и в самом деле островом: чтобы попасть на него, надо было пройти по мосту, и это было ужасно романтично; казалось, ты поднимаешься по трапу корабля. Много лет назад посреди Портсмутской гавани появилась отмель, которая со временем превратилась в остров, и сейчас на нем располагалось одно из самых крупных и прославленных училищ Королевских военно-морских сил с плацем для парадов, полигоном, церковью, волнорезами, с внушительными батареями, на которых проходили обучение будущие артиллеристы. В аккуратных домиках из красного кирпича располагались административные службы и жилые помещения. Казармы для нижних чинов были поскромнее и попроще и напоминали муниципальные дома, зато офицерская кают-компания представляла собой настоящий загородный особняк с футбольным полем вместо сада.
Здесь никогда не смолкал шум. Пели трубы, свистели боцманские дудки, из рупоров разносились команды. Курсанты передвигались только ускоренным шагом, их башмаки громко стучали по асфальту. На плацу главные старшины орали с таким напряжением, что, казалось, их сейчас хватит удар, а вконец замученные новички изо всех сил старались одолеть премудрость строевых учений. Каждое утро проходила церемония построения для утренней проверки и подъема флага при звуках «Доблестных Брогансов» и «Сердцевины дуба»[12], которыми всех оглушал духовой оркестр. Случайно оказавшись на улице, когда флаг поднимался по флагштоку, следовало повернуться лицом к юту, вытянуться по стойке смирно, вскинуть руку, отдавая честь, и стоять так, пока церемония не завершится.
Женщины из вспомогательной службы жили в реквизированной для армии гостинице в северной части города. Пенелопу поместили в «каюту», где было уже пять девушек, и спали они все на двухъярусных койках. От одной из них ужасно пахло потом — она никогда не мылась. Гостиница находилась в двух милях от острова Уэйл, и, поскольку ни катера, ни автобусы туда не ходили, Пенелопа позвонила Софи и попросила прислать ей старый велосипед.
Они договорились, что Софи погрузит его в вагон, а Пенелопа заберет, когда поезд остановится в Портсмуте.
— Но расскажи мне, доченька, как ты?
— Я-то хорошо. — У Пенелопы разрывалось сердце: она слышит голос Софи и не может ее обнять! — Вы как? Как папа́?
— Мисс Паусон научила его качать воду пожарным насосом.
— А Дорис, мальчики?
— Рональд играет в футбольной команде. А Кларк сейчас болеет, мы боимся, что у него корь. Знаешь, у меня в саду расцвели подснежники.
— Как, уже? — До чего же Пенелопе хотелось посмотреть на них. До чего хотелось к ним, домой. Но как далеко Карн-коттедж, Софи и Лоренс, ее тихая любимая спальня, в окна которой влетает морской ветер и колышет занавески, а по стенам бегает луч маяка… Ей захотелось плакать.
— Ты не жалеешь о своем решении, дорогая?
Но Пенелопа не успела ответить, их разъединили, в трубке послышались короткие гудки. Она положила ее на рычаг, радуясь, что не смогла сказать Софи, что ужасно жалеет. Ей было тоскливо, одиноко, она страшно скучала по дому, чувствовала себя чужой в этом страшном новом мире и знала, что навсегда останется чужой. Надо было пойти в медицинские сестры, или на сельскохозяйственные работы, или поступить на военный завод, все было бы лучше, чем тоскливое мучительное существование, на которое она обрекла себя, когда приняла это импульсивное решение, переломившее ее жизнь, похоже, навсегда.
Следующий день был четверг. Стоял февраль, было еще холодно, но светило солнце, и в пять часов, наконец-то сменившись с вахты, Пенелопа отсалютовала начальнику караула и ушла с острова. Она шагала по узкому мосту. Вода поднялась до высшей точки, и пейзаж Портсдаун-хилла в лучах предвечернего солнца казался завораживающе сельским. Когда прибудет велосипед и она будет ездить одна по окрестностям, нужно найти поросший травой склон, где можно посидеть. А сейчас ее ждет нескончаемо долгий постылый вечер. Интересно, хватит ли денег, чтобы пойти в кино?
За ней по мосту ехал автомобиль. Она продолжала свой путь. Автомобиль затормозил и остановился рядом с ней — маленький спортивный «эм-джи» с опущенным верхом.
— Вам в какую сторону?
Сначала Пенелопа не поняла, что он обращается к ней. До сих пор с ней не разговаривал ни один мужчина, если не считать просьб принести зеленый горошек, морковь или подать стаканчик розового джина. Но сейчас поблизости никого больше не было, а значит, вопрос обращен к ней. Пенелопа узнала сидящего в машине. Это был высокий голубоглазый младший лейтенант с каштановыми волосами по фамилии Килинг. Она знала, что он проходит обучение артиллерийскому делу, потому что приходил в кают-компанию в гетрах, белом фланелевом кителе, брюках и шарфе — такова была уставная форма одежды для офицеров, направленных на переподготовку. Однако сейчас он был в повседневной форме и улыбался ей весело и беззаботно, предвкушая приятный вечер.
— В казарму для женской вспомогательной службы, — ответила она.
Он потянулся к противоположной дверце и распахнул ее:
— Тогда садитесь, я вас подвезу.
— Вам в ту же сторону?
— Нет, но я с удовольствием сделаю крюк.
Пенелопа села рядом с ним и захлопнула дверцу. Малолитражка рванула с такой скоростью, что девушке пришлось придержать берет.
— Кажется, я вас где-то видел. Вы работаете в кают-компании?
— Да.
— Нравится?
— Не очень.
— Зачем же вы согласились на такую работу?
— Я больше ничего не умею.
— Это ваше первое назначение?
— Да. Я стала добровольцем всего месяц назад.
— Ну и как вам нравится на флоте?
Видно было, что сам он горит такой любовью к флоту, что у нее не хватило духу признаться, как она все здесь ненавидит.
— Ничего, привыкаю постепенно.
— Похоже на пансион?
— Не знаю, я никогда не училась в пансионах.
— Как вас зовут?
— Пенелопа Стерн.
— А меня — Амброз Килинг.
Вот и все, что они успели сказать друг другу, потому что машина уже подъезжала к казарме. Амброз въехал в ворота и, лихо затормозив, остановился у дверей, так что выглянувшая в окно дежурная с осуждением нахмурилась.
Он выключил мотор. Пенелопа сказала: «Большое спасибо» — и взялась за дверцу.
— Что вы делаете сегодня вечером?
— Да, в общем, ничего.
— И я тоже. Давайте пойдем в клуб младших офицеров и выпьем чего-нибудь.
— Как, прямо сейчас?
— Да, прямо сейчас. — Его голубые глаза весело смеялись. — Мое приглашение вас шокирует?
— Нет… почему же… Просто… — Рядовых в форме в офицерский клуб не пускали. — Мне надо будет переодеться в штатское. — Этому Пенелопа тоже научилась на учебных курсах — называть обыкновенную одежду штатской. Она чрезвычайно гордилась, что помнит все пункты устава.
— Ну так переодевайтесь, я вас подожду.
Она вышла из автомобиля, а он стал закуривать сигарету, чтобы скоротать ожидание. Она вошла в дверь и побежала по лестнице, прыгая через две ступеньки: нельзя терять ни минуты, вдруг ему надоест ждать, и он уедет и никогда больше с ней не заговорит. Это будет просто ужасно.
У себя в «каюте» Пенелопа сорвала форму и швырнула ее на койку; умылась, вынула из волос шпильки и помотала головой, распуская узел. Расчесывая волосы, она с наслаждением ощутила их привычную шелковистую тяжесть на плечах. Она как будто снова стала свободной, снова стала самой собой и почувствовала, что уверенность возвращается. Открыв общий гардероб, Пенелопа сняла с плечиков платье, которое Софи подарила ей на Рождество, и старый потертый жакет из выхухоли, который тетя Этель хотела отдать на благотворительный базар, а она оставила себе. Нашла пару новых чулок, надела свои лучшие туфли. Сумочка ей была не нужна, потому что денег у нее все равно не было, а косметикой она не пользовалась. Она сбежала по лестнице, расписалась в журнале коменданта и вышла во двор.
Уже почти стемнело, но он ее ждал, сидя в своей маленькой спортивной машине и держа в зубах ту же самую сигарету.
— Простите, что так долго. — Пенелопа села и наконец-то перевела дух.
— Долго? — Он засмеялся, потушил сигарету и выбросил окурок. — Я еще не встречал женщины, которая переодевается так быстро. Я приготовился ждать не меньше получаса.
То, что он собирался ждать ее так долго, было удивительно и приятно. И Пенелопа улыбнулась ему. Она забыла надушиться и надеялась, что он не почувствует запаха нафталина от жакета тети Этель.
— С тех пор, как я в армии, я первый раз сняла форму.
Он включил двигатель.
— Ну и как?
— Изумительно!
В клубе младших офицеров в Саутси Амброз повел ее наверх, и они сели у стойки бара. Он спросил, что она будет пить, но Пенелопа никак не могла выбрать, и тогда он заказал джин и апельсиновый сок. Она не сказала ему, что никогда в жизни не пила джина.
Подали напитки, и они разговорились. Ей было с ним очень легко и просто, она стала рассказывать о Порткеррисе, о том, что ее отец выбрал этот город, потому что он художник, хотя сейчас больше не пишет, а мама у нее француженка.
— Ах, вот оно что, теперь я все понял! — воскликнул Амброз.
— Что поняли?
— Не знаю, это невозможно объяснить. В вас есть что-то такое… Я сразу обратил на вас внимание. Темные глаза, темные волосы. Вы резко выделяетесь среди всех наших девушек.
— Еще бы: я на десять футов выше.
— Не в том дело, хотя мне нравятся высокие девушки. Вы… — Он пожал плечами, как истинный француз. — …je ne sais quoi[13]. Вы жили во Франции?
— Наездами. Однажды провели в Париже всю зиму.
— Говорите по-французски?
— Конечно.
— У вас есть братья, сестры?
— Нет.
— И у меня тоже нет. — И он стал рассказывать о себе.
Ему двадцать один год. Его отец, который возглавлял принадлежащую семье фирму, связанную с издательским делом, умер, когда Амброзу было десять лет. Он окончил закрытую школу и мог бы работать в той же самой фирме, но ему не хотелось провести всю жизнь в кабинете, среди бумаг… к тому же надвигалась война… ну, он и вступил в Королевские ВМС. Его мать, которая так и не вышла во второй раз замуж, жила в Найтсбридже, близ Уилбрэм-Плейс, у нее там была квартира, а когда началась война, уехала в Девоншир и поселилась в маленькой гостинице в глуши.
— Лучше ей быть подальше от Лондона. Нервы у нее не очень-то крепкие, и, если начнутся бомбежки, она никому не сможет помочь, о ней самой придется заботиться.
— А вы давно на острове Уэйл?
— Месяц. Надеюсь, еще две недели — и прощай, училище. Все зависит от экзаменов. Последним у меня артиллерийское дело. Навигацию, торпеды и связь я уже столкнул.
— И куда вас потом?
— На дивизионные курсы боевой подготовки, на недельку, а потом — в море.
Они допили джин с апельсиновым соком и заказали еще. Потом перешли в зал, и официант принес им ужин. После ужина поездили немного по Саутси, и он отвез ее домой, потому что она должна была вернуться в казарму не позже половины одиннадцатого.
— Спасибо за вечер, — сказала Пенелопа, но вежливые слова не выразили и сотой доли благодарности, которую она чувствовала даже не за то, что они так славно провели вечер, а потому что он появился именно в ту минуту, когда был ей особенно необходим. Теперь у нее есть друг, и она не будет чувствовать себя такой одинокой.
— Вы свободны в субботу? — спросил он.
— Да.
— У меня есть билеты на концерт. Хотите пойти?
— На концерт… — На лице ее невольно появилась улыбка. — С удовольствием!
— Тогда я заеду за вами. Около семи. И еще, Пенелопа, пожалуйста, получите разрешение вернуться позже установленного срока.
Концерт был в Саутси. Энн Зайглер и Уэбстер Бут пели модные песенки — «Одна только роза», «Ты для меня — единственная в мире».
И что б ни случилось, Всегда буду помнить Тот солнечный горный склон…Амброз держал ее за руку. На обратном пути, остановив машину в тихом переулке неподалеку от казармы, он обнял ее вместе с пронафталиненным жакетом и стал целовать. До сих пор ни один мужчина не целовал Пенелопу, а к такому надо привыкнуть, но она довольно скоро освоилась и почувствовала, что это вовсе не так уж и неприятно. Напротив, близость красивого молодого человека, запах чистоты и свежести, исходящий от его кожи, вызвали странный отклик в ее теле, никогда прежде не испытанное волнение. Где-то глубоко-глубоко что-то разгоралось: то ли боль, то ли не боль.
— Пенелопа, девочка моя, чудо мое…
Однако ей удалось взглянуть через его плечо на приборную доску: часы показывали двадцать пять минут одиннадцатого. Она с сожалением отодвинулась и, высвободившись из объятий, привычным жестом подняла руку, поправляя растрепавшиеся волосы.
— Мне пора, — сказала она, — а то опоздаю.
Амброз вздохнул и нехотя отпустил ее.
— Проклятые часы. Проклятое время.
— Не сердись.
— Ты же не виновата. Ничего, мы что-нибудь придумаем.
— Что мы можем придумать?
— У меня в выходные увольнительная. А ты, ты могла бы тоже получить увольнительную?
— Когда, в эти выходные?
— Да.
— Постараюсь.
— Мы могли бы поехать в Лондон. Пойти в театр. И переночевать там.
— Ой, это просто замечательно! У меня ни разу не было выходного. Я обязательно добьюсь, чтобы меня отпустили.
— Есть, правда, небольшая загвоздка… — Он озабоченно нахмурился. — Моя родительница сдала свою квартиру одному зануде, морскому пехотинцу, поэтому туда нам дорога заказана. Конечно, я могу переночевать в клубе, только вот…
Пенелопе было приятно разрешить все его затруднения.
— Мы пойдем к нам.
— К вам?!
Она расхохоталась.
— Да не в Порткеррис, глупый, а в наш лондонский дом.
— У вас дом в Лондоне?
— Да. На Оукли-стрит. Видишь, как все просто. У меня и ключ есть.
Не может быть, уж очень удачно все складывается.
— Твой собственный дом?!
Пенелопа продолжала смеяться.
— Ну, не совсем, вернее будет сказать — папин.
— А они не будут возражать? Твои родители?
— Мои родители? Не понимаю, почему они должны возражать?
Амброз хотел было объяснить почему, но передумал. Мать француженка, отец художник, одно слово, богема. У него никогда в жизни не было друзей из этого круга, но сейчас он понял, что встреча с миром богемы состоялась.
— Вовсе не должны, я просто так спросил, — поспешил он разуверить ее. Неужели ему так повезло? Даже не верится.
— Но ты так удивился.
— Пожалуй, — согласился он, улыбаясь обольстительнейшей из своих улыбок. — Но с тобой, похоже, ничему не надо удивляться. Наверное, я должен просто принимать все, что ты делаешь.
— Тебе это нравится?
— Да, нравится, не скрою.
Он отвез ее в казармы, поцеловал на прощание… Она вылезла из машины и пошла к себе в такой растерянности, что забыла расписаться в журнале, и ее вернула дежурная, которая была в отвратительном настроении, потому что приглянувшийся ей молодой ефрейтор пригласил в кино другую.
Пенелопа получила увольнительную на выходные, а Амброз доложил начальству, что один из его друзей, лейтенант добровольного резерва военно-морских сил, имеющий большие связи в театральном мире, достал два билета на «Жизнь в вихре вальса» в театре «Друри-Лейн». Потом он уговорил приятеля поделиться с ним бензином, а другого столь же легковерного лейтенанта — одолжить ему пять фунтов. После полудня в субботу он въехал во двор женской казармы и остановился возле входа, эффектно взвихрив гравий на дорожке. Мимо проходила молоденькая рядовая, он попросил ее оказать ему любезность и найти рядовую Стерн: младший лейтенант Килинг ждет ее, все готово к отъезду. Увидев спортивный автомобиль и красивого молодого офицера, девица выпучила глаза, но Амброз привык к такой реакции.
«Я должен смириться и без удивления принимать все, что ты делаешь», — в шутку сказал он Пенелопе в тот первый вечер, но сейчас, когда она наконец появилась, не удивиться было трудно: на ней была форма, через руку перекинут старый выхухолевый жакет, на плече кожаная сумочка, и это все!
— Где же твой багаж? — спросил он, когда она уселась в машину и положила свернутый жакет вниз, себе в ноги.
— Вот он. — Она подняла свою сумочку.
— Что? И это все?! Мы уезжаем в Лондон на выходные, у нас билеты в театр, и что же, ты собираешься все это время демонстрировать свой патриотизм, щеголяя в форме?
— Ну конечно нет, глупый. Ведь я еду домой. Там у меня полно платьев. Найду, что надеть.
Амброзу вспомнилась мать, которая покупала новый туалет каждый раз, как ей предстояло показаться на людях, и по меньшей мере два часа примеряла его.
— А зубная щетка?
— Зубная щетка и расческа у меня в сумочке. Больше мне ничего не надо. Ну что, едем мы в Лондон или не едем?
Был ясный солнечный день — именно в такой день нужно все бросить и бежать прочь от постылой службы с девушкой, которая тебе нравится, устроить себе праздник и радоваться, радоваться жизни. Амброз выбрал дорогу, которая поднималась на Портсдаун-хилл, и Пенелопа, наблюдая весь Портсмут сверху, весело с ним попрощалась. Они миновали Пербрук, холмистый Даунс и в Питерсфильде решили, что пора перекусить, остановились возле кафе и зашли. Амброз заказал пива, а приветливая хозяйка сделала им бутерброды с ветчиной и мило украсила их кудрявой ярко-желтой маринованной брюссельской капустой, которую достала из банки.
Потом они двинулись дальше — Хейзлмир, Фарнем, Гилдфорд и, наконец, Лондон; они въехали в него через Хаммерсмит по Кингз-роуд и вскоре свернули на Оукли-стрит, такую любимую, родную. В конце ее был мост Альберта, кричали чайки, гудели буксиры, и так приятно было дышать солоноватым илистым запахом реки.
— Ну вот мы и дома.
Амброз остановил машину, выключил двигатель и стал с почтением разглядывать фасад высокого величественного дома с портиком.
— Это ваш дом?
— Да. Конечно, краска на перилах облупилась, но мы не успели покрасить их заново. Он такой огромный, и мы его не весь занимаем. Идем, я тебе все покажу.
Она вынула из машины жакет и сумочку и помогла ему поднять верх на случай дождя. Потом Амброз взял свой чемодан и стал ждать, с удовольствием представляя себе, как Пенелопа поднимется по этой роскошной лестнице с колоннами к огромной парадной двери, вынет из сумочки ключ и впустит его. Но тут Амброза постигло разочарование, потому что она прошла несколько шагов по тротуару, отперла узорные чугунные ворота и спустилась по ступенькам в полуподвал. Он закрыл ворота и, последовав за ней, увидел не темную унылую дыру, как ожидал, а светлый веселый дворик: стены аккуратно выбелены, стоит ярко-красный бак для мусора, всюду керамические низкие вазы, в которых летом, несомненно, будут пышно цвести герани, жимолость, пеларгония.
Дверь, как и мусорный бак, была ярко-красного цвета. Пенелопа отперла ее, и Амброз, осторожно ступая за ней, оказался в светлой просторной кухне — ему в жизни не доводилось видеть подобной, впрочем, нельзя сказать, что он видел их много. Его мать входила в кухню только для того, чтобы сообщить своей поварихе Лили, сколько человек ожидается завтра к обеду. Надолго она там не задерживалась и, уж конечно, не готовила, поэтому ей было совершенно безразлично, как выглядит это помещение. Удивительно ли, что Амброзу вспоминалось что-то неприглядное, неуютное, мрачное, со стенами унылого болотного цвета, пахнущее помоями. Лили носила уголь, стряпала, вытирала пыль, прислуживала за столом; жила она в комнатке при кухне, там у нее стояла железная кровать и желтый, покрытый лаком комод. Платья свои она вешала на крючке за дверью; мыться могла только днем, когда никому бы и в голову не пришло принимать ванну. После этого она надевала свое парадное черное форменное платье и муслиновый передник. Когда началась война, Лили разрушила привычный уклад жизни миссис Килинг, объявив, что поступает на военный завод. Миссис Килинг так никого и не нашла взамен; предательство Лили было одной из причин, почему она решила дожидаться конца войны в девонширской глуши.
Но эта кухня… Амброз поставил свой чемодан и с любопытством огляделся. Длинный, выскобленный добела стол, множество стульев, все с обивкой разного цвета, деревянный шкаф с расписными блюдами, кувшинами, вазами для фруктов. Над плитой на балке висят медные кастрюли, живописно расположенные от самой большой к самой маленькой, между ними пучки трав и засушенные садовые цветы. Стоит плетеное кресло, сверкающий белый холодильник, под окном глубокая белая фарфоровая раковина, так что тот, на чью долю выпала обязанность мыть посуду, получает возможность развлекаться, разглядывая идущие по тротуару ноги. Выложенный каменными плитами пол покрыт циновками, пахнет чесноком и ароматическими травами, как во французской деревенской бакалейной лавке.
Он не верил своим глазам:
— Вы называете это кухней?
— У нас тут все. Здесь, по сути, проходит вся наша жизнь.
И тут он понял, что полуподвальный этаж занимает все пространство дома: в дальнем конце двери балкона выходят в зеленеющий сад. Однако пространство было как бы разделено на две части широкой аркой, завешенной тяжелыми занавесями с сюжетами Уильяма Морриса, о чем, впрочем, Амброз даже и не догадался.
— Конечно, — говорила Пенелопа, кладя жакет и сумку на кухонный стол, — когда дом построили, здесь было множество кладовых и чуланов, но дедушка все их сломал и сделал зимний сад — так он это назвал. А мы превратили его в гостиную. Зайди, посмотри.
Он снял шляпу и пошел за ней. Уже в арке он увидел камин, выложенный яркими итальянскими изразцами, пианино, старинный граммофон. Здесь стояли широкие вытертые кушетки и кресла с драпировками из выцветшего ситца или шелковых шалей, на которых было живописно разбросано множество красивых гобеленовых подушек. Стены были белые — выигрышный фон для книг, украшений, фотографий… Реликвии прошлого, догадался он. Все остальное пространство заполняли картины. Они были так насыщены солнцем, что Амброз физически ощутил зной, которым дышали раскаленные каменные плиты террасного сада, увидел дрожащее в воздухе марево, черные тени деревьев.
— Это картины твоего отца?
— Нет. У нас осталось всего три его работы, да и те в Корнуолле. Понимаешь, у папы артрит, страшно болят руки. Он уже несколько лет не пишет. А эти написал его друг, знаменитый Шарль Ренье. Они познакомились в Париже, еще до той войны, и с тех пор самые близкие друзья. У Ренье на юге Франции изумительный дом, мы раньше часто навещали их, гостили подолгу. А ездили на машине, вот, смотри… — Она сняла с каминной полки фотографию и протянула ему. — Тут мы все, привал в пути…
Он увидел обыкновенную семейную фотографию, несколько человек, все добросовестно позируют, Пенелопа с косичками и в коротком ситцевом платьице, ее родители, надо полагать, и какая-то родственница. Но если что и поразило его на снимке, так это автомобиль.
— Как, да ведь это же «бентли», модель с двигателем четыре с половиной литра! — воскликнул он с благоговением.
— Да, знаю. Это папина страсть. Тут он похож на мистера Тоуда из «Ветра в ивах»[14]. Когда он садится за руль, то снимает свою черную шляпу, надевает кожаный шоферский шлем и ни за что не соглашается поднять верх, даже если идет дождь и мы все промокли до нитки.
— «Бентли» по-прежнему у вас?
— Еще бы! Папа́ ни за что на свете с ним не расстанется.
Она вернулась к камину поставить фотографию, а его взгляд жадно впился в пленительные картины Ренье. Именно так он и представлял себе роскошную довоенную жизнь: ты едешь в великолепном «бентли» на юг Франции, на душе никаких забот, тебя ждет мир ласкового солнца, сочащихся ароматной смолой сосен, обедов и завтраков на открытом воздухе, Средиземного моря, где ты будешь плавать, загорать и снова плавать. А вино, которое ты будешь пить в увитой виноградом беседке! А долгий отдых днем, когда ты нежишься с возлюбленной в прохладной спальне с закрытыми ставнями! Объятия, пахнущие виноградом поцелуи…
— Амброз!
Он очнулся от грез и уставился на Пенелопу. Она улыбнулась, ничего не подозревая, стащила форменный берет, бросила на стул, и он, все еще во власти своих фантазий, представил, что вот сейчас она точно так же снимет свою одежду, и они будут любить друг друга прямо на одной из этих просторных кушеток.
Он шагнул к ней, но — поздно, она уже пыталась открыть задвижку балкона. Чары были разрушены. В гостиную ворвался холодный ветер. Амброз вздохнул и покорно вышел за ней в морозный лондонский день любоваться садом.
— Идем же, ты должен все посмотреть… Сад огромный, потому что давным-давно соседи продали папе свой, и их объединили. Мне ужасно жалко тех, кто живет в этом доме сейчас, ведь у них остался всего лишь крошечный убогий дворик. А стена забора в дальнем конце сада очень старая, говорят, тюдоровских времен. Наверное, здесь когда-то был парк королевского замка.
Сад и в самом деле был очень большой, с зелеными лужайками, клумбами, цветочными бордюрами по краям дорожек и покосившейся беседкой, увитой зеленью.
— А это что за сарай?
— Это не сарай, это лондонская студия папы. Но я не могу тебе ее показать, у меня ключа нет. Впрочем, там не очень интересно: она вся забита полотнами, красками, садовой мебелью и раскладушками. Папа́ обожает хлам. Мы все обожаем. Не можем расстаться с самым безнадежным старьем. Каждый раз, как мы приезжаем в Лондон, папа́ объявляет, что непременно разберет студию, но никогда этого не делает. Наверное, потому, что каждая вещь для него связана с прошлым. А может быть, просто ленится. — Пенелопа вздохнула. — Холодно. Пойдем в дом, я покажу тебе остальное.
Амброз молча пошел за ней с выражением вежливого интереса на лице, и никто бы не догадался, что мысль его лихорадочно работает, складывая преимущества и вычитая недостатки, как настоящий арифмометр. Да, этот старый лондонский дом основательно запущен, у его хозяев необычный уклад жизни, но на Амброза он произвел сильное впечатление — какой же дом большой, величественный! Изящная, со вкусом обставленная квартира его матери не шла с ним ни в какое сравнение.
Одновременно Амброз размышлял о небрежно брошенных словах Пенелопы, из которых складывалась картина жизни ее семьи — чарующе романтичной жизни богемы. Рядом с ней его собственная жизнь так скучна и обыкновенна. Родился в Лондоне, каждое лето его возили в Торки или во Фринтон, потом привилегированная школа, потом флот, который стал продолжением школы, только добавилась муштра. Он даже ни разу не был в море, и на корабль попадет, только когда окончит училище.
А Пенелопа вольная птица. Она живала в Париже, ее семье принадлежит не только этот домище в Лондоне, но и коттедж в Корнуолле. Амброз стал мысленно рисовать их корнуоллские владения: недавно он прочел «Ребекку» Дафны Дюморье, и ему представился особняк типа «Мэндерли», что-то елизаветинское, с подъездной дорожкой длиною в милю, обсаженной гортензиями. Отец знаменитый художник, мать француженка, и поездка в гости к друзьям на юг Франции в шикарном «бентли» для них самое обыкновенное дело. Ничто не вызывало у Амброза такой зависти, как этот автомобиль. Всю жизнь он страстно мечтал о такой машине, это был символ высокого положения в обществе, прочного богатства и легкой эксцентричности, которая лишь усиливает шарм, — словом, автомобиль для настоящего мужчины.
Взволнованный этими мыслями, а также желанием выведать у Пенелопы как можно больше, он двинулся за ней в дом, прошел весь нижний этаж, поднялся по темной узкой лестнице. Открыв еще одну дверь, они оказались в парадном холле дома, просторном и изысканном, с прекрасным веерообразным окном над парадной дверью и широкой винтовой лестницей с низкими ступенями, ведущей на второй этаж. Он с изумлением озирался, потрясенный неожиданно открывшимся великолепием.
— Тут все в таком запустении, — вздохнула Пенелопа, как бы извиняясь, но Амброз решительно никакого запустения не углядел. — И это ужасное темное пятно на обоях, где висели «Собиратели ракушек». Это папина любимая картина, он боялся, что она погибнет во время бомбежек, и мы с Софи специально приехали сюда, чтобы упаковать ее и отправить в Корнуолл. Без нее дом словно что-то утратил.
Амброз шагнул к лестнице, горя нетерпением подняться выше и посмотреть, что там, но Пенелопа остановила его:
— Нет, мы туда не пойдем. — Она открыла дверь. — Это спальня моих родителей. Раньше здесь, кажется, была столовая, окна выходят в сад. Утром в ней изумительно, столько солнца. А это моя комната, окнами на улицу. Это ванная. А здесь мамины стиральная машина, пылесос, утюги и прочее. Вот, собственно, и все.
Экскурсия была закончена. Амброз вернулся к подножию лестницы и поглядел наверх.
— А кто живет в остальной части дома?
— О, у нас тут много народу. Семья Хардкасл, Клиффорды, в мансарде Фридманы.
— Жильцы, стало быть. — Он чуть не подавился этим словом, вспомнив, с каким невыразимым презрением всегда произносила его миссис Килинг.
— Да, наверное, можно назвать их и так. Мы очень их любим. Представляешь, полный дом друзей. Кстати, я чуть не забыла: надо зайти к Элизабет Клиффорд, поздороваться. Я пыталась позвонить ей, но было занято, а потом я закрутилась.
— Ты ей скажешь, что я здесь с тобой?
— Конечно! Пойдем со мной! Она изумительная, и, я уверена, тебе тоже понравится.
— Нет, по-моему, мне ходить к ним не стоит.
— Тогда ступай на кухню, поставь чайник — мы выпьем чаю. Наверняка Элизабет даст мне кусок пирога или печенья, а потом мы пойдем в магазин и купим яиц, хлеба и еще чего-нибудь, иначе нам будет нечем завтракать.
Она была похожа на Венди[15] из «Питера Пэна».
— Согласен. Я сейчас.
И она побежала вверх по лестнице, а Амброз так и остался стоять в холле, глядя, как мелькают ее длинные ноги. Он задумался. Его, обычно такого уверенного в себе, сейчас мучили непривычная растерянность и неприятное подозрение, что, придя сюда, в дом Пенелопы, он каким-то образом потерял контроль над развитием событий. Такого с ним никогда не случалось, и он заволновался. Его кольнуло страшное предчувствие, что ее удивительная наивность в сочетании со свободой от условностей могут подействовать на него не менее сокрушительно, чем крепкий сухой мартини, и окончательно выбьют почву из-под ног.
Большую печь в кухне надо было растапливать, но нашелся электрический чайник. Амброз наполнил его и включил. Наступили ранние февральские сумерки. В большой темной комнате было холодно, но в гостиной в камине были сложены щепки для растопки и даже бумага. Он чиркнул зажигалкой и стал смотреть, как разгораются щепки, потом насыпал угля из медного ведра, подложил несколько поленьев. К тому времени, как спустилась Пенелопа, в камине уже полыхал жаркий огонь и весело пел чайник.
— Ой, как чудесно, что ты затопил камин! С ним жизнь сразу теплеет и светлеет. Пирога не было, но я принесла немного хлеба и маргарина. Погоди, что-то тут не так. — Она нахмурилась, словно пытаясь понять, что именно, и вдруг улыбнулась. — Ну конечно — часы. Часы стоят. Амброз, заведи их, пожалуйста. Они так приятно тикают.
Часы были старинные, они висели высоко на стене. Он пододвинул стул, встал на него, открыл стеклянную дверцу, перевел стрелки и повернул большой ключ. Пенелопа тем временем достала из буфета чашки, блюдца и заварочный чайник.
— Ты повидала ваших друзей?
Часы пошли, и Амброз спрыгнул на пол.
— Нет, Элизабет куда-то ушла, но я поднялась выше, и Лала Фридман оказалась дома. Я очень рада, что встретилась с ней, потому что тревожилась за них с мужем. Понимаешь, они беженцы, молодые евреи, жили раньше в Мюнхене и чудом выбрались из этого кошмара. Когда я в последний раз видела Вилли, мне показалось, что он на грани нервного срыва. — Она хотела признаться Амброзу, что из-за Вилли и пошла в армию добровольцем, но передумала. А вдруг он не поймет? — Лала мне сказала, что Вилли стал спокойнее, нашел другую работу, а она — она ждет ребенка. Удивительно приятная молодая женщина. И очень образованная, дает уроки музыки. Чай придется пить без молока, тебе наливать?
Выпив чаю, они дошли до Кингз-роуд, нашли магазинчик и купили немного еды, потом вернулись на Оукли-стрит. Стало темнеть, они опустили светомаскировочные шторы, и она стала застилать постели чистым бельем, а он сидел и смотрел на нее.
— Ты будешь спать в моей комнате, а я — в родительской. Хочешь принять ванну? У нас всегда есть горячая вода. Выпьешь чего-нибудь?
Он принял оба предложения, поэтому они спустились вниз, она открыла буфет и достала бутылку джина «Гордонз», виски «Дьюарз» и еще одну бутылку без этикетки, с чем-то непонятным и пахнущим миндалем.
— Кто владелец всех этих богатств?
— Папа́.
— Он не рассердится, если я себе налью?
Пенелопа в изумлении уставилась на него:
— Рассердится? Но ведь он для того все это и покупает, чтоб угощать друзей.
Еще одно открытие! Его мать только скупо угощает хересом в крошечных рюмках, а если ему хочется джина, изволь покупать сам. Амброз, однако, удержался от каких бы то ни было замечаний вслух. Он щедро плеснул себе шотландского виски и, взяв стакан в одну руку, а другой подхватив чемодан, стал подниматься по лестнице в комнату, которую Пенелопа отвела ему. Было очень странно раздеваться в чуждой обстановке девичьей спальни, и он стал осваиваться в ней, как кошка, оказавшаяся в незнакомом помещении: посмотрел картины, сел на кровать, посидел, подошел к книжному шкафу и стал разглядывать корешки книг. Он ожидал увидеть Джоржетту Хейер и Этель М. Делл, но тут стояли Вирджиния Вулф и Ребекка Уэст. Богема, к тому же с изысканным литературным вкусом. Что ж, он тоже не лыком шит. Облачившись в халат а-ля Ноэль Кауард, он взял банное полотенце, несессер с мылом, губкой и бритвой, а также стаканчик виски и вышел в холл. В тесной ванной побрился, налил воды и лег. Ванна была коротковата, однако вода блаженно горячая. Вернувшись в свою комнату, Амброз оделся — парадная форма, белоснежная крахмальная рубашка, черный атласный галстук от «Гивза»[16], начищенные до зеркального блеска низкие, под брюки сапожки. Он причесался перед трюмо, поворачивая голову и любуясь своим профилем. Наконец, вполне довольный собой, прихватил пустой стаканчик и спустился в кухню-гостиную.
Пенелопы не было, она еще раньше объявила, что попытается подыскать себе что-нибудь среди платьев Софи. Амброз надеялся, что ему не придется стыдиться ее. При свете камина гостиная выглядела довольно романтично. Он налил себе еще виски и стал просматривать стопки пластинок. Почти все классика, но ему повезло — между Бетховеном и Малером оказался Коул Портер. Он поставил пластинку на старенький патефон и завел его.
Любимая моя, Ты краше всех Красавиц Лувра, Ты краше всех…Он стал кружиться, полузакрыв глаза и обнимая одной рукой воображаемую даму. Может быть, после театра, когда они поужинают, поехать в ночной клуб? В «Посольство» или в «Мешок с гвоздями». Если кончатся деньги, он попробует расплатиться чеком. Надо надеяться, на его счету в банке еще что-то осталось.
— А вот и я.
Амброз не слышал, как она появилась, и обернулся на ее голос, слегка смущенный тем, что его застигли за исполнением пантомимы. Пенелопа шла к нему, волнуясь и робея. Она надеялась, что ему понравится ее наряд и он это скажет. Но Амброз онемел — так хороша была она в мягком свете камина. Платье, которое она в конце концов выбрала, было модным лет пять назад: кремовый шифон с розовыми и малиновыми цветами, юбка обтягивает стройные бедра и расширяется у колен пышными фалдами, спереди на лифе ряд маленьких пуговок, за плечами то ли пелерина, то ли накидка в несколько ярусов, которая разлетается при движении, легкая, точно крылья бабочки. Волосы Пенелопа подняла в высокую прическу, открыв взгляду совершенные линии лебединой шеи и плеч, а также удивительной красоты коралловые серьги в серебре в виде длинных подвесок. Губы она чуть тронула коралловой помадой и надушилась какими-то волшебными духами.
— Какой чудесный запах, — сказал он.
— «Шанель номер пять», во флаконе осталось несколько капель. Я думала, духи выдохлись…
— Нисколько!
— Прекрасно. Ну как я выгляжу? Я перемерила шесть платьев, — по-моему, это лучше всех. Конечно, ужасно старомодное и мне коротковато, ведь я выше Софи, но…
Амброз поставил стакан и протянул к ней руку:
— Иди сюда.
Пенелопа подошла и вложила руку в его ладонь. Он притянул ее к себе, обнял и поцеловал очень бережно и нежно, боясь испортить элегантную прическу и скромный грим. У ее помады был восхитительный вкус. Он отстранился, улыбаясь и глядя в ее мягкие темные глаза.
— Знаешь, мне даже жаль, что приходится идти в театр, — прошептал он.
— Но мы же вернемся, — возразила она, и его сердце затрепетало в радостном ожидании.
«Жизнь в вихре вальса» оказалась совершенно неправдоподобной мелодрамой. На актрисах были платья с пышными юбками в оборках и обтягивающими корсажами, на актерах лосины, все пели очень мелодичные песни и влюблялись друг в друга, а потом самоотверженно отказывались от любимых и расставались, и все это среди нескончаемых вальсов. Наконец спектакль кончился. Они вышли на темную, хоть глаз выколи, улицу и проехали по Пикадилли до ресторана «Куоглино», где решили поужинать. Играл оркестр, на крошечной площадке танцевали пары, все мужчины были в военной форме, многие из дам тоже.
Сердце, сердце, Что с тобой случилось? Как ты сильно бьешься. Сердце, сердце…Дожидаясь, пока официант принесет следующее блюдо, Амброз и Пенелопа тоже танцевали, хотя теснота на пятачке была такая, что можно было лишь переминаться на месте с ноги на ногу. Но их это ничуть не огорчало, их руки лежали на плечах друг у друга, он прижимался щекой к ее щеке и время от времени целовал в ушко или шептал слова, от которых она вспыхивала.
На Оукли-стрит они вернулись около двух ночи. Держась за руки и давясь смехом, открыли в кромешной темноте чугунную узорную калитку и спустились по крутым каменным ступенькам.
— Почему все боятся бомб? — сказал Амброз. — Это затемнение — верная смерть: споткнулся, и готово, сломал шею.
Пенелопа высвободилась из его рук, нашла ключи, нащупала замок и, немного повозившись, отперла дверь. Он вступил следом за ней в теплую бархатную черноту. Она плотно закрыла дверь и только тогда зажгла свет.
Было очень тихо. Обитатели верхних этажей мирно спали. Лишь тиканье часов и шум изредка проезжающей мимо машины нарушали тишину. Камин, который затопил Амброз, почти погас, но Пенелопа подошла к нему, разворошила тлеющие угли и зажгла лампу. Гостиная за аркой наполнилась светом, словно на сцене подняли занавес. Действие первое, картина первая. Не хватало только актеров.
Амброз не спешил перейти к ней, туда. Пребывая в приятном опьянении, он с удовольствием выпил бы еще и потому взял бутылку виски, налил несколько капель и разбавил содовой из сифона. Потом выключил в кухне свет и пошел туда, где плясало пламя в камине, освещая просторные кушетки с множеством подушек и девушку, которую он пламенно желал весь вечер.
Пенелопа сидела на ковре возле камина, сбросив туфли, и, когда он приблизился, улыбнулась. Было поздно, она наверняка ужасно устала, и все равно ее темные глаза сияли, а лицо светилось оживлением.
— Почему огонь так привлекает? Смотришь на него, и кажется, что ты не один, — проговорила она.
— А я рад, что мы одни. Только ты и я да огонь.
На душе у нее было так хорошо, покойно.
— Какой чудесный был вечер. Так весело.
— Он еще не кончился.
Амброз опустился в низкое широкое кресло, поставил на ковер стакан с виски и сказал:
— Твоя прическа никуда не годится.
— Как, почему?!
— Слишком нарядная для любви.
Она засмеялась, подняла руки и стала медленно вынимать шпильки из высокого узла. Он молча наблюдал за ней. Женщина в классической позе с поднятыми к волосам руками: легкая пелерина прозрачного платья обвивает длинную высокую шею, как шарф. Но вот Пенелопа вынула последнюю шпильку, тряхнула головой, и длинные темные волосы упали ей на плечи тяжелой шелковистой волной.
— Ну вот, теперь я снова стала самой собой.
Старинные часы в кухне пробили два звонких мелодичных удара.
— Два часа, — сказала она, — скоро утро.
— Чудесное время. Самое лучшее время.
Она снова засмеялась, — казалось, каждое его слово приводит ее в восхищение. Возле пылающего камина было тепло. Амброз поставил стакан, снял мундир, развязал галстук, расстегнул тугой крахмальный воротничок. Потом встал и, нагнувшись к ней, поднял на ноги. Он целовал ее, зарывшись лицом в чистый благоухающий шелк волос, обнимал хрупкое юное тело в тончайшем шифоне и чувствовал, как бьется в груди ее сердце. Он поднял ее на руки и удивился — такая высокая, она оказалась легкой как перышко, шагнул к кушетке и опустил на подушки, а она все смеялась и смеялась в колдовском ореоле закрывших старый гобелен волос. О, как колотилось его собственное сердце, как пылко он жаждал ее. Они познакомились совсем недавно, однако Амброз уже несколько раз задавал себе вопрос, девушка она или женщина, но сейчас об этом не думал, ему было все равно. Сев рядом с ней, он начал осторожно расстегивать крошечные пуговки на лифе ее платья. Пенелопа лежала, улыбаясь, и не отталкивала его, а когда он стал снова целовать ее, то почувствовал, что ее губы, шея, смуглая круглая грудь с нежностью откликаются на его ласку.
— Боже мой, какая ты красивая. — Произнеся эти слова, Амброз вдруг с изумлением понял, что они вырвались сами собой, из глубины его сердца.
— Ты тоже очень красивый, — сказала Пенелопа и обняла его своими сильными юными тонкими руками. Ее губы открылись навстречу его поцелую, и он почувствовал, что она всем своим существом ждет его.
Камин ярко горел, согревая их и освещая сцену любви. Из глубины его подсознания всплыли смутные, далекие картины — забытые образы детства: вечер, детская, опущенные шторы, ласковый, уютный, защищенный мир, и душу наполняет восторг, словно ты летишь, вот как сейчас. Но сквозь все это пробился холодный голос рассудка.
— Дорогая моя…
— Да, — шепчет она, — да.
— Ты не боишься?
— Нет…
— Я люблю тебя.
— Ах… Любимый… — Это не шепот, это еле слышный вздох.
В середине апреля начальство известило Пенелопу, что ей, к немалому ее удивлению, ибо она была безнадежно несведуща в деловых вопросах, полагается недельный отпуск. Она пошла в канцелярию, отстояла вместе с другими девушками из подразделения вспомогательных сил очередь к коменданту и, когда ее наконец приняли, попросила казенный билет на поезд до Порткерриса.
Комендант оказалась жизнерадостной ирландкой с севера. У нее было лицо в веснушках, кудрявые рыжие волосы, и она вся так и загорелась интересом, когда Пенелопа сообщила ей, куда хочет ехать.
— Скажите, Стерн, это ведь в Корнуолле?
— Да.
— И вы там живете?
— Да.
— Как я вам завидую. — Она протянула Пенелопе удостоверение, и та вышла из канцелярии, сжимая в руках этот пропуск на волю.
Поездка на поезде казалась нескончаемой. Портсмут… Бат… Бристоль… Эксетер… В Эксетере ей пришлось ждать целый час, пока пришел поезд в Корнуолл. Он едва тащился, часто останавливался, но даже это не могло омрачить ее радость: ведь она ехала домой, к Софи и к Лоренсу! Она сидела в грязном вагоне, в углу возле окна, и смотрела сквозь мутное, закопченное стекло. Вот и Даулиш, вдали показалось море; нет, конечно, не море, всего лишь Ла-Манш, но и это счастливая встреча. Плимут, Сэлтеш-Бридж и чуть ли не весь английский флот на якоре в проливе Саунд. И наконец-то Корнуолл, частые остановки в городках с дорогими сердцу романтическими названиями. Когда проехали Редрут, Пенелопа опустила окно и высунулась наружу, спеша увидеть океан, дюны, длинные волноломы. Поезд прогрохотал по виадуку Хейл, и Пенелопа увидела прилив в устье реки. Она сняла с полки свой чемодан и вышла в коридор, дожидаясь, пока состав опишет последнюю дугу вдоль берега и остановится на конечной станции.
Был уже вечер, половина девятого. Она откатила тяжелую дверь и, полная благодарности судьбе, спустилась на перрон, таща за собой чемодан; форменный берет она сунула в карман куртки. Было тепло, свежий воздух пах морем, низкое солнце бросало на платформу длинные косые лучи; облитые его сиянием, навстречу шли папа́ и Софи.
Какое немыслимое счастье — она дома! Первым делом Пенелопа побежала к себе наверх, сорвала форму и оделась по-человечески: в старую ситцевую юбку, трикотажную кофточку, которую носила еще в школе, и заштопанный вязаный жакет. Здесь ничего не изменилось, словно она и не уезжала из этой комнаты, только каждая вещь лежала на месте, и все сверкало чистотой. Надев туфли на босу ногу, она слетела вниз и стала ходить по комнатам, придирчиво все рассматривая. Ей хотелось убедиться, что и тут все осталось по-прежнему, и она с радостью убеждалась, что это так.
За одним-единственным исключением. Портрет Софи, написанный Шарлем Ренье, который висел раньше в гостиной над камином, доминируя над другими картинами, переместился на другую стену, уступив место «Собирателям ракушек», которые после нескончаемых проволочек все же прибыли из Лондона. Картина была слишком велика для этой комнаты, и освещение не позволяло оценить, сколько в ней воздуха и как насыщенны краски, но все равно она была прекрасна.
Что касается семьи Поттер, то и они изменились к лучшему. Пухлая, кургузая Дорис стала стройной, она решила отпустить свои мышиного цвета волосы и больше не травить их перекисью, так что теперь шевелюра ее напоминала шкуру пегого пони. Рональд и Кларк подросли, стали не такими тощими и рахитично бледными. Волосы они тоже носили чуть длиннее, и сквозь их простонародный кокни пробивалась чистая корнийская интонация. Поголовье уток и кур удвоилось, все старые наседки высиживали цыплят и, когда никто не видел, выводили их из сломанной тачки, увитой плетями куманики, погулять на траву.
Пенелопе хотелось как можно скорее узнать все-все-все, что произошло с того бесконечно далекого дня, когда она села в поезд и уехала в Портсмут. Лоренс и Софи удовлетворили ее любопытство. Полковника Трабшота назначили начальником гражданской противовоздушной обороны в Порткеррисе, и он буквально затерроризировал весь город, наперебой рассказывали они. Гостиницу «Дюны» заняли под казармы, теперь там полно солдат. Местная гранд-дама миссис Трегантон — старая вдова с длинными, чуть не до плеч, серьгами в ушах, надела белый передник и заправляет солдатской кухней. У воды поставили заграждения из колючей проволоки, по всему берегу строят бетонные доты, из них торчат наводящие ужас дула пулеметов. Мисс Приди забросила свои танцы и теперь преподает физкультуру в женской гимназии, которую эвакуировали сюда из Кента, а мисс Паусон во время затемнения наткнулась на свой пожарный насос с ведром и сломала ногу.
Рассказав дочери новости, Софи и Лоренс, естественно, приготовились выслушать ее. Им хотелось знать все до мельчайших подробностей о той новой, неведомой им жизни, которой она жила. Но Пенелопа не стала ничего рассказывать. Она не хотела об этом говорить, не хотела вспоминать об острове Уэйл и Портсмуте. И об Амброзе тоже. Конечно, в конце концов придется это сделать. Но не сегодня, не сейчас. У нее в запасе целая неделя. С рассказами можно подождать.
Они были на вершине. Внизу раскинулись склоны, сладко дремлющие под теплым солнышком весеннего полудня. На севере сиял огромный голубой залив, весь в игре слепящих солнечных бликов. Макушка мыса Тревос была окутана дымкой — верный признак того, что хорошая погода продержится долго. На юге простирался другой залив, за ним Гора и на ней древняя крепость, а между заливами лежали поля фермеров, вились обсаженные живой изгородью сельские дороги, изумрудно зеленели луга с гранитными валунами, среди которых пасся скот. Легкий ветер нес запах тимьяна, где-то далеко лаяла собака и добродушно стрекотал трактор; больше ничто не нарушало тишину.
До Карн-коттеджа было пять миль. Пенелопа и Софи пришли сюда по узким сельским дорогам, ведущим дальше к поросшему вереском нагорью; в пышной траве по обочинам цвели дикие примулы, канавы буйно заросли чистотелом и бальзамином — казалось, они взрываются то ярко-розовым, то желтым. В конце концов Софи и Пенелопа перелезли через изгородь и оказались на мягкой травянистой тропинке, которая вилась сквозь заросли куманики и папоротника к вершине холма, увенчанного нагромождениями покрытых лишайником каменных глыб, высоких, как утесы, с которых когда-то, тысячелетия назад, маленький народ, населявший эту древнюю землю, стоял и смотрел, как в залив вплывают ладьи финикийцев под квадратными парусами и бросают якоря, чтобы обменять восточные сокровища на драгоценное олово.
Устав от долгого пути, они теперь отдыхали. Софи лежала на спине в густой траве, прикрыв глаза рукой от яркого солнца, Пенелопа сидела рядом, уперев локти в колени и уткнувшись подбородком в ладони.
Высоко в небе летел самолет — маленькая серебряная игрушка. Обе подняли глаза и следили за его полетом.
— Не люблю самолеты, — сказала Софи. — Они напоминают о войне.
— А ты разве когда-нибудь забываешь о ней?
— Случается. Я просто воображаю, что никакой войны нет. В такой день, как нынче, это легко.
Пенелопа протянула руку и сорвала несколько травинок.
— Пока она нас почти не коснулась.
— Верно.
— А как ты думаешь — коснется?
— Конечно.
— Ты боишься?
— Боюсь за твоего отца. Он очень неспокоен. Ему это слишком хорошо знакомо.
— Тебе тоже…
— Нет, такого, как он, я не переживала.
Пенелопа бросила травинки и сорвала еще пучок.
— Софи…
— Что?
— У меня будет ребенок.
Гул самолета затих, растворившись в бездонности летнего неба. Софи медленно села. Пенелопа посмотрела матери в глаза и увидела по выражению ее молодого загорелого лица, что у нее камень с души свалился.
— Так, значит, об этом ты не хотела говорить нам?
— А ты чувствовала?
— Конечно. Мы оба чувствовали. Ты была такая сдержанная, молчаливая, значит что-то случилось. Почему ты сразу нам не сказала?
— Не от стыда и не от страха, нет, ты не думай. Просто ждала подходящего времени. Чтоб никто не мешал, не торопил.
— Господи, а я-то изводилась. Знала, что тебе плохо, жалела о твоем решении, мне все время казалось, что с тобой стряслась какая-то беда.
Пенелопа с трудом удержалась, чтобы не расхохотаться.
— Да ведь со мной и стряслась беда!
— С тобой? Беда? Что за глупости!
— Знаешь, ты самая удивительная женщина в мире.
Софи пропустила эту реплику мимо ушей. Она спустилась на землю.
— А ты уверена, что беременна?
— Совершенно.
— У доктора была?
— И без доктора все ясно. Тем более что в Портсмуте единственный врач, к которому я могла обратиться, это военный хирург, а к нему идти как-то не хотелось.
— Когда срок?
— В ноябре.
— А кто отец?
— Он младший лейтенант. Обучается артиллерийскому делу в училище на острове Уэйл. Зовут его Амброз Килинг.
— Где он сейчас?
— Там же, на острове. Он завалил экзамен, и ему пришлось проходить весь курс сначала. Эта называется «отдраить корабль заново».
— Сколько ему лет?
— Двадцать один.
— Он знает, что ты ждешь ребенка?
— Нет. Я хотела, чтоб вы с папой узнали первыми.
— А ему ты скажешь?
— Конечно. Когда вернусь.
— И что он тебе ответит?
— Понятия не имею.
— Судя по твоим словам, ты не очень-то хорошо его знаешь.
— Да нет, я его знаю. — Далеко внизу, в долине, по двору фермы прошел мужчина с собакой, открыл калитку и стал подниматься по склону туда, где паслись его коровы. Пенелопа легла, опершись на локти, и внимательно смотрела, как он идет. На фермере была красная рубашка, вокруг него кругами носилась собака. — Чутье не обмануло тебя, мне действительно было очень плохо. В первое время, оказавшись на острове Уэйл, я была в полном отчаянии. Чувствовала себя, точно рыба, вынутая из воды. Как я тосковала по дому, как мне было одиноко! В тот день, когда я записалась добровольцем, я представляла, что все мы возьмем мечи и будем сражаться, а мне приказали подавать на стол овощи, следить, чтобы светомаскировочные шторы были опущены, да еще пришлось жить в казарме в обществе девушек, с которыми у меня нет ровным счетом ничего общего. Изменить я ничего не могла, выхода не было — настоящая ловушка. Тут я познакомилась с Амброзом, и он скрасил это ужасное существование.
— Если бы я только знала, как тяжко тебе пришлось…
— А я все скрывала от тебя. Ведь ты ничего не могла сделать, зачем еще и тебе мучиться?
— Раз у тебя будет ребенок, значит придется демобилизоваться?
— Да, меня уволят. Возможно, лишив звания, знаков отличия и права на пенсию.
— Тебя это огорчает?
— Огорчает? Да я жду не дождусь этого дня!
— Пенелопа, ты… неужели ты для этого и забеременела?
— Нет, боже упаси! Не до такой степени мне было плохо, поверь. Это случайно произошло, как у многих.
— Но ты ведь знаешь… не можешь не знать, что можно предохраняться.
— Конечно, только я думала, что предохраняться должны мужчины.
— Бедная моя девочка, мне и в голову не приходило, что ты так наивна. Какая же я никудышная мать.
— Я никогда не считала тебя матерью. Ты всю жизнь была мне как сестра.
— Значит, я была никуда не годной сестрой. — Софи вздохнула. — Что мы теперь будем делать?
— Для начала вернемся домой и поговорим с папа́. А потом я вернусь в Портсмут и расскажу Амброзу.
— Ты выйдешь за него замуж?
— Если он сделает мне предложение.
Софи задумалась.
— Я уверена, тебе действительно очень нравится этот молодой человек, — сказала она. — Ведь я хорошо тебя знаю. Но ты не должна выходить за него замуж только потому, что у тебя будет ребенок.
— Ты же вышла замуж за папу, когда была беременна мной.
— Но я любила его. Я всегда его любила. Я вообще не представляю себе жизни без него. Даже если бы он не женился на мне, я бы все равно никогда с ним не рассталась.
— Вы приедете на свадьбу, если я все-таки выйду за Амброза?
— Обязательно.
— Я очень хочу, чтобы вы были. Потом, когда он окончит училище на острове Уэйл, его переведут на боевой корабль, в действующий флот. Можно мне тогда вернуться жить домой, к вам с папа́? И родить ребенка в Карн-коттедже?
— О чем ты спрашиваешь? Разве может быть иначе?
— Пожалуй, я могла бы стать профессиональной падшей женщиной, но, откровенно говоря, что-то не хочется.
— На этом поприще ты бы вряд ли преуспела.
Пенелопу переполняли любовь и благодарность.
— Я была уверена, что ты именно так примешь мою новость. Какой ужас, когда у тебя мать, как у всех.
— Если бы я была такая, как у всех, может, было бы лучше. А сейчас что во мне хорошего? Эгоистка, только о себе и думаю. Идет ужасная война, сколько крови прольется, пока она кончится. Погибнут сыновья и даже дочери, отцы, братья, а я — я радуюсь, что ты возвращаешься домой. Господи, как я по тебе скучала! Зато теперь мы будем снова вместе. Что бы ни случилось, мы будем вместе, и это главное.
Амброз, держа в руке стакан с разбавленным виски, звонил своей матери.
— Пансион «Кумби», — пропел сладкий жеманный голосок.
— Можно попросить миссис Килинг?
— Подождите, пожалуйста, минутку, я сейчас найду ее. Кажется, она в гостиной.
— Спасибо.
— А кто ее спрашивает?
— Сын. Младший лейтенант Килинг.
— Очень приятно.
Он стал ждать.
— Алло?
— Мама, здравствуй.
— Дорогой мой мальчик! Как я рада, что ты позвонил. Где ты?
— На острове Уэйл. Мама, послушай, я должен с тобой поговорить. У меня новость.
— Надеюсь, приятная?
— Еще бы. Просто великолепная. — Он откашлялся. — Я женюсь.
Трубка молчала.
— Мама!
— Я тебя слушаю.
— Ты здорова?
— Да. Здорова. Ты, кажется, сказал, что собираешься жениться?
— Да, сказал. В первую субботу мая. В Челси, в ратуше. Ты приедешь?
Он словно приглашал ее на пикник.
— Но… Но как же?.. Когда?.. На ком?.. Боже мой, я совсем растерялась.
— Успокойся. Ее зовут Пенелопа Стерн. Она тебе понравится, — добавил Амброз без особой надежды.
— Нет, подожди… как все это случилось?
— Как у всех случается. Потому я тебе и звоню. Чтоб сразу все рассказать.
— Нет, подожди… кто она?
— Рядовая женской вспомогательной службы военно-морских сил. — Он задумался, что бы еще такое сказать матери, чтобы ее успокоить. — Ее отец художник. Живет в Корнуолле. — В трубке снова воцарилось молчание. — У них дом на Оукли-стрит. — Амброз хотел было упомянуть о «бентли», но вовремя вспомнил, что мать никогда не интересовалась автомобилями.
— Мой дорогой, прости, что я не выразила никакой радости, но… ты так молод, и потом, твоя карьера…
— Мама, милая, идет война.
— Знаю, знаю. Уж мне ли не знать.
— Так ты приедешь на свадьбу?
— Да. Да, да, конечно… Я приеду в Лондон на выходные. И остановлюсь на Бейсил-стрит.
— Великолепно. Вот вы и познакомитесь.
— Боже мой, Амброз…
Кажется, она плакала.
— Извини, что огорошил тебя. Но все будет хорошо. — В трубке раздались короткие гудки. — Пенелопа тебе понравится, — повторил он и поспешил повесить трубку, пока мать не попросила опустить в автомат еще несколько монет.
Долли Килинг подержала в руках гудящую трубку и медленно повесила ее на рычаг.
Сидя под лестницей за своей маленькой конторкой и делая вид, что считает расходы, миссис Масспретт не пропустила ни одного слова из разговора матери и сына. Она посмотрела на миссис Килинг с улыбкой, склонив голову набок, как востроглазая птичка.
— Надеюсь, миссис Килинг, новости приятные.
Долли взяла себя в руки, гордо тряхнула головой и изобразила на лице радостное волнение.
— Ах, я даже опомниться не могу. Мой сын женится.
— Прекрасно, поздравляю вас. Как все романтично. Какие они отважные, эти молодые люди. И когда же?
— Прошу прощения?
— Когда произойдет это торжественное событие?
— Через две недели. В мае, в первую субботу. В Лондоне.
— И кто же счастливая избранница?
«Хм, она проявляет слишком большое любопытство, забывается. Надо поставить ее на место».
— Я еще не имела удовольствия познакомиться с ней, — с достоинством произнесла Долли. — Благодарю вас, миссис Масспретт, что нашли меня и позвали к телефону. — И она удалилась в гостиную, оставив хозяйку проверять счета.
Много лет назад пансион «Кумби» был частным домом, и тогда это помещение тоже служило гостиной. В нем был крошечный камин с высокой полкой, выложенный белым мрамором, и множество пухлых кушеток и кресел, обитых белым холстом в красных розах. По стенам развешаны акварели, но так высоко, что и не разглядеть, окно фонарем выходило в сад. После того как началась война, сад зарос сорняками. Мистер Масспретт пытался стричь газоны, но садовник ушел на войну, и цветники и дорожки были в густой траве.
В пансионе жили восемь постояльцев. Четверо из них считали себя цветом этого маленького общества, так сказать, beau monde’ом, и сплоченно держались вместе. Долли принадлежала к этой четверке. Кроме нее, туда входили полковник Фосетт Смайд с супругой и леди Бимиш. По вечерам они играли в гостиной в бридж, сидели в самых удобных креслах вокруг камина, в столовой занимали лучшие столики у окна. Остальным приходилось довольствоваться местами в холодных темных углах, где было очень трудно читать, и столиками в проходе из буфетной. Но эти бедняги были так поглощены собственными печалями, что никому и в голову не приходило их жалеть. Полковник Фосетт Смайд с супругой переехали в Девоншир из Кента. Им было под семьдесят. Полковник почти всю свою жизнь прослужил в армии и потому постоянно предсказывал, что предпримет этот негодяй Гитлер, а также давал собственное толкование тем обрывочным сведениям о секретном оружии и о передвижении боевых кораблей — сведениям, которые появлялись в газетах. Сам он был маленький, смуглый, с колючими усами щеткой, однако восполнял недостаток роста безупречной военной выправкой, командным голосом и строевым шагом. Жена его была вполне бесцветное создание с пушком на голове. Она почти все время вязала, говорила: «Да, душенька» — и соглашалась со всем, что изрекал ее муж, тем самым оказывая всем великую услугу, потому что полковник Фосетт Смайд не терпел возражений, он так разъярялся и багровел при малейшем намеке на несогласие, что, казалось, с ним сейчас случится удар.
Леди Бимиш была и того колоритней. Она единственная из всех не боялась ни бомб, ни танков, ни любого другого оружия, которым нацисты грозили ее уничтожить. Ей перевалило за восемьдесят, была она высока и дородна, с седыми волосами, скрученными в узелок на затылке, и серыми глазами, в которых никогда не таял лед. Она сильно хромала (последствия несчастного случая на охоте, объясняла она замирающим от благоговения собеседникам) и потому ходила, опираясь на тяжелую палку. Когда садилась, то прислоняла палку сбоку к стулу, так что проходящие неизменно спотыкались о нее и падали или больно ударялись голенью. Леди Бимиш с большой неохотой приехала в пансион «Кумби», чтобы дождаться здесь конца войны, согласившись на это только потому, что ее дом в Гэмпшире был реквизирован армией и семья настаивала на переселении в Девоншир. «Отправили в тыл бездельничать, как старого боевого коня», — постоянно ворчала она.
Муж леди Бимиш был высокопоставленный чиновник в Индийской колониальной администрации, и она большую часть жизни прожила в этой огромной стране, не зря именовавшейся драгоценнейшей жемчужиной в короне Британской империи, впрочем, сама леди Бимиш называла эту жемчужину не иначе как «Инджя». Без сомнения, она была величайшей опорой и поддержкой своему мужу, часто думала Долли; изысканной хозяйкой царила на балах и приемах в саду, становилась соратником во времена волнений и смут. Нетрудно представить, как она, в тропическом шлеме, вооруженная одним только шелковым зонтиком от солнца, усмиряет разъяренную толпу туземцев взглядом своих стальных глаз; а если те не успокаиваются, собирает дам и велит им рвать нижние юбки на бинты.
Компания ждала Долли там, где она их оставила, у крошечного камина. Миссис Фосетт Смайд вязала, леди Бимиш раскладывала пасьянс на своем переносном столике, полковник стоял спиной к огню и грел поясницу, расставив ноги, точно полицейский на посту, и слегка приседая на ревматических коленях.
— Вот я и вернулась. — Долли села в свое кресло.
— Что случилось? — спросила леди Бимиш, кладя пикового валета на червонную даму.
— Амброз звонил. Он женится.
Известие так поразило полковника, что он застыл на согнутых коленях. Ему потребовалась усиленная концентрация мысли, чтобы выпрямиться.
— Черт побери! — воскликнул он.
— Боже, это чудесно, — пролепетала миссис Фосетт Смайд.
— На ком? — поинтересовалась леди Бимиш.
— На дочери… на дочери художника.
Губы леди Бимиш презрительно сморщились.
— На дочери художника? — переспросила она с величайшим неодобрением.
— Я уверена, это знаменитый художник, — умиротворяюще проворковала миссис Фосетт Смайд.
— Как ее зовут?
— М-м… Пенелопа Стерн.
— Пенелопа Штейн? — Слух иногда подводил полковника.
— Боже упаси! — Конечно, все они с большим состраданием относились к несчастным евреям, но легко ли представить, что твой сын женится на еврейке?! — Не Штейн, а Стерн.
— Никогда в жизни не слышал о художнике по имени Стерн, — возразил полковник обиженно, как будто Долли их всех обманула.
— И у них дом на Оукли-стрит. Амброз твердит, что она мне понравится.
— Когда же свадьба?
— В начале мая.
— Вы поедете?
— Ну конечно, я непременно должна быть там. Надо будет позвонить на Бейсил-стрит и заказать номер. Может быть, стоит поехать немного раньше: пройдусь по магазинам, выберу несколько туалетов.
— Свадьба будет пышная? — спросила миссис Фосетт Смайд.
— Нет. В ратуше Челси.
— Ах, боже мой.
Долли почувствовала, что должна обрести уверенность и защитить своего сына. Ей была невыносима мысль, что кто-то из них станет жалеть ее.
— Что же делать, ведь идет война, в любую минуту Амброза могут послать в действующий флот… может быть, это самое разумное решение… хотя должна признаться, что всегда мечтала о торжественном венчании в церкви, под звуки органа. Но увы! — Она мужественно улыбнулась. — C’est la querre[17].
Леди Бимиш продолжала раскладывать пасьянс.
— Где он с ней познакомился?
— Он не рассказал где. Но она рядовая вспомогательной службы военно-морских сил.
— Теперь по крайней мере хоть что-то понятно, — заметила леди Бимиш и бросила Долли острый многозначительный взгляд, который та сочла за благо не истолковывать.
Леди Бимиш знала, что Долли всего сорок четыре года. Долли подробно рассказала ей о своих недугах: у нее бывают мучительные головные боли (она их называла мигренями), они случаются с ней в самое неподходящее время; стоит ей сделать что-нибудь по дому, даже самое простое — например, убрать постель или выгладить платье, как у нее начинает разламываться спина. Долли и представить себе не может, что будет, если она попробует качать пожарный насос или водить карету «скорой помощи». Однако леди Бимиш не прониклась к ней сочувствием и время от времени позволяла себе ехидные замечания по поводу здоровых молодых людей, которые боятся бомб и не желают исполнять свой долг.
— Раз Амброз выбрал ее, значит она прекрасная девушка, — решительно заявила Долли. — К тому же я всегда мечтала о дочери.
Это была ложь. У себя в спальне наверху, когда Долли осталась одна и не надо было больше притворяться, она сбросила маску. Плача от жалости к себе и от одиночества, терзаемая ревностью, она попыталась утешиться: перебрала в шкатулке драгоценности, открыла гардероб, где висели изящные дорогие туалеты. Полюбовалась одним платьем, другим. Легчайший шифон и тонкая шерсть ласкали руки. Она сняла с вешалки платье из полупрозрачной ткани и, приложив его к себе, подошла к высокому зеркалу. Это было одно из ее любимых. Она всегда чувствовала себя в нем такой красивой. Такой красивой… Долли увидела в зеркале свои глаза. Они были полны слез. Амброз любит другую женщину, а не ее! Женится на ней. Она уронила платье на мягкий стул, бросилась на кровать и зарыдала.
Приближалось лето. Лондон благоухал сиренью. Теплое ласковое солнце падало на крыши и тротуары, отражаясь от плавающих высоко в небе серебристых аэростатов заграждения. Был майский полдень, пятница. Долли Килинг, снявшая номер в гостинице на Бейсил-стрит, сидела в верхнем холле на диване у открытого окна и ждала, когда появятся ее сын и его невеста.
Он взбежал к ней, шагая через две ступеньки, удивительно красивый в форме, и сердце ее наполнилось восторгом не только потому, что она видит его, но и потому, что он был один. Может быть, он сейчас скажет ей, что передумал и никакой свадьбы не будет? Она взволнованно встала и устремилась навстречу ему.
— Здравствуй, мамочка… — Он нагнулся и поцеловал ее. Она всегда гордилась, что сын такой высокий, чувствовала себя рядом с ним маленькой и беззащитной.
— Дорогой мой… а где Пенелопа? Я думала, вы приедете вместе.
— Мы и приехали. Сегодня утром, из Помпи. Но она захотела переодеться в штатское, и я завез ее на Оукли-стрит, а сам отправился сюда. Она скоро будет.
Эфемерная надежда умерла, едва родившись, но все равно Долли была рада, что сможет побыть с Амброзом наедине. Так легче говорить.
— Ну что ж, подождем ее. Давай сядем, и ты мне все-все расскажешь. — Она подозвала официанта и велела принести рюмку хереса для себя и джин для Амброза. — Дом на Оукли-стрит. Ее родители сейчас там?
— Нет. И это очень печально. У ее отца бронхит. Она только вчера вечером узнала. Они не смогут приехать на свадьбу.
— Но мать-то могла бы?
— Она сказала, что не может оставить мужа. Он ведь довольно стар. Ему семьдесят пять лет. Думаю, они не хотят рисковать.
— Боже мой, какая жалость… на свадьбе буду только одна я.
— У Пенелопы есть тетка, она живет в Патни. И друзья, их зовут Клиффорды. Вот они и приедут. Этого вполне достаточно.
Принесли вино и джин, Долли распорядилась, чтобы записали на ее счет. Мать и сын подняли рюмки. Амброз сказал: «За тебя!» — и Долли радостно улыбнулась, уверенная, что все, кто сидит в холле гостиницы, не сводят с них глаз, любуясь красивым молодым морским офицером и хорошенькой женщиной, явно слишком молодой, чтобы быть его матерью.
— Что вы собираетесь делать потом?
Амброз стал рассказывать. Наконец-то он сдал экзамен по артиллерийскому делу, теперь ему предстоит неделя в Дивизионном училище, а потом его отправят в действующий флот.
— А как же ваш медовый месяц?
— Никакого медового месяца не будет. Завтра распишемся, проведем ночь на Оукли-стрит, а в воскресенье я должен вернуться в Портсмут.
— А Пенелопа?
— Утром в воскресенье я посажу ее на поезд, и она поедет в Порткеррис.
— В Порткеррис? А разве она не вернется вместе с тобой в Портсмут?
— Нет, не вернется. — Кусая заусенец, он с таким увлечением смотрел в окно, будто на улице происходило что-то необыкновенное, хотя там решительно ничего не происходило. — Понимаешь, ей дали небольшой отпуск.
— Ах, боже мой, как недолго вы будете вместе!
— Ничего не поделаешь.
— Да, понимаю.
Долли поставила рюмку и увидела, что по лестнице поднимается в верхний холл какая-то девушка. Вот она нерешительно остановилась на площадке и огляделась вокруг, явно в поисках кого-то. Очень высокая, с зачесанными назад длинными темными волосами, как у школьницы, это даже прической назвать нельзя. Ее лицо с нежной белой кожей и глубоко посаженными темными глазами сразу же привлекало внимание полным отсутствием косметики; светилась ненапудренная кожа, на бледных губах ни мазка помады, пушистые темные брови дугами не подбриты и даже не выщипаны. В этот жаркий день незнакомка была одета скорее для пикника за городом, чем для церемонного обеда в ресторане лондонской гостиницы: на ней было красное, в белый горошек ситцевое платье и белый пояс на тонкой талии. На ногах белые босоножки и… Долли внимательно вгляделась, чтобы убедиться… да, и нет чулок. Господи, да кто это? И почему она глядит в их сторону? Почему идет к ним? Почему улыбается?
Боже милосердный…
Амброз поднимается.
— Мамочка, — произносит он, — это Пенелопа.
— Здравствуйте, — говорит Пенелопа.
Долли чуть не разинула рот, едва удержалась. Она чувствует, что челюсть ее опускается, но вовремя останавливает ее и превращает гримасу ужаса в сияющую улыбку. На босу ногу! Без перчаток, без сумочки, без шляпки! Но главное — без чулок!!! Она от души надеется, что их не пустят в ресторан.
— Здравствуйте, милая.
Они обмениваются рукопожатием. Амброз торопливо придвигает стул, делает знак официанту. Пенелопа садится лицом к окну, в которое бьет яркий свет дня, и смотрит прямо в лицо Долли, смущая ее открытой непосредственностью взгляда. А ведь она рассматривает меня, вдруг понимает Долли, и в душе ее вспыхивает возмущение. Эта странная девушка не имеет права так откровенно, в упор разглядывать свою будущую свекровь и доводить до такого волнения, вон как сердце больно колотится. Долли представляла себе юную избранницу сына застенчивой, даже почтительной, а эта…
— Очень приятно познакомиться… вы приехали на машине из Портсмута? Да, Амброз мне рассказывал.
— Пенелопа, что ты будешь пить?
— Апельсиновый сок или какой-нибудь другой. Со льдом, если у них есть.
— Может быть, выпьете немного хереса? Или вина? — искушает ее Долли, пытаясь улыбкой скрыть свою растерянность.
— Нет, спасибо. Мне ужасно жарко и хочется пить. Только сок.
— Ну что ж, выпьем вина за обедом, я заказала бутылку — ведь нам есть за что выпить.
— Благодарю вас.
— Мне так жаль, что ваши родители не смогут быть завтра на церемонии.
— Да, мне тоже. Но папа́ перенес грипп на ногах, и у него появились хрипы в легких. Врач уложил его в постель на неделю.
— Неужели больше некому за ним ухаживать?
— Вы хотите сказать — кроме Софи?
— Софи? Кто это?
— Моя мама. Я зову ее Софи.
— Ах вот как? Понятно. Так, значит, вашего папу больше не на кого оставить?
— Есть еще Дорис, это эвакуированная. Но у нее двое сыновей, ей бы с ними справиться. А папа́ ужасно капризный пациент, он ее и слушать не станет.
Долли разводит ручками:
— Надо думать, вы, как и все в Англии, остались сейчас без прислуги.
— А у нас никогда ее и не было, — сказала Пенелопа. — Ой, Амброз, большое спасибо, именно об этом я мечтала. — Она взяла из его рук стакан и залпом отпила половину, потом поставила на столик.
— У вас никогда не было прислуги? И никто не помогал вам по дому?
— Помогали, но не прислуга, а друзья, которые приезжали в гости. Так что прислугу мы никогда не нанимали.
— А кто же готовит?
— Софи. Она француженка и обожает стряпать. В этом она просто виртуоз.
— Ну а уборка, стирка?
Пенелопа растерянно посмотрела на Долли, словно никогда не задумывалась об уборке и стирке.
— Не знаю. Все происходит как-то само собой… рано или поздно.
— Понятно. — Долли негромко смеется — светская, нет, великосветская дама. — Звучит прелестно. И романтически богемно. Надеюсь, очень скоро я буду иметь удовольствие познакомиться с вашими родителями. А теперь давайте поговорим о завтрашнем дне. Что вы наденете, какое платье?
— Еще не знаю.
— Не знаете? Как это не знаете?!
— Я об этом еще не думала. Но что-нибудь подберу.
— Вам нужно непременно сходить в магазин.
— Нет, нет, боже упаси, ни в какие магазины я не пойду. На Оукли-стрит тысячи платьев. Какое-нибудь мне наверняка подойдет.
— Какое-нибудь?!
Пенелопа смеется:
— Знаете, я не очень-то интересуюсь тряпками. У нас вся семья такая. И еще мы ничего не выбрасываем. У Софи на Оукли-стрит множество прелестных платьев. Сегодня после обеда мы с Элизабет Клиффорд произведем им смотр. — Она бросила взгляд на Амброза. — Не волнуйся, тебе не придется краснеть за меня.
Он криво улыбнулся. Долли всем сердцем жалела своего бедного мальчика. Почему за все время он не обменялся ни одним нежным взглядом, ни одним ласковым прикосновением, быстрым поцелуем с этой странной девушкой, которую где-то отыскал и на которой решил жениться? Полно, да влюблены ли они друг в друга? Разве могут жених и невеста быть настолько равнодушны друг к другу? Зачем он женится, если не потерял голову от любви к ней? Зачем?..
Долли стала мысленно искать ответ, и вдруг ей пришло в голову предположение столь чудовищное, что она тотчас же прогнала его прочь. Но оно незаметно, крадучись, вернулось.
— Амброз сказал мне, что в воскресенье вы едете домой.
— Да.
— В отпуск?
Амброз впился глазами в невесту, стараясь поймать ее взгляд. Долли это отлично видела, а Пенелопа, вероятно, нет. Она сидела как ни в чем не бывало, спокойная и безмятежная.
— Да. На месяц.
— А потом вы вернетесь на остров Уэйл?
Он замахал руками, а потом, так и не придумав, что еще сделать, зажал себе рот.
— Нет, меня демобилизуют.
Амброз громко, со стоном вздохнул.
— Совсем?
— Да.
— Это что же, такое правило, что всех, кто выходит замуж, демобилизуют? — Долли чрезвычайно гордилась собой: она продолжала улыбаться, но тон у нее был ледяной.
Пенелопа тоже улыбнулась и спокойно ответила:
— Нет.
Амброз, видимо решив, что самое скверное уже произошло, вскочил со стула.
— Пойдемте что-нибудь поедим, я умираю с голоду.
Долли медленно, с достоинством взяла сумочку, белые перчатки. Встала, оглядела с головы до ног будущую жену Амброза, эту странную девушку с карими глазами, водопадом волос и небрежной грацией движений, и произнесла:
— Боюсь, Пенелопу не пустят в ресторан. По-моему, она без чулок.
— Господи, что за глупости ты говоришь… никто и внимания не обратит, — раздраженно прервал ее Амброз, но Долли незаметно улыбнулась: она-то знала, что сын рассердился не на нее, а на Пенелопу за то, что та выдала их тайну.
Она беременна, беременна, твердила про себя Долли, идя с ними через холл к ресторану. Расставила Амброзу ловушку и поймала. Он не любит ее, он просто вынужден жениться.
После обеда Долли извинилась и сказала, что должна подняться к себе и лечь. «Голова разболелась, так досадно, — объяснила она Пенелопе с легким упреком в голосе. — У меня такое слабое здоровье. Малейшего волнения достаточно…» Пенелопа удивилась, потому что считала, что ничего волнующего во время обеда не произошло, однако сказала, что вполне ее понимает и завтра они увидятся в ратуше. «Обед был замечательный, большое спасибо». Долли вошла в старинный лифт и взлетела наверх, точно птица в клетке.
Они проводили ее взглядом. Решив, что мать отъехала достаточно далеко, Амброз набросился на Пенелопу:
— За каким чертом тебе понадобилось говорить ей?
— О чем? Что я беременна? Я и не говорила. Она сама догадалась.
— Могла бы и не догадаться.
— Какая разница? Все равно она рано или поздно узнает. Пусть уж сразу.
— Разница очень большая. Мама из-за таких вещей ужасно расстраивается.
— Поэтому у нее и разболелась голова?
— Конечно… — Они стали спускаться вниз по лестнице. — С самого начала все пошло вкривь и вкось.
— Мне очень жаль, я не хотела. Но поверь, я решительно не понимаю, зачем нужно что-то скрывать и почему она должна расстраиваться. Ведь женимся-то мы. Кого это касается, кроме нас?
На это Амброзу нечего было ответить. Раз она такая толстокожая, какой смысл пытаться что-то объяснить? Они молча вышли на жаркий солнечный свет и зашагали туда, где он поставил свою машину. Пенелопа взяла его под руку и улыбнулась.
— Ты что, Амброз, и вправду огорчился? Ничего, твоя мама успокоится. Все это мелочи жизни, как говорит мой папа́, пустая суета. Скоро она все забудет. А когда родится ребенок, она будет счастлива. Все женщины мечтают о первом внуке и обожают его.
Однако Амброз такой уверенности вовсе не испытывал. Они проехали на довольно большой скорости Павиллион-роуд, потом Кингз-роуд и свернули на Оукли-стрит. Когда он остановился у дома, Пенелопа спросила:
— Ты зайдешь? Я познакомлю тебя с Элизабет. Она тебе очень понравится.
Но он отказался. У него слишком много дел. Они увидятся завтра.
— Хорошо. — Пенелопа безмятежно улыбнулась и не стала настаивать. Она поцеловала его, вышла из машины и захлопнула дверцу. — Пойду выбирать себе свадебное платье.
Амброз кисло улыбнулся. Она взбежала по ступенькам парадной лестницы, помахала ему рукой и скрылась за дверью.
Он завел двигатель, развернулся и поехал теми же улицами обратно. Пересек Найтсбридж и въехал через ворота в Гайд-парк. День стоял очень теплый, но в тени под деревьями было прохладно. Он поставил машину, прошел по аллее и сел в тихом месте. Деревья шумели на ветру, парк звенел милыми летними звуками: перекликались дети, пели птицы, вдали шумел Лондон — непрекращающаяся симфония города, его вечный фон.
На душе у Амброза было хуже некуда. Пенелопа может сколько угодно твердить, что никого не касается, беременна она или нет, и уверять, что его мать смирится с тем, что он вынужден жениться из-за ребенка, — ведь так оно и есть в действительности, зачем лукавить с самим собой, — но он-то отлично знал, что Долли никогда этого не забудет и, пожалуй, никогда не простит. Какая досада, что Стерны не будут присутствовать на завтрашней церемонии. Наверняка широта взглядов, свобода и свойственное людям искусства пренебрежение к условностям качнули бы чашу весов в их сторону, и пусть даже Долли отказалась бы разделить их образ мысли, она все равно вынуждена была бы признать, что он имеет такое же право на существование, как и ее собственный.
Пенелопа говорила ему, что ее родители ничуть не огорчились, узнав о будущем ребенке; наоборот, пришли в восторг и просили передать Амброзу, что вовсе не считают его обязанным заботиться о добром имени их дочери.
Когда он узнал, что ему предстоит стать отцом, у него словно землю вышибло из-под ног, большего удара и представить было невозможно. Он был ошеломлен, раздавлен, взбешен, он был готов убить и себя за то, что попался в эту пошлую хрестоматийную ловушку, и Пенелопу, которая его туда затащила. «Ты не боишься?» — спросил он ее в ту ночь, и она ответила: «Нет», и он в пылу страсти махнул рукой на предосторожности. А она — она вела себя удивительно благородно. «Никто не заставляет тебя жениться на мне, Амброз, — убеждала она его. — Ради бога, не считай, что это налагает на тебя какие-то обязательства». И была так спокойна, мила, словно эта кошмарная история ее ничуть не беспокоила. В результате его чувства совершили резкий поворот, и он принялся рассматривать другую сторону медали.
Может быть, ничего ужасного и в самом деле не произошло. Могло быть и хуже. Пенелопа красавица, хотя красота ее и необычна, и получила хорошее воспитание, разве сравнить ее с мещаночками, которых пруд пруди в портсмутских кафе? К тому же она дочь состоятельных родителей, которые, правда, придерживаются нетрадиционных взглядов, зато владеют недвижимостью. Великолепный дом на Оукли-стрит — это вам не шутка, к тому же у них есть коттедж в Корнуолле, такому любой позавидует. Он мысленно представил себе, как идет под парусом по заливу и выходит в открытое море. И еще была надежда стать когда-нибудь обладателем четырех с половиной литрового «бентли».
Нет, он поступил правильно. Ну, поплачет немного маменька, попереживает из-за Пенелопиной беременности, а потом смирится, и все образуется. К тому же идет война. Она грозит вот-вот разгореться всерьез; а пока все это не закончится, они с Пенелопой не смогут жить вместе, разве что увидятся пару раз. Амброз был уверен, что с ним ничего не случится. Воображение у него было не слишком богатое, и его не терзали по ночам страхи, что в машинное отделение попала торпеда, а сам он тонет или замерзает зимой в ледяных водах Атлантики. А когда война кончится, он наверняка захочет остепениться и ему будет приятна роль главы семьи, не то что сейчас.
Пошевелившись в кресле с жесткой спинкой, безобразном и на редкость неудобном, он вдруг заметил влюбленных, которые обнимались на смятой траве всего ярдах в пяти от него, и ему пришла в голову блестящая мысль. Он встал, пошел к своей машине, выехал из парка, описал полукруг вокруг Мраморной арки и углубился в тихие улочки за Бейсуотер-роуд. Он ехал и тихонько насвистывал.
От шампанского Я не пьянею… Не пьянею я От вина. Но твой поцелуй. Лишь один поцелуй…Возле высокого, солидного дома он остановился и спустился по лесенке в пышно цветущий дворик, где был вход в полуподвальный этаж. Нажал кнопку звонка возле желтой двери. Конечно, он приехал наугад, но около четырех она обычно бывает дома: ложится подремать, или возится в своей крошечной кухоньке, или просто ничего не делает. Ему повезло. Она открыла дверь. Белокурые волосы в беспорядке, пышная округлая грудь целомудренно прикрыта кружевным пеньюаром. Энджи! Именно она по доброте сердечной избавила его в семнадцать лет от столь мучительной девственности, и с тех пор он при всех жизненных передрягах бросался к ней.
— Ах, Амброз, это ты! — Ее лицо засияло радостью.
О таком приеме любой мужчина может только мечтать.
— Привет, Энджи!
— Я тебя сто лет не видела. Думала, ты уже носишься по морям и океанам. — Она ласково обняла его полной рукой. — Что ж ты стоишь на пороге, входи!
И он вошел.
Когда Пенелопа отперла парадную дверь на Оукли-стрит, ее окликнула стоящая на лестнице Элизабет Клиффорд. Пенелопа поднялась к ней.
— Ну как? Все хорошо?
— Увы, Элизабет, хуже некуда. — Пенелопа засмеялась. — Она ужасна. Сплошной бонтон: ах, шляпка, ах, перчатки, а я-то, я-то без чулок, представляете, она была готова меня уничтожить. Сказала, что из-за меня нас не пустят в ресторан, но никто и внимания не обратил.
— Она знает, что ты ждешь ребенка?
— Знает. Я, конечно, не стала ей рассказывать, но она сама догадалась. Это было видно. Впрочем, оно и к лучшему. Амброз взбесился, а я считаю: пусть знает.
— Да, наверное, — проговорила Элизабет, в душе жалея бедную свекровь Пенелопы. Молодые люди порой бывают непрошибаемо черствы и бездушны, вон даже Пенелопа… — Хочешь чаю или, может быть, что-нибудь съешь?
— Чаю выпью с удовольствием, только попозже. Мне нужно найти туалет для завтрашнего дня. Вы мне поможете, Элизабет?
— Я тут перерыла чемодан со всяким старьем… — Элизабет повела ее в их с Питером спальню, где на огромной двуспальной кровати высилась кипа мятых слежавшихся платьев. По-моему, вот это довольно милое. Я купила его, чтобы играть в «Херлингеме»[18]… Кажется, это было в тысяча девятьсот двадцать первом году, Питер тогда увлекался крикетом. — Она взяла в руки верхнее платье — тончайшее полотно кремового цвета, удлиненная талия, свободный покрой, ажурная мережка. — Оно не слишком-то свежее, но я его выстираю, выглажу, и завтра оно будет выглядеть как новое. Смотри, есть даже туфельки в тон — как тебе нравятся эти прелестные пряжки с diamante?[19] И кремовые шелковые чулки.
Пенелопа подошла с платьем к зеркалу, приложила его к себе и, прищурившись, стала рассматривать себя.
— Изумительный цвет, Элизабет. Как спелая пшеница. Вы правда дадите мне его?
— Конечно.
— А шляпка? Наверное, мне полагается быть в шляпке? Или сделать высокую прическу? Как вы думаете?
— Тебе еще нужны нижние юбки. Ткань такая тонкая и прозрачная, что ноги будут просвечивать.
— Боже упаси, чтоб ноги просвечивали. Долли Килинг в обморок упадет…
Они рассмеялись. Пенелопа сорвала с себя красное ситцевое платье, быстро надела через голову палевое льняное, и вдруг ей стало весело, легко. Конечно, Долли Килинг — ужасная зануда, но ведь она-то выходит замуж за Амброза, а не за его мать, так не все ли равно, что эта дама думает о ней?
Солнце сияло. На небе ни облачка. Долли Килинг, позавтракав в постели, встала в одиннадцать. Голова не прошла, но болела гораздо меньше. Она приняла ванну, сделала прическу и занялась своим лицом. Это заняло много времени, потому что ей было важно выглядеть юной и прелестной и по возможности затмить всех, включая и невесту. Положив на столик тушь для ресниц, она встала, сбросила прозрачный пеньюар и облачилась в парадный туалет — лиловое шелковое платье и широкую, с фалдами накидку из той же ткани. Надела шляпку из тончайшей соломки с маленькими отвернутыми наверх полями и лиловой лентой, туфельки на высоченных каблуках с открытыми пальцами, длинные белые перчатки, взяла белую лайковую сумочку. Последний взгляд в зеркало убедил ее, что она безупречно элегантна, и придал сил. Амброз будет ею гордиться. Она выпила напоследок две таблетки аспирина, надушилась французскими духами и спустилась в холл.
Амброз уже ждал ее, ослепительно красивый в своей парадной форме и благоухающий так, будто только что вышел от дорогого парикмахера, что, кстати, соответствовало действительности. На столике возле него стоял пустой стакан. Она поцеловала сына и почувствовала запах бренди. Сердце ее сжалось от любви к дорогому мальчику: ведь ему всего двадцать один год, неудивительно, что он волнуется.
Они вышли на улицу и взяли такси до Кингз-роуд. Долли положила свою ручку в белой перчатке на руку сына и сжала ее. И он, и она молчали. Какой смысл в словах? Она была ему хорошей матерью… Ни одна женщина не сделала бы для сына больше. А что касается Пенелопы, то есть вещи, о которых лучше промолчать.
Такси остановилось возле внушительного здания ратуши в Челси. Они вышли на улицу, полную солнечного света и ветра, и Амброз расплатился с таксистом. Долли тем временем расправила юбку, убедилась, что шляпка прочно сидит на голове, и огляделась. Неподалеку стояла женщина — маленькая, еще меньше ее самой, на тоненьких, как спички, ножках в черных шелковых чулках. Их взгляды встретились, и Долли тут же в испуге отвела глаза, но поздно: странная женщина бросилась к ней с сияющим лицом. Вот она уже рядом, сжимает руку Долли, будто тисками, и провозглашает: «Я уверена, вы — миссис Килинг, а это ваш сын. Я сразу догадалась, как только увидела вас».
Долли в изумлении раскрыла рот — она не сомневалась, что к ней пристала сумасшедшая. Амброз был ошеломлен не меньше матери.
— Прошу прощения…
— Я — Этель Стерн. Сестра Лоренса Стерна. — На ней был доверху застегнутый красный жакет, крошечный, впору ребенку, и весь расшитый тесьмой и сутажом; на голове огромный, свисающий чуть не до плеча шотландский берет из черного бархата. — Конечно, для вас, молодой человек, я — тетя Этель. — Она отпустила руку Долли и протянула ладонь в сторону Амброза. Прошло несколько секунд, а он все не пожимал ее, и на морщинистом лице тети Этель мелькнуло ужасное подозрение. — Неужели я ошиблась?
— Нет-нет, вы не ошиблись. — Он слегка покраснел, ошеломленный этой встречей и экзотической внешностью своей новой родственницы. — Очень приятно познакомиться. Я действительно Амброз, а это моя мама, Долли Килинг.
— Ну вот, я же знала, что это вы. Я так давно тут жду, даже… уже счет времени потеряла, — принялась щебетать она. Волосы у нее были выкрашены в медно-рыжий цвет, яркий макияж сделан небрежно, словно она в это время не смотрелась в зеркало. Брови оказались разной длины, бордовая губная помада расползлась по морщинкам вокруг губ. — Я всю жизнь всюду опаздываю, но сегодня постаралась быть точной. И конечно, явилась слишком рано. — Лицо ее вдруг приняло трагическое выражение. Она была похожа на крошечного клоуна или на обезьянку шарманщика. — Какое ужасное несчастье стряслось с беднягой Лоренсом. Он будет так огорчен.
— Да, — слабым голосом проговорила Долли. — Нам так хотелось познакомиться с ним.
— Ах, он обожает ездить в Лондон. Придумывает любые предлоги… — Тут она испустила пронзительный вопль, от которого Долли чуть не лишилась сознания, и принялась отчаянно махать руками. С противоположной стороны улицы подползло такси, остановилось, и из него вышли Пенелопа и, судя по всему, Клиффорды. Все они смеялись, Пенелопа держалась совершенно непринужденно и ничуть не волновалась.
— Здравствуйте! Вот и мы. Какая точность! Тетя Этель, ужасно рада тебя видеть… Привет, Амброз. — Она небрежно чмокнула его в щеку. — Вы ведь незнакомы с Клиффордами? Я сейчас вас всех друг другу представлю: профессор Клиффорд и миссис Клиффорд — Питер и Элизабет. А это мама Амброза… — Все улыбались, пожимали друг другу руки, говорили «очень приятно». Долли сияла, кивала — само обаяние и приветливость, а глаза ее между тем впивались то в одно лицо, то в другое: отмечая каждую мелочь, она, как всегда, мгновенно выносила суждение.
Пенелопа оделась словно на маскарад, и все равно, к величайшей ярости Долли, была ошеломляюще красива — породиста и аристократична. Высокая, стройная, в длинном свободном кремовом платье, явно мамином или бабушкином, догадалась Долли, которое лишь подчеркивало, к зависти Долли, чарующую грацию девушки. Волосы она подобрала в свободный узел на затылке и водрузила на голову огромную соломенную шляпу ядовито-зеленого цвета с венком из ромашек вокруг тульи.
Что касается миссис Клиффорд, она была похожа на бывшую гувернантку. Вероятно, эта дама очень умна и образованна, но одета безвкусно. Профессор более элегантен (мужчинам ведь всегда легче хорошо одеваться): на нем темно-серый фланелевый костюм в тонкую полоску и голубая рубашка. Высокий и поджарый, лицо худое, аскетическое. Очень привлекательный мужчина, если учесть, что профессор. Впрочем, привлекательным его находила не одна Долли. Уголком глаз она проследила, как тетя Этель обняла его в знак приветствия и повисла на шее, болтая в воздухе ножками, точно субретка в музыкальной комедии. «Наверное, эта женщина не совсем нормальная, — подумала Долли, — дай только бог, чтобы это не передавалось по наследству».
В конце концов Амброз заявил, что, если все будут продолжать беседовать, они с Пенелопой пропустят назначенное им время. Тетя Этель поправила свой берет, и все стали входить в дверь, где предстояла церемония бракосочетания. Она совершилась молниеносно. Долли даже не успела поднести к глазам кружевной платочек, как все кончилось. После чего все вышли на улицу и поехали в отель «Риц», где Питер Клиффорд, действуя по указаниям из Корнуолла, заказал в ресторане обед.
Изысканная еда, несколько бокалов шампанского и любезный хозяин способны поднять настроение даже самой мрачной компании. Все начали оттаивать, даже Долли, хотя тетя Этель курила не переставая и без конца рассказывала сомнительные анекдоты, причем начинала давиться смехом задолго до того, как до присутствующих доходила соль анекдота. Профессор был внимателен и очень мил, он сказал Долли, что у нее очень изящная шляпка, а миссис Клиффорд заинтересовалась жизнью пансиона «Кумби», расспрашивала обо всех его жильцах. Долли рассказывала, то и дело небрежно упоминая имя леди Бимиш. Пенелопа сняла свою ядовито-зеленую шляпу и повесила на спинку стула, а ненаглядный Амброз встал и произнес изумительный тост, в котором назвал Пенелопу своей женой. Все радостно зашумели, засмеялись. В общем, обед удался, и, когда он подходил к концу, Долли чувствовала, что они подружились на всю жизнь.
Увы, даже самые приятные и радостные события кончаются, и все стали неохотно собирать сумочки, отодвигать позолоченные стулья, вставать. Пора было разъезжаться: Долли возвращалась на Бейсил-стрит, Клиффорды шли на ранний концерт в Альберт-холл, тетя Этель отправлялась домой, в Патни, а новобрачные — на Оукли-стрит.
И вот пока все стояли в фойе в приятном легком опьянении и ждали такси, которые развезут их в разные стороны, произошел эпизод, навеки погубивший отношения между Пенелопой и ее свекровью. Долли под влиянием выпитого шампанского стала сентиментальной и великодушной. Она взяла Пенелопу за руки и, глядя ей в глаза, сказала: «Милая, теперь ты стала женой Амброза, и я хочу, чтобы ты звала меня Марджори».
Пенелопа в изумлении уставилась на нее. Что за чудеса! Было бы странно называть свекровь Марджори, ведь она прекрасно знала, что ее зовут Долли. Но если ей так хочется, что ж…
— Благодарю вас. Конечно. — Пенелопа нагнулась и поцеловала мягкую надушенную щечку, которую ей грациозно подставили.
И целый год она называла свекровь Марджори. Письмо, в котором она благодарила за подарок ко дню рождения, начиналось обращением: «Дорогая Марджори…» Звоня в пансион «Кумби» поделиться новостями об Амброзе, она говорила: «Здравствуйте, Марджори, это Пенелопа…»
Немало времени прошло, прежде чем она догадалась о своей ошибке, но исправить было уже ничего нельзя. В тот день, в фойе отеля «Риц», Долли сказала ей: «Милая, я хочу, чтобы ты звала меня мадре».
В воскресенье утром Амброз отвез Пенелопу на Паддингтонский вокзал и посадил в экспресс «Ривьера», идущий в Корнуолл. Поезд был, как всегда, набит солдатами и моряками, всюду валялись вещмешки, противогазы, каски. И думать было нечего найти место, но Амброзу удалось сложить багаж Пенелопы в уголке, так что никто больше не мог посягать на него.
Они вышли на платформу попрощаться. Ни он, ни она не могли найти слов, потому что вдруг почувствовали, каким все стало новым и чужим. Они были муж и жена, но оба не знали, как теперь должны себя вести. Амброз закурил сигарету и стоял, рассматривая людей на платформе и поглядывая на часы. Пенелопа не могла дождаться, когда наконец раздастся свисток, поезд медленно тронется и все будет кончено.
— Ненавижу прощания, — в сердцах сказала она.
— Придется привыкать.
— Кто знает, когда мы теперь увидимся. Через месяц я приеду в Портсмут демобилизовываться. Тебя там, наверное, уже не будет?
— Скорее всего, нет.
— Куда тебя пошлют?
— Одному богу ведомо. Может быть, в Атлантику; может, на Средиземное море.
— Лучше бы на Средиземное море. Там солнце.
— Да уж.
Они снова замолчали.
— Так жаль, что папа́ и Софи не было вчера. Мне очень хотелось, чтоб вы познакомились.
— Когда мне дадут нормальный отпуск, я постараюсь приехать к вам в Корнуолл.
— Это было бы чудесно.
— Надеюсь, все пройдет благополучно. Я о родах.
Она слегка покраснела.
— Конечно, я просто уверена.
Он снова взглянул на часы.
— Я буду писать тебе, — проговорила она уже в полном отчаянии. — Ты, пожалуйста…
Но в эту минуту их оглушил свисток, и тут же началась обычная в таких случаях легкая паника. Захлопали двери, люди что-то кричали друг другу, по платформе пробежал мужчина и вскочил в поезд в последнюю минуту. Амброз бросил на землю сигарету, потушил окурок каблуком, нагнулся к жене, поцеловал ее, посадил в купе и захлопнул за ней дверь. Она опустила окно и высунулась наружу. Поезд тронулся.
— Напиши мне, Амброз, и сообщи свой новый адрес.
Вдруг его поразила неожиданная мысль.
— А ведь я не знаю твоего!
Она расхохоталась. Он бежал, стараясь не отстать от поезда.
— Карн-коттедж! — кричала она, стараясь, чтоб он услышал ее за шумом колес. — Карн-коттедж, Порткеррис…
Поезд набирал скорость. Амброз, постепенно замедляя бег, остановился и стал ей махать. Поезд описал плавную дугу, выпустил хвост дыма и скрылся из глаз. Пенелопа уехала. Он зашагал назад по длинной опустевшей платформе.
Карн-коттедж. Елизаветинский особняк, который рисовался в его мечтах, яхта на Хелфорд-ривер — все поблекло и растворилось в тумане, исчезло навсегда. Карн-коттедж. Это звучало так прозаически, что ему показалось, будто его обманули.
Но не стоит унывать. Пенелопа уехала, мать вернулась в Девоншир, все, слава богу, позади. Остается лишь вернуться в Портсмут и доложить, что он готов к выполнению своих обязанностей. Пробираясь к стоянке, Амброз вдруг понял, что, как ни странно, он с удовольствием думает о повседневной жизни на острове, о морской службе, о своих товарищах. С мужчинами, если говорить правду, намного проще и легче, чем с женщинами.
Через несколько дней, десятого мая, немцы вторглись во Францию, и война началась всерьез.
9. Софи
Они увиделись только в начале ноября. После долгих месяцев разлуки вдруг раздался звонок — как гром среди ясного неба. Амброз звонил из Ливерпуля. Ему дали отпуск на несколько дней, он садится в первый же поезд, который идет в Порткеррис, и проведет в Карн-коттедже выходные.
Он приехал, провел у них выходные и уехал. Обстоятельства сложились так нескладно, что его визит превратился в истинную катастрофу. Во-первых, все три дня, ни на минуту не переставая, лил дождь. Во-вторых, в это время у них жила тетя Этель — в высшей степени экстравагантная гостья, не слишком тактичная и деликатная. Было и множество других причин, столь грустных и серьезных, что о них и задумываться не хотелось.
Когда визит закончился и Амброз отбыл на свой эсминец, Пенелопа решила, что даже вспоминать эти три дня слишком мучительно, и, с категоричностью молодости, помноженной на поглощенность ожидаемым ребенком, напрочь вычеркнула тягостный эпизод из памяти. Ей хватало куда более важных забот и было о чем думать.
Роды произошли точно в ожидаемый срок, в конце ноября. Родился ребенок не в Карн-коттедже, как Пенелопа, а в маленькой больничке Порткерриса. Девочка появилась на свет так быстро, что доктор даже не успел приехать. Пенелопа и акушерка миссис Роджерс вынуждены были справляться одни. Нужно сказать, у них все получилось на редкость удачно. Убедившись, что с роженицей все в порядке, сестра Роджерс, согласно обычаю, унесла девочку, искупала ее, надела крошечную сорочку и платьице и завернула в шотландскую шаль, которую Софи — можно не сомневаться, что именно Софи, — отыскала в одном из ящиков комода, благоухающую нафталином.
У Пенелопы была своя теория относительно младенцев. Ей в жизни не приходилось за ними ухаживать, она даже не держала ни одного на руках, но была твердо убеждена, что молодая мать узнает своего ребенка сразу же, как только увидит. Осторожно отведет от нежного личика складки шали, посмотрит на него и скажет: «Ну конечно, это ты. Здравствуй!»
Но ничего подобного не произошло. Когда акушерка миссис Роджерс наконец вернулась, держа младенца с такой гордостью, будто это было ее собственное дитя, и бережно положила в нетерпеливо протянутые руки Пенелопы, та с жадностью впилась в девочку взглядом. Толстая, со светлыми волосиками, мутно-голубыми, близко посаженными глазками, пухлыми, как булки, щеками, она напоминала распустившуюся розу и не была похожа ни на кого из родных Пенелопы и Амброза. О Софи и Лоренсе даже говорить не приходилось, равно как и о Долли; видимо, в жилах этого существа, которое прожило на свете уже час, не было ни единой капли крови Стернов.
— Какая она у нас красавица, — пропела миссис Роджерс, с восхищением глядя на девочку.
— Да, — равнодушно согласилась Пенелопа. Если бы в больнице были другие молодые матери, она бы заявила, что детей перепутали и ей принесли чужого ребенка, но она была здесь единственной роженицей, так что это было просто невозможно.
— Вы только посмотрите, какие у нее голубые глазки! Она похожа на цветок. Я оставлю ее здесь и позвоню вашей матушке.
Но Пенелопа не захотела остаться с ребенком. Она решительно не знала, что ему сказать.
— Нет, сестра, унесите ее, пожалуйста. Вдруг я ее уроню, или еще что-нибудь случится.
Тактичная акушерка не стала возражать. Молодые матери нередко вели себя странно, и она, Бог свидетель, всякого навидалась.
— Сейчас, сейчас, — проворковала Роджерс, беря на руки шерстяной сверток. — Это чья такая золотая девочка? Чья ненаглядная куколка? — И, шурша жестко накрахмаленным передником, вышла из палаты.
Пенелопа, радуясь, что избавилась от них обеих, откинулась на подушки и уставилась в потолок. У нее родился ребенок. Она стала матерью. Она — мать ребенка Амброза Килинга.
Амброз…
К своему величайшему смятению, она вдруг почувствовала, что не может больше не думать о том, что произошло в те кошмарные три дня, обреченные принести им всем несчастье еще до того, как наступили, потому что ожидаемый приезд Амброза стал причиной единственной за всю жизнь настоящей ссоры между Пенелопой и ее матерью. После обеда Пенелопа пошла с тетей Этель пить чай к ее престарелой приятельнице, которая жила в Пензансе. Когда они вернулись в Карн-коттедж, Софи в восторге объявила дочери, что ту ждет наверху восхитительный сюрприз. Пенелопа послушно поднялась за матерью в свою комнату и там вместо своей любимой девичьей кровати увидела новое двуспальное чудовище, которое заняло все свободное пространство. Они никогда раньше не ссорились, но тут с Пенелопой случилось что-то непонятное: она пришла в бешенство, потеряла власть над собой и крикнула Софи, что та не имеет права, что это ее спальня, ее кровать. Это не восхитительный сюрприз, а омерзительный. Ей не нужна двуспальная кровать, это гадость, и она никогда не будет спать на ней.
Софи, с ее галльским темпераментом, вспыхнула как спичка. Мужчина вернулся на несколько дней с войны, где каждую минуту рисковал жизнью, и должен спать с женой в односпальной кровати?! О чем Пенелопа думает? Она не девочка, она замужняя женщина. И это не ее спальня, а их с Амброзом спальня. Что за детские выходки? Тут Пенелопа разразилась слезами ярости и завопила, что она на сносях и не хочет ни с каким мужем спать. Кончилось тем, что они с Софи принялись орать друг на друга, как рыбные торговки.
Такого скандала у них в семье в жизни не было. Все страшно расстроились. Папа́ был в ярости, остальные домочадцы ходили на цыпочках и говорили шепотом. Но постепенно все уладилось, мать с дочерью, конечно, помирились, попросили друг у друга прощения, поцеловались и больше о ссоре не вспоминали. Но Пенелопа уже не ждала ничего хорошего от встречи с Амброзом. И теперь, оглядываясь в прошлое, она признала, что ссора сыграла большую роль в разразившейся катастрофе.
Амброз… Она — жена Амброза…
Ее губы задрожали. Горло перехватило. Глаза стали наливаться слезами, закапали на подушку и вдруг хлынули неудержимым потоком. Она не могла ничего с собой сделать, не могла их остановить. Казалось, слезы копились много лет и вот теперь решили пролиться все сразу. Она все так же горько плакала, когда в дверь радостно влетела счастливая Софи. На ней были красно-коричневые брюки и грубой вязки свитер, в которых она стряпала, когда позвонила миссис Роджерс, и, конечно же, в руках огромный букет хризантем, которые она сорвала, пока бежала из дома по саду.
— Моя дорогая девочка, моя умница, так быстро… — Она бросила цветы на стул и пошла туда, где должен был лежать ребенок, желая поскорее обнять его. — Миссис Роджерс говорит… — Она умолкла. Радость мгновенно исчезла с ее лица, на нем появилась тревога, потом страх. — Пенелопа… — Она села на край кровати и взяла дочь за руку. — Родная моя, что с тобой? Ты намучилась? Было очень больно?
Задыхаясь от слез, Пенелопа лишь покачала головой. Нос у нее распух, лицо покраснело.
— Вот, возьми. — Всегда практичная Софи протянула ей чистый носовой платок, благоухающий свежестью и духами. — Высморкайся и утри слезы.
Пенелопа послушно взяла платок. Она чувствовала, что острота горя проходит. Стоило появиться Софи, сесть рядом, и ей стало гораздо лучше.
Она высморкалась, промокнула лицо, всхлипнула несколько раз и почувствовала, что в состоянии сесть. Софи взбила и перевернула подушки мокрой стороной вниз.
— Ну вот, а теперь скажи мне, что случилось. Что-нибудь не в порядке с малышкой?
— Нет, нет. Она тут ни при чем.
— Тогда кто же?
— Амброз. Ах, Софи, я не люблю Амброза. И зачем я только вышла за него замуж?!
Наконец-то это было произнесено. Какое же огромное облегчение почувствовала Пенелопа оттого, что призналась в этом вслух! Она посмотрела матери в глаза — в них была только печаль, ни удивления, ни растерянности: Софи была верна себе. Она помолчала немного, потом произнесла его имя: «Амброз», словно оно было разгадкой какой-то сложной головоломки.
— Теперь я все поняла. Я совершила ужасную, непоправимую ошибку.
— Когда ты это поняла?
— Когда он приезжал к нам. Как только он вышел из вагона и зашагал ко мне по перрону, меня кольнуло дурное предчувствие. Словно это чужой человек и мне вовсе не хочется его видеть. Я не ожидала, что так будет. После стольких месяцев разлуки я немного волновалась, как мы встретимся, но испытать такое отчуждение… Мы ехали в Карн-коттедж под проливным дождем, и я притворялась сама перед собой, что эта неловкость пустяки, что все скоро наладится. Но вот мы вошли в Карн-коттедж, и у меня пропала последняя надежда. Он вел себя не так. Все было не так. Дом отверг его, он был здесь чужой. Дальше все шло хуже и хуже.
— Надеюсь, мы с папа́ в этом не виноваты? — спросила Софи.
— Нет, Софи, что ты! Конечно нет, — поспешно возразила Пенелопа. — Вы вели себя по отношению к нему идеально. Это я обращалась с ним отвратительно. Но я ничего не могла с собой поделать. Он нагонял на меня невыносимую скуку. Знаешь, как это бывает, — знакомые тебе говорят: наши друзья будут в ваших краях, пожалуйста, примите их, мы знаем, как вы гостеприимны. И вот ты проявляешь гостеприимство, приглашая совершенно незнакомых и ненужных тебе людей на выходные, а потом буквально изнемогаешь от тоски и скуки. Конечно, все время шел дождь, но дело вовсе не в дожде, дело в Амброзе. С ним было так неинтересно, он такой никчемный… Знаешь, он даже не умеет почистить свои собственные башмаки. Он их никогда в жизни не чистит! И потом, он был груб с Дорис и Эрни, обращался с мальчиками так, как будто они уличные воришки. Он ужасный сноб. Не мог понять, почему мы все вместе садимся за стол. Удивлялся, почему мы не поселили Дорис и Кларка с Рональдом на кухне. Это меня просто убило. Никогда не думала, что он… что вообще можно так относиться к людям, да еще высказывать подобные мысли вслух, так гнусно спорить и настаивать.
— Если быть справедливой, родная, по-моему, ты не должна винить его за эти взгляды. Ведь он был так воспитан. Тут скорее мы выбиваемся из общего течения. Наш домашний уклад всегда отличался от того, как живут другие.
Но Пенелопа была безутешна.
— Виноват не только он. Я ведь сказала тебе, что тоже виновата. Я вела себя с ним чудовищно. Я и не представляла себе… я не догадывалась, что могу быть такой злой. Мне противно было на него смотреть, противно, когда он ко мне прикасался. Я не допустила никакой любви.
— Что ж тут удивительного, в твоем состоянии.
— А вот он, вместо того чтобы понять, разозлился и надулся. — Пенелопа с отчаянием глядела на Софи. — Я сама виновата. Ведь говорила ты мне, что замуж нужно выходить только за человека, которого по-настоящему любишь, а я тебя не послушала. Но я точно знаю: если бы я смогла привезти его в Карн-коттедж и познакомить с вами до того, как мы объявили о помолвке, я никогда, ни за что не вышла бы за него.
Софи вздохнула:
— Конечно, жаль, что у вас не было времени. Да и мы с папа́ не смогли приехать на свадьбу. Ведь даже в последнюю минуту ты могла передумать и отказаться. Но что толку сейчас сожалеть о прошлом. Ничего уже не изменить.
— Ведь он тебе не понравился, Софи? Вам обоим, и тебе, и папа́? Вы думали, что я сошла с ума?
— Ничего подобного.
— Что же мне теперь делать?
— Голубка моя, сейчас ты ничего не можешь сделать. Кроме, пожалуй, одного: ты должна немножко подрасти. Ты уже не ребенок. Ты — мать, и на тебе лежит ответственность за твоего собственного ребенка. Идет война, твой муж на своем эсминце сопровождает конвои через Атлантику. Нужно принять то, что есть, и жить дальше, ничего другого не остается. И потом, — она улыбнулась, вспоминая, — он приехал к нам не в самое удачное время. Этот нескончаемый дождь, тетя Этель с ее сигаретами и джином и ехидными высказываниями, которые приводят общество в шок… Что касается тебя, то беременность сильно меняет женщину. Может быть, когда ты в следующий раз увидишь Амброза, все будет иначе. Ты отнесешься к нему по-другому.
— Ох, Софи, какая же я дура!
— Вовсе нет. Ты была очень молода и стала жертвой обстоятельств, которые изменить не могла. А теперь, пожалуйста, успокойся, прошу тебя — ради меня. Улыбнись и нажми кнопку звонка; пусть миссис Роджерс принесет мою первую внучку, я хочу ее наконец увидеть. А об этом разговоре мы с тобой забудем, будто его и не было.
— Ты расскажешь папа́?
— Нет. Он расстроится. А я не хочу его волновать.
— Но ведь у тебя же никогда не было от него тайн.
— Теперь появилась.
Внешность младенца озадачила не только Пенелопу. На следующий день пришел Лоренс и, увидев внучку, изумился не меньше.
— Доченька, а на кого же она похожа?
— Понятия не имею.
— Малышка, конечно, прелестна, но я не вижу ни малейшего сходства ни с тобой, ни с ее отцом. Может быть, она похожа на матушку Амброза?
— Ничего общего. По-моему, тут явное проявление атавизма, она к нам явилась из прошлых поколений. Наверняка точная копия какой-нибудь далекой прапрапрапрапрапрабабки. Как бы там ни было, для меня это великая тайна.
— Ну и пусть. По-моему, она вполне готова вступить в эту жизнь, а это самое главное.
— Килингам сообщили?
— Да, я послал телеграмму Амброзу на корабль, а Софи позвонила его матери в пансион.
Пенелопа поморщилась:
— Нашей Софи храбрости не занимать. И как отреагировала Долли Килинг?
— Судя по всему, пришла в восторг. Она с самого начала надеялась, что будет девочка.
— А всем своим друзьям и леди Бимиш сказала, что ребенок родился семимесячным.
— Полно, девочка, ну что с того, что она придает такое значение приличиям? Тебя ведь это никак не задевает. — Лоренс немного помолчал. — Она также сказала, что очень хотела бы, чтобы девочку назвали Нэнси.
— Нэнси?! Где она откопала такое имя?
— Так звали ее мать. Может быть, идея не так уж плоха. Подумай, — он сделал легкий выразительный жест, — это может сгладить острые углы.
— Ладно, пусть будет Нэнси. — Пенелопа села и вгляделась в лицо новорожденной. — Нэнси… По-моему, имя ей вполне подходит.
Но Лоренса интересовало не столько имя девочки, сколько ее поведение.
— Кроха, а ты не будешь орать день и ночь? Не выношу орущих младенцев.
— Ну что ты, папа́, конечно нет. Она очень спокойная. Ест свою маму и спит, проснется, поест и снова заснет.
— Маленькая людоедка.
— Как ты думаешь, папа́, она будет хорошенькая? Ты всегда умел разглядеть хорошенькое личико.
— Она будет недурна. Ренуаровская красотка — белокожая и цветущая, как роза.
Коснулась война и Дорис. Большинство эвакуированных, не в силах больше жить вдали от дома, один за другим возвращались в Лондон, но Дорис, Рональд и Кларк продолжали жить в Порткеррисе, они стали не только постоянными жителями Карн-коттеджа, но и членами семьи Стерн. В июне, во время эвакуации Британских экспедиционных сил из Франции, муж Дорис, Берт, был убит. Похоронку принес почтальон, развозивший на велосипеде телеграммы жителям Порткерриса. Он открыл калитку и, насвистывая, пошел по саду, где трудились Софи и Пенелопа, выпалывая из цветочного бордюра сорняки.
— Телеграмма для миссис Поттер.
Стоявшая на коленях Софи выпрямилась. Руки ее были в земле, волосы взлохмачены, а лицо — Пенелопа никогда не видела такого выражения.
— Oh, mon Dieu…
Она взяла оранжевый конверт, и почтальон ушел. Громко захлопнулась калитка.
— Софи?
— Наверное, ее муж.
Они долго молчали.
— Что же нам делать? — прошептала Пенелопа.
Софи ничего не ответила. Она вытерла руку о холщовую штанину, вскрыла конверт пальцем с набившейся под ноготь землей. Вынула листок, прочла его, сложила и снова сунула в конверт.
— Да, — сказала она. — Убит. — Поднялась с колен и спросила: — Где Дорис?
— Во дворе, вешает белье.
— А мальчики?
— С минуты на минуту придут из школы.
— Я должна сообщить ей до их прихода. Займи их чем-нибудь, если меня долго не будет. Ей надо прийти в себя. Прежде чем говорить им, она сама должна опомниться.
— Бедная Дорис. — Слова прозвучали тускло и невыразительно, банально до абсурда, но других не было.
— Да уж. Бедная Дорис.
— Как она это перенесет?
Дорис пережила новость на редкость стойко. Она, конечно, зарыдала, а потом, чтобы дать выход своему горю и ярости, принялась поносить мужа — это ж надо быть таким идиотом, пойти на войну и погибнуть. Но вот приступ отчаяния иссяк, она взяла себя в руки и села в кухне выпить крепкого горячего чаю, который приготовила Софи; теперь ее мысли были поглощены сыновьями.
— Бедные мои шалопаи остались без отца. Что за жизнь теперь у них будет?
— Дети легче переносят горе.
— А мне-то, мне-то как их одной растить?
— Отлично вырастите.
— Наверное, мне надо ехать в Хекни. Мать Берта… наверное, я нужна ей. Она захочет увидеть внуков…
— Я тоже думаю, что вам надо съездить туда. Побудьте с ней, пока пройдет первое горе. А потом возвращайтесь к нам. Мальчикам здесь хорошо, у них много друзей, будет жестоко так резко изменить их жизнь. Здесь их любят, заботятся о них.
Дорис вытаращила на Софи глаза. Всхлипнула. Она только что перестала плакать, и лицо у нее распухло от слез, покраснело.
— Но ведь мы не можем жить у вас бесконечно.
— Почему не можете? Ведь вам хорошо с нами?
— Наверное, вы нас просто жалеете, да?
— Милая моя Дорис, да я просто не представляю, что бы мы делали без вас. А мальчики — они нам уже словно родные. Если вы уедете, мы будем ужасно скучать.
Дорис задумалась.
— Конечно, больше всего на свете я хотела бы остаться у вас. Мне в жизни ни с кем так хорошо не было. А теперь вот и Берта нет… — Глаза ее снова наполнились слезами.
— Не плачьте, Дорис. Дети не должны видеть ваших слез. Покажите им пример мужества. Скажите, что они должны гордиться своим отцом, ведь он умер за великое дело — освобождение порабощенных народов Европы. Вырастите их такими же достойными людьми, каким был он.
— Вовсе он не был такой уж достойный. Я иногда его убить была готова. — Слезы отступили, на лице Дорис показалась бледная улыбка. — Придет домой пьяный после футбола и завалится в постель прямо в башмаках.
— И об этом не забывайте, — сказала Софи. — Такой уж он был человек. Нужно все помнить — и дурное, и хорошее. Это и есть наша жизнь.
И Дорис осталась. Когда родился ребенок Пенелопы, ей страшно хотелось его увидеть. Девочка! Дорис всегда мечтала о дочери, но Берта убили, и теперь ее уже не будет. А тут такая радость — девочка в доме. Дорис единственная из всех пришла при виде новорожденной в восторг:
— Ой, какая прелесть!
— Вы вправду так думаете?
— Пенелопа, она красавица. Можно ее подержать?
— Конечно.
Дорис наклонилась и ловким привычным движением взяла младенца на руки. Она глядела на девочку с самозабвенным материнским обожанием, и Пенелопе стало стыдно: она-то знала, что не способна на такую безграничную любовь.
— Мы все гадаем, на кого она похожа.
Но Дорис сразу поняла, кого напоминает малышка:
— Вылитая Бетти Грейбл.
Как только молодая мать вернулась с новорожденной в Карн-коттедж, Дорис взяла на себя все заботы о Нэнси, а Пенелопа с радостью их уступила; ее, конечно, тревожило сознание вины, но она пыталась заглушить его, говоря себе, что доставляет Дорис удовольствие. Дорис купала Нэнси, стирала пеленки, а когда Пенелопе надоело кормить ее грудью, грела бутылочки с молоком и давала их девочке, сидя на низком кресле в теплой кухне или в гостиной у камина. Рональд и Кларк тоже полюбили малышку, они даже приводили из школы друзей поглядеть на крошечное существо, которое появилось в их доме. Зима тянулась нескончаемо долго, а Нэнси между тем росла; у нее появились волосы и зубы, она еще больше поправилась. Софи извлекла из сарая старую коляску на высоких колесах, в которой выгуливала когда-то Пенелопу, а Дорис привела ее в идеальный порядок и стала с гордостью возить Нэнси по крутым улочкам Порткерриса, бесконечно останавливаясь, чтобы встречные полюбовались ребенком, — и те, кто проявлял к нему интерес, и те, кто нет.
Характер у Нэнси был все такой же спокойный и покладистый. Она лежала в своей коляске в саду и спала или безмятежно наблюдала, как плывут по небу облака и качаются белые ветки вишни. Когда цветы стали облетать, на ее одеяло падали белые лепестки. Потом ей стали стелить на землю ковер, и, лежа на нем, она тянулась за погремушкой. Очень скоро девочка начала садиться и сцеплять защипки для белья.
Она ужасно забавляла Софи и Лоренса и была утешением и радостью для Дорис. Но Пенелопа, хотя добросовестно играла с ребенком — лепила из песка кирпичи и показывала старые книжки с картинками, про себя решила, что ее дочь безнадежно тупа.
А за стенами этого крошечного домашнего мирка бушевала война, словно черный ураган, с каждым часом набирающий силу. Европа была оккупирована, столь нежно любимая Лоренсом Франция истерзана, и сердце его мучительно болело в беспрестанных думах об этой стране и о своих старых дорогих друзьях. По Атлантике рыскали немецкие подводные лодки, охотясь за медленно ползущими конвоями эсминцев и беспомощных торговых судов. Положим, битву за Англию они выиграли, но какой чудовищной ценой: сколько погибло летчиков, самолетов, сколько было уничтожено аэродромов! Теперь Британские ВВС, в которых после Дюнкерка и захвата Франции была проведена реформа, занимали позицию в районе Гибралтарского пролива и Александрии, готовясь отразить следующий массированный удар германской армии.
И конечно, начались бомбежки Англии — бесконечные налеты на Лондон. Каждую ночь выли сирены, предупреждая о воздушной тревоге, и каждую ночь из темной Франции летели в грозном гуле через Ла-Манш могучие эскадрильи зловещих «хейнкелей» с черными крестами на крыльях.
В Карн-коттедже каждое утро слушали по радио сводки новостей, и сердце у всех исходило кровью, когда рассказывали о Лондоне. Софи тревожилась к тому же о доме на Оукли-стрит и о друзьях, живущих в нем. Фридманам она давно велела перебраться из мансарды в полуподвал, а вот Клиффорды остались, где и жили, на третьем этаже, и каждый раз, как передавали сообщение о налете, — а передавали их почти каждое утро, — Софи казалось, что они ранены, убиты, погребены под развалинами взорванного дома.
— Они уже старые, разве им выдержать весь этот кошмар, — сказала она однажды мужу. — Давай пригласим их сюда, пусть живут с нами. Как ты думаешь?
— Ненаглядная моя женушка, да ведь у нас места нет. А если б даже и было, Клиффорды бы все равно не приехали, ты сама знаешь. Они слишком любят Лондон, их ничем оттуда не выманишь.
— Насколько мне было бы спокойнее, если бы я могла их видеть, говорить с ними, знать, что они в безопасности…
Лоренс тайно наблюдал за своей молодой женой, чувствуя ее внутреннюю тревогу. Вот уже два года она безвыездно живет в Порткеррисе, и это его-то Софи, которая никогда не могла высидеть на одном месте больше трех месяцев. А Порткеррис в военное время был серым и скучным, пустым, здесь не было ничего похожего на то веселое оживление, в которое они с радостью окунались каждое лето до того, как началась война. Софи не скучала, потому что просто не умела скучать, но быт с каждым днем становился все более трудным. Было плохо с продуктами, нормы урезали, и постепенно исчезали одна за другой вещи, которые хоть как-то помогали скрасить скудное существование: шампунь, сигареты, спички, фотопленки, виски, джин — даже эта скромная роскошь становилась недоступной. Было нелегко вести дом. Приходилось стоять в очереди и потом тащить продукты высоко в гору, потому что хозяева магазинов теперь не доставляли покупки: не было бензина. Его отсутствие ощущалось, пожалуй, как самое тяжкое лишение. У Стернов все еще был старый «бентли», но он почти все время стоял в гараже просто потому, что бензина, который им выдавали, хватало всего на четыре-пять миль.
Итак, Лоренс видел, что Софи изводится. Зная до тонкостей женскую душу, он понимал жену и сочувствовал ей. Софи нужно несколько дней пожить без них, это очевидно. Он все хотел завести об этом разговор, но ждал удобного случая, а случай, как на грех, не представлялся, теперь они никогда не бывали одни, дом их был полон людьми: все что-то делали, звучали, не смолкая, голоса. Дорис и ее дети, Пенелопа с маленькой Нэнси, целыми днями все комнаты были заняты, а когда вечером супруги ложились спать, Лоренс даже раздеться не успевал, как измученная Софи засыпала.
Но наконец он все-таки застал ее одну. Он пошел накопать картошки; искалеченные артритом руки болели, ему было трудно держать лопату и вынимать из земли клубни, но постепенно ведро заполнилось, и он понес его в дом. Войдя через заднюю дверь, он увидел свою жену в кухне, она сидела за столом и уныло резала вилок капусты.
— А я принес тебе картошку. — Лоренс поставил ведро возле плиты.
Софи улыбнулась. Как бы тоскливо ни было у нее на душе, она всегда улыбалась ему с нежностью и любовью. Он взял стул, сел с ней рядом и стал глядеть на нее. Как она похудела! У рта пролегли морщинки, тонкая сетка появилась вокруг прекрасных темных глаз.
— Наконец-то мы одни, — сказал он. — А где все?
— Пенелопа и Дорис пошли с детьми на пляж. Скоро вернутся — к обеду. — И она снова взялась за нож. — Видишь, что я им готовлю? Не удивлюсь, если мальчишки скажут: «Опять эта проклятая капуста».
— Одна капуста, и больше ничего?
— Макароны с сыром.
— Ты творишь чудеса.
— Как мне все надоело. Надоело готовить, надоело есть эту бурду. Им на мою стряпню глядеть тошно, я это понимаю и нисколько не сержусь.
— Ты перегружаешь себя работой, — сказал он.
— Вовсе нет.
— Не нет, а да. Ты переутомилась, у тебя нервы на пределе.
Она подняла глаза от капусты, и их взгляды встретились.
— Неужели это так заметно? — спросила она, помолчав.
— Только мне, ведь я хорошо тебя знаю.
— Мне стыдно, я сержусь на себя. Разве у меня есть причины быть недовольной? И все же я чувствую себя такой никчемной. Чем я занимаюсь? Плету сети и готовлю еду. Я думаю о том, как страдают сейчас женщины Европы, и ненавижу себя, но ничего не могу поделать. И если бы мне сказали, что в магазин привезли бычьи хвосты, надо идти и стоять за ними час в очереди, со мной бы случилась истерика.
— Тебе надо денька на два-три уехать.
— Уехать?
— Да, в Лондон. Побыть в нашем доме, досыта наговориться с Клиффордами, прийти в себя. — Он положил свою испачканную землей руку на ее руки. — Мы слушаем сообщения о налетах и холодеем от ужаса, но ведь рассказ часто пугает больше, чем сама катастрофа. Воображение разыгрывается, сердце разрывается на части. Но не так страшен черт, как его малюют. Почему бы тебе не съездить в Лондон и не убедиться в мудрости этой пословицы?
Лицо у Софи оживилось, она стала думать.
— А ты со мной поедешь?
Он покачал головой:
— Нет, милая. Я стар для таких развлечений, а тебе именно развлечься и нужно. Поговорить с Клиффордами, посмеяться с Элизабет, пройтись вместе по магазинам. Пусть Питер отвезет вас пообедать в «Беркели» или в «Экю де Франс». Я уверен, кормят там превосходно, несмотря на перебои с продуктами. Позвони друзьям. Сходи на концерт, в театр. Жизнь продолжается! Даже в военном Лондоне. Я бы сказал, особенно в военном Лондоне.
— А ты не огорчишься, если я поеду без тебя?
— Огорчусь так, что и сказать не могу. Буду тосковать о тебе каждую минуту.
— Всего три дня. Три дня ты без меня вынесешь?
— Вынесу. А когда ты вернешься, будешь целый месяц рассказывать мне, что видела и что делала.
— Лоренс, как же я тебя люблю!
Он покачал головой, но не потому, что сомневался в ее словах, а чтобы показать, что Софи нет нужды признаваться в этом, и поцеловал ее в губы, а потом встал и пошел к раковине мыть руки.
Накануне отъезда Софи легла спать пораньше. Дорис не было, она ушла на танцы в ратушу, дети заснули. Пенелопа и Лоренс посидели вдвоем, слушая концерт по радио, но скоро Пенелопа начала зевать, отложила вязанье, поцеловала отца, сказав ему «покойной ночи», и пошла к себе наверх.
Дверь в спальню Софи была отворена, свет еще горел. Пенелопа просунула в комнату голову. Софи лежала в постели и читала.
— А я думала, ты легла пораньше, чтобы как следует выспаться.
— Не могу спать, я так волнуюсь. — Она положила книгу на стеганое пуховое одеяло. Пенелопа села рядом. — Хорошо бы тебе поехать со мной.
— Нет, папа́ прав: одна ты гораздо лучше развлечешься.
— Что тебе привезти?
— Понятия не имею.
— Разыщу что-нибудь необыкновенное, такое, о чем ты и не мечтала.
— Прелестно. Что ты читаешь? — Пенелопа взяла книгу. — «Элизабет и ее немецкий сад». Софи, ты же ее раз сто читала.
— Да уж, не меньше. И все равно люблю перечитывать. Она меня утешает, успокаивает. Напоминает о мире, в котором мы когда-то жили и снова будем жить, когда война кончится.
Пенелопа открыла книгу наугад и стала читать вслух:
— «Есть ли на свете женщина счастливее меня? Я живу в саду, меня окружают книги, дети, птицы, цветы, и у меня вдоволь досуга, чтобы всем насладиться». — Она засмеялась и захлопнула книгу. — Да, все это у тебя есть. Только вот досуга не хватает. Ну, покойной ночи. — И они поцеловали друг друга.
— Покойной ночи, родная.
Она позвонила из Лондона, и голос ее звенел от радости, Лоренс слышал это сквозь треск и шум на линии.
— Лоренс, это я, Софи. Как ты, дорогой? Да, я замечательно. Ты был совершенно прав: все совсем не так страшно, как я себе представляла. Разумеется, некоторые дома разрушены — такое впечатление, будто у улицы выбит зуб, — на мостовых огромные воронки, но все держатся стойко и мужественно, даже умудряются смеяться, будто так и должно быть. А сколько всего интересного в Лондоне! Мы были на двух концертах, слушали Майру Хесс, она изумительна, тебе бы очень понравилась. Я встречалась с Эллингтонами, видела их сына Ральфа, помнишь, какой был чудесный мальчик, он учился в художественном училище при Лондонском университете, а теперь летчик. Дом наш в порядке, пока выстоял под шквалом бомб и снарядов, и такое счастье снова быть здесь. А Вилли Фридман выращивает в саду овощи…
Наконец Лоренсу удалось вставить словечко.
— Что ты делаешь нынче вечером? — спросил он.
— Идем ужинать к Диккенсам, Питер с Элизабет и я. Помнишь их? Он врач, работал вместе с Питером, они живут возле «Херлингема».
— Как вы туда поедете?
— На такси или на метро. Видел бы ты, что сейчас творится в лондонском метро: на станциях полно спящих людей. Сначала поют, веселятся, потом засыпают. Ах, дорогой мой, короткие гудки, пора прощаться. Передай всем привет, послезавтра я буду дома.
Ночью Пенелопа неожиданно проснулась с бешено колотящимся сердцем. Что это было — чей-то голос, шум? Может быть, заплакала Нэнси? Пенелопа лежала, вслушиваясь, но слышала только оглушительный стук своего испуганного сердца. Постепенно оно успокоилось, и тогда она различила шаги на лестничной площадке, скрип ступенек, щелчок выключателя внизу. Она встала, вышла из комнаты и нагнулась над перилами. В холле горел свет.
— Папа́?
Он не отозвался. Пенелопа подошла к родительской спальне и заглянула в дверь. Постель была смята, но пуста. Она вернулась на площадку, постояла. Что с ним? Может быть, ему нехорошо? Напрягая слух, она услышала, как он ходит по гостиной. Потом все стихло. У него бессонница, только и всего. Когда у него бессонница, он часто спускается, разводит в камине огонь и читает.
Пенелопа снова легла в постель, но заснуть не могла. Она лежала в темноте и глядела в черное небо за открытым окном. Внизу, на пляже, в плеске волн, поднимался прибой, валы с шипением накатывали на песок. Пенелопа слушала ночные голоса океана и, лежа с открытыми глазами, ждала, когда настанет рассвет.
Около семи она встала и спустилась вниз. Лоренс уже включил радио. Играла музыка. Он ждал передачи утренних новостей.
— Папа́.
Он предостерегающе поднял руку, чтобы она молчала. Музыка смолкла, прозвучал сигнал времени. «Говорит Лондон. Семь часов ноль минут по Гринвичу. Передаем утренние новости». Читал их Алвар Лидделл — спокойный голос, сдержанная, строгая интонация. Он сообщил о ночном налете на Лондон: зажигательные бомбы, фугасные, осколочные сыпались с неба градом. До сих пор еще горят некоторые дома, но с пожарами борются пожарные команды… сильно пострадали доки… Пенелопа протянула руку к приемнику и выключила. Лоренс удивленно посмотрел на нее. На нем был старый трикотажный халат, щетина на подбородке поблескивала, как иней.
— Я не спал сегодня, — сказал он.
— Знаю. Я слышала, как ты спускался.
— Сидел здесь, ждал утра.
— Папа́, ведь налеты бывают почти каждую ночь. Не волнуйся. Я приготовлю чай. Все обойдется. Сейчас мы выпьем чаю и позвоним на Оукли-стрит. Все будет хорошо, папа́, увидишь.
Они стали звонить, но телефонистка сказала им, что после ночного налета связи с Лондоном нет. Все утро, час за часом, пытались они пробиться, и все напрасно.
— Софи пробует дозвониться до нас, папа́, а мы пытаемся дозвониться ей. Она так же расстроена, как мы, и так же волнуется, она же знает, как мы встревожены.
Телефон зазвонил только в полдень. Пенелопа резала овощи для супа в кухне возле раковины. Услышав звонок, она бросила нож и кинулась в гостиную, на ходу вытирая руки о фартук. Но сидевший у аппарата Лоренс уже снял трубку. Она опустилась возле него на колени и приблизила к нему голову, чтобы не пропустить ни слова.
— Алло, это Карн-коттедж… Алло!
В трубке раздались вой, писк, странный треск, наконец произнесли «алло», но это был не голос Софи.
— Говорит Лоренс Стерн.
— Здравствуйте, Лоренс, это Лала Фридман. Помните меня? Лала с Оукли-стрит. Я никак не могла к вам пробиться. Больше двух часов. Я… — Голос вдруг пресекся, она замолчала.
— Лала, что случилось?
— С вами кто-нибудь есть?
— Со мной Пенелопа. Что… Софи, да?
— Да. Ах, Лоренс, да. И Клиффорды. Все трое. Все погибли. Фугасная бомба попала прямо в дом Диккенсов. От него ничего не осталось. Мы ходили туда с Вилли. Они не вернулись ночевать, и утром Вилли хотел позвонить Диккенсам, но, конечно, телефон не работал. И мы пошли узнать, что случилось. Мы были там на Рождество и потому знали, как ехать. Взяли такси. Но потом пришлось идти пешком…
Ничего не осталось…
— …дошли до конца улицы, а там оцеплено, и никого не пропускают, пожарные все еще тушили пожар. Но мы все равно увидели. Дом исчез. На его месте была огромная черная воронка. Там был полицейский, я стала его расспрашивать, он очень сочувствовал, но сказал, что надежды нет. Нет надежды, Лоренс. — Она заплакала. — Все погибли, все. Простите меня. Простите за то, что рассказала вам этот ужас.
Ничего не осталось…
— Спасибо, что пошли искать их, — произнес Лоренс. — Спасибо, что позвонили нам…
— Никогда в жизни мне не приходилось сообщать людям такие страшные вести.
— Да, — произнес Лоренс. — Да. — Он так и сидел, сжимая своими искалеченными пальцами трубку. Потом положил, не сразу попав на рычаг. Пенелопа уткнулась лицом в его толстый шерстяной свитер. В наступившем молчании была пустота. Пустота смерти.
— Папа́…
Он поднял руку, погладил ее по голове.
— Папа́, милый.
Она посмотрела ему в глаза, но он лишь покачал головой. Она поняла, что он хочет остаться один. И вдруг увидела, какой он старый. Она всегда считала его молодым, а сейчас поняла, что молодость никогда не вернется, что отныне он для нее — старик. Она поднялась с колен, вышла из комнаты и закрыла дверь.
Ничего не осталось…
Пенелопа поднялась наверх, в спальню родителей. В это страшное утро постель так и не убрали. Простыни были сбиты, на подушке след от головы Лоренса, когда он лежал здесь и не мог заснуть. Он знал. Они оба знали. Надеялись, поддерживали друг друга, но знали, знали наверняка. И он, и она.
Ничего не осталось…
На столике в головах Софи лежала книга, которую она читала накануне отъезда в Лондон. Пенелопа села на кровать, взяла книгу. Она открылась на читаной-перечитаной странице.
«Есть ли на свете женщина счастливее меня?! Я живу в саду, меня окружают книги, дети, птицы, цветы, и у меня вдоволь досуга, чтобы всем насладиться. Порой мне кажется, что я больше всех других одарена способностью во всем находить счастье».
Слова растворились и исчезли, словно фигуры людей, на которых смотришь в залитое дождем окно. Дар находить счастье во всем. Софи не только умела находить счастье, она сама его излучала. И вот теперь ничего не осталось. Книга выскользнула из рук Пенелопы. Она легла на кровать и спрятала мокрое от слез лицо в подушку Софи. Полотно было прохладное, как кожа ее матери, и нежно пахло ее духами, словно она только что, минуту назад, вышла из комнаты.
10. Рой Брукнер
В сквош и в другие игры Ноэль Килинг играл отлично, он мгновенно оказывался в нужном месте и отбивал труднейшие мячи, но вот физический труд не жаловал. На уик-эндах, если квартирной хозяйке удавалось застать его врасплох и уговорить заняться подрезкой деревьев или поработать в саду, он каким-то непостижимым образом всегда оказывался на самой легкой работе, собирая ветки для костра или обрезая секатором засохшие розы. Он мог вызваться подстричь газон, но только в том случае, если косилка была не ручная, а на ней можно было ехать, и к тому же заранее оговаривал, что траву в компостную кучу будет отвозить кто-то другой — зачастую какая-нибудь простодушная девица. Если дело принимало серьезный оборот и предстояло вбивать кувалдой в каменистую почву столбы для изгороди или рыть большие ямы под новые посадки кустарника, Ноэль применял другую тактику, которую довел до совершенства. Он вдруг незаметно исчезал, и уставшие, раздраженные гости хозяйки, его приятели, после безуспешных поисков наконец обнаруживали его в гостиной, где, удобно раскинувшись в кресле, Ноэль смотрел по телевизору игру в крикет или в гольф, а на полу вокруг него, точно опавшие листья, лежали воскресные газеты.
Вот и теперь он все заранее продумал. Субботу он употребит на то, чтобы тщательно исследовать содержимое чемоданов, ящиков и старых кривобоких комодов. Тяжелая работа подождет до воскресенья — поднимать ящики, двигать шкафы и таскать вниз по узкой лесенке старый хлам он не станет. Вот придет новый садовник — тогда можно будет только давать ему указания. Если поиски окажутся успешными и он наткнется на то, что ищет, — на один, два, а может, и несколько выполненных в масле набросков Лоренса Стерна… тогда он очень спокойно все разыграет. «Интересная находка, — как бы между прочим скажет он матери и в зависимости от ее реакции разовьет тему дальше: — Может, стоит показать это эксперту? У меня есть приятель, Эдвин Мандей…»
На следующее утро Ноэль поднялся рано, поджарил себе яичницу с беконом, съел сосиску, четыре тоста с джемом и выпил большую чашку черного кофе. Поглощая все это, он смотрел, как за окном льет дождь, и радовался: значит, мать не погонит его работать в сад и не придумает еще какое-нибудь задание. Он допивал вторую чашку кофе и уже окончательно проснулся, когда Пенелопа в халате появилась на кухне. Столь раннее пробуждение сына и его бодрый вид удивили ее.
— Ты не будешь очень шуметь, дорогой? Пусть Антония поспит. Бедная девочка так измучена.
— Но болтали вы чуть ли не до рассвета. О чем?
— Да так. Ни о чем, просто разговаривали. — Пенелопа налила себе кофе. — Пожалуйста, Ноэль, не выбрасывай ничего, не спросив меня, хорошо?
— Да я ничего не собираюсь выбрасывать, просто хочу поглядеть, что ты там прячешь. Выбрасывать и жечь будем завтра. Но будь благоразумна: старые выкройки и свадебные фотографии начала века вряд ли стоит хранить и дальше.
— Страшно подумать, что ты там раскопаешь!
— Посмотрим, посмотрим, — невинно глядя на нее, сказал Ноэль.
Оставив мать допивать кофе, он поднялся наверх. Но, прежде чем начать работать, надо было кое-что сделать. На чердаке было лишь одно крошечное оконце, выходившее на восток и затененное стрехой, а единственная электрическая лампочка, подвешенная к балке, была такая тусклая, что света не прибавляла. Ноэль снова спустился вниз и попросил у матери лампочку поярче. Она разыскала одну в картонной коробке под лестницей, он вернулся на чердак и, балансируя на шатком стуле, вывернул старую лампочку и ввернул новую. Однако, щелкнув выключателем, Ноэль понял, что и эта лампочка не поможет ему все толком рассмотреть. Нужна настольная лампа. Он тут же нашел старую лампу с погнутым абажуром и длинным гибким шнуром, но на шнуре не было вилки. Пришлось еще раз спускаться вниз. Он взял из коробки под лестницей еще одну лампу и спросил у матери, не найдется ли у нее штепсельной вилки. Вилки у нее не было. Ноэль заявил, что она ему необходима. В таком случае, сказала Пенелопа, пусть он отрежет ее от чего-нибудь. Тогда он попросил отвертку.
— Отвертка лежит в ящике кухонного шкафа вместе с другими инструментами, — ответила Пенелопа. Его просьбы начали действовать ей на нервы. — Вот здесь, Ноэль, в этом шкафу.
Он выдвинул ящик. Чего только там не было! Спутанный клубок тонкой проволоки, шнуры, молотки, коробки кнопок, сплющенные тюбики клея. Порывшись, Ноэль извлек маленькую отвертку и с ее помощью отвинтил вилку от шнура к утюгу. В очередной раз поднявшись наверх, он не без труда приладил вилку к шнуру старой лампы и, моля бога, чтобы шнур не оказался коротким, спустил его по ступенькам вниз и вставил вилку в розетку на лестничной площадке. Затем в сотый раз поднялся на чердак, нажал на кнопку и облегченно вздохнул — свет загорелся. Обычно любая, пусть малая, помеха отбивала у Ноэля всякую охоту к делу, и сейчас энтузиазма у него сильно поубавилось, но чердак был теперь хорошо освещен, и наконец-то можно было начинать поиски.
К полудню Ноэль дошел лишь до середины забитого всякой рухлядью пыльного чердака. Осмотрел три сундука, источенный червяком письменный стол, чайный ящик и два чемодана. Он нашел гардины и подушки, несколько завернутых в газету винных бокалов, несколько тяжеленных альбомов с фотографиями в скучных коричневых переплетах, кукольный чайный сервиз и стопку пожелтевших от времени наволочек, которые уже нельзя было починить. Нашел несколько бухгалтерских книг в кожаных переплетах, стопку листков, исписанных мелким каллиграфическим почерком, пачку перевязанных лентой писем, незаконченные гобелены с воткнутыми в них проржавевшими иглами, инструкцию к новейшему изобретению — машинке для точки ножей. Наткнувшись на большую, перевязанную тесемками папку, Ноэль замер. Трясущимися от волнения руками он развязал тесемки, но обнаружил лишь несколько неизвестно кем нарисованных ученических акварелей, на которых были изображены Доломитовые Альпы. Это был удар, однако Ноэль заставил себя продолжить поиски. Дальше нашлись страусовые перья, шелковые шали со спутанной бахромой, пожелтевшие на сгибах вышитые скатерти, ажурные пилы, незаконченные вязаные вещички. Еще он обнаружил шахматную доску без шахмат, игральные карты и подшивку «Землевладельцев Бурка» за 1912 год.
Но не нашел ничего, что хотя бы отдаленно напоминало работы Лоренса Стерна.
На лестнице послышались шаги. Ноэль, чумазый, с черными от пыли руками, мрачно сидел на скамеечке для ног и читал в «Домашних советах», как следует стирать шерстяные черные чулки. Подняв глаза, он увидел в дверном проеме Антонию. Она была в джинсах, теннисных туфлях и в белом свитере. Фигура у нее что надо, отметил про себя Ноэль, а вот ресницы подкачали, совсем белесые.
— Привет! — смущенно произнесла она, точно боялась его потревожить.
— Привет, привет! — Он закрыл потрепанную книжку и бросил ее на пол у своих ног. — Когда пробудились, мисс?
— Почти что в одиннадцать.
— Это я вас разбудил?
— Нет, я не слышала ни звука. — Осторожно обходя кучи мусора, Антония направилась к нему. — Как движется уборка?
— Медленно. Главная задача — отделить зерна от плевел. Избавиться от хлама, который легко воспламеняется.
— Я и не представляла, что тут такие залежи, — Антония огляделась. — Когда же это все успело накопиться?
— Теперь уже поздно спрашивать. С чердаков на Оукли-стрит. Судя по тому, что тут валяется, и с других чердаков тоже. Как видно, у нас это в роду — не выбрасывать ни единой вещи и копить их веками.
Антония нагнулась и подобрала шелковую малиновую шаль.
— Какая прелесть! — Она накинула шаль на плечи и стала расправлять бахрому. — Как я выгляжу?
— Шикарно!
Она сняла шаль и аккуратно ее сложила.
— Пенелопа послала меня узнать, не хотите ли вы что-нибудь перекусить.
Ноэль взглянул на часы и не без удивления обнаружил, что уже половина первого. Свету в оконце не прибавилось, а он так увлекся поисками, что потерял чувство времени и сейчас ощутил не только голод, но и жуткую жажду. Он поднялся со скамеечки.
— Сначала джин с тоником, иначе я погибну.
— А после ланча опять вернетесь сюда?
— Что поделаешь! Иначе все так и останется.
— Я помогу, если вы не против.
Нет, она была ему не нужна… к чему ему свидетели.
— Благодарю, но лучше я поработаю один, у меня есть своя система. Пошли-ка вниз. — Ноэль подождал, пока она повернется к двери, и пошел следом за ней. — Интересно, что там мама приготовила на ланч?
В тот вечер поиски закончились в половине седьмого полным провалом. На чердаке не нашлось ничего, что имело бы отношение к творчеству его деда, — ни единого этюда, эскиза, наброска, рисунка — ничего! Он только зря потратил время. Смирившись с этой горькой истиной, уставший и перепачканный, Ноэль стоял, сунув руки в карманы, и обводил взглядом плоды своей деятельности. Теперь на чердаке и впрямь царил невообразимый хаос. Рухнули все его надежды, и уныние сменилось негодованием, которое обратилось главным образом на мать. Это она во всем виновата! Это по ее милости, давно или недавно, исчезли этюды. Небось продала их за бесценок, а то и того хуже — просто-напросто кому-то отдала. Ее глупая доброта и столь же бессмысленное желание как можно скорее расстаться с ненужной, на ее взгляд, вещью всегда раздражали Ноэля, теперь же он впал в тихое бешенство. Не так-то много у него свободного времени, и он им весьма дорожит, а тут потратил целый день, копаясь во всем этом барахле, в этом мусоре, оставленном поколениями предков, только лишь потому, что матери ни разу не пришло в голову сделать это самой.
Настроение у него окончательно испортилось, и он уже даже подумывал прибегнуть к уловке, при помощи которой обычно удирал с уик-эндов, если хозяева и гости не оправдывали его ожиданий: вспомнить вдруг о назначенной важной встрече в Лондоне, попрощаться и уехать домой.
Но это было невозможно, слишком далеко он зашел, слишком много всего наговорил. Ведь именно он придумал эту уборку (дом в опасности, может вспыхнуть пожар, страховка занижена и так далее), к тому же в разговоре с Оливией упомянул об этюдах Лоренса Стерна, предположив, что они где-то завалялись. Теперь-то Ноэль был уверен, что их нет, но, если он дезертирует и бросит уборку на полпути, Оливия не даст ему пощады. Кожа у него толстая, не пробьешь, но все же мысль о том, как поиздевается над ним умная и язвительная сестра, не доставляла Ноэлю удовольствия.
Ночью дождь перестал, легкий юго-восточный ветер развеял низкие облака. Воскресное утро сияло голубизной и дышало покоем, ликовали птахи. Их торжествующий хор и разбудил Антонию. Первые косые лучи солнца протянулись в открытое окно ее спальни, согрели ковер, заставили ярко заалеть розочки на шторах. Антония встала с кровати и подошла к окну, облокотясь голыми руками на подоконник и с удовольствием вдыхая влажный, напоенный запахом трав и листвы воздух. Низко нависшая тростниковая крыша щекотала ей затылок, на траве внизу поблескивали росинки, в ветвях каштана весело распевали два дрозда. Весеннее утро дышало свежестью и покоем.
Часы показывали половину восьмого. Вчера дождь лил не переставая, и никто носа за дверь не высунул. Для Антонии, которая еще не оправилась от потрясения и переездов, это было благо — тихо посидеть дома. Она уютно устроилась у камина, включив свет, потому что в комнате было совсем темно из-за дождя, и долго смотрела, как стекают по оконным стеклам капли, а после ланча, взяв роман Элизабет Джейн Ховард, клубочком свернулась на диване и углубилась в чтение. Время от времени в комнате появлялась Пенелопа, подбрасывала полено в камин или искала свои очки. Потом она присоединилась к Антонии, но не для того, чтобы поболтать, а просто чтобы почитать газеты, и еще немного погодя принесла чай. На чердаке трудился Ноэль, и, когда он наконец сошел вниз, настроение у него было прескверное.
Антонии стало не по себе. Они с Пенелопой в это время готовили обед, и, заметив мрачный вид Ноэля, она почувствовала, что мир и покой в доме, скорее всего, будут нарушены.
Признаться, в присутствии Ноэля Антония постоянно чувствовала себя неуютно. Чем-то похожий на Оливию — такой же умный и уверенный, — он был совершенно лишен ее теплоты. Под его взглядом Антония чувствовала себя некрасивой и неуклюжей, и ей казалось, что все, что она говорит, банально и скучно. Когда он, мрачный, с грязной полосой на щеке, вошел в кухню налить себе чистого виски и спросил мать, что заставило ее перетащить столько ненужной рухляди с Оукли-стрит в Глостершир, Антония внутренне сжалась. Сейчас разразится скандал, подумала она, или, того хуже, вечер пройдет в мрачном молчании. Но Пенелопа и бровью не повела.
— Лень, а что же еще, — беззаботно ответила она. — Легче было погрузить все в фургон, чем придумывать, куда что девать. Забот хватало и без того, чтобы просматривать все старые книжки и письма.
— Но кто собрал все это на Оукли-стрит?
— Понятия не имею.
Обезоруженный добродушием матери, Ноэль глотнул виски и немного расслабился. Даже изобразил, хоть и кривую, но все же улыбку.
— Ты совершенно невозможная женщина! — сказал он.
Она и это приняла спокойно.
— Согласна, но не всем же быть совершенством. У меня свои достоинства. Воздай должное моим обедам. А вино, которое у меня всегда в запасе? У матери твоего отца, если ты помнишь, кроме хереса, сильно отдававшего изюмом, в серванте ничего не было.
Ноэль брезгливо поморщился — видно, при воспоминании об этом хересе.
— Так что же у тебя сегодня на обед?
— Запеченная форель с миндалем, молодой картофель и малина со сливками. Ты это заслужил. Можешь сам выбрать бутылку вина, взять ее к себе в комнату и принять ванну. — Пенелопа улыбалась, глядя на сына, но глаза ее смотрели настороженно. — Как не выпить после таких трудов!
А дальше все было спокойно, они провели приятный вечер. Спать отправились рано, и Антония проспала крепким сном до самого утра. В молодости силы восстанавливаются быстро; проснувшись, она почувствовала себя прежней Антонией — впервые после того страшного дня, когда умер Космо. Ей захотелось выйти из дома, пробежаться по траве, вдохнуть холодного свежего воздуха. Весеннее утро ждало ее.
Антония оделась, спустилась вниз, взяла яблоко из вазы на столе и через оранжерею вышла в сад. Грызя яблоко, она пересекла газон. Теннисные туфли намокли от росы, по влажной траве протянулся след от подошв. Антония прошла под каштаном, нырнула в просвет живой изгороди и очутилась во фруктовом саду. В нескошенной прошлогодней траве желтели головки нарциссов. Полузаросшая тропинка вела мимо кострища к еще одной полосе живой изгороди из боярышника, недавно подстриженной, а за ней открылась узкая, глубокая речка с высокими берегами. Под аркой склонившихся над водой ив Антония пошла вниз по течению, но вот ивы расступились, и речка устремилась вперед через заливные луга, на которых паслись коровы. На склонах невысоких холмов, поднимавшихся вдалеке, гуляли отары овец; вверх по склону шел человек с собакой.
Деревня теперь была совсем близко: ее старая церковь с квадратной колокольней, золотистые, облицованные плиткой стены домов, лежащие в кольце дороги, столбики дымков от только что затопленных каминов в недвижном воздухе. В кристально чистое небо все выше поднималось солнце. Антония уселась на дощатый настил мостика, свесила промокшие ноги над водой, доела яблоко и бросила огрызок в быструю прозрачную воду. Она провожала его взглядом, покуда он не скрылся вдали.
Глостершир — дивный край, решила Антония. Она и не представляла, что тут такая красота. И «Подмор Тэтч» прекрасен, но лучше всего Пенелопа. Рядом с ней ощущаешь покой, безопасность, и снова оживает мир вокруг, и, несмотря на то что в последнее время все было так ужасно, начинаешь верить в будущее, в то, что тебя еще ждут какие-то радости. «Ты можешь жить здесь, сколько захочешь», — сказала Пенелопа, но надолго она не может остаться. Что же ей предпринять, как жить дальше?
Ей восемнадцать. Ни семьи, ни дома у нее нет, и она ничего не умеет делать. Антония поведала об этом Оливии, когда была у нее в Лондоне.
— Я даже не знаю, чем бы мне хотелось заняться. Никогда не чувствовала к чему-либо особенного призвания. Было бы куда проще, если бы я к чему-то стремилась. И даже если я вдруг решу стать секретаршей, врачом или бухгалтером, на учебу нужно слишком много денег.
— Я тебе помогу, — сказала Оливия.
Антония заволновалась:
— Нет-нет, даже не думайте об этом. Вы не должны брать на себя ответственность за меня.
— Я ее и так в какой-то степени ощущаю. Ты же дочь Космо. К тому же я не собираюсь выписывать тебе чеки на огромные суммы, а просто думаю, как помочь тебе другим способом. Допустим, познакомить тебя с нужными людьми. Тебе никогда не приходила в голову мысль поработать манекенщицей?
— Манекенщицей? — Антония даже рот открыла от удивления. — Я — манекенщица? Но я ведь не красавица.
— Тебе и не надо быть красавицей. Достаточно иметь хорошую фигуру, а на это тебе жаловаться не приходится.
— Нет, ничего не получится. Стоит кому-нибудь направить на меня фотоаппарат, как я словно каменею.
Оливия рассмеялась:
— Это пройдет. Хороший фотограф сумеет внушить тебе уверенность. Сколько раз я наблюдала такие метаморфозы — гадкий утенок превращался в прекрасного лебедя!
— Со мной такого не случится.
— Тебе не надо быть такой робкой, ты отнюдь не уродка, ну, может, только ресницы подкачали — слишком светлые. Но они длинные и густые. Не понимаю, почему ты не пользуешься тушью?
Ресницы были для Антонии источником бесконечных страданий, и она залилась румянцем.
— Я пробовала, Оливия, но ничего не вышло. Наверное, я аллергик. Сначала распухли веки, потом щеки, и лицо стало как тыквенный фонарь, из глаз потекли слезы, а по щекам — черные потеки. Ужасно обидно, но я ничего не могу поделать.
— А почему бы тебе не выкрасить ресницы?
— Выкрасить?
— Ну да. В черный цвет. В салоне красоты. И конец всем страданиям.
— А если я опять распухну?
— Не думаю. Во всяком случае, надо попробовать. Впрочем, речь сейчас идет не о них, а о том, чтобы тебе годик-другой поработать фотомоделью. Деньги за это платят хорошие, и ты сможешь скопить порядочную сумму, а тем временем решишь, чем заняться всерьез. И ты ни от кого не будешь зависеть. Обдумай это предложение, пока будешь гостить в «Подмор Тэтч». Дай мне знать о твоем решении, и мы назначим съемку.
— Спасибо. Вы добрая.
— Совсем нет, просто практичная.
Если подумать, это не такая уж плохая идея, размышляла Антония. Конечно, нужно будет преодолеть собственный страх, чтобы решиться на такую работу, но она намажется, как положено, лишь бы заработать деньги. К тому же, сколько она ни думала, ничего другого придумать не могла. Она любила готовить, работать в саду, сажать и собирать овощи и фрукты — чем и занималась те два года, что провела с Космо в Ивисе, но на такой работе карьеры не сделаешь. Служить в учреждении, в магазине или в больнице ей тоже не хотелось, так какой же выбор?
По ту сторону долины зазвонил церковный колокол, возвещая мир и покой. Антонии вспомнилась Ивиса, сухая каменистая равнина, на которой стоял дом Космо, нестройное позвякивание колокольчиков на шеях пасущихся коз в раннее утро. Эти колокольчики, и кукареканье петухов, и стрекот цикад в ночи… — все звуки Ивисы навсегда канули в прошлое. Мысли Антонии обратились к Космо, и впервые глаза ее не наполнились слезами. Горе — тяжкая ноша, но приходит день, когда ты можешь оставить ее на обочине дороги и двинуться дальше. Антония отошла всего на несколько шагов, но у нее теперь уже достало сил оглянуться и не заплакать. Это вовсе не значило забыть, это лишь значило принять. А если ты принял горе и смирился с ним, оно уже не так тяжко.
Колокол прозвонил минут десять и смолк. Наступившая тишина начала наполняться звуками утра. Заструилась в реке вода, замычали коровы, заблеяли вдали овцы. Залаяла где-то собака, зашумел мотор автомобиля. Антония почувствовала, что ужасно голодна. Она вскочила, вышла с мостика и тем же путем, что пришла, направилась к дому. Хорошо, если на завтрак сегодня яйца всмятку, поджаренный хлеб с маслом и крепкий чай. У нее слюнки потекли, и она побежала, ныряя под свесившиеся ветви ив, веселая и радостная, точно в предвкушении грядущего счастья.
Вот и боярышниковая изгородь, и калитка. Антония запыхалась. Облокотившись о калитку, она постояла с минуту, потом вошла в сад. Краем глаза она уловила какое-то движение и посмотрела в ту сторону: высокий длинноногий парень, не Ноэль, а какой-то незнакомый молодой человек, катил тачку по извилистой тропинке, что вела с огорода. Он поднырнул под бельевую веревку и направил тачку между старой яблоней и грушей.
Антония захлопнула калитку. Стук привлек внимание длинного парня, и он поднял голову.
— Доброе утро! — крикнул он и покатил свою скрипучую тачку по направлению к калитке.
Антония ждала. Возле кострища парень остановился, поставил тачку и выпрямился. На нем были выгоревшие, заплатанные джинсы, заправленные в резиновые сапоги, и старый пуловер, из-под которого выглядывала ярко-голубая рубашка. И словно под цвет рубашки ярко-голубые глаза на загорелом лице.
— Денек сегодня славный! — сказал он, подходя к Антонии.
— Замечательный денек!
— Гуляли?
— Дошла до моста.
— Должно быть, вы — Антония?
— Да.
— Миссис Килинг сказала мне, что вы должны приехать.
— А кто вы, я не знаю…
— Садовник. Данус Мьюирфильд. Сегодня я не должен работать, но пришел помочь с уборкой. Вот жгу мусор.
На тачке лежали картонные коробки, пачки старых газет и длинные вилы. Данус взял вилы и начал ворошить пепел в кострище.
— Там груды хлама. Я вчера поднималась на чердак, — сказала Антония.
— Ничего, справимся. У нас целый день впереди.
Антонии понравилось это «у нас». Значит, он и ее имеет в виду, не то что Ноэль, который вчера так холодно отверг ее робкое предложение помочь ему. Данус, похоже, даже зовет ее на помощь.
— Я еще не завтракала, сейчас перекушу чего-нибудь и приду вам помогать.
— Миссис Килинг на кухне, варит яйца.
Антония улыбнулась:
— Я так надеялась, что это и будут вареные яйца.
Но Данус не улыбнулся в ответ.
— Так идите и съешьте их, — сказал он и, воткнув вилы в землю, начал сминать газеты. — На голодный желудок много не наработаешь.
Нэнси Чемберлейн, спокойно сжимая баранку руками в перчатках из свиной кожи, уверенно вела машину через сияющий, залитый солнцем Котсуолдс. Она ехала в «Подмор Тэтч» на ланч к матери в прекраснейшем расположении духа, чему способствовал ряд обстоятельств. Начать с того, что дивный солнечный день, который неожиданно пришел на смену беспросветному дождю, благотворно подействовал не только на нее, но и на все ее семейство, и дети за завтраком не ссорились. Джордж обошелся без едких замечаний по поводу воскресных сосисок, а миссис Крофтвей по собственной инициативе предложила выгулять днем собак.
Хорошо, что не надо было готовить обильный воскресный ланч, и у нее хватило времени на все: привести себя в порядок (она надела свой самый красивый жакет, юбку и крепдешиновую блузку с завязывающимся бантом воротником); отвезти Мелани и Руперта к Уэйнрайтам; проводить Джорджа на епархиальное собрание и даже самой побывать в церкви. Всякий раз после посещения храма Нэнси охватывали доброта и благочестие, так же как после посещения собрания комитета ее охватывало сознание собственной значимости. На этот раз она вполне соответствовала созданному в собственном представлении образу: деловая, энергичная провинциальная дама, которая умеет все хорошо организовать: дети приглашены на весь день к своим друзьям в хороший, уважаемый всеми дом. Муж занят достойной деятельностью, прислуга преданно исполняет свой долг.
Сознание собственной значимости наполнило Нэнси не совсем привычной спокойной уверенностью, и она начала планировать, что сделает и скажет во время визита к матери. В удобный момент, когда они останутся одни, она заговорит о картинах Лоренса Стерна. Упомянет, за какую огромную сумму была продана картина «У источника», укажет, что просто нелепо не проявить дальновидность и не воспользоваться таким высоким спросом на картины деда. В любую минуту ситуация может измениться. Нэнси представляла, как она спокойно приводит все эти доводы, давая понять, что думает только о благе матери.
Конечно же, нужно избавиться от панно, которые висят на лестничной площадке возле спальни Пенелопы, ведь никто их там не видит, и они просто никому не нужны. «Собирателей ракушек», безусловно, нельзя продавать, об этом и речи быть не может, мать, да и все они так любят эту картину: она неотделима от материнской жизни. Но все же стоит повторить слова Джорджа и вообще вести разговор по-деловому: предложить заново оценить картину и переоформить страховку. Надо полагать, Пенелопа — она ведь так трепетно относится к своему сокровищу — не станет возражать против столь разумного предложения, свидетельствующего лишь о том, какая заботливая у нее дочь.
Дорога взобралась на холм, потом стала спускаться в долину; сверкая кровлями в ярких солнечных лучах, открылась деревня. Похоже, все, кроме ее родственников, отдыхают по домам. Столбик дыма поднимался лишь над садом Пенелопы. Нэнси так увлеклась планами продажи панно и получения сотен тысяч столь желанных фунтов, что совершенно забыла об уборке, ради которой и был объявлен семейный сбор. Только бы ее не втянули в какую-нибудь грязную работу, не стоять же ей у костра в выходном костюме.
Церковные часы пробили половину первого, когда Нэнси въехала в ворота и остановила машину у распахнутой настежь входной двери. Возле гаража стоял старый «ягуар» Ноэля, к стене дома был прислонен неизвестно чей велосипед, в сторонке были сложены вещи, которые нельзя было сжечь: весы для взвешивания младенцев, кукольная коляска без колеса, две железные кровати, два ночных горшка, — ими предстояло распорядиться как-то иначе. Нэнси прошла мимо них и вошла в дом.
— Мамочка!
По кухне, как всегда, плыли вкусные ароматы: жареный барашек, мята, только что нарезанный лимон. Нэнси вспомнилось детство, огромная кухня в цокольном этаже на Оукли-стрит, обильная вкусная еда.
— Мамочка!
— Я здесь.
Нэнси нашла мать в оранжерее, та стояла, о чем-то размышляя. Она даже не соизволила принарядиться, подумала Нэнси, не то что я. Вечно мать ходит в каком-то старье: бумажная юбка, ситцевая блузка с потертым воротничком, штопаный джемпер с закатанными до локтей рукавами. Нэнси положила на стул свою сумочку из кожи ящерицы, стянула перчатки и подошла поцеловать мать.
— Что ты тут делаешь? — спросила она.
— Решаю, где накрыть стол. Хотела в столовой, а потом подумала, почему бы не здесь? Теплынь такая, что можно даже распахнуть дверь в сад. Посмотри, какие фрезии, я их просто обожаю! Рада тебя видеть, Нэнси, ты замечательно выглядишь. Как ты смотришь на то, что мы расположимся здесь? Баранину Ноэль нарежет на кухне, и мы с тарелками придем сюда. Это будет первый пикник в этом году, к тому же все, наверное, здорово перепачкались, а так можно не наводить лоск.
Нэнси посмотрела в сторону сада: за изгородью из бюричины в чистое небо поднимался столбик дыма.
— Как идет уборка?
— Как будто бомба взорвалась. Трудятся с самого утра.
— Надеюсь, ты в этом не участвуешь?
— Нет, только приготовила ланч.
— А эта девушка, Антония, тоже помогает? — В голосе Нэнси скользнул холодок. Она все еще не простила Оливии и Пенелопе их нелепого решения и втайне надеялась, что мать уже раскаивается, что пригласила к себе эту девицу.
Но надежды ее тут же рухнули.
— Поднялась ни свет ни заря и, едва позавтракав, тут же присоединилась к мужчинам. Ноэль на чердаке отдает команды, а Данус с Антонией возят мусор и следят за костром.
— Надеюсь, она тебе не в тягость, мамочка?
— Нет, конечно, она такая милая.
— А как ее воспринял Ноэль?
— Для начала заявил, что она не в его вкусе — у нее, видите ли, белесые ресницы. Представляешь? Дальше ресниц он, похоже, ничего не видит. Так ему никогда не найти себе жену.
— Ты сказала «для начала». А потом он переменил свое мнение?
— Только потому, что появился другой молодой человек, и Антония, похоже, сразу же с ним подружилась. Ноэль ведь как собака на сене — ему такое не нравится.
— Молодой человек? Ты говоришь о садовнике?
— О Данусе. Да. Такой славный мальчик!
Нэнси была шокирована:
— Ты хочешь сказать, что Антония проявляет интерес к садовнику?
Пенелопа рассмеялась:
— Ах, Нэнси, видела бы ты сейчас свое лицо! Ну можно ли быть такой снобкой? Ты ведь его еще в глаза не видела, как же ты можешь судить о нем?
Однако Нэнси оставалась при своем мнении. Что тут происходит?
— Надеюсь, они не сожгут что-нибудь нужное?
— Нет-нет. Ноэль очень внимателен. То и дело присылает ко мне Антонию, а я иду и проверяю, надо жечь или не надо. Мы немного поспорили из-за стола — его весь источил червяк. Ноэль хотел бросить его в костер, но Данус сказал, что червяка можно извести, а стол хороший, и я с ним согласилась. Если ему хочется возиться с червяком — повезло старому червяку! — пусть оставит стол себе. Ноэлю это не очень понравилось, и он с мрачным видом протопал вверх по лестнице. Но это так, пустяки. Давай-ка лучше решим, где накрывать стол. Я все же думаю, здесь. Ты мне поможешь?
Они дружно взялись за дело. Раздвинули старый сосновый стол, постелили синюю полотняную скатерть. Нэнси принесла из столовой серебро и рюмки. Пенелопа вдела в треугольные подставки белые льняные салфетки. Как последний штрих они поставили в цветное кашпо на середину стола горшочек с цветущей розовой геранью. Стол выглядел изумительно, по-домашнему уютно и в то же время очень красиво, и Нэнси, отступив на шаг, в который раз поразилась таланту матери: она не только умеет создать красивую обстановку, но заставить каждый, самый обыкновенный предмет обрести свою особую красоту. Видимо, Пенелопа унаследовала художественный дар от своего отца. Нэнси с досадой вспомнила свою столовую: как она ни старается, та остается все такой же скучной и серой.
— Ну, теперь все готово, — сказала Пенелопа, — осталось только подождать наших тружеников, и сядем за стол. Погрейся здесь на солнышке, а я пойду приведу себя в порядок и принесу тебе что-нибудь выпить. Что ты предпочтешь? Вино? Джин с тоником?
Нэнси выбрала джин с тоником, сняла жакет и огляделась. Когда мать объявила о своем намерении построить оранжерею, они с Джорджем решительно выступили против, считая, что это никому не нужная роскошь, экстравагантность, которую Пенелопа вряд ли может себе позволить. Но она не прислушалась к их совету, и некоторое время спустя появилась эта полная света и воздуха стеклянная пристройка. Теперь, теплая, вся в зелени и цветах, напоенная их ароматами, пристройка не могла не вызывать у Нэнси зависти, но она так и не узнала, во сколько это матери обошлось. И мысли Нэнси снова устремились в привычное русло — деньги… Когда Пенелопа вернулась — причесанная, напудренная и надушенная своими любимыми духами, Нэнси, удобно устроившись в плетеном кресле, как раз решала, подходящий ли сейчас момент, чтобы поднять вопрос о продаже панно. Она подбирала первые, достаточно осторожные и тактичные фразы, но Пенелопа опередила ее, направив разговор совсем в другое русло.
— Вот тебе джин с тоником… Надеюсь, я не слишком разбавила? — Себе Пенелопа налила вина. Она пододвинула второе кресло, опустилась в него, вытянула свои длинные ноги и подставила лицо солнцу. — Вот оно — блаженство, не правда ли? Чем заняты твои домочадцы?
Нэнси ответила.
— Бедный Джордж, ему предстоит просидеть весь день в доме! Да еще в компании этих скучных церковных сановников! А кто эти Уэйнрайты? Я их встречала у вас? Хорошо, что ребята проводят время, как им хочется. Впрочем, неплохо бы и взрослым исполнять свои желания… Кстати, не хочешь ли съездить со мной в Корнуолл?
Нэнси в полном недоумении воззрилась на мать:
— В Корнуолл?
— Да. Хочу побывать в Порткеррисе. И не откладывая. Мне вдруг ужасно захотелось туда съездить. И конечно, мне будет куда приятнее, если кто-нибудь поедет вместе со мной.
— Но…
— Понимаю. Я не была там сорок лет, все изменилось, конечно, и знакомых никого не осталось. И все же я хочу туда съездить. Еще раз посмотреть на Порткеррис. Почему бы и тебе не поехать? Мы можем остановиться у Дорис.
— У Дорис?
— Ну да, у Дорис. Ах, Нэнси, ты ведь не забыла Дорис? Ты не могла ее забыть! До четырех лет ты, можно сказать, была на ее попечении, это она тебя вынянчила, а потом мы уехали из Порткерриса.
Естественно, Нэнси помнила Дорис. Она плохо представляла себе своего деда, но Дорис помнила — помнила исходивший от нее приятный запах талька и ее сильные руки, помнила, как покойно и приятно было, когда она держала ее на руках, прижимая к своей мягкой груди. Первые детские воспоминания Нэнси были о Дорис. Она, Нэнси, сидит в складном стуле на колесиках на поляне за Карн-коттеджем в окружении уток и кур, а Дорис развешивает на веревке белье. Эта яркая красочная картинка, точно книжная иллюстрация, отпечаталась у нее в мозгу и не уходила, не блекла. Волосы у Дорис растрепались, потому что с моря дул сильный ветер, руки протянуты вверх; Нэнси видела перед собой надувающиеся под ветром простыни и наволочки, ярко-голубое небо.
— Дорис так и осталась в Порткеррисе, — продолжала Пенелопа. — У нее небольшой дом в Нижнем городе — так мы называли эту часть Старого города возле порта. Мальчики уехали, и у нее теперь есть свободная спальня. Она много раз приглашала меня приехать погостить. А уж как она тебе обрадуется, и говорить нечего. Она тебя любила как родную дочь. Плакала, когда мы уезжали. И ты тоже плакала, хотя вряд ли понимала, что происходит.
Нэнси закусила губу. Жить в тесном домишке старой служанки в корнуоллском городке — не так она предполагала провести свой отпуск. К тому же…
— А дети? — спросила она. — Куда мы денем детей?
— Какие дети?
— Мелани и Руперт, какие же еще? Я не могу поехать без них.
— Боже мой, Нэнси, я зову тебя, а не детей. Почему бы тебе не отдохнуть без них? Они уже достаточно выросли и вполне могут остаться с отцом и миссис Крофтвей. Доставь себе удовольствие — поезжай одна. Это ненадолго. Всего на несколько дней, не больше чем на неделю.
— Когда же ты предполагаешь поехать туда?
— Скоро. Как только соберусь.
— Ах, мамочка, не так все просто. У меня уйма дел, скоро церковный праздник, мне надо все организовать, и конференция консерваторов… мы получили официальное приглашение на ланч. И Мелани, ее занятия верховой ездой, они выезжают в летний лагерь…
Нэнси смолкла. Пенелопа ничего не ответила. Нэнси подкрепилась глотком холодного джина с тоником и покосилась на мать: четко очерченный профиль, глаза закрыты.
— Мамочка?
— М-м?
— Может быть, позднее? Когда дат поменьше. Допустим, в сентябре?
— Нет. — В голосе Пенелопы звучала непреклонность. — Я должна поехать сейчас. Не беспокойся, выкинь это из головы. Я знаю, что ты очень занята. Просто мне пришло в голову…
Наступило молчание, и Нэнси стало не по себе — она уловила невысказанный упрек. Но почему она должна испытывать чувство вины? Она действительно не может вот так сорваться, бросить все дела и уехать в Корнуолл.
Долго молчать Нэнси не умела. Она попыталась найти какую-нибудь тему для разговора, но в голову ничего не приходило. Нет, правда, иногда мать просто невыносима! И это не ее, Нэнси, вина. Она ведь так занята. У нее столько дел по дому, муж, дети. Почему она должна чувствовать себя виноватой?
Так они и молчали, пока в оранжерею не вошел Ноэль. Утро, которым наслаждалась Нэнси, для Ноэля обернулось сплошным кошмаром. Одно дело вчера. Вчера его окрыляла надежда, он верил, что непременно раскопает что-то очень ценное. Но он не раскопал, а сегодня приходилось довершать уборку. К тому же он был неприятно поражен встречей с Данусом. Он ожидал встретить туповатого деревенского парня с крепкими бицепсами, а перед ним предстал спокойный, сдержанный молодой человек, и Ноэль даже несколько смутился под взглядом его голубых глаз. И то, что Антония сразу потянулась к Данусу, не улучшило настроение Ноэля. Его раздражала их веселая болтовня на лестнице, когда они приходили за очередным грузом коробок и сломанной мебели, причем чем дальше, тем больше. Защита Данусом съеденного червем стола переполнила чашу терпения, и без четверти час, когда чердак был уже более или менее расчищен и все, что подлежало сожжению, было сложено у стены дома, Ноэль решил, что с него хватит. К тому же вымазался он ужасно. Надо было бы принять душ, но еще больше ему хотелось пить, поэтому он удовольствовался тем, что вымыл лицо и руки и, спустившись вниз, сделал себе крепкий коктейль, чтобы встряхнуться. С бокалом в руке он прошел через кухню в залитую солнцем оранжерею. При виде матери и сестры настроение его не улучшилось — сидят себе спокойненько в креслах, наслаждаются солнцем и теплом! Похоже, так и просидели все утро, палец о палец не ударив.
При звуке его шагов Нэнси подняла голову и радостно улыбнулась, словно была просто счастлива увидеть брата:
— Привет, Ноэль!
Он не улыбнулся в ответ. Прислонясь к дверному косяку, он смотрел на них. Мать, похоже, спала.
— Ничего себе, нежитесь тут на солнышке, а мы себе все руки отбили!
Пенелопа не шевельнулась. Улыбка Нэнси несколько увяла, но все еще не сходила с губ. Ноэль наконец отреагировал на нее кивком.
— Привет, — сказал он, отодвинул от накрытого стола стул, сел и дал отдых своим ногам.
Мать открыла глаза. Она не спала.
— Конец?
— Мне — да. Я в полной прострации.
— Я имела в виду чердак.
— Почти что конец. Осталось только кому-нибудь подмести пол, и все.
— Ты сотворил чудо, Ноэль! Что бы я без тебя делала?
Но ее благодарная улыбка не смягчила его.
— Я голоден как волк, — сказал он. — Когда сядем за стол?
— Хоть сию минуту. — Пенелопа поставила свой бокал, выпрямилась в кресле и устремила взгляд в сторону сада. Над зеленой изгородью по-прежнему вился дымок.
— Может, кто-нибудь из вас позовет Дануса и Антонию, а я пока пойду заправлю подливку.
Наступила пауза. Ноэль ждал, чтобы вызвалась Нэнси, а та делала вид, что не слышала призыва, и смахивала с юбки какую-то пушинку.
— У меня нет сил, — сказал Ноэль и откинулся на спинку стула. — Сходи-ка ты, Нэнси, тебе это только на пользу.
Как он и ожидал, сестра немедленно оскорбилась, приняв его слова за намек на ее габариты.
— Благодарю покорно!
— Судя по твоему виду, ты сегодня и пальцем не шевельнула.
— Просто я сочла необходимым привести себя в порядок, прежде чем выйти к столу. — Она бросила в его сторону язвительный взгляд. — А вот о тебе этого не скажешь.
— В чем же выходит к воскресному ланчу твой Джордж? Во фраке?
Нэнси с воинственным видом выпрямилась:
— Если ты думаешь, что это смешно…
Они продолжали препираться, норовя побольнее уязвить друг друга. Как всегда. Слушать их было невыносимо. Пенелопа порывисто поднялась с кресла.
— Я сама позову, — бросила она и двинулась по залитому солнцем газону в сторону сада. Ее детки остались в оранжерее и не остановили ее. Они сидели молча, не глядя друг на друга, среди зелени и благоухающих цветов и тешили себя своей неприязнью.
Пенелопа расстроилась, что позволила им испортить ей настроение. Она почувствовала, как к щекам прилила кровь и запрыгало в груди сердце, и, сбавив шаг, сделала несколько глубоких вдохов. Не надо расстраиваться, не надо обращать на них внимания. Ее дети стали взрослыми, а ведут себя по-прежнему как маленькие. Ноэль ни о ком, кроме себя, не думает, Нэнси стала обычной самодовольной снобкой средних лет. Никто из ее детей, даже Оливия, не хочет поехать с ней в Корнуолл. Ну и пусть!
Как же так получилось? Что произошло с ее детьми? Она их родила, вырастила, дала им образование, заботилась о них. Может быть, ее вина в том, что она ничего от них не требовала? Но после войны, в Лондоне, ей так трудно жилось, что она научилась рассчитывать только на себя. Ведь рядом не было ни родителей, ни старых друзей, которые могли бы ее поддержать, только Амброз и его мать, но Пенелопа очень скоро поняла, что обращаться к ним бесполезно. Она была одна — и это относилось ко всем сторонам ее жизни, — совсем одна, и ей приходилось полагаться лишь на собственные силы.
Вот и продолжай полагаться только на себя, сказала себе Пенелопа. Как прежде. Пусть это будет твоим девизом, пусть проведет через любые испытания, которые еще может обрушить на тебя судьба. Будь такой, какая ты есть. Независимой. Сама принимай решения, сама определяй, как тебе прожить остаток жизни. И не нужно никакой помощи от детей. Ты знаешь все их недостатки, все изъяны и все равно любишь их, но не хочешь зависеть от них.
Не приведи господь!
Пенелопа успокоилась, к ней даже вернулось чувство юмора. Смешно, что она вспылила, ведь ничего неожиданного для нее не произошло. Она вошла в просвет зеленой изгороди. Сад лежал перед ней в пятнах солнечного света и тени. В дальнем конце его все еще полыхал костер; языки пламени с треском взлетали вверх, в небо тянулся столб дыма. Данус и Антония были там. Данус ворошил костер, Антония присела на край тачки. В тишине слышались их голоса. Они так весело болтали, что жаль было их тревожить. Даже для того, чтобы объявить, что их ждут жареный барашек, лимонное суфле и пирог с клубникой. Пенелопа остановилась, любуясь этой пасторальной картинкой. Данус перестал ворошить костер и стоял, опершись о вилы. Он что-то сказал, — Пенелопа не расслышала слов, — и Антония засмеялась. И вдруг, точно эхо, что-то отозвалось сквозь годы в памяти Пенелопы: звонко и чисто зазвучал в ее ушах другой смех, неся воспоминания о нежданном счастье, о радостях любви, которые даруются человеку, может быть, единственный раз в жизни. «Мне было так хорошо! Но ничто хорошее не исчезает бесследно из жизни. Оно остается в человеке, становится частью его».
Другие голоса, другой мир! Но, вспоминая то блаженное время, Пенелопа ощутила не горечь утраты; совсем другое чувство охватило ее — счастливые дни вернулись, они снова были с ней! Нэнси, Ноэль, раздражение, которое они в ней вызывали, — все это чепуха, и думать об этом не стоит. Важен только момент прозрения.
Она могла бы простоять у зеленой изгороди, погруженная в раздумья, до самого вечера, но Данус заметил ее и помахал рукой. Она, сложив ладони рупором, крикнула, что пора садиться за стол. Данус закивал, воткнул вилы в землю и подобрал сброшенные свитера. Антония поднялась с тачки, он накинул ей свитер на спину и завязал под подбородком рукава. Стройные, загорелые, молодые, они пошли бок о бок по тропинке.
Какие они оба красивые, подумала Пенелопа и исполнилась благодарности. Не только за то, что они сегодня так здорово поработали, она была благодарна им за них самих, за то, что они есть, что идут сейчас к ней по тропинке. Не сказав ни единого слова, они вернули ей душевный покой, понимание истинных ценностей, и она возблагодарила судьбу за этот неожиданный поворот (наверное, сам Господь послал их ей, дав еще один шанс испытать радость и счастье).
Одно можно было сказать в пользу Ноэля: долго злиться он не умел. К тому времени, как все наконец собрались за столом, он уже мирно допивал вторую рюмку мартини, не забыв наполнить во второй раз и рюмку сестры, и Пенелопа, к своему большому облегчению, застала их за вполне мирной болтовней.
— Ну вот, теперь все в сборе. Нэнси, ты ведь еще не знакома ни с Данусом, ни с Антонией. Это моя дочь Нэнси Чемберлейн. Ноэль, дай-ка ребятам что-нибудь выпить, а потом, если ты не против, можешь нарезать баранину.
Ноэль поставил рюмку и с подчеркнутым усилием поднялся на ноги.
— Что тебе налить, Антония?
— Мечтаю о стакане пива! — Антония облокотилась о стол, вытянула длинные ноги в поблекших джинсах. На дочке Нэнси, Мелани, джинсы выглядели ужасно, на Антонии — великолепно. Какая несправедливость, возмутилась Нэнси. Может быть, следует посадить Мелани на диету? — подумала она, но тут же отказалась от этой мысли: стоило матери что-то предложить, как дочь сразу же начинала делать прямо противоположное.
— А что тебе, Данус?
— Что-нибудь некрепкое. Сок. Или стакан воды.
Ноэль отнесся к такому заявлению с явным недоверием, но Данус твердо стоял на своем. Ноэль пожал плечами и пошел на кухню.
— Вы вообще не пьете? — Нэнси повернулась к Данусу.
— Ничего алкогольного.
У него приятная внешность, правильная речь. Просто джентльмен. Странно! Что он тут делает в качестве садовника?
— Никогда не пьете ничего алкогольного?
— Не пью. — Голос Дануса звучал абсолютно спокойно.
— Может быть, вам не нравится вкус? — не отставала Нэнси. Просто невероятно — молодой человек не хочет выпить даже полпинты пива!
Данус подумал, затем сказал:
— Может быть, и так. — Выражение лица у него было совершенно серьезное, и все же Нэнси не была в этом вполне уверена. Не смеется ли он над ней?
Нежнейший барашек, жареная картошка, зеленый горошек и спаржа были съедены с большим аппетитом, бокалы наполнены еще раз, на столе появилось суфле. Все расслабились, повеселели, и разговор пошел о том, кто как проведет остаток дня.
— Я свое дело сделал, — объявил Ноэль, наливая из бело-розового молочника сливки на клубничный пирог, — наломался так, что со стула не могу подняться, ноги не держат. Поеду в Лондон, может, проскочу до воскресной пробки, если повезет.
— Конечно поезжай, — согласилась мать. — Ты просто гору свернул. Представляю, как ты устал!
— Что еще осталось сделать? — поинтересовалась Нэнси.
— Отвезти и сжечь последний хлам и подмести на чердаке пол.
— Я подмету, — сразу же вызвалась Антония.
Но Нэнси имела в виду другое.
— А что делать с этой грудой хлама у стены? Кровати, коляска… Так там и останутся?
Наступила пауза, каждый ждал, что предложит другой. Первым заговорил Данус:
— Это все можно отвезти на свалку в Темпл-Пудли.
— Каким образом?
— Если миссис Килинг не против, то в багажнике ее машины.
— Конечно не против.
— И когда же ты намереваешься это сделать? — поинтересовался Ноэль.
— Сегодня.
— Разве свалка работает в воскресенье?
— Работает, — заверила его Пенелопа. — Она открыта каждый день. У нас очень славный сторож, он и живет прямо там, в какой-то лачуге. Ворота никогда не запираются.
Нэнси пришла в ужас:
— Ты хочешь сказать, он живет там постоянно? В лачуге на свалке? В таких антисанитарных условиях? Куда же смотрит ваш общественный совет?
Пенелопа рассмеялась:
— Не думаю, чтобы его очень волновали вопросы гигиены. На вид он не очень опрятен и всегда небрит, но человек очень добрый. Как-то наши мусорщики устроили забастовку, и нам самим приходилось возить все отходы на свалку; он нам тогда очень помог.
— Но…
Нэнси не успела в очередной раз ужаснуться — ее прервал Данус, что само по себе было удивительно, поскольку он не отличался разговорчивостью и за обедом больше молчал.
— Моя бабушка живет в маленьком городке в Шотландии. У них на свалке уже тридцать лет ютится старый бродяга. Представляете, устроил себе дом в гардеробе!
— В гардеробе! — Ужас Нэнси достиг апогея.
— Да. В огромном викторианском гардеробе.
— Но, боже, это же неудобно!
— Вам так кажется, а он вполне доволен жизнью. В городке его все знают и относятся к нему даже с некоторым уважением. Он разгуливает по улицам в резиновых сапогах и старом плаще, и все угощают его чаем и сандвичами с джемом.
— Но что же он делает по вечерам?
Данус покачал головой.
— Не имею представления.
— Почему тебя так взволновало, как он проводит вечера? — поинтересовался Ноэль. — Стоит ли беспокоиться о вечерах, когда чудовищна вся его жизнь!
— И такая скучная жизнь. У него ведь, наверное, нет ни телевизора, ни телефона… — Нэнси удрученно смолкла. Нет, она решительно не понимает, как можно жить в таких условиях!
Ноэль сокрушенно покачал головой. На лице его появилось то же раздраженное выражение, что и в детстве, когда он, как ни бился, не мог объяснить Нэнси самые простые правила игры в карты.
— Ты безнадежна, — сказал он ей, и она с оскорбленным видом надолго замолчала.
Ноэль повернулся к Данусу:
— Вы родом из Шотландии?
— Мои родители живут в Эдинбурге.
— Чем занимается ваш отец?
— Он юрист.
Нэнси от любопытства забыла об обиде.
— А вы не захотели тоже стать юристом? — спросила она.
— Я думал пойти по стопам отца, когда учился в школе. Но потом изменил решение.
— Мне всегда казалось, что шотландцы очень любят спорт. Охотятся на оленей, на куропаток, рыбачат. Ваш отец тоже любит охотиться?
— Он любит рыбачить и играет в гольф.
— И он — старшина пресвитерианской церкви? — Ноэль выговорил это, как ему казалось, с шотландским акцентом, и Пенелопа досадливо закусила губу. — Так это, кажется, называется на холодном Севере?
Данус никак не отреагировал на его насмешливый тон.
— Да, он старшина. И к тому же лучник.
— Не понял. Просветите меня.
— Член «Почтенного общества лучников». Входит в отряд телохранителей королевы, когда она приезжает в свой Холирудский замок. В таких случаях он облачается в старинную одежду и просто великолепен.
— И с каким же оружием в руках он охраняет ее величество? С луком и стрелами?
— Именно.
Они уперлись друг в друга взглядом.
— Живая легенда! — сказал Ноэль и взял второй кусок клубничного пирога.
Обильный ланч закончился кофе и десертным шоколадом. Ноэль отодвинул стул, довольно вздохнул и сообщил, что сию же минуту отправляется складывать вещи, иначе впадет в кому. Нэнси начала суетливо собирать чашки и блюдца.
— Что вы намереваетесь делать теперь? — спросила Пенелопа у Дануса. — Вернетесь к костру?
— С ним все в порядке, горит себе и горит, — сказал Данус. — Так что мы успеем съездить на свалку. Сейчас я загружу машину.
— Не беспокойся, ма. — Ноэль подавил очередной зевок. — Шофер Данусу не требуется.
— Вообще-то, требуется, — возразил Данус. — Я не вожу машину.
Наступило молчание. Ноэль и Нэнси с удивлением уставились на него.
— Не водите машину? Вы хотите сказать — не можете водить? Но как же вы передвигаетесь?
— На велосипеде.
— Невероятно! Это что, принципиальная позиция? Вы против загрязнения воздуха или дело в чем-то другом?
— В другом.
— Но…
— Я вожу машину, — поспешила вмешаться в разговор Антония. — Если позволите, Пенелопа, я сяду за руль, а Данус покажет мне дорогу.
Она посмотрела через стол на Пенелопу, и они заговорщицки улыбнулись друг другу.
— Отлично, — сказала Пенелопа. — И не медлите, поезжайте сейчас же, а Нэнси поможет мне убрать со стола. Когда вы вернетесь, мы все вместе пойдем в сад и сожжем последний мусор.
— Боюсь, мне пора домой, — сказала Нэнси. — Я не могу остаться ночевать.
— Ах, побудь еще немного. Я с тобой и не поговорила толком. Какие в воскресенье могут быть дела?..
Пенелопа поднялась и взяла в руки поднос. Антония с Данусом тоже встали из-за стола, попрощались с Ноэлем и вышли через кухню на подъездную площадку. Пока Пенелопа собирала на поднос кофейные чашки, Ноэль и Нэнси сидели в молчании, но вот хлопнула входная дверь, и они заговорили разом.
— Какой, однако, странный парень этот Данус…
— Ни разу не улыбнулся. Уж слишком он серьезный.
— Где ты его раскопала, ма?
— Ты о нем что-нибудь знаешь? Судя по всему, он получил неплохое воспитание, и тем более подозрительно, почему он работает садовником? И не пьет вино, не водит машину — что все это значит? Почему он не может водить машину, хотел бы я знать!
— Я подозреваю, — важно заявила Нэнси, — что он кого-то задавил в пьяном виде и у него отобрали права.
Такая версия приходила в голову и самой Пенелопе и очень ее тревожила. Но она не желала слушать рассуждений на эту тему и, не раздумывая, бросилась на защиту Дануса:
— Господи, дайте ему хоть выехать за ворота, а потом уж рвите на клочки!
— Признайся, ма, он очень странный парень, и ты сама прекрасно это понимаешь. Если он говорит правду, он из более чем респектабельной семьи и, скорее всего, вполне состоятельной. Какого же черта он довольствуется заработком сельскохозяйственного рабочего?
— Не знаю.
— Ты его спрашивала?
— Конечно нет. Его частная жизнь меня не касается.
— Но он представил рекомендации?
— Разумеется, представил. Я наняла его через контору.
— Они ручаются за его честность?
— За честность? Но почему он должен быть бесчестным?
— Мамочка, ты такая наивная, веришь любому, если у него более или менее приличная внешность. Но, подумай, он работает в саду, рядом с домом, а ты совершенно одна…
— Я не одна. Со мной Антония.
— Антония, похоже, уже без ума от него, как, впрочем, и ты сама.
— Кто дал тебе право, Нэнси, говорить такие глупости?
— Я забочусь о тебе, потому и говорю.
— И что же? Как ты представляешь, что может совершить Данус? Изнасиловать Антонию и миссис Плэкетт? Убить меня, ограбить дом и скрыться в Европе? От этого он не разбогатеет. Ничего ценного у меня нет.
В пылу спора она не подумала, что говорит, и тут же пожалела о своих словах. Ноэль вцепился в них, как кошка в мышь.
— Ничего ценного? А картины деда? Ты слишком беззаботна и никак не хочешь этого понять, сколько я тебе ни твержу. В доме нет сигнализации, дверь ты никогда не запираешь, и, готов поручиться, имущество ты застраховала не на полную стоимость. Нэнси права. Ты наняла себе в садовники какого-то чудака! Мы ведь ничего о нем не знаем, а даже если бы и знали, просто безумие с твоей стороны не принять мер предосторожности. Ты должна продать картины либо перестраховать их, короче — сделать что-нибудь!
— Мне кажется, ты хочешь, чтобы я их именно продала. Не так ли?
— Не кипятись, ма. Подумай спокойно. Не «Собирателей», ни в коем случае, но скажи, зачем тебе хранить панно? Сейчас они в большой цене, и не забывай, рынок — дело капризное. Оцени эти никому не нужные панно и выстави их на продажу.
Пенелопа, которая стояла на протяжении всего этого разговора, опустилась на стул. Она поставила локоть на стол и подперла лоб рукой.
Немного погодя она спросила:
— А твое мнение, Нэнси?
— Мое?
— Да, твое. Что ты думаешь по поводу моих картин, страховки и вообще о моей личной жизни?
Нэнси закусила губу, затем сделала глубокий вдох и начала говорить. Голос ее звучал отчетливо и звонко, как будто она держала речь на собрании женского клуба.
— Я думаю… я думаю, Ноэль прав. Джордж тоже считает, что ты должна изменить страховку. Он сказал мне об этом, когда прочитал в газете, за сколько ушла картина «У источника». Естественно, платить по страховке тебе придется больше. И страховая компания может настоять на более надежной охране. В конце концов, они заботятся о вкладах клиента.
— У меня такое впечатление, что ты либо слово в слово цитируешь Джорджа, либо зачитываешь какое-то маловразумительное пособие. А собственные соображения у тебя имеются? Что ты сама думаешь?
— Да, имеются, — сказала Нэнси своим обычным голосом. — Я считаю, что ты должна продать панно.
— И выручить полмиллиона? Так, что ли?
Нэнси постаралась, чтобы ответ ее прозвучал без нажима, как предположение. Она и не надеялась на такой удачный поворот: разговор пошел без обиняков, они сразу перешли к делу.
— Может быть, и полмиллиона, кто знает.
— И что дальше? Что я должна сделать с деньгами потом?
Пенелопа бросила взгляд на Ноэля. Тот пожал плечами. Ответ он продумал заранее.
— Деньги, отданные при жизни, вдвойне дороже тех, что остаются после смерти.
— Другими словами — ты хочешь получить их сейчас.
— Я этого не сказал, ма. Просто размышляю. Но подумай сама: сидеть на таком богатстве, ничего не предпринимая, равносильно тому, чтобы просто отдать все государству.
— И поэтому ты думаешь, что лучше отдать все тебе?
— У тебя трое детей. Ты можешь отдать какую-то сумму нам, поделив ее на три части. И оставить что-то себе, чтобы получать удовольствие от жизни. Ты ведь всегда была стеснена в средствах, не могла позволить себе ничего лишнего. Когда-то ты много ездила с родителями. Теперь ты снова сможешь путешествовать. Поезжай во Флоренцию, во Францию.
— А что же вы будете делать со столь милыми вашим сердцам деньгами?
— Нэнси, думаю, потратит их на детей. Я вложу в дело.
— В какое дело?
— В собственное… Быть может, займусь продажей сырья — тут открываются большие возможности…
Копия своего отца! Недоволен своей судьбой, завидует другим, меркантилен, амбициозен, уверен, что все у него в долгу, и никто его не переубедит в обратном. Амброз говорил бы с ней точно так же, и именно это вывело Пенелопу из себя.
— Продажей сырья! — Она не скрывала презрения. — Ты просто не в своем уме! С таким же успехом можно поставить весь свой капитал на какую-то лошадку или проиграть его в рулетку. Ни стыда ни совести у тебя нет, Ноэль! Иной раз я просто прихожу в отчаяние! Ты вызываешь у меня отвращение. — Ноэль открыл было рот, чтобы защититься, но Пенелопа повысила голос: — Хочешь знать мое мнение? Я думаю, тебе наплевать, что случится со мной, с моим домом, с картинами моего отца. Ты заботишься о себе одном, и в голове у тебя одна только мысль: как бы поскорее и без особых хлопот отхватить побольше денег. — Ноэль стиснул зубы, лицо у него застыло, он побледнел. — Я не продала панно до сих пор, а может, и никогда не продам, но, если все-таки сделаю это, все деньги я оставлю себе, потому что они — мои, и я могу распорядиться ими, как мне заблагорассудится, а самый большой дар, который могут принести родители своим детям, — это их, родителей, самостоятельность. Что же касается тебя, Нэнси, и твоих детей, то я считаю, что вы с Джорджем отправили их в непомерно дорогие школы. Чем делать из них вундеркиндов, лучше бы учили их хорошим манерам, может, тогда они стали бы более приятными людьми.
Со скоростью, поразившей ее саму, Нэнси бросилась на защиту своих отпрысков:
— Я попросила бы тебя не критиковать моих детей!
— Давно пора кому-то это сделать.
— Но только не тебе! Ты не имеешь на это никакого права — тебя они никогда не интересовали. Для тебя гораздо важнее твои более чем странные друзья и твой жалкий сад! У тебя, видимо, и желания не возникает повидать своих внуков. Ты вообще не бываешь у нас, сколько я тебя ни зову…
На сей раз взорвался Ноэль:
— Замолчи, Нэнси! При чем тут твои дети? Разговор идет не о них. Мы просто обсуждаем…
— Очень даже при чем. Они — новое поколение, за ними будущее…
— О боже!..
— …они больше заслуживают финансовой поддержки, чем твои дурацкие прожекты. Мама права: ты пустишь все на ветер, проиграешь…
— Кто бы говорил! Нет, это просто смешно! Ты ведь и мнения-то собственного не имеешь, уж не говоря о том, что ровно ни в чем не разбираешься…
Нэнси вскочила со стула:
— С меня довольно! Я не позволю, чтобы меня оскорбляли. Я немедленно уезжаю домой!
— И правильно сделаешь, — сказала мать. — По-моему, вам обоим пора отправляться по домам. Жаль, что здесь нет Оливии — она сумела бы вам ответить. Вам обоим. Впрочем, я уверена, что при ней вы и не осмелились бы затеять этот постыдный разговор. Ну что же вы медлите? — Она тоже поднялась на ноги. — Вы ведь не устаете повторять, какие вы занятые люди. Вряд ли вам стоит тратить время на бесполезные пререкания. А я пойду мыть посуду.
Ноэль успел пустить последнюю стрелу в адрес сестры:
— Нэнси поможет тебе, ма. Она так любит мыть посуду!..
— Я уже сказала: с меня довольно! — отрезала Нэнси. — Я уезжаю. А что касается мытья посуды, то маме вовсе не обязательно этим заниматься. Вернется Антония и все вымоет. По-моему, это входит в ее обязанности.
Пенелопа с подносом в руках застыла в дверях. Она повернулась и посмотрела на дочь. В ее темных глазах читалось такое презрение, что Нэнси стало не по себе. Похоже, она зашла слишком далеко.
Но мать не запустила в нее подносом с чашками. Не повышая голоса, она сказала:
— Нет, Нэнси, это не входит в ее обязанности. Она — мой друг. И гостья.
Пенелопа ушла. Вскоре Ноэль и Нэнси услышали звук льющейся из крана воды и позвякивание чашек. Они молчали. Тишину нарушало лишь жужжание большой синей мухи, которая, видно, решила, что уже наступило лето, и выползла из своего зимнего укрытия. Нэнси надела жакет. Застегивая пуговицы, она подняла голову и посмотрела на Ноэля. Их глаза встретились. Он тоже поднялся на ноги.
— Ну вот, — спокойным голосом сказал он, — ты устроила отвратительный скандал.
— Это ты устроил скандал! — огрызнулась Нэнси.
Он оставил ее и пошел наверх собирать вещи. Нэнси ждала его возвращения. Ей нужно было успокоиться, прийти в себя. Она не позволит себя унижать! Она причесалась, напудрилась, намазала губы. На самом-то деле она очень расстроилась и мечтала поскорее отправиться домой, но не решалась уехать, не попрощавшись с матерью. Та всегда к ней несправедлива, и Нэнси твердо решила не приносить никаких извинений. Да, собственно, за что ей извиняться? Это мать наговорила ей бог знает чего.
Услышав, что Ноэль спускается вниз, Нэнси захлопнула пудреницу, бросила ее в сумочку и пошла через кухню к выходу. Из крана по-прежнему лилась вода. Пенелопа, стоя к ним спиной, скребла кастрюли.
— Мы отправляемся, — сказал Ноэль.
Мать оставила кастрюли, отряхнула руки и повернулась к ним. Спокойная, полная достоинства, пусть и в фартуке, только лицо раскраснелось. Ее вспышки никогда не длились больше нескольких минут, это Нэнси помнила хорошо. Пенелопа никогда не таила зла, не дулась. Она даже улыбнулась им; какой-то полуулыбкой, словно жалея, но все же улыбнулась.
— Спасибо, что навестили меня, — сказала она, и голос ее звучал вполне искренне. — А тебе, Ноэль, спасибо еще и за чердак, работка была не из легких.
— Не стоит благодарности.
Пенелопа вытерла руки о полотенце, и Ноэль с Нэнси вышли через парадную дверь на площадку, где стояли машины. Ноэль положил чемоданчик в багажник, сел за руль и, махнув рукой, выехал за ворота. Он не сказал «до свидания» ни матери, ни сестре, но ни та ни другая словно этого и не заметили.
Также молча села в машину Нэнси, пристегнула ремень, надела перчатки. Пенелопа стояла, наблюдая за этими действиями. Нэнси чувствовала взгляд ее темных глаз на своем лице и поняла, что краснеет, румянец пополз от шеи к щекам.
— Будь осторожна, Нэнси, — сказала мать. — Не превышай скорости.
— Я всегда осторожна.
— Но сейчас ты расстроена.
Слезы навернулись на глаза Нэнси. Она уперлась взглядом в руль, прикусила губу.
— Конечно расстроена. Ничего нет ужаснее семейных скандалов!
— Семейные скандалы — это как несчастные случаи на дорогах. Каждая семья думает: «С нами этого не может случиться», — но случиться может со всеми. Единственный способ избежать их — это ехать с большой осторожностью и думать не только о себе.
— Ты нас неправильно поняла. Только о тебе мы и думаем, о твоем благе.
— Нет, Нэнси, это неправда. Вы хотите, чтобы я делала так, как хотите вы. Хотите, чтобы я продала картины моего отца и вручила вам деньги прежде, чем я умру. Но я сама решу, когда мне продавать картины. И я не собираюсь умирать. Пока не собираюсь. — Пенелопа отступила назад. — Ну ладно, поезжай.
Нэнси стерла с глаз непрошеные слезы, включила зажигание, взялась за ручной тормоз.
— И не забудь передать привет Джорджу.
Нэнси уехала. Пенелопа еще долго стояла на площадке перед домом. Шум мотора уже смолк в теплом покое сказочного весеннего дня, а она все стояла. Заметив росток крестовника, пробившийся между камешками, она вырвала его и отбросила в сторону, потом повернулась и вошла в дом.
Пенелопа одна. Благословенное одиночество! Кастрюли могут подождать. Пенелопа прошла в гостиную. Вечер обещал быть холодным, и она чиркнула спичкой, зажигая огонь в камине. Когда заплясали язычки пламени, поднялась с колен, подошла к письменному столу и отыскала вырванный из газеты клочок с объявлением аукциона «Бутби», к которому неделю назад Ноэль привлек ее внимание. «Пришло время звонить мистеру Рою Брукнеру», — сказала себе Пенелопа. Она положила клочок на середину стола, поставила на него тяжелое пресс-папье и возвратилась на кухню. Выдвинув ящик буфета, отыскала небольшой острый нож для чистки овощей, поднялась наверх. Ее спальня была залита золотистым светом. Лучи закатного солнца, протянувшись через западное окно, играли на серебряных вещицах на туалетном столике, отражались в зеркалах и стеклянных вазах. Пенелопа положила нож на туалетный столик и открыла дверцу большого старинного гардероба, еле втиснувшегося под скошенный потолок. Он был полон ее одежды. Она начала охапками вынимать вещи и класть их на кровать. Ей пришлось не один раз прогуляться туда-обратно, и вышитое покрывало на ее кровати скоро совсем скрылось под ворохом сваленной на него одежды. Спальня стала похожа на ларек на церковном благотворительном базаре или женскую раздевалку на каком-то веселом празднике.
Зато гардероб теперь был пуст, и открылась его задняя стенка. Много лет назад она была обклеена темными обоями с тиснением, под которыми виднелись вертикальные филенки, стянутые ремнями, — так в старину крепили остов мебели. Пенелопа взяла нож и, протянув руку в просторное нутро шкафа, пробежалась пальцами по неровной поверхности обоев, определяя границы заклеенного пространства. Она нащупала место, где кончались обои, вонзила туда нож и повела его вверх, точно вскрывая конверт. Она внимательно высчитывала размеры: два фута по вертикали, три по горизонтали и еще два фута вниз. Вырезанный с трех сторон прямоугольник осел и прогнулся вниз, открыв предмет, который был спрятан под ним последние двадцать пять лет, — потертую старую картонную папку, перевязанную тесемкой. Она была прикреплена к филенкам из красного дерева клейкой лентой.
Вечером Оливия позвонила Ноэлю:
— Как успехи?
— Все сделал.
— Нашел что-нибудь стоящее?
— Ровным счетом ничего.
— Бедняжка! — В голосе Оливии явно слышались насмешливые нотки, и Ноэль беззвучно ругнулся. — Не самое приятное занятие, и все безрезультатно. Ну ничего, не огорчайся. В следующий раз повезет больше. Понравилась тебе Антония?
— Недурна. Похоже, она положила глаз на садовника.
Он думал, что такая новость шокирует Оливию, но ничего подобного не произошло.
— Интересно! — сказала она. — А что он собой представляет?
— Странноватый парень.
— Странноватый? Ты хочешь сказать, чудак?
— Нет, я хочу сказать, именно странноватый. Как рыба, вынутая из воды. Он такой же садовник, как я герцог Эдинбургский. Из состоятельной семьи, получил отличное образование — и работает садовником! Как это прикажете понимать? Больше того — не водит машину и не пьет ни капли спиртного. И не улыбается. Нэнси убеждена, что тут кроется какая-то мрачная тайна, и на сей раз я склонен с ней согласиться.
— А как к нему относится мама?
— Ну, ей-то он, конечно, нравится. Можно подумать, она обрела нового родственника.
— В таком случае, я не стала бы беспокоиться. Мама не дурочка. Как она выглядит?
— Как обычно.
— У нее усталый вид?
— По-моему, ничуть.
— Ты говорил с ней об этюдах? Спросил ее?
— Не обмолвился ни единым словом. Если они когда-то и существовали, она, вероятно, забыла о них. Ты же знаешь, какая она рассеянная. — Ноэль помедлил, потом осторожно продолжал: — В воскресенье к ланчу приехала Нэнси. Начала повторять высказывания Джорджа насчет новой страховки и так далее. Ну и вышел небольшой скандал.
— Ах, Ноэль!
— Но ты же знаешь Нэнси. Бестактная дура.
— Мама расстроилась?
— Пожалуй, да. Я постарался все загладить. Но, думаю, к ней теперь уже и вовсе не подступиться с этими этюдами.
— Но это ее дело, они принадлежат ей! Спасибо тебе, что отвез Антонию.
— Не за что.
В понедельник, к тому времени как Пенелопа спустилась вниз, Данус был уже в огороде, готовил грядки под овощи. Потом подъехал почтальон в своем красном фургончике, затем, важно восседая на велосипеде, подкатила миссис Плэкетт с новостями: в Пудли распродажа хозяйственных товаров, почему бы миссис Килинг не приобрести себе новую лопату для угля? Они обсуждали эту проблему, когда появилась Антония, и Пенелопа представила ее миссис Плэкетт. Они обменялись любезностями и занялись делами. Миссис Плэкетт вынула из сумки фартук, взяла пылесос, пыльные тряпки и пошла наверх. В понедельник она убирала спальни. Антония начала поджаривать себе бекон на завтрак, а Пенелопа ушла в гостиную, закрыла дверь и села к письменному столу, где стоял телефон.
Было десять часов утра. Она набрала номер.
— Аукцион «Бутби», отдел изящных искусств. Чем могу служить?
— Могу я поговорить с мистером Роем Брукнером?
— Подождите минутку.
Пенелопа немного нервничала.
— У телефона Рой Брукнер. — Глубокий приятный голос интеллигентного человека.
— Доброе утро, мистер Брукнер. С вами говорит миссис Килинг, Пенелопа Килинг. Я звоню из моего дома в Глостершире. На прошлой неделе в «Санди таймс» я прочла объявление, что «Бутби» интересуется картинами викторианской школы. Там сообщались ваше имя и номер телефона.
— Да?
— Не случится ли вам оказаться поблизости от наших мест в ближайшее время?
— Вы хотели бы мне что-то показать?
— Да. Несколько работ Лоренса Стерна.
Небольшая пауза.
— Лоренса Стерна? — переспросил он.
— Да.
— Вы уверены, что они принадлежат кисти Лоренса Стерна?
Она улыбнулась:
— Да, совершенно уверена. Лоренс Стерн был моим отцом.
Еще одна пауза. Она представила, как мистер Брукнер достает записную книжку, отвинчивает колпачок с ручки.
— Могу я записать ваш адрес? — (Пенелопа продиктовала.) — Номер вашего телефона? — (Она сообщила и номер телефона.) — Сейчас проверю свое расписание… Если я приеду на этой неделе, не будет ли это слишком скоро?
— Чем скорее, тем лучше.
— В среду или в четверг?
Пенелопа быстро прикинула.
— Лучше в четверг.
— В какое время?
— Во второй половине дня. В два часа, чуть раньше, чуть позже.
— Превосходно. На этот день у меня еще один вызов, в Оксфорд; я съезжу туда утром, а потом к вам.
— Если вы поедете через Пудли, найти будет легко. Там есть дорожный указатель.
— Дорогу я найду, — заверил он Пенелопу. — Значит, четверг, два часа пополудни. И благодарю вас за звонок, миссис Килинг.
В ожидании приезда Роя Брукнера Пенелопа полила цикламены в оранжерее, обрезала отцветшие головки гераней, оборвала пожелтевшие листья. День был ветреный, с востока плыли большие облака, солнце то появлялось, то пряталось. Но раннее тепло сделало свое дело: в саду расцвели нарциссы, распускались первые примулы, липкие почки на каштане полопались, обнажив нежную зелень листочков.
Сегодня Пенелопа уделила больше внимания своей внешности, чем обычно, она оделась достаточно респектабельно и строго, под стать событию, и теперь занималась тем, что пыталась представить, как выглядит мистер Брукнер.
Данные о нем были более чем скудны: только имя и голос по телефону, и ей представлялся то молодой умник-студент с выпуклым лбом и красным галстуком-бабочкой, то пожилой, ученого вида господин, блестящий знаток живописи и эрудит. А может, это деловитый, шумный господин, который сыплет специальными терминами, и голова у него работает как счетная машина.
Как и следовало ожидать, он оказался ни тем, ни другим, ни третьим. Услышав в начале третьего стук захлопнувшейся дверцы машины и минуту спустя звонок в парадную дверь, Пенелопа поставила лейку и пошла через кухню встретить мистера Брукнера. Она отворила дверь и увидела его спину — он стоял, глядя вдаль, любуясь мирным деревенским пейзажем, но тут же обернулся. Очень высокий джентльмен с темными волосами, гладко зачесанными с высокого загорелого лба, темно-карими глазами за стеклами очков в тяжелой роговой оправе, с вежливым, внимательным взглядом. На нем был хорошо сшитый твидовый костюм, клетчатая рубашка, галстук в еле заметную полоску. Ему бы еще котелок и полевой бинокль, и он бы украсил своей персоной трибуну самых престижных скачек.
— Миссис Килинг?
— Да. Мистер Брукнер? Добрый день!
Они пожали друг другу руки.
— Какие дивные у вас тут места! И прелестный дом!
— Но войти в него вам придется через кухню. Прихожей просто нет… — Пенелопа пошла впереди него, и он немедленно приметил дверь на противоположном конце кухни, ведущую в оранжерею, полную солнечного света и зелени.
— Я не стал бы сожалеть о прихожей, будь у меня такая красивая кухня… и такая оранжерея.
— Оранжерею я построила сама, а в остальном дом остался таким, каким я его купила.
— Давно вы в нем живете?
— Шесть лет.
— Вы живете одна?
— Большую часть времени одна. Но на этой неделе у меня гостит молодая девушка. Сейчас они вместе с садовником уехали в Оксфорд… Повезли в багажнике газонокосилку, надо ее поточить.
Брукнер бросил на нее удивленный взгляд:
— Для того чтобы поточить косилку, вам приходится ездить в Оксфорд?
— Обычно нет, но я не хотела, чтобы они были здесь, когда вы приедете, — прямо ответила Пенелопа. — К тому же надо еще купить семена и кое-какой инвентарь для огорода, так что поездка не впустую. Выпьете кофе?..
— Спасибо, нет.
— Ну что ж…
Он не проявлял нетерпения и, казалось, готов был продолжать разговор ни о чем.
— В таком случае не будем зря тратить время. Может быть, сначала вы взглянете на панно? Они наверху.
— Как скажете.
Она вывела его из кухни, и по узкой лестнице они поднялись на площадку второго этажа.
— …Вот они, висят по обе стороны от двери в мою спальню. Последние работы моего отца. Не знаю, известно ли вам, но он тяжко страдал от артрита. К тому времени, когда создавались эти панно, он уже едва держал кисть, и, как видите, так и не закончил работу. — Пенелопа отступила в сторону, освобождая мистеру Брукнеру место для обозрения. Он подошел поближе, потом отступил назад — осторожно, чтобы не свалиться вниз, — снова подошел поближе. Не произнося ни слова. Может, панно ему не нравятся? Пенелопа начинала нервничать и, чтобы скрыть это, снова заговорила: — Задуманы они были по смешному поводу. У нас был небольшой дом в Порткеррисе, на вершине холма, но денег на ремонт никогда не хватало, и он пришел в полное запустение. Холл был оклеен моррисовскими обоями, они истерлись и поблекли, но мама не могла себе позволить сменить их и попросила папу нарисовать два длинных декоративных панно, чтоб закрыть потертые места. Ей хотелось чего-нибудь в его прежнем стиле, сказочно-аллегорического, чтобы оставить потом панно себе. Папа́ исполнил ее просьбу, и вот что получилось. Довести работу до конца он не смог. Хотя Софи, так звали мою мать, не была в претензии. Она сказала, что так они даже ей больше нравятся…
Мистер Брукнер по-прежнему не произносил ни слова. Может, он собирается с силами, чтобы сказать ей, что панно ничего не стоят, подумала Пенелопа, и в этот момент он обернулся.
— Вы говорите, миссис Килинг, что они не закончены, — с улыбкой сказал он, — а между тем, они совершенны! Может быть, не выписаны до тонкостей в деталях, не отличаются тщательностью отделки, как знаменитые картины Стерна, которые он выставлял на рубеже веков, но они прекрасны. И какой он потрясающий колорист! Посмотрите, какой удивительной голубизны небо!
Пенелопа преисполнилась благодарности.
— Я так рада, что панно вам понравились! Мои дети либо их вовсе не замечали, либо отпускали довольно едкие замечания на их счет, но мне эти панно всегда доставляли большую радость.
— Они и должны доставлять радость. — Мистер Брукнер повернулся к ней. — Вы хотите показать мне еще что-то или это все?
— Нет, не все. Остальное внизу.
— Вы разрешите посмотреть?
— Безусловно.
Они спустились вниз и прошли в гостиную. Взгляд Роя Брукнера сразу же упал на «Собирателей ракушек». Пенелопа заранее, еще до его приезда, включила лампочку, ярко освещавшую картину, и сейчас она показалась Пенелопе еще прекраснее, чем обычно, — пронизанной ясным светом и прохладой, как и тот день, который был на ней изображен.
Мистер Брукнер не отрывал от нее глаз.
— Я не знал о существовании этой картины, — сказал он наконец.
— Она никогда не выставлялась.
— Когда она написана?
— В тысяча девятьсот двадцать седьмом году. Папина последняя большая картина. Северный берег в Порткеррисе папа писал, сидя у окна студии. А одна из этих девочек — я. Картина называется «Собиратели ракушек». Папа́ подарил мне ее на свадьбу. Это было сорок четыре года тому назад.
— Замечательный подарок! Поистине драгоценный. Но ее вы продавать не собираетесь? Я не ошибся?
— Нет, эту картину я не продаю. Но мне хотелось показать ее вам.
— Я счастлив, что увидел ее.
Он снова перевел взгляд на картину. Немного погодя Пенелопа поняла: он ждет, что еще она ему покажет.
— Боюсь, это все, мистер Брукнер. Если не считать нескольких этюдов.
Он отвел взгляд от картины.
— Нескольких этюдов?
— Кисти моего отца.
Он ждал, что она скажет еще, и, не дождавшись, спросил:
— Вы мне разрешите на них взглянуть?
— Не уверена, что они имеют какую-то ценность и заинтересуют вас.
— Ничего не могу вам ответить, пока не увижу.
— Да-да, конечно. — Пенелопа опустила руку за диван и достала оттуда перевязанную тесемкой папку. — Вот они.
Мистер Брукнер взял папку у нее из рук и опустился в широкое викторианское кресло. Он положил папку на ковер у своих ног и длинными чуткими пальцами развязал тесемку.
За долгие годы работы экспертом Рой Брукнер приобрел своеобразный иммунитет и одинаково спокойно относился как к удачным, так и к неудачным своим визитам. Он привык даже к самым кошмарным поворотам. Классической такого рода была история, приключившаяся с маленькой старой леди, которая в один прекрасный день — быть может, впервые в своей жизни — обнаружила, что ей не хватает денег, и решила продать свои наиболее ценные сокровища. Фирма «Бутби» была извещена о ее намерениях, Рой Брукнер договорился о встрече и проделал довольно долгий путь, чтобы увидеть сокровища. А в конце дня ему пришлось исполнить пренеприятную обязанность — сообщить леди, что картина не принадлежит кисти Лансира, китайская ваза никоим образом не эпохи Миня, а печать из слоновой кости, которая, как полагала леди, принадлежала Екатерине Медичи, никак не могла ей принадлежать, поскольку изготовлена в конце девятнадцатого века; и, таким образом, все эти вещи не представляют никакой ценности.
Миссис Килинг — не маленькая старая леди, и она — дочь Лоренса Стерна, но, даже имея в виду это обстоятельство, Рой Брукнер открывал папку без особых надежд. Он не представлял, что может там найти, но то, что обнаружил, было столь поразительно, что он не поверил своим глазам.
Этюды, сказала Пенелопа Килинг, но она не уточнила какие. Это были этюды, написанные маслом, на холстах с неровными краями, с тронутыми ржавчиной вмятинами от кнопок, которыми их прикалывали к подрамникам. Один за другим, не спеша, мистер Брукнер брал их, в полном изумлении рассматривал и откладывал в сторону. Краски не поблекли, этюды были легко узнаваемы. С нарастающим волнением он стал составлять в уме список: «Душа весны», «Свидание», «У источника», «Морской бог», «Террасные сады»…
Точно гость во время обильного пиршества, мистер Брукнер почувствовал, что уже насытился, и остановился. Он сидел все так же, на краю кресла, спокойно опустив руки между колен. Стоя возле камина, Пенелопа Килинг ждала его суждения. Он поднял голову и посмотрел на нее. Мгновение-другое они молчали. Но выражение его лица сказало ей все, о чем она хотела узнать. Пенелопа улыбнулась, улыбка зажгла ее темные глаза, и на какое-то мгновение Рой Брукнер увидел ее такой, какой она была когда-то — прелестной молодой женщиной. Словно и не было всех прожитых лет. И он подумал вдруг, что если бы они встретились тогда, в молодости, то, наверное, влюбился бы в нее.
— Откуда они взялись? — спросил он.
— Двадцать пять лет пролежали в моем платяном шкафу.
Он нахмурился:
— Но где вы их нашли?
— В мастерской отца, в саду нашего дома на Оукли-стрит.
— Кто-нибудь еще знает об их существовании?
— Не думаю. Мне только кажется, что мой сын Ноэль начал подозревать об их существовании. Что его на это натолкнуло — не знаю. Но я не уверена…
— Почему вам так показалось?
— Он их искал, перерыл весь чердак. И очень разозлился, когда ничего не нашел. Но искал он явно что-то определенное, в этом я не сомневаюсь. Видимо, эти этюды.
— Скорее всего, он представляет, сколько они могут стоить. — Мистер Брукнер взял следующий холст. — «Сад в Аморетте». — Сколько всего этюдов?
— Четырнадцать.
— Они застрахованы?
— Нет.
— Потому вы их и спрятали?
— Нет. Я спрятала их от Амброза, не хотела, чтобы он их нашел.
— Амброз?
— Мой муж… — Пенелопа вздохнула. Улыбка погасла, и вместе с ней погас тот трепетный отсвет юности. Она снова выглядела соответственно возрасту, красивая седая женщина, которой за шестьдесят и которая устала стоять. Она отошла от камина и села в уголок дивана, положив руку на спинку. — Понимаете ли, у нас никогда не было денег. В том и был корень зла.
— Вы с мужем жили на Оукли-стрит?
— Да, после войны. Войну я провела в Корнуолле, с маленькой дочерью на руках. Потом в Лондоне во время налета погибла Софи, это моя мать, и мне надо было ухаживать и за отцом тоже. И он отдал мне дом на Оукли-стрит… и… — Она безнадежно покачала головой и засмеялась. — Да разве расскажешь в двух словах. Вы ничего не поймете.
— Начните сначала и рассказывайте все по порядку.
— Это займет весь день.
— Я не спешу.
— Ах, мистер Брукнер, боюсь, вам будет скучно все это слушать.
— Вы — дочь Лоренса Стерна, — сказал он ей. — Вы можете прочитать мне телефонную книгу от корки до корки, и я буду слушать как завороженный.
— Какой вы милый человек! Ну что ж, тогда…
В 1945 году моему отцу было восемьдесят, мне — двадцать пять. Я была замужем за лейтенантом военно-морского флота, и у меня была годовалая дочь. Какое-то время я прослужила в женских вспомогательных частях на флоте, очень недолго, там и встретила Амброза. Когда я поняла, что у меня будет ребенок, я уволилась и уехала домой в Порткеррис. Там и жила до конца войны. За те годы я всего раз или два виделась с Амброзом. Он все время где-то плавал, сначала в Атлантике, потом на Средиземном море, а под конец войны на Дальнем Востоке. Должна признаться, меня это не слишком огорчало. У нас с ним был, как это обычно называют, военный роман, а такие отношения чаще всего не выдерживают испытания мирным временем. Но со мной находился папа́. Человек он был необычайно энергичный и очень молодо выглядел, но гибель Софи сломила его, он постарел у меня на глазах, и я не могла его оставить одного. Кончилась война, и все изменилось. Мужчины вернулись домой, и папа́ сказал, что пора и мне возвращаться к мужу. Должна признаться, я этого не хотела, вот тогда-то отец сообщил, что передал мне в собственность дом на Оукли-стрит, чтобы у меня всегда было где жить и я ни от кого не зависела и чтоб дети мои были обеспечены. После этого мне волей-неволей пришлось переехать в Лондон, и мы с Нэнси навсегда покинули Порткеррис. Папа́ провожал нас на вокзале, и это тоже было последнее прощание — больше я его не увидела, он умер на следующий год.
Дом на Оукли-стрит был очень большой. Настолько большой, что папа́, Софи и я жили всегда внизу, а верхние этажи сдавали жильцам, что давало нам возможность содержать и ремонтировать дом. Я не стала нарушать заведенный порядок. Супружеская пара, Вилли и Лала Фридман, прожили в доме всю войну. Они так и остались у нас. У них была маленькая дочь, она составила компанию Нэнси. Фридманы были постоянные жильцы. Остальные сменялись, приходили и уходили. По большей части это были художники, писатели, молодые люди, пытавшиеся пробиться на телевидение. Люди моего круга, но совершенно чуждые Амброзу.
Потом приехал Амброз. Не только приехал, но и демобилизовался из флота и стал работать в издательстве «Килинг и Филипс» в Сент-Джеймсе, в старинной фирме своего отца. Я очень удивилась, когда он рассказал мне об этом, но решила, что, если думать о будущем, он поступил правильно. Только потом я узнала, что он испортил свою военную карьеру — восстановил против себя капитана, и тот дал ему плохую характеристику. Останься он на флоте, далеко бы не продвинулся.
Теперь мы жили вместе. Я бы не сказала, что мы были вполне обеспечены, но все же жили богаче, чем большинство молодых пар. Мы были молоды, на здоровье не жаловались. Амброз работал в издательстве, и у нас был свой дом. Но и только. Кроме этого, у нас не было ничего — нам не на чем было строить наши отношения. Амброз тянулся к светской жизни, я бы даже сказала, он был сноб… считал, что надо заводить нужные знакомства, носился со всякими идеями на этот счет. Меня же ни светская жизнь, ни нужные люди не интересовали. Он считал меня оригиналкой, сетовал, что на меня нельзя положиться. Все, что казалось Амброзу важным, мне казалось тривиальным, я не могла разделять его амбиции. И потом этот вечный вопрос — деньги. Амброз не давал мне ни шиллинга. Вероятно, он полагал, что у меня есть свои средства, которые, впрочем, действительно были, но мне постоянно не хватало наличных денег. Когда я жила с родителями, в нашей семье не принято было вести разговоры о деньгах — без них, конечно, не обойдешься и хорошо их иметь, но говорить о них считалось неинтересным занятием. Во время войны я получала денежное пособие от морского ведомства. Папа́ каждый месяц добавлял мне немного и оплачивал счета, но в то время деньги не на что было тратить: мы донашивали старые вещи, и никто не обращал на это внимания.
Но жизнь в Лондоне, с Амброзом, — это было другое. Родилась моя вторая дочь, Оливия, в семье прибавился еще один рот. В добавление ко всему наш старый дом требовал немедленного ремонта. Слава богу, бомба в него не попала, но он дал трещины и, можно сказать, разваливался на части. Его надо было связать, починить крышу. Водопровод, отопление — все нуждалось в починке, и, конечно же, надо было сменить обои, покрасить кухню и прочее. Когда я заговорила о ремонте с Амброзом, он ответил, что дом — мой, мне о нем и заботиться. Кончилось тем, что я продала четыре картины Шарля Ренье — они принадлежали папе, но я их очень любила, — и на вырученные деньги сделала самый необходимый ремонт. Теперь хоть крыша не протекала и я не сходила с ума от страха, что дети сунут пальцы в развалившиеся розетки и их убьет током.
В довершение всего в Лондон возвратилась мать Амброза Долли Килинг, которая всю войну пряталась от бомбежек в Девоне. Она поселилась в небольшом доме на Линкольн-стрит, и на следующий же день начались неприятности. Меня она невзлюбила с самого начала, и я не была к ней в претензии. Она не могла простить мне, что я забеременела, тем самым, как она считала, поймав Амброза в ловушку. Он был ее единственным ребенком, и она считала, что он принадлежит ей одной. Теперь мне стало казаться, что я взяла в дом чужого пса — такой, едва приотворишь дверь, стремглав несется к прежним хозяевам. Амброз несся к своей мамочке. Он заглядывал к ней по дороге домой после службы выпить чашку чаю и утешиться ее сочувствием. По субботам с утра ходил с ней по магазинам, в воскресенье вез в церковь. Каждое воскресенье! Этого было достаточно, чтобы на всю жизнь отвратить меня от хождения в церковь.
Бедняге Амброзу было не так-то легко разрываться надвое! Долли давала ему то, чего не могла дать я, — она льстила ему, внимательно его выслушивала. К тому же дом на Оукли-стрит был не самым тихим на свете местом. Я любила общаться со своими друзьями, а с Лалой Фридман мы, можно сказать, были неразлучны. И я любила детей. Я любила, чтобы в доме было много детей. Не только Нэнси, но все ее школьные друзья. В хорошую погоду они носились по саду, лазили по канатам, прятались в картонных коробках. Приходили не только сами ребята, но и их матери, приходили и уходили, сидели на кухне, пили кофе, вели разговоры. И все время что-то кипело, стучала швейная машинка, пеклись лепешки к чаю, на полу валялись игрушки.
Амброз не мог этого выносить. «Этот бедлам действует мне на нервы», — говорил он и все чаще высказывал сожаление, что живем мы слишком тесно, хотя дом принадлежит нам. «Не выставить ли нам жильцов, — говорил он, — тогда можно будет приглашать гостей и обедать в большой столовой, а в гостиной пить коктейли. Спальня, гардеробная, ванная — все будет рядом, и пользоваться ими будем только мы одни». Терпение у меня лопнуло, и я спросила: на что же мы будем жить, если не держать жильцов? Он надулся, молчал три недели и все больше времени проводил у мамочки.
Наши отношения ухудшались день ото дня. Деньги — это была больная тема, мы все время ссорились из-за них. Я даже не знала, сколько он зарабатывает, не могла твердо рассчитывать на зарплату и контролировать его. Но должен ведь он что-то зарабатывать, куда же уходят деньги? — спрашивала я себя. Что он, угощает друзей, платит за выпивку? Или тратит все на бензин — мать отдала ему свой маленький автомобиль? Или покупает костюмы? — он был большой модник. Я терялась в догадках. Мне стало любопытно, я решила во что бы то ни стало узнать, в чем дело, и начала действовать. Нашла выписку из его банковского счета и обнаружила, что он на тысячу фунтов его превысил. Я была такой наивной простушкой, что в конце концов предположила, что он завел себе любовницу, покупает ей норковые шубы и снимает ей квартиру в фешенебельном районе.
В конце концов Амброз открылся сам. Ему пришлось открыться. Он задолжал пятьсот фунтов букмекеру и должен был в течение недели выплатить долг. Я в это время варила гороховый суп, мешала ложкой в большой кастрюле, чтобы горох не пристал ко дну, я спросила его, давно ли он играет на скачках. «Три-четыре года», — сказал он. Задала ему еще несколько вопросов, и все стало ясно. Он втянулся в игру и уже ничего не мог с собой поделать. Играл в частных игорных клубах, делал крупные ставки и проигрывал. А я совершенно ни о чем не догадывалась, мне и в голову не приходило, что он играет на скачках. Но теперь он сам признался. Ему, разумеется, было стыдно, но он оказался в отчаянном положении, ему любым способом нужно было раздобыть денег.
«У меня их нет, попроси у матери», — сказала я ему, но он ответил, что она ему уже помогала раньше и он больше не может к ней обращаться. И вот тут он сказал: «А почему бы нам не продать три картины Лоренса Стерна?» Три картины — это было все, что осталось у меня из работ отца. Теперь испугалась я, и не меньше, чем Амброз; я знала, на что способен этот человек. Он мог просто выждать, когда никого не будет дома, снять картины и отвезти их на продажу. «Собиратели ракушек» были не только самой большой ценностью, которую я имела, эта картина помогала мне выстоять: я успокаивалась, когда смотрела на нее, она приносила мне утешение. Я не смогла бы без нее жить, и Амброз знал об этом. Я сказала ему, что добуду пятьсот фунтов, и добыла: продала свое обручальное кольцо и обручальное кольцо моей матери. После этого он повеселел, к нему вернулись его обычные самоуверенность и беспечность. Какое-то время он не играл вовсе, как видно, перепугался не на шутку, но перерыв был небольшим, все началось сначала, и мы вернулись к прежней жизни — еле сводили концы с концами.
Потом, в 1955-м, родился Ноэль, и к тому же прибавилась еще одна статья расходов, довольно солидная, — начали поступать школьные счета. У меня еще был Карн-коттедж — небольшой дом в Корнуолле. После смерти папы он принадлежал мне, и я долго не хотела с ним расставаться, сдавала его, если находились желающие, и все говорила себе: настанет день, когда я возьму детей и мы поедем на лето в Порткеррис. Но мы так и не собрались. И тут вдруг я получила замечательное предложение, слишком хорошее, чтобы от него отказываться, и продала дом. Порвалось последнее звено — Порткеррис ушел навсегда. Когда я продала дом и на Оукли-стрит, я задумала вернуться в Корнуолл. Мечтала купить маленький каменный коттедж с пальмой в саду. Но вмешались мои дети и отговорили меня. В результате зять подыскал мне этот дом, «Подмор Тэтч», и я проведу остаток жизни в Глостершире. Не буду ни видеть, ни слышать моря.
Говорю, говорю, но так и не добралась до главного — не рассказала вам, как я нашла этюды.
— Они были в мастерской отца?
— Да, они были там спрятаны. У каждого художника остается что-то, о чем он просто забывает.
— Когда это случилось? Когда вы нашли их?
Ноэлю исполнилось четыре года, и мы заняли еще две комнаты — потомство росло и требовало жизненного пространства. Но жильцы оставались, они занимали остальные комнаты. Однажды в дверь позвонил молодой человек, как выяснилось, студент художественного училища. Высокий, худой, бедно одетый и очень славный. Кто-то отправил его ко мне — он прошел по конкурсу в Школу Слейда[20], а жить ему было негде. У меня не было ни одного свободного угла, но он мне понравился. Я пригласила его в дом, накормила и напоила, и мы хорошо поговорили. К тому времени, как он собрался уходить, я прониклась к нему такой симпатией, что просто не могла не помочь. Я вспомнила о папиной мастерской. Это был деревянный домик в саду, но построенный основательно, и крыша там не протекала. Парень сможет в нем и спать, и работать; завтраком я его буду кормить, а принимать ванну и стирать он будет в большом доме. Я предложила ему такой вариант, и он ужасно обрадовался. Я тут же отыскала ключ, и мы отправились смотреть мастерскую. Там были старые тахты и комоды, покрытые слоем пыли, повсюду лежали кисти, палитры, стояли стеллажи с холстами, но сам домик был в порядке, не протекал, как я и надеялась; часть крыши с северной стороны была застеклена, что еще больше привлекло молодого художника.
Мы договорились о плате и о дне, когда он сможет переехать. Юноша ушел, а я принялась за работу. За один день там было не управиться. Кто-то из моих друзей прислал мне на помощь старьевщика, который понемногу грузил старый хлам на тележку и увозил; помнится, ему пришлось совершить несколько таких поездок. А когда он отправился с грузом в последний раз, у задней стены мастерской, за старым сундучком, я и нашла эти этюды. Я сразу поняла, какая это замечательная находка, но не представляла, сколько они могут стоить. В те годы Лоренс Стерн еще не вошел в моду, и, если бы его картину выставили на продажу, более пятисот или шестисот фунтов, я думаю, за нее бы не дали. Для меня же это был словно подарок из прошлого, ведь у меня почти совсем не было картин отца. Но тут же мне в голову пришла другая мысль: если Амброз узнает об этих этюдах, он немедленно начнет приставать ко мне, чтобы я их продала. Поэтому я принесла их в мою спальню и поставила папку к задней стенке гардероба, а потом нашла кусок обоев и заклеила ими папку. Там они и хранились все эти годы. До последнего воскресенья. В воскресенье я поняла, что пришло время извлечь их на свет божий и показать вам.
— Ну вот и все. — Пенелопа взглянула на часы. — Я вас совсем заговорила, прошу прощения. У вас еще есть время, чтобы выпить чашку чаю?
— Времени у меня достаточно. И мне очень хочется послушать вас еще. — (Пенелопа вопросительно вскинула брови.) — Простите за любопытство и не сочтите меня нахалом, но ваш брак… все продолжалось в том же духе? Что стало с Амброзом?
— С моим мужем? Он ушел от меня…
— Ушел от вас?
— Да. — К удивлению мистера Брукнера, лицо Пенелопы осветилось веселой улыбкой. — К своей секретарше!
Вскоре после того, как я обнаружила этюды и спрятала их, ушла на пенсию мисс Уилсон, старая секретарша, проработавшая в издательстве «Килинг и Филипс» целый век, и ее место заняла молодая хорошенькая девушка Дельфина Хардейкер. К мисс Уилсон всегда обращались почтительно, ей говорили «мисс Уилсон», Дельфину же все называли просто по имени. Однажды Амброз сообщил мне, что едет по делам в Глазго. Отсутствовал он неделю. Позднее я узнала, что в Глазго он даже не заглянул — он ездил с Дельфиной в Хаддерсфилд, знакомиться с ее родителями. Отец у нее, судя по всему, был очень богат, он работал в какой-то машиностроительной компании. Даже если он и считал, что Амброз несколько староват, его, очевидно, вполне устраивало, что дочь подыскала себе респектабельного мужчину, который боготворит ее. Вскоре после этой поездки Амброз, придя со службы, объявил, что уходит от меня. Мы были в спальне, я только что вымыла голову и, сидя перед зеркалом, расчесывала волосы, а он сидел на постели за моей спиной, и весь разговор велся через зеркало. Амброз сказал, что полюбил Дельфину. Она дала ему все, что не сумела дать я. Он хочет развестись. Как только Амброз получит развод, он женится на ней, а пока что уходит из издательства «Килинг и Филипс», как и Дельфина, и они уезжают на север, в Йоркшир, где и будут жить, поскольку отец Дельфины предложил ему хорошее место в своей компании.
Надо отдать справедливость Амброзу — когда он хотел, он работал хорошо: был точен, аккуратен, и все у него ладилось. Мне нечего было ему возразить, да я и не хотела. Я ничего не имела против того, чтобы он ушел и с работы, и от меня. Одной мне будет лучше, это я знала. У меня был дом, дети. Я согласилась сразу же, не возразив ни единым словом. Он поднялся с постели и пошел вниз, а я продолжала расчесывать волосы, и на душе у меня было хорошо и спокойно.
Несколько дней спустя явилась его матушка — не для того, чтобы посочувствовать мне, хотя должна признать, она и не упрекала меня, она лишь хотела выяснить, буду ли я позволять детям видеться с ней и с Амброзом. Я ответила ей, что дети — не моя собственность и я не могу заставлять их видеться с кем-то или запрещать видеться. Они вправе поступать как хотят и видеться с кем хотят, а я никогда не буду им в этом препятствовать. У Долли, видимо, на душе полегчало. Оливии и Ноэлю она не очень-то уделяла внимание, но Нэнси обожала, и та ее тоже очень любила. Они одинакового склада ума, бабушка и внучка, и всегда хорошо понимали друг друга. Когда Нэнси выходила замуж, Долли устроила ей в Лондоне пышную свадьбу, и Амброз приехал из Хаддерсфилда, чтобы подвести дочь к алтарю. Тогда мы с ним увиделись в первый и в последний раз после развода. Он изменился даже внешне — теперь у него был вид преуспевающего господина. Очень поправился, начал седеть, а лицо стало красного цвета. Помню, в тот день, глядя на него, — он зачем-то выпустил золотую цепочку из жилетного кармана, — я подумала: типичный бизнесмен с севера, который всю жизнь только тем и занимается, что делает деньги. После свадьбы Амброз вернулся в Хаддерсфилд, и больше я его не видела. Он умер лет пять спустя, еще относительно молодым человеком. Бедная Долли Килинг пережила его на много лет, но так и не оправилась от этого ужасного удара. Мне тоже было его очень жаль. Мне казалось, что с Дельфиной он зажил наконец-то той жизнью, к которой всегда стремился. Я написала ей, но она мне не ответила. Возможно, не захотела принять мое сочувствие, сочла это за бестактность с моей стороны. А может быть, просто не нашла, что ответить.
— Ну а теперь уж я непременно пойду приготовлю чай, и не думайте возражать! — Пенелопа поднялась, поправила черепаховую шпильку, которая держала узел волос. — Ничего, если я вас оставлю на несколько минут? Вам не холодно? Может быть, зажечь камин?
Мистер Брукнер заверил ее, что ему вполне тепло, что камин разжигать не надо, и, когда она ушла, снова обратился к этюдам.
Пенелопа налила чайник и поставила его на огонь. Ей было спокойно и хорошо, как в тот летний вечер, когда она расчесывала волосы, а Амброз в зеркале говорил, что уходит от нее навсегда. Наверное, такое чувство приносит католикам исповедь — очищение, освобождение, прощение. Она была благодарна Рою Брукнеру, что он выслушал ее, и была благодарна судьбе за то, что фирма прислала к ней не просто специалиста, знатока своего дела, но и внимательного, доброго человека.
За чаем с коврижкой они снова заговорили о деле. Мистер Брукнер сказал, что панно будут выставлены на продажу, что же касается этюдов, то он сейчас их перепишет и отвезет в Лондон для оценки. «Собиратели ракушек»? Они пока что останутся здесь, над камином в гостиной дома в «Подмор Тэтч».
— Продажа панно — это только вопрос времени, — говорил он. — Вы, очевидно, знаете, что наша фирма недавно провела большую распродажу картин, написанных в викторианской манере, и другой такой распродажи в ближайшие шесть месяцев не предвидится. Во всяком случае, в Лондоне. Может быть, мы сможем продать этюды в нашем нью-йоркском филиале, но для этого я должен выяснить, когда там намереваются провести следующий аукцион.
— Шесть месяцев? Мне не хотелось бы ждать шесть месяцев. Я хочу продать их как можно скорее.
Он улыбнулся. Но ведь она ждала так долго!
— А если продать их частному лицу, вас это устроит? Без аукциона этюды могут несколько проиграть в цене. Готовы ли вы рискнуть?
— А вы сумеете найти мне частного покупателя?
— Есть один коллекционер из Филадельфии. Он приехал в Лондон с твердым намерением сражаться за картину «У источника», но денверский Музей изящных искусств обошел его. Он был ужасно огорчен. У него нет работ Лоренса Стерна, а на аукционах они появляются редко.
— Он еще в Лондоне?
— Не уверен, но могу узнать. Он останавливался в «Конноте»[21].
— Вы считаете, он захочет приобрести панно?
— Уверен, что захочет. Но конечно же, сначала надо выяснить, сколько он намерен заплатить.
— Вы сможете с ним связаться?
— Наверняка.
— А этюды?
— Это решать вам. Но стоило бы несколько месяцев подождать, прежде чем выставлять их на продажу… мы должны объявить о них, заинтересовать наших клиентов и публику, а на все это понадобится время.
— Понимаю. Может быть, с этюдами действительно стоит подождать.
Они обо всем договорились. Рой Брукнер немедленно стал составлять список этюдов. Потом он вручил Пенелопе расписку, бережно сложил этюды в папку и завязал тесемки. После этого Пенелопа снова отвела его наверх, и он осторожно снял панно. На стенах по обе стороны от двери в спальню остались лишь паутина и длинные полосы невыцветших обоев.
На площадке перед домом все было уложено в его вместительную машину: этюды он поместил в багажник, а панно, аккуратно обернутые в клетчатый плед, — на заднее сиденье. Еще раз проверив, хорошо ли все закрепил, Рой Брукнер захлопнул заднюю дверцу машины и повернулся к Пенелопе:
— Мне очень приятно было посетить ваш дом, миссис Килинг. И спасибо за картины.
Они пожали друг другу руки.
— А мне приятно было познакомиться с вами, мистер Брукнер. Надеюсь, я не наскучила вам своей исповедью…
— Напротив, мне еще никогда не было так интересно. Как только я что-то выясню, я вам тут же сообщу.
— Спасибо. До свидания. Доброго вам пути!
— До свидания, миссис Килинг.
Он позвонил на следующий день:
— Миссис Килинг? Говорит Рой Брукнер.
— Слушаю вас, мистер Брукнер.
— Американец, о котором я вам говорил, мистер Лоуэлл Ардуэй, уехал из Лондона. Я позвонил в «Коннот», и там сказали, что он уехал в Женеву. Он говорил мне, что из Швейцарии намеревается вернуться в Соединенные Штаты, но мне дали его швейцарский адрес, и сегодня я отправил ему письмо, в котором сообщил о панно. Уверен, узнав о них, он вернется в Лондон, чтобы посмотреть их, но, может быть, недельку-другую нам придется подождать.
— Это не страшно. Я только не могу ждать шесть месяцев.
— Уверяю вас, этого не случится. Что же касается этюдов, я показал их мистеру Бутби, и он проявил к ним большой интерес. Надо сказать, это редчайшая находка, у нас давно не было ничего подобного.
— Можете ли вы… — Удобно ли спросить его? — Представляете ли вы, сколько они могут стоить?
— По моей оценке, не менее пяти тысяч фунтов каждый.
Пять тысяч фунтов! Каждый! Положив телефонную трубку, Пенелопа растерянно остановилась посреди кухни, пытаясь понять, что же это будет за сумма. Пять тысяч помножить на четырнадцать… нет, в уме не сосчитаешь. Она отыскала карандаш и начала умножать на каком-то клочке бумаги. Получилось семьдесят тысяч фунтов. Коленки у Пенелопы вдруг подогнулись, она шагнула к стулу и опустилась на него.
Ее поразило не богатство, которое вдруг замаячило перед ней, а то, как все произошло. Решение вызвать мистера Брукнера и показать ему этюды и панно изменит теперь ее жизнь. Все так просто, но неужели это правда? Две незаконченные картины Лоренса Стерна, которые она очень любила, хотя сам отец не придавал им никакого значения, теперь у «Бутби», ждут приезда американского миллионера! А этюды, которые были спрятаны в гардеробе и пролежали там столько лет, что она про них и забыла, оказывается, стоят семьдесят тысяч фунтов! Целое состояние! Это все равно что выиграть кучу денег на тотализаторе. Ей вспомнилась молодая женщина, которой как раз и выпала такая удача: Пенелопа в изумлении наблюдала по телевизору, как та лила себе на голову шампанское и кричала: «Тратить, тратить, тратить!»
Сценка из какой-то безумной сказки! А вот теперь и она оказалась почти в такой же ситуации, причем — что удивительно — не испытывает ни особого потрясения, ни особого восторга. Только благодарность за нежданный дар судьбы. Самый большой дар, который родители могут принести своим детям, это их, родителей, самостоятельность. Так она сказала Ноэлю и Нэнси, и это сущая правда. Обеспеченность — это свобода, а свобода — самое ценное в жизни. К тому же теперь она может и побаловать себя, позволить себе какие-то удовольствия.
Вот только какие? Бросаться деньгами Пенелопа не умела — жизнь с Амброзом приучила ее к экономии, много лет она еле сводила концы с концами. Она не роптала и не завидовала богатству других, просто была благодарна судьбе за то, что та предоставила ей возможность дать образование детям и при этом самой удержаться на плаву. До продажи дома на Оукли-стрит Пенелопа и думать не могла, что у нее будут какие-то накопления, и, как только деньги появились, без промедления вложила их в ценные бумаги. Они стали приносить скромный доход, который она тратила на то, что ей доставляло удовольствие: на вкусную еду, на вино, на обеды с друзьями, на подарки — она любила делать подарки и денег на них не жалела — и, конечно же, на сад.
Теперь, если она захочет, то сможет отремонтировать дом, обновить его от пола до потолка. Все, что у нее есть, давно пора сдавать в утиль, но Пенелопа любила свои вещи. Обшарпанному «вольво» восемь лет, к тому же она купила его подержанным. Положим, она сможет расщедриться на «роллс-ройс», но чем плох «вольво»? К тому же нагружать «роллс-ройс» пакетами с торфом и горшками с рассадой просто кощунственно.
Покупать наряды? Но нарядами Пенелопа никогда не интересовалась, война и послевоенные годы отучили ее думать о нарядах. Большая часть ее любимых вещей была приобретена на церковной ярмарке в Пудли, и вот уже сорок зим ее согревает плащ морского офицера. Денег на норковую шубу у нее хватило бы и раньше, но она ее не купила и никогда не купит — для нее было бы кощунством носить на себе шкурки прелестных пушистых зверьков, которых убили ради этой шубки. Да и куда ходить в деревне в норковой шубке? До почты за газетами? Люди подумают, что она свихнулась.
Путешествовать? Но ей шестьдесят четыре, и похвалиться здоровьем она, увы, не может, надо смотреть правде в глаза, так что о дальних путешествиях придется забыть. Дни неспешных поездок «Голубого экспресса» и почтовых пароходов миновали, а шикарные иностранные аэропорты и лайнеры, с быстротой звука несущиеся в космическом пространстве, Пенелопу не очень-то привлекали.
Нет, ни то, ни другое, ни третье ее не интересует. Поэтому пока что она ничего в своей жизни менять не будет и никому ни о чем не расскажет. К счастью, о визите мистера Брукнера ни одна душа не знает, так что, пока он не позвонит, она будет продолжать жить, как будто ничего не случилось.
Пенелопа сказала себе, что и думать о нем не будет, но из этого ничего не получилось. Каждый день она ждала от него известия. Бросалась к телефону, едва раздавался звонок, точно влюбленная девчонка в ожидании, когда позвонит возлюбленный. Но, в отличие от влюбленной девчонки, не огорчалась, хотя дни шли и никто не звонил. Позвонит завтра, решала она каждый раз. Никакой спешки нет. Раньше или позже, сообщит же он ей что-то.
А тем временем жизнь продолжалась, и весна творила свое волшебство. Сад залило бледно-золотистое море нарциссов, их желтые раструбы танцевали на ветру. Деревья затянуло нежно-зеленой дымкой молодой листвы, а на клумбах у дома раскрыли свои бархатистые лики желтофиоль и примулы, наполняя воздух тонким ароматом, который будил воспоминания о других, давно прошедших годах. Данус Мьюирфильд, завершив огородные посадки, подстриг первый раз в этом году газон и теперь мотыжил и мульчировал бордюры. Миссис Плэкетт затеяла генеральную уборку и перестирала все занавески в спальнях. Антония развешивала их на веревке, точно знамена. Она с радостью бралась за любое дело, от которого можно было освободить Пенелопу, — ездила в Пудли за продуктами, разбирала запасы в кухонном шкафу и выскребала полки. Если не находилось дела в доме, работала на грядках: устанавливала решетки для подрастающего сладкого горошка, меняла цветы в горшках на террасе — ранние нарциссы на герани, фуксии и настурции. Если работал Данус, Антония непременно оказывалась рядом с ним, Пенелопа определяла это по оживленным голосам, которые доносились из сада. Она смотрела на них из окна спальни и радовалась. Антонию было не узнать. Какой у нее был измученный вид, когда Ноэль привез ее из Лондона: бледная, под глазами темные круги, чувствовалось, как она напряжена. А теперь уже и румянец на щеках появился, и волосы блестят, и какая-то аура окружает ее. Пенелопа догадывалась, что это за аура, — Антония влюбилась.
— Ну что может быть приятнее, чем копаться на огороде в теплое солнечное утро — сажать, полоть, рыхлить?! — говорила Антония. — Это дает результаты прямо на глазах. Чудесное утро, и ты работаешь в саду — что может быть прекраснее! В Ивисе солнце палило так, что пот лил ручьями, а потом я шла и ныряла в бассейн.
— Бассейна здесь нет, — внес поправку Данус, — значит нырнем в речку.
— И обледенеем. В первый день после приезда я было попробовала воду ногой и потом долго не могла согреться. А ты всегда будешь работать садовником, Данус?
— Почему ты вдруг спросила об этом?
— Не знаю. Просто я чего-то не могу понять. Ты уже прожил такую интересную жизнь. Кончил школу, жил в Америке, потом учился в сельскохозяйственном колледже. Значит, все это зря, а ты будешь сажать овощи и полоть грядки в чужих огородах?
— Но я ведь не всегда собираюсь этим заниматься.
— Нет? Тогда чем же?
— Буду копить деньги, пока не накоплю столько, что смогу купить небольшой участок. Тогда я посажу свой собственный сад и огород, буду выращивать овощи, продавать рассаду, луковицы, розы, гномов — все что угодно, на любой спрос.
— Что-то вроде садового центра?
— Я на чем-нибудь специализируюсь… может быть, на розах или на фуксиях, чтобы отличаться от других садовников.
— А это очень дорого стоит? Я хочу сказать, сколько надо скопить, чтобы начать дело?
— Немало. Земля дорогая, а совсем маленький участок не имеет смысла покупать; надо, чтобы он приносил выгоду.
— А отец не мог бы тебе помочь? Для начала?
— Мог бы, конечно, если бы я его попросил. Но я предпочитаю делать все сам. Мне уже двадцать четыре года. Может, к тридцати я все осилю.
— Ждать шесть лет! Но это же вечность! Я предпочла бы заполучить все сейчас, поскорее.
— Я научился терпению.
— А где? Я хочу сказать, в каких местах ты хочешь устроить свой садовый центр?
— Об этом я еще не думал. Там видно будет. Мне хотелось бы где-то в этих местах. В Глостершире, Сомерсете.
— Лучше Глостершира не придумаешь. Такие красивые места! И не забудь о рынке сбыта. Богатые лондонцы, у которых к тому же льготные проездные билеты, покупают здесь каменные дома и начинают разводить сады, а денег на них не жалеют. Ты тут разбогатеешь. Я на твоем месте непременно осталась бы здесь. Найди себе маленький домик и пару акров земли. Я бы так и сделала.
— Но ты ведь не собираешься открывать садовый центр? Ты хочешь стать манекенщицей.
— Если только не придумаю что-нибудь еще.
— Вот смешная! Другая бы не раздумывала, руку отдала на отсечение, лишь бы красоваться на обложке журнала.
— Только вот без руки она уже не покрасуется.
— К тому же ты ведь не захочешь всю жизнь выращивать репу.
— Репу я не стала бы сажать. Я бы стала выращивать что-нибудь повкуснее — кукурузу, спаржу, горох. И не смотри на меня так скептически, не такая уж я неумеха. В Ивисе все овощи росли у нас на огороде, мы ничего не покупали. Как и фрукты. Апельсины, лимоны — все было свое. Папа́ говаривал: «Ну что может быть прекраснее джина с тоником и с кусочком только что сорванного с дерева лимона?! У него и вкус другой, ничего общего с купленным в лавке».
— Лимоны, наверное, можно выращивать и в теплице.
— Знаешь, что самое замечательное в лимонных деревьях? Плоды уже созрели, а деревья продолжают цвести. Это так красиво! Данус, а ты никогда не хотел стать юристом? Как твой отец?
— Одно время хотел. Думал, что пойду по стопам отца. Но потом уехал в Америку, а там много чего произошло. Все изменилось. И я решил сделать ставку на свои руки, а не на голову.
— Но голова тебе тоже понадобится. И знания тоже. А если ты и вправду заведешь большое хозяйство, то тебе и считать придется, и делать заказы, и платить налоги… Без головы тебе никак не обойтись. А твой отец огорчился, когда узнал, что ты перестал стремиться к юридической карьере?
— Поначалу да. Но мы поговорили, и он согласился со мной.
— Правда, страшно, если ты не можешь поговорить с собственным отцом? У меня был замечательный отец, с ним можно было говорить о чем угодно. Как жаль, что ты с ним не встретился! И я даже не могу показать тебе мой любимый Кан-Дальт — там уже живет другая семья. Данус, но почему ты изменил свои планы? Что с тобой случилось в Америке?
— Что-то случилось.
— Это как-то связано с тем, что ты не водишь машину и не пьешь вино?
— Почему ты спрашиваешь?
— Я иногда думаю об этом. Просто это странно.
— И это тебя беспокоит? Тебе бы хотелось, чтобы я был таким, как Ноэль Килинг? Разъезжал на «ягуаре» и прикладывался к стакану, чуть что не заладится?
— Вот уж не хочу, чтобы ты был похож на Ноэля! Был бы ты на него похож, меня бы тут и близко не было, я и не подумала бы помогать тебе. Лежала бы в шезлонге и листала журнал.
— Тогда оставим эту тему, хорошо? Слушай, ты ведь сажаешь проросток, а не вбиваешь гвоздь! Делай это нежно, как будто кладешь дитя в кроватку. Вложи его осторожно в ямку, и все. Ему ведь нужно место, чтобы расти. И пространство, чтобы дышать.
Пенелопа ехала на велосипеде. Не крутя педали, катила под горку между двумя рядами фуксий, усеянных темно-розовыми и фиолетовыми цветками, похожими на маленьких балерин. Белая пыльная полоса дороги уходила вперед, а вдали виднелось море, синее как сапфир. Настроение у нее было прекрасное, под стать субботнему утру. На ногах — пляжные парусиновые туфли. Она подъехала к дому, и сначала ей показалось, что это Карн-коттедж, но это был не Карн-коттедж, потому что у дома была плоская крыша. На газоне перед мольбертом сидел папа́ в широкополой шляпе. Он рисовал. Артрит еще не настиг его, и он наносил на холст длинные, яркие мазки. Она подошла посмотреть, как он рисует, но он даже не взглянул на нее, только сказал: «Они придут, они непременно придут и нарисуют солнечное тепло и цвет ветра». Она посмотрела поверх крыши за дом — там был сад с бассейном, очень похожий на сад в Ивисе. В бассейне плавала Софи, доплывала до одного конца, потом плыла в другой. Она была без костюма, совсем голая, и ее мокрые гладкие волосы блестели, как шкурка морского котика. С крыши дома открывался красивый вид, но не на залив, а на Северный пляж в час отлива, и там, по отливной полосе, шла она, Пенелопа, с красным ведерком в руке, до краев наполненным огромными раковинами. Морские гребешки, каури, мидии — каких только там не было раковин! Но искала она не раковины, а что-то другое, вернее, кого-то другого, и он был где-то здесь, рядом. Небо потемнело. Глубоко увязая в песке, она брела по берегу, и ветер сек ей лицо. Ведерко все тяжелело, и она поставила его на песок, а сама пошла дальше. Ветер нагнал с моря туман, он как дым клубился над пляжем, и вдруг она увидела его — он вышел из тумана навстречу ей. Он был в военной форме, но без берета. «Я искал тебя», — сказал он, взял ее за руку, и они вместе пошли к дому. Они вошли в дверь, но это оказался не дом, а картинная галерея на окраине Порткерриса. И там тоже она увидела отца, он сидел на потертом диване посреди пустой комнаты. Он повернул к ним голову и сказал: «Хотел бы я снова стать молодым, хотел бы увидеть, как все это будет происходить».
Счастье наполняло все ее существо. Она открыла глаза, но радость не проходила, сон заслонил собой явь. Она почувствовала, что улыбается, словно кто-то сказал ей «улыбнись», и она повиновалась. В полумраке проступали привычные очертания: поблескивали медные столбики кровати, смутно маячил силуэт громоздкого гардероба, в раскрытых окнах слегка колыхались занавески. Все дышало миром и покоем.
«Хотел бы я снова стать молодым, хотел бы увидеть, как все это будет происходить!»
Тут Пенелопа окончательно проснулась и поняла, что больше не уснет. Она откинула одеяло, села, нащупала ногами шлепанцы и взяла халат. Потом отворила дверь и пошла по сумеречной лестнице вниз, в кухню. Включила свет. В кухне было тепло и чисто. Налив в кастрюльку молока, она поставила ее на огонь. Затем достала из буфета большую кружку, положила в нее ложку меда и, наполнив до краев горячим молоком, стала размешивать. С кружкой в руке она прошла через столовую в гостиную, включила лампочку над «Собирателями», поворошила уголья в камине. Огонь разгорелся снова. Захватив кружку, она подошла к софе, поправила подушки и устроилась в уголке, поджав под себя ноги. Сбоку на стене, точно цветной витраж, пронизанный солнцем, светилась картина. Это был ее гипноз, ее собственная мантра[22], она сама ее открыла. Сосредоточив все внимание, Пенелопа неотрывно смотрела на картину и ждала, когда внушение начнет действовать и свершится чудо. И вот спустя какое-то время все вокруг заливала синева моря и неба, и она ощущала на губах соленый ветер; кричали чайки, она вдыхала запах морских водорослей и сырого песка, и в ушах у нее посвистывал морской бриз.
Сколько раз в своей жизни она проделывала этот фокус — уходила от всех в гостиную и оставалась наедине с «Собирателями». Так было в Лондоне в те унылые послевоенные годы, когда им так трудно жилось и семье не хватало денег, а ей самой — просто теплоты и участия; так было, когда она убедилась в беспомощности Амброза и на нее обрушилось устрашающее одиночество, которое почему-то не удавалось заполнить общением с детьми. Так она сидела в ту ночь, когда Амброз сложил чемоданы и уехал в Йоркшир, где его ждало молодое горячее тело Дельфины Хардейкер и успешное будущее. Так было и в тот день, когда ее любимица Оливия навсегда покидала Оукли-стрит, чтобы начать самостоятельную жизнь, и впереди ее ждала блистательная карьера.
«Никогда не возвращайся в прошлое — учила житейская мудрость, — ты не найдешь там того, чего ищешь». Но Пенелопа знала, что это не так, ведь она жаждала самых простых вещей, которые не менялись никогда и не изменятся, покуда стоит мир.
«Собиратели ракушек». Сердце ее преисполнилось благодарности к картине, как к старому другу, за преданность и постоянство. Мы часто склонны смотреть на друзей как на свою собственность. Вот и она все время держала картину возле себя и даже помыслить не могла о том, чтобы с ней расстаться. Но теперь вдруг все переменилось. Теперь у нее есть не только прошлое, но и будущее. Впереди ее, быть может, ждут какие-то радости, и надо подумать, что она предпримет. К тому же ей уже шестьдесят четыре. В такие годы нельзя позволить себе тратить время попусту и предаваться ностальгическим воспоминаниям о прошлом. Глядя на картину, она вдруг произнесла вслух:
— Может, ты мне больше не нужна?
Картина никак не отозвалась.
— Может, настало время расстаться с тобой?
Пенелопа допила молоко, поставила на пол пустую кружку, потом устроилась на подушках поудобнее, вытянулась во весь рост и накрылась пледом. «Собиратели ракушек» будут тут, рядом, они будут стеречь ее, пока она спит. Она вспомнила сон и слова папа́: «Они придут, они непременно придут и нарисуют солнечное тепло и цвет ветра». Веки ее смежились. «Хотела бы я снова стать молодой…»
11. Ричард
К лету 1943 года Пенелопе Килинг, как и многим другим, казалось, что война длится вечно и, больше того, никогда не кончится. Какая это была тоска — продуктовые карточки, затемнение; в эту унылую череду дней вклинивались лишь страшные сообщения, когда союзники терпели поражение и гибли британские корабли, или выступления мистера Черчилля по радио, который уверял, что все идет как нельзя лучше.
Это было как те две недели, которые остаются до рождения ребенка, когда кажется, что младенец так никогда и не появится на свет божий, а ты до конца жизни останешься размером с двухэтажный дом. Или как бывает, когда оказываешься в середине длинного туннеля: яркий дневной свет давно остался позади, а крошечный просвет в конце еще не забрезжил. Но однажды он забрезжит. В этом никто не сомневался. А пока что была сплошная темень. Пока что один унылый день сменялся другим, и каждое утро надо было решать проблему, чем всех накормить, как согреть; надо было следить, чтобы дети были одеты и обуты, чтобы дом не пришел в полное запустение.
Пенелопе исполнилось двадцать три года, и иногда ей казалось, что, кроме субботнего фильма в местном кинотеатрике, ничего больше в жизни ее не ждет. Это субботнее хождение в кино стало для нее с Дорис священным ритуалом. Дорис говорила: «Сегодня фильм», и они не пропустили ни одного. Им было совершенно все равно, что смотреть, и они досиживали до конца любой белиберды, лишь бы на час-другой вырваться из тоскливой рутины своего существования. В конце сеанса, отдавая дань патриотическим чувствам, обе вставали, чтобы прослушать треснутую пластинку с гимном, и, взявшись за руки, взволнованные или растроганные, спотыкаясь о булыжники, со смехом брели в непроглядной темени по улице, а потом взбирались при свете звезд по крутой лестнице, которая вела к дому.
Как приговаривала Дорис, это все же какое-то развлечение. Хоть какое-то. Когда-нибудь, утешала себя Пенелопа, тусклое военное прозябание кончится, но в это трудно было поверить и тем более представить. Неужели можно будет зайти в лавку и спокойно купить бифштексы и апельсиновый джем; неужели можно будет без страха слушать новости? Неужели снова польются в ночной сад потоки света из окон дома и не надо будет бояться, что прилетит какой-то заблудший бомбардировщик или на тебя обрушится с выговором полковник Трабшот? Как хочется вернуться во Францию, поехать на автомобиле на юг, туда, где цветет мимоза и жарко греет солнце! И с мирных колоколен льется перезвон — не в знак беды, а в честь победы.
Победа! Нацисты потерпели поражение, Европа освобождена. Пленные, сосланные в лагеря, разбросанные по всей Германии, отправляются по домам. Военнослужащие демобилизуются, семьи воссоединяются. Последнее обстоятельство лично Пенелопу не приводило в восторг. Другие жены молились о благополучном возвращении своих мужей, вся их жизнь сосредоточилась на ожидании, но Пенелопа знала, что она не очень-то огорчится, если никогда больше не увидит Амброза. И дело тут не в ее бессердечии — просто с каждым месяцем ее воспоминания о муже блекли все больше и становились все менее приятными. Она, разумеется, мечтала, чтобы поскорее кончилась война, — только сумасшедший мог этого не хотеть, — но ее вовсе не привлекала перспектива начинать все заново с Амброзом — едва знакомым и почти забытым мужем.
Временами, когда накатывала тоска, из глубин подсознания выползала постыдная надежда. Надежда, что с Амброзом что-то случится. Нет, смерти Пенелопа ему не желала, упаси бог! Она и мысли такой не допускала. Быть убитым она никому не желала, и уж тем паче такому молодому, красивому и жизнерадостному мужчине. Но может ведь случиться так, что между сражениями, ночными патрулями и погонями за немецкими подлодками в Средиземном море его корабль заплывет в какой-нибудь порт? Он познакомится там с медицинской сестрой или служащей из вспомогательных войск — девушкой куда более привлекательной, чем его жена, — безумно в нее влюбится, и, когда война кончится, она-то и займет подле него место Пенелопы, воплотив в жизнь его заветные мечты о счастье.
Конечно же, он напишет жене о том, что запутался в любовных сетях: «Моя дорогая Пенелопа, мне очень неприятно писать тебе об этом, но только так я могу признаться тебе во всем. Я повстречал другую. Ни я, ни она не в силах были противостоять тому, что случилось. Наша любовь… и т. д. и т. п.».
Каждый раз, когда Пенелопа получала очередное послание Амброза — обычно это были безликие аэрограммы, одна страничка, урезанная до размера моментального фотоснимка, — в сердце у нее вспыхивала надежда, что вот оно наконец пришло — это письмо, но каждый раз следовало разочарование. Это были несколько неразборчивых строк, в которых Амброз сообщал о том, что произошло в жизни его товарищей по офицерской кают-компании — людей, которых Пенелопа никогда не видела, — или описывал вечеринку на каком-то корабле, названия которого, естественно, не упоминал. Она с трудом разбирала слова и понимала, что ничего не изменилось. Она по-прежнему за ним замужем. Он все еще ее муж. Она засовывала аэрограмму обратно в конверт, спустя какое-то время — иной раз проходила не одна неделя — садилась за стол, чтобы ответить ему, и писала еще более скучное письмо, чем прислал ей Амброз: «Пили чай с миссис Пенберт. Рональда приняли в отряд морских скаутов. Нэнси уже рисует домики».
Нэнси. Она уже вышла из младенческого возраста и, по мере того как росла и развивалась, все больше нравилась Пенелопе. Она, к собственному удивлению, все больше проникалась к ней материнскими чувствами. Только что малютка сидела в коляске — и вот уже топает по дорожке. Наблюдать эти метаморфозы было все равно что смотреть, как медленно раскрывается бутон, превращаясь в цветок. Восхитительное зрелище! «Ренуаровская девочка», — сказал когда-то о Нэнси дед и был прав. Она была вся золотисто-розовая, с темными пушистыми ресницами и мелкими жемчужными зубками. Дорис в ней души не чаяла. Нэнси была ее любимой куколкой и подружкой. Время от времени Дорис триумфально подкатывала к дому коляску с дарами от какой-нибудь другой молодой матери: комбинезоном, нарядным платьицем. Они стирались и тщательно отглаживались, и Нэнси щеголяла в новом наряде, девочка любила, когда ее наряжали. «Вы только посмотрите, какая красавица!» — восхищалась Дорис, и она довольно улыбалась, расправляя толстенькими пальчиками юбочку.
И превращалась в Долли Килинг. Впрочем, даже это не портило Пенелопе удовольствия и не огорчало ее. «Ты настоящая маленькая дама, — говорила она дочке и, взяв ее на руки, нежно прижимала к себе. — И такая уморительная!»
Нэнси, мальчики, хозяйство занимали все время, и у них с Дорис минутки свободной не оставалось. Продуктовые пайки усохли до смехотворных размеров. Каждую неделю Пенелопа спускалась по крутым улочкам в город и заходила в бакалею мистера Ридли. После предъявления пайковых книжек ей продавали мизерные порции сахара, масла, маргарина, лярда, сыра и бекона. С мясом было совсем плохо — приходилось часами простаивать в очереди на улице в полной неизвестности, что тебе в конце концов достанется, а в зеленной перепачканные землей овощи совали в авоську незавернутыми: требовать пакет считалось непатриотичным, поскольку было известно, что в стране ощущается острая нехватка бумаги.
В газетах появлялись странные рецепты, придуманные в министерстве продовольствия; подразумевалось, что блюда эти не только экономичны, но и питательны, а также необычайно вкусны. Колбасный пирог по рецепту мистера Вултона: тесто ставится на воде и почти без масла, а начинкой служит мясной фарш из консервов. Удивительный пирог, прослоенный сырой тертой морковью, и запеканка почти из одной картошки. «НЕ УВЛЕКАЙТЕСЬ ХЛЕБОМ, ЕШЬТЕ КАРТОФЕЛЬ», — советовали плакаты, а также призывали: «РАБОТАТЬ НА ПОБЕДУ», и остерегали: «НЕОСТОРОЖНЫЙ РАЗГОВОР МОЖЕТ СТОИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЖИЗНЕЙ». Хлеб начинался с пшеницы, которую приходилось импортировать с другого берега Атлантического океана, а это влекло за собой грозную опасность для кораблей и людей. Белый хлеб уже давно исчез с полок булочных, его место заняла так называемая «народная булка» — нечто серо-бурое, с твердыми прожилками. «Твидовая булка» — называла ее Пенелопа и делала вид, что та ей нравится, но папа́ утверждал, что по цвету и твердости она не уступает новой туалетной бумаге, и делал соответствующий вывод: не иначе как министры продовольствия и снабжения трудились сообща над этими двумя предметами первой необходимости.
Жить было трудно, и все же им в Карн-коттедже было лучше, чем многим другим. Все еще не перевелись утки и куры Софи, и яиц эти услужливые создания поставляли вдоволь. К тому же у них был Эрни Пенберт.
Эрни был местный, всю жизнь прожил в Нижнем городе. Отец его, зеленщик, развозил овощи и зелень на конной тележке; а мать, миссис Пенберт, знала вся округа — она была истовой прихожанкой и возглавляла местную Женскую гильдию. Эрни в детстве подхватил туберкулез и два года провел в санатории в Техиди, а когда выздоровел, Софи стала приглашать его на разные работы по дому и в огороде. Парень он был неказистый: низкорослый, бледный, в армию не попал по состоянию здоровья. Вместо того чтобы отправиться на фронт, Эрни работал на земле, помогая местному фермеру, чьих сыновей призвали в армию, а все свободное время посвящал маленькому хозяйству Карн-коттеджа. Он был мастер на все руки: не только выращивал прекрасные овощи, но и чинил изгородь и газонокосилку, размораживал трубы и вставлял новые электрические пробки. Он же сворачивал шеи курицам, на что никогда не пошел бы никто из обитателей Карн-коттеджа, — ну мыслимо ли предать смерти старую верную птицу, которая столько лет несла для них яйца, а теперь пригодна лишь на то, чтобы сварить из нее суп!
Когда продукты подходили к концу, а от мясного пайка на шестерых оставался всего лишь кусочек бычьего хвоста, у задней двери коттеджа точно по волшебству появлялся Эрни с кроликом в руках, или с парой рыбин, или с лесным голубем. Он отстреливал их сам.
Пенелопа и Дорис, как могли, разнообразили рацион. Пенелопа взяла за правило, выходя на прогулку, брать с собой сумку, корзинку или ведерко. Репа или капуста, упавшие с тележки зеленщика, триумфально доставлялись в Карн-коттедж, и на столе появлялось питательное овощное блюдо или же овощной суп. На зеленых изгородях не оставалось ни единой ежевичины, шли в дело и шипы роз, и бузина, ранним утром на сверкающих росой лугах шел сбор грибов. Они с Дорис тащили домой ветки и пихтовые шишки, обломившиеся сучья, прибитый к берегу плавун, который можно распилить на чурбаки, — все, что могло гореть и поддерживать огонь в бойлере и в камине в гостиной. Особую ценность представляла горячая вода. Ванну не разрешалось наполнять больше чем на три дюйма — Лоренс даже нарисовал на ней что-то вроде ватерлинии, к тому же устанавливалась очередь: сначала мылись дети, потом взрослые; последний купальщик намыливался с бешеной скоростью, чтобы вода не остыла окончательно.
Еще одна проблема не давала покоя — одежда. Талонов хватало лишь на то, чтобы одевать и обувать детей да менять порвавшиеся простыни и истершиеся одеяла; купить что-нибудь для себя было невозможно. Модницу Дорис это никак не устраивало, и она вечно что-то переделывала, из старого шила новое, приторачивала к какой-то юбке новую кайму, из ситцевого платья делала блузку. Однажды из синего мешка для прачечной смастерила широкую сборчатую юбку.
— Но там же надпись «БЕЛЬЕ»! — ахнула Пенелопа, когда Дорис продемонстрировала ей новый наряд.
— Ну и что? — отмахнулась Дорис. — В сборках не разберешь.
Пенелопу ее собственный вид нисколько не беспокоил. Она донашивала свои старые платья, а когда те протирались до дыр, совершала очередной набег на шкафы Софи и похищала что-нибудь из оставшихся там вещей. «Ну как ты можешь это носить?» — каждый раз сокрушалась Дорис. Она считала, что одежда Софи священна, и, вероятно, была права. Но Пенелопа подобных чувств не испытывала. Она надевала теплую шотландскую кофту Софи, застегивала доверху пуговицы и не позволяла себе впадать в сантименты.
До самых холодов Пенелопа разгуливала без чулок и, лишь когда задували холодные восточные ветры, извлекала из ящика комода толстенные черные чулки, оставшиеся со времени ее пребывания в Женских вспомогательных частях военно-морских сил. А когда окончательно протерлось пальто, вырезала дыру в клетчатом шотландском пледе с бахромой, которым они когда-то покрывали сиденье автомобиля. Пончо получилось шикарное.
Отец сказал, что она похожа в нем на мексиканскую цыганку, сказал с улыбкой, — ему нравилась ее предприимчивость. Улыбался он теперь нечасто. Лоренс очень постарел с тех пор, как погибла Софи, и слабел с каждым днем. Непонятно, по какой причине стала давать о себе знать старая рана в ноге, которую он получил во время Первой мировой войны. В сырую зимнюю погоду боль разыгрывалась не на шутку, и ему приходилось передвигаться с тростью. Он согнулся, похудел ужасно, руки у него приобрели восковой оттенок и лежали на коленях неподвижно, точно руки мертвеца. Лишенный возможности что-то делать по дому или в саду, он сидел с утра до вечера у камина в гостиной в перчатках, закутавшись в пледы, читал газеты или любимые книги, слушал радио и, преодолевая боль, неверной рукой писал письма старым друзьям. В иные дни, когда светило солнце и по синему морю бежали белые барашки, Лоренс заявлял, что хочет подышать свежим воздухом, после чего Пенелопа приносила его длинное с капюшоном пальто, широкополую шляпу, трость, брала отца под руку, и они медленно брели по улочкам и проулкам вниз, в центр городка. Они прогуливались по мату, глядя на рыбачьи лодки и чаек, заходили в «Рыбачьи снасти» глотнуть любого напитка, какой протянет им из-под стойки хозяин, и, если вина не было, довольствовались стаканом теплого водянистого пива. Выпадали дни, когда Лоренс чувствовал себя настолько хорошо, что они доходили до Северного пляжа, до его старой мастерской; она стояла теперь запертой, и в нее редко кто заглядывал. А случалось, что сворачивали на узкую улочку, ведущую к картинной галерее; Лоренс любил сидеть там, погрузившись в одинокие тихие старческие воспоминания, глядя на картины, которые он вместе с друзьями-художниками сумел собрать.
И вдруг в августе, когда Пенелопа уже окончательно смирилась с мыслью, что ничего волнующего и романтического в ее жизни никогда не будет, начали происходить какие-то события.
Первыми новость принесли Рональд с Кларком. Они вернулись из школы в страшном возмущении: им запретили пользоваться площадкой на холме, и они не смогли поиграть в футбол! Площадка, а также два лучших выгона Уилли Пендервиса реквизированы, их огородили колючей проволокой, и никому не разрешено там появляться. В чем дело? Домыслам не было конца. Одни говорили, что там расположатся воинские части, которые готовят для второго фронта. Другие — что там построят бараки для военнопленных, а может, мощную телефонную станцию для передачи секретных, закодированных телеграмм мистеру Рузвельту.
Короче, Порткеррис полнился слухами.
Следующую весть о новых загадочных событиях принесла Дорис. Она гуляла с Нэнси на набережной и возвращалась домой по главной улице. Дорис ворвалась в Карн-коттедж в большом волнении.
— Представляешь, «Нептун» сколько времени стоял пустой, и вдруг его отремонтировали! Покрасили, почистили, так что теперь он блестит, как новенькая монетка, а во дворе полно грузовиков… и эти американские джипы, а у ворот шикарный морячок — часовой. Правда-правда! Морская пехота — я разглядела жетон на берете.
— Морская пехота? Чего они тут делают?
— Может, готовятся к вторжению в Европу? Может, открывается второй фронт?
Пенелопа отнеслась к этому предположению скептически.
— Вторжение в Европу из Порткерриса? Ах, Дорис, они все утонут, пока доплывут до Европы.
— Но что-то происходит, ты уж мне поверь!
Несколько дней спустя Порткеррис лишился своего северного пирса — накануне вечером он еще был, а утром его уже отгораживала колючая проволока. Проволока протянулась и через дорогу к гавани, обогнув «Рыбачьи снасти», и все, что оказалось позади нее: рыбный рынок и дом Армии спасения, — было объявлено собственностью Адмиралтейства. Все рыболовные суда были убраны от пирса, и их места заняли десятка полтора небольших десантных кораблей. Все это день и ночь охранялось морскими пехотинцами в походной форме и зеленых беретах. Присутствие их в городке порядком взбудоражило его жителей, но никто не мог толком понять, что же все-таки происходит.
Окончательно ситуация прояснилась лишь к середине месяца. Вернулись вдруг теплые дни, погода стояла прекрасная, и тем утром Пенелопа и Лоренс вышли погреться на солнышке. Пенелопа сидела на ступеньке крыльца и лущила фасоль, Лоренс полулежал в шезлонге, надвинув на глаза шляпу, чтобы не слепило солнце. Внизу хлопнула калитка, и вскоре между окаймлявших дорожку кустов фуксии появился генерал Уотсон-Грант.
Противовоздушной обороной в Порткеррисе командовал полковник Трабшот, а генерал Уотсон-Грант возглавлял отряд местной обороны. Полковника Трабшота Лоренс на дух не переносил, с генералом же проводил время с удовольствием. Тот хоть и провел большую часть своей армейской жизни в Пакистане в бесконечных стычках с афганцами, однако, выйдя в отставку, «отставил» прежнюю свою воинственность и полностью отдался мирной жизни, его страстью стали сад и коллекционирование марок. Сегодня он пришел не в форме, а в светлом кремовом костюме, как видно сшитом еще в Дели, и в старой панаме с выцветшей черной шелковой лентой. Завидев Пенелопу и Лоренса, он приветственно вскинул свою тросточку.
— С добрым утром! Ну вот вам в подарок еще один прекрасный денек.
Генерал был невысок ростом, худощав, с усами щеточкой; годы службы на Северо-Западной границе словно задубили его лицо, кожа так и не посветлела с тех пор. Лоренс с удовольствием наблюдал за его приближением. Генерал заглядывал к ним нечасто, и они всегда радовались его визитам.
— Не помешал?
— Нисколько. Мы просто наслаждаемся солнцем. Вы меня извините, если я не вылезу из шезлонга? Пенелопа, принеси шезлонг и генералу.
Пенелопа положила в сторонку дуршлаг и поднялась.
— Доброе утро, генерал Уотсон-Грант.
— Рад тебя видеть, Пенелопа. Трудишься не покладая рук? Я думал, это только Дороти без конца лущит фасоль.
— Чашечку кофе?
Генерал не спешил с ответом. Прошагал он довольно далеко и не очень-то жаловал кофе, предпочитая джин. Лоренсу это было известно, и он пришел на выручку приятелю.
— Ба, уже двенадцать! — сказал он, взглянув на часы. — В эту пору положено хлебнуть чего-нибудь покрепче. Что у нас имеется, Пенелопа?
Пенелопа улыбнулась:
— Боюсь, ничего стоящего, но я поищу.
Она вошла в темный после яркого света дом. В буфете нашлись две бутылки пива «Гиннесс». Пенелопа поставила на поднос стаканы, положила открывалку и вынесла на крыльцо, затем пошла за шезлонгом для генерала. Он с благодарностью уселся в него, чуть наклонясь вперед, отчего его костлявые коленки вздернулись, а узкие брюки поднялись, открыв шишковатые лодыжки, обтянутые желтыми носками.
— Вот это дело, — одобрительно заметил он.
Пенелопа открыла бутылку и наполнила стаканы.
— Увы, всего лишь «Гиннесс». Джин у нас уже давно не водится.
— Сойдет и «Гиннесс». Мы свой джин прикончили месяц назад. Мистер Ридли обещал мне бутылку, когда получит, только вот неизвестно, сколько еще ждать. Ваше здоровье!
И он одним глотком отпил чуть ли не полстакана. Пенелопа вернулась к своей фасоли, а джентльмены, справившись о здоровье друг друга, стали обсуждать погоду, местные новости и общий ход войны. Пенелопа, однако, была уверена, что генерал пришел не просто так, у него явно имелось в запасе какое-то интересное сообщение. Выждав паузу, она вмешалась в разговор.
— Уж кто-кто, а вы, генерал Уотсон-Грант, наверняка знаете, что происходит в Порткеррисе, — начала она. — Футбольное поле огородили, порт закрыли, а морские пехотинцы все прибывают и прибывают. Люди теряются в догадках, но точно никто ничего не знает. Обычно все новости нам приносит Эрни Пенберт, но он вот уже три недели как в поле на уборке урожая.
— Честно говоря, я знаю, в чем дело, — признал генерал.
— Если это секрет, молчите, — поспешил вставить Лоренс.
— Я уже давно в курсе дела, но это действительно было строго засекречено. А теперь могу вам сказать: начинаются тренировки. Королевских морских пехотинцев будут обучать скалолазанию.
— А кого будут обучать они?
— Американских рейнджеров[23].
— Американских рейнджеров? Вы хотите сказать, что ожидается вторжение американцев?
Это опасение явно позабавило генерала.
— Пусть уж лучше вторгнутся они, чем немцы.
— И лагерь разбивают для американцев? — спросила Пенелопа.
— Так точно.
— Рейнджеры еще не прибыли?
— Пока нет. Надо думать, их прибытие не останется незамеченным. Им, беднягам, не позавидуешь. Жили себе в прерии или на Канзасских равнинах, небось моря и в глаза не видели. И вот, пожалуйста. Высадят их в Порткеррисе, а затем пригласят карабкаться на Боскарбенские скалы.
— Боскарбенские скалы? — ахнула Пенелопа. — Да разве это возможно? Они же совершенно отвесны и в тысячу футов высотой.
— Вот парни и должны научиться на них влезать, в том и задача, я так представляю, — сказал генерал. — Хотя, должен заметить, я согласен с тобой, Пенелопа. У меня при одной мысли об этих скалах голова кружится. Но пусть лучше бедняги янки на них карабкаются, чем я.
Пенелопа усмехнулась. Генерал любил выражаться ясно и прямо, что, среди прочих его достоинств, ей в нем очень нравилось.
— А десантные суда? — спросил Лоренс.
— Они туда тоже прибудут, но, боюсь, прежде чем их экипаж высадится у подножия скал, он весь поляжет от морской болезни.
Пенелопа еще больше пожалела молоденьких американцев.
— И будут удивляться, кто же это наслал на них порчу. А что им делать в свободное время? Порткеррис не самый веселый городок, и «Рыбачьи снасти» не самый шикарный кабачок на свете. К тому же городишко совсем опустел. Все молодые люди уехали. Остались одни соломенные вдовы, ребятишки да старики вроде нас.
— Дорис будет в восторге, — заметил Лоренс. — Все же какое-то развлечение: американские морские пехотинцы. Прямо как в кино!
Генерал рассмеялся.
— Да, это всегда проблема — как организовать им часы досуга. Только после того как они разок-другой вскарабкаются на Боскарбенские скалы, боюсь, у них не останется сил на… — генерал остановился, подыскивая подходящее слово, — амурные дела. — Употребить другое выражение он не решился.
Теперь рассмеялся Лоренс.
— Вот это событие! — Его вдруг осенила блестящая идея. — Приглашаю тебя, Пенелопа, немедленно совершить прогулку в город. Надо посмотреть своими глазами, что там происходит.
— По-моему, ничего там не происходит.
— Ну что ты, столько интересного! В городишко впрыснули новую кровь. Может, увидим какое-нибудь происшествие, конечно не страшное. Надеюсь, они не потеряют на улице бомбу? Вы уже допили свое пиво, генерал? Хотите еще?
Пока генерал решал, хочет он или не хочет, Пенелопа поспешила сообщить, что это были последние две бутылки.
Уотсон-Грант поставил стакан на траву.
— В таком случае я пойду, — сказал он. — Посмотрю, как там у Дороти продвигаются дела с tiffin[24]. — Он с трудом вылез из провисшего шезлонга. — Пиво было отменное!
— Спасибо, что заглянули. Вы сообщили нам такие интересные новости!
— Я подумал, вам будет небезынтересно узнать, что творится в городе. Это все-таки прибавляет надежды! Еще один шаг к завершению этой ужасной войны. — Он тронул шляпу. — До свидания, Пенелопа.
— До свидания. Передайте привет супруге.
— Непременно.
— Я провожу вас до калитки, — сказал Лоренс.
Пенелопа смотрела, как они медленно побрели по дорожке — как два старых пса, величественный сенбернар и тощий маленький джек-рассел. Они дошли до каменных ступеней и стали осторожно спускаться. Пенелопа подняла кастрюлю с лущеной фасолью и дуршлаг с шелухой и понесла их в дом. Надо было немедленно разыскать Дорис и сообщить ей все, о чем поведал генерал Уотсон-Грант.
— Американцы! — Дорис ушам своим не верила. — Американцы в Порткеррисе? Слава тебе господи! Наконец-то тут начнется хоть какая-то жизнь. Американцы! — Она все повторяла это магическое слово. — Чего только мы с тобой не придумывали, но чтоб явились американцы! Такое нам и в голову не приходило.
Визит генерала Уотсона-Гранта явно взбодрил Лоренса. За ланчем все только и говорили об американцах, и, когда Пенелопа, убрав со стола и вымыв посуду, вышла из кухни, отец уже ждал ее. На нем была вельветовая куртка, чтобы резкий ветер не продул его старые кости; шляпа, перчатки, шея обмотана красным шарфом. Он сидел, прислонясь к комодику, положив руки на роговой набалдашник трости, и терпеливо ждал.
— Ты ждешь меня, папа́?
— Мы пойдем?
Дел у Пенелопы была уйма: проредить и прополоть овощи, подстричь траву, погладить белье.
— Ты и вправду хочешь прогуляться?
— Я же сказал, разве ты не слышала? Я хочу пойти поглазеть на американцев.
— Ну ладно, только подожди минутку, мне надо переобуться.
— Поторопись, у нас не так много времени.
Чего-чего, а времени-то у них было предостаточно, но Пенелопа ничего не сказала. Она вернулась на кухню, чтобы сообщить Дорис, что они уходят, поцеловала на ходу Нэнси и побежала наверх. Там надела парусиновые туфли, ополоснула лицо, причесалась и затянула волосы сзади шелковым шарфиком. Потом достала из комода вязаный жакет и, набросив его на плечи, побежала вниз.
Отец ждал ее все в той же позе, но, когда она появилась, поднялся.
— Ты чудесно выглядишь, дорогая.
— Спасибо, папа́.
— Тогда в путь, проинспектируем военные силы.
Едва они вышли, как Пенелопа порадовалась, что отец вытащил ее из дома, — день был замечательный, яркий, синий; начался прилив, и по заливу бежали, пенясь, белые бурунчики. Мыс Тревос заволокло дымкой, но дул легкий солоноватый бриз. Они пересекли проезжую дорогу и постояли немного, оглядывая открывшуюся панораму: красные крыши домов, спускающиеся по склону сады, кривые проулки, ведущие к маленькой железнодорожной станции и дальше вниз, к берегу. До войны, в августе, здесь было бы полным-полно курортников, но теперь берег был почти пуст. В 1940-м пляж отгородили колючей проволокой, и она так и осталась, отделяя зеленую прибрежную полосу от песка, но посередине изгороди был проход, через который пробрались на пляж несколько матерей с детишками: дети с криками бегали у самой кромки воды, собаки гонялись за чайками. Далеко внизу виднелся маленький, огороженный стеной садик, где среди розовых кустов стояла старая яблоня и шелестела сухими листьями высокая пальма.
Полюбовавшись видом, Лоренс и Пенелопа неторопливо пошли вниз. За поворотом открылся отель «Нептун» — большой каменный дом с окнами в массивных рамах на залив. В последнее время, лишившись жильцов, он все больше приходил в запустение, но оказалось, что его только что заново покрасили в белый цвет, и он выглядел вполне респектабельно. Высокую железную ограду, отделявшую автомобильную стоянку, тоже выкрасили, и теперь там было полно зеленых грузовиков и джипов. У открытых ворот стоял часовой — молоденький морской пехотинец.
— Я и не представлял, что и морячок уже дежурит у ворот, — сказал Лоренс. — А Дорис сразу все поняла.
Они подошли ближе. На белом флагштоке реял на ветру флаг. Гранитные ступени вели к парадной двери, поблескивающей свежей полировкой в лучах солнца. Они стояли и разглядывали отель, а молодой морячок, стоящий на посту на краю тротуара, невозмутимо смотрел на них.
— Надо нам двигаться, — сказал Лоренс, — а то примут за зевак и попросят удалиться.
Но не успели они отойти, как в вестибюле послышались какие-то звуки. Дверь отворилась, и на пороге появились двое военных, майор и сержант. Стуча подкованными армейскими башмаками, они сбежали по ступенькам, пересекли усыпанный гравием внутренний двор и нырнули в один из джипов. Сержант сел за руль. Он включил зажигание, дал задний ход и вывел машину к воротам. Часовой отдал честь, и офицер козырнул в ответ. Машина приостановилась, но движения на улице не было. Джип повернул в сторону города и, тарахтя, поехал по мостовой мимо тихих домов.
Пенелопа и Лоренс провожали его взглядом, пока он не скрылся за поворотом.
— Ну, пошли дальше, — сказал Лоренс.
— Куда же?
— Поглядим, что это за десантные суда. А потом зайдем в галерею. Мы там так давно не были.
Галерея! Значит, прощай все планы на этот день. Пенелопа повернулась к отцу, чтобы возразить, и увидела его заблестевшие от предвкушаемого удовольствия темные глаза. Сердце у нее дрогнуло. Не стоит лишать его этого удовольствия.
Она согласно улыбнулась и взяла его под руку.
— Хорошо. Десантные суда, а потом в галерею. Но, чур, не переутомляться.
В галерее всегда было холодно, даже в августе. Массивные гранитные стены не прогревались солнцем, окна были высоченные, и по комнатам гуляли сквозняки. К тому же пол был выложен плиткой, ни каминов, ни обогревательных приборов в галерее не держали, а ветер сегодня налетал со стороны северного побережья, и время от времени застекленная крыша с северной стороны сотрясалась, потрескивая от его ударов. Дежурила миссис Тревиуэй. Закутавшись в плед и направив маленький электрический рефлектор себе на ноги, она сидела у входа за старым карточным столиком, на котором высились стопки каталогов и почтовых открыток.
Пенелопа и Лоренс были единственными посетителями. Они сели рядышком на длинный, обитый потертой кожей диван, стоявший посередине зала, и замолчали. Такова была традиция. Лоренс не любил здесь разговаривать. Он как бы уединялся, сидел, чуть наклонясь вперед, сложив руки на набалдашнике трости и упершись в них подбородком, и снова, в который раз вглядывался в знакомые работы. Он словно мирно беседовал со своими друзьями, многих из которых уже не было на этом свете.
Пенелопа, стараясь не мешать ему, сидела, откинувшись на спинку дивана и вытянув вперед длинные загорелые ноги. Ее парусиновые туфли вытерлись на носках, и она обдумывала, как бы раздобыть новые. И Нэнси тоже нужны новые башмаки, и не только башмаки, но и теплый толстый свитер, ведь уже зима на носу, но на то и на другое купонов не хватит. Башмаки важнее, надо купить башмаки. А свитер она свяжет сама, отыщет какую-нибудь старую кофту, распустит и свяжет. Пенелопа и прежде это делала, хотя довольно скучное занятие не очень-то ее вдохновляло. Как прекрасно было бы купить новые мотки шерсти, розовой или бледно-желтой, мягкой, пушистой, и связать Нэнси красивый свитерок.
За их спинами отворилась и захлопнулась дверь. Повеяло холодом. Еще один посетитель. Ни Пенелопа, ни отец не обернулись. Застучали шаги по ступеням лестницы. Мужчина. Обменялся с миссис Тревиуэй несколькими словами. А затем послышались медленные шаги, глухой перестук тяжелых башмаков то затихал, то раздавался снова. Посетитель осматривал картины. Минут десять спустя он замаячил где-то сбоку. Все еще размышляя о свитерочке для Нэнси, Пенелопа повернула голову и увидела спину в походной куртке цвета хаки, зеленый берет и корону на погонах. Не иначе как майор морской пехоты, который так лихо укатил в джипе. Все так же не поворачиваясь, сцепив руки за спиной, он медленно приближался к ним. Когда до дивана осталось два-три шага, он обернулся. Быть может, ему было неловко беспокоить их. Высокий, поджарый, лицо ничем не примечательно, если не считать удивительно ясных, светло-голубых глаз.
Пенелопа встретилась с незнакомцем взглядом и смущенно отвернулась — он понял, что она смотрела на него. На выручку пришел Лоренс. Он почувствовал, что кто-то стоит перед ними, и поднял голову.
Налетел очередной порыв ветра, и опять с перезвоном дрогнула стеклянная крыша. Когда звяканье стихло, Лоренс сказал:
— Добрый день!
— Добрый день, сэр!
Лоренс чуть откинул голову, чтобы не мешали поля большой черной шляпы, и удивленно сощурил глаза.
— Не вы ли это так лихо укатили недавно от отеля «Нептун»?
— Точно, я, сэр. А вы стояли на другой стороне улицы. По-моему, я узнал вас. — Голос у майора был спокойный и ясный.
— А где же ваш сержант?
— В порту.
— Вы так быстро нашли галерею?
— Я уже три дня в городке, но только сейчас выкроил время зайти сюда.
— Вы хотите сказать, что знали о галерее?
— Безусловно. Кто же о ней не знает?
— Очень многие.
Лоренс смолк, оглядывая незнакомца. Обычно люди, подвергшиеся такому осмотру, нервничали под его острым, проницательным взглядом. Однако майор морской пехоты не проявил никакой нервозности, он спокойно ждал. Лоренсу, судя по всему, это понравилось, и он вполне расположился к незнакомцу.
— Я Лоренс Стерн, — коротко представился он.
— Я догадывался, что это вы. Я надеялся, что это вы. Для меня большая честь познакомиться с вами.
— А это моя дочь — Пенелопа Килинг.
— Здравствуйте, — сказал майор, но не шагнул к ней и не протянул руку.
— Здравствуйте, — отозвалась Пенелопа.
— Теперь ваша очередь представиться, молодой человек.
— Лоумакс, сэр. Ричард Лоумакс.
Лоренс похлопал по истертой коже сиденья подле себя.
— Садитесь, майор Лоумакс. Я чувствую себя неловко, оттого что вы стоите передо мной. Стоит ли стоять, когда можно сесть?
Майор Лоумакс все с тем же невозмутимым видом принял предложение и сел на диван по другую сторону от Лоренса. Он чуть наклонился вперед и свесил руки между колен.
— Ведь это вы основали галерею, сэр, если я не ошибаюсь?
— Я, но не только я, были и другие. Это произошло в начале двадцатых. Когда-то давно здесь была часовня, но много лет она не действовала, стояла пустая. Мы приобрели ее совсем за бесценок, но затем возникла проблема, как наполнить ее действительно хорошими картинами, только хорошими. Чтобы создать ядро такой коллекции, каждый из нас для начала подарил Галерее по самой любимой своей работе. Вот посмотрите. — Лоренс откинулся на спинку дивана, трость теперь служила ему указкой. — Стэнхоуп Форбс. Лаура Найт. Посмотрите, какая красота!
— Причем вещь довольно необычная для нее. Для меня Лаура Найт всегда ассоциировалась с цирками.
— Она писала это полотно в Порткарно. — Его трость продолжала движение. — Ламора Берн. Маннингс, Монтегю Досон. Томас Милли Дау. Рассел Флинт…
— Должен вам сказать, сэр, у моего отца была одна ваша работа. К сожалению, когда он умер, дом был продан, а с ним вместе ушла и картина…
— И что же это было?
Они говорили и говорили. Пенелопа уже не слушала. Она перестала предаваться грустным раздумьям по поводу гардероба Нэнси и перешла к мыслям о том, что сегодня приготовить на ужин. Чем накормить семью? Макаронами с сыром? От недельного пайка осталась корка чеддера, можно натереть ее и добавить в соус. Или сделать цветную капусту с сыром? Но цветная капуста была два дня назад, дети будут недовольны.
— …Тут нет модернистов?
— Как видите. Вам это кажется странным?
— Ничуть.
— Но тем не менее они вам нравятся?
— Миро и Пикассо — да. Шагал и Брак наполняют меня радостью. Дали я не переношу.
Лоренс хмыкнул:
— Сюрреализм. Нечто вроде культа. Но очень скоро, когда кончится эта война, начнется что-то новое и прекрасное. Мое поколение и поколение, которое пришло за нами, дошли до той черты, до которой нам дано было дойти. Но скоро в мире искусства свершится революция, и это меня очень волнует. Только ради этого я хотел бы снова стать молодым. Чтобы посмотреть, что будет. Они непременно придут. Как когда-то пришли мы. Молодые люди с ярким видением, наделенные даром проникновения и феноменальным талантом. Они придут не для того, чтобы рисовать залив и море, лодки и вересковые пустоши, они нарисуют солнечное тепло и цвет ветра. Возникнет совершенно новое постижение жизни. Какой источник вдохновения! Потрясающе! — Он вздохнул. — А я умру еще до того, как это начнется. Что тут удивляться, что я печалюсь. Лишиться всего этого…
— Каждый человек совершает в своей жизни то, что ему предначертано.
— Согласен. Но нельзя запретить себе хотеть. Это заложено в человеческой природе — хотеть большего.
Они смолкли. Пенелопа, все еще обдумывая ужин, взглянула на часы. Без четверти четыре. К тому времени, как они доберутся до Карн-коттеджа, будет уже почти пять.
— Папа́, нам пора идти, — сказала она.
— Что? — Лоренс был поглощен своими мыслями.
— Нам пора отправляться домой.
— Да-да, конечно. — Он упер трость в пол и начал подниматься, но майор Лоумакс уже вскочил, чтобы помочь ему. — Благодарю вас… вы так добры. Старость — ужасная штука. — Лоренс наконец выпрямился. — А артрит и того хуже. Я уже столько лет не рисую…
— Какая жалость!
Майор Лоумакс проводил их до двери. Снаружи, на вымощенной булыжником площади, стоял его джип.
— Я с удовольствием подбросил бы вас до дома, — извиняющимся тоном сказал он, — но правила запрещают нам возить гражданских лиц в служебных автомобилях.
— Мы с большим удовольствием пройдемся пешком, — заверил его Лоренс. — Торопиться нам некуда. Приятно было побеседовать с вами.
— Надеюсь, мы еще увидимся…
— Непременно! Вы должны к нам прийти… — Лоренс остановился, обдумывая блестящую идею, которая пришла ему в голову. У Пенелопы упало сердце — она знала, что собирается произнести отец. Она ткнула его локтем в бок, но он не обратил на ее предупреждение никакого внимания. — Приходите-ка к нам сегодня поужинать.
— Папа́, — в ярости зашипела Пенелопа, — сегодня у нас на ужин ничего нет!
— О-о… — Вид у Лоренса был растерянный и огорченный, но майор Лоумакс сгладил неловкость:
— Спасибо за приглашение, но, боюсь, сегодня вечером я не смогу.
— Может быть, в какой-то другой день?
— Спасибо, сэр. С удовольствием приду.
— Мы всегда дома.
— Папа́, нам надо идти.
— Au revoir[25], майор Лоумакс. — Лоренс внял наконец настояниям Пенелопы, приподнял трость в знак прощания и двинулся вперед. Но он был явно расстроен.
— Ты была груба, — упрекнул он Пенелопу. — Софи никогда не отказала бы гостю в приглашении, даже если бы в доме не было ничего, кроме сыра и хлеба.
— Но он все равно не мог прийти.
Взявшись за руки, они пересекли вымощенную булыжником площадь и вышли на улицу, ведущую к порту. Пенелопа не оглядывалась, но чувствовала, что майор Лоумакс стоит все на том же месте, возле своего джипа, и смотрит им вслед. Но вот возле «Рыбачьих снастей» они свернули за угол, теперь он уже не мог их видеть.
Долгая прогулка на свежем воздухе, новые впечатления, знакомство с новым человеком — все это изрядно утомило Лоренса. Пенелопа с облегчением вздохнула, когда наконец-то довела его до их сада. Войдя в дом, отец сразу же опустился в кресло и сидел, не двигаясь, приходя в себя. Пенелопа сняла с него шляпу, размотала шарф. Она взяла его руку в свои ладони и стала мягко ее растирать, словно это могло влить жизнь в его искореженные восковые пальцы.
— В следующий раз, когда мы пойдем в галерею, папа́, мы вернемся на такси.
— А почему бы нам не воспользоваться нашим «бентли»?
— Нет бензина, папа́.
— Да, без бензина далеко не уедешь.
Несколько минут спустя Лоренс уже набрался сил, чтобы перейти в гостиную, где Пенелопа усадила отца в его любимое большое кресло, обложенное подушками.
— Я принесу тебе чаю.
— Не беспокойся. Я немножко подремлю.
Лоренс откинулся на спинку кресла и закрыл глаза.
Пенелопа стала на колени, поднесла спичку к смятой бумаге в камине и стала ждать, когда разгорится хворост и уголь… Лоренс открыл глаза.
— Топишь камин в августе?
— Не хочу, чтобы ты простудился. — Она поднялась. — Как самочувствие?
— Все хорошо. — Он благодарно улыбнулся ей. — Спасибо, что пошла со мной. Замечательный был день!
— Я рада, что ты получил удовольствие.
— Приятно было познакомиться с тем молодым человеком. И поговорить с ним. Давно ни с кем так хорошо не говорил. Давным-давно. Мы ведь пригласим его к ужину, ты не возражаешь? С удовольствием поболтал бы с ним еще раз.
— Конечно пригласим.
— Скажи Эрни, чтобы застрелил голубя. Ему понравится жаркое из голубя. — Веки его снова сомкнулись.
Пенелопа тихо вышла из гостиной.
К концу августа, когда управились с уборкой урожая, американские рейнджеры заполнили новый лагерь на вершине холма. Погода испортилась.
Урожай в том году выдался хороший, фермеры были довольны, однако всем было ясно: когда пробьет час, министерство сельского хозяйства начнет их трясти. Что же касалось американских солдат, то они, вопреки опасениям, не внесли особых изменений в жизнь Порткерриса. Мрачные пророчества местных святош не сбылись: ни пьяных, ни драк, ни изнасилований не наблюдалось. Напротив, солдаты вели себя на удивление благовоспитанно. Молодые, поджарые, стриженные под «ежик», в маскировочных куртках и в красных беретах, они топали по улицам в своих тяжеленных башмаках на толстой резиновой подошве, и, если не считать раздававшегося иной раз лихого посвиста да дружеских разговоров с местными мальчишками, чьи карманы тотчас же отвисали от шоколадок и жевательных резинок, их присутствие мало чем нарушало обычную жизнь городка. Следуя инструкциям, а быть может, из соображений секретности, чтобы не маршировать у всех на виду, в порт их возили на грузовиках, набивая кузов до отказа, и в джипах, к которым были прицеплены трейлеры, где высились груды веревок, «кошек» и крюков. Тут уж, словно стараясь оправдать все опасения, которые предшествовали прибытию рейнджеров, они встречали попадавшихся им на пути девушек таким лихим посвистом, что те не знали, куда им деваться. Однако изнурительные тренировки все продолжались, и скоро стало ясно, что генерал Уотсон-Грант был прав: после поездок по бурному морю и подъемов на Боскарбенские скалы парни и не помышляли ни о каких вечерних развлечениях. Горячий душ, ужин и постель — вот все, что им было нужно.
Вдобавок ко всему испортилась погода. Задул норд-вест, барометр упал, с океана шли низкие серые тучи, то и дело лил дождь. Мокрый булыжник на узких улочках блестел, как рыбья чешуя, потоки воды уносили вниз по канавам мусор и намокшие обрывки бумаги. В Карн-коттедже размыло цветочные бордюры, у старого дерева обломилась ветка, а вся кухня была увешана мокрым бельем — больше сушить его было негде.
— В такую погоду не до амурных похождений, — меланхолично заметил Лоренс, глядя в окно.
Море было мрачное, свирепое. Бурлящие валы обрушивались на берег, выбрасывая мусор и плавник далеко за обычную линию прилива. Появлялись на этой полосе и вовсе интересные предметы. Несколько месяцев назад в Атлантическом океане был торпедирован и потоплен торговый корабль, и вот теперь наконец его печальные останки приливами и ветром прибило к берегу: два спасательных пояса, палубные доски и несколько деревянных ящиков.
Первым их заметил ранним утром отец Эрни Пенберта, проезжавший вдоль берега на своей конной тележке. В одиннадцать утра того же дня у задней двери Карн-коттеджа появился сам Эрни. Пенелопа чистила яблоки. С черного клеенчатого плаща Эрни струйками стекала вода, насквозь промокшая кепка сползла на самый нос, но на лице сияла улыбка.
— Не желаете ли консервированных персиков, мадам? — весело спросил он.
— Консервированных персиков? Решил надо мной подшутить, Эрни?
— У отца в лавке целых два ящика. Подобрал на северном берегу. Он и не знал, что в них, привез домой, открыл — глядь, а там консервы — калифорнийские персики. Как свежие!
— Вот так находка! И что, правда… можно взять две-три банки?
— Отец отложил вам шесть. Решил, что детям они понравятся. Сказал, можете забирать в любое время.
— Он просто святой, твой отец! Ах, Эрни, большое тебе спасибо! Заберу сегодня же, пока он не передумал.
— Не беспокойтесь, не передумает.
— Позавтракаешь с нами?
— Спасибо, но я не могу. Отец меня ждет.
Сразу после ланча Пенелопа обулась, застегнула на все пуговицы желтый непромокаемый плащ, нахлобучила по самые уши старую шляпу и, захватив две вместительные корзины, отправилась в город. Ветер чуть не сбивал с ног, дождь сек лицо, но, выдержав первый натиск, Пенелопа даже начала получать удовольствие от противоборства со стихией. Городок словно вымер — все попрятались по домам, но и это Пенелопе понравилось — она была одна во всем городе, шагая по нему, точно отважный первооткрыватель, — он принадлежал ей.
Зеленная мистера Пенберта была в Нижнем городе, на полпути к порту. К ней можно было подойти переулками, но Пенелопа выбрала дорогу вдоль берега и, завернув за спасательную станцию, оказалась лицом к лицу с разбушевавшимся океаном. Волны заливали весь берег, в порту кипела свинцового цвета вода. С криками носились чайки, плясали у причала рыбачьи лодки, вдалеке, у Северного пирса, раскачивались на якорях десантные суда. Как видно, американцев решили пощадить в такую погоду.
Не без чувства облегчения Пенелопа добрела наконец до маленькой лавчонки зеленщика, расположившейся на перекрестке двух переулков. Она отворила дверь и ступила внутрь. Над ее головой звякнул звоночек, и тотчас занавеска в глубине лавки отдернулась, и появился мистер Пенберт в своем обычном одеянии — синяя шерстяная фуфайка и похожая на гриб шляпа. В лавке приятно пахло яблоками, пастернаком и землей.
— Это я, — сообщила Пенелопа, хотя могла бы и не сообщать. С ее плаща струйками стекала вода.
— Я так и подумал. — Глаза у мистера Пенберта были такие же черные, как у сына, и такая же улыбка, только зубов поменьше. — Шли по нижней дороге? Погодка сегодня хуже некуда. Но шторм утихает, к вечеру прояснеет. Я только что слышал прогноз по радио… Эрни сообщил вам о персиках?
— А зачем, вы думаете, я явилась? Нэнси еще и вкуса их не знает.
— Тогда пошли за занавеску. Я их спрятал. Стоит кому прознать, что я нашел два ящика с персиками, и мне жизни не будет.
Пенелопа с корзинами в руках вступила в узкую заднюю половину лавки, которая служила и складом, и конторой. Здесь царил беспорядок. Плита топилась с утра до вечера, и мистер Пенберт, когда не было покупателей и он не вел телефонные переговоры, кипятил себе на ней чай. Сегодня здесь стоял запах рыбы, но Пенелопа его не почувствовала — внимание ее было поглощено видом консервных банок — они столбиками высились на всех горизонтальных поверхностях. Утренняя добыча мистера Пенберта.
— Вот это находка! Эрни мне рассказал, что ящики выбросило на Северный берег. Но как же вы приволокли их сюда?
— Сбегал за соседом. Он мне помог. Погрузили на повозку и привезли. Шести вам достаточно?
— Более чем.
Он положил ей по три банки в каждую корзинку.
— А как насчет рыбы? — спросил он.
— Рыбы? Какой рыбы?
Мистер Пенберт нырнул под стол и извлек оттуда источник рыбного запаха. Пенелопа заглянула в ведро — оно было полно серебристо-голубой макрели.
— Выменял на персики. Один парень наловил сегодня утром и предложил мне в обмен. Миссис Пенберт макрель не ест, она почему-то не считает ее съедобной рыбой. Вот я и подумал, может, вам пригодится? Свеженькая.
— Я бы взяла на ужин. Штук шесть-семь.
— Вот и хорошо.
Мистер Пенберт пошарил на печке, извлек оттуда старую газету, соорудил что-то вроде двух пакетов и положил рыбу на банки с персиками. Пенелопа подхватила корзины и согнулась под их тяжестью. Мистер Пенберт нахмурился.
— Справитесь? Не слишком тяжелые? Я бы вам их подбросил, когда поеду в вашу сторону, но завтра макрель будет уже не такая свежая.
— Справлюсь.
— Надеюсь, все будут довольны… — Он проводил Пенелопу до двери. — Как поживает Нэнси?
— Цветет.
— Скажите ей и Дорис, пусть навестят нас. Мы их уже небось целый месяц не видели.
— Я передам. Огромное вам спасибо, мистер Пенберт.
Он открыл дверь, звякнул звоночек.
— Рад служить, дорогая Пенелопа.
Нагруженная персиками и рыбой, Пенелопа двинулась домой. Теперь, к середине дня, на улице появились прохожие: кто-то отправился за покупками, кто-то по делам. Прогноз мистера Пенберта оказался верным. Прилив спал, ветер и дождь начали стихать. Пенелопа подняла глаза — высоко в небе, за несущимися темными облаками, просвечивали голубые клочки. Радуясь, что сегодня можно не ломать голову насчет ужина, Пенелопа бодро шагала по мостовой. Но очень скоро корзины начали давать о себе знать: заныли плечи, а запястья, казалось, вот-вот оборвутся. У нее мелькнула было мысль о том, что, может быть, она зря отказалась от предложения мистера Пенберта доставить покупки завтра, но она решительно изгнала эту мысль из головы и как раз в эту минуту услышала за спиной шум автомобиля. Кто-то ехал со стороны Северного причала.
Мостовая была узкая, да к тому же на каждом шагу попадались лужи. Пенелопа отступила в сторонку — небольшое удовольствие, если тебя окатят грязью. Машина миновала ее, но почти тут же заскрежетали тормоза, и она остановилась. Пенелопа узнала открытый джип и двух военных. Это были майор Лоумакс и его сержант. Спустив длинные ноги, майор ступил на дорогу и направился к Пенелопе.
— Судя по вашему виду, корзины тяжелые, — сказал он безо всякого вступления.
Обрадовавшись предлогу передохнуть, Пенелопа поставила корзины на мостовую и выпрямилась.
— Еще какие тяжелые!
— Мы с вами уже встречались.
— Я вас помню.
— Вы столько всего накупили?
— Нет, это подарки. Шесть банок консервированных персиков. Их прибило сегодня утром к Северному берегу. И немного макрели.
— И как далеко вам это нести?
— До дома.
— А где же дом?
— На вершине холма.
— Разве нельзя было попросить их доставить?
— Нельзя.
— Почему?
— Потому что я хочу, чтобы моя семья съела это сегодня вечером.
Майор Лоумакс улыбнулся, и лицо его вдруг совершенно преобразилось. Пенелопа словно впервые по-настоящему увидела его и смотрела, не отводя глаз. «Ничем не примечательное лицо» — таков был ее вердикт в тот день, когда он подошел к ним в галерее, теперь же, наоборот, она обнаружила, что менее всего его лицо можно назвать непримечательным. Правильные черты, удивительно яркие голубые глаза и эта неожиданная, полная обаяния улыбка…
— Пожалуй, мы сможем вам помочь.
— Каким образом?
— Подвезти мы вас не можем, — вы знаете, это запрещено, но я не вижу причин, почему бы сержанту Бартону не подбросить до дома ваши персики.
— Он не найдет дорогу.
— Вы его недооцениваете. — С этими словами майор Лоумакс наклонился и поднял корзины. И очень сердито сказал: — Вы не должны были их тащить. Так можно покалечить себя.
— Я все время таскаю покупки. Всем теперь приходится…
Но ее ответ остался без внимания. Майор Лоумакс уже шагал к джипу. Пенелопа, все еще пытаясь возражать, пошла за ним следом.
— Да я справлюсь…
— Сержант Бартон!
Сержант выключил мотор.
— Слушаю, сэр?
— Вот это надобно доставить. — Майор Лоумакс установил корзины на заднее сиденье джипа. — Молодая леди объяснит вам, как ехать.
Сержант почтительно повернулся к Пенелопе. Выхода не было, и она начала объяснять:
— …По дороге вверх, у гаража Грейбни свернуть направо, а дальше прямо, до самой вершины холма. Упретесь в высокую стену — это и есть Карн-коттедж. Вам придется оставить джип на дороге и пройти через сад.
— Дома кто-то есть, мисс?
— Да. Мой отец.
— Как его имя, мисс?
— Мистер Стерн. Если он вас не услышит… если никто не ответит на звонок, оставьте корзины у двери.
— Хорошо, мисс. — Сержант ждал дальнейших указаний.
— Вам все ясно, сержант? Тогда поезжайте, а я пройдусь пешком. Увидимся в штабе.
— Слушаюсь, сэр!
Сержант отдал честь, завел мотор, и джип тронулся. Вид у него был несколько необычный — на заднем сиденье мирно стояли хозяйственные корзины со свертками. За спасательной станцией джип завернул за угол и исчез из виду. Пенелопа осталась наедине с майором Лоумаксом. Чувствовала она себя довольно неловко. Да еще этот плащ и шляпа — ну и видок у нее! Но тут уж ничего не поделаешь, можно только стянуть эту дурацкую шляпу, что Пенелопа и сделала, а потом встряхнула головой, освобождая волосы. Шляпу она сунула в карман дождевика.
— Ну что ж, двинемся и мы, — сказал майор Лоумакс.
Руки у Пенелопы совсем окоченели, и она сунула их в карманы вслед за шляпой.
— Вы и вправду хотите прогуляться? — с сомнением спросила она.
— Я бы не стоял тут, если бы не хотел.
— У вас нет никаких дел?
— Что вы имеете в виду?
— Ну, может быть, вам нужно разрабатывать какой-то план или писать рапорт.
— Никаких. Свободен на весь остаток дня.
Они тронулись в путь. Пенелопе пришла в голову одна мысль.
— Надеюсь, ваш сержант не нарвется на неприятности? — спросила она. — Ему ведь наверняка запрещено возить в джипе корзины посторонних людей.
— Нагоняи ему даю только я сам, никого больше это не касается. Но почему вы сказали: «наверняка запрещено»? Откуда вы знаете?
— Я около двух месяцев служила в РЕН’е[26] и знаю правила. Нам нельзя было носить с собой ни сумочку, ни зонтик. Это очень осложняло жизнь.
Он заинтересовался:
— Когда же вы служили в РЕН’е?
— А-а, давным-давно. В сороковом. В Портсмуте.
— И почему ушли?
— У меня должен был родиться ребенок. Я вышла замуж и родила дочь.
— Понятно.
— Ей уже скоро три года. Зовут ее Нэнси.
— А муж по-прежнему на флоте?
— Да. Думаю, он сейчас в Средиземном море. Но точно не знаю.
— Вы давно его не видели?
— О-о… — Она не помнила, да и не хотела помнить, когда его видела. — Давно…
Тучи в небе вдруг разошлись, и в этот разрыв робко проглянуло солнце. Мостовая и шиферные крыши блеснули позолотой. Пенелопа удивленно подняла голову.
— И правда проясняется. Мистер Пенберт так и сказал. Он слушал прогноз: шторм должен утихнуть. Похоже, будет прекрасный вечер.
— Похоже.
Солнце скрылось так же мгновенно, как и появилось, и снова все вокруг окрасилось в серый цвет. Но дождь наконец перестал.
Пенелопа сказала:
— Давайте-ка пойдем не через город, а вдоль берега. Поднимемся у железнодорожной станции. Там начинается лестница, как раз напротив отеля «Нептун».
— С удовольствием. Я еще толком не разобрался в этих улочках, а вы, конечно, знаете их как свои пять пальцев. Вы тут постоянно живете?
— Летом. Зимой мы жили в Лондоне. А в промежутках ездили во Францию. Мать моя была француженкой. Там у нас много друзей. Но как только началась война, мы приехали сюда. И наверное, тут и останемся до ее окончания.
— А как же муж? Разве он не хочет, чтобы вы были с ним, когда он сходит на берег?
Они свернули в узкий проулочек, который тянулся вдоль берега. Бурный прилив забросал его галькой, морскими водорослями, обрывками просмоленных канатов. Пенелопа наклонилась и, подобрав голыш, швырнула его обратно в море.
— Я же объяснила вам, — сказала она, — он в Средиземном море. Но я не могла бы к нему поехать, даже если бы захотела, — я должна заботиться о папа́. Моя мать погибла во время бомбежки в сорок первом. Я должна быть с ним.
Он не сказал: «Я вам очень сочувствую». Он сказал: «Понимаю», и это прозвучало так, как будто он и вправду все понял.
— Мы живем не одни. Есть еще Дорис и два ее мальчика. Семья эвакуированных. Она потеряла мужа в эту войну и уже не вернется в Лондон. Никогда. — Пенелопа повернула голову к своему спутнику. — Папа́ с большим удовольствием побеседовал с вами в тот день в галерее. И очень рассердился на меня за то, что я не пригласила вас поужинать… Он сказал, что я была очень груба. Но я не хотела быть грубой. Просто мне было бы нечем вас накормить.
— Я счастлив, что познакомился с вашим отцом. Когда я узнал, что меня посылают в Порткеррис, у меня мелькнула мысль, что, может быть, я повстречаю там знаменитого Лоренса Стерна, но всерьез в это не верил. Я полагал, что он слишком стар и слаб, чтобы гулять по городу. Но я его сразу узнал, когда увидел вас в первый раз — вы стояли напротив штаба. А потом я зашел в галерею, и вы были там — я не поверил своему счастью! Какой он замечательный художник! — Он посмотрел на нее. — Вы унаследовали его талант?
— Увы, нет. И ужасно огорчаюсь. Часто видишь что-нибудь такое прекрасное, что замирает сердце, старую ферму или наперстянку, забравшуюся в живую изгородь, качающуюся под ветром на фоне голубого неба. Так хочется захватить их в плен, перенести на лист бумаги, завладеть ими навсегда! Но мне это не дано.
— Да, нелегко смириться с собственной неадекватностью.
Она подумала: судя по его уверенному виду, вряд ли он когда-либо испытывал такое чувство.
— А вы рисуете? — спросила она.
— Нет, не рисую. Почему вы спросили об этом?
— Вы разговаривали с папа́ с таким знанием дела.
— Если это действительно было так, то этим я обязан воспитанию: моя мать была женщиной артистического склада, очень творческой натурой. Едва я научился ходить, как она стала водить меня в музеи и на концерты.
— Эдак она могла вообще на всю жизнь отвратить вас и от живописи, и от музыки.
— О нет! Она делала это очень тактично, и мне было интересно. Она превращала наши походы в развлечение.
— А ваш отец?
— Он был биржевым маклером в Сити.
Однако как интересно узнавать о жизни других людей, подумала Пенелопа.
— А где вы жили?
— На Кэдоган-Гарденс. Но после смерти отца мать продала дом — он был слишком большим, — и мы переехали в дом поменьше на Пембрук-сквер. Она и сейчас там живет. И бомбежки не сдвинули ее с места. Она лучше погибнет, чем уедет из Лондона, — сказал он.
Пенелопа подумала о Долли Килинг, зарывшейся в свою норку в гостинице «Кумби». Коротает время за игрой в бридж и строчит длинные письма своему обожаемому Амброзу. Пенелопа вздохнула — мысли о Долли наводили на нее тоску. Ну да, конечно, следовало бы пригласить свекровь хоть на несколько дней погостить в Карн-коттедже — должна же она повидать внучку. Или же самой взять Нэнси и съездить в гостиницу «Кумби». Оба варианта приводили Пенелопу в такой ужас, что она поспешно выбрасывала их из головы и начинала думать о чем-нибудь более приятном.
Узкая мощеная улочка взбиралась вверх. Море осталось позади, теперь они шли между двух рядов белых рыбацких коттеджей. В одном из них отворилась дверь, и из нее важно вышел кот, а за ним женщина с корзиной, полной белья, которое она стала развешивать на протянутой перед домом веревке. Снова вдруг выглянуло солнце, на сей раз в большую прогалину. Женщина с улыбкой обернулась к ним.
— Ну вот, и посветлело немножко, — сказала она. — Я такого дождя в жизни не видывала! Но похоже, погода устанавливается.
Кот подошел к Пенелопе и потерся о ее ноги. Она наклонилась и погладила его. Они продолжали путь. Пенелопа вынула руки из карманов и расстегнула плащ.
— Вам не хотелось быть биржевым маклером, поэтому вы пошли в морскую пехоту? Или это из-за войны?
— Из-за войны. Я называюсь офицер запаса. Звучит не очень внушительно. Но я и маклером быть не хотел. Учился в Университете на отделении классической и английской литературы, потом преподавал в подготовительной школе для мальчиков.
— Морские пехотинцы научили вас покорять скалы?
Он улыбнулся:
— Не они. Это я умел делать еще задолго до войны. На лето меня отправляли в школу-интернат в Ланкашире, там был отличный инструктор, занимался с нами альпинизмом. В четырнадцать лет я уже мог подняться на любую гору и продолжал заниматься этим спортом.
— И за границей тоже поднимались на горы?
— Да. В Швейцарии. В Австрии. Собирался в Непал, но для восхождения на Гималаи требовалась длительная подготовка, да и путь туда неблизкий, я все никак не мог выкроить время.
— После Маттерхорна[27] Боскарбенские скалы, наверное, просто пустяк.
— Вот уж нет, — сухо заверил он, — совсем не пустяк.
Они продолжали свое восхождение, сворачивая в кривые проулочки, которые посторонний человек и не заметил бы, и поднимаясь по таким высоким гранитным ступенькам, что Пенелопа замолкала — не хватало дыхания. Последний подъем начался от «Нептуна», тропа петляла по крутому склону.
Дойдя до верха, Пенелопа остановилась отдохнуть, прислонясь к каменной ограде и ожидая, пока успокоится дыхание и перестанет колотиться сердце. Майор Лоумакс, который следовал за ней, словно бы и не заметил подъема. Снизу, от отеля, на них смотрел постовой.
Обретя дар речи, Пенелопа сказала:
— Я как выжатый лимон.
— Неудивительно.
— Давно не ходила этим путем. Когда я была маленькой, я пробегала тут от самого берега. Устраивала себе испытание на выносливость.
Она повернулась и, положив руки на ограду, поглядела вниз. Начался отлив, море стало спокойнее и посветлело, отражая поголубевшее небо. Далеко внизу мужчина прогуливал по берегу пса, сверху они казались совсем маленькими. Задул свежий бриз, и потянуло влажным мшистым запахом напитанных влагой садов. Этот знакомый запах принес воспоминания о детстве, о веселых беспечных днях, и Пенелопа почувствовала, как напряжение отпустило и ее наполнила радость. Только в детстве она могла вдруг ни с того ни с сего испытать такой беспричинный восторг.
Как же скучно жилось мне последние два года, подумала она, это было такое жалкое, убогое существование, что, кажется, и надеяться уже не на что. И вдруг, словно бы в одно мгновение, занавеси на окнах раздвинулись и открылся восхитительный вид. Он был тут все время, этот вид, он только ждал, когда я раздвину занавеси. И сколько надежд, сколько замечательных возможностей он сулил! Счастье — это что-то из довоенных времен, до Амброза, до страшной смерти Софи. Счастье — это значит снова стать молодой. Но я ведь молодая! Мне только двадцать три.
Пенелопа повернулась и посмотрела на человека, который стоял рядом с ней. Это он каким-то образом сотворил это чудо — вернул ее в прошлое.
И встретила его взгляд — он смотрел на нее. Интересно, почувствовал он, что с ней произошло, понял что-нибудь? Но он был совершенно спокоен и молчал — по его лицу ничего не скажешь.
— Мне пора домой. Папа́ будет волноваться, решит, что со мной что-то случилось, — сказала Пенелопа.
Ричард согласно кивнул. Сейчас они попрощаются и разойдутся. Она пойдет дальше. Он спустится вниз, перейдет дорогу, ответит на приветствие часового, взбежит по ступенькам крыльца и исчезнет за стеклянной дверью отеля. Быть может, навсегда.
— Не придете ли вы к нам поужинать? — спросила Пенелопа. Он не сразу ответил на это предложение, и на какой-то ужасный миг ей показалось, что сейчас он откажется.
Но Ричард улыбнулся:
— Спасибо за приглашение.
Какое облегчение!
— Сегодня?
— Вы уверены, что это удобно?
— Более чем. Папа́ будет очень рад продолжить ваш разговор.
— Спасибо. Это будет замечательно.
— Тогда в половине восьмого мы вас ждем. — Боже, как официально она изъясняется! — Я… я приглашаю вас, потому что сегодня у нас есть чем накормить гостя.
— Можно я угадаю? Макрелью и консервированными персиками?
Натянутость тут же исчезла, и они расхохотались. Я никогда не забуду этот смех, подумала Пенелопа. В первый раз они обменялись шутками!
Дорис сгорала от любопытства.
— Послушай, что происходит! Я тут занималась хозяйством, и вдруг в дверях появляется потрясающий сержант с твоими корзинами! Я предложила ему выпить чаю, но он сказал, что не может задерживаться. Где ты его подцепила?
Пенелопа уселась на кухонный стол и все рассказала. Дорис только глаза таращила, а когда дослушала рассказ, радостно провозгласила:
— Держу пари, у тебя появился обожатель…
— Ах, Дорис, я пригласила его к ужину.
— Когда?
— Сегодня.
— И он придет?
— Придет.
Дорис изменилась в лице.
— Черт бы всех побрал! — Она откинулась на спинку стула в полном отчаянии.
— Но почему же «черт побрал»?
— Меня не будет дома! Я ухожу. Везу Кларка и Рональда в Пензанс на «Микадо», Певческое общество устраивает представление.
— Ах, Дорис, я так на тебя рассчитывала! Мне нужна помощь. Ты не можешь отменить поездку?
— Никак не могу. Там уже договорились об автобусе, да и вообще состоится только два представления. А мальчики так давно этого ждут, бедняжки! — На лице Дорис появилось выражение смирения. — Ничего не поделаешь, придется ехать. Но я тебе помогу, пожарю макрель и успею уложить Нэнси. Вот не повезло — пропущу такое событие! Целый век мужчина к нам не заглядывал! Но что поделаешь…
Даже не вспомнив об Амброзе, Пенелопа спросила:
— А Эрни разве не мужчина?
Однако бедняга Эрни тут же был отвергнут:
— Ну да, он мужчина, конечно. Но он не считается.
И, разволновавшись, точно две юные девицы, они принялись хлопотать: почистили столовое серебро, вымыли хрустальные бокалы, Лоренс тоже явно оживился, он поднялся из своего кресла и осторожно спустился в подвал, где в былые счастливые дни держал внушительный запас французских вин. Теперь от них, можно сказать, ничего не осталось, но все же вернулся он с бутылкой дешевого алжирского вина и запыленной бутылкой портвейна, который затем с чрезвычайной тщательностью процедил через фильтр. Большего уважения к гостю проявить было просто невозможно, и Пенелопа это отметила.
В двадцать пять минут восьмого, когда Нэнси уже заснула, а Дорис с мальчиками уехала и все было готово к ужину, Пенелопа, перепрыгивая через ступеньки, поднялась в свою комнату. Она надела чистую блузку, сунула ноги в красные теннисные туфли, расчесала волосы и заплела косу, а потом свернула ее кольцом и пришпилила на затылке. Пудры и помады у нее не было, но духов немножко оставалось, и она надушилась. Критический взгляд в зеркало принес ей мало утешения. Типичная гувернантка! Она отыскала нитку пунцовых бус, нацепила их и в этот момент услышала, как заскрипела и хлопнула внизу калитка. Пенелопа подошла к окну: по благоухающему саду, по тропинке шел к дому Ричард Лоумакс. Он тоже переоделся, сменив полевую форму на обычную, цвета хаки, и портупея его была начищена до блеска. Под мышкой у него торчал сверток, в котором могло быть только одно — бутылка.
С той минуты, как они распрощались, Пенелопа сгорала от нетерпения снова увидеть его. Но теперь, глядя, как он приближается к дому, — еще несколько шагов, и позвонит в дверь, — она запаниковала. Ноги у нее похолодели, — Софи всегда говорила: «Это значит, сердце упало», — и она вдруг пожалела, что пригласила Ричарда. Что, если вечер не удастся? Дорис помогла бы ей, она такая болтушка, но вот и ее нет. И вообще, очень может быть, что она ошиблась, что Ричард Лоумакс совсем не такой, как ей показалось. Этот восторг, что вдруг охватил ее, необъяснимое ощущение счастья, близости и понимания, — может, все это ей только почудилось? Просто после долгих проливных дождей засияло солнце?..
Она отошла от окна, последний раз взглянула на себя в зеркало, поправила нитку бус на шее и вышла из комнаты. Звонок застал ее на лестнице. Она пересекла холл и отворила дверь.
— Надеюсь, я не слишком поздно и не слишком рано? — улыбаясь, сказал Ричард.
— Как раз вовремя. Нашли дорогу?
— Без всякого труда. У вас прекрасный сад!
— Шторм не пошел ему на пользу. — Пенелопа отступила в сторону. — Входите.
Он вошел, стянул с головы зеленый берет со значком. Пенелопа закрыла дверь. Он положил берет на комодик и повернулся к ней.
— Это для вашего отца, — сказал он, протягивая ей сверток.
— Спасибо, он это оценит.
— Он пьет шотландское виски?
— О да…
Кажется, все будет хорошо и она не ошиблась в нем. Он человек незаурядный. В нем есть что-то особенное, не только обаяние, но и удивительная простота. Она помнила, каким мучительным испытанием обернулось пребывание в Карн-коттедже Амброза, когда от напряженности и непривычной тишины в доме все стали раздражительными и капризными. С этим же высоким майором в дом вошли мир и покой. Так приходит старый друг, с которым давно не виделись, — возобновить знакомство, обменяться последними новостями. И Пенелопу снова охватило ощущение, что так уже было, что она вернулась в прежнюю жизнь. Теперь это ощущение было сильнее, чем в первый раз. Оно было настолько сильным, что ей представилось: дверь распахивается и в гостиную, смеясь и что-то весело говоря, входит Софи, она обнимает Ричарда и целует его в обе щеки. «Ах, мой дорогой, — говорит она, — а я все ждала, когда же ты к нам заглянешь».
— …только у нас уже давно нет ни единой бутылки. Папа́ придет в восторг. Он ждет вас в гостиной. — Она подошла к двери и раскрыла ее. — Папа́, пришел наш гость… и принес тебе подарок…
— И сколько же вы пробудете в наших краях? — спросил Лоренс.
— Не имею ни малейшего представления, сэр.
— Но не сказали бы, даже если бы имели. Как вы думаете, мы будем готовы к высадке в Европе в будущем году?
Ричард Лоумакс улыбнулся, но ничего определенного не сказал.
— Будем надеяться…
— Эти американцы… не очень-то посвящают нас в свои планы, остается только гадать, какой сюрприз они нам преподнесут.
— Но на самом-то деле они сюда не отдыхать приехали. Это высокопрофессиональная, совершенно отдельная воинская часть — свои офицеры, своя войсковая лавка, и отдыхают по-своему.
— А вы с ними ладите?
— В общем-то, вполне. Хотя они народ довольно буйный… может быть, не такие дисциплинированные, как наши солдаты, но очень храбрые.
— Вы отвечаете за всю операцию?
— Нет. Командир части — полковник Меллаби. Я всего лишь руковожу учебными тренировками.
— Вам нравится работать с ними?
Ричард Лоумакс пожал плечами:
— Для меня это новое дело.
— А как вам Порткеррис? Вы тут бывали раньше?
— Нет, никогда. Обычно в отпуск я отправлялся на север ходить по горам. Но о Порткеррисе знаю давно, благодаря художникам, которые здесь побывали. Здешнюю гавань я видел на многих картинах в разных музеях — матушка много водила меня по музеям. И знаете, вашу гавань не спутаешь ни с какой другой, узнаешь сразу же. Как ни странно, ничего тут не изменилось. И этот удивительный свет — словно морское сияние. Мне он казался неестественным, пока я не увидел его собственными глазами.
— Да, в нем есть что-то магическое. Все время поражаешься, сколько бы тут ни жил.
— Вы уже давно в Порткеррисе?
— С начала двадцатых годов. Привез сюда жену, как только мы поженились. Дома у нас сначала не было, и мы поселились в моей мастерской. Точно цыгане.
— Портрет над диваном — это ваша жена?
— Да, Софи. Тогда ей еще не исполнилось девятнадцати. Портрет кисти Шарля Ренье. В ту весну мы вместе сняли домик возле Варенжвилля. Считалось, что мы будем отдыхать, но Шарль впадал в беспокойство, если не работал, и Софи согласилась ему позировать. Ему хватило одного дня, даже неполного, но это одна из его лучших картин. Правда, он знал Софи чуть ли не с пеленок, как, впрочем, и я. Когда ты так близко знаешь модель, работается быстро.
Столовая тонула в сумерках. Свет исходил только от свечей, да посверкивали хрусталь и серебро на полированном, красного дерева столе, отражая последние отсветы заходящего солнца. Темные обои на стенах окаймляли комнату, точно подкладка шкатулки с драгоценностями, а за складками тяжелого поблекшего бархата, схваченного истершимися шелковыми шнурами с кистями, колыхались под легким сквознячком, тянувшим сквозь раскрытые оконные створки, тюлевые занавески.
Сумерки сгущались. Скоро придется закрыть окно и опустить темные занавеси. Ужин подошел к концу. Суп, жареная рыба и восхитительные персики были съедены, тарелки унесены на кухню. Пенелопа взяла с буфета блюдо с оранжевым пепином — ветром сбило все яблоки с яблони в верхнем углу сада — и поставила его на середину стола. Ричард Лоумакс взял яблоко и стал очищать его фруктовым ножичком с перламутровой ручкой. Пальцы у него были длинные, с аккуратно остриженными ногтями. Пенелопа смотрела, как он ловко управляется с ножичком — витая ленточка кожуры упала на тарелку. Он разрезал яблоко на четыре ровные дольки.
— И у вас по-прежнему есть мастерская?
— Есть, только она пустует. Я редко туда захожу. Работать я не могу, да и нелегко мне до нее дойти.
— Как бы мне хотелось побывать там!
— Вы можете сделать это в любое время. Ключ у меня, а Пенелопа вас проводит. — Лоренс улыбнулся дочери.
Ричард Лоумакс разрезал четвертинки пополам.
— А Шарль Ренье… он еще жив?
— Насколько я знаю, жив. Если не сказал чего-нибудь лишнего и его не прикончило гестапо. Надеюсь, что этого не случилось. Он живет на юге Франции. Если притаится, выживет.
Перед глазами Пенелопы возникает дом Ренье, увитая бугенвиллеей крыша, красный утес, уходящий в море, желтая перистая мимоза. С террасы зовут Софи: завтрак на столе, а она все плавает. Воспоминания так ярки, что невозможно поверить, что Софи уже нет. Сегодня она здесь, с той самой минуты, как вошел Ричард Лоумакс, и она не умерла, она живая, вот она — сидит на стуле во главе стола. Непонятно, почему это видение не уходит, почему такое чувство, что все, как прежде. Ничего не изменилось. Жизнь обошлась с ними жестоко: обрушила на них войну, отняла Софи. Может быть, это судьба подстроила ей встречу с Амброзом? Но ведь она сама отдалась ему, зачала Нэнси и вышла за него замуж. Нет, Пенелопа не сожалела, что отдалась ему, ей было так же хорошо с ним, как и ему с ней, и тем более не сожалела, что на свет появилась Нэнси, она и не представляла теперь, что этой прелестной девчушки могло не быть. Единственное, о чем она сожалела, и горько сожалела, так это о том, что вышла за него замуж. Какую же она совершила глупость! «Не выходи замуж, пока не полюбишь по-настоящему», — говорила ей Софи, и единственный раз в жизни Пенелопа не последовала совету матери. Амброз стал ее первым мужчиной, и его не с кем было сравнить. Счастливый брак родителей ничем ей не помог. Глядя на них, казалось, что брак — это всегда счастье и выйти замуж как раз то, что и нужно сделать. Амброз поначалу растерялся, но потом тоже решил, что лучше им пожениться. Вот они и поженились.
Страшная, ужасная ошибка! Она его не любит. Никогда не любила. У нее с ним нет ничего общего, и она нисколько не огорчится, если вообще никогда больше не увидит его. Пенелопа подняла глаза на Ричарда Лоумакса — его спокойное лицо было обращено к Лоренсу. Она перевела взгляд на его руки, лежащие на столе. Ей хотелось взять их в свои, прижать к щекам.
Интересно, а он тоже женат?
— Я не был с ним знаком, — говорил Лоренс, — но мне он почему-то представлялся довольно скучным человеком… — Они все еще обсуждали художников-портретистов. — От него можно было ждать всяких неожиданностей, в том числе и довольно неприятных… что и говорить, перед ним открывались широкие возможности… и все же ничего дурного он не совершил. Знаете, Бирбом нарисовал на него карикатуру: он смотрит из окна, а внизу длинная очередь светских дам, жаждущих, чтобы он их увековечил.
— Его акварели нравятся мне больше, чем портреты.
— Пожалуй, мне тоже. Все эти вытянутые дамы и джентльмены в охотничьих костюмах… Трехметрового роста и жутко высокомерные. — Лоренс потянулся к графину с портвейном, налил себе и подвинул графин к гостю. — А вы, случайно, не играете в триктрак?
— Конечно играю.
— Так, может, сыграем?
— С удовольствием!
Совсем стемнело.
Пенелопа поднялась из-за стола, закрыла окна и задернула все шторы — отвратительные черные и красивые бархатные. Сказала, что сейчас сварит кофе, и пошла на кухню. Тут она тоже первым делом задернула черную штору и только потом зажгла свет. Глазам ее предстала груда грязных тарелок, соусники, ножи и вилки. Она поставила на огонь чайник. Слышно было, как мужчины перешли в гостиную, как кто-то из них подбросил угля в камин, ни на минуту не умолкал их мирный дружеский разговор.
Папа́ в своей стихии, и очень доволен. Если игра в триктрак пойдет хорошо, возможно, он пригласит Ричарда Лоумакса посетить их еще раз. Пенелопа улыбнулась, отыскала чистый поднос и достала из буфета кофейные чашки.
Часы пробили одиннадцать, когда закончилась игра. Выиграл Лоренс. Ричард Лоумакс, с улыбкой приняв поражение, встал:
— Пожалуй, мне пора.
— А я и не заметил, как стемнело. Мы хорошо сыграли, может, повторим через денек-другой? — Лоренс помедлил и добавил: — Если, конечно, вы захотите.
— Я бы с удовольствием, сэр, но, к сожалению, я не могу ничего планировать заранее — мое время мне не принадлежит…
— Ну что ж, приходите, когда позволит время. Мы всегда дома. — Он начал подниматься с кресла, но Ричард Лоумакс опустил руку ему на плечо:
— Не вставайте…
— Ну и хорошо… — Лоренс с облегчением откинулся на подушки. — Я и не встану. Пенелопа проводит вас.
Пока они играли, Пенелопа вязала, сидя у камина. Она воткнула спицы в клубок и поднялась. Ричард с улыбкой повернулся к ней. Она пошла вперед и услышала, как он сказал:
— Спокойной ночи, сэр, и спасибо вам еще раз…
— Не за что.
Она провела его по темному холлу и отворила входную дверь. Напоенный запахами цветов и листвы, сад утопал в голубом свете. В небе висел серп луны. Держа берет в руке, Ричард остановился рядом с ней на пороге. Небо прочертили полосы облаков, бледно светила луна. Ветра не было, но с газона тянуло сыростью, и Пенелопа зябко поежилась.
— Пожалуй, я с вами за весь вечер и словом не обмолвился, — сказал он. — Надеюсь, вы не приняли меня за невежу?
— Вы пришли поговорить с папой.
— Не только с ним, но, боюсь, получилось именно так.
— Тогда я не теряю надежды — мы еще поговорим…
— Надеюсь. Только я уже сказал: мое время мне не принадлежит… Я не могу ни строить планы, ни назначать свидания…
— Понимаю.
— Но я приду, как только смогу.
— Приходите.
Он натянул берет. На серебряном значке блеснул лунный свет.
— Вкуснейший был ужин. Такой макрели я в жизни не едал. — Пенелопа улыбнулась. — Спокойной ночи, Пенелопа.
— Спокойной ночи, Ричард.
Он спустился с крыльца и пошел по дорожке. Вскоре темнота поглотила его. Пенелопа дождалась, покуда стукнула внизу калитка. На ней была всего лишь тонкая кофточка, и руки у нее покрылись мурашками. Она поежилась, вошла в дом и закрыла за собой дверь.
Они увидели его снова лишь две недели спустя. Удивительно, но Пенелопа почему-то не томилась ожиданием и не огорчалась. Ричард сказал, что придет, как только сможет, — значит придет. Она может подождать. Она много думала о нем. То и дело вспоминала днем, когда дел было по горло, он ей снился по ночам, и она просыпалась счастливая, стараясь подольше удержать сон.
Лоренс проявлял больше нетерпения, чем она.
— Что-то не видно этого Лоумакса, — время от времени ворчал он. — А славный молодой человек! Надеюсь, я еще сыграю с ним в триктрак…
— Он придет, папа́, — спокойно отвечала Пенелопа, потому что твердо знала: он придет.
Стоял сентябрь. Бабье лето. Вечера и ночи были холодные, а днем на безоблачном небе сияло солнце. Листья начали менять цвет и опадать, они медленно плыли в неподвижном воздухе и тихо опускались на газон. На бордюре, окаймлявшем газон перед домом, цвели яркие георгины и последние розы раскрывали бархатистые лепестки, наполняя воздух тончайшим ароматом. Казалось, они пахнут сильнее, чем в июне.
Суббота. После ланча Кларк и Рональд объявили, что они отправляются поплавать, на берегу их ждут школьные друзья. Дорис, Пенелопу и Нэнси они не позвали. Захватив с собой полотенца, пакеты с сандвичами и бутылку лимонада, они помчались по дорожке сада на такой скорости, будто малейшее промедление грозило им страшной опасностью.
С уходом мальчиков стало тихо и пустынно. Лоренс возвратился в гостиную подремать в кресле у открытого окна. Дорис увела Нэнси в сад. Вымыв тарелки и прибрав на кухне, Пенелопа отправилась на лужайку за домом и сняла с веревок вывешенное утром белье. Вернувшись на кухню, она сложила стопками пахнущие свежестью простыни и полотенца; сорочки и наволочки отдельно — их надо погладить, но это можно сделать позднее. В такую погоду не хотелось торчать в доме. Она вышла из кухни; в холле мирно тикали дедушкины часы, да на оконном стекле сонно жужжала пчела. Входная дверь была распахнута настежь, и на истершийся ковер лился золотистый свет. На газоне в старом садовом кресле устроилась Дорис с корзинкой для рукоделия на коленях — как всегда, что-то чинит, без дела не сидит; Нэнси хлопотала в своей песочнице. Ее соорудил Эрни, а песок привез с берега мистер Пенберт на своей конной тележке. В хорошую погоду Нэнси не вылезала из песочницы. И сейчас она с серьезным видом накладывала старой деревянной ложкой в ведерко песок и «пекла» пироги — в одном комбинезоне, латаном-перелатаном. Пенелопа присоединилась к ним. Дорис расстелила на траве старое одеяло, Пенелопа легла на него. До чего уморительна Нэнси, она с таким важным видом шлепает пухлыми ладошками по песку, утрамбовывая его, темные ресницы веером опустились чуть ли не на самые щеки. Прелесть!
— Ты решила отложить глажку? — спросила Дорис.
— Да. Очень уж жарко.
Дорис разглядывала мальчишечью сорочку — та здорово села от стирок, протершийся на сгибе воротничок словно щерился в усмешке.
— Какой смысл ее чинить? — с сомнением спросила она сама себя.
— Никакого, — отозвалась Пенелопа. — Порви ее на тряпки для протирки мебели.
— У нас в доме тряпок больше, чем одежды. Знаешь, что я сделаю первым делом, когда кончится эта проклятая война? Если, конечно, у меня будет такая возможность… Пойду и куплю одежду. Новую одежду. Много-много одежды! Не могу больше чинить. Вот взгляни на свитер Кларка. На прошлой неделе я его весь заштопала, и вот, пожалуйста, — опять на локте дырища. Как только они умудряются проделывать такие дыры!
— Мальчики растут. — Пенелопа перекатилась на спину, расстегнула кофточку и подтянула повыше юбку, обнажив голые колени. — Вырастают из одежды, ничего тут не поделаешь. — Солнце слепило ей глаза. — Вспомни, какие они были худенькие и бледные, когда приехали сюда. Теперь их не узнать — загорели, окрепли, чудные мальчишки!
— Я рада, что они еще мальчишки. — Дорис оторвала толстую шерстяную нитку и продела ее в иглу. — Не хочу, чтобы они стали солдатами. Я не вынесу…
Она смолкла. Пенелопа ждала, когда она договорит.
— Что ты не вынесешь?
В ответ раздался взволнованный шепот:
— К нам идет гость…
Солнце вдруг скрылось, на Пенелопу легла тень. Она открыла глаза — у ее ног обрисовывалась какая-то темная фигура. Мужчина в военной форме. Пенелопа в панике села, одернула юбку и начала поспешно застегивать блузку.
— Прошу прощения, — сказал Ричард. — Я не хотел вас напугать.
— Откуда вы появились? — Пенелопа вскочила на ноги, откинула с лица волосы.
— Я прошел через верхнюю калитку и через сад.
Сердце у Пенелопы громко стучало, она надеялась, что не очень сильно покраснела.
— Я и шагов ваших не услышала…
— Я не вовремя?
— Нет, почему же, как раз вовремя. Мы с Дорис лентяйничаем.
— А я сидел, сидел в штабе и вдруг понял, что больше не могу. Решил, может, мне повезет и я застану вас дома. — Он перевел взгляд на Дорис, которая застыла на стуле, словно ее загипнотизировали, — корзинка стояла на коленях, нитка повисла в воздухе. — Мы с вами еще не знакомы. Ричард Лоумакс. А вы, конечно же, Дорис?
— Угадали. — Они пожали друг другу руки. — Приятно познакомиться. — Дорис еще не совсем пришла в себя — так неожиданно майор предстал перед ними.
— Пенелопа рассказывала мне о вас и о ваших сыновьях. Они где-то здесь, в саду?
— Побежали купаться с дружками.
— И правильно сделали. Вас не было в тот вечер, когда я здесь ужинал.
— Да. Мы с мальчиками слушали «Микадо».
— Им понравилось?
— Очень. Дивная музыка. И очень смешная оперетта. Они все время хохотали.
Ричард перевел взгляд на Нэнси, которая в некотором замешательстве взирала на высокого незнакомца, вторгнувшегося в ее жизнь.
— Ваша дочь?
Пенелопа кивнула.
— Это Нэнси.
Он присел перед девчушкой на корточки.
— Привет. — Нэнси молча смотрела на него. — Сколько ей?
— Почти три.
На щеках у Нэнси налип песок, комбинезон на попке отсырел.
— Что это ты делаешь? Печешь пироги? — спросил ее Ричард. Он взял ведерко и вынул из ручки Нэнси деревянную ложку. Девочка не воспротивилась. Ричард набил ведерко песком и перевернул его — пирог получился безукоризненный. Нэнси немедленно разрушила его. Ричард рассмеялся и отдал ей обратно ведерко и ложку. — У нее совершенно правильные инстинкты, — заметил он и, сев на траву, снял берет и расстегнул верхнюю пуговицу своей походной куртки.
— Представляю, как вам жарко в форме! — сказала Пенелопа.
— Нестерпимо. Малоподходящая одежда для такой погоды. — Он расстегнул пуговицы до конца, снял куртку, закатал рукава рубашки, и вид у него стал вполне гражданский и домашний. Как видно, ободренная такой метаморфозой, Нэнси вылезла из песочницы, подошла к Пенелопе, уселась к ней на колено и, заняв эту удобную наблюдательную позицию, не мигая уставилась на Ричарда.
— Никогда не могу угадать, сколько ребенку лет. Только разве когда близко знаю его.
— У вас есть дети? — невинно спросила Дорис.
— Насколько я знаю, нет.
— Как это понять?
— Я не женат.
Пенелопа прижалась щекой к шелковистой головке Нэнси. Ричард откинулся на локти и подставил лицо солнцу.
— Жарко, как в июле. Только и сидеть в саду, наслаждаться теплом и солнцем. А где же ваш отец?
— Дремлет у окна в кресле. А может, уже проснулся. Пойду скажу ему, что вы здесь. Он так хотел вас увидеть и сыграть в триктрак.
Дорис взглянула на свои часики, воткнула иголку в рубашку, поставила корзинку на траву.
— Уже почти четыре! Не пойти ли мне приготовить нам всем по чашке чаю? Вы выпьете с нами чаю, Ричард?
— С наслаждением!
— Я скажу отцу, Пенелопа. Он любит попить чайку на природе.
Дорис покинула их. Они проводили ее взглядом.
— Славная девушка, — сказал Ричард.
— Славная.
Пенелопа начала рвать ромашки и плести венок для Нэнси.
— Чем вы занимались все это время?
— Лазил на скалы. Болтался на этих проклятых десантных судах: прилив — отлив, отлив — прилив. Мок в воде. Отдавал команды, придумывал упражнения и писал длинные отчеты.
Они помолчали. Пенелопа вплела в гирлянду еще одну ромашку.
— Вы знакомы с генералом Уотсоном-Грантом? — прервал молчание Ричард.
— Конечно. А почему вы спрашиваете?
— В понедельник мы с полковником Меллаби приглашены к нему на коктейль.
Пенелопа улыбнулась:
— И мы с папой тоже приглашены. Миссис Уотсон-Грант позвонила сегодня утром. Наш бакалейщик, мистер Ридли, раздобыл им пару бутылок джина, вот они и решили устроить небольшой прием.
— Где живет генерал?
— Выше по холму, в миле отсюда.
— Как же вы туда доберетесь?
— Он пообещал прислать за нами машину. За шофера у них старик-садовник. И горючее генерал раздобыл — он у нас в отряде самообороны. Боюсь, все это незаконно, но очень любезно с его стороны, иначе мы бы не добрались.
— Надеюсь, вы придете? Не раздумаете?
— Для вас это важно?
— Хоть будет кто-то знакомый. К тому же после коктейля я хочу пригласить вас пообедать.
Ромашковая цепь стала совсем длинной. Пенелопа подняла ее, взяв за концы. Красивая гирлянда!
— И папу вы тоже приглашаете? Или только меня?
— Только вас. Но если ваш отец захочет пойти…
— Он не захочет. Не любит выходить вечером.
— Вы принимаете приглашение?
— Да.
— Куда мы отправимся?
— Вот этого я не знаю.
— В «Сэндс»?
— Этот отель реквизирован с самого начала войны. Там выздоравливающие раненые.
— Тогда в «Замок»?
«Замок». Сердце у Пенелопы упало. Во время первого — и такого неудачного! — приезда Амброза в Карн-коттедж она сделала отчаянную попытку хоть как-то развлечь мужа и однажды предложила пойти пообедать и потанцевать в «Замок». Ничего хорошего из этого не вышло: был такой же скучный вечер, как и все остальные. Холодная и очень чинная столовая была наполовину пуста, еда невкусная, отель населяли одни старики. Время от времени унылый оркестрик играл старые мелодии, но потанцевать не удалось — живот у Пенелопы был такой, что Амброз не мог ее обнять.
— Нет-нет, только не туда! Там такие старушки-официантки, ползают как черепахи, и все постояльцы в инвалидных креслах. Это наводит тоску. — Пенелопа подумала и внесла более веселое предложение. — Можно пойти в бистро к Гастону.
— А где это бистро?
— На Северном берегу, на первой же улочке. Оно маленькое, но кормят там вкусно. Когда мы отмечаем чье-то рождение или подворачивается какой-то другой повод, папа́ водит нас с Дорис именно туда.
— Бистро Гастона. Звучит заманчиво. А телефон там есть?
— Безусловно.
— Тогда я позвоню и закажу столик.
— Дорис, он пригласил меня обедать.
— Да что ты! Когда?
— В понедельник. После коктейля у Уотсонов.
— Ты приняла приглашение?
— Да. А что? Ты считаешь, что надо было отказаться?
— Отказаться? Что-то у тебя, Пенелопа, с головой неладно. Я считаю, что он очень милый. По-моему, похож на Грегори Пека.
— Да что ты, Дорис, ни чуточки не похож!
— Да нет, не внешностью, а манерой держаться, он такой спокойный… ну, ты меня понимаешь. А что ты наденешь?
— Я еще не думала. Найду что-нибудь.
Дорис возмутилась:
— Знаешь, Пенелопа, от тебя просто спятить можно! Отправляйся в город и купи себе что-нибудь новое. Ты на себя и пенса не тратишь! Загляни к мадам Жоли, посмотри, что у нее имеется.
— Но у меня нет купонов на одежду. Истратила последние — купила эти уродливые чайные полотенца и теплый халатик Нэнси.
— Бога ради, да тебе и нужно-то всего-навсего семь купонов. Как-нибудь наберем, нас же все-таки шестеро. А если не наберем, куплю на черном рынке.
— Но это запрещено законом.
— К черту закон! У нас большое событие — твое первое за столько лет свидание. Утром в понедельник отправляйся в город и купи себе что-нибудь красивое.
Пенелопа и не помнила, когда в последний раз заходила в магазин готовой одежды мадам Жоли, но, поскольку мадам Жоли на самом-то деле была миссис Коулз, женой начальника береговой охраны, полной и добродушной, этакой уютной бабушкой, смущаться не было причин.
— Кого я вижу! Сколько лет ты ко мне не заглядывала! — воскликнула та, завидев входящую в дверь Пенелопу.
— Хочу купить себе новое платье, — не тратя времени попусту, заявила Пенелопа.
— Милочка моя, ничего особенного у меня нет, только самые обычные платья и прочее на каждый день. Как ни стараюсь, ничего не могу раздобыть. Хотя одно платьице все же есть, прелесть какое: красного цвета и как раз твоего размера. Красный — твой цвет, я помню. А по красному полю дивные ромашки! Правда, оно из искусственного шелка, но на ощупь материя очень мягкая, как настоящий шелк.
Мадам Жоли принесла платье. Пенелопа зашла в кабинку, сняла юбку и кофточку и скользнула в красное платье. Оно и вправду было мягким, к тому же от него так приятно пахло! Выходя из-за занавески, Пенелопа застегнула пуговицы и затянула красный ремень.
— Шикарно! — воскликнула мадам Жоли.
Пенелопа подошла к большому зеркалу и, вглядываясь в свое отражение, постаралась увидеть себя глазами Ричарда. Вырез каре, подложенные плечи, расклешенная юбка в складку. Талия у нее тонкая, широкий ремень еще и подчеркивал ее, а когда Пенелопа повернулась, чтобы взглянуть на себя со спины, юбка разлетелась веером, и это было так женственно, что она осталась более чем довольна собой. Ни один из ее нарядов не придавал ей такой уверенности. Она, можно сказать, с первого взгляда влюбилась в это платье и приняла решение купить его.
— Сколько оно стоит?
Мадам Жоли отвернула сзади на шее ярлычок, где обозначалась цена.
— Семь фунтов и десять шиллингов. И к сожалению, семь купонов.
— У меня наберется семь купонов.
— Правильное решение. Ведь это надо же, первое же платье примерила и тут же купила! Но я-то о нем сразу подумала, как только ты вошла. Как будто на тебя сшито. Какая удача!
— Папа́, как тебе нравится мое новое платье?
Пенелопа вынула обновку из пакета и, встряхнув складки, приложила к себе. Лоренс откинулся в кресле, снял очки и прищурился.
— Цвет твой… да, нравится. Но что это ты вдруг купила себе новое платье?
— Мы же идем сегодня к Уотсонам. Разве ты забыл?
— Забыть-то не забыл, только не представляю, как мы туда доберемся?
— Генерал пришлет за нами машину.
— Очень любезно с его стороны.
— И кто-нибудь привезет тебя обратно… Потому что я иду обедать в ресторан.
Лоренс снова нацепил очки и с минуту разглядывал поверх них свою дочь. Затем произнес:
— С Ричардом Лоумаксом. — И это не был вопрос.
— Да.
Он взял газету.
— Что ж, хорошо.
— Послушай, папа́, как ты считаешь, я могу пойти?
— А почему бы нет?
— Но я замужняя женщина.
— Но не глупая буржуазка.
Пенелопа помолчала.
— А если я увлекусь? — продолжала она.
— А что, к этому идет?
— Может быть.
— Ах вот оно что! Ну так увлекайся.
— Папа́, знаешь, я тебя очень, очень люблю.
— Рад это слышать. А почему?
— По тысяче причин. Но больше всего потому, что с тобой всегда можно поговорить.
— Было бы ужасно, если бы мы не могли говорить друг с другом. А что касается Ричарда Лоумакса, то ты ведь уже не девочка. Я не хочу, чтобы ты страдала, но ты должна жить своим умом. Решай сама.
— Я знаю, — ответила Пенелопа. Она не сказала: «Я уже решила».
К Уотсонам-Грантам они приехали последними. Когда старый садовник генерала Джон Тонкинс приехал за ними, Пенелопа все еще сидела за туалетным столиком. Никак не получалась прическа. В конце концов она решилась забрать волосы наверх, но в последний момент вдруг опять передумала, вынула все шпильки, и волосы свободно легли ей на плечи. Теперь надо было подыскать, что надеть сверху, — новое платье было совсем тонкое, а вечера в сентябре холодные. Приличного пальто у нее не было, одно только клетчатое пончо, но оно выглядело просто ужасно. Пришлось искать старую кашмирскую шаль Софи. Схватив ее, Пенелопа быстро сбежала вниз по лестнице, но отца в гостиной не было. Она обнаружила его на кухне — он вдруг решил почистить ботинки.
— Папа́, машина уже здесь. Джон нас ждет.
— Ничего не могу поделать. Это мои выходные ботинки, я не чистил их четыре месяца.
— Как ты это определил?
— Последний раз мы были у Уотсонов-Грантов четыре месяца назад.
— О, папа́! — Его скрюченные пальцы никак не могли справиться с баночкой крема. — Сейчас я тебе почищу.
Пенелопа произвела эту операцию как можно быстрее, энергично действуя щетками и перепачкав себе руки. Пока отец натягивал ботинки, она успела вымыть руки и, став на колени, зашнуровала ему ботинки. Наконец они медленным шагом — не могла же Пенелопа торопить отца — вышли из дома и поднялись по тропинке к верхней калитке, где их ожидали Джон Тонкинс и старый «ровер».
— Извини, Джон, мы заставили тебя столько ждать!
— Да я-то подожду, мистер Стерн, мне спешить некуда.
Он придержал дверцу машины, и Лоренс с трудом взобрался на переднее сиденье. Пенелопа села сзади. Джон занял место за рулем, и они поехали. Но не быстро — Джон Тонкинс берег машину своего хозяина и больше тридцати миль в час не делал, а может, боялся, что в машину подложена бомба и, если он поедет быстрее, сработает часовой механизм. В семь они протарахтели по подъездной аллее роскошного генеральского сада — чего тут только не было: рододендроны, азалии, камелии, фуксии! — и остановились перед парадной дверью. На площадке перед домом уже стояло четыре машины. Пенелопа узнала старенький «моррис» Трабшотов, но военная машина была другая — зеленая, со знаком морской пехоты. Молоденький шофер коротал время, читая «Пикчер пост».
Пенелопа и Лоренс вошли в дом. До войны гостей обычно встречала горничная в форменном платье, теперь не встречал никто. Холл был пуст. Они прошли в гостиную, но разговор доносился из оранжереи. Гости были уже в сборе и пили джин.
Оранжерея у Уотсонов-Грантов была большая, изысканно декорированная. Они построили ее, когда генерал вышел в отставку и навсегда уехал из Индии. Пальмы в кадках, длинные плетеные кресла, ковры из тигровых шкур, медный гонг, подвешенный к бивням давно покинувшего этот мир слона, — все здесь напоминало об Индии.
— Наконец-то вы пришли! Мы вас заждались! — Миссис Уотсон-Грант увидела Лоренса и Пенелопу и подошла поздороваться. Невысокого роста худощавая женщина с коротко остриженными волосами и очень смуглой кожей — последствие жаркого солнца Индии, — она была заядлой курильщицей и азартной покеристкой. Если верить легендам, в Кветте[28] миссис Уотсон-Грант большую часть времени проводила в седле и однажды не отступила даже перед тигром, хладнокровно всадив ему пулю в лоб. Теперь она была вынуждена довольствоваться деятельностью члена местного отделения Красного Креста и трудилась на победу в собственном огороде, но ей недоставало светского общения, и, заполучив пару бутылок джина, она немедленно собирала гостей. — Всегда-то вы опаздываете, — добавила она с обычной прямолинейностью. — Что будете пить? Джин с апельсиновым соком или с лаймом? Знакомить вас, я полагаю, ни с кем не нужно — быть может, только с полковником Меллаби и майором Лоумаксом…
Пенелопа огляделась и увидела Спрингбернсов из Сент-Энедока и долговязую миссис Трабшот, задрапированную в сиреневый шифон. В большущей шляпе с бархатным бантом, скрепленным пряжкой, сегодня она была похожа на привидение. Рядом с ней стояла квадратная мисс Паусон в ботинках на массивной резиновой подошве. А вот и полковник Трабшот заговаривает очередную жертву — вероятно, учит полковника Меллаби, как следует вести военные действия. Полковнику морской пехоты, высокому красивому мужчине с усами щеточкой и редеющей шевелюрой, приходилось наклоняться к своему собеседнику. По вежливо-скучающему выражению его лица Пенелопа заключила, что он не слишком-то увлечен разговором. Ричард стоял в другом конце оранжереи спиной к саду и беседовал с мисс Приди. Она нарядилась в вышитую венгерскую блузку и юбку с каймой — словно вот-вот пустится отплясывать чардаш. Ричард сказал ей что-то, и она, склонив голову набок, захихикала. Повернув голову, он увидел Пенелопу и чуть заметно ей подмигнул.
— Тебе налили джину, Пенелопа? — подошел к ней генерал Уотсон-Грант. — Слава богу, вы приехали! Я уж думал, что-то случилось.
— Просто-напросто опоздали. Джон Тонкинс нас заждался.
— Это ничего. Я беспокоился за полковника и майора. Бедняга! Пригласили на коктейль, и на тебе — одни старички да почтенные дамы. Хотелось составить им более веселую компанию, но, кроме тебя, я никого не нашел.
— На вашем месте я не стала бы беспокоиться. По-моему, они вполне довольны.
— Позволь тебя представить.
— С майором Лоумаксом мы уже знакомы.
— Вот как? Когда же вы успели?
— Папа́ разговорился с ним в галерее.
— Приятные люди. — Генерал обвел гостей заботливым взглядом хозяина и явно встревожился. — Надо выручать Меллаби! На него насел Трабшот, уже минут десять не отходит, а этого не вынесет даже самый закаленный воин.
И он покинул Пенелопу так же неожиданно, как появился.
Она подошла к мисс Паусон и выслушала рассказ о том, как ловко та управляется с пожарным насосом. Бокалы пополнялись, разговоры продолжались. Какое-то время Ричард не подходил к ней и не искал ее общества, но Пенелопу это не огорчало. Она ни на минуту не забывала о нем и терпеливо ждала, когда наконец окажется рядом с ним. Словно в каком-то ритуальном танце, они кружили по оранжерее, не приближаясь даже на такое расстояние, чтобы услышать, что говорит другой, улыбались кому-то, выслушивали собеседников. Подойдя к двери в сад, Пенелопа поискала глазами, куда бы поставить свой пустой бокал, но ее отвлек открывшийся в проеме двери вид. Золотистый свет заливал спускающийся вниз газон, под сенью ветвей кружились облачка мошкары. Тишину теплого сентябрьского вечера нарушало лишь воркование диких голубей.
— Привет! — Ричард подошел и встал рядом с ней.
— Привет.
Он взял из ее руки пустой бокал.
— Налить еще?
Пенелопа покачала головой:
— Нет, я больше не хочу.
Ричард нашел свободное местечко на столике, где стояла кадка с пальмой, и поставил бокал.
— Я волновался целых полчаса — думал, вы вообще не приедете.
— Мы всегда опаздываем.
Он обвел взглядом оранжерею:
— Какой экзотический интерьер. Можно подумать, мы переселились в Индию.
— Мне следовало вас подготовить.
— Зачем же? Я очарован.
— Да, этой оранжерее можно позавидовать. Когда-нибудь я тоже построю себе такую же, если, конечно, у меня будет подходящий дом. Просторную и солнечную, как эта.
— И застелите ее тигровыми шкурами, и повесите медные гонги?
Пенелопа засмеялась:
— Папа́ говорит, единственное, чего здесь не хватает, так это punkah wallah[29].
— Или кровожадных дервишей, затаившихся в кустах. А что, тигра застрелил сам хозяин?
— Скорее хозяйка. Гостиная увешана ее фотографиями: она в тропическом шлеме, а у ног охотничьи трофеи.
— Вы познакомились с полковником Меллаби?
— Еще нет. Он тут главная знаменитость, к нему не подступишься.
— Пойдемте, я вас представлю. Думаю, он скажет, что нам уже пора ехать, и подбросит нас до штаба, а дальше придется идти пешком. Вы не возражаете?
— Нисколько.
— А ваш отец?..
— Его отвезет домой Джон Тонкинс.
Ричард взял ее под руку:
— Пойдемте.
Все произошло именно так, как он сказал. Полковник Меллаби поговорил немного с Пенелопой, потом взглянул на часы, объявил, что ему уже пора уезжать, и попрощался. Пенелопа еще раз удостоверилась, что Лоренс будет доставлен в Карн-коттедж, и поцеловала его, пожелав спокойной ночи. Генерал проводил их до двери, по пути Пенелопа забрала со стула свою шаль. На площадке шофер, поспешно свернув «Пикчер пост», выскочил из машины и распахнул дверцу. Полковник сел впереди, Пенелопа и Ричард сзади. Они медленно отъехали, однако морячок-шофер был не так робок, как бедняга Джон Тонкинс, и вскоре они уже оказались у отеля «Нептун».
— Вы ведь, кажется, идете обедать? — спросил полковник Меллаби. — Если хотите, можете воспользоваться и машиной, и шофером.
— Спасибо, сэр, но мы пойдем пешком. Чудесный вечер.
— Да, вечер чудесный. Ну что ж, желаю вам приятно провести время. — Полковник одобрительно кивнул, отпустил шофера, поднялся по ступенькам и исчез за дверью.
Ричард повернулся к Пенелопе:
— Пошли?
Вечер и вправду был изумительный. Спокойное море светилось из глубин перламутровым светом, точно раскрытая раковина, и воздух тоже был жемчужным. Солнце село, но алые отсветы заката еще горели в небе. Пенелопа и Ричард шли по пустынным улочкам мимо закрытых ставнями витрин лавок.
Внизу тоже было немноголюдно. Рядом с местными жителями стояли группки американских рейнджеров с увольнительными, засунутыми за ремни, и с тоской в глазах — судя по их виду, они понятия не имели, как развлечься. Два-три счастливчика обзавелись подружками — на их локтях висели хихикающие шестнадцатилетние девчонки. Другие стояли в очереди у кинотеатра в ожидании, когда он откроется, или прохаживались в своих бесшумных, на мягкой резиновой подошве, башмаках в поисках подходящего паба. При приближении Ричарда среди солдат каждый раз начиналось какое-то беспокойное движение, словно им хотелось исчезнуть.
— Жалко их, — сказала Пенелопа.
— Им совсем не плохо.
— Как было бы приятно, если бы местные жители тоже приглашали их в гости.
— Не думаю, чтобы они нашли общие темы для разговоров с гостями генерала Уотсона-Гранта.
— Он был несколько растерян, что пригласил вас в такую стариковскую компанию.
— Он так сказал? И был совершенно не прав. Мне было интересно, там собрались очень занятные люди.
Ричард явно льстил местному обществу.
— Мне очень симпатичен Спрингбернс. У него ферма возле Сент-Энедока, занимается сельским хозяйством. И я люблю Уотсонов-Грантов.
— А как вам мисс Паусон и мисс Приди?
— Они лесбиянки.
— Я так и подумал. А Трабшоты?
— Трабшоты — это наш крест, и мы сообща несем его. Ее еще можно терпеть, но он — просто стихийное бедствие. Полковник у нас отвечает за противовоздушную оборону, и вы не представляете, как он преследует людей, если заметит хоть одну-единственную узенькую полоску света: гонит в суд и штрафует.
— Не лучший способ обзаводиться друзьями и завоевывать уважение сограждан, но, наверное, он просто выполняет свою работу.
— Вы куда добрее, чем папа́ и я. И вот загадка, над которой мы с папа́ ломаем голову: почему такой коротышка выбрал себе в жены каланчу, а она выбрала его? Он же ей до пояса не достает.
Ричард подумал и сказал:
— У моего отца был друг очень маленького роста, который поступил точно так же. И когда мой отец спросил его, почему он не выбрал женщину себе по росту, тот ответил: не хотел стать посмешищем, все говорили бы: «Эти малыши…»
— Может быть, он прав. Мне такое никогда не приходило в голову.
Она повела его на Северный берег кратчайшим путем, переулочками и мощенными булыжником площадками, они поднялись на почти отвесный холм, затем по извилистому проходу спустились по ступенькам вниз. Здесь начиналась мощеная дорога, которая шла по изгибу Северного берега. Длинный ряд белых коттеджей смотрел на залив.
— Я часто смотрю на этот залив с моря, но еще ни разу тут не бывал.
— Мне тут нравится больше, чем на другом берегу. Здесь всегда пустынно, точно сюда не ступала нога человека, и очень красиво. Мы уже почти пришли. Видите вон тот маленький коттедж с вывеской и цветочными ящиками под окнами?
— Расскажите мне о Гастоне. Кто он?
— Чистокровный француз, из Бретани. Он ходил к нашим берегам ловить крабов, женился на корнуоллской девушке, а потом произошел несчастный случай в море и он потерял ногу. После этого Гастон не мог больше заниматься своим промыслом, и они с Грейс, его женой, открыли это бистро. Прошло уже пять лет с тех пор, как оно тут появилось. — Пенелопа надеялась, что ресторанчик не покажется Ричарду слишком скромным. — Я говорила, это не слишком шикарное заведение…
Он улыбнулся и положил руку на ручку двери:
— А я и не люблю шика.
Над их головами звякнул звоночек. Они вошли в украшенный гирляндами флажков коридор, и на них хлынули ароматные запахи кухни и приглушенные звуки аккордеона. Открытая арка вела в небольшую, сверкающую чистотой комнату, где были столики, застеленные льняными клетчатыми скатертями. На каждом лежала стопочка белых салфеток и стояли кувшинчики со свежими цветами. В большом камине потрескивали поленья.
Два столика были уже заняты. За одним сидел молодой лейтенант со своей подружкой… впрочем, возможно, женой, за другим — пожилая пара. Наверное, они так заскучали в «Замке», что решили удрать к Гастону. Но лучший столик у окна был свободен.
Пенелопа и Ричард стояли в нерешительности, но в эту минуту из двери в другом конце столовой появилась Грейс — она услышала колокольчик.
— Добрый вечер. Вы майор Лоумакс, я не ошиблась? Заказывали столик? Хочу посадить вас у окна. Я подумала, вам понравится вид… — Краем глаза она приметила Пенелопу, и ее веснушчатое загорелое лицо под пышной копной обесцвеченных волос озарилось удивленной улыбкой.
— Привет, Пенелопа! Ты к нам? Я и не знала, что ты придешь.
— И не могли знать. Как поживаете, Грейс?
— Хорошо поживаем. Работы невпроворот, но мы не жалуемся. Ты с отцом?
— Нет, сегодня нет.
— Что же, можно пообедать и одной для разнообразия. — Взгляд ее с интересом устремился на Ричарда.
— Грейс, вы не знакомы с майором Лоумаксом?
— Очень приятно познакомиться. Ну, так где же вы хотите сесть? Если у окна, то не медлите, скоро нам придется задернуть черные шторы. Что-нибудь выпьете для начала? Сейчас я принесу вам меню.
— А что у вас найдется выпить?
— Выбор небогат… — Грейс сморщила нос. — Есть херес, но южноафриканский… отдает изюмом. — Она наклонилась к Ричарду, делая вид, что поправляет его прибор. — Хотите вина? — шепнула она ему на ухо. — Мы всегда приберегаем бутылочку-другую для мистера Стерна. Думаю, он не рассердится, если мы возьмем одну для вас.
— Замечательно!
— Не очень-то восторгайтесь, как бы не услышали другие. Я скажу Гастону, чтобы перелил в графин, тогда не будет видно, что это. — Она весело подмигнула, положила им на столик меню и удалилась.
Ричард с удивленным видом откинулся на стуле:
— Какой почет и уважение! И так всегда?
— Всегда. Гастон и папа́ большие друзья. Гастон обычно из кухни не выходит, но когда здесь папа́, а других посетителей уже не осталось, он появляется с бутылкой бренди, и они сидят чуть ли не до рассвета, решая мировые проблемы. А музыка — это Грейс придумала. «Комната маленькая, — сказала она, — и если будет играть музыка, никто не будет слушать чужие разговоры». Я понимаю, что она имела в виду. В столовой «Замка» слышится только шепот под звяканье ножей и вилок. Я предпочитаю музыку. Кажется, что ты в каком-то фильме.
— Вам это нравится?
— Под музыку хорошо мечтается.
— Вы любите кино?
— Обожаю. Зимой мы с Дорис ходим в кино по два раза в неделю. Не пропускаем ни одного фильма. А что еще теперь делать в Порткеррисе?
— До войны было иначе?
— Да, конечно, до войны все было по-другому. Мы никогда не жили тут зимой, проводили ее в Лондоне. У нас был дом на Оукли-стрит. Да и сейчас он есть, только мы туда не ездим. — Она вздохнула. — Знаете, когда идет война, хуже всего то, что ты пришпилен к одному месту. Попробуй-ка выберись из Порткерриса, когда ходит всего один автобус в день и нет бензина. Наверное, это расплата за прежнюю нашу вольную жизнь. Папа́ и Софи никогда не засиживались на одном месте. Вдруг находился самый незначительный предлог, они складывали чемоданы и уезжали во Францию или в Италию. Жизнь была такой увлекательной!..
— Вы были единственным ребенком у родителей?
— Да. И очень избалованным.
— Позвольте не поверить.
— Но это так. Я всегда крутилась среди взрослых, и ко мне относились, как к вполне разумному человечку. Друзья моих родителей были и моими друзьями. И это неудивительно, если вспомнить, как молода была моя мать. Она больше походила на сестру.
— И была прекрасна.
— Вы судите по ее портрету? Да, она была очень красивая. И не просто красивая — веселая, ласковая, она просто излучала любовь и радость. Рассердится на что-нибудь, а через минуту уже смеется. Куда бы мы ни приехали, тут же чувствовали себя как дома — она умела все мило и уютно устроить. С ней тебе не надо было ни о чем тревожиться. От нее исходило спокойствие. Я не знаю человека, который бы не полюбил ее. Она не уходит у меня из памяти, я все время думаю о ней. В какие-то дни мне кажется, что ее давно уже нет, она умерла. Но чаще — что она где-то здесь, в доме, сейчас откроется дверь, и она войдет. Нам было так хорошо втроем, что никто больше не был нужен. Боюсь, это было эгоистично с нашей стороны. И в то же время, где бы мы ни жили, в доме было всегда полно людей, иной раз просто каких-то случайных знакомых, которым, кроме как к нам, и некуда было пойти. Но и друзей полным-полно. Тетя Этель и Клиффорды приезжали к нам каждое лето.
— Тетя Этель?
— Папина сестра. Она замечательная и большая чудачка. Но она теперь не приезжает в Карн-коттедж отчасти потому, что в ее комнате теперь живут Дорис и Нэнси, а еще, наверное, потому, что живет теперь не в Лондоне, а где-то в глуши, в Уэльсе, с какими-то своими друзьями, которые держат коз и ткут. Смешно, но это так. У нее все приятели со странностями.
— А Клиффорды? — спросил Ричард. Ему интересно было слушать ее.
— Это уже грустная история. Клиффорды не приезжают потому, что их уже нет в живых. Их убила та же бомба, что и Софи.
— Простите, я не понял.
— Но вы и не могли понять. Они были самыми близкими папиными друзьями. Жили вместе с нами на Оукли-стрит. Когда несчастье случилось и папа́ услышал об этом по телефону, он сразу стал совсем другим. Очень старым. Изменился на моих глазах, в одну минуту.
— Поразительный человек!
— Он очень сильный.
— Он страдает от одиночества?
— Да. Все старики чувствуют себя одинокими.
— Ему повезло — у него есть вы.
— Я никогда не смогу его оставить, Ричард.
В дверях столовой появилась Грейс с двумя графинами, и разговор прервался.
— Вот и вино! — Наклонившись над столом, она украдкой подмигнула им и поставила на стол графины. — Увы, пора задергивать шторы. — Грейс проворно управилась со шторами, расправила складки, подвернула внутрь концы, чтобы не проник и лучик света. — Решили, что будете есть?
— Да мы еще и в меню не заглянули. А что бы вы нам посоветовали?
— Суп из мидий и рыбный пирог. Мясо на этой неделе неважное — жесткое как подошва, одни жилы.
— Отлично, будем есть рыбу.
— Со свежей спаржей и зеленым горошком? Вот и прекрасно, сейчас я вам все подам.
Она удалилась, подхватывая на ходу пустые тарелки с других столиков. Ричард разлил вино и поднял бокал.
— За ваше здоровье!
— Sante[30].
Вино было легкое, прохладное. Оно напоминало Францию, другие летние дни, другие времена. Пенелопа поставила бокал.
— Папа́ одобрил бы его.
— Расскажите мне что-нибудь еще.
— Про что? Про тетю Этель и ее коз?
— Нет, о себе.
— Это довольно скучно.
— Мне не будет скучно. Расскажите о том, как вы служили на флоте.
— Ну уж об этом мне меньше всего хочется рассказывать.
— Вам не понравилось?
— Я возненавидела там все с первого дня.
— Но зачем вы пошли в армию?
— Дурацкий порыв. Мы жили в Лондоне и… кое-что произошло…
Ричард ждал продолжения:
— Что произошло?
Она взглянула на него:
— Вы решите, что я дурочка…
— Не решу.
— Это очень длинная история.
— Нам некуда спешить.
Пенелопа глубоко вздохнула и начала рассказывать. Рассказала о Питере и Элизабет Клиффорд, потом о том вечере, когда она и Софи поднялись к ним выпить кофе и впервые встретились с Фридманами — молодой еврейской четой, которая бежала из Мюнхена. Ричард слушал, не сводя с Пенелопы глаз, лицо его было спокойно. И она вдруг подумала, что делится с ним тем, что никогда не открыла бы Амброзу.
— Вилли Фридман стал рассказывать нам о том, как преследуют евреев в нацистской Германии. О том, что такие люди, как Клиффорды, не один год пытались объяснить всему миру, что такое нацизм, но никто не хотел слушать. И в тот вечер война вдруг стала для меня чем-то личным. Страшная, пугающая, она теперь имела отношение непосредственно ко мне. На следующий день я пошла в первый попавшийся вербовочный пункт и записалась во вспомогательную службу. Вот и вся история. Звучит довольно патетически.
— Я так не считаю.
— Она бы и не была патетической, если бы я почти сразу же не пожалела об этом. Я тосковала по дому, никак не могла ни с кем подружиться, и мне было ужасно трудно жить вместе с совершенно незнакомыми людьми.
— Очень многие испытывают эти трудности, — сочувственно отозвался Ричард. — И куда же вас послали?
— Остров Уэйл. Военно-морское артиллерийское училище.
— Там вы и встретили вашего мужа?
— Да. — Она опустила глаза и стала вилкой чертить на скатерти крестики. — Он был младшим лейтенантом, проходил там подготовку на курсах.
— Как его имя?
— Амброз Килинг. А почему вы спрашиваете?
— Я подумал, что мы могли с ним где-нибудь встретиться, но нет, я его не знаю.
— Да и где бы вы могли встретиться? — ничуть не заинтересовавшись такой возможностью, сказала Пенелопа. — Он намного моложе вас… Ах, простите… А вот и Грейс несет нам суп! — Она с облегчением перевела разговор на другую тему и поспешно добавила: — Я только сейчас поняла, как голодна. — Пусть Ричард подумает, что она радуется супу, а не предлогу отвести разговор от Амброза.
Было уже одиннадцать, когда они пустились в обратный путь. Похолодало, и Пенелопа закуталась в шаль Софи, радуясь, что захватила ее, и вдыхая знакомый аромат. Они шли по темным переулкам, мимо домиков с закрытыми ставнями. Высоко в небе, затеняя звезды, плыли облака, и чем выше в гору они поднимались, тем сильнее дул ветер с океана.
Но вот и гараж Гребни, от него идет последний подъем. Пенелопа остановилась, отвела с лица волосы и плотнее запахнула шаль.
— Я виноват, — сказал Ричард.
— Виноваты? В чем?
— Мы взошли на такую гору. Мне следовало позаботиться о такси.
— Я не устала. К тому же я одолеваю эти горы по два, а то и по три раза в день. Так что уже привыкла.
Он взял ее за руку, их пальцы переплелись, и они снова пустились в путь.
— Я буду очень занят в ближайшие десять дней, но, если выдастся свободный вечер, может, зайду к вам. Сыграем с вашим отцом в триктрак.
— Приходите в любое время, — сказала Пенелопа. — Просто загляните на минутку. Папа́ будет рад вас повидать. И какая-то еда у нас всегда найдется, на худой конец просто суп и хлеб.
— Вы очень добры.
— Ничуть. Это вы добры ко мне. Я и не помню, когда у меня был такой приятный вечер… что кто-то может пригласить меня пообедать…
— А я за четыре года военной жизни забыл, что можно пообедать еще где-то, а не в общей столовой, где полным-полно людей и все обсуждают, что где купить. Так что мы доставили удовольствие друг другу.
Они подошли к калитке. Пенелопа повернулась к Ричарду:
— Может быть, зайдете выпить чашку кофе?
— Увы, не могу. Завтра мне очень рано вставать.
— Помните, что я вам сказала, Ричард. Приходите в любое время.
— Я приду, — сказал он. Потом положил руки ей на плечи, наклонился и поцеловал в щеку. — Спокойной ночи!
Пенелопа затворила за собой калитку, прошла по саду и ступила в спящий дом. В спальне приостановилась у длинного зеркала, висевшего над туалетным столиком, и внимательно вгляделась в девушку, которая стояла напротив и так же внимательно глядела на нее. Потом Пенелопа ослабила узел на шали, и та упала на пол, к ее ногам. Медленно, одну за другой, она начала расстегивать пуговицы на своем красном в ромашках платье, потом вдруг забыла о них и наклонилась вперед, разглядывая свое лицо, потом подняла руку и осторожно коснулась щеки, которую поцеловал Ричард. Румянец залил ей щеки. Смешно! Она разделась, выключила свет, раздвинула шторы и легла. И долго лежала с открытыми глазами, глядя в окно на темное небо, слушая дыхание моря, чувствуя, как бьется ее сердце, мысленно повторяя каждое слово, которое сказал в этот вечер Ричард.
Ричард Лоумакс был верен своему обещанию. В последующие недели он неожиданно являлся и так же неожиданно исчезал, и скоро обитатели Карн-коттеджа стали воспринимать это как нечто само собой разумеющееся. Лоренс частенько хандрил в преддверии наступающей зимы, когда из дома носа не высунешь, но, заслышав голос Ричарда, приходил в хорошее расположение духа. Дорис уже давно решила, что Ричард — обаятельнейший мужчина, и то, что он был всегда не прочь поиграть с ее сыновьями в футбол или помочь им починить велосипеды, только подкрепляло это мнение. Рональд и Кларк, поначалу несколько робевшие перед таким высоким военным чином, очень скоро и думать забыли о робости, стали называть его просто Ричард и приставали к нему с бесконечными расспросами: в каких сражениях он участвовал, прыгал ли он с парашютом и скольких немцев захватил в плен. Эрни он пришелся по душе потому, что держался просто, не боялся грязной работы и по собственной инициативе напилил и наколол груду дров.
Для Пенелопы это было чудесное время — она словно пробуждалась от долгой спячки, ведь в последние годы если и жила, то только наполовину. Теперь же, день ото дня, она словно заново обретала зрение, ее чувства и восприятие обострялись. Одним из признаков этого стали популярные песни — она вдруг услышала их. На кухне в Карн-коттедже был маленький радиоприемник, Дорис включала его, как только входила туда, и выключала, лишь закончив все дневные дела. Примостившись на краю кухонного стола, он пересказывал заметки из «Уокерс плейтайм», сообщал сводки новостей, пел и утешал сам себя, поскольку мир слушал его и шел своим путем. Но однажды утром, когда Пенелопа скребла морковь над раковиной, запела Джуди Гарланд.
Мне кажется, мы когда-то стояли и говорили так же, как сейчас. И так же смотрели друг на друга. Только я никак не могу вспомнить где и когда. Ты был так же одет И улыбался так же, как улыбаешься мне сейчас…— Что это с тобой происходит? — не выдержала Дорис.
— О чем ты?
— Застыла над раковиной с ножом в одной руке и с морковью в другой и смотришь в окно. Ты не заболела?
Случались и другие, менее банальные, проявления этой обострившейся чувствительности. Что-то самое привычное вдруг привлекало внимание Пенелопы, она вдруг останавливалась и долго смотрела. Последние листья слетели с деревьев, и голые ветки соткали причудливый узор на фоне бледного неба. После дождя выглянуло солнце и булыжник на улочках заблестел, как рыбья чешуя, слепя глаза, — вот-вот поскользнешься. Резкий осенний ветер погнал по заливу стадо белых барашков, но от этой картины повеяло не холодом, а энергией, жизнью. Эта энергия наполняла и Пенелопу. Она переделала уйму дел, которые все время откладывала: чистила столовое серебро, работала в саду, а на уик-энды собирала ребят и отправлялась с ними в дальние походы — в вересковую долину, на скалы за Северным берегом. Но может быть, самым удивительным, самым странным было то, что она вовсе не тревожилась и не предавалась грустным раздумьям, если Ричард долго не приходил. Она точно знала: раньше или позже он обязательно придет, и вместе с ним придет то чувство легкости и понимания, которое сразу же овладело ею во время его первого визита. И когда он наконец приходил, это было как награда, как чудесный подарок.
Пытаясь объяснить себе, почему она так спокойно принимает ситуацию, она поняла, что для нее и отношения с Ричардом Лоумаксом, и это новое ощущение жизни — не нечто эфемерное, преходящее. Напротив, Пенелопе казалось, что дни и часы не имеют никакого значения, что все предначертано судьбой с самого ее рождения и не важно, сколько осталось ждать, — свершится то, что суждено. То, что происходит с ней, должно было произойти, и не будет этому конца, так же как невозможно точно определить, когда все началось.
…Каждый год, в середине лета, устраивался так называемый Открытый день. Все художники наводили чистоту в своих мастерских… кое-кому приходилось здорово повозиться… выставлялись все законченные работы, публика переходила из одной мастерской в другую, смотрела картины, что-то покупала. Конечно, многие ходили просто так, из любопытства, — есть такие любители посмотреть на чужие дома… Но были и покупатели, причем немало. Некоторые художники, как я уже сказала, даже тогда, до войны, не очень-то обращали внимание на чистоту и красоту, но Софи каждый раз устраивала у Лоренса в мастерской генеральную уборку: она чистила и драила, расставляла повсюду вазы с цветами, угощала гостей песочными коржиками и вином. «Распродаже это на пользу», — говорила она…
Был конец октября, воскресенье, ранний вечер. Во время своих неожиданных визитов в Карн-коттедж Ричард не раз выказывал желание побывать в мастерской Лоренса, но всегда им что-то мешало. Сегодня в кои-то веки он был свободен до самого вечера, и Пенелопа, оставив все свои дела, предложила сводить его туда. Она опустила в карман плаща тяжеленный старый ключ, и они отправились.
Дул холодный западный ветер, низкие тучи то заволакивали небо, то расходились, открывая прозрачную голубизну, и море тогда начинало искриться и сиять, но тучи снова сходились, и на море ложилась их серая тень. Немногочисленные туристы давно разъехались, и набережная опустела. Лавки были закрыты, а местные жители, как и положено методистам в воскресный день, погрузились в послеобеденный сон или копались в своих садиках позади домов.
— А в мастерской еще есть картины вашего отца?
— Увы, нет. Хотя, может быть, какие-то наброски и незаконченные полотна сохранились. Но законченных нет. Когда он писал, то старался сразу все продать, иногда даже договаривался с покупателем прежде, чем заканчивал картину. Мы ведь на это жили. Он продал все, кроме «Собирателей ракушек». Это полотно никогда не выставлялось. К нему у отца особое отношение, он даже никогда не заговаривал о том, чтобы его продать. — Они свернули с набережной и теперь поднимались по запутанному лабиринту узких улочек и проулков. — Вот тут я шла в тот день, когда объявили войну, — за папа́, чтобы привести его домой завтракать. Часы на церковной колокольне пробили одиннадцать, и все чайки, которые там сидели, снялись с места и взлетели в небо.
Они свернули за последний угол, и перед ними открылся Северный берег. Ветер задул с такой силой, что перехватывало дыхание, и они помедлили минутку, прежде чем начать спускаться по извилистому переулочку, ведущему к студии.
Пенелопа не сразу справилась с ключом, но потом дверь наконец отворилась. Пенелопа вошла первой, и ее охватил стыд: она давно не была в мастерской и только сейчас увидела, какой тут беспорядок и запустение. Воздух затхлый, хотя и холодно, пахнет скипидаром, дымом, смолой и сыростью. Льющийся из высоких окон холодный ясный свет беспощадно выставлял напоказ запустение и беспорядок. За ее спиной Ричард прикрыл дверь.
— Я и не знала, что тут творится! И холодно ужасно.
Пенелопа подошла к окну, отодвинула защелку и не без труда распахнула створки. Ветер ворвался в комнату, словно поток ледяной воды. Взгляду открылся пустынный берег, отлив, линия белых бурунов терялась в тумане.
Ричард тоже подошел к окну.
— «Собиратели ракушек», — сказал он так, словно обрадовался и этому пустынному берегу, и далекому отливу.
— Ну да. Он же рисовал, сидя у этого окна. — Пенелопа отвернулась от окна. — Софи стало бы дурно, если бы она увидела мастерскую папа́ в таком состоянии!
На полу и на всех горизонтальных поверхностях лежал слой песка. На столе валялась груда старых журналов, пепельница, полная окурков, забытое купальное полотенце. Бархатное драпри на кресле для натурщиков выцвело и запылилось, на железном листе под пузатой печкой горбилась кучка золы. В углу под углом друг к другу стояли две тахты, покрытые полосатыми пледами; раскиданные на них подушки как будто сплющились, потеряли форму, а одну, похоже, облюбовала для себя мародерка-мышь, она проела в углу большую дыру и теперь оттуда тянулся ватный хвост.
Пенелопа ринулась в бой. Отыскала старый бумажный мешок, бросила туда дырявую подушку, опорожнила пепельницу и поставила мешок у двери, чтобы на обратном пути выкинуть его в мусорный ящик. Собрала все остальные подушки и сняла полосатые пледы, притащила все к открытому окну и долго трясла на холодном свежем воздухе. Заодно их здорово продул ветер. Пледы расправились, подушки снова стали пухлыми, и тахты приобрели совсем другой вид.
Тем временем Ричард, судя по всему, нисколько не смущенный беспорядком, с интересом осматривал мастерскую Лоренса Стерна. Все привлекало его внимание: раковины и морская галька, лежавшие на полках, куски плавника — наверное, цвет и форма заинтересовали хозяина, фотографии на стенах, гипсовый слепок руки; керамический кувшин, в котором стояли перья морских птиц и сухая трава, такая хрупкая, что, тронь ее, и рассыплется; мольберты и стеллажи со старыми холстами и альбомами для зарисовок, подносы с засохшими тюбиками красок, старые палитры и банки с кистями, закапанные кобальтом, охрой и жженой сиеной, которую Лоренс так любил.
— Давно ваш отец не работает?
— Уже несколько лет.
— И все здесь хранится в том виде, в каком было прежде?
— Папа́ никогда не выбросит ни единой вещички. И я тоже не осмелюсь.
Ричард остановился перед печуркой.
— Может, затопим? Подсушим немножко комнату.
— Можно и затопить, только у меня нет спичек.
— У меня есть. — Ричард энергично взялся за дело: открыл дверцу поддувала и выгреб кочергой золу. — Газет тут сколько угодно, и растопка есть, и дров хватит.
— А если в трубе свила гнездо галка?
— Это мы скоро узнаем. — Ричард стянул с головы зеленый берет, бросил его на кресло, снял куртку и закатал рукава рубашки.
Пока он вычищал из печки остатки золы и складывал туда куски газеты, Пенелопа извлекла щетку из-за составленных у стены досок для серфинга и принялась сметать песок со столов и пола. Она нашла кусок картона, собрала весь песок на него и выбросила в окно. Вдалеке на берегу появились три фигурки: мужчина и женщина с собакой. Непонятно, откуда они взялись, словно материализовались из воздуха. Мужчина швырнул в воду пачку из-под сигарет, и собака бросилась за ней. Пенелопа зябко поежилась, холодно было не на шутку. Она прикрыла окно, закрепила его на крючок, и, решив, что с уборкой можно закончить, устроилась на тахте, подобрав под себя ноги. Как бывало, наплававшись и наигравшись, присаживалась к Софи почитать книжку или послушать какой-нибудь ее рассказ.
Она смотрела на Ричарда, и на душе у нее был тот же мир и покой, как когда-то в далеком детстве. Растопка наконец-то занялась, потрескивали ветки и плясали язычки пламени. Ричард осторожно подложил туда поленья. Пенелопа улыбнулась: он был как мальчишка, старательно разжигающий костер. Ричард обернулся и поймал ее улыбку.
— Вы когда-то были бойскаутом? — спросила его она.
— Был. Я даже научился вязать узлы и делать из двух жердей и плаща носилки.
Он подбросил в печурку несколько смолистых полешек, и они с треском вспыхнули. Тогда он прикрыл дверцу, наладил тягу и поднялся, обтирая руки о штаны.
— Ну вот и разгорелась.
— Запаслись бы мы заваркой и молоком, могли бы вскипятить чайку.
— А если бы у нас был бекон и яйца, то мы бы поджарили яичницу. — Он взял табуретку и сел напротив нее. Правую щеку его прочертила полоска сажи, но Пенелопа ничего ему не сказала. — Так вы тут и жили? Кипятили чаёк?
— После серфинга. Что может быть лучше, когда продрогнешь и зуб на зуб не попадает. А тут тебе и чай, и имбирные пряники. Обмакнешь пряник в чай — вкуснота! Иногда бушевали такие штормы, что песок наметало до самых окон — этакие высоченные валы. В другие годы, как в это лето, его уносило в море, и приходилось спускаться к воде по веревочной лестнице. — Пенелопа вытянула ноги, подложив поудобнее подушки. — Я, как старушка, все время рассказываю про то, что было. Наверное, вам скучно слушать.
— Совсем не скучно. Но иногда начинает казаться, что в тот день, когда началась война, ваша жизнь кончилась. А это неправильно, вы ведь очень молоды.
— Мне двадцать четыре. Только что исполнилось, — уточнила Пенелопа.
Он улыбнулся:
— Когда ваш день рождения?
— Был в прошлом месяце. Вас тогда не было.
— Сентябрь. — Он что-то прикидывал в уме, потом удовлетворенно кивнул. — Да. Верно. Подходит.
— Что подходит?
— Вы когда-нибудь читали Луиса Макниса?
— Никогда о нем не слышала.
— Это ирландский поэт. Замечательный! Сейчас я представлю его вам, почитаю по памяти, и вы поразитесь.
— Меня не так легко поразить.
Ричард засмеялся и без всякого вступления начал читать:
И вот сентябрь настал в ее честь — Для нее животворна осень, Лишь бы вновь предпочесть Облетевшие листья и пламя в камине. Что ж — отдам и сентябрь я, и месяц за ним Ей, танцующей с собственной тенью, Ей, оставившей в жизни моей смысл весны И опустевшие стены. Я и год подарю за бессчетные дни, За смятенье и счастье в пылу их — И в мой дождь ее ливни волос вплетены, И весь Лондон в наших поцелуях.Хорошее стихотворение. Пенелопа и не ожидала, что оно произведет на нее такое впечатление. Не то чтобы оно ее поразило, но душу затронуло. Слова, произнесенные спокойным голосом Ричарда, взволновали ее, но и опечалили. «И каждый уголок Лондона отмечен нашими поцелуями». Она мысленно обратилась к Амброзу, к тому вечеру, когда они пошли в театр, потом обедать и вернулись на Оукли-стрит, однако эти воспоминания нисколько не взволновали ее, не то что стихотворение. И это было печально, если не сказать больше.
— Пенелопа?..
— Да?
— Почему вы никогда не говорите о своем муже?
Она испуганно вскинула на него глаза — неужели у нее что-то вырвалось вслух?
— А вы бы хотели, чтобы я говорила о нем?
— Нет, но это было бы естественно. Я знаком с вами… сколько?.. вот уже почти два месяца, и за все это время вы никогда не заводили о нем разговора и вообще не упоминали его имени. И ваш отец тоже. Каждый раз, когда мы даже издалека начинаем подходить к этой теме, он переводит разговор на другое.
— Причина проста: Амброз наводит на него скуку. И на Софи тоже наводил. У них не было с ним ничего общего. Им нечего было сказать друг другу.
— А вы?
Она понимала, что должна ответить честно — не только Ричарду, но и самой себе.
— Я не говорю о нем потому, что мне нечем особенно гордиться. Во всей этой истории я выгляжу не лучшим образом.
— Что бы это ни означало, мое мнение о вас не изменится.
— Не знаю, Ричард, какое это на вас произведет впечатление…
— А вы попробуйте его произвести.
Пенелопа растерянно пожала плечами, она и вправду не знала, как объяснить ему.
— Я вышла за него замуж.
— Вы любили его?
Пенелопа снова напряглась — она хотела говорить только правду.
— Не знаю. Но он красивый и очень по-доброму ко мне отнесся… Первый мужчина, который стал за мной ухаживать на острове Уэйл, куда меня направили. Прежде у меня никогда не было… — она остановилась, подыскивая правильное слово, и ничего не нашла, кроме обычного «дружок», — прежде у меня никогда не было дружка, никогда не было никаких отношений с мужчиной моего возраста. С Амброзом было весело, я ему нравилась, а для меня все это было ново и интересно.
— И это все? — недоуменно спросил Ричард, выслушав это странное объяснение.
— Нет, не все. Была и другая причина. Я забеременела. — Пенелопа изобразила веселую улыбку. — Это вас шокирует?
— Упаси боже, ни чуточки!
— Но вид у вас такой, будто вы шокированы…
— Только лишь тем, что вы вышли за него замуж.
— Меня никто не заставлял. — Важно было сказать ему это, а то еще вообразит Лоренса с ружьем в руках и Софи, осыпающую свою легкомысленную дочь горькими упреками. — Папа́ и Софи были против брака. Для них никогда не существовало никаких условностей. Я приехала в отпуск и сказала им, что беременна. В нормальных обстоятельствах я могла бы просто остаться дома и родить Нэнси, а Амброз ничего бы и не узнал. Но я служила в армии. Мой отпуск кончился, и мне нужно было возвращаться в Портсмут, а значит, предстояло снова встретиться с Амброзом и рассказать ему о ребенке. Я не могла поступить иначе, это было бы нечестно. Я объяснила, что ему вовсе не обязательно жениться на мне… но… — Пенелопа смолкла, припоминая, что же тогда произошло. — Смирившись с мыслью, что ребенок появится на свет, он, видимо, решил, что обязан на мне жениться. Вообще-то, я была тронута, потому что не ждала от него такого благородства. Ну, и поскольку мы приняли такое решение, надо было спешить: Амброз окончил курсы, его должны были послать в море. Вот и все. Челси, дивное майское утро, мэрия, отдел записей браков.
— А ваши родители, они были с ним знакомы?
— Нет. Они не смогли приехать на свадьбу — папа́ заболел бронхитом. Познакомились они только несколько месяцев спустя, когда Амброз приехал в Карн-коттедж на уик-энд. И в ту минуту, когда он вошел в дом, я поняла, что все плохо. Что я совершила ужасную, чудовищную ошибку. Что он — чужой в нашей семье. Чужой мне. Я вела себя ужасно. Я была с огромным пузом, скучная и раздражительная. Я даже не позаботилась, чтобы Амброз действительно отдохнул, развлекся. За это мне стыдно. И еще более стыдно за мое глупейшее решение. Ничего глупее женщина не может совершить в жизни, а я-то считала себя такой умной!
— Вы имеете в виду решение выйти за него замуж?
— Да. Уверена, вы никогда бы не совершили подобной глупости.
— И зря уверены. Раза два-три я подходил к этому почти вплотную. Правда, в последний момент меня выручал здравый смысл.
— Вы хотите сказать, вы понимали, что не влюблены, что вам это не принесет счастья?
— Отчасти. Но и потому, что я уже лет десять тому назад понял, что война неминуема. Мне было двадцать два, когда на сцене появились Гитлер и нацистская партия. В университете у меня был хороший друг. Клаус фон Райндроп. Стипендиат Родса[31], блестящий студент. Не еврей, из старинного немецкого семейства. Мы с ним много говорили о том, что происходит у него на родине. И уже тогда он не ждал ничего хорошего. Как-то летом я отправился в Австрию побродить по Альпам и сам ощутил эту атмосферу, сам увидел надписи на стенах. Не только ваши друзья Клиффорды понимали, что близится страшное время.
— Что случилось с вашим другом?
— Не знаю. Он вернулся в Германию, какое-то время писал мне, потом я перестал получать от него письма. Он просто исчез из моей жизни. Могу только надеяться, что если он погиб, то не самой страшной смертью.
Она сказала:
— Ненавижу войну! Все ненавидят. Хочу, чтобы она кончилась, чтобы перестали убивать и бомбить. Хочу и боюсь ее конца. Папа́ стареет. Долго он не проживет, и сейчас я должна быть при нем, но без него и без войны у меня не останется повода не возвращаться к мужу. Не могу представить, как мы с Нэнси будем жить в маленьком домике в Альверстоке или Кейхаме. Меня просто оторопь берет…
Пенелопа смолкла. Наступила тишина. Она во всем призналась. Теперь его очередь. Она боялась, что он осудит ее, и больше всего на свете ей было нужно сейчас, чтобы он опроверг эти опасения.
— Вы презираете меня за эгоизм? — в смятении спросила она.
— Нисколько. — Он наклонился к ней и положил руку на ее раскрытую ладонь. — Напротив. — Рука у него была ужасно холодная, но он так ласково коснулся ее ладони, что она сомкнула пальцы вокруг его запястья, желая этой ласки, впитывая ее всем своим существом. Потом, уже не отдавая себе отчета в том, что делает, подняла руку и коснулась его щеки. И в это мгновение они оба сказали:
— Я люблю тебя!
Она подняла голову и посмотрела ему в глаза. Они сказали это. Не могли не сказать!
— О, Ричард!
— Я люблю тебя, — повторил он. — Мне кажется, я влюбился, как только увидел тебя в первый раз: ты стояла на другой стороне улицы, волосы у тебя развевались по ветру, красавица-цыганка…
— А я и не знала… даже не догадывалась…
— И с самого начала я понял, что ты замужем, но это совершенно ничего не меняло. Я не мог выкинуть тебя из головы. И не хотел, — теперь, оглядываясь назад, я это понимаю. А когда ты пригласила меня в Карн-коттедж, я сказал себе: она делает это ради отца, ведь ему нравится беседовать со мной и играть в триктрак. Я пришел раз, еще раз… конечно же, навестить его, но я знал, что ты где-то рядом. В окружении детей, в делах, но все же здесь, неподалеку. И это было главным.
— И для меня тоже. Я не задумывалась, что это означает. Я только знала: когда ты входишь в дверь, все становится другим, словно загорается новыми красками. Мне казалось, что я знала тебя всегда. Это пришло сразу, как приходит в жизни все хорошее. Но я не решалась признаться себе, что это — любовь…
Ричард был теперь рядом с ней, его руки обнимали Пенелопу, он прижимал ее к себе так крепко, что она слышала, как гулко стучит его сердце. Голова ее лежала у него на плече, пальцы его скользили по ее волосам.
— Милая, моя дорогая девочка…
Она отстранилась, подняла к нему лицо, и они поцеловались, точно любовники после долгой разлуки. Так возвращаются в родной дом, слышат, как захлопывается дверь, и облегченно вздыхают: теперь ты в безопасности, докучливый мир остался за стенами дома, и никто не вклинится между тобой и единственным человеком на земле, с кем тебе хочется быть.
Она откинулась на спину, разметав по блеклым подушкам темные пряди волос.
— Ах, Ричард… — шепнула она, потому что голос отказывался ей повиноваться. — Я и не знала, что так может быть…
Он улыбнулся:
— Но может быть еще лучше.
Пенелопа посмотрела ему в глаза и поняла, о чем он говорит. Но ведь и она хотела того же. Она засмеялась, но он закрыл своими губами ее смеющийся рот, и слова стали не нужны, даже самые нежные.
Старая студия не осталась равнодушным свидетелем их любви. Пузатая печурка старалась, как могла, согревая их своим жаром, да и ветру, врывающемуся в полуоткрытые окна, такое было не внове. Покрытая пледом тахта, на которой когда-то обретали радости любви Лоренс и Софи, приняла эту новую любовь как добрая покровительница. И потом, когда страстный порыв миновал, Пенелопа и Ричард, обняв друг друга, долго лежали молча, глядя на бегущие по небу облака и слушая неумолчный шум бьющихся о берег волн.
— Что теперь с нами будет? — спросила она.
— Ты о чем?
— Что же нам делать?
— Любить друг друга.
— Я не хочу возвращаться назад. К тому, что было прежде.
— Назад мы не вернемся.
— Но нам придется вернуться. От реальности не убежишь. И все же я хочу, чтобы у нас было завтра, и еще завтра, и еще. Хочу знать, что я буду просыпаться и видеть тебя рядом.
— И я хочу того же. — В голосе Ричарда скользнула печаль. — Но это невозможно.
— Проклятая война! Как я ее ненавижу!
— А может, нам стоит ее поблагодарить — ведь это она свела нас вместе.
— Нет, нет! Мы все равно бы встретились! Не знаю, как и где, но это случилось бы. Это было предначертано! В тот день, когда я родилась, какой-то небесный чиновник поставил и шлепнул на тебя печать, на которой большими буквами написано мое имя. «Удостоверяется, что этот мужчина предназначен для Пенелопы Стерн».
— Только я в тот день, когда ты родилась, еще не был мужчиной, а ходил в приготовительную школу и сражался с латинской грамматикой.
— Это ничего не меняет. Мы и тогда принадлежали друг другу. Ты был, ты ждал меня.
— Да, ждал… — Он поцеловал ее, потом медленно поднял руку и посмотрел на часы. — Уже почти пять.
— Ненавижу войну и часы тоже ненавижу!
— Как это ни печально, дорогая, но мы не можем здесь остаться навсегда.
— Когда я снова увижу тебя?
— Какое-то время мы не сможем видеться. Я должен уехать.
— Надолго?
— На три недели. Смотри не проговорись — тебе это знать не положено.
Пенелопу охватил страх.
— Но куда ты едешь?
— Я не могу сказать…
— Что ты будешь там делать? Это опасно?
Он засмеялся:
— Нет, глупышка, это не опасно. Тренировочные занятия… это моя работа. И больше никаких вопросов.
— Я боюсь, что с тобой что-нибудь случится!
— Ничего со мной не случится.
— Когда ты должен вернуться?
— В середине ноября.
— В конце ноября день рождения Нэнси. Ей исполнится три.
— К тому времени я вернусь.
— Три недели! — Она вздохнула. — Целая вечность…
Ветром разлуки задует свечу, А костер разгорится в пламя.— Пусть будет свеча, но не будет разлуки.
— Но эти строки — они будут напоминать тебе, как я люблю тебя?
— Да, отчасти…
Пришла зима. Городок насквозь продували злые восточные ветры и с воем неслись дальше, на вересковые пустоши. На берег катились свинцовые волны. Дома, улочки, само небо поблекли от холода. По утрам в Карн-коттедже первым делом разжигали камин и до вечера поддерживали огонь, подбрасывая понемножку уголь и все, что могло гореть. Дни стали короткими, в пять вечера, когда пили чай, уже задергивали темные шторы, ночи тянулись бесконечно. Пенелопа снова облачилась в пончо и толстые черные чулки, а на Нэнси, когда они выходили на прогулку, натягивала шерстяные свитера, рейтузы, две теплые шапки и перчатки.
Лоренс никак не мог согреть свои старые кости, грел руки у огня. Он помрачнел и не находил себе места. Ему было скучно.
— Куда девался Ричард Лоумакс? Уже недели три как не приходит.
— Три недели и четыре дня, папа́. — Пенелопа начала считать дни.
— Таких долгих перерывов еще не было.
— Но он еще сыграет с тобой в триктрак.
— Когда же?
Прошла еще неделя, но Ричард не появился. Пенелопа начала беспокоиться. А что, если он вообще не вернется? Что, если какой-нибудь адмирал или генерал, который сидит в своем кабинете на Уайтхолле[32], решил дать Ричарду новое задание и направил его на север Шотландии и она больше никогда его не увидит? Он не прислал ей ни одного письма, но, может, письма писать запрещено? А может, его сбросили на парашюте над Норвегией или Голландией на разведку — ведь готовится открытие второго фронта? Но это было так страшно, что она запретила себе даже предполагать такое.
Приближался день рождения Нэнси, и, слава богу, за хлопотами можно было хоть немного забыться. Пенелопа с Дорис решили позвать гостей. Маленьким подружкам Нэнси были разосланы приглашения. Часть драгоценных продовольственных талонов пошла на шоколадное печенье. Пенелопа достала из тайника сбереженное масло и маргарин и испекла торт.
Нэнси ждала свой день рождения с нетерпением. Судя по всему, она уже составила себе представление, что это такое. В этот день делают подарки. После завтрака она уселась на коврике перед камином и стала открывать коробки и свертки. Мать, дед и Дорис забавлялись ее реакцией. Пенелопа подарила ей новую куклу. Дорис из обрезков материи и остатков пряжи изготовила кукле изысканный гардероб. Была тут и крепкая деревянная тачка — подарок Эрни Пенберта, и картинка-загадка от Рональда и Кларка. Лоренс купил своей внучке коробку цветных карандашей — вдруг да унаследует его талант, тут важно не пропустить первые его признаки. Но подарок, который поразил воображение именинницы, пришел от бабушки, от Долли Килинг. Девочка открыла большую коробку, разорвала тонкую оберточную бумагу и наконец извлекла платье. Выходное платье. Розовый шелк, белое органди, кружева! Нэнси была в полнейшем восторге. Забыв про все остальные подарки, она объявила, что хочет сейчас же надеть его, и начала стаскивать с себя фланелевые брючки.
— Нэнси, это ведь нарядное платьице. Ты наденешь его сегодня вечером, будешь встречать в нем гостей. Смотри-ка, вот твоя новая кукла, наряди ее. Смотри, какое красивое платье сшила ей Дорис! У него тоже есть нижняя юбочка с кружевами…
Поближе к приходу гостей Пенелопа сказала Лоренсу:
— Придется тебе удалиться из гостиной, папа́. Здесь будут игры, надо освобождать пространство.
Она задвинула в угол стол, расставила вдоль стен кресла.
— А куда мне деваться? Спрятаться в сарай для угля?
— Дорис растопила камин в кабинете, там тебе будет тихо и спокойно. Нэнси не хочет, чтобы в комнате были мужчины, и недвусмысленно об этом заявила. Даже Рональда и Кларка не хочет пускать. Они пойдут пить чай к миссис Пенберт.
— А тортом меня угостят?
— Конечно, как же! Нельзя разрешать ей становиться полным диктатором.
Маленькие гостьи, сопровождаемые мамами и бабушками, стали прибывать к четырем часам. Начался ритуал. Каждая гостья вручала Нэнси маленький подарок, который тут же извлекался из обертки. Одна девчушка расплакалась и потребовала, чтобы ее отвели домой, другая, властная маленькая дама с дивными локонами, рассыпавшимися по плечам, спросила, придет ли на праздник волшебник, на что получила отрицательный ответ.
Начались игры. «Я послала милому письмо, только потерялось оно», — выводили девчушки тоненькими голосками, сидя на полу кружком. Одна гостья так разыгралась, что напрудонила в штанишки, пришлось тащить ее наверх и переодевать.
Даю вам честное слово: Вчера в половине шестого Я встретил двух свинок Без шляп и ботинок. Даю вам честное слово![33]Пенелопа в полном изнеможении взглянула на часы и не поверила своим глазам: прошло всего лишь полчаса. Надо продержаться еще час, а там появятся мамаши и бабушки и заберут своих драгоценных чад домой.
Начали играть в «Передай посылку». Все шло хорошо до тех пор, пока властная девчушка в локонах не обвинила Нэнси в том, что та «сцапала» посылку, а очередь разворачивать сверток была ее. Нэнси возразила, дала кудрявой особе по уху и тут же сама схлопотала звонкую затрещину. Пенелопа утихомирила их и развела в разные стороны. В эту минуту в дверях появилась Дорис и объявила, что чай подан. Гости пришли в восторг.
С играми, слава богу, было покончено, и девочки гурьбой отправились в столовую, где во главе стола, в старинном резном кресле, уже сидел Лоренс. Горел камин, темные занавеси были задернуты, столовая выглядела очень торжественно. Девчушки застыли в благоговейном молчании — то ли при виде старого Лоренса, то ли в предвкушении пиршества. Они глаз не сводили с белой крахмальной скатерти, на которой поблескивали кружки и тарелки, стояли в стаканах соломки для лимонада, и возле каждой тарелки лежала хлопушка. Пенелопа с Дорис потрудились на славу, чего тут только не было: желе и сандвичи, глазированное печенье и сладкие пирожки с вареньем и, конечно же, торт. Все расселись по местам, и какое-то время стояла полная тишина, только энергично двигались челюсти. Не обошлось и без происшествий: кто-то уронил на ковер сандвич, а кто-то опрокинул на скатерть кружку с лимонадом, но какое же пиршество без этого обходится! Все быстро привели в порядок. Хозяйка и гости хлопнули хлопушками, взрослые расправили бумажные колпаки и надели их девчушкам на головы, а потом прикололи к платьицам мишурные брошки и брелочки. Наконец Пенелопа зажгла на торте три свечки, а Дорис выключила свет. Темная столовая превратилась в волшебный замок, в широко раскрытых глазах девчушек, сидящих вокруг стола, отражались огоньки трех горящих свечей.
Сидевшая на почетном месте, рядом с дедом, Нэнси встала на стул, и Лоренс помог ей разрезать торт.
С днем рожденья, С днем рожденья, С днем рожденья, Милая Нэнси!..И в эту минуту дверь столовой распахнулась и вошел Ричард.
— Я глазам своим не поверила, когда ты появился! Ну вот, мелькнуло в голове, мне уже являются видения. — (Он похудел, стал словно бы старше, и лицо было серое от усталости и заросло щетиной, походная форма измялась и испачкалась.) — Где ты был?
— Далеко-далеко.
— И когда вернулся?
— Примерно час назад.
— У тебя такой измученный вид!
— Устал ужасно, — признался он. — Но я ведь обещал прийти на день рождения Нэнси.
— Вот глупый! Ну разве это так важно? Тебе надо было немедленно лечь спать.
Они были одни. Маленькие гостьи разошлись, получив каждая по воздушному шару и по леденцу. Дорис увела Нэнси наверх укладывать спать. Лоренс предложил выпить по стаканчику виски и отправился на поиски бутылки. Гостиная была еще не прибрана, стол и стулья сдвинуты со своих мест, но никто не замечал беспорядка. Ричард полулежал в кресле, Пенелопа сидела на коврике у его ног.
— Эти учения заняли больше времени, чем я предполагал, — сказал он. — Все оказалось сложнее, чем мы ожидали… Я даже не мог написать тебе.
— Я так и думала.
Ричард смолк. От камина веяло теплом, и глаза у него слипались. Он попытался бороться со сном, выпрямился, протер глаза, прошелся ладонью по колючему подбородку.
— Представляю, как я выгляжу… Три дня не брился и три ночи не спал. Совсем обессилел. И очень жаль, потому что я планировал забрать тебя и провести остаток вечера, а может быть, и остаток ночи вместе. Увы, боюсь, это невыполнимо. Засну по дороге. Ты сердишься? Ты подождешь?
— Конечно. Ты вернулся целым и невредимым — больше мне ничего не надо. Если бы ты знал, какие ужасы мне мерещились: ты бросаешься в атаку и тебя убивают или берут в плен…
— Я тебе кажусь каким-то героем. Это не так.
— Когда тебя нет, мне кажется, что я уже никогда тебя не увижу, но вот сейчас ты здесь, я смотрю на тебя, могу коснуться рукой, и мне уже кажется, что ты вовсе никуда и не уезжал. Знаешь, не только я по тебе скучала. И папа́ тоже, ждет не дождется, когда вы сядете играть в триктрак.
— В ближайший же вечер. — Ричард наклонился, взял ее лицо в свои ладони. — Ты такая красивая! Такой я тебя и запомнил в тот первый день, когда увидел. — Его усталые глаза весело сощурились. — Нет, ты стала еще красивее.
— А что тебя так забавляет?
— Ты была в такой смешной шляпке. Она ужасно тебе не шла.
Он посидел еще немного, выпил виски с Лоренсом и совсем размяк, его неодолимо клонило ко сну. Подавляя зевоту, он поднялся на ноги, извинился за то, что сегодня он такой скучный собеседник, и откланялся. Пенелопа проводила его до двери. На темном крыльце они обнялись и поцеловались, и он зашагал к калитке. Его ждали горячий душ, койка и сон.
Пенелопа вернулась в дом и заперла дверь. Она постояла немного, собираясь с мыслями, потом пошла в столовую, взяла поднос и начала убирать остатки пиршества.
Она стояла в кухне над мойкой, когда к ней присоединилась Дорис.
— Нэнси заснула. Хотела улечься в постель в новом платье. — Дорис вздохнула. — Я что-то здорово устала. Думала, этот день никогда не кончится. — Она сдернула с крючка полотенце и стала вытирать посуду. — Ричард ушел?
— Да.
— Я думала, он поведет тебя куда-нибудь поужинать.
— Ему надо отоспаться.
Дорис сложила стопку вытертых тарелок.
— Все-таки приятно, что он не забыл о дне рождения Нэнси. Ты его ждала?
— Нет, не ждала.
— Рассказывай сказки!
— Почему ты так говоришь?
— Я смотрела на тебя. Ты ужасно побледнела. Одни глаза светились. Вот-вот брякнешься в обморок.
— Это было так неожиданно, я просто удивилась.
— Так я тебе и поверила! Не считай меня за дурочку. Когда вы рядом, словно включается ток высокого напряжения. Я вижу, как он смотрит на тебя. Влюблен по уши. И, судя по тому, как ты переменилась с тех пор, как он вошел в твою жизнь, ты отвечаешь ему взаимностью.
Пенелопа в эту минуту мыла любимую кружку Нэнси с Питером-кроликом. Она еще раз окунула ее в мыльную воду.
— Я и не думала, что это заметно.
— Уж не огорчаешься ли ты по этому поводу? Ты так жалостно это сказала. А что плохого в том, что ты увлеклась красивым парнем.
— Боюсь, это не просто увлечение. По крайней мере, с моей стороны. Я в него влюбилась.
— Да что ты?
— Не знаю, что мне теперь делать…
— Это так серьезно?
Пенелопа отвернулась от мойки и посмотрела на Дорис. Глаза их встретились, и Пенелопа впервые отдала себе отчет в том, какими близкими подругами они стали. Все у них общее — заботы и печали, невзгоды и радости, секреты и шутки, и это не просто дружба — они породнились. Именно так. Дорис — такая земная, практичная и бесконечно добрая — заполнила ту пустоту, которая осталась после смерти Софи. Ей легко во всем признаться.
— Да.
Дорис помолчала, потом как бы между прочим спросила:
— Спишь с ним?
— Да.
— Как это вы умудрились?
— Ну, Дорис, это не так сложно.
— Да нет… я имела в виду где?
— В мастерской.
— Вот черти полосатые! — воскликнула Дорис, которая поминала чертей лишь в тех случаях, когда не в силах была подыскать другие слова.
— Ты шокирована?
— С чего бы это? Какое мне до этого дело?
— Но я замужем.
— Да, к сожалению, ты замужем.
— Тебе не нравится Амброз?
— Ты прекрасно знаешь — не нравится. Я тебе раньше не говорила, но ты меня спросила, и я тебе честно отвечу. Я считаю, что он никудышный муж и очень плохой отец. Он и повидать тебя не приезжает, и не говори мне, что ему не дают отпуска. И писем не пишет. Он даже не прислал Нэнси подарок ко дню рождения. По правде говоря, Пенелопа, он тебя не стоит. Для меня загадка, почему ты вышла за него замуж.
— Я была беременна.
— И это причина? Какие глупости!
— Вот уж не думала услышать от тебя такое!
— А за кого ты меня принимаешь? Что я, святая?
— Значит, ты меня не осуждаешь?
— Ничуть. Ричард Лоумакс — настоящий мужчина, разве можно сравнить его с этим чурбаном Амброзом Килингом? Да и почему бы тебе не развлечься немного? Тебе ведь всего двадцать четыре, и видит бог, жизнь тебя последние годы не баловала. Я только удивляюсь, что ты не завела роман раньше, вроде бы и собой недурна. Хотя, правду говоря, пока не появился Ричард, тут не на ком было взгляд остановить.
Несмотря на серьезность разговора, Пенелопа расхохоталась:
— Не знаю, Дорис, что бы я делала без тебя!
— Очень много чего делала бы, так я думаю. Во всяком случае, теперь я знаю, куда ветер дует. Все прекрасно!
— Но чем это кончится?
— Сейчас война. Мы вообще не знаем, чем все кончится. Поманило тебя счастье, хватай его обеими руками. Он любит тебя, ты любишь его, вот и любите друг друга. А я вам помогу, сделаю все, что возможно, можешь быть уверена. Слушай, давай-ка уберем эти тарелки, пока мальчишки не пришли домой. Да и пора уже готовить ужин.
Шел декабрь. Они и оглянуться не успели, как со всеми его хлопотами на них надвинулось Рождество. Подобрать для каждого подходящий подарок в пустых лавчонках Порткерриса было нелегко, но все же, как и в предыдущие годы, они их подобрали, завернули в красивые обертки и до поры до времени спрятали. Дорис приготовила по рецепту министерства питания «Военный рождественский пудинг», а Эрни пообещал, за неимением индейки, свернуть шею любой подходящей птице. Генерал Уотсон-Грант доставил из своего сада маленькую елочку, а Пенелопа отыскала коробку с елочными игрушками, которыми когда-то украшали ее детские елки, — шары и фонарики, позолоченные еловые шишки, бумажные звезды, потускневшие мишурные цепи.
Ричарду дали рождественский отпуск, но эти несколько дней он должен был провести в Лондоне с матерью. Перед тем как уехать, он принес всем обитателям Карн-коттеджа подарки. Каждый был обернут в коричневую бумагу и перевязан красной лентой, и на каждом наклеена картиночка: на ветке остролиста сидит малиновка. Пенелопа растрогалась до глубины души. Она представила, как он ходит по магазинчикам, покупает ленту, сидит на койке в своей голой комнатенке и старательно завязывает банты. Она попыталась вообразить за подобным занятием Амброза, но ничего не получилось.
Для Ричарда она приготовила темно-красный шерстяной шарф. За него пришлось выложить не только деньги, но и драгоценные талоны, и Пенелопа не сразу решилась его купить: наверное, Ричард подумает — какая непрактичная вещь, с формой его не наденешь, а в штатском он не ходит. Но шарф был такой роскошный, такой празднично-рождественский, что Пенелопа не устояла. Она завернула его в тонкую бумагу, нашла коробку и, когда Ричард выложил под елку свои подарки, отдала ему свою коробку, велев открыть ее в Лондоне.
Он повертел коробку в руках:
— А почему не сейчас?
Пенелопа ужаснулась:
— Нет, нет, не сейчас! Откроешь в рождественское утро.
— Слушаюсь.
Ей не хотелось говорить ему «прощай».
— Желаю тебе приятно провести время, — с улыбкой сказала она. Он поцеловал ее.
— И я тебе того же желаю, любимая. — Их словно отрывали друг от друга. — Счастливого Рождества!
В рождественское утро все шестеро обитателей Карн-коттеджа поднялись рано и собрались у Лоренса в спальне. Взрослые выпили по кружке горячего чаю, ребята взобрались на большую кровать и распотрошили чулки с подарками. Загудели дудочки, захрустели яблоки, Лоренс нацепил фальшивый нос и усики щеточкой, как у Гитлера, все так и покатились со смеху. Далее последовал завтрак, а затем, как положено, все направились в гостиную и наконец-то добрались до настоящих подарков, сложенных под елкой. Дети сгорали от нетерпения. Скоро пол покрылся обрывками бумаги и блестящих лент, послышались радостные восклицания:
— Спасибо, мамочка, как раз то, что я хотел! Посмотри, Кларк, рожок для моего велосипеда!
Пенелопа отложила подарок Ричарда в сторону — она хотела развернуть его последним. Другие не откладывали. Дорис распотрошила сверток и извлекла потрясающей красоты шелковый платок, переливающийся всеми цветами радуги.
— Мечта моей жизни! — вскричала она и, сложив углом, накинула на голову и завязала узлом под подбородком. — Ну, как я выгляжу?
— Как принцесса Елизавета на пони, — сказал Рональд.
— Ух-х! — Дорис была в восторге. — Шик и блеск!
Лоренс получил бутылку виски, мальчики — настоящие, стреляющие катапульты. Нэнси предназначался кукольный сервиз — белые фарфоровые чашечки, кофейник и сахарница с золотым ободком в крошечных цветочках.
— А что тебе, Пенелопа?
— Я еще не смотрела.
— Ну так посмотри!
Под взглядами остальных Пенелопа развязала бант и сняла коричневую обертку. Внутри была большая белая коробка, окаймленная черной полоской. «Шанель № 5». Она сняла с коробки крышку — там в белых складках шелка покоился хрустальный флакон с массивной пробкой, наполненный золотистой жидкостью.
Дорис рот разинула.
— Ну и громадина! Никогда такого не видела. Даже на витрине. «Шанель номер пять»! Представляю, какой от тебя будет исходить аромат!
Изнутри к крышке коробки был прикреплен туго свернутый голубой конверт. Пенелопа незаметно отлепила его и сунула в карман кофты, а когда все занялись уборкой, стали подбирать с пола обрывки бумаги, поднялась к себе в комнату и раскрыла конверт.
Моя дорогая девочка!
Счастливого Рождества! Этот флакон приплыл к тебе из-за океана. Один мой хороший друг побывал в Нью-Йорке — их корабль нуждался в ремонте — и вот привез эту коробочку. Для меня аромат «Шанель № 5» — это нежность и очарование, радость и веселье. Завтрак у Беркли. Лондон в мае в сиреневом цвету. Это смех, любовь — это ты. Я не перестаю думать о тебе ни на миг. И сердце мое полно тобой.
РичардИ снова этот сон. Страна Ричарда — так Пенелопа назвала это место. Всегда один и тот же ландшафт. Длинная лесная полоса, и в конце ее дом с плоской крышей. Средиземноморский дом. Плавательный бассейн, там плавает Софи, папа́ за мольбертом, широкие поля шляпы отбрасывают тень на его лицо. Она сама на пустынном берегу. Она точно знает, что не ищет раковины, а ждет кого-то. И вот он появляется, она замечает его издалека. Он подходит все ближе и ближе, и сердце ее наполняется радостью. Но она не успевает встать рядом с ним — с моря клубами, точно прилив, наплывает густой туман, и сначала он бредет сквозь него, но туман все гуще и гуще, и он тонет в нем.
— Ричард!
Она просыпается, протягивает к нему руки. Но сон исчез, а его уже нет. Руки ее ощупывают лишь холодные простыни по другую сторону постели. Она слышит рокот прибоя внизу, но ветра нет. Покой и тишина. Так что же ее встревожило, что таится где-то на грани сознания? Она открыла глаза. За окном в бледном небе брезжит рассвет, в полусвете комнаты желтеет медная перекладина в изножье кровати, у стены туалетный столик, в висящем над ним зеркале отражается небо. Она увидела маленькое кресло и возле него раскрытый и наполовину уложенный чемодан…
Вот оно что! Чемодан. Сегодня. Сегодня она уезжает. На семь дней с Ричардом они едут отдыхать.
Ее мысли обратились к Ричарду, и почти тут же она вспомнила загадочный сон. Все тот же сон. Он не меняется. Все в той же последовательности. Ностальгические картины прошлого, что ушло навсегда, и ожидание. Все тонет в тумане, исчезает, и это страшное чувство утраты. Но, если проанализировать, может, это и не такой уж загадочный сон. В первый раз он приснился ей вскоре после того, как Ричард вернулся из Лондона, в начале января, и в последующие два месяца в какие-то ночи сон вдруг возвращался.
Но ведь так оно и было — после Рождества наступили тяжкие дни. Ричард исчезал на целые недели — столько ему приходилось работать. Учения шли теперь почти непрерывно, и, как правило, им сопутствовали холод и штормы. Да и по все возрастающему количеству морских пехотинцев и армейских грузовиков в городке можно было заключить, что близятся какие-то события. В порт прибывали все новые транспортные суда, оживление наблюдалось и возле командного пункта на Северном мысу.
Над морем летали вертолеты; как-то под вечер, после Нового года, на вересковую пустошь за Боскарбенскими скалами отправился отряд саперов, они установили там минные заграждения. Колючая проволока вокруг, красные флажки на столбах и огромные щиты с надписями, предупреждающими гражданское население об опасности, — все это нагоняло жуткий страх. Когда с той стороны дул ветер, днем ли, ночью ли до городка доносились звуки выстрелов. Особенно тревожно было по ночам — люди просыпались и в страхе гадали, что же происходит на самом деле.
Время от времени Ричард все же появлялся, как всегда неожиданно. Его шаги в холле, его звучный голос наполняли Пенелопу радостью. Обычно он приходил после ужина посидеть с ней и Лоренсом, выпить кофе, сыграть в триктрак. А однажды, позвонив, когда уже было довольно поздно, снова сводил ее пообедать к Гастону; они распили еще одну бутылку того дивного вина и поговорили.
— Ричард, расскажи мне, как ты провел Рождество.
— Очень тихо.
— Что ты делал?
— Ходил на концерты. Был на ночной службе в Вестминстерском аббатстве. Разговаривал.
— С матерью?
— Не только. Заходили друзья. Но больше с нею.
Пенелопа заинтересовалась:
— О чем же вы говорили?
— О многом. И о тебе тоже.
— Ты ей рассказал обо мне?
— Да.
— И что ты сказал?
Он протянул руку через стол и взял ее руку в свою.
— Что я нашел ту единственную в мире женщину, с которой хотел бы провести остаток моей жизни.
— А сказал ты, что я замужем и что у меня ребенок?
— Сказал.
— И как она отреагировала на такую подробность?
— Поначалу удивилась, а потом проявила полное понимание и сочувствие.
— Она милая.
Он улыбнулся:
— Мне она тоже нравится.
Долгая зима подходила к концу, в Корнуолле весна наступает рано. Все вокруг еще дрожит от холода, но воздух пахнет иначе, и от солнца начинает веять теплом — значит она идет. И в этом году все было, как всегда. В разгар военных приготовлений, благополучно миновав парящие над морем вертолеты, в укрытые от ветров долины прилетели перелетные птицы. Невзирая на большие газетные заголовки, на рассуждения и слухи о неизбежном вторжении в Европу, подкрались первые благоуханные дни, ярко-голубое небо, тишина и покой. На деревьях набухли почки, зазеленели ростки папоротника на пустошах и по обочинам дорог.
В один из таких сияющих дней Ричард оказался свободным, и они наконец-то смогли вернуться в мастерскую. Зажечь камин, чтобы он светил их любви; погрузиться в тайный, только им принадлежащий мир, утолить свою страсть, слиться в едином, непостижимом, всепоглощающем озарении.
Потом она спросила:
— Когда мы еще придем сюда?
— Хотел бы я это знать.
— Я жадная. Я хочу, чтобы всегда было завтра.
Они сидели у окна. За окном все было залито солнцем, сверкал ослепительно-белый песок, по синему морю танцевали солнечные блики. С резкими криками кружили над морем чайки, и внизу, прямо под мастерской, в небольшой заводи, на берегу двое мальчишек ловили креветок.
— Теперь существует только сейчас, завтра — это как награда.
— Теперь — это во время войны?
— Война — тоже часть жизни, как рождение и смерть.
Она вздохнула:
— Я стараюсь подавить в себе эгоизм. Все время напоминаю себе, что миллионы женщин многое отдали бы за то, чтобы поменяться со мной местами, жить, как живу я, в безопасности и в тепле, не страдая от голода и вместе со своими близкими. Но мне от этого мало радости. Я чувствую себя обделенной, потому что не могу все время быть с тобой. И оттого, что ты где-то рядом, становится еще горше. Ты не несешь сторожевую службу в Гибралтаре, не сражаешься в джунглях Бирмы, не плаваешь на эсминце в Атлантике. Ты здесь. И все же война разделила нас, она не дает нам быть вместе. Все вокруг бурлит, только и говорят что о вторжении, и у меня ужасное чувство, что время проходит мимо нас. Все, что мы можем ухватить, это несколько украденных часов.
— В конце месяца мне дадут недельный отпуск, — сказал он. — Ты сможешь поехать со мной?
В это время она смотрела на мальчиков, выбиравших сети, поставленные для ловли креветок. Один из них что-то нащупал в водорослях. Он присел, чтобы посмотреть, что это, и замочил в воде штаны.
Недельный отпуск?! Пенелопа недоуменно уставилась на Ричарда. Она ослышалась или он нарочно поддразнивает ее, чтобы она перестала грустить? По выражению ее лица он все понял и улыбнулся.
— Это правда, — подтвердил он.
— Целая неделя?
— Да.
— Почему же ты не сказал раньше?
— Приберег приятную новость напоследок.
Неделя. Вдали от всего и всех. Они вдвоем и больше никого.
— Куда мы поедем? — осторожно спросила она.
— Куда хочешь. Можем поехать в Лондон. Остановиться в «Рице» и ходить по театрам и ночным клубам.
Она обдумала этот вариант. Лондон. Оукли-стрит. Но Лондон — это Амброз, а дом на Оукли-стрит населен привидениями; там ей будут мерещиться Софи и Клиффорды.
— Не хочу в Лондон, — сказала она. — А есть другие места?
— Есть. Старый дом, который называется Трезиллик, на южном берегу полуострова Роузленд. Не больно большой и роскошный, но весь обвит лиловой глицинией, и сад там спускается к протоке.
— Ты там бывал?
— Да. Я провел там лето, когда учился в университете.
— А кто в нем живет?
— Приятельница моей матери — Хелена Брэдбери. Муж ее, Гарри Брэдбери — капитан военно-морского флота, командует крейсером. После Рождества моя мать написала ей, и два дня назад я получил от нее письмо. Она приглашает нас погостить.
— Нас?
— Тебя и меня.
— Она знает обо мне?
— Разумеется.
— Но если мы остановимся у нее, не придется ли нам таиться и спать в разных комнатах?
Ричард засмеялся:
— Ты ужасно все усложняешь. В жизни не встречал такой женщины.
— Ничего я не усложняю. Просто я практичный человек.
— Не думаю, чтобы возникла такая проблема. Хелена — женщина современных взглядов. Она выросла в Кении, и, не знаю уж, как это получилось, но англичанки, выросшие в Кении, как правило, не отличаются ханжеством.
— Ты принял приглашение?
— Еще нет. Хотел сначала поговорить с тобой. Обсудить и другие обстоятельства. Например, как отнесется к этому твой отец…
— Папа́?
— Не станет ли он возражать, если я увезу тебя.
— Я думала, Ричард, что ты уже успел хорошо его узнать.
— Ты ему рассказала о нас?
— Не то чтобы рассказала. — Она улыбнулась. — Но он знает.
— А Дорис?
— Дорис я сказала. Она считает, что это замечательно. Говорит, ты очень славный и вылитый Грегори Пек.
— Значит, никаких препятствий? Тогда едем. — Он встал. — И не будем терять ни минуты, у нас уйма дел.
На углу, возле магазинчика миссис Томас, была телефонная будка. Они втиснулись в нее оба, захлопнули дверь, и Ричард стал звонить в Трезиллик.
— Алло! — Звонкий женский голос чуть не заглушал голос Ричарда. Пенелопа слышала каждое слово. — У телефона Хелена Брэдбери.
— Хелена, это Ричард Лоумакс.
— Ричард, ты? Наконец-то! Куда же ты запропастился?
— Прошу прощения, но у меня не было возможности…
— Получил письмо?
— Да. Я…
— Вы приедете?
— Если можно…
— Замечательно! Подумать только, ты уже давно в наших краях, а я и не знала! Когда вы приедете?
— Мне дали отпуск на неделю, в конце марта. Вас это устроит?
— Конец марта? А, черт, меня не будет. Еду в Чатем навестить отца. А ты не можешь перенести отпуск? Ну да, конечно, это дурацкий вопрос. Знаешь что, это не имеет значения. Приезжайте в конце марта. Дом в вашем распоряжении. В коттедже живет миссис Брик. У нее есть ключ. Она приходит убираться и помогать по хозяйству. Я оставлю вам в холодильнике еду. Будьте как дома…
— Подарок судьбы и ваш подарок, Хелена…
— Рада вам его преподнести. Если очень захочется отблагодарить меня, можешь подстричь газон. Ужасно сожалею, что не смогу быть с вами. Ну да ничего, как-нибудь в другой раз. Черкни мне пару строк и уточни, когда миссис Брик вас ожидать. Прости, но мне некогда. Приятно было поговорить с тобой. До свидания.
Ричард не сразу повесил трубку, и они еще послушали короткие гудки.
— Дама, скупая на слова, но щедрая на дела, — сказал он, потом обнял Пенелопу и поцеловал ее. И только сейчас, стоя рядом с ним в душной телефонной будке, Пенелопа разрешила себе поверить, что все это правда и они действительно куда-то поедут, вместе, вдвоем, и не в отпуск — какое противное служебное слово! — а отдыхать.
— И уже ничто не сможет помешать, а, Ричард? Ничего не изменится?
— Ничего.
— Как мы туда доберемся?
— Надо обдумать. Может, до Труро поездом, а дальше на такси.
— А может, на машине будет приятнее? — Ей пришла в голову блестящая идея. — Возьмем наш «бентли». Папа́ разрешит.
— Только ты забыла про одно обстоятельство…
— Какое?
— Так, мелочь, — бензин.
Она и правда забыла. Но…
— Я поговорю с мистером Грейбни, — сказала она.
— А что он сможет сделать?
— Добудет нам бензин. Где-нибудь. Как-нибудь. Если понадобится, на черном рынке.
— С чего бы ему так стараться?
— Он мой друг, я знаю его всю мою жизнь. Ну так как, ты не возражаешь? Отвезешь меня в Роузленд на взятом взаймы автомобиле, заправленном бензином, купленным на черном рынке?
— Не возражаю, но при одном условии: пусть меня снабдят доверенностью, чтобы еще и не угодить в тюрьму.
Пенелопа улыбалась. В ее воображении они уже ехали по зеленым улочкам южных городков, Ричард за рулем, она рядом с ним, а на заднем сиденье лежали их чемоданы.
— Знаешь, — сказала она, — когда мы поедем, уже наступит весна. Настоящая весна.
Дом затаился в далеком лесном уголке, в котором, казалось, веками ничего не менялось. С дороги его было не разглядеть — он стоял за деревьями, да и сама дорога с глубокими колеями и выбоинами заросла по обочинам высоким кустарником. Но все же они отыскали его, прочный квадратный дом, который, казалось, тоже стоял тут всегда, обрастая надворными пристройками, конюшнями и заборами, весь обвитый глицинией и плющом, поросший понизу мхом и папоротником. Перед домом раскинулся наполовину одичавший сад, отлогими газонами и террасами спускавшийся к вьющемуся среди деревьев приливному протоку. Узкие дорожки, проложенные среди кустов камелий, азалии и жемчужно-розового рододендрона, манили вглубь. На берег протока словно выплеснулась волна желтых нарциссов, ажурным покрывалом накрывших жухлую прошлогоднюю траву, у шаткого причала покачивалась на воде маленькая шлюпка.
Глициния, вьющаяся по фасаду дома, еще не зацвела в полную силу, но тут и там яркими мазками раскрывались фиолетовые кисти, а возле террасы стояла, вся в цвету, дикая вишенка и при каждом дуновении ветерка белые лепестки плыли в воздухе, точно снежинки.
Как и было обещано, миссис Брик встретила их. Едва старый «бентли» заехал за дом и, благодарно заурчав, остановился, она вышла из передней двери — в толстенных чулках и в фартуке, повязанном на талии, с седыми всклокоченными волосами и с бельмом на правом глазу.
— Это вы майор и миссис Лоумакс? — строго спросила она.
Пенелопа от такого обращения потеряла дар речи, но Ричард отнесся вполне спокойно.
— Да, это мы. — Он вылез из машины. — А вы, очевидно, миссис Брик? — И, протянув руку, он шагнул к ней.
Теперь пришла в замешательство миссис Брик. Она тщательно отерла о фартук свою руку, прежде чем подать ее.
— Это я. — Трудно было определить, куда смотрит ее ослепший глаз. — Я вас ждала. Мне миссис Брэдбери велела. А завтра меня не будет. Ну чего же вы, вносите чемоданы!
Они вошли следом за ней в выложенную плиткой прихожую, из которой изогнутая каменная лестница вела на верхний этаж. Похоже, лестница служила людям долго — ступени ее сильно поистерлись. В прихожей было сыровато и слегка пахло затхлостью, как в антикварной лавочке.
— Мне надо показать вам, где чего. В столовой и гостиной все под чехлами — с тех пор как началась война, миссис Брэдбери туда не ходит. Она в библиотеке сидит, вот здесь. Камин все время топите, а то холодно будет. А если будет солнце, можете отворить балконную дверь и выйти на террасу. Пошли дальше, покажу вам кухню… — Они послушно ходили за ней следом. — В кладовке лежит ветчина, и я принесла молока, яиц и хлеба. Миссис Брэдбери велела.
— Вы очень добры.
Но ей некогда было заниматься обменом любезностями.
— А теперь пошли наверх. — Они забрали чемоданы и сумки и последовали за ней. — Ванная и уборная вот в этом коридоре. — Ванная стояла на ножках, краны были медные, со сливного бачка свисала цепочка, и на ручке было написано: «Дергай». — Беда с ним, с этим бачком. Если не сработает сразу, погодите чуток и дергайте снова.
— Спасибо за указания.
Углубиться в особенности действия сливного бачка им не пришлось — миссис Брик уже отворяла другую дверь, в начале коридора. На лестничную площадку хлынул поток света.
— Вот, самую лучшую комнату вам приготовили, а уж вид-то какой из окна — загляденье! Надеюсь, и с кроватью все в порядке. Только кладите вечером под одеяло бутылку с горячей водой, чтобы сырости не было. А станете выходить на балкон, глядите, куда ногу ставите. Бревна подгнили, не ровен час, провалитесь. Ну вот, вроде бы все. — Она исполнила свой долг. — Пойду я…
Пенелопа наконец-то вставила словцо:
— Мы вас еще увидим, миссис Брик?
— Да, я буду заходить, только не скажу точно, в какое время. Буду за вами приглядывать — так мне миссис Брэдбери велела.
С этими словами она удалилась.
Пенелопа старалась не глядеть в сторону Ричарда. Она стояла, зажав рот рукой, и не отняла ее, пока не услышала, как хлопнула дверь, а потом повалилась навзничь на огромную, покрытую пуховым одеялом кровать, и от смеха из глаз ее потекли слезы. Ричард подошел и сел рядом.
— Надо запомнить, какой глаз у нее видит, а какой нет, не то можно попасть в неловкое положение.
— «Беда с ним, с этим бачком!» И все спешит, как Белый Кролик[34]: быстрее, быстрее!
— Как ты себя чувствуешь в роли миссис Лоумакс?
— Потрясающе!
— Миссис Брэдбери так нас представила.
— Теперь я понимаю, что ты имел в виду, говоря, что она выросла в Кении.
— Ты будешь тут счастлива?
— Кажется, да.
— Как мне сделать тебя счастливой?
На Пенелопу опять накатил смех. Ричард лег рядом с ней и молча привлек ее к себе. В открытое окно доносились крики чаек. Где-то рядом нежно ворковали лесные голуби. Зашелестели под легким ветерком ветки белой вишенки. Медленно начала прибывать вода в протоке, заливая топкие берега.
Позднее они распаковали чемоданы и устроились. Ричард переоделся в старые вельветовые брюки, белый свитер с высоким воротом, старые замшевые башмаки. Пенелопа повесила его форму в гардероб, чемоданы они засунули под кровать, с глаз долой.
— У меня такое чувство, что начинаются школьные каникулы, — сказал Ричард. — Пойдем-ка, обследуем наши владения.
Они начали с дома: заглянули во все двери, обнаружили неожиданные лестницы и коридоры, в библиотеке распахнули балконную дверь, почитали названия книг, нашли старый граммофон и набор замечательных пластинок: Делиус, Брамс, Чарльз Трене, Элла Фицджеральд.
— Будем устраивать музыкальные вечера.
В огромном камине тлел огонь. Ричард наклонился к корзине с дровами, чтобы подбросить несколько поленьев, а когда выпрямился, уперся взглядом в конверт, который был адресован ему. Внутри лежало послание от их отсутствующей хозяйки.
Ричард!
Газонокосилка в гараже, рядом с ней канистра с бензином. Ключ от винного погребка висит над дверью. Угощайтесь. Желаю приятно провести время.
ХеленаОни спустились в нижний этаж, прошли мимо кухни, заглянули в кладовки с каменным полом, чуланы, прачечную и, отворив последнюю дверь, оказались в мощеном дворе с веревками для сушки белья. Бывшие стойла для лошадей теперь использовались как гаражи. В одном из них был склад садового инвентаря и прочего инструмента, а в другом высились поленницы дров. Они нашли косилку, а также пару весел и свернутый парус.
— Это для шлюпки, — обрадовался находке Ричард. — Пройдемся под парусом в прилив.
В обросшей лишайником гранитной стене обнаружилась деревянная дверь. Ричард подналег плечом, и она отворилась, — за ней оказался огород. Покосившаяся теплица и парник для огурцов заросли сорняками, и от былого изобилия остались лишь островок разросшегося ревеня, кустик мяты и две согнувшиеся, точно древние старухи, яблони. Но они еще цвели, и теплый воздух был напоен ароматом бледно-розовых цветков.
Грустно было смотреть на это запустение. Пенелопа вздохнула:
— Представляю, какие аккуратные грядки здесь были когда-то, как ровно были подстрижены живые изгороди.
— Да, так и было, когда я жил здесь перед войной. Но в ту пору здесь работали два садовника. В одиночку такое хозяйство не потянешь.
Выйдя из двери по другую сторону каменной ограды, они попали на тропинку, ведущую к протоку. Пенелопа нарвала букет желтых нарциссов, и она и Ричард посидели на причале, глядя, как наполняется водой проток. Потом им захотелось есть, и они, вернувшись в дом, поели хлеба с ветчиной, а на десерт удовольствовались сморщенными яблочками, которые обнаружили в кладовке. Под вечер, когда прилив залил проток до краев, они отыскали в гардеробной плащи и, прихватив весла и парус, спустились к пристани. По протоку шлюпка двигалась довольно медленно, но едва они вышли на открытое пространство, как налетел ветер. Ричард спустил шверт, подтянул брас. Шлюпка опасно накренилась, потом выровнялась, и, осыпаемые брызгами, они заскользили по глубокой воде залива.
В этом доме была какая-то тайна. Он словно заснул в прошлом. Жизнь тут, без сомнения, всегда текла тихо и неторопливо, двигалась вперед черепашьим шагом, как старые часы, которые то идут, то стоят. Или же, как совсем древний старец, дом потерял чувство времени. Но он дышал, жил и затягивал всех, попавших в его ауру, в тишину и покой. К концу первого дня, сонные и пьяные от влажного теплого воздуха южного побережья, Ричард и Пенелопа, решив вкусить все радости сразу, отведали Трезиллика, и волшебное превращение свершилось: время потеряло для них всякое значение, оно просто-напросто перестало существовать. Они не читали газет, ни разу не включили радио и, если звонил телефон, не брали трубку, зная, что это звонят не им.
День плавно переходил в ночь, ночь в день, и время шло, не прерываемое обязательными часами завтрака или обеда, неотложными встречами, тиранией отсчитываемых минут. Единственной связью с внешним миром была миссис Брик, которая, как и обещала, вдруг приходила и вдруг уходила. Пенелопа и Ричард не знали, когда она явится. В какие-то дни они натыкались на нее в три часа пополудни — она мыла, скребла, полировала, орудовала старым пылесосом. Однажды утром, когда они еще лежали в постели, она ворвалась к ним с подносом в руках, буркнув что-то про погоду, и скрылась за дверными портьерами раньше, чем они успели ее поблагодарить. Как заметил Ричард, мог бы произойти конфуз.
Она была их добрым домовым, без нее они погибли бы от голода. Отправившись на поиски съестного, они всегда что-то обнаруживали на полке в кладовой: тарелку утиных яиц, разделанную курицу, кружочек крестьянского масла, свежевыпеченный каравай хлеба. Овощи всегда были почищены, а однажды она оставила им два корнуоллских пирога с мясом, таких огромных, что даже Ричард не осилил свой.
— А мы ведь и талоны наши ей не дали, — удивленно отметила Пенелопа. Она так привыкла к карточному рациону, что такое изобилие казалось ей чудом. — Где она все это добывает?
Но этого они так и не узнали.
Погода этой ранней весной была неустойчивая. То с утра до вечера шел дождь, и тогда они надевали плащи и отправлялись в долгие прогулки, или же сидели у камина и читали, или играли в пикет. Бывали дни ясные и теплые, как летом. Тогда они весь день проводили на воздухе, устраивали пикник на траве или нежились под солнцем, лежа в старых садовых шезлонгах. А однажды утром сели в машину и проехались до ближайшей деревни, побродили по ней, посмотрели на лодки, а под конец выпили пива на террасе местной гостиницы.
День был ветреный, солнце то светило, то пряталось за облаками, но воздух был теплый и ароматный, словно приправленный соленым бризом. Откинувшись на спинку стула, Пенелопа следовала взглядом за рыбацкой лодкой с коричневым парусом, которая держала путь в открытое море.
— Ричард, ты когда-нибудь мечтал о роскошной жизни?
— Богатство меня не интересует, если ты это имеешь в виду.
— По-моему, роскошная жизнь — это когда все твои пять чувств полностью удовлетворены. Вот как сейчас. Мне тепло. Если я захочу, я могу коснуться твоей руки. Я вдыхаю запах моря, а в гостинице кто-то жарит лук. Восхитительно! Я смакую холодное пиво и слушаю крики чаек, и плеск воды, и деловитое попыхивание мотора: чу-чу-чу.
— А что ты видишь?
Она повернула голову и посмотрела на него. Волосы у Ричарда растрепались, он был в старом свитере и в твидовом пиджаке с кожаными заплатами на локтях.
— Вижу тебя. — (Ричард улыбнулся.) — А теперь твоя очередь. Скажи мне, что такое роскошная жизнь для тебя?
Он подумал, прежде чем ответить.
— Быть может, для меня это — контрасты, — сказал он наконец. — Горы, холод снегов, но все сверкает под голубым небом и ярким солнцем. Или ты загораешь, лежа на горячей скале, и знаешь, что, когда жара станет невыносима, море тут, рядом, — прохладное, глубокое, оно ждет, чтобы ты нырнул в него.
— А когда в холодный дождливый день, продрогший до костей, ты приходишь домой и тебя ждет горячая ванна?
— Чудесно! Или когда, проведя целый день в Сильверстоуне, совершенно оглохнешь от автомобильных гонок, а потом, на пути домой, остановишься перед огромным, дивной красоты собором, войдешь в него и стоишь, слушая тишину.
— Но мечтать о соболях, «роллс-ройсах» и огромных вульгарных изумрудах — это отвратительно. Убеждена, как только заполучишь и то, и другое, и третье, они потеряют всякую притягательность, потому что уже будут твоими. Ты больше не станешь стремиться обладать ими, тебе они окажутся не нужны.
— Как ты считаешь, получится не слишком роскошно пообедать здесь?
— Это будет замечательно! Я все ждала, когда ты это предложишь. Отведаем жареного лука. В последние полчаса я только орошала свой рот.
Но самыми прекрасными были вечера. Задернув шторы на окнах, в отсветах горящих в камине поленьев они слушали пластинки из коллекции Хелены Брэдбери, по очереди поднимаясь, чтобы сменить иглу и покрутить ручку старого деревянного граммофона. Потом принимали ванну, переодевались и начинали приготовления к обеду: подвигали небольшой низкий столик поближе к камину, ставили хрустальные рюмки, раскладывали столовое серебро, ели оставленную им миссис Брик еду и распивали бутылку вина, которую Ричард, следуя указаниям хозяйки дома, приносил из погребка. С моря задувал ветер, стучался в окошки, но от этого им было только уютнее. Они наслаждались покоем и уединением.
Как-то поздним вечером они прослушали всю «Симфонию Нового мира». Ричард лежал на софе, Пенелопа устроилась рядом на горке подушек. Камин прогорел, но они не шевельнулись, когда стихли последние звуки. Ричард молча лежал, прислонив голову к плечу Пенелопы, она не открывала глаз, словно еще звучала музыка.
Наконец он пошевелился и разрушил чары:
— Пенелопа…
— Да?
— Нам надо поговорить.
Она улыбнулась:
— По-моему, мы только и делаем, что говорим.
— О будущем.
— О будущем?
— О нашем будущем.
— Ах, Ричард…
— Не пугайся. Ты просто слушай меня. Потому что это важно. Будущее для меня невозможно без тебя, а это значит, мы должны пожениться.
— Но у меня уже есть муж.
— Я знаю, дорогая. Слишком хорошо знаю, и все же я спрашиваю тебя: выйдешь ли ты за меня замуж?
Она повернулась к нему, взяла его руку и прижала ладонь к своей щеке.
— Не надо испытывать судьбу.
— Ты не любишь Амброза.
— Я не хочу об этом говорить. Не хочу говорить об Амброзе. Ему сейчас тут нет места. Я даже не хочу произносить вслух его имя.
— Не могу выразить словами, как я люблю тебя!
— И я тоже, Ричард. Безумно люблю. Ты это знаешь. Для меня стать твоей женой и знать, что ничто и никогда нас не разлучит, прекрасная мечта. Но сейчас это невозможно. Не будем говорить об этом.
Он долго молчал. Потом вздохнул.
— Ладно, — сказал он, наклонился и поцеловал ее. — Пойдем спать.
Последний день был солнечный и ясный, и Ричард, платя добром за добро, вывел из гаража косилку и стал косить траву. Это заняло довольно много времени. Пенелопа помогала накладывать срезанную траву на тачку и отвозить в компостную яму позади конюшни. Они закончили работу только в четыре часа, но ради такой красоты стоило потрудиться: газоны раскинулись, точно зеленые бархатные ковры, и они не могли налюбоваться на творение своих рук. Вычистив и смазав косилку, Ричард объявил, что просто умирает от жажды, поэтому немедленно идет готовить чай, а Пенелопа вернулась на свежескошенный газон перед домом, села на травку в самой его середине и стала ждать Ричарда.
Над лужайкой плыл дивный аромат. На выступ оконной рамы сели две океанские чайки, и Пенелопа залюбовалась ими: какие они маленькие и хорошенькие по сравнению с большими серебристыми северными. Она откинулась на локти и, запустив пальцы в траву, гладила ее, как кошку. Пальцы наткнулись на уцелевший одуванчик. Она захватила все листья в руку и стала тянуть, но он никак не поддавался, как это всегда бывает с одуванчиками, и в конце концов оборвался, так что в руке у Пенелопы остались только зелень и половина корешка. Она поднесла одуванчик поближе к глазам, вдыхая его острый запах и запах влажной земли. Рука испачкалась в земле.
С террасы послышались шаги.
— Ричард? — (Он принес на подносе две кружки чаю и сел рядом.) — Я нашла еще одну разновидность блаженства…
— Расскажи.
— Ты сидишь на свежескошенном газоне совершенно одна, твой любимый ушел, его нет рядом. Ты одна, но знаешь, что одиночество твое продлится недолго, потому что он скоро вернется к тебе. — Пенелопа улыбнулась. — По-моему, блаженнее блаженства нет на свете.
Их последний день. Завтра рано утром они уезжают обратно в Порткеррис. Она запретила себе думать об этом. Их последний вечер. Как всегда, они устроились поближе к камину, Ричард на софе, Пенелопа на полу возле него. Сегодня они не слушали музыку. Он читал ей Макниса. «Осенний дневник», не только то стихотворение о любви, которое прочел тогда, в мастерской Лоренса, но всю книгу от начала до конца. Было уже очень поздно, когда он дочитал последнюю строфу.
Сон под шум воды торопливой, Он — до завтра, хотя и глубок. Здесь, где ночью мы спим, не Лета И не смерти поток. Здесь брега Рубикона — жребий решен, Потом будет время проверки счетов, И будет солнечный свет, И решенье в свой час и в свой срок придет.Он медленно закрыл книжку. Пенелопа вздохнула — ей не хотелось, чтобы это кончалось.
— У него уже оставалось так мало времени! Он знал, что война неизбежна? — спросила она.
— Я думаю, осенью тысяча девятьсот тридцать восьмого года многие это знали. — Книжка выскользнула у Ричарда из руки и упала на пол. — Я уезжаю, — сказал он.
Огонь в камине погас. Пенелопа подняла голову — у него было очень печальное лицо.
— Почему ты так расстроен?
— У меня такое чувство, что я предаю тебя.
— Куда ты едешь?
— Не знаю. Не могу сказать.
— Когда?
— Как только мы вернемся в Порткеррис.
У нее упало сердце.
— Завтра.
— Да. Или послезавтра.
— Ты вернешься?
— Не сразу.
— Тебе поручили другую работу?
— Да.
— А кто займет твое место?
— Никто. Операция закончена. Том Меллаби и штабные еще на какое-то время останутся, у них свои дела, а коммандос и рейнджеры недели через две уедут. Так что Порткеррис вновь обретет Северный пирс. Снимут заграждение и с футбольного поля, и мальчики Дорис снова смогут гонять там мяч.
— Так, значит, все кончено?
— Эта глава — да.
— А что дальше?
— Поживем — увидим.
— Ты давно об этом знал?
— Две или три недели.
— Почему ты не сказал мне раньше?
— Тому две причины. Первая — это все еще тайна, секретные сведения, не подлежащие оглашению. Вторая — не хотел испортить наш и без того короткий отдых.
Любовь к нему захлестнула ее жаркой волной.
— Ничто не могло испортить его! — Она произнесла эти слова и поняла, что это правда. — Ты не должен был ничего скрывать. Во всяком случае, от меня. Никогда ничего не скрывай от меня!
— Это самое тяжелое испытание в моей жизни — расстаться с тобой.
Пенелопа представила себе, что его не будет, пустоту, которая разверзнется после его отъезда. Попробовала представить, как она будет жить без него, и не смогла. Но одно она знала совершенно точно.
— Самое страшное — прощание, — сказала она.
— Тогда мы не станем прощаться.
— Я не хочу, чтобы все кончилось!
— Это не кончится, моя дорогая девочка. — Он улыбался. — Наша с тобой жизнь еще даже не началась.
— Он уехал?
Пенелопа вязала.
— Да, папа́.
— И не попрощался?
— Он же приходил, принес тебе бутылку виски. Он не хотел устраивать прощание.
— А с тобой он тоже не попрощался?
— Нет. Просто ушел по тропинке. Мы так договорились.
— Когда он вернется?
Она довязала ряд, поменяла спицы и начала другой ряд.
— Я не знаю.
— Ты соблюдаешь тайну?
— Нет, я просто не знаю.
Лоренс смолк. Потом вздохнул.
— Я буду очень по нему скучать. — Его темные мудрые глаза были устремлены на дочь. — Но, думаю, не так, как ты.
— Я люблю его, папа́. Мы любим друг друга.
— Я знаю. Уже давно знаю.
— Мы любовники, папа́.
— И это знаю. Я видел, как ты вспыхивала, как сияло твое лицо. Как блестели волосы. И мне хотелось взять кисть и нарисовать это сияние, запечатлеть его навсегда. Да и к тому же… — голос его зазвучал более буднично, — не поедешь ведь ты куда-то с мужчиной на целую неделю, чтобы разговаривать с ним о погоде. — (Пенелопа улыбнулась, но ничего не ответила.) — Что же с вами будет дальше?
— Не знаю.
— Как насчет Амброза?
Она пожала плечами:
— Тоже не знаю.
— У тебя серьезные проблемы.
— Ты все прекрасно понимаешь, папа́.
— Очень тебе сочувствую. Сочувствую вам обоим. Не очень-то это весело — найти друг друга в середине войны.
— Тебе ведь он нравится, папа́? Я не ошиблась?
— Мне еще никогда никто так не нравился, как он. Мне кажется, я относился бы так к собственному сыну. Я и думаю о нем, как о сыне.
Пенелопа, которая ни разу не заплакала за все это время, почувствовала, как подступают к глазам слезы. Но она запретила себе сантименты.
— Ты — страшный человек! — сказала она отцу. — Сколько раз я тебе это говорила. — Слезы, слава богу, отступили. — Ты не должен прощать супружескую неверность. Ты должен щелкать кнутом и скрежетать зубами, ты должен сказать Ричарду Лоумаксу, чтобы он не смел переступать порог твоего дома.
Лоренс с удивлением посмотрел на нее.
— Ты меня оскорбляешь, — сказал он.
Ричард уехал с первыми частями морских пехотинцев. К середине апреля обитателям Порткерриса стало ясно, что учения закончены; тем самым завершилось более чем скромное участие в войне и самого городка. Столь же тихо и незаметно, как прибыли, американские солдаты удалились из Порткерриса; его узкие улочки опустели и стали непривычно тихими: не стучали по мостовым тяжелые башмаки, не проносились военные джипы. Из порта исчезли десантные суда, уплыли куда-то под покровом ночи; у Северного пирса сняли заграждения из колючей проволоки. Армии спасения был возвращен ее постоянный штаб. Металлические разборные бараки на холме стояли пустые, а от Боскарбенских скал уже не доносились звуки выстрелов.
Городок зажил прежней жизнью. Теперь лишь старый отель «Нептун» свидетельствовал о том, что Порткеррису довелось сыграть свою роль в долгих военных приготовлениях. Здесь на флагштоке все еще реял американский флаг, двор был полон джипов, у входа стоял часовой, входили и выходили полковник Меллаби и его подчиненные. Их присутствие подтверждало и удостоверяло: все, что было зимой, и вправду было.
Ричард уехал. Пенелопа научилась жить без него — выбора у нее не было. Ведь не скажешь: «Я этого не вынесу», потому что если ты не в силах это вынести, то нужно остановить вселенную и сойти с поезда, а жизнь не позволяет это сделать. Чтобы заполнить пустоту, занять чем-то руки и голову, она делала то, что испокон веков делают женщины, когда им тяжело и тревожно: с утра до ночи хлопотала по дому, обихаживала семью. Она вычистила и вымыла дом от чердака до винного погребка, выстирала одеяла, вскопала огород. Это не отвлекало ее от мыслей о Ричарде, и она по-прежнему хотела лишь одного — чтобы он был рядом, но хоть была какая-то польза: дом сверкал и благоухал чистотой, а на грядке зеленела только что высаженная рассада капусты.
Много времени Пенелопа проводила с детьми. Их мир был прост и ясен, общение с ними успокаивало. Нэнси в свои три года была уже личностью: деловитая, целеустремленная, решительная; ее высказывания и критические замечания удивляли и забавляли Пенелопу. А Кларк и Рональд росли не по дням, а по часам и поражали Пенелопу зрелостью своих суждений. Она уделяла им много внимания, помогала в сборе коллекции раковин, вникала в их проблемы и отвечала на все вопросы. Они уже были не голодные птенцы, которым надо было все время что-то класть в рот, и теперь она держалась с ними на равных. Самостоятельные люди. Поколение будущего.
Как-то в субботу она отправилась с детьми на прогулку, а вернувшись, застала в Карн-коттедже генерала Уотсона-Гранта, он уже собирался уходить. Приходил навестить Лоренса. Они хорошо поболтали, Дорис напоила их чаем.
Пенелопа провожала его до калитки. У пышного куста азалии, сплошь покрытого белыми нежными цветами, генерал остановился.
— Какая прелесть! — сказал он, указывая на куст тростью. — Украшение земли.
— Я их тоже очень люблю. Такие изысканные цветы. — Они с Пенелопой шли вдоль бордюра из эскалонии, усыпанной темно-розовыми бутонами, которые уже лопались, обещая, что вот-вот весь бордюр зацветет пышным цветом. — Даже не верится, что уже пришло лето. Сегодня мы с детьми гуляли по берегу, там наводят чистоту. Старик с лицом, похожим на брюкву, выгребал граблями плавники из песка и прочий мусор. И тенты уже установили, открылось кафе-мороженое. Оглянуться не успеем, как появятся первые курортники. Слетятся, как ласточки.
— Есть какие-нибудь вести от твоего мужа?
— …От Амброза? Кажется, у него все в порядке. Хотя писем давно не было.
— Тебе известно, где он находится?
— На Средиземном море.
— Значит, он не увидит этого зрелища.
Пенелопа нахмурилась:
— Не поняла?
— Вторжения в Европу. Открытия второго фронта.
Сердце у Пенелопы упало.
— А-а, да, — ослабевшим вдруг голосом отозвалась она.
— Не повезло парню. Признаюсь, я отдал бы правую руку, лишь бы снова стать молодым и быть там, в гуще сражения. Мы так долго готовились. Слишком долго. Но теперь вся страна ждет, чтобы ринуться в атаку.
— Да, знаю. Война сейчас снова в центре внимания. Идешь по улице, и от окна к окну можно прослушать всю сводку новостей. Люди покупают газеты и читают, не отходя от киоска. Так было во время Дюнкерка и Битвы за Англию и при Эль-Аламейне[35].
Они подошли к калитке и опять остановились. Генерал оперся на трость.
— Приятно было повидать твоего отца. Мне почему-то вдруг захотелось навестить его, и я отправился. Просто поболтать.
— Представляю, как он обрадовался. — Пенелопа улыбнулась. — Он скучает по Ричарду Лоумаксу и по триктраку.
— Он мне так и сказал. — Их глаза встретились. Во взгляде генерала светились доброта и участие. Интересно, подумала Пенелопа, много ли Лоренс счел нужным рассказать своему старому другу? — А я и не знал, что Лоумакс уехал. Что-нибудь от него слышно?
— Да.
— Как он там?
— Об этом не пишет.
— Ну да, все засекречено. Такой строгой секретности я не припомню.
— Я даже не знаю, где он. На конверте одни только буквы и цифры. А о телефоне и речи нет, будто он еще и не изобретен.
— Ничего, ничего. Скоро ты получишь от него весточку, можешь мне поверить. — Он отворил калитку. — Надо двигаться. До свидания, моя дорогая. Приглядывай за отцом.
— Спасибо, что навестили.
— Для меня это такое удовольствие. — Он вдруг приподнял шляпу, наклонился и чмокнул ее в щеку. Пенелопа растерянно молчала — никогда прежде он этого не делал. Помахивая тростью, генерал бодро зашагал по переулку.
Вся страна ждала. И это ожидание было самым страшным. Ожидание боев; ожидание сообщений; ожидание смерти. На Пенелопу словно повеяло ледяным ветром. Она затворила калитку и медленно побрела по дорожке к дому.
Письмо от Ричарда пришло два дня спустя.
Ранним утром Пенелопа первой спустилась вниз и увидела письмо там, где его оставил почтальон, — на комоде в холле. Адрес написан черными чернилами, нескладный большой конверт. Она взяла письмо, пошла в гостиную, устроилась с ногами в большом отцовском кресле и распечатала конверт. Внутри были четыре плотно сложенных листка тонкой желтой бумаги.
Где-то в Англии…
20 мая 1944 года
Пенелопа, моя любимая!
В последние недели я много раз садился за письмо тебе, но не успевал написать и трех строк, как кто-то стучал в дверь, звал к телефону или меня срочно требовало начальство.
Но вот наконец-то выпал час, когда я могу быть совершенно уверен, что меня никто не потревожит. Твои письма благополучно дошли, они для меня источник радости. Я как влюбленный мальчишка таскаю их всюду с собой, читаю и перечитываю без конца. И слушаю твой голос, хотя и не могу быть с тобой.
Мне много надо тебе сказать. Правда, не знаю, с чего начать, — ведь мы о многом уже говорили. Но что-то обошли молчанием. Это письмо о том, что мы обошли молчанием.
Ты упорно не хотела говорить об Амброзе, и, пока мы были в Трезиллике, обитали в мире, принадлежащем только нам двоим, это было понятно. Но потом он не выходил у меня из головы, и мне совершенно ясно, что он — единственный для нас камень преткновения, единственная преграда на пути к нашему счастью. Нельзя отнять чужую жену и остаться святым. Я стараюсь об этом не думать, но в голове, помимо моей воли, строятся планы на будущее: конфронтация, признание вины, адвокаты, суды и, в конечном счете, — развод.
Может так случиться, что Амброз поведет себя как джентльмен и даст согласие на развод. Хотя, честно говоря, у меня нет на это ни малейшей надежды, и я хоть сегодня готов предстать перед судом как виновный соответчик и побудить его к разводу. Если это случится, он может заявить свои права на Нэнси, но этот мост нам предстоит перейти, когда мы дойдем до него.
Важно лишь одно: мы должны быть вместе и в конце концов — лучше раньше, чем позже — пожениться. В один прекрасный день война кончится. Мне скажут спасибо, выдадут небольшое пособие и демобилизуют, и я вернусь к гражданской жизни. Устраивает ли тебя перспектива стать женой школьного учителя? Дело в том, что только этим я хочу заняться. Я не могу тебе сказать сейчас, куда мы поедем, где будем жить и как все сложится, но, если мне представится выбор, хотел бы вернуться на Север, поближе к озерам и горам.
Знаю, все это еще где-то далеко-далеко. Предстоит пройти трудный путь, преодолеть много препятствий, и одно за другим мы их преодолеем. Но тысячемильные путешествия начинаются с первого шага, и чем лучше все обдумаешь, тем успешнее проходит экспедиция.
Я перечитал то, что написал, и меня поразила мысль, что это письмо счастливого человека, который намеревается жить вечно. Почему-то я не боюсь, что не выживу в этой войне. Смерть, наш последний враг, еще где-то далеко-далеко, до нее еще будет старость и немощь. Не могу поверить, что судьба, которая только что свела нас с тобой, захочет нас так скоро разлучить.
Я так часто вспоминаю Карн-коттедж, всех вас. Ты у меня перед глазами — вижу, как ты хлопочешь по хозяйству, и мне так хочется быть рядом с тобой, смеяться вместе с тобой, делать что-то в доме, который стал мне родным. Мне было в нем так хорошо! Но в этой нашей земной жизни ничто хорошее не исчезает бесследно. Оно остается в человеке, становится частью его. Значит, и ты стала частью меня и, где бы я ни был, ты везде со мной. А часть меня — в тебе. Навсегда. Любовь моя, дорогая Пенелопа!
Твой РичардШестого июня, во вторник, союзные войска высадились в Нормандии. Второй фронт открылся. Началась последняя долгая битва. Ожидание закончилось.
Одиннадцатого июня был понедельник.
На Дорис нашел религиозный стих, и она отправилась с мальчиками в церковь, а Нэнси отвела в воскресную школу. Пенелопа осталась готовить ланч. В кои-то веки мясник расщедрился: извлек вдруг из-под прилавка ногу барашка. Обложенная кусочками картофеля, сейчас она жарилась в духовке, источая восхитительный аромат. Морковка кипела на медленном огне, капуста была нашинкована. Вместо пудинга будут ревень и сладкий молочный крем.
Стрелки часов уже приближались к двенадцати. Пенелопе захотелось приготовить еще и мятную приправу. Не снимая фартука, она вышла через заднюю дверь и пошла на лужок за домом. Дул легкий ветерок. Дорис настирала уйму белья — простыни и полотенца полоскались на ветру, точно плохо натянутые паруса. Завидев Пенелопу, всполошились в вольере куры и утки — видно, решили, что она несет им корм.
Она отыскала мяту, нарвала пучок пахучих веточек и пошла по высокой траве обратно. Она была уже на полпути к дому, когда услышала, как хлопнула нижняя калитка. Ребятам и Дорис было еще рано возвращаться, и поэтому Пенелопа повернула к каменным ступенькам, которые вели к большому газону перед домом, и остановилась в ожидании.
Прошла минута-другая, и появился посетитель. Высокий мужчина в военной форме. В зеленом берете. На какое-то мгновение сердце у нее остановилось — ей почудилось, что это Ричард, но тут же она поняла, что это не он. Полковник Меллаби дошел до конца тропинки и остановился. Он поднял голову и увидел, что она смотрит на него.
Все вокруг замерло и смолкло — словно вдруг сломался кинопроектор и остановилась лента. Не пели птицы. Стих ветер. Зеленый газон пролег между ними, как поле боя. Пенелопа стояла не двигаясь, она ждала, чтобы первый шаг сделал он.
Он сделал его. Что-то щелкнуло, зажужжало — фильм продолжился. Пенелопа пошла навстречу. Полковник похудел и был очень бледен, Пенелопа помнила его другим.
Первой заговорила она:
— Здравствуйте, полковник Меллаби.
— Моя дорогая… — Ей показалось, что с ней заговорил генерал Уотсон-Грант, так мягко звучал его голос, и в это мгновение она поняла, что он готовится ей сообщить.
— Что-то с Ричардом? — спросила она.
— Да. Я очень сожалею…
— Что случилось?
— Плохие вести.
— Скажите мне.
— Ричард… убит. Его уже нет в живых…
Она ждала, что сейчас почувствует. Но не почувствовала ничего. Только крепче сжала в кулаке пучок мяты. Прядь волос упала ей на щеку, она подняла руку и отбросила прядь. Ее молчание разделило их, как пропасть, его невозможно было преодолеть. Она понимала это и жалела полковника, но не могла ничем помочь.
Наконец он заставил себя заговорить — Пенелопа видела, чего это ему стоило.
— Я узнал об этом сегодня утром… Когда мы прощались, он попросил меня… он сказал, если с ним что-нибудь случится, я должен сразу пойти к вам и сказать.
— Спасибо. — Пенелопа не узнала своего голоса. — Когда это случилось?
— В День Д[36]. Он пошел в атаку вместе с бойцами, которых обучал. Второй батальон американских рейнджеров.
— Он не должен был идти в атаку?
— Нет. Но он хотел быть с ними. Они были так горды, что он пошел с ними вместе.
— Что случилось?
— Они высадились с фланга на плацдарм Омаха-бич с Первым морским дивизионом Соединенных Штатов в местечке Пуант-де-Уэ на северной стороне полуострова Коттентан. — Голос полковника звучал теперь более уверенно, он говорил о вещах для него привычных. — Как я понял, у них возникли какие-то трудности со снаряжением. Плохо сработали ракетницы, которые выбрасывают кошки, — видимо, намокли в воде, но они все же поднялись на утес и захватили немецкую батарею на его вершине. Они выполнили боевую задачу.
Молоденькие американцы, которые провели эту зиму здесь, в Порткеррисе, по другую сторону океана, вдали от своих домов, от своих семей, подумала Пенелопа.
— Много убитых?
— Да. Во время атаки погибла по меньшей мере половина из них.
И в этой половине — Ричард! Она сказала:
— Он не думал, что его убьют. Он написал мне в письме: «Смерть, наш последний враг, еще где-то далеко-далеко…» Хорошо, что он так думал.
— Конечно. — Полковник закусил губу. — Не прячьте горе в себе, дорогая. Если вам захочется плакать, плачьте. Я женатый человек, у меня двое детей. Я все понимаю.
— Я тоже замужем, и у меня есть дочь.
— Я знаю.
— И я уже давно не плачу.
Он поднял руку, отстегнул клапан нагрудного кармана и достал из него фотографию.
— Один из моих сержантов дал мне это. Он тогда занимался съемкой учебных занятий на Боскарбенских скалах и сделал эту фотографию. Он подумал… я подумал… может быть, вам захочется иметь ее.
Он протянул Пенелопе фотографию. Ричард стоял, повернув голову, словно на кого-то оглянулся, в этот момент его и щелкнул фотограф. Ричард улыбался. Он был в форме, но без берета, через плечо перекинут моток веревки. День, похоже, был ветреный, как сегодня, — волосы у Ричарда были взъерошены. За его спиной раскинулось море.
— Вы очень добры, спасибо, — сказала Пенелопа. — У меня не было ни одной его фотографии.
Полковник Меллаби молчал. Они оба не знали, что еще сказать.
— Вы справитесь? — спросил он ее наконец.
— Да, конечно.
— Тогда я пойду. Но, может быть, я чем-то могу вам помочь?
Пенелопа подумала.
— Да, можете, — сказала она. — В доме находится мой отец. Он в гостиной. Вы его сразу найдете. Не можете ли вы пойти и сказать ему о Ричарде?
— Вы правда хотите, чтобы я это сделал?
— Кто-то должен ему сказать. Боюсь, у меня не хватит сил.
— Хорошо.
— Я приду сразу же вслед за вами. Вы скажете, и я тут же войду.
Он пошел по дорожке к дому, поднялся по ступенькам крыльца и скрылся за дверью. Он не только добрый, но и мужественный человек, подумала Пенелопа. Она стояла все на том же месте, сжимая в одной руке пучок мяты, а в другой — фотографию Ричарда. В памяти всплыло то страшное утро, когда погибла Софи. Как она рыдала тогда… никак не могла справиться с собой. И сейчас ей хотелось дать себе волю и зарыдать, залиться слезами. Но слез не было. Она онемела, ее сковал ледяной холод.
Она смотрела на Ричарда. Никогда! Никогда больше он не придет к ней. Его нет. Она видела его улыбку. В ушах звучал его голос — он читал ей стихи.
Она вспомнила слова. Вдруг они вспомнились все сразу, всплыли в памяти, как забытая песня.
…жребий решен. Потом будет время проверки счетов, и будет солнечный свет, и решенье в свой час и в свой срок придет.Солнце будет светить и дальше. Я должна сказать это папа́, подумала она. Да, можно начать и так. Не все ли равно, с каких слов пойдет отсчет оставшейся нам жизни.
12. Дорис
«Подмор Тэтч». Запела птица, ее голос прорезал серую предрассветную тишину. Камин потух, но свет над картиной еще горел; очевидно, он горел всю ночь. Пенелопа не спала, но, очнувшись, почувствовала себя как человек, пробудившийся от глубокого и безмятежного сна. Она распрямила ноги под толстым шерстяным одеялом, выпростала из-под него руки и, потянувшись, потерла глаза. В тусклом свете наступающего утра она окинула взглядом свою гостиную, привычные, милые сердцу вещи: ее цветы, бюро, картины, окно, открытое в сад. Увидела нижние ветви каштанов, набухшие, еще не раскрывшиеся почки. Она не чувствовала себя разбитой или усталой, хотя и не спала. Напротив, в душе были спокойная уверенность и умиротворение, должно быть, оттого, что в кои-то веки она смогла с головой уйти в воспоминания.
Вот она и добралась до конца. Пьеса окончена. Сходство с театром несомненно. Гаснут огни рампы, и в меркнущем свете актеры уходят со сцены. Дорис и Эрни уже никогда не будут молодыми. Ушли старшие Пенберты, и Трабшоты, и Уотсоны-Гранты. И папа́. Все они умерли. И умерли давно. Самым последним ушел из ее жизни Ричард. Она вспомнила его улыбку и поняла, что время, этот великий целитель, врачующий все раны, наконец сделал свое дело; сейчас, спустя многие годы, его лицо, олицетворявшее для нее любовь, уже не вызывало жгучей боли и горьких сожалений. Пожалуй, оно вызывало в душе лишь чувство благодарности. Ибо не будь этих воспоминаний, каким невообразимо пустым было бы ее прошлое. «Лучше любить и потерять, — сказала она себе, — чем не любить вовсе». Теперь она точно знала, что так оно и есть.
Каминные часы в виде золотой колесницы пробили шесть. Ночь прошла. Наступило завтра. И вот снова четверг. На что ушли последние несколько недель? Решая эту головоломку, она прикинула, что с тех пор, как приезжал Рой Брукнер, забравший с собой панно и этюды, прошло две недели. А между тем никаких вестей от него не было.
Ноэль и Нэнси тоже не подавали признаков жизни. После недавней ссоры ее отношения с ними испортились: убравшись восвояси, они хранили молчание, тем самым недвусмысленно подчеркивая свое отчуждение и нежелание с ней общаться. Но это беспокоило Пенелопу гораздо меньше, чем они думали. Со временем они обязательно позвонят; нет, они не станут извиняться, они просто сделают вид, что ничего не произошло. А пока у нее слишком много забот и слишком мало сил, чтобы тратить их на ребяческие капризы и глупые обиды. Есть в ее жизни более приятные занятия, да и дел невпроворот. Дом и сад по-прежнему отнимали массу времени. Погода, как и всегда в апреле, была неустойчивой: то серое небо, свинцово-зеленые листья и проливной дождь, то снова солнышко. Желтым пламенем горели цветы на кустах форситии, а весь сад превратился в пестрый ковер из нарциссов, фиалок и примул.
Четверг. Сегодня утром придет Данус. И очень может быть, что из Лондона позвонит Рой Брукнер. Подумав об этом, Пенелопа вдруг уверовала, что он позвонит именно сегодня. Это не было просто предположением. Скорее всего, это было предчувствием.
К одинокому птичьему голосу присоединилась дюжина других, и воздух наполнился веселым щебетом. Теперь уже не уснуть. Она поднялась с тахты, выключила свет и пошла наверх, чтобы принять очень горячую, полную до краев ванну.
Предчувствие ее не обмануло. Брукнер позвонил в середине дня во время обеда.
Славный рассвет перешел в серый сумрачный день с затянутым облаками небом и мелким дождем, никак не располагавшим к обеду на свежем воздухе или в теплице. Поэтому все трое: она, Антония и Данус — уселись обедать за кухонным столом, на котором уже стояло блюдо — спагетти и салат из свежих овощей. Из-за плохой погоды Данус все утро занимался разборкой гаража. Пенелопа направилась было к бюро в поисках какого-то телефона, но, обнаружив там страшный беспорядок, неожиданно занялась разборкой бумаг, да так и просидела все утро, подготавливая к оплате просроченные счета, перечитывая старые письма и выбрасывая рекламные проспекты, которые она так и не удосужилась вынуть из конвертов. Антония приготовила обед.
— Да ты не только хорошая помощница в саду, но и прекрасная кулинарка, — сказал Данус, посыпая спагетти тертым сыром.
Зазвонил телефон.
— Подойти? — спросила Антония.
— Нет. — Пенелопа положила вилку и поднялась из-за стола. — Это меня. — Она не стала брать трубку в кухне, а прошла в гостиную, закрыв за собой дверь.
— Алло.
— Это миссис Килинг?
— Слушаю вас.
— Говорит Рой Брукнер.
— Да, мистер Брукнер.
— Прошу извинить меня, я долго не давал о себе знать. Видите ли, мистер Ардуэй уезжал в Гстаад погостить у друзей и, вернувшись в Женеву только два дня назад, нашел в отеле мое письмо. Он прилетел в Англию сегодня утром и сейчас сидит у меня в кабинете. Я показал ему ваши панно и сказал, что вы хотите их продать, минуя аукцион. Он очень рад, что ему представилась такая возможность, и готов их купить. Предлагает пятьдесят тысяч за каждое. То есть сто тысяч за оба. Конечно, фунтов стерлингов, не долларов. Вас устраивает такая цена или вы хотите немного подумать? Он собирался вернуться в Нью-Йорк завтра, но готов отложить отъезд, если вам необходимо какое-то время, чтобы обдумать его предложение. Лично я полагаю, что цена очень неплохая, но если… миссис Килинг? Вы меня слышите?
— Да, я слушаю вас.
— Извините, я подумал, нас прервали.
— Нет-нет, я слушаю.
— Может быть, вы хотите что-то уточнить?
— Нет.
— Вас устраивает упомянутая мной сумма?
— Да, вполне.
— Значит, вы хотите, чтобы я оформил сделку?
— Да, сделайте одолжение.
— Вряд ли стоит говорить, что мистер Ардуэй просто в восторге.
— Я очень рада.
— Тогда ждите моего звонка. Я хотел бы еще добавить, что деньги вы получите сразу же после оформления сделки.
— Благодарю вас, мистер Брукнер.
— Возможно, мое замечание будет не вполне своевременным, но должен заметить, что вам придется заплатить налоги, и немалые. Вы об этом знаете?
— Да, конечно.
— А есть ли у вас кто-то, кто ведет ваши финансовые дела?
— Да, я обращаюсь время от времени к мистеру Эндерби из фирмы «Эндерби, Лусби и Тринг». Это юридическая фирма на Грейз-Инн-роуд. Мистер Эндерби оформлял все документы на продажу моего дома на Оукли-стрит и на покупку нынешнего.
— В таком случае не могли бы вы связаться с ним и поставить его в известность о сделке?
— Я непременно ему позвоню.
Молчание. Пенелопа подумала, что он собирается положить трубку.
— Миссис Килинг?
— Да, мистер Брукнер?
— Вы хорошо себя чувствуете?
— Да, а что?
— Ваш голос кажется каким-то… очень уж слабым.
— Так это потому, что я именно так себя и чувствую.
— Вам подходят условия сделки?
— Да, вполне.
— В таком случае до свидания, миссис Килинг.
— Погодите, мистер Брукнер. Я еще кое о чем собиралась с вами поговорить.
— Слушаю вас.
— О картине «Собиратели ракушек».
— Вот как?
И Пенелопа рассказала, что задумала ему поручить.
Очень медленно она положила трубку. Посидела за только что разобранным письменным столом еще несколько минут. Было очень тихо. Из кухни доносились приглушенные голоса Антонии и Дануса; казалось, им всегда было о чем поговорить. Потом Пенелопа вернулась в кухню и увидела, что они все еще сидят за столом, хотя уже разделались со спагетти и перешли к фруктам, сыру и кофе. Ее тарелки со спагетти на столе не было.
— Я поставила вашу тарелку в духовку, чтобы не остыла, — сказала Антония и встала, чтобы ее достать, но Пенелопа ее остановила:
— Не надо, не беспокойся. Я больше не хочу.
— Тогда, может быть, чашку кофе?
— Нет, ничего не надо. — Она сидела на стуле, положив руки на стол. И улыбалась, потому что не могла сдержать улыбку; она любила их обоих и собиралась подарить им то, что считала самым дорогим подарком на всем белом свете. Подарком, который она предложила каждому из своих детей и который все они, один за другим, отвергли.
— Я хочу вам кое-что предложить, — сказала она. — Не согласитесь ли вы оба поехать со мной в Корнуолл? Поехать и провести там пасхальные праздники? Вместе. Втроем.
«Подмор Тэтч», Темпл-Пудли,
Глостершир
17 апреля 1984 года
Дорогая Оливия!
Хочу кое-что тебе рассказать: о том, что уже произошло, и о том, что произойдет в скором времени.
На прошлой неделе, когда Ноэль привез сюда Антонию и разобрал чердак, а Нэнси приехала на следующий день пообедать, между нами произошла бурная ссора, хотя я уверена, что ни один из них тебе об этом не рассказал. Поводом послужили, как всегда, деньги и твердое убеждение Ноэля и Нэнси, что мне следует продать картины отца прямо сейчас, пока за них дают хорошую цену. Они уверяли меня, что заботятся только о моем благе, но я слишком хорошо их знаю. Деньги нужны им самим.
Когда они наконец уехали, я все обдумала и на следующее утро позвонила мистеру Рою Брукнеру из «Бутби». Он приехал, посмотрел панно и забрал их с собой. Он нашел для меня покупателя, американца, который предложил за них сто тысяч фунтов. Я приняла его предложение.
Конечно, я могу придумать немало способов, как распорядиться этим свалившимся с неба богатством, но сейчас собираюсь предпринять то, о чем я мечтала много-много лет, а именно поехать в Корнуолл. А поскольку ни ты, ни Ноэль, ни Нэнси не захотели, за неимением времени или желания, составить мне компанию, я пригласила с собой Антонию и Дануса. Сначала Данус заколебался; мое предложение было для него полной неожиданностью, и мне кажется, он подумал, что я жалею его и хочу сделать ему одолжение, а он очень гордый молодой человек. Но мне удалось убедить его, что это он сделает мне одолжение; ведь нужен же нам с Антонией сильный мужчина, который мог бы позаботиться о багаже и расплачиваться с портье и метрдотелями. В конце концов он согласился поговорить со своим хозяином и попросить отпуск на неделю. С хозяином удалось договориться, и завтра утром мы отправляемся в путь. Мы с Антонией будем по очереди вести машину. Вряд ли мы сможем остановиться у Дорис; в ее доме негде разместить сразу троих гостей, и потому я заказала для нас номера в гостинице «Золотые пески» на все пасхальные дни.
Я выбрала именно эту гостиницу, потому что она всегда казалась мне очень уютной и без особых претензий. Помню, когда я была маленькой, летом туда из года в год приезжали многие лондонцы: целыми семьями, вместе с детьми, шоферами, нянями и собаками. Каждое лето администрация гостиницы устраивала небольшой теннисный турнир, а по вечерам — танцы. Взрослые в смокингах танцевали фокстрот, а дети, стоя в два ряда лицом друг к другу, — старинный танец «Роджер де Каверли» и получали в награду воздушные шарики. Во время войны там был госпиталь, где под красными одеялами лежали раненые, а потом, когда дело шло на поправку, хорошенькие девушки в белых шапочках из добровольческих медицинских отрядов обучали их плести корзины.
Когда я объявила Данусу, где мы будем жить, он, видимо, был немного ошарашен, ведь «Золотые пески» стали теперь фешенебельной гостиницей, и его, как мне показалось, смутили предстоявшие мне расходы. Но, как ты понимаешь, сейчас для меня уже не имеет значения, сколько все это будет стоить, хотя я могу это сказать первый раз в жизни. При этом у меня возникает неведомое раньше ощущение, будто я неожиданно стала другим человеком, и от этого у меня, как у ребенка, захватывает дух.
Вчера мы с Антонией отправились в Челтнем за покупками. Новая, незнакомая Пенелопа взяла быка за рога, и, уверяю тебя, ты ни за что не узнала бы в ней свою бережливую мать, но, по-моему, одобрила бы ее. Мы как с ума сошли! Купили Антонии несколько платьев, прелестную кремовую шелковую блузку, джинсы, бумажные пуловеры и желтый непромокаемый плащ, а также четыре пары обуви. Потом Антония удалилась в дамский салон подровнять челку, а я стала ходить по магазину, покупая разные приглянувшиеся мелочи. Они не очень-то мне и нужны, но вполне могли бы пригодиться на отдыхе — новые парусиновые туфли со шнурками, тальк, огромный флакон духов, кинопленка, крем для лица и шерстяной джемпер фиалкового цвета. Купила термос и клетчатый плед (для пикников) и, чтобы не скучать, целую стопку книжек в бумажных переплетах (в том числе и «И восходит солнце» — я уже много лет не перечитывала Хемингуэя). Купила книгу о птицах Англии и еще одну, очень красивую, со множеством карт.
Кончив упиваться собственной расточительностью, я заехала в банк, затем отдохнула в кафе за чашечкой кофе и отправилась за Антонией. Она оказалась сама на себя не похожей, но очень привлекательной. Она не только привела в порядок волосы, но и покрасила ресницы. Это совершенно изменило весь ее облик. Сначала она чувствовала себя неловко, но теперь уже привыкла и только изредка бросает в зеркало восхищенные взгляды. Давно уже я не чувствовала себя такой счастливой.
Завтра после нашего отъезда миссис Плэкетт уберет и закроет дом. Мы вернемся двадцать пятого, в среду. И последнее, что я хотела тебе сказать: «Собирателей ракушек» в доме уже нет. В память о папа́ я подарила их картинной галерее Порткерриса, созданию которой он отдал много сил. Я сама удивляюсь, но картина мне больше не нужна, а думать, что другие люди смогут любоваться ею, как любовалась я все эти годы, очень приятно. Мистер Брукнер взял на себя заботы по транспортировке картины в Корнуолл и на днях прислал за ней специальный фургон. Над камином после нее осталось светлое пятно, но со временем я придумаю, чем его закрыть. А теперь с нетерпением ожидаю встречи с ней в галерее, где она выставлена для всеобщего обозрения.
Я ничего не написала Ноэлю и Нэнси. Рано или поздно они все узнают и станут возмущаться и негодовать, но тут уж ничего не поделаешь. Я давала им все, что могла, но им всегда было мало. Возможно, теперь они перестанут меня донимать и будут рассчитывать только на свои силы.
Но ты, надеюсь, меня поймешь.
Всегда любящая тебя
МамаНэнси было немного не по себе. В основном из-за того, что она не звонила матери с того злосчастного воскресенья, когда между ними произошла эта ужасная ссора из-за картин и Пенелопа обрушилась на нее и Ноэля, отчитав их самым обидным, достойным сожаления образом.
Не то чтобы Нэнси чувствовала себя виноватой. Напротив, она считала себя несправедливо обиженной. Мама бросила им в лицо обвинения, которые давно копились в ее душе, и Нэнси решила пока ей не звонить, показывая тем самым, что уступать не собирается, и рассчитывая, что мать не выдержит и первая сделает шаг к примирению. Вряд ли она извинится, но непременно позвонит — поболтать о том о сем, справиться о детях, а может быть, даже предложить повидаться — и этим даст понять, что ссора забыта и все будет по-прежнему.
Однако ее ожидания не оправдались. Пенелопа не звонила. Сначала Нэнси чувствовала себя глубоко оскорбленной и вынашивала обиду. Ее возмущало, что именно она оказалась в немилости. В конце концов, ничего плохого она не сделала. Просто высказала свое мнение, заботясь об их общем благе.
Но с течением времени Нэнси стала беспокоиться. На маму это было не похоже — она не имела обыкновения дуться. Что, если мама снова заболела? Она рассердилась тогда не на шутку, а для пожилой женщины, да еще с больным сердцем, это могло плохо кончиться. Может быть, та ссора сказалась на ее самочувствии? При этой мысли сердце Нэнси сжималось от страха, и она старалась отогнать тревогу. Конечно нет. Ведь если бы с Пенелопой что-то случилось, Антония непременно дала бы об этом знать. Правда, она молода и потому безответственна, но не до такой же степени, чтобы не сообщить о болезни.
Но беспокойство все росло, и скоро мысль о матери уже не выходила у Нэнси из головы. В последние дни она не раз порывалась позвонить в «Подмор Тэтч» и даже поднимала трубку, чтобы набрать номер, но каждый раз клала ее на место, потому что не могла придумать, что сказать и как объяснить свой звонок. И вдруг ее осенила идея. Ведь скоро Пасха. Она пригласит маму и Антонию в гости на пасхальный обед. Таким образом она нисколько не уронит своего достоинства, и за обедом из жареного барашка и молодого картофеля наступит примирение.
Этот блестящий план пришел Нэнси в голову, когда она убирала в гостиной, не слишком тщательно вытирая пыль. Она положила тряпку и флакон полироля и направилась в кухню к телефону. Набрав номер, она стала ждать, дружелюбно улыбаясь, готовая в любую минуту выразить это дружелюбие словами. Но никто к телефону не подходил. Улыбка исчезла с лица Нэнси. Она ждала долго. Наконец, совершенно обескураженная, положила трубку.
Нэнси снова позвонила в три, а потом в шесть. Потом набрала номер бюро повреждений и попросила проверить, работает ли телефон.
— Да, работает, звонит вовсю, — заверил ее служащий бюро.
— То, что звонит, я и сама слышу. Слушаю гудки весь день. Может быть, аппарат не в порядке?
— А вы уверены, что тот, кому вы звоните, дома?
— Конечно. Я звоню матери, а она всегда дома.
— Тогда дайте мне какое-то время. Я еще раз проверю и вам перезвоню.
— Спасибо.
Она стала ждать. Раздался звонок. Линия работает, с телефоном все в порядке. Должно быть, матери просто нет дома.
Теперь Нэнси не столько беспокоилась, сколько злилась. Она позвонила Оливии в Лондон.
— Оливия? Привет. Это Нэнси.
— Я догадалась.
— Оливия, я пытаюсь дозвониться маме, но у нее никто не подходит. Ты не знаешь, что с ней случилось?
— Ничего. Естественно, там никто не подходит, потому что она уехала в Корнуолл.
— В Корнуолл?
— Да. На пасхальные праздники. На машине вместе с Антонией и Данусом.
— С Антонией и Данусом?
— Ну что ты так всполошилась? — В голосе Оливии зазвучали насмешливые нотки. — Почему бы ей и не поехать? Она давно мечтала там побывать, но ни один из нас не захотел составить ей компанию, поэтому она взяла с собой Антонию и Дануса.
— Но разве смогут они все разместиться у Дорис Пенберт? Там не хватит места.
— Конечно нет. Они заказали номера в гостинице «Золотые пески».
— «Золотые пески»?
— Нэнси, перестань наконец повторять за мной каждое слово.
— Но это же лучшая гостиница! Одна из самых дорогих в Корнуолле. О ней во всех проспектах написано. Это будет стоить кучу денег.
— А ты разве не слышала? У мамочки как раз появилась куча денег. Она продала панно одному американскому миллионеру за сто тысяч фунтов.
Нэнси не понимала, то ли ее тошнит, то ли она сейчас упадет в обморок. Скорее всего, это все же будет обморок. Она почувствовала, как кровь отхлынула от лица, и потянулась к стулу.
— Сто тысяч фунтов?! Просто невероятно! Кто же даст за них сто тысяч? Не могут они стоить столько денег. Таких и цен-то нет.
— Значит, могут. Если чего-то очень хочется, можно и раскошелиться. Кроме того, ведь существуют раритеты. Я пыталась втолковать тебе это, когда мы обедали в ресторане «Кетнерс». Работы Лоренса Стерна продаются не так уж часто, а американец, наверное, хотел купить эти панно больше всего на свете. И цена его не пугает. Маме очень повезло, и я ужасно рада.
У Нэнси голова пошла кругом. Сто тысяч фунтов.
— И когда это произошло? — наконец выдавила она.
— Не знаю. Должно быть, недавно.
— Ты-то как об этом узнала?
— Она прислала мне длинное письмо, где рассказала о продаже панно и о ссоре с тобой и Ноэлем. Какие вы все-таки бессовестные! Я уже много раз вам говорила, чтобы вы оставили ее в покое, но вы не слушали. Вы все время донимали ее, пока наконец она не выдержала. Мне кажется, поэтому она и продала панно. Наверное, понимала, что иначе вы от нее не отстанете.
— Но это несправедливо!
— Брось, Нэнси, перестань притворяться передо мной, да и перед собой тоже.
— Они здорово прибрали ее к рукам.
— Кто?
— Данус и Антония. Зря ты отправила к маме эту девчонку. И Данусу я совсем не доверяю. Уж я бы его отвадила.
— Ноэль тоже ему не доверяет.
— И это тебя не беспокоит?
— Нисколько. Я очень верю в мамин здравый смысл.
— Почему же она тогда сорит деньгами, столько тратит на них, живет в шикарной гостинице вместе с садовником?!
— А почему бы и нет? Это ведь ее деньги. Почему она не может потратить уйму денег на себя и двух юных друзей, если они ей нравятся? Она приглашала всех нас составить ей компанию, но никто из нас не захотел. У нас был шанс, но мы не захотели им воспользоваться. И теперь нам некого винить, кроме самих себя.
— Когда мама меня приглашала, она ничего не сказала про «Золотые пески». Она собиралась остановиться у Дорис.
— Ты хочешь сказать, что отказалась из-за этого? Тебе не хотелось жить в тесном маленьком домике Дорис? И ты бы поехала, если бы тебя поманили номером в «Золотых песках», как ослика морковкой?
— Ты не имеешь права так со мной разговаривать!
— Имею. Я ведь твоя сестра, помоги мне, господи. И вот что еще я тебе скажу. Мама поехала туда, чтобы посмотреть на «Собирателей ракушек». Она подарила их местной галерее в память об отце и хотела взглянуть, хорошо ли им на новом месте.
— Подарила?! — На мгновение Нэнси показалось, что она не расслышала или, во всяком случае, не так поняла сестру. — Ты хочешь сказать, она отдала ее даром?
— Да, именно так.
— Но это полотно, должно быть, стоит теперь тысячи. Сотни тысяч.
— Я уверена, что это понятно всем заинтересованным лицам.
«Собиратели ракушек». Потеряны безвозвратно. Ощущение совершившейся несправедливости по отношению к ней самой и ее семье привело Нэнси в бешенство.
— Мама же всегда говорила, что не может жить без этой картины, — с горечью сказала она. — Что она была частью ее жизни.
— Так оно и было. Многие годы. Но теперь, как мне кажется, она думает, что может без нее обойтись. Она хочет поделиться с другими. Хочет, чтобы они тоже видели картину и получали от нее удовольствие.
Оливия, без сомнения, на стороне матери.
— А как же мы? Как же мы, ее семья? Ее внуки. Ноэль. Ноэль знает об этом?
— Не имею представления. Не думаю. Я не говорила с ним с тех пор, как он забрал от меня Антонию, чтобы отвезти к маме.
— Непременно ему расскажу. — Это была угроза.
— Ради бога, — сказала Оливия и положила трубку.
Нэнси со злостью швырнула трубку. Проклятая Оливия! Черт бы ее побрал! Она снова подняла трубку и трясущимися пальцами набрала номер Ноэля. Давно она не была так расстроена.
— Ноэль Килинг у телефона.
— Это Нэнси. — Она говорила серьезно и авторитетно, как будто собиралась держать семейный совет.
— Привет, — ответил Ноэль, но радости в его голосе она не услышала.
— Я только что говорила по телефону с Оливией. Сначала я пыталась дозвониться маме, но у нее никто не отвечал, и я позвонила Оливии узнать, в чем дело. Она была в курсе, потому что мама прислала ей письмо. Подумать только, написала Оливии, а нам с тобой даже не позвонила.
— Не понимаю, о чем ты.
— Мама уехала в Корнуолл и взяла с собой Дануса и Антонию.
— О господи.
— И они будут жить в отеле «Золотые пески».
Ноэль насторожился:
— «Золотые пески»? Мне казалось, она собиралась остановиться у Дорис. Неужели она может позволить себе такую дорогую гостиницу? Это же один из самых роскошных отелей в стране.
— Представь себе, может. Мама продала те два панно, что висели над лестницей. За сто тысяч фунтов. Даже не посоветовавшись с нами. Сто тысяч фунтов. И, как видно, она собирается пустить их на ветер. Но это еще не все. Она отдала «Собирателей ракушек». Подарила, видите ли, картинной галерее в Порткеррисе. Просто отдала, неизвестно кому, и никто ведь не знает, сколько стоит эта картина. Должно быть, мама выжила из ума. Я уверена, что она не отдает себе отчета в том, что делает. Я сказала Оливии, что я об этом думаю. Эти молодые ребята, Антония и Данус, втерлись к нашей матери в доверие и вертят ею как хотят. Так иногда бывает, ты и сам знаешь. Об этом часто пишут газеты. Это противозаконно, и оставить это безнаказанным нельзя. Нам надо что-то предпринять. Ноэль? Ты слушаешь?
— Да.
— Ну и что скажешь?
Ноэль выругался и повесил трубку.
Гостиница «Золотые пески»
Порткеррис, Корнуолл
19 апреля, четверг
Дорогая Оливия!
Вот мы и приехали и уже целый день живем в Порткеррисе. Не нахожу слов, чтобы передать, как здесь красиво. Погода как в разгар лета, и все кругом в цвету. И пальмы, и мощенные булыжником улочки, и море — все окрашено в чудесные синие тона; море не такое синее, как Средиземное, а слегка зеленоватое ближе к берегу и темно-темно-синее на горизонте. Совсем как в Ивисе, только еще лучше, потому что кругом свежая сочная зелень, а вечерами, после захода солнца, воздух напоен влагой и запахом молодой листвы.
Мы прекрасно доехали. Я вела машину почти всю дорогу, и только иногда меня подменяла Пенелопа, а Данус, как ты знаешь, за руль не садится. Стоило нам только выехать на шоссе, как мы покатили с ветерком, и твоя мама все время удивлялась, как быстро мы продвигаемся вперед. Когда добрались до Девоншира, свернули на старую дорогу через Дартмур; здесь, на вершине утеса, откуда открывался вид на всю округу, мы устроили пикник; к нам подходили лохматые маленькие пони и с удовольствием подъедали корки от сандвичей.
Гостиница сказочная. Мне никогда в жизни не приходилось останавливаться в гостиницах, и Пенелопе, по-моему, тоже, так что у нас масса новых впечатлений. Она всю дорогу рассказывала нам о том, как удобно и уютно в этой гостинице, но, когда мы наконец въехали на подъездную аллею, обсаженную с обеих сторон гортензиями, нам сразу же стало ясно, что мы будем просто утопать в роскоши. На площадке перед гостиницей стояли «роллс-ройс» и три «мерседеса», а одетый в униформу швейцар вышел навстречу, чтобы взять наш багаж. Данус говорит, что наши чемоданы одной масти, то есть одинаково старые и обшарпанные.
Но Пенелопу это нисколько не смутило. Говоря «это», я имею в виду роскошные ворсистые ковры, плавательные бассейны, ванны-джакузи, номера с ванными комнатами, телевизоры прямо возле кровати, огромные вазы со свежими фруктами и всюду цветы. Наши номера расположены рядом и имеют выход на примыкающие друг к другу балконы, откуда открывается вид на сады и море.
Время от времени мы выходим на балкон и беседуем. Совсем как в романе Ноэля Коуарда «Личная жизнь».
Что же до ресторана, то каждое его посещение — это как выход в свет, в какой-нибудь из самых дорогих ресторанов Лондона. Здесь у меня есть реальная возможность наесться до отвала таких деликатесов, как устрицы, омары, свежая клубника, густые местные сливки и бифштексы из вырезки. Нам очень повезло, что с нами Данус, он просто незаменим при выборе вин ко всем этим вкусностям, хотя сам не пьет ничего. Я до сих пор не знаю почему, равно как и почему он не садится за руль.
У нас очень насыщенная программа. Сегодня утром мы отправились в город и первым делом побывали в Карн-коттедже, доме, где когда-то жила твоя мама. Но к сожалению, он, как и многие другие дома в этой части города, теперь стал гостиницей; прекрасная каменная ограда снесена, и большая часть сада превратилась в стоянку для автомобилей. Но мы все-таки посмотрели сад или, вернее, то, что от него осталось, и хозяйка гостиницы вынесла нам по чашке кофе. Пенелопа рассказывала, как здесь было прежде, и о том, что все старые розы и глицинии посажены ее мамой. Потом она рассказала, как во время бомбежки в Лондоне ее мама погибла.
Я об этом не знала и, слушая ее, чуть не расплакалась, но сдержалась и только крепко ее обняла, потому что глаза у нее заблестели от слез, и я просто не знала, как еще ее утешить.
От Карн-коттеджа мы направились в центр городка, в картинную галерею, чтобы посмотреть на «Собирателей ракушек». Сама галерея небольшая, но очень милая, с чисто выбеленными стенами и огромным, во всю крышу, потолочным окном, обращенным на север. Картина висит на самом выигрышном месте, и кажется, что она вернулась к себе домой и теперь ей очень хорошо в холодном ярком свете Порткерриса, где она и родилась. Пожилая дама, по всей вероятности смотрительница галереи, не помнила Пенелопу, но отлично знала, кто она такая, и очень суетилась вокруг нее. А вообще, в городе не осталось почти никого, кого Пенелопа знала в былые времена и помнит до сих пор. Кроме, конечно, Дорис. К ней она собирается завтра после обеда на чашку чаю. Она с нетерпением ждет этой встречи и, по-моему, очень волнуется. А в субботу мы отправимся по дороге, ведущей на мыс Лэндсэнд, и там, где-нибудь на утесе, устроим пикник; наша гостиница обеспечивает своих постояльцев едой для пикников, упакованной в красивые коробки, и даже дает с собой настоящие ножи и вилки, но Пенелопа не признает пикники с готовой едой, считая их ненастоящими, и поэтому завтра мы остановимся где-нибудь по пути и купим свежего хлеба и масла, а также паштет, помидоры, фрукты и бутылку вина. Если завтра будет так же тепло, как сегодня, мы с Данусом будем купаться.
В понедельник мы с Данусом отправляемся в местечко Манакан, на южном побережье Корнуолла, где живет человек по имени Эверард Эшли, владелец овощеводческого хозяйства. Данус учился с ним вместе в сельскохозяйственном колледже. Он хочет взглянуть на его хозяйство и, может быть, получить кое-какие деловые советы. Ибо в конечном счете именно в этом он видит свое призвание, но начать собственное дело трудно, потому что нужно иметь деньги, а их у него нет. Но это не важно, всегда интересно посмотреть, чего добились другие, и позаимствовать их опыт. К тому же мы с удовольствием прокатимся по южному побережью и посмотрим эту волшебную страну с другой стороны.
Из всего написанного ты легко можешь сделать вывод, что я очень счастлива. Никогда бы не поверила, что спустя такой короткий срок после смерти Космо я снова смогу наслаждаться жизнью. Надеюсь, в этом нет ничего плохого. Я почти в этом уверена.
Спасибо за все. За твою бесконечную доброту и терпение и за то, что ты отправила меня к твоей маме. Потому что, если бы не ты, я никогда бы не приехала сюда и не вкусила роскошной жизни с двумя людьми, которых я люблю больше всего на свете. Не считая тебя, конечно.
С любовью,
АнтонияЕе дети — Нэнси, Оливия и Ноэль — оказались, к большому сожалению, абсолютно правы, вынуждена была признать Пенелопа. Порткеррис, с какой стороны ни взгляни, очень изменился. Не один только Карн-коттедж лишился сада и превратился в гостиницу с вывеской над входом и полосатыми зонтиками на недавно пристроенной террасе. Старая гостиница «Нептун» разрослась до невероятных размеров и превратилась в конгломерат квартир, заполненных отдыхающими, а дорога в гавань, где когда-то жили и работали художники, стала ярмарочной площадью, с рядами игровых автоматов, дискотеками, закусочными и сувенирными лавками. Рыбачьих шхун в гавани уже не видно. Осталось от силы две-три, а опустевший причал заполнили прогулочные яхты, на которых за сумасшедшие деньги можно совершить прогулку в море, посмотреть на тюленей и два-три часа половить макрель с качающейся на волнах яхты — приманка, на которую легко клюют любители рыбной ловли.
И тем не менее, как это ни удивительно, но не так уж он и изменился. Сейчас, весной, город был еще сравнительно немноголюден, ибо первый наплыв туристов приходится только на Троицу. А пока можно было не спеша погулять по нему и спокойно все осмотреть. И уж конечно, неизменными оставались и изумительная голубизна сверкающей глади залива, и очертания мыса, и замысловато переплетенные улочки, и дома под шиферными крышами, сбегающие по крутому склону к урезу воды. Чайки все так же оглашали небо своими криками, воздух был напоен соленым ветром, ароматом бирючины и эскалонии, а в узких улочках Старого города, похожих на затейливый лабиринт, по-прежнему легко было заблудиться.
Пенелопа отправилась к Дорис пешком. Ей приятно было побыть одной. Находиться в компании Дануса и Антонии доставляло ей огромное удовольствие, но все же, иногда и ненадолго, хотелось остаться наедине с собой. День был солнечным и теплым. Она спустилась через сад, окружавший гостиницу, на дорогу, которая мимо стоявших рядами викторианских домиков вела к пляжу, и направилась вниз, в город.
Прежде всего она стала искать цветочный магазин. Тот, который она помнила с детства, теперь торговал готовым платьем; там продавали предметы одежды, на которую так падки туристы, жаждущие истратить деньги: эластичные шапочки ярко-розового цвета, огромные майки с отпечатанными на них лицами поп-звезд, зауженные донельзя плотно облегающие джинсы, один взгляд на которые уже причинял боль. Наконец ей удалось отыскать цветочный магазин на углу улочки, где в прежние времена старый сапожник в кожаном фартуке ставил им на ботинки новые подошвы и брал за работу всего шиллинг и три пенса. Она вошла в магазин и купила для Дорис огромный букет. И не какие-нибудь анемоны или нарциссы; она купила гвоздики, ирисы, тюльпаны и фрезии, целую охапку, которую ей завернули в бледно-голубую прозрачную бумагу. Немного дальше по улице она зашла в винный магазинчик и купила для Эрни бутылку дорогого виски. Нагруженная покупками, Пенелопа пошла дальше, углубляясь в Старый город, где улочки были такие узкие, что не оставалось места для тротуаров; по обеим сторонам теснились выбеленные дома с ярко раскрашенными дверями, и к ним вели крутые гранитные ступени.
Дом Пенбертов находился в самом центре этого лабиринта. Когда-то здесь жили Эрни с отцом и матерью, и в зимние сумерки сюда по узким улочкам приходили Дорис и Пенелопа с Нэнси, а миссис Пенберт угощала их шафрановым пирогом и крепким чаем из розового чайника.
Теперь, вспоминая прошлое, Пенелопа не могла не удивляться, как это она так долго не могла догадаться, что Эрни ухаживал за Дорис, хотя и очень по-своему, молча и ненавязчиво. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Он всегда был неразговорчив, но зато работал за десятерых; в Карн-коттедже он был почти незаметен, но совершенно незаменим. И когда возникала необходимость сделать тяжелую или неприятную работу, например зарезать курицу или вынести нечистоты, все обитатели дома всегда говорили: «Это сделает Эрни». И он делал. Никто никогда не считал его завидным женихом; он просто был членом семьи, нетребовательным, покладистым и доброжелательным.
И только осенью сорок четвертого Пенелопа наконец сообразила, что к чему. Однажды утром она вошла в кухню и увидела, что Дорис и Эрни пьют чай. Они сидели за кухонным столом, и на его середине стоял бело-голубой кувшин с огромным букетом георгинов.
Она остановилась.
— Эрни, я и не знала, что ты здесь…
Эрни смутился.
— Да вот, зашел. — Он отодвинул чашку и встал из-за стола.
Пенелопа поглядела на цветы. У них в саду георгины уже не выращивали: слишком большой за ними нужен уход.
— Откуда такие георгины?
Эрни сдвинул шапку на затылок и почесал голову.
— Отец выращивает их в саду. Вот я и принес… вам.
— Таких роскошных я никогда и не видела. Какие огромные!
— Ага. — Эрни водрузил шапку на прежнее место и переступил с ноги на ногу. — Пожалуй, я пойду, надо щепы на растопку наколоть.
Он направился к двери.
— Спасибо за цветы, — сказала Дорис.
Он обернулся, кивнул.
— Спасибо за чай, — сказал он в ответ.
Эрни ушел. Через несколько минут со двора уже доносились удары топора.
Пенелопа села к столу. Она посмотрела на цветы, потом на Дорис, упорно избегавшую ее взгляда, и проговорила:
— У меня такое чувство, что я помешала.
— Чему это?
— Не знаю. Может, ты мне скажешь?
— Откуда мне знать!
— Он ведь не нам принес цветы. Он принес их тебе.
Дорис вскинула голову:
— Какая разница кому?
И только тогда до Пенелопы дошло. Как это она раньше не догадалась?!
— Дорис! По-моему, ты нравишься Эрни.
Дорис тут же огрызнулась:
— Это Эрни-то? Тоже скажешь.
Но Пенелопу трудно было сбить с толку.
— Он тебе говорил об этом?
— Да он вообще мало что говорит.
— А он тебе нравится?
— Да вроде ничего.
Подчеркнутое пренебрежение в словах и жестах Дорис заставило Пенелопу насторожиться. Что-то тут не так.
— Никак он за тобой ухаживает?
— Ухаживает? — Дорис вскочила из-за стола и с шумом стала собирать чашки и блюдца. — Да он разве умеет ухаживать? — Она свалила посуду в мойку и открыла кран. — К тому же он такой смешной, — прибавила она, повысив голос, чтобы перекрыть шум льющейся воды.
— Более надежного и работящего парня тебе не найти…
— Да я вовсе не собираюсь до конца своих дней жить с мужчиной, который ниже меня ростом.
— Я понимаю, что Эрни не Гарри Купер, но это еще не причина, чтобы задирать нос. И он очень симпатичный. Мне нравятся его черные волосы и карие глаза.
Дорис закрыла кран и, повернувшись, оперлась спиной о мойку, сложив руки на груди.
— Он все время молчит, понимаешь?
— Ну, если учесть, что ты говоришь без умолку, он, наверное, просто не успевает вставить ни словечка. Во всяком случае, его поступки красноречивее слов. Надо же, принес тебе цветы. — И, подумав, она добавила: — Он все время старается тебе помочь. Веревку для белья привязал, гостинцы из лавки отца приносит.
— Ну и что? — Дорис подозрительно нахмурилась. — Ты что, пытаешься меня замуж за Эрни выдать? Хочешь от меня отделаться, что ли?
— Я просто хочу, чтобы ты была счастлива, — сказала Пенелопа не вполне искренне.
— Держи карман шире. И не рассчитывай. В тот день, когда пришло известие о смерти Софи, я дала себе слово никуда от вас не уезжать, пока не кончится эта проклятая война. А когда уехал Ричард, я окончательно решила, что мое место здесь. Не знаю, какие у тебя планы, вернешься ты к Амброзу или нет, но все равно война скоро кончится, и тебе придется решать, как жить дальше. Я только знаю, что буду с вами до конца. И если ты вернешься к мужу, то кто-то ведь должен присматривать за твоим отцом. Я тебе прямо сейчас скажу, это буду я. Так что давай не заводи больше разговор об Эрни Пенберте. Все это ни к чему.
Дорис сдержала слово. Она не соглашалась выйти замуж за Эрни, потому что не могла оставить Лоренса одного. И только когда он умер, она решилась наконец подумать о сыновьях и своем будущем. И долго не раздумывала. Через два месяца она уже была замужем за Эрни и переехала жить в его дом. К тому времени его отец умер, а миссис Пенберт уехала жить к сестре, оставив дом в полное распоряжение Эрни и Дорис. Эрни возглавил семейное дело зеленщика; он заменил отца сыновьям Дорис, но своих детей у них не было.
И вот теперь… Пенелопа остановилась, чтобы осмотреться и определить, где она находится. Оказалось, что рядом с домом Дорис. Вот и Черный пляж. С моря пахнуло просоленным ветром. Повернув в последний раз за угол, она стала спускаться с крутого холма, у подножия которого стоял знакомый белый дом, расположенный в глубине двора, вымощенного булыжником. На веревке развевалось на ветру выстиранное белье, а вокруг в горшках и прочих емкостях пестрели цветы: нарциссы, кактусы, голубые гиацинты и разнообразные вьющиеся растения. Входная дверь была выкрашена в голубой цвет; Пенелопа пересекла мощеный двор, нырнула под веревку с бельем и подняла было руку, чтобы постучать, как дверь распахнулась, и она увидела Дорис.
Как всегда, эффектно и модно одетая, не тоньше и не толще, чем была когда-то; седые волосы, коротко постриженные и кудрявые; лицо, конечно же, в морщинках, но улыбка и голос прежние.
— Я тебя поджидала. Все выглядывала из окна. — Казалось, что она только что приехала из Хэкни. — Ты почему так долго не приезжала? Сорок лет. Все эти годы я не переставала тебя ждать. — Дорис. На губах помада, в ушах сережки, красный шерстяной жакет поверх белой блузки с оборками. — Ради бога, не стой на пороге. Входи же, входи.
Пенелопа переступила через порог и оказалась в маленькой кухоньке. Она положила цветы и пакет с бутылкой виски на кухонный стол. Дорис закрыла дверь и обернулась. Теперь они стояли лицом друг к другу, глупо улыбались и не могли вымолвить ни слова. Потом обе рассмеялись и бросились друг другу в объятия. Они тискали и тормошили одна другую, как пара давно не видевшихся школьных подружек.
Все еще смеясь и по-прежнему не говоря ни слова, они наконец оторвались друг от друга. Первой заговорила Дорис:
— Пенелопа, просто глазам своим не верю. Я уж думала, тебя не узнать. А ты, оказывается, все такая же. Высокая, стройная, красивая, как прежде. Я боялась, ты стала совсем другой, но ты ни капельки не изменилась.
— Конечно, я совсем другая. Седая и старая.
— Ну если ты седая и старая, то я стою одной ногой в могиле. Мне скоро семьдесят. И это по самым скромным подсчетам, как говорит Эрни, когда я начинаю задираться.
— А где Эрни?
— Он уверен, что сначала нам захочется побыть вдвоем, без свидетелей. Отправился к себе на огород. С тех пор, как он ушел на покой и перестал торговать овощами, это его палочка-выручалочка. Я ему говорю: если разлучить тебя с морковью и турнепсом, ты места себе не найдешь. — И она шумно и весело рассмеялась, как в былые годы.
— Я принесла тебе цветы, — сказала Пенелопа.
— Какие красивые! Ну зачем ты… Знаешь, я сейчас поставлю их в кувшин, а ты проходи в гостиную и устраивайся поудобнее. Чайник я уже поставила, решила, что чашечка чаю тебе не повредит.
Гостиная находилась рядом с кухней, туда вела открытая дверь. Ступив через порог, Пенелопа словно оказалась в прошлом: как и при старой миссис Пенберт, гостиная была уютной, загроможденной вещами комнатой, где на своих местах по-прежнему стояли почти все памятные Пенелопе сокровища: блестящая фарфоровая посуда за стеклом в буфете, стаффордширские собаки на каминной полке, бугристые диваны и кресла с кружевными салфетками на спинках. Но было и кое-что новое: огромный, совсем новенький телевизор, новые, с иголочки, занавески с броским рисунком; над каминной полкой, где прежде была увеличенная фотография брата миссис Пенберт, погибшего в Первую мировую войну, теперь висел написанный Шарлем Ренье портрет Софи, который после похорон отца Пенелопа подарила Дорис.
— Нет, не можешь ты подарить мне этот портрет, — говорила тогда Дорис.
— Почему же?
— Да потому, что это портрет твоей матери.
— Мне очень хочется, чтобы он остался у тебя.
— Почему у меня?
— Потому что ты любила Софи не меньше, чем мы. Ты и папа́ любила, и после моего отъезда именно ты ухаживала за ним вместо меня. Редкая дочь так заботится о своих родителях.
— Просто ты сама очень добрая. И преувеличиваешь мои заслуги.
— Наоборот. Ты заслуживаешь гораздо большего. Но сейчас мне больше нечего тебе подарить. Это все, что у меня есть.
Стоя теперь посреди комнаты, Пенелопа вглядывалась в портрет и думала, что и теперь, спустя сорок лет, он все такой же прелестный, веселый и притягательный. С него по-прежнему смотрела двадцатилетняя Софи с широко расставленными глазами, коротко подстриженными волосами и ярко-красным, отделанным бахромой шарфом, небрежно накинутым на плечи.
— Ну как, приятно тебе увидеть его снова? — спросила Дорис.
Она вошла, неся в руках кувшин с букетом цветов, который поставила на стол. Пенелопа обернулась.
— Очень. Я уж и забыла, до чего он хорош.
— Небось жалеешь, что отдала его мне.
— Нет, нисколько. Просто приятно встретиться с ним вновь.
— Придает комнате шик, правда? Все на него заглядываются. Мне предлагали за него кучу денег, но я не отдала. Я не продам его ни за какие деньги. А теперь давай-ка устроимся поудобнее да поговорим, а то скоро и старик мой придет. Мне так хотелось, чтобы ты приехала; уж я приглашала тебя, приглашала… Ты что, в самом деле живешь в гостинице «Золотые пески»? С разными там миллионерами? Разбогатела, что ли? Выиграла в лотерею или как?
Пенелопа рассказала ей о событиях последних недель. О том, как совершенно неожиданно на мировом рынке произведений искусства начала подниматься цена на работы Лоренса Стерна, о том, как позвонила Рою Брукнеру и продала два панно.
Дорис была потрясена:
— Сто тысяч за две такие маленькие картины? Да это просто чудо! Я так рада за тебя, Пенелопа.
— А картину «Собиратели ракушек» я подарила галерее в Порткеррисе.
— Знаю. Прочла об этом в местной газете. Мы с Эрни тут же пошли посмотреть. Знаешь, странно видеть ее в музее. Столько связано с ней воспоминаний. Поди, будешь скучать без нее?
— Наверное. Но годы идут. Мы стареем. Пора приводить в порядок свои дела.
— И не говори. Кстати, о годах, которые уходят. Как ты нашла наш Порткеррис? Небось не узнала старый городишко? Никогда не знаешь, что придумают люди завтра; одному богу известно, сколько перемен произошло здесь в первые годы после войны, строители, прямо скажем, постарались. Старый кинотеатр переоборудовали в супермаркет, ты, наверное, уже заметила. А мастерскую твоего отца снесли и на ее месте построили пансионат для курортников, выходящий окнами на Северный пляж. А потом было у нас нашествие хиппи — очень неприглядное зрелище, скажу я тебе. Спали прямо на пляже и мочились где придется. Глаза б не глядели, до чего противно. — Пенелопа засмеялась. — А на месте гостиницы «Нептун» теперь тоже стоят дома для курортников. Что же касается нашего старого дома… Ты не расплакалась, придя на то место? А какой у твоей мамы был чудесный сад… Надо было мне подготовить тебя, рассказать, как все изменилось.
— Даже хорошо, что не рассказала. В общем-то, это не имеет значения. Во всяком случае, теперь.
— Надо думать, коли живешь в такой сногсшибательной гостинице! А помнишь, в ней был когда-то госпиталь. Да туда бы и близко никого не подпустили, ну если б только, если кто сразу обе ноги сломал от него поблизости.
— Дорис, я остановилась не у тебя, а в этой гостинице вовсе не потому, что мню себя богатой женщиной. Просто со мной приехали двое друзей, а я знаю, что у тебя нет места, чтобы разместить нас всех.
— Что правда, то правда. А кто они?
— Девушку зовут Антония. У нее совсем недавно умер отец, и она временно живет у меня. А юношу зовут Данус. Он помогает мне ухаживать за садом в Глостершире. Ты еще их увидишь. Они считают, что не стоит старой женщине вроде меня идти в гору пешком, и обещали заехать за мной на машине.
— Ну и отлично. Мне только жаль, что ты не привезла с собой Нэнси. Мне так хотелось увидеть мою любимицу. А почему ты так долго не приезжала в Порткеррис? Вряд ли мы успеем за два часа переговорить обо всем, что произошло за сорок лет.
Но тем не менее они успели переговорить о многом, взахлеб, не умолкая ни на минуту, едва переводя дыхание, задавая вопросы, отвечая на них, рассказывая друг другу о детях и внуках.
— Кларк женился на девушке из Бристоля, у него уже двое ребят, вот они на фотографии, что стоит на камине; это Сандра, а это Кевин. Она такая смышленая девочка. А это малыши Рональда. Он живет в Плимуте. У его тестя мебельная фабрика, и он взял Рона в свое дело. Они приезжают сюда летом в отпуск, но им приходится останавливаться в пансионате недалеко отсюда. Здесь мне негде их разместить. А теперь расскажи мне про Нэнси. Какая же она была душечка!
Теперь настала очередь Пенелопы, но она, конечно, забыла захватить с собой фотографии. Она рассказала Дорис о Мелани и Руперте, стараясь чуть-чуть их приукрасить.
— Они живут где-то рядом с тобой? Ты часто видишься с ними?
— Милях в двадцати.
— Это далеко. Я вижу, тебе нравится жить за городом. Лучше, чем в Лондоне, да? Я просто в ужас пришла, когда узнала из твоего письма, что Амброз бросил тебя. Надо же до такого дойти. Впрочем, он всегда был никчемным мужиком. Хорош собой — да, тут уж ничего не скажешь, но мне всегда казалось, что он нам не компания. И все равно, надо же так подло с тобой поступить. Эгоист несчастный. Мужики вечно думают только о себе. Я всегда это говорю Эрни, когда он оставляет грязные носки на полу в ванной.
А затем, выложив друг другу все, что наболело, рассказав о мужьях и детях, они перешли к воспоминаниям, перебирая в памяти прожитые вместе долгие военные годы, когда делили и страхи, и печали, и скуку повседневной жизни, и вспоминая странные, порой нелепые случаи, которые теперь, по прошествии стольких лет, вызывали лишь безудержный смех.
О том, как полковник Трабшот, вышагивая по городу в каске и с повязкой офицера интендантской службы на рукаве, сбился с дороги в затемненном городе и свалился в гавани с дамбы прямо в море. О том, как миссис Приди читала лекцию по оказанию первой помощи перед большой аудиторией скучающих женщин и запуталась в бинтах. О том, как генерал Уотсон-Грант тренировал солдат-ополченцев на школьном дворе, а старый Вилли Чергуин проткнул штыком большой палец ноги, и его пришлось отправить в госпиталь на карете «скорой помощи».
— А как мы ходили в кино, помнишь? — вспоминала Дорис, смеясь так, что слезы катились у нее по щекам. — Помнишь? Два раза в неделю, ни одного фильма не пропускали. Помнишь Чарльза Бойера в фильме «Останови рассвет»? И все в зале плакали, все до единого. У меня было три носовых платках, и все были мокрые, хоть выжимай, а когда я вышла, то рыдала всю дорогу до самого дома.
— Да, хорошее было время. Ведь больше и развлечься было нечем, кроме как слушать радиопередачу «Час отдыха для рабочих» или выступления мистера Черчилля, который время от времени старался влить в нас очередную дозу мужества и бодрости духа.
— Но больше всего мне нравилась Кармен Миранда. Я ни одного фильма с ней не пропустила. — Дорис вскочила на ноги, уперла руки в бока, расставив веером пальцы, и запела: — «Ай-яй-яй-яй-яай, я стр-растно люблю тебя. Ай-яй-яй-яй-яай, ты пр-росто восхитителен…»
Хлопнула дверь, и вошел Эрни. Дорис, видимо посчитав его появление даже более смешным, чем собственное пение, повалилась навзничь на тахту и смеялась до слез, совершенно обессилев от этого приступа смеха.
Смущенный Эрни поглядывал то на одну женщину, то на другую.
— Что тут у вас происходит? — спросил он, и Пенелопа, видя, что его жена не в состоянии ответить на вопрос, встала из-за стола, взяла себя в руки и пошла ему навстречу.
— Ах, Эрни… — Она вытерла слезы, пытаясь подавить приступ неудержимого смеха. — Извини. Какие мы глупые! Мы тут вспоминали былые времена и все время смеялись. Ты уж прости нас. — Эрни показался ей еще ниже ростом, чем прежде; он постарел, и его некогда черные волосы стали совсем седыми. На нем была старая шерстяная фуфайка и домашние мягкие тапочки, которые он только что надел вместо рабочих ботинок. Его рука была все такой же, грубой и мозолистой; она так рада была его видеть, что хотела обнять его, но постеснялась, боясь, что он смутится еще больше. — Ну как ты? Я так рада видеть тебя!
— Я тоже очень рад. — Они торжественно пожали друг другу руки. Он перевел взгляд на жену, которая уже немного успокоилась и теперь сидела на тахте, сморкаясь в платок. — Я услышал шум и решил, что здесь кого-то убивают. Вы чай уже пили?
— Нет, мы чай не пили. Нам было не до чая. Мы болтали без умолку.
— Чайник почти весь выкипел. Я его уже долил.
— О господи, я совсем забыла. — Дорис встала. — Пойду заварю чай. Эрни, Пенелопа принесла тебе бутылку виски.
— Прекрасно. Спасибо тебе большое. — Он отодвинул рукав фуфайки и посмотрел на свои большие часы рабочего человека. — Половина шестого. — Он поднял глаза, и в них загорелся озорной огонек. — Почему бы нам не оставить в стороне чай и не перейти прямо к виски?
— Эрни Пенберт! Старый пьяница! Надо же такое придумать.
— По-моему, — уверенно сказала Пенелопа, — это прекрасное предложение. В конце концов, мы не виделись целых сорок лет. Сейчас самое время отпраздновать это событие.
Таким образом вечер воспоминаний перешел в дружескую пирушку. Виски развязал Эрни язык, и они пировали бы до позднего вечера, если бы не приехали Данус и Антония. Пенелопа совершенно забыла о времени, и звонок в дверь очень удивил всех троих.
— Кто бы это мог быть? — сказала Дорис недовольным тоном.
Пенелопа посмотрела на часы:
— О боже, уже шесть часов. Как незаметно летит время! Это за мной приехали Данус и Антония.
— Да, когда тебе хорошо, время бежит быстро, — заметила Дорис, встала из-за стола и пошла открывать дверь. Они услышали, как она говорит: «Входите, пожалуйста, она уже ждет вас. Чуть-чуть навеселе, как и все мы, но держится молодцом».
Пенелопа поспешно допила виски и поставила пустой стакан на стол, чтобы они не подумали, что помешали. Потом Дорис и молодые люди друг за другом вошли в небольшую комнату. Эрни поднялся из-за стола, и Пенелопа представила Дануса и Антонию хозяевам дома. Эрни отправился на кухню и скоро вернулся с двумя стаканами.
Данус почесал в затылке и, оглядев всех присутствующих, весело сказал:
— Кажется, вы собирались пить чай?
— Чай? — В голосе Дорис звучало нескрываемое презрение к таким невинным напиткам. — Мы о чае совсем забыли. Мы так много разговаривали и смеялись, что о чае и не вспомнили.
— Какая милая комната, — сказала Антония. — Именно в таком доме мне хотелось бы жить. А какие прелестные у вас цветы в палисаднике!
— Я называю его садом. Было бы хорошо, конечно, иметь настоящий сад, но, как я всегда говорю, надо уметь довольствоваться тем, что есть.
Взгляд Антонии упал на портрет Софи.
— Кто эта девушка на портрете?
— Эта? Так это же мама Пенелопы. Разве не видите сходства?
— Какая красивая!
— Да, она была очень красива. Такую красавицу редко встретишь. Она была француженка — правда, Пенелопа? И голос у нее был такой обольстительный, ну прямо как у Мориса Шевалье. А когда она, бывало, рассердится, так отчихвостит, только держись.
— Она здесь такая молодая.
— Она и была молодая, гораздо моложе своего мужа. Вы ведь были как сестры — правда, Пенелопа?
Эрни шумно откашлялся, чтобы привлечь к себе внимание.
— Выпьете стаканчик? — спросил он, обращаясь к Данусу.
Данус, улыбнувшись, покачал головой:
— Очень вам благодарен и, поверьте, не хочу вас обидеть. Но я не пью.
Эрни был в полном недоумении:
— Болезнь какая-нибудь, да?
— Нет. Совсем нет. Просто не люблю.
Эрни был потрясен. Он повернулся к Антонии и, уже не питая особых надежд, спросил:
— Вы, надо думать, тоже не хотите?
— Нет, — улыбнулась она. — Спасибо большое. Я тоже не хочу вас обидеть, но мне нужно вести машину вверх к отелю по крутым узким улочкам. Я лучше воздержусь.
Эрни грустно покачал головой и завинтил крышку на бутылке. Праздник кончился. Пора было ехать. Пенелопа встала, расправила складки на юбке, проверила шпильки.
— Может, посидите еще немножко? — спросила Дорис; ей явно не хотелось расставаться.
— Надо ехать, Дорис, хотя уезжать мне очень не хочется. Я у тебя уже давно.
— А где вы оставили машину? — спросил Эрни.
— Да на самом верху холма, — ответил Данус, — ближе поставить не удалось, везде запрещающие знаки.
— Сплошная морока с этими запретами и ограничениями. Пожалуй, пойду вместе с вами, помогу развернуться. Там мало места, а вам ведь не хотелось бы поцеловаться с гранитной стеной?
Данус с радостью принял предложение. Эрни надел шапку и снова сменил домашние тапочки на ботинки. Данус и Антония попрощались с Дорис и вместе с Эрни пошли за «вольво». Дорис и Пенелопа снова остались вдвоем. Но сейчас смеяться им почему-то не хотелось. Они молчали, как будто после такого долгого разговора больше и говорить было не о чем. Пенелопа почувствовала на себе пристальный взгляд Дорис и, повернувшись к ней, посмотрела ей прямо в глаза.
— Где ты его нашла? — спросила Дорис.
— Дануса? — Она постаралась сказать это легко и беззаботно. — Я же тебе сказала, это садовник, он приходит помогать мне управляться с садом.
— Очень уж интеллигентный у тебя садовник.
— Что правда, то правда.
— Он похож на Ричарда.
— И это правда. — Наконец имя было названо. — Ты ведь не могла не заметить, что мы ни разу за весь вечер не упомянули о нем. Вспомнили всех, но только не Ричарда.
— А зачем? Я вспомнила о нем только потому, что на него очень похож этот молодой человек.
— Это верно. Мне тоже так показалось, когда я увидела его в первый раз. Прошло какое-то время, прежде чем я привыкла к этому.
— Он имеет какое-то отношение к Ричарду?
— Нет, не думаю. Он родом из Шотландии. Их сходство — просто случайность.
— Уж не потому ли ты так к нему привязалась?
— Дорис, ты так говоришь, будто принимаешь меня за одинокую старуху, которая держит при себе молодого любовника.
— Уж признайся, очаровал он тебя.
— Да, он очень мне нравится. И его внешность, и он сам. Данус очень хороший. Интересный собеседник. И веселый, остроумный человек.
— Не для того ли ты привезла его в Порткеррис, — спросила Дорис, с беспокойством глядя на подругу, — чтобы… возродить в памяти прошлое?
— Вовсе нет. Я просила своих детей составить мне компанию. Всех по очереди, но никто из них не пожелал или не смог поехать. Даже Нэнси. Я не хотела тебе этого говорить, но вот к слову пришлось. И поэтому вместо них я пригласила Дануса и Антонию.
Дорис ничего не сказала в ответ. Они снова помолчали; каждая была занята собственными мыслями. Потом Дорис сказала:
— Не знаю. Но то, что Ричард погиб, ужасно несправедливо. Я никогда не могла смириться с тем, что Бог допустил его смерть. Уж если и был человек, который заслуживал того, чтобы жить… Мне никогда не забыть тот день, когда мы об этом узнали. Пожалуй, это было самое тяжелое известие за всю войну. Я так никогда и не могла отделаться от мысли, что, когда Ричард погиб, он унес с собой частичку тебя, а вместо себя не оставил ничего.
— Нет, все-таки кое-что оставил.
— Но не то, что можно потрогать, ощутить, взять в руки. Как было бы хорошо, если бы у тебя остался от него ребенок. Тогда был бы предлог не возвращаться к Амброзу. И тогда бы ты с Нэнси и его ребенком могли жить спокойно.
— Я не раз об этом думала. И ты знаешь, я ведь ровным счетом ничего не делала, чтобы у меня не было от него детей; я просто не могла зачать. И единственным моим утешением стала Оливия. Я родила ее сразу же после войны, и она дитя Амброза, но тем не менее в ней всегда было что-то особенное. Не отличное от других, а особенное. — Пенелопа говорила, тщательно подбирая слова, рассказывая Дорис то, в чем не признавалась даже себе и, уж конечно, ни одной живой душе. — Словно во мне осталась какая-то частичка Ричарда. И хранилась, как нежный скоропортящийся продукт в холодильнике. И когда родилась Оливия, то через меня эта частица Ричарда передалась ей.
— А она не от Ричарда?
Пенелопа улыбнулась и покачала головой:
— Нет.
— Но тебе казалось, что она вроде бы от него.
— Вот именно.
— Понимаю.
— Я знала, что ты поймешь. Поэтому и рассказала тебе. И ты поймешь, что я была страшно рада, узнав, что папину мастерскую снесли и построили на ее месте жилой дом. Я знаю, я сильная и смогу справиться с самыми разными трудностями, но у меня не хватило бы духа войти туда после всего, что произошло.
— Конечно. Я тебя хорошо понимаю.
— Расскажу тебе еще кое-что. Когда я поселилась после войны в Лондоне, то позвонила матери Ричарда.
— Я часто думала, позвонишь ты или нет?
— Я долго не могла собраться с духом, а потом наконец решилась. Позвонила ей, и мы встретились, чтобы вместе пообедать. Для нас обеих это была трудная встреча. Она очаровательная женщина и очень благожелательная, но нам не о чем было говорить, кроме как о Ричарде, и тогда я поняла, как это, должно быть, для нее мучительно. После этой встречи я оставила ее в покое и никогда уже с ней не встречалась. Если бы я была замужем за Ричардом, я могла бы как-то ее утешить. А так, по-моему, я только усугубляла ее материнское горе.
Дорис ничего не сказала. С улицы, со стороны открытой двери, до них долетал шум машины, осторожно спускавшейся с крутой горки по узким улочкам. Пенелопа наклонилась и взяла сумочку:
— Ну вот и машина пришла. Пора ехать.
Они вместе вышли в кухню, а потом на залитый солнцем двор. Обнялись и крепко поцеловались. В глазах Дорис стояли слезы.
— Прощай, Дорис, прощай, моя дорогая. И спасибо за все.
Дорис смахнула непрошеные слезы.
— Приезжай, — сказала она. — И не жди, пока пройдет еще сорок лет. Ведь не успеем оглянуться, как из нас будет лопух расти.
— Приеду. На будущий год. Приеду одна и поживу вместе с тобой и Эрни.
— Вот уж повеселимся!
Подъехала машина и остановилась у обочины. Из нее вылез Эрни и застыл в позе ливрейного лакея, держа дверцу открытой и ожидая, когда Пенелопа сядет.
— Прощай, Дорис. — Она повернулась и пошла было к машине, но Дорис ее окликнула:
— Пенелопа!
Она обернулась:
— Что, Дорис?
— Если он Ричард, то кто же Антония?
Дорис была неглупа. Пенелопа улыбнулась:
— Наверное, я?
— В первый раз я приехала сюда, когда мне было семь лет. В тот год папа́ купил машину, и для нас это было большим событием. У нас еще никогда не было машины, и это был первый наш выезд. Потом мы много путешествовали, но в память врезалась именно эта поездка. Я пришла в неописуемый восторг оттого, что папа́ умел заводить мотор и управлять автомобилем.
Они сидели втроем на краю обрыва в Пенджизале над голубым простором Атлантического океана в небольшой, поросшей травой ложбинке, защищенной от ветра огромным гранитным выступом, сплошь покрытым лишайником. Повсюду из густой травы маленькими островками выглядывали семейки первоцветов и бледно-голубые головки скабиозы. В безоблачном небе громко перекликались сизоворонки и с пронзительными криками кружили морские птицы. Полдень, да еще в апреле, а теплынь, как в середине лета; они расстелили новый клетчатый плед и, поставив корзинку с едой в тень, уютно на нем устроились.
— И что это была за машина? — Данус расположился на покатом склоне, опершись на локоть. Он снял свитер и закатал рукава рубашки, обнажив загорелые мускулистые руки. На обращенном к Пенелопе лице были неподдельный интерес и веселое ожидание.
— Это был «бентли», — сказала она. — Подержанный. На новый у папа́ не хватило денег, но тем не менее он машиной очень гордился.
— Это интересно. У него, должно быть, были кожаные ремни, с помощью которых опускался капот, похожий на дорожный сундук, да?
— Совершенно верно. А еще была подножка и складной верх, с которым мы никак не могли справиться, и потому не поднимали его даже в самый жуткий ливень.
— Сейчас такой автомобиль стоит уйму денег. Где он теперь?
— Когда папа́ умер, я отдала его мистеру Грэбни. Просто не знала, что с ним делать. Мистер Грэбни всегда был к нам очень добр, держал его в своем гараже всю войну и ни разу не взял с нас ни копейки. А еще однажды, когда для меня это было очень, очень важно, он достал на черном рынке бензин. И я была бесконечно ему благодарна.
— А почему вы сами им не пользовались?
— Когда мы переехали в Лондон, мне было уже не по карману держать автомобиль, да к тому же он был не особенно нужен. Я всюду ходила только пешком, толкая впереди себя коляску либо с детьми, либо с продуктами. Амброз был просто в бешенстве, узнав, что я подарила наш «бентли». Когда я вернулась с похорон папа́, он прежде всего поинтересовался автомобилем, а узнав, как я им распорядилась, дулся на меня целую неделю.
Данус ему посочувствовал:
— Как я хорошо его понимаю!
— Я тоже. Бедняга. Это было большое для него разочарование.
Пенелопа приподнялась с пледа и села, глядя с обрыва на море. Был отлив, но вода еще не отступила до самого низкого уровня. А когда отступит, на обнажившемся скалистом дне откроется обширная, наполненная водой до краев чаша, сверкая на солнце, как огромный голубой бриллиант. Вот эту созданную природой купель и обещала показать Пенелопа Данусу и Антонии как отличное место для купания.
— Еще полчаса, — прикинула Пенелопа, — и можно будет искупаться.
Она снова прислонилась к уступу и переменила положение ног. На ней были джинсовая юбка, хлопчатобумажная рубашка, новые кроссовки и старая соломенная шляпа, в которой она работала в саду. Солнце светило так ярко, что Пенелопа была рада даже этой легкой кружевной тени. Антония, лежавшая рядом с закрытыми глазами и казавшаяся спящей, вдруг зашевелилась, перевернулась на живот и легла щекой на сложенные перед собой руки.
— Расскажите нам что-нибудь еще. Вы часто сюда приезжали?
— Нет, редко. Сюда ехать было очень далеко, да и пешком от фермы, где мы оставляли машину, путь не ближний. А в те времена наверху еще не было тропы, и нам приходилось пробираться сквозь заросли утесника, папоротника и куманики. А потом надо было еще успеть к окончанию отлива, чтобы мы с Софи могли искупаться.
— А разве ваш отец не купался с вами?
— Нет. Он говорил, что слишком стар. Обычно он сидел здесь в старой широкополой шляпе перед мольбертом на маленьком складном стуле и что-нибудь рисовал или писал маслом. Предварительно, конечно, откупорив бутылку, налив себе в стакан вина и закурив сигару; одним словом, устраивался поудобнее и наслаждался жизнью.
— А зимой? Вы когда-нибудь приезжали сюда зимой?
— Никогда. Зимой мы жили в Лондоне. Или в Париже, или во Флоренции. В Порткеррис и Карн-коттедж мы приезжали только летом.
— Как здесь чудесно.
— Так же, как и в Ивисе, где у твоего отца был замечательный дом.
— Пожалуй, вы правы. Все в мире относительно. — Антония перекатилась на бок и подперла рукой подбородок. — А ты, Данус? Куда ты уезжал на лето?
— Я надеялся, что никто меня об этом не спросит.
— Ладно тебе. Рассказывай.
— В Северный Берикшир. Там мои родители каждое лето снимали дом. Они играли в гольф, а мы с братом и сестрой сидели на холодном пляже с нянюшкой и на пронизывающем ветру строили из песка замки.
Пенелопа сдвинула брови:
— С братом? У тебя разве есть брат? Я думала, что вас только двое: ты и сестра.
— Был. Его звали Ян. Он был из нас самый старший. Он умер от менингита, когда ему было четырнадцать.
— О господи! Какое несчастье!
— Да. Это было большое горе. Мои родители до сих пор от него не оправились. Он был золотой мальчик, красивый, одаренный, прирожденный спортсмен, блестяще играл во все спортивные игры. Сын, о котором мечтают все родители. Для меня он был как бог, потому что умел делать абсолютно все. Когда Ян подрос, он стал играть в гольф, а вслед за ним и моя сестра, а вот я всегда был бездарным игроком, да и не очень любил этот вид спорта. Я предпочитал уезжать куда-нибудь на велосипеде, искать птиц, и это мне было гораздо больше по душе, чем осваивать премудрости гольфа.
— Северный Берикшир, как я понимаю, не самое лучшее место для отдыха. А еще куда-нибудь ты ездил на лето?
Данус рассмеялся:
— Конечно. Моего лучшего друга и школьного товарища зовут Родди Маккрей. У его родителей есть небольшая мыза недалеко от Тонга в Северном Сатерленде. Кроме того, у них есть разрешение на ужение в Навере, и отец Родди приохотил меня ловить рыбу. Когда я подрос, то почти каждое лето проводил у Родди.
— А что такое мыза? — спросила Антония.
— Это каменный фермерский дом из двух комнат. Очень примитивный. В нем нет ни водопровода, ни электричества, ни телефона. Медвежий угол, край света, никакой связи с внешним миром.
Воцарилось молчание. Пенелопа вдруг подумала, что всего второй раз слышит, как Данус рассказывает о себе. Ей стало грустно. Должно быть, очень тяжело потерять горячо любимого брата, да еще в таком юном возрасте. И еще тяжелее ощущать, что ты никогда не сможешь быть таким, как он. Она ожидала, что, разбив лед молчания и начав говорить о себе, Данус расскажет что-нибудь еще. Но ее надежды не оправдались. Он потянулся и поднялся на ноги.
— Отлив кончился, — сказал он Антонии. — Можно идти купаться. Не боишься?
Они ушли, спускаясь с вершины обрыва по крутой, почти отвесной тропе, которая вела вниз к обнажившимся камням. Вода в этой созданной природой купели была как зеркало — неподвижная, сверкающая, ослепительно-синяя. Пенелопа, ожидая, пока они снова появятся в поле зрения, думала об отце. Она вспомнила его шляпу с широкими полями, его мольберт, вино в стакане и сосредоточенный, обращенный в себя взгляд. Больше всего на свете ее огорчало, что она не унаследовала его таланта. Она не стала художницей, не умела даже рисовать, но влияние отца на нее было так велико и она жила рядом с ним так долго, что в конце концов научилась видеть окружающий мир его острым, все подмечающим взглядом художника. Все было в точности так, как и раньше, если не считать извилистой зеленой тропы на верху обрыва, протоптанной любителями пеших прогулок, которая то исчезала, то снова вилась среди буйной молодой зелени куманики, повторяя изгибы побережья. Пенелопа загляделась на море, стараясь представить, как бы на месте отца изобразила его на холсте. Потому что оно хоть и было синим, но в этой его синеве можно было различить тысячу самых разных оттенков. У берега, где дно песчаное, прозрачная вода казалась зеленовато-серой с примесью аквамарина. Поверх камней и водорослей цвет сгущался до индиго. А вдали, у самого горизонта, где ныряла в волнах небольшая рыбацкая шхуна, синела густая берлинская лазурь. Ветра почти не было, но океан жил и дышал, вздымался из темных глубин, нагоняя волны. Солнечный свет пронизывал их насквозь, когда они, приближаясь к линии прибоя, прежде чем разбиться о песок, закручивались, образуя завиток и застыв на мгновение скульптурным изваянием из зеленого стекла. И наконец, все вокруг было залито светом, удивительным, неповторимым сиянием, которое и привело в Корнуолл первых французских художников и стало отправной точкой для творчества импрессионистов. Идеальная композиция. Для оживления картины и ощущения пропорций не хватало только человеческих фигур. И они появились. Они были далеко внизу и на расстоянии казались совсем маленькими. Это Антония и Данус медленно спускались по камням купаться. Пенелопа внимательно наблюдала за ними. Данус нес полотенца. Наконец они добрались до большого плоского камня, нависавшего над водой. Данус прогнулся и нырнул, красиво, почти без всплеска, войдя в воду. Антония прыгнула вслед за ним. Плавая, они рассекали поверхность воды на мириады сверкавших на солнце брызг. Она слышала их громкие голоса и смех. Иные голоса, иные миры. «Нам было хорошо, а хорошее никогда не пропадает», — вспомнился ей голос Ричарда. Данус очень похож на Ричарда.
Пенелопа никогда не купалась с Ричардом, ибо любовь пришла к ним военной зимой, но сейчас, наблюдая за Данусом и Антонией, она физически, кожей ощутила обжигающий холод от прикосновения студеной воды. Вспомнила и ощущение восторга, физического наслаждения так явственно, как будто ее собственное тело по-прежнему оставалось молодым и его не коснулись ни болезнь, ни прожитые годы. Были и другие удовольствия, другие восторги. Нежное касание рук, плеч, губ, тел. Умиротворение после бурной страсти, радость пробуждения от сонного поцелуя и беспричинный смех.
Давным-давно, когда она была совсем крохой, отец показал ей, сколько радости и удовольствия можно извлечь из геометрической окружности и острого карандаша. Она сама научилась рисовать орнаменты, головки цветов, лепестки и изгибы, но самое большое удовольствие получала, описывая окружность на листе чистой белой бумаги. Очень красиво и очень точно. Карандаш двигался по бумаге, оставляя позади себя линию, которая с фатальной неизбежностью и удивительной точностью непременно заканчивалась именно в том месте, где и началась.
Круг был общепринятым символом бесконечности, вечности. Пенелопа вдруг отчетливо поняла, что если ее жизнь представляет собой ту тщательно выписанную карандашную линию, то очень скоро оба ее конца сомкнутся. Я совершила полный круг, сказала она себе и стала размышлять о том, на что ушли все эти годы. Этот вопрос время от времени беспокоил ее, вселяя в душу страх, что все отпущенное ей время пропало даром. Но теперь он уже не казался важным, а если и был на него ответ, то он больше не имел для нее никакого значения.
— Оливия?
— Мамочка! Какой приятный сюрприз.
— Я вдруг вспомнила, что не поздравила тебя с праздником Пасхи. Извини, может быть, еще не поздно. Правда, я не особенно надеялась, что застану тебя дома. Думала, ты все еще отдыхаешь.
— Я приехала только сегодня вечером. Была на острове Уайт.
— А у кого ты была в гостях?
— У Блейкисонов. Ты помнишь Шарлотту? Она когда-то вела раздел кулинарии в нашем журнале, но потом ушла от нас, решив посвятить себя семье.
— Ты хорошо провела праздники?
— Божественно. У них всегда очень весело. Полон дом гостей. И все идет как по маслу без видимых усилий.
— А тот симпатичный американец тоже был с тобой?
— Какой американец? А, Хэнк. Нет, он сейчас в Штатах.
— Мне показалось, он необыкновенно милый человек.
— Да, ты права, он очень мил. Он собирался позвонить, когда снова приедет в Лондон. А теперь лучше расскажи о себе. Как у вас дела?
— У нас все превосходно. Купаемся в роскоши.
— Тебе давно пора пожить в свое удовольствие после стольких мытарств. Я получила от Антонии длинное письмо. Мне показалось, она безумно счастлива.
— Они с Данусом уехали сегодня с самого утра и еще не вернулись. Поехали на южное побережье к его приятелю, у которого овощеводческая ферма. Я жду их с минуты на минуту.
— Как ведет себя Данус?
— Очень хорошо.
— Он все так же тебе нравится?
— Да. Даже больше, чем прежде. Но я никогда не встречала такого скрытного человека. Может быть, это как-то связано с тем, что он шотландец.
— Он не рассказывал тебе, почему не пьет и не садится за руль?
— Нет.
— Должно быть, он излечившийся алкоголик.
— Даже если и так, это его личное дело.
— Расскажи, как вы проводите время. Ты уже виделась с Дорис?
— Конечно. Она живет прекрасно. Все такая же веселая и жизнерадостная. В субботу мы целый день провели на обрыве возле Пенджизала. А вчера утром исполнились благочестия и все вместе пошли в церковь.
— Ну и как служба?
— Служба прекрасная. Местная церковь особенно красива, и, конечно, было очень много цветов и масса людей в необыкновенных шляпах, а музыка и пение просто восхитительны. Проповедь читал довольно занудный заезжий епископ, но прекрасная музыка компенсировала скуку от его проповеди. А в самом конце был крестный ход, и все мы стоя пели гимн «Святые, что отдыхают от трудов своих…». Возвращаясь домой, мы с Антонией сошлись на том, что это один из самых любимых наших гимнов.
Оливия засмеялась:
— Ну ты даешь, мамуля. Услышать такое от тебя! Мне бы никогда и в голову не пришло, что у тебя есть любимый гимн.
— Видишь ли, дорогая, я никогда не была законченной атеисткой. Да, я воспринимала религию с известной долей скептицизма, но Пасха, с ее Воскресением и обещанием загробной жизни, никогда не оставляла меня равнодушной. Я все-таки никогда не смогу до конца в это поверить. И, хотя с удовольствием встретилась бы Там с Софи и папа́, со многими людьми мне бы встречаться не хотелось. Вообрази себе, какое должно быть там скопление народа. Как на грандиозном и очень скучном приеме, где все время уходит на то, чтобы отыскать в толпе приятных тебе людей.
— А как «Собиратели ракушек»? Ты уже видела картину?
— Отлично. Она пришлась к месту. Как будто висела там с самого начала.
— Ты не жалеешь, что рассталась с ней?
— Ни капельки.
— А что ты делаешь сейчас?
— Я только что приняла ванну, лежу в постели с книгой Хемингуэя и разговариваю с тобой. Потом позвоню Ноэлю и Нэнси и буду одеваться к обеду. Здесь все так изысканно и чинно и есть даже музыкант, который что-то бренчит на рояле. Прямо как в «Савое».
— Замечательно. А что ты сегодня наденешь?
— Кафтан, конечно. Он, правда, порядком поистерся, но если прикрыть немножко глаза, то дырки можно и не заметить.
— О, ты будешь неотразима. Когда собираешься вернуться?
— В среду. Мы будем дома в среду вечером.
— Я позвоню тебе туда.
— Хорошо, дорогая. Благослови тебя Господь.
— До свидания, мамочка.
Пенелопа набрала номер телефона Ноэля, немного подождала, но никто к телефону не подошел. Она положила трубку. Возможно, он еще у кого-нибудь в гостях по случаю праздника. Наверное, отправился к кому-то с длительным светским визитом, которые он так любит. Она снова взяла трубку и позвонила Нэнси.
— «Дом Священника».
— Это ты, Джордж?
— Да.
— Говорит Пенелопа. Поздравляю тебя с праздником Пасхи.
— Спасибо, — сказал Джордж, но ответного поздравления она не услышала.
— Нет ли поблизости Нэнси?
— Есть, она где-то здесь. Вы хотите с ней поговорить?
«Зачем же я звоню тогда, дурачок?»
— Да, если можно.
— Подождите минутку, я ее сейчас позову.
Пенелопа ждала, откинувшись на подложенные под спину большие подушки. Лежать было удобно, тепло и уютно, однако Нэнси так долго не подходила к телефону, что Пенелопа почувствовала легкую досаду. Чем она там так занята? Чтобы развлечься, она взяла книгу и успела даже прочитать один-два абзаца, когда наконец услышала: «Слушаю».
Она отложила книгу.
— Нэнси. Где это ты запропастилась? В самом дальнем углу сада?
— Нет.
— Ну как празднуете Пасху?
— Хорошо, спасибо.
— А что ты делала?
— Ничего особенного.
— У вас были гости?
— Нет.
Голос Нэнси был ледяным. Так она разговаривала, когда была в самом скверном настроении или очень обижена. Интересно, что у них могло произойти?
— Нэнси, что случилось?
— Почему что-то непременно должно случиться?
— Я не знаю, что именно, но что-то, несомненно, произошло. — Молчание в трубке. — Нэнси, прошу тебя, рассказывай.
— Просто я обиделась и расстроилась, вот и все.
— Почему?
— Почему? Ты еще меня спрашиваешь, как будто сама не знаешь.
— Я не стала бы тебя спрашивать, если бы знала.
— А если бы ты была на моем месте, ты бы разве не обиделась? Ты не звонишь мне неделями. Ни одного звонка. А когда я позвонила тебе и хотела пригласить вас с Антонией к себе на праздники, неожиданно выяснилось, что ты уехала. Уехала в Корнуолл, взяв с собой Антонию и садовника, не сказав ни слова ни мне, ни Джорджу.
— Ах вот в чем дело!.. Честно говоря, Нэнси, я не думала, что это тебе интересно.
— Дело не в том, интересно это мне или нет. Дело в том, что ты о нас совсем не думаешь. Уезжаешь, никого не предупредив; мало ли что может случиться, а мы и не знаем, где тебя искать.
— Оливия знала, где я.
— Ах, Оливия! Да уж, она знала и очень злорадствовала, вводя меня в курс дела. Я просто понять не могу, почему ты находишь нужным сообщить о своих планах ей и никогда ничего не говоришь мне. — Нэнси закусила удила. — Что бы ни случилось, я узнаю об этом не из первых уст, а через Оливию. Что бы ты ни делала, что бы ты ни решила! И о том, что ты наняла садовника, и о том, что у тебя будет гостить Антония… а я-то, как дура, трачу массу времени и изрядную сумму денег, давая объявление в газетах в надежде найти тебе экономку! А когда ты продала панно и подарила свою картину галерее в Порткеррисе, ты разве посоветовалась со мной или Джорджем? Просто понять не могу. Ведь я, в конце концов, старшая дочь. Если ты думаешь, что ничем мне не обязана, должна же ты хоть считаться с моими чувствами? А эта неожиданная поездка в Корнуолл, да еще с Антонией и садовником. Подумать только! Они же тебе чужие люди. Когда я предложила взять Мелани и Руперта, ты и слышать об этом не хотела. А ведь они тебе родные внуки! Ты же берешь с собой первых встречных, которых мы даже толком и не знаем. Они хотят поживиться за твой счет. Ты не можешь этого не видеть. Они наверняка думают, что из тебя легко выманить деньги, хотя для меня просто уму непостижимо, как ты этого не понимаешь. Это так обидно и так необдуманно с твоей стороны…
— Нэнси…
— …если ты точно так же относилась и к бедному папе, то нет ничего удивительного, что он тебя бросил. Таким отношением можно оттолкнуть от себя кого угодно. Бабушка Долли всегда говорила, что ты самая черствая женщина, которую ей доводилось видеть. Мы с Джорджем стараемся, заботимся о тебе, но ты никак не хочешь нам в этом помочь. Уезжаешь, не сказав ни слова, швыряешь деньги направо и налево. Уж мы-то знаем, во что обойдется тебе проживание в такой дорогой гостинице… и надо же было подарить «Собирателей ракушек» галерее… когда ты знаешь, сколь многого нам не хватает… так гадко…
Накопившиеся в душе обиды перехлестывали через край. Нэнси говорила сбивчиво, почти без остановки. Когда она наконец замолчала, Пенелопа получила возможность вставить слово.
— Ты кончила? — вежливо спросила она. Нэнси ничего не ответила. — Можно мне теперь сказать?
— Говори.
— Я позвонила, чтобы пожелать вам всем счастливого праздника, а вовсе не для того, чтобы с тобой ссориться. Но если уж ты ищешь ссоры, то пусть так и будет. Продав панно, я сделала именно то, что ты и Ноэль советовали мне не один раз. Я получила за них сто тысяч фунтов, как, наверное, ты уже слышала от Оливии, и в первый раз в жизни решила потратить часть этих денег на себя. Ты знаешь, я очень давно собиралась побывать в Порткеррисе и приглашала тебя поехать со мной вместе. Я предлагала то же самое Ноэлю и Оливии. Никто из вас ехать со мной не пожелал.
— Мама, у меня были веские причины…
— Это отговорки, — перебила ее Пенелопа. — Мне не хотелось ехать одной. Мне нужны были веселые попутчики, которые наслаждались бы этой поездкой вместе со мной. И такими попутчиками согласились стать Антония и Данус. Я еще не совсем выжила из ума и вполне способна выбирать себе друзей. Что касается «Собирателей ракушек», то эту картину подарил мне папа́ в день свадьбы, и, передав ее галерее в Порткеррисе, я как бы вернула ее ему. Ему и тысячам простых людей, которые будут иметь возможность взглянуть на нее и, может быть, даже получить удовольствие и утешение, которое получала от нее я.
— Ты не представляешь, сколько она стоит.
— Я знаю, сколько она стоит, лучше тебя. Ты всю жизнь жила рядом с этой картиной, но даже не глядела на нее.
— Я не это имела в виду.
— Я знаю.
— Ты… — Нэнси искала и не находила слов. — Ты ведешь себя так, как будто хочешь обидеть нас… как будто нисколечко нас не любишь…
— Нэнси, перестань.
— И почему ты всегда все рассказываешь Оливии, а мне никогда?
— Наверное, потому, что тебе всегда очень трудно понять, что и зачем я делаю.
— Как же мне понять тебя, если ты ведешь себя таким странным образом, ничего мне не рассказываешь, считаешь меня дурочкой… Для тебя Оливия всегда была светом в окошке. Ты только ее и любила. И когда мы были детьми, вечно Оливия была самой умной и самой милой. Ты никогда не старалась меня понять. И если бы не бабушка Долли…
Нэнси уже так разошлась, что, исходя жалостью к самой себе, готова была вспоминать без конца все старые обиды, которые, по ее мнению, выпали ей на долю в детстве. Пенелопа, устав слушать эти нескончаемые жалобы, вдруг поняла, что продолжать внимать пустым детским причитаниям сорокатрехлетней женщины выше ее сил. Она сказала:
— Нэнси, давай закончим этот разговор.
— …не знаю, что бы я делала без бабушки Долли! Только она давала мне силы жить…
— До свидания, Нэнси.
— …потому что у тебя никогда не было для меня времени… Ты ничего мне в жизни не дала…
Аккуратно опустив трубку на рычаг, Пенелопа положила конец разговору. Громкий, рассерженный голос, слава богу, умолк. Легкий ветерок с моря шевелил тонкую занавеску. Сердце у Пенелопы, как и всегда после подобных разговоров, стало колотиться. Она протянула руку за таблетками, взяла две штуки и, снова откинувшись на пуховые подушки, закрыла глаза. Ей хотелось от всего отрешиться, обо всем забыть. У нее совсем не было сил, и на мгновение она готова была поддаться слабости и заплакать. Но потом решила: нет, она не позволит Нэнси выбить себя из колеи. Она не заплачет.
Некоторое время спустя, когда сердце немного успокоилось, Пенелопа накрыла постель покрывалом и встала. На ней был легкий, продуваемый ветром халат; длинные волосы распущены. Она подошла к туалетному столику и села, разглядывая свое отражение без всякого удовольствия. Потом взяла щетку для волос и стала их расчесывать медленными плавными движениями.
«Для тебя Оливия всегда была светом в окошке. Ты только ее и любила».
Это правда. С самого появления Оливии на свет, когда Пенелопа в первый раз увидела крошечную черноволосую девочку с очень большим носом на маленьком некрасивом лице, она почувствовала неизъяснимую близость к ней. Благодаря Ричарду Оливия занимала в ее сердце особое место. Но не более того. Она любила ее точно так же, как Нэнси и Ноэля. Любила их всех. Ведь все они ее дети. И каждого она любила больше других, но по разным причинам. Она обнаружила, что любовь обладает удивительным свойством приумножаться. Увеличиваться вдвое, втрое, так что с рождением каждого из детей этого чувства все прибывало и с лихвой хватало на всех. И Нэнси, ее первенец, получила любви и заботы больше, чем кто-либо другой. Пенелопа вспомнила, как крепенькая симпатичная малышка топала в саду Карн-коттеджа на толстых коротких ножках, пытаясь поймать курицу, как возила тачку, которую смастерил ей Эрни, как ласкала и баловала ее Дорис. Вокруг нее все время были любящие ласковые руки и улыбающиеся лица. Что стало с той маленькой девочкой? Возможно ли, чтоб она напрочь забыла о тех первых годах своей жизни?
Очень грустно это сознавать, но, очевидно, так оно и есть.
«Ты ничего мне в жизни не дала».
Это неправда. Пенелопа твердо знала, что это не так. Она дала Нэнси то же, что и другим своим детям: дом, чувство защищенности, домашний уют, интересы, место для игр с друзьями, солидную входную дверь, за которой они могли чувствовать себя в полной безопасности. Она вспомнила просторный цокольный этаж в доме на Оукли-стрит, где пахло чесноком и пряностями, где всегда было тепло от большой печи и камина. Вспомнила, как все они, словно стайка веселых воробышков, прибегали темными осенними вечерами голодные как волки; как сбрасывали ранцы, срывали пальто и усаживались за стол, поглощая несметное количество сосисок, макарон, пирожков с рыбой, горячих, намазанных маслом тостов, сливового пирога и какао. Вспомнила эту замечательную комнату в рождественские праздники, когда в ней пахло елкой и повсюду были развешаны рождественские открытки, нанизанные, как выстиранное белье, на красную ленточку. На память пришли и летние вечера: стеклянные двери распахнуты прямо в тенистый сад, пахнет табаком и желтофиолями. Она увидела мысленным взором играющих детей, оглашавших сад звонкими криками. Среди них была и Нэнси.
Она дала Нэнси то же, что и всем остальным, но не смогла дать всего, что та хотела (которая не говорила: «хочу», а говорила: «мне нужно»), потому что денег на дорогие вещи и лакомства, которые Нэнси обожала, просто не хватало. На красивые платья для выхода, на коляски для кукол, на первый бал, на участие в лондонских «сезонах», когда начинаются балы и прочие светские мероприятия. Пределом мечтаний для Нэнси была многолюдная пышная свадьба, но осуществить эту мечту удалось только благодаря Долли Килинг, которая взяла на себя организацию (и расходы) этого дорогостоящего и обременительного мероприятия.
Наконец Пенелопа положила щетку на столик. Она все еще сердилась на Нэнси, но сам по себе процесс расчесывания волос подействовал на нее благотворно.
Теперь, когда она немного успокоилась, к ней снова вернулись силы и она уже могла принимать решения. Она собрала волосы и уложила их в пучок, взяла черепаховые шпильки и аккуратно, но решительно воткнула их, куда положено.
Через полчаса, когда вернулась Антония, Пенелопа снова была в постели. Под спину высоко подложены взбитые подушки, все необходимое под рукой, а на коленях лежит книга.
Раздался стук в дверь, и голос Антонии спросил:
— Пенелопа?
— Входи. — Дверь приоткрылась, и показалась голова Антонии. — Я решила к вам заглянуть, чтобы… — Вдруг лицо ее сделалось серьезным и встревоженным. — А почему вы в постели? Что с вами? Плохо себя чувствуете?
Пенелопа закрыла книгу.
— Нет, Антония. Просто немножко устала. Что-то не хочется спускаться к обеду. Мне, право, очень жаль. А вы ждали меня?
— Очень недолго. — Антония опустилась на край кровати. — Мы сначала пошли в бар, но вас все не было, и Данус послал меня узнать, уж не случилось ли что.
Пенелопа заметила, что Антония приоделась к обеду. На ней была узкая черная юбка и кремовая атласная рубашка навыпуск, которую они вместе купили в Челтнеме, перетянутая в талии поясом. Золотисто-рыжие волосы, чистые и блестящие, падали ей на плечи, а лицо было свежим и чистым, как спелое яблоко, без каких-либо косметических ухищрений, исключая, конечно, необыкновенно длинные черные ресницы.
— Вы не хотите есть? Может быть, заказать вам обед в номер?
— Может быть, только попозже. Но это я и сама могу сделать.
— Мне кажется, — укоризненно сказала Антония, — вы слишком переутомляетесь, когда нас с Данусом нет рядом и некому вас остановить.
— Я не переутомилась, я просто рассердилась.
— Из-за чего вы могли рассердиться?
— Я позвонила Нэнси поздравить ее с праздником и вместо благодарности получила в ответ поток брани.
— Как нехорошо с ее стороны. А чем она недовольна?
— Да всем на свете. Она думает, что я совсем выжила из ума. Что я плохо о ней заботилась, когда она была маленькой, что я слишком расточительна в мои преклонные годы. Что я скрытная и безответственная женщина и не умею выбирать друзей. Я думаю, что все это давно уже накопилось у нее в душе, но то, что я поехала в Порткеррис с тобой и Данусом, было последней каплей. В душе у нее накипело, и сегодня все это вылилось на мою голову. — Она улыбнулась. — Ничего. Лучше снаружи, чем внутри, как говаривал мой любимый папа́.
Антония тем не менее продолжала возмущаться:
— Как она могла так вас расстроить?
— Нет, я не позволила ей меня расстроить. Вместо того чтобы расстроиться, я рассердилась. Это полезней для здоровья. Кроме того, в любой жизненной ситуации можно усмотреть и смешную сторону, и от этого никуда не денешься. Положив трубку, я тут же представила себе, как Нэнси, вся в слезах, от которых лицо ее делается весьма непривлекательным, врывается к Джорджу и изливает на его голову свое возмущение несправедливым поведением своей нерадивой матери. А он, уткнувшись носом в газету, отмалчивается. Он удивительно необщительный человек. Я просто понять не могу, почему Нэнси вышла за него замуж. Ничего удивительного, что дети у них такие несимпатичные. Руперт совсем не умеет себя вести, а Мелани без конца жует кончики своих косичек и злобно смотрит исподлобья.
— По-моему, вы слишком уж суровы.
— Да я не просто сурова, я страшно зла на них. Но я рада, что так получилось, потому что это помогло мне принять одно решение. Я собираюсь сделать тебе подарок.
На столике рядом с кроватью стояла ее огромная кожаная сумка. Пенелопа протянула руку и стала рыться в ее необъятных глубинах. Наконец пальцы нащупали нужный ей предмет. Она извлекла из сумки уже далеко не новый кожаный футляр для драгоценностей.
— На, возьми, — сказала она и протянула футляр Антонии. — Это тебе.
— Мне?
— Да. Носи на здоровье. Открой футляр. — Антония с неохотой взяла его в руки. Нажала маленький замочек, и крышка открылась. Пенелопа наблюдала за выражением ее лица. Увидела, как раскрылись в изумлении ее глаза и рот.
— Не может быть, чтобы это мне.
— Именно тебе. Это тебе от меня в подарок. Носи на здоровье. Серьги тети Этель. После смерти она завещала их мне, и я брала их с собой, когда приезжала к вам погостить в Ивису. Я надевала их, когда Космо и Оливия устраивали вечер. Помнишь?
— Конечно помню. Но эти серьги… мне? Это просто невозможно. Они наверняка очень дорого стоят.
— Уж никак не больше, чем наша дружба. И не больше удовольствия, которое я получаю от общения с тобой.
— Но я думаю, они стоят не одну тысячу фунтов.
— Вероятно, тысячи четыре. Я никогда не могла позволить себе застраховать их и потому все время хранила в банке. Я взяла их оттуда в тот день, когда мы ездили в Челтнем. Мне кажется, ты тоже не сможешь осилить страховку и положишь их на хранение в банк. Бедные сережки, не очень веселая у них судьба. Но я хочу, чтобы ты надела их сегодня вечером. Уши у тебя проколоты, так что серьги не выпадут. Надень, пожалуйста, и покажи, как они на тебе смотрятся.
Но Антония все еще не решалась.
— Пенелопа, если они такие дорогие, то не лучше ли отдать их Оливии или Нэнси? Или вашей внучке? Пусть их носит Мелани.
— Оливия предпочла бы видеть их на тебе, я в этом уверена. Они будут напоминать ей об Ивисе и Космо, и она наверняка согласится, что, отдавая тебе эти серьги, я поступаю очень мудро. Что касается Нэнси, то она стала ужасно жадной и расчетливой и потому не заслуживает ровным счетом ничего. А Мелани, как мне кажется, никогда не оценит всей их прелести. Ну а теперь надевай.
Антония, все еще с сомнением, открыла футляр, взяла серьги одну за другой с потертого бархата и продела в уши тонкие золотые проволочки. Потом откинула назад волосы.
— Ну как они на мне?
— Великолепно. Они прекрасно дополняют твой туалет. Как раз то, что нужно. Подойди к зеркалу и сама увидишь.
Соскользнув с кровати, Антония пересекла комнату и остановилась перед туалетным столиком. Пенелопа, внимательно наблюдая за ее отражением в зеркале, про себя решила, что еще никогда не видела такой эффектной и красивой девушки.
— Серьги как раз для тебя. Чтобы носить такие роскошные украшения, надо непременно быть высокого роста. А если настанут трудные времена и ты окажешься без денег, продашь их или заложишь. Это будет небольшой запас на черный день.
Но Антония молчала, потеряв дар речи от такого роскошного подарка. Постояв немного перед зеркалом, она вернулась к Пенелопе, покачала головой и сказала:
— Я все-таки никак не пойму, почему вы так добры ко мне.
— В один прекрасный день, когда тебе будет столько же лет, сколько мне, ты все поймешь.
— Ну хорошо. Только давайте договоримся: я эти серьги сейчас надену, но завтра утром, если вы передумаете, я их верну.
— Я не передумаю. Особенно после того, как я увидела их на тебе. Уж теперь-то я точно знаю, что они должны остаться у тебя. И давай больше не будем о них говорить. Сядь и расскажи мне, как прошел день. Я думаю, Данус не обидится, если подождет еще минут десять. Мне просто не терпится поскорее обо всем услышать. Тебе понравилось южное побережье? Там ведь совсем иначе, чем здесь, лес да вода. Однажды во время войны я провела там целую неделю. В небольшом домике с садом, спускавшимся к небольшой речушке. Там всюду росли нарциссы, и на краю мола сидели стайки моевок. Иногда мне так хочется узнать, что сталось с этим домиком и кто в нем живет? — Но это все не к месту, подумала она. — Ну так куда вы ездили? Кого встретили? Хорошо ли прогулялись?
— Да, прекрасно. Очень красивая дорога. И к тому же было очень интересно. Видели огромный питомник с теплицами для выращивания рассады и магазином, где можно купить саженцы, лейки и прочее. В теплицах выращивают рассаду томатов, раннего картофеля и всякого рода экзотических овощей, как, например, французского зеленого горошка, который едят прямо со стручками.
— И кому принадлежит это хозяйство?
— Неким Эшли. Эверард Эшли учился в сельскохозяйственном колледже вместе с Данусом. Поэтому мы туда и поехали.
Она смолкла, как будто все уже рассказала. Но Пенелопа терпеливо ждала продолжения. Антония молчала. Такого запирательства Пенелопа не ожидала. Она строго поглядела на девушку, и та опустила глаза, теребя в руках футляр от сережек, то открывая его, то закрывая. Пенелопа почувствовала, что между ними возникает неловкость.
Что-то, несомненно, произошло, что-то между ними не заладилось. Очень осторожно она спросила:
— А где вы обедали?
— У Эшли на кухне.
Радужное представление о романтическом завтраке наедине в старинной деревенской гостинице померкло и исчезло.
— Эверард женат?
— Нет, он живет с родителями. Это хозяйство принадлежит его отцу. Они ведут его вместе.
— Данус, наверное, хочет завести что-то в этом роде, да?
— Говорит, что да.
— Вы разговаривали с ним на эту тему?
— Да. Но только не обо всем.
— Антония. Что произошло?
— Не знаю.
— Вы поссорились?
— Нет.
— Но что-то ведь произошло между вами?
— Ничего не произошло. В этом все и дело. Вроде все идет хорошо. Потом я дохожу до какой-то черты и чувствую, что дальше хода нет. Мне кажется, я его знаю. Кажется, мы хорошо понимаем друг друга, и тут он ставит между нами преграду. Словно захлопывает дверь у меня перед носом.
— Он тебе нравится?
— Да. — Слезинка выкатилась из-под нижних ресниц и поползла по щеке Антонии.
— Ты влюблена?
Долгое молчание. Антония кивнула.
— Но ты думаешь, что он тебя не любит, да?
Теперь слезы стали капать одна за другой. Антония подняла руку и вытерла их.
— Не знаю. Вряд ли он влюблен. Мы столько времени были вместе последние несколько недель… Теперь он уж точно знает… ведь всегда наступает такой момент, когда отойти назад уже невозможно, и, по-моему, мы его уже миновали.
— Это моя вина, — сказала Пенелопа. — Вот, возьми. — Она взяла со столика бумажные салфетки и протянула Антонии. Та с облегчением высморкалась. Потом сказала:
— Почему это ваша вина? С какой стати?
— Потому что я думала все это время только о себе. Мне нужна была приятная компания для поездки. Больше я ни о чем не думала, старая эгоистка. И пригласила тебя и Дануса с собой. Наверное, я занялась не своим делом. Это ведь сводничество, а сводничество часто имеет роковые последствия. Я воображала, что очень умно все устроила, а на самом деле это была самая нелепая ошибка.
На лице Антонии было написано отчаяние.
— Пенелопа, почему он такой?
— Он сдержанный.
— Это не только сдержанность.
— Может быть, гордый?
— Разве гордость мешает любить?
— Ну не в буквальном смысле. Представь, что у него нет денег. Он знает, чего хочет, но не может заняться этим делом, потому что нет средств, чтобы его начать. Ведь нынче, чтобы начать любое дело, нужен солидный капитал. А у него нет никаких надежд такую сумму достать. Возможно, он думает, что не вправе дать волю своему чувству.
— Но проявление чувств не обязательно предполагает женитьбу и связанную с ней ответственность.
— Думаю, для такого человека, как Данус, это неразрывные понятия.
— Я просто могла бы быть с ним рядом. В конце концов, мы бы что-нибудь придумали. Мы хорошо подходим друг другу. Во всех отношениях.
— Ты с ним говорила об этом?
— Нет. Собиралась, но не могу.
— Тогда, мне кажется, стоит поговорить. Это в ваших общих интересах. Расскажи ему, что ты чувствуешь и думаешь по этому поводу. Поговори с ним начистоту. Вы ведь хорошие друзья. Ты можешь поговорить с ним откровенно?
— Выходит, я должна сказать ему, что люблю его и хочу быть с ним вместе всю жизнь, что мне не важно, есть ли у него вообще деньги, и что я согласна жить с ним, даже если он на мне не женится? Это вы хотите сказать?
— В твоем изложении это звучит несколько грубовато. Но в общем-то… да. Именно это я и хотела сказать.
— А если он скажет мне, чтоб я оставила его в покое и шла своей дорогой?
— Ну что ж, тебе будет тяжело и обидно, но, по крайней мере, ты будешь точно знать, как обстоят дела. Но мне почему-то кажется, что он так тебе не скажет. По-моему, он честно расскажет тебе, в чем дело, и ты увидишь, что причина его странного поведения никак не связана с его отношением к тебе.
— Как это?
— Я не знаю. Мне тоже хотелось бы это знать. Мне бы очень хотелось понять, почему он не берет в рот спиртного и не садится за руль. Это, конечно, не мое дело, но все-таки интересно. Он что-то скрывает, в этом нет сомнения. Но, насколько я его знаю, ничего постыдного там быть не может.
— Да если бы и скрывал, я бы не имела ничего против. — Антония уже не плакала. Она снова высморкалась и сказала: — Извините, я вовсе не собиралась тут сырость разводить.
— Иногда это полезно. Помни: лучше снаружи, чем внутри.
— Просто это первый в моей жизни человек, который мне нравится и который мне близок. Если бы до встречи с ним у меня была целая вереница поклонников, мне было бы легче все это пережить. Я не виновата, что так к нему привязалась, и теперь даже помыслить не могу, что придется его потерять. Когда я впервые его увидела у вас, то сразу поняла, что в нем есть что-то особенное, что он займет в моей жизни очень важное место. Но пока мы были там, все было очень хорошо. Мне было с ним легко и весело, у нас было о чем поговорить, нам хорошо работалось вдвоем, когда мы что-нибудь сажали, и между нами совсем не было натянутости. А здесь все изменилось, и я уже не могу ничего понять. Просто совсем сбита с толку.
— Бедная моя девочка, это я виновата. Прости меня. Я мечтала о том, чтобы эта поездка оказалась для тебя романтичной, незабываемой. Не плачь, не начинай все сначала, а то глаза распухнут и покраснеют и весь вечер пойдет насмарку.
— Господи, я такая нескладная… — неожиданно выпалила Антония. — Как бы я хотела быть такой, как Оливия. Уж она бы никогда не влипла в такую дурацкую историю.
— Ты не Оливия. Ты — это ты. Ты молода и красива. И перед тобой вся жизнь. Никогда не отрекайся от себя и не желай быть кем-то другим, даже Оливией.
— Она такая сильная. Такая умная.
— Ты тоже будешь такой же. Пойди умойся и причеши волосы, а потом спускайся вниз, в ресторан, и скажи Данусу, что я хочу остаться одна; вы пропустите по стаканчику и сядете за стол, и за обедом ты расскажешь ему все то, что только что говорила мне. Ты уже не маленькая. Вы оба не дети. Так больше не может продолжаться, и я не позволю тебе хандрить и огорчаться. Данус добрый. Что бы ни случилось и что бы он ни сказал, я уверена, он никогда тебя не обидит.
— Это я знаю.
Они поцеловались. Антония встала с кровати и пошла в ванную комнату умываться, а когда вышла, взяла с туалетного столика щетку Пенелопы и стала причесывать волосы.
— Серьги принесут тебе удачу, — сказала Пенелопа. — И придадут уверенности в себе. А теперь быстро иди вниз. Данус уж не знает, что и думать, куда мы обе подевались. И помни, поговори с ним и ничего не бойся. Никогда не бойся быть честной и правдивой.
— Постараюсь.
— Желаю удачи, милая. Прощай.
— Спокойной ночи.
13. Данус
Проснувшись, Пенелопа увидела, что утро безоблачно-ясное и обещает еще один погожий день. Откуда-то снизу доносились приятные и такие знакомые звуки: ласковый шум морского прибоя на далеком пляже; крики чаек и громкий щебет дрозда, который прямо под окном поднял из-за чего-то страшный шум; шуршание по гравию шин подъехавшей машины, остановившейся у дверей, и насвистывание водителя.
Было десять минут девятого. Пенелопа проспала ровно двенадцать часов и теперь чувствовала, что хорошо отдохнула, полна сил и очень хочет есть. Был вторник, последний день праздника. При мысли об этом ее охватил страх. Завтра утром они упакуют чемоданы и двинутся в далекий обратный путь, в Глостершир. Ее охватило нетерпение и беспокойство, потому что она не успела сделать все, что наметила. Она лежала, мысленно перебирая предстоящие дела и в кои-то веки выдвигая на первое место свои собственные. Дануса и Антонию и сложное положение, в котором они оказались, временно нужно отодвинуть на второй план. У нее еще будет время поразмышлять над их проблемами. Это потом, а сейчас она должна заняться своими делами.
Пенелопа встала, приняла ванну, причесала волосы и оделась. Затем, приведя себя в порядок и надушившись, она села за письменный стол и стала писать письмо Оливии на плотной, с дорогим тиснением бумаге, которую предоставляла своим постояльцам гостиница. Письмо было короткое, скорее похожее на записку; в нем она сообщала, что подарила Антонии серьги тетушки Этель. Почему-то ей показалось, что Оливия непременно должна об этом узнать. Она положила письмо в конверт, надписала адрес, прилепила марку и заклеила его. Потом взяла сумочку, ключи и спустилась вниз.
В открытые вращающиеся двери вливались прохладный воздух и свежие ароматы утра. В безлюдном холле был только портье, стоявший за конторкой, да уборщица в синем халате пылесосила ковер. Пенелопа поздоровалась с ними, бросила в ящик письмо и отправилась в ресторан заказать завтрак. Апельсиновый сок, два яйца, тосты, конфитюр и чашка черного кофе. Когда она уже заканчивала завтрак, в ресторане появились первые посетители, которые, усаживаясь на свои места, разворачивали свежие газеты или обсуждали, как провести предстоящий день. Одни собирались играть в гольф, другие — осматривать достопримечательности. Слушая их разговоры, Пенелопа радовалась, что ей нет необходимости согласовывать с кем-то свои планы. Ни Данус, ни Антония не появились, и в глубине души она была рада этому, хотя и испытывала легкие угрызения совести.
Она вышла из столовой. Было уже половина десятого.
В холле она остановилась около портье.
— Я собираюсь в картинную галерею. Вы не знаете, когда она открывается?
— По-моему, часов в десять, миссис Килинг. Вы на машине поедете?
— Нет, я пойду пешком. Сегодня такое погожее утро. Нельзя ли вас попросить прислать за мной туда такси? Я позвоню, когда освобожусь.
— Конечно, миссис Килинг.
— Благодарю.
Пенелопа вышла на улицу, с удовольствием подставила лицо солнечному свету и прохладному свежему ветерку, и от этого почувствовала себя свободной и беззаботной.
В детстве в субботу утром она, бывало, испытывала точно такое же ощущение беззаботности и пустоты, которая вот-вот наполнится неожиданными удовольствиями. Пенелопа шла медленно, наслаждаясь запахами и звуками, останавливаясь, чтобы полюбоваться цветами в садах, сверкающей гладью залива, понаблюдать за мужчиной, выгуливающим собаку в песчаных дюнах. Подойдя к повороту дороги к галерее, куда вела круто идущая в гору мощенная булыжником улочка, она увидела, что галерея уже открыта. Там никого не было, кроме молодого человека, сидевшего за столиком у входа, но в столь ранний час и в самом начале отпускного сезона это показалось ей вполне естественным. Молодой человек с длинными волосами был мертвенно-бледен; на нем были заплатанные джинсы и пестрый свитер. Он отчаянно зевал, как будто не спал всю ночь, но при виде Пенелопы подавил зевок, выпрямился на стуле и предложил ей купить каталог.
— Спасибо, мне не нужен каталог. Возможно, уходя, я куплю несколько открыток.
С видом безгранично утомленного человека юноша снова развалился на стуле. Пенелопа не могла взять в толк, кому пришло в голову предложить ему должность смотрителя, но потом решила, что он, видимо, пошел сюда работать из любви к искусству.
На новом месте, в самой середине глухой стены, картина выглядела очень внушительно. Она ее ждала. Пенелопа прошла через зал и удобно устроилась на старой кожаной кушетке, где много лет назад сиживала вместе с папа́.
Он был прав. Они пришли, эти молодые художники, как он и предсказывал. Справа и слева от «Собирателей ракушек» были развешаны картины абстракционистов и примитивистов, и на их полотнах играли и яркие краски, и свет, и жизнь. Исчезли со стены менее значительные полотна, такие как «Рыбачьи шхуны ночью» и «Цветы на моем окне», в былые времена висевшие на самом виду. Теперь их место заняли работы других живописцев, новых художников, которые пришли им на смену. Бен Николсон, Питер Лэнион, Брайен Уинтер, Патрик Херон. Но они совсем не подавляли «Собирателей ракушек», напротив, только подчеркивали голубые и серые тона и мерцающие отражения на любимой картине папа́; Пенелопе даже пришло в голову, что этот зал можно сравнить с комнатой, где соседствуют старинная и совсем современная мебель, не вступая в противоречие друг с другом, потому что каждый предмет является самым совершенным творением зрелого мастера.
Она сидела, спокойная и довольная, и с наслаждением любовалась картиной.
Когда послышался какой-то шум и вошел новый посетитель, она не обратила на это никакого внимания. Где-то сзади, за спиной, она услышала шепот, потом медленные шаги. И вдруг отчетливо вспомнила тот августовский день во время войны, когда ей было двадцать три и на ногах у нее были дырявые тапочки, а рядом сидел папа́. И в галерею, да и в ее жизнь, вошел Ричард. И папа́ сказал ему: «Они придут… и изобразят на холсте солнечное тепло и цвет ветра». Так все началось.
Шаги приближались. Кто-то был здесь и ждал, когда она обратит на него внимание. Пенелопа обернулась и вместо Ричарда увидела Дануса. Сбитая с толку, запутавшись во времени, она глядела и думала: незнакомец.
— Я вам помешал, — сказал он.
Знакомый голос разрушил чары. Она постаралась взять себя в руки и стряхнуть воспоминание о прошлом, потом с трудом улыбнулась:
— Нет-нет. Просто я задумалась.
— Может быть, мне лучше уйти?
— Не нужно. — Он был один. На нем был темно-синий джемпер. Глаза, внимательно глядевшие на нее, казались удивительно блестящими, ярко-голубыми, немигающими. — Я прощаюсь с «Собирателями ракушек». — Она подвинулась и слегка постучала рукой по кушетке. — Садись, составь мне компанию.
Он сел, слегка повернув лицо в ее сторону, оперся одной рукой о кушетку и скрестил ноги.
— Вам сегодня лучше?
— Лучше? — Она не могла понять, о чем он говорит.
— Антония сказала: вчера вечером вы плохо себя чувствовали.
— Ах вот что, — ответила Пенелопа, как о чем-то не стоящем внимания. — Просто вчера я устала. Сегодня утром я прекрасно себя чувствую. Как ты нашел меня?
— Портье сказал, что вы здесь.
— А где Антония?
— Укладывает вещи.
— Укладывает вещи? Уже? Но мы ведь уезжаем только завтра утром.
— Она мои вещи укладывает. Я специально пришел сюда сказать вам об этом. И о многом другом тоже. Мне нужно сегодня уехать. Я хочу успеть на лондонский поезд, чтобы вечером пересесть на ночной до Эдинбурга. Мне непременно надо быть дома.
Только одна причина могла вызвать такой срочный отъезд Дануса, подумала Пенелопа и спросила:
— Что-то случилось дома? Кто-нибудь из твоих заболел, да?
— Нет. Дома все здоровы.
— Тогда почему ты уезжаешь? — Она вспомнила вчерашний разговор и Антонию в слезах у себя на кровати. «Ты должна быть честной и правдивой», — сказала она вчера вечером, уверенная с высоты своего жизненного опыта, что дает ей самый правильный совет. И вот, по всей видимости, она просто влезла не в свое дело. Вмешалась и все испортила. Ее план оказался никудышным. Храбрость Антонии, ее решимость выложить все без утайки, как видно, не помогла прояснить ситуацию; откровенность привела лишь к столкновению, возможно, даже к роковой ссоре, и они с Данусом пришли к выводу, что им остается только одно — расстаться. Другого объяснения быть не может. Ей захотелось плакать. — Это я во всем виновата, — сказала она, — только я одна.
— Никто ни в чем не виноват. И вы тут совсем ни при чем.
— Но это ведь я сказала Антонии…
— И были правы, — перебил он. — И если бы вчера вечером Антония ничего мне не сказала, то я бы сам ей все сказал. Потому что вчера — а мы вчера весь день были вместе — был своего рода перелом. Все переменилось. Как будто мы перешли какой-то рубеж. Все стало просто и ясно.
— Она тебя любит, Данус. Ты не можешь этого не видеть.
— Именно поэтому мне и нужно ехать.
— Неужели она для тебя так мало значит?
— Нет, совсем наоборот. Очень много. Это не просто любовь, это нечто большее. Она стала частью меня самого. Расставаясь с ней, я как будто режу по живому. Но ничего не поделаешь — так надо.
— Я что-то не вполне понимаю.
— Это естественно.
— Так что же, наконец, вчера произошло?
— По-моему, вчера мы оба вдруг стали взрослыми. А может быть, выросло то чувство, что было между нами. До вчерашнего дня все, что мы делали вместе, было не важным, будничным, преходящим. Мы вместе работали в вашем саду, плавали в море в Пенджизале. И все это легко, несерьезно, играючи. В этом, скорее всего, была моя вина. Я не хотел серьезных отношений. Это совсем не входило в мои планы. И вот мы поехали вчера в Манаккан. Я уже рассказывал Антонии о своей мечте завести когда-нибудь собственное хозяйство, и мы все это не раз обсуждали, но как-то так, походя, несерьезно, и мне даже в голову не приходило, как близко к сердцу принимала она наши разговоры. А вчера, когда Эверард Эшли стал показывать нам свое хозяйство, случилось нечто странное и неожиданное. Мы вдруг стали парой единомышленников. Как будто нам суждено впредь делать все совместными усилиями. Антония с таким интересом и энтузиазмом расспрашивала обо всем Эверарда, высказывала столько полезных идей и предложений, что вдруг посреди теплицы для помидоров совершенно неожиданно меня осенило, что она — это неотъемлемая часть моей будущей жизни. Часть меня самого. Я не представляю себе жизни без Антонии. Чем бы я ни занимался в будущем, я хочу, чтобы она была рядом, что бы со мной ни случилось, хочу, чтобы она разделила мою судьбу.
— И что же мешает этому осуществиться?
— Две вещи. Одна — чисто практическая сторона дела. Мне нечего предложить Антонии. Мне двадцать четыре года, и у меня нет ни денег, ни дома, ни собственных средств, и весь мой доход — это зарплата поденного садовника. Тепличное хозяйство, собственный дом — это недостижимая мечта. Эверард Эшли работает на паях с отцом, а мне надо будет все это купить, денег же у меня нет.
— Но есть банки, дающие деньги в кредит, и безвозвратные государственные субсидии. — Пенелопа подумала о его родителях. Из тех скупых фраз о себе, которые время от времени можно было услышать от Дануса, у нее создалось впечатление, что он вырос в семье, которая если и не купается в роскоши, то во всяком случае хорошо обеспечена. — А что твои родители, не могли бы они тебе помочь?
— Могли бы, но не в такой степени.
— Ты просил их?
— Нет.
— А о своих планах на будущее рассказывал?
— Еще нет.
Такая беспомощность была для нее полной неожиданностью и вызывала досаду. Данус очень ее разочаровал, и она чувствовала, что теряет терпение.
— Я, конечно, не знаю, но, по-моему, нет никаких оснований падать духом. Вы с Антонией нашли друг друга, полюбили и жаждете всю жизнь прожить вместе. Вам необходимо крепко держаться за свое счастье и стараться не выпустить его из рук. Вы просто не имеете морального права упускать такой шанс, он может никогда больше не представиться. Разве это так уж страшно, если придется все начинать с нуля? Антония пойдет работать, в ее возрасте все жены работают. Молодым семьям часто удается сводить концы с концами просто потому, что они умеют правильно расставить приоритеты. — Он ничего не ответил, и она продолжала: — Я думаю, всему виной твоя гордость. Глупая непомерная шотландская гордость. А если это так, то, стало быть, ты думаешь только о себе. Как ты можешь уехать сейчас и оставить ее одну, зная, что она будет очень страдать? Данус, неужели ты можешь вот так отвернуться от любви?
— Я сказал, что есть две вещи. И рассказал вам только об одной.
— А вторая?
— Я эпилептик, — сказал он.
Пенелопа вся похолодела, буквально застыла, не в силах вымолвить ни слова. Она посмотрела ему в лицо, но взгляд его был спокоен и невозмутим, и глаз он не опустил. Ей хотелось обнять его, прижать к груди, утешить, но она не сделала ни того, ни другого, ни третьего. Бессвязные мысли рождались в ее голове, бесцельно разлетались во все стороны, как перепуганные птицы. Вот ответ на все не заданные ему вопросы. И этот человек — Данус.
Она глубоко вздохнула и спросила:
— Ты сказал об этом Антонии?
— Да.
— А мне не хочешь рассказать?
— За этим я и пришел. Меня послала Антония. Она сказала, что вы непременно должны это знать. И что до отъезда я должен объяснить вам, почему уезжаю.
Она положила руку ему на колено:
— Я слушаю.
— Пожалуй, мне следует начать с родителей и Яна. Я уже как-то говорил вам, что мой отец — адвокат. Причем адвокат в третьем поколении. Отец моей матери тоже был адвокатом и членом Верховного суда. Судьба Яна была предрешена — он должен был пойти по стопам отца, поступить в его фирму и вообще продолжить семейную традицию. И из него вышел бы прекрасный юрист, потому что, за что бы он ни брался, все у него получалось как нельзя лучше. Но в четырнадцать лет он умер. И конечно же, мне предстояло занять его место. Я тогда даже не задумывался о своей будущей профессии. Я просто знал, что мне этого не избежать. Обо мне вполне можно было сказать, что я был запрограммирован, как компьютер. Я окончил школу и, хотя я никогда не был таким способным, как Ян, сдал необходимые экзамены и поступил в Эдинбургский университет. Но я был еще очень молод и, прежде чем начать обучение в университете, оформил отсрочку и решил поехать посмотреть мир. Я отправился в Америку. Объехал всю страну, брался за любую работу и наконец осел в Арканзасе на животноводческой ферме, принадлежавшей человеку по имени Джек Роджерс. У него были обширные пастбища, раскинувшиеся на многие мили во все стороны, и я был одним из работников, которые помогали гуртовать скот и чинить изгородь. Я жил в сарайчике с тремя другими молодыми ребятами.
Вокруг ранчо простиралась бескрайняя равнина, и до ближайшего города под названием Слипинг-Крик было не меньше сорока миль, да и городишко был не ахти какой. Мне иногда приходилось возить туда Салли Роджерс за покупками, чтобы пополнить кладовые или привезти Джеку вещи, необходимые на скотном дворе. На это уходил целый день, и трястись туда надо было по проселочной дороге, так что возвращались мы, покрытые толстым слоем ржавой пыли.
Однажды, когда срок моего договора подходил к концу, я заболел. Самочувствие было отвратительное, у меня были рвота, сильный озноб и очень высокая температура. Должно быть, я впал в беспамятство, потому что не помню, как очутился в хозяйском доме. Но именно там я пришел в себя и увидел, что за мной ухаживает Салли Роджерс. В конце концов она меня выходила, и примерно через неделю я почти поправился. Все решили, что я подцепил какой-нибудь вирус, и как только я смог твердо стоять на ногах, снова приступил к работе.
Но вскоре после выздоровления совершенно неожиданно, без каких-либо предупредительных симптомов, я снова потерял сознание. Упал как подкошенный навзничь и так лежал около получаса. Вроде бы никакой причины этому не было, тем не менее обморок повторился через неделю, и при этом мне было так плохо, что Салли погрузила меня в кузов и повезла к врачу в Слипинг-Крик. Он выслушал мою печальную историю и сделал кое-какие анализы. Неделю спустя я снова приехал к нему, и он сказал мне, что у меня эпилепсия. Дал лекарства и велел пить их четыре раза в день. Если выполнять его указания, сказал он, все будет в порядке, а больше он ничего не может для меня сделать.
Данус умолк. Пенелопа чувствовала, что ей следует что-то сказать, как-то отреагировать на его рассказ, но в голову ей не приходило ничего, кроме избитых, банальных фраз. Молчание затянулось, и потому Данус, сделав над собой усилие, продолжал:
— Я никогда в жизни ничем серьезным не болел, не считая кори или еще чего-то в этом роде, и спросил врача: откуда у меня эта болезнь? Тогда он задал мне несколько вопросов, и в процессе беседы мы остановились на ударе по голове, который я получил еще в школе, играя в футбол. У меня тогда было сотрясение мозга, но ничего серьезного не нашли. И вот теперь обнаружилась эпилепсия. Мне был двадцать один год, и я был эпилептиком.
— Ты рассказал об этом тем добрым людям, у которых работал?
— Нет. Я взял с врача обещание, что он сохранит профессиональную тайну. Мне не хотелось, чтобы кто-нибудь об этом знал. Я решил, что если не одолею болезнь в одиночку, то не одолею ее никогда. В конце концов я вернулся на родину. Прилетел в Лондон и вечерним поездом отбыл в Эдинбург. К этому времени я уже принял решение отказаться от учебы в университете. У меня было много времени для размышлений, и я пришел к выводу, что никогда не займу место Яна. Я боялся, что не смогу оправдать ожиданий отца, и не хотел его подводить. Кроме того, в последние месяцы перед возвращением я понял еще кое-что. Мне нужно работать на свежем воздухе и делать что-то руками. Я не хотел, чтобы кто-то стоял у меня над душой, ожидая от меня свершений, на которые я не способен. Самое трудное было сказать все это родителям. Мне никогда не было так тяжело. Сначала они не поверили. Потом очень обиделись и страшно огорчились. Я не винил их, понимая, что расстраиваю все их планы. В конце концов они смирились и постарались как-то это пережить. Но я уже просто не мог сообщить им о том, что у меня эпилепсия.
— Значит, ты ничего им не сказал? Как же ты мог?
— Мой брат умер от менингита. Я думал, что на их долю и так горя и невзгод выпало более чем достаточно. И я просто не мог взвалить на их плечи новое бремя волнений и тревог. Чувствовал я себя вполне нормально. Принимал лекарства и сознания больше не терял. В обычной жизни я был нормальным человеком. Оставалось только подыскать нового молодого врача, который ничего не знал бы ни обо мне, ни о моем прошлом. Он дал мне постоянный рецепт на необходимые лекарства. Потом я поступил в сельскохозяйственный колледж в Вустершире. Там со мной тоже все было в порядке. Я был как все, обыкновенный студент. И делал все то же самое, что и другие: напивался, ездил на машине, играл в футбол. И тем не менее я жил с сознанием того, что я эпилептик. Я знал, что стоит мне перестать принимать лекарства, у меня снова начнутся обмороки. Я старался об этом не думать, но если какая-то мысль засела в голове, ее уже не выгонишь. Она сидит там, как гвоздь. Носишь ее, как камень на шее или тяжелый рюкзак за плечами, который нельзя сбросить.
— Ах, если бы ты с кем-нибудь поделился! Ведь насколько тебе было бы легче.
— В конце концов мне все же пришлось все рассказать. Окончив колледж, я устроился работать в Пудли в фирме «Помощь садоводу». Увидел объявление в газетах, подал заявление, и они меня взяли. Я работал до Рождества и на рождественские праздники приехал на две недели домой. В Новый год я простудился и подхватил грипп. Я пролежал пять дней, и у меня кончилось лекарство. Я не мог пойти в аптеку сам, так что пришлось попросить маму сходить за лекарством, и тут, конечно, все открылось.
— Так она все-таки знает. Слава богу хоть за это. Она, должно быть, готова была задушить тебя собственными руками за твою скрытность.
— Совершенно неожиданно для меня она, как мне показалось, вздохнула с облегчением. Она давно подозревала, что со мной творится что-то неладное, и предполагала самое худшее, но держала свои страхи при себе. Это у нас семейная черта, мы всегда все держим в себе. Наверное, это оттого, что мы скрытные и независимые, как все шотландцы, и не хотим быть в тягость другим. Нас тоже так воспитали. Мама никогда не высказывала нежных чувств, никогда не отличалась, как бы это сказать, особой теплотой и приветливостью, но в тот день, возвратившись из аптеки с лекарствами, она села ко мне на кровать, и мы проговорили с ней не один час. Она даже рассказывала мне о Яне, хотя раньше избегала разговоров на эту тему. Мы вспоминали все хорошее, что было у нас в прошлом, и много смеялись. Я признался, что всегда отдавал себе отчет в том, что во многом уступаю Яну и не могу занять его место; мама же со свойственной ей энергией и деловитостью заявила, что я говорю глупости, что должен оставаться самим собой, что она любит меня именно таким, какой я есть, и больше всего на свете хочет, чтобы я был здоров. А это означает, что мне надо пройти новое обследование и получить подтверждение диагноза еще от одного врача. Как только я оправился от гриппа, я оказался в приемной знаменитого нейрохирурга, где мне снова пришлось отвечать на множество вопросов. Нужно было повторно сделать анализы, ЭКГ, сканирование мозга, но в конце дня мне сказали, что правильный диагноз можно будет поставить, только если я перестану принимать лекарства. Они отправили меня домой с тем, чтобы через три месяца я прошел повторное обследование и явился на консультацию к врачу. Если я буду вести себя осмотрительно, со мной ничего плохого не случится, но я ни при каких обстоятельствах не должен употреблять алкоголь и водить машину.
— И когда кончаются эти три месяца?
— Уже кончились. Две недели тому назад.
— Зачем же медлить? Нельзя терять больше ни одного дня.
— То же самое сказала Антония.
Антония. Пенелопа почти забыла о ней.
— Данус, что же все-таки вчера произошло?
— Да вы все, наверное, знаете. Мы встретились в баре и ждали вас, но вас все не было, и тогда Антония пошла наверх посмотреть, что с вами. И я, пока сидел в одиночестве, продумал все, что мне нужно сказать, до мелочей. Казалось, это будет невероятно трудно, и я стал подбирать нужные слова, составляя до смешного неуклюжие, напыщенные предложения. Но когда Антония вернулась в подаренных вами сережках, такая удивительно повзрослевшая и красивая, все эти тщательно подготовленные фразы вылетели у меня из головы, и я просто сказал ей то, что было у меня на сердце. Как только я заговорил, она заговорила тоже, и мы рассмеялись, потому что оба говорили одно и то же.
— О, бедный мой мальчик.
— Я очень боялся обидеть или огорчить ее. Она всегда казалась мне такой юной и такой уязвимой. Но она была просто бесподобна. Удивительно практична. И как и вы, пришла в ужас, узнав, что сверх трех месяцев прошло уже две недели, а я не удосужился записаться к врачу на прием.
— И теперь ты записался, да?
— Да. Я позвонил туда сегодня утром в девять часов. Мне назначено прийти к нейрохирургу в четверг и еще раз сделать ЭКГ. Я получу результат немедленно.
— Ты позвонишь нам, как только будут известны результаты, ладно?
— Непременно.
— Но если ты три месяца не принимаешь лекарств и тем не менее у тебя нет обмороков, значит можно надеяться на благополучный исход.
— Боюсь даже думать. И тем более надеяться.
— Но ты ведь вернешься к нам?
На этот раз в словах Дануса она заметила неуверенность, он колебался:
— Не знаю. Ведь мне могут предложить какое-нибудь лечение. Возможно, оно займет несколько месяцев. И мне придется остаться в Эдинбурге…
— А как же Антония? Что будет с ней?
— Не знаю. Я не знаю даже, что будет со мной. В данный момент я не вижу в будущем никаких перспектив, никакой возможности обеспечить ей благополучную жизнь, а она ее заслуживает. Ей восемнадцать. Она еще на пороге жизни и может выбирать. Стоит ей только позвонить Оливии, и через пару месяцев ее фотографии появятся на обложках самых дорогих журналов Англии. Я не могу допустить, чтобы она связала себя со мной каким-то обещанием, пока мне не станет ясно, что ожидает нас в будущем. Это все, что я могу сейчас сказать.
Пенелопа вздохнула. В глубине души она рассуждала иначе, но с уважением выслушала его доводы.
— Если вам придется расстаться на некоторое время, наверное, Антонии стоит перебраться в Лондон поближе к Оливии. Не может же она все время торчать возле меня. Она просто умрет от скуки. Лучше пусть устраивается на работу. У нее будут новые друзья, новые интересы.
— А как же вы? Вы обойдетесь без нее?
— Конечно. — Она улыбнулась. — Бедный Данус, мне так жаль тебя. Для человека любая болезнь тягостна, какой бы она ни была. Я по себе знаю. У меня зимой был инфаркт, но я никому об этом не сказала. Вышла из больницы и заявила детям, что врачи — идиоты. Я уверила их, что со мной все в порядке, но это не так, я, конечно, больна. Когда я расстраиваюсь, сердце у меня бешено колотится, и мне приходится принимать лекарства. В любой момент оно может остановиться, и я отдам концы. Но пока этого не случилось, мне приятнее и легче жить, делая вид, что ничего плохого со мной не случится. И вы с Антонией не должны обо мне беспокоиться, если я останусь в доме одна. Ко мне приходит моя любимая миссис Плэкетт. Но если честно, то я буду очень скучать без вас. Вместе нам было так хорошо. И вы составили мне такую приятную компанию, что лучшего и желать нельзя. Я безмерно вам благодарна, что вы согласились поехать со мной в это долгожданное для меня путешествие.
Данус покачал головой и смущенно улыбнулся:
— Наверное, я так никогда и не узнаю, почему вы хорошо ко мне относитесь.
— О, это очень просто. Могу объяснить. Я с первого взгляда прониклась к тебе симпатией, потому что ты очень похож на одного человека, которого я знала во время войны. Так странно… я как будто сразу узнала тебя. Дорис Пенберт тоже заметила это сходство, когда вы приехали за мной на машине. Этого человека помним только мы трое: Эрни, Дорис и я. Его звали Ричард Лоумакс. Он погиб в первый день высадки союзных войск в Нормандии в июле сорок четвертого. Если я скажу, что он был единственной моей любовью, слова мои покажутся тебе избитыми и банальными, но это было именно так. Когда я узнала о его гибели, что-то во мне умерло. Больше я не любила никого и никогда.
— А как же ваш муж?
Пенелопа вздохнула, пожала плечами.
— Видишь ли, наш брак был неудачным. Если бы Ричард не погиб на войне, я бы забрала с собой Нэнси и ушла к нему. А так мне не оставалось ничего другого, как вернуться к Амброзу. К тому же я чувствовала перед ним вину. Когда мы поженились, я была молода и эгоистична, и нам пришлось сразу после свадьбы долго жить порознь. Так что у нашего брака не было почти никаких шансов уцелеть. И мне казалось, что я просто обязана была попробовать создать для Амброза семью. Кроме того, он был отец Нэнси. А я хотела иметь еще детей. Прошло время, и я наконец поняла, что больше не полюблю никогда. Что второго Ричарда не будет. И я решила довольствоваться тем, что есть. Надо признаться, наша семейная жизнь с Амброзом все время не клеилась, но у меня уже была Нэнси, а потом родились Оливия и Ноэль. Маленькие дети, хотя и доставляют массу хлопот, часто бывают большим утешением и радостью.
— А детям вы о нем рассказывали?
— Нет, никогда. Даже имени его не произносила. Я не говорила о нем сорок лет, пока не встретилась здесь с Дорис; она вспоминала о нем так, словно он вышел на минутку из комнаты. Мне было так приятно. И уже не больно. Я столько лет носила в сердце грусть. И одиночество, от которого нет лекарства. Но с годами я примирилась с этой потерей. Научилась таить свои чувства, довольствоваться тем, что есть: занималась цветами, радовалась детям, любовалась картинами и слушала музыку. Тихие житейские радости, они давали мне силы. Удивительно, как они помогают нам жить.
— Вам будет грустно без этой картины.
Его чуткость тронула ее.
— Нет, Данус, вряд ли. Картина осталась в прошлом, как и Ричард. Наверное, я уже никогда больше не произнесу его имя. А то, что я тебе сейчас рассказала, ты сохранишь в тайне. Навсегда.
— Обещаю.
— Вот и хорошо. Теперь, когда мы обо всем переговорили, пора уходить. Антония, поди, уже волнуется, думает, куда это мы запропастились. — Данус встал и подал ей руку. Поднявшись, она почувствовала, как болят ноги. — Устала. Пожалуй, я не заберусь на гору пешком. Давай попросим этого длинноволосого юношу вызвать для нас такси. Оставим здесь «Собирателей ракушек» и мои воспоминания о прошлом. Пусть они навсегда останутся в этой прелестной маленькой галерее, где все и началось. Это самое подходящее для них место.
14. Пенелопа
Одетый в великолепную темно-зеленую униформу портье гостиницы захлопнул дверцу и пожелал им доброго пути. За руль села Антония. Старенький «вольво» двинулся в путь по извилистой подъездной аллее, обсаженной кустами гортензий, и выехал на дорогу. Пенелопа даже не оглянулась.
День для отъезда был самый подходящий. Солнечная погода, державшаяся несколько дней подряд, судя по всему, должна была измениться. Ночью ветер принес с моря туман, и все вокруг было пропитано влагой; туман было рассеялся, но потом снова стал расползаться, как дым. Только однажды при самом въезде на автостраду он вдруг исчез, и с небес хлынул рассеянный солнечный свет, озарив вдруг открывшееся устье реки. Был отлив. Покрытое илом обнажившееся морское дно, казалось, было безжизненным, если бы не вездесущие морские птицы, выискивающие всякую падаль. Вдали виднелись белые гребни океанских волн, разбивающихся о нанесенный песком перекат. Затем новая дорога круто устремилась вверх, и город остался позади.
Итак, расставание, прощание уже в прошлом. Пенелопа уселась поудобнее и приготовилась к долгой дороге. Вспомнив о доме, она вдруг поняла, что очень соскучилась. Она предвкушала свое возвращение, с удовольствием думая о том, как войдет в дом, осмотрит сад, распакует чемоданы, откроет окна, прочтет накопившиеся письма…
Сидевшая рядом Антония спросила:
— Ну как настроение? Все в порядке?
— Ты что же, думала, я буду плакать?
— Нет. Но расставаться с местом, к которому очень привязан, всегда больно. Вы ведь так давно там не были. И снова разлука.
— Мне повезло. Сердце мое привязано к двум местам сразу, так что, в каком бы из них я ни была, мне всегда хорошо.
— На будущий год вам нужно приехать сюда снова. Остановитесь у Дорис и Эрни. И стало быть, у вас будет о чем мечтать весь год. Космо всегда говорил, что жизнь чего-то стоит только тогда, когда есть о чем мечтать, к чему стремиться.
— Славный человек, он был абсолютно прав. — Пенелопа задумалась. — Боюсь, что в данный момент будущее представляется тебе тоскливым и одиноким.
— Да, но только в данный момент.
— Знаешь, Антония, лучше всего реально смотреть на вещи. Если ты внутренне подготовишься к дурным вестям от Дануса, то хорошие покажутся тебе подарком судьбы.
— Знаю. И у меня нет никаких иллюзий относительно Дануса. Я понимаю, что его лечение может длиться долго, и для него это ужасно. Но мне, исходя из моих эгоистических интересов, стало гораздо легче и проще оттого, что я знаю о его болезни. Ведь мы и в самом деле любим друг друга, все остальное не так и важно… А самое главное, это придает мне силы.
— Ты очень смелая девочка. Разумная и смелая. Я вовсе не хочу сказать, что этого от тебя не ожидала. Нет. Я просто очень горжусь тобой.
— Не такая уж я и смелая. Ничего не страшно, когда знаешь, что можешь что-то сделать. В понедельник, когда мы возвращались из Манаккана и всю дорогу не проронили ни слова, когда чувствовали, что творится что-то неладное, и не знали, что именно… это было самое худшее. Мне казалось, я ему надоела и он жалеет, что взял меня с собой вместо того, чтобы ехать одному. Вот тогда я чувствовала себя просто ужасно. Все-таки самое страшное в жизни — это непонимание, недоразумение. Я сделаю все, чтобы избежать подобной ситуации в будущем. И уверена, между мной и Данусом такого не случится никогда.
— В этом есть и его вина. Но мне кажется, что болезненная скрытность была заложена в нем еще до рождения; получена от родителей и закреплена воспитанием.
— Он рассказывал мне: больше всего ему нравится в вас то, что с вами можно обсуждать все, что угодно. И что вы умеете выслушать. Он говорил, что в детстве никогда толком и не разговаривал с родителями, никогда не был с ними близок. Грустно, правда? Не сомневаюсь, они его обожали, но так и не сумели об этом сказать.
— Антония, если Данусу придется остаться в Эдинбурге и пройти курс лечения или даже лечь на какое-то время в больницу, что ты собираешься делать? Ты задумывалась об этом?
— Да. Если вы разрешите, я поживу у вас недельку-другую. К тому времени мы уже будем знать, в какую сторону развиваются события. И если выяснится, что лечение займет много времени, я позвоню Оливии и приму ее предложение. Я вовсе не хочу работать фотомоделью. Мне такая работа совсем не нравится, но если я смогу заработать хорошие деньги, то скоплю приличную сумму, а когда Данус выздоровеет, у нас будет с чего начать. И это станет для меня хорошим стимулом в работе. Я уже не буду думать, что трачу время попусту.
Теперь они продвигались по главной автомагистрали графства, удаляясь от берега. Туман истаял и отступил к морю. На высоких местах солнечный свет изливался на поля, фермы, пустоши, а старые локомотивные депо заброшенных оловянных шахт поднимались к безоблачному весеннему небу неровным, изломанным силуэтом, напоминая острые зубы.
Пенелопа вздохнула, сказав:
— Странно.
— Что странно?
— Сначала меня занимала моя жизнь. Потом жизнь Оливии. Затем появился Космо. Вслед за ним ты. И вот мы уже обсуждаем твое будущее. Странная последовательность.
— Вы правы. — Антония помедлила и заговорила снова: — В утешение вам я могу сказать только одно: не думайте, что Данус вообще больной. Что он импотент или что-то в этом роде.
Смысл этого заявления дошел до Пенелопы не сразу. Она повернула голову и увидела прелестный профиль Антонии, которая сосредоточенно смотрела на дорогу, но на щеках ее выступил легкий румянец.
Пенелопа снова отвернулась и стала смотреть в окно, незаметно улыбнувшись.
— Я рада, — сказала она.
Часы на церкви в Темпл-Пудли пробили пять, когда машина въехала в ворота дома и остановилась. Входная дверь была открыта, а над трубой вился легкий дымок. Миссис Плэкетт поджидала их в доме. На плите уже пел чайник, а на столе стояла стопка блинчиков. Более радушной встречи и желать было нельзя.
Миссис Плэкетт тараторила без умолку, расспрашивая их о впечатлениях и одновременно выкладывая местные новости.
— Ну-ка, дайте на вас поглядеть. Подумать только, как загорели! Да у вас там, должно быть, тоже была прекрасная погода. Мистеру Плэкетту пришлось поливать овощи, такая у нас стояла теплынь. Спасибо за открытку, Антония. А гостиница на ней с развевающимися флагами — это та, где вы жили? По-моему, она похожа на дворец. А у нас какие-то варвары на кладбище перебили все вазы с цветами и краской написали на могильных плитах непотребные слова. Я тут кое-что купила для вас: хлеб, масло, молоко и парочку отбивных на ужин. Ну, как вы доехали?
Наконец у них появилась возможность сказать ей, что доехали они хорошо, движение не слишком большое и всю дорогу они мечтали о чашке чаю.
Только теперь до миссис Плэкетт наконец дошло, что уезжали в Корнуолл три человека, а вернулись только двое.
— А где Данус? Вы высадили его в Соукомбе, да?
— Нет, мы ехали без него. Ему пришлось уехать в Шотландию. Вчера он отбыл туда поездом.
— В Шотландию? Немного неожиданно.
— Да. Увы, ничего не поделаешь. Но мы провели все вместе пять незабываемых дней.
— О, это самое главное. Повидались вы со своей подругой?
— Дорис? Да, конечно. Уж поверьте, миссис Плэкетт, наговорились вволю. — Миссис Плэкетт заварила чай. Пенелопа села к столу и взяла блинчик. — Какая вы душечка, так радушно нас встречаете.
— Я сказала Линде, что мне непременно надо пойти сюда. Проветрить дом. Срезать цветов. Уж я знаю, как вы любите, когда в доме цветы. Да, совсем забыла вам сказать еще одну новость. Малыш Линды, Даррен, пошел. Расхаживает по кухне один. — Она налила чай. — У него в понедельник день рождения. Я обещала Линде помочь. Вы уж не взыщите, если я приду во вторник вместо понедельника. Я вымыла окна, а письма положила вам на письменный стол. — Она отодвинула стул и села, положив свои крупные умелые руки перед собой. — Их много накопилось на коврике за дверью, пока вас не было…
Наконец она уехала на своем огромном велосипеде домой поить чаем мистера Плэкетта. Пока Пенелопа болтала с миссис Плэкетт, Антония вытащила вещи из машины и отнесла чемоданы наверх. Она, по-видимому, распаковывала их, потому что вниз не спустилась. И после ухода миссис Плэкетт Пенелопа занялась тем, о чем мечтала, едва переступив порог. Сначала теплица. Она наполнила лейку и полила цветы в горшках. Затем взяла садовые ножницы и вышла в сад. Траву уже пора подстричь, а вот и ирисы уже вылезли наружу, а в дальнем конце сада — буйство красных и желтых тюльпанов. Уже распустились первые рододендроны; она сорвала один цветок и, любуясь красотой бледно-розовых лепестков, окруженных розеткой жестких темно-зеленых листьев, пришла к выводу, что человеку никогда не удалось бы создать такое удачное сочетание. Потом, все еще держа цветок в руке, она пошла туда, где, все в цвету, стояли фруктовые деревья, а затем спустилась к реке. Течение было спокойным, и над водой склонились ивы. Кое-где уже распустились первоцветы и розовато-лиловые мальвы; неожиданно, к немалой радости Пенелопы, из зарослей тростника появилась кряква и поплыла по течению в сопровождении дюжины пушистых утят. Пенелопа дошла до деревянного мостика, а потом, довольная, медленно направилась назад к дому. Проходя через травяной газон, она услышала голос Антонии, доносившийся сверху из окна спальни.
— Пенелопа! — Пенелопа остановилась и подняла глаза. Из-за зарослей жимолости она увидела лицо и плечи Антонии. — Уже седьмой час. Можно я позвоню Данусу? Я обещала сказать ему, как мы доехали.
— Конечно. Позвони из моей спальни. И передай ему от меня привет.
— Непременно.
В кухне Пенелопа нашла глянцевую вазочку и, налив воды, поставила в нее цветок рододендрона. Она отнесла ее в гостиную, где было уже много цветов, расставленных заботливой, но не очень искушенной в оранжировке миссис Плэкетт. Пенелопа поставила вазочку на письменный стол, взяла письма и удобно устроилась в кресле. Скучные серые конверты, вероятно со счетами, она бросила на пол. А вот и другие… Она стала их перебирать. Ее внимание привлек толстый белый конверт. Она узнала замысловатый почерк Роз Пилкингтон и большим пальцем вскрыла конверт, но тут услышала, как въехал в ворота автомобиль и остановился у входной двери.
Она продолжала сидеть в кресле. Незнакомый человек позвонит, а друг просто войдет в дом. Приехавший именно так и сделал.
Он прошел через кухню, вошел в прихожую. Дверь в гостиную отворилась, и Пенелопа увидела своего сына Ноэля.
Удивлению ее не было границ:
— Ноэль!
— Привет.
На нем были бежевые твидовые брюки, бледно-голубой свитер, а на шее платок в красный горошек. Его загорелое лицо показалось ей удивительно красивым. Письмо Роз Пилкингтон было забыто.
— Откуда ты?
— Из Уэльса. — Он закрыл за собой дверь. Пенелопа подняла к нему лицо, ожидая привычного поцелуя, но он не наклонился и не поцеловал ее, а встал, не без некоторого изящества, перед камином, облокотившись о каминную полку и засунув руки в карманы. Над его головой, где еще недавно висели «Собиратели ракушек», зияло пустое место. — Я ездил туда на пасхальные выходные. Теперь возвращаюсь в Лондон. Вот, решил заскочить к тебе.
— Пасхальные выходные? Но сегодня уже среда.
— Выходные немножко растянулись.
— Тебе повезло. Хорошо провел время?
— Очень хорошо. А как твоя поездка в Корнуолл?
— Это было великолепно. Мы приехали сегодня около пяти. Я еще не успела распаковать вещи.
— А где твои попутчики? — В его голосе зазвучали саркастические нотки. Она строго взглянула на него, но он отвел взгляд, не желая встречаться с ней глазами.
— Данус в Шотландии. Он уехал вчера поездом. Антония наверху в моей спальне звонит ему по телефону, чтобы сказать, что мы доехали благополучно.
Ноэль удивленно поднял брови:
— Из того, что ты сказала, трудно понять, что произошло. Его возвращение в Шотландию как будто бы говорит о том, что, пока вы жили в «Золотых песках», отношения между вами стали натянутыми. И тем не менее Антония говорит с ним по телефону. Объясни, пожалуйста.
— Объяснять тут нечего. У Дануса была назначена в Эдинбурге важная встреча, и он не мог ее отменить. Вот и все. — На лице Ноэля было написано, что он не верит ни единому ее слову. Она решила переменить тему разговора. — Ты поужинаешь с нами?
— Нет, мне нужно возвращаться в Лондон. — Но Ноэль не двинулся с места.
— Тогда, может, что-нибудь выпьешь?
— Да нет, не хочется.
Пенелопа подумала: «Я не позволю ему себя шантажировать», а вслух сказала:
— Зато мне хочется виски с содовой. Будь другом, налей и принеси мне, пожалуйста.
Он постоял в нерешительности, потом направился в столовую. Слыша, как он открывает шкафы и гремит стаканами, она сложила стопкой письма, лежавшие у нее на коленях, и аккуратно положила их на стол рядом с собой. Увидев возвращавшегося Ноэля с двумя стаканами в руках, Пенелопа поняла, что он передумал и тоже решил выпить. Он протянул ей один из стаканов и встал на прежнее место, сказав:
— А что «Собиратели ракушек»?
Так вот зачем он приехал. Она улыбнулась:
— Тебе Оливия сказала о картине или Нэнси?
— Нэнси.
— Нэнси была очень возмущена моим поступком. Она восприняла его как личное оскорбление. Ты тоже придерживаешься такого мнения? И приехал, чтобы сказать мне об этом?
— Нет. Я просто хочу знать, что тебя на это подвигло?
— Картину подарил мне отец. Передав ее в галерею, я как бы вернула картину ему.
— Ты представляешь, сколько она стоит?
— Я хорошо представляю, какую ценность она имеет для меня. Что касается ее оценки в денежном выражении, то она ведь никогда нигде не выставлялась и, стало быть, трудно сказать, сколько она стоит.
— Я звонил своему другу Эдвину Манди и рассказал ему, что ты подарила ее галерее. Конечно, он никогда не видел этого полотна, но имеет четкое представление о том, какую за него могли дать цену на аукционе. Знаешь, во сколько он ее оценил?
— Не знаю и знать не хочу.
Ноэль открыл было рот, чтобы назвать сумму, но, увидев в глазах Пенелопы грозное предостережение, снова закрыл его и ничего не сказал.
— Ты злишься, — сказала она, — так как неизвестно почему вы с Нэнси решили, будто я подарила галерее то, что по праву принадлежит вам обоим. Но это не так. Вам картина не принадлежала никогда. Что касается панно, то ты должен быть доволен. Я последовала твоему совету. Ведь именно ты настаивал, чтобы я их продала, и именно ты предложил мне обратиться в фирму «Бутби» к мистеру Рою Брукнеру. Он нашел мне частного покупателя, а тот предложил за них сто тысяч фунтов. Я согласилась. Деньги, которые я получила, присовокуплены к моей собственности, которая останется вам после моей смерти. Это все, что ты хотел знать, или есть что-нибудь еще?
— Ты должна была поговорить со мной, ведь я как-никак твой сын.
— Мы уже говорили об этом, и не раз. И каждый наш разговор на эту тему заканчивался либо ничем, либо ссорой. Я знаю, Ноэль, что ты хочешь. Тебе нужны деньги прямо сейчас. Чтобы они были у тебя в руках и ты мог бросать их на ветер. Тратить, как тебе заблагорассудится, например на осуществление какой-нибудь безумной идеи, которая, скорее всего, потерпит крах. У тебя хорошая работа, но ты хочешь найти место еще лучше. Стать брокером на товарной бирже. А когда новое дело тебе надоест и при этом ты спустишь все деньги до копейки, возникнет еще одна безумная идея — сделать кучу денег из ничего. Счастье приходит, когда умеешь извлечь максимум из того, что у тебя есть, а богатство — когда умеешь извлечь максимум из того, что получаешь. Судьба дала тебе многое. Почему ты не можешь этого понять? Почему ты всегда хочешь большего?
— Ты так говоришь, будто я думаю только о себе. Вовсе нет. Я забочусь и о сестрах, и о твоих внуках. Сто тысяч, на первый взгляд, — огромная сумма, но ведь с нее придется уплатить налог, а если ты будешь швырять деньги на ветер, тратя их на совершенно чужих людей, которые тебе приглянулись…
— Ноэль, перестань говорить со мной, как с выжившей из ума старухой. Я еще в своем уме. И запомни: я сама буду выбирать себе друзей и сама буду решать, что мне делать. Совершив поездку в Порткеррис, остановившись в «Золотых песках» и взяв с собой для компании Дануса и Антонию, я в первый раз в жизни, — заметь, в самый первый, — позволила себе быть щедрой и расточительной и получила от этого огромное удовольствие. Впервые я могла давать, не думая о последствиях. И это ощущение огромной радости я не забуду никогда, тем более что все было принято с большой благодарностью и величайшим тактом.
— Так это все, что тебе нужно? Бесконечная благодарность?
— Нет. Постарайся меня понять. Если я недоверчиво отношусь к тебе, твоим нуждам и планам, то только потому, что все это уже было с твоим отцом, и переживать все заново не хочу.
— Ты же не станешь винить меня в недостатках отца?
— Конечно нет. Ты был совсем маленьким, когда он ушел. Но ты многое от него унаследовал. Много хорошего: красивую внешность, обаяние, несомненные способности. Но и плохое тоже — грандиозные замыслы, склонность к расточительству и полное неуважение к чужому имуществу. Извини. Мне неприятно все это тебе говорить. Но, наверное, пришло время нам с тобой объясниться начистоту.
— Не думал, что вызываю у тебя такую неприязнь, — сказал он.
— Ноэль, ты мой сын. Неужели ты не понимаешь, что если бы я, несмотря ни на что, тебя не любила, то стала говорить тебе все это?
— Ты очень странно выражаешь свою любовь. Посторонним людям отдаешь все, а своим детям ничего.
— Ты говоришь то же самое, что и Нэнси. Она сказала, что я ничего ей не дала. Ну как мне вам втолковать? Ты, и Нэнси, и Оливия, — вы были моей жизнью. Много лет я жила только ради вас. А теперь, слыша от вас подобные слова, я прихожу в отчаяние. Мне кажется, что каким-то образом я потерпела крах, не оправдала ваших ожиданий.
— Я думаю, так оно и есть, — медленно проговорил Ноэль.
После этого продолжать разговор уже не имело смысла. Он допил виски, повернулся и поставил стакан на каминную полку. Пенелопа поняла, что он собирается уходить, но видеть, как он уходит с обидой в душе, унося с собой горечь от их размолвки, было для нее невыносимо.
— Оставайся с нами ужинать. У нас уже все готово. К одиннадцати ты будешь в Лондоне.
— Нет, мне нужно ехать. — Он направился к двери.
Пенелопа встала и пошла за ним через кухню на улицу. Не глядя на нее, избегая ее взгляда, он сел в машину, хлопнул дверцей, пристегнул ремень и включил мотор.
— Ноэль. — Он посмотрел на мать, и на его красивом лице она не увидела ни улыбки, ни понимания, ни любви. — Извини, — сказала она. Он слегка кивнул, как бы принимая извинения. Она попыталась улыбнуться. — Приезжай. — Но машина уже тронулась с места, и ее слова заглушил шум сверхмощного мотора.
Когда он исчез из виду, Пенелопа вернулась в дом. Остановилась в кухне у стола и стала думать об ужине, но никак не могла сообразить, что хотела приготовить. Огромным усилием воли она собралась с мыслями и направилась в кладовку за картошкой. Принесла корзину к мойке, открыла кран и стала смотреть, как бежит вода. Подумала о слезах, но желания плакать не было.
Некоторое время она стояла неподвижно, погруженная в свои мысли. Но тут в кухне раздался громкий телефонный звонок. Она вздрогнула и вернулась к реальной действительности. Выдвинула ящик, вынула из него небольшой острый нож. Когда в кухню влетела Антония, Пенелопа уже спокойно чистила картошку.
— Извините, что мы так долго разговаривали, Данус сказал, что он непременно оплатит телефонный разговор. Счет, вероятно, будет на несколько фунтов.
Антония сидела на столе, болтая ногами. Она улыбалась и удовлетворенно жмурилась, как маленькая кошечка.
— Он велел передать вам сердечный привет и сказал, что напишет вам длинное письмо, и не какое-нибудь пресное, а такое, что пальчики оближешь. Он идет на прием к врачу завтра утром и, как только узнает свой приговор, тут же позвонит нам. У него прекрасное настроение, и он совсем не боится. Говорит, что даже в Эдинбурге светит солнце. Я уверена, это добрый знак, а вы как думаете? Вселяет надежду. Если бы шел дождь, наверное, настроение у него было бы не таким радостным. По-моему, я слышала голоса. Кто-нибудь приходил?
— Да. Приезжал Ноэль. Он заехал по дороге из Уэльса, где гостил у друзей. У него, по его словам, был очень длинный уик-энд. — Все в порядке, голос ее звучит ровно и спокойно, именно так, как нужно. — Я приглашала его остаться с нами поужинать, но он спешил поскорее вернуться в Лондон. Так что Ноэль выпил стаканчик виски и уехал.
— Жаль, что я его не застала. Но мне надо было так много рассказать Данусу. Я говорила без умолку. Хотите, я почищу картошку? Может быть, сходить за капустой? Или накрыть на стол? Как это хорошо — вернуться домой! Это, конечно, не мой дом, но я почему-то чувствую себя здесь как дома и очень рада, что мы вернулись. Вы ведь тоже рады? Вы ни о чем не жалеете?
— Нет, — сказала Пенелопа, — ни о чем.
На следующее утро она позвонила в Лондон и назначила две встречи. Одну из них — с Лалой Фридман.
Данус должен был явиться на прием к десяти часам, и накануне вечером они решили, что он позвонит не раньше половины двенадцатого. Но звонок раздался около одиннадцати, и трубку взяла Пенелопа, потому что Антония развешивала выстиранное белье в саду.
— «Подмор Тэтч». Слушаю вас.
— Это я, Данус.
— Данус! О господи, Данус, Антония сейчас в саду. Какие новости? Рассказывай быстрее. Что сказал доктор?
— Новостей пока никаких.
Пенелопа немного огорчилась, и настроение ее упало.
— Ты разве не был у доктора?
— Был. Я был и в больнице и сделал ЭКГ, но вы просто не поверите… у них сломался компьютер, и они не могли сообщить мне результаты.
— Я в самом деле не могу поверить. Какая досада! И сколько тебе еще ждать?
— Не знаю. Они не сказали.
— И что ты намерен делать?
— Вы помните, я рассказывал вам о моем друге, Родди Маккрее? Вчера вечером мы встретились с ним в баре, и он сказал, что завтра утром уезжает на рыбалку в Сатерленд примерно на неделю. Он зовет меня с собой, и я решил принять приглашение. Если уж нужно ждать результатов дня два-три, то с таким же успехом я могу подождать и неделю. Во всяком случае, мне не надо будет маяться дома, кусая ногти и действуя на нервы маме.
— А когда ты вернешься в Эдинбург?
— Вероятно, в четверг.
— А мама не может тебе туда позвонить и сообщить результат?
— Нет, это очень далеко, настоящий медвежий угол. А вообще-то, сказать по правде, я уже столько лет живу в подвешенном состоянии, что мне ничего не стоит подождать еще семь дней.
— В таком случае поезжай. Мы все время будем тебя вспоминать и молиться за тебя, а ты обещай позвонить нам, как только вернешься.
— Обязательно. Антония от вас далеко?..
— Сейчас я схожу за ней. Подожди.
Пенелопа оставила трубку висеть на шнуре и пошла через теплицу. Антония неспешно шла по траве, держа у бедра пустую корзину из-под белья. На ней были розовая рубашка и темно-синяя хлопчатобумажная юбка, которую трепал ветер.
— Антония! Иди скорей, Данус…
— Уже позвонил? — Щеки ее зарделись. — Что он сказал? Как у него дела?
— Пока ничего нового, потому что сломался компьютер, хотя пусть он тебе сам все расскажет. Беги к телефону. Он ждет… оставь корзину, я ее принесу сама.
Антония сунула ей корзину и побежала в дом. Пенелопа отнесла корзину на садовую скамью под окном гостиной. Жизнь и в самом деле жестоко обходится с нами, подкидывает не одно, так другое. Наверное, при сложившихся обстоятельствах это хорошо, что Данус уедет с другом на рыбалку. В таких передрягах общество старого друга бывает как нельзя кстати. Она представила себе двух юношей в краю необозримых вересковых пустошей и поднимающихся ввысь гор, холодного Северного моря и глубоких быстрых рек с коричневой водой. Они будут вместе ловить рыбу. Да, пожалуй, Данус принял правильное решение. Говорят, рыбная ловля благотворно влияет на человека.
Уголком глаза она вдруг уловила движение и увидела, как Антония вышла из теплицы и идет к ней через лужайку. Вид у нее был удрученный, она, как ребенок, слегка загребала ногами. Тяжело опустившись рядом с Пенелопой, она сказала:
— Дьявольское невезение.
— Знаю. Тебе сейчас очень тяжело. И не только тебе.
— Проклятый компьютер. Ну почему они ломаются? И почему это случилось именно перед приходом Дануса?
— Да, ужасное невезение. Но делать нечего. Главное сейчас — не падать духом.
— Да, ему хорошо! Он уезжает на рыбалку на целую неделю.
Пенелопа невольно улыбнулась:
— Ты сейчас рассуждаешь, как жена, на которую муж не обращает внимания.
— Правда? — смутилась Антония. — Это, конечно, нехорошо с моей стороны. Но ждать еще целую неделю — это так долго, целая вечность.
— Но ведь это хорошо, что ему не придется слоняться без дела в ожидании телефонного звонка. Так можно совсем пасть духом. И надо радоваться, что он будет занят интересным делом, это его отвлечет. Не сердись на него. Неделя пробежит быстро, а мы с тобой тоже займемся чем-нибудь приятным. В понедельник я еду в Лондон. Хочешь поехать со мной?
— В Лондон? Зачем?
— Хочу повидать старых друзей. Я очень давно у них не была. Если ты решишь составить мне компанию, мы поедем на машине. Если же предпочитаешь остаться здесь, довезешь меня до Челтнема, и я поеду на поезде.
Антония задумалась. Потом сказала:
— Пожалуй, я останусь дома. Возможно, мне скоро придется вернуться в Лондон, и я хочу провести лишний день на природе. К тому же в понедельник миссис Плэкетт не придет из-за дня рождения Даррена, так что я лучше уберусь в доме и приготовлю к вашему приезду вкусный обед. А кроме того, — она улыбнулась и снова стала самой собой, — всегда есть маленькая надежда, что Данус окажется вблизи телефона и соберется мне позвонить. И если меня не окажется дома, я этого не переживу.
Итак, Пенелопа отправилась в Лондон в одиночестве. Антония, как и было задумано, отвезла ее на машине до станции и посадила в поезд, уходивший в 9.15. По приезде в Лондон Пенелопа побывала в Королевской Академии и пообедала с Лалой Фридман. Потом села в такси и поехала на улицу Грейз-Инн-роуд, где находилась юридическая контора «Эндерби, Лусби и Тринг». Она назвала свое имя девушке, сидевшей за столом в приемной, и та провела ее наверх по узенькой лестнице в кабинет мистера Эндерби.
— Мистер Эндерби, к вам миссис Килинг.
Она отступила, пропустив Пенелопу в кабинет. Мистер Эндерби встал и вышел из-за стола, чтобы с ней поздороваться.
В былые дни, когда с деньгами было туго, Пенелопа добиралась от Грейз-Инн-роуд до Паддингтонского вокзала на автобусе или на метро. Вот и теперь она мысленно настроилась сделать то же самое, но, выйдя из конторы на улицу, вдруг вспомнила, что ехать на вокзал в общественном транспорте нет необходимости. Увидев свободное такси, она сделала шаг вперед и помахала рукой.
Она откинулась на сиденье, радуясь, что сейчас одна и может спокойно предаваться своим мыслям, вспоминая подробности разговора с мистером Эндерби. Они многое обсудили, пришли к определенным решениям и даже воплотили их в жизнь. Они успели завершить все дела, ничего не оставили на потом. Однако, сделав все, что было намечено, Пенелопа почувствовала страшную усталость и опустошенность, как будто из нее ушли все силы, и умственные, и физические. Голова раскалывалась. Ногам вдруг стало тесно в туфлях. К тому же ей казалось, что она потная и грязная, ибо день был жаркий, хотя хмурый и облачный, и очень душный. Глядя в окно такси, пока они стояли на перекрестке, ожидая, когда загорится зеленый свет, Пенелопа вдруг ощутила тоску и подавленность. Все, что она видела вокруг, угнетало ее. Огромный город, миллионы людей, заполонивших улицы и спешивших во всех направлениях с угрюмыми, озабоченными лицами, как будто все они боялись опоздать на необычайно важные свидания… Когда-то она тоже жила в Лондоне. Она прожила здесь всю жизнь, вырастила детей. И теперь не могла представить себе, как выдерживала эту суету в течение стольких лет.
Ей хотелось успеть на четырехчасовой поезд, но на Мэрилебоун-роуд выстроились бесконечные вереницы машин, и, когда они миновали Музей мадам Тюссо, она уже точно знала, что на четырехчасовой ей не успеть, и примирилась с тем, что поедет следующим. Она вручила водителю огромную, на ее взгляд, сумму и посмотрела расписание, а затем нашла телефонную будку и позвонила Антонии, сообщив, что приедет в Челтнем без четверти восемь. Потом купила какой-то журнал, пошла в зал ожидания, заказала чай и стала ждать поезда.
В переполненном вагоне было жарко и неудобно, и ей казалось, что эта поездка никогда не кончится; когда она наконец приехала в Челтнем и вышла из вагона, то почувствовала огромное облегчение. Антония ждала ее на платформе. Пенелопа вдруг ощутила необычайное блаженство оттого, что есть человек, который ее встретил, поцеловал и взял на себя дальнейшие заботы о ней, потому что она была совершенно без сил. Они вышли за ограду на площадь; Пенелопа поглядела на чистое вечернее небо, ощутила запах свежей зелени, исходящий от деревьев и травы, и радостно вдохнула полной грудью чистый благоуханный воздух.
— У меня такое чувство, — сказала она Антонии, — что я не была здесь много-много дней.
Усевшись в старенький «вольво», они направились домой.
— Ну как, удачно съездили? — спросила Антония.
— Да, только безумно устала. Мне кажется, что я грязная и измученная, как старая беженка. Я уже забыла, какое столпотворение в Лондоне. Чтобы добраться из одного места в другое, нужно потратить полдня. Именно поэтому я не успела к своему поезду. А следующий был битком набит людьми, возвращавшимися с работы, да еще рядом со мной уселся мужчина с огромным задом. Я такого в жизни не видала.
— Я приготовила на ужин фрикасе из цыпленка, но не знаю, захотите ли вы так поздно ужинать.
— Мне сейчас хочется только одного — принять горячую ванну и лечь в постель…
— Ну, это я вам гарантирую, как только приедем. А когда вы ляжете, я зайду к вам, и мы решим, будете ли вы есть цыпленка. Если да, я принесу вам его в спальню, и вы сможете подкрепиться.
— Какая ты славная девочка, Антония.
— А знаете что? В доме как-то пусто без вас.
— И как прошел день в одиночестве?
— Я подстригла газон. Включила мотор газонокосилки и почувствовала себя заправским садовником.
— Данус не звонил?
— Нет, но он и не должен был.
— Завтра вторник. Пройдет еще два дня, он нам позвонит и все расскажет.
— Ага, — сказала Антония, и они замолчали. Дорога, извиваясь, бежала к окрестностям Котсуолдса.
Ей казалось, она сразу уснет, но сон не шел. Он ускользал от нее. Она то погружалась в дрему, то просыпалась и лежала с открытыми глазами. Ворочалась с боку на бок и снова ненадолго забывалась сном. И в этом беспокойном сне ее преследовали какие-то голоса, слова и обрывки разговоров, не имевшие смысла. Это были Амброз, Долли Килинг, скакавшая по комнате, которую собиралась украсить магнолиями. Потом болтающая без умолку Дорис, то и дело визгливо хихикавшая. Лала Фридман, совсем молодая, она была напугана тем, что ее муж Вилли сходит с ума. «Ты ничего мне не дала. Ты не дала нам ничего. Ты, должно быть, совсем выжила из ума. Они хотят поживиться за твой счет», — стучало у Пенелопы в голове. Антония садилась в поезд и уезжала навсегда. Она пыталась что-то сказать, но Пенелопа ничего не могла расслышать из-за оглушительного паровозного гудка и только видела, как Антония открывает и закрывает рот; ее охватила тревога, ибо, она была уверена, та говорит что-то очень важное. Потом она видела свой часто повторяющийся сон: пустой пляж, и густой туман, и безысходное чувство одиночества, как будто она одна на всем белом свете.
Казалось, ночь никогда не кончится. Время от времени, просыпаясь, Пенелопа зажигала свет и смотрела на часы. Два часа. Половина четвертого. Четверть пятого. Простыня сбилась. И налитые усталостью ноги отказывались отдыхать. Она с тоской ждала рассвета.
Наконец он пришел. Она увидела, как светлеет за окнами, снова задремала, потом открыла глаза. Увидела первые косые лучи солнца, бледное безоблачное небо, услышала, как поют, перекликаясь, птицы. Потом на каштане запел дрозд.
Слава богу, ночь кончилась. В семь, не выспавшаяся и усталая даже больше, чем накануне, Пенелопа медленно встала с постели, нашла тапочки и халат. Она все делала через силу, и даже такие простые вещи, как поиски халата и тапочек, требовали от нее неимоверных усилий и сосредоточенного внимания. Пошла в ванную, умылась и почистила зубы, двигаясь осторожно, чтобы не шуметь и ненароком не разбудить Антонию. Вернувшись к себе в спальню, она оделась, села перед зеркалом, расчесала волосы, уложила их в пучок и заколола шпильками. Отметила темные круги под глазами и бледность. Потом спустилась вниз. Хотела было заварить себе чай, но передумала. Отперев стеклянную дверь, вышла через теплицу в сад. От холодного бодрящего воздуха у нее перехватило дух. Она вздрогнула и закуталась в шерстяную кофту, но в ней тоже было прохладно и свежо; эта свежесть была обжигающей, как когда умываешься талой водой или купаешься в ледяной реке. На свежеподстриженном газоне блестела роса, но первые теплые лучи солнца уже коснулись одного его угла; там уже подсыхало, и трава приобретала другой оттенок зеленого. Как всегда, при виде травы, деревьев, цветочных бордюров у Пенелопы поднялось настроение. Здесь ее святая святых, ее приют, над которым она с удовольствием трудилась не покладая рук пять лет. Она проведет здесь весь сегодняшний день. Ей многое надо сделать.
Она поднялась на взгорок, где стояла старая деревянная скамья. В щелях между выступающими камнями были посажены тимьян и многолетняя аубреция (чуть позже они разрастутся пышными подушками белых и лиловых цветов), но тут же вылезли и сорняки, без них никак не обойтись. На глаза ей попался ярко-рыжий одуванчик. Она наклонилась, чтобы выдернуть его вместе с цепким сильным корнем, но даже это небольшое физическое усилие отняло у нее слишком много сил, ибо, выпрямившись, она ощутила странную легкость в голове, и все вдруг поплыло перед глазами; ей даже показалось, что она вот-вот потеряет сознание. Чтобы не упасть, она невольно ухватилась за спинку и опустилась на скамью. Силясь понять, что с ней происходит, стала ждать, что будет дальше. И вдруг боль, словно электрическим током, обожгла левую руку, опоясала грудь, все туже сжимая стальной обруч. Она не могла даже вздохнуть. Никогда еще она не испытывала такой страшной боли. Пенелопа закрыла глаза и попыталась крикнуть, чтобы отпугнуть боль, но не издала ни звука. Теперь с жизнью ее связывали только эта боль и пальцы правой руки, сжимавшие измятый одуванчик. Почему-то ей было очень важно держаться за него. Она ощущала холодную сырую землю, оставшуюся на его корнях, и сильный острый запах этой земли. Откуда-то издалека, едва слышно, до нее донеслось пение дрозда, а потом мало-помалу и другие звуки, другие запахи. Запах свежескошенной травы, другой, почти забытой лужайки, сбегавшей к урезу воды, где росли дикие нарциссы. Соленый запах приливной волны, заполнявшей речку. Кричащие моевки. Мужские шаги.
Невыразимое блаженство. Она открыла глаза. Боль ушла. Ушло и солнце. Вероятно, за облако. Но это уже не имело значения. Никакого.
Он идет.
— Ричард.
Он уже здесь.
Утром во вторник, 1 мая, в четверть десятого, Оливия в своей небольшой кухне готовила себе на завтрак яйцо и кофе и просматривала почту. Она уже привела в порядок лицо и волосы, но была еще не одета. Среди писем она нашла красочную открытку с видом Ассизи, куда уехал в отпуск один из редакторов, ведущий раздел искусства. Перевернув ее, она стала читать шутливое послание, когда зазвонил телефон. Все еще держа открытку в руке, она пошла в комнату к телефону.
— Оливия Килинг у телефона.
— Мисс Килинг? — Женский голос, провинциальный выговор.
— Да.
— Как хорошо, что я застала вас дома! Я так боялась, что вы уже ушли на работу.
— Я обычно ухожу в половине десятого. Кто это?
— Это миссис Плэкетт… из «Подмор Тэтч».
Миссис Плэкетт. Оливия поставила яркую открытку на каминную полку перед зеркалом, прислонив ее к позолоченной раме с особым тщанием и аккуратностью, как будто это было делом чрезвычайной важности. В горле у нее пересохло.
— Как мама? — с трудом спросила она.
— Мисс Килинг, боюсь, что… в общем, плохие новости. Мне очень жаль. Ваша мама умерла, мисс Килинг. Сегодня утром. Очень рано, когда все еще спали.
Ассизи, под невероятно голубым небом. Она никогда не была в Ассизи. Мама умерла.
— Как это случилось?
— Сердечный приступ. Должно быть, совершенно неожиданно. В саду. Антония нашла ее на скамье. Она полола цветы. В руке у нее был увядший одуванчик. Наверное, она почувствовала что-то неладное и решила посидеть. Лицо у нее было… спокойным, мисс Килинг.
— Она неважно себя чувствовала после поездки?
— Нет, все было в порядке. Она приехала из Корнуолла такая загорелая и довольная. Но вчера на целый день уезжала в Лондон…
— Мама была в Лондоне? Почему же она мне не позвонила?
— Не знаю, мисс Килинг. Я не знаю, зачем она ездила. Она поехала поездом из Челтнема. Антония говорит, что когда она встретила миссис Килинг вечером, та была очень усталой. Как только они приехали, она приняла ванну и легла, а Антония принесла ей легкий ужин в постель. Сдается мне, вчера она сильно переутомилась.
Мама умерла. Случилось то, чего она так боялась, что не могла себе даже представить. Мама ушла навсегда, а Оливия, любившая ее больше всех на свете, не чувствовала ничего, кроме страшного озноба. Ее руки в свободных рукавах халата покрылись мурашками. Мама умерла. Она почувствовала, как подступают слезы, и боль, и ощущение невосполнимой утраты, но не поддалась и была рада этому. «Потом, — сказала она себе, — скорбеть я буду потом. Сейчас отложим скорбь на какое-то время, как пакет, который можно вскрыть в более удобное время». Этой уловке научил ее нелегкий жизненный опыт. Надо закрыть водонепроницаемый отсек, зажать себя в кулак и сосредоточиться на решении самых важных практических дел. Сначала самое главное.
— Расскажите мне, как это было, — сказала она.
— Стало быть, я встала сегодня утром в восемь часов. Обычно по вторникам я к миссис Килинг не прихожу, но вчера у моего внука был день рождения, поэтому я поменяла дни. Я пришла рано, потому что по вторникам еще убираюсь у миссис Китсон, открыла дверь своим ключом и вошла, но никого внизу не было. Я занялась в кухне котлом. Тут спустилась Антония и спросила, не видала ли я миссис Килинг, потому что дверь в ее спальню открыта, а постель пуста. Мы прямо не знали, что и думать. Потом я увидела, что дверь из теплицы в сад открыта, и сказала Антонии: «Она, должно быть, в саду». Антония пошла посмотреть. И тут она стала звать меня, и я побежала. И увидела миссис Килинг на скамье.
Оливия с облегчением и благодарностью поняла, что миссис Плэкетт не раз уже оказывалась свидетельницей таких вот печальных событий. Эта женщина была уже в зрелом возрасте. Ей не раз приходилось сталкиваться со смертью и даже предпринимать какие-то практические шаги, и потому в ее голосе не было страха и паники.
— Перво-наперво мне пришлось успокаивать Антонию. Она была просто потрясена, дрожала и плакала, ну прямо как котенок. Но я обняла ее и приласкала, дала ей чашку чая, и она успокоилась и стала умницей и сейчас вот сидит тут в кухне, со мной рядом. Как только она пришла в себя, я позвонила доктору в Пудли, и он приехал минут через десять. Потом я решила, что поступлю правильно, если позвоню мистеру Плэкетту. Он сейчас работает на электронном заводе в последнюю смену, так что тоже смог приехать сюда, и они с доктором внесли миссис Килинг в дом, а потом положили ее в спальне. Сейчас она там и лежит на кровати, опрятная и спокойная. Вы уж об этом не тревожьтесь.
— А что сказал доктор?
— Он сказал, что это сердечный приступ. Видимо, она умерла сразу. Он подписал свидетельство о смерти и оставил его мне. А потом я сказала Антонии: «Позвони-ка ты миссис Чемберлейн», но она велела сначала позвонить вам. Я бы, может, и раньше вам позвонила, но мне не хотелось, чтобы вы переживали еще и из-за того, что она до сих пор в саду.
— Спасибо за заботу, миссис Плэкетт. Значит, пока больше никому не сообщили?
— Нет, мисс Килинг. Только вам.
— Хорошо. — Оливия посмотрела на часы. — Я сообщу о смерти мамы миссис Чемберлейн и брату тоже. Потом, как только утрясу свои дела, сразу же приеду на машине к вам. Я буду у вас к полудню. Вы еще не уйдете к этому времени?
— Не беспокойтесь, мисс Килинг. Я буду здесь столько, сколько нужно.
— Мне придется остаться в «Подмор Тэтч» на несколько дней. Прошу вас, приготовьте для меня вторую комнату для гостей. И позаботьтесь, пожалуйста, чтобы в доме были продукты. Пусть Антония поедет в Пудли и купит все, что нужно. Если она займется делом, это пойдет ей на пользу. — Тут в голове у нее возник еще вопрос: — А что молодой человек, помогавший в саду, Данус кажется? Он там?
— Нет, мисс Килинг. Он в Шотландии. Он уехал туда прямо из Корнуолла. У него была назначена встреча.
— Жаль. Ну ничего, как-нибудь обойдемся. Передайте привет Антонии.
— Вы, может быть, хотите с ней поговорить?
— Нет, — сказала Оливия. — Не сейчас. Потом.
— Уж вы извините, мисс Килинг, что мне пришлось сообщить вам такую печальную весть.
— Кто-то же должен был сообщить. Спасибо вам, миссис Плэкетт.
Она положила трубку. Взглянула в окно и только сейчас увидела, что на дворе дивный весенний день. Прекрасное майское утро, а мамы уже нет.
Потом, когда все кончилось, Оливия иногда думала: «Что бы я делала без миссис Плэкетт?» У нее был богатый жизненный опыт, но ей еще никого не приходилось хоронить, а выяснилось, что дело это весьма трудоемкое и хлопотное. И первой трудностью, с которой Оливии пришлось столкнуться по приезде в «Подмор Тэтч», стала встреча с Нэнси.
Когда Оливия позвонила ей из Лондона, трубку взял Джордж, и в первый раз в жизни Оливия обрадовалась, услышав печальный голос зятя. Она просто, в нескольких словах, сообщила ему, что произошло, и прибавила, что едет прямо в «Подмор Тэтч». Потом положила трубку, предоставив ему самому сообщить Нэнси печальную весть. Она рассчитывала, что пока все на этом и кончится, но как только ее «альфасад» въехал в ворота, увидела машину Нэнси и поняла, что так легко отделаться от сестры, как хотелось бы, не удастся.
Не успела она выйти из машины, как Нэнси устремилась ей навстречу из открытой двери с распростертыми объятиями, с вытаращенными голубыми глазами и распухшим от слез лицом. Прежде чем Оливия успела хоть что-то предпринять, Нэнси обвила руки вокруг ее шеи, прижалась горячей щекой к прохладной и бледной щеке Оливии и снова разразилась рыданиями.
— Ах, моя дорогая… Я приехала сразу же. Как только Джордж сказал мне, я тут же отправилась в путь. Я должна быть с вами. Я… я просто не могла иначе.
Оливия стояла как каменное изваяние, решив ради приличия потерпеть эти глупые безобразные объятия. Потом осторожно высвободилась, сказав:
— Спасибо тебе, Нэнси. Но, право же, в этом не было нужды…
— Именно это говорил Джордж. Он сказал, что я буду только мешать. — Нэнси нащупала вымокший носовой платок в рукаве шерстяной кофты, высморкалась и попыталась взять себя в руки. — Но я все же не могла остаться дома. Я должна быть здесь. — Она встряхнулась, распрямила плечи. Вид у нее был очень решительный. — Я ни минуты не сомневалась, что мое место здесь. Но поездка была просто кошмаром. Я вся дрожала, пока ехала сюда. Хорошо, что миссис Плэкетт напоила меня чаем. Теперь мне уже лучше.
Перспектива утешать Нэнси, помогая ей демонстрировать свою скорбь в течение еще нескольких часов, совсем не улыбалась Оливии; более того, приводила ее в отчаяние.
— Тебе вовсе не обязательно здесь оставаться, — сказала она сестре, судорожно пытаясь придумать какой-нибудь убедительный довод, чтобы отправить Нэнси обратно. Внезапно ее осенило. — У тебя же дети и Джордж, ты должна о них заботиться. Не можешь же ты бросить их одних. Я — другое дело, у меня никого нет, и потому мне сам бог велел остаться и взять все на себя.
— А как же твоя работа?
Оливия повернулась к машине и взяла с заднего сиденья небольшой чемодан.
— Я обо всем договорилась и выйду на работу только в понедельник утром. Ну ладно, пойдем в дом. Сейчас мы выпьем по стаканчику, и ты поедешь домой. Не знаю, как тебе, а мне так просто необходимо выпить джину с тоником, подкрепить силы.
Она прошла вперед, Нэнси последовала за ней. Знакомая кухня была чисто прибрана, вымыта до блеска; в ней было тепло, но удручающе пусто.
— Что с Ноэлем?
— А что с ним?
— Ты ему сообщила?
— Конечно. Сначала я поговорила с Джорджем, а потом позвонила Ноэлю на работу.
— Наверное, он был потрясен.
— Думаю, да. Но немногословен.
— Он тоже приедет сюда?
— Сейчас нет. Я обещала позвонить ему, если потребуется его помощь.
Нэнси отодвинула стул и уселась за стол, как будто не могла простоять на ногах и двух минут. По-видимому, из-за своего драматического отъезда из дома она не успела причесаться, попудрить нос и надеть блузку, более подходящую к юбке.
Вид у нее был не то чтобы растерянный, а скорее неряшливый, и Оливия почувствовала, как поднимается в ней хорошо знакомое чувство раздражения и досады. Что бы ни произошло, хорошее или плохое, Нэнси из всего умудрялась сделать драму, причем отводила себе главную роль.
— Мама вчера ездила в Лондон, — говорила Нэнси. — И мы даже не знаем зачем. Просто одна села в поезд и уехала на весь день. Миссис Плэкетт говорит, она вернулась усталая и разбитая. — В голосе ее звучала обида, как будто Пенелопа снова оставила ее в дураках. Оливии даже показалось, что Нэнси сейчас прибавит: «Она даже не сказала нам, что собирается умереть». Чтобы переменить тему разговора, Оливия спросила:
— А где Антония?
— Она поехала в Пудли кое-что купить.
— Ты ее видела?
— Нет еще.
— А где миссис Плэкетт?
— Думаю, наверху, готовит для тебя комнату.
— В таком случае я отнесу наверх чемодан и переговорю с ней. А ты посиди здесь. Я сейчас вернусь, мы выпьем по стаканчику, и ты поедешь к Джорджу и детям.
— Но я не могу бросить тебя здесь одну.
— Можешь, — холодно сказала Оливия. — Мы будем общаться по телефону. Я привыкла делать все одна.
В конце концов Нэнси уехала. После ее отъезда Оливия и миссис Плэкетт наконец смогли заняться делом.
— Нам нужен гробовщик, миссис Плэкетт.
— Надо позвонить Джошуа Бедуэю. Лучше его нам никого не найти.
— А где он живет?
— Совсем рядом, в Темпл-Пудли. Вообще-то, он плотник, а гробы делает для приработка. Хороший человек, очень скромный и вежливый. И дело свое знает. — Миссис Плэкетт посмотрела на часы. Было без четверти час. — Он, должно быть, сейчас дома, обедает. Хотите, я ему позвоню?
— Пожалуйста. И попросите его прийти поскорее.
Миссис Плэкетт говорила с гробовщиком без всякой наигранности, не понижая голоса. Очень просто она рассказала, что произошло, и так же просто попросила прийти. Как будто приглашала его починить калитку. Она положила трубку очень довольная собой, как человек, который хорошо сделал свое дело.
— Все в порядке, стало быть, он приедет в три. И я приду вместе с ним. Вам будет легче, если я буду здесь.
— О да, — сказала Оливия. — Намного легче.
Они сели за кухонный стол и составили список предстоящих дел. Оливия налила себе еще стакан джина с тоником, а миссис Плэкетт согласилась выпить рюмочку портвейна. Для нее это истинное наслаждение, сказала она Оливии. Она питает к нему слабость.
— Теперь нам надо поговорить с викарием. Вы ведь, конечно, будете отпевать миссис Килинг в церкви и хоронить по христианскому обычаю, не так ли? Нужно договориться о месте на кладбище, назначить день и час похорон. Хорошо бы поговорить и о псалмах, которые будут петь, и других мелочах. Вы ведь хотите, чтобы пели псалмы? Миссис Килинг очень любила музыку, да оно и хорошо, когда поют псалмы на похоронах.
Обсуждение мелких практических дел было для Оливии хоть каким-то облегчением. Она сняла колпачок с ручки.
— Как зовут викария?
— Его преподобие Томас Тиллингэм. Или просто мистер Тиллингэм. Он живет в доме рядом с церковью. Пожалуй, надо ему позвонить и попросить прийти завтра утром. Хорошо бы угостить его чашечкой кофе.
— Он был знаком с мамой?
— Да, в деревне ее знали все до единого.
— Она не так уж часто ходила в церковь.
— Может быть. Но она всегда старалась помочь, и когда собирали деньги на орган, и когда под Рождество устраивали дешевую распродажу для бедных. И время от времени она приглашала Тиллингэмов на обед. На столе были самые нарядные кружевные салфетки и бутылка самого лучшего кларета.
Это было легко себе представить, и впервые за этот день Оливия улыбнулась:
— Мама очень любила приглашать в дом друзей.
— Она была прекрасной женщиной во всех отношениях. С ней можно было поговорить обо всем на свете. — Миссис Плэкетт сделала небольшой глоточек портвейна, как полагается воспитанным леди. — И еще вот что, мисс Килинг. Вам следует уведомить адвоката миссис Килинг о том, что ее больше нет с нами. Банковские счета и все такое. Это тоже очень важно.
— Я уже думала об этом. — Оливия написала на листке: «Эндерби, Лусби и Тринг». — И потом надо дать объявление в газетах. В «Таймс» и в «Телеграф».
— О цветах тоже не забудьте, это хорошо, когда в церкви цветы. Но вы можете не успеть все сделать сами. Я знаю одну милую девушку в Пудли. У нее маленький грузовичок. Она очень хорошо убрала церковь цветами, когда хоронили свекровь миссис Китсон.
— Ладно, там видно будет. Сначала нам надо решить, когда будут похороны.
— А после похорон… — Миссис Плэкетт замялась. — Многие, может быть, так теперь не делают, но, я считаю, было бы хорошо пригласить всех в дом выпить чашечку чаю с фруктовым пирогом. Это еще зависит от того, в котором часу будут похороны, но, когда друзья и знакомые собираются издалека, — а я не сомневаюсь, что будут и люди, проделавшие далекий путь, — как-то нехорошо, по-моему, не дать им чем-нибудь подкрепиться перед тем, как отправиться в обратную дорогу. Так оно лучше и приятнее для всех. Ведь поговоришь с близкими тебе людьми, и немного утешишься, и не будешь чувствовать себя такой одинокой.
Оливия понятия не имела об этом старомодном провинциальном обычае — собирать в доме тех, кто был на похоронах, — но он показался ей не лишенным здравого смысла.
— Пожалуй, вы правы. Мы что-нибудь придумаем. Но, должна признаться, я плохая кулинарка. Вам придется мне помочь.
— Об этом я позабочусь. Фруктовый пирог у меня получается отменный.
— Ну что ж, кажется, все. — Оливия положила ручку на стол и откинулась на спинку стула. Сидя по обе стороны стола и глядя друг на друга, они помолчали. Потом Оливия сказала: — Миссис Плэкетт, я думаю, вы были моей маме хорошим другом. А теперь я убедилась, что и ко мне отнеслись как к другу.
Миссис Плэкетт смутилась.
— Что вы, мисс Килинг, всякий на моем месте поступил бы точно так же.
— Как Антония?
— По-моему, все обойдется. Конечно, для нее смерть миссис Килинг была страшным потрясением, но она умная девочка. Отличная была идея послать ее за покупками. Я дала ей длиннющий список. Пусть займется делом, это отвлечет ее от грустных мыслей. — С этими словами миссис Плэкетт допила остатки портвейна, поставила рюмку на стол и тяжело поднялась из-за стола. — А теперь, если вы не против, я пойду домой и дам что-нибудь поесть мистеру Плэкетту. Но в три я снова буду у вас вместе с Джошуа Бедуэем. И останусь с вами, пока он не закончит свое дело.
Оливия проводила ее до двери и подождала, пока она не укатила, как всегда, величественно восседая на велосипеде. Стоя в дверях, она вдруг услышала шум приближающегося автомобиля, и минуту спустя «вольво» уже въезжал в ворота. Оливия продолжала стоять на пороге. Несмотря на всю нежность к дочери Космо, всю жалость и сочувствие, она понимала, что не сможет вынести еще одну бурю эмоций, еще одни плаксивые объятия. Единственный способ защититься — надеть броню, спрятаться на какое-то время в панцирь сдержанности. Глядя, как «вольво» остановился, как Антония отстегнула ремень и выбралась из машины, Оливия сложила руки на груди, как бы предостерегая этим жестом против любых проявлений чувств. Глаза их встретились поверх крыши автомобиля, через гравийную дорожку всего несколько футов шириной. Пару мгновений они молчали, потом Антония осторожно захлопнула дверцу машины и пошла Оливии навстречу.
— Ты уже здесь.
Оливия разняла руки и положила их на плечи Антонии.
— Да, здесь.
Она слегка наклонилась, и они поцеловались в щеку, но очень сдержанно, едва коснувшись. Теперь все будет хорошо. Никаких театральных сцен. Оливия ощутила прилив благодарности, но и грусти тоже, потому что всегда грустно видеть, что ребенок, которого ты знал, уже вырос и никогда не будет таким, как прежде.
Ровно в три к дому подъехал небольшой фургон с мистером Бедуэем и миссис Плэкетт. Оливия боялась, что гробовщик будет одет во все черное, с подобающим случаю выражением лица, но он лишь сменил рабочие брюки на приличный костюм и надел черный галстук, а его загорелое лицо сельского жителя говорило, что он не может долго быть мрачным.
Однако в первые минуты выражение его было печальным и соболезнующим. Он сказал Оливии, что всем жителям деревни будет очень не хватать миссис Килинг. За шесть лет она стала желанным членом их небольшой общины.
Оливия поблагодарила его за теплые слова, и по окончании обмена любезностями мистер Бедуэй извлек из кармана записную книжку. Он сказал, что ему хотелось бы знать некоторые подробности, и стал задавать вопросы, записывая ответы. Слушая его, Оливия вдруг поняла, что в своем деле это настоящий профессионал, и очень обрадовалась. Его интересовали участок земли, могильщик и регистратор. Он задавал вопросы, Оливия отвечала. Наконец он закрыл записную книжку, положил ее в карман и сказал: «Вот и все, мисс Килинг. Остальное предоставьте мне и ни о чем не беспокойтесь». Она тут же последовала его совету, позвала Антонию, и они вышли на улицу.
К реке они не пошли, а выйдя за ворота, перешли через дорогу и зашагали по старой верховой тропе, взбиравшейся за деревней на пригорок. Она бежала среди лугов, где паслись овцы и ягнята; на зеленой изгороди из боярышника только-только распускались цветы, а вдоль покрытых мхом канавок радовали глаз первоцветы. На вершине холма была рощица старых берез с узловатыми корнями, торчащими из земли, которые в течение столетий подвергались разрушительному воздействию дождя и ветра. Добравшись до рощицы, уставшие от жары и подъема, они уселись, довольные, что достигли вершины, и залюбовались открывшимся видом.
Перед ними, раскинувшись на многие мили, был еще не испорченный уголок сельской Англии, залитый теплым предвечерним солнечным светом удивительно ясного весеннего дня. Фермы, поля, трактора, дома издалека казались игрушечными. Внизу, у подножия крутого холма, где они расположились, дремала деревушка Темпл-Пудли, живописная кучка золотисто-желтых домиков. Церковь была наполовину скрыта от глаз тисами, а дом Пенелопы, «Подмор Тэтч», и выбеленные стены уютной пивной «Сьюдли Армз» были хорошо видны. Над трубами вились легкие дымки, похожие на длинные серые перья, а в одном из садов жгли прошлогоднюю листву.
Было удивительно тихо. Слышно было лишь блеяние овец да шелест ветерка в кронах берез у них над головой. Но вот высоко в небе самолет, как сонная пчела, тихо стрекоча, проплыл по небосводу, почти не нарушив спокойствия и тишины.
Они молчали. С момента встречи у них не было случая поговорить, потому что Оливия либо звонила сама, либо отвечала на телефонные звонки (два из них, совершенно бессмысленные, были от Нэнси). Теперь она смотрела на Антонию, сидевшую рядышком на поросшей травой кочке в вылинявших джинсах и ярко-розовой хлопчатобумажной рубашке. Рядом с ней лежал свитер, который пришлось снять во время долгого утомительного подъема. Упавшие на лоб волосы закрывали ее лицо. Антония — дочка Космо. Несмотря на загнанное вглубь горе, сердце Оливии сжалось. Девочке только восемнадцать, а сколько уже выпало на ее долю! Оливия понимала, что со смертью Пенелопы ей придется взять заботу об Антонии на себя.
Прервав молчание, она спросила:
— Что ты собираешься делать?
Антония повернула голову и посмотрела на нее:
— Что ты имеешь в виду?
— Я имею в виду, что теперь, когда мама умерла, у тебя нет причин оставаться в ее доме. Тебе придется что-то решать. Думать о будущем.
Антония снова отвернулась, подтянула колени вверх и оперлась о них подбородком.
— Я думала.
— Хочешь поехать в Лондон? Согласишься на мое предложение?
— Да, если еще можно. Мне оно нравится. Но только не сейчас. Немного позже.
— Не понимаю.
— Я думаю, что, может быть… мне бы хотелось немножко пожить здесь… Я хочу сказать… А что будет с домом? Ты его продашь?
— Наверное. Я здесь жить не могу. Ноэль тоже. А Нэнси вряд ли захочет переезжать в Темпл-Пудли. Для нее и Джорджа это место недостаточно престижно.
— Тогда, наверное, будут приходить люди, смотреть дом. Ты сможешь продать его вместе с мебелью гораздо дороже, если в нем будет порядок и если кто-то будет ухаживать за цветами и садом. Я думала, может быть, поживу здесь немного и присмотрю за домом? Буду показывать его покупателям, подстригать газон. А когда дом будет продан, тогда я, скорее всего, приеду в Лондон.
Оливия удивилась:
— Антония, но ты останешься тут совсем одна. Одна во всем доме. Тебе не будет тоскливо и одиноко?
— Нет, не думаю. Это не такой дом. Вряд ли в нем может быть тоскливо и одиноко.
Оливия подумала и пришла к выводу, что идея неплохая.
— Ну что ж, если ты в этом уверена, я думаю, мы все будем очень тебе благодарны. Потому что никто из нас не сможет тут оставаться, а у миссис Плэкетт свои дела. Конечно, еще ничего не решено окончательно, но я думаю, дом будет продан. — Ей в голову вдруг пришла новая мысль. — Кстати, я не поняла, почему ты должна следить за садом. Ведь Данус Мьюирфильд скоро вернется и приступит к своим обязанностям.
— Не знаю, — сказала Антония.
Оливия нахмурилась:
— Я так поняла, что он поехал в Эдинбург ненадолго, просто потому, что у него назначена встреча.
— Да, с врачом.
— Он болен?
— У него эпилепсия. Он эпилептик.
Оливия пришла в ужас:
— Эпилептик? Это ужасно. А мама знала?
— Нет, мы не знали. Он ничего нам не говорил до последнего дня в Корнуолле.
Оливия заинтересовалась. Она никогда не видела этого юношу, и все же то, что узнала о нем от сестры, матери и Антонии, разбудило в ней любопытство.
— Подумать только, какой скрытный. — Антония не сказала на это ни слова. Оливия, подумав, произнесла: — Мама говорила, что он не пьет и не садится за руль, и ты написала в письме то же самое. Наверное, дело было именно в его болезни.
— Да.
— А что произошло в Эдинбурге?
— Он был у доктора, ему сделали сканирование мозга, но компьютер в больнице сломался, и он не смог получить результат. Данус позвонил нам и все это рассказал. Это было в прошлый четверг. А потом он на неделю уехал с приятелем на рыбалку. Он считал, что лучше уехать, чем торчать дома и дергаться.
— А когда он вернется с рыбалки?
— В четверг. Послезавтра.
— К тому времени он уже будет знать результат обследования?
— Да.
— А что будет дальше? Он вернется сюда работать?
— Не знаю. Думаю, это зависит от того, насколько серьезно он болен.
Слушать все это было крайне невесело и безотрадно. Однако если вдуматься, то такой оборот дела вовсе не был для Оливии неожиданностью. Сколько она себя помнила, к маме всегда тянулись какие-нибудь чудаки и неудачники. Она им помогала в меру своих сил, и эта ее душевная щедрость, готовность просто помочь деньгами, выводила Ноэля из себя. Так что он совсем не случайно с первого же взгляда проникся к Данусу Мьюирфильду такой неприязнью.
— Он нравился маме? — спросила она.
— Да. Он очень ей нравился. И она ему тоже. Он нежно о ней заботился.
— Она очень расстроилась, когда узнала о его болезни?
— Очень. Она не за себя испугалась, а за него. Но эта новость и в самом деле была для нас потрясением. Такое не могло присниться и в страшном сне. Нам всем было так хорошо в Корнуолле, мы были на верху блаженства… казалось, ничего плохого просто никогда не может случиться. Это было всего неделю тому назад. Когда умер Космо, я думала, что хуже этого ничего не может быть. Но теперь мне кажется, что у меня никогда в жизни не было таких черных и долгих дней, как в эту неделю.
— Мне очень жаль, что так получилось.
Оливия вдруг испугалась, что Антония заплачет, но, когда та повернула голову и поглядела на нее, к немалому облегчению, увидела, что глаза девушки сухие, а лицо спокойное, хотя и серьезное.
— Ты не должна ни о чем жалеть. Ты радоваться должна, что Пенелопа успела перед смертью съездить в Корнуолл. Она так была счастлива. Думаю, для нее это было возвращением в юность. Она жила полной жизнью, ее энтузиазму и воодушевлению, казалось, не было предела. Она была просто счастлива.
— Знаешь, Антония, она очень тебя любила. Я думаю, во многом благодаря тебе эта поездка оказалась приятной вдвойне.
Антония с душевной болью проговорила:
— Я должна тебе сказать кое-что еще. Пенелопа подарила мне сережки. Сережки, которые оставила ей тетя Этель. Я не хотела их брать, но она настояла на своем. Они сейчас у меня в комнате. Если ты считаешь, что я должна их вернуть…
— С какой стати ты должна их вернуть?
— Потому что они очень дорогие. Они стоят четыре тысячи фунтов. Мне кажется, они должны перейти к тебе, или к Нэнси, или к ее дочке.
— Если бы мама не хотела, чтобы они остались у тебя, она не стала бы их тебе дарить, — улыбнулась Оливия. — Ты могла бы и не говорить мне о них, потому что я про это уже знала. Мама написала мне по этому поводу письмо.
Антония удивилась:
— Интересно, зачем?
— Думаю, она беспокоилась о тебе и твоем добром имени. Она не хотела, чтобы кто-нибудь обвинил тебя в том, что ты украла их из ее шкатулки.
— Тем более странно! Ведь она могла сказать тебе об этом когда угодно.
— О таких вещах лучше сообщать письменно.
— Ты что, думаешь, у нее было предчувствие? Думаешь, она знала, что умрет?
— Мы все знаем, что когда-нибудь умрем.
Преподобный Томас Тиллингэм, викарий церкви в Темпл-Пудли, пришел на следующее утро в одиннадцать. Оливии не хотелось думать об этой встрече. Ей редко приходилось иметь дело со священниками, и она не была уверена, что найдет с ним общий язык. Она готовилась к любым неожиданностям, а это было нелегко, потому что ей трудно было представить себе, что он за человек. Скорее всего, пожилой, худой и бледный, с тонким голосом и старомодными взглядами. А может быть, наоборот, молодой, проповедующий необходимость сделать религию более современной, призывающий своих прихожан здороваться за руку и распевать новомодные бравурные песнопения под аккомпанемент местной поп-группы. Оба варианта казались Оливии пугающими. Но более всего она боялась, что викарий предложит ей встать на колени и помолиться вместе с ним. Она решила, что, если возникнет эта чудовищная ситуация, она притворится, что у нее болит голова, и уйдет из комнаты, сославшись на плохое самочувствие.
Но все ее страхи, к счастью, оказались напрасными. Мистер Тиллингэм был не молодой и не старый, очень простой и симпатичный человек средних лет; на нем был твидовый пиджак и высокий жесткий воротник, какой носят священники. Оливия сразу поняла, почему Пенелопа приглашала его к обеду. Встретив его у дверей, она вдруг повела его в оранжерею, самую веселую комнату в доме. Этот неожиданный выбор места оказался весьма удачным, ибо там легко завязался разговор о цветах и о саде, и они самым естественным образом перешли к обсуждению главного.
— Мы все будем очень скучать по миссис Килинг, — сказал мистер Тиллингэм. Слова его прозвучали искренне, и Оливия довольно легко поверила, что он говорит не о вкусных обедах, на которые Пенелопа никогда уже не сможет его пригласить. — Она была необычайно добрая женщина и очень хорошо вписалась в жизнь нашей деревни, даже привнесла в нее какую-то изюминку.
— То же самое говорил мне и мистер Бедуэй. Он такой милый и внимательный. Он очень помог мне, ведь мне никогда еще не приходилось сталкиваться с похоронами. Вернее, устраивать их. Миссис Плэкетт и мистер Бедуэй очень мне помогли.
В это время, легка на помине, вошла миссис Плэкетт, неся в руках поднос с двумя кружками кофе и тарелку с сухим печеньем. Мистер Тиллингэм щедрой рукой положил в свою кружку сахар и приступил к делу. Они обсудили все довольно быстро. Похороны Пенелопы должны были состояться в субботу, в три часа. Они решили, какой будет служба, и заговорили о музыке.
— Моя жена играет на органе, — сказал мистер Тиллингэм. — Если хотите, она с удовольствием поиграет во время службы.
— Я буду очень рада. Но мне не хотелось, чтобы была скорбная музыка. Пусть будет знакомая всем красивая мелодия. На ее усмотрение.
— А как насчет гимнов?
Они выбрали гимн.
— А кто будет читать отрывок из Священного Писания?
Оливия помолчала в нерешительности.
— Я уже сказала, мистер Тиллингэм, что никогда этим не занималась. Может быть, вы сами решите это?
— Может быть, ваш брат захочет читать Священное Писание?
Оливия сказала, что вряд ли, она почти уверена, что не захочет.
Мистер Тиллингэм упомянул еще кое-какие мелочи, и они быстро обо всем договорились. Выпив кофе, он поднялся из-за стола. Оливия пошла проводить его через кухню к входной двери, где на посыпанной гравием дорожке стоял его потрепанный «рено».
— До свидания, мисс Килинг.
— Всего хорошего, мистер Тиллингэм. — Они обменялись рукопожатием. — Вы были очень добры. — Он улыбнулся, и его улыбка неожиданно оказалась теплой и обаятельной. До этой минуты он ни разу не улыбнулся, и сейчас его заурядные, ничем не примечательные черты так преобразились, что Оливия перестала видеть в нем только священнослужителя и вдруг решилась задать вопрос, который не шел у нее из головы с тех пор, как Тиллингэм переступил порог дома. — Я, право же, не совсем понимаю, почему вы были так добры ко мне. Ведь мы знаем, что мама не часто заглядывала в церковь. Ее трудно назвать религиозной. И она не верила в воскресение и загробную жизнь.
— Я это знаю. Мы как-то говорили об этом, но каждый остался при своем мнении.
— Я даже не уверена, что она верила в Бога.
Мистер Тиллингэм, все еще улыбаясь, покачал головой и протянул руку, чтобы открыть дверцу машины.
— Из-за этого не стоит волноваться. Возможно, она и не верила в Бога, но, я уверен, Бог верил в нее.
Дом, оставшийся без хозяина, — мертвый дом, это лишь внешняя оболочка, где перестало биться сердце. Тихий и пустынный, он как будто чего-то ждет. Тишина ощущалась физически, давила, как тяжкий груз; от нее некуда было деться. Не слышно было ни шагов, ни голосов, ни грохота кастрюль из кухни; из маленького магнитофона на кухонном столе больше не доносились врачующие душу звуки Вивальди или Брамса. Двери закрылись, да так и остались закрытыми. Каждый раз, поднимаясь по лестнице, Антония упиралась взглядом в дверь спальни Пенелопы. Прежде она всегда была открыта, и можно было видеть вещи, небрежно брошенные на спинку стула, ощущать дуновение ветра из открытого окна, вдыхать приятный запах, исходивший от самой Пенелопы. А теперь… Внизу было не лучше. Ее зияющее пустотой кресло возле камина в гостиной. Огонь в камине не горит, а бюро закрыто на ключ. Нет больше уютного звона посуды, нет ее смеха, нет надежды вновь ощутить тепло ее непринужденных объятий. В том мире, где Пенелопа жила, существовала, дышала, слушала, помнила, легко было верить, что ничего страшного и непоправимого никогда не случится. Но если и случится — а с Пенелопой уже случилось, — то всегда найдется способ справиться, примириться или отказаться признать поражение.
Она умерла. В то ужасное утро, выйдя из теплицы в сад и увидев, что Пенелопа неуклюже развалилась на деревянной скамье с вытянутыми вперед ногами и закрытыми глазами, Антония строго сказала себе, что та просто присела на минутку отдохнуть, наслаждаясь свежим бодрящим воздухом раннего утра и бледными, еще нежаркими лучами солнца. На какое-то безумное мгновение ее ум отказался признать очевидное, слишком оно было ужасно и непоправимо. Жизнь без этого источника непреходящего восторга, без этой незыблемой уверенности в собственной безопасности была немыслима. Но немыслимое произошло. Пенелопы больше нет.
Для Антонии наступили черные дни. Прежде заполненные до отказа множеством разных дел, теперь они казались бесконечными, словно от восхода до заката проходил век. Даже сад ее уже не радовал, потому что в нем не было Пенелопы, оживлявшей все своим присутствием, и ей приходилось преодолевать себя каждый раз, когда она выходила туда что-то сделать, — например, вырвать сорняки или нарезать нарциссов, чтобы поставить их где-нибудь в кувшин. Все равно где. Теперь это не имело значения. Ровным счетом никакого.
Антония никогда еще не ощущала себя такой бесконечно одинокой. И одиночество приводило ее в ужас. Раньше рядом был Космо; потом, когда он умер, ее утешало то, что существовала Оливия. Пусть даже в Лондоне, за много миль до Ивисы, но она была и говорила по телефону: «Не волнуйся, приезжай ко мне, я о тебе позабочусь». Но сейчас Оливия недоступна. Практичная, организованная, она составляет перечень дел и звонит по телефону: кажется, она говорит по телефону постоянно. Она дала Антонии понять, правда косвенно, что сейчас не время для долгих задушевных разговоров и откровений. Антонии хватило ума это понять; в первый раз она видела новую Оливию — холодную, компетентную деловую женщину, которая с трудом пробивалась вверх по служебной лестнице и в конце концов стала редактором журнала «Венера», а в процессе восхождения приучила себя беспощадно относиться к человеческим слабостям и быть нетерпимой ко всяким сантиментам. Прежняя Оливия, с которой она впервые познакомилась, как ей теперь казалось, в давние-давние времена, была, по всей вероятности, слишком уязвимой, когда открывалась навстречу миру, и потому сейчас захлопнула все двери. Антония это понимала и относилась к ней с уважением, но от этого ей было не легче.
По причине этого барьера, возведенного Оливией, а также потому, что понимала, сколько забот и хлопот свалилось на ее голову, Антония почти не говорила с ней о Данусе. Иногда, как бы невзначай, разговор о нем все же заходил, как тогда, на вершине обдуваемого ветром холма, пока мистер Бедуэй занимался в доме немыслимыми делами, которые надо было сделать, но ни о чем важном они не говорили. Ни о чем по-настоящему важном. У него эпилепсия, сказала она Оливии. Он эпилептик. Но она не сказала: «Я люблю его. Он моя первая любовь, я у него тоже. Он любит меня, и мы уже занимались любовью, и это совсем не страшно, как я всегда думала, а очень даже правильно и к тому же удивительно прекрасно. Не важно, что ждет нас в будущем, не важно, что у него нет денег. Я хочу, чтобы он вернулся как можно скорее, и, если он болен, я буду ждать, когда он выздоровеет, и стану за ним ухаживать; мы будем жить в деревне и вместе выращивать капусту».
Она не сказала все это Оливии, потому что та была занята совсем другими делами… и, кроме того, Антония была не уверена, что это будет ей интересно и что она захочет ее выслушать. Живя в одном доме с Оливией, она чувствовала себя так, словно едет в поезде с незнакомой попутчицей. Между ними не было прочных связей. И Антония замкнулась в своем одиночестве.
Раньше кто-то всегда был рядом. Сейчас не было даже Дануса. Он был далеко, на севере Шотландии, в Сатерленде, и связаться с ним нельзя было ни по телефону, ни телеграфом, ни каким-нибудь другим нормальным способом. Мы отрезаны друг от друга, говорила себе Антония, как если бы он плыл в каноэ вверх по Амазонке или мчался на собаках по заснеженным просторам полярных льдов. И эта невозможность установить с ним связь была просто невыносима. Пенелопа умерла, и теперь он был так нужен Антонии! И, как будто телепатия была надежной радарной системой, она почти весь день настойчиво мысленно обращалась к нему, надеясь, что он услышит ее на расстоянии, примет сигнал и почувствует настоятельную потребность позвонить ей. Поедет на машине за двадцать миль до ближайшего автомата, наберет ее номер и узнает, что случилось.
Но этого не произошло, и Антония нисколько не удивилась. Чтобы как-то утешиться, она убеждала себя, что он позвонит в четверг. «Вернется в Эдинбург и позвонит ей сразу же, при первом удобном случае. Он ведь обещал. Он позвонит и сообщит мне… нам?.. результаты сканирования и прогноз врача. (Удивительно, но теперь это казалось не столь важным.) А потом я сообщу ему, что Пенелопа умерла, и он непременно приедет, он будет здесь со мной, и это даст мне силы». А силы Антонии были очень нужны, чтобы пережить похороны Пенелопы. Если Дануса не будет рядом, она может не выдержать предстоящего кошмара.
Часы тянулись очень медленно. Прошла среда, и наступил четверг. Сегодня он непременно позвонит. Прошло утро, время перевалило за полдень.
Звонка не было.
В половине четвертого Оливия отправилась в церковь. Там она должна была встретиться с девушкой, которой предстояло убрать церковь цветами. Оставшись одна, Антония бесцельно слонялась по саду; потом прошла по тропинке в его дальний конец, чтобы снять с веревки высохшие наволочки и кухонные полотенца. Часы на церкви пробили четыре, и вдруг она ясно поняла, что ждать больше не может ни минуты. Пришло время решительных действий, и, если она немедленно что-то не предпримет, с ней или будет истерика, или она кинется вниз к реке и утопится. Она поставила корзину с бельем на землю и направилась через сад к дому; миновав теплицу, вошла в кухню, подняла трубку и набрала номер в Эдинбурге.
Был теплый, навевающий дремоту день. Ладони ее были холодными и влажными, во рту пересохло. Часы в кухне отсчитывали секунды быстрее, чем колотилось ее сердце. Ожидая, пока на том конце провода возьмут трубку, Антония соображала, что именно скажет. Если Дануса нет дома и к телефону подойдет его мать, ей придется попросить ему что-то передать. «Умерла миссис Килинг. Передайте, пожалуйста, Данусу. И попросите его позвонить мне. Это говорит Антония Гамильтон. Он знает мой телефон». Это хорошо. Но хватит ли у нее смелости спросить у миссис Мьюирфильд о результатах обследования или это будет слишком нахально и бестактно? Что, если диагноз плохой и надежды на излечение мало? Вряд ли матери Дануса будет приятно рассказывать о семейном несчастье совсем чужому человеку, а вернее, бесплотному голосу, доносящемуся из глостерширской глубинки. С другой стороны…
— Алло?
Мысли Антонии беспорядочно метались в голове. Голос на том конце провода застал ее врасплох, и она чуть не бросила трубку.
— Я… гм… это миссис Мьюирфильд?
— Нет. Сожалею, но миссис Мьюирфильд нет дома. — Голос был женский, с сильным шотландским акцентом, с прекрасным вышколенным выговором.
— Понятно… А когда она будет?
— Извините, не имею представления. Она ушла на заседание Фонда спасения детей, а потом, мне кажется, она собиралась зайти к знакомой на чашку чаю.
— А мистер Мьюирфильд?
— Мистер Мьюирфильд на работе. — Ответ прозвучал резко, как будто Антония задала дурацкий вопрос — да так оно и было — и ответ был самоочевиден. — Он вернется домой в половине седьмого.
— А с кем я говорю?
— Я прихожу к миссис Мьюирфильд помогать по хозяйству. — Антония в нерешительности замолчала. В голосе собеседницы, которая, возможно, хотела вернуться к уборке дома, появились нетерпеливые нотки. — Что-нибудь передать?
В отчаянии Антония задала еще один вопрос:
— А Дануса там нет?
— Данус уехал на рыбалку.
— Я знаю. Но он собирался сегодня вернуться, и я подумала, что, может быть, он уже приехал.
— Нет, он еще не приехал, и я не знаю, когда он вернется.
— Тогда, может быть… — Выбора у Антонии не было. — Не могли бы вы ему кое-что передать?
— Подождите, я возьму карандаш и бумагу. — Антония стала ждать. Прошло некоторое время. — Теперь говорите.
— Просто скажите ему, что звонила Антония, Антония Гамильтон.
— Одну минуточку, я запишу. Ан-то-ния Га-миль-тон.
— Все правильно. Скажите ему… что во вторник утром умерла миссис Килинг. Похороны состоятся в деревне Темпл-Пудли в субботу, в три часа. Он поймет. Возможно, — сказала она, молясь о том, чтобы он успел, чтобы он был с ней, — он захочет приехать.
В пятницу утром в десять часов зазвонил телефон. С тех пор как они кончили завтракать, он звонил в четвертый раз, и Антония, где бы ни находилась, со всех ног бросалась первой снять трубку. Но на этот раз ее не было дома. Она отправилась в деревню забрать почту и молоко, и потому трубку, встав из-за стола, сняла Оливия:
— «Подмор Тэтч».
— Это мисс Килинг?
— Да.
— Говорит Чарльз Эндерби из фирмы «Эндерби, Лусби и Тринг».
— Доброе утро, мистер Эндерби.
Он не стал выражать соболезнования, так как уже успел это сделать, когда Оливия звонила, чтобы уведомить его как адвоката Пенелопы о смерти клиентки.
— Мисс Килинг, я непременно приеду к вам в Глостершир на похороны миссис Килинг, но я подумал, что, если вам всем удобно, после церемонии мы могли бы собраться: вы, ваш брат и сестра — и я бы дал пояснения к некоторым пунктам завещания, чтобы не было никаких сомнений. Возможно, вы сочтете такую встречу слишком поспешной и несвоевременной, тогда вы имеете полное право назначить другой день. Но, мне показалось, это тот случай, когда вся семья соберется под одной крышей. Все займет не более получаса.
Оливия подумала.
— Пожалуй, вы правы. Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше, к тому же мы редко собираемся вместе.
— Тогда во сколько вам удобно?
— Служба начнется в три, потом мы устраиваем чай для тех, кто пожелает вернуться после похорон в дом. Я думаю, к пяти часам все закончится. Вас устроит это время?
— Вполне, я сейчас это себе помечу. А вы предупредите миссис Чемберлейн и вашего брата?
— Непременно.
Она позвонила Нэнси:
— Нэнси, это Оливия.
— Оливия, я только собиралась тебе звонить. Как ты там? Как идут приготовления? Хочешь, я приеду тебе помочь? Мне это не составит никакого труда. Ты не представляешь, как тягостно мне сознавать, что от меня нет никакого проку…
— Послушай, Нэнси, — перебила ее Оливия. — Мне только что звонил мистер Эндерби. Он предлагает нам всем собраться после похорон, хочет пояснить кое-какие моменты завещания. В пять часов. Ты сможешь остаться?
— В пять, ты говоришь? — В пронзительном голосе Нэнси появилась настороженность, как будто Оливия предложила ей участвовать в каком-то тайном и подозрительном мероприятии. — Нет-нет, в пять я не могу. Никак.
— Объясни, ради бога, почему нет?
— У Джорджа встреча с викарием и архидьяконом. По поводу жалованья младшему священнику. Это очень важно. Мы уедем домой сразу после похорон.
— Но это тоже важно. Попроси его перенести встречу.
— Оливия, я не могу.
— В таком случае вам придется приехать в двух машинах, и ты вернешься домой одна. Ты непременно должна быть. Слышишь?
— А нельзя ли встретиться с мистером Эндерби как-нибудь в другой день?
— Можно, конечно, но это будет менее удобно для всех нас. К тому же я уже сказала, что мы все соберемся, так что у тебя нет выбора.
Голос Оливии звучал начальственно и резко, и это было заметно даже ей самой. Она добавила чуть мягче:
— Если ты не хочешь возвращаться одна, то можешь заночевать здесь и уехать на следующее утро. Но ты должна участвовать непременно.
— Ну ладно, — скрепя сердце уступила Нэнси. — Но ночевать я не останусь, спасибо. У миссис Крофтвей выходной, и мне надо приготовить детям ужин.
К черту миссис Крофтвей! Оливии надоело уговаривать сестру.
— В таком случае позвони, пожалуйста, Ноэлю и скажи, что он тоже должен присутствовать. Этим ты очень облегчишь мне жизнь и перестанешь терзаться, что от тебя нет проку.
На смену долго державшейся ясной сухой погоде, когда катастрофически упал уровень воды в реках и совсем обмелели лососевые заводи, в Сатерленд пришли дожди. Их принесли с запада рыхлые серые тучи, затянувшие все небо и закрывшие солнце; они уселись на вершинах гор, стекая в долины и превращаясь в туман, и дождевые капли с легким шумом падали на землю. Опаленная сушью вересковая пустошь впитывала влагу, поглощала ее, выплескивая избыток в трещины высохших торфяников; оттуда она собиралась в маленькие ручейки, затем в ручейки побольше и, наконец, сбегала по склонам гор в реку. Одного дня непрерывного дождя оказалось достаточно, чтобы восстановить естественную влажность почвы. Вода журчала, бурлила, набирая силу; пенясь, низвергалась в глубокие заводи; устремлялась вниз, в узкие лесистые долины, и бежала дальше к открытому морю. К утру четверга надежда на рыбалку, еще недавно казавшаяся совершенно несбыточной, обрела реальные очертания.
В четверг друзья планировали вернуться в Эдинбург. Сейчас они стояли у открытой двери мызы, глядя на дождь и обсуждая, что им делать. Из-за ясной погоды всю неделю клева не было, и теперь перспектива перенести отъезд манила как никогда. Но отступить от намеченного не так-то просто, и им обоим было о чем задуматься. Наконец Родди сказал:
— Я должен быть на работе только в понедельник. Так что мне все равно. Решай ты, дружище. Я понимаю, тебе поскорее нужно домой, узнать, что решили врачи. Если тебе трудно вынести еще один день неизвестности, тогда мы сейчас же складываем вещи и уезжаем. Но ты уже так долго ждешь, что, по-моему, можешь потерпеть еще денечек, тем более что он сулит нам массу удовольствий. Вряд ли твоя мама очень рассердится, если сегодня вечером ты дома не появишься. Ты не маленький, а если еще она послушает сводку погоды, то сразу поймет, в чем дело.
Данус улыбнулся. Он был благодарен Родди за то, что тот так просто и прямо изложил суть проблемы. Они дружили много лет, а в последние несколько дней, оставшись наедине, еще больше сблизились. Здесь, далеко от дома, словно на краю света, развлечений почти не было, и вечером, готовя себе ужин или сидя у костра, они много говорили обо всем на свете. Для Дануса эти беседы были как нельзя кстати; ему нужно было выговориться, высказать все, что наболело на душе и что он, стыдясь, долго скрывал от всех. Он рассказал Родди о своей жизни в Америке, о внезапном начале болезни, обо всем, что пришлось пережить, и оттого, что он все произнес вслух, происшедшее стало казаться не таким тягостным и пугающим. Сбросив с души этот груз, теперь он мог говорить и о других вещах. Объяснил, почему решил переменить профессию, сообщил о планах на будущее. Рассказал о своей работе у Пенелопы Килинг и о незабываемой поездке в Корнуолл. И, наконец, поведал другу об Антонии.
— Женись на ней, — посоветовал Родди.
— Я и сам этого хочу. Но не сейчас. Сначала нужно разобраться со своими проблемами.
— А чего с ними разбираться?
— Ведь если мы поженимся, у нас будут дети. А я еще не знаю, передается ли эпилепсия по наследству.
— С какой стати? Конечно нет.
— И зарабатываю я немного. Честно говоря, у меня гроша медного за душой нет.
— Займи у отца. По-моему, он от безденежья не страдает.
— Не хочу.
— Гордыня тебя ни к чему хорошему не приведет.
— Может быть. — Данус тоже думал об этом, но обсуждать сейчас не хотел. — Ладно, там видно будет, — пробормотал он.
Подняв лицо к плачущим небесам, он думал о возвращении, об ожидавшем его дома диагнозе. Думал об Антонии, которая ждет его звонка и пытается чем-то заполнить дни разлуки.
— Я обещал позвонить Антонии сегодня, — сказал он. — Как только приеду в Эдинбург.
— Позвонишь завтра. Если она такая, какой я ее себе представляю, она поймет. — Сейчас вода в реке поднялась. Данус уже мысленно ощущал тяжесть и приятную упругость удочки, которой так и не пришлось воспользоваться, слышал, как раскручивается леска, чувствовал, как натягивается она после удачной поклевки. Здесь есть одна заводь, где водится крупная рыба… Родди не выдержал: — Ну решай скорее. Давай рискнем и останемся еще на денек. Пока мы поймали всего несколько форелек, да и тех съели. Теперь нас ждут лососи. Дадим им шанс потягаться с нами в честной спортивной борьбе.
Ему, видно, не терпелось поскорее закинуть удочку в заводь. Данус повернул голову и поглядел на товарища. По веснушчатому лицу Родди он увидел, что тот сгорает от нетерпения приступить к делу, и понял, что не может отказать ему в этом удовольствии.
И, широко улыбнувшись, сдался:
— Ладно. Остаемся.
На следующий день рано утром они собрались в обратный путь. Уложили в багажник сумки, удочки, остроги, бахилы, плетеные корзины для рыбы, а также два здоровенных лосося, которых им удалось поймать, так что решение остаться окупилось с лихвой. Скоро мыза, чисто прибранная и запертая на все замки, осталась позади, далеко в горах. Впереди лежала длинная узкая дорога, петлявшая по унылой вересковой пустоши Сатерленда. Дождь прекратился, но по небу все еще неслись дождевые облака, а их тени скользили по бескрайним просторам торфяных болот. Наконец друзья пересекли пустошь, спустились в долину, переехали через реку в Бонарбридже и обогнули голубые воды залива Дорнох. Затем поднялись вверх по крутым склонам Струи и выехали в Блэкайлу. Отсюда начиналось широкое шоссе, и теперь они могли увеличить скорость. Они пронеслись мимо старых межевых столбов с бешеной скоростью. Миновали Инвернесс, Каллоден, Каррбридж, Авимор, а дальше от Далвинни дорога повернула на юг и стала подниматься в горы Кэрнгормс мимо тоскливых холмов Гленгэрри. К одиннадцати часам они миновали по объездной дороге город Перт и выехали на автостраду, разрезающую, как хирургический нож, графство Файф. И вот уже виднеются два моста через реку Форт, сверкающие в ярких утренних лучах. Казалось, они были сделаны из блестящей легкой проволоки. Проехали мост и оказались на шоссе недалеко от Эдинбурга. Скоро вдали показались и башни древнего города, и стоящий на утесе замок с развевающимся над ним флагом — вид, неподвластный времени и переменам, такой же, как на старой литографии.
Шоссе кончилось. Пришлось снизить скорость до сорока, а потом до тридцати миль в час. Машин на дороге стало больше. Наконец замелькали дома, магазины, гостиницы, светофоры. Приятели не разговаривали всю дорогу. Теперь Родди нарушил молчание.
— Было очень здорово, — сказал он. — Нужно съездить туда еще разок.
— Обязательно. Как-нибудь съездим. Спасибо тебе.
Родди барабанил ногтями по рулевому колесу.
— Ну как ты себя чувствуешь?
— Порядок.
— Боишься?
— Не очень. Просто смотрю на все трезво. Если уж мне суждено прожить с этой болезнью до конца жизни, то так тому и быть.
— Кто знает. — Зажегся зеленый свет. Машина двинулась вперед. — Может быть, тебя ждут хорошие новости.
— Не думаю. Я рассчитываю на худшее и верю, что справлюсь.
— Что бы там ни было… что бы они там ни обнаружили… ты ведь не сдашься, не повесишь носа? А если уж все будет плохо, не держи это в себе. Помни, я всегда рядом и готов тебя выслушать, если тебе надо будет с кем-то поделиться.
— А навещать меня в больнице тоже будешь?
— Не сомневайся, дружище. У меня всегда была слабость к хорошеньким сестричкам. Я буду приносить тебе виноград и съедать его сам.
Куинсферри-роуд; старый мост Дин. Они уже выехали на широкие магистрали и двигались между рядами хорошо спланированных жилых домов Нового города. Чисто вымытые, освещенные солнцем стены домов были медового цвета. В парке Морей-плейс деревья стояли в зеленой дымке свежих, только что распустившихся листочков, а ветки стоящих в цвету вишен поникли под тяжестью соцветий.
Вот наконец и улица Хириот-роу, и высокий узкий дом, где жил Данус. Родди остановил машину у тротуара и выключил мотор. Они вышли, выгрузили из багажника пожитки Дануса, в том числе корзину с драгоценной рыбиной, и внесли все на крыльцо.
— Ну вот и все, — сказал Родди, стоя в нерешительности, как будто ему не хотелось расставаться со старым другом. — Хочешь, зайду с тобой в дом?
— Нет, — ответил Данус. — Все будет хорошо.
— Позвони мне вечером.
— Договорились.
— Пока, старина. — Родди дружески хлопнул его по плечу.
— Все было очень здорово.
— Удачи тебе.
Он сел в машину и уехал. Данус посмотрел ему вслед, а потом, порывшись в карманах джинсов, вытащил ключ и отпер тяжелую, выкрашенную в черный цвет дверь. Она открывалась вовнутрь. Он увидел знакомую прихожую, красивую витую лестницу, ведущую наверх.
Всюду были чистота и порядок, тишину нарушало лишь тиканье высоких напольных часов, когда-то принадлежавших его деду. Ухоженная полированная мебель блестела, а на низком шкафчике рядом с телефоном стояла ваза с гиацинтами, источавшими сильный чувственный запах.
Данус в нерешительности остановился. Наверху открылась дверь и снова захлопнулась. Послышались шаги. Он поднял глаза. На лестнице появилась мать.
— Данус.
— Рыбалка была удачная. Я задержался на денек.
— О, Данус…
Миссис Мьюирфильд, как всегда, была аккуратна и элегантна. В прямой твидовой юбке и мягком свитере; седые волосы причесаны волосок к волоску. И все же было в ней что-то непривычное. Она шла вниз ему навстречу… нет, бежала, что само по себе было очень необычно. Он уставился на нее. На нижней ступеньке она остановилась. Глаза ее были вровень с его глазами, а рука сжимала отполированный столбик перил.
— Ты здоров, — сказала мать. Она не плакала, но глаза ее блестели, как будто в них стояли слезы. Никогда раньше он не видел ее такой взволнованной. — О, Данус, все хорошо, ты вполне здоров. И всегда был здоров. Вчера позвонили из больницы, и я долго разговаривала с врачом. В Америке тебе неправильно поставили диагноз. У тебя вообще никогда не было эпилепсии. Ты не эпилептик.
Он не мог вымолвить ни слова. Мозг отказывался работать, словно превратившись в вату, в голове не было ни одной мысли. А потом появилась только одна.
— Но… — Ему трудно было даже говорить. Голос его сорвался, слова застряли в горле. Он глотнул и начал снова: — Но как же тогда обмороки?
— Они были следствием вируса, который ты где-то подцепил, и очень высокой температуры. Так бывает. Так случилось и с тобой. Но это не эпилепсия. У тебя ее никогда не было. И если бы ты не был таким дуралеем и не скрывал все от нас, ты бы избавил себя от стольких душевных мук!..
— Мне не хотелось тебя расстраивать. Я помнил о Яне и не мог, не хотел, чтобы ты переживала все сначала.
— Я бы согласилась на адские муки, только бы ты не мучился. И главное, напрасно. Ведь совсем не из-за чего. Ты же здоров.
Здоров. Никакой эпилепсии. И никогда не было. Он совсем здоров. И никаких таблеток, никакой неопределенности. С души у Дануса свалился камень, и он почувствовал себя почти невесомым, как будто в любой момент мог оторваться от земли и парить под потолком. Теперь он мог делать все, что угодно. Абсолютно все. Мог жениться на Антонии. «О господи милостивый, теперь я могу жениться на Антонии и иметь детей. Спасибо Тебе. Благодарю Тебя за это чудо. И никогда не устану благодарить Тебя. Я так Тебе благодарен, что не забуду об этом никогда. Это я Тебе обещаю».
— Ну, Данус, не стой же ты, как истукан. Ты что, меня не понимаешь?
Он сказал: «Понимаю» — и потом прибавил: «Я люблю тебя». И хотя это была чистая правда и Данус любил мать всегда, никогда раньше он не говорил об этом. Она расплакалась, и этого Данус тоже прежде никогда не видел. Он заключил ее в объятия и крепко прижал к груди. Немного погодя она перестала плакать и только тихонько всхлипывала, ища носовой платок. Наконец он отпустил ее от себя, она высморкалась и вытерла глаза, потом поправила прическу.
— Ужасно глупо, — сказала она. — Вот уж не думала, что заплачу. Но я так обрадовалась! Мы с папой места себе не находили, потому что никак не могли сообщить тебе эту добрую весть и успокоить тебя. А теперь, когда я сказала тебе главное, думаю, я могу сообщить тебе еще кое-что. Вчера днем тебе кто-то звонил. Меня не было дома, и миссис Купер записала то, что просили тебе передать. Известие далеко не радостное, но я надеюсь, оно не слишком тебя огорчит…
Прямо у него на глазах мать снова становилась самой собой, практичной и сдержанной. Открытое проявление чувств пока закончилось. Убрав носовой платок в карман, она слегка отодвинула Дануса в сторону, прошла к низкому шкафчику, где стоял телефон, взяла блокнот, всегда лежавший рядом, и перелистала страницы.
— Вот. Звонила некая Антония Гамильтон. На, прочти сам.
Антония.
Данус взял блокнот и увидел написанные карандашом слова, узнав витиеватый почерк миссис Купер.
Антония Гамильтон звонила в 4 часа, четв. Сообщила: миссис Килинг умерла втор., похороны в 3 часа в Темпл-Пудли суб. Думает, вы захотите туда поехать. Надеюсь, я записала правильно.
Л. КуперЧлены семьи съехались на похороны матери. Супруги Чемберлейн приехали первыми. Нэнси в своем автомобиле, а Джордж — в громоздком, далеко не новом «ровере». На Нэнси были темно-синий костюм и фетровая шляпа, поразительно безвкусная и неуместная. Лицо под ее широкими полями казалось неприступным и решительным.
Оливия, надевшая для храбрости и удобства свой любимый темно-серый костюм от Жана Мюира, поцеловала их обоих. Целовать Джорджа было все равно что целовать костяшки пальцев, от него пахло нафталином с примесью антисептика, как от зубного врача. Оливия провела их, как гостей или незнакомцев, в уставленную цветами гостиную. И как с гостями, начала разговор с извинений:
— Простите, что не приглашаю вас пообедать. Но вы, наверное, заметили, что миссис Плэкетт уже накрыла стол к чаю и отодвинула все стулья, а мы с Антонией все утро делали сандвичи. Мы и сами не обедали — так, кое-чем перекусили.
— Не беспокойся. Мы перекусили в кафе по дороге сюда. — Со вздохом облегчения Нэнси уселась в кресло Пенелопы. — Миссис Крофтвей сегодня выходная, и мы оставили детей с друзьями. Мелани очень плакала, жалела бабушку Пен. Бедная девочка, она впервые столкнулась со смертью… так сказать, лицом к лицу. — Оливия не нашлась, что сказать в ответ. Нэнси сняла черные перчатки. — А где Антония?
— Наверху. Одевается.
Джордж посмотрел на часы:
— Пусть поторопится. Уже без двадцати пяти три.
— Джордж, отсюда до церкви ровно пять минут.
— Возможно. Однако мы не можем ворваться туда в последнюю минуту. Это крайне неприлично.
— А мама? — спросила Нэнси, понизив голос. — Где мама?
— Она уже в церкви, ждет нас, — кратко ответила Оливия. — Мистер Бедуэй предлагал тронуться от дома семейной процессией, но я не согласилась. Надеюсь, вы не возражаете.
— А когда приедет Ноэль?
— Вот-вот должен появиться. Он едет из Лондона.
— В субботу на дорогах всегда много машин, — изрек Джордж. — Он наверняка опоздает.
Его мрачному предсказанию не суждено было сбыться, ибо ровно через пять минут деревенскую тишину нарушили знакомый шум подъезжающего «ягуара» и шорох шин по дорожке; машина остановилась, хлопнула дверца. Минуту спустя Ноэль уже был с ними, очень высокий, загорелый, элегантный, в сером костюме, сшитом на заказ у дорогого портного для участия в деловых встречах с состоятельными бизнесменами и слишком шикарном для деревенских похорон.
Но это было не важно — главное, он не опоздал. Нэнси и Джордж молча смотрели на него, а Оливия встала и, подойдя, поцеловала. От Ноэля пахло не лекарством, а дорогим одеколоном, и уже за одну эту приятную мелочь она была ему благодарна.
— Как ты доехал?
— Неплохо, но пробки на дорогах ужасные. Здравствуй, Нэнси. Привет, Джордж. Послушай, Оливия, что это за тип в синем костюме торчит возле гаража?
— А, это мистер Плэкетт. Он останется в доме, пока мы будем в церкви.
Брови Ноэля поползли вверх.
— Ты что, ожидаешь нападения грабителей?
— Нет, но таков местный обычай. На этом настояла миссис Плэкетт. Во время заупокойной службы в доме обязательно должен кто-то быть, в противном случае жди беды. Поэтому она велела своему мужу сидеть в доме, поддерживать огонь в камине, кипятить воду для чая и прочее.
— Что ж, вы все неплохо организовали.
Джордж снова посмотрел на часы. Он начинал беспокоиться.
— Мне кажется, нам пора идти. Пойдем, Нэнси.
Та встала и подошла к зеркалу, висевшему над маминым бюро, чтобы посмотреть, хорошо ли сидит шляпа.
— А что Антония?
— Сейчас я ее позову, — сказала Оливия, но выяснилось, что Антония была уже внизу и ждала их на кухне, сидя за чисто вымытым столом и разговаривая с мистером Плэкеттом, который зашел в дом и занял порученный ему пост.
Когда все вошли в кухню, она встала и вежливо улыбнулась. На ней была темно-синяя юбка в белую полоску и белая рубашка с воротником, отделанным оборкой, поверх которой она надела темно-синюю шерстяную кофту. Ее яркие блестящие волосы были завязаны сзади в хвост темно-синей лентой. Она была похожа на школьницу, застенчивую и ужасно бледную.
— Ну как ты? — спросила ее Оливия.
— Хорошо.
— Джордж говорит, пора идти.
— Я готова.
Оливия прошла вперед к входной двери и вышла на крыльцо, залитое неярким солнечным светом. За ней последовали все остальные — маленькая печальная процессия. Когда они вышли на посыпанную гравием дорожку, до них донесся новый звук: церковный колокол скорбно отбивал удары. Размеренный звон плыл над мирной сельской округой, и встревоженные грачи с криком кружили над верхушками деревьев. «Это по маме звонит колокол», — сказала себе Оливия и внезапно осознала беспощадную реальность происходящего. Она замедлила шаг, поджидая Нэнси, чтобы дальше идти с ней рядом, и, обернувшись, увидела, что Антония остановилась как вкопанная. Она и до этого была бледная, а теперь побелела как полотно.
— Антония, что с тобой?
— Я… носовой платок. У меня нет платка. Мне нужно сходить за платком… Я быстро. Не ждите меня. Я вас догоню…
И она бросилась в дом.
Нэнси сказала:
— Странно. С ней все в порядке?
— Думаю, да. Она просто расстроена. Я подожду ее.
— Нет-нет, — решительно сказал Джордж. — Мы не можем ждать. Мы опоздаем. С Антонией ничего не случится. Мы займем для нее место. А теперь, Оливия, пойдем…
Они все еще стояли на дорожке, готовые тронуться в путь, но тут возникла еще одна заминка — раздался шум мчащегося по дороге автомобиля. Скоро он вылетел из-за угла рядом с пивной, замедлил ход и остановился в нескольких футах от ворот «Подмор Тэтч». Это был незнакомый «форд» темно-зеленого цвета. Удивленные, они замолчали и смотрели, как водитель вылез из машины и захлопнул дверцу. Молодой человек, совсем незнакомый, как и машина. Оливия видела его первый раз в жизни.
Он немного постоял, Все пристально смотрели на него, не говоря ни слова. Наконец он нарушил молчание, сказав:
— Извините. Я приехал так внезапно и в последнюю минуту. Мне пришлось преодолеть большое расстояние. — Он посмотрел на Оливию, увидел на ее лице полное недоумение и улыбнулся. — Мы никогда раньше не встречались. Но вы, должно быть, Оливия. Меня зовут Данус Мьюирфильд.
Ах вот кто это. Такой же высокий, как Ноэль, только чуть плотнее, широкоплечий, с совсем темным от загара лицом. Очень красивый молодой человек; Оливия с первого взгляда поняла, почему мама прониклась к нему такой симпатией. Конечно же, Данус. Кто же еще?
— Я думала, вы в Шотландии, — сказала она.
— Был. Я только вчера узнал о смерти миссис Килинг. Я очень сожалею…
— Мы как раз направляемся в церковь. Если вы…
— А где Антония? — перебил он.
— Она вернулась кое-что взять. Сейчас придет. Если вы хотите остаться в доме, там в кухне мистер Плэкетт…
Джордж, окончательно потерявший терпение, уже не мог спокойно стоять и слушать.
— Оливия, у нас нет времени для разговоров. И ждать дольше мы тоже не можем. Нам нужно идти немедленно. А молодой человек сходит за Антонией и поторопит ее. Ну, пойдемте же… — И он начал подталкивать женщин вперед, как овец.
— Где можно найти Антонию? — спросил Данус.
— Наверное, в ее комнате, — крикнула Оливия через плечо. — Мы займем для вас место.
В кухне за столом он увидел мистера Плэкетта, мирно читающего «Новости ипподрома».
— Где Антония, мистер Плэкетт?
— Пошла наверх, по-моему, в слезах.
— Можно мне подняться к ней?
— Думаю, небеса от этого не обрушатся.
Данус побежал вверх по узкой лестнице, прыгая через две ступеньки и крича: «Антония!» Не зная расположения комнат на втором этаже, он открывал по пути все двери: одна вела в ванную, другая — в кладовку для щеток. «Антония!» Пробегая по коридору, он открыл дверь в спальню; вероятно, здесь кто-то жил, но в этот момент отсутствовал. На противоположной стороне была еще одна дверь, ведущая в дальний конец дома. Даже не постучав, он распахнул дверь и наконец нашел Антонию — она одиноко сидела на краешке кровати, заливаясь слезами.
От облегчения у него закружилась голова.
— Антония. — В два прыжка он очутился с ней рядом, заключил ее в объятия, прижал голову к своему плечу, целуя ее волосы, лоб, распухшие, переполненные слезами глаза. Слезы были соленые, щеки мокрые, но все это не имело значения; главное, что он ее нашел, что он держит ее в объятиях, что он любит ее больше всех на свете и больше никогда, никогда они не разлучатся.
— Ты разве не слышала, что я тебя зову? — спросил он наконец.
— Слышала, но я думала, мне это кажется. К тому же все перекрывал этот ужасный колокольный звон. Я не плакала, пока не начал звонить колокол, а когда… я сразу поняла, что не смогу этого вынести. Я не могла идти вместе со всеми. Мне так ее не хватает. Без нее все идет из рук вон плохо. О, Данус, она умерла, а я ее так любила. Я хочу, чтоб она была рядом. Я все время хочу…
— Знаю, — сказал он. — Знаю.
Она безутешно рыдала у него на плече.
— С тех пор как ты уехал, все шло ужасно. Хуже некуда. И никого не было…
— Мне очень жаль…
— Я все время думала о тебе. Беспрестанно. А когда услышала, что ты меня зовешь, не могла в это поверить… поверить, что это и в самом деле ты. Я так хотела, чтобы ты был со мной.
Данус ничего не говорил. Антония все еще рыдала у него на плече, но рыдания стихали, пик душевной бури уже прошел. Немного погодя Данус ослабил объятия, и она слегка отстранилась, подняв к нему лицо. На лоб ей упала прядь волос; он отвел ее назад, вынул чистый носовой платок и протянул ей. Он с нежностью смотрел, как она вытерла слезы и с большим усердием, как ребенок, высморкалась.
— Данус, а где ты был? Что случилось? Почему ты не позвонил?
— Мы вернулись в Эдинбург только вчера днем. Рыбалка была очень удачная, и мне не хотелось лишать Родди этого удовольствия. Когда я приехал домой, мама передала мне твое сообщение. Я звонил весь вечер, но ваш телефон все время был занят.
— Он звонит без умолку.
— В конце концов я плюнул, сел в машину мамы и поехал сюда.
— Ты сел в машину, — повторила она, но значение его слов дошло до нее только минуту спустя. — Ты вел машину? Сам?
— Да, я снова могу садиться за руль. И могу напиться до чертиков, если захочу. Я вполне здоров. Я не эпилептик и никогда им не был. Оказалось, что врач в Арканзасе поставил неверный диагноз. Я был болен тогда. Серьезно болен. Но не эпилепсией.
На мгновение ему показалось, что она снова расплачется. Но Антония обвила руками его шею и так крепко обняла, что он думал, она его задушит.
— Данус, милый, это ведь чудо!
Он легонько разомкнул ее руки, но продолжал держать их в своих.
— Это еще не все. Это только начало. Настоящее начало. Для нас обоих. Потому что я очень хочу, чтобы мы всегда были вместе. Я еще не знаю, во что это выльется, и мне нечего тебе предложить, но если ты меня любишь, то, пожалуйста, давай никогда больше не расставаться.
— Хорошо. Не будем расставаться никогда-никогда. — Слезы ее высохли, и она снова стала его любимой милой Антонией. — Мы непременно заведем теплицы для овощей. Не знаю, как и когда, но мы обязательно найдем для этого деньги.
— Я не очень-то хочу, чтобы ты ехала в Лондон и стала фотомоделью.
— Мне и самой этого не хочется. Есть и другие способы заработать. — Неожиданно ей в голову пришла блестящая мысль. — Идея! Сережки тети Этель. За них дадут по меньшей мере четыре тысячи фунтов… Я понимаю, что этого недостаточно, но для начала неплохо. Думаю, Пенелопа не стала бы возражать. Отдавая их мне, она сказала, что я могу их продать, если захочу.
— А ты не хочешь сохранить их как память о ней?
— Данус, чтобы ее помнить, мне не нужны серьги. Мне о ней будет напоминать очень многое.
Пока они говорили, над всей округой плыли звуки колокола. Бом, бом, бом. И вдруг он умолк.
Они посмотрели друг на друга. Данус сказал:
— Нужно идти. Мы должны быть там. Опаздывать нельзя.
— Конечно.
Они встали. Спокойно и быстро Антония привела в порядок волосы, провела пальцами по щекам.
— Заметно, что я плакала?
— Чуть-чуть. Никто ничего не скажет.
Она повернулась к зеркалу спиной.
— Я готова, — сказала она.
Он взял ее за руку, и они вместе вышли из комнаты.
Когда члены семьи вошли в церковь, колокол зазвонил еще громче, где-то уже прямо над головой, заглушая все другие деревенские звуки. Оливия увидела машины, припаркованные возле тротуара, и небольшой ручеек пришедших проститься с Пенелопой людей, устремившийся в покойницкую, а затем по тропинке, петлявшей между древними покосившимися надгробиями.
Бом. Бом. Бом.
Она задержалась на минутку, чтобы перекинуться парой слов с мистером Бедуэем, а затем вместе с другими вошла в церковь. После тепла и солнечного света на нее повеяло холодом, исходившим от каменных плит пола и толстых стен. Как будто она вошла в пещеру. Здесь стоял сильный запах плесени, обычно говорящий о грибке и жуке-точильщике. Но далеко не все навевало уныние: девушка из Пудли хорошо постаралась, и повсюду стояло множество весенних цветов. Церковь, хоть и небольшая, была вся заполнена людьми, и это как-то утешило Оливию, которую всегда угнетал вид полупустой церкви.
Когда дети Пенелопы шли по проходу к передним скамьям, колокол внезапно умолк, и их шаги по каменным плитам пола гулко отдавались в воцарившейся тишине. Два первых ряда были свободны, и друг за другом они заняли эти места. Оливия, Нэнси, Джордж и Ноэль. Именно этого момента больше всего боялась Оливия, ибо у ступеней алтаря стоял гроб. Она трусливо отвела от него глаза и огляделась вокруг. Среди множества незнакомых лиц, очевидно местных жителей, пришедших попрощаться с покойной, она заметила другие — лица людей, которых знала много лет, приехавших сюда издалека. Здесь были супруги Аткинсон из Девоншира, мистер Эндерби из лондонской фирмы «Эндерби, Лусби и Тринг», Роджер Уимбуш, художник-портретист, который много лет назад, будучи студентом художественной школы, жил какое-то время в старой мастерской Лоренса Стерна, стоявшей в саду на Оукли-стрит. Оливия увидела Лалу и Вилли Фридман, державшихся, как всегда, с большим достоинством, и их бледные тонкие лица беженцев-интеллигентов. Увидела Луизу Дюшен в шикарном иссиня-черном платье — дочь Шарля и Шанталь Ренье, старую подругу Пенелопы, — проделавшую долгий путь из Парижа в Англию, чтобы присутствовать на похоронах. Луиза встретилась с Оливией взглядом и улыбнулась. Оливия благодарно улыбнулась в ответ, тронутая тем, что она решилась на такую дальнюю дорогу.
Как только затих колокол, заиграла музыка, наполняя собой душную тишину церкви. Это, выполняя свое обещание, играла на органе миссис Тиллингэм. Орган местной церкви не отличался хорошим звуком, он был стар и, как все старики, страдал одышкой, но даже эти недостатки не мешали наслаждаться благородным совершенством «Маленькой ночной серенады» Моцарта.
Мамина любимая вещь, подумала Оливия. Интересно, знала ли об этом миссис Тиллингэм, или это только вдохновенная догадка, прозрение?
Она увидела старую Роз Пилкингтон в черной бархатной накидке и фиолетовой соломенной шляпке, настолько потрепанной, что при одном взгляде на нее не оставалось сомнений — шляпка по меньшей мере два раза объехала вокруг света. Что вполне вероятно, ведь Роз было почти девяносто, но она до сих пор сохраняла былое изящество. Ее морщинистое, как грецкий орех, лицо было умиротворенным, а выцветшие глаза выражали спокойное приятие того, что произошло, и того, что должно произойти. Взглянув на Роз, Оливия тут же устыдилась своей трусости. Она смотрела прямо перед собой, слушала музыку и наконец решилась взглянуть на гроб с мамой. Но она его не увидела, столько было вокруг цветов.
Откуда-то сзади, от открытых дверей церкви, донеслись приглушенный шум, тихие голоса, затем быстрые шаги по проходу. Обернувшись, Оливия увидела, как садятся на пустую скамью позади нее Данус и Антония.
— Вы все-таки успели.
Антония наклонилась вперед. Она, видимо, немного оправилась, щеки ее порозовели.
— Извини, мы опоздали, — прошептала она.
— Как раз вовремя.
— Оливия… это Данус.
Оливия улыбнулась.
— Я знаю, — сказала она.
Где-то высоко над их головами часы пробили три.
Когда служба почти закончилась и все слова в память умершей были сказаны, мистер Тиллингэм объявил, какой будут петь гимн. Миссис Тиллингэм заиграла вступление, и все прихожане, глядя в раскрытые сборники церковных гимнов, поднялись на ноги.
Святые, что отдыхают от трудов своих, Что возвещали, о Господи, пред миром веру в Тебя, Да будут благословенны во веки веков! Аллилуйя!Прихожане хорошо знали мелодию, и их громкие голоса звенели под изъеденными червем стропилами. Возможно, это был не самый подходящий для похорон гимн, но Оливия выбрала его, потому что точно знала — он больше всего нравился Пенелопе. Она должна сохранить в памяти все, что мама любила; не только чудесную музыку, но и ее радушие и приветливость, любовь к цветам и телефонные звонки, которые пробивались к тебе именно тогда, когда был особенно нужен долгий задушевный разговор. Да и не только это. Надо помнить и все остальное — мамину готовность в любую минуту рассмеяться, ее стойкость, терпимость и любовь. Оливия поняла, что ни за что на свете не должна допустить, чтобы из ее жизни ушли эти качества только потому, что умерла мама. Потому что если она их потеряет, то лишится самого лучшего в себе, в своей такой непростой личности, и все, что в ней останется, это врожденный интеллект и неустанно толкающее вперед честолюбие. Оливия никогда не стремилась к созданию домашнего очага, но мужчины ей были нужны если не как любовники, то как друзья. Чтобы получать любовь, она должна остаться женщиной, готовой ее отдавать, иначе станет озлобленной и одинокой старухой, злой на язык, без единого друга на всем свете.
Следующие несколько месяцев ей придется нелегко. Пока мама была жива, где-то в глубине души Оливия не переставала ощущать себя ребенком, которого любят и лелеют. Наверное, никто не может стать по-настоящему взрослым, пока жива его мать.
Ты, Господи, их камень, их крепость, их мощь, Ты их полководец в праведной борьбе.Она пела. Пела громко. Не потому, что у нее был громкий голос, а потому, что пение помогало отогнать страх и обрести мужество. Так для храбрости дети часто насвистывают, оказавшись в темноте.
Ты их истинный свет во тьме уныния. Аллилуйя!Нэнси не удержалась и заплакала. Все время, пока шла служба, она мужественно сдерживалась, но в какой-то миг потеряла самообладание, и слезы хлынули у нее из глаз. Она плакала, и все присутствующие, без сомнения, испытывали неловкость; но она ничего не могла поделать и лишь громко сморкалась. Нэнси истратила почти все бумажные салфетки, которые предусмотрительно затолкала в сумочку.
Больше всего на свете она жалела, что ей не привелось снова увидеть маму… или хотя бы поговорить с ней… после того последнего безобразного разговора, когда мама позвонила по телефону из Корнуолла пожелать им всем веселого праздника. Но мама вела себя очень странно, а, как всем известно, некоторые вещи не следует держать в себе, их надо обсуждать в открытую. И наконец, она первая положила трубку, и, прежде чем Нэнси успела выяснить с ней отношения и помириться, мама умерла.
Нэнси не считала себя виноватой. Но совсем недавно, проснувшись среди ночи, почувствовала бесконечное одиночество, и по щекам у нее поползли слезы. И сейчас она плакала, не обращая внимания на окружающих и на то, что они думают, глядя на ее горе. Оно было очевидно, и ей нисколечко не было стыдно. Слезы текли по щекам, и она не пыталась сдерживать их; они продолжали течь, как вода, заливая такие тягостные, такие жгучие угли не признанной ею вины.
Пусть и сегодня Твое верное воинство Храбро сражается и побеждает, Не уступая в доблести святым прошлого, стяжавшим вечную славу. Аллилуйя!Ноэль не участвовал в пении и даже не потрудился открыть сборник гимнов. Он неподвижно стоял у конца скамьи, одна рука в кармане пиджака, другая на деревянной спинке предыдущего ряда. На его красивом лице не отражалось ничего, и по лицу никак нельзя было догадаться, о чем он думает.
О, благословенный союз! Святое братство! Мы боремся слабо, они же осиянны славой.Миссис Плэкетт, стоя в конце прохода, пела радостный гимн вместе со всеми. Она высоко подняла сборник гимнов, развернув свою внушительную грудь. «Прекрасная служба. Музыка, цветы и теперь этот гимн… миссис Килинг должна быть довольна. И так славно все получилось. Пришла вся деревня. И Соукомбы, и мистер и миссис Ходкинз, владельцы паба „Сьюдли Армз“. Мистер Китсон, управляющий местным отделением банка в Пудли, и Том Эдли, владелец газетных киосков, и прочие. И все члены семьи держатся прекрасно, кроме этой миссис Чемберлейн, которая плачет на глазах у всех». Миссис Плэкетт не одобряла открытого проявления эмоций. Ее девиз — ничего не выставляй напоказ. Как раз поэтому они всегда жили с миссис Килинг душа в душу. Миссис Килинг была настоящим другом. Миссис Плэкетт долго будет ее не хватать. Она оглядела заполненную до отказа церковь и мысленно сделала кое-какие подсчеты. Сколько из здесь присутствующих вернутся в дом к чаю? Сорок? Наверное, сорок пять. Будет очень хорошо, если мистер Плэкетт догадается поставить на огонь воду.
Но Ты соединяешь нас всех, ибо все мы дети Твои. Аллилуйя!Она надеялась, что пирога хватит всем.
15. Мистер Эндерби
В четверть шестого последние участники похорон, которые зашли выпить чашку чаю, попрощались и разъехались по домам. Оливия вышла с ними на дорожку сада и, проводив взглядом последнюю машину, повернувшую из ворот за угол, с облегчением вернулась в дом. В кухне кипела работа. Мистер Плэкетт и Данус, которые последние полчаса регулировали разъезд машин, убирая с дороги неудачно поставленные автомобили, теперь помогали миссис Плэкетт и Антонии собрать со стола и вымыть чайную посуду. Миссис Плэкетт с засученными рукавами стояла у мойки с мыльной водой, а ее покладистый супруг вытирал серебряный чайник. Жужжала посудомоечная машина. Данус нес в кухню очередной поднос, заставленный чашками и блюдцами, а Антония вынимала из коробки пылесос.
Увидев, что работа идет полным ходом и без нее, Оливия остановилась в растерянности.
— А что мне делать? — спросила она у миссис Плэкетт.
— Ничего. — Та даже не обернулась; покрасневшими руками она ставила блюдца на решетку, работая быстро и точно, как на конвейере. — Я всегда говорю: если взяться дружно, и работа спорится.
— Чай был чудесный. Пирога не осталось ни кусочка.
Но у миссис Плэкетт не было ни времени, ни желания вести светскую беседу.
— Почему бы вам не пойти в гостиную и не дать ногам отдохнуть? Там уже сидят миссис Чемберлейн, ваш брат и другой джентльмен. Через десять минут столовая будет в полном порядке, и вы сможете начать ваше небольшое совещание.
Предложение было резонным, и Оливия не стала возражать. Она безумно устала, к тому же от долгого стояния у нее болела спина. Проходя по коридору, она с вожделением посмотрела на лестницу, мечтая взбежать по ступеням, забраться в горячую ванну, а потом лечь в постель, растянувшись на прохладной простыне и мягких подушках с интересной книжкой в руках. «Потом, — сказала она себе. — День еще не кончился. Потом».
В гостиной, где уже не осталось никаких следов чаепития, она нашла удобно устроившихся Ноэля, Нэнси и мистера Эндерби, занятых светской беседой. Нэнси и мистер Эндерби расположились в креслах по обе стороны камина, а Ноэль, как всегда, стоял спиной к камину, прислонившись к каминной полке. Когда Оливия вошла, мистер Эндерби встал. Ему было немного больше сорока, но из-за лысины, пенсне и строгого костюма он казался гораздо старше. Тем не менее он держался легко и свободно, и еще раньше, во время чаепития, Оливия заметила, как просто он общается с другими гостями, передавая чашки и тарелки с сандвичами и пирогом. Он также немного поговорил с Данусом, и это было очень мило с его стороны, потому что Нэнси и Ноэль не обращали на парня никакого внимания. Видно, они не могли простить ему поездку с Пенелопой в Корнуолл и роскошные номера в «Золотых песках» за ее счет.
— Извините, мистер Эндерби, боюсь, нам придется еще чуть-чуть подождать. — Оливия с наслаждением опустилась на тахту с краю, и мистер Эндерби снова сел.
— Ничего. Я вовсе не тороплюсь.
Из столовой послышался гул пылесоса.
— Сейчас они приведут все в порядок, и мы сможем начать. А ты, Ноэль, не очень спешишь? У тебя ничего срочного нет в Лондоне?
— Нет, сегодня я не тороплюсь.
— А ты, Нэнси? У тебя есть еще время?
— Немного есть. Правда, я должна забрать детей и обещала не опаздывать. — Нэнси, проплакавшая всю службу, уже успокоилась и снова стала бодрой и жизнерадостной. А может быть, она казалась такой оттого, что сняла шляпу. Джордж уже уехал, простившись со всеми прямо на кладбище под громкие стоны и увещевания Нэнси, умолявшей его быть осмотрительным в пути и передать привет архидьякону. Пообещав выполнить обе просьбы, он сказал: «Хочу вернуться засветло. Не люблю ездить в темноте».
Шум пылесоса стих. Почти в ту же минуту дверь приоткрылась, и миссис Плэкетт, все еще в траурной шляпке, заглянула в комнату:
— Все, мисс Килинг.
— Большое спасибо, миссис Плэкетт.
— Если вы не возражаете, мы с мистером Плэкеттом поедем домой.
— Конечно. Не знаю, как вас и благодарить.
— Мне было приятно вам помочь. До завтра.
Она исчезла за дверью. Нэнси нахмурила брови:
— Завтра воскресенье. Зачем она придет завтра?
— Она поможет мне разобрать мамину комнату. — Оливия встала. — Пойдемте?
Она прошла в столовую. Всюду была чистота, стол накрыт зеленым сукном.
Ноэль удивленно поднял брови:
— Похоже на заседание правления.
Никто не откликнулся на его замечание. Они сели за стол. Мистер Эндерби занял место во главе стола, Ноэль и Оливия — по обе стороны от него. Нэнси села рядом с Ноэлем. Мистер Эндерби открыл портфель и, вытащив из него пачку бумаг, положил их перед собой. В эту минуту он действительно был похож на председателя собрания. Все ждали, когда он начнет.
Мистер Эндерби откашлялся.
— Сначала позвольте мне поблагодарить вас всех, что согласились остаться после похорон вашей матушки. Надеюсь, это не причинит вам больших неудобств. Официальное чтение всего завещания, строго говоря, не обязательно, но мне показалось, что сегодня, когда вся семья в сборе, как раз очень удобный случай сообщить вам, как ваша матушка распорядилась своим имуществом, и, если возникнет такая необходимость, пояснить отдельные моменты, которые могут вызвать сомнения или недопонимание. Итак… — Порывшись в бумагах, мистер Эндерби вытащил длинный узкий конверт, вынул из него увесистый, сложенный втрое документ и, развернув, разложил его на столе. Оливия заметила, как Ноэль украдкой перевел взгляд на свои ногти, не желая, чтобы кто-то видел, как он заглядывает в документ краешком глаза, как школьник, подсматривающий в экзаменационную работу соседа.
Мистер Эндерби поправил очки.
— Последняя воля Пенелопы Софии Килинг, урожденной Стерн, составленная восьмого июля тысяча девятьсот восьмидесятого года. — Он поднял глаза. — Если вы не возражаете, я не буду читать все слово в слово, а просто изложу желания вашей матушки своими словами по порядку. — Все кивнули в знак согласия. Он продолжал: — Во-первых, есть два завещательных распоряжения, которые касаются не членов семьи. Миссис Флоренс Плэкетт, проживающей по улице Ходжес-роуд, сорок три, Пудли, графство Глостершир, оставлена сумма в две тысячи фунтов. И миссис Дорис Пенберт, Уорфлен, семь, Порткеррис, Корнуолл, оставлена сумма в пять тысяч фунтов.
— Прекрасно, — сказала Нэнси, в кои-то веки одобрившая щедрость матери. — Миссис Плэкетт просто сокровище. Даже не знаю, что бы мама без нее делала. То же самое можно сказать в отношении Дорис. Она была любимой подругой мамы. Всю войну они прожили вместе и очень сдружились.
— Полагаю, я уже знаком с миссис Плэкетт, но, мне кажется, миссис Пенберт с нами сегодня не было.
— Она просто не смогла приехать, но позвонила и предупредила, что не сможет быть на похоронах. У нее заболел муж, и она побоялась оставить его одного. Но она очень, очень расстроена.
— В таком случае я напишу этим двум дамам и сообщу о завещанных им суммах. — Мистер Эндерби сделал пометку. — А теперь, покончив с этим, перейдем к имуществу, оставленному членам семьи. — Ноэль откинулся на спинку стула, нащупал в нагрудном кармане и вынул серебряную ручку. Он стал вертеть ее в руках, то отвинчивая колпачок большим пальцем, то завинчивая его снова. — Начнем с того, что, согласно желанию миссис Килинг, каждый из вас получит определенные предметы мебели из этого дома. Нэнси — столик в стиле эпохи регентства, который стоит в спальне рядом с тахтой. По-моему, он служил для вашей мамы туалетным столиком. Оливия — бюро из гостиной, которое когда-то принадлежало отцу миссис Килинг, покойному Лоренсу Стерну. Ноэлю отойдут обеденный стол и шесть стульев. Тех самых, на которых, я полагаю, мы сейчас сидим.
Нэнси обернулась к брату:
— Где ты их поставишь? В твоей квартирке и повернуться негде.
— Наверное, куплю другую.
— Тогда в ней должна быть столовая.
— Не волнуйся, будет, — коротко бросил он. — Продолжайте, пожалуйста, мистер Эндерби.
Но Нэнси не унималась:
— Это все?
— Я не понял вас, миссис Чемберлейн.
— Я хотела сказать… а как же ее драгоценности?
Ну вот, началось, подумала Оливия.
— Нэнси, у мамы не было драгоценностей. Она продала свои кольца много лет назад, чтобы заплатить долги отца.
Но та закусила удила, как всегда в тех случаях, когда Оливия так сурово говорила о ее любимом покойном папочке. Вовсе незачем быть такой грубой, говорить о нем такие вещи в присутствии мистера Эндерби.
— А как насчет сережек тетушки Этель? Тех самых, которые она оставила маме в наследство? Они, должно быть, стоят не меньше четырех, а то и пяти тысяч фунтов. О них что-нибудь есть в завещании?
— Она их подарила, — сказала Оливия, — Антонии.
После этих слов воцарилось молчание. Его нарушил Ноэль. Положив локоть на стол, он нервно пробежал рукой по волосам и сказал:
— О боже!
Над зеленым сукном стола Оливия увидела глаза сестры. Ярко-голубые, широко открытые, горящие гневом и возмущением. На щеках Нэнси появился румянец. Наконец она сказала:
— Не может этого быть.
— Боюсь, что это так. — Мистер Эндерби говорил спокойным тоном. — Миссис Килинг подарила серьги Антонии, когда они вместе ездили на праздники в Корнуолл. Она рассказала мне об этом, когда приезжала ко мне в Лондон за день до смерти. Она твердо стояла на том, что спор о серьгах недопустим и тем более вопрос о законном владении ими.
— А ты как узнала, что мама подарила их Антонии? — спросила Нэнси Оливию.
— Она написала мне об этом в письме.
— Они должны были перейти к Мелани.
— Нэнси, Антония была бесконечно добра к маме, и мама ее очень любила. Антония скрасила последние несколько недель ее жизни. Она поехала с ней в Корнуолл и была с ней рядом, чего никто из нас сделать не смог.
— Ах, и за это мы должны быть ей благодарны? Ну уж, извини, как раз наоборот…
Этот спор мог бы продолжаться бесконечно, если бы не мистер Эндерби, который, чтобы положить ему конец, негромко кашлянул, как бы прочищая горло. Вне себя от бешенства, Нэнси все-таки замолчала, а Оливия вздохнула с облегчением. На какое-то время страсти улеглись, но она ни минуты не сомневалась, что Нэнси этого так не оставит и вопрос о сережках тети Этель будет возникать еще не раз, став предметом горьких сетований сестры.
— Извините, мистер Эндерби. Мы вас задерживаем. Пожалуйста, продолжайте, — сказала она.
Он взглянул на нее с благодарностью.
— Теперь перейдем к наследству, свободному от долгов и завещательных отказов. Когда миссис Килинг составляла завещание, она очень ясно дала мне понять, что между вами тремя не должно быть никаких разногласий по поводу оставленного ею имущества. В соответствии с этим пожеланием мы решили, что самое лучшее — продать все имущество, а вырученные деньги разделить между вами поровну. Чтобы все это осуществить, необходимо было назначить попечителей имущества, и мы решили, что душеприказчики в лице фирмы «Эндерби, Лусби и Тринг» возьмут эту обязанность на себя. Это понятно? Возражений нет? Прекрасно. В таком случае… — Он начал читать завещание. — «Я поручаю моим попечителям продать мое имущество, движимое и недвижимое, инкассировать и обратить в деньги». Вы что-то хотите спросить, миссис Чемберлейн?
— Я не понимаю, что имеется в виду?
— Это означает все имущество миссис Килинг, в том числе этот дом, находящиеся в нем вещи, ее ценные бумаги и текущий счет в банке.
— Вы имеете в виду, что все должно быть продано, а общая сумма поделена между нами троими?
— Совершенно верно. Конечно, за вычетом всех долгов, налогов, сборов и расходов на похороны.
— Это для меня как-то не очень понятно.
Ноэль засунул руку в карман, вытащил блокнот-ежедневник, открыл чистую страницу и снял с ручки колпачок.
— Мистер Эндерби, может быть, вы объясните, из чего состоит имущество, а мы произведем приблизительные подсчеты?
— Очень хорошо. Начнем с дома. «Подмор Тэтч» со всеми его хозяйственными постройками и взрослым садом стоит, как я полагаю, не меньше двухсот пятидесяти тысяч. Ваша мама заплатила за него сто двадцать тысяч, но это было пять лет назад, а с тех пор цены на недвижимость значительно возросли. Кроме того, участок с домом весьма привлекателен для потенциальных покупателей, потому что он расположен недалеко от Лондона и к нему удобно ехать. Я не совсем точно представляю, сколько можно получить за вещи в доме, думаю, тысяч десять. И наконец, у миссис Килинг есть акции на сумму примерно двадцать тысяч фунтов.
Ноэль тихонько свистнул:
— Так много? Я и не подозревал.
— Я тоже, — сказала Нэнси. — Откуда у нее такие деньги?
— Это то, что осталось от денег, полученных за дом на Оукли-стрит, и после покупки «Подмор Тэтч». Их удалось удачно вложить в акции.
— Понятно.
— А текущий счет? — Ноэль записывал все цифры в блокнот, и ему, видимо, не терпелось их сложить и получить впечатляющий результат.
— В данный момент текущий счет миссис Килинг весьма велик. После того как туда была занесена сумма в сто тысяч фунтов, вырученных от продажи фирмой «Бутби» двух панно кисти ее отца, Лоренса Стерна, частному лицу. Конечно, из этой суммы будут удержаны пошлины и налог.
— Даже после этого… — Ноэль быстро произвел подсчеты, — получается больше трехсот пятидесяти тысяч. Приблизительно, конечно. — Услышав этот впечатляющий итог, все замолчали. Ноэль завинтил колпачок ручки, положил ее на стол и откинулся на спинку стула. — А ведь совсем неплохо получается, девочки.
— Я очень рад, — сухо сказал мистер Эндерби, — что вы удовлетворены.
— Ну что ж. — Ноэль потянулся во весь свой огромный рост и сделал движение, как будто собирался встать. — Что вы скажете, если я принесу всем нам чего-нибудь выпить? Мистер Эндерби, выпьете виски?
— С удовольствием. Но не сейчас. Боюсь, мы еще не кончили.
Ноэль нахмурился:
— А что еще мы должны обсудить?
— К завещанию вашей матушки есть еще дополнительное распоряжение от тридцатого апреля тысяча девятьсот восемьдесят четвертого года. Конечно, в нем подтверждается все, что уже есть в завещании, а так как распоряжение ничего не меняет в самом завещании, это не столь уж и важно…
Оливия стала вспоминать.
— Тридцатое апреля. Это как раз тот день, когда она посетила вас в Лондоне. За день до смерти.
— Совершенно верно.
— Она приехала специально, чтобы встретиться с вами?
— Думаю, что так.
— Чтобы сделать дополнительное распоряжение к завещанию?
— Да.
— Тогда прочитайте нам его.
— Сейчас, мисс Килинг. Но прежде чем я начну читать, хочу сказать, что оно написано рукой миссис Килинг и подписано ею в присутствии моего секретаря и клерка. — Он начал читать вслух: — «Данусу Мьюирфильду, работающему в механической мастерской, ферма Соукомба, Пудли, Глостершир, завещаю четырнадцать этюдов, написанных маслом, к основным картинам моего отца, Лоренса Стерна, созданным между тысяча восемьсот девяностым и тысяча девятьсот десятым годом. Они называются: „Террасные сады“, „Свидание“, „Влюбленный лодочник“, „Пандора“…»
Этюды, написанные маслом. Ноэль давно подозревал об их существовании и даже делился своими подозрениями с Оливией; он искал их в доме матери, но так и не нашел. Оливия повернула голову и посмотрела на брата через стол. Он сидел очень бледный, неподвижно, как изваяние. Щека возле правого уха подрагивала в нервном тике. Интересно, сколько он будет сидеть молча и когда взорвется, чтобы выразить бурный протест, подумала она.
— «…„У источника“, „Базар в Тунисе“, „Любовное письмо“…»
Где же они были все эти годы? В чьих руках? И как и откуда появились?
— «…„Душа весны“, „Утро петуха“, „Сад в Аморетте“…»
Больше Ноэль вынести не мог.
— Где они были?! — Голос его от возмущения стал резким и грубым.
Мистер Эндерби, несмотря на то что его так грубо прервали, сохранил невозмутимое спокойствие. Возможно, он ожидал от Ноэля подобной выходки. Он посмотрел на него поверх очков:
— Разрешите, я дочитаю до конца, мистер Килинг. А потом все объясню.
Воцарилось неловкое молчание.
— Продолжайте.
Мистер Эндерби не спеша продолжал:
— «…„Морской бог“, „Подарок“, „Белые розы“ и „Тайное убежище“. В настоящее время эти работы находятся у мистера Роя Брукнера из фирмы „Бутби“, занимающейся продажей произведений искусства, Нью-Бонд-стрит, Лондон, но предназначены для отправки на аукцион в Нью-Йорк при первом удобном случае. Если я умру до того, как они будут проданы, то они переходят к Данусу Мьюирфильду, и ему решать, продавать их или оставить у себя». — Мистер Эндерби откинулся на спинку стула и ждал, готовый выслушать любые замечания.
— Где они были? — повторил Ноэль.
— Много лет ваша матушка хранила их в глубине гардероба в спальне. Она поместила их туда сама и заклеила обоями, чтобы их нельзя было найти.
— Она не хотела, чтобы мы знали о их существовании?
— Я не думаю, что она спрятала их от своих детей. Скорее, от мужа. Миссис Килинг нашла эти этюды в старой мастерской отца в доме на Оукли-стрит. В то время семья испытывала денежные затруднения, и ей не хотелось продавать работы отца, чтобы просто иметь деньги на текущие расходы.
— Когда же они нашлись?
— Она пригласила к себе домой мистера Брукнера оценить и, возможно, продать две другие работы вашего деда. В тот же день она показала ему папку с этюдами.
— А когда вы узнали об их существовании?
— Миссис Килинг сама рассказала мне об этих этюдах в тот день, когда приехала добавить к завещанию дополнительное распоряжение. За день до смерти. Вы что-то хотели сказать, миссис Чемберлейн?
— Да. Я ни слова не поняла из того, что вы здесь говорили. Мне непонятно, о чем идет речь. Никто никогда не рассказывал мне про эти этюды. Я о них в первый раз слышу. Из-за чего весь этот переполох? И почему Ноэль придает им такое значение?
— Потому что они дорого стоят, — буркнул Ноэль, теряя терпение.
— Черновые наброски? Мне казалось, их обычно выбрасывают.
— Их выбрасывают только дураки.
— И сколько же они стоят?
— Четыре или пять тысяч каждый. А их четырнадцать. Четырнадцать! — вдруг крикнул он Нэнси, как будто она была глухая. — Ну-ка, посчитай, если ты вообще можешь производить элементарные арифметические действия, в чем я очень сомневаюсь.
Оливия быстро прикинула в уме. Семьдесят тысяч фунтов. И хотя поведение Ноэля было просто непристойно, ей стало его жалко. Он ведь был уверен, что этюды где-то здесь, в «Подмор Тэтч». И даже в одну из суббот провел целый день, мрачный и дождливый, разбирая чердак якобы для того, чтобы освободить его от лишнего хлама, а на самом деле занимаясь поисками этюдов. Любопытно было бы узнать, догадывалась ли Пенелопа об истинных причинах его усердия, и если да, то почему она ничего не сказала. Возможно, потому, что Ноэль был вылитый отец и она не вполне ему доверяла. И потому просто передала их в руки мистера Брукнера, а за день до своей смерти решила оставить Данусу.
Но почему? Почему именно ему?
— Мистер Эндерби… — Это были первые слова Оливии с тех пор, как тот начал читать дополнительное распоряжение. Мистер Эндерби был рад услышать ее спокойный голос и внимательно слушал. — Мама объяснила как-нибудь, почему она завещает этюды Данусу Мьюирфильду? Я хочу сказать, — Оливия осторожно выбирала слова, не желая показаться недовольной или жадной, — что они были ей очень дороги, это очевидно… а Дануса она знала очень недолго.
— Я не могу ответить на этот вопрос просто потому, что не знаю ответа. Этот молодой человек очень ей нравился, и, наверное, она хотела ему помочь. Кажется, он мечтает открыть свое небольшое дело, и ему нужен начальный капитал.
— Мы можем оспорить это дополнительное распоряжение? — спросил Ноэль.
Оливия повернулась к брату.
— Мы ничего не собираемся оспаривать, — решительно сказала она. — Даже если бы по закону мы имели такую возможность. Я не желаю об этом слышать.
Нэнси, мучительно производившая в уме какие-то подсчеты, вдруг вступила в разговор:
— Но пять умножить на четырнадцать будет семьдесят. Вы что, хотите сказать, что этот молодой человек получит семьдесят тысяч фунтов?
— Да, миссис Чемберлейн, если он решит продать этюды.
— Но это же неправильно. Мама его почти не знала. Он работал у нее в саду. — Нэнси понадобилось всего несколько минут, чтобы довести себя почти до истерики. — Это возмутительно! Я сразу поняла, что он за птица. Я всегда говорила, что они вертят мамой, как хотят. Я ведь говорила тебе об этом, Ноэль, по телефону, когда рассказывала о том, что она отдала даром «Собирателей ракушек». И сережки тети Этель… тоже, а теперь еще и этюды. Это последняя капля. Все. Все раздарено. Мама определенно была не в своем уме. Она была больна и не могла судить здраво. Другого объяснения просто не придумаешь. Я уверена, мы можем возбудить судебное дело.
Ноэль в кои-то веки был с Нэнси заодно.
— Я не буду сидеть сложа руки и наблюдать, как все плывет мимо меня…
— …она была не в своем уме…
— …слишком многое поставлено на карту…
— …воспользовались ее добротой, чтобы поживиться…
Оливия не выдержала:
— Хватит. Замолчите. — Она сказала это тихо, с едва сдерживаемой яростью в голосе; этот тон уже многие годы вселял в сотрудников журнала «Венера» трепет и уважение. Однако Ноэль и Нэнси его никогда раньше не слышали. Застигнутые врасплох, они уставились на сестру с удивлением и страхом.
В наступившей тишине Оливия заговорила:
— Я больше не желаю этого слышать. Все. Мама умерла, и сегодня мы ее похоронили, а слушая, как вы грызетесь, будто две паршивые собаки, я прихожу к выводу, что об этом вы уже забыли. Вы все время думаете и говорите только об одном — сколько вы от нее получите. Теперь мы это знаем, нам только что рассказал мистер Эндерби. О маме никак нельзя сказать, что она была не в своем уме… Напротив, это была самая умная женщина из всех, кого я знаю. Да, иногда она была чрезмерно щедрой, но неразумной — никогда. Она была практичной и дальновидной, все обдумывала заранее. Разве иначе она смогла бы вырастить нас, ведь у нее никогда не было денег, а муж проигрывал все, что попадало ему в руки? Что касается меня, то я очень довольна и думаю, вы должны быть довольны тоже. Она подарила нам чудесное детство, всем троим помогла встать на ноги в начале жизненного пути и даже сейчас, когда умерла, обеспечила безбедную жизнь. Теперь о сережках. — Оливия посмотрела на Нэнси холодным обвиняющим взглядом. — Если мама решила отдать их Антонии, а не тебе или Мелани, то, я уверена, на то были веские причины. — Нэнси опустила глаза и сняла пушинку с рукава жакета. — И если этюды получит не Ноэль, а Данус, значит для этого тоже были основания. — Ноэль открыл было рот, но передумал и закрыл его снова, ничего не сказав. — Она поступала по своему разумению. Делала то, что хотела. Это главное. И больше об этом ни слова.
Все это Оливия высказала, ни разу не повысив голоса. Воцарилось молчание, и она в полной тишине ждала бурных возражений от Нэнси и Ноэля в ответ на свою разгромную речь. Несколько мгновений спустя Ноэль, сидевший напротив, зашевелился на своем стуле. Оливия бросила на него убийственный взгляд и вся напряглась, готовясь к продолжению ближнего боя, но оказалось, что он не собирался ничего говорить. Он поднял руку, протер глаза, провел рукой по волосам и этим жестом признал свое поражение красноречивее всяких слов. Потом распрямил плечи и поправил узел черного шелкового галстука. К нему вернулось самообладание. Он даже попытался улыбнуться.
— После такого накала страстей, — сказал он, обращаясь ко всем сразу, — я думаю, мы все заслужили по стаканчику виски. — Он встал. — Вам принести, мистер Эндерби?
Так, очень мягко, он закрыл совещание и немного разрядил обстановку. Мистер Эндерби, явно почувствовавший большое облегчение, охотно согласился выпить и стал собирать и укладывать в портфель бумаги. Нэнси, пробормотав что-то о необходимости попудрить нос и пытаясь сохранить последние остатки былого величия, взяла сумочку и вышла из комнаты. Ноэль последовал за ней, отправившись на поиски льда. Оливия и мистер Эндерби остались одни.
— Извините нас, — сказала она.
— Ничего страшного. Вы произнесли блестящую речь.
— Вы ведь не думаете, что мама была не в своем уме?
— Конечно нет.
— Вы сегодня беседовали с Данусом. Вы не находите его хитрым или неискренним?
— Ни в коем случае. Совсем наоборот. Мне он показался очень порядочным молодым человеком.
— И все же мне бы очень хотелось знать, почему она завещала ему такую огромную сумму?
— Думаю, мы не узнаем этого никогда.
Оливия понимала, что он прав.
— Когда вы скажете об этом Данусу?
— Когда будет подходящая минута.
— Вам не кажется, что сейчас время самое подходящее?
— Я готов, если мне удастся поговорить с ним с глазу на глаз в спокойной обстановке.
Оливия улыбнулась:
— Вы хотите сказать, когда уедут Ноэль и Нэнси.
— Да, лучше отложить разговор до их отъезда.
— Ничего, что вам придется еще задержаться?
— Могу я позвонить жене?
— Конечно. Я хочу, чтобы Данус узнал об этом сегодня, потому что он, вероятно, останется здесь до завтра, и мне будет очень нелегко общаться с ним, если я буду все знать, а он нет.
— Я вас понимаю.
Ноэль вернулся, неся ведерко со льдом.
— Оливия, там для тебя записка на кухонном столе. Данус и Антония уехали в местный пивной бар чего-нибудь выпить. Они вернутся в половине седьмого.
Все это он сказал совершенно непринужденно, впервые произнеся их имена без злобы и ехидства. И в сложившейся ситуации это не могло не радовать. Оливия обернулась к мистеру Эндерби:
— Вы сможете подождать до половины седьмого?
— Безусловно.
— Очень вам благодарна. Вы проявили чудеса терпения.
— По долгу службы, мисс Килинг, приходится быть терпеливым.
Причесав наверху волосы, припудрив нос и постепенно взяв себя в руки, Нэнси спустилась в столовую и объявила, что ей пора ехать домой.
Оливия удивилась.
— Ты разве не выпьешь вместе с нами?
— Пожалуй, нет. Мне далеко ехать, не хочу попасть в аварию. До свидания, мистер Эндерби. Спасибо вам за помощь. Пожалуйста, не вставайте. До свидания, Ноэль. Желаю благополучно добраться до Лондона. Не провожай меня, Оливия. Я сама.
Но Оливия поставила стакан на стол и вышла вместе с сестрой из дома. Чудесный весенний день клонился к вечеру, в воздухе витали прохлада и благоухание. Небо было высоким и чистым, и лишь на западе окрашено в розовые тона. Мягкий ветерок шевелил листву на самых макушках деревьев, и с холма за деревней доносилось блеяние овец и ягнят.
Нэнси огляделась:
— Нам очень повезло с погодой. Все получилось весьма удачно, Оливия. Ты так хорошо все организовала.
Видно было, что она старается загладить неприятное впечатление.
— Спасибо, — сказала Оливия.
— Представляю, как тяжело тебе было.
— Да, пришлось немало потрудиться. И все равно кое-что еще надо доделать. Надгробие на маминой могиле. Но об этом мы еще как-нибудь поговорим.
Нэнси уселась в машину.
— Когда ты возвращаешься в Лондон?
— Завтра вечером. Утром в понедельник я должна быть на работе.
— Я тебе позвоню.
— Звони. — Оливия немного замялась и вдруг вспомнила обещание, которое дала себе не далее как сегодня днем. Мама всегда целовала их на прощание. Она наклонилась к открытому окну и поцеловала Нэнси в щеку. — Будь осторожна на дороге, — сказала она сестре, а потом с какой-то бесшабашностью (назвался груздем, полезай в кузов) добавила: — Передай привет Джорджу и детям.
Войдя в дом, она увидела, что мужчины покинули столовую и удобно расположились в гостиной. Ноэль задернул шторы и зажег камин, но, как только допил свое виски, посмотрел на часы, поднялся и заявил, что ему пора ехать. Мистер Эндерби выразил желание позвонить жене, и Оливия, оставив его одного, вышла проводить Ноэля.
— По-моему, сегодня я только и делаю, что кого-нибудь провожаю, — сказала она.
— Ты устала. Ложись пораньше спать.
— Наверное, мы все устали. У нас был тяжелый день. — Становилось прохладно. Она обхватила себя руками, стараясь согреться. — Жаль, что все так вышло, Ноэль. Конечно, было бы неплохо, если бы этюды попали в твои руки. Видит бог, ты приложил немало сил, чтобы их отыскать. Но так уж получилось, и ничего тут не поделаешь. Однако согласись, мы и так получили немало. За этот дом мы выручим большие деньги. Так что не стоит зацикливаться на воображаемых обидах и мрачных мыслях о несправедливости. Так ты лишишься душевного равновесия, и жизнь станет тебе не мила.
Ноэль улыбнулся. Улыбка была не очень радостная, но все же улыбка.
— Пришлось проглотить чертовски горькую пилюлю, но ничего другого не оставалось. А все-таки любопытно, почему мама ни разу даже словом не обмолвилась об этих этюдах, не упомянула об их существовании. И почему она завещала их этому парню?
Оливия пожала плечами:
— Может быть, он ей очень нравился? Или она жалела его? Может, хотела помочь?
— Нет, здесь что-то другое, но что?
— Может быть, ты и прав. — Она поцеловала его на прощание. — Но мы этого никогда не узнаем.
Он сел в свой «ягуар» и уехал, а Оливия все еще стояла, прислушиваясь к удаляющемуся шуму его машины с неисправным глушителем. Наконец он совсем стих, и снова воцарилась вечерняя тишина. Стали слышны будничные деревенские звуки — блеяние овец на склоне холма через дорогу, шелест листвы в верхушках деревьев от легкого ветерка, лай собак. Потом она услышала быстрые шаги и молодые голоса. Это возвращались из паба Данус и Антония. Вот их головы появились над оградой, и, когда они вошли в ворота, Оливия успела заметить, что Данус обнимал Антонию за плечи, а она обмотала красный шарф вокруг шеи и вся раскраснелась. Они подняли глаза и увидели, что Оливия их ждет.
— Оливия, ты почему стоишь здесь одна?
— Я провожала Ноэля. Услышала ваши голоса. Ну как провели время?
— Мы просто пошли немножко выпить. Ты ведь не против, да? Я никогда не была в пивном баре. Мне там понравилось. Он такой старомодный, и Данус играл в дартс с местным почтальоном.
— И как, выиграл?
— Нет. Куда мне! Я проиграл ему кружку пива.
Все вместе они вошли в дом. В кухне было тепло, и Антония сняла шарф.
— Совещание уже кончилось?
— Да. Нэнси тоже уехала. Но мистер Эндерби еще здесь. — Она повернулась к Данусу. — Он хочет с тобой поговорить.
Данус очень удивился:
— Со мной?
— Да. Он в гостиной. Иди туда прямо сейчас, а то бедняга, наверное, ждет не дождется, когда сможет наконец уехать домой, к жене.
— Но о чем он может говорить со мной?
— Не знаю, — соврала Оливия. — Почему бы тебе не узнать это от него самого?
Озадаченный Данус пошел в гостиную. Дверь за ним закрылась.
— О чем мистер Эндерби хочет говорить с Данусом? — На лице Антонии были написаны недоверие и самые недобрые предчувствия. — Как ты думаешь, ему ничего не угрожает?
Оливия прислонилась к краю кухонного стола.
— Нет, в этом я не сомневаюсь ни минуты.
Однако ее слова не убедили Антонию. Оливии больше не хотелось об этом говорить, и она решительно сменила тему:
— Что у нас на ужин? Данус останется к ужину?
— Если ты не возражаешь.
— Конечно нет. Мне кажется, ему следует у нас переночевать. Найдем ему какую-нибудь кровать.
— Это было бы здорово. Он не жил у себя больше двух недель. Наверное, там сейчас сыро и неуютно.
— Расскажи, что произошло в Эдинбурге. Он оказался вполне здоров?
— Да. С ним все в порядке. Он здоров. Не эпилептик и никогда им не был.
— Отличная новость.
— Да. Просто какое-то чудо.
— Он очень много для тебя значит, да?
— Да.
— А ты, как я понимаю, для него.
Антония, вся сияя, кивнула.
— Какие у вас планы?
— Он хочет завести тепличное хозяйство и начать свое дело. А я буду ему помогать. Мы будем работать вместе.
— А как же его работа здесь, в Пудли?
— Он выйдет на работу в понедельник и за месяц предупредит об уходе. Его хозяин так хорошо к нему отнесся, разрешив взять этот отпуск, что он не может просто так уйти и твердо намерен отработать еще месяц.
— А потом?
— А потом мы уедем отсюда и снимем или купим какое-нибудь жилье. В Сомерсетшире, а может быть, в Девоншире. Но я все равно останусь здесь, пока не будут проданы дом и мебель. И сделаю все, что обещала: буду показывать дом и сад покупателям, а Данус последит за садом.
— Прекрасная идея. Я думаю, ему не нужно возвращаться в свой дом. Пусть живет здесь, с тобой. Мне будет гораздо спокойнее, если он поселится тут, и тебе не будет одиноко. Он может пользоваться маминой машиной, а ты будешь мне звонить и рассказывать, сколько потенциальных покупателей осмотрело дом. Я попрошу миссис Плэкетт, если, конечно, она согласится, по-прежнему прибирать в доме, пока он не будет продан. Она будет содержать его в образцовом порядке, а тебе будет с ней веселей, пока Данус работает у других. — Она улыбнулась, как будто все придумала сама. — Видишь, как удачно все устроилось.
— Я только должна тебе вот что сказать. В Лондон я не приеду.
— Я так и поняла.
— Я очень тебе благодарна, что ты хотела мне помочь, но из меня не вышла бы фотомодель. Я слишком застенчива.
— Может быть, ты и права. Пожалуй, ты будешь гораздо лучше смотреться в высоких болотных сапогах с грязью под ногтями. — Они рассмеялись. — Антония, ты счастлива?
— Очень. Никогда не думала, что буду такой счастливой. Сегодня очень необычный день. Невероятно счастливый и в то же время ужасно грустный. Но мне почему-то кажется, Пенелопа бы все поняла. Я так боялась похорон. Я была на похоронах в первый раз, когда умер Космо, и все было ужасно. Поэтому я боялась, что и сегодня будет то же самое. Но сегодня было совсем по-другому. Что-то вроде праздника.
— Именно так мне и хотелось похоронить маму. Я с самого начала все так задумала. А теперь… — Оливия зевнула. — Слава богу, все прошло хорошо. И кончилось.
— У тебя усталый вид.
— Сегодня я слышу это уже не в первый раз. Обычно это означает, что я выгляжу старой.
— Ничего подобного. Иди наверх и прими ванну. И не думай об ужине. Я что-нибудь приготовлю. У нас есть какой-то суп в пакетике, а в холодильнике бараньи отбивные. Если хочешь, я принесу тебе ужин в постель.
— Не так уж я устала и не настолько стара, чтобы ужинать в постели. — Оливия оттолкнулась от стола и выгнула затекшую спину. — Но я с удовольствием залезу в ванну. Если мистер Эндерби соберется уехать до того, как я снова появлюсь здесь, передай ему мои извинения.
— Непременно.
— Попрощайся за меня и скажи, что я ему позвоню.
Спустя пять минут, когда Данус и мистер Эндерби, кончив свои дела, вошли в кухню, Антония чистила у мойки морковь. Она обернулась к ним с улыбкой, ожидая услышать хоть какое-то объяснение. Но ни один из них ничего не сказал, и, столкнувшись с этой мужской солидарностью, Антония побоялась спросить. Она передала мистеру Эндерби извинения Оливии.
— Она очень устала и пошла наверх принять ванну; просила ее извинить и пожелать вам всего хорошего; она надеется, вы ее поймете.
— Конечно. Я понимаю.
— Сказала, что будет вам звонить.
— Спасибо вам. А сейчас я, пожалуй, поеду домой. Жена ждет меня к обеду. — Он взял портфель в левую руку. — До свидания, Антония.
— Ой, — застигнутая врасплох, Антония поспешно вытерла о передник руку. — До свидания, мистер Эндерби.
— Желаю вам удачи.
— Спасибо.
Широким шагом он направился к двери и вышел на улицу в сопровождении Дануса. Оставшись одна, Антония снова стала чистить морковь, но мысли ее были далеко. Почему он пожелал ей удачи и что вообще происходит? Выйдя из гостиной, Данус подавленным не выглядел. Может быть, произошло что-то хорошее? А вдруг мистер Эндерби проникся симпатией к Данусу, когда они пили чай, и предложил помочь достать денег для покупки теплиц? Вряд ли, конечно, но тогда о чем он хотел с ним поговорить?
Она услышала шум отъезжающей машины, перестала скрести морковь и, прислонившись к мойке с ножом в одной руке и морковкой в другой, ждала, когда вернется Данус.
— Что он тебе сказал? — спросила она еще до того, как он переступил порог. — О чем хотел с тобой говорить?
Данус взял у нее из рук морковку и нож, положил их на мойку и заключил ее в объятия.
— Я хочу тебе что-то сказать.
— Что?
— Тебе, кажется, не придется продавать серьги тети Этель.
— Ау, дома есть кто-нибудь?
— Миссис Плэкетт?
— Где вы?
— Наверху, в маминой спальне.
Миссис Плэкетт поднялась по лестнице.
— Уже начали, да?
— Да нет. Пока только думаю, как нам лучше взяться за дело. Мне кажется, среди маминых вещей нет ничего такого, что можно было бы оставить. Все ее вещи старые и немодные, вряд ли кто захочет взять их себе. Я приготовила пластиковые мешки, мы просто положим туда все и отнесем на свалку.
— Но в следующем месяце миссис Тиллингэм устраивает благотворительный базар, чтобы собрать деньги на починку органа.
— Ну что ж. Давайте посмотрим, что можно использовать для этой цели. Решать будете вы. Вы вынимайте все вещи из гардероба, а я займусь комодом.
Миссис Плэкетт взялась за дело. Открыв обе дверцы гардероба, она стала вытаскивать целые охапки старых, но таких знакомых вещей. Когда она разложила их на кровати, некоторые оказались изношены до такой степени, что Оливия отвела глаза. Стыдно было даже на них смотреть. Она и так страшилась этого печального занятия, но, кажется, оно будет гораздо более мучительным, чем она предполагала. Впрочем, присутствие хозяйственной миссис Плэкетт немного смягчало душевную боль. Оливия опустилась на колени и выдвинула нижний ящик комода: свитера, кофты, штопаные-перештопаные на локтях. Белый мягкий шерстяной платок, темно-синяя теплая фуфайка, в которой мама работала в саду…
— А что будет с домом? — спросила миссис Плэкетт, когда они сортировали вещи.
— Он будет продан. Так хотела мама, да и никто из нас все равно жить в доме не хочет. Здесь останутся Данус и Антония; они будут показывать дом покупателям и поддерживать в саду порядок, пока его не купят. После этого мы продадим мебель.
— Антония и Данус? — сказала миссис Плэкетт, понимающе кивая и прикидывая, что это означает. — Очень хорошо.
— А потом они уедут отсюда и подыщут себе участок земли, купят или возьмут его в аренду. Они хотят выращивать овощи и рассаду. Вместе.
— Мне кажется, — сказала миссис Плэкетт, — они хорошо поладили. Кстати, где они? Войдя в дом, я не встретила ни его, ни ее.
— Они пошли в церковь.
— Да-а?
— Вы, похоже, это одобряете.
— Это хорошо, когда молодые люди ходят в церковь. Сейчас это бывает так редко. Я рада, что они будут вместе. Они прекрасная парочка. И хотя они очень молодые, у них головы хорошо работают. Что делать вот с этим?
Оливия обернулась. Старая мамина куртка с капюшоном для морских путешествий. В памяти вдруг ясно всплыла картина: мама и совсем юная Антония, прибывшие в аэропорт на Ивисе; на маме эта теплая куртка, и Антония бросается в объятия Космо. Как давно это было!
— Куртку выбрасывать не будем. Отложите ее для благотворительного базара.
Но миссис Плэкетт не спешила ее откладывать.
— Хорошая куртка. Толстая и теплая. Ее еще можно носить и носить.
— Тогда возьмите ее себе. В ней вам будет удобно ездить на велосипеде.
— Очень вам благодарна, мисс Килинг. — Миссис Плэкетт повесила куртку на спинку стула. — В ней я буду вспоминать вашу маму.
Следующий ящик. Белье, ночные рубашки, шерстяные колготки, пояса, шарфы, китайская шелковая шаль, вся вышитая ярко-красными пионами и отороченная бахромой. Черная кружевная мантилья.
Гардероб был уже почти пуст. Миссис Плэкетт нырнула в его глубины и воскликнула: «Вы только посмотрите!» В руках она держала плечики, а на них — платье из дешевого материала, совсем узенькое, на юную девушку; по красному полю были разбросаны белые ромашки, квадратный вырез у шеи и прямые подложенные плечи.
— Я его никогда не видела.
— И я тоже. Интересно, зачем она его хранила? Наверное, ходила в нем в годы войны. Его надо выбросить, миссис Плэкетт.
Верхний ящик. Кремы и лосьоны, наждачные пилочки для ногтей, старые флаконы из-под духов, коробочка пудры, пуховка из лебяжьего пуха. Нитка стеклянных бус янтарного цвета. Серьги. Жалкие дешевые побрякушки.
И обувь. Все мамины туфли. Они были хуже некуда и говорили о своей владелице еще красноречивей, чем все остальные вещи. Оливия безжалостно затолкала их в распухшие мешки.
Наконец разборка была закончена, хоть и не без горьких переживаний. Миссис Плэкетт туго завязала пластиковые мешки, они вдвоем стащили их волоком вниз по лестнице и вынесли из дома на площадку для мусора.
— Завтра утром их заберет мусорщик. Вот и конец всем вашим хлопотам.
В кухне миссис Плэкетт надела пальто.
— Не знаю, как вас благодарить, миссис Плэкетт. — Оливия наблюдала, как она укладывает куртку с капюшоном в полиэтиленовую сумку. — Одна бы я с этим не справилась.
— Очень рада была вам помочь. А теперь мне пора. Нужно приготовить мистеру Плэкетту обед. Счастливо добраться до Лондона, мисс Килинг, будьте осторожны. И отдохните, когда приедете. Неделя для вас была тяжелой.
— Я позвоню вам, миссис Плэкетт.
— Хорошо. И приезжайте как-нибудь к нам. Не хочется думать, что я вижу вас в последний раз.
Она села на велосипед и покатила по дороге, прямая и крепкая, с полиэтиленовой сумкой, раскачивающейся на руле.
Оливия поднялась в комнату Пенелопы. Лишенная личных вещей хозяйки, та казалась страшно пустой. Скоро дом будет продан, и в этой комнате поселится кто-то еще. Здесь будут другая мебель, другая одежда, другие запахи, другие голоса, другой смех. Оливия сидела на кровати и видела в окне свежую зелень цветущих каштанов. Где-то в густой листве, скрытый от посторонних глаз, пел дрозд.
Она огляделась. Взгляд ее упал на столик возле кровати, где стояла фарфоровая лампа с гофрированным бумажным абажуром. В столике был небольшой ящичек. Они не заметили этот ящик и не заглянули в него. Оливия выдвинула его и обнаружила пузырек с таблетками аспирина, пуговицу, огрызок карандаша и старомодный дневник. И в самой глубине — книгу.
Она сунула руку в ящик и вытащила ее. Тонкая книжечка в синем переплете. «Осенний журнал» Луиса Макнейса. В ней была толстая закладка. Книжка раскрылась как раз на заложенной странице. Там оказался тонкий листок пожелтевшей, плотно слежавшейся бумаги… — письмо? — и фотография.
Это была фотография мужчины. Оливия посмотрела на нее, отложила в сторону и стала разворачивать письмо, но тут взгляд ее упал на стихотворение на раскрытой странице книги. Так в поле зрения иногда попадает знакомое имя на газетной полосе…
Пришел сентябрь, ее месяц. Осенью она оживает, Ей по душе Огонь в камине и голые ветви дерев. Я подарил ей сентябрь и месяц за ним, Хоть весь год и без того ей подарен, Ей, давшей мне много дней невыносимых, полных смятения, Но еще больше дней безмерно счастливых. Она вошла в мою жизнь, оставив душистый след, И покинула мои стены, Снова и снова танцуя со своей тенью; Ее волосы вплетаются в дождевые струи, И улицы Лондона осыпаны памятными поцелуями.Стихотворение было ей знакомо. Оливия открыла для себя стихи Макнейса еще в Оксфорде, очень им заинтересовалась и с жадностью прочитала все, что он написал. И вот теперь, через много лет, строки его стихов снова тронули ее сердце и разбередили душу, как и тогда, когда она познакомилась с ними впервые.
Прочитав стихотворение еще раз, она отложила книгу.
Интересно, что она значила для мамы? Оливия снова взяла в руки фотографию.
Мужчина. В военной форме, но без фуражки. Он обернулся к фотографу, улыбаясь живой непринужденной улыбкой, как будто застигнутый врасплох. Ветер взлохматил его волосы, а вдали виднеются море и длинная линия горизонта. Мужчина. Оливия его никогда раньше не видела, и тем не менее в нем было что-то знакомое, хотя не совсем ясно, что именно. Она нахмурилась. Сходство? Не столько сходство, сколько отдаленное напоминание. Но о ком?
Конечно. Теперь, когда она догадалась, сходство казалось все более очевидным. Данус Мьюирфильд. Он похож на этого человека не глазами и не чертами лица, а чем-то едва уловимым. Посадкой головы, формой подбородка. Неожиданной теплой улыбкой.
Данус.
Неужели этот мужчина — ключ к разгадке, ответ на вопрос, который безуспешно задавали себе и мистер Эндерби, и Ноэль, и она сама?
Заинтересованная, Оливия взяла в руки письмо и развернула полуистлевшие страницы. Линованная бумага, аккуратный почерк образованного человека, строчки, выведенные пером.
Где-то в Англии 20 мая 1944 года
Любимая Пенелопа!
Последние несколько недель я много раз порывался написать тебе письмо. Но каждый раз успевал вывести на бумаге не больше четырех строк: то телефонный звонок, то громкий оклик, то стук в дверь или срочный вызов.
Но вот наконец пришла ночь, и я могу рассчитывать, что в течение часа никто меня не потревожит. Все твои письма дошли благополучно и служат для меня неиссякаемым источником радости. Я ношу их с собой повсюду, как влюбленный школьник, и перечитываю снова и снова бессчетное число раз. Уж если я не могу быть с тобой, то, читая их, могу хотя бы слышать твой голос…
Оливия вдруг остро ощутила, что совсем одна. В доме царили пустота и безмолвие. В маминой комнате — тишина, нарушаемая лишь шелестом переворачиваемых страниц. Окружающий мир, настоящее отошли на задний план. Она открывала для себя прошлое, прошлое мамы, о котором даже не подозревала.
Есть надежда, что Амброз проявит себя с лучшей стороны и даст тебе развод. Главное — чтобы мы могли быть вместе и в конце концов через какое-то время — конечно, чем раньше, тем лучше — пожениться. Когда-нибудь война ведь кончится… а даже самые дальние путешествия начинаются с первого шага, и, отправляясь в путешествие, очень неплохо заглянуть вперед.
Она отложила страницу в сторону и взяла другую.
…Не знаю почему, но я уверен, меня не убьют. Смерть, самый последний враг, представляется мне где-то очень далеко, за чередой прожитых лет и старческой немощью. И я просто уверен, что судьба свела нас вместе вовсе не для того, чтобы разлучить навсегда. Мы будем жить много-много лет.
Но его убили. Такая любовь могла кончиться только с жизнью. Он был убит и никогда не вернулся к маме, и все его планы и надежды на будущее остались неосуществленными; под ними подвела черту какая-то пуля или снаряд. Он был убит, а она продолжала жить. Вернулась к Амброзу и сражалась с трудностями и невзгодами всю жизнь, без горечи и сожалений, без капли жалости к самой себе. И ее дети ничего об этом не знали. Даже не догадывались. Об этом не знал никто. Пожалуй, это самое печальное. «Мама, ты должна была рассказать о нем. Рассказать мне. Я бы поняла. Я бы с готовностью выслушала тебя». Она с удивлением заметила, что глаза ее наполнились слезами. Слезы переливались через край, бежали по щекам, оставляя в душе странное, еще неведомое ощущение, что это происходит не с ней, а с кем-то еще. Она, конечно, плакала о маме. «Как я хочу, чтобы ты была здесь! Сейчас. Хочу говорить с тобой. Ты очень мне нужна».
Наверное, это хорошо, что она плачет. Она не плакала, когда узнала о смерти мамы, зато теперь дала волю слезам. Она была в доме совсем одна, никто не мог увидеть ее в слезах, слабой. Суровой и грозной мисс Килинг, главного редактора «Венеры», как не бывало. Оливия снова была девочкой-школьницей, которая врывалась в огромную комнату на первом этаже старого дома на Оукли-стрит с криком: «Мама!», уверенная, что мама обязательно отзовется. И от этих безудержных слез вдруг раскололась и рассыпалась в прах броня, которой она постаралась себя оградить, — ее самообладание и сдержанность. Без этой брони Оливия бы не продержалась первые несколько дней в том холодном мире, где мамы уже не было. И теперь, скорбя о маме, она наконец освободилась и снова стала простой смертной, самой собой.
Немного погодя, уже почти успокоившись, она взяла в руки последнюю страницу письма и дочитала его до конца.
Как бы мне хотелось быть рядом с тобой, вместе смеяться, вместе заниматься домашними делами в Карн-коттедже, который я привык считать своим вторым домом. Все в нем было хорошо в полном смысле этого слова. В этой жизни хорошее никогда не пропадает. Оно становится частью человека, частью его естества. И потому частица тебя всегда и всюду со мной. А часть меня вечно будет с тобой. Любовь моя, сокровище мое.
Ричард— Ричард. — Оливия произнесла это имя вслух.
«Часть меня вечно будет с тобой». Она сложила письмо и вместе с фотографией положила на место в «Осенний журнал». Закрыла книгу, откинулась на подушки и, глядя в потолок, подумала: «Теперь я знаю все». Но в глубине души она понимала, что это далеко не так, и больше всего на свете ей хотелось узнать все до мельчайших подробностей. Как мама и Ричард познакомились, как он вошел в ее жизнь, как между ними возникла любовь, глубокая и неотвратимая. И как его убили.
Кто мог это знать? Только один человек — Дорис Пенберт. Все военные годы Дорис и мама жили вместе. Между ними не было секретов. Волнуясь, Оливия стала строить планы. Как-нибудь в сентябре, когда на работе обычно бывает затишье, она возьмет несколько дней в счет отпуска и поедет в Корнуолл. Но сначала напишет Дорис, что хочет приехать в Порткеррис на несколько дней. Вполне вероятно, та предложит ей остановиться у себя в доме. Дорис будет много вспоминать о Пенелопе, и как-нибудь она подскажет ей имя Ричарда, и та ей все расскажет. Так она узнает все. Но разговорами дело не ограничится. Дорис покажет ей Порткеррис и все памятные для мамы места, где Оливия никогда не была. Покажет дом, где когда-то жила мама, картинную галерею, основанную при содействии Лоренса Стерна, и Оливия еще раз увидит «Собирателей ракушек».
Потом она стала думать о четырнадцати этюдах, написанных дедом на рубеже веков и ставших теперь собственностью Дануса. Вспомнила вчерашний разговор с Ноэлем: «Почему мама завещала их этому парню? Он ей очень нравился? Или она жалела его? А может, хотела помочь?» — «Нет, здесь что-то другое». — «Может, ты и прав. Но мы этого никогда не узнаем».
Она ошиблась. Мама оставила этюды Данусу по нескольким причинам. Своими бесконечными домогательствами Ноэль вывел ее из терпения, а в Данусе она видела человека, которому стоит помочь. Во время поездки в Порткеррис у нее на глазах зарождалась и расцветала его любовь к Антонии; чутье подсказывало ей, что со временем он на ней женится. Пенелопа испытывала к этой паре особую симпатию, ей хотелось помочь им начать самостоятельную жизнь. Но самая главная причина была в том, что Данус напоминал ей Ричарда. Видимо, это внешнее сходство бросилось ей в глаза с самого первого дня, с самого первого взгляда; и тогда она ощутила тесную связь, духовное родство с Данусом. Возможно, ей казалось, что через Дануса и Антонию судьба дает ей еще один шанс обрести счастье, отождествляя себя с ними. Как бы там ни было, они сделали счастливыми последние дни ее жизни, подарили ей радость, и она отблагодарила их таким естественным для нее, но таким поразительным для других образом.
Оливия посмотрела на часы. Скоро полдень. С минуты на минуту возвратятся из церкви Антония и Данус. Она встала с постели и, подойдя к окну, заперла его в последний раз. Проходя мимо зеркала, она остановилась, чтобы убедиться, что на лице не осталось следов слез. Затем взяла книгу со спрятанными в ней письмом и фотографией, вышла из комнаты и закрыла за собой дверь. В пустой кухне она взяла тяжелую железную кочергу и приоткрыла дверцу печи. В лицо ей пахнуло жаром. Она бросила мамину тайну в самую середину раскаленных углей и стала смотреть, как горит книга.
Та сгорела в мгновение ока; мамина тайна исчезла навсегда.
16. Мисс Килинг
Середина июня, лето в разгаре. Ранняя и теплая весна оправдала всеобщие ожидания, перейдя в жаркое лето. Вся страна наслаждалась накатившей на нее жарой. Оливия была на верху блаженства. Ей доставляло огромное удовольствие выходить на залитые солнцем раскаленные лондонские улицы, видеть толпы легко, по-летнему одетых туристов, полосатые зонтики возле пивных баров над столиками, выставленными прямо на тротуар, влюбленных, лежавших обнявшись на газонах парков в тени деревьев. Казалось, ты где-нибудь за границей. Но если другие от жары делались вялыми, Оливия становилась только бодрее и энергичнее. Мисс Килинг была в своей стихии — деятельная, как никогда, с головой погруженная в работу над своим журналом.
Она была рада, что любимое дело, отнимающее массу времени, помогло ей оправиться и хотя бы на время выкинуть из головы мысли о недавних событиях и семейных делах. С тех пор как похоронили Пенелопу, она не виделась ни с Нэнси, ни с Ноэлем, хотя время от времени звонила им по телефону. «Подмор Тэтч» был продан в мгновение ока и за огромную сумму, которая не снилась Ноэлю в самых радужных снах. После продажи с аукциона находившихся в нем вещей Данус и Антония уехали. Данус купил старенький мамин «вольво», они сложили туда свои скромные пожитки и отправились на запад искать участок земли для небольшого тепличного хозяйства. Перед отъездом они позвонили Оливии попрощаться, но с тех пор прошел уже месяц, и от них не было никаких вестей.
Утром во вторник она сидела за письменным столом у себя в кабинете. В журнале появился новый редактор, молодая женщина, ведущая раздел моды, и Оливия читала гранки ее первой статьи. «Лучший аксессуар вашего костюма — это вы». Очень неплохо. Бьет прямо в точку. «Забудьте о шарфах, серьгах и шляпах. Сосредоточьтесь на собственных глазах, цвете лица и коже, визитной карточке вашего здоровья…»
Загудел аппарат селекторной связи. Не отрываясь от гранок, Оливия нажала кнопку.
— Да?
— Мисс Килинг, — сказала ее секретарша. — Вам звонят из города. Некая Антония. Соединить вас?
Антония. Оливия помедлила, обдумывая ответ. Антония ушла из ее жизни, обосновавшись где-то на западе. Почему она так неожиданно позвонила? О чем желает поговорить? Оливии не хотелось отрываться от дела. Надо же выбрать такое неподходящее время для звонка! Она вздохнула, сняла очки и откинулась на стуле.
— Ладно, соедините меня с ней. — Она сняла трубку.
— Оливия? — Раздался знакомый молодой голос.
— Ты где?
— В Лондоне. Оливия, я знаю, что ты безумно занята, но все же не можем ли мы где-нибудь встретиться в обеденный перерыв?
— Сегодня? — Оливия не могла скрыть ужаса и смятения. Сегодняшний день был до отказа забит встречами, к тому же она планировала, что на обед никуда не пойдет, а перекусит бутербродами прямо за рабочим столом. — Это называется: «свалиться как снег на голову».
— Я знаю. Прости меня, ради бога, но для меня это так важно! Пожалуйста, скажи «да», если есть хоть какая-то возможность.
В голосе Антонии слышалась настоятельная просьба, почти мольба. Что, черт возьми, у нее могло случиться? Очень неохотно Оливия взяла свой календарь с расписанием встреч. В половине двенадцатого встреча с председателем, потом в два совещание с руководителем отдела рекламы.
Она мгновенно произвела несложные подсчеты. У председателя она вряд ли задержится больше чем на час, но тогда не останется…
— Оливия, пожалуйста, прошу тебя…
Скрепя сердце она сдалась:
— Ну ладно. Но времени у нас будет мало. В два я должна быть на работе.
— Оливия, ты просто чудо!
— Где мы встретимся?
— Где тебе удобно?
— Тогда в «Кетнерс».
— Я закажу столик.
— Нет уж, я сама об этом позабочусь. — Ей вовсе не хотелось сидеть за каким-нибудь неприметным столиком возле кухни. — Я попрошу секретаря заказать нам столик. Значит, ровно в час, и не опаздывай.
— Ни в коем случае.
— Антония, а где Данус?
Но Антония уже повесила трубку.
Такси медленно пробиралось по запруженным полуденным улицам, поминутно останавливаясь. Сидящую в нем Оливию томило смутное беспокойство. Судя по голосу, Антония была немного взволнована, и Оливии трудно было предугадать, что сулит ей эта встреча. Она старалась представить себе, что ее ожидает. Видела мысленным взором, как входит в ресторан и идет к ожидающей ее Антонии, одетой, как всегда, в поношенные джинсы и хлопчатобумажную рубашку. В этом дорогом ресторане, традиционном месте встреч состоятельных бизнесменов, она будет совершенно не к месту. «Для меня это так важно!» Что такого важного могло произойти у Антонии, что она решила посягнуть на час ее бесценного времени и так просила о встрече, что невозможно было отказать? Трудно поверить, что у них с Данусом что-то не заладилось, но всегда лучше приготовиться к худшему. Мало ли какие возникают непредвиденные обстоятельства. Может быть, им не удалось найти подходящий участок земли для выращивания капусты, и возможно, Антония хочет обсудить какой-то новый план. Или они нашли участок, но им не нравится дом, и она хочет попросить Оливию поехать с ней в Девоншир взглянуть на него и высказать свое мнение. Или Антония ждет ребенка. Или они пришли к выводу, что между ними нет ничего общего, жить вместе они не хотят и решили расстаться.
Только не это, подумала про себя Оливия, и сердце ее сжалось от страха.
Такси остановилось у дверей ресторана. Она вышла из машины, расплатилась с шофером, пересекла тротуар и вошла внутрь. В зале, как обычно, было много народу, шумно и оживленно. В воздухе витали дивные запахи изысканных блюд, свежемолотого кофе и дорогих сигар. Состоятельные бизнесмены обступили стойку бара, а неподалеку за небольшим столиком сидела Антония. Но она была не одна; рядом с ней — Данус. Оливия узнала их не сразу, потому что привыкла видеть в удобной повседневной одежде, а на этот раз они были разодеты в пух и прах. Блестящие волосы Антонии были собраны на затылке и уложены в пучок, на ней были серьги тети Этель и восхитительное платье, голубое с крупными белыми цветами, как на веджвудском фарфоре. Волосы Дануса были причесаны волосок к волоску, и весь он был ухоженный, как скаковая лошадь перед скачками; на нем был безупречно сшитый темно-серый костюм, которому позавидовал бы даже Ноэль Килинг. Они были сногсшибательны — молодые, богатые, счастливые. И очень красивые.
Они увидели Оливию сразу, поднялись из-за стола и пошли ей навстречу.
— Оливия…
Она чуть не открыла рот от удивления, но тут же взяла себя в руки. Поцеловала Антонию и повернулась к Данусу:
— Какая неожиданность. Я почему-то решила, что тебя здесь не будет.
Антония рассмеялась:
— Я нарочно не сказала тебе, что Данус со мной. Мне хотелось, чтобы это было для тебя сюрпризом.
— Что именно?
— Наш свадебный обед. Поэтому мне и было так важно, чтобы ты пришла. Сегодня утром мы стали мужем и женой.
Блюда заказывал Данус. Еще до прихода Оливии он попросил принести бутылку шампанского, стоявшую сейчас в ведерке со льдом возле их столика. По случаю такого знаменательного события Оливия, в кои-то веки решившись стать безрассудной, нарушила свое строгое правило ничего не пить за обедом и сама подняла бокал за счастье молодоженов. Они разговорились. Им много надо было сказать друг другу и многое послушать.
— Когда вы приехали в Лондон?
— Вчера утром. Мы остановились в гостинице «Мейфэр», такой же роскошной, как и «Золотые пески». Вернувшись туда, мы сегодня же соберем вещи, сядем в машину и отправимся в Эдинбург: хотим провести пару дней у родителей Дануса.
— А как насчет этюдов?
— Вчера днем мы были у мистера Брукнера в «Бутби». Видели их в первый раз.
— Вы их продадите?
— Да. В следующем месяце их отправят в Нью-Йорк на аукцион, который состоится в августе. Туда поедут тринадцать, а один — «Террасные сады» — мы оставляем себе. Решили сохранить на память.
— Понимаю. А как ваше тепличное хозяйство?
Они рассказали, что после долгих поисков нашли наконец в Девоншире то, что хотели. Три акра земли, которые когда-то были обнесены стеной и садом при большом старом доме. На участке небольшой сад и просторные стеклянные теплицы, все в хорошем состоянии. Данус предложил за участок приличную цену, и предложение было принято.
— Это прекрасно! А где же вы будете жить?
— Там есть небольшой и очень ветхий коттедж; из-за него, собственно, и цена участка была невысокая; поэтому мы смогли его купить.
— Откуда же вы взяли деньги? Ведь этюды еще не проданы.
— Мы получили ссуду в банке. И сейчас, чтобы сэкономить, сами ремонтируем в доме то, что можно сделать своими силами.
— А где вы будете пока жить?
— Мы взяли напрокат жилой автоприцеп, — увлеченно рассказывала Антония. — А Данус купил культиватор, и мы собираемся посадить много картофеля, просто чтобы расчистить участок. А вот потом мы сможем уже начать создавать питомник. Я собираюсь завести кур и уток и буду продавать яйца.
— Далеко ли от вас до цивилизации?
— Мы живем всего в трех милях от небольшого городка, где есть рынок; там-то мы и собираемся продавать свою продукцию. Цветы и рассаду тоже. Теплица будет вся занята цветущими растениями. И комнатными цветами. Ах, Оливия, я жду не дождусь, когда смогу показать тебе все, что задумала. Когда мы отремонтируем дом, ты приедешь к нам погостить?
Оливия задумалась. Она выпила уже три бокала шампанского и не хотела давать обещаний, о которых потом будет жалеть.
— В коттедже будет тепло?
— Да, мы собираемся сделать центральное отопление.
— Канализация тоже будет или мне придется в случае необходимости бегать в сад?
— Будет обязательно, и бегать тебе не придется.
— И в доме всегда будет горячая вода, и можно будет принимать ванну в любое время суток?
— Кипяток.
— А комната для гостей? Которую не надо будет делить с кем-то еще из гостей или домашних, с кошкой, собакой или курицей?
— У тебя будет отдельная комната.
— И в этой комнате будет гардероб, да не с чужими старомодными вечерними платьями и изъеденными молью шубами, а с двумя дюжинами новеньких вешалок?
— Самого лучшего качества.
— В таком случае, — Оливия откинулась на спинку стула, — принимайтесь за работу. Потому что я к вам приеду.
Выйдя из ресторана, они втроем стояли на тротуаре, освещенном теплым ласковым солнцем, поджидая такси для Оливии.
— Как хорошо мы провели время. До свидания, Антония. — Они обнялись и нежно расцеловались.
— Спасибо тебе, Оливия, за все. Особенно за то, что пришла.
— Это я должна вас благодарить, что пригласили меня. Мне уже много лет никто не устраивал такой приятный сюрприз и не угощал таким вкусным обедом, да еще с шампанским. Я выпила столько, что теперь вряд ли смогу хорошо соображать.
Подъехало такси. Оливия повернулась к Данусу.
— До свидания, дружок. — Он поцеловал ее в обе щеки. — Береги Антонию. Удачи тебе.
Он открыл дверцу и, когда Оливия села в такси, захлопнул ее.
— Издательство «Венера», — деловито сказала она водителю. И, когда машина тронулась с места, энергично замахала рукой в заднее окно. Антония и Данус тоже помахали ей и послали воздушный поцелуй. Потом они повернулись и, взявшись за руки, пошли в противоположном направлении.
Оливия удобно устроилась на заднем сиденье и удовлетворенно вздохнула. Как хорошо все получилось у Дануса и Антонии. Мама в них не ошиблась. Их стоило не только поощрять и поддерживать. Им стоило в трудную минуту прийти на помощь. Что она и сделала. Теперь все зависело только от них самих, от их умения устроить свою жизнь, имея лишь ветхий дом, культиватор, кур, планы на будущее и восхитительный неиссякаемый оптимизм.
А что же мы, дети Пенелопы? Как мы распорядимся привалившим нам богатством? Нэнси, решила Оливия, непременно позволит себе какую-нибудь маленькую роскошь — например, купит новый «рейнджровер», чтобы утереть нос своим подругам на местных вечеринках, и этим ограничится. Все остальное пойдет на престижное образование для детей, символ высокого положения в обществе. Впрочем, очень может быть, что оно не пойдет им впрок и, окончив университет, Мелани и Руперт останутся такими же неблагодарными и невоспитанными, как и сейчас.
Потом она подумала о Ноэле. Он по-прежнему работает на том же месте, но, как только получит наследство, обязательно бросит должность в рекламном агентстве и придумает очередной блестящий план создания нового дела. Займется продажей товаров или частной собственности высокопоставленных особ. Вполне вероятно, что, ведя свое дело, он спустит весь капитал и в конце концов женится на какой-нибудь отвратительной богатой наследнице с большими связями в высшем обществе, которая станет его обожать и молиться на него, но которой он без конца будет изменять. Оливия улыбнулась. Ноэль несносен, но ведь он ее брат, и в глубине души она желала ему добра.
Оставалась только она сама, и здесь все было ясно. Она очень выгодно и надежно вложит мамины деньги, чтобы обеспечить себе безбедную жизнь в старости после ухода на пенсию. Оливия так воображала себя лет через двадцать. Одинокая, незамужняя, она будет жить все в том же небольшом доме на Рэнферли-роуд. Независимая и вполне обеспеченная, сможет позволить себе маленькие дорогостоящие удовольствия, к которым давно привыкла. Будет по-прежнему ходить в театры и на концерты, принимать дома друзей и уезжать на отдых за границу. Возможно, чтобы скрасить одиночество, она заведет собачку. И будет подолгу гостить в Девоншире у Антонии и Дануса. А приезжая в Лондон, надо полагать, с целым выводком детишек, они будут ее навещать, и она будет водить детей в музеи и картинные галереи, на балетные спектакли и рождественские представления, одним словом, будет им доброй тетушкой. Нет, не тетушкой, скорее бабушкой. Как будто они ее внуки. Тут ей вдруг пришло в голову, что они будут и внуками Космо. И это было очень странно. Как будто на глазах раскручивался безнадежно запутанный клубок и отдельные его нити сплетались в одну, ведущую вперед, в будущее.
Такси остановилось. Оливия взглянула в окно и с удивлением заметила, что уже приехала. Перед ней было импозантное здание, где размещалась редакция «Венеры». Кремовый камень и зеркальное стекло сверкали, отражая солнечный свет, а верхние этажи устремлялись ввысь в голубое небо.
Она вышла из такси и расплатилась с водителем.
— Сдачу возьмите себе.
— Спасибо большое, дорогуша.
Оливия поднялась по широким белым ступеням к массивной входной двери. Швейцар, увидев ее, распахнул перед ней дверь.
— Прекрасная погода, мисс Килинг.
Она замедлила шаг и, посмотрев на швейцара, одарила его ослепительной улыбкой. Такой улыбки он не видел никогда.
— Да, — сказала она, — и в самом деле чудесный день.
И пошла вперед. В свои владения, в свой мир.
Примечания
1
Французский певец и актер (1888–1972).
(обратно)2
Дорогой универсальный магазин.
(обратно)3
«Соломенная крыша Подмора».
(обратно)4
Антония. Моя малышка. Любимая. Как ты поживаешь? (исп.)
(обратно)5
Добрый день (исп.).
(обратно)6
Здесь: дружище (исп.).
(обратно)7
Вдвоем (фр.).
(обратно)8
Пригород Лондона.
(обратно)9
Район Лондона.
(обратно)10
Ломтик поджаренного хлеба с икрой, сыром, ветчиной.
(обратно)11
Еженедельный иллюстрированный журнал для женщин, издается в Лондоне с 1932 г.
(обратно)12
Известные английские военно-морские марши.
(обратно)13
…нет, не могу объяснить (фр.).
(обратно)14
Известная детская книга английского писателя Кеннета Грэма.
(обратно)15
Персонаж пьесы-сказки английского писателя Джеймса Барри (1800–1937).
(обратно)16
«Гивз» — фирма, владеющая магазинами и ателье мужской одежды, специализируется на пошиве военной и морской формы. Основана в 1785 г.
(обратно)17
Это война (фр.).
(обратно)18
Лондонский аристократический спортивный клуб, основан в 1869 г.
(обратно)19
Фальшивые алмазы (фр.).
(обратно)20
Художественное училище при Лондонском университете.
(обратно)21
Гостиница высшего класса.
(обратно)22
Заклинание, молитва (инд.).
(обратно)23
Диверсионно-разведывательные подразделения.
(обратно)24
Завтрак (хинди).
(обратно)25
До свидания (фр.).
(обратно)26
WRENS (Women’s Royal Neval Service) (англ.) — женская вспомогательная служба Британских военно-морских сил.
(обратно)27
Вершина в Беннинских Альпах.
(обратно)28
Город в Пакистане.
(обратно)29
Огромный веер из парусины или пальмовых листьев, свисающий с потолка и управляемый слугой (wallah) или механизмом.
(обратно)30
За здоровье (фр.).
(обратно)31
Фонд учрежден в 1902 г. английским политическим деятелем С. Родсом, дает право учиться в Оксфордском университете.
(обратно)32
Улица в Лондоне, на которой расположены правительственные учреждения.
(обратно)33
«Стихи матушки Гусыни». Пер. С. Маршака.
(обратно)34
Персонаж из «Алисы в Стране чудес» Л. Кэрролла.
(обратно)35
В Дюнкерке была произведена операция по эвакуации английских войск из Франции в 1940 г.; Битва за Англию — победа английской авиации в воздушной войне; в 1943 г. в битве при Эль-Аламейне (Египет) англичане одержали внушительную победу над немцами и итальянцами.
(обратно)36
День открытия второго фронта.
(обратно)


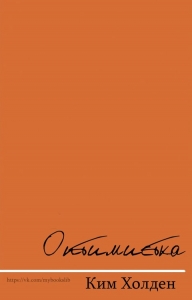

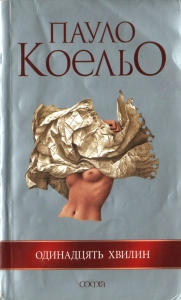
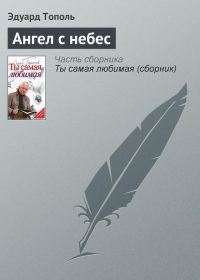

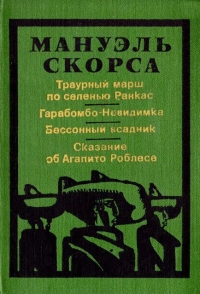




Комментарии к книге «Собиратели ракушек», Розамунда Пилчер
Всего 0 комментариев