ПРЕДИСЛОВИЕ
Три французских писателя, представленных в этом сборнике, давно и хорошо известны во Франции. Их произведения пользуются большой популярностью и часто встречаются в списке десяти наиболее читаемых книг литературного сезона, удостаиваются различных премий. Каждый из этих романистов прошел свой, порой нелегкий путь в литературе, у каждого своя индивидуальная манера письма, свой творческий метод. И повести, которые вошли в эту книгу, совершенно несхожи меж собой ни по художественным особенностям, ни даже по тематике. Но при всем внешнем различии у них есть внутренняя общая основа, общие позиции: неприятие того, что несет современная капиталистическая действительность отдельной человеческой личности, угрожая самому ее существованию. Эти произведения, согретые любовью к людям, написанные с гуманистических позиций, представляют собой характерные образцы современной реалистической литературы Франции. В ней явственно можно проследить сегодня три направления в зависимости от аспекта изображения драмы человечности в обесчеловеченной социальной среде.
Одни писатели, показывая функционирование социальных механизмов системы, создающей гибельные условия для личности, вскрывают антигуманистическую природу буржуазного общества. На этой основе развивается социально-критическое направление реалистической литературы. В сборнике ближе всего к нему повесть Пьера Мустье «Вполне современное преступление» (1976).
Другие авторы сосредоточивают внимание на раскрытии и анализе внутреннего мира человека, описывают трагедию, порожденную некоммуникабельностью, распадом подлинных и прочных социально-личностных связей. Повесть Роже Гренье «Фоли́я» (1980) — яркий пример этой лирической, психологической прозы, особенно характерной для французской литературы последнего десятилетия.
И еще одно, очень сейчас популярное направление реалистической литературы во Франции, отвергая холодный бездушный рационализм современного капиталистического общества, обращается к нравственному и социальному опыту народа — чаще всего крестьян, при этом подчеркивается их близость к природе, сохраняющиеся в их среде человеческие, этические ценности. Представление об этом, если можно так выразиться, «нравственно-экологическом» направлении дает повесть Рене Фалле «Капустный суп» (1980).
Таким образом, три повести сборника как бы дополняют друг друга и позволяют увидеть разные грани сегодняшнего французского реализма.
* * *
Пьер Мустье (псевдоним Пьера-Жана Росси) родился в 1924 году в Провансе, на юге Франции, где живет и сейчас. Получив юридическое образование, много лет занимал различные административные посты, пока не стал профессиональным литератором и журналистом. Мустье ведет литературно-критическую рубрику в газете «Нис-матэн», выходящей в Ницце.
Первый роман Пьера Мустье, «Дневник тюремщика» (1957), особого успеха не имел. Литературную известность принес писателю роман «Смерть паяца» (1961), герой которого, узнав, что он смертельно болен, мысленно пересматривает свою, как ему казалось, удачную и счастливую жизнь и осознает вдруг всю ее пустоту и ограниченность. Вышедший в 1969 году роман «Перегородка» был удостоен Большой премии Французской Академии. В романе писатель сталкивает две противоположные жизненные позиции, воплощенные в двух персонажах. Один — честный и порядочный человек, идеалист и неудачник. Другой — хваткий делец, беспощадный, напористый, наглый. Судьба сводит их в Альпах, где в экстремальных условиях проявляется внутренняя сущность каждого из них. Повесть была экранизирована в 1972 году французским телевидением. С этого времени начинается тесное сотрудничество Пьера Мустье с телевидением. Он автор нескольких сценариев телефильмов, среди них «Ночной дозор», который шел и на советском телеэкране. В последние годы Пьер Мустье опубликовал два исторических романа на материале XVIII века: «Зима дворянина» (1971) и «Сердце путешествия» (1980), — а также психологические повести «Укрепленная местность» (1974) и «Примадонна» (1978).
Во всех своих книгах Пьер Мустье ставит серьезные морально-этические и социальные проблемы, умело соединяя в едином сплаве сатирическое, почти памфлетное разоблачение общества с тонким и глубоким проникновением во внутренний мир своих героев. Не случайно его любимым и духовно близким ему писателем является Эрве Базен, чье творчество он внимательно анализирует в своем труде «Эрве Базен, или Романист в движении» (1972).
Повесть «Вполне современное преступление» написана в форме монолога главного персонажа — школьного учителя на пенсии Бернара Реве, у которого распоясавшиеся хулиганы убили жену. Рассказ об этой трагедии и о том, что за ней последовало (похороны, расследование, розыск преступников, суд), пропускается через обостренное восприятие героя и придает повествованию взволнованно-напряженный характер. Все предстает перед читателем в беспощадном свете истины, открывшейся потрясенному горем человеку.
Автор не строит свое повествование в форме увлекательной детективной истории, хотя для этого имеется достаточно выигрышный материал: совершено убийство, ведется розыск преступников, полиции они не известны. Для Пьера Мустье важно совсем другое, его волнует социальный и человеческий аспект этой драмы. Больше даже, чем само бессмысленно-жестокое убийство, героя поражает безразличие, бесчувственность окружающих его людей. Каждый реагирует на происшедшее в строгом соответствии со своим социальным статутом и поведенческим клише, выработанным для такого рода случаев. Прибывшие на похороны родственники не столько переживают трагедию, сколько стараются сыграть свою роль «родных в трауре», произнося положенные фразы, изрекая прописные истины. Стереотипы обывательского мышления и поведения подменяют живые человеческие чувства. Ни у кого не вызывает подлинного возмущения гибель неповторимой человеческой личности — настолько обыденным явлением стал разгул насилия в странах Запада. И это равнодушие, которым окружена человеческая трагедия, — весьма тревожный симптом, свидетельствующий о серьезном недуге всего общества с его формально-бюрократическим судопроизводством, с бьющей на сенсации прессой, с якобы «левыми» интеллектуалами, столь падкими на модные фразы о «некоммуникабельности», об «обществе вседозволенности», с увлечением психоанализом, которым можно объяснить и даже оправдать любое преступление.
Писатель не случайно столь точно указывает время начала событий, происходящих в повести: 25 апреля 1973 года. Прошло всего пять лет со времени бунта молодежи в мае 1968 года, — бунта, говорившего о серьезном неблагополучии всей экономической и социальной системы и оказавшего значительное влияние на развитие французского общества, вызвавшего его известное «полевение». И как всегда в таких случаях, и в среде обывателей появляется «мода» на левую фразу, на якобы ультрапрогрессивные взгляды. Но вся эта их болтовня, как и их «критика» государственных учреждений и установлений, носит весьма поверхностный характер. Старый учитель Бернар Реве, поднявшийся из народа, всю жизнь веривший в прогресс, в могущество науки и знаний, в торжество благородных идеалов и наивно принимавший за чистую монету пылкие речи либералов, под влиянием выпавших на его долю испытаний внезапно прозрел, утратил свои иллюзии. Столкнувшись с реальной, неприкрашенной действительностью, он увидел, что безнравственность, равнодушие, жестокость пропитали все поры общества и это никого уже не удивляет. Даже политических друзей Бернара Реве, провозглашавших себя «левыми» и «прогрессивными», случайная гибель отдельного человека не заставляет предпринять какие-то акции протеста, поднять голос в защиту человечности, ведь политического капитала на этом не наживешь, а можно прослыть ретроградом, консерватором, что сейчас не в моде. Герой повести начинает понимать, что за «левыми» фразами, мелькающими на страницах якобы прогрессивных газет, звучащими в прекраснодушных речах, скрывается испуганный обыватель, готовый из страха перед экстремистами поступиться человеческими чувствами. И он справедливо определяет это как «отвлекающий маневр людей, которые рядят свою трусость под политические эмоции».
Писатель назвал свою повесть «Вполне современное преступление», как бы желая подчеркнуть типичность всего происходящего. Преступление не только в убийстве отдельного человека, но в полном обесценении человеческой личности в буржуазном обществе. Пьер Мустье затрагивает самый больной вопрос сегодняшней французской действительности — проблему дегуманизации, которая стала главной темой современной реалистической литературы, выступающей в защиту человека. Показывая внешний мир через призму внутреннего мира Бернара Реве, писатель использует приемы и технику психологического романа, которые служат ему для того, чтобы глубже проникнуть в сущность социальной среды, окружающей героя. Желая еще резче подчеркнуть фальшь и бездушность общества и всех его социальных институтов, писатель прибегает к приему остранения: переживающий тяжелую драму герой обретает как бы новый, незамутненный взгляд на вещи. Особую остроту придает это описанию судебного процесса, столкновению равнодушной, холодно-профессиональной машины судопроизводства с человеческим горем. Тут у автора явственно проступают элементы сатиры и даже памфлета. Для прокурора и адвокатов этот процесс — просто случай показать свое мастерство, продемонстрировать профессиональные таланты; для них жертва — лишь один из элементов судебной процедуры. Точно так же, как для журналистов не представляет особого интереса самый факт убийства и личность убитой, внимание их целиком отдано убийцам — «банде Нольта», как они называют этих ничтожных юнцов. Они приводят подробности их биографий, с увлечением рисуют их портреты, глубокомысленно рассуждают о психологических мотивах их поведения, упоминают о всяких сенсационных деталях, способных привлечь читающую публику. Все это рождает гневное разочарование в душе героя. «Я желаю выкричаться перед свидетелями, — обращается он к читателю, — и пусть перо мое сломается от ярости, как от крика срывается голос». Эти слова Бернара Реве определяют тональность повести и ее направленность. Они звучат как призыв к людям не быть равнодушными к чужой беде, к творящимся вокруг несправедливости и преступлениям. В этом глубокий гуманизм повести.
О том, что проблема борьбы с преступностью, защиты прав отдельного человека вызывает сейчас серьезную тревогу прогрессивной общественности и общественных организаций, нарушивших этот заговор равнодушия, свидетельствует опубликованная в мартовском номере «Юманите» за этот год статья «Под знаком насилия». В ней приводятся серьезные данные о росте преступности, об участившихся случаях нападения на граждан в метро и на улицах Парижа, говорится о мерах, уже принятых новой дирекцией управления парижским транспортом для обеспечения безопасности как служащих, так и пассажиров метро, о разработке ею совместно с Всеобщей конфедерацией труда новых мер и требований, предъявленных префектуре полиции Парижа. ВКТ осуждает проводившуюся бывшим французским правительством и прежней дирекцией управления парижским транспортом «политику, которая открывала дорогу внедрению преступности». Не случайно против разгула преступности и сговора преступников с засевшими в некоторых муниципалитетах Франции реакционными политиками недавно так резко выступил известный писатель Грэм Грин, живущий сейчас в Ницце[1], по соседству с Пьером Мустье.
Таким образом, психологический анализ в повести Мустье становится инструментом социально-критического анализа. И эта особенность — характерная примета французской литературы последних лет.
Однако в литературе продолжает развиваться и традиция психологического романа в его классическом виде, когда социальный план дается опосредствованно, просвечивает сквозь глубоко интимные переживания героев и критика общества лишь постепенно проступает в трагедии отдельной личности. Примером такой традиции может служить повесть «Фолия». Ее автор, Роже Гренье, уже известен советскому читателю. На русский язык переводились его «Кинороман»[2] и сборник новелл «Зеркало вод»[3].
«Фолия», написанная в тот год, когда писателю исполнилось шестьдесят лет, в какой-то степени резюмирует, передает в конденсированном виде основную тему, проходящую через все его творчество. Это тема неосуществившихся мечтаний, нереализовавшихся возможностей. В одном из романов писатель так формулирует ее: «Одни коллекционируют марки, другие негритянские статуэтки, третьи модели парусников, я же собираю своеобразную коллекцию людей (кто меня за это осудит?), тех мужчин и женщин, которые когда-то были молоды, но жизнь сломила их, и на их лицах сквозь маску старости и разрушения и сейчас еще проступает удивление, которое появилось в тот день, когда они вдруг осознали тщету своих усилий. Я нахожу их достойными не только жалости, но и любви. Все мы в чем-то на них похожи»[4].
Так переплавилось в сознании писателя глубокое разочарование его поколения, прошедшего войну, сражавшегося в Сопротивлении и не находящего себе места в современной действительности. Роже Гренье родился в небогатой семье, рано начал работать, был солдатом во время второй мировой войны. После поражения Франции он попадает в Алжир, затем переправляется на родину, участвует в Сопротивлении — он был среди тех, кто брал штурмом парижскую ратушу в дни освобождения столицы в августе 1944 года. После войны Гренье стал репортером, объездил много стран, накопил множество ярких жизненных впечатлений. В 1958 году вышел его первый роман «Ловушки», за которым последовали «Римская дорога» (1960), «Зимний замок» (1965), «Перед войной» (1971), «Кинороман» (1972), а также сборники новелл «Дом на праздничной площади» (1972), «Зеркало вод» (1975), «В редакции газеты» (1977). Его книги имели успех; Роже Гренье стал известным писателем и литературным директором издательства «Галимар». В его произведениях перед нами проходят разные человеческие судьбы, писатель показывает драму людей, теряющих свои высокие устремления и иллюзии в обстановке прозаической, меркантильной буржуазной действительности, где процветают и реализуют себя полностью только цепкие, хваткие, холодные и беспринципные дельцы. Персонажи Гренье, сохранившие способность любить по-настоящему, остро чувствовать, не сумели выковать защитной брони из эгоизма, цинизма и равнодушия. Они или гибнут, или оказываются неудачниками, навсегда утратившими свои иллюзии.
Название повести «Фолия» имеет символический смысл. Так называется старинный испанский танец. При его исполнении танцующие движутся каждый сам по себе, почти не касаясь друг друга. Этот танец без партнера как бы символизирует одиночество людей, которые тянутся друг к другу, но не могут соединиться. Точно так же движутся по жизни и персонажи повести, лишь слегка касаясь своих «партнеров» в этом мире распавшихся личностных контактов. Главный герой повести — художник Алексис Валле — пишет картину, навеянную музыкой этого танца. В повести перед нами проходит почти вся его жизнь, начиная с послевоенных лет.
Человек талантливый, честный, одержимый своим искусством, он не принимает буржуазный мир послевоенной Франции, где торжествуют дельцы, ловкачи, люди беспринципные и наглые. «То, что утвердилось во Франции, — говорит он, — это новый вариант Гизо с его лозунгом; „Обогащайтесь“». Кроме погони за наживой и выгодой, общество, в котором он живет, ничего не может ему предложить в качестве жизненного идеала. Переживший, как и сам автор, годы войны и Сопротивления, Валле с особой остротой ощущает сейчас эту духовную пустоту, идейный вакуум. Поэтому-то он и отстраняется от активной деятельности, не стремится выдвинуться, преуспеть, разбогатеть. «Ты ведешь себя так, как будто ты не существуешь», — упрекает его жена, мечтающая о красивой и беззаботной жизни.
Не принимая общества, испытав разочарование в семейной жизни, Алексис точно так же терпит крах и в своей романтической возвышенной любви, героиня которой оказалась совсем непохожей на придуманный им идеальный образ далекой возлюбленной, этакой ростановской «принцессы Грезы». Эта, казалось бы, сугубо личная, камерная история приобретает особое значение, как крах последней иллюзии Алексиса Валле. Теперь остается полная пустота.
Точно так же не смогли осуществить свои мечты и надежды и другие герои повести — и комик Батифоль, и футболист Марманд. Преуспевает лишь бездарный, напористый Анж Марино-Гритти, который стал знаменитостью, когда пошла мода на региональную поэзию, и прославился как окситанский поэт, хотя был родом с Севера. Именно такие, как он, ловкие дельцы без принципов и морали, чувствуют себя как рыба в воде в современной буржуазной Франции. А люди типа Алексиса — душевные, тонкие, поэтичные, талантливые, но лишенные «хватки» и цепкости, — обречены оставаться за бортом жизни — таков социальный смысл судьбы героя повести.
Повесть Гренье грустная, лирическая, поэтичная. Повествование строится на полутонах и оттенках, нет резких оценок и острых углов, все как бы подернуто дымкой печальных воспоминаний постаревшего Алексиса. Нельзя не согласиться с мнением французской критики, утверждающей, что в этой повести, как и во многих других повестях и рассказах Роже Гренье, ощущается влияние Чехова, улавливаются интонации самых грустных чеховских произведений (таких, как «Моя жизнь», «Скучная история» и др.). Но повесть Гренье не является пессимистической и безысходно трагичной: она согрета любовью и жалостью к людям. «Мы заслуживаем лучшей участи!» — восклицает героиня одного из ранних романов Гренье. В этих словах как бы аккумулируется отношение автора к жизненным драмам его героев, проявляется гуманистическая основа всего его творчества.
Третья повесть сборника, «Капустный суп» Рене Фалле, резко отличается от двух предыдущих и по манере изложения, и по теме, и даже по жанру, который вообще трудно поддается определению. Сам писатель шутливо называет его «деревенской научной фантастикой», но по форме это веселый сатирический бурлеск в духе национальных фольклорных традиций, за которым скрываются, однако, многие тревожащие писателя проблемы современной французской действительности.
«Капустный суп» — произведение довольно характерное для яркого и самобытного творчества талантливого самоучки Рене Фалле (род. в 1927 г.), который вырос в семье простого железнодорожника, в прошлом крестьянина. Окончив семь классов школы, он отправился в Париж на заработки, в годы войны и оккупации был разнорабочим, посыльным, курьером, а после освобождения Парижа, в семнадцатилетнем возрасте, пошел добровольцем в армию. Демобилизовавшись из армии в начале 1946 года, он посылает свои стихи, которые пишет с 1942 года, поэту Блезу Сандрару, и тот принимает участие в судьбе одаренного юноши, устраивает его репортером в газету «Либерасьон». В 1947 году выходит первый роман Рене Фалле, «Юго-западное предместье», который имеет большой успех. И с той поры, с двадцатилетнего возраста, он становится профессиональным литератором, пишет один за другим романы из жизни предместий, а в 1950 году получает Популлистскую премию, которая дается за лучшие произведения из народной жизни. Многие его романы экранизируются по его же сценариям. Наиболее известный фильм «Порт де Лила» режиссера Рене Клэра (в русском прокате «На окраине Парижа») был сделан по роману Фалле «Большое бульварное кольцо» (1956). Фалле становится опытным сценаристом, пишет диалоги для многих фильмов, в частности для знаменитого «Фанфана-Тюльпана».
Книги молодого писателя привлекали читателей как своим далеким от академического, выразительным языком парижских окраин, так и своим содержанием. Глубокая и искренняя человечность сочетается у Фалле с яростным неприятием капиталистической повседневности. Нравственной пустоте, цинизму и хищническому торгашеству писатель противопоставляет атмосферу товарищества, теплоты и сердечности простых, зачастую обездоленных людей.
Одной из тем Рене Фалле становится также тема любви — роман «Париж в августе» (1964), по которому был поставлен фильм с участием Шарля Азнавура; «Как ты умеешь любить, Сериз?» (1970), «Причудливая любовь» (1971) и другие. В этих книгах писатель передает драму неразделенной любви, глубину и значительность человеческого чувства, измельченного, приниженного, опошленного «обществом потребления».
В последнее десятилетие Рене Фалле со свойственным ему темпераментом включается в борьбу за чистоту окружающей среды, отстаивает нравственные ценности патриархальной деревенской жизни, выступает против враждебной природе и подлинным человеческим чувствам современной капиталистической цивилизации; таковы его очерк «Вело» (1973) — страстный гимн велосипеду, который он противопоставляет автомобилю, романы «Божий браконьер» (1973), «Прибыло новое Божоле!» (1976).
Повесть «Капустный суп» органично вписывается в нравственно-экологическую тематику, типичную для позднего Фалле, она дает представление о лучших сторонах его таланта — любовь к простым труженикам, сочный, искрящийся галльский юмор. Эта книга получила премию читателей и значилась в списке наиболее читаемых произведений 1980 года. И это неслучайно: Рене Фалле затронул чрезвычайно волнующую сегодня французов тему протеста против губительного воздействия капиталистической цивилизации на естественную среду и на естественные человеческие чувства. В «Капустном супе», как и во многих других произведениях французской литературы последних лет, хранителями нравственных ценностей и чистоты природы предстают старые крестьяне.
«Сельское ретро» становится модой. Модой даже в узком смысле слова: в обиход вводятся мужские рубашки «деревенского покроя», рекламируются рецепты старой крестьянской кухни, пущен в обращение термин «экологическая кулинария», считается престижным обставлять дома под «сельскую старину». Естественно, что у читателя пробудился интерес к книгам, посвященным прошлому французской деревни. Причем не только к художественной, но и к мемуарной и документально-публицистической литературе. В 1976–1980 годах вышло немало так называемых «крестьянских романов», в которых деревня былых времен выглядит, как правило, идиллически, не тронутой тлетворным влиянием сегодняшней цивилизации. Это «Посиделки» Альбера Бретаньоля (1976), «Большой осетр» Жан-Марка Суайе (1977), «Жюль Матра» Шарля Эксбрайя (1976) и другие. Напрасно было бы искать в этих книгах следы конфликтов и классовой борьбы. Их авторы исходят не из живой реальности, а из штампов и схем, спекулируя на интересе к сельской теме.
Гораздо живее и богаче по материалу и по манере изложения мемуары самих крестьян или горожан крестьянского происхождения. Большим успехом пользовались, например, такие книги, как «Память деревни» (1977) — записки семидесятилетнего крестьянина Леона Шалейля, или «Суп из полевых трав» (1978), воспоминания семидесятилетней Эмиль Карль, бывшей сельской учительницы. Этой книге была даже посвящена специальная передача французского телевидения.
В литературном сезоне 1979/80 года самыми читаемыми книгами стали документальный роман из сельской жизни Анри Венсено «Охота наудачу» (1978) и своеобразная сельская сага — дилогия Клода Мишле «От дроздов к волкам» (1979) и «Не пролетят больше дикие голуби» (1980). Авторы этих произведений искренне, взволнованно и исторически точно воспроизводят быт и нравы французской деревни начала века и с большой горечью пишут о распаде патриархальных форм жизни, о губительной роли буржуазного прогресса.
Казалось бы, «Капустный суп» написан совершенно в духе и в русле этой деревенской ностальгической прозы. Но, присмотревшись внимательно, видишь, как резко выделяется книга Рене Фалле на этом фоне. Конфликт патриархального и современного в сегодняшней деревне он использует не для того, чтобы любоваться старыми формами сельского труда и быта и вздыхать об их исчезновении, как это делают многие французские «деревенщики», а для того, чтобы ярче и выразительнее разоблачить современную капиталистическую цивилизацию, вскрыть ее антигуманистическую природу. Книга Рене Фалле — произведение прежде всего сатирическое. Он явно не разделяет иллюзий многих авторов относительно упорного сопротивления деревни натиску безнравственного «потребительского» городского мира. Не поддаются его соблазнам только редкие деревенские жители, которые выпадают из активной жизни, выглядят «белыми воронами», подобно главным персонажам повести — старым крестьянам Франсису Шерассу, прозванному из-за горба Бомбастым, и Клоду Ратинье, в просторечии Глоду. Их полная невосприимчивость к переменам, их упрямство позволяют им оставаться как бы в искусственно сохраненном «анклаве» патриархальной деревни, в то время как остальные ее жители охотно втягиваются в ловушки мещанского, буржуазного потребительства. И поэтому тон повести не элегический, как принято в сегодняшних книгах о деревне, а, скорее, иронический и даже сатирический, когда автор говорит о происшедших в деревне переменах. Особенно наглядно показывает Фалле изменение психологии крестьянина на примере Франсины, жены Клода Ратинье. При жизни она была терпеливой и трудолюбивой крестьянкой, а чудом воскресшая (ибо повесть-то фантастическая!), превратившаяся в молодую девушку, не желает больше покорно трудиться, сразу же поддается растленному влиянию «общества вседозволенности», размывшего твердые нравственные устои, которых придерживалась прежняя Франсина. Погоня за сиюминутными удовольствиями и внешним показным блеском, стремление к богатству, к деньгам, ибо без них эти удовольствия недоступны, — вот, по мнению автора, пришедшая из города зараза, которая разрушает нравственное здоровье жителей села. Достаточно вспомнить алчного мэра-свиноторговца, толкующего об «экономической экспансии» и готового ради наживы пустить все земли крестьян под увеселительный парк и аттракционы, или ожесточенное сражение жителей поселка из-за осыпавшего их «золотого дождя» во время свадебной церемонии.
Поэтому писатель выводит персонажей, воплощающих естественные человеческие качества, как бы за пределы современной деревни, делает их смешными чудаками, презираемыми своими односельчанами. Но эти «замшелые» старики, любители выпить и закусить, малограмотные и отсталые, сохранили нравственные устои и представления, утраченные остальными обитателями селения, рвущимися к городской цивилизации. Главные герои повести способны быть верными в любви и дружбе, радоваться жизни, они глухи к дешевым соблазнам «общества потребления». Писатель подчеркивает их близость к природе, они сами составляют как бы ее органическую часть. И Глод, и Бомбастый представляют собой тип «экологического человека», своего рода субстанцию естественной человечности, без буржуазных примесей, хотя писатель отнюдь не идеализирует их, показывает все их человеческие слабости.
Стремясь подчеркнуть глубокий смысл, который он вкладывает в образы своих героев, Рене Фалле прибегает к приему, совершенно не свойственному бытовой «деревенской» прозе — к фантастике, характерной, скорее, для литературы философско-притчевого характера. Неожиданное появление пришельца с планеты Оксо, где живут существа, придавленные грузом технократического рационализма, утратившие все, что связано с человеческими чувствами и ощущениями, позволило автору четко и резко противопоставить два мира, две системы представлений. С одной стороны, мир холодного разума, бездушный, бесчеловечный техницизм, представляющий собой доведеннные до логического абсурда реальные черты современной капиталистической цивилизации, к которой тянутся деревенские жители; с другой — мир живых чувств, простота, естественность, сердечность, близость к природе, сохранившиеся в среде простого народа, несмотря на разлагающее влияние буржуазного прогресса. Использование фантастики подняло повествование на уровень глубокого обобщения, позволило выявить, обнажить самую суть противоборствующих в обществе тенденций, представить их во взаимодействии, как бы в лабораторно очищенном виде. Но Рене Фалле весьма далек от бесстрастной объективности ученого-экспериментатора. Он стремится показать чудовищную нелепость и бессмысленность, с человеческой точки зрения, всего того, что достигла наука на планете Оксо. Поэтому обобщенное противопоставление двух цивилизаций принимает форму сатирического гротеска. Появление космического гостя и все с ним связанное автор дает в бурлескно-комическом плане, показывая полное непонимание астронавтом того, что делается на Земле. Его встречи с Глодом выявляют превосходство старого крестьянина над этим представителем внеземной и дегуманизированной цивилизации. Он, как и другие жители планеты Оксо, не знает, что такое любовь, счастье, дружба, теплота человеческих отношений и даже просто удовольствие. Они там, на своем астероиде, давно перестали быть людьми. Недаром Глод прозвал своего гостя «Диковина» и оказался настолько внутренне значительнее пришельца, что сумел воздействовать на его личность, пробудить даже в этом представителе обесчеловеченной среды живое существо. Капустный суп, сделанный по рецептам «экологической кулинарии», приобретает в повести смысл своеобразного вещественного символа естественной простоты, дарующей человеку радость и оказывающейся сильнее и жизнеспособнее самой изощренной техники — плода высокоразвитого научного мышления. За гротескно-шутливой, подчас истинно раблезианской формой и подчеркнутым бытовизмом повести кроется глубокий философский спор, в ходе которого утверждается преимущество человеческих чувств над голым разумом, своеобразного неосенсуализма над бездушным рационализмом, столь модным в эпоху НТР.
Спор заканчивается победой мира живых чувств над миром холодного разума. Автор верит, что такие качества, как естественность, теплота и человечность, невозможно истребить в народе, так же как нельзя вытравить его живую душу. Эта вера в народ помогла Рене Фалле избежать унылого элегического тона и написать свою повесть весело, остроумно, с грубоватым, в духе народного фольклора юмором. К ней вполне можно отнести подзаголовок роллановского «Кола Брюньона» — «Жив курилка!», ибо она выдержана в том же жизнеутверждающем, оптимистическом ключе. Рене Фалле, таким образом, продолжает традиции передовой демократической литературы, прославляющей нравственное здоровье народа и его подлинно человеческие качества, несовместимые с антигуманностью буржуазной цивилизации.
Ю. Уваров
Пьер Мустье ВПОЛНЕ СОВРЕМЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Pierre Moustiers
UN CRIME DE NOTRE TEMPS
Перевод E. Бабун
Редактор Н. Жаркова
© Éditions du Seuil, 1976.
I
Я сижу в пижаме у закрытого окна, пристроившись за больничным столом, крытым пластиком, и пишу в надежде обрести хотя бы видимость душевного равновесия. Но также и для того, чтобы напечатали. Потому что мне необходимо, чтобы меня выслушали. Совершенно необходимо.
Я замечал, что дети обычно кричат на людях, когда хотят привлечь к себе внимание. И я в свои семьдесят три года похож на них. Я желаю выкричаться перед свидетелями, и пусть перо мое сломается от ярости, как от крика срывается голос.
Вчера вечером сестра дала мне таблетку снотворного, и я сделал вид, что проглотил ее.
— Вы уснете, как младенец, — сказала она.
На больничном языке спать, как младенец, означает спать как бревно. Отныне я принужден хитрить, обманывать, дабы сохранить ясность мысли. До чего все здесь со мной предупредительны! Так ласково, таким сочувственным тоном журят меня, что прямо мурашки по коже. «Вам надо отдохнуть, мсье Реве. Для того вы здесь и находитесь, чтобы отдохнуть». Психиатрическая клиника? Доктор Борель и слов таких слышать не хочет.
— Вы мой пансионер, а вернее, с вашего разрешения, мой гость.
Почему бы и нет? Врач этот не такой лицемер, как прочие его современники. Он попросту призывает меня пребывать в состоянии полудремоты, не ища себе оправданий и объяснений.
— Мой вам совет, мсье Реве, расслабьтесь!
Короче говоря — пассивность, растительная жизнь. Заведение это называется «Каштаны».
Мои писания весьма беспокоят надзирательницу, мадемуазель Тюрель. Этот бювар, черновые тетради, множество помарок выводят ее из себя.
— У вас глаза устанут, мсье Реве. И вы не сможете потом уснуть.
А вот доктор Борель, тот меня одобряет:
— В конечном счете ведь вы пишете свои мемуары.
Подобное предположение вполне отвечает полету его жалкой фантазии, которая, к великому своему удовлетворению, во всем усматривает привычную рутину. Любимое его словечко: «Нормально». И в самом деле, чем еще может заняться представитель ведомства народного образования в отставке, как не вести дневник или писать мемуары? Это в порядке вещей. Это нормально.
Для главного врача «Каштанов» я вовсе не такой уж безобидный субъект. Моя «жестокая», по определению газетных хроникеров, драма и репутация «жертвы, бунтующей против общества», бередят ему душу. Вот поэтому-то, как я полагаю, он и старается успокоить себя, предпочитает иметь чистую совесть. «Бернар Реве поверяет свою яростную тоску бумаге. Облегчает душу. Превосходная психотерапия!» Заметьте к тому же, что мой уединенный труд ничуть не нарушает больничного распорядка, тогда как прежде мои громогласные высказывания частенько пугали медицинский персонал. Равно как и мое молчание.
— Что-то вы не слишком разговорчивы нынешним утром, мсье Реве!
В клинике любая немота наводит на подозрение. Им хотелось бы, чтобы я болтал бездумно, как мадам Азема из соседней палаты, которая обо всем спешит высказать свое мнение с бесстрастностью мясорубки или пылесоса.
Все в один голос твердили о том, что я перенес шок. Судьи, журналисты, родственники, друзья, кумушки сошлись в одном: я был «травмирован». Травмирован — это слово объясняло все: мое поведение на суде, чересчур резкие речи, кое-какие угрожающие жесты, хотя и не такие уж угрожающие. Меня выслушивали снисходительно, с состраданием. Короче говоря, попросту не слышали. Негодование мое не могло взволновать слушателей, поскольку оно явно было следствием потрясения — явление более чем обычное. К моему горю примешивалось душевное смятение. Люди забывали понесенную мной страшную утрату и видели лишь последствия этого — нервное расстройство. Я стал клиническим случаем. Низкопробный скандальчик призван был приглушить скандал более опасный.
Робер, который никак не мог мне простить, что я женился на его сестре, истязал меня своими унизительными советами.
— Ты болен, Бернар. Надо лечиться. Твои гневные вспышки беспокоят окружающих, и, не принадлежи ты к столь уважаемой семье, как наша, на тебя, без лишних разговоров, подали бы жалобу. Доктор Борель наш друг. У меня совершенно точные сведения — его заведение вовсе не психиатрическая клиника, это санаторий. Там ты будешь в полной безопасности во всех отношениях. Соглашайся же, Бернар! Согласись… хотя бы из уважения к памяти Катрин.
Почему же я позволил себя уговорить? Усталость? Скорее, своего рода мазохизм. Возможно, на мое решение повлияло имя Катрин. Потеряв жену, я испытывал чувство вины за то, что сам остался жив. И Робер, настоящий иезуит, сыграл на этом. Но кончено. Ему меня больше не запугать. Я сведу с ним счеты на бумаге. Я пишу, чтобы смутить изнеженную совесть этих фарисеев, готовых на любые увертки, всегда готовых пойти на попятный. Таблетками мне рот не заткнешь.
В коридоре раздаются шаги. Верно, ко мне. Нет, мимо. Еще слишком рано. Мадемуазель Тюрель появится через четверть часа. Спросит, хорошо ли я провел ночь, и, не слушая ответа, поспешит к окну, откроет его.
— Надо проветривать комнату, мсье Реве. Это необходимо.
Потом резким тоном сделает замечание, почему это я все еще в пижаме.
— Раз уж вы такая ранняя пташка, могли бы и одеться.
Полагаю, что пижама раздражает ее из-за полосок, напоминающих одежду узников нацистских лагерей. Мадемуазель Тюрель пятьдесят семь лет. Она еще не забыла последней войны и частенько вспоминает, что горожане были тогда лишены «жиров».
— Сейчас люди совсем избаловались. Белым хлебом нисколько не дорожат, выбрасывают в мусорный ящик. — При этих словах она кидает взгляд на мою корзинку для бумаг и удивляется, обнаружив, что она уже наполовину полная. — Ей-богу, у вас уходит по тетрадке в день.
Ну не совсем так. Но я и правда извожу уйму бумаги. Вчера, например, я разорвал больше десятка страниц. А нынче утром — две. Я не способен писать сразу набело. Слова, едва я хочу предать их гласности, как бы ускользают от меня, прячутся. И уж во всяком случае, становятся менее естественными. Возможно, мне следует отказаться от литературных ухищрений и дать волю перу, не сдерживая его. Но дело, конечно, не в этом. Пишу я вовсе не из желания покрасоваться. Стучат…
Наконец-то мадемуазель Тюрель выходит из палаты. И я немедленно закрываю окно. Стекла защищают меня от внешнего мира, от этих уже желтеющих каштанов во дворе. Я изменился. Прежде, подходя к окну, я первым делом распахивал его, и Катрин жаловалась на сквозняки. Вечный предмет споров. А теперь я и сам не выношу сквозняков. Мне необходимо ощущать, что я замурован в неком замкнутом мире, окружен безликой материей. Бесцветная, невыразительная обстановка этой палаты мне по душе: хром, эмаль — все это лишено теплоты. От плиточного пола пахнет жавелевой водой. От столика, на котором лежат листки моей рукописи, исходит запах фенола. Все эти лабораторные ароматы не вызывают у меня никаких воспоминаний. Ничего большего мне и не требуется.
Уже осень. Пятнадцатое октября. Три года назад в эту же пору… Стоп! Я же решил не поддаваться эмоциям. Иначе затея моя провалится. И тогда, как и на суде, я буду внушать только жалость. «Бедняга. Совсем заговаривается. Еще бы, в его-то годы перенести такой удар». Существует лишь один способ удержать внимание читателя, один-единственный: бесстрастное, беспощадное изложение фактов, словно бы речь идет вовсе не обо мне. Но прежде всего я хочу еще раз подчеркнуть: несчастье ни в коей мере не повинно в моем теперешнем состоянии. Каким бы истерзанным я ни был, как бы ни возмущался, головы я все же не потерял. А вот поведение окружающих чуть не свело меня с ума; эмоции их были такими поверхностными, неглубокими, а истина превращалась в некое месиво, где вязли их дряблые убеждения. Они так и сочились снисходительностью и сочувствием. Присяжные не в силах были сдержать улыбки, когда палачи мои, сидящие на скамье подсудимых, принимались острить. А один журналист даже взялся рассуждать о факторе искушения, устанавливая эмоциональную связь между моим нервным поведением и садизмом убийц. Помню, я разорвал в клочки эту газету и вопил как безумный в своей квартире, где все окна были распахнуты настежь: «Негодяй! Негодяй!» А потом я заметил, что мои коллеги, вышедшие на пенсию, но, как и я, по-прежнему состоявшие в профсоюзе, стали меня избегать: история, которая со мной произошла, вроде бы не носила социального характера, поэтому любое их выступление в мою защиту могло быть неправильно истолковано. Вот тогда-то и наступил кризис, глубину которого с таким удовольствием исследует доктор Борель. Прежде я верил в Прогресс с большой буквы, верил, что человек способен улучшить природу человеческую, и положил себе за правило не замечать ничего, что могло бы дать повод усомниться в этом. Судите сами о моей наивности: я утверждал, что старость еще может сказать свое слово.
Сейчас-то я знаю, что общество плюет на нас, стариков. Мы имеем право на ободряющие речи, на определенный уровень пенсии. Ровно двадцать минут в году по телевизору растроганно говорят о нашей участи и полчаса в неделю — о вымирающих видах животных. Потому что наше выживание оскорбляет хороший вкус. Но довольно! Речь моя впереди. Мне просто необходимо было выдавить все это на бумагу, так нажимают на гнойник, чтобы оттуда брызнула сукровица.
II
Было это 25 апреля 1973 года, в среду. С тех пор прошло два года пять месяцев и двадцать один день. Обычно, выйдя из кино, мы с Катрин шли молча, спешили поскорее попасть в метро, поскольку наши мнения о фильме неизменно расходились и никто не решался заговорить первым. Но в тот вечер я сжимал ладонь Катрин в своей руке и то и дело останавливался, словно желая придать пылу нашим рассуждениям, найти нужный тон. В кои-то веки мы были единодушны в оценке фильма — мы смотрели «Земляничную поляну» Ингмара Бергмана, — и Катрин не только не проявляла присущего ей духа противоречия, но, напротив, неустанно подогревала мои восторженные речи. И я готов был признать за ней все на свете достоинства, она казалась мне просто очаровательной без шляпки, с непокрытой головой. Мой облысевший череп прикрывала мягкая шляпа, из-под которой выбивался негустой венчик волос. Тротуар на улице Севр еще не просох после дождя, но под фонарями уже клубился сухой воздух, там со скоростью электронов из учебных фильмов кружила мошкара. Весной Париж наполнен запахом мела и тополиной листвы. Таким милосердным для стариков запахом. Пальцы мои сжимали ладонь Катрин, и, шагая, я старался держаться прямо, тянулся во весь свой небольшой рост.
Было примерно около полуночи, когда мы спустились в метро, на станцию Дюрок. Платформа была пустынна, только на скамейке развалился пьяный, да стоял с чемоданом в руке вьетнамец. На противоположной платформе ни души. Меня охватило какое-то тревожное чувство, видимо, после уличного оживления тишина, залегшая под выложенными плиткой сводами, казалась враждебной, а запах дезинфекции наводил на мысль о захолустном банном заведении.
— Местечко не из веселых, — сказал я, стараясь говорить шутливым тоном.
Катрин сразу же возразила, что любит Париж, а метро — часть Парижа. Значит, ей и метро нравится. В этих словах снова проявился обычный ее дух противоречия, но меня это ничуть не раздосадовало. Мне кажется даже, что ее ответ доставил мне удовольствие. Катрин была права. Нам повезло: прожив столько лет в провинции, мы наконец-то перебрались в Париж. В Париж, где можно каждый вечер куда-нибудь ходить, не возбуждая завистливого любопытства соседей; можно смотреть недублированные фильмы и старые классические картины, вроде «Земляничной поляны», в каком-нибудь маленьком кинотеатре квартала, в «Студии Бернара», к примеру. Заведение это вполне нас устраивало по многим причинам: выбор фильмов здесь не был продиктован коммерческими соображениями, а завсегдатаи, казалось нам, воплощали дух времени, к тому же довольно убогая обстановка второразрядного кинотеатра вполне соответствовала нашим демократическим вкусам. Случалось нам посещать и театр — но не чаще раза в месяц, — если бывали места в первые ряды партера, между вторым и седьмым рядом; Катрин считала, что лучше совсем не смотреть спектакль, чем скряжничать на билетах. Мы не пропускали ни одной выставки, прежде всего потому, что живопись — мое хобби, а еще — чтобы позлить моего шурина, воображавшего, что все-то он на свете знает, все-то повидал. Катрин рассказывала, что, когда Роберу было всего семь лет, он заучивал наизусть разные ученые слова, названия научных трудов и вставлял их в разговор, изображая из себя этакого начитанного, неслыханно развитого для своих лет мальчика.
Внезапно валявшийся на скамье пьяница стал монотонно браниться, словно молитвы бормотал тусклым, невыразительным голосом, это сопровождалось громкими урчаниями в животе. По-видимому, ругань его была обращена к женщине с рекламного плаката на противоположной стене, демонстрировавшей несравненные достоинства бюстгальтера фирмы «Милу». Катрин поймала мой взгляд и улыбнулась с хорошо знакомым мне вызывающим видом. Я уже выпустил ее руку, еще когда мы сошли с тротуара улицы Севр и стали спускаться в метро. Отвращение, которое я питал к пьянству и пьяницам, всегда раздражало Катрин; она считала его чрезмерным и, по ее словам, порождением «мелкобуржуазной» морали. Случалось, наш приятель Гийом Дотри, блестящий журналист, когда брался за перо, вдруг начинал в гостях что-то бормотать заплетающимся языком, держал несвязные речи и, выставляя себя на всеобщее посмешище, пытался что-то протанцевать на столе, и Катрин смеялась вместе с другими сотрапезниками, поздравляла его с тем, что у него нет комплексов. И если, отозвав Катрин в сторону, я упрекал ее за это: «Да неужели ты не видишь, что он губит себя. Ваша снисходительность просто-напросто презрение», она отвечала с ноткой раздражения в голосе: «Совершенно незачем все драматизировать». А однажды даже добавила: «Каждый вправе сам выбирать для себя смерть. Еще неизвестно, может, лучше утопить себя в алкоголе, чем погрязнуть в пуританстве». Уж этот упрек был мной вовсе не заслужен. Я полная противоположность строгому пуританину, и у Катрин никогда не было сомнений на сей счет. Любые нравоучения выводят меня из себя. Любой ригоризм вызывает насмешку. Я, можно сказать, всю жизнь боролся со всякими условностями и формальностями. И на уроках в школе, и на предвыборных собраниях избирателей я старался прежде всего говорить просто, избегал пафоса, никогда не бил на эффект. Пренебрегал официальной моралью, той, что ведет к покорности и играет на руку консерваторам. Нонконформист, вечный бунтарь в полном смысле слова. И однако… Однако, должен признать, позиции моей недоставало последовательности. Случалось, я скрепя сердце одобрял кое-какие оригинальные идеи. Словом, походил на тех пасторских сынков, что борются в стане анархистов, так сказать с душевной оглядкой. Когда я обрушивал на всё и вся свой сарказм, половинка моего сознания испуганно съеживалась и я испытывал тоску по твердым принципам.
Вот уж я путаюсь во временах: ох это несовершенное прошедшее… Хронология в моем возрасте — это как бы умственная гигиена. Иначе память зарастает грязью и колесики ее ржавеют. Но вернемся к той среде, к 25 апреля. Катрин поймала мой взгляд и улыбнулась. Нет, в улыбке ее не было вызова. И я сразу почувствовал, как моя настороженность сменилась добродушной снисходительностью. Кивнув на пьяницу, я пошутил насчет его женоненавистничества. В светло-голубых глазах Катрин промелькнуло сочувствие, но ответа ее я, к несчастью, не расслышал, с грохотом подошел поезд.
Мы уже собирались войти в вагон первого класса, как вдруг мимо нас стремительно пронесся вьетнамец, так что даже стукнул своим чемоданом о колени Катрин, слава богу, не слишком сильно. Я заметил, что вьетнамец устремился прямо к выходу, и это показалось мне странным; я сказал об этом Катрин, усаживаясь рядом с ней на обитое молескином сиденье. По ее мнению, тут ничего странного не было: возможно, он перепутал линию и заметил это лишь в самую последнюю минуту.
— Тогда почему же, — спросил я, — он побежал к выходу? Ему нужно было пойти на пересадку.
Катрин качнула головой, ее, мол, ничуть все это не интересует, я собрался еще что-то добавить, но чей-то серьезный голос с мягкими интонациями заставил меня вздрогнуть:
— Не правда ли, здесь уютно?
Я обернулся на голос и с неудовольствием обнаружил, что обратившийся с этими словами незнакомец стоял почти вплотную ко мне, склонившись над самым моим затылком. Высокий, с рыжеватой бородкой, как у Христа, в застегнутой на все пуговицы кожаной куртке, надетой прямо на голое тело. Рядом с ним, чуть позади, держался парень среднего роста в цветастой рубашке, с густой нечесаной шевелюрой. А за его спиной я заметил еще троих или четверых типов, один из них потрясал медной трубой.
— Не правда ли, уютно? — повторил юноша с бородкой как у Христа.
Я шутливо ответил:
— Весьма уютно, мсье, — и, посчитав, что разговор окончен, снова повернулся спиной к собеседнику, лицом по ходу поезда. Однако незнакомец, широко шагнув по проходу, прошел между скамейками, зацепив по дороге мой ботинок и даже не извинившись, уселся напротив нас и, сверля взглядом Катрин, спросил, каково ее мнение на этот счет.
— По-моему, весьма уютно, — ответила она, не опуская глаз.
Незнакомец вытянул ноги, и его сапоги из тексана очутились между нашими с Катрин ногами.
— Промеж буржуев! — насмешливо провозгласил он.
Катрин покраснела, но я сказал, боясь, что она вспылит:
— Ну знаете, такие буржуи, как мы…
Мои слова были прерваны парнем с густой копной волос, который плюхнулся на скамейку рядом с бородачом.
— Одно удовольствие ехать в первом классе, — сказал он, — особенно когда у тебя билеты во второй, — и, выбросив, словно для удара, руку вперед, ткнул мне прямо под нос погашенный билет второго класса, я невольно отпрянул назад, а он громко захохотал.
Положение становилось невыносимым. Я взял Катрин за руку, решив пересесть на другую скамейку, чтобы не видеть больше этих грубиянов, но тут бородач весьма учтиво попросил меня извинить его товарища. Потом, упрекнув самого себя за бесцеремонность, подобрал ноги, видимо беспокоясь, что занял все пространство между скамьями. Такая предупредительность после такого хамства сбила меня с толку, но в то же время я приободрился: эти парни лучше, чем кажутся. Как ни раздражала их наглость, в ней скрывалось даже какое-то обаяние. Надо было показать им, что мы не хуже их умеем пошутить и что, хотя одежда наша в чем-то и напоминает одежду буржуа, ничего общего с ними мы с Катрин не имеем. Крестьянский сын, я с тринадцати лет сам зарабатывал себе на жизнь и лишь ценой неслыханных жертв сумел подняться по социальной лестнице, ни разу не предав дело борьбы пролетариата. Мне хотелось бы также объяснить, почему мы ездим в первом классе. Хоть эта привилегия и претила моим демократическим принципам, однако на то имелась веская причина: из-за своего тромбофлебита Катрин не могла простоять на ногах целую остановку. А во втором классе она рисковала остаться без сидячего места.
Стараясь подладиться под них и держаться непринужденно, я чуть подпрыгнул на сиденье, призывая Катрин засвидетельствовать жесткость и старомодность молескиновой обивки. Но как раз в эту минуту чья-то рука сбила с меня шляпу, а другая рука сдернула очки. Я услышал голос бородача:
— Осторожней, дедуля, у тебя кепочка упала.
Потом голос его сообщника:
— А где твои стеклышки, папаша! Сам уже не помнишь, куда что кладешь.
И в то же мгновение я услышал крик Катрин и бросился ей на помощь, хорошенько не понимая, что происходит и что я сам делаю. Вскочив с места, я потребовал вернуть мне очки, без них я ничего не вижу. Толчком в грудь меня усадили снова.
— Отдай ему стеклышки, Чарли! — сказал бородач.
— Успеется, — ответил Чарли.
Я крикнул и попытался было встать, но ладонь, опустившаяся на мой лысый череп, удержала меня, и чьи-то руки надавили мне на плечи.
— Отдай ему стеклышки, Чарли! — повторил бородач.
Чарли поднес очки к самому моему носу, но схватить их я не мог, хулиганы, стоявшие позади скамейки словно клещами вцепились мне в плечи.
— Умница, папаша! — сказал Чарли, нацепляя мне на нос очки.
Теперь я видел, и это придало мне сил. Рванувшись из их рук, я вскочил с места, обернулся и крикнул, зовя на помощь. Но кроме нас, в вагоне было всего трое пассажиров, трое статистов, предпочитавших ничего не слышать: сорокалетний мужчина, углубившийся в чтение «Монд», и два папенькиных сынка, старавшихся даже не смотреть в нашу сторону. Впрочем, никто меня не услышал. Голос мой заглушили хаотичные вопли трубы, в которую дул хулиган с льняными волосами, в то время как остальные хором подхватили последний шлягер Мишеля Фюгена «Вот он праздник».
Все это продолжалось минуты две, не больше, и, когда поезд стал замедлять ход, приближаясь к станции Сегюр, я собирался выйти из вагона, я хотел принести жалобу служащим администрации метро, обратиться в полицию, поднять всех на ноги, одним словом, действовать!
— Ну-ка, Серж, ты наступил на чеплашечку мсье! — сказал Чарли, обращаясь к бородачу.
Серж вытащил из-под сапог мою измятую шляпу, нахлобучил ее мне на голову и, ухмыляясь, похлопал меня по щеке. Тогда Катрин, у нее тряслись губы и все морщинки на лице, обозвала его ничтожеством. В полном отчаянии я завопил:
— Хватит!
Крик мой раздался как раз в ту минуту, когда поезд остановился. Такое стечение обстоятельств, я полагаю, напугало наших обидчиков, которые почти не препятствовали нам, пока мы пробирались между скамейками по проходу. Но, когда я открыл дверь, чтобы выйти на платформу, в вагон вошли двое довольно крепких мужчин. Я отступил назад, решив доехать, как обычно, до станции Ла Мотт-Пике. Катрин, которой я сказал об этом, одобрила мое намерение. Мы присоединились к вновь вошедшим, чей физический облик внушал мне доверие. Несколько придя в себя, я вновь обрел уверенность, сжал в своей руке руку Катрин и уже без особой тревоги стал следить за хулиганами, державшимися теперь довольно спокойно. Серж, рухнувший на скамейку, положил ноги в сапогах на колени к Чарли, сидевшему напротив и что-то цедившему сквозь зубы. Серж слушал его с рассеянным видом и повторял:
— Да не надрывайся ты! Я понял.
Парень с льняными волосами, усевшийся рядом с Чарли, начищал тряпкой медную трубу. На нем были джинсы, испещренные разнообразными надписями, американская военная куртка и мокасины. Рядом с Сержем сидел бледный долговязый подросток, напевавший какую-то джазовую мелодию, отбивая такт ладонями по груди, обтянутой майкой, на которой можно было прочесть сделанную красными буквами надпись: Му god is nothing[5]. За ним, наклонившись, стоял крепыш, похожий на боксера, которого все называли Кид. Рука его покоилась на плече мулата в водолазке и кожаных штанах.
Я пытался собраться с мыслями. Это оказалось нелегко. Сердце мое терзало искушение бросить вызов всей этой шпане, оскорбить ее. Мне хотелось сказать об этом Катрин, и еще сказать ей, как я восхищаюсь ее мужеством. Слова нахлынули все разом, горло у меня перехватило, я не мог произнести ни звука. Но поезд уже замедлял ход. Я совсем забыл, что между Дюрок и Ла Мотт-Пике всего одна станция. Сдерживая лихорадочное нетерпение, я открыл дверь вагона и вслед за Катрин вышел на перрон.
Как я уже говорил, я намеревался, прежде чем покинуть метро, принести жалобу. Но только в одном окошечке я увидел дежурную. Обратив ко мне свои судорожно моргавшие глазки, она спросила, что мне угодно, и тут же зашлась в приступе кашля. Катрин нетерпеливо потянула меня за рукав. Я счел своим долгом не отступать, но, поскольку, закончив кашлять, дежурная бесконечно долго сморкалась, я извинился, что побеспокоил ее, и отошел от окошечка. Мы с Катрин так торопились покинуть это затхлое подземелье, что все равно были бы не в состоянии спокойно изложить факты и потребовать принятия соответствующих мер, поэтому с невыразимым облегчением вдохнули свежий воздух, ступив на слабо освещенный тротуар бульвара Гренель. Все тут было нам знакомо — каждый магазин со спущенными железными жалюзи, каждая витрина, погруженная в аквариумный полумрак, каждый островок света между стенами домов. Мы шли размеренным шагом и, казалось нам, удалялись от всех этих подземных страхов, от всего этого кошмара. Даже пережитое нами унижение словно смягчалось, растворялось в чистом воздухе. Нам приятно было теперь смотреть на это злоключение уже с некоторой дистанции, взглянуть как бы со стороны на все те оскорбления, которым мы подверглись, ну скажем, воспринять это как черный юмор. Катрин не смогла сдержать нервного смешка:
— История просто фантастическая, — сказала она.
Я стиснул было зубы, вспомнив о сбитой с головы шляпе, об очках, которые этот подонок Чарли… Но истерический смех Катрин заразил и меня.
— Идиотская история! — проговорил я, сотрясаясь от смеха.
Мне почудилось, будто за моей спиной перешептываются, а может, это просто сдало расстроенное воображение. На тротуаре, метрах в пятидесяти от нас, разговаривали между собой трое арабов, мимо которых мы прошли минутой раньше. Катрин спросила, что такое я там увидел. Я ответил, что ничего, и, без всякой видимой причины выпустив ее ладонь, взял под руку. Но тут она объявила, что я иду слишком быстро и она задыхается. Это замечание удивило меня.
— Да нет! Я иду как обычно.
Мы уже подходили к улице Вьоле, как вдруг… справа от нас кто-то пробежал. Я узнал мулата, юношу в майке и Кида, боксера. Они преградили нам путь. Катрин судорожно прижалась ко мне, я круто повернулся, задев ее плечо. Серж, Чарли и трубач шли за нами по пятам. В мгновение ока мы были окружены, ослеплены, полузадушены. Я услышал хриплый крик Катрин и тотчас раздался голос Чарли:
— Это же карнавал, мамаша! С переодеваниями.
Я отбивался, ударил кого-то головой в живот.
— Вот и наступает твой праздник, старый болван! — сказал Серж и со всего размаха залепил мне пощечину, разбив в кровь губу. Последовало еще два удара — по затылку и по голому черепу, — и я полетел на землю, где уже валялись моя шляпа и очки, которые старательно давил чей-то сапог. Избитый, полуживой, я все же, собрав последние силы, поднялся на ноги и позвал на помощь. Но крики мои сразу же были заглушены ревом трубы и пением. Одновременно чья-то шершавая ладонь, точно кляпом, заткнула мне окровавленный рот. Без очков, я уже не видел, где Катрин. Я потерял голову при мысли, что, быть может, она ранена и лежит на тротуаре. Пытаясь высвободиться, я ухитрился укусить руку, зажимавшую мне рот. И услышал, как Чарли чертыхнулся; потом раздался голос Сержа:
— Нет! Оставь его! Его разок ударить, так с ног слетит. Тогда какое же это будет развлечение.
В эту минуту в рядах нападающих возникло некоторое замешательство, они топтались в нерешительности, очевидно что-то произошло, чего я не видел. Я решил, что подошли прохожие, заинтересовавшись тем, что здесь происходит, и собирался уже крикнуть, но тут на голову мне натянули плотную фуфайку. Серж теперь говорил самым добродушным тоном. Он объяснил прохожим, что я и моя подружка пьяны. Но нельзя же допустить, чтобы твои дружки валялись на тротуаре, вот он и собирается доставить нас домой.
— Однако же… — произнес чей-то голос.
— Что однако же? — спросил Серж. — Говорю же вам, он пьян в стельку. Взгляните только, что он себе на голову нацепил! Пополь, сыграй-ка этим дамам и господам!
И Пополь заиграл на трубе все ту же песенку: «Вот он праздник». Я понял, что прохожие удаляются и никто уже не придет нам на помощь. В порыве отчаяния я согнул колени, чтобы вырваться из сковывавших меня объятий даже ценой падения, но Серж, ухватившись за мой галстук, поставил меня на ноги, потом стянул с моей головы фуфайку, под которой я задыхался, и, не выпуская галстука, приблизил свое лицо вплотную к моему, я почувствовал резкий запах его бородки. Он сказал, что у меня гнусная харя, что он взял себе за правило учить уму-разуму старых хрычей и что они малость помяли мою бабу. Вне себя от ужаса и бешенства я крикнул: «Катрин!» — и с силой выбросил ногу вперед. Серж выпустил меня, но в ту же секунду кулак обрушился на мой нос, другой удар угодил в скулу у самого уха, и я лишился сознания.
Когда я пришел в себя, я лежал на тротуаре у сырой стены, рубашка моя промокла насквозь. В ушах звенело. Рот был полон крови. Пиджака на мне не было, я дрожал от лихорадки или от холода и почему-то царапал ногтями жесткую землю. А над моей головой, в чернильно-темных дырах, кружились сверкающие точки: мошкара с улицы Севр. Нет! Память постепенно возвращалась ко мне. Я на бульваре Гренель, неподалеку от нашего дома, от улицы Вьоле. Который это час? Часов на руке у меня не было. Господи, за что же меня избили? И где Катрин? Собрав остатки сил, я позвал ее. Да был ли то мой голос или проскрежетали осколки стекла, раздавленного колесом? По мостовой стремительно неслись машины. Свет фар пробегал по тротуару, и его вибрация болезненно отдавалась во всем теле, отчего дрожь моя усиливалась, кожа леденела. Мне удалось, опираясь на стену, поднять голову и выпрямить спину, сначала одно плечо, потом другое. Я изо всех сил таращил близорукие глаза, пытаясь хоть что-то разглядеть; но различал я лишь нагромождение бесформенных масс, очертания которых преломлялись от вспышек света: ночь все смешала, перепутала. Я снова позвал Катрин. Мне показалось, что я слышу шаги. Да, и в самом деле шаги. На сей раз я не ошибся, хотя в ушах у меня стоял звон. И вот доказательство: мимо меня просеменили женские туфли, протопали мужские ботинки. Но, о ужас! У меня совсем пропал голос. Я издал лишь слабый писк.
— Нет! — сказал мужчина. — Это просто пьянчужка.
— По-моему, он ранен, — робко заметила женщина.
— Говорят же тебе, пьянчужка, — повторил мужчина; и две пары ботинок поспешно удалились, шагая еще быстрее, чем прежде.
Я хотел вытереть кровь на губах, но какая-то странная усталость навалилась на меня, сковала руки. Теперь уже тьма придавила мои зрачки металлическими бликами, словно ртутью заливала веки. У меня не осталось больше ни сил, ни надежд, и я закрыл глаза.
III
Очнулся я на узкой кровати, что меня немало удивило, так же как и жесткие, натянутые, точно барабанная кожа, простыни. Я впервые видел эти побеленные стены, огромный четырехугольный проем окна, и другие кровати, стоявшие точно лодки на причале. Меня страшила мысль, что эта комната вовсе не моя спальня, не наша спальня, и я старался отделаться от нее, цепляясь за обманчивые сновидения. Но вскоре мне пришлось расстаться со всеми иллюзиями. Веки мои уже не смыкались, очертания предметов не расплывались, а протянув руку под одеялом, я обнаружил пустоту на том месте, где должна была находиться Катрин. Не было даже теплой вмятинки, которая оставалась, когда Катрин вставала, чтобы сварить кофе. Я приподнял голову и, упираясь локтями, хотел сесть в кровати, но чья-то рука в белом помешала мне, безжалостно пробудив мою память, пробудив воспоминание о других руках, которые удерживали меня, избивали, а потом швырнули на тротуар бульвара Гренель. Где я? Конечно, в больнице. Верно, какой-нибудь прохожий вызвал полицию и «скорую помощь». Но где же Катрин? Мне сказали, что она в другой палате. Когда я смогу ее увидеть?
— Скоро. Вам вредно утомляться.
Я вовсе не был утомлен. К чему столько предосторожностей? Ничего особенного со мной не произошло. Проспал несколько часов, и все тут.
— Больше четырнадцати часов! — уточнила сиделка.
Цифра удивила меня. Очевидно, она пошутила. Такой крепкий человек, как я, не впадет в коматозное состояние от пощечины и двух ударов кулаком. Сиделка улыбнулась. Мне делали рентгеновский снимок черепа. По-видимому, ничего серьезного, но окончательный диагноз будет поставлен, когда снимки проявят. Говорила она со мной терпеливым, почти материнским тоном, что раздражало и тревожило меня в одно и то же время. Ведь она прекрасно видела, что все эти подробности меня не интересуют, и, однако, продолжала все в том же духе, сообщила результаты анализов, которые мсье Ложье, врач-практикант, нашел весьма удовлетворительными. Такое изобилие информации обычно не свойственно больничному заведению. Мне показалось, что сиделка с круглым, гладким лицом просто старается выиграть время, отсрочить минуту, когда вынуждена будет ответить на все мои вопросы. Единственное, что сейчас для меня было важно, — состояние здоровья Катрин. А мне сообщали о том, что у меня приличный анализ мочи. Несколько раз я пытался получить точные сведения: в какое отделение поместили Катрин? Что именно с ней произошло? Ранена она или нет? И каждый раз сиделка избегала прямого ответа: не следует тревожиться; все идет нормально; все идет своим чередом. Тем временем явился врач-практикант, который отвечал на мои вопросы еще более уклончиво, но не столь словоохотливо. Поспешно отослав сиделку к другому больному — казалось, его раздражала ее болтливость, и я догадался, что она здесь новенькая, — он поинтересовался моим самочувствием и, не дожидаясь ответа, воскликнул:
— Ну и прекрасно!
Потом, когда я осведомился о Катрин, он стремительно ныряющим движением нагнулся, чтобы взглянуть на мой температурный листок, поздравил меня с тем, что у меня нет жара, и поспешно отошел, сославшись на то, что его, мол, зовут. Такое поведение, естественно, не рассеяло моей тревоги, и первым моим побуждением было позвать сиделку, но, потянувшись к звонку у себя в изголовье, между перекладинами кровати, я заколебался и решил набраться терпения. Потом машинально потрогал пересохшие от лекарств губы, ощупал распухший нос, откуда уже удалили сгустки крови, и оглядел палату, где стояло шесть кроватей и на каждой лежало по больному. Я спросил соседа справа, который сейчас час.
— Четыре часа, четверг, — ответил он, словно догадавшись, что меня прежде всего интересует, какой нынче день.
Я сразу же проделал в уме подсчеты: мы с Катрин вышли из кинотеатра без четверти двенадцать. В среду. Через четверть часа наступил четверг. Было около двадцати минут первого, то есть четверг, ноль часов двадцать — мой полуопустошенный мозг нуждался в этих маниакальных уточнениях, — когда хулиганы напали на нас на бульваре Гренель. Десять минут спустя я потерял сознание. Сиделка сказала правду. Я проспал больше четырнадцати часов подряд. Поразительно. А в это время… Что же происходило с Катрин в это время? Помню, я услышал ее крик за секунду до восклицания Чарли: «Это же карнавал, мамаша!» А после ни слова, ни звука. Конечно, она потеряла сознание при тех же обстоятельствах, что и я. Но может быть, ее состояние внушает большие опасения, чем мое. Иначе почему было Сержу предупреждать меня: «Я взял себе за правило учить уму-разуму старых хрычей, особенно когда они ведут себя так невежливо, как твоя баба. Поэтому не удивляйся, если обнаружишь, что ее малость помяли». Но может, он просто хотел меня напугать, помучать, изрекая все это хорошо поставленным голосом. Настоящий убийца не будет столько болтать. Если бы Катрин была тяжело ранена, подумалось мне, не произнес бы Серж эту тираду тоном киногероя. Так я старался подбодрить себя, отогнать подступавшую со всех сторон тревогу. Сосед, воспользовавшись обращенным к нему вопросом, попытался завязать беседу, вернее, произнес целый монолог о достоинствах сиделки, чью молодость и пышные формы он успел оценить. Потом поинтересовался, не попал ли я в автомобильную аварию. Я сказал, что да. Тогда он пожелал узнать, при каких обстоятельствах это произошло, но я хранил молчание.
— Понимаю, — сказал он, — вы все еще потрясены. Но подождем до завтра. Только об этом вы и будете говорить.
И тут он стал многословно выкладывать свои соображения по поводу несовершенства ремней безопасности и несправедливости дорожных ангелов-хранителей. Его речь доходила до меня, как бульканье кипящего чайника, и, пока он подробно излагал мне свои аргументы, я задремал; всего лишь на мгновение; во всяком случае, я так полагал. Я был убежден, когда проснулся, что потерял сознание на секунду, не больше. Тем не менее первым моим побуждением было взглянуть на часы, но их на руке не оказалось. Вид у меня, должно быть, был весьма растерянный, потому что мой сосед, хоть я ни о чем его не спрашивал, смеясь сообщил, что сейчас пять часов вечера. Смех его болезненным скрежетом отдавался у меня в голове, я сел на кровати, ударившись затылком о прутья изголовья, злясь на него, на самого себя: так, значит, я опять спал, а Катрин, быть может, стонет в соседней палате, тихонько зовет меня. Я повернулся, надавил на кнопку звонка дрожащим пальцем, откинул одеяло и встал босыми ногами на плитки пола. Сосед заметил, что здесь предоставляют в распоряжение больных тапочки. Достаточно наклониться, и их можно обнаружить под ночным столиком. Но я пренебрег его советом, я изо всех сил старался держаться прямо, вцепившись пальцами в спинку кровати.
— Нет, нет, мсье Реве! — закричала сестра, вбегая в палату. — Нельзя вести себя так неразумно. Я ведь запретила вам вставать. И потом вы не должны без всякой причины вызывать персонал… к тому же давать такие продолжительные звонки.
— Я позвал вас, потому что хочу видеть свою жену, — ответил я.
— Вы ее увидите, — заявила она, подталкивая меня к постели.
— Когда? — поинтересовался я, сопротивляясь ее натиску.
— Завтра! — бросила она, чуть поколебавшись.
Я понял, что она лжет, лишь бы выиграть время. Я повысил голос, требуя, чтобы меня немедленно отвели к Катрин. Никому не дано право держать меня в неизвестности; иначе я за себя не ручаюсь. Сестра слушала меня, полуоткрыв рот, на скулах у нее выступили красные пятна. Когда я на минуту умолк, переводя дыхание, ей удалось вставить слово. Нежным голоском она попросила меня подождать, пока придет мсье Ложье, с которым она сейчас же переговорит. И добавила, выходя из палаты:
— Вам не следует так стоять. Или же наденьте тапочки!
Не прошло и двух минут, как она вернулась в сопровождении мсье Ложье, эти две минуты я просидел на краешке кровати, упрямо смотря в окно, чтобы не встречать нескромный взгляд соседа.
— Ну, мсье Реве, — начал практикант притворно добродушным тоном, — что тут происходит? Ваш звонок слышно было во всех палатах, даже в реанимации. Вы хотите вернуться домой, не так ли? Ну что ж, у меня нет возражений. — И, поскольку сестра удивленно взглянула на него, добавил: — Я сейчас смотрел его рентгеновские снимки, Мишлин. Все в порядке.
— Но, — с трудом ворочая языком, проговорил я, — я просил не об этом. Я хочу видеть свою жену.
— Увидите ее, когда вернетесь домой, — проговорил он и тотчас опустил голову в приступе кашля, прикрыв ладонью рот.
Кашель его показался мне каким-то неестественным, и нижняя губа у меня задрожала: зачем он мне лжет? Мне же сказали, что Катрин в соседней палате. Мсье Ложье решительно повернулся к сестре:
— Мадемуазель, проделайте все необходимые формальности.
— Но, мсье… — растерянно пробормотала сестра.
— В чем дело? Это не так уж сложно, — проговорил он с нетерпеливой гримаской. — Проводите мсье Реве в канцелярию, где оформят его выписку… И закажите санитарную машину, которая отвезет его домой, конечно, предварительно предупредив семью.
Я так и подскочил: предупредить семью? Что за ерунда! Достаточно позвонить по телефону. Катрин снимет трубку. Если ей разрешили вернуться домой, значит, состояние ее уже не вызывало тревоги, так ведь? Я хотел было поделиться этими соображениями с мсье Ложье, но он извинился, у него, мол, нет времени, и попрощался со мной, неловко пожав мне правую руку, даже не дожидаясь, пока я протяну ее.
— Я дам вам халат, накинете его на пижаму, — сказала сестра. — Наденете носки и ботинки, и все. Ваш шурин должен был завтра утром принести чистую одежду, потому что, знаете, пиджак ваш так и не нашли, а брюки разорваны.
— Мой шурин? — удивился я. — Мой шурин приходил сюда?
— Да, вчера вечером, — ответила она, испуганная моим нервным тоном.
— Но с какой стати? — спросил я, чувствуя, что капли холодного пота выступили у меня на лбу.
— Думали, что вы находитесь в коматозном состоянии. Надо же было кого-то предупредить. А на самом деле вы просто спали.
— А Катрин, моя жена, почему вы мне ничего о ней не говорите? Как она себя чувствует? Это вы отвозили ее на улицу Вьоле?
— Нет, по-моему, ваш шурин. Надевайте же поскорее носки! — Сказав это, она положила на кровать поношенный мохнатый халат. — Это больничный. Не забудьте его вернуть вместе с пижамой.
— Можете об этом не беспокоиться, — ответил я, вытирая вспотевший лоб.
Все эти скучные подробности отвлекали мое внимание, или, может быть, я сам цеплялся за них, надеясь отогнать тревогу. Я словно бы старался выиграть время, злился, оттого что мне ничего не говорят, и оттягивал ту минуту, когда я все узнаю.
Сестра чуть ли не силой усадила меня в кресло-каталку, сославшись на то, что я иду слишком медленно и к тому же держусь не совсем прямо, а нужно будет пройти по коридорам довольно большое расстояние. На протяжении всего пути нас окружал запах спирта и эфира. Мне казалось, что мы едем прямо к операционной, а я отнюдь не спешил туда прибыть.
У окошечка регистратуры толпился народ, и выписка заняла целых четверть часа, но для меня они пролетели как один миг. Восседая, словно манекен, в своем кресле, я ждал, скрестив руки и ноги. Сестра передала мне документы, и я подписал их, не покидая кресла, она протянула мне почтовый календарь, я подложил его под бумаги, пристроив их на коленях. Она коснулась ладонью моего плеча, и я вздрогнул.
— Ну вот, теперь все в порядке, — сказала она. — Я с вами попрощаюсь.
И тут с двух сторон ко мне подступили двое — сидя в кресле, я не сумел хорошенько разглядеть их — и подхватили меня под руки.
— Не напрягайтесь! — проговорил женский голос. — Мы вам поможем.
— Я прекрасно и сам могу подняться, — ответил я, слезая с кресла.
— Ну и чудесно, — сказала молодая женщина, не выпуская, однако, моей руки, и, повернувшись к парню в белой куртке, распорядилась: — Шарль, можете заводить машину.
Она чуть сжала ладонями мою талию, чтобы поддержать меня, когда я влезал в машину, и шофер, следивший краешком глаза за ее действиями, воскликнул:
— Браво, Жюдит!
Сидя на носилках — лечь на них я отказался, — я машинально спросил ее, не работает ли она в Красном Кресте. Она ответила, что состоит на службе в частной компании. Потом поинтересовалась, доволен ли я, что возвращаюсь домой. Она задала вопрос, не подумав, и, так как я промолчал, покраснела. Мне показалось, что она еле слышно прошептала: «Извините!» или «Простите меня!»; но я уже не обращал на нее внимания. Машина ехала быстро, и вот передо мной возник бульвар Гренель и воздушные пути метро. Мулат, Кид-боксер и подросток в майке вышли из темного угла, где железные столбы, и преградили нам путь, а Серж, трубач и Чарли шли за нами по пятам. Я стиснул зубы, словно меня вдруг ударило током, и Жюдит поспешно посоветовала мне лечь на носилки.
— Иначе к чему тогда машины для перевозки больных? — сказала она.
— Ни к чему! — ответил я. — Мы приехали.
Перед входной дверью я невольно отшатнулся назад, но Жюдит подхватила меня, крепко сжав мое плечо.
— Вам плохо? — спросила она.
— Да нет! — раздраженно ответил я.
В лифте мне стало легче, и я ей улыбнулся; но на лестничной площадке десятого этажа меня охватила смертельная усталость. Я с трудом передвигал ноги, словно шагал, увязая по колено в грязи.
— Ключ! — вдруг вскрикнул я. — Я потерял ключ.
— Неважно, — сказала Жюдит вполголоса. — Вас ждут. — И она нажала кнопку звонка.
Соланж схватила меня в объятия. Я инстинктивно отстранился, коснувшись лицом ее мокрой щеки, вглядываясь в нее широко раскрытыми глазами. Она обхватила левой рукой мою шею, уронила голову мне на грудь и повторяла сквозь рыдания:
— Бедный мой Бернар! Бедный мой Бернар!
У нас с невесткой никогда не было особенно теплых отношений, и этот взрыв чувств удивлял меня, был мне даже неприятен.
— Робера предупредили, — сказала она. — Он приедет через час. Сейчас я одна с ней.
— С кем? — спросил я, стряхнув ее руку со своей шеи.
Она испуганно взглянула на меня.
— Послушайте, Бернар… Вы же прекрасно знаете. Вы ведь в курсе.
— В курсе чего? — спросил я, задыхаясь. — Где Катрин?
Соланж взяла мои ладони в свои, стиснула их, и на сей раз я не сопротивлялся.
— Идите к ней! — сказала она. — Мы с Робером всю ночь провели возле нее.
Она открыла дверь в спальню и отступила, пропуская меня вперед. Невозможно описать то, что я испытал. Мне хотелось излить свое негодование в язвительных насмешках, меня возмущало, что какую-то старую куклу уложили на нашу с Катрин постель. Что за гнусная шутка! Я не желал больше делать ни шагу, сейчас повернусь к Соланж и выскажу ей все; вот только ноги меня не слушались и несли меня к постели, словно их подгоняла охватившая все тело дрожь. Нет, это вовсе не Катрин! Не была же Катрин такой крошечной. Эта женщина с ничего не выражающим лицом, которую уложили на перину прямо в туфлях, походила на карлицу. Голова ее утопала в пышной подушке, и седеющих волос почти не было видно, казалось, лицо выставлено напоказ в футляре, все кости его отчетливо вырисовывались, выступая под пергаментной кожей. Я закричал: «Нет!», но голоса моего никто не услышал, или он внезапно совсем пропал. Рука Соланж ласково опустилась на мое плечо, и я качнулся вперед: я упал на кровать, прижавшись губами к этим оловянным волосам, которые я теперь узнал, там, между ухом и виском, где некогда билась такая нежная синяя жилка.
IV
Смерть — золотой век семьи. Похороны скрепляют обременительные семейные узы — нахлынет поток родственников, и вся эта толпа берет в свои руки власть. Мне хотелось остаться одному у изголовья Катрин, но семейство было против. Дамы монотонно перебирали четки прилагательных: «Бедненькая мученица, жестокое, отвратительное убийство…» Потом одна из них разражалась рыданиями, а остальные вторили ей. Я до крови закусывал губы, но слезы все равно текли по моим плохо выбритым щекам, скапливались в морщинках, застревали в щетине волос.
— Наденьте жилет, Бернар. Вы простудитесь.
Мне следовало бы потребовать тишины, настоять на своем праве побыть в одиночестве, но я малодушно отступил перед этим сборищем, меня даже успокаивало то, что оно поглощало меня, как бы растворяло в себе. Коллективные слезы облегчали мне душу. Собственная боль пугала меня, мне страшно было заглянуть в эту мертвую бездну.
Вначале я пытался бороться. Отказывался от всякого общения с Соланж и Робером. Я точно обратился в камень, ничего не желал слышать. Существовала только Катрин. Я смотрел, как она спит, и время от времени касался губами или пальцами ее точно вылепленных из папье-маше рук. Я пытался вернуть тепло и жизнь этой коже, которая уже не отзывалась на прикосновение. На ее губах, которые я не узнавал — до того они стали тонкие, что выглядели как-то нелепо, — застыла карикатурная улыбка, от которой меня пробирала дрожь. Когда Робер между двумя вздохами обращался ко мне с какими-нибудь словами, я стискивал зубы или тряс головой. Но линия обороны не могла долго продержаться. Я капитулировал перед новым нашествием родственников: моей племянницы Ирен и ее мужа Жака, приехавших из Дижона со своими тремя детьми — Пьером, Натали и Раймоном; моего брата Марселя, который не колеблясь проделал путь из Барселонетты в Париж на машине; племянника Катрин Мориса Фулона в сопровождении жены Клеманс, Мари-Лоры и Патрика; и наконец, Сильвии и ее сына Мишеля. Перед таким групповым горем я не устоял. Брошенное кем-нибудь слово сожаления, искаженное мукой лицо вызывали всеобщий взрыв отчаяния. Когда Морис, которого я не любил, наклонялся, чтобы поцеловать меня, и я чувствовал, как вздрагивает его жирная щека, я разражался слезами; а когда Робер проникновенным голосом духовника призывал меня набраться мужества, я судорожно сжимал его протянутую руку. Меня трогали самые банальные рассуждения, обычные панегирики, которые так не вязались со всем обликом Катрин и вспоминая которые еще и сегодня я воплю от ярости. Ирен и Соланж воздавали хвалу ее доброте, ее щедрости, но их ханжеский тон погребал эти достоинства под слоем пепла; а Клеманс, которая не ладила с Катрин, всегда относилась к ней свысока за ее крестьянскую прямоту, тупо твердила: «Это была святая». Робер, и в самом деле глубоко потрясенный, говорил о ней как о личности исключительной, не забывая при этом, что она его родная сестра, и охотно подчеркивая общие для них черты.
Поймите меня хорошенько: я делал все эти наблюдения без всякой задней мысли, так сказать бессознательно. В ту пору я еще был мягкотелый гуманист, оптимист по призванию. Это теперь я взираю на своих ближних без малейшего снисхождения, пересматриваю прошлое обнаженной памятью. Но тогда я еще доверял людям и ирония не была мне свойственна. У меня не было ни желания, ни времени замечать тщеславные высказывания Робера, пошлости Соланж, мещанские претензии Мориса или Клеманс. Их сочувствие, искреннее или нет, трогало меня, и я был им благодарен за то, что они здесь. К тому же, в том состоянии смятения, в каком я находился, они сливались в одно с теми, кто умел промолчать или инстинктивно находил верное слово. С Марселем, который сжимал свои огромные кулачищи лесоруба, весь багровел и с трудом выдавливал из себя:
— Знаешь, это был человек.
Он обнимал меня, не проронив ни слезинки. От жесткой, словно дубленой его кожи пахло смолой, душистыми опилками нашего детства, и я рыдал как дитя. И потом еще был малыш Раймон, который среди сборища родственников всегда выглядит каким-то потерянным. Его упрекают за то, что он вечно зевает по сторонам, что он рассеян, но сейчас взгляд его не избегал моего взгляда, всем сердцем он был здесь, со мной. Меня смущало его внимание без капли детской наивности. Еще одна расхожая мысль — неведенье семилетнего мальчика. Катрин обожала его именно за то, что он остерегался взрослых, с их самоочевидными истинами и штампованными фразами. Именно поэтому он казался каким-то недоверчивым упрямцем, который пропускает мимо ушей все советы, ничуть не интересуется уроками и учебой. Но если, уверившись, что он все равно не слушает, ты объяснишь ему что-нибудь не до конца, он обязательно это заметит и скажет тебе. Катрин как-то удивилась, что он совсем равнодушен к телевизионным передачам, хотя его старший брат Пьер и его сестра Натали все вечера просиживали перед экраном. Она спросила его, отчего это так.
— Потому что все это неправда, — ответил он.
— Как так, неправда? Информация — ведь это правда, — заверила Катрин.
— Совсем чуточная правда! — возразил он, опустив голову.
Катрин, заинтересовавшись, стала расспрашивать, засыпала его вопросами, но вместо ответа он взял ее ладонь и сказал:
— У тебя усталые пальчики. Я их очень люблю.
Я тоже очень любил их. Пальцы у Катрин были короткие, местами шершавые, местами — гладкие. Сожмешь их чуть сильнее, они сразу хрустнут и чувствуешь себя виноватым. Вначале — я хочу сказать, когда мы только поженились, — они казались совсем обычными. Это старея они стали тоньше и кожа пошла пятнышками, словно листва на яблоне. Катрин гордилась своей линией жизни, полукруглой дугой тянувшейся через всю ладонь. «Меня придется убить, — говорила она, — не то я проживу до ста лет».
Я спрашиваю себя, знает ли Раймон, как ее убили. Его благомыслящий отец, должно быть, утаил от него половину правды. Жак Форж, инженер дорожного ведомства, терпеть не мог всякого рода щекотливых положений, всяких осложнений. Человек действия, хотя и не выказывавший чрезмерного рвения, он желал прежде всего быть реалистом и предельно упрощал все человеческие отношения. Весьма удобная позиция, которой он довольно успешно придерживался. Но Раймон наверняка обо всем догадался. Подозреваю, что он прочитал газеты, которые от него прятали. Во всяком случае, в день похорон, когда я его поцеловал, он произнес охрипшим голосом фразу, которую я не перестаю повторять со вчерашнего дня, ее слова как молоточки долбят по моему черепу: «Это несправедливо».
В первые дни никто даже не заикался об обстоятельствах смерти Катрин. Об этом говорили как о несчастном случае, о некой катастрофе. Коротко, в чисто телеграфном стиле, введя Робера в курс дела, я оставался глух ко всем его расспросам. Он желал знать подробности, хотел что-то понять, спрашивал меня, спрашивал себя самого. Почему эти хулиганы вдруг напали на нас? Несомненно, что-то послужило к тому поводом. Нет, никакого повода не было. Робер ломал руки: «Но это же немыслимо». До чего на него похоже: прежде всего логика, чисто теоретический взгляд на вещи. Мое молчание, верно, казалось ему отвратительным. Однако он не осмеливался слишком уж донимать меня вопросами: ведь я только что вышел из больницы, и состояние моего здоровья требовало известной осторожности. Все изменилось после визита инспектора Дюмулена. Каждый из них пожелал сам вести расследование, проанализировать причины происшедшего и высказать свое мнение. Все, кроме Марселя, жаждали все узнать и истолковать, торопились с заключениями, и в то же время их ленивый ум пасовал перед окончательными выводами. Меня просто поражало их неуемное желание все обсуждать, участвовать в «круглом столе», устраивать нечто вроде телевизионного клуба. Их интересовала личность убийц, которых полиция еще не разыскала и о которых мы практически ничего не знали. Морис, дантист с авеню Моцарта, ссылался на метод психоанализа, в то время как Клеманс, чей сын Патрик слушал в Сорбонне курс лекций по семиотике, рассуждала о некоммуникабельности. Мне было неловко слушать их разглагольствования.
Инспектор Дюмулен явился в пятницу 27 апреля в одиннадцать часов утра. Похороны должны были происходить в начале первого, и в квартире уже толпилось множество народа. Я попросил родственников и друзей, набившихся в спальню, перейти в гостиную и оставить меня наедине с инспектором. Катрин лежала в открытом гробу, поставленном на помости. Я подумал, что эта картина может смутить мсье Дюмулена, и извинился перед ним за свою оплошность: мне следовало принять его в другой комнате. Но он ответил, что привык к таким вещам. Я решил было, что он хотел сказать: «привык видеть трупы», — и счел его слова несколько грубоватыми, но он тут же добавил:
— Привык глядеть в лицо реальной действительности.
К огромному моему удивлению, я изложил ему все обстоятельства с предельной точностью. Ведь всего минут за десять до этого я считал, что не способен связать вместе даже два обрывка воспоминаний, а сейчас я восстановил в строгой последовательности все до мельчайших деталей. Мсье Дюмулен особенно интересовался тем, как были одеты нападавшие, и мои точные описания, казалось, его вполне удовлетворили.
— При расследовании, — сказал он, — главное — это детали.
Он поблагодарил меня, сообщил, что на той неделе меня пригласят на набережную Орфевр, потом остановился перед гробом.
— Судебно-медицинские эксперты дали точное заключение, — сказал он, — кровоизлияние мозговой оболочки как следствие черепной травмы без перелома. — Он крепко пожал мне руку и добавил: — Я займусь этим делом.
Марсель собирался после похорон побыть со мной несколько дней: у него, мол, нет особых причин спешить с возвращением в Барселонетту, никто там в нем не нуждается. Его сын Антуан, парень достаточно взрослый, сможет и один управиться на лесопилке, а Жанина и подавно не рассердится, просто некоторое время отдохнет от мужа. Я знал, что он говорит неправду. Антуан, до сих пор еще ходивший в холостяках, в жизни не принял ни одного важного решения, не посоветовавшись с отцом, да и Жанина ждала Марселя с нетерпением. Но он тревожился, видя мое горе, и считал своим долгом быть рядом со мной.
Ирен тоже не хотела оставлять меня одного, она утверждала, что я не сумею сам себе даже яйцо сварить. Пусть Жак возвращается в Дижон вместе с Пьером, Натали и Раймоном. Служанка о них позаботится, они ни в чем не будут нуждаться. К тому же Ирен, раз уж представился такой случай, побудет хоть недельку с отцом, которого видит теперь все реже и реже. И Марсель, чтобы побороть мою щепетильность, подтверждал:
— Да, раз уж представился случай.
Меня это, конечно, не обмануло: Ирен настоящая наседка и тяжело переносит разлуку с детьми. Но у меня не было сил противиться, и, чтобы утишить свою совесть, я твердил себе, что пребывание под нашей крышей моего брата и племянницы доставило бы радость Катрин. Однако проходили часы и дни, и я начал в этом сомневаться. Само собой, мы говорили о Катрин, но эти наши беседы втроем все время заходили в тупик. Нас удерживало своего рода целомудрие, поэтому воспоминания наши были довольно бесцветными. Образ Катрин словно бы размывало. Никто даже словом не обмолвился о ее капризах, о резких сменах настроения, и если один из нас хоть намеком касался ее нелегкого характера, остальные тут же переводили разговор на другую тему. А я сгорал от желания исповедаться перед ними, рассказать о нашей свадьбе, о нашем молчаливом разладе и о том, как потом наступило исцеление, поведать всю правду о нашем супружестве со всеми его несовершенствами, столь дорогими мне. Обычно сдержанная Ирен выходила из себя, лишь когда ругала напавших на нас хулиганов, но проклятия ее не находили отклика. Марсель гневно сжимал свои кулачища, а я отворачивался. Тогда, чтобы как-то разрядиться, Ирен начинала хлопотать у плиты. К счастью, аппетит у Марселя был до сих пор отменный, иначе что бы мы делали со всеми приготовленными Ирен яствами? Я едва к ним прикасался, что навлекало на меня бесконечные упреки:
— Да ну, дядюшка, ты просто не имеешь права так себя вести. Если бы бедняжка Катрин была жива, она бы страшно на тебя сердилась.
Вот уж дурацкое предположение: будь Катрин жива, я никогда и не потерял бы аппетита.
Да и для Марселя время теперь тянулось бесконечно долго. Я замечал это по тому, с каким нетерпением поджидал он почтальона, как, едва закурив, сразу же гасил сигарету или вдруг поспешно спускался на лифте, переходил через улицу и возвращался с газетой, которую и не думал читать. Он привык жить в лесу, на свежем воздухе, и задыхался в нашей квартире, а окно открывать не желал из-за уличного шума. Эта его неприкаянность начала в конце концов тяготить меня, так же как кулинарные подвиги Ирен. А тут еще зачастили Соланж с Клеманс, то вдвоем, то в сопровождении Робера и Мориса, они являлись каждый день справиться, как я себя чувствую, точно так же, как Сильвия, как мой старый друг Ролан Шадр. Клеманс просто изводила меня советами:
— Вам, Бернар, следует взять приходящую прислугу на полный день. Тогда дом будет содержаться в порядке, да и вы себя почувствуете не таким одиноким.
А на самом-то деле, я знал, она сгорала от любопытства. Она узнала от Ирен, что инспектор Дюмулен приходил ко мне второй раз, и не могла удержаться, чтобы не намекать на это с самым невинным видом. Но из меня невозможно было вытянуть ни слова. Мсье Дюмулен просил засвидетельствовать две подробности: действительно ли парень с льняными волосами — тот, кого называли Пополь, — играл на трубе или просто так дул в нее? И второе: вполне ли я уверен в том, что прочел на майке долговязого подростка: «Му god is nothing»? На оба вопроса я ответил утвердительно. Хотя, отвечая на первый вопрос, и сделал оговорку, что ничего не смыслю в джазовой музыке. Поэтому мне трудно было утверждать, что Пополь играл как профессионал.
Визиты Сильвии были краткими и немногословными. Она говорила «добрый день» или «добрый вечер» и ласково смотрела на меня. А мне так хотелось поговорить с ней о Катрин, которая очень ее любила, но вела она себя так робко, что я тоже робел. Присутствие Ирен, видимо, смущало ее, и она то и дело откидывала со лба непокорную прядь. Когда я расспрашивал ее о Мишеле, она делилась со мной своей тревогой: он так быстро растет, она полагала даже, что скоро консьержка и соседи будут, чего доброго, принимать его за любовника, которого она содержит; рассуждения эти вызывали у меня улыбку, я думал, что Катрин наверняка понравился бы ее нонконформизм.
Ну а мой друг Ролан Шадр, чтобы отвлечь меня от горьких дум, выбирал для разговора тему, которая прежде всегда меня волновала: реформа и кризис системы образования. Но теперь я слушал его через силу. Слова, точно назойливые мухи, гудели в голове, не вызывая отклика.
В среду 2 мая Марсель отвез Ирен на Лионский вокзал. И на следующий день сам уехал в Барселонетту. Тогда и Соланж, Клеманс, Робер, Морис, Сильвия, Ролан перестали меня навещать. И я остался один. Именно этого я и желал. Но отныне каждый мой шаг гулко отдавался в квартире, я слышал, как в тишине потрескивают кресла. Что теперь для меня эти стены, раз они лишились Катрин? Я поглаживал кончиками пальцев предметы, которых она некогда касалась, обращал к ним вопрошающий взгляд. Словно хотел понять, как могут они обходиться без нее. Порой я рылся в шкафу в ее вещах, подносил к лицу блузку или шарф, вдыхая аромат Катрин — аромат спелых яблок. Меня завораживал полумрак, шторы на окнах я раздвигал лишь до половины, зажигал лишь одну, и то самую слабую лампочку, словно бы яркий свет мог рассеять, прогнать мои воспоминания. Малейший шорох, доносившийся из кухни, заставлял меня вздрагивать. И я вставал, чтобы завернуть плохо прикрытый кран или вытереть губкой пятно на раковине. Мне чудилось, что эти маниакальные жесты приближают меня к Катрин.
Ночью, не в силах уснуть, я садился в кровати и, уставившись во мрак широко раскрытыми глазами, пытался воскресить ее облик: я призывал свою спутницу жизни, нет, не ту юную девушку, полную очарования молодости, за которой я ухаживал в Барселонетте, а маленькую старушку, которая только что меня покинула, мадам Реве со всеми ее милыми морщинками. Да, я гордился и дорожил этими морщинками, особенно теми, что расходились от глаз лукавыми лучиками; а голубизна радужной оболочки сделалась какой-то непрочной, но яркой: никакого сравнения с конфетной голубизной времен нашей помолвки. И губы уже не были такими пухлыми, зато их увядшая блеклость стала удивительно нежной. Я был ей признателен за ее миниатюрность, за то, что она мне под стать, и если я сожалел о том, что грудь у нее теперь впалая и она поэтому горбится, то в ее размеренно-свободную походку я был просто влюблен. Казалось, эти мелкие семенящие шажки вели ее к определенной, известной ей цели, и она сама направляла свой жизненный путь. Я зажмуривал в темноте глаза, чтобы легче было услышать ее немного дребезжащий голос; прежде меня раздражало, когда он срывался на каком-нибудь слове, которое она старалась подчеркнуть, или дрожал в конце фразы. А теперь именно эти нотки я хотел уловить, точно режиссер, помешанный на достоверности.
А потом, конечно, выходя из кино, я брал ее под руку. Кадры фильма Ингмара Бергмана переплетались с кадрами улицы Севр: к примеру, можно было увидеть блики на воде, белые стволы берез между машинами, а в зрачках Катрин нет-нет да и появлялось то же самое выражение, что и в глазах Биби Андерсон. Сидя на постели среди ночи, я старался приноровить свои шаги к ее шажкам, я видел, как иду с ней рядом, тоже слегка сгорбившись, в мягкой шляпе, из-под которой выбивался венчик седых волос, их сероватые пряди пышно спадали на ворот рубашки, следуя велениям моды: этакий учитель Тучка, воображающий себя Че Геварой. Но отчего это мошкара так неистово кружила вокруг уличных фонарей? И как спастись от разверстой пасти метро Дюрок, которой не терпится нас поглотить? Там, в конце лестницы, нас поджидали облицованные плиткой своды туннеля, пьянчужка, изрыгающий потоки брани, вьетнамец с чемоданом в руках. А потом красный вагон первого класса, обитое молескином сиденье, и мой вопрос при виде убегающего вьетнамца: «Почему же он побежал к выходу? Ему нужно было пойти на пересадку». И Катрин с равнодушным видом покачивала головой. И вот тогда…
Тогда… я отказывался длить свои воспоминания. Сидя в темноте на нашей супружеской кровати, я не желал слышать того голоса, несущего беду. Я впивался ногтями в одеяло, старался захлопнуть дверь своей памяти перед этим человеком с сердцем, сочившимся гноем, с бородкой опереточного подзаборного Христа. Я боялся, что задохнусь от ненависти.
V
Не припомню, в какой именно день меня вызвали в уголовную полицию к комиссару Астуану. Не то в четверг, не то в пятницу: в четверг утром после отъезда Марселя или в пятницу 4 мая после полудня. Такая рассеянность меня тревожит. Мне стоило немалых усилий написать все это, и я все еще боюсь потерять нить. Чтобы не сбиться, память моя нуждается в цифровых ориентирах, в натыканных повсюду, как флажки, числах.
Для комиссара Астуана каждое слово имело значение, и поначалу это казалось мне излишним, но он объяснил, что в его деле словесная неточность может повлечь за собой ошибку, а зачастую и неудачу. В моем рассказе его интересовали самые мельчайшие детали. Ему хотелось знать точную реакцию Сержа, когда Катрин обозвала его ничтожеством. Но я не обратил на это внимания по той причине, что в эту минуту сам истошно кричал.
— Причина недостаточная, — заметил мсье Астуан. — Крик не лишает человека наблюдательности. — Он улыбнулся и одернул себя: — Мои слова раздражают вас. Простите меня.
Нет, эти слова не раздражали меня. Подумав немного, я сказал, что, кажется, Серж побледнел. Мой крик как раз и был вызван страхом перед столь тревожным признаком. В эту минуту в кабинет вошел мсье Дюмулен, который пожал мне руку и сразу же спросил у своего шефа, следует ли ему ввести подозреваемого.
— Минуточку! — ответил мсье Астуан, предложив мне сигарету, которую я машинально взял, но тут же сунул обратно в пачку.
— Благодарю вас. Я не курю.
— Разрешите? — спросил он, закуривая, и протянул пачку Дюмулену: — Извини меня, Роже.
Он выпустил струйку дыма и некоторое время следил, как она завивается вокруг лампы, потом добавил сочувственным тоном:
— Для вас, верно, это было жесточайшим ударом.
Но я уже не слушал его, сознание мое сковало, как бы заблокировало слово «подозреваемый», произнесенное Дюмуленом. Перед моим мысленным взором продефелировали шестеро хулиганов, точно движущиеся мишени в тире. Кого из них введут в кабинет? Мулата или Кида? Пополя или Чарли? А может, подростка в майке? Мне не удалось только вызвать в памяти лицо Сержа, прятавшегося за чужими спинами.
— А сейчас, — сказал комиссар, — вам придется говорить совершенно бесстрастно. Это трудно, я понимаю, но вы наш единственный свидетель. — И он обернулся к Дюмулену: — Введи его!
Я сидел в кресле, обитом искусственной кожей, лицом к мсье Астуану, который, стоя за своим столом, перелистывал дело. Справа от него, за маленьким столиком находилась секретарша с невыразительным лицом, которая печатала на машинке, расшифровывая свои стенографические записи. Я не спускал глаз с двери в глубине кабинета, и, когда она отворилась, пальцы мои вцепились в подлокотники кресла.
— Подойдите поближе, мсье Дедсоль! — не оборачиваясь, сказал комиссар.
Пополь, сопровождаемый Дюмуленом, обогнул стол и остановился около меня, уставившись в стену. Комиссар продолжал перелистывать дело.
— Ну так как, мсье Реве, — сказал он не поднимая головы, — узнаете вы его?
У меня перехватило горло, и я не смог сразу ответить. Этот парень с бараньим лбом был, может быть, последним, кто видел Катрин живой. Да, я узнал его, но теперь, без трубы, со сложенными на животе руками, он походил на деревенского дурачка. Комиссар поднял голову и взглянул на меня:
— Ну как? — спросил он.
— Да, — ответил я. — Это именно он.
— Это именно он, — повторил комиссар, повышая голос. — Вы слышите, Дедсоль?
Дедсоль с тусклым взглядом скорчил гримасу, показывая, что, мол, ничего не понимает. Мсье Астуан посоветовал ему не торчать перед ним столбом, и Дюмулен, придвинув стул, усадил его, нажав на плечо своей тяжелой рукой.
— А ну-ка, — сказал он, — подумай хорошенько! Ты уже встречал этого господина, ведь так?
Дедсоль процедил сквозь зубы, что в жизни меня не видел. Возмущенный, я выкрикнул, что это именно он играл на трубе, чтобы заглушить наши крики, когда остальные избивали нас.
— Влип, Пополь, — сказал Дюмулен. — Предумышленное убийство: пожизненное заключение. При смягчающих вину обстоятельствах — двадцать лет.
Дедсоль вскочил и начал вопить: он-то здесь при чем, ведь играть на трубе не запрещено. Комиссар стукнул кулаком по столу, чтобы заставить его замолчать.
— Об этом мы еще поговорим, — сказал он. — Роже, уведи его.
Дюмулен взял Дедсоля за плечо и повел из кабинета.
Мсье Астуан извинился, что придется задержать меня еще на несколько минут, я должен подписать свидетельские показания, а они пока не перепечатаны.
— Ведь так, Симона? — спросил он недовольным тоном у секретарши, которая сухо бросила:
— Через две минуты будут готовы! — И машинка ее снова затрещала.
Мсье Астуан предложил мне сигарету и тут же спохватился:
— Экая память! Ведь вы не курите.
Он снова сунул пачку в карман, положил ладонь на раскрытое дело и заявил, что расследование началось совсем неплохо. Следователям помог случай. На месте нападения, на бульваре Гренель, была обнаружена коробка спичек-«гаджет» с маркой «Ливерпуль». «Ливерпуль» — довольно жалкий клуб на левом берегу, распорядитель которого охотно помог полицейским; да, прозвище «Пополь» кое о чем ему говорило: это один из завсегдатаев, который вечно сидит без гроша, играет на трубе как деревенщина, а воображает себя чуть ли не Армстронгом. Как его зовут? Поль Дедсоль. Полицейские взяли его на квартире у родителей, на улице Арман-Каррель. Сейчас Дюмулен старается его «расколоть». Обычная работа. Пополь обыкновенный трус. Он заговорит. Его сообщникам следовало бы быть начеку, но, к счастью, дело пока что не вызвало шума. Появилась всего лишь небольшая заметка в газетах.
— Правда, — заметил комиссар, — пресса уже сыта по горло. Такие нападения стали делом привычным.
На улице Вьоле я с раздражением обнаружил мадам Акельян: она чистила ковер в гостиной пылесосом Катрин. Я совсем забыл сказать о мадам Акельян, нашей консьержке, которая дважды в неделю, по настоянию Ирен, приходила «помогать мне», иначе говоря, делать в квартире небольшую уборку и готовить. Я сдался, не выдержав напора своей племянницы, сломленный усталостью, однако меня это тяготило по ряду причин: прежде всего, хлопоты по хозяйству вовсе не вызывали у меня отвращения, а избавить меня от них — значило лишить всякого занятия. Кроме того, мадам Акельян, чей муж работал ночным сторожем и весь день спал, нуждалась в собеседнике, а ее болтовня меня угнетала. Наконец, и это главное, я не в силах был выносить того, что она всюду сует свой нос, роется в вещах, принадлежавших Катрин, переставляет в комнатах одно, передвигает другое, да еще высказывает по этому поводу свое мнение:
— Ваза такая красивая, мсье Реве, только стоит она не на месте.
И когда я резко одергивал ее:
— Не трогайте! Это место меня вполне устраивает, — вид у нее сразу делался обиженный, точно у маленькой девочки, которую отшлепали, и мне становилось так неловко, что я уже ни во что не вмешивался.
В ту пятницу — я теперь совершенно уверен в дате: пятница 4 мая, потому что мадам Акельян приходила только по вторникам и пятницам, — она сразу выключила пылесос и спросила меня, как все прошло.
— Что прошло? — отозвался я тоном, явно не располагающим к беседе.
— Да там… — залепетала она, — на набережной Орфевр…
— Следствие идет своим чередом. У меня нет никаких новостей, — ответил я и, во избежание дальнейших расспросов, закрылся в спальне.
Мне необходимо было прийти в себя. Волнение, которое охватило меня при виде Поля Дедсоля, все еще не улеглось. После посещения уголовной полиции образ этого хулигана непрестанно стоял у меня перед глазами, и отныне я уже не мог отступить. Страница была перевернута. Я должен был глядеть прямо в лицо преступникам, пусть даже был не слишком уверен, что смогу сохранить хладнокровие. Сама мысль о том, что вскоре под надежной охраной они предстанут передо мной, повергала меня в лихорадочное смятение. Я всей душой жаждал теперь правосудия, при мысли о нем кровь закипала у меня в жилах. То не было желание отомстить за себя или за Катрин. Я желал только одного — восстановить утраченное душевное равновесие, без чего само мое существование обратится в руины.
Присев на кровать, на то самое место, где некогда спала Катрин, я старался не слышать шума пылесоса, которым орудовала в соседней комнате мадам Акельян. Сердце мое учащенно билось. Словно я опасался чего-то или кого-то, как будто и сам был под подозрением. Последние слова комиссара Астуана буквально терзали меня: «Такие нападения стали делом привычным». Значит, убийство неповторимой человеческой личности было делом привычным, и пресыщенная информацией пресса примирилась с этим. Да нет, комиссар сказал это не всерьез. Не может же общественное мнение оставаться безучастным. Когда люди узнают истинный характер преступления, они возопят от ужаса. Катрин убили развлечения ради, ее хрупкое тело посылали ногами как мячик в игре, ее забили до смерти. Я тряс головой и твердил вполголоса:
— Нет, это невозможно.
В наивности своей я был убежден, что суд над хулиганами, напавшими на нас, вызовет настоящий взрыв страстей, возбудит негодование всех звезд прессы и телевидения. Перед решеткой Дворца Правосудия или тюрьмы будут проходить манифестации, они потребуют предать смерти убийц. Однако все же меня грызло тайное сомнение. Я вспоминал сцену в метро, когда трое присутствовавших при этом пассажиров даже не подумали вмешаться. Грубые пальцы хулиганов шарили по моему лицу, сорвали с меня очки, шляпу. Катрин закричала, а мне удалось повернуться на обитом молескином сиденье и позвать на помощь. Но никто даже пальцем не пошевельнул. Сорокалетний мужчина был так поглощен чтением газеты! Я тоже покупаю «Монд» и внимательно прочитываю ее, но никогда ни одна заметка не могла настолько захватить мое внимание, чтобы я оставался слепым и глухим к окружающему. Мне хотелось бы узнать имя этого мужчины, я бы разыскал его и задал ему несколько вопросов: «Извините, мсье, не знаю, припоминаете ли вы меня. Мы ехали в одном вагоне метро, в среду 25 апреля в полночь, линия Аустерлиц — Отей». Интересно, как бы он отреагировал? Ох! Прекрасно представляю себе: принужденная улыбка, привычно вежливые, ничего не значащие слова, потом рассуждение в духе: «Ей-богу, не знаю, на что вы намекаете». Теперь я вспоминаю, у него, как и у меня, были длинные волосы и пиджак хорошего покроя был застегнут на все пуговицы. Ну а те двое молодых людей, верно, умирали от страха, несмотря на то что старались не показать вида. Воображаю, как они на следующий день рассказывали небрежным тоном этот анекдот в лицее Жансон-де-Сайи: «Ох и потрясная же банда была вчера вечером в метро, вроде той, что в „Механическом апельсине“. Измывались над двумя старикашками. Вот-то было забавно».
Но в то же время я противился столь пессимистической окраске своих воспоминаний: три этих примера еще не дают основания обобщать, и значение, которое я им придаю, обнаруживает косность моей философской позиции. Я не имею никакого права сомневаться в своем ближнем. Такое поведение недостойно прогрессивно мыслящего человека.
Упершись ладонями в колени, сгорбившись сильнее обычного, я невольно следил за извилистым путем дождевых капель, струившихся по стеклу, как вдруг вой пылесоса прекратился и в спальню вошла мадам Акельян.
— Мне нужно убрать спальню, мсье.
Я с недовольным видом встал и нервно шагнул к двери, но тут мадам Акельян спросила, слушал ли я радио. Я не оборачиваясь ответил, что у меня испорчен транзистор — это было чистой правдой.
— Министр сообщил, что захватили заложников, — не унималась консьержка. — Он сказал, что им не будет пощады. Но я-то в это не верю. Ведь им необходимо сохранить и козу и капусту.
Я пожал плечами, вошел в гостиную и остановился перед камином, на мраморной доске стояла теперь застекленная рамочка. А в ней была фотография Катрин двухлетней давности, самая последняя, какую я мог найти, обшарив весь дом. Я не в силах был отвести взгляда от портрета, так, казалось бы, правдиво воспроизводящего ее черты и в то же время такого неверного. У Катрин на снимке было просто-напросто «морщинистое личико», милое, но маловыразительное, глаза как булавочные головки и тонкие, словно карандашная черточка, губы. Как это непохоже на живую Катрин! Ее индивидуальность, ее прелесть покоряли людей лишь на втором этапе знакомства, покоряли рикошетом, если можно так выразиться; но потом уже трудно было смотреть на кого-нибудь другого, кроме нее. Внимание, которое она проявляла к собеседникам, делало ее в свою очередь центром притяжения, она обезоруживала самых неподатливых своим умением слушать без скепсиса, без рассеянного равнодушия. И каждый ждал от нее острого словца, ее понимающей улыбки. Женщина из народа и настоящая дама крестьянских корней. Фотография, которую я держал в руке, всего лишь антропометрическая карточка. Я вздрогнул от этой странной ассоциации идей. Память моя зафиксировала Дедсоля со сложенными на животе руками, в позе деревенского дурачка; но облик этот был фальшивым. Дедсоль казался парнем совсем иного пошиба, когда трубил в свою трубу. Глаза его сверкали, как у хорька. В расплющенных медным мундштуком губах угадывалось страстное желание причинить зло. Такой образ сохранила моя память.
Но тут я чуть не уронил фотографию. Я поставил ее на каминную полку и резко обернулся к мадам Акельян, которая вошла в гостиную и ни с того ни с сего спросила, хорошо ли я себя чувствую. Не в состоянии ничего ответить, я только тряхнул головой.
— Вы мало спите, — заявила она. — Надо принимать снотворное. Ну, я ухожу. Квартира теперь в порядке. В кухне стоит для вас баранье рагу.
Все так же молча я проводил ее до входной двери и запер дверь на ключ. Руки мои дрожали. От только что пережитого волнения у меня подкашивались ноги, и я опустился на стоявший у двери табурет. Когда мадам Акельян, покинув спальню, в гостиной подошла ко мне, мне почудилось, поскольку я смотрел на портрет Катрин, стоя спиной к двери, что я слышу шаги той незнакомой женщины, туфли которой, одни только туфли, я и успел разглядеть: она не остановилась, когда я с окровавленным лицом валялся на тротуаре бульвара Гренель. Та же размеренность шагов, тот же звук. Может, я просто стал жертвой галлюцинации? Наша память обладает удивительной силой. Я думал, что забыл тот эпизод, вырезал из ленты этот кадр, а он незаметно, тайком прокручивался в моем мозгу. И теперь я снова просматривал пленку, сидя на табурете: опять вибрация шоссе болезненно отдавалась во всем теле, и я чувствовал, что все для меня потеряно, что я лишь старое тряпье, которое можно отшвырнуть ногой. И вдруг по тротуару засеменила пара женских туфель, сопровождаемая парой мужских ботинок. Ко мне шли на помощь. Шел милосердный самарянин. Я позвал, дребезжащим от слабости голосом.
— По-моему, он ранен, — заметила женщина.
Но мужчина сухо возразил:
— Говорят же тебе, пьянчужка.
И шаги стали удаляться, эту мерзкую отговорку нашли вполне удовлетворительной.
Я встал с табурета, прошептал: «Нет… Нет!» — и, вернувшись в спальню, как был, не раздеваясь, ничком бросился на кровать. «Нет, — твердил я про себя, — не подлецы же мои современники». И эта мысль, вернее, сокровенное мое желание, настолько завладела мною, что я уснул.
Дневной свет угасал. За окном каштаны, растерявшие почти всю свою листву, протягивали ко мне ветви с расплывчатыми контурами. Пепельная дымка окутывала все вокруг, размывала очертания. Доктор Борель настойчиво рекомендовал мне не писать по вечерам, ссылаясь на то, что электрический свет утомителен для глаз.
— Пишите себе днем на здоровье.
Мадемуазель Тюрель не одобряла этот слишком либеральный режим:
— Уж чересчур доктор к вам снисходителен. Он и представить себе не может, сколько бумаги вы изводите. Я-то вижу, что эта работа слишком вас взвинчивает. Вот что я вам скажу — нет вам нужды этим заниматься.
Мадемуазель Тюрель ошибается. Я нуждаюсь в этом взвинчивании, от него только твердеет мое отчаяние. Пишу я не для того, чтобы облегчить душу, доверить свою тоску бумаге, как полагает доктор Борель, нет, я произвожу судебное расследование, веду следствие. Только вот, пока я пишу, слова завладевают мною. Раньше мне неведома была их тайная власть, я не знал, что опаляющий их пламень способен обуздать человека. Они насильно тебя дисциплинируют, словно бы взнуздывают свободу выражений. Однако необходимость тщательно выбирать слова открыла мне истины, о существовании которых я и не подозревал.
В прежние времена, когда я писал письмо другу или набрасывал передовицу для нашего профсоюзного бюллетеня, я ощущал некое согласие между моим пером и словами. Мне даже начинало казаться, что я наделен известным талантом. Катрин с улыбкой, полной наивной веры, поддерживала во мне это притязание. Я чувствовал себя порой человеком, отличным от своих собратьев-учителей. Даже самый мой метод активного, требовательного чтения вовсе не был обычным свойством любознательного ума. Конечно, меня интересовали развитие сюжета, идеи, заложенные в литературном произведении. Но самое ревностное мое внимание привлекала именно форма. Сочетание слов, предложений, фраз завораживало меня, как некий идеальный механизм, которым и я в свою очередь мечтал овладеть.
Но я подавлял это ощущение. Я остерегался чувства превосходства, считая его недостойным. Само предположение, что я могу быть писателем, пугало меня, делало смешным в собственных глазах. И я сразу сбавлял тон, стараясь избавиться от приступов гордыни.
Сейчас мне кажется, что Катрин в глубине души раздражало это мое смирение, которое представлялось ей каким-то неестественным. Как-то она шутя намекнула на мою «душевную эквилибристику», и, когда, удивленный резкостью этого выражения, я попросил объяснить его, она смеясь, но безапелляционным тоном ответила, что очевидность в объяснениях не нуждается. Ее возмущало не отсутствие у меня честолюбия, но вечные мои отговорки. Когда я заявлял, что вовсе не стремлюсь получить пост преподавателя коллежа, что профессия учителя начальной школы больше подходит выходцу из народа и что подниматься по социальной лестнице — значит преследовать реакционную цель, она неизменно отвечала: «Как знать?» и тотчас же меняла тему разговора.
Я сознаю, что она давно уже разуверилась во мне. Вначале наш союз был лишь согласием без сучка, без задоринки, слиянием полутонов, весьма тусклым триумфом. Я был слишком рассудителен и слишком воспитан, чтобы не пытаться смягчить ее, когда она под вымученной шуткой скрывала свое раздражение. Женился я, конечно, по любви, но также и по рассудку, желая покончить со своим холостяцким положением, и план мой включал в себя целую вереницу добрых намерений, которые я старался претворить в жизнь буквально во всех мелочах. По отношению к своей жене я вел себя как человек, сознающий всю свою ответственность, этакий праведник, всецело преданный семейной ячейке, точно так же, как и начальной школе. Тронутая этими отнюдь не притворными достоинствами, Катрин ни разу не решилась намекнуть мне, что я в какой-то мере обманул ее надежды. Хотя она и не была влюблена без памяти, она все же ждала от своего супруга чего-то иного: больше теплоты и меньше благоразумия. Но поскольку она надеялась иметь ребенка, она сохраняла ровное настроение и безмятежное выражение лица. Однако после внематочной беременности она узнала, что уже не сможет стать матерью, и горе ее было безграничным, в то время как для меня тут было лишь одной горестью больше. Сам-то я нисколько не сомневался, что глубоко огорчен, но она прочла в моем сердце: по правде говоря, я не так уж желал иметь ребенка, его появление заставило бы нас изменить многие свои привычки; жизнь, которую мы вели, казалась мне достаточно наполненной: я делил свое время между семейным очагом, учениками, профсоюзом и чтением, а она посвящала день хлопотам в своем книжном и писчебумажном магазинчике и заботам о домашнем уюте. Я поспешил уверить себя, что Катрин утешилась, а она просто перестала делиться со мной своим горем. Ее отношение ко мне изменилось: она вела себя как супруга, сознающая свой долг, улыбавшаяся не слишком-то нежно, но и не показывавшая разочарования, вызванного моей эгоистической уравновешенностью. Гармония наша стала чистой условностью. И мы уже смирились с тем, что будем вот так стареть, не ведая ни любви, ни ненависти, когда внезапно одно внешне безобидное событие перевернуло все.
Мы рассчитывали в конце сентября 1934 года провести несколько дней на берегу Средиземного моря. Решение наше не представляло для меня никаких затруднений, поскольку я был официально в отпуске до 1 октября. А Катрин могла оставить магазин на попечение моей тещи и нашей служащей мадам Полетти. Сначала мы думали было поехать в Ниццу, а потом в Ментону, но в конце концов мы из экономии выбрали Кавальер в департаменте Вар. Когда мы прибыли туда, было, должно быть, часов семь вечера. Небо над морем, которое Катрин видела в первый раз в жизни, было золотисто-желтым. Сандалеты ее вязли во влажном песке, но она ласково коснулась ладонями водной глади, затем поднесла пальцы к губам. И, скинув сандалеты, побежала босиком вдоль берега, а я следовал за ней, немного отстав. Я еще никогда не видел ее такой, и это ее возбужденное состояние рождало во мне какое-то неподвластное разуму волнение. Я догнал ее, когда она присела в своем новом платье на опутанный водорослями камень. Она взяла меня за руку и упрекнула, что я серьезен точно пастор.
— Похоже, ты боишься, — смеясь, добавила она.
От этих неожиданных речей у меня пересохло в горле, я смотрел на нее, не находя слов для ответа. Она встала, выпустила мою руку и, прыгая с камня на камень, пробежала весь пляж и ступила на таможенную тропку, идущую вдоль песчаного берега по склону холма. Некоторое время я смотрел ей вслед, потом не раздумывая поспешил за ней и нагнал ее там, где тропинка круто сворачивала, на высоком, нависшем над морем мысу. Огненно-красное небо и свет, исходивший от него, окрашивали неподвижную водную гладь, похожую на натянутый шелк. К запаху водорослей, которым тянуло от берега, примешивалось благоухание диких лавров и земляничника.
— Пора возвращаться, — сказал я. — Темнеет.
Катрин тряхнула головой, волосы ее в беспорядке рассыпались по плечам, повернувшись ко мне спиной и высоко подобрав платье, она перелезла через решетку, ограждавшую частное владение со стороны холма. Она шагнула на крошечное, заросшее тимьяном поле, зажатое между купами мастиковых деревьев, и остановилась перед гранатовым деревом, плоды которого видны были издалека.
— Иди сюда! — крикнула она мне. — Иди скорей!
Я подбежал к ней, собираясь упрекнуть за то, что она проникла в частное владение, но она закрыла мне рот ладонью, чтобы заставить меня молчать, сорвала гранат и поднесла к своим полуоткрытым губам.
— В жизни я его не пробовала, — сказала она.
А я смотрел на этот плод, кожура которого казалась обсыпанной медным пеплом. Длинная трещина шла от плодоножки в самое чрево плода, обнажая кровавые зернышки. Катрин запустила ногти в эту рану, погрузила в нее кончики пальцев, но ей никак не удавалось разделить плод пополам, она спросила, нет ли у меня ножа, и, поскольку я отрицательно мотнул головой, разорвала кожуру зубами, с трудом добралась до самой плоти, туго набитой стеклянными капельками крови, и впилась в нее, не переводя дыхания, потом, задохнувшись, с вызовом взглянула на меня.
— Пусть даже это яд, все равно, — сказала она. — Сегодня я счастлива.
И тогда, забыв всю свою рассудительность и наконец-то ни о чем не думая, я схватил ее в объятия, с силой притянул к себе, давя между нашими губами остатки красной мякоти.
VI
До чего же странное ощущение испытывал я в этом кабинете. Я сидел в том же самом кресле, что и в пятницу, чувствуя себя на своем месте, убежденный в своей необходимости. По сторонам я не смотрел. Тремя днями раньше память моя раз и навсегда запечатлела эту обстановку. Полицейский комиссар заставил меня повторить мои свидетельские показания, письменное изложение которых лежало у него перед глазами.
— Превосходно! Превосходно! — вставлял он время от времени.
Я теперь не следил за дверью за его спиной и, отвечая на вопросы, не отводил взгляда от его седоватой шевелюры и тронутых сединой бровей. Когда инспектор ввел в кабинет Кида, я был так поглощен беседой, что даже не вздрогнул. Кид вел себя, как и Поль Дедсоль в ту пятницу: разыгрывал полнейшую невинность, вобрав голову в плечи. Но манеры его сразу изменились, едва двое полицейских по приказу мсье Астуана ввели мулата и долговязого подростка; Кид тотчас вскинул голову, и на лице его заиграла циничная улыбка.
— Жан-Мари Ле Невель, — начал комиссар, четко выговаривая имя, словно устанавливал личность обвиняемого, — думаю, мне нет нужды представлять тебе Жоржа Логана и Патрика Вааса. Вы — старые друзья.
Ле Невель повернулся к мулату и насмешливым тоном осведомился, как он поживает. Логан не поднимая глаз пробурчал: «Порядок!», и в воцарившемся вслед за этим молчании слышно было шуршание шерстяной нитки, которую вытянул Ваас из своего пуловера. Однако он растерялся, когда комиссар спросил, узнает ли он меня.
— Почему это? Я ничего такого не сделал.
— А что вы об этом думаете, мсье Реве? — поинтересовался комиссар.
Я ответил, что Ваас участвовал в нападении, совершенном 25 апреля, но что я не могу точно сказать, кого он избивал, Катрин или меня. И добавил, что в тот день на нем была майка, на которой красными буквами было начертано: «Му god is nothing».
— Я ничего такого не сделал, — повторил Ваас, повернувшись ко мне. — Я до вас не дотронулся. Скажите им, что я до вас пальцем не дотронулся!
От этого скрытого признания Ле Невеля даже передернуло, он обозвал своего дружка сволочью. Логан тем временем стоял с отсутствующим видом, словно надеясь, что о нем забудут. Я бесстрастно наблюдал за уловками этих жалких подонков. Столь типичная для них реакция несколько утолила мою ненависть, и я уже хотел только одного, чтобы поскорее прекратилась очная ставка, которая вызывала во мне одни отвратительные воспоминания, утратившие даже свою свирепую жестокость. И вот тогда мсье Дюмулен ввел в кабинет Чарли. Я вскочил так стремительно, что затрещало кресло.
— Это он! — крикнул я с пылающим лицом.
Положив мне руку на плечо, мсье Дюмулен снова усадил меня в кресло.
— Успокойтесь, — мягко сказал он. — Он у нас в руках.
Комиссар зачитал мои показания и спросил, подтверждаю ли я все, что в них изложено. Я ответил, что да, но я настаиваю на том, что именно Чарли был одним из зачинщиков нападения. А тот с улыбкой утверждал, что не имеет никакого отношения к этой истории; по его словам, все это чистое недоразумение.
— Мсье, несомненно, спутал, — заявил он. — Что и неудивительно в его возрасте.
— Уймись, Чарли! — воскликнул комиссар, увидев, что я затрясся от негодования. — Не рассчитывай, что с нами можно шутить, как бы ты не разочаровался. — Потом, обернувшись к Дюмулену и трем другим полицейским, сказал: — На сегодня достаточно. Уведите их!
На улице Вьоле, на первом этаже у лифта, я увидел Соланж.
— Мне здорово повезло, — сказала она, целуя меня, — приди я на пять минут раньше, я бы тебя не застала.
Со времени похорон меня стали целовать люди, которые прежде довольствовались тем, что пожимали мне руку. А Соланж, желая убедить меня в своей искренности, каждый раз запечатлевала на моих щеках два звучных поцелуя. Столь демонстративные проявления нежности выводили меня из себя. Я не мог простить свояченице, что она одних лет с Катрин. Я предложил ей присесть, но сначала она внимательно обследовала гостиную и вынуждена была признать, что все содержится в полном порядке.
— Передай мои поздравления мадам Акельян. — Потом вдруг замерла перед фотографией Катрин и вздохнула: — Да, здесь она как живая!
Я не удержался и раздраженно пожал плечами, она поинтересовалась, в чем дело.
— Да так, пустяки, — сказал я, — пустяки. — И поскольку она настаивала на объяснении, я, горячась, добавил: — Но погляди же ты внимательнее, эта карточка нисколько на Катрин не похожа. Ведь какой у Катрин был взгляд, сразу чувствовалась личность!
Соланж извинилась, сказала, что прекрасно понимает, но я не должен так волноваться: конечно, фотография — это не бог весть что. Никакое изображение не заменит живого человека! Она положила горячую ладонь мне на запястье, но я тотчас отстранил ее руку.
— Не сердись, — сказал я. — Эти визиты к комиссару так меня изматывают.
— О-о! — воскликнула она, боясь пропустить хоть слово.
Скупыми фразами я рассказал ей о сцене, только что происшедшей в кабинете мсье Астуана. Но ее непритворное внимание в конце концов сломило мой лаконизм, и, говоря о Чарли, я распалился: мне была омерзительна наглая улыбка этого подонка; он относился ко мне точно к неодушевленному предмету, оттого что я старик, но сам-то он, недоумок, со всей своей молодостью, не стоил и волоска Катрин.
— Да, — сказала Соланж. — Ну и времена настали! — И тут начала молоть всякий вздор: — Взять хотя бы Сильвию… — И сообщила мне, что у Сильвии двадцатипятилетний любовник, американский студент. — Представляешь, при тринадцатилетнем-то сыне!
Не желал я себе ничего представлять! Но она продолжала: Сильвия потеряла мужа за несколько месяцев до того, как родился Мишель. Говорили, что у нее связь с Жоржем Лотье, разведенным журналистом, который старше ее на десять лет. Все эти цифры закружились у меня в голове.
— К чему ты мне рассказываешь про Сильвию? — не выдержав, крикнул я. — Что общего у нее с этими бандитами?
— Ничего, — испуганно ответила Соланж. — Просто я говорю о молодом поколении. Для них не существует никаких запретов.
— Для кого не существует запретов?
— Ну для нынешней молодежи, и для Сильвии тоже, ведь ей тридцать два года. Не понимаю, с чего это ты раскричался.
— Я не кричу, но вы всё валите в одну кучу. Да-да, Робер, Морис, Клеманс и ты, вы всё валите в одну кучу. Твердите мне о молодом поколении, а речь идет просто о преступнике. Хватит с меня ваших общих рассуждений!
Соланж твердым шагом направилась к двери, на пороге обернулась и протянула мне руку.
— Ты совсем не хочешь меня понять, — и в голосе ее послышались слезы, я не стал пожимать ей руку, а расцеловал в обе щеки, на сей раз от чистого сердца.
На следующий день, когда я был в ванной комнате, зазвонил телефон. Я знал, что мадам Акельян раньше меня поспеет к аппарату. Поэтому, не торопясь, направился в гостиную.
— Это из полиции! — патетическим тоном воскликнула мадам Акельян. — Идите скорее!
Звонил комиссар Астуан. Он спрашивал, не смогу ли я прийти к нему часа в три пополудни. Ну конечно же, смогу.
— Великолепно, — сказал он. — До скорого! — и дал отбой.
Я еще несколько секунд подержал в руке трубку, прежде чем опустить ее на рычаг. Мадам Акельян все это время торчала в гостиной, старательно начищая подсвечник, который явно в этом не нуждался.
— Соберитесь с силами, прежде чем туда пойдете! — посоветовала она.
И чего она вмешивается? Все эти люди ищут моего общества с единственной целью поиграть в частных детективов. Это становилось невыносимым. Мадам Акельян приготовила на обед мясо по-бургундски и тушеный цикорий.
— Вам что, не нравится? — крикнула она пронзительным голосом, когда я, крупно шагая, выходил из гостиной.
Голова моя была занята совсем другим. Ведь через несколько часов произойдет событие, которого я ждал целых две недели, ждал с такой тревогой, с такой яростью, о каких и сам не догадывался, разъедаемый воспоминаниями, словно проказой. Ровно в три часа у меня будет очная ставка с Сержем. Я снова увижу его бородку, его глаза. Его жесткие ладони больше не коснутся меня, но голос вновь вывернет мне всю душу. До еды ли мне сейчас? Я с трудом проглотил кусочек яблока. Кружа по квартире, я переходил из комнаты в комнату, натыкался на мебель, открывал и тут же захлопывал за собой двери, словно спасаясь от преследования. Минуты мучительно тянулись, цеплялись одна за другую, сливались в бесконечные четверть часа. Меня мучила жажда, но едва я подносил ко рту стакан с водой и ощущал на губах ее пресный вкус и запах, меня начинало мутить. Перед самым уходом я вдруг решил переменить рубашку и галстук, но, когда я расстегнул жилет, намерение это показалось мне глупым.
— Побольше хладнокровия! — громко сказал я самому себе.
Я бросил шоферу такси: «Набережная Орфевр!», он понимающе улыбнулся, и я пожалел, что не поехал на метро. На мосту Карусель наша машина застряла из-за дорожного происшествия — столкнулись, впрочем без серьезных повреждений, грузовичок и мопед. Таксист попытался завязать со мной разговор:
— Пусть там говорят что хотят, но полиция неплохо делает свое дело.
Чтобы не отвечать, я прижался к дверце, уткнувшись носом в стекло.
Когда я вышел из такси у здания уголовной полиции, было два часа тридцать минут. Не желая появляться раньше назначенного срока, я направился вдоль парапета к лестнице, спускавшейся прямо к Сене. В воде плавали апельсиновые корки и пробки; подхваченные течением, они устремлялись вперед в бесплодной попытке достичь середины реки, но всякий раз их прибивало обратно к берегу. Это зрелище тщеты всех усилий было столь наглядным, что у меня закружилась голова. От грязных плит и стенок набережной шел резкий запах мочи, отгоняя от реки ароматы молодой листвы, колеблемой ветерком. В ветвях копошился дрозд, порой он слетал на землю и прыгал по маслянистым лужицам и пропитанной жиром бумаге. Я добрел до Нового Моста и медленно зашагал обратно, по-прежнему озабоченный тем, чтобы не явиться раньше времени. В конце концов я предстал перед мсье Астуаном с пятиминутным опозданием. Серж уже находился в кабинете вместе с мсье Дюмуленом. Бородку он сбрил. Я впервые увидел его гладко выбритые щеки и скошенный подбородок, что делало его лицо неузнаваемым. В четко очерченных губах затаилась какая-то двусмысленная мягкость. И глаза тоже казались другими. Прежде они были точно песок, скованный льдом. Теперь лед растаял, и песчинки словно кружили в воде. Я был до такой степени ошарашен, выбит из колеи, что даже усомнился, он ли это. Словно бы все еще длился пережитый мною кошмар и, как в бредовом сне, гиена превращалась в безобидную собачонку. В течение нескольких секунд мне и в самом деле казалось, что я схожу с ума. Смятение мое не укрылось ни от комиссара, ни от Дюмулена, который, пожав мне руку, мягко, но настойчиво усадил меня в кресло. Обивка из искусственной кожи скрипнула подо мной, пальцы мои судорожно сжали подлокотники. Мсье Астуан не решился выразить беспокойство по поводу моего здоровья, но чувствовалось, что состояние, в котором я находился, отчасти смущает его, и он не совсем уверенным тоном задал мне вопрос:
— Признаете ли вы в мсье Нольта, здесь присутствующем, лицо, совершившее на вас нападение?
И тут словно прорвалась пелена, скрывавшая изменчивый облик, и я увидел Сержа таким, какой он есть, пусть без бороды, но совершенно тождественным тому человеку, который напал на меня и убил Катрин. Достаточно мысленно наложить несколько пучков волос на это лицо с его притворной мягкостью, и передо мной вновь был садист с бульвара Гренель — та же изощренная жестокость, тот же пристальный взгляд не то шлюхи, не то нациста. Лед подтаял только на поверхности, и песчинки кружили лишь для того, чтобы смягчить судей. Чистейшая комедия!
— Да, — во внезапном порыве ответил я. — Это наш убийца.
VII
Я произнес слова «наш убийца» так, словно смерть Катрин повлекла за собой и мою смерть. Комиссар не стал изобличать эту аномалию, она, без сомнения, показалась ему вполне естественной. Он зачитал мои показания и обратил мое внимание на то, что нигде нет ясных свидетельств, что Серж Нольта ударил Катрин. Я ответил, что, действительно, не видел, как он ее ударил, но что он несет ответственность за это преступление. Именно он подстрекал других, был заводилой. В ответ на обращенный к нему мсье Дюмуленом вопрос Нольта спокойным голосом заявил, что, коль скоро внешние обстоятельства свидетельствуют против него, отныне он будет говорить только в присутствии своего адвоката.
После его ухода комиссар побеседовал со мной.
— Теперь мы будем видеться гораздо реже, — сказал он.
И сообщил мне, что я буду иметь дело главным образом со следователем, мсье Каррега́, который вызовет меня через месяц или через два. Такая затяжка показалась мне чрезмерной, о чем я и сказал комиссару. Мсье Астуан с отеческим видом покачал головой.
— Для следователя два месяца совсем небольшой срок. Пройдет целый год, прежде чем он сможет передать материалы следствия в апелляционный суд. Суд присяжных вынесет решение по этому делу не раньше чем через полтора года.
— Это же неслыханно! — воскликнул я, напуганный такими сроками. — Но почему же так?
Думаю, вопрос мой пробудил в нем привычную горечь, поскольку ответил он мне дружески, хотя и со сдержанным нетерпением, что судебные чиновники и без того перегружены делами. Число судейских остается неизменным, тогда как количество процессов возрастает в геометрической прогрессии. К тому же мое дело требует весьма серьезного разбирательства. Поскольку прямые доказательства отсутствуют, весьма трудно установить степень ответственности каждого из шести обвиняемых. Расследование предстоит долгое: придется прибегать к помощи других судебных учреждений и следователей, вести дознание, контрдознание. Нужно к этому приготовиться.
Затем мсье Астуан попытался искренне, правда без особой убежденности, подбодрить меня: органы правосудия доведут свою работу до конца и сумеют преодолеть все препятствия. Не такое уж правосудие в наши дни боязливое и беспомощное, как полагают некоторые. Он посоветовал мне звонить ему всякий раз, как у меня возникнут какие-нибудь трудности, и протянул свою мускулистую руку, которую я не без удовольствия пожал.
И вот потекли мучительные для меня дни. Бездеятельность давалась мне с трудом, а всякое действие вызывало отвращение, словно лекарство, которое глотаешь, лишь бы убить как-то время. Нервное напряжение, граничащее с пароксизмом, сразу спало, дошло до мертвой точки. Слыханное ли дело: полтора года, чтобы осудить за преступление! Все мало-помалу уляжется, истина уже никого больше не испугает. Остывшие, мумифицированные факты будут иметь чисто теоретическое значение. Юристы примутся исследовать степень ответственности каждого обвиняемого как правовой вопрос, станут обмениваться всякими юридическими тонкостями над трупом Катрин. Робер поинтересовался, намерен ли я возбудить гражданский иск. Я ответил, что не желаю об этом слышать. В моем случае подобного рода меркантильные соображения просто оскорбительны.
— Но, — добавил я, — твое решение не должно зависеть от моего. Ты волен действовать иначе.
— Нет, нет! — возразил он. — Если ты не будешь, то и я не стану предъявлять иск.
И он не преминул упрекнуть меня за то, что я приписываю ему какие-то низменные побуждения, тогда как одна лишь мысль получить хоть сантим как возмещение убытков приводит его в ужас.
— Я спросил об этом только ради принципа. Вот и все.
А меня как раз самый этот принцип и ужасал.
Заточив себя в нашей трехкомнатной квартире на десятом этаже, я проводил свои дни, снова и снова перебирая прошлое. Воспоминания кружили в моей голове, окутывали мое одиночество, точно нити уже опустевший кокон. Наступила жара, и я не решался открыть окно и не желал выходить на улицу, чтобы купить газету или починить транзистор. Мадам Акельян поставляла мне хлеб и последние новости. А когда она не приходила, я грыз сухое печенье, хрустевшее у меня на зубах, точно гравий. Мадам Акельян обращалась со мной, как с ребенком.
— Вы ведете себя неразумно. Ведь вы обещали мне покушать с аппетитом и выйти подышать свежим воздухом.
Я уже свыкся с ее бесцеремонной болтовней, с ее назойливой заботой. Свойственное ей простодушие делало ее присутствие менее тягостным, она становилась такой же неотъемлемой частью окружающего, как, например, пыль, исконный ее враг. Случалось, я даже прислушивался к ее мудрости консьержки. Когда она говорила: «Следует убивать тех, кто убивает. А еще твердят, что человеческая жизнь священна», я выслушивал эту примитивную логику довольно снисходительно; а слово «священна», вызывавшее улыбку у человека свободомыслящего, каким я был или думал, что был, заставляло меня настораживаться. Пока я спал, Катрин могли просто положить в ящик и отнести этот ящик в холодную камеру морга при больнице. А потом судебные эксперты копались в ее животе, демонтировали внутренние органы, как систему колесиков и винтиков какой-нибудь серийной машины. И наконец могильщики зарыли ее в землю на кладбище Тиэ, где черви и вода обратили в прах, в ничто. Но это ничто вопиет о своей обездоленности, зовет на помощь. И я должен ответить на этот зов, должен что-то предпринять. Или тоже немедленно умереть.
Как-то в воскресенье около полудня меня навестила Сильвия, она привела ко мне своего американского друга Билли Стоуна. С ними вместе пришел и Мишель. Билли был похож на Эрика, первого мужа Сильвии, такой же высокий, тонкий, белокурый, с таким же прозрачно-водянистым взглядом, с такими же робко-непринужденными манерами. Он с трогательной непосредственностью калечил французский язык и извинялся после каждой фразы, что не находит нужных слов, немало, впрочем, о том не заботясь. Раз десять он заявлял, что Сильвия его подружка. Ему, казалось, и в голову не приходило, что она старше его и что у нее тринадцатилетний сын. Эта внешняя безотчетность нисколько не мешала ему с любовью относиться к Мишелю. Наоборот. Он словно выбрал подростка себе в товарищи, не принимая в расчет те узы, которые связывали его с матерью мальчика, а Мишель, глядя на него, так и замирал от восторга.
Мне нечем было их угостить. Ни капли виски или аперитива в доме, нет даже фруктового сока. Но Билли сказал, что пьет только молоко. Я необдуманно ответил, что у меня осталось еще немного порошкового молока, и тут на Билли напал приступ смеха. Закинув назад голову, он схватился руками за живот и между двумя взрывами хохота повторял:
— Wonderful! Wonderful![6]
Тогда и я в свою очередь расхохотался. Но я уже отвык от смеха: казалось, грудь мою раздирала икота, вернее, какие-то судорожные рыдания, тело содрогалось в конвульсиях, так что даже слезы выступили на глазах.
— Oh god![7] — прошептал Билли, побледнев.
Сильвия положила ладонь мне на плечо, а Билли робко коснулся пальцем моей руки.
— Excuse me[8], — сказал он.
Мишель, весь ощетинившись, смотрел на нас не шевелясь. Я окликнул его. Он сделал шаг вперед, один-единственный шаг.
— Видишь, — сказал я, вытирая слезы, — старики смеяться не умеют.
— Как когда, — процедил он сквозь зубы.
Тут я как-то особенно болезненно вспомнил Катрин, представил, как она улыбнулась бы на моем месте этому мальчугану. И Мишель бросился ко мне в объятия.
Никогда себе не прощу, что мне так поздно захотелось иметь ребенка. К тому времени мы были женаты уже семь лет. Внезапное властное желание совпало с нашей поездкой в Кавальер и тем достопамятным гранатом. Позднее я узнал, что гранат считается у народов Востока символом плодородия; но в ту пору я об этом даже не слыхал, да и символика не играла никакой роли в перемене моих намерений. Но теперь я никак не мог примириться с мыслью о бесплодии своей жены и то и дело уговаривал ее проконсультироваться у крупных специалистов. Увы, профессор медицинского факультета в Лионе, который осматривал Катрин, лишь подтвердил диагноз хирурга, оперировавшего ее в Гренобле в 1929 году: никакой надежды стать матерью нет. Катрин, как ни странно, была разочарована, пожалуй, меньше меня — глубина моего горя давала ей неоспоримое доказательство моей любви. И она даже утешала меня:
— К чему восставать против судьбы. То, что кажется тебе несправедливым, видимо, имеет свой смысл, я в этом убеждена.
И она не ошиблась. Народная мудрость гласит, что дети являются цементом, скрепляющим брак. А для нас таким цементом стало отсутствие детей и беспрестанные мысли о них. Втайне мы безумно любили своих воображаемых малышей — мальчика или девочку, плоть от плоти нашей.
Теперь-то я понимаю, почему Катрин обожала Сильвию. Когда мы переселились из Барселонетты в Париж, Сильвии было всего семнадцать лет. И сразу же между теткой и племянницей возникло взаимное доверие, основанное на любви. Соланж, всегда не слишком-то ладившая как с дочерью, так и с золовкой, ревновала к этой их близости. Наигранно шутливым тоном она твердила направо и налево, что моя жена вздумала играть в дочки-матери. Но Соланж заблуждалась. Катрин тянулась к Сильвии вовсе не из желания выступать в роли мамаши. Она с радостью обнаруживала в племяннице столь привлекательные для нее черты, которых сама была лишена, например, красоту киноактрисы. Глядя в глаза Сильвии, выслушивая секреты, которые та ей поверяла, она словно бы разукрашивала собственную молодость.
Пятого июня 1973 года — эту дату я помню совершенно точно, потому что то был день рождения Марселя и я как раз написал ему поздравление, — мадам Акельян принесла мне газету, хотя я вовсе не просил ее покупать газет.
— Почитайте-ка! — сказала она мне. — Насочиняли здесь бог знает чего.
Заметка, помещенная в разделе «Происшествия», была озаглавлена «Банда Нольта» и начиналась следующими словами: «До сих пор еще недостаточно писали о деле, которое наверняка заставит пролиться немало чернил». Весьма схематичный рассказ о нападении 25 апреля содержал довольно-таки фантастические сведения. Мол, на восьмидесятилетнюю чету на бульваре Гренель, у надземного метро, напала банда «подвыпивших поп-музыкантов». Чуть дальше эти музыканты именовались уже «teen-agers»[9], а еще дальше «воскресной шпаной в линялых куртках». Автора заметки, подписавшегося инициалами К. П., интересовала личность главаря банды — Сержа Нольта, двадцати четырех лет, без определенной профессии и живущего на иждивении матери, управляющей прачечной-автоматом. Нольта был охарактеризован как «асоциальный, порочный тип, совращающий безвольных подростков, довольно убогих в интеллектуальном плане». К. П. сравнивал его с опасными героями Стэнли Кубрика или Сэма Пикинпага, напоминал читателям о «черных ангелах» и сан-францисских улицах и, наконец, выражал сожаление по поводу подобных проявлений насилия, мода на которые занесена к нам из-за океана, где процветают садизм и всякого рода комедиантство, так завораживающе действующие на молодежь Западной Европы.
Я вернул газету мадам Акельян и посоветовал сохранить ее у себя или выбросить в мусорный ящик.
— Восьмидесятилетняя чета! С чего это им вздумалось состарить вас на целых десять лет? — оскорбленным тоном заметила она. — Да и напали на вас вовсе никакие не музыканты, откуда только они все это взяли?
— Не знаю, — ответил я. — Спросите у них! Нет, нет! Только не вздумайте ничего спрашивать! А то они, чего доброго, сюда заявятся.
Мадам Акельян тщательно сложила газету и оставила ее на буфете.
— Я заберу, когда буду уходить, — сказала она. — Пусть и муж прочитает.
Я чуть было не спросил, с какой же стати; если, как она заявляет, К. П. рассказывает всякие бредни, заметка его никак не заслуживает подобной чести.
Мне неведомо было, что из двух истин люди всегда выбирают наиболее искаженную, даже когда убеждаются в передергиваниях и отвергают их. Иначе говоря, я ничего не знал о прессе и силе ее воздействия. Несмотря на все неточности, сочинение К. П. не было ни ложью, ни глупостью. Оно просто подавало факты в таком освещении, что центр интересов смещался. Как в современной живописи, оно отступало от классического полюса притяжения и от реальности. Так, к примеру, в заметке в двух словах говорилось об убийстве Катрин. Судьба жертв нападения отходила на второй план. Важно было отыскать «звезду» и направить на нее луч прожектора. И для этого избран был Серж Нольта.
Через два дня мне позвонил Марсель: он поблагодарил за то, что я вспомнил о его дне рождения, и поинтересовался моими делами, поскольку в своем письме я ничего об этом не сообщал. Я ответил, что чувствую себя хорошо и что жизнь моя протекает нормально: дело будет рассматриваться не раньше чем через полтора года, а пока что я ожидаю вызова к мсье Каррега. Он не знал, кто такой мсье Каррега, но произнес только: «Ах так!», словно был в курсе дела. Потом стал уговаривать меня приехать на несколько дней в Барселонетту.
— Жанин будет в восторге. И Антуан тоже. Погода стоит просто великолепная. В воскресенье мы ездили обедать в Сент-Арно. Знаешь, дом все такой же. И сад тоже. Весь зарос полевыми цветами и кажется ухоженным.
Я опустил на рычаг трубку, но долго еще не снимал с нее ладони, словно не желал уступать овладевшему мной волнению, не решаясь в то же время отмахнуться от него. Взгляд мой затуманился. Я как бы вновь увидел наш сад с его примулами. Вот я высовываюсь из окна, выходящего на стремительный речной поток, и вдыхаю тот мучной запах, что поднимается от нагретой солнцем пашни и тающего снега. Еще минута — и наступит вечер. Мать пока еще не зажигала керосиновой лампы, но огонь в очаге освещает комнату, которая служила нам одновременно и кухней и столовой. Я чувствую себя таким счастливым, глядя, как языки пламени лижут котелок, слушая, как потрескивают дрова. Мне хочется есть. Тулуз, наша собака, как и я, ждала, когда наступит время ужина, она положила обе лапы мне на башмаки, словно призывая набраться терпения. Время от времени, когда овцы начинали беспокойно двигаться в овчарне, она издавала глухое ворчание, и тогда мать кричала: «Молчать!» Марсель крепко спал в своей колыбели. Мне так хотелось, чтобы он поскорее вырос. Мы ходили бы тогда вместе на берег реки, где росли лиственницы. Могли бы играть в трапперов, ловить руками форель, выслеживать сурков, расставлять силки на певчих дроздов. Увы, когда Марсель подрос, у меня уже не было времени играть с ним. С тринадцати лет мне пришлось зарабатывать на жизнь. Наш учитель, мсье Онора́, считал, что у меня исключительные способности и просто преступление прерывать учебу. Но у нас не было ни гроша на черный день, и мне пришлось помогать матери. За мешок ржи и несколько серебряных монеток я батрачил на соседних фермах, хотя сноровки у меня не было, я был плохо приспособлен к физическому труду и испытывал отвращение к полевым работам. А сейчас вот звонил Марсель. Ему теперь шестьдесят пять лет, и он с важностью промышленного магната говорит о своей маленькой лесопилке — столярной мастерской, точно это мощный трест. Но рассуждает он все так же по-крестьянски и мало что смыслит в делах, требующих хотя бы небольшого размаха. Качество неободранной древесины, которую он покупал, интересовало его меньше, чем периметр и площадь тех лесов, где эти деревья были срублены. Он способен был убить целый день на то, чтобы выторговать на корню дуб или орешник. В свободную минуту он мечтал лишь о том, чтобы прикупить луг или лес, окружавшие нашу крошечную усадьбу в Сент-Арно.
Но все это никак не объясняло моего волнения, ведь я в конце концов не чувствовал, подобно Марселю, особого пристрастия к нашим наследственным угодьям. Сколько себя помню, я предпочитал город деревне и не был по-настоящему привязан к земле. Я без удовольствия вспоминал свое детство и все тяготы тогдашнего моего существования. «Мизерабилизм», который я так ценил в литературе и зрелищем которого наслаждался в кино, для меня был совершенно непереносим, когда это относилось к моим собственным воспоминаниям. Его суровая правда причиняла мне боль. Так почему же сейчас я вдруг так растрогался? И почему с такой охотой вглядываюсь я в это давно минувшее прошлое? Я смотрел, как пальцы мои сжимают телефонную трубку, и ничего не понимал.
Наконец в понедельник 2 июля в четыре часа дня мсье Каррега принял меня в своем кабинете. Более ста десяти кабинетов следователей размещается на территории Дворца Правосудия, этакий портовый городок в городе, со своим храмом, своим торжищем, своими доками, где, прежде чем найдешь место для причала, плаваешь, с трудом вычисляя курс. Я все предвидел, все себе заранее представил, кроме немыслимой реальности. Едва палец мой коснулся электрического звонка, как полицейский в форме распахнул дверь, и я оказался перед девятнадцатью персонами, заключенными в комнате площадью семь на пять метров. Прежде всего я увидел шестерых адвокатов, расположившихся на составленных плотным полукругом стульях в левом углу комнаты. Их мантии, сливаясь воедино, образовывали как бы погребальное покрывало. Справа на скамье, между Сержем и Чарли, сидел бригадир полиции. Другой полицейский расположился на скамье позади них, между Ле Невелем и Дедсолем. Ваас поместился рядом с Чарли на первой скамье, а Логан рядом с Дедсолем — на второй. У правого окна стоял полицейский в форме. Еще один полицейский охранял левое окно, а тот, что впустил меня, остался у двери, прислонившись к ней спиной. Мсье Каррега и секретарь суда сидели лицом ко всему этому сборищу. Мсье Каррега был еще молод: по-видимому, лет тридцати пяти, и походил он на кадрового офицера, только отращивающего волосы. Удобно устроившись за своим письменным столом, он держался очень прямо и неподвижно, словно желая придать больше веса своим словам. Напомнив, что я являюсь единственным свидетелем, он неторопливо объявил, что я должен быть приведен к присяге, и тут же пробарабанил ее текст:
— Клянитесь отвечать без страха и ненависти, говорить правду, всю правду, ничего кроме правды. Поднимите правую руку и скажите: клянусь в этом!
Я поднял правую руку, но мне было трудно дышать в этой комнате, густо насыщенной испарениями, и я только шевелил губами, не издавая ни звука. Следователь мягко заметил, что ничего не слышит. Он повторил текст присяги громче и не так быстро. Руки я не опустил, но невыразимая усталость опять сковала мне уста. Я слышал позади себя приглушенный шум и решил, что это адвокаты за моей спиной обмениваются улыбками или переглядываются со своими клиентами. Никогда еще не чувствовал я себя таким жалким, таким старым.
— Садитесь, мсье Реве! Передохните минутку! — смилостившись надо мной, предложил следователь, бросая свирепый взгляд на часы.
— Нет! Это бесполезно, — сказал я, внезапно обретая голос. — Я клянусь.
— Очень хорошо! — подхватил следователь с удовлетворенной улыбкой. — Но вы должны принести присягу по всей форме, — и он в третий раз повторил ее текст.
Я снова поднял правую руку с каким-то унизительным ощущением, будто я внезапно впал в детство и прошу у учителя разрешения выйти из класса: заливаясь краской, я пробормотал:
— Клянусь.
Мсье Каррега попросил меня сесть и дать свидетельские показания; но в раскаленной атмосфере этой комнаты, где сталкивались враждебные течения, я просто не мог снова излагать от точки до точки столько раз уже повторенный и запротоколированный рассказ. Я спрашивал себя, почему следователь не принимал в расчет те показания, которые я давал мсье Дюмулену и комиссару Астуану. Надо было просто зачитать их и попросить меня подтвердить. Таким образом мы выиграли бы время, а я был бы избавлен от словесных потуг и усилий быть красноречивым. Потому что мне вдруг стало трудно подбирать нужные слова. К примеру, когда надо было точно указать место, на котором я сидел в метро, я погрузился в молчание.
— Вы забыли? — спросил следователь.
— Да нет! — нервно ответил я. — Только я не знаю, как это объяснить.
— Ну же, соберитесь с мыслями! — мягко посоветовал следователь. — Не так уж это сложно. Тем более для такого человека, как вы, который полжизни преподавал французский язык.
Вне всякого сомнения, ему хотелось, чтобы я, как говорится, почувствовал себя более раскованным, но его добрая воля лишь увеличивала мое смятение. Я путался в объяснениях, допускал все больше оплошностей. Он не совсем понимал, как это хулиганы могли напасть на нас сзади. Мне надо бы уточнить, что скамейка, на которой мы сидели, была последней в ряду и за ней находилось свободное пространство перед дверью вагона. Но я предпочел придраться к термину: это не было нападением в полном смысле слова; просто хулиганы не давали нам встать с места.
— Разве они не пытались заглушить ваши крики? — спросил следователь.
— Нет! — ответил я. — Это уже позже, на бульваре Гренель.
— Однако мне кажется, один из них в метро играл на трубе.
— Совершенно верно.
— А разве не для того, чтобы заглушить ваши крики?
— Очевидно!
— Вот видите! — торжествующе отцовским тоном произнес следователь.
Я видел, что он из кожи вон лезет, лишь бы заставить меня немного расслабиться, но от этих его усилий я чувствовал себя еще более скованно.
— Вы только что, — сказал он, — произнесли имя Чарли. Как я полагаю, речь шла о Шарле Пореле, но, возможно, не все здесь это поняли. Поэтому я попрошу вас отныне, всякий раз как вы будете называть имя одного из нападавших на вас, оборачиваться к нему и указывать на него пальцем, в том случае, если вы узнаете его среди обвиняемых.
Я постарался буквально следовать его предписаниям, но весьма скоро столкнулся с непреодолимыми трудностями, когда перешел ко второй части своего рассказа. Ведь хулиганы обрушились на нас с Катрин всем скопом, и я не в состоянии был определить, кто во время этой преступной расправы избивал нас, кто был в ответе за тот или иной удар, за исключением двух-трех отдельных жестов. Но следователя это не устраивало, он засыпал меня вопросами. Он хотел знать, кто именно ударил «мадам Реве», кто ударил меня, кто раздавил мои очки, кому принадлежал пуловер, который мне накинули на голову. Окончательно растерявшись, я колебался, отвечал уклончиво, и создавалось впечатление, что с памятью у меня не все в порядке. Мое поведение, видимо, приводило в восторг адвокатов, они слушали меня с понимающим видом. «Бедняга! До чего же он измучился!» — можно было прочесть в их глазах, а брошенный в сторону взгляд говорил: «До чего он запутался и до чего же он стар!» Не знаю уже, на какой именно фразе или слове я споткнулся, но только вдруг я уловил во взгляде Сержа нестерпимый торжествующий блеск и резко вскочил с места.
— Это позор! — заявил я, и твердость, с какой прозвучал мой голос, поразила присутствующих, а больше всех удивила меня самого.
— Что такое, мсье Реве, в чем дело? — спросил следователь наигранно добродушным тоном, в котором угадывалась некоторая тревога. — О каком позоре вы говорите?
— Ну так вот! — сказал я, лихорадочно жестикулируя трясущимися руками, — вы здесь устраиваете спектакль, а я… я не могу больше.
Слова мои были обращены ко всем присутствующим, а главное к адвокатам, но мсье Каррега принял мое замечание на свой счет.
— Вы ошибаетесь, — сказал он, возвысив голос, — я здесь только для того, чтобы установить истину, и спектакль этот вовсе меня не развлекает.
— А вот Сержа Нольта развлекает! — выкрикнул я. — И я не могу этого вынести!
Мсье Каррега принял суровый вид и заявил, что если Серж Нольта желает развлекаться, то долго это не продлится, ибо он, следователь, живо призовет его к порядку. Тогда тучный адвокат, не поднимаясь со стула, негодующе фыркнул, он утверждал, что клиента его не в чем упрекнуть, во время допроса свидетеля он держался серьезно, с достоинством. Это все могут засвидетельствовать. Мсье Каррега посоветовал мне сесть на место, но я не внял его словам.
— Эти господа весьма изворотливы, а я вот неловок.
И как раз в эту самую минуту я зацепился каблуком за ножку стула и пошатнулся, словно желал проиллюстрировать свои слова. Но это нелепое совпадение отнюдь не обескуражило меня, наоборот, еще больше ожесточило.
— Да, я неловок, — продолжал я агрессивным тоном, — чему эти господа от души рады. Но истина не имеет ничего общего с ловкостью, и хитроумие вовсе не дает патента на чистосердечие.
Совсем задохнувшись, я опустился на стул.
— Нам это известно, — ответил мсье Каррега, — и никто не сомневается в вашей честности.
Я заметил, что он был взволнован, и меня это обрадовало.
— Мы весьма огорчены тем, что мсье Реве приписывает нам столь недобрые чувства, — сказал тучный адвокат, — поскольку мы относимся к нему с огромным уважением, и его горе вызывает у нас искреннее сочувствие.
Другой адвокат, с круглой бородкой, поинтересовался, закончил ли свидетель свои показания.
— Да, — сказал я, — я кончил.
Следователь повернулся к обвиняемым и спросил, подтверждают ли они изложенные мной факты, но, убедившись, что не добьется от них иного ответа, кроме неясного бормота, выражавшего отрицание, стал опрашивать всех по очереди. Каждый повторял одно и то же, слово в слово:
— Это недоразумение. Я ничего не сделал.
Когда пришел черед Сержа, следователь рассердился:
— Будьте серьезны, Нольта! Вы не можете отрицать очевидности.
— Не существует ничего очевидного, господин следователь, — возразил Серж с безмятежным видом, и по губам тучного адвоката скользнула сдержанная улыбка.
Мсье Каррега склонился над раскрытым делом, лежавшем на письменном столе, потом резким жестом захлопнул папку.
— Превосходно, господа, — сказал он. — Думаю, на этом мы можем закончить.
Я намерен был, выйдя из Дворца Правосудия, поймать первое попавшееся такси, чтобы побыстрее добраться домой, но едва ступил на тротуар, как сразу же был подхвачен толпой, устремлявшейся в Латинский квартал. Я шагал на ватных ногах, ощущая в груди какую-то пустоту. Сотрясение воздуха от мчавшихся мимо машин отдавалось в моей черепной коробке, и этот вибрирующий шум приносил мне облегчение, заглушая неотвязные мысли. Я шел, почти не глядя перед собой, временами натыкаясь на прохожих, они извинялись передо мной. Влажный зной оседал у подножия витрин и садовых оград, откуда шел запах апельсинов. На мосту Сен-Мишель я остановился взглянуть на Сену. Над водой поднимался бесцветный парок, он притягивал меня к себе, и веки мои сами собой начали слипаться. Если бы я поддался этому, я непременно бы уснул; но тут пробегавший мимо мальчуган толкнул меня, и я снова зашагал, словно игрушечный вагончик, который опять поставили на рельсы. Вид у всех встречных был довольный, ведь снова наступило лето и можно было подставить лицо и тело солнечным лучам. Прохожие улыбались людскому потоку, счастливые, что и сами тоже являются его частицей. На перекрестке улицы Эколь и бульвара Сен-Мишель я, непонятно почему, свернул налево, потом направо, чтобы выйти на улицу Шампольона. Дорогу я выбрал неудачно, такси здесь не поймаешь, и поблизости нет входа в метро. Но есть в Париже кварталы, которые как бы распоряжаются человеком помимо его воли. Силы мои были на исходе, но бурлящие толпы на тротуарах влекли меня все дальше и дальше, или, может, причиной тому были тени на мостовой, клочки сиреневого неба между домами. Внезапно я прислонился к стене, боясь упасть. На той стороне улицы, у входа в кинотеатр, я заметил афишу. Шла картина «Воскресенья в Виль-д’Аврэ». Этот фильм мы с Катрин видели десять или пятнадцать лет назад и тогда поклялись посмотреть его снова. «Понимаешь, это просто необходимо», — твердила она. И вот сегодня я осознал, что она умерла и что мы никогда больше не пойдем вместе в кино. Час назад, в кабинете следователя, о ней говорили в прошедшем времени, как о давно несуществующем персонаже. Она превратилась в «мадам Реве» — одно из звеньев судебного процесса, пешка, передвигаемая судейскими чиновниками, которую отныне запорошит пыль пошлых деталей. И мне казалось, я слышу ее слабый голос, зовущий меня на помощь. Около меня остановилась какая-то дама, спросила, не болен ли я и не нужно ли довести меня до аптеки.
— Нет, — ответил я, — я не болен. Нет, спасибо.
Никогда еще не испытывал я подобной боли.
VIII
Я жил словно бы съежившись, уйдя в свою раковину. Кое-кто полагал, что это просто из желания терзать себя.
— Ну конечно, Бернар, — упрекала меня Соланж, — ты боишься, как бы печаль твоя не развеялась. Вот и нянчишься с ней.
Это ей напел в уши Робер. Сам-то он не осмеливался обращаться прямо ко мне. Откажись мой шурин от своих психологических мудрствований, он был бы человеком действительно проницательным. Но он неутомимо желал анализировать поведение всех и вся, исходя при этом из каких-то случайных признаков, и каждый раз ошибался. На самом-то деле я удалился от мира, потому что жил в ожидании. Мне не хотелось обманывать свое нетерпение или плутовать со временем под тем предлогом, что я его, мол, убиваю. Я мог бы суетиться, ходить в гости то к одним, то к другим, отвечать на сдержанно сочувственные слова жалобными сетованиями, реветь в голос на людях. Я предпочел уединиться, исчезнуть, раствориться в замкнутом полумраке своей трехкомнатной квартиры. Пусть каждый месяц, каждый день, каждая минута, которые отделяли меня от суда присяжных, становятся непереносимо тяжелыми. Не печаль боялся я развеять, а ожидание. Я хотел встретить предначертанную дату трезвым взглядом, приняв как некое условие или некий залог угнетающую медлительность пути. Ибо промедление это было для меня отсрочкой. От отправления правосудия зависело все мое существование. Через шестнадцать или семнадцать месяцев судьба обвиняемых будет решена. И тогда я смогу вновь соединиться с Катрин.
А пока что моя участь — одиночество. Исключение я делал только для Сильвии, Билли и Мишеля. Их простодушие обезоруживало меня, я встречал их без всякого неудовольствия, хотя и не пытался чем-то их привлечь и тем более удержать. Я охотно принимал их врожденную обходительность за чувствительность сердца, а в эгоистичной сдержанности видел душевное целомудрие. Позднее я обнаружил, что очарование их было хорошо отработанным, как у актеров, но в те дни я был еще слишком простодушен, у меня не было никакого опыта распознавать личины и я ревниво держался за свои утопии: короче, в свои семьдесят один год я был в нравственном отношении совершеннейшим девственником. Я испытывал потребность слепо верить в молодежь, твердо придерживаясь своего катехизиса: вера в будущее, гармония прогресса, оздоровляющий дух нового поколения. И в первую очередь меня привлекал Мишель. От его улыбки у меня буквально перехватывало дыхание. Он, как и его мать, любил нравиться, а мне это было невдомек. Он обладал искусством быть, когда надо, общительным и без труда находил нужное слово или подходящий жест. С того дня, когда он бросился в мои объятия, я невольно ждал новых излияний чувств и тосковал по ним; но, как опытный соблазнитель, он держался сдержанно, и его непринужденные порывы тем больше волновали меня, что были редкими и вспыхивали через неравные промежутки. Я уже мечтал стать для него вторым отцом, издали следить за его воспитанием — поскольку Билли и Сильвии вообще недоставало упорства; я уловил это даже при всей своей наивности; я желал заменить ему Катрин, вдохнуть в него присущий ей глубокий интерес к людям, как вдруг в начале сентября я узнал, что они все трое уезжают в Америку. Кажется, Билли был связан с кинематографическими кругами, да и Сильвия тоже могла там сделать карьеру. Мишель будет брать уроки верховой езды и учить английский. Прощание наше было коротким.
— So long, daddy![10] — сказал Билли, небрежно обняв меня за плечи.
Сильвия поцеловала меня в щеку и сжала ладонями мое лицо, от чего оно стало похоже на печеное яблоко.
— Дядечка, милый, следи за собой! — ласково проговорила она, и горло у меня перехватило.
Мишель действовал еще поспешнее. Все его мысли были заняты самолетом «Боинг-747», на котором он полетит завтра, и когда после обмена маловыразительными поцелуями пальцы мои невольно сплелись с его пальцами, он, смеясь, высвободил руку.
Их отъезд взволновал меня гораздо больше, чем я мог предположить. Глядя им вслед, я решил, что пора покончить со всеми своими нежными привязанностями, раз они доставляют мне только страдания. Томясь тем, что мне некого любить, кроме воспоминаний о Катрин, я еще глубже погрузился в свое одиночество. По-прежнему мадам Акельян по вторникам и пятницам приходила прибираться и готовить, но я, стоило ей войти в комнату, всякий раз спешил выйти прочь. Необходимо сделать, однако, кое-какие уточнения: я отнюдь не разочаровался в нашем обществе. Корни моего гуманизма были еще достаточно крепки, и добровольное мое затворничество вовсе не было следствием мизантропии. Я верил в правосудие. Моя вера, ничего общего с религиозной не имеющая, нуждалась в сосредоточенности. Я уповал на суд присяжных как на милость божию и, переворачивая каждый день листок календаря, мечтал о величественном сонмище судей, перед которыми предстанут обвиняемые.
Тринадцатого сентября, в день рождения Катрин, то и дело звонил телефон, звонила Соланж, приглашая меня прийти к ним на обед. С большим трудом мне удалось отбиться. Она твердила жалобно настойчивым тоном, что сидеть одному в такой день чистое безумие. Чтобы отделаться от нее, мне пришлось ответить, что именно в «такой день» мне следует быть дома. Тогда за мной пришел Робер.
— Нет, нет, спасибо за вашу любезность, — сказал я, — но я отсюда никуда не двинусь.
Он покачал головой и попытался меня вразумить: в его намерения вовсе не входит тащить меня силком, он желает лишь одного — поговорить с открытой душой. По его словам, в основе наших отношений лежало некое недоразумение: я, мол, считаю его доктринером, этаким педантом, а он прежде всего человек, наделенный чувствительной душой, крайне уязвимый. Он не может утешиться после смерти своей сестры. Между ним и ею существовала прочная привязанность, глубины которой я и не подозревал.
— Откуда вы это взяли? — возразил я. — Я же не слепой.
От всех этих излияний мне становилось не по себе. В чем был их смысл? Готов поклясться, что Робер, желая занять почетное место в сердце Катрин, тревожился, что я о нем плохого мнения. Это было смешно, но в то же время поразительно, и такое ребяческое поведение даже растрогало меня. Я сказал ему несколько ласковых слов, стараясь напомнить себе, хотя сам не слишком в это верил, о привязанности Катрин к нему. А потом он допустил ошибку, начал давать мне советы, талдычил всякие общие места, и, сославшись на легкое расстройство желудка, я живо выпроводил его.
Войдя в спальню, я тщательно закрыл за собой дверь, словно спасаясь от назойливых посетителей. Было, должно быть, часов одиннадцать утра. Солнечный луч рикошетом отскакивал от фасада здания на противоположной стороне улицы, и отблеск его окрасил краешек окна. Я снял тапочки, лег на кровать и закрыл глаза, я хотел увидеть Катрин, которой сегодня исполнилось семьдесят один. В прошлом году я подарил ей «Динарий мечты» Маргерит Юрсенар, букет анемонов и мольтоновый халат. Целуя меня, она объявила, что я транжир и безумец, слегка коснулась губами анемонов, прежде чем поставить их в вазу, и чуть слышно поблагодарила меня. Потом она надела халат и просила некоторое время не разговаривать с ней. Она уселась в кресло, взяла в руки роман, не спеша раскрыла его и принялась читать. Я не шевелясь смотрел на нее. Лицо ее было сосредоточенно-внимательным, как у маленькой девочки, каждая прочитанная строка доставляла ей наслаждение, и тогда расширенные зрачки ее вдруг замирали. Я не встречал другого человека, у которого были бы столь пылкие отношения с книгами, как у нее. В своей книжной лавке в Барселонетте она без конца поглаживала корешки книг, стоявших на полках, переставляла их с места на место, перелистывала. Я только что написал слово, которое она ненавидела: «лавка». Она не могла спокойно слышать его.
— Надо говорить — книжный магазин. Уважай по крайней мере мою профессию. Не моя вина, если покупатели требуют еще и газеты, бумагу, карандаши и игрушки. Но ты совершенно не желаешь ничего понимать. Совершенно ничего.
Это был вечный предмет наших споров и дискуссий. По ее мнению, я рассуждал как чиновник, этакий пристрастный и не дающий себе труда подумать догматик, который с презрением судит о мелких торговцах, так как тут пахнет прибылью. Послушать ее, так я и не знал никаких житейских трудностей, раз никогда не держал в руках конторской книги. Эти упреки сердили меня. И я напоминал ей, что с тринадцати лет стал батрачить на ферме.
— Все так, — отвечала она, — но этот опыт был совсем недолгим.
Ну как можно было меня упрекать за то, что мне повезло? Мсье Онора как раз получил скромное наследство, и это позволило ему оказать мне помощь; он предложил платить за мой пансион, и вскоре я смог возобновить учение, а четыре года спустя уже получил место помощника учителя. И сразу же душой и телом отдался своей профессии. Какое при этом имело значение, что заработок мой невелик?
— Ну конечно, — возражала Катрин, — для тебя деньги — просто жалованье, которое каждый месяц падает тебе в руки, как зрелый плод. У тебя хватает мужества не бояться труда, но перед цифрами ты пасуешь, все, что мешает тебе спокойно мечтать, ты отрицаешь или просто не желаешь об этом знать.
Она любила порой изображать из себя рассудительную деловую женщину, противопоставляя моим возвышенным теориям неприкрытый прагматизм. Но такими штучками меня не обманешь, и, когда она радовалась хорошей выручке за день, я прекрасно понимал, что удовольствие от продажи книг и общения с людьми было для нее куда важнее всех доходов или победы над конкурентами. Она была на свой лад мечтательницей, возводила цифры в ряд поэзии и не колеблясь уступала свой товар по низкой цене, если безденежный покупатель оказывался ей симпатичен. А страдала она от того, что живет в таком маленьком городке, где с ее умом и культурой и побеседовать-то почти не с кем, однако никогда она не жаловалась и утверждала, что вполне заслуживает ту судьбу, которую сама себе уготовила: уж такова ее участь — жить в интеллектуальном мире романов Мальро и торговать романами Макса дю Вези.
Вытянувшись на кровати, я вернулся мыслями к ее семьдесят первой годовщине. День рождения без анемонов. Я по-прежнему буду ежемесячно получать свою пенсию. А лавочница будет гнить в земле на кладбище Тиэ. И кто тому виной? Я резко сел на кровати: шесть полулюдей уничтожили столь законченное человеческое создание, владевшее всем богатством нюансов, на совершенствование которого природа щедро потратила немало лет. Мне захотелось распахнуть окно, кричать во всеуслышание об убийстве, но голова моя разрывалась от невыносимо тяжелых непролившихся слез. И бессильно упала на судорожно стиснутые кулаки.
В начале декабря я получил письмо от Ирен, она приглашала меня провести рождественские праздники у них в Дижоне. Через неделю, так как я никак не мог собраться ответить на письмо, она позвонила по телефону.
— Мы ни за что не допустим, чтобы ты оставался один в эти дни. Если ты откажешься, мы сами за тобой приедем.
Я заметил, что в моем положении вряд ли возникнет желание предаваться праздничному веселью.
— Ты сам прекрасно понимаешь, — ответила она, — что мы вовсе не намерены безумно веселиться. Просто это возможность собраться всем вместе и вспомнить Катрин.
Подобная перспектива ужаснула меня; мне отнюдь не улыбалось участвовать в «круглом столе», выслушивать и произносить громкие фразы о страданиях моей жены и моих собственных. Я поблагодарил Ирен и попросил ее не настаивать. Однако она продолжала настаивать и случайно напала на единственный довод, который мог побудить меня приехать: ее очень беспокоит Раймон. Он скучает и дома, и в школе; не ладит со своей сестрой, а еще меньше с братом, совсем не играет с ребятами своего возраста. Ему хочется повидать меня.
Я прибыл в Дижон в сочельник, около полудня. Семейство Форж в полном составе встречало меня на вокзале. Они вырывали друг у друга мой чемодан, чтобы отнести его в машину, и это — странное дело — растрогало меня. Жак потребовал, чтобы я сел рядом с ним на переднем сиденье, хотя мне и было совестно, раз Ирен, Натали, Пьер и Раймон с трудом втиснулись на заднее сиденье.
— Не беспокойся, Бернар, — сказала Ирен, — нам очень удобно. Дети просто в восторге.
Перед собором св. Бениня Жак потихоньку чертыхнулся и резко затормозил, чтобы избежать столкновения с полицейским на мотоцикле, который проехал впритирку к нам.
— Это «кавасаки»! — сказал Пьер, и Жак с гордостью заметил, что сын его здорово разбирается в марках мотоциклов.
Дома все наперебой старались услужить мне. Жак сам пожелал проводить меня в мою комнату. Ирен считала, что я непременно захочу принять ванну. Натали завладела моим пальто и спрашивала у матери, куда его повесить. Пьеру не терпелось показать мне свой альбом с фотографиями, а Раймон не выпускал моей руки. Проходя мимо рождественской елки, Ирен отвела взгляд.
— Мы не решились совсем отказаться от елки из-за ребятишек. Только вот повесили меньше звездочек и свечей, чем в прошлом году.
От этих ребяческих извинений, сделанных доверительным тоном, меня разобрал смех, хотя сердце мое сжималось от боли. Какое было дело теперь Катрин до того, сколько на елке бумажных звездочек, и эта дань, принесенная ее памяти, была легче сквозного ветерка. Оставалось ждать рождественского ужина, чтобы услышать, как станут беседовать о Катрин между финиками и нугой. Жак с суровым видом объявил, что никто из них никогда не забудет ее. Он говорил от души, и на его побагровевшем лице словно бы выражалось сожаление, что стол их ломился от вкусных яств. Обратившись к детям, Ирен заверила их, что двоюродную бабушку, конечно, уже взяли на небо, но что все равно надо за нее молиться. Натали, у которой во рту как раз была косточка от финика, ответила, что она молилась сегодня утром. Пьеру захотелось узнать, сколько лет было бабушке, но Жак нашел этот вопрос неуместным.
— Напротив, — сказал я, обернувшись к Пьеру, — ты совершенно прав, что хочешь знать подробности. Ей был семьдесят один год.
— Но при чем тут годы? — вмешалась Ирен. — Она выглядела такой молодой. Ей можно было дать…
— Ей можно было дать именно семьдесят один год, — отрезал я. — Гораздо достойнее выглядеть на столько лет, сколько тебе есть на самом деле.
И я сразу же улыбнулся, чтобы смягчить некоторую категоричность своих слов, и племянница моя, судорожно глотнув, тоже улыбнулась.
— Ты прав, — прошептала она. — Молодость сама по себе не бог весть какая добродетель.
— Зато, если угодно, она преимущество, — сказал я.
— Но порой это не так уж угодно, — подхватил Жак и демонстративно перевел разговор, стал критиковать наши учреждения и общество в целом.
Но я его уже не слушал, мое внимание отвлек Раймон, который уткнулся в тарелку и не притрагивался к лакомствам. Его лежавшие на скатерти ручонки чуть заметно дрожали, и я понял, что этот семилетний малыш чувствует себя несчастным.
— Ну что ты, Раймон? — спросил я его вполголоса.
Он поднял голову, и такой нестерпимый свет струился из его глаз, что через секунду я не выдержал и опустил веки.
— Тебе хорошо? — спросил он так, словно от моего ответа зависело все.
— Очень хорошо, — отозвался я, и у меня перехватило дыхание.
Он глубоко, с облегчением, вздохнул и улыбнулся.
Что мне сказать о последовавших затем днях; лишь одно — несмотря на тягу к одиночеству, мне приятно было почувствовать тепло семейного очага. Жак рассказывал мне о своих инженерных делах и негодовал по поводу бездеятельности начальства. Эти не блещущие новизной речи отчасти усыпляли меня, но я покорно терпел их, понимая, что оратор преисполнен наилучших намерений и хочет отвлечь меня от моих мыслей. Ирен спрашивала, что новенького пишет мне ее отец, и сама сообщала мне о нем, когда получала весточку. На прошлой неделе Марсель звонил ей. Она бы с удовольствием побывала в Барселонетте, в их доме, где провела детство, и на лесопилке; но Жак все никак не берет отпуска. Пьер раскладывал передо мной на столе фотографии мотоциклов и чемпионов-мотогонщиков в касках. Приходилось выслушивать его объяснения и время от времени восклицать: «Да что ты!», чтобы подчеркнуть свой интерес. А Натали желала во что бы то ни стало узнать мое мнение о состоянии современной математики, а также о сексуальном воспитании; при этом она не давала мне раскрыть рта, так как сразу же переходила к новой проблеме. Меня пугала та мешанина поверхностных знаний, которыми была напичкана голова одиннадцатилетней девочки. А однажды, прервав поток всей этой чепухи, она вдруг заявила не без кокетства, что все время думает о тете Катрин. Мне не понравилась эта ее легковесность, и я заявил с большой твердостью:
— Все время — это уж излишне.
Раймон ничуть не походил на свою сестру, как, впрочем, и ни на кого другого из их семьи, и с каждым часом его общество становилось для меня все дороже. Он никогда не пытался привлечь к себе внимание, как то обычно свойственно детям, и еще меньше заботился о том, чтобы понравиться, а его прямодушие отгораживало его ото всех. Его вечно упрекали за то, что он «витает в облаках», тогда как он способен был часами раздумывать все об одном и том же. Казалось, его совершенно не занимали разговоры в семье, информация проходила мимо его ушей. Во всяком случае, таково было мнение Жака и Ирен, которых огорчало это обстоятельство.
— Он ничего не слушает. Ничем не интересуется.
В действительности же его не занимали лишь коллективные беседы и назидательные речи, все эти, так сказать, «наглядные уроки», он мечтал о душевном диалоге. Мои слова он впитывал как губка, я был буквально потрясен его способностью внимательно слушать. А вот я разучился упрощать свою речь; не в моей власти теперь было ее как-то препарировать. И я обращался к этому ребенку, как к взрослому мужчине. К примеру, я говорил ему, что Катрин вовсе не была какой-то идеальной женщиной, что я немало страдал от ее духа противоречия, но что это-то и было хорошо. Он спросил меня, почему же это было хорошо. Я ответил:
— Потому что я того заслуживал. И потом, я не по-настоящему страдал. Мне это доставляло даже какое-то удовольствие. Понимаешь?
Он понимал. В музее перед картиной «Поклонение пастухов» Флемальского мастера он сделал такое поразительное замечание:
— Как тут тихо.
— Где, в зале?
— Нет! В картине, — уточнил он.
Я очень к нему привязался и неудивительно, что с утра до вечера держал в своей руке его ручонку, она согревала меня. Ирен прозвала нас «неразлучники».
— Тебе надо жить у нас, — говорила она. — Продай свою квартиру и переселяйся сюда окончательно.
Но по мере того как мне становилось легче и я чувствовал тайную радость от того, что рядом со мною близкое человеческое существо, мое пребывание у Ирен начало омрачаться ощущением какой-то вины. Мне казалось безнравственным пользоваться этой передышкой. Мое место было в Париже. Я должен вернуться в нашу квартиру на улице Вьоле, к той самой обстановке и к тем самым предметам, с которыми связаны дорогие мне воспоминания. Кроме того, я могу понадобиться комиссару Астуану или следователю Каррега. Не имею я права отсутствовать. Следует как можно скорее занять свой пост.
Я возвратился в Париж 4 января и, приехав, тут же узнал, что действительно мсье Каррега хотел меня видеть. Мы назначили встречу на понедельник 7 января. Войдя в кабинет, я озадаченно посмотрел направо, потом налево. Следователь вежливо поинтересовался, что именно меня беспокоит. Я ответил, что не узнаю его кабинета.
— Ну еще бы, — сказал он. — В последний раз нас собралось здесь человек двадцать. Поэтому сегодня обстановка и кажется вам незнакомой. Вы уже знаете мадам Понс, но я вас ей не представил.
Секретарь суда пожала мне руку так, словно нажимала на рукоятку какого-то аппарата. У нее был лисий профиль и скупая улыбка сорокалетней женщины, страдающей несварением желудка.
— Согласитесь сами, мсье Реве, — продолжал следователь, сцепив пальцы, — ведь это просто беда, когда двадцать человек теснятся в комнате площадью в тридцать квадратных метров. Но среди прочих государственных служащих судейские чиновники, как известно, бедные родственники.
Мадам Понс заметила кислым тоном, что в тот раз она чуть не задохнулась, но тут следователь кашлянул, давая понять, что пора переменить тему. Он открыл папку, лежавшую у него на письменном столе, глядя на меня, рассеянно полистал бумаги и заявил, все так же не отводя от меня взгляда, что «дело Нольта» доставляет ему немало хлопот.
— Все детали этого дела довольно туманны. У защиты достаточно выигрышное положение.
Я заметил, что, согласно заключению медицинской экспертизы, моя жена скончалась от кровоизлияния в мозг в результате нанесенной ей черепной травмы; тут нет никаких туманных деталей.
— Несомненно, — ответил он, — но кто именно ответствен за эту травму? Ни один из обвиняемых не признался.
Я бурно запротестовал, что все их поведение во время допроса, даже само их отрицание доказывает их виновность; разве они косвенно не признали факты?
— Но лишь маловажные факты, — подчеркнул он. — Они признали, что поскандалили с вами. Однако послушать их, так никто и пальцем не тронул мадам Реве, разве что какой-нибудь неизвестный, уже после того как они удалились.
Поэтому-то, чтобы опровергнуть их доводы, ему необходимы кое-какие уточнения: не могу ли я вспомнить о какой-нибудь индивидуальной акции? О каком-нибудь конкретном жесте? Я ответил отрицательно и спросил не без раздражения, разве в этом состоит главная проблема?
— Да, именно в этом! — отозвался он, хлопнув ладонью по папке.
— Я лично так не считаю, — сказал я возбужденным тоном. — Они виновны, все шестеро. При распределении вины должны учитываться не отдельные факты и действия, а степень моральной ответственности.
Он воздел руки к небу, видно, моя нервная вспышка подействовала и на него.
— Можно наговорить бог знает что по поводу моральной ответственности, и уж адвокаты защиты не откажут себе в этом удовольствии. Не следует также забывать о социальном аргументе.
Я вздрогнул и потребовал объяснений.
— Да, да, о социальном аргументе, — повторил он. — К примеру, будет заявлено, что Серж Нольта вырос без отца, его воспитывала мать, на весьма скромные средства. Я не могу пренебрегать и таким фактом.
— Это ложь, — сказал я, не в силах сдержать негодование. — Нольта никогда ни от чего не страдал, никогда не работал.
Тут мсье Каррега, уже с обычным своим хладнокровием, пожелал кое-что объяснить: он отнюдь не враг мне, вовсе нет, и мое положение не оставляет его равнодушным. Он был бы рад разделить мою точку зрения, но он обязан не впадать в крайности, судить обо всем лишь на основании документов и совершенно беспристрастно.
— Хотите вы того или нет, — мягко добавил он, — но Серж Нольта вырос без отца и мать его располагала весьма скромными средствами. Таковы факты. И не следует говорить о том, что это ложь, иначе…
— Что иначе? — перебил я.
— Иначе вы восстановите всех против себя, — ответил он усталым голосом. — Вы прослывете человеком непримиримым, одержимым, этаким фанатиком, который не отдает себе отчета в своих словах.
Я был ошеломлен; весь характер процесса, лишенного самоочевидных истин, совершенно менялся, деформировался, подобно тем крепостям из песка, которые размывает дождь: виновные и жертвы смешались в одну зыбкую, расплывчатую массу. И следователь тут был ни при чем, его добрая воля не вызывала у меня сомнений. Ничто ведь не обязывало его давать мне разумные советы. Короче говоря, он меня подготавливал.
IX
Ожидание делает время пустым, лишает его живой плоти. Когда я отсчитываю по календарю расстояние между 7 января и 9 декабря 1974 года, оно кажется мне немыслимо долгим. В памяти ничего от него не отложилось, словно дни и месяцы были какими-то невесомыми. Эти одиннадцать месяцев я прожил как бы в затмении, совершал привычные действия: ел, спал, отвечал на вопросы мадам Акельян, соглашался с Соланж, даже не слушая, о чем она говорит. Все мои мысли были устремлены в будущее, и я равнодушно наблюдал, как на смену весне приходит лето и осень. Единственным доказательством того, что я действительно существую, были страхи, связанные с предстоящим процессом. Мсье Каррега вызывал меня еще дважды. Все по одной и той же причине: он требовал уточнений, а я не мог их ему дать. Тем не менее он утверждал, что частично распутал дело. Благодаря некоторым признаниям двух обвиняемых — чьи имена он открывать не пожелал, — ему удалось установить меру ответственности Сержа и Чарли. Но формально ни одно из свидетельств не обвиняло ни того, ни другого. Следствие могло играть лишь на предположениях. Термин «играть» мало соответствовал озабоченному лицу следователя, который то и дело нервно закусывал нижнюю губу. Этот тик выводил меня из себя. Но истинной причиной моего раздражения было настойчивое стремление мсье Каррега установить меру ответственности каждого обвиняемого. По моему разумению, чудовищность коллективного преступления представляла нечто неделимое; подлость нельзя разложить на составные части. Кроме того, меня беспокоили вечные ссылки мсье Каррега на «социальное явление», хотя выражение это прежде входило в мой повседневный словарь. Но теперь мне казалось, что именно оно путает все карты. В конце концов я даже стал подозревать, что мсье Каррега излишне снисходителен к напавшим на нас хулиганам из-за их юного возраста. Я вообразил, что он одержим всякими расхожими идеями и вообще втайне побаивается молодежи. При всем том я нисколько не сомневался в его компетентности, так же как и в его справедливости.
Двадцать восьмого ноября в десять часов утра ко мне явился судебный исполнитель мсье Шодмар. В застегнутом на все пуговицы сюртуке и в темных очках он был похож на инвалида войны. Он протянул мне синий конверт:
— Из министерства юстиции.
Слова эти, начертанные заглавными буквами на конверте, эхом отдались у меня в голове, пальцы мои задрожали. Я поблагодарил мсье Шодмара и предложил ему присесть, но он отклонил мое приглашение и, уходя, распрощался со мной довольно странным образом:
— Ваш покорный слуга, мсье!
Хлопнула входная дверь, и я вздрогнул, словно кто-то другой, а не я сам закрыл ее. Я с трудом распечатал конверт и все никак не мог развернуть письмо, папиросная бумага липла к пальцам, а тут еще стекла очков оказались грязными и под рукой не было платка, чтобы их протереть. Наконец я прочитал текст письма, строчки которого плясали у меня перед глазами. Согласно требованию Генерального прокурора Парижского апелляционного суда, господин Реве ставился в известность, что 9 декабря в 13 часов ему надлежит предстать перед Судом присяжных в качестве свидетеля обвинения. Мне оставалось только ждать, ждать двенадцать дней. Двенадцать каких-то зыбких дней, которые я провел между кроватью и креслом, односложно отвечая родным, словно охваченным приступом словоизвержения. Они засыпали меня вопросами, им требовалось знать все: состав суда, имя председателя. И они измучили меня всевозможными прогнозами: «Пожизненное заключение. Если присяжные заседатели выполнят свой долг, Нольта не выкрутиться».
Мой ледяной лаконизм еще больше распалял их.
Девятое декабря пришлось на понедельник. Погода стояла ясная, и я решил отправиться в суд пешком вдоль берега Сены. Правда, расстояние было несколько великовато для моих семидесятидвухлетних ног, но я просто не в силах был сесть в такси или спуститься в метро. Сердце у меня щемило, и я не вынес бы спертого воздуха подземелья, а тем более тряски в машине. Сиреневое небо над крышами словно выцвело под порывами резкого ветра, врываясь под мосты, он морщил водную гладь, разбрызгивал во все стороны капли, точно металлическую стружку. Мне казалось, будто я иду в школу, где меня ждет экзамен или же наказание за то, что я забыл ранец. Полуденный свет солнца был еще по-утреннему прозрачным. Лучи, проникая под шляпу, щекотали мне шею, и по телу пробегала дрожь. Навстречу мне по набережной катила волна уличного шума, в нем тонул шорох моих шагов, казалось, он вобрал в себя, по самые макушки деревьев, весь свежий воздух. Мне было страшно.
Когда я, весь в поту, с пустой головой, подошел к Дворцу Правосудия, было без десяти час. Под этими монументальными сводами, где леденцово поблескивал мрамор, я казался себе муравьем. Полицейский, которому я протянул повестку, привел меня к лестнице, и я удивился, что она такая узкая. Вверху от лестничной клетки шел коридор. Подступы к нему охранял другой полицейский. Он заявил, что я прибыл на тридцать пять минут раньше назначенного срока; я сказал ему, что тут что-то не так: ведь меня вызывали в суд ровно к тринадцати часам. Так было написано на синей бумажке, которую я держал в руках. Полицейский ответил, что читать ему незачем, что он и без того все знает: меня вызывали, как и других, на тринадцать часов, учитывая, что могут быть опоздавшие, но слушание дела начнется не раньше тринадцати часов тридцати минут. Пока что я могу, если мне угодно, пройти в зал и сесть на одну из скамей, отведенных свидетелям, или же стоять среди прочей публики. Я сказал, что предпочел бы присесть.
— Тогда идемте! — отозвался полицейский, и я вошел вслед за ним в зал, который показался мне каким-то маленьким.
В кинофильмах в подобных случаях оператор первым делом выхватывает из всей обстановки бюст богини Правосудия. А я прежде всего обратил внимание на лепной потолок, откуда спускалось шесть люстр, каждая с двенадцатью лампами-тюльпанчиками. У меня застарелая привычка смотреть вверх, когда я взволнован. Потом слева от себя я заметил пару борзых, вытканных на занимавшем большую часть стены гобелене, где в классическом стиле прошлого века был изображен король Людовик Святой, творящий правосудие. В одних только борзых чувствовалось биение жизни, а сам Людовик Святой и окружавшие его бароны напоминали игрушечные фигурки. И наконец, справа от себя, рядом с указанной мне скамьей, я увидел надпись: «Свидетели», выгравированную на дубовой доске над дверью.
— Вы не садитесь? — спросил меня полицейский.
— Сажусь, сажусь! — ответил я, продолжая стоять.
Он чуть нахмурил бровь, повернулся и вышел. Мне почудился чей-то приглушенный смешок, я резко обернулся и заметил, что за моей спиной уже толпилась публика, точно во время скачек. Это, впрочем, совершенно нормальное обстоятельство смутило меня. Мне показалось, будто повторяется какая-то ранее уже пережитая мною сцена, но это отнюдь не было навеяно эпизодом, позаимствованным из литературы или кинокартины. Сейчас я был актером, а не зрителем. Но когда же я играл эту пьесу? Я отвернулся и сел на скамью. Вся эта декорация, выдержанная в стиле классической архитектуры, еще усугубила мое волнение: идущие амфитеатром скамьи, чересчур высокие столы, гипсовый бюст Правосудия на позолоченном фоне, а ниже — символические весы в рамочке — все приводило меня в смятение, равно как и суровость зала, само благородство линий и нависшая над всем ватная тишина. Я опустил веки. Обычно, когда хочешь избавиться от дурного сна, открываешь глаза, но сегодня я старался забыть о реальной действительности. Однако тщетно. Рядом со мной скрипнула скамья, и, моргнув, я увидел присевшую на нее молодую женщину с платиновыми волосами. Одновременно позади нас устроилось еще двое или трое свидетелей, потом еще несколько человек, их колени и ботинки задевали нашу скамью. И внезапно со всех сторон в зал стали входить люди: человек в черной мантии — вечером Робер объяснил мне, что это был секретарь суда, — в сопровождении служителя шагал от стола к столу и раскладывал какие-то бумаги; потом другой, тоже в мантии, — на этот раз судебный исполнитель — прошел по центру зала, бросая вокруг себя настороженные взгляды, вернулся назад и начал что-то тихо обсуждать с секретарем суда; потом ввалились журналисты и приглашенные лица, громко обмениваясь своими соображениями, они рассаживались за столиками. Потом маленький темноволосый адвокат сел на скамью защиты, вскоре к нему присоединились двое его собратьев, которых я узнал, потому что видел их в кабинете следователя; наконец возник прокурор в красной мантии, одаряя знакомых улыбками, он важно занял свое место. Вокруг меня шли какие-то разговоры. Молодая женщина с платиновыми волосами что-то доверительно говорила своему седоватому соседу, который отвечал то «Ну конечно же!», то «Вы совершенно правы!». За моей спиной чей-то надтреснутый голос повторял между двумя приступами кашля:
— Уж поверьте мне, это твердый орешек.
Сливавшееся воедино бормотание поднималось вверх, к потолку, порой из него вырывалось отчетливо произнесенное слово или отдельный слог, и этот неумолчный шум в конце концов совсем оглушил меня. Я машинально разглядывал борзых на гобелене, когда внезапно воцарилась тишина. Инстинктивно я почувствовал, что все взгляды устремились в противоположную сторону, и тоже повернул голову. Пробитая в деревянной панели правая дверь распахнулась, ее толкнул полицейский в форме, державший в руке не то железную, не то кожаную цепь. На конце этой цепи показалась фигура Сержа Нольта, и я вздрогнул, потому что он снова отрастил бородку. Но вот и второй полицейский вошел за перегородку, он вел Чарли; потом еще один, за ним еще трое, и каждый вел на цепи обвиняемого. И все полицейские мундиры склонились, снимая наручники со своих пленников, они поставили их впереди себя. Серж уселся на скамью с равнодушным видом, его примеру последовали Чарли, на губах которого играла улыбка, Дедсоль и Ле Невель — оба смотрели прямо перед собой и, казалось, ничего не видели вокруг, — Логан, потупивший голову, и наконец Ваас, грызший ногти. Прозвенел резкий звонок, и молодая женщина рядом со мной подавила стон. В то же мгновение служитель, выходивший из зала, снова появился и громко выкрикнул что-то, должно быть: «Суд идет!», потому что все встали, но до меня долетел только слабый отзвук: «Дет!» Председатель суда и два заседателя, все трое в красных мантиях, без всяких церемоний заняли свои кресла, и публика в зале тоже уселась. Тогда председатель суда повернулся к обвиняемым и приказал им встать. Он спросил у каждого имя, фамилию, дату и место рождения, профессию и место жительства. Таким образом я узнал, что Серж был электриком, а Чарли шофером, доставлявшим покупки на дом, что Ваас родился в Брюгге, а Логан в Фор-де-Франс. Установление личности было закончено в несколько минут, после чего обвиняемым разрешили сесть, а судья стал выбирать по жребию присяжных. Он смешивал жетоны в квадратном ящичке, точно игроки в лото времен моего детства. Избранные поднимались по очереди на помост и скромно усаживались рядом с членами суда: пятеро слева от стола со святой троицей судей, а четверо справа. Я отметил, что среди присяжных было две женщины, одна из них в очках. Я рассеянно прислушивался к клятве, которую произносил каждый из них, и бесконечное это повторение отдавалось в моих ушах монотонным речитативом. Мне чудилось, будто я присутствую при отправлении чужого религиозного обряда, и я втайне испытывал неловкость. Затем председатель суда объявил, что судебный исполнитель приступает к вызову свидетелей. Мое имя было названо первым, и я ответил: «Здесь!», но судебный исполнитель заявил, что не расслышал, и я должен был повторить это более четко. Мне показалось, что моя соседка тоже ответила: «Здесь!» — после того как судебный исполнитель назвал имя Морис, но я решил, что ошибся, виной чему была усталость. Этот школьный ритуал утомил меня. Председатель суда предложил судебному исполнителю отвести свидетелей в предназначенное для них помещение.
— Они могут выйти оттуда лишь для того, чтобы дать показания, — добавил он.
Одновременно со мной с места поднялись пятнадцать человек, и мы последовали за судебным исполнителем, он разделил нас на две группы в зависимости от того, были ли мы свидетелями защиты или обвинения. Меня удивило, что нас всего четверо в том отсеке комнаты, который был отведен для свидетелей обвинения: молодая женщина с платиновыми волосами, пятидесятилетний седовласый человек, чувствовавший себя весьма скованно в новом костюме, мужчина лет тридцати в водолазке и полотняной куртке и я сам, изо всех сил старавшийся ни с кем не вступать в разговоры. Мужчина в куртке спросил у судебного исполнителя, долго ли мы пробудем в этой комнате.
— Ясное дело! — отрезал тот.
Он объяснил, что это судебное разбирательство особенное: подумать только — шестеро обвиняемых. Судья должен допросить их всех, одного за другим. Затем будут зачитаны протоколы следствия и заключения экспертов. Все вместе займет самое меньшее два часа; если, конечно, не будет вопросов со стороны адвокатов защиты. Иначе… Он неопределенно махнул рукой и поспешно покинул нас, закрыв за собой дверь. Человек в куртке заявил, что правосудие не слишком-то считается с тем, заняты мы или нет. Его дело, к примеру, ежечасно требует его присутствия, ведь без него грузовики с места не двинутся.
— Вот и со мной также, — сказал пятидесятилетний мужчина. — У меня небольшое предприятие по выпуску электрооборудования…
Человек в куртке предложил ему сигареты «Толуаз», потом протянул пачку мне, но я, выдавив из себя улыбку, отказался, затем он спросил у молодой женщины, не помешает ли ей дым.
— Нисколько! — заверила она, закинув ногу на ногу.
— Моя фамилия Сукэ. Грузовики Сукэ, — сказал человек в куртке.
— А моя — Бурелли, — сказал седовласый мужчина.
Они тотчас же обменялись клубами дыма, выпустив их в лицо друг другу, и общими соображениями о своих профессиях: расходы на социальное обеспечение просто непосильные, служащие все в отпуске, всякая инициатива сдерживается государством, и подумать только, еще осмеливаются говорить о расцвете промышленности. Но диалог этот был лишь подступом к разговору, своего рода преамбулой. Убежденность их речей противоречила взглядам, которые они украдкой бросали на меня. Чувствовалось, что не это их сейчас занимает. И наконец произошло то, чего я так опасался.
— Простите, мсье, — сказал Бурелли, — вы и есть мсье Реве?
— Да, — ответил я вполголоса, не зная, куда спрятать глаза.
Только бы любой ценой избежать их вопросов, но не мог же я повернуться к ним спиной, тем более что выражение их лиц стало серьезным, так сказать понимающим. Минута молчания перед тем, как идти на приступ. Я ждал с бешенством в сердце, положив руки на колени. И когда только меня оставят в покое! Они сидели передо мной, сгорая от любопытства, а я на своей скамье чувствовал себя старым затравленным зверем.
— Это чудовищно, — сказал Бурелли.
— Чудовищно! — отозвался Сукэ. — Я прочитал отчет, напечатанный в газетах; но журналисты всегда несут невесть что.
— Невесть что! — повторил Бурелли и почтительно повернулся ко мне: — Ведь и вы тоже так считаете, не правда ли?
Я ответил, что не читал газет. Бурелли, несколько растерявшись, объявил, что я совершенно прав, а Сукэ продолжал:
— Как подумаешь, что они там наболтали о неотвратимости рока. Какой такой рок? Я вас спрашиваю? — И поскольку я не проронил ни слова, он вопросительно взглянул на мою соседку, которая ответила надтреснутым голосом, опустив отяжелевшие от туши ресницы:
— Рок существует, поверьте мне.
— Возможно, — ответил Сукэ, — но это не оправдание.
И призывая меня в свидетели, он заявил, что порядочный человек должен быть безжалостен к убийцам. Его возмущала мягкость судей и снисходительность общественного мнения. Вместо того чтобы пресечь проступок, ищут, видите ли, причины, его породившие. Психологи валят в одну кучу настоящее и прошлое, лишь бы забыть о самом преступлении.
— Верно, — поддержал Бурелли, и Сукэ, осмелев, заявил:
— Не может так больше продолжаться. Я сейчас скажу судьям, что я об этом думаю. Да, мсье Реве, я скажу свое слово. — И поскольку я неопределенно кивнул головой, он решил, что пришло время перейти к эмоциям: — А ваша жена, — сказал он взволнованным голосом, — ваша бедная жена, которую эти хулиганы убили прямо на улице…
— О, прошу вас! — воскликнул я, поднявшись с места.
Воцарилась тишина, придавив мне плечи нестерпимой тяжестью. Я стоял посреди комнаты и растерянно смотрел на свои ладони. Протекла бесконечно долгая минута, наконец я сел сгорбившись, в стороне от всех.
— Простите меня! — проговорил неуверенным голосом Сукэ. Я поднял голову. — Простите меня, — повторил он, покраснев. — Я не должен был… Скверная у меня привычка со всеми быть запанибрата.
Вид у него был до того несчастный, что я упрекнул себя в отсутствии милосердия: нельзя так разговаривать с хорошими людьми, если даже у вас не хватает сил перенести их бестактность.
— Это я должен просить у вас прощения, — сказал я. — Но я столько пережил…
Сукэ ответил, что он прекрасно меня понимает, и Бурелли поддержал его. Я снова потупил голову, страстно желая, чтобы обо мне забыли.
Мольба моя исполнилась. В течение почти двух часов ко мне никто не обращался. И я постепенно пришел в себя и даже стал исподтишка наблюдать за своими соседями, вернее, за платиновой блондинкой, поведение которой теперь казалось мне просто странным. Она уже в третий раз подмазывала губы, надевала браслет то на правое, то на левое запястье. Бурелли и Сукэ следили за ее манипуляциями с насмешливой улыбкой.
Внезапно дверь распахнулась, и на пороге появился комиссар Астуан в сопровождении полицейского бригадира.
— Добрый день, господа! — сказал комиссар так, словно платиновой блондинки вовсе не существовало, потом пожал мне руку и опустился на скамью рядом со мной.
Бригадир сел напротив. Он тоже сказал:
— Добрый день, господа!
Комиссар спросил, давно ли я здесь. Я ответил, что давно.
— Мы пришли сюда без пяти два, — сказал Сукэ. — А сейчас без десяти пять, посчитайте-ка сами, господин комиссар!
Но у мсье Астуана не было ни малейшего желания считать. Он вежливо улыбнулся.
— Конечно, все это утомительно, — сказал он. — Я знаю.
Тем не менее он попытался нас подбодрить: лично его показания будут краткими, да и бригадир Лаво тоже не станет тянуть. К сожалению, потом выступят психиатры, тут есть опасность, что эти-то слов не пожалеют.
— Хоть бы нам не пришлось приходить еще раз, — сказал Бурелли.
Мсье Астуан покачал головой и ответил, что ни за что не ручается.
Я вздрогнул, когда дверь снова открылась, и на пороге, как в рамке, возник судебный исполнитель; стоя в дверном проеме, он церемонно пригласил комиссара следовать за ним. Когда тот ушел, бригадир Лаво пересел ко мне и тихо сказал:
— Ведь это я два года назад наткнулся на вас, когда вы лежали на тротуаре.
— А, вот как! — ответ мой прозвучал глуповато.
— Да, — продолжал он все тем же тоном, — я тогда со своим нарядом делал обход. Вначале мы подумали, что вы мертвый. А потом обнаружили тело мадам Реве.
Я смотрел на этого человека, ведь это он обнаружил тело моей жены и, возможно, трогал его, поднял, точно какой-то тюк. Под кривоватым носом, что делало его похожим на Бурвиля, чернела тоненькая ниточка усов.
— Значит, так! — сказал он, убедившись, что я не собираюсь задавать ему вопросов.
И все-таки мне хотелось бы знать, как лежала Катрин и какое было у нее выражение лица. Нет, нет, я ничего не хочу знать. Да к тому же этот полицейский и не способен был мне ничего толком рассказать. Но признание его причинило мне боль. Когда наконец избавлюсь я от всех этих милосердных душ, заживо поджаривавших меня на медленном огне? Вскоре и за бригадиром пришел судебный исполнитель. Но прежде чем уйти, он положил ладонь мне на плечо и сказал:
— Мужайтесь!
От его простодушного совета слезы подступили у меня к глазам.
Было уже шесть часов, когда вновь появился судебный исполнитель.
— Мсье Реве! — проговорил он.
Я совсем потерял счет времени и сейчас застыл в недоумении, сам хорошенько не зная, чего от меня хотят и чего ради я сюда явился.
— Мсье Реве, — повторил судебный исполнитель, — ваша очередь, суд вас ждет.
— Сию минуту! — ответил я, точно захваченный врасплох школьник, и сердце мое бешено заколотилось.
Первым, кого я увидел, войдя в зал суда, был мой племянник Морис, он явился с опозданием и прошел через заднюю дверь. Затем я заметил Клеманс, Соланж и Робера, сидевших в рядах для публики. И наконец, как я мог убедиться, все адвокаты защиты были на месте: пятерых из них я уже встречал в кабинете следователя, рядом с ними сидела маленькая брюнеточка, которая, вероятно, заменила шестого адвоката.
Председатель суда спросил мое имя, фамилию, возраст, профессию и местожительство. Мне пришлось дважды повторять свой возраст. Судья посоветовал мне подойти к микрофону. К какому микрофону? Я посмотрел вперед, огляделся по сторонам, на лбу выступил пот. На помощь мне пришел служитель. Микрофон находился в тридцати сантиметрах от моего носа, прямо под барьером. Служитель похлопал по стержню микрофона, в ответ раздалось потрескивание.
— Все в порядке! — сказал он, обращаясь к суду.
Это происшествие взволновало меня, и, когда судья произнес освященную формулу: «Клянитесь отвечать без страха и ненависти, говорить правду, всю правду, ничего кроме правды. Поднимите правую руку и скажите: клянусь в этом», мне пришлось собрать всю свою волю, чтобы оторвать от барьера руку, судорожно в него вцепившуюся. Я так близко придвинулся к микрофону, что он, казалось, выплевывал слова, отчего клятва моя прозвучала как ругательство.
— Хорошо, — сказал судья. — Изложите свои показания.
Вначале я даже не узнал собственного голоса, искаженного микрофоном. Словно бы я вещал из глубины пещеры. К тому же меня замораживала театральность этой обстановки. Как выставлять себя напоказ перед людьми, рассказывать этим чиновникам и любопытной публике о событиях, которые перевернули всю мою жизнь. Непреодолимая стыдливость сковывала мои чувства, не давая им вырваться на свободу. Лучше смерть, чем этот дрожащий голос! И я стал сухо излагать факты, не комментируя их. Председатель суда весьма учтиво старался побудить меня говорить более живо. Просил меня остановиться на кое-каких деталях, требовал оживить рассказ подробностями. А порой, заглядывая в дело, прерывал меня и зачитывал не столь нейтральные показания, сделанные мной следователю. Но его добрая воля лишь сильнее сковывала меня. Я замкнулся в тусклой объективности, изгнал из своего сообщения всякий намек на дедукцию или анализ. Короче, факты я изложил довольно неопределенно, и судье, чтобы прояснить их, требовалось узнать мою точку зрения. В суде нет места намекам, подтексту, и то, что представлялось мне само собой очевидным, должно было быть четко объяснено. Председатель суда понимал мою сдержанность и отдавал должное моей скромности, но я ведь поклялся говорить всю правду, и он охотно пришел мне на помощь. Припоминаю весьма знаменательный обмен репликами.
— Итак, мсье Реве, какие, по-вашему, причины побудили обвиняемых издеваться над вами в вагоне метро?
— Никакой причины не было, господин судья.
— Как же так? Всегда бывает какая-то причина.
— Да, конечно… если угодно.
— Что вы подразумеваете под «если угодно»?
— Ну… короче… думаю, они хотели позабавиться.
— Позабавиться? Не кажется ли вам, что забава довольно жестокая?
— Действительно, жестокая. Вы определили совершенно точно.
Позднее, когда я перешел ко второй части своего рассказа, судья буквально измучил меня вопросами: не могу ли я точно вспомнить, какую именно фразу произнес Серж Нольта, прежде чем дать мне пощечину? Было ли это: «Вот и наступает твой праздник!», как я только что сказал, или же: «Вот и наступает твой праздник, старый болван!», как я показывал на следствии? Я покачал головой, как бы свидетельствуя, что уже не могу вспомнить или что это уточнение несущественно. Но судья придерживался иного мнения. Он повторил свой вопрос: сказал ли Серж Нольта слова «старый болван», прежде чем отвесить мне пощечину? Но тут со скамьи защиты поднялся тучный адвокат, тот самый, который уже проявил себя с таким блеском в кабинете мсье Каррега.
— Но в конце-то концов свидетель никогда не утверждал, что именно мой клиент дал ему пощечину, — воскликнул он с оскорбленным видом. — Ему казалось, что он узнал его голос. А самого жеста он не видел.
— Мэтр Гуне-Левро, — оборвал его судья, — я не давал вам слова. Вы будете задавать вопросы свидетелю, когда он закончит свои показания. А до тех пор потрудитесь не прерывать его!
— Должен со всей почтительностью заметить, господин председатель, — возразил мэтр Гуне-Левро сладким голоском, — что именно вы прервали его.
Эта меткая реплика вызвала улыбки у журналистов, и по залу пробежал удовлетворенный шепот. Все вокруг были возбуждены, кроме меня. На меня угнетающе подействовала та легкость, с которой мэтр Гуне-Левро переменил тон, перешел от негодования к иронии.
Затем председатель суда спросил меня, действительно ли Шарль Порель заткнул мне рот рукой и я его укусил. Я ответил, что не могу это уточнить. Потом он пожелал узнать, почему не вмешались прохожие.
— Да наверняка потому, что они боялись, — ответил я. — Знаете, ведь всегда так бывает.
— Так или иначе, это весьма прискорбно, — добавил он.
Наконец судья заставил меня дважды повторить следующую тираду Сержа, под тем предлогом, что я упустил какое-то слово: «Я взял себе за правило учить уму-разуму старых хрычей, особенно когда они ведут себя так невежливо, как твоя баба. Поэтому не удивляйся, если обнаружишь, что ее малость помяли». Когда я произносил это во второй раз, у меня перехватило горло. Эти слова, словно грязные тряпки, проехались по лицу Катрин. Председатель суда спросил у Сержа, признает ли он, что произносил такие слова. Серж утверждал, что нет.
— В тот вечер я болтал бог знает какие глупости, но именно этих слов я не произносил.
Я заметил, что он старается говорить скромно, в тоне добросердечной откровенности, надеясь вызвать к себе симпатию. Его изворотливость просто сразила меня. Я кое-как промямлил конец своего показания, и судья больше не прерывал меня. Когда я замолк, председатель суда спросил у прокурора, не желает ли он задать мне вопрос. Нет, прокурору все и так достаточно ясно. Председатель суда повернулся затем к адвокатам защиты, и мэтр Гуне-Левро заметил, что я опустил некоторые слова его клиента, которые фигурировали в деле. Серж Нольта сказал Шарлю Порелю: «Оставь его! Его разок ударить, так с ног слетит». Могу ли я подтвердить эти слова?
— Да, — ответил я. — Подтверждаю.
Прокурор взмахнул красным рукавом своей мантии. По его мнению, цитата была неполной. В деле фигурировало: «Оставь его! Его разок ударить, так с ног слетит. Тогда какое же это будет развлечение». Последние слова весьма важны. Прокурор хотел, чтобы свидетель их вспомнил.
— Да, я помню, — сказал я, испытывая отвращение к такой мелочности в деталях.
Тогда со скамьи защиты поднялся другой адвокат:
— Каким образом вы можете утверждать, мсье Реве, что слова эти были обращены к Шарлю Порелю? Кто докажет это?
Меня обложили со всех сторон, и я совсем запутался.
— Я никогда ничего подобного и не утверждал, — сказал я, опершись на барьер.
— Но вы позволили предположить это, — возразил адвокат.
— Мэтр Ансуи, — властно вмешался председатель суда, — вы не имеете права интерпретировать показания свидетеля. Это противоречит кодексу уголовного судопроизводства.
— Совершенно справедливо, господин председатель, — ответил мэтр Ансуи, улыбаясь, — и я весьма благодарен вам за то, что вы мне это напомнили.
Он не спеша уселся на место, не переставая улыбаться и бросая вокруг себя благодушные взгляды. Эта неуклюжая мизансцена, казалось, никого не шокировала, даже меня. Я чувствовал себя опустошенным и смотрел на все словно бы со стороны. Поэтому я с облегчением вздохнул, когда судья поблагодарил меня и закрыл заседание. Было ровно семь часов вечера. Понедельник 9 декабря 1974 года, семь часов вечера.
X
— Держите-ка, мсье Реве! Я решила, что вам это будет интересно.
Нет, мне это было неинтересно. Мадам Акельян и в самом деле из кожи лезла вон, стараясь предупредить те желания, которых у меня вовсе и не было. Я отвел руку, протягивавшую мне газету, но как тут было устоять, когда мадам Акельян подсовывала мне снимок: Серж Нольта в профиль под крупным заголовком «Эстет насилия»? Я машинально взял газету и сразу обратил внимание, до чего лжив этот портрет, а может быть, в этом был повинен заголовок. Да еще два-три слова, набранные курсивом, нелепость которых бросилась мне в глаза. Чувствуя, что мадам Акельян наблюдает за мной и ждет ответа, я тряхнул головой, желая показать, как мало значения я придаю этому листку, и ушел к себе в спальню, унося, словно по рассеянности, газету. Статья, подписанная Клебером Полем, занимала четыре колонки по шестьдесят строк в каждой и имела подзаголовок: «От авангардистских фильмов к суду присяжных на набережной Сены» и еще два дополнительных подзаголовка, набранных жирным шрифтом: «Безотцовщина» над первой колонкой и «Между Андре Жидом и Стэнли Кубриком» — над третьей. При имени Стэнли Кубрика что-то словно бы щелкнуло в моей памяти, и я сразу вспомнил статью, озаглавленную «Банда Нольта», которую прочел еще в июне 1973 года, ее автор как раз упоминал имя этого режиссера. В ту пору Клебер Поль подписывался К.П., и его заметка, где он давал волю своему воображению, мне не понравилась. Ныне в своей преамбуле он ставил расхожие наболевшие вопросы, и тут уж мелькали такие модные выражения, как «эскалация насилия», «оперативность правосудия» и «назидательность кары». Далее под шапкой «Безотцовщина» он анализировал вчерашнее заседание суда, особо останавливаясь на допросе Сержа Нольта, на котором я не мог присутствовать, так как сидел в комнате для свидетелей. Таким образом, он давал мне некоторую информацию, и я поглощал ее с жадностью, несмотря на все свое отвращение: Серж Нольта рос без отца, его воспитывала мать, которую он не ставил ни в грош, очень рано познал соблазны легкой жизни. Он хотел и умел нравиться, умел обольстить, при случае не брезговал клептоманией, хитрил и изворачивался без зазрения совести, когда ему не хватало карманных денег. Учителя считали его способным, но ленивым. Был допущен к письменному экзамену на бакалавра, но на устный так и не явился. После трех месяцев военной службы освобожден по причине психической непригодности. Работал попеременно электриком, конторским служащим, портье, фигурантом, фотографом, но ни на одном месте не задерживался больше двух недель. Посещал сомнительные заведения на площади Пигаль и на Сен-Жермен-де-Пре, где свел знакомство с гомосексуалистом. Доктор Ноан, психиатр, считал его лицом вполне вменяемым и подлежащим уголовному наказанию, но отмечал «некоторую неустойчивость его психики садистско-мазохистского характера, способную ослабить чувство ответственности за свои действия». Этот Клебер Поль, я полагаю, наслаждался своего рода экзотикой, передавая терминологию специалистов. Он сожалел, что в ходе допроса председателю суда Фольно не удалось до конца раскрыть сложную индивидуальность Нольта; по его мнению, ее можно определить следующим образом: личность слабовольная, одержимая стремлением оказывать влияние на других и наслаждающаяся зрелищем жестокости, вдохновителем коей он являлся; главарь банды — с единственной целью — забыть о собственной своей слабости. Поль не одобрял позиции председателя суда, который видел в Шарле Пореле второго заводилу. Шарль Порель был всего лишь исполнителем, этакой мускулистой марионеткой, которую Нольта дергал за веревочки. Когда судья спросил, что он думает о Пореле, Нольта заявил: «Он не подведет. С меня этого достаточно». Ранее судья намекнул Нольта на весьма прискорбный факт его связи с гомосексуалистами и наркоманами, и тот с серьезным видом ответил:
— Все надо изведать, иначе не завершишь свое воспитание.
— Воспитание, которое довело вас до суда присяжных, Нольта, не забывайте об этом.
На что обвиняемый довольно метко ответил:
— Хочу заметить, господин председатель, что и вас оно привело сюда же.
Затем Клебер Поль излагал события, имевшие место 25 апреля, проводя параллель между неблаговидными действиями Нольта, поведением Лафкадио (персонажа Андре Жида) и немотивированной жестокостью героя фильма «Механический апельсин». И наконец, он прокомментировал мои показания, похвалив их за объективность и вежливо упрекнув в чрезмерной сухости: «…изложение довольно монотонное, тогда как аудитория ожидала рыданий, проклятий. Сдержанность мсье Реве способна разочаровать присяжных и сыграть на руку обвиняемым. Тем не менее этот старик, точно утопающий, цеплявшийся за барьер, преподал нам урок истинного достоинства».
Чтение статьи взволновало меня по многим причинам, в которых мне трудно было разобраться. Прежде всего манера изложения не соответствовала той, в которой принято давать газетную информацию. Чувствовалось, что автору не терпится продемонстрировать свои литературные таланты хроникера. Данный им анализ был скорее хитроумным, нежели глубоким. Я был ему признателен за то, что он назвал Нольта инициатором нападения, но меня озадачивало, что он интересуется только им одним, забывая о судебном процессе ради портрета. Его психологические изыскания оставляли жертвы в тени. Смерть Катрин подавалась лишь как некая деталь декорации и отступала на задний план перед образом убийцы в ранге «звезды» — выражение, порождавшее всевозможные киноведческие комментарии автора. Ссылки на Стэнли Кубрика и Андре Жида, которые в прежние времена понравились бы мне, ныне казались мне отвратительными. Все эти эстетические теории выглядели бесчестными рядом с мученической кончиной моей жены. Но, отбросив все это, следует признать, что замечания Клебера Поля насчет моих показаний были вполне обоснованными. Теперь я был убежден, что выступал в суде недостаточно веско и не сказал того, что должен был сказать. При мысли, что моя сдержанность оказалась выгодна палачам Катрин, у меня разрывалось сердце. В то же время мне было стыдно, что меня пожалел этот журналист, он восхвалял достоинство, с которым я держался, в таких выражениях, в каких посмертно награждают медалью.
Телефонный звонок. Соланж приглашала меня на обед: никого из чужих не будет, просто посидим своей семьей, ощутим плечо друг друга. А затем Робер отвезет нас в суд на машине. Я отказался, сославшись на то, что мадам Акельян уже пригласила меня, умолчав, что я отклонил и ее приглашение. Соланж не стала настаивать.
— Что же поделаешь! — сказала она. — Увидимся в суде.
Увидеться там было менее опасно. Я боялся любых объяснений, особенно когда к ним приступал Робер. Я вовсе не желал знать его точку зрения на процесс, не желал слушать общие рассуждения о моем частном случае. «Твои показания были превосходны, Бернар. Только сдержанность тона несколько чрезмерная. Но свидетельские показания — это же не обвинительная речь». Развязность Сержа Нольта, несомненно, произвела на него впечатление, и я готовился услышать соображения психологического порядка: «Совершенно необходимо понять одну вещь, Бернар…» Я стал остерегаться людей, которые любой ценой хотят понять или принудить тебя понять все так же, как они. Нет, я закушу в одиночестве ломтиком ветчины и куском сыра, откажусь на сей раз от рагу, которое приготовила мадам Акельян. Умеренность в еде неплохо сочеталась с тишиной, а я в ней так нуждался.
Во Дворце Правосудия примерно в половине второго я встретил Ролана Шадра. Его присутствие помогло мне освободиться от Робера и Соланж, которых я встретил перед тем и которые обходились со мной как со слабоумным:
— Не слишком утомился, Бернар? Мы заняли тебе место. Иди сядь!
Ролан спросил, читал ли я газеты, я ответил, что читал, и сразу же, желая прекратить этот разговор, добавил, что чтение их оставило меня равнодушным. Но он не отставал:
— Все же Шарль Дегре несколько преувеличивает в своем отчете. Я решительно предпочитаю статью Клебера Поля. А ты?
Я не способен был установить разницу, поскольку не читал отчета Шарля Дегре.
— Вот Клебер Поль меня утомляет, — сказал я с непроницаемым лицом.
— Конечно, — продолжал Робер, — но надо попытаться понять…
И он туда же! Я внезапно почувствовал, что мой лучший друг отнюдь не был исключением из общих правил. У него имелись свои мании, так сказать интеллектуального плана. К счастью, раздался звонок, служитель прокричал что-то, и торжественно вошли судьи. Первым был вызван свидетель Бурелли. Он подтвердил, что взял Сержа Нольта себе в подручные, но тот работой ничуть не интересовался, да и поведение у него было какое-то неприятное: не смотрит людям в лицо, а за спиной над всеми смеется. Бурелли уволил его потому, что он украл медную проволоку и оловянные стержни.
— Кроме того, господин судья, я заметил, что он то и дело дает пинка моей собаке.
Когда председатель суда спросил у адвокатов защиты, нет ли вопросов к свидетелю, мэтр Гуне-Левро поднялся и ответил:
— Вопросов нет. Я узнал, что мой клиент потерял свою работу, оттого что украл проволоку, косо глядел на хозяина и пинал его собаку. Благодарю вас, мсье Бурелли!
Когда вызвали второго свидетеля, словно дрожь пробежала по залу, и я увидел, что к барьеру подходит платиновая блондинка.
— Неслыханно! — прошептала Соланж.
А Ролан, коснувшись моей руки, произнес только:
— Вот это да! — Но за этим восклицанием крылось многое.
Столь необычная реакция смутила меня, и я уже собирался обратиться с вопросом к соседям, когда блондинка ответила председателю суда, спросившему ее имя и фамилию:
— Морис Альваро.
Так я узнал, что это гомосексуалист, двадцати восьми лет, известный под именем Фабианны, и занимается он проституцией. Серж Нольта познакомился с ним в баре на Сен-Жермен-де-Пре. После событий 25 апреля, спасаясь от розысков, Серж Нольта укрывался у Фабианы, на улице Бланш. Там полиция и задержала его. Председатель суда спросил у свидетеля, не делился ли с ним Нольта своими тревогами. Альваро утверждал, что нет.
— А вам не показалось необычным, — продолжал судья, — что Нольта вдруг поселился у вас?
— Наоборот! — ответил Альваро и добавил: — Ведь это не в первый раз, — подкрепив свое признание стыдливым жестом, отчего у него на руке звякнул браслет.
Председатель суда просил уточнить характер их отношений, не сексуальных, конечно, сразу же добавил он, поскольку на сей счет ни у кого не было никаких иллюзий, но финансовых. Свидетель показал на следствии, что Нольта взял у него деньги без его разрешения.
— Это верно, — признал Альваро, — но при наших отношениях деньги не играли никакой роли.
— Короче, — заключил судья, — вы поддерживали его материально.
Мэтр Гуне-Левро негодующе фыркнул на своей скамье. Он возмущенно выступил против слишком поспешных заключений. По его словам, можно пользоваться кошельком друга, отнюдь не будучи у него на содержании. Но судья тут же обратил внимание адвоката на то, что кошелек, о котором шла речь, пополнялся благодаря занятиям проституцией и что в таком случае поведение Нольта становится весьма подозрительным.
— Отметьте себе, мэтр Гуне-Левро, — подчеркнул он, — что я ни слова не сказал о сутенерстве.
Прокурор спросил у свидетеля, бил ли его Нольта. Во всяком случае, такое впечатление сложилось у его соседей по дому на улице Бланш. Один из них, которого допрашивал инспектор Дюмулен, утверждал, что слышал через перегородку пронзительные крики. Альваро ответил, потупившись:
— Он меня бил, когда я того заслуживал.
Этот омерзительно жалкий ответ вызвал веселое возбуждение среди присутствующих в зале. Люди обменивались улыбками, взглядами, в которых вспыхивали игривые искорки. Некоторые даже толкали друг друга локтем и фыркали, так что судья дважды потребовал тишины.
— Мы здесь не в мюзик-холле! — строго заявил он, и на щеках его появились красные пятна.
Снова воцарилась тишина, но атмосфера стала уже иной. Само собой разумеется, судья не изменил ни своего метода, ни тона. Он вел процесс с прежней беспристрастностью, и голос его звучал так же твердо и сурово, как и раньше. Не утратили своей серьезности и два заседателя, да и присяжные, сидящие в ряд, точно марионетки, держались с достоинством. Зато воздух в зале словно вибрировал, и в рядах царило тайное оживление, так ведет себя публика, когда театральная пьеса «захватывает». Мне казалось, что Ролан, сидевший рядом со мной, с трудом переводит дыхание, что Соланж незаметно ерзает на скамье и от нее словно исходят слабые электрические разряды, я был просто сражен. Всех этих людей интересовало лишь мелкое, второстепенное. Достаточно было парню переодеться девкой, и они начисто забывали о смерти.
Сукэ намеревался сказать все, что он думает, «ляпнуть так ляпнуть», но перед судьями он оробел, и показания его получились несколько обобщенными. Он был в конечном счете недоволен работой Шарля Пореля, тот плохо водит грузовик и неаккуратно доставляет купленные товары.
— Любитель! — твердил он.
Председатель суда пожелал узнать, что точно он подразумевает под этим определением, и Сукэ уточнил:
— Никчемный малый.
Свидетельские показания матери Сержа не вызвали никаких пререканий. Мадам Маргерит Нольта, урожденная Гайак, была невысокой женщиной с тонким голоском и жирным подбородком. Муж ее, итальянец по происхождению, дамский парикмахер, умер два года спустя после свадьбы, когда Сержу было всего только шесть месяцев. Ей пришлось работать, и она стала хозяйкой прачечной-автомата, так как покойный муж оставил ей скромную сумму денег. Когда ее спросили о характере сына, она принялась плакать, потом, утерев глаза носовым платком, заявила, что Серж был «славный малыш», но что он всегда страдал из-за того, что рос без отца.
— Если он наделал глупостей, то это моя вина, — добавила она. — Не сумела я его воспитать как следует.
— Как он вел себя по отношению к вам, когда ему нужны были деньги? — спросил судья. — Требовал их от вас?
Мадам Нольта секунду колебалась и потом выпалила:
— О, нет! Он только говорил: «Мне нужно столько-то».
— А когда вы не располагали необходимой суммой?
— Что поделаешь, давала ему, сколько могла.
— А вас не удивляло, что он не работает?
— Я радовалась, когда он приходил домой. Поэтому и не задавала никаких вопросов.
— Известно ли было вам, что у него дурные знакомства, что он связан с гомосексуалистами, с наркоманами?
Мадам Нольта покачала головой и снова принялась плакать. Председатель суда поблагодарил ее за показания, а я следил, как она мелкими шажками семенит через зал, прижав платок к глазам.
Ее сменила молодая женщина, фамилию которой я забыл. Теперь мне кажется, что звали ее Жозианна, но я не совсем в этом уверен. Высокая, худая, пожалуй даже хорошенькая, пряди черных волос падали ей на лицо. Она держала магазинчик случайных вещей, и Серж Нольта в ее отсутствие присматривал за лавкой или же помогал ей перевозить мебель. Она нахвалиться не могла его работой. Судья поинтересовался, была ли она его любовницей. Она ответила:
— Ясное дело! — и подавила смешок, причину которого судья тотчас же пожелал узнать. — Извините меня, — сказала она, — меня рассмешило слово любовница.
— Мы пришли сюда не затем, чтобы смеяться! — возвысил голос судья, но уже через секунду спросил более мягко: — Вы давали ему деньги, так?
— Конечно! Ведь он же на меня работал.
— Вы меня прекрасно понимаете. Ему случалось и не работать. Однако вы все-таки давали ему деньги.
— Это уж мое право. И я вовсе не считаю труд обязанностью. Мы не какие-нибудь там мещане.
Все ожидали от судьи резкой отповеди. Но он удовольствовался тем, что возвел глаза к потолку и сокрушенно проговорил, словно вдруг обессилев:
— Благодарю вас, мадам, за то, что вы так четко изложили ваше кредо.
Показания отца Чарли были более впечатляющими. Мсье Порель, проживающий в Тулузе, чиновник ведомства связи — служба телефонных установок, — жена работает там же, на почте; говорил он раскатистым голосом и походил на бывшего премьера Эдуарда Даладье. Для начала он заявил: его супруга слишком сражена всей этой историей и поэтому не могла предстать перед судом в качестве свидетельницы. Что касается него, то он чувствует себя глубоко обесчещенным. С огромным прискорбием вынужден он признать, что его сын отнюдь не святой; конечно, парень он не из робких, может работать по десять часов подряд, но подвержен влияниям, весьма восприимчив, и из-за этого способен совершить чудовищные глупости. Он повернулся к скамье обвиняемых и поклялся, что всему виновник Нольта. Именно он все и устроил. Не следует доверять этому его невинному виду и его бородке пророка. Мэтр Гуне-Левро, словно приведенный в движение невидимой пружиной, взметнув рукавами черной мантии, запротестовал во имя справедливости: как может свидетель клясться, не имея на то никаких доказательств? Это неслыханно: перед нами прямое оскорбление суда, и выслушивать такие речи просто недопустимо. Тут поднялся с места мэтр Ансуи, он придерживался иного взгляда; мнение мсье Пореля представляет, на его взгляд, значительный интерес; и, повернувшись к своему собрату, он провозгласил:
— В оркестре каждый инструмент ведет свою партию. Давайте-ка выслушаем их все хладнокровно.
Дискуссия грозила стать довольно острой, и председателю суда с трудом удалось успокоить разгоряченные головы.
— Господа, прошу вас быть сдержаннее!
После чего судья пожелал узнать, на основании каких данных мсье Порель сформулировал свои обвинения. Тот отвечал, что не нуждается ни в особых данных, ни в доказательствах. Он доверяет своей интуиции.
— Достаточно мне было разок его увидеть! — сказал он, указав пальцем на Сержа.
Затем выслушали показания рыжеволосой широкоплечей женщины, служанки из «Бара Шутников» на улице Симона Боливара. Она произнесла похвальное слово Чарли, которому не повезло в жизни.
— Его другие подбили.
Послушать ее, так Чарли был преисполнен только добрых чувств, но храбрость сыграла с ним дурную шутку.
— Храбрость? — повторил председатель суда, прикидываясь непонимающим.
— Да, — подхватила она, — он никогда не дрейфит. И это может его далеко завести. Понимаете?
Председатель суда согласился с таким соображением, хотя не счел, что это может служить оправданием. Потом он спросил у свидетельницы, каковы были ее отношения с обвиняемым.
— Мы были с ним помолвлены, — ответила она резким голосом. — Не засади вы его в тюрьму, мы бы уже поженились.
Эта бесконечная череда свидетелей начала утомлять меня. В конце концов я пришел к убеждению, что можно молоть любой вздор, оставаясь при этом вполне искренним. Мне было жаль всех этих людей, даже того, что им приходится лгать. Мне казалось, что истина, выявляемая на процессе, — истина весьма относительная, ее затрепали до того, что проступают нити основы. И в то же время я казнил себя за неустойчивость взглядов, за то, что усталость принимаю за собственные идеи, сам поддаюсь тому равнодушию, которое с ужасом обнаруживаю вокруг себя как недуг общественного мнения. Я не имел права допустить, чтобы память о Катрин потонула в этом грошовом отпущении грехов, в расхожей снисходительности. И правда, свидетели защиты так превосходно исполняли роль жертвы, что мое чувство справедливости было дезориентировано. Никто не сердился на мадам Дедсоль за то, что она так превозносила своего сына. До того несчастной казалась она, пришибленной жизнью, прислуга с сутулой спиной и покорным взглядом, жена пьяницы, который бил ее и который теперь лежит в больнице с циррозом печени. Она признавала, что Поль стал на дурной путь, но это вина отца, это он помешал сыну сделаться музыкантом. Надо было слышать, как малыш играл на трубе! Все соседи высовывались из окон.
Мать сменила сестра, красивая девушка, правда, чересчур уж сильно накрашенная, не то парикмахерша, не то маникюрша — теперь уж точно не помню. Она утверждала, что Поль страдал из-за плохого обращения с ним отца и еще больше оттого, что сам не мог чувствовать к нему привязанность. Судья поблагодарил ее за эти наблюдения и объявил перерыв на десять минут.
Соланж и Робер хотели вывести меня в коридор суда. Необходимо немного размять ноги, твердили они, и мой отказ их, видимо, разочаровал.
— Ты не прав. Тебе сразу станет лучше, — сказала Соланж с таким видом, с каким больному советуют послушать радио, чтобы хоть немного отвлечься от своих мыслей.
Ролан считал своим долгом составить мне компанию, а я желал лишь одного — остаться в одиночестве и ни о чем не думать, дать отдых голове. Однако он не стал надоедать мне разговорами, и его деликатность растрогала меня. Только истинный друг способен так себя вести. В конце концов я заговорил первый.
— По-моему, председатель суда Фольно человек вполне порядочный, — сказал я.
Ролан придерживался того же мнения. Но вот прокурор Орпуа не по душе ему, он, правда, превосходно отправляет свои функции, но «разыгрывает все как по нотам». В его словах чувствовалось обычное предубеждение левых интеллектуалов против прокуратуры, и это предвзятое мнение, которое и я прежде тоже разделял, сейчас покоробило меня. Я ответил, что нет ничего бесчестного в том, чтобы и внешне соответствовать своей роли, и тут Ролан пустился в подробные объяснения, но я уже не слушал его.
Заседание началось с показаний мсье Вааса, родившегося в Брюгге, натурализовавшегося француза, рабочего, державшего на бульваре Батиньоль мастерскую по ремонту автомобильных кузовов, человека с маленькой головкой, крепкого сложения, настоящего грузчика с Центрального рынка. Его первая жена, покинув супружеский кров, убежала с каким-то «полнейшим ничтожеством», оставив у него на руках семилетнего мальчугана — Патрика. Мсье Ваас жил в супружестве с некой Робертой, женщиной очень экономной, «высоко порядочной», которая относилась к Патрику с любовью и «пониманием». К несчастью, мальчик с ней не ладил.
Роберта, допрошенная в свою очередь, утверждала, что она обожала Патрика и что ее ничуть не удивляло его к ней отношение: он оставался верным памяти своей матери. Как же упрекать его за это? Наоборот, его следовало похвалить за такие чувства. Она добавила, что он нежный, точно девушка, часами может играть и ласкать котенка.
А я вспоминал Брюгге, куда мы ездили с Катрин на Пасху десять лет назад. Вспоминал серо-голубое небо и плывшие по каналу лебединые перья и радостную дробь каблучков моей жены по мостовой. Увы, потом совсем другие каблуки простучали по тротуару бульвара Гренель. Катрин умерла, и я остался один. И все же я не отрывался мыслями от того, что происходило в суде. Я по-прежнему присутствовал на слушании дела, чутко улавливал движение в зале, все шумы. Я мог держать Катрин за руку перед дозорной башней в Брюгге, потом ощупью искать ее на тротуаре бульвара Гренель и при этом слушать мсье Ле Невеля, вызванного для дачи показаний. Этот коренастый бретонец с мощными челюстями никого не щадил. Матрос-рыбак из Конкарно, он заявил, что не страшится никакой тяжелой работы и не мирволит лодырям. Собственный сын Жан-Мари сильно разочаровал его:
— Он еще может постараться, господин судья, но надолго его не хватает.
К примеру, он занимался боксом, но потом бросил тренировки. На скамье защиты поднял руку адвокат. У него была выступающая нижняя челюсть и круглая бородка.
— Вы сами можете судить, сколь затруднительно мое положение, — начал он, — вызванный мной свидетель показывает против моего подзащитного. Если он будет и дальше продолжать в таком же духе, боюсь, господину прокурору уже не о чем будет говорить.
— Не беспокойтесь, мэтр Павье! — отозвался прокурор, даже не повернувшись в его сторону. — Я никому не собираюсь передоверять свою роль.
Несколько обескураженный, мсье Ле Невель запротестовал: лгать он, конечно, не умеет, но вовсе не желает отягчать участь своего сына. Он признал, что не проявил в отношении него достаточного терпения и дважды повторил:
— Недружно мы с ним жили. Вот и все!
Мадам Ле Невель подтвердила показания своего супруга, человека сурового, но справедливого. Однако она утверждала, что, насколько ей известно, Жан-Мари не совершил ничего дурного.
— Это не в его характере, уж поверьте мне!
Когда ее спросили, почему отец с сыном жили недружно, она ответила:
— Мы с мужем держимся строгих принципов. А Жан-Мари — другое поколение, у них свои понятия.
Мсье Логан был человеком совсем иного типа; добродушный, жирный, с сальными волосами, он хвастался, что легко ко всему приноравливается и счастлив везде, куда его ни забрасывает судьба, ко всем людям он относится дружески, а уж тем более к своему сыну, Жоржу, которым вполне доволен.
— И я этим горжусь, господа судьи!
Когда председатель суда напомнил ему, что он в свое время был осужден за сутенерство, этот добродетельный отец семейства признал, что в ту пору действительно сбился с правильного пути:
— Я тогда молодой был. Меня можно извинить.
— Вам было сорок лет, — подчеркнул председатель суда.
Мсье Логан пошарил в кармане брюк, вытащил оттуда крошечный платочек и вытер выступивший на лбу пот.
— Но теперь, — сказал он, — я честно зарабатываю себе на жизнь. Я держу ресторан.
Его жена, родом с Мартиники, с безупречной матово-смуглой кожей, изложила перед судьями несколько иную точку зрения: все заботы лежали на ней, а муж только и знал, что играть в карты или дремать. Да разве при таком вот поведении может он служить для сына хорошим примером?
— Ну а сами вы, — спросил ее председатель, — подавали ли вы ему хороший пример?
— Я старалась, — ответила она, — но во Франции с белыми не поспоришь.
Председатель суда отпустил ее и справился, все ли свидетели были опрошены. Судебный исполнитель ответил, что все. Тогда секретарь суда, понизив голос, посовещался с судьями, адвокаты тем временем тоже обменялись между собой своими соображениями, правда гораздо менее сдержанно; журналисты оживленно разговаривали на своих скамьях. Перерыв длился всего двадцать или тридцать секунд. Потом во внезапно воцарившейся тишине председатель суда предоставил слово обвинителю. Без лишних церемоний прокурор встал со своего места и, откашлявшись, объявил, как о некоем исключительном факте, хотя всем это давно уже было известно, что я отказался предъявить гражданский иск. Столь благородное поведение помогает ярче нарисовать мой портрет, а также позволит лучше разобраться в деле. Он напомнил о моем крестьянском происхождении, о суровом детстве, о моей тяге к учению и о профессии учителя, которой я посвятил себя с пылом «истого подвижника». Говорил он без пафоса, сдержанно и убежденно, но его похвалы повергали меня в смущение. Пройдя через микрофон, эти истины начинали звучать фальшиво. Мое прошлое не было ни искажено, ни извращено, но, вынесенное на публику, принимало какой-то иной характер. Оно утрачивало привычные мне черты. Люди оборачивались, чтобы посмотреть на меня, и их взгляды, пристальные или косые, внушали мне робость. Я сидел с идиотским видом на своей скамье, плотно стиснув колени, и мне казалось, что я вызываю жалость, что мне подают милостыню. Потом мсье Орпуа сделал перепись добродетелей Катрин, совершенно напрасно упирая на ее скромность. Он прославлял ее любовь к книгам, называл магазин в Барселонетте «микро-храмом культуры», а нашу парижскую жизнь провозгласил чудом смирения: двое пенсионеров, связанных между собой безграничной нежностью, вели незаметное существование в рабочем квартале. Затем он воздал хвалу нашей любознательности, нашим современным вкусам, передовым взглядам и говорил об этом так, словно бы пожилой возраст сам по себе является неким порочащим фактом, вызывающим предубеждение, которое необходимо во что бы то ни стало рассеять. Он изобразил нас страстными поклонниками кино, «семенящими под ручку» по тротуару улицы Севр, — так он приступил к рассказу о событиях 25 апреля. Я обратил внимание на то, что он избегал распространяться об издевательствах над нами в вагоне метро между станциями Дюрок и Ла Мотт-Пике. Зловещий характер этого эпизода как бы ускользнул от его внимания. Чувствовалось, что он спешит воссоздать обстановку бульвара Гренель: враждебная мостовая, столбы надземного метро, бросающие густую тень, из этой тени появляются хулиганы. Его отчет о нападении звучал патетически. Мы с Катрин попали в западню, нас душили цепкие пальцы. Под рев трубы на нас обрушились пощечины, удары кулаков, бандиты потешались, видя, в каком мы состоянии. Серж и Чарли особенно старались. Сидя между Соланж и Роланом, я вновь переживал эту чудовищную драму и не в силах был сдержать дрожь. Мне думалось, что присутствующих должен был потрясти этот рассказ, однако вскоре я убедился, что этого и в помине не было. Они лишь вежливо прислушивались к словам прокурора — одни улыбались, желая продемонстрировать, что вполне способны оценить искусство оратора, другие держались сдержанно и равнодушно, как подобает воспитанным людям. Чтобы расшевелить моих современников, наверняка нужны куда более поражающие акты насилия. Правда, присутствующие немного оживились, когда прокурор потребовал пятнадцати лет тюремного заключения для Сержа Нольта, двенадцати лет для Шарля Пореля и по пяти лет для их сообщников. Эти цифры, казалось, нисколько не взволновали обвиняемых, зато вызвали блеск в глазах возбужденных зрителей, точно на ипподроме, во время скачек. В восемь часов десять минут мсье Орпуа опустился на свое место, и председатель закрыл заседание. В коридорах суда два журналиста пожелали узнать о моих впечатлениях. Не будь здесь Ролана, который повел себя очень решительно, я не сумел бы от них отделаться. Позже, когда Робер вез меня в своей машине, он заявил, что я был неправ.
— Рано или поздно они добьются своего, ты заговоришь, — сказал он. — Это народ настырный.
С трудом шевеля губами, я ответил, что будущее покажет.
XI
На следующее утро я почувствовал, что мне просто необходимо немного пройтись по улице, вместо того, чтобы целый день кружить по квартире — из спальни в кухню, из кухни в гостиную. Скованные холодом облака, скучившись, нависали над крышами, сея снежную пыль, не достигающую земли. Подходя к магазинчику, где продавалась периодика, я ускорил шаг, твердо решив даже не глядеть на витрину. Однако остановился, меня потрясло слово «приговор», напечатанное жирным шрифтом. Я вошел в магазинчик. Заголовок гласил: «Сегодня — приговор банде Нольта». Другие заголовки тоже привлекли мое внимание, и голова моя закружилась. Вместо одной газеты я купил целых пять и, кое-как сложив их, сунул под мышку. По тротуару забарабанил дождь, по небу бежали тучи, почти задевая дымовые трубы. Ветер, ворвавшийся на улицу Вьоле, швырял пригоршни полузамерзших капель мне прямо в очки. Когда я добрел до дома, от промокших газет на меня пахнуло школой и деревней. Я положил их на стол в гостиной, словно ученические тетрадки, которые должен был проверить. Через полчаса я уже прочел все интересовавшие меня статьи. Они освещали два обстоятельства дела, которые до сего дня были мне неизвестны. Первое касалось маленькой брюнетки-адвоката, которая защищала Патрика Вааса. Я узнал, что ее зовут Жаклин Сера, что ее дед и отец были знаменитыми гинекологами — кстати, того хирурга, который в 1929 году оперировал Катрин, звали Леопольд Сера — и что ей пришлось спешно, без подготовки заменить мэтра Фужье, погибшего в автомобильной катастрофе. Память моя не сохранила образ этого мэтра Фужье, хотя я видел его вместе с пятью другими собратьями в кабинете следователя, и этот провал в памяти весьма меня огорчил. Я невольно установил некую связь между смертью этого адвоката и тем равнодушием, которым было окружено убийство Катрин. И еще я думал о Леопольде Сера, который лечил мою жену и чья внучка теперь защищала одного из ее палачей. Вторая сторона дела касалась «банды Нольта». Я уже свыкся с представлением о некой, существовавшей долгие годы группке, связанной тайными правилами, а может, даже неким кодексом. Истинное положение дел потрясло меня. Оказалось, что еще за неделю до нападения 25 апреля большинство хулиганов даже не знало друг друга. Разве что Серж два-три раза встречал Чарли в бистро на площади Пигаль. Банда родилась 21 апреля на площади Порт-д’Итали, во время танцулек под аккордеон. Возникла стихийно. Нольта, который не танцевал, сумел подчинить себе остальных своей наглостью и болезненной фантазией. Тут комментарии всех газет совпадали: он был главарем, обвиняемым № 1, начисто затмевавшим своих сообщников, которых в газетных заметках именовали просто статистами, за исключением Чарли — его возвели в ранг «подручного». Я вновь испытал то же чувство, что и при чтении статьи Клебера Поля: прожектор был направлен на Сержа, и односторонность этого освещения — которую я первое время одобрял — теперь раздражала меня. Впрочем, причину этой тенденции объяснить нетрудно, было тут преклонение перед «звездами», в какой бы области они ни блистали, и расчет на рекламный эффект, а не забота о том, чтобы пролить свет и выявить моральную ответственность, как, естественно, полагал какой-нибудь гуманист. Я был поражен тем, что все дружно приписывали такую важность показаниям Мориса Альваро, он же Фабианна. Его рассуждения, его жалкая мимика были описаны во всех подробностях. Создавалось даже впечатление, что он своими репликами сыграл на руку обвиняемому № 1, чья личность приобрела неожиданную выпуклость. Один сравнивал Нольта с Ласнером и находил, что голос его напоминает Марселя Эррана. Другой утверждал, что он чем-то похож на Берта Ланкастера, он, мол, его «уменьшенная модель». Наконец еще один разглагольствовал о его «сатанинской раскованности», намекнув сначала на «бородку Иисуса Христа».
Само собой, мнения разделялись при комментариях обвинительной речи мсье Орпуа. Консервативные газеты хвалили «патетическую объективность» прокурора, тогда как те прогрессивные издания, которые я обычно читал, находили, что его красноречие отдает мелодрамой. Они упрекали его также в том, что он подчеркивал порочность Сержа Нольта, пропустив мимо ушей мнения психиатров, которые в своем заключении отмечали ослабление у обвиняемого чувства ответственности. Наконец они сожалели, что этот рьяный защитник общества столь нечувствителен к социальному аспекту дела, явно бросавшемуся в глаза. Тут я был с ними не согласен, поскольку мсье Орпуа, подробно останавливаясь на моем скромном происхождении, уделял при этом также достаточно внимания той среде, в которой выросли обвиняемые. Сверх того, я был удручен, что жестокость Сержа и Чарли, их зверская расправа с Катрин вызвали у моих излюбленных газет лишь весьма туманное неодобрение, тогда как их конкуренты, принадлежавшие к правым консерваторам, довольно решительно негодовали по этому поводу.
Я подошел к окну взглянуть на потоки дождя. Ветер гнал дождевые капли, расплющивал их о стекло, и крошечные ледышки таяли, скользя вниз. Я вспомнил о составленном мною когда-то тексте школьного диктанта, который начинался словами: «Земля курится. Камень блестит». Было это, верно, в двадцатом году. Моя первая работа. Мне исполнилось восемнадцать лет, и у меня было тринадцать учеников: семь девочек и шесть мальчиков, все они сидели, не сняв галош, и от всех шел запах хлева. Гудела печка, из нее вырывались облачка углекислого газа. На улице шел снег, а в моем диктанте говорилось о дожде. Я верил в свое призвание. Мне казалось, что орфография способна возвести этих крестьянских ребятишек в дворянское достоинство. Исправляя красным карандашом их ошибки, я мечтал о демократическом народном правительстве. И вот сейчас, прочитав газеты, я ощутил тоску по былому своему идеализму, который некогда давал мне такое ощущение счастья и который нынешние мои разочарования готовы были задушить.
Звонок в дверь: мадам Акельян принесла мне письмо со штемпелем Лос-Анджелеса.
— Я подумала, оно спешное, — пояснила она.
Весьма наивный предлог, лишь бы что-то разнюхать и выспросить новости о процессе. Как и у всех жильцов, у меня на нижнем этаже имелся ящик для корреспонденции.
— Нет. Это не спешное, — ответил я, положив письмо на буфет, хотя сам сгорал от нетерпения прочитать его.
Мадам Акельян в растерянности посмотрела направо, потом налево, недовольно бурча: накануне она убиралась, а сегодня комната уже снова захламлена. Я придерживался иного мнения, но она быстро направилась в кухню и вернулась вооруженная тряпкой.
— Нет! — твердо сказал я. — Сегодня не ваш день.
Однако она во что бы то ни стало хотела вытереть стол и сложить разбросанные газеты.
— Сегодня-то вы все газеты купили, — заметила она с полуулыбкой.
Раздраженный, я посоветовал ей бросить их в мусорный ящик. Но она попросила у меня разрешения взять их.
— Хочу быть в курсе дела. Кажется, судья потребовал пятнадцать лет заключения. Не так уж много.
— Как на это взглянуть, — ответил я вполголоса. — Во всяком случае, вы прекрасно осведомлены.
— Ох, нет! — простонала она.
Самым заветным ее желанием было посещать заседания суда, следить за ходом процесса. Но кто же в ее отсутствие останется в швейцарской? Люди и не подозревают о тех жертвах, которые приходится приносить консьержкам.
— Пятнадцать лет, подумать только! — продолжала она.
Ее весьма тревожила пенитенциарная реформа. Она не могла смириться с тем, что сроки тюремного заключения сокращаются и что заключенных отпускают домой на праздники. И хотя этот примитивный здравый смысл задевал мои убеждения, он вносил успокоение в мою душу и я отдыхал от словесных уловок, на которые не скупились в зале суда, от слишком интеллектуальных речей. Я слушал ее, не прерывая и не глядя на часы. Она сама ушла, когда высказала все, что считала нужным. Тотчас же я схватил конверт с буфета и вскрыл его, но там лежала только почтовая открытка с изображением розовых небоскребов, перед которыми расстилалась водная гладь. На обороте всего пять слов: «Мы о тебе не забываем. Нежно целуем». Подписано: Сильвия, Мишель, Билли. Я вспомнил о письмах на восьми страницах, которые прикованная к постели Катрин посылала мне из клиники в Гренобле. Те времена миновали. Новое поколение не желает делать никаких усилий. Я вертел в руках почтовую открытку, испытывая одновременно и разочарование и волнение. Слова «нежно целуем» все утро не выходили у меня из головы.
В суд я прибыл с пятиминутным опозданием, такси задержалось из-за уличной пробки и дождя. В ту минуту, когда я появился в дверях зала заседания — пройти вперед я не мог, так как все сидячие места были уже заняты, — слово взял мэтр Гуне-Левро. В своей речи он и не думал ссылаться на пониженное чувство ответственности у своего подзащитного, наоборот, нарисовал весьма привлекательный портрет:
— Перед вами человек проницательный, хитрый, умный, а вовсе не какое-нибудь убожество.
Он заговорил о стройной фигуре, о правильных чертах лица Нольта, о его саркастической улыбке, и, сбитые с толку, слушатели недоумевали, к чему это он ведет, но тут мэтр Гуне-Левро воскликнул громовым голосом:
— Сказал ли я истину, дамы и господа? Вне всякого сомнения. И все же я солгал. Потому что истина имеет две стороны, а я рассматривал лишь одну.
Он сравнивал Сержа Нольта с двуликим Янусом, все желают видеть лишь его одну, освещенную сторону: официально зафиксированный вид сбоку, лубочную картинку. Это непростительная ошибка — забыть о другой стороне, там-то и скрывается истинное человеческое лицо. Нольта вовсе не похож на того циничного преступника, которого он из себя изображает и которого с такой готовностью нарисовало обвинение. Под личиной бахвальства нетрудно обнаружить растерявшегося мальчугана, лишенного отца, до бреда измученного анормальной сексуальностью. Обозвав его ничтожеством, мадам Реве нашла ему великолепное определение.
— Жертва произнесла эти слова, дамы и господа присяжные, в подтверждение их почтим ее память.
При этих словах я подавил гневный возглас, ноги у меня подкосились и я пошатнулся, задев плечом соседа. Судебный исполнитель, заметив это, тихонько подошел ко мне и усадил во втором ряду, попросив зрителей потесниться на скамье. Теперь мэтр Гуне-Левро доказывал, что жестокость Нольта показная, что он существо уязвимое и дезориентированное. Об этом свидетельствуют его отношения с Морисом Альваро. Разве тот не показал на следствии, что его друг часто плакал без всяких причин. На самом-то деле Нольта, как все неврастенические натуры, жаждал нежности. И уподоблять его поведение поведению сутенера — чудовищная ложь!
— А вы много знаете сутенеров, — прорычал адвокат, — рыдающих на плече своего подопечного?
Вопрос этот позабавил публику, но оратор, словно бы ничего не заметив, со свирепым видом перевел дыхание, потом, переменив тон, заговорил почти ласковым голосом, подчеркнув непредвиденный и беспорядочный характер событий 25 апреля. Серж ничего не решал, ничего не предопределял. Это он-то главарь? Да ведь он лишь слепое орудие случая, игрушка обстоятельств. Он просто хотел спасти лицо, породить у своих друзей некую иллюзию. Он искал прибежища в насилии, чтобы забыть о собственной слабости. И однако же, именно он удержал руку Шарля Пореля: «Оставь его! Его разок ударить, так он с ног слетит». Потому что жестокая расправа, участником которой он был, внушала ему страх, внушала ему стыд. Ни одно свидетельство не позволяет нам с уверенностью сказать, что в какой-то определенный момент он поднял руку на мадам Реве. Его удел не ударять, а разглагольствовать. Его мать и его любовница знали, что этот мифотворец иного пошиба, чем обычные преступники: чтобы быть жестоким, ему недоставало энергии. Мэтр Гуне-Левро повернулся к журналистам и поблагодарил их за помощь правосудию, которое без них никогда не уловило бы пульс нашей современности, ее подлинный накал.
— Случайность ли, — продолжал он потеплевшим голосом, — что один из вас, набрасывая портрет моего подзащитного, упомянул о Христе?
Нет! Тут скрывается глубокий символ. Серж Нольта — раб своих извращенных наклонностей, — стал пленником зла и распят злом, как скверный разбойник. Можно ли карать его за то, что он подвержен влияниям, что его втянуло в свою орбиту наше общество, где не существует никаких барьеров, что он развращен зрелищем насилия, громко заявляющего о себе с экранов кино? Мэтр Гуне-Левро высказал свое доверие присяжным, которые сумеют вынести справедливый приговор, далекий от упрощенного понимания, их уму, не отвергающему ни достижений науки, ни метода психоанализа, их милосердию, имеющему целью социальный прогресс. Он опустился на место с побагровевшим лицом, полы его мантии развевались, а вокруг, приветствуя его выступление, растекался взбудораженный шепот.
Председатель суда потребовал тишины и предоставил слово мэтру Ансуи. Но я больше не слушал. В моем мозгу беспорядочно вспыхивали ответы и возражения, о которые лихорадочно бились слова адвоката, и этот шум угнетал меня. Мне казалось, что фразы, которые защитник бросает в зал, обрушиваются, точно лопаты песка, на лицо Катрин, погребая его все глубже. Мою жену закапывали с методичной яростью, и только я один ощущал все варварство и дикость этого. От защитительной речи мэтра Ансуи в памяти у меня остались лишь обрывки фраз: в отличие от Сержа Нольта его подзащитный Шарль Порель вел себя как существо примитивное; его не назовешь свихнувшимся или порочным, он натура цельная, в здравом уме, какими бывают грубые существа. Способен работать по десять часов подряд и отважен до глупости. Наше современное общество не умеет использовать эти ценные качества, и они, естественно, оборачиваются против самого же общества.
Мэтр Удино был более убедителен. Он утверждал, что Поль Дедсоль играл на трубе 25 апреля потому, что и не мог действовать иначе. В трубе вся его жизнь. Игра его «освобождает». Он дует в трубу, как негры из Нью-Орлеана, чтобы забыть о своем несчастном детстве, о пьянице отце, который его колотил.
Мэтр Калем, защищавший Жоржа Логана, осуждал его отца.
— Вы знаете этого безвольного человека, дамы и господа. Вы видели его сальное толстое лицо.
Когда маленькая брюнетка-адвокат взяла слово, я невольно вздрогнул. Аргументы, которые она выдвигала, желая доказать невиновность Патрика Вааса, оставляли меня равнодушным. Я вслушивался лишь в модуляции ее пронзительного голоса, и звучание его напоминало мне о ее деде, который оперировал Катрин. В отличие от нее мэтру Павье понадобилась всего минута, чтобы возбудить мое внимание. Если Жан-Мари Ле Невель сбился с пути, утверждал он, то виною тому его родители, крепко державшиеся устаревшей системы воспитания. «Мы люди строгих принципов», — признавала мать. А Жан-Мари желал жить согласно нормам своего времени. Трагедия этого юноши, мечтавшего стать боксером, — это трагедия некоммуникабельности, порожденная конфликтом поколений. Не в силах дольше слушать это, я вскочил с места и выкрикнул:
— Нет! Все это чепуха!
Ко мне поспешил судебный исполнитель, посоветовал не шуметь и попытался усадить меня на место; но я сопротивлялся и упрямо твердил: «Нет! Нет!», а озадаченный председатель суда напомнил мне, что я не имею права прерывать судебные прения. Тогда мэтр Павье, погладив свою круглую бородку, заявил, что не добавит больше ни слова, предоставив дамам и господам присяжным самим оценить тот ловкий ход, жертвой которого он стал. Председатель суда поблагодарил его и согласился выслушать меня при условии, что я буду краток.
— Это не предусмотрено судебной процедурой, — уточнил он, — но суд согласен сделать в данном случае исключение.
Увы, торопясь, я давился словами, путался, сбивался. Председатель суда попросил меня приблизиться к барьеру.
— И главное, не забывайте о микрофоне! — сказал он.
Этот совет добил меня. Все взгляды были устремлены ко мне, они словно насекомые ползали по моим пылающим щекам. Я не желал ни маскировать, ни приукрашивать своих мыслей: это подлость говорить о некоммуникабельности, стыд и срам сравнивать Сержа Нольта с Христом. Не так важно даже покарать преступление, как вызвать отвращение к нему, негодование. А тут никто не негодует, никого не душит омерзение. Все растекается, растворяется в пресловутом «понимании». Вот что хотелось мне сказать. Но как связать воедино все эти слова, как отобрать нужные, как до предела сжать их, ведь сама их искренность не терпит никакой узды! Поэтому я только и смог пробормотать:
— Нет! Вы не понимаете. Вы ничего не поняли.
— Ну давайте же, объясните! — раздраженно-снисходительным тоном проговорил председатель суда. — Мы ведь уже довольно многое поняли.
— Нет! — все твердил я. — Нет! — И тут я пустился в какие-то безумные сравнения, говорил о правосудии и о механизме суда: Катрин была отброшена юридической машиной и общественным мнением. Всех интересовал лишь механизм, его система передач, его театральные эффекты. Машина судопроизводства, хорошо смазанная, работала на полную мощность, как ротационные печатные станки, которые изрыгнут этой ночью обкорнанные истины. Неловким молчанием встретил зал эту вздорную старческую болтовню. Мне хотелось добавить несколько простых спокойных слов, но у меня перехватило дыхание. Я тряхнул головой и засеменил к своему месту. Мне показалось, будто, когда я усаживался, председатель суда зачитал вслух лежавшую перед ним бумагу, — он действительно огласил какой-то текст, — потом я услышал, что судьи и присяжные удаляются на совещание и что начальника полицейского наряда просят охранять все входы и выходы в совещательную палату. Гул голосов вывел меня из оцепенения, и я понял, что все поднялись. Чья-то рука легла мне на плечо, я вздрогнул. Это была Соланж.
— Мы собираемся чего-нибудь выпить. Пойдем с нами, — сказала она.
Я заметил стоявшего рядом Робера, на его лице застыла принужденная улыбка.
— Да, да, пойдем с нами, — как эхо повторил он. — Выпьешь кофе и немножко взбодришься.
Ничего не отвечая, я вышел вслед за ними из зала, но, вместо того чтобы, как и они, направиться к буфету, свернул в коридор, ведущий к выходу. Соланж схватила меня за плечо.
— Но послушай, Бернар, куда ты?
— Домой, — высвобождаясь, ответил я.
Она с тревогой, почти что с ужасом взглянула мне в лицо.
— Как? Ты не дождешься приговора?
— Нет! — ответил я, охваченный внезапным гневом. — На приговор мне наплевать. Пусть их приговаривают к десяти, к двадцати годам или не осуждают совсем. Пусть их целуют или рубят им головы. Мне все равно.
И очки подскочили у меня на носу.
XII
Шагнув в прихожую, я сразу зажег свет и опустился на стул под самым выключателем, всего в полуметре от входной двери. Я расстегнул промокшее пальто, распустил галстук, прижался затылком к стене и замер не шевелясь. В моем опустошенном мозгу без устали билась одна мысль: «Ничего не осталось. Никакой иллюзии», и это бесконечное причитание повергало меня в состояние какого-то транса. Так я и просидел два часа, не переменив ни места, ни позы, пока не зазвонил телефон. Я поднялся, уронил стул, который зацепил своим пальто, и поспешил к аппарату, словно ожидал услышать какую-то важную новость — предположение нелепое со всех точек зрения. Но это звонила Соланж. Она хотела узнать, как я себя чувствую.
— Ты так изнервничался. Робер беспокоится. Он считает, тебе неплохо бы посоветоваться с кардиологом.
Поскольку я не проронил ни слова, она тяжело вздохнула и робко спросила:
— Ты не хочешь знать, какой приговор вынесли? — И, не дожидаясь моего ответа, выпалила единым духом: — Нольта получил десять лет, Порель — восемь, Ле Невель — пять, а остальные по три года. — Мое молчание вывело ее из терпения: — Тебя и в самом деле это нисколько не интересует?
Я заверил, что нет. Из чего она заключила, что я совершенно измотан и посоветовала мне принять две таблетки аспирина и лечь в постель с грелкой.
Утром на следующий день мне позвонил по телефону Жан-Люк Варнэ, имя которого было мне знакомо, поскольку я некогда читал его статьи в довольно солидном еженедельнике. Он желал повидать меня, я приготовился было отказать ему, чтобы не слышать больше ничего о процессе, но он заявил, что многие стороны дела так и остались на процессе не освещенными. По его мнению, самое главное не было рассмотрено. Он полагал, что кое-какие мои объяснения будут ему необходимы и окажут большую услугу широкой публике, которая заслужила, чтобы ей дали точную информацию. Мы договорились встретиться с ним в этот же день, после полудня. И тут же я пожалел о своем согласии. Меня побудило решиться на это слово «главное»; для меня оно означало — Катрин, но для моего собеседника это могло означать нечто совсем другое. Этим журналистом наверняка двигала единственная мысль: составить хорошую «статейку». Прошло несколько минут, как я повесил трубку, а под дверь мне уже подсунули какие-то листки: излюбленную газету мадам Акельян, которую я совсем не жаловал. Интересовавший меня заголовок «Десять лет Сержу Нольта» был набран почти в самом низу страницы. Хроника распределяла свое внимание между заседанием совета министров, арестом главаря гангстеров, гибелью трех детей, разорванных на части бомбой на израильской границе, и победой в большом слаломе некой австрийки, имя которой я забыл; она выиграла три сотых секунды у французской чемпионки, которая удерживала рекорд на лыжне. В своей заметке Клебер Поль был не столь многословен, как обычно. В сдержанных выражениях он похвалил пылкую речь мэтра Гуне-Левро и нашел приговор суда разумным. Мое выступление его не убедило, да и слышно меня было плохо. Он считал, что я нападаю на судебное ведомство и его бесчеловечный механизм. Это было явное недоразумение. В моем представлении весь мир был ответственен за эту бездушную систему, за все, начиная с равнодушных подсудимых. Ни в коей мере я не собирался превращать судей в козлов отпущения.
В два часа дня раздался звонок. Это пришел Жан-Люк Варнэ. Я держался настороже, стараясь не поддаваться обаянию, которое излучала вся его особа: словно выточенное резцом лицо, открытый взгляд, заразительная улыбка, спокойный голос человека, много повидавшего на своем веку, и манера хмурить брови, как прилежный ученик. Ему хотелось услышать о моих впечатлениях, прежде всего о том, что касалось именно меня, и только меня.
— То, что затрагивает вас, затрагивает и нас, мсье Реве.
Я придерживался иного мнения. В последнее время я как раз стал замечать, что то, что затрагивает меня, оставляет других совершенно равнодушными. Он тоже заметил это, но что тому виной? Неплохо было бы уточнить. Наша беседа могла пролить свет на эту проблему. Конечно, это слишком громко сказано. И он просил его извинить. Я должен высказать все, что я думаю, не одергивая себя, и желательно без ложной стыдливости: в состоянии ли жертва во время процесса выразить свои мысли или же ее подавляет, размалывает судебная машина? Я ответил, что и во время следствия, и во время слушания дела судейские чиновники относились ко мне очень внимательно, тщательно записывали мои показания и то и дело ссылались на них. Он в этом нисколько не сомневался, но сейчас речь о другом. Он намекнул на театральный и сутяжный характер судебных прений, которые низводят жертву на положение статиста, простого орудия судопроизводства. Я разделял эту точку зрения. Радуясь моей поддержке, он умолк, посмотрел на меня сияющими глазами, и я вдруг почувствовал потребность высказаться, не контролируя каждое свое слово, облегчить душу; смерть моей жены была не заурядным происшествием, а событием, которое должно было бы потрясти всех порядочных людей, помешать им спокойно спать, исторгнуть из их груди крик. Однако никто не возвысил голоса, кроме тех, кто занимался этим по роду своей деятельности. Никто не устроил манифестацию на улице! Я был поражен безразличием моих современников, их пристрастием к «пониманию», которое лишает нас простых человеческих чувств. Пресытившись информацией, они утратили душу живую.
Моя прерывистая речь, казалось, взволновала журналиста. Он сказал, что вполне понимает меня, и добавил с улыбкой:
— Я знаю. Вы не слишком любите это слово.
Но я уже был не в силах противиться симпатии, которую он мне внушал, и поэтому снисходительно махнул рукой. Он упрекнул меня в том, что я слишком суров к своим современникам. Их равнодушие следует вменить в вину общественной системе, меркантильному, лишенному идеалов обществу: распродаваемую по дешевке информацию путают с общественным мнением. При этих словах он украдкой бросил презрительный взгляд на газету, принесенную мадам Акельян, которую я забыл на полу около кресла. Я возразил, что общество не несет ответственности за нашу подлость; стремление к идеалу в данном случае зависит только от нас.
— Если у граждан есть сердце, — заявил я, повышая голос, боясь, что он дрогнет, — применение санкций становится ненужным. Вполне достаточно единодушного неодобрения. Позор — виновному лучший приговор!
Жан-Люк Варнэ покачал неопределенно головой, потом спросил меня, являюсь ли я противником смертной казни. Я почувствовал, что краснею, и сказал ему прямо: на этот вопрос отвечать не буду. Он пожелал узнать почему. Я стиснул зубы. Но так как он смотрел на меня все так же внимательно и пристально, я запальчиво выкрикнул:
— Это неверный вопрос! Его задают только для того, чтобы разложить людей по полочкам, разделить их на два лагеря. Я не желаю участвовать в этой игре.
— Предположим, что так! — сказал он, потупившись. Потом поднял голову и улыбнулся. — Я не решусь сказать, что понимаю вас. Боюсь, что это вас покоробит.
Мы расстались добрыми друзьями.
Это интервью принесло мне некоторое облегчение. Я взял реванш десятком откровенно высказанных фраз; я уже не был тем жалким, униженным стариком, а просто пожилым человеком, которому есть что сказать и который умеет защитить память своей жены. И отныне я решил, что буду говорить. Я взбудоражу общественное мнение. Не имею я права молчать, сидя безвыходно в своей норе. Статья Жан-Люка Варнэ должна была появиться в понедельник. Мне не терпелось ее прочесть. Я полагал, что она наделает много шуму и многое изменит. В течение трех дней я разбирал бумаги, раскладывал по годам письма Катрин, мысленно составлял речи. Порой я кружил вокруг стола в гостиной и произносил свои тирады вслух. Меня охватила лихорадка красноречия.
Наконец статья Жан-Люка Варнэ была напечатана. Прочитав заголовок «Слово предоставляется жертве», я вздохнул с облегчением. Но, увы, то, что последовало за сим, неприятно поразило меня. Варнэ не искажал моих слов. Просто придавал им нужную ориентацию. Невозможно было разобраться, где кончалась цитата и начинался комментарий, так как его личное мнение как бы внедрялось в мое. Если моими устами он разоблачал равнодушие современников, то лишь для того, чтобы заклеймить наше общество потребления, ответственное за эту инертность. И если он хвалил меня за то, что я критикую театральный и сутяжный характер судопроизводства, то лишь для того, чтобы шельмовать судебное ведомство, установления и традиции коего, по его мнению, восходят еще к средним векам. Он воздавал должное моей жизни, целиком отданной народному образованию, но при этом добавлял: чтобы восторжествовать над обскурантизмом, мне пришлось бороться с непониманием своих начальников, а это было уже чистейшей выдумкой — администрация всегда шла мне навстречу. Наконец, он довольно недвусмысленно намекал, что я выступаю против смертной казни. Упомянув о конце нашей беседы, он утверждал, что я правильно сделал, промолчав на его прямой вопрос. Сама постановка вопроса оскорбляет человека прогрессивных взглядов; и мое молчание было в высшей степени знаменательным.
Статья произвела на меня угнетающее впечатление. Я страдал от того, что возлагал на этого журналиста какие-то надежды, что поддался иллюзиям, мечтал встряхнуть инертную глыбу общественного мнения. С этого дня я и стал таким, каков сейчас: калекой, жертвой собственной наивности. Я покупал целый ворох газет, и меня ошеломляло число хулиганских нападений и тон, каким об этом сообщалось. Сам хроникер ничуть этому не удивлялся. Он только констатировал все эти чудовищные акции, подобно лаборанту, наблюдающему в колбе заранее ожидаемый эффект. Единственное, что говорило его воображению, — частота подобных нападений. «Эскалация насилия» — стало своего рода паролем. Ролан Шадр прочитал статью Жан-Люка Варнэ. И позвонил мне. Его просто потрясли мои слова, он был в восторге.
— А эта манера осуждать смертную казнь…
Я сказал ему, что это чистейшее недоразумение: я уже давно утратил привычку бороться против всевозможных доктрин. Единственное, что еще может меня возмущать, — это равнодушие, подлинная язва нашего века. Дабы окончательно выбить у него из-под ног почву, я предложил устроить мощное шествие протеста. Он принял мои слова всерьез и ответил, что друзья меня не забывают, что я могу рассчитывать на их моральную поддержку, но, коль скоро несчастье мое не носит социального характера, всякая манифестация с их стороны может быть неправильно истолкована. Резким тоном, удивившим меня самого, я попросил его объясниться.
— Ну вот… ты же сам понимаешь… — говорил он, с трудом переводя дыхание, — экстремисты станут обвинять нас в том, что мы выступаем против общества вседозволенности, играем на руку полиции. Молодежь сочтет наше поведение подозрительным.
Тут я разозлился:
— Если бы Катрин была убита каким-нибудь полицейским, тогда ее смерть имела бы смысл, не так ли?
Ему не удавалось вставить ни слова. Я разбушевался, клял его за осторожность, за все эти расчеты заядлого политикана. Но я перешел всякие границы, да и мысли мои уже иссякли, и я бросил трубку.
В последующие дни мое нервозное состояние все возрастало. Особенно, когда приходила Соланж. Я был уже не в силах выносить ее советы. И в конце концов попросил ее больше мной не заниматься.
— Хорошо, — сказала она. — Больше ты меня не увидишь.
Спустя несколько часов явился Робер, намереваясь пожурить меня.
— Что произошло, Бернар? Соланж утверждает, что ты выставил ее за дверь. Это же ерунда.
Я терпеливо слушал его до тех пор, пока он не извлек из кармана записную книжку и, полистав ее, дал мне адрес и телефон какого-то врача. Я заявил, что чувствую себя хорошо, но что меня измучили любопытствующие, которые не в меру интересуются моим случаем. Он сцепил пальцы и потряс ими с видом крайнего огорчения.
— Это как раз то, чего я опасался, ты повсюду видишь врагов.
— Еще бы! — насмешливо ответил я, и, поскольку он попытался меня урезонить, я попросил его оставить меня в покое.
Он стиснул челюсти, побагровел, повернулся ко мне спиной и вышел, не протянув мне на прощанье руки.
Я решил, что окончательно порвал с ними, но 23 декабря Соланж позвонила мне по телефону.
— Послушай, все это ужасно глупо. Покончим с этим недоразумением. Приходи встретить с нами Рождество.
Я вежливо поблагодарил ее и отказался. Она настаивала:
— Дети уехали. Я никого не стала приглашать. Посидим втроем.
Я сказал, что очень тронут ее вниманием, но что мне нужен отдых. Она заверила меня: Робер не будет произносить никаких речей, он ей обещал. Эти слова меня растрогали. Я согласился. На следующий день они встретили меня весьма тактично. Соланж была предупредительна, но сдержанна. Ее тревожило, что я ничего не ем, и каждый раз, когда я отказывался отведать очередное блюдо, она тяжело вздыхала, но тут же искупала это милой улыбкой. Робер избегал задавать мне вопросы и повторял после каждого глотка:
— Я очень рад, что ты пришел.
Мы обменивались ничего не значащими репликами, весьма корректными, как пенсионеры в доме для престарелых. За десертом Робер открыл бутылку шампанского.
— Катрин любила праздник, — сказал он, поднимая свой бокал.
Эта короткая фраза сразу испортила мое настроение. Чтобы выпить бокал шампанского, вовсе не нужно было искать каких-то оправданий. Слово «праздник» напомнило мне Дедсоля с его трубой. Соланж спросила, чем я недоволен. Может быть, шампанское недостаточно охлаждено? В таком случае можно открыть другую бутылку.
— Конечно! — воскликнул Робер, поднимаясь с места.
Я попросил его не беспокоиться. Он ответил, что это дело обычное и что не следует ничего делать наполовину. Я встал, желая помешать ему выйти из-за стола. Все это начало принимать какие-то нелепо комичные размеры, и я был зол за это на Робера, на Соланж, на себя самого. Робер отстранил мою руку.
— Пусти меня! — сказал он. — Сейчас я принесу другую бутылку.
Вне себя я крикнул:
— Не надо! Я предпочитаю пить минеральную воду.
Мои слова, произнесенные с таким бешенством, ошеломили их. Они смотрели на меня, разинув рот, вытаращив глаза. Я охотно разрядил бы атмосферу, посмеявшись над драматично-гротескным характером сцены, но гнев уже завладел мной. Я упрекнул их в легковесности: какое же нужно иметь легкомыслие, чтобы упоминать о Катрин в связи с шампанским. Катрин не сюжет для застольной беседы. Понять это — значит уважать ее память. И я добавил, окончательно теряя голову:
— У вас даже и представления нет о том, что такое смерть.
Чувствуя себя не в силах снова сесть за стол, я шагнул к двери и потребовал свое пальто.
— Но послушай, Бернар, — лепетала Соланж, — ты не уйдешь так…
Робер охрипшим голосом посоветовал ей молчать. Она хотела задержать меня хоть на несколько минут, чтобы вызвать такси, но я поспешил к входной двери.
Я шел по пустынной улице, направляясь к метро. Гирлянды из сотен лампочек сверкали над моей головой. Сквозь закрытые ставни пробивались смех и песни. Ледяной ветер, который дочиста вымел тротуар, охладил мой гнев, я дрожал от холода и думал о том, что надо спуститься в метро, с которым связаны такие тяжкие воспоминания.
С тех пор я погрузился в мизантропию. Жилище мое превратилось в некую неприступную крепость, в логово зверя. Я снимал телефонную трубку через раз и сразу обескураживал своего собеседника, упорно повторяя:
— Я чувствую себя хорошо. Все хорошо.
Ну а письма, приходившие от Ирен или Марселя, я, прочитав, сразу же яростно рвал на клочки. Так протекали мои часы, дни, недели — между окном и кроватью. Порою пепел, под которым была погребена вся моя жизнь, внушал мне отвращение. Тогда, не в силах больше выносить своего одиночества, я мечтал уехать, побывать у Марселя, вновь обрести край своего детства и ту дорогу, вдоль которой тянутся заросли орешника и где Катрин поджидала меня, когда я возвращался из школы. Я рассказывал ей о своих учениках и о своем педагогическом методе. Она прерывала меня, показывала мне какой-нибудь цветок или птицу. Когда пальцы ее сжимали мою ладонь, а в воздухе стоял запах свежескошенного сена, я чувствовал себя счастливым.
Но главное, мне хотелось увидеть Раймона. Я любил этого мальчугана, так плохо приспособленного к жизни, не умеющего ни плутовать, ни лгать. Его боязливое чистосердечие волновало меня даже на расстоянии. Я испытывал потребность в его внимании и в недетской его серьезности, и мне казалось, что благодаря ему я смогу не чувствовать себя таким потерянным. И это утешение, которое было бы для меня столь благотворным, зависело от простого моего жеста. Достаточно было снять трубку и позвонить Ирен. Она тут же бы ответила: «Ну конечно! Приезжай поскорей! Мы ждем тебя». Но как покинуть улицу Вьоле, как вырваться из этой квартиры с ее полутьмой, с ее шкафами, где висели платья Катрин и откуда исходил ее еле уловимый аромат.
В Париж вернулся Мишель вместе со своей матерью, но уже без Билли. Мишель сильно вытянулся и походил на подростков из американских кинокомедий: розовый, гибкий, вызывающе простодушный. Но под его романтической шевелюрой скрывались мечты, материальность которых меня огорчала. Сильвия разыгрывала из себя счастливую мать, восхищающуюся своим сыном. Такая роль помогала ей привлекать к себе внимание зрелых мужчин. Мы довольно быстро пресытились обществом друг друга.
Я утратил обычную трезвость ума. Наблюдательность мою подстегивала постоянная озлобленность, и это искажало представление об окружающем мире. Вскоре любой поступок посторонних стал казаться мне подозрительным, а чье бы то ни было присутствие невыносимым. Я принял решение обходиться без услуг мадам Акельян.
— Но, мсье, — простонала она, — вы же умрете с голоду.
Я как мог успокоил ее. Отныне моя жизнь состояла из череды домашних ритуалов. По понедельникам я убирал квартиру, по вторникам покупал продукты сразу на две недели и ежедневно готовил себе еду, состоявшую в основном из риса. За завтраком или обедом я ставил тарелку на краешек стола, перед десертом мыл столовый прибор, после каждого блюда старательно подбирал крошки и выбрасывал их в мусорное ведро. Случалось, что я по три раза полоскал свой стакан в память о Катрин, которая была на сей счет весьма педантична. По воскресеньям я отправлялся на прогулку, совсем ранним утром, чтобы никого не встретить, и придерживался всегда одного и того же маршрута: улица Вьоле, улица Фондари, улица Лурмель, улица судьи Тифлэна и улица Вьоле. Это кольцо стало для меня привычным еще семь лет назад. Катрин болела тогда бронхитом и была прикована к постели, она беспокоилась, что я не вылезаю из дому, и умоляла меня пойти «прогуляться». «Болезнь жены всегда раздражает мужа», — улыбаясь говорила она. И теперь в глубине нашей спальни, где я томился, я тщетно ловил отблеск ее улыбки. Ее отсутствие причиняло мне все большую муку, возмущало даже сильнее, чем само нападение, которому она подверглась. В конце концов я позабыл о Серже, Чарли, Дедсоле, обо всей их банде. Я клеймил людское равнодушие. Я видел, как оно заполняет все, проникает всюду, всюду просачивается, разрастается на манер раковой опухоли. Лицо Катрин дробилось на тысячу других лиц, слепых, тонущих в общей массе. Часто, весь во власти своих неотвязных видений, я вскрикивал. Или же громко насмехался над собой, вспоминая свою былую наивность.
Однажды утром — было это незадолго до Пасхи — не знаю уж, что послужило тому толчком, но только муки мои вдруг стали нестерпимыми. Я распахнул окно в гостиной и принялся громко вопить. Я орал, что все люди подлецы и трусы, а весь мир сплошное скотство. Мадам Акельян, к которой прибежали соседи, постучалась в мою дверь. Я спросил, что ей угодно. Она на мгновенье растерялась, стоя с полуоткрытым ртом, потом ответила вопросом:
— Вам ничего не нужно, мсье Реве?
Я покачал головой. Она поспешила уйти. Вечером ко мне явился Робер.
— Бернар, надо на что-то решиться. Тебе необходимо заняться своим здоровьем.
К огромному своему удивлению, я слушал его без всякого гнева. Сердце мое билось вяло. Я стирал пальцами со лба капли пота.
— Ну что ж, если это может доставить тебе удовольствие, — проговорил я.
XIII
Сегодня 25 января 1976 года. Я пишу свои записки три месяца и десять дней. Доктор Борель считает маловероятным, что мое повествование опубликуют.
— Слишком уж вы откровенны. Сейчас это не в моде.
Он спросил, какое заглавие я выбрал. Я отвечал, что об этом еще не думал.
— На вашем месте, — добавил он, — я назвал бы ваше произведение «Гранаты».
Желая убедить меня, он подчеркнул тройной смысл слова: взрывчатый снаряд, прекрасный плод и наконец — символ плодородия. Вся эта аргументация несколько смущала меня.
Вчера я перечитал свой манускрипт целиком. Мне показалось необходимым сделать две оговорки. Первая — относительно моей памяти: кое-кого удивит, что в моем возрасте я еще не потерял ее. Дело объясняется весьма просто, если учесть, что я выверял все названные даты по своей записной книжке. Вторая оговорка — по поводу смертной казни. Я никогда не высказывался по этому вопросу и не собираюсь этого делать. «Мы придерживаемся твердого принципа, — говорила Катрин, — мы против всяких репрессий, какую бы форму они не принимали». Но нынче такого рода принципы внушают мне тревогу. Я остерегаюсь любых теорий, которые рубят с плеча быстрее и бесповоротнее, чем гильотина. В прошлом месяце меня навестил Ролан Шадр. Он спросил, перестал ли я на него сердиться. Я ответил, что не сержусь. Он сказал, что много раздумывал обо всем и что он прекрасно понимает мою тогдашнюю реакцию. Я молча покачал головой, и он почему-то смутился. Он заговорил о нашем мире, ослепленном всякими коллективными идеалами.
— Мы живем в эпоху чересчур суровую для отдельной личности. Просто не хватает времени на то, чтобы интересоваться ею. Но ничто еще не потеряно. Настанет и ее час.
Говоря это, он через силу улыбнулся. Я сказал, что при таком оптимизме вид у него совершенно несчастный. Он заявил, что я человек невыносимый, крепко стиснул мне плечо и посоветовал не сделаться реакционером.
— Наши друзья будут в отчаянии, — сказал он.
— Если я до этого докачусь, — ответил я, — это будет по вашей вине.
Я помирился с Соланж и Робером, которые пришли поздравить меня в первый день Нового года. Они сказали, что я прекрасно выгляжу и радовались моему душевному равновесию.
— Просто чудесно, Бернар, видеть тебя таким спокойным! — сказала Соланж. — Рядом с тобой мы кажемся какими-то безумцами, закомплексованными.
Чтобы несколько охладить их восторги, я утверждал, что флегма моя не совсем естественна, пусть думают, что меня пичкают успокаивающими средствами, но это было неправдой. Уже больше трех недель, как доктор Борель исключил из моих лекарств все седативные средства.
Этим утром позвонила Ирен, чтобы узнать, как идут мои дела, и еще для того, чтоб сказать, что она хочет видеть меня у себя в Дижоне, хочет, чтобы я переселился к ним окончательно.
— Жак и дети будут в восторге. Не можешь же ты до конца своих дней находиться в больнице!
Я ответил, что «Каштаны» вовсе не больница, а санаторий под медицинским наблюдением. Это уточнение пришлось ей не по душе. Ей хотелось поговорить со мной о Раймоне, который никому не доверяет и целые вечера напролет сидит неподвижно. Она думает, что я мог бы ему помочь. Один только я имею на него хоть какое-то влияние. Никого, кроме меня, он не слушает. Я ответил, что должен все хорошенько обдумать. Прежде чем принять решение, я посоветовался с доктором Борелем. Он полагал, что тут колебаться нечего.
— Вы нуждаетесь в домашнем очаге, а этот мальчуган нуждается в вас. У меня нет никаких причин удерживать вас здесь. Вы излечились.
Врачам, видимо, нравится давать нам советы, которые, на их взгляд, могут расшевелить нашу душу. Как смогу я опекать этого ребенка, помочь ему стать человеком, когда я сам отчаялся в людях? Если только Ирен не изобрела этот предлог из милосердия, желая придать смысл моему существованию. Однако я чувствовал, что она не лгала. Раймон ждет меня, ему необходимо мое присутствие. Мы нуждаемся друг в друге. Мой горький опыт обернется для него силой. Пережитые мной разочарования, если подать их с юмором, вдохнут в него энергию. Я научу его презирать эту вялость под маской горячности, этот отвлекающий маневр людей, которые рядят свою трусость под политические эмоции или же выдвигают всевозможные проблемы, лишь бы отрицать очевидность. Они скользят, легко носятся по льду, стараются оглушить себя, чтобы не слышать, как он трещит у них под ногами. Мне хотелось бы заставить моего мальчугана смеяться, описывая их гримасы и кривляния, когда тонкая корочка льда поддается. Странное дело. Я только что сказал «моего мальчугана», словно уже принял решение. И мне чудится, я вижу, как блеснул из-под ресниц лукавый взгляд Катрин, которая всю жизнь мечтала иметь ребенка.
Роже Гренье ФОЛИЯ
Roger Grenier
LA FOLLIA
Перевод Л. Завьяловой
Редактор M. Финогенова
© Éditions Gallimard, 1980
…Эти прелестные чаконы, безумия Испании…
Мадам де СевиньиSenza alcun ordine la danza sia: chi il minuetto, qui la follia, qui l’alemanna farai ballar.
Don Giovanni[11]1
Им было лет по тринадцать-четырнадцать, и все четверо учились в лицее Лафонтен. Как-то в воскресенье они отправились на дневной сеанс в кино «Орфелен» в Отейе. Шел фильм «Скала буйных ветров» с Лоуренсом Оливье. В антракте Валери Понс купила пакетик конфет. Да, в памяти Нины Ору запечатлелось, что их купила именно Валери Понс. Эта худышка только и думала о еде. Девочки заметили, что на каждой конфетной обертке написано какое-нибудь предсказание. Когда Нина прочла: «Вы выйдете замуж дважды», подруги захихикали и заверещали. Валери Понс было предсказано: «Вы проживете 99 лет». Они сочли, что это не слишком интересно, но расхохотались, уже настроившись на смешливый лад. Наступила очередь Барбары Крюзон. Нина снова увидела перед собой ее лицо — такое невыразительное, — прямые волосы и челку. «Вас ждет блестящая артистическая карьера». Ерунда. Женевьева Вико еще не развернула свою конфетку. Подружки торопили ее, и она впопыхах надорвала обертку. Наконец, расправив бумажку на ладони, Женевьева прочитала: «Вы станете миллионершей». Девочка, пожав плечами, тряхнула темными локонами:
— А я уже миллионерша! — Она сунула конфетку в рот, и лукавые складочки затаились в уголках ее губ.
Вместо того чтобы сразу забыть эту сценку, Нина Ору запомнила ее навсегда. С того дня миллионеры не шли у нее из головы. Она не могла забыть, с какой неподражаемой простотой Женевьева Вико заявила, ни капельки не задирая нос и не стыдясь, словно речь шла о вещах самых обыденных, хотя вместе с тем и необычайных: «А я уже миллионерша!» Хотя Нина жила в Шестнадцатом округе, лишь много лет спустя ей довелось наблюдать жизнь настоящих богачей. Отец Нины был инженером в Дорожном ведомстве. Сразу после войны его перевели в Ажан главным инженером. Примерно в это же время Нина закончила лицей. Она не поехала следом за родителями, а осталась в Париже учиться на курсах декоративного искусства. Затем она устроилась в фирму, где стала работать под началом известного декоратора. В двадцать четыре года она вышла замуж за художника Алексиса Валле. Чтобы заработать на жизнь, он поступил оформителем на полставки в большой универсальный магазин. После двух лет супружеской жизни Нине и Алексису стало ясно, что между ними нет настоящего взаимопонимания, хотя они и не желали в этом себе признаваться. Нина, которая считала, что искусство, безусловно, требует жертв, в конце концов пришла к выводу, что ее муж слишком долго «пробивается» как художник и что жертвы тут, может быть, вовсе ни к чему. Похоже, живопись никогда не принесет Алексису ни славы, ни денег. Он и сам не был уверен, что когда-нибудь станет великим мастером или хотя бы просто неплохим художником. Возможно, он всего лишь один из двадцати тысяч пачкунов, поселившихся в Париже. Во всяком случае, он предпочитал не задаваться подобными вопросами. Живопись, которая поначалу была для него привычкой, в конце концов стала необходимостью. Рисовал он, в общем-то, ради собственного удовольствия, что особенно выводило из себя его жену. То были послевоенные годы, когда жилищному кризису, казалось, не будет конца. Алексис отдавал себе отчет в том, что Нине надоело жить в двух комнатах, заставленных картинами, красками и прочими материалами, с малюсенькой кухней, без ванной, с крошечной туалетной комнатой, где невозможно было даже оборудовать душ. Кроме того, квартира эта находилась в центре Семнадцатого округа, в скучнейшем квартале, в доме, затерявшемся где-то между проспектом Вилльерс и бульваром Мальзерб. Нина была в полном смятении. Она не могла оборудовать по своему вкусу две комнаты, превращенные в мастерскую, хотя и была художником по интерьеру.
А что думал он, Алексис Валле, о своей супруге? С тех пор как рассеялась иллюзия любви и миновали дни, когда возлюбленную скорее выдумываешь, нежели оцениваешь трезво, он хладнокровно взвешивал достоинства и недостатки своей спутницы жизни. В конце концов все женщины далеки от идеала. Он еще не вполне понимал, что рассуждения такого рода разрушительнее любой страсти.
2
Однажды вечером Нина пришла с работы очень возбужденная.
— Знаешь, кого я встретила? Женевьеву Вико.
— Женевьеву Вико?
— Да, «миллионершу», которая училась вместе со мной в лицее Лафонтен. Да я тебе говорила о ней сто раз. Впрочем, теперь она и в самом деле похожа на миллионершу больше, чем когда бы то ни было. Кажется, вышла замуж за какого-то сказочно богатого типа. Сегодня утром патрон объявляет нам, что получил крупный заказ — особняк на авеню Анри Мартена, который предстоит весь отделать заново — сверху донизу. Он ведет нас на стройку. Я начинаю ползать на четвереньках — измерять комнату, и тут вдруг появляется женщина, останавливается в дверях, словно боится мне помешать, поднимаю голову и узнаю Женевьеву. Оказывается, это на нее мы будем работать.
— А она тебя узнала?
Нина резко вскинула голову, словно вопрос этот был неуместен.
— Конечно. Мы расцеловались. Патрон был совершенно потрясен.
Шли дни, и Нина сообщала Алексису новые подробности о своей бывшей однокашнице. Мужем Женевьевы оказался коммерсант по имени Шарль Тремюла, занимавшийся внешнеторговыми сделками.
— У меня есть два пригласительных билета на футбольный матч, — однажды объявила Нина. — Мне предложила их Женевьева. Вдобавок ко всему ее муж еще и президент спортивного клуба. Это очень ответственный матч в розыгрыше кубка. Если команда выиграет, она попадет в полуфинал.
— Ну, раз это доставит тебе удовольствие…
— Ты ничем не интересуешься. Я так и сказала Женевьеве: Алексис — медведь, не уверена, удастся ли мне оторвать его от живописи. В конце концов, неужели тебе не хочется познакомиться с моей подругой после того, как я тебе о ней столько рассказывала? Мне, например, очень хотелось бы увидеть ее мужа. Он ведь еще ни разу не появлялся на стройке. Невероятно занятой человек! Похоже, он страшно устает, буквально падает от усталости. Каждую минуту ему приходит в голову новая идея. Так, недавно он создал сеть прачечных-автоматов по всей Франции, и все они оборудованы американскими стиральными машинами.
— Я его непременно поблагодарю. Спасибо, мсье, благодаря вам я ношу чистое белье.
— Не нужно презирать всех на свете. Ты считаешь себя настолько выше других, что на остальных тебе наплевать. Тебя ничем не проймешь. Ты погряз в себялюбии и снобизме. А между прочим, этот человек с его прачечными облегчает нам жизнь и наверняка способствует нашему прогрессу больше, чем какой-то там художник.
Надувшись, Нина удалилась в другую комнату. Но вскоре вернулась.
— Так или иначе, а на этот матч пойти надо. Было бы очень невежливо не воспользоваться приглашением.
Таким образом, в воскресенье днем они сели в поезд на вокзале Сен-Лазар и отправились на стадион в Коломб. Их усадили на трибуне для почетных гостей, неподалеку от Женевьевы и Шарля Тремюла. Они поздоровались. Глаз художника быстро схватывал особенности каждого лица, но внешность бизнесмена Алексис Валле нашел ничем не примечательной, мужчина как мужчина, только несколько склонен к полноте. Он оказался старше своей жены, очевидно, старше и их с Ниной, правда, лет на пять, не больше. Женевьева Тремюла была брюнетка с короткими вьющимися волосами, но с такой светлой кожей, какая редко встречается у брюнеток, с большими черными глазами — в этом он убедился несколько позже, когда она сняла солнечные очки. Ростом она была немного ниже Нины.
Апрель радовал одним из своих первых погожих деньков, когда в бледно-голубом небе плывут легкие облачка. Мадам Тремюла сняла жакет и осталась в блузке с короткими рукавами. Руки и ноги у нее отличались необыкновенным изяществом.
Какое удовольствие было сидеть на этой трибуне для избранных! Пока шел матч, Алексис расслабился, следя за движением желто-белых и сине-красных игроков на зеленом прямоугольнике футбольного поля — настоящий калейдоскоп. Это было похоже на «движущуюся картину», где яркие детали то собираются вместе, то разбегаются в разные стороны. Солнце садилось, и тень от трибуны, закрывшая часть поля, перерезав его по диагонали, еще более усложняла картину, которая действовала на Алексиса гипнотически. Он воображал себя Раулем Дюфи[12], который с восторгом передвигает эти цветные пятнышки. Затем он попытался представить себе, как это поле и две команды из одиннадцати игроков могли бы выглядеть на гобелене Люрса[13]. Команда Тремюла вышла победительницей. Алексис и Нина пошли поздравить своих благодетелей и поблагодарить.
— Нужно отпраздновать это событие, — сказал Тремюла. — Милости просим к нам, если вы не заняты.
— Мы не хотели бы навязывать вам свое общество, — пробормотал Алексис.
— Вы приехали на машине? Нет? Тогда поедемте с нами.
Они возвращались в Париж в черном «кадиллаке», бесшумно катившем по булыжным мостовым окраинных улиц. Тремюла пожелал сесть рядом с шофером, Алексиса усадили между двумя дамами на широком мягком заднем сиденье. В машине пахло кожей, сигаретами, духами мадам Тремюла. Время от времени коммерсант оборачивался к своим гостям с какой-нибудь репликой. Он изъяснялся как-то робко, слегка заикаясь.
— Как ни странно, мы с вами находимся в одинаковом положении. Вы знаете обо мне только то, что моя жена могла рассказать вашей. Я тоже знаю о вас только то, что ваша жена рассказывает моей.
— Как ты все усложняешь! — заметила Женевьева Тремюла.
Ожидая, когда закончится отделка особняка на авеню Анри Мартена, Тремюла продолжали жить в огромной квартире на авеню Петра I Сербского. У них собралось человек тридцать, в том числе несколько игроков из команды, одержавшей победу в сегодняшнем матче, в частности, ее вратарь — знаменитый Кристиан Марманд, многократный чемпион, принимавший участие в соревнованиях международного класса. Алексис узнал также тучного мужчину, выделявшегося среди присутствующих высоким ростом, — популярного эстрадного комика Батифоля, заглянувшего ненадолго между утренним и вечерним представлениями в «Бобино», где он блистал в это время. Метрдотель разносил фужеры с шампанским и бокалы с виски — большие хрустальные бокалы с тонкой гранью, который свидетельствовали о роскоши. Мадам Тремюла и Нина исчезли, очевидно, одна из них куда-то увела другую. Тремюла, проходя мимо Алексиса, поднял бокал.
— За ваши успехи, художник!
— Я работаю, — сказал Алексис, — я в вечных поисках… Это все, что я могу пока что сказать о себе.
Тремюла спросил, опять с некоторой робостью:
— Ну, а как вам понравилась моя жена?
— Я был наслышан о ней от Нины. Она прекрасно помнит ее со школьных времен. Поэтому и у меня создалось впечатление, будто я тоже чуть-чуть знаком с нею. Она красивее, чем я себе представлял.
— Но очень, очень хрупка.
Алексис не знал, что на это ответить. Впрочем, бизнесмен уже удалился к своим гостям. Через некоторое время опять появилась Женевьева Тремюла в сопровождении Нины. Теперь она была в черном декольтированном платье, удачно оттенявшем ее молочно-белую кожу. Она обошла приглашенных, заполнивших гостиную. После того, что сказал ее муж, лицо Женевьевы показалось Алексису грустным, несмотря на лукавые, нежные складочки в уголках рта, которые создавали некое подобие улыбки. Локоны, очевидно, тоже должны были придавать ей вид веселой легкомысленной куколки, но глаза, увеличенные гримом, переходили с одного гостя на другого и, казалось, взывали о помощи. Нина заново подкрасилась. Губы ее блестели, глаза сияли, и вся она светилась каким-то новым светом. Алексису показалось, что в ее лице появилась даже какая-то жесткость.
Люди заглядывали в дом ненадолго — выпивали бокал-другой и исчезали. Прошло минут двадцать, и Алексис подумал, что пора и ему попрощаться с хозяевами, но заметил, что Нина увлечена беседой с Кристианом Мармандом, футбольным вратарем. Каждый держал в руке по бокалу шампанского. Приблизившись к ним, Алексис услышал, как всемирно известный чемпион произнес:
— Время для меня — это девяносто минут, в течение которых я гоняюсь за мячом. Мое прошлое не представляет интереса, а вообразить себе будущее я не в силах. Но в течение этих кратких минут на стадионе, пока мое тело и мой ум выдают лучшее, на что они способны, пока крики болельщиков, опьяняя, влекут меня вперед, я как бы делаю шаг в бессмертие.
— Понимаю, — сказала Нина.
Алексис отошел. Видя, что он остался в одиночестве, мадам Тремюла подошла, чтобы занять гостя. Возможно, она просто выполняла свой долг хозяйки дома, как только что это делал ее муж.
— Я рада вас видеть наконец. Вы действительно так обаятельны, как утверждает Нина?
— Неужели она говорила обо мне хорошо?
— Да. Очень.
— А мне просто не верится, что я вижу вас воочию. Я так много наслушался от жены о вас, что вы в моих глазах стали едва ли не героиней легенды.
— Я? Но я ничего особенного собой не представляю.
Она удалилась, оставив позади себя запах духов, пряный запах, какого ему еще никогда не приходилось вдыхать, — должно быть, потому, что духи эти были слишком дороги для женщин его круга. Алексис отметил, что у нее изящная походка. Хотя высокой ее не назовешь, похоже, у нее длинные ноги. Как хотел бы он влюбиться в такую женщину! Потом он подумал, что ему ничего не стоит воспылать страстью — ослепительная внешность и несколько любезных фраз, ничего не значащих в устах светской львицы и искусно оборванных на полуслове в соответствии с правилами светского общества. И еще это самоуничижение, то ли искреннее, то ли притворное: «Я ничего особенного собой не представляю».
Появилась толстая рыжая девочка лет шести или семи. Она пришла поцеловать маму с папой и приветствовать знакомых гостей. Всем остальным она сделала глубокий реверанс, и Алексис с удивлением подумал: вот ведь попал в такой дом, где девочки приучены делать реверанс. Жаль только, что она такая толстушка!
Батифоль подошел к Женевьеве Тремюла, обнял ее за талию и слегка приподнял.
— Как он глуп! — смеясь, сказала она.
Батифоль фальцетом повторил за ней:
— Как он глуп! Как он глуп!
Этими восклицаниями комик обычно пересыпал свои монологи, чем в основном и был знаменит. Стоило заговорить о Батифоле, как кто-нибудь тут же подхватывал: «Как он глуп! Как он глуп!»
Но девочка, сжав кулачки, наступала на Батифоля:
— Отпусти ее! Сейчас же отпусти!
Батифоль сделал вид, будто намеревается унести свою добычу, и толстушка преследовала его, пока он не поставил ее маму на пол.
— Кати очень ревнива, — объяснила гостям Женевьева.
После этот инцидента толстая девочка исчезла так же неожиданно, как и появилась. Худая брюнетка с короткими прямыми волосами, которую Алексис раньше не заметил, обрушилась на комика с упреками:
— Ты получаешь удовольствие, поддразнивая Кати. По-моему, это отвратительно. Сколько бы я ни возмущалась, это сильнее тебя — ты каждый раз снова принимаешься за свое.
— Оставь его, Фаншон, — сказала Женевьева Тремюла. — Он не столько зол, сколько глуп.
И все опять зашумели:
— Как он глуп! Как он глуп!
Почти все гости разошлись, и Алексис снова надумал откланяться, но теперь в гостиной оставалась очень небольшая компания — супруги Тремюла, Батифоль, его собственная жена и Кристиан Марманд, который взял Нину за руку. Они хором запели старинный вальс Фрагсона — должно быть, одну из своих излюбленных песенок:
«Ах, сударыня, я в восхищенье! Как в раю я блаженствую тут». «Сударь, — шепчет она без смущенья, — Это гнездышко — скромный приют». Я в ответ ей: «Сударыня, право, Таково уж любви волшебство, Что влюбленным, поверьте, по нраву Это гнездышко больше всего».Алексис наблюдал, как мадам Тремюла вместе со всеми распевает двусмысленные куплеты. Возможно, она немного выпила. Она пела, покачивая в такт головой. Как могла эта принцесса произносить такие пошлые слова:
«Ах, сударыня, я в восхищенье! Подле вас умереть был бы рад!» «Вижу, — шепчет она без смущенья, — Вам по вкусу мой маленький сад»[14].Разлучив Нину с Мармандом, Батифоль закружился с нею в вальсе. Она, казалось, была в упоении. Допев песенку, все весело зааплодировали. Фаншон, жена Батифоля, объявила, что ему пора уходить.
— Смотри, опоздаешь к началу представления, — добавила Женевьева Тремюла.
— Ничего страшного, без меня не начнут. Налей-ка мне последнюю рюмочку.
— А ты, — обратилась Фаншон к Кристиану Марманду, — вспомни-ка о своих детках, которые плачут дома.
— Дорогие мои белокурые головки! — ответил футболист. — Думаешь, и это тоже смешно? Не отравляй мне вечер. Ведь сегодня мы одержали победу.
Когда Батифоль удалился, Тремюла сказал Алексису:
— Занятный тип. Батифоль тоньше, чем кажется, если судить по эстрадному номеру, с которым он выступает. Его настоящее имя Леонар де Сен-Маме. Он маркиз. В прежние времена у него был бы свой замок и псовая охота. Батифоль любит выпить, но человек не злой, и готов на все, лишь бы развлечь Женевьеву.
Было непонятно, радует ли Тремюла это знакомство с аристократом или он находит удовлетворение в том, что достиг определенных высот, в то время как представитель бывшего правящего класса низведен до положения шута?
— А его жена?
— Фаншон — актриса. Закончила консерваторию, но после этого так и не совершила в искусстве ничего сколько-нибудь значительного. Две-три маленькие роли в театре — вот и все. С тех пор как она стала жить с Батифолем, она уже не рвется на сцену. Целиком поглощена им, а это не всегда легко. Парень он славный, но в любую минуту может выкинуть какой-нибудь номер.
— Трогательно видеть, как ваша дочь отважно бросается на этого великана.
— Очень боюсь, что Кати меня не любит. И поэтому чрезмерно любит свою маму.
— Нам тоже пора. Спасибо за чудесный день.
— Надеюсь, еще увидимся.
Алексис спросил себя, что это — простая формула вежливости или искреннее пожелание. А Шарль Тремюла добавил:
— Люди, с которыми мне приходится общаться, не очень-то интересны, и моя жена страдает от того, что у нее мало настоящих друзей.
Женевьева Тремюла проводила Алексиса и Нину. Женщины расцеловались. Нина начала спускаться по лестнице, Алексис, встав навытяжку, церемонно протянул на площадке руку хозяйке дома. Черные глаза молодой женщины блестели в полумраке. Она потянулась к нему и уже на пороге полуоткрытой двери, прежде чем повернуться к художнику спиной, дважды коснулась его щеки губами, не проронив при этом ни слова.
— Давай возьмем такси, — взмолилась Нина, когда они очутились на улице. — После «кадиллака» очень тяжко тащиться в метро.
Она была возбуждена и чуточку пьяна.
— Видал! Меня пригласил танцевать Батифоль — ведь он знаменитая звезда мюзик-холла! И этот футболист! Он показался мне очень интеллигентным. Интересуется всем — литературой, джазом. Мне ужасно нравятся мужчины подобного типа. Такой способен увлечь кого угодно… Впрочем, на обращай внимания на то, что я болтаю, — я выпила чересчур много шампанского.
Но она продолжала опьяняться словами и никак не могла умолкнуть. Дома Нина сразу же улеглась в постель и прижалась к нему.
— Ну как тебе понравились мои друзья? — спросила она наутро.
— В этом я еще не разобрался. Не люблю толстосумов. Впрочем, бедняков я люблю не больше.
— Ты никого не любишь, и я это прекрасно знаю. За твоей любезностью кроется всего лишь равнодушие. Но ты убедился, что у них собираются только люди незаурядные — актеры, знаменитости.
— А твоя подруга — настоящая красотка. Должно быть, вы составляли занятную компанию в лицее Лафонтен. Хотел бы я ее тогда увидеть.
— Не знаю, как обстоит с этим делом сейчас, но в то время в нашем классе лишь три-четыре девочки уже крутили романы с мальчиками. В том числе и Женевьева. Рядом с ней я была желторотым птенцом.
3
Нина и Алексис стали частыми гостями в доме Тремюла. Коммерсант выдавал себя за великого знатока по части вин и самолично спускался в погреб выбирать подходящие к ужину местные сорта. Случалось, он делал это, когда гости были уже в сборе. И по тому, как он поднимался с бутылками, все понимали, что он черпает в этом удовольствие, которого никому не согласился бы уступить. Алексис в этих делах был полнейшим профаном. Он даже не решался похвалить Тремюла, боясь, что скажет что-нибудь не то. Обе супружеские пары стали бывать вместе в театре, кино, а иной раз и в ночных ресторанах на Елисейских полях. Беседуя с Тремюла, Алексис открывал для себя деловой мир, о котором до этого он имел лишь смутное и, возможно, совсем неверное представление.
— А между тем здесь все проще простого. Я руководствуюсь весьма распространенным суждением, что между американской цивилизацией и нашей существует разрыв в десять лет. Так что достаточно перенести сюда то, что уже вошло в обиход там и пока неизвестно у нас, нужно только заручиться помощью хороших адвокатов, чтобы у тебя не украли твою идею… или чтобы никто не смог обвинить тебя в краже чужих.
— Именно таким образом вы и ввели у нас стиральные автоматы?
— Они просуществуют недолго. Пройдет еще несколько лет, и каждая семья приобретет стиральную машину. Нужно быть готовым ликвидировать все в тот момент, когда я выжму из этого все, что возможно.
— Что вы подразумеваете под словом «ликвидировать»?
— Перепродать их людям, которые еще не уразумели, что эра стиральных автоматов кончилась.
Временами контраст между его спокойным, чуть заикающимся голосом и тем, что он говорил, вызывал у Алексиса мурашки.
— Одним словом, — понимающе кивнул Алексис, — в основе вашего успеха — разрыв во времени между Америкой и Европой.
Тремюла вежливо улыбнулся.
— Единственная неприятность заключается в том, что, когда я играю со временем, мне невольно приходится задумываться над тем, что и я не вечен, да, к великому сожалению. Мое дрянное сердце похоже на неисправные часы, которые работают с перебоями. В один прекрасный день оно остановится, причем остановится навсегда.
Смущенный этим признанием, Алексис заметил:
— В тот раз, когда мы были у вас в гостях, Марманд тоже излагал свою теорию времени.
— В самом деле?
Женевьева, казалось, спешила получше узнать художника и хотела, чтобы и он узнал ее. Ее признания оборачивались тревожным допросом, словно она пыталась разобраться в себе самой. Похоже, она постоянно требовала, чтобы ей подсказывали, ради чего следует жить.
— Моя мама была артисткой, музыкантшей. Если б она не принадлежала к богатой семье, мама наверняка сделала бы блестящую карьеру и стала бы виртуозной пианисткой. Она, видите ли, родилась в Штатах. В Бостоне. Общалась только с поэтами, художниками, музыкантами. И вот, чтобы она не почувствовала себя оторванной от артистической среды, папа решил поселиться в Париже. По отцовской линии мы родом из Туке, с севера Франции. В их семье были торговцы мукой и пивовары. У меня и поныне есть там собственный дом. А в Лилле живут мои старший брат и сестра. Если бы не мама, и я бы навсегда застряла там. Не стала бы парижанкой, не училась бы в лицее с Ниной, не познакомилась бы с вами…
И Женевьева покачала головой, тряхнув своими короткими вьющимися волосами.
— В сущности, богатство помешало маме стать настоящей артисткой. Ну и, наверное, то, что она умерла слишком молодой. Когда она заболела, ее по совету врачей отправили в санаторий. Она уехала в Швейцарию, в Саас Фее. А полгода спустя умерла. Я была тогда совсем еще маленькой и помню ее плохо.
— А отец?
— Женился во второй раз. Он умер два года назад.
Алексис подумал, что Женевьева, вероятно, любит воображать себя другом художников, как и ее мать, и, возможно, тоже считает себя больной. Молодая женщина расспрашивала его не о том, что он рисует, а о том, что побуждает его писать картины. Что значит для него художественное творчество? Быть может, он не в силах перенести мысль о смерти и творчество помогает ему жить? Алексис поначалу отвечал ей как мог, включившись в игру, но потом его загнало в тупик однообразие ее вопросов, и почему-то захотелось ободрить Женевьеву. И приблизиться к ней.
— Теперь, когда я лучше познакомилась с ними, — сказала Нина, — я поняла, что Шарль Тремюла — замечательный человек, несмотря на свой неприступный вид. А вот Женевьева страшная зануда, которая только и умеет, что делать его жизнь невыносимой.
— Так или иначе, но он очень любит жену. И дочь тоже. Жаль только, что она такая толстушка! Всякий раз, когда он начинает говорить о своей жене или смотрит на нее, он вдруг становится таким незащищенным, и это очень трогательно.
— Да, — мечтательно проговорила Нина. — Надо быть женщиной, чтобы почувствовать такие вещи, но мне сразу стало ясно, что на этого мужчину нельзя возлагать никаких надежд. Женевьева его просто-напросто околдовала. Он никогда ее не оставит. Нечего даже тратить силы. Непонятно, что только он в ней нашел.
— У меня такое чувство, что ты разлюбила свою подругу.
— Однако не все могут сказать о себе то же самое. Думаешь, я не вижу, как ты увиваешься вокруг нее?
— Я веду себя как благовоспитанный человек — вот и все. Иначе ты первая стала бы меня корить. Или ты хотела бы, чтобы я притворялся, будто совершенно к ней равнодушен?
— Будь уверен, я хорошо ее знаю. Понимаешь, она просто не может видеть мужчину и не попытаться его увлечь. И при всем том вечно изображает принцессу-недотрогу. В их доме собираются не гости, а придворные. И все должны притворяться, будто поклоняются ей.
— Напротив. Я нахожу, что временами вид у нее какой-то приниженный.
— Приниженный! Скажешь тоже!
— Она заявила: «Я ничего особенного собой не представляю!»
— И ты поверил ей?
— По-видимому, ей нелегко живется.
— Мне бы ее миллионы, уж я-то не стала бы жаловаться.
Семейство Тремюла проводило часть июля и август в своем поместье, в Туке, но коммерсанту приходилось частенько наведываться в Париж.
Алексис и Нина поехали отдыхать на юг. Нине очень хотелось попутешествовать, но Алексис предпочел обосноваться на одном месте и рисовать.
В сентябре Тремюла перебрались в свой особняк на авеню Анри-Мартен, который был наконец отделан. Они наняли побольше прислуги. У них теперь был даже привратник — краснолицый великан, русский по происхождению, некий Каплунцов. Увидев его в первый раз, Алексис так оробел, что невольно отпрянул, словно намереваясь ретироваться. И только презрительный взгляд Нины заставил его сделать шаг вперед. Но сколько бы раз Алексис не бывал на авеню Анри-Мартен, он всегда испытывал страх, когда, войдя в ворота, шел по аллее сада, — и все это из-за Каплунцова.
Вскоре после переезда Тремюла пышно отпраздновали новоселье. Гостей пригласили так много, что в доме началась невообразимая сутолока. Никакой возможности ни увидеть кого хочешь, ни поговорить с кем бы то ни было.
— Они очень симпатичные люди, — сказал Алексис. — И я люблю встречаться с ними в тесном кругу. Но большие приемы им явно не удаются.
4
Тремюла опять устроили праздник — на сей раз встречу Нового года. И снова, проходя мимо Каплунцова, Алексис почувствовал, что его охватывает робость, едва ли не страх, — он видел в этом детине-портье бывшего офицера деникинского воинства или, еще того хуже, армии барона Унгерна, отъявленного черносотенца. Словно в подтверждение теории Алексиса по поводу вечеров, устраиваемых их новыми друзьями, этот праздник не удался совершенно. Батифоль, который в ту ночь выступал со своим эстрадным номером в нескольких кабаре, отсутствовал, и это не могло не сказаться на общем настроении. Его жена, Фаншон, пришла одна. С этим темным тоном на лице, в юбке с высоким разрезом она выглядела очень эффектно и была красива той возбуждающей красотой, которая свойственна худощавым женщинам. Увидев ее рядом с Женевьевой, Алексис был поражен контрастом: аристократка и женщина из народа. Движения, жесты, модуляции голоса, казалось, были отработаны в течение многих лет, и все-таки этот цветок оставался диким, несмотря на все веяния моды.
Алексис спросил Шарля Тремюла:
— Как вы познакомились с Батифолем?
— В полку. Такое иногда случается. Он пользовался большой популярностью. Собрал группу артистов-любителей и пригласил меня. Я тогда умел показывать несколько фокусов. Теперь я этого уже не смог бы сделать.
Алексис сразу представил себе Тремюла, извлекающего голубей и длинные полотнища из цилиндра, яйца — из рукавов или монеты — бесчисленное множество монет — из носа или ушей какого-нибудь оцепеневшего от изумления солдата.
— Бизнес тоже до некоторой степени сродни фокусничеству.
— Ничего нельзя предугадать… В те времена я думал, что Батифоля ждет блестящая карьера. Что он станет вторым Морисом Шевалье. Но оказалось, что я ошибался. Он сделал себе имя, однако особых высот не достиг. То, чем он стал сегодня, — его потолок, и выше этого он не поднимется. Он слишком порядочен и не умеет за себя постоять. И потом, он теряет голову из-за любой юбки. Поверьте мне, из-за любой.
Тремюла посмотрел в другой конец гостиной, где Фаншон и Женевьева устроились на диване и, заставив тарелками низенький столик, решили перекусить.
— Помню как сейчас: был летний день. Кажется, наш полк находился на маневрах, только не могу вспомнить, где именно. Мы расположились на площади, в тени деревьев, по-моему платанов. Собралась толпа. Батифоль пел. Он уже тогда был полноват. Он один изображал целую бретонскую свадьбу: игроков на волынке, распорядителя, стариков и старух… Как же он умел смешить публику! Боюсь, что с той поры выше этого уровня он не поднялся.
— А как поживает ваша дочурка?
— Хорошо. Сейчас она, естественно, уже отправилась спать. Она и ее мать считают, что жизнь — это борьба. Борьба со мной…
И, пожав плечами, он удалился к гостям. Алексис остался один. Но тут же увидел, что Женевьева и Фаншон знаками подзывают его к себе. Он приблизился.
— Посидите немножечко с нами, — попросила Женевьева.
Он придвинул свое кресло к дивану, на котором сидели молодые женщины. Они предложили ему выпить и закусить.
— Я чувствую себя несчастным, если мне приходится стоять с тарелкой в руке. А вот вы обе умеете расположиться с удобствами.
Фаншон, похоже, выпила шампанского и развеселилась.
— До чего же он мне нравится, твой новый друг, — сказала она Женевьеве. — До чего же нравится!
— Осторожно, он Нинин. И чуточку мой.
Женевьева встала и взяла Алексиса за руку.
— Вы никогда не приглашали меня танцевать.
Когда они танцевали одни посреди гостиной, она сказала:
— У меня создалось впечатление, что вы подружились с Шарлем. А ведь вы с ним такие разные.
— Вы тоже на него очень не похожи.
— А кто вам сказал, что у нас полное взаимопонимание? Чем дольше мы живем вместе, тем более чужим становится для меня этот человек. К счастью, у меня есть дочь. У нас с нею своя, обособленная жизнь. Она очень внимательна к своей маме.
Поскольку Алексис продолжал молчать, размышляя о взаимоотношениях этой хорошенькой женщины с ее дочерью-толстушкой, Женевьева снова заговорила:
— Вы вдруг словно куда-то уходите, совершенно исчезаете. Я давно уже заметила у вас эту привычку. Так и хочется сказать вам: «Не исчезайте».
— Извините.
Алексис снова умолк. Он смотрел на ее тонкие губы с двумя насмешливыми складочками, возможно, она унаследовала их через маму-американку от какого-нибудь ирландского предка. Он спрашивал себя: заинтересовал ли его необычный рисунок ее губ как художника или просто в Женевьеве ему нравится все: и этот рот, и эти большие глаза. И тут же посмеялся над собой: надо же задаваться такими глупыми вопросами! А тем временем партнерша не сводила с него иронического взгляда. Заметив это, Алексис снова извинился.
— Опять то же самое. Когда я был маленьким, меня часто спрашивали: «Ты что, язык проглотил?»
Пластинка кончилась, и Женевьева объявила:
— А теперь очередь Фаншон.
— Вы думаете, она правильно поймет мое молчание? И потом, я плохой танцор.
— Напротив.
Танцуя с Фаншон, он не удержался и сказал:
— Вы не находите, что у Женевьевы временами такой невыносимо несчастный вид, точно она жертва? Похоже, ей нелегко живется.
— Я прекрасно понимаю, что вы хотите сказать. Как раз этим-то она и опасна. Она чуть было не свела с ума Батифоля, этого бедного дурачка. И самое ужасное, что мне же пришлось его утешать, буквально собирать по кусочкам.
Когда Фаншон делала шаг вперед, в разрезе юбки открывалось бедро. Не менее соблазнительным был ее рот — покрытые густо-красной помадой полные чувственные губы. В ней тоже была какая-то затаенная грусть и, пожалуй, даже горечь.
— Ни вы, ни ваша подруга, по-моему, не испытываете слишком большого уважения к своим мужьям.
— Я никогда не брошу Батифоля. Это мой ребенок.
Вскоре обеих женщин увели другие гости, и Алексис снова остался один. Как нередко случалось во время званых вечеров, он почувствовал, что на него внезапно нахлынула тоска. Он стоял в сторонке с бокалом в руке, в противоположном конце комнаты; в неярко освещенном уголке несколько человек полулежали на большом диване и казались издали одним клубком. Нина тоже была там, рядом с ней расположился футболист Кристиан Марманд.
— Что-то не похоже, чтобы вы очень веселились, старина, — сказал Тремюла, появившийся сзади.
— Извините, я раздумывал о своей работе.
— Картина?
— Нет. Роспись на декоративных тарелках. Надо же на что-то жить… Заказ, который мне давно уже пора сдавать. С вашего позволения, я хотел бы вернуться домой и закончить эту работу.
— Работать в первые часы нового года?!
— Лучшего просто не придумаешь, вы не находите?
— Я нахожу, что вы ведете себя неправильно. Всегда следует отдаваться любому занятию до конца. Работать так работать. А развлекаться, так развлекаться.
К ним подошла Женевьева.
— Опять вы беседуете вдвоем!
— Я как раз объяснял Шарлю, что хотел бы уйти. Мне нужно закончить срочную работу.
— Слышите эту мелодию? Она из фильма «Лаура»… Мне бы хотелось, чтобы она всегда ассоциировалась у вас с этими часами, ведь это наше время…
— Да, наше время… Это наводит меня на мысль о Кати. Сейчас она воспринимает жизнь как бы через нас. Но пройдет еще лет десять, и она заживет своей собственной жизнью. И так же как сегодня нам кажется, что мы участники пьесы, насыщенной увлекательными событиями, так в свое время она и ее сверстники станут опьяняться мыслью, будто они тоже играют первую роль в своей пьесе. И то, что с такой силой переживали вы, в лучшем случае послужит ей как декорация, как потускневший дальний план, к которому она повернется спиной, чтобы шагать в свете огней рампы вперед! Извините меня. Я немного выпил и сказал все это спьяну. Мне и в самом деле пора домой.
— А Нина?
Алексис сделал неопределенный жест. Женевьева отошла, и, пока она удалялась, художник перехватил взгляд, каким Тремюла проводил ее, — восторженный, беспокойный и ставший вдруг необычайно нежным. Решив не прощаться, Алексис пошел за пальто.
Отыскивая вещи, он почувствовал, что Женевьева снова стоит у него за спиной.
— Вы решили ускользнуть от меня? — шутливо спросила она.
Однако шутка прозвучала невесело. Женевьева проводила его до двери и почти шепотом добавила:
— Я не говорила вам, что мой муж серьезно болен? У него вконец расшатано сердце. Но он совершенно не умеет отдыхать. Я не помню, чтобы он спал более пяти часов в сутки.
— Если он мало спит, это еще не значит, что он болен. Я слышал, будто все деловые люди — те, кто занят крупным бизнесом, — не нуждаются в длительном сне. Как им такое удается — это их секрет. Я же, наоборот, все время сплю. Я сплю всю ночь, а потом, случается, вздремну еще и после обеда. Во время путешествий стоит мне только сесть в поезд или в машину, и я тут же засыпаю. Так что не приходится ждать от меня ничего путного.
— Значит, как я понимаю, вам просто-напросто хочется спать, бедный мой Алексис? В самом деле, уже три часа ночи. И все-таки уверяю вас, у моего мужа очень больное сердце.
Алексис хотел поцеловать Женевьеву на прощанье в щеку, как обычно, но она приблизила губы к его губам. Он настолько откровенно растерялся, что она сделала ему замечание:
— Какой же вы, однако, недотрога! Не забывайте, что я наполовину американка. У нас так принято прощаться.
Казалось, она почти сердится.
Выскользнув за дверь, Алексис с удовольствием отметил, что не встретился с портье: наверное, тот уже лег спать. Несмотря на новогоднюю ночь, на улице не было ни души. По-видимому, прошел дождь, так как тротуары и мостовые были мокрые, но холода не чувствовалось. Время от времени стремительно проносилась машина, и колеса, попадая в лужи, издавали звук, похожий на пощечину. Алексис шагал по широкому мрачному проспекту, ведущему от площади Этуаль в Семнадцатый округ. На это путешествие у него ушло больше часа. Дома он налил себе чашку растворимого кофе и в самом деле принялся за роспись тарелок. Иногда он с удовольствием предавался этому занятию — своего рода горькой усладе. Даже не хотелось отрываться. Но он обуздывал себя: «Хватит, довольно» — и делал передышку. За полчаса работа заметно продвинулась. Пожалуй, это было единственной отрадой в ту грустную ночь. Да еще поцелуй Женевьевы, даже если ее поцелуй был всего лишь знаком американской вежливости. Она сказала: «Не исчезайте». И правда, в этот вечер он не мог избавиться от своего обычного отсутствующего вида — даже соседство с такой красивой женщиной ничего не могло изменить, — а в конце концов и в самом деле исчез.
Алексиса стало клонить ко сну, и он улегся в постель. Нина вернулась в семь утра.
5
Алексис часто говорил своим новым друзьям, что ему неловко постоянно бывать у них в гостях, не имея возможности принять их у себя. А между тем ему так хотелось бы показать им свои картины. Однако их двухкомнатная квартирка и в самом деле была слишком маленькой, захламленной и казалась нежилой. Кончилось тем, что Тремюла однажды сказал:
— У меня есть связи в Управлении недвижимым имуществом. Я займусь вами.
Где только у него не было связей!
Он нашел им нечто такое, на что они не могли и надеяться. Большая мастерская, две спальни и ванная в верхнем этаже старого дома на улице Жан-Ферранди, неподалеку от Шерш-Миди. Требовался лишь небольшой ремонт. Единственное неудобство заключалось в том, что договор о найме с ними заключать не стали. Фирма, выкупившая эту квартиру, постепенно приобретала весь дом с намерением снести его и построить здесь современное здание. Но до этого было еще очень далеко.
И вот художник впервые получил настоящую мастерскую. Он мог разложить свои принадлежности, развесить картины. Когда он раскупоривал бутылку скипидара, чтобы снять лак со старого полотна, резкий запах словно пробудил воспоминания детства. В Савойе мальчишкой он ходил ловить раков в ручье и поливал скипидаром мясо, привязанное к грузилам. Это было запрещено, но так поступали все. Говорили, что скипидар помогает запаху тухлого мяса быстрее распространяться в воде и привлекать раков. Он подумал, что воспоминание о радостных годах детства в новой мастерской — доброе предзнаменование.
Нина и Алексис переехали в апреле. Настал их черед отпраздновать новоселье, которое пало на май. Это был шумный вечер, довольно многолюдный: собрались коллеги художника, коллеги его жены, старые друзья, а также друзья новые, с которыми они познакомились у Тремюла; пришли и Батифоль с Фаншон.
— Как я счастлива, что вы поселились тут, — сказала Фаншон. — На левом берегу, рядом с Монпарнасом. Теперь ты почувствуешь себя настоящим художником. Какое чудо жить в Париже, ощущать себя парижанами!
И она запела, картавя:
Я родилась в предместье Сен-Дени, Парижская девчонка…Пришли еще какие-то люди, с которыми Алексис не был знаком, — очевидно, друзья друзей. Суета и толкотня словно служили наглядным доказательством того, что их новое жилище не так уж и просторно, как казалось поначалу. Танцующие сбились стайкой посередине мастерской. Женевьева, присев на краешек стола, беседовала с какими-то незнакомыми гостями. Черные чулки делали еще тоньше ее длинные скрещенные ноги с точеными лодыжками. Черное платье из джерси, не закрывавшее колен, плотно облегало бедра. Алексис пристально разглядывал ее. Он уловил запах духов Женевьевы, несмотря на то что в комнате было очень накурено. Едва собеседники Женевьевы отошли, Алексис приблизился к ней.
— Все хорошо?
— Все хорошо.
Чем меньше они произносили слов, тем больше это походило на сговор.
— Довольно с меня всех этих людей, — сказал он. — Не хотите пройтись по улице?
— Пожалуй.
Она поставила бокал и последовала за ним. Они не спеша дошли до угла, так, словно просто вышли подышать чистым воздухом. Из-за того что тротуары были очень узкие, им пришлось шагать посередине мостовой.
— Вам не холодно?
Женевьева отрицательно покачала головой. Алексис подумал: наверное, она испытывает такое же, как и он, странное удовольствие от того, что покинула этот праздник, откровенно повернувшись ко всем спиной.
— Я начал изучать этот квартал, — сказал он. — Тут есть поразительные уголки. Сейчас убедитесь в этом сами.
Он повел ее на улицу Шерш-Миди. Приоткрыл какие-то ворота — при свете луны вырисовывался большой деревенский двор с бывшими конюшнями. Алексис взял Женевьеву под руку, чтобы помочь ей идти по булыжнику. Пролом в стене, видневшейся в глубине двора, соединял двор с садом. Они опустились на каменную скамью. Вокруг стояла тишина, которую нарушал лишь далекий приглушенный гул, не стихающий в городе никогда.
— Что-то стало холодно, — сказала Женевьева.
Алексис обнял ее за плечи. Потом поцеловал — на этот раз по-настоящему, а не так, как в новогоднюю ночь. И стал гладить под платьем ее длинные ноги.
— Нет, не надо, — сказала она. — Я и так слишком люблю вас.
В ее больших глазах было смятение, точно в глазах животного, которое не понимает, что с ним происходит. Каждую попытку Алексиса она отвергала, защищаясь этой своей фразой: «Я и так слишком люблю вас».
И все-таки кончилось тем, чем и должно было кончиться.
Когда Алексис встал, намереваясь вернуться домой, Женевьева взмолилась:
— Нет, побудьте со мной еще немножко.
Он снова опустился на скамью рядом с Женевьевой, крепко обнял ее и, скользнув рукой под блузку, нежно задержал ее на груди. Но вскоре его обычное благоразумие взяло верх.
— Нас станут искать.
— Да… — с отчаянием в голосе согласилась она.
Прежде чем покинуть ночной сад, она еще раз пылко поцеловала Алексиса — так, словно ей больше не суждено было его увидеть.
Какие-нибудь несколько шагов, и они снова оказались среди шума, сутолоки, в клубах табачного дыма. Фаншон заметила их возвращение.
— Ну, знаете…
Женевьева поцеловала ее. А еще через несколько минут Нина обрушилась на Алексиса:
— Куда ты подевался? Мог бы заняться своими гостями!
— Мне стало душно, и я решил пройтись по улице.
Его угнетала мысль, что началась серия обманов. Шарль Тремюла с Женевьевой подошли проститься.
— Вы меня извините, но я немного утомился и, похоже, в самом деле должен подумать о своем здоровье. Мы непременно придем к вам как-нибудь еще провести спокойный вечерок. И вы покажете нам свои картины. Правда, дорогая?
Женевьева не ответила. Алексису почему-то представилось, что перед ним Мелизанда, уронившая свое обручальное кольцо в глубокий колодец. Тремюла продолжал:
— Наши жены со школьной скамьи друг с другом на «ты». Почему бы нам не последовать их примеру?
— Можно попробовать, — сказал Алексис. — Иногда это получается сразу, а иногда не выходит.
— Ну что ж, я прощаюсь с тобой. До скорой встречи.
6
Через два дня Женевьева явилась к Алексису с утренним визитом. Погода была пасмурная, и она надела плащ из бежевого габардина, перетянутый в талии поясом. Он подумал: Мишель Морган из «Набережной туманов» или Элина Лабурдет из фильма «Дамы Булонского леса». Поскольку он не спешил заключить ее в объятия, Женевьева принялась расхаживать по мастерской, рассматривая картины — сначала висевшие на стене, потом ту, которая стояла на подрамнике. Алексис Валле переживал период абстракционизма: голубой фон рассекали широкие черные полосы, но они не были прямыми и перекрещивались наподобие решетки старой тюрьмы, а через все полотно шла белая царапина. Она как бы все перечеркивала, отрицая черные полосы, а возможно, просто оттеняла их. И на всех картинах этой серии повторялись голубой фон, черные полосы и белая царапина.
— Вы знали, что сегодня утром я дома один, потому и пришли? — спросил Алексис.
Женевьева не ответила и продолжала рассматривать картины, не вынимая рук из карманов плаща. Обойдя мастерскую, она остановилась перед Алексисом.
— Что происходит? — спросила она. — Вас останавливает дружба с Тремюла? Как можно быть таким старомодным!
— Вот именно, дружба. Мы оказались в немыслимой ситуации.
Он спешил воспользоваться предлогом, хотя это был и не совсем предлог. Перед ним стояла самая красивая, самая обаятельная и самая трогательная женщина из всех, что его когда-либо привлекали, а все его мысли были направлены на то, как бы отступить.
Женевьева закурила сигарету и снова принялась ходить по комнате.
— А я, — сказала она, — не питаю к Нине никаких дружеских чувств. Позвольте спросить, почему вы женились на ней? Вы любили ее?
— Не знаю.
— Но ведь в конце концов речь идет о вас!
— Я в счет не иду, я ничего не значу.
— Как вы можете так говорить?
— Такое уж представление сложилось у меня о жизни и о себе. Мы все значим ничтожно мало. Когда я увидел вас впервые, вы сами сказали мне: «Я ничего особенного собой не представляю». Это почти то же самое.
Алексис предложил Женевьеве кофе. Она пошла за ним на кухню.
— Ваши слова причиняют мне боль, — сказала она. — Раз вы так о себе говорите, значит, вы не испытываете ко мне никакой любви.
Они выпили кофе стоя.
— Я ухожу, — сказала Женевьева.
Провожая ее к двери, он увидел, что она готова разрыдаться. Он взял ее лицо в ладони и стал целовать. Женевьева сначала отвечала на его поцелуи, но потом высвободилась.
— Я веду себя непозволительно, — сказала она. — Я пришла вас соблазнять, при том, что сегодня мне нельзя этого делать.
Несколько дней спустя Тремюла отвел Алексиса в сторону.
— Не могли бы вы уделить мне минутку?
Он, видимо, забыл, что они перешли на «ты».
— Пройдемте в библиотеку.
Значит, у них в доме была даже библиотека! Читают ли они книги, это уже другой вопрос.
После того как они заперлись вдвоем, Тремюла протянул Алексису портсигар.
— Вы знаете о Женевьеве далеко не все. У меня такое впечатление, что она начинает увлекаться вами, и я хотел бы вас предостеречь. У нее периоды экзальтации постоянно сменяются депрессией. Уже не первый раз ей кажется, что она нашла выход для своей неуспокоенности. Она воображала себя влюбленной то в Марманда, то в Батифоля и, наконец, еще в одного человека — его вы не знаете. И каждый раз все кончалось тем, что ее приходилось помещать в клинику.
Алексис не нашелся что ответить и пробормотал:
— Понимаю… понимаю…
— Это не женщина, а чудо, — продолжал Тремюла. — Она и Кати для меня все, даже если обе они думают, что я им ненавистен.
— Если вы считаете, что есть какая-то опасность для Женевьевы, не лучше ли нам перестать встречаться?
— Нет. Это значило бы поступить слишком прямолинейно. К тому же я сам очень люблю бывать в вашем обществе. Я думаю: может быть, все еще и обойдется. К Марманду, который когда-то тревожил ее сон, у нее в конце концов пропал всякий интерес, и Батифоль стал для нее просто товарищем, который ее смешит.
— А третий?
— С ним мы больше не встречаемся.
— Зачем же вы по-прежнему приглашаете к себе Марманда, если он перестал ее интересовать?
— Он необходим моей футбольной команде, которая полностью держится на нем, а значит, нужен мне. Он ведь король футбола. Ни один вратарь никогда еще так не парировал удара, как он. Болельщики от него просто без ума.
И Тремюла закончил:
— Сожалею, что навязал вам этот неприятный разговор. Но ведь вы сами поставили меня в затруднительное положение.
7
Несколько дней Алексис ничего не слыхал о Женевьеве. Объяснение он получил от Фаншон:
— Женевьеву отправили отдохнуть в Туке — в поместье ее родителей.
— Она меня даже не предупредила.
— Похоже, ее отправили туда очень спешно.
Фаншон рассказала художнику, что Женевьева живет там под замком, почти как в тюрьме. Она находится, так сказать, под стражей у главы семейства — своего брата Анри, который старше ее на тринадцать лет и очень серьезно относится к своей роли старшего в семье. Время от времени Женевьеву, когда у нее сдают нервы, ненадолго отсылают туда. При всем том, что эти люди богаты, цену деньгам они знают — клиника обошлась бы куда дороже. К тому же так легче избежать нежелательной огласки.
— Женевьева казалась мне вполне здоровой, — возразил Алексис.
— Она была явно близка к тому, чтобы в тебя влюбиться.
— А это считается болезнью?
— Да. Такая мера, несомненно, спасительна и для тебя. Ведь каждое увлечение Женевьевы плохо кончается.
С этого момента для Алексиса, который полагал, что он, с его холодным картезианским умом, совершенно лишен полета воображения, образ Женевьевы приобрел некие мистические черты. Она стала для него принцессой Грезой, которую можно любить только на расстоянии. Женщиной, которую втайне почитаешь превыше всех других. И если все это затянется надолго, в конце концов начнешь страшиться дня, когда придется сличить этот созданный тобою самим образ с реальностью.
— Ты что, уснул?
— Мне уже не раз задавали такой вопрос.
— Ты просто всего не знаешь. Еще немного, и ее роман с Мармандом обернулся бы настоящей драмой. У него ведь жена и дети. Прежде чем стать знаменитым футболистом, он, кажется, работал на заводе, и Мари-Жо, его жена, тоже. Марманд очень неглуп и, общаясь с Тремюла и другими, быстро пообтесался. Но как это бывает сплошь и рядом, жена его нисколько не изменилась и продолжала жить в своем домике, в Бобиньи, подтирая зад детишкам. У них двое детей, нет, трое — не так давно она снесла ему еще одно яичко — девочку. Эта Мари-Жо ни разу не переступала порог дома Тремюла, нет, вру, один раз это все же случилось. Заметив неладное, она однажды заявилась на авеню Петра I Сербского с бутылкой купороса и плеснула купоросом в Женевьеву. Но немного промахнулась. Твоя возлюбленная получила лишь несколько брызг в лицо. Маленький шрам на ее виске — след этой истории.
— Какой шрам?
— А я полагала, что ты рассмотрел ее во всех подробностях.
Казалось, Фаншон потешается над ним.
— Твоя жена наверняка не столь примитивна, но думаю, даже если до купороса дело и не дойдет, то ревновать она все же будет.
— Ты не любишь Нину?
— Не люблю. А тебя… тебя я не понимаю. Похоже, ты просто подчиняешься ей, сам не зная почему.
Алексис промолчал. Фаншон погладила его по щеке.
— Не сердись.
Алексис снова удивился, и особенно тому, как Тремюла может выносить Кристиана Марманда. Правда, бизнесмен утверждал, что этот футболист просто незаменим в команде. Но как Тремюла при его аристократической манере держаться чуточку отчужденно, при его благовоспитанности — а этого у него не отнимешь — может интересоваться футболом, таким вульгарным видом спорта? Чего стоят одни крикуны-болельщики! Право же, это совершенно ему не подходит.
— Я иногда задаюсь вопросом, — сказала Фаншон, — а не использует ли он Марманда в таких делах, о которых не полагается говорить вслух? Если стремишься к богатству, мало иметь хорошую голову, иной раз бывает, нужна чья-то помощь, чтобы действовать силой.
— Ты преувеличиваешь. Он, несомненно, крут в делах, но очень деликатен во всем остальном. Что же касается личной жизни, то тут он кажется мне даже робким. Я могу упрекнуть его лишь в том, что он скрыл от меня решение отправить Женевьеву в Туке. Но не будем требовать от него слишком много. Он очень озабочен всем, что касается жены и дочери, просто дрожит за них. Как грустно, что они его так мало любят.
— Какой ты наивный! Тремюла — робкий! Да этот человек начисто лишен жалости и великодушия. Расскажу тебе один эпизод. Как-то Батиньолю посулили ежедневную передачу на радио. Нужен был лишь соответствующий телефонный звонок, и Тремюла мог оказать ему эту услугу. Я решила его попросить. Он согласился, но за это мне пришлось с ним переспать.
— Я — тебе, ты — мне?
— Да, он такой. Это была своего рода месть Женевьеве и болвану Батифолю за их шашни.
— А Каплунцов, этот громадина портье, — тоже его подручный? У него вид настоящего гангстера.
— Не знаю. Все возможно. Он сказал Батифолю, якобы Каплунцов был когда-то актером, сыграл эпизодическую роль в фильме «Тарас Бульба» с Гарри Бауром.
Алексис растерялся.
— Не понимаю, — сказал он. — Послушать вас — тебя и Тремюла, — Женевьева влюбляется в каждого встречного мужчину. Тогда как логичнее было бы обратное. Достаточно на нее один раз посмотреть, и сразу понимаешь: она неповторимая женщина. Все мужчины должны были бы с первого взгляда влюбляться в нее — обожать ее тень, следы ее ног… и не осмеливаться даже приблизиться к ней.
Фаншон его высмеяла:
— Однако же ты осмелился, и далеко не без успеха.
Алексис получил из Туке письмо, на которое не решился ответить, предполагая, что переписка изгнанницы проходит цензуру.
«Говорят, я безумная. Быть может, так оно и есть. Во всяком случае, я схожу с ума с тех пор, как ты отрекся от меня. Все мысли мои о тебе одном».
8
Женевьева вернулась в Париж осенью. Алексис провел отпуск на Корсике, неподалеку от Бонифаччо. Они с Ниной собирались объехать весь остров, но было слишком жарко, дороги оказались слишком похожими на серпантин, и ими овладела лень. Как и каждое лето, Алексис почти все время рисовал. Вскоре по возвращении Женевьева позвонила ему по телефону, но разговор у них совершенно не клеился. Алексиса сковывала робость. В конце концов он спросил:
— Хотите повидаться?
— Да, но при условии, что вы тоже этого хотите. Есть у вас такое желание?
— Да.
После длинных словопрений по поводу того, где они встретятся, Женевьева попросила Алексиса зайти к ней в первом часу. Дверь открыл Каплунцов. Далее Алексиса повела за собой тщедушная горничная с вечно заплаканным лицом — жена портье. Она встретила гостя любезно, но так, словно в этом доме скорбят по покойнику. И даже пробормотала:
— Бедная мадам…
Оставшись наедине, Алексис и Женевьева снова не знали, что сказать, так же как и при разговоре по телефону. Женевьева решила не вызывать горничную и пошла приготовить кофе сама. Алексис присел на краешек кресла, словно гость, который чувствует себя в доме неловко. Так вот она, эта очаровательная женщина, думал он, самая красивая, самая трогательная из всех, кого он когда-либо встречал. Однако он тут же отключился от реальной действительности, словно Женевьевы не было здесь, рядом с ним, и он один, вдали от нее, мечтает о ней, но никак не может воссоздать в памяти черты ее лица, эту доводящую до отчаяния красоту. Он воображал разные ситуации, например, будто он гостит в ее семье, на севере, в их роскошном родовом поместье в Туке. Как бы ему хотелось, чтобы эти люди не считали его чужаком и радовались тому, что Женевьева встретила его, чтобы они наконец успокоились, видя, как она счастлива с ним.
Женевьева первая нарушила молчание:
— Мне нужно немного восстановить силы.
Возвращаясь к реальной действительности, Алексис попытался определить, выразить словами новую ситуацию. Но слова предавали его — едва произнесенные, они закрепляли их новые отношения раз и навсегда, а он был вовсе не уверен, что хочет этого. Женевьева, похоже, лучше вышла из положения.
— Не знаю, есть ли у вас основание вести себя благоразумно, но коль скоро вы этого хотите, я вынуждена смириться. И все же я вас люблю. Возможно, настанет день, когда вы будете думать иначе или обстоятельства изменятся… А пока поберегите себя. Быть может, я и безумная, но вы — вы не умеете быть счастливым.
Пока она говорила, он снова почувствовал и узнал сладкий запах ее духов. Женевьева поставила пластинку. Долгоиграющие пластинки только начали появляться, и в том, чтобы слушать вот так музыку, была еще и прелесть новизны.
— Это моя тема, — сказала Женевьева. — «Фоли́я»[15] Корелли.
— В ней вовсе нет того смысла, какой вы ей придаете, — произнес Алексис менторским тоном. Он предпочитал разыгрывать ментора, лишь бы не подключаться к ее игре, видя, как она упивается, выдавая себя за безумную. — Здесь нет ни малейшего намека на безумие. Фолия была лишь танцем — вариантом чаконы, который называли, правда, также «безумие Испании». В этом жанре сочиняли все композиторы. Даже сам великий Иоганн Себастьян Бах создал свою фолию.
— Вы в этом уверены? Послушайте скрипку. Она воет точно так же, как готова выть я, когда чувствую, что моя мысль прокручивается вхолостую. Умоляю вас, не отнимайте у меня этой мелодии. Вы же видите, что она моя, моя!
Когда пластинка кончилась, Алексис объявил, что ему пора уходить.
— Я могла бы что-нибудь соврать мужу, — вдруг сказала Женевьева, словно она нашла выход из создавшегося положения.
— Поздно. Тремюла уже обо всем догадался.
Она проводила Алексиса, и ее легкая, чуть томная походка показалась ему более чем когда-либо поступью принцессы. Женевьева похудела. На ней было платье табачного цвета с глубоким вырезом. Она заметила, что он смотрит на ее грудь, и тихонько рассмеялась. В этом смехе было что-то порочное.
— А помните, — сказал он, — как я пришел сюда в первый раз, после футбольного матча? Вы меня еще плохо знали, но, когда я стал прощаться, вы поцеловали меня так, словно это был порыв, потребность уйти от одиночества. Этот внезапный порыв удивил меня, а может быть, и вас тоже. Все было так трогательно.
Она решила больше не дразнить его, разыгрывая притворщицу-девчонку, и вздохнула.
— Вы перешли уже на воспоминания! Но это ничего. То, что вы сейчас сказали, все равно приятно.
Потом выпалила на одном дыхании:
— А теперь уходите.
Алексис подумал, что эта сценка нарушила тот образ поведения, какой они себе только что определили. В любую минуту все могло начаться снова.
Прежняя жизнь компании возобновилась. Вечеринки в том же составе. Театральные спектакли, балет, концерты, кино. Словно они знали, что скоро у них на это не останется ни сил, ни желания. Эта светская жизнь была как бы последним рывком. Через пять — десять лет у кого из них хватит мужества выбраться из дому, чтобы посмотреть пьесу или выставку, послушать оперу? Настанет пора запереться в четырех стенах, слушать пластинки и смотреть телевизор.
Женевьева держалась теперь с Алексисом отчужденно, словно низвела его в ранг своих бывших любовников наряду с футболистом и Батифолем. Но Фаншон ошибалась, когда объявила: «Твое время миновало».
Алексис изредка получал от Женевьевы письма, печальные и страстные. Его всегда удивлял ее ровный почерк — аккуратно выведенные круглые буквы. Он не писал ответов, просто говорил при встрече: «Я получил от вас письмо». «Ах, да…» — отвечала она, кивнув головой и не показывая виду, что придает этому какое-то значение. Однажды она написала ему: «Я все выяснила. Прочла в истории музыки, что фолия — танец, который танцуют без партнера. Очень грустно! Вот видите, как это на меня похоже». Алексис представил себе, как в просторной пустой гостиной Женевьева медленно раскачивается в такт лихорадочным пассажам скрипки Корелли, наклоняется в реверансе, затем распрямляется, тряхнув кудрявой головкой, и вдруг замирает, отрешенно глядя перед собой широко раскрытыми глазами, а пластинка все крутится, крутится, словно повторяя вновь и вновь: «Безумная и одинокая… безумная и одинокая…»
Как-то раз Женевьева сказала ему доверительно:
— Слушать музыку и плакать — это все, что нам остается.
Теперь она, казалось, скучала на вечеринках, устраиваемых ее мужем. По-видимому, она поняла, до какой степени заурядна ее жизнь. Наверняка ей хотелось подражать своей матери — аристократке из Бостона, которая окружала себя представителями артистического мира, но ей не удалось найти никого, кроме грубоватого спортсмена, паяца из мюзик-холла и его, Алексиса, — несостоявшегося художника. Однажды Алексис отважился сказать ей, что все, с кем она встречается, неинтересные люди: либо это деловые связи мужа — с большинстве случаев убийственно скучные господа, — либо узкий круг ее придворных-друзей, собранный по воле случая.
— В этом-то все мое несчастье, — ответила она. — Мечтаешь о богатой духовной жизни, об избранном обществе. И вот на тебе…
— Это и мой удел, — сказал он, желая смягчить суровость своей критики.
— Все мы должны осознать свою никчемность. По крайней мере я лично это сделала, — с горечью заключила Женевьева.
Несмотря на всю свою светскую благовоспитанность, молодая женщина постоянно забывала об обязанностях хозяйки дома, совершенно не интересовалась своими гостями и нередко уходила к себе в спальню или подолгу сидела в углу одна со стаканом в руке. Иной раз за целый вечер не промолвит ни единого слова. Как-то раз, когда Алексис захотел с ней попрощаться, он обнаружил Женевьеву свернувшейся клубочком в кресле. Она уснула. Черное гипюровое платье задралось выше колен. Оно держалось на двух узких бретельках, оставляя открытыми плечи. Алексис взял с соседнего дивана шаль и нежно, стараясь не разбудить, тепло укрыл Женевьеву.
9
Алексиса Валле заинтриговала фигура Шарля Тремюла. Если Женевьева происходила из весьма состоятельной буржуазной семьи, то ее муж был всего-навсего одним из нуворишей.
И тем не менее отрешенный, немножко грустный вид придавал Тремюла некий аристократизм. Глядя на него, трудно было поверить в рассказы Фаншон — что он довольно суров, когда речь заходит о деловых отношениях, что он использует таких подручных, как Марманд, и неподобающим образом ведет себя с некоторыми женщинами. Тремюла был на несколько лет старше Женевьевы. Когда же он начал сколачивать свое состояние? С чего пошло его богатство? Чем занимался он в годы войны? Такие вопросы невольно возникают, как только подумаешь о деньгах, добытых за столь короткий срок. Однако никто вроде бы не мог упрекнуть его в связях с нацистами. Время от времени у него в доме бывал даже кое-кто из бывших участников Сопротивления, но не слишком часто, казалось, ровно столько, чтобы это могло служить как бы охранной грамотой хозяину дома. Возможно, дела, которые вершил Тремюла, были не из тех, что требуют покровительства властей и заигрывания с влиятельными людьми, он предпочитал скорее держаться независимо и действовал как одинокий волк. Все это представлялось довольно туманным Алексису, далекому от мира бизнеса. Если он и задавался подобными вопросами, то исключительно потому, что тревожился за Женевьеву. Теперь, думая о ней, он любил в ней то красивую, элегантную женщину, словно сошедшую со страниц светских журналов «Вог» или «Харпер’с базар», то несчастную, заблудшую душу, которую хотелось спасти. Но чаще всего оба эти образа сосуществовали рядом. Да разве сама Женевьева не жила мечтами? У Алексиса часто создавалось впечатление, будто он для нее — всего лишь одна из химер, созданных воображением неудовлетворенной женщины. Она часто говорила:
— Жизнь так скучна… Мы все время делаем одно и то же.
По мере того как Женевьева и кружок ее друзей завладевали Алексисом, он забросил прежних знакомых, не вполне отдавая себе отчет, в самом ли деле начинается новая глава его жизни — погружается ли он в глубину леса или, по своему обыкновению, остается на опушке. Он испытывал такое же чувство неудовлетворенности, как перед неудавшейся картиной, написанной неумелой рукой. Ему хотелось бы выстроить свою жизнь так, как он выстраивал композицию своих картин, и тщательно отделывать все детали до тех пор, пока они не обретут гармонию и смысл. Ведь главный смысл его картин — это он сам, человек немолодой и одинокий, — его внутреннее «я», которое руководит его поступками во всех жизненных перипетиях, хотя временами, похоже, он и сбивается с правильного курса.
Примерно в этот же период Алексис подружился с поэтом по имени Анж Марино-Гритти. Они вместе работали над эскизами оформления книги — сборника стихов Марино-Гритти, — иллюстрированной гравюрами Валле, но работа эта так и не была завершена. Ни тот ни другой не пользовались достаточной известностью, чтобы заинтересовать солидное издательство. Алексису нравились стихи Марино-Гритти, да и самого поэта он считал человеком, способным внушить симпатию. Высокий, чуточку полноватый, Марино-Гритти походил на боксера. Он был завсегдатаем кабачков на Сен-Жермен-де-Пре, где с ним приключались всевозможные истории. Он любил выпить, постоянно лез в драку, между прочим, нередко в пылу политических дискуссий, желая слыть человеком твердых убеждений. В таких случаях он возвращался домой с физиономией, помятой еще больше, чем всегда. А потом с юмором повествовал о своих подвигах. И эти рассказы обычно прерывались приступами странного, почти беззвучного хохота — уставившись на собеседника, он щерился, отчего лицо его приобретало свирепое выражение. Поговаривали, что в войну, когда он семнадцатилетним юнцом ушел в маки где-то под Лимузеном, Марино-Гритти был настоящим головорезом. Поди проверь. Теперь же состоялся возврат к цивилизованным временам, к поэзии. Не совсем такого образца, как «В вазочке вянет вербена…»[16], нет, к поэзии сильной, воспевающей веру в общественные потрясения и перемены. Но тем не менее кому мог теперь внушить страх поэт? Тем паче что звали его Анж[17]. Он был женат на Жоан, немом долговязом существе неопределенного пола, — танцовщице из труппы современного балета. Нередко он зазывал друзей ночью к себе, в многоэтажный дом муниципальной застройки, неподалеку от заставы Баньоль, выпить красного винца и послушать, как он читает вирши собственного сочинения, а также стихи Батая и Арто.
Вскоре Анж Марино-Гритти стал всеобщим любимцем в компании Тремюла. Они всегда приглашали его в гости. Особенно увлекались им женщины. Они находили его забавным, обаятельным и неожиданным. В нем было что-то и от грубоватого увальня, и от греческого пастуха. Когда он приходил, Женевьева, Нина и Фаншон не переставали смеяться и болтать, блестя глазами. Но стоило ему уйти, и женщины сразу тускнели. Женевьева опять начинала скучать. Раньше Тремюла неизменно приглашал свою маленькую компанию в кабаре на правом берегу. Поэт же повел их в «Табу», в «Красную розу», в «Ориенте». Казалось, он знаком со всеми на свете, всюду находился для него свободный столик, он знал, когда и какой кабачок выходил из моды и в каком необыкновенном погребке, открытом всего неделю назад, непременно следует побывать.
10
Несколько обстоятельств повлияли на ход жизни Алексиса. Во-первых, он заболел. Воспаление легких и последовавший за ним плеврит довольно долго продержали его в постели. Он думал — и не без тайного удовольствия, — что под предлогом болезни ему удастся уехать в какой-нибудь санаторий и избежать таким образом всяческих объяснений. Разумеется, он прочитал «Волшебную гору», и санатории представлялись ему роскошными дворцами, где живут элегантные, красивые женщины, созданные для любви. Ведь эта американка, мать Женевьевы и, судя по всему, замечательная женщина, окончила свои дни как раз в санатории. Но, как выяснилось, в санатории нет никакой нужды, и ему так и не пришлось сопоставить свои мечты с реальностью, наверняка куда менее заманчивой.
Однажды, во время болезни, ему вдруг пришло в голову, что он на пути к смерти, и он даже попытался свыкнуться с этой мыслью, сжиться с нею настолько, чтобы она органически стала как бы частью его самого. Это было довольно трудно, ибо жажда жизни разметала все мрачные мысли, словно ураган — тучи. Алексис никак не мог примириться с сознанием, что через три месяца, самое большое через полгода, его жизнь оборвется навсегда, и всеми силами старался себя успокоить, но страх смерти возвращался. Приходилось снова бороться с тревогой и отчаянием. Необходимо было постичь науку примирения с идеей неизбежности конца. Он считал, что единственно приемлемая нравственная заповедь сейчас — это не обманывать самого себя.
В конце концов ему надоело чувствовать себя больным, и он выздоровел. Он потерял работу в универсальном магазине, однако прикинул, что, если выполнит несколько заказов — например, займется рисунком для столового сервиза или эскизами книжных обложек, — это поправит его дела. Денег у него будет немножко меньше, но, если чуть-чуть сократить личные расходы, Нина даже не ощутит никаких затруднений. Впрочем, не считая покупки красок и холста да еще время от времени пластинок, особых расходов у Алексиса и не было. Никогда он не стремился покупать себе красивые костюмы или дорогие вещи. Он сказал себе, что это увольнение даже пошло ему на пользу — сам бы он ни за что не решился стать человеком свободной профессии.
Отныне он свободен. Что касается Нины, то она как будто бы отнеслась к его увольнению спокойно. У нее были свои деньги. Впрочем, она не подавала виду, что сердится на мужа, — очевидно, потому, что за этим скрывались претензии куда более серьезные. По всей видимости, она считала Алексиса бездарным человеком, от которого бесполезно ждать слишком много (а возможно, еще и ленивым). Между тем Алексис не терял времени даром: вместо того чтобы шататься по улице или целыми днями валяться на диване, читая детективы, он решил заняться живописью серьезно, не страшась начать все сначала, и не отходил от мольберта до тех пор, пока у него не темнело в глазах или от усталости не начинали подгибаться ноги. Праздность неизменно рождала у него чувство какой-то вины и страх перед пустотой. Впрочем, не только это заставляло его работать. Он испытывал минуты счастья, если картина ему легко давалась; в такие дни хотелось смеяться, позвать кого-нибудь, чтобы показать, что он сумел… Сумел что? Запечатлеть на холсте то, что порождено его воображением и усилием его воли… Но чаще всего он был один, и приходилось довольствоваться этим.
Однажды Нина, изменив своей обычной манере держаться с ним отчужденно или рассеянно, как ведут себя с человеком, который стал чужим, устроила ему сцену. Алексис, видите ли, не сумел даже использовать свои отношения с таким богачом, как Тремюла, — отношения, которые завязались благодаря ей, Нине, — и не попытался продать несколько своих картин. А вот Анж Марино-Гритти оказался несравненно умнее. Он задумал написать пьесу, ну, не пьесу, пожалуй, нечто более современное, и уже договорился о том, что поставит ее на средства Тремюла. А ведь он еще не написал ни строчки!
И, продолжая приводить Марино-Гритти в пример своему незадачливому мужу, Нина добавила:
— Видишь, Анж участвует и в политической жизни. Не без пользы для себя. Партия его поддерживает. И среди художников есть такие, кто не пренебрегает поддержкой коммунистической партии. Даже Пикассо!
— Не говори глупостей!
— И это не мешает им получать правительственные заказы! А ты… ты даже не участвуешь в голосовании!
На этот раз Алексис взорвался:
— Меня воротит от политики. Та группировка, что стоит сейчас у власти во Франции, — новый вариант Гизо с его лозунгом «Обогащайтесь!». Впрочем, и другие тоже не лучше. Политика — это убиение во имя лжи. Что представляет собой это племя, этот род человеческий? Одна половина поглощена собственными неврозами, одержима жаждой власти и не останавливается даже перед массовым истреблением, спокойно предоставляя второй половине своих соплеменников подыхать с голоду.
— Вот именно это я и говорю: тебе ненавистно все человечество.
Во время болезни Алексиса у Нины появилась привычка проводить вечера вне дома. Художник не упрекал ее, но она вовсе не испытывала к мужу никакой признательности и даже заявила, что он рад случаю, который позволяет ему оставаться в одиночестве и жить дикарем. Должно быть, под влиянием Тремюла и его друзей она заинтересовалась футболом. Вместе с Тремюла она ездила в разные города, чтобы посмотреть игру команды его клуба. Тщетно пытался Алексис внушить ей, что пристрастие к такому грубому зрелищу свидетельствует об отсутствии вкуса, — Нина лишь пожимала плечами, считая, что он просто ничего в этом не смыслит. Ведь комбинации на футбольном поле иногда не уступают в красоте и сложности математическим. Однажды она бросила Алексису:
— В тебе говорит ревность.
— При чем тут ревность? И к кому мне тебя ревновать? К Марманду? К этому тупице, который только и умеет, что пинать ногами мяч?
— Не надо так презирать других. Не то сразу же возникает вопрос: а что ты умеешь сам? Ты относишься к людям с таким пренебрежением, что даже не заметил, что Кристиан очень умен. Знаешь, что он мне однажды сказал? Он решил стать вратарем, потому что это единственный игрок на футбольном поле, которого можно сравнить с театральным актером. Его игра эффектнее игры других, и потом, когда он стоит в воротах — в этой рамке, — он у всех на виду, как актер на сцене. Да, он тоже своего рода артист.
Когда Нина уезжала или запаздывала к обеду или ужину, Алексис уверял ее, что ей не о чем беспокоиться — он прекрасно сам приготовит себе поесть. Но постепенно им овладела лень и его ежедневное меню свелось к яичнице либо ветчине с ломтиком сыра. Впрочем, с тех пор как он стал проводить свои дни в одиночестве дома, мир стал казаться ему далеким, населенным какими-то призраками. Не считая редких ссор, подобных той стычке из-за футбола, Нина приходила и уходила, даже не повидавшись с ним. Шарль Тремюла казался теперь Алексису то робким и трогательным другом, то обманутым «вечным» мужем, которому он нанес обиду, то темным дельцом, способным покупать мужчин и женщин, так что его образ принимал все более и более расплывчатые очертания. Комическую пару Батифоль — Фаншон Алексис воспринимал не иначе как персонажей трагедии. Он интуитивно чувствовал, что Батифоль в любую минуту может пойти ко дну, а веселость его подруги, ее несколько извращенная чувственная красота и сексуальная привлекательность служат лишь маскировкой неминуемой катастрофы. Что касается Женевьевы — далекой принцессы, то он почему-то никак не мог решиться на простой шаг — стать ее любовником.
И в живописи Алексиса появилось что-то новое. На его полотнах теперь возникал туман, сквозь который едва пробивался золотистый свет и сквозила небесная голубизна, — все это позволяло думать, что если бы картина изображала что-то конкретное, то это, несомненно, был бы пейзаж. Когда же он приступал ко второй стадии работы, изображение, словно высвеченное неумолимым светом, обретало четкие линии. Картина представлялась абстрактной, но чем-то продолжала напоминать пейзаж — пасмурный день, предвещающий дождь, когда воздух настолько прозрачен, что кажется, будто можно дотянуться рукой до обычно таких далеких гор.
Еще в те дни, когда Алексис был болен и считал себя обреченным, Нина как-то пригласила нескольких друзей к ужину. Алексис был не в силах подняться с постели. Он слышал, как гости разговаривают и смеются в мастерской. Дверь приоткрылась настолько тихо, что он этого даже не заметил и почувствовал запах духов Женевьевы раньше, чем увидел ее. Она опустилась на колени у самой кровати и, сжав голову Алексиса обеими руками, поцеловала его, вкладывая в этот поцелуй все отчаяние своей несостоявшейся любви. И на этот раз в ее черных глазах он уловил какое-то безумие. Она положила голову на грудь Алексиса и замерла. Ему захотелось признаться: «Смерть торопит меня, а между тем сейчас я люблю жизнь как никогда». Кому он мог довериться, как не ей? Но это было бы низостью — нанести ей такой удар. А искушение так велико! Она подняла голову и снова устремила на него свой взгляд все с тем же безумным выражением. Он понял, что ее мысли бесконечно далеки от того, что терзает его. Он вовсе не ломал комедию. И совсем не желание растревожить ее или вызвать жалость к себе побуждали его сказать: «Я скоро умру». Он чувствовал, как в нем растет тоска, а Женевьева даже не догадывалась об этом именно потому, что любила его и пришла к нему с единственной целью — обрести его любовь.
Рядом продолжали разговаривать. Алексис различал кудахтанье Батифоля, парижский выговор Фаншон и характерный голос Марино-Гритти.
— Возвращайтесь к ним, — сказал он Женевьеве.
Она поднялась с колен и двинулась к двери как сомнамбула, не произнеся ни слова.
На следующий вечер Нина ушла из дому, и Алексис остался один. У него поднялась температура. Из радиоприемника, стоявшего возле кровати, лилась церковная музыка в исполнении детского хора. Он подумал о Женевьеве, о том, как она вчера, коленопреклоненная, стояла у его постели. Ему казалось, что он вот-вот расплачется, сам не зная почему.
11
Иногда к Тремюла приезжала сестра Женевьевы Мари-Тереза — увядшая блондинка, ростом чуть выше Женевьевы. Она жила на севере, там и вышла замуж. Уже по первому взгляду, который она бросила на него, Алексис понял, что Женевьева все ей рассказала. Он спросил ее об этом.
— Мы говорим друг другу все, — ответила Женевьева. — Открою тебе тайну. У Мари-Терезы здесь свои дела интимного свойства, ради этого она и приезжает в Париж.
— Что ты об этом думаешь?
— Ничего, для меня такие вещи — не новость.
Алексис нарисовал небольшую картину, где преобладали красные и черные спирали. Изображение прояснялось лишь в центре полотна, и тут можно было различить не то статую, не то странного ангела, а в самой темной части, там, где сгущалась жгучая чернота, глаз с трудом различал части сломанной скрипки. Он назвал свою картину «Фолия» и подарил ее Женевьеве.
Молодая женщина продолжала писать ему письма, как всегда очень короткие. В одном из них она сообщала: «Похоже, я скоро стану вдовой. Так мне сказали по секрету врачи».
Потом она стала писать всякую чепуху, например: «Я вытаскиваю из стенных шкафов все, что попадется под руку, и выбрасываю. Тоже своего рода развлечение».
Несмотря на свой затворнический образ жизни, Алексис завел нового знакомого. Длинные пряди желтых волос были у этого человечка одни светлее других, а неухоженная седая борода, нос картошкой, широкие скулы и шишковатый лоб делали его похожим на деревенского мужика. Алексис встречал его днем на лестнице, когда выносил мусор или шел покупать сигареты. Кончилось тем, что они заговорили друг с другом. Соседа звали Бюнем, и он изъяснялся по-французски с сильным акцентом. Однажды, когда Алексису захотелось показать кому-нибудь свои работы, он пригласил Бюнема зайти.
Тот долго рассматривал картины, и Алексис обратил внимание, что заметно выступающий кадык под бородой Бюнема дрожит.
— Живопись, — сказал гость, — это психология. Сезанн утверждал, будто стремится уловить то общее, что существует между деревьями и людьми. Ну а если не психология, как в вашем случае, то самоанализ.
Алексис спросил Бюнема, как получается, что он постоянно свободен днем. У него такая работа, объяснил сосед, от которой если и не разжиреешь, то по крайней мере чувствуешь себя абсолютно независимым. Какая работа? Так называемый литературный труд.
— Вы писатель?
Бюнем поспешил ответить, не скрывая раздражения:
— Не имею ни малейшего желания участвовать в этой свалке. Писатели вырывают друг у друга из зубов одну и ту же тему, словно волки, которые раздирают труп околевшей лошади. Если желаете, я поясню свою мысль не столь… плотоядной метафорой: едва в воздухе начинает витать новая идея, как все бросаются за ней, точно дети за красным воздушным шариком.
Он же предпочитает оставаться в тени, сидит себе в библиотеке, роется в каталогах, составляет библиографические справки, а если представляется случай — пишет за нерадивых студентов дипломные работы. Днем он иногда ненадолго идет в Национальную библиотеку, но это случается не каждый день. Чаще всего он сидит в кафе «Франсуа Коппе» и работает.
— Это в двух шагах отсюда, в Дюроке. Туда захаживают и Сартр с Симоной де Бовуар. Собственная популярность заставила их сбежать из «Флоры». Мы раскланиваемся. Быть популярным писателем — это несчастье. Лично я предпочитаю писать за других, выступать в роли «белого негра» и подписывать свои труды псевдонимом. Выпустить книгу под своим именем не доставило бы мне ни малейшего удовольствия. Именно по той самой причине, о которой я вам только что сказал. А кроме того, как весьма высокопарно выразился Кафка, не помню точно, где именно он написал это: «Заниматься литературным творчеством мне не дано».
Пока он излагал свои мысли в порыве откровения, кадык все ходил у него на шее вниз-вверх. Он продолжал:
— В настоящее время я связан с одной очень богатой супружеской парой — во время войны они потеряли троих сыновей, — все трое погибли героически: один был убит в Монте-Кассино, второй погиб в затонувшей подводной лодке, а третий попал в концлагерь за участие в Сопротивлении. Они хотят, чтобы я написал книгу, которая увековечила бы память их сыновей.
Примерно в это же время Анж Марино-Гритти пригласил к себе друзей послушать выступление по радио деятелей театра и кино в записи Антонена Арто[18] на гибкой пластинке, которую недавно запретили: «Пора покончить с осуждением бога». Гости расселись кто куда — одни на подушках, другие прямо на полу. Угощали ромовым пуншем. К сожалению, пластинка оказалась настолько стертой, что ухо почти не улавливало слов. В полумраке блестели зубы Марино-Гритти, который, должно быть, по своему обыкновению, беззвучно смеялся. Жоан, его жена — высокая, худая танцовщица, — продолжала стоять, прислонившись к стене. На ней был толстый пуловер, облегавший бедра, и узкая юбка. При ее прямых волосах и плоской фигуре казалось, что она существует только в двух измерениях. Женевьева уселась рядом с поэтом на краешке ковра. Несмотря на плохое качество записи, крики Арто, Марии Казарес, Роже Блена и Поля Тевенена, похоже, действовали на нее завораживающе. В какой-то момент, протянув негнущуюся руку, словно у нее не сгибался локтевой сустав, она схватила Марино-Гритти за руку и не отпускала до тех пор, пока ему не пришлось встать, чтобы подойти к проигрывателю.
Все гости, участники этого прослушивания, вышли из дому вместе и зашагали по ночной улице в надежде найти такси. Алексис на минуту остался с Женевьевой с глазу на глаз и, спеша воспользоваться этим обстоятельством, спросил:
— Почему вы держали за руку Марино-Гритти?
— Потому что вы бросили меня.
И, пройдя еще несколько шагов, она добавила:
— Когда мне становится совсем невмоготу от одиночества, я ищу мужчин. Но вас — вас я любила.
Было холодно, изо рта у нее вырывался белый пар, и это легкое облачко, мгновенно таявшее в морозном воздухе, не успев даже принять определенную форму, было для Алексиса как бы материализовавшимся образом ее беспокойной души.
Поведение Женевьевы в тот вечер не ускользнуло и от внимания Нины. Она прокомментировала его по-своему:
— Видал, что проделывала эта шлюха с Марино-Гритти?
Однажды ночью в ту же зиму, когда вся компания была приглашена на ужин к Тремюла, выйдя на улицу, они обнаружили, что Париж окутан густым туманом. С трудом удалось отыскать машины Марманда и Батифоля — только у них и были в ту пору автомобили. Нина и Алексис сели к футболисту, Марино-Гритти поехал с Фаншон и Батифолем. Они попытались держаться по возможности близко, но очень скоро потеряли друг друга из виду. В двух шагах ничего не было видно. Никогда еще в столице не бывало такого густого тумана, и чем ближе они подъезжали к Сене, тем он казался плотнее. Марманд остановился посреди площади Альма.
— Не знаю даже, где мост, — пожаловался он.
Выйдя из машины, Алексис, ориентировавшийся тоже с трудом, двинулся вперед, указывая дорогу.
Когда они добрались до улицы Жан-Ферранди, стало ясно, что Марманду не добраться до северного предместья, и Алексис предложил футболисту переночевать у них. Тот согласился.
— А твоя жена? — спросил Алексис. — Она не станет беспокоиться? Позвони-ка ей.
— В этом нет необходимости — она уже привыкла.
— Заблудиться в тумане, — сказал Алексис. — Посреди Парижа! Невероятно.
Некоторое время спустя Анж Марино-Гритти объявил, что издатель наконец согласился выпустить сборник его стихов. В отличие от Бюнема, странного маленького соседа Алексиса, провозгласившего своим принципом приверженность к псевдонимам, к соблюдению строжайшего инкогнито, Марино-Гритти горел от нетерпения увидеть свое имя на обложке книги и ради этого готов был идти на все. В той серии, в которой собирались опубликовать его стихотворения, на фронтисписе обычно помещали портрет автора. Поэт попросил Алексиса нарисовать его.
— Это будет для тебя удобным поводом выйти наконец за рамки абстракционизма.
В течение нескольких дней он приходил к Алексису позировать. Во время сеансов они говорили о чем придется, иной раз даже о политике.
— Товарищи… Их сочувствие! — восклицал Марино-Гритти.
Алексис писал маленькими штрихами, которые множились и накладывались друг на друга. Можно было бы назвать этот метод аналитическим, потому что он воспринимал лицо не в целом, а как бы фиксировал последовательно его части, пытаясь уловить основное, например линию скул, припухлость губ, характерное закругление подбородка. Закончив работу, Алексис заметил, что его портрет лишен фотографического сходства с моделью, но зато достигает большей глубины, скажем, как если бы он старался отразить те изменения, какие характер налагает на внешний облик человека. А еще он заметил, что нарисовал лицо проходимца. Он оставил свое открытие при себе. Впрочем, сам поэт остался портретом доволен.
Когда книга вышла из печати, Алексис узнал из кисловатого замечания Нины, что дело вовсе не в том, будто молодое дарование наконец-то признано. Издание, оказывается, осуществлено за счет автора, а оплатил его Тремюла.
12
Бюнем вел себя очень тактично. Он заходил редко и, когда Алексис открывал ему дверь, неизменно спрашивал:
— Я не помешаю?
Однако стоило ему переступить порог, о том, что он боится помешать Алексису, больше не было и речи. Он держался так, словно пришел в гости по приглашению и теперь должен развлечь и хозяина, и себя. Усевшись в углу, он окидывал взглядом мастерскую: не появилось ли тут новой картины, и разговаривал о чем угодно, только не о себе. Бюнем был по-прежнему скуп на откровенность, и тем не менее, войдя однажды к Алексису, не удержался от признания:
— В иные дни меня донимает жажда услышать живой голос.
В другой раз он сделал признание в том же духе:
— Я опять видел Сартра во «Франсуа Коппе». Он спросил, как дела, я ответил: «Рай — это другие»[19].
Уходя, он неизменно произносил:
— Предоставляю вам возможность поработать.
Однажды, после полудня, когда Бюнем был в гостях у Алексиса, раздался звонок. Женевьева пришла вместе со своей дочерью Кати, которая была в зеленом берете, с длинным шарфом на шее. Бюнем поспешил ретироваться, хотя Алексис представил его своим гостям.
— На улице дождь, — сказала Женевьева, — и нам захотелось в кино. Не желаете составить компанию?
— Мне сегодня хорошо работается. Странное дело: такое ощущение, будто с трудом взбираешься по горной тропинке, и вдруг чувствуешь, что за следующим поворотом наверняка увидишь цель, к которой стремишься.
— Ну, а ваш друг?
— Он мне не в тягость. Совершенно не мешает. Как сверчок на печи. Да и тот, наверное, причинял бы больше беспокойства.
— Мы вынудили его уйти…
— Кто он такой? — спросила Кати, которую явно заинтересовал этот маленький всклокоченный бородач с шишковатым черепом и монгольскими скулами.
— Кати, ты ведь знаешь, что детям задавать подобные вопросы не подобает.
Алексис обратил внимание, каким голосом, с какой светской интонацией — интонацией, присущей определенному общественному классу, — произнесла Женевьева эти слова, обращаясь к дочери. Такая манера казалась старомодной — так, очевидно, говорили в обществе, которое уже отжило свой век. В любых других устах это звучало бы неестественно-жеманно, только не в устах Женевьевы — ее он любил, со всеми ее причудами. И, отвечая Кати, Алексис пошутил:
— Это гном из «Белоснежки».
Шутка явно не понравилась девочке, и она капризно передернула плечиками.
— Пошли с нами, — сказала Женевьева. — Ну позвольте себя увести.
Женевьеве хотелось еще раз посмотреть «Лауру», которая повторно шла в кинотеатре на бульваре Сен-Мишель. Алексис в свое время пропустил этот фильм. Ему вспомнился грустный новогодний вечер, и песенка из этого фильма, которую проигрывали снова и снова. Это была ночь, когда Женевьева впервые потянулась к нему. Он был уже на пороге и уходил один, подчиняясь духу противоречия, и тут она поцеловала его.
— Можно было бы посмотреть «Даму из Шанхая», — предложил Алексис. — Я видел этот фильм дважды, но так ничего и не понял, однако мне никогда не надоедает смотреть на Риту Хейворт. Особенно хороша она в конце — когда она умирает, смертельно раненная, во Дворце миражей, а Орсон Уэллс уходит, даже не обернувшись…
— Какой вы жестокий! Вам нравится, когда женщину покидают в ее смертный час!
— Нет, не нравится. Но это очень сильная сцена. К этому времени Орсон Уэллс уже больше не любит Риту, он знает, что она лгунья и преступница, но мы не можем не принять эстафету — нам самим хочется любить ее и прийти к ней на помощь. Вот мы бы ее не покинули.
— Мне все же больше хочется посмотреть «Лауру». Вы не находите, что я похожа на Джин Терни? Мне это часто говорят.
Они пошли в кинотеатр на бульваре Сен-Мишель — в «студенческую киношку», как сказала Женевьева, и им показалось, что то далекое время, когда они бродили по Латинскому кварталу, ушло безвозвратно.
На дневном сеансе зал был почти пуст. Женевьева усадила художника по левую руку, а свою дочь — по правую. Пока шел фильм, она несколько раз с улыбкой поворачивалась к Алексису. О том, чтобы поцеловаться, не могло быть и речи — ведь рядом сидела девочка. Но нога Женевьевы прикасалась к его ноге. И как только Алексис положил руку на подлокотник, ее рука тут же легла сверху. Женевьева переплела свои пальцы с пальцами Алексиса. Ему вспомнился вечер, когда она держала за руку этого подонка Марино-Гритти. К своему удивлению, Алексис почувствовал, что ревнует ее.
Они вышли из кино. Все еще продолжал накрапывать дождик. Пока они спускались по бульвару в поисках такси, Кати, отказавшаяся спрятаться под зонтик матери, с независимым видом шагала впереди.
— Она дуется, — шепнула Женевьева.
— Никогда не забуду, как я пришел к вам в первый раз и Кати словно фурия накинулась на Батифоля, который дразнил ее, притворяясь, будто собирается подбросить вас. Она была еще совсем малышка. Сколько ей сейчас?
— Девять лет.
— Я дал бы больше, особенно если учесть эту ее манеру носить берет — она так лихо сдвинула его набок!
— Правда, теперь она уже не такая толстушка?
— Да, девочка растет и худеет. Она обещает стать прехорошенькой рыжеволосой женщиной.
Похоже, Кати рассердилась еще сильнее, увидев, что мать разговаривает с Алексисом. Должно быть, она заподозрила, что они смеются над ней. Наконец они пришли на остановку такси, и Алексис предложил:
— Хотите, я провожу вас?
— Нет, уходи! — закричала Кати.
Он усадил их в машину, испытывая чувство двойной вины, — и перед девочкой, и перед ее матерью.
Когда он вернулся, Нина, вопреки своему обыкновению, была уже дома. Она спросила, где он был. Алексис ответил, что ходил в кино с Женевьевой и Кати, хотя подумал, что об этом следовало бы умолчать. Однако вопрос жены застал его врасплох. Нина стала кричать:
— Ах, вот чем ты занимаешься, пока я работаю! Мне надоело видеть, как ты крутишься вокруг Женевьевы. Думаешь, она чем-нибудь отличается от других женщин, если не считать ее миллионов?
— Послушай, ведь мы были втроем, с Кати!
— Интересно, что вы делали в этом кино? Целовались?
— Говорю тебе, она была с дочерью.
Невзирая на такой веский аргумент, Алексису с трудом удалось рассеять сомнения жены и унять ее гнев. Решительно, то был день ревности.
Случалось, Нина и раньше проявляла к нему недоверие, но она никогда не ставила вопрос о том, чтобы прекратить общение с семейством Тремюла. Напротив, продолжала проводить с ними время, зачастую даже без Алексиса.
Однажды зимой Женевьева пришла к ним ужинать одна — Шарль Тремюла уехал из Парижа по делам, а Кати на каникулы друзья пригласили покататься на лыжах. Женевьева задержалась допоздна, а так как погода была очень холодная, Нина предложила подруге остаться у них ночевать.
На следующее утро Нина ушла на работу до того, как Женевьева проснулась. Она не высказала по этому поводу никаких соображений, и Алексис сказал себе: значит, ее подозрения рассеялись или по крайней мере она не придает им большого значения. Около десяти утра он приготовил кофе и постучал в дверь Женевьевы. Она закуталась в одеяло и пробуждалась ото сна с большим трудом, словно мучительно избавляясь от действия снотворного. Она лепетала детским голоском какие-то бессвязные слова. Невозможно было перехватить ее взгляд — она вертела головой так, что волосы разметались по подушке. Должно быть, она спала без ночной сорочки, и Алексис чувствовал, что готов изменить своему обычному благоразумию и скользнуть к ней под одеяло, в ее тепло. Он позвал:
— Женевьева…
Он погладил ее по щеке, потом рука его опустилась вдоль шеи к плечу. Но вопреки ожиданиям Алексиса Женевьева его оттолкнула.
— Оставьте меня! По утрам я никуда не гожусь. Вся скверна, которая гнездится во мне, в такие моменты пытается вырваться наружу. Не следует смотреть на меня, когда я просыпаюсь. Прошу вас…
Она резко отвернулась и укрылась почти с головой. Алексис вышел из комнаты, плотно закрыв за собою дверь.
Он ушел из дому и решил добраться пешком до Университетской улицы, где должен был встретиться с издателем, для которого делал эскизы. Вернулся он около полудня и Женевьеву уже не застал. Она оставила в мастерской письмо — нечто вроде стихотворения:
Лучшие доказательства моей любви те которых я тебе не даю Нелепые жесты которые я делаю когда тебя нет Слова которые я про себя повторяю тебе И все то чего ты не узнаешь никогдаОна забыла в бокале ожерелье из крупных стеклянных бус. Алексис положил его на ладонь и вдохнул запах — ожерелье сохранило запах ее духов — редкостных и пряных духов, которыми душилась только она. Желание охватило его с новой силой.
Вечером Нина объявила мужу:
— Команда Франции встречается с командой Португалии в Лиссабоне. Кристиана опять включили в ее состав. Тремюла считает себя обязанным его сопровождать, но врач возражает, чтобы он летел самолетом. Из-за сердца.
Алексис слушал ее рассеянно и потому был более чем удивлен, когда Нина сказала:
— Тремюла попросил меня лететь в Лиссабон вместо него, и я не смогла ему отказать. Впрочем, почему бы мне не побывать в Лиссабоне? Я еще ни разу в жизни не летала самолетом. Матч состоится через две недели. Все это займет субботу и воскресенье, ну, самое большее три дня… Ты сумеешь приготовить себе поесть?
— Да, я уже привык.
— Знаю я тебя, будешь жевать ветчину, развернув ее прямо на уголке холодильника.
— Да нет, я смогу о себе позаботиться…
13
Существует немало примеров, когда мюзиклы, сделанные по образцу бродвейских, проваливались во Франции ввиду отсутствия достойных певцов, танцоров, подлинного умения и денег. Но ни один не знал такого шумного провала, как «Улица де ля Гэте», где главным исполнителем был незадачливый Батифоль. Для эстрадного певца и его друзей то было тяжелое испытание. Возможно, по чистому совпадению, но с этого момента в их тесной компании все стало по-другому.
Замысел этот витал в воздухе уже давно. Впервые Алексис услышал о нем от Фаншон, которая навестила его, когда он еще не совсем оправился от болезни. Она пояснила, что Батифоль, безусловно, пользуется известностью и даже приобрел заметную популярность, выступая в кабаре и по радио, но ему никак не удается достичь высшей ступени — стать звездой первой величины, комиком на уровне Бурвиля и Фернанделя. Почему, например, его никогда не приглашают сниматься в кино? И вот теперь ему, быть может, представляется великолепный случай. Правда, этот проект нелегко осуществить, как и все, что связано со сценой, так что лучше постучать по дереву. И она коснулась деревянного столика, вымазанного красками всех цветов, куда художник обычно клал старый поднос, заменявший ему палитру. Речь шла об одном американском мюзикле, свободном от контракта. Им заинтересовалась группа продюсеров. Денег пока еще не хватает, но, если бы Тремюла согласился их субсидировать, проект можно было бы не только воплотить в жизнь — Батифоль и его друзья стали бы хозяевами всего предприятия. И Батифоль получил бы главную роль, Анж смог бы адаптировать это произведение, которому дали новое название: «Улица де ля Гэте», и написать текст песенок. Фаншон опасалась, что он откажется, сочтя этот жанр слишком низменным, но поэт возразил: кто мог подумать, что он презирает искусство, пользующееся столь широкой популярностью? Конечно же, он готов писать для простых людей — своих бывших товарищей по маки́. Успокоившись на сей счет, Фаншон предложила пристроить в танцевальную группу эту длинную спаржу, жену Марино-Гритти, чтобы как-то вознаградить его за труды.
И тут она спросила Алексиса:
— А ты не возьмешься написать нам декорации?
Алексис отказался — это не по его части. Лицо Фаншон выразило разочарование, она стала обвинять Алексиса в том, что он плохой друг и боится риска. Ему пришлось оправдываться, объяснять, что живопись, какой занимается он, не имеет ничего общего с росписью театральных декораций.
— Я тебя очень люблю и счел бы за счастье помочь тебе, — в заключение сказал он.
— Правда?
Фаншон прильнула к нему и несколько раз чмокнула в щеку, вытянув губы, — словно клюнула. На ней был черный пуловер и черные кожаные брюки, отчего она казалась еще более худой и болезненной.
— Да, ты любишь меня… и очень, но по-настоящему ты влюблен в Женевьеву.
Алексис пожал плечами. Обняв ее, быть может желая как-то сгладить впечатление от своих слов, он спросил:
— Как ты сумела добиться денег от Тремюла? Так же, как и в тот раз, когда речь шла о работе на радио?
Фаншон не рассердилась на него за этот вопрос, потому что он задал его нежно, грустным голосом. Она спрятала лицо у него на груди, ничего не ответив. Потом разрыдалась и плакала долго, словно нашла наконец повод выплакать все слезы, которые сдерживала месяцами, а быть может, и годами. Алексис поцеловал ее в мокрое от слез лицо, затем в губы. Она вернула ему поцелуй. И улыбнулась. После ее ухода Алексис издевательски сказал самому себе: отныне бедняжка Фаншон будет приходить всякий раз, как ей захочется поплакать.
Тремюла настаивал, чтобы Алексис принял участие в этой авантюре и взялся за декорации. Художник продолжал отказываться.
— Он упрям как осел, — сказала Нина. — Вы от него ничего не добьетесь: как он решил, так и сделает.
— Я понимаю его, — сказал Тремюла с каким-то смирением в голосе. — Я-то рискую только своими деньгами — к тому же при этом сокращаются налоги, — он же ставит на карту свою репутацию.
— Какую еще репутацию? — возразила Нина. — Да у него ее попросту нет. Он ничего не проигрывает, а вот выиграть может все.
Алексис промолчал.
— Вот он весь в этом, стоит только посмотреть на его каменное лицо! Пусть его разразит на месте громом, он даже не шелохнется!
А Батифоль, вместо того чтобы радоваться, казалось, выискивал причины для беспокойства.
— В довершение ко всему этой заварухе в Корее не видно конца. Вам не кажется, что мы созрели для атомной войны? Я жду ее со дня на день.
Тремюла пытался его успокоить:
— Да нет же. Они уже зашли в тупик и приступают к переговорам. Разумеется, это длинная история, но главная опасность миновала.
— Вот видишь, — увещевала мужа Фаншон, — Шарль, который все знает и посвящен в государственные тайны, не боится ничего.
На лице Батифоля появилась вымученная улыбка, он попытался отшутиться:
— Ничего не могу с собой поделать. Когда я думаю о корейских делах, мне не до смеха! Ох-ох-ох! Что за время… Сами посудите…
Несмотря на название, «Улица де ля Гэте» должна была идти не на Монпарнасе, а на площади Клиши — в старом мюзик-холле «Эропеен». Шарля Тремюла и его друзей ожидала ложа — одна из тех просторных лож для официальных лиц, где чувствуешь себя так, будто сидишь чуть ли не на сцене. С ними не было только Фаншон, она стояла за кулисами, Анжа Марино-Гритти, который сидел в «Веплере» и пытался справиться с неврастенией с помощью виски, и, разумеется, Батифоля с Жоан, поскольку они участвовали в спектакле.
Сюжет музыкальной комедии был глуп не более и не менее, чем во всех других музыкальных комедиях. Батифоль исполнял в ней две роли: знаменитого актера мюзик-холла и клошара, поселившегося под мостом Сены. В оригинале пьесы это были актер с Бродвея и бродяга, нашедший себе пристанище в доках. Актера похищают хорошенькие женщины — все они несчастные жертвы этого ужасного донжуана, — похищают, желая отомстить. До очередной премьеры времени почти что не остается, но актера нигде не могут отыскать. К счастью, нашелся клошар, который оказался похожим как две капли воды на похищенную знаменитость. Его подгримировали и с грехом пополам втолковали, в чем заключается его роль. На генеральной репетиции клошар выступил с блеском. А настоящему актеру в конце концов удается ускользнуть от похитительниц, только уже после успеха своего двойника. Он оскорблен в лучших чувствах: его двойник не только превзошел его на сцене, но еще и воспользовался благосклонностью его последней возлюбленной. И он решает, что ему не остается ничего иного, как занять место клошара под мостом Сены. Однако клошар не пожелал меняться с ним местами и, преподав актеру урок, предпочел вернуться к своей прежней жизни.
Пока шли репетиции без костюмов и декораций, где исполнялись только отдельные фрагменты — песенка, какой-нибудь эпизод, танцевальный номер, неоднократно прерываемые и повторяемые, — было невозможно вынести суждение о спектакле в целом. Но на премьере стало ясно, что спектакль обречен на провал. К тому же музыка оказалась невыразительной — ни одной запоминающейся мелодии. Батифоль на этот раз был вынужден отказаться от своей присказки «Как он глуп, как глуп!», и публика, которая обычно приходила на его выступления посмеяться, лишившись этого, сидела молча. И все же его появление в живописной роли клошара вызвало аплодисменты. Зато во второй роли — звезды эстрады — он оказался смешным. Держа в руке стакан, Батифоль расхаживал в пестром атласном халате по сцене, изображавшей артистическую уборную, и все время натыкался на диваны и пуфики, расставленные всюду на его пути, точно ловушки. Вторжение преследовательниц, а затем их танцевальный номер оказались поистине жалким зрелищем. Девицы были некрасивы и к тому же не умели танцевать в ансамбле, а Батифоль выглядел среди них нелепой толстой марионеткой.
Алексис почувствовал, как у него сжимается горло. С этого момента зрители принимали спектакль весьма прохладно. Друзья Батифоля сидели в ложе и не решались ни заговорить, ни взглянуть друг на друга. В антракте вся компания отправилась к Батифолю за кулисы. Но этот визит выглядел так, словно они явились выразить актеру свое соболезнование.
— Зрителей сейчас трудно расшевелить, — сказала Фаншон. — Но он покорит их во втором действии, вот увидите.
Все с мрачным видом закивали. Марино-Гритти присоединился к остальным. Он основательно вымок — на улице шел дождь, нескончаемый осенний дождь.
— И все же, — твердил поэт, — мои песенки великолепны.
В тот вечер вся компания, если не считать этого тщеславного эгоиста, держалась очень сплоченно. Алексис впервые увидел, что эти столь разношерстные люди, объединившиеся вокруг Тремюла, стали как бы единой семьей.
Когда звонок возвестил конец антракта, выяснилось, что многие зрители сбежали. Казалось, над залом сгустились тучи. На сцене словно ничего не происходило — только суетились какие-то тени. Алексис наблюдал за Женевьевой. Она застыла неподвижно-невозмутимая, быть может, только немного напряженная. После того как клошар заменил актера на сцене, он еще соблазнил его красивую подружку. И тут Кристиан Марманд произнес из глубины ложи:
— Этому Батифолю наставили рога и на сцене, и в жизни.
Женевьева закрыла лицо руками. Зрители начали беспокойно покашливать — первый признак неудачи в театре. Оставалось еще прослушать бессвязную песенку «о Сене и сцене» на слова Марино-Гритти. Финальный танец девиц и клошаров в неописуемых отрепьях не стал апофеозом и не развеял скуки. Зрители спешили покинуть зал, и несколько жиденьких хлопков заглушил стук сидений, когда они вставали. Занавес снова поднялся, и пока актеры выходили кланяться и делали объявление, как принято во время премьеры, зал пустел на глазах. Вторично занавес не поднялся — зрители больше не вызывали актеров.
Алексис чувствовал себя скованным и опустошенным, он едва волочил ноги. С другими, должно быть, происходило то же самое. Они нехотя поднялись с места и отправились за кулисы к Батифолю. Он снимал грим, Фаншон находилась при нем.
— Я велел принести несколько ящиков шампанского, — объявил Тремюла. — Вы, конечно же, придете выпить со всей труппой?
— «Дай все ж ему глотнуть!» — сказал отец…[20] — шутовским тоном произнес Батифоль и повалился на пол, прижав одну руку к воображаемой ране, а другую протянув к своему благодетелю.
14
Алексис хотел посмотреть выставку-ретроспективу Кандинского в Музее современного искусства, который помещался тогда на авеню Президента Вильсона. В Севр-Бабилоне, на остановке автобуса номер 63, ему повстречался Бюнем, который направлялся куда-то, зажав под мышкой папку. Оказалось он тоже едет в сторону Трокадеро — на улицу Шеффера, везет в редакцию свою книгу о трех сыновьях. Судя по всему, он был очень доволен собой. Пока они ехали, он с жаром рассказывал:
— По-моему, я нашел интересный прием. Трое сыновей находятся далеко от дома — один на итальянском фронте, другой в море, третий в Освенциме. Им не суждено вернуться. А в родительском доме висят три барометра: один, круглый, из красного дерева, второй, тоже круглый, из лимонного дерева, третий, размером побольше, — медный. Это не выдумка. Я и в самом деле видел эти барометры в их доме. Так вот, я придумал, что, ожидая вестей о детях, мать стала воспринимать эти три барометра как образы-символы своих сыновей. Ежедневно она стирает с них пыль, начищает до блеска. Даже разговаривает с ними, как если бы это были ее Феликс, Шарль и Жорж. Когда пришли сообщения об их героической смерти — одно за другим, — каждый барометр становится не только символом, но как бы заменяет ей погибших. И каждый день мать, вытирая пыль, выполняет траурный ритуал собственного изобретения — дань культу мертвых.
Алексис приготовился выходить. Бюнем успел еще сказать:
— Я работал над этой рукописью год и четыре месяца. Пока что получил лишь небольшой аванс. Но как только мне выплатят гонорар, я буду счастлив пригласить вас отобедать. Я знаю очень хорошую эльзасскую пивную на улице Вожирар, если вы не имеете ничего против кислой капусты… Надеюсь, ваша жена не откажется составить нам компанию?
Когда Алексис покидал выставку Кандинского, а может быть, и чуточку раньше — когда он считал, что все еще размышляет над формой и цветом, над соотношением линии и пространства, над процессом эволюции художника — от робких и беспорядочных дебютов до того момента, когда он выстраивает собственную теорию, — тайный голос шепнул ему, что особняк Женевьевы находится совсем рядом. Он раздирался между двумя противоречивыми желаниями. Пойти увидеть ее или удержаться от этого шага? Вместо того чтобы спуститься к Альма, он стал подниматься к Трокадеро — лукавил сам с собой, решив, что всегда успеет повернуть назад. Шестнадцатый округ оставался в его воображении кварталом богачей, окутанным легендами, растравляющими душу, и с каждым шагом его все больше тянуло туда. У ворот он снова слукавил, сказав себе, что звонок — нечто вроде лотереи: сейчас решится, застанет он Женевьеву дома или нет. Он позвонил. Перед ним выросла массивная фигура Каплунцова. Алексис был убежден, что этот верный страж видит его насквозь. Собрав все силы, он спросил, дома ли мадам. Да. Она была у себя.
Женевьева распорядилась подать чай в гостиную. Потом передумала: встала, взяла поднос и отнесла его в свою спальню.
— Эта гостиная похожа на зал ожидания при вокзале, — сказала она. — Тут нам будет уютнее.
Они уселись в два низких кресла. Женевьева разлила чай и вышла из комнаты за сигаретами. Когда она вернулась, Алексис ждал ее и, встав ей навстречу, обнял Женевьеву. Они целовались, как после долгой разлуки. Алексис отбросил всякие колебания и сдержанность. Он пытался увлечь молодую женщину на кровать, но она сопротивлялась.
— Нет, нет. Кати может с минуты на минуту вернуться из школы.
Она прижалась спиной к стене. Алексис, продолжая сжимать Женевьеву в объятьях, целовал ее. Она позволяла ласкать себя, но в ее черных глазах было смятение, и он не мог понять, было ли это признаком наслаждения, которое она испытывает, или страхом, что их застигнут врасплох. Послышался какой-то шум. Женевьева вздрогнула. Алексис повернул голову и увидел в зеркале отражение — мужчина и женщина сплелись в объятье. Женевьева с задравшимся подолом, открывавшим полоску белой кожи над чулками, приподнялась на носки, словно желая помочь ему ласкать себя. Она выглядела сейчас довольно нелепо, да еще на фоне этой спальни, в дорогом помятом платье. В ее хрипловатом голосе смешивались девически-наивные интонации и великосветские нотки — выговор, характерный для Пасси.
— Я люблю тебя, — произнес Алексис.
Хлопнула дверь, послышались шаги. Любовники разомкнули объятья.
— Это Кати, — сказала Женевьева.
Она быстро одернула платье.
— Мы могли бы пойти к тебе, — предложила она.
— Боюсь, как бы Нина не пришла домой.
На лице Женевьевы промелькнуло скорбное выражение, и Алексис подумал, что она вот-вот расплачется.
— Не отчаивайся.
— Какой провал! Мне так хотелось свободы, а все кончилось компромиссом — тривиальной супружеской изменой. Я капитулировала.
В ее словах была неизбывная горечь. О чем она мечтала? Алексис вдруг подумал, что Женевьева — точная копия несчастных молодых женщин — героинь викторианских драм XIX века, которые были обречены на благородное ханжество. Те же, кто восставал и отказывался соблюдать правила игры, терпели крах.
— Пойдем гулять, — предложила Женевьева.
Она сумела вложить в эти слова всю покорность судьбе и все отчаяние мира. И продолжала усталым тоном, который никак не вязался с желанием и тоской, побудившими ее сделать это предложение:
— Мне всегда хотелось снова побывать в саду на улице Шерш-Миди.
Она сняла туфли, чтобы надеть другие, и вдруг оказалась очень маленькой, настолько, что Алексис подумал: как мог он полюбить эту женщину, фигура которой, конечно же, обладает всеми чудесными пропорциями, но в уменьшенной масштабе, можно сказать, почти в миниатюре, так что это уже вроде и не совсем женщина, но он тотчас прогнал эту абсурдную мысль. К тому же Женевьева уже снова была в туфлях на очень высоких каблуках.
Они прошли по авеню Анри-Мартен до остановки такси на углу улицы Помп. Над их головами шелестела молодая, свежая листва. Алексис впервые заметил это.
— Апрель на дворе, — сказал он. — Посмотри-ка на деревья.
— Мы знакомы уже четыре года. И скоро исполнится три года с того двенадцатого мая… Ну что ж, такая дата стоит паломничества.
— Это было двенадцатого мая?
— Да. А ты забыл?
Они сели в машину, которая тут же наполнилась ароматом духов Женевьевы. Такси проехало по Альма, миновало площадь Согласия. Бульвар Сен-Жермен запрудили полицейские автобусы, они стояли даже на тротуарах.
— Что происходит? — спросил Алексис.
— Демонстрация, — ответил шофер.
— По какому поводу?
— Понятия не имею.
Движение машин замерло. Вынужденные стоять, шоферы начали отчаянно сигналить. Пронзительные гудки смешивались с криками толпы, собравшейся на бульваре.
— Мне совсем не хочется, чтобы мой сундук помяли, — сказал шофер. — Я вас лучше тут высажу.
Им пришлось выйти из такси.
— Отсюда не так уж и далеко — можно дойти пешком, — сказал Алексис, — по улице Белльшас, а потом по Вано.
Но полицейский кордон не позволил им проникнуть на улицу Белльшас.
— Они охраняют квартал, где находятся министерства, — сказал Алексис. — Нам не остается ничего другого, как попытаться пройти по бульвару Распай.
Женевьева взяла его за руку. На шоссе движение городского транспорта тоже застопорилось. Тротуары были заполнены молодыми людьми, которые быстро шагали, очевидно догоняя демонстрантов, и, проходя мимо жандармов, бросали на них недоброжелательные взгляды. Алексис с Женевьевой дошли до перекрестка улицы Бак и бульвара Сен-Жермен и увидели, что полицейские перекрыли выход на бульвар Распай. Алексис попытался все же прорваться.
— Прохода нет! — рявкнул полицейский.
— Но я там живу.
— Прохода нет!
Получив тумака, художник едва не упал.
— Ах ты, негодяй! — закричала Женевьева.
Трое жандармов схватили ее и Алексиса и потащили к автобусу, стоявшему чуть выше, на бульваре Распай. Он был уже наполовину заполнен арестованными участниками демонстрации, которые встретили смехом новых пассажиров. Женевьева изящно взобралась по ступенькам и уселась на деревянную скамью, подвинувшись, чтобы Алексис мог сесть рядом. Автобус набили до отказа, и он провез их несколько сотен метров — до полицейского участка на улице Перроне. Арестованных загнали в помещение и закрыли за ними решетчатую дверь — они почувствовали себя будто в клетке. Здесь уже находились другие задержанные — участники демонстрации, а также два-три вора или еще каких-то мелких преступника. Было очень накурено и душно. Пахло мочой и рвотой, и Алексис вспомнил, что подобный запах стоял в трюме торгового судна, на котором он когда-то пересек Средиземное море. Он обратился к стоявшим позади решетки полицейским:
— Послушайте, мы не имеем никакого отношения к демонстрации. Мы даже не знаем, по какому поводу она началась.
Ответа не последовало. Тогда Алексис спросил:
— Можно позвонить по телефону? Мадам знакома кое с кем из сотрудников префекта полиции.
— Нет, звонить запрещено.
Оставалось одно — ждать. Женевьева была тут одной из немногих женщин, что давало ей право занять место на скамейке.
— Поверьте мне, я очень огорчен, — сказал Алексис.
— Вы ни в чем не повинны. Это я закричала на полицейского.
— Боюсь, как бы они не продержали нас тут всю ночь.
— Ничего страшного. Только здесь очень накурено, и от дыма у меня разболелась голова.
Час спустя началась проверка документов. Прошло еще несколько часов. Алексис не хотел признаться, что он очень устал и у него тоже болит голова. Их задержали часов в пять вечера. Теперь давно уже стемнело. Около десяти полицейский вызвал Женевьеву:
— Мадам Тремюла…
Женевьева встала. Перед ней открыли решетку. Она взяла Алексиса за руку.
— Этот господин со мной.
Полицейский заколебался, но пропустил и Алексиса. В кабинете полицейского комиссара они лицом к лицу встретились с Тремюла, которого сопровождал Каплунцов — в тесном кабинете он казался поистине великаном. Потом они узнали, что бизнесмена предупредил его друг — сотрудник префекта полиции: ему вручили список задержанных участников демонстрации, и он был очень удивлен, обнаружив в нем знакомую фамилию.
— Спасибо, что ты приехал за нами, — сказала молодая женщина.
Лицо Тремюла казалось белым как мел, возможно, причиной тому было тусклое освещение. Медленно, словно с трудом подбирая слова, он произнес:
— Какое странное место для…
И, не закончив фразу, он упал на бок и обмяк, словно лишившись скелета, который придавал форму его телу. Пока его укладывали на скамью, Женевьева стала пятиться назад, как будто хотела вернуться обратно — за решетку. Алексис двинулся к ней, но тут Каплунцов вдруг шагнул вперед и, отстранив художника, взял Женевьеву за руку.
— Я отвезу мадам домой, — сказал он полицейским. — Господин Валле останется здесь, он сообщит сведения, какие вам могут потребоваться.
Полицейские не возражали. Когда важная персона умирает в помещении участка, это поистине неприятная неожиданность.
15
Тремюла перевезли в больницу, и несколько дней он находился между жизнью и смертью. Члены его компании без конца звонили друг другу, однако узнать что-либо достоверное было трудно. Наконец им сообщили, что опасность миновала. А через неделю, когда Тремюла собирались уже перевести в отделение для выздоравливающих, новый сердечный приступ погубил его.
Женевьеву больше никто не видал. Должно быть, и на этот раз ее семья, пользуясь ситуацией, заставила ее уехать в Туке. Она даже ничего не написала Алексису. Она появилась снова лишь по случаю похорон, которые состоялись в Сент-Оноре д’Эйло. Алексис заметил ее издалека — лицо Женевьевы скрывала длинная траурная вуаль, какие носили в старину. Маленькая Кати шла рядом с матерью в черном пальто, ее рыжие волосы были спрятаны под большой косынкой, что придавало ей вид нищенки. Алексис подумал про себя, что теперь должен заботиться о них обеих. Однако родственники с Севера окружили их кольцом отчуждения. Седеющий мужчина был, очевидно, старшим братом Женевьевы. На похоронах присутствовала также сестра Женевьевы — бесцветная блондинка с ее тайной, а рядом с ней грузный мужчина — должно быть, муж.
Друзей оттеснили на задний план, и они, не сговариваясь, держались вместе. Рядом с Алексисом плакал навзрыд толстый дурень Батифоль.
— Не знаю, как вам всем удается держаться, — сказал он, — но это сильнее меня.
Ну просто реплика из его роли.
На черном покрове был герб с буквой «Т». Орган и хор заполнили церковь музыкой Цезаря Франка, и Алексису слышался в ней отзвук его собственных печальных мыслей.
Монах-доминиканец произнес надгробное слово, взмахивая широкими рукавами. Пока длилась скучная заупокойная молитва, два клошара, прятавшиеся в одном из боковых приделов, затеяли ссору, и пришлось их выдворить из церкви.
Было объявлено, что члены семьи усопшего просят не выражать им соболезнования. Женевьева, следуя за гробом, медленно вышла на центральную аллею кладбища, не поднимая глаз, — насколько об этом можно было судить при том что лицо ее закрывала густая вуаль. У нее был вид сомнамбулы — возможно, ее напичкали транквилизаторами. Алексису казалось, что его рот набит пеплом. Батифоль продолжал всхлипывать.
Катафалк сопровождали на кладбище в Пасси лишь несколько машин.
— Я подвезу вас, — предложил Марманд.
Футболист держался еще более развязно, чем обычно. Алексис подумал, что если Тремюла и в самом деле заставлял Марманда заниматься грязными делишками, то он должен испытывать сейчас облегчение. Отныне он избавлен от всего. В спорте у него было прочное положение. Правда, для вратаря он уже староват, но поговаривали, что он переходит на должность тренера.
Алексис, Нина, Батифоль и Фаншон уселись в машину Кристиана Марманда. Нина не скрывала, что не желает простить Алексису его прогулку с Женевьевой, трагикомически завершившуюся в полицейском участке. Она не пожелала сесть с ним рядом, вся напрягалась при его приближении и бросала на него испепеляющие взгляды. Алексису пришлось пережить несколько скверных минут, когда они наконец оказались дома.
На кладбище, дождавшись, пока Нина демонстративно ушла вперед, стараясь держаться от него на расстоянии, Алексис немного отстал чтобы показать Батифолям большую часовню справа.
— Должно быть, это и есть могила Марии Башкирцевой. Мне всегда хотелось как-нибудь взглянуть на нее.
— А кто она была, эта Башкирцева? — спросила Фаншон.
— Потом расскажу. В некотором роде моя коллега.
— Нина тобою явно недовольна.
— Все обойдется.
Во время погребения Алексис стоял позади всех. У него не хватило мужества приблизиться к тем, кто подходил к разверстой могиле — бросить на гроб горсть земли. Перед его глазами все еще был живой Тремюла, — такой, каким он видел его в полицейском участке, он не забыл его последний взгляд и его последние слова. Алексис думал, что он немало способствовал тому, чтобы привести усопшего к этой могиле, а потому незачем ему бросать землю на гроб.
На авеню Жоржа Манделя в густой листве деревьев щебетали птицы. Всего несколько дней назад, гуляя с Женевьевой, он обратил внимание на распустившиеся весенние почки.
Газеты откликнулись на смерть Тремюла лишь несколькими заметками в спортивной рубрике. О нем упоминали как о президенте футбольного клуба — вот и все, что представляло в этом человеке интерес для посторонних. Остальное же — его подлинная роль в жизни — так и осталось неясным для всех.
Шарль Тремюла унес с собой свой мир, тот, который был им создан, — мир бизнеса и мир его праздников. Особняк на авеню Анри-Мартен был вскоре продан. Попахивало распродажей имущества. Говорили, что финансовая сеть, которую сплел Тремюла — сложная и непрочная, точно паутина, — сразу же порвалась, что с трудом удалось избежать большого скандала. Но так ли это было на самом деле?
Женевьеву заточили в Туке — словно и она тоже ушла в таинственное небытие. Кати отослали в пансион в Лозанне. И хотя это была одна из самых дорогих школ в мире, при словах «сирота» и «пансион» невольно вспоминались грустные эпизоды из романов прошлого века. Как бы роскошен ни был пансион, сумеет ли девочка перенести эту разлуку с матерью, к которой всегда проявляла такую привязанность? И зачем понадобилось подвергать ребенка такому испытанию?
16
Женевьева опять стала писать Алексису письма своим правильным почерком, который способен был сбить с толку любого искусного графолога. Он прочел: «Мне вас не хватает». Несмотря на всю банальность этих слов, они потрясли Алексиса. Несколько месяцев спустя после смерти мужа Женевьева сообщила:
«Мне купили квартиру на авеню Рафаэля — это в конце Булонского леса, — чтобы я могла найти там пристанище, когда мое здоровье поправится и мне будет позволено вернуться в Париж».
Она и в самом деле стала наезжать ненадолго в Париж. Теперь ее встречи с Алексисом были в полном смысле любовными свиданиями. Они запирались на авеню Рафаэля, а когда сестра Женевьевы, приезжая в Париж, тоже использовала эту квартиру, то вынуждены были идти в гостиницу. В одну из этих гостиниц для иностранцев. Женевьева была нежной, приветливой и даже веселой. Если у них оставалось время, она просила сводить ее в кино. Потом она уезжала в Туке и вновь становилась далекой принцессой.
Когда Алексис оставался один, в памяти воскресали картины, которые ему посчастливилось увидеть. Вот Женевьева раздевается, а потом одевается в дорогое белье и костюмы, каких ему прежде не случалось видеть… Вот она стоит нагая перед задернутыми портьерами и благодаря тонкой фигуре кажется выше ростом, а каждая линия тела подтверждает то, о чем говорило ее лицо, — серьезные усталые глаза Женевьевы удивительно контрастировали со ртом, вот-вот готовым улыбнуться, и с прихотливыми завитками коротких темных волос. И точно так же ее тонкие руки, едва заметная грудь и узкие бедра — он любил класть на них руки, — все ее тело как бы говорило, что его гармония, его красота необычайно хрупки. Но эта хрупкость была возбуждающей, призывной… Вот Женевьева, встав коленями на край постели, устремляет на него в полумраке взгляд своих больших черных глаз…
Случалось, однако, что она подолгу не приезжала. И тогда Алексис задавался вопросом: как Женевьева, его хрупкая Женевьева, может жить без него? Эта любовь родилась и выросла из первоначальной потребности помогать жене Тремюла, потребности защитить ее — от грубого мужа, от других мужчин, от жизни. Она часто повторяла, что ей страшно. Алексису подумалось: вот так, вероятно, говорят все женщины — это просто уловка, чтобы удержать мужчину. И все-таки он старался поддерживать в себе то чувство преданности и благоговения, какое Женевьева всегда внушала ему. Но при этом был вынужден признаться себе, что теперь она, похоже, прекрасно обходится и без него. Как ни странно, хотя смерть Тремюла вернула Женевьеве свободу — ее держала под своей опекой семья, — она не торопила Алексиса порвать с Ниной окончательно, чтобы их любовь могла наконец получить идеальное воплощение. А он — то ли из чувства такта, то ли из трусости — не осмеливался коснуться этой темы. Он слушал, как Женевьева говорит об их любви теми же словами, что и прежде, но чувствовал, что отныне ее жизнь протекает где-то в другом месте. Как-то раз она приехала в Париж с ногой в гипсе и на костылях. Она объяснила, что ездила со своей сестрой Мари-Терезой (содружество, дававшее повод для самых разных предположений) в горы и упала, катаясь на лыжах. Алексис все-таки попытался ее раздеть, но она отстранилась:
— Право, ни к чему. В другой раз.
В отличие от Женевьевы Алексис чувствовал себя потерянным. Нина много разъезжала по служебным делам, ее часто не было дома, и он, оставшись один, работая, слушал пластинки или радио, недовольный самим собой и тем оборотом, какой принимал его роман с Женевьевой. В такие дни живопись была его спасением и утешением. Он всецело доверялся полотну и, поставив его перед собой, тщательно обрабатывал каждую деталь, не отрываясь до тех пор, пока ему не удавалось достичь гармонии цвета и формы и таким образом компенсировать то, что делало его жизнь серой и монотонной. В тот период любимыми его цветами были синий и красный.
Ему казалось, что Бюнем стал теперь его единственным приятелем. Историограф трех героев был обескуражен и очень огорчен тем, что семья отвергла его рукопись, восприняв ее как тяжкую обиду, едва ли не подлость. Их сыновья вовсе не барометры. Рукопись вывела их из себя. («Есть люди, которые живут лишь тогда, когда выходят из себя» — прокомментировал Бюнем.) Они пришли в такую ярость, что не только ничего не заплатили ему, но еще и заставили вернуть аванс. Итак, помимо раны, которая была нанесена самолюбию автора (пусть анонимного, но все же автора), он потерпел еще и финансовый крах.
— Не знаю, как мне извиниться перед вами. Я не в состоянии сдержать свое обещание и пригласить вас пообедать.
Бюнем заходил к Алексису несколько дней подряд. Затем, словно терзаемый угрызениями совести, подолгу не являлся. Когда же пришел снова, то принес пакетик, перевязанный шелковой ленточкой, и попросил передать его Нине. В пакетике оказались три плитки горького шоколада, привезенного им из Бельгии. Каждый год в начале сентября Бюнем позволял себе неделю отдыха. Он уезжал всегда в одно и то же место и останавливался в маленьком отеле в долине реки Вар. По-прежнему один — как на отдыхе, так и все остальное время. Алексис удивлялся, что у него хватало мужества уезжать вот так, в одиночестве, удивлялся он и тому, что такой умный человек, намного лучше других, живет изгоем и не нашел своего места в обществе только из-за того, что не вышел ростом и лицом. Что ж тут удивляться — случается и такое! Несколько лишних сантиметров роста или полноватая талия, длинный нос, некрасивый подбородок или вялая грудь обрекают женщину на одиночество. Но одиночество Бюнема объяснялось не только внешними данными.
— Мне известна ваша фамилия, — однажды сказал ему Алексис, — но я не знаю, как вас зовут.
Кадык задрожал на шее Бюнема.
— Я и сам уже не знаю. Да имя мне больше и не требуется. В войну погибла вся моя семья, погибло много друзей, и не осталось никого, кто звал бы меня по имени. Где взять силы жить, когда ты сам едва дышишь от одного сознания, что все, кого ты любил — отец, мать, сестра, друг детства, — либо погибли в гетто, либо загнаны в газовую камеру и сожжены в печи, а если не хватило места в печи, брошены в пылающий ров с керосином. — И, словно желая утешить Алексиса или, по своему обыкновению, стремясь уточнить свою мысль, Бюнем добавил:
— Я в обиде не на людей. Я в обиде на жизнь.
Несмотря на все свои заверения о пристрастии к псевдонимам и нежелании заниматься литературным творчеством, человечек с бугристым черепом был просто помешан на литературе. Однажды он безапелляционно заявил:
— Во всей французской литературе нет фразы романтичнее, чем та, которая написана Пьером Мак-Орланом: «Одноногая красавица умирала от женской болезни в комнате над кабаре».
Однако его самыми любимыми писателями были русские — их имена ничего не говорили художнику: Андреев, Александр Грин, Василий Розанов, Соллогуб, Булгаков.
— У Розанова в его «Мрачном лике Христа» есть высказывание о религии, которое мне хотелось бы перечитать. Он говорит: «Оставаться дома просто для того, чтобы ковырять в носу и любоваться заходом солнца, поважнее всякой религии, потому что со временем всякая вера исчезнет, а это останется…»
И, следуя своей привычке уточнять одну фразу другой, которая ее опровергает, Бюнем добавил:
— Мне нравится мысль, что ковырять в носу поважнее религии. Но поскольку это говорю я, помните, что, если о своем неверии заявляет еврей, ему не следует верить.
Он помолчал и, похоже, хотел еще что-то добавить, но так ничего и не сказал.
— В детстве бог всегда помогал мне плакать.
Сколько могло быть Бюнему лет? Невозможно определить.
Хотя Алексису и казалось, что рисует он лишь для собственного удовольствия, тем не менее им заинтересовался владелец маленькой картинной галереи на улице Сены.
Арно Рюфер носил бороду, курил трубку и носил толстые шерстяные рубашки и бархатный костюм. Он куда больше походил на художника, нежели Алексис. Самой положительной его чертой была деликатность, с какой он давал советы. В первый момент даже невозможно было осознать всю важность и значительность того, что он говорит тихим голосом, как бы извиняясь. Бородатый коммерсант, казалось бы, ни во что не вмешиваясь, заставил Алексиса собрать определенное количество полотен, чтобы устроить небольшую персональную выставку.
Старая компания встретилась на вернисаже, впервые после долгого перерыва. Алексис пригласил также группу людей, с которыми познакомился у Тремюла, — тех, чей адрес он еще не потерял. Батифоль и Фаншон были милы, как всегда. Футболист, обойдя галерею, покровительственным тоном бросил: «Недурно, недурно». Нина исполняла роль жены художника, которую воспринимала как неприятную обязанность: разносила стаканы из толстого красного стекла и угощала подсоленным печеньем. Алексис никак не мог решить, грустит он по поводу отсутствия Женевьевы или доволен, что ее здесь нет и она не увидит этого чуточку жалкого праздника, на котором, ему казалось, он бывал уже десятки раз — когда их устраивали в честь таких же бедолаг-художников, как и он сам. Но в конце концов эта выставка служила доказательством его существования в искусстве, и отныне хотя бы станет известно, где можно увидеть его картины. Он начал принимать визитеров у себя дома, ему даже пришлось купить большой мольберт, чтобы ставить на обозрение одно полотно за другим — процедура, казавшаяся ему страшно утомительной для рук и испытанием для его чувств. Неужели я все еще молодой художник? — спрашивал он себя. И как когда-то в юности, продолжал чего-то ждать от будущего.
17
Когда Алексис очень уставал от работы, он, желая отвлечься, шел навестить Батифолей. Они жили на улице Шарля V, за церковью апостола Павла, в доме, построенном еще в XVII веке; его ни разу не реставрировали, так что выглядел он довольно мрачно. Район Марэ в ту пору еще не стал модным. Алексис подшучивал над супругами:
— Надо быть титулованными особами, как вы, маркиз и маркиза, чтобы плесневеть в этом старинном дворце — еще бы, ведь он достался вам по наследству и его передают из поколения в поколение, с пылью и паутиной на лестнице в виде бесплатного приложения.
Как правило, Батифоль и Фаншон бывали дома после полудня, к этому времени они только-только поднимались с постели. Комик, казалось, забыл о пережитом провале в театре и снова, как и прежде, выступал со своим коронным номером в мюзик-холлах и ночных кабаре на правом берегу. Но может быть, это было только внешнее впечатление? Теперь о нем говорили значительно меньше, в моду входили новые эстрадные актеры — начался его закат. Однажды он спросил Алексиса без всякого предварительного вступления:
— Ты не думаешь, что скоро придет тот день, когда я перестану смешить публику?
Художник, которого этот вопрос застал врасплох, не сумел найти ни утешительных слов, ни подходящих интонаций.
Когда Алексис приходил к своим друзьям, Фаншон с наигранным восторгом, как это принято в богемной среде, бросалась к нему на шею. Затем все трое пили вино, много курили и мало разговаривали. Иногда обменивались новостями о Женевьеве.
— Почему она все время в Туке? — спрашивал Батифоль.
Алексис отвечал, что не знает.
— Ведь ее здоровье как будто бы поправилось?
— Да, по ее словам, она чувствует себя уже хорошо. Она как-то призналась мне: «Ужасно произносить такие слова, но после смерти Шарля все мои страхи как рукой сняло».
О Тремюла они говорили с чувством стеснения, словно все то, о чем умалчивалось при его жизни — взаимные обманы и тайные унижения, — были единственными воспоминаниями, какие он оставил после себя. И тогда перед глазами Алексиса невольно вставала картина: мертвый Тремюла в большом гробу на кладбище в Пасси. Он отчетливо видел его: белое как мел лицо, поджатые губы и скрещенные руки — все тот же невозмутимо-учтивый и элегантный вид, какой часто бывал у него при жизни, а теперь казался немым укором им всем.
Квартира Батифолей выходила окнами на узкую улицу, и потому, несмотря на высокие потолки, здесь всегда ощущался недостаток дневного света, электричество у них горело даже днем. Чтобы в окна не заглядывали соседи из дома напротив, двойные шторы чаще всего не раздвигались, и, поскольку они очень выгорели, квартира имела какой-то заброшенный вид. Нина редко приходила сюда вместе с мужем: в течение всей недели работала, а в воскресенье, поскольку она продолжала увлекаться футболом, никогда не пропускала матчей, которые бывшая команда клуба Тремюла проводила на стадионе в Коломбо. Билеты ей доставал Марманд. Как и предполагали, он уже больше не выходил на поле и стал тренером — прославленным тренером, который умел обеспечить своей команде лидирующее место в первой группе. Нина была преисполнена радости и даже гордости, когда его команда одерживала победу. Однако она не впадала в уныние и в случае поражения.
Однажды, когда Алексис пришел на улицу Шарля V и приятно проводил время с друзьями, неторопливо попивая чай и дымя сигаретой, Батифоль, сидевший в низком кресле, вдруг выпрямился и в упор посмотрел на художника. Бесстрастно, словно врач, произносящий свой приговор после тщательного обследования больного, он объявил:
— В конечном счете ты неудачник.
Алексис растерялся. Но ответил спокойно:
— Не думаю. Я не задавался никакой целью, а следовательно, не могу согласиться, будто что-то упустил в жизни. Я никогда не стремился стать знаменитым художником или чем-либо в этом роде.
А про себя добавил, что упустил в своей жизни лишь одно — любовь Женевьевы (конечно, при условии, если веришь в любовь — сам он верил в нее лишь наполовину).
— Батифоль преувеличивает, — сказала Фаншон.
— Нет, почему же? — возразил Алексис.
Он задумался. О чем свидетельствует этот диагноз, поставленный Батифолем, — о его глупости или тонкости? На следующий день Алексис рассказал об этом разговоре Бюнему, и тот наставительно сказал:
— Каждый проигрывает в жизни по-своему — в зависимости от своих возможностей и убеждений.
В воскресенье Батифоль часто уходил из дому на дневное представление, и Алексис оставался с Фаншон наедине. Эти воскресные свидания вскоре приобрели особый характер. Оставшись вдвоем, они, полулежа на диване, вели нескончаемые дискуссии, неизменно завершавшиеся тем, что Фаншон сворачивалась калачиком в объятьях Алексиса, которого всегда влекли к себе ее чувственные губы. Художник был не в силах удержаться, чтобы не целовать ее. Однако, сколько бы они ни обнимались, Фаншон говорила, что не хотела бы стать любовницей Алексиса. Чаще всего она была одета в черный пуловер и джинсы, что подчеркивало ее худобу. Лаская Фаншон, Алексис ради забавы старался отыскать ее наиболее чувствительные точки.
Он быстро уяснил, что стоит ему только провести рукой по позвоночнику, как молодая женщина сильно вздрагивает и начинает умолять его перестать.
— Ой, не надо, не надо! — твердила она со своим парижским выговором. В такие минуты Алексису неизменно вспоминался голос Женевьевы, ее интонации, типичные для Пасси, — благовоспитанные и чуточку инфантильные. Как и в те дни, когда готовилась постановка мюзикла — он поцеловал тогда Фаншон впервые, — эти поцелуи и ласки обычно заканчивались тем, что она заливалась слезами.
— Не плачь, бедняжка Фаншон, — утешал ее Алексис, — я люблю тебя.
Фаншон отчаянно цеплялась за него. Она тоже шла ко дну.
Фаншон уходила встречать Батифоля после дневного выступления, и они отправлялись наспех перекусить в баре — в перерыве между дневным и вечерним представлениями. А художник возвращался домой. Нина, как правило, приезжала с футбола поздно вечером.
18
Пока Алексис причесывался, включив радио, каких только немыслимых передач он не наслушался. Так, он прослушал начальный курс истории античной литературы, передаваемый из Сорбонны, передачу по астрофизике, биографию Брилла-Саварена, лекцию по истории арабской письменности… Ему случалось довольно часто слышать по радио голос Анжа Марино-Гритти, который приобрел известность своими пересказами историй и легенд, родившихся в долине Арьежа и стране катаров[21]. Он вел эти передачи от первого лица и словно рассказывал о себе самом, своем детстве, о стариках, передавших ему семейные традиции. У Алексиса было такое впечатление — пожалуй, даже уверенность, — что в начале их знакомства Марино-Гритти называл своей родиной лимузенскую деревню где-то севернее Брив-ла-Гайяра: именно оттуда он и ушел в маки́. Очевидно, поэт счел, что «страна катаров» звучит заманчивее. Марино-Гритти одним из первых использовал моду на регионализм. Еще немного, и он начнет писать «окситанские» романы, нет, даже не романы, эпопеи. Станет готовить постановки для народных театров — сгустки истории, где будет намешано всего понемногу: Монсегюр и башня Констанс, 1792 год, Парижская коммуна и Кубинская революция.
Если Алексису надоедала болтовня по радио и не было лень менять пластинки, он слушал музыку — классическую или джазовую, в зависимости от настроения. Ему хотелось приобрести «Фолию» Корелли, но он никак не мог раздобыть запись. В конце концов он случайно встретил среди пьес для клавесина вариации на тему «Фолии ди Спанья» Алессандро Скарлатти. Он слушал эту музыку, с сожалением вспоминая и скрипку, и Женевьеву.
Бюнем появлялся редко. Алексис упрекнул его за это.
— Последнее время я чувствую себя неважно. У меня астма, — объяснил маленький человечек.
— Это что-то новое.
— Да. В некотором роде новое приобретение.
Однажды вечером, ожидая возвращения Нины, Алексис прилег на кушетку в мастерской и задремал. Его разбудил звук открывающейся двери и стук каблуков. Он открыл глаза. Нина холодно смотрела на него. Она стала раздеваться: сбросила туфли, расстегнув молнию, уронила юбку к ногам, потом стала снимать блузку — все это она проделала автоматически, словно была чем-то озабочена. Подобрав одежду с пола, она пошла за халатом и тут же вернулась. Алексис сидел на кушетке, и Нина, остановившаяся рядом, смотрела на него сверху вниз. Играя пояском от халата, она сказала:
— Послушай-ка, я давно уже задаюсь вопросом, во имя чего мы живем вместе. Оба мы материально не нуждаемся. Может, нам следует развестись?
— Не знаю, что и ответить, — сказал Алексис, с грустью сознавая, что свобода, о которой он мечтал, чтобы быть вместе с Женевьевой, ему больше не нужна. И добавил: — Я понимаю, ты раздражена тем, что застала меня спящим. Но, знаешь, я весь день работал.
— Я виню тебя не за это. В сущности, я тебя вообще ни в чем не виню. Ты никогда не перечишь, со всем соглашаешься. Но от тебя ничего нельзя добиться. Ты ведешь себя так, словно вообще не существуешь. Если бы ты знал, как это меня тяготит! Мы перестали даже ссориться. Да с тобой и невозможно поссориться — тебя просто нет.
— Даже если отношения не совсем ладятся, жить вдвоем все-таки легче, нежели одной.
— А кто тебе сказал, что я намерена жить одна?
— Ах, значит, есть кто-то, с кем ты собираешься жить?
— Не будем затрагивать эту тему, не то я напомню тебе о твоей несостоявшейся идиллии с мадам Тремюла — думаю, тебе это радости не доставит. Кстати, ты продолжаешь с ней встречаться?
В заключение Нина сказала:
— Словом, подумай. Спешить незачем.
С того вечера она больше не заводила речи о разводе. Алексис — тоже, но он часто вспоминал этот разговор. Он понял, что жена бросила пробный шар и ни на чем не будет настаивать. Но решение она приняла и выжидала лишь подходящего момента.
19
Однажды, в зимнее воскресенье, оставшись одни в квартире на улице Шарля V, Фаншон и Алексис вспоминали то время, когда все они собирались у четы Тремюла.
— Мы были у них за шутов, — сказала она. — А кончилось все тем, что мы стали им не нужны. И не только из-за того, что Шарль умер. Останься он жив — вполне возможно, мы бы ему скоро надоели.
— Ты, несомненно, права, но можно думать и иначе: именно мы и способствовали разрушению этой семьи.
Как обычно, она с нетерпением ждала его объятий.
— А Женевьева! Чем стала она дня тебя сегодня? По-прежнему занимает в твоей жизни главное место?
— Нет… Впрочем возможно…
На этот раз Фаншон сделала первый шаг. Расстегнув пуговицу на его рубашке, она скользнула под нее рукой. Он мгновенно сбросил одежду, и вскоре тела их слились. Фаншон стонала грудным голосом, казалось, она стонет от боли, сама удивляясь тому, насколько сильны эти страдания. Потом ее захлестнула волна нежности. Она ласково смотрела на Алексиса. Губы у нее припухли. Она выглядела помолодевшей.
— Хотелось бы мне знать, какой ты была в восемнадцать лет, — сказал Алексис.
— Я была полна доброжелательности. Делала все, чего от меня ждали, мне хотелось, чтобы меня постоянно хвалили и одобряли.
— А мальчики за тобой еще не увивались?
— Я была робкой девчонкой, заливалась краской от любого взгляда. В консерватории кое-кто за мной пытался ухаживать. Затем появился Батифоль. Могла нарваться на кого-нибудь и похуже.
Внезапно она опять стала такой, какой он знал ее сейчас, — потасканной, циничной. Фаншон принялась рассказывать сплетни из жизни театрального мира, смакуя мерзкие подробности. Алексис подумал, что она испорчена до мозга костей и вернуть ту чистоту и непосредственность, какая была ей свойственна когда-то, по-видимому, так же невозможно, как очистить реку, превратившуюся в сходную канаву. Он был уверен, что она росла очаровательной девочкой, мечтавшей о светлых идеалах, и злился на тех, кто способствовал ее чудовищному превращению: на Тремюла, на толстяка Батифоля. Как странно: Фаншон становилась прежней лишь тогда, когда плакала или когда они сливались в объятьях.
Так началось у Алексиса с женой Батифоля то, что можно было бы назвать новой связью или — как знать? — новой любовью. Однако Женевьева продолжала пребывать на пьедестале, она была богиней того маленького алтаря, который он себе создал для поклонения в ее отсутствие. Она была так далеко… И приезжала все реже и реже… Может быть, Женевьева тоже менялась в худшую сторону? Она похудела, две лукавые и нежные складочки в уголках губ все больше становились похожими на морщинки. Черные глаза казались еще огромнее. Она курила сигарету за сигаретой, и, когда Алексис целовал ее, он чувствовал запах табака.
Приехав в Париж в один из майских дней, она назначила Алексису свидание на террасе кафе, расположенном на площади Виктора Гюго. Как всегда, она засыпала его вопросами — о жизни, о работе, расспрашивала, что он делал, что видел. А потом как бы вскользь бросила:
— Похоже, ты частенько встречаешься с Фаншон…
— Да. Она тоже неприкаянная…
— Понятно… Понятно…
И поскольку Алексис опустил глаза, Женевьева заключила:
— Это ничего.
Она снова натянула перчатки, которые сняла, войдя в кафе.
— Мне пора… Знаешь, Алексис, мне бы не хотелось, чтобы ты узнал об этом из чужих уст… дело в том, что я опять собираюсь выйти замуж… Не по любви.
Она произнесла «Алексис» все тем же приглушенным голосом, который всегда наводил его на мысль, что до нее никто не умел так произносить его имя, и эта особенность устанавливала между ними неповторимые отношения, глубокую связь.
— Не по любви… — произнес он. — Тогда почему?
— Мне он очень нравится. Сюда примешиваются также материальные соображения. И мои родственники настаивают на этом браке.
— А у меня все наоборот, — зачем-то сказал он. — Нина заговорила о разводе.
— Вы не созданы друг для друга.
Вот и все, что она смогла сказать в ответ. Он прекрасно понимал, что не следовало говорить ей об этом, — слишком поздно, но не мог удержаться, быть может, ради горького удовольствия услышать именно такой ответ.
— Если бы ты знала, как я тебя любил! Случалось, я не спал целые ночи напролет, лежал до утра в темноте с открытыми глазами, чувствуя, как бешено колотится сердце. Разлука с тобой была для меня нестерпимой.
Алексис отметил, что почему-то говорит в прошедшем времени — это получилось вовсе не специально, он сам был поражен, но Женевьева изобразила улыбку, словно желая сказать, что польщена. Неужели же он и в самом деле так ее любил? Алексис понял, что сейчас их любовь жестоко отбрасывалась в прошлое, а может быть, даже вообще подвергалась сомнению. Он спросил:
— Чем ты занимаешься? Как проводишь время?
— Три раза в неделю играю вместе с другими дамами в бридж. Мы собираемся то у одной, то у другой. А предварительно готовим столы, холодную закуску… Ты, конечно, умеешь играть в бридж?
— Нет… — Он пробормотал: — Женевьева…
— Что такое?
— Ничего…
Он спросил, как поживает Кати, приезжает ли девочка на каникулы повидаться с мамой.
— Девочка… Ей скоро исполнится шестнадцать. Она стала красивой, знаешь. Еще немного, и мама будет ей уже не нужна. Вот еще одна причина, побудившая меня на новое замужество.
Алексис опять подумал, что скоро для Женевьевы, для него самого и для всех его друзей останется позади то время, когда в жизни происходит что-то интересное, и тогда придет время жить для Кати. Быть может, к ней перейдет роковое обаяние и опасная хрупкость ее матери, потому что надо, непременно надо, чтобы во все времена на земле существовали женщины, подобные ей, и зажигали сердца таких мужчин, как он, — рождая и возрождая нежность, печаль и мечту.
После того дня, как Женевьева сказала о своем предполагаемом браке, они перестали встречаться. Больше она не приглашала Алексиса к себе, и, уж конечно, не было речи о том, чтобы идти в отель. Однажды он спросил Женевьеву, как обстоят дела с ее замужеством.
— Похоже, все произойдет очень скоро, — последовал ответ.
Однажды в ноябре, ожидая Женевьеву после полудня в баре неподалеку от церкви Мадлен, он увидел, что она направляется к нему через весь зал, пробираясь между столиками, как обычно, легкая, со своей неизменной улыбкой, которую он заметил еще издали. Она до такой степени приковала его взгляд, что он не пошевельнулся даже тогда, когда Женевьева опустилась на диванчик рядом с ним. Она спросила:
— Ты меня не целуешь?
Он сжал ее в объятьях и стал целовать ее лицо, ее рот. Когда он наконец разжал объятья, она с удивлением посмотрела на него.
— Я не это имела в виду.
Ему хотелось спросить: «Где то, что мы обещали друг другу?» Но разве они что-нибудь обещали друг другу? Возможно, что и нет, но было такое время, когда они обходились без слов. Тогда Женевьеве было достаточно только произнести своим обычным тихим голосом: «Алексис…»
Фаншон зачастила к нему в мастерскую. Она двигалась бесшумно и осторожно, точно зверек, изучающий незнакомые места. Кончалось тем, что она устраивалась у него за спиной и, если Алексис не настроен был разговаривать, внимательно и молча следила за его работой. Словом, она вела себя почти так же, как Бюнем; можно было подумать, что, являясь к Алексису по очереди, они передавали его друг другу как эстафету. Случалось, они сталкивались у него лицом к лицу. Бюнем вел себя корректно, но чувствовалось, что он проявляет живой интерес к женщинам, которых встречал у Алексиса, даже если и немедленно спасался бегством, застав у художника гостью. Должно быть, он догадывался, какую роль играли в жизни его соседа сначала Женевьева, потом Фаншон. И он неизменно приносил свои пакетики с плитками горького шоколада для Нины.
— Какой странный тип, — говорила Фаншон. — Похож на философа.
— Нет, он не философ. Просто отчаявшийся человек.
Сталкиваясь в мастерской с женой Батифоля, Бюнем, прежде чем удалиться, тянулся, при своем маленьком росте, поцеловать у нее руку.
— Раз он все еще прикладывается к ручке, — говорила Фаншон, — не иначе как это выходец из Польши.
Однажды Бюнем подал Алексису мысль:
— Вам бы нарисовать сирень.
— Сирень! Что за странная идея?
— И не просто нарисовать, а так, чтобы эта сирень заполонила всю картину: при ее поразительных оттенках это должно производить ошеломляющее впечатление.
В тот же раз он спросил:
— Вы случайно не читали светскую хронику во вчерашней «Монд»? Я имею в виду не сообщения о рождениях и браках, а сообщения о смерти.
— Читал. Но я не увидел там знакомых имен.
— А я увидел. Там было сообщение о смерти камбоджийской принцессы. В действительности она француженка, но вышла замуж в Камбодже. Так вот, речь идет о женщине, с которой одно время, еще до войны, мы были вместе.
Его кадык снова задрожал.
— В тридцать девятом я завербовался в армию в качестве волонтера-иностранца. Десятого июня сорокового года меня взяли в плен в Экеннах, на Сомме, неподалеку от Пуа-де-Пикарди. Я попал в концлагерь Рошостервиц — это в Австрии, под Клагенфуртом. Три раза пытался бежать. Дважды меня хватали и возвращали назад, но в третий раз попытка удалась. Бежать меня побуждали ненависть к Гитлеру и желание продолжать борьбу, пока не будет окончательно истреблена эта нечисть, но сильнее всего было желание снова отыскать эту женщину. К сожалению, она меня не дождалась.
Хорошо бы он рассказал об этом подробнее…
— Терпеть не могу предаваться воспоминаниям. А между тем у меня безупречная память, — продолжал Бюнем. — Я помню все. Я мог бы повторить каждое слово, когда-либо слышанное мною.
После этого утверждения, прозвучавшего прелюдией, Алексис ожидал, что Бюнем приступит к рассказу о своих любовных похождениях с камбоджийской принцессой.
— Да, я помню все. Единственное, что я начисто забыл, — это подробности несчастного случая, который произошел со мною пятого сентября тысяча девятьсот сорок пятого года. В этот день на меня наехал автобус. Это произошло на бульваре Бомарше.
Он провел рукой по лбу.
— У меня был перелом костей черепа, и четыре дня я находился между жизнью и смертью.
Алексис посмотрел на его шишковатую голову. Интересно, эти бугры — результат несчастного случая или же просто причуды природы?
— Я не помню ровным счетом ничего. Я даже не видел этого автобуса. Четыре дня полного провала в памяти. Очнулся в больнице Ларибуазьер. Им пришлось рассказать мне, что со мной произошло. — Он добавил: — Голова… Я очень боялся за свою голову. Это все, что у меня есть, чтобы работать, чтобы устоять перед другими, теми, кто…
Он умолк. Что он хотел сказать? Кто эти «другие»? Те, кого природа одарила силой, красотой, богатством, успехом у женщин?
На этом откровения Бюнема оборвались, больше он не сказал о камбоджийской принцессе ни слова.
Алексис вовсе не испытывал желания рисовать сирень. Он задумал серию натюрмортов, но в несколько необычной манере: он не стал грунтовать холст, и изображение предметов — или, скорее, смутные их контуры — как бы проступало сквозь ткань, готовое вот-вот исчезнуть. Он назвал эту новую серию «Вещи покидают нас».
20
Воспользовавшись тем, что муж вернулся домой не слишком поздно, Мари-Жо Марманд закатила ему бурную сцену, не заботясь о том, что дети — Тьерри, Шанталь и Жози — могут слышать скандал из своей комнаты, она принялась упрекать его, что он забросил семью и без конца унижает ее. Мари-Жо плакала. Нос у нее заострился и побелел. Она была вне себя от ярости. Футболист смотрел на ее покрасневшие глаза с коротенькими ресницами, на ее прямые, редкие волосы и спрашивал себя, в самом ли деле ему жаль эту женщину. Во всяком случае, Мари-Жо никогда его не понять. «Меня терзают два тирана, — думал он, — Мари-Жо и моя чувственность». Однако не одна только чувственность заставляла его домогаться женщин — молодых и не слишком молодых, красивых и совсем невзрачных. Он получал удовольствие, одерживая очередную победу, добиваясь капитуляции и видя, что его жертва сама желает этого поражения. Ему никогда не надоест наслаждаться, убеждаясь, что незнакомка — а он видел ее в каждой женщине — приходит туда, куда он пожелает, чтобы сложить оружие и доспехи и сдаться на милость победителя; ему доставляло особую радость вырвать у нее стон в минуту наслаждения — свидетельство своего окончательного триумфа. Эта потребность в постоянных завоеваниях возникла у него после того, как в восемнадцать лет он сделал восхитительное открытие — оказывается, совсем легко доставить женщине радость, и он с изумлением наблюдал, как они без всякого сопротивления падают в его объятья, хотя и знают, что за близостью последует неминуемая разлука. Он познал счастье делать счастливыми других. И все-таки, несмотря на свой богатый опыт, он всегда боялся быть отвергнутым, обнаружить, что из двоих только он один стремится к наслаждению, и потому тем более восхитительным был момент, когда он убеждался, что и его возлюбленная получает от любовной игры не меньшее удовольствие.
Он прекрасно знал, даже если никогда и никому в этом не признавался, что его подлинной жизнью была жизнь чувственная. Он нуждался в женском теле. Огорчительно только то, что, как правило, женщины хотели навязать ему еще и свою душу. А в этом он нужды не испытывал — от этого не жди ничего, кроме неприятностей. Да, его подлинной жизнью была жизнь чувственная, даже если его влекло к женщине еще и стремление понравиться или найти успокоение, обрести теплое гнездышко у нее на груди. Однако все эти относительно сложные чувства он сводил к простой формуле и о себе говорил так: «Люблю обольщать женщин». Он осознавал, что в нем странным образом уживаются Джекиль и Хайд[22], — он был постоянно занят либо футболом, славой, успехом, либо поисками чувственного наслаждения, — и один вытеснял другого. Это вынуждало Марманда скрывать от всех свои любовные похождения точно так же, как раньше он стремился сохранить в тайне поручения неблаговидного характера, которые давал ему Тремюла.
Связь с Ниной не мешала ему искать встреч с другими женщинами. К тому же его влечение к Нине стало остывать. И если он еще продолжал поддерживать эту связь, то у него были на это особые причины: он хотел подняться по общественной лестнице, приобщиться к культуре, а для этого ему нужна была возлюбленная — заложница из того мира, куда он надеялся проникнуть. Он считал Нину умной, тонкой. Правда, она не обладала природным изяществом Женевьевы, но Женевьева казалась Марманду слишком неуравновешенной. Таким образом, если принять теорию антиподов, воплотившихся в Марманде, Нина, сама того не зная, перестав быть любовницей второго — сластолюбивого альфонса, стала возлюбленной первого — знаменитого и тщеславного футболиста.
Эти мысли, бродившие в голове Марманда, помогали ему сносить крики жены, которые временами достигали такой силы, что он с удивлением думал, как могло издавать их это тщедушное существо в халатике из цветастого мольтона.
— Если ты сейчас же не замолчишь, — неожиданно сказал он, — я уйду из дому. Завтра утром у меня тренировка, и мне рано вставать.
Тишина мгновенно воцарилась в спальне, которую Марманд называл про себя с тем грубоватым юмором, каким он отличался иногда, «местом искупления грехов».
Футболист уснул, ощущая рядом с собой враждебное присутствие Мари-Жо, неподвижно лежавшей в темноте с открытыми глазами, приготовившись к мукам бессонницы. Наутро, когда он проснулся, ее рядом не было. Он услышал привычную возню в кухне, где обычно завтракали дети. Потом Тьерри, Шанталь и Жозиана отправились в школу.
Мари-Жо вошла в спальню и зажгла верхний свет. Она была все в том же мольтоновом халатике.
— Вставай же, — сказала она, — раз тебе нужно на тренировку.
Кристиан Марманд откинул простыни и встал с постели нагой. Мари-Жо завопила:
— И не стыдно тебе демонстрировать свои прелести, раз ты давно уже во мне не нуждаешься! Убирайся-ка лучше к своим девкам! — Потом уточнила: — К своей девке!
И снова начался скандал. Накинув халат, Марманд пошел на кухню. Мари-Жо отправилась следом за ним. Она молча смотрела, как он наливает себе кофе, намазывает маслом гренки. А когда заговорила снова, то уже не повышала голоса. Только спросила еле слышно:
— Почему ты меня так обижаешь? Ведь я не злая.
— Злые не ведают того, что они злые, — ответил Марманд.
Мари-Жо промолчала. Он подумал, что она успокоилась и, быть может, даже в состоянии его выслушать.
— Послушай, — начал он, — давай поговорим спокойно… по-дружески… Я много думал. В том, что с нами происходит, нет ни твоей вины, ни моей. Так к чему же ссориться? Я хотел бы тебе объяснить…
Мари-Жо слушала его, казалось, с некоторым удивлением. Она застыла на месте и, похоже, не собиралась его прерывать. Он представил себе, что перед ним футбольное поле, где расставлено множество ловушек, и ему предстоит провести через все это поле мяч.
— Когда мы с тобой познакомились, мы были совсем юные, почти дети. В то время мы были в равном положении и влюблены друг в друга. Затем появился футбол.
Мари-Жо, забыв о сдержанности, стала на чем свет стоит поносить спорт.
— Перестань. Благодаря футболу я занял положение в обществе, стал зарабатывать больше, намного больше, чем прежде. А ты бы хотела, чтоб я всю жизнь корпел в мастерской? За это время я пообтесался, стал лучше разбираться в жизни, многое узнал. Возможно, мой природный ум только и ждал, чтобы его пробудили. А может, мне просто здорово повезло. Не знаю…
Он продолжал вести мяч, меняя тактику в зависимости от того, что читал в глазах жены: недоверие или вспышку гнева. Совсем как в футболе, когда приходится делать обманный маневр, чтобы провести мяч, — отпасовать, чтобы потом снова ринуться к воротам.
— Вся беда в том, что ты за мной не поспевала. Ты осталась такой, какой была. Не сердись, пожалуйста. Ни ты, ни я тут ни в чем не виноваты. Я думаю, ответственность за все ложится только на общество. Веками женщин отодвигали на второй план, держали их в кабале, а когда представлялся случай подняться по общественной лестнице, изменить свою жизнь, им было гораздо труднее, нежели мужчинам, освободиться от условностей. Смотри, что случалось нередко после революции. Женщины, которые, как правило, выходили замуж совсем юными, с годами отставали от своих мужей, не понимали их идей, и тем ничего другого не оставалось, как покидать их и искать других спутниц жизни, которые разделяли бы их убеждения.
— Что ты мелешь?! — вдруг прервала его Мари-Жо, с ужасом глядя на него.
Он сказал себе: «Вот они, ворота, — совсем близко. Сейчас самое время забить гол. Удар трудный, но промахнуться нельзя». Он почему-то подумал о хронических недостатках французского футбола: его игроки отлично владеют маневром, но часто обнаруживают слабость в завершающий момент игры.
— Ты мать моих детей, но мы перестали понимать друг друга. Что бы я ни сказал, что бы ни подумал — все причиняет тебе боль. Дальнейшая совместная жизнь для нас чистое безумие. Очевидно, я должен уйти и считаю, что в твоих же интересах согласиться на развод.
Итак, слово сказано. Казалось, оно повисло в тишине. Кристиан Марманд встал. Мари-Жо пошатнулась, ухватилась за край мойки, чтобы не упасть.
— Я тебя никогда не отпущу! — закричала она.
Кристиан повернулся к жене спиной и направился к двери. Мари-Жо выхватила из мойки, куда она поставила грязную посуду, фруктовый нож с заостренным концом, намереваясь бросить его в мужа. Но Марманд вовремя обернулся и, схватив жену за запястье, вывернул ей руку. Мари-Жо, вскрикнув, выронила нож. Кристиан Марманд замахнулся, чтобы ударить жену, но та попятилась и упала навзничь. Продолжая лежать на линолеуме, Мари-Жо громко выла, а потом заплакала навзрыд. Истерика продолжалась почти четверть часа. Наконец Мари-Жо услышала шум мотора — Марманд уехал.
Она встала и пошла за ножом, отлетевшим в другой угол кухни. Мари-Жо недоверчиво рассматривала это ненадежное оружие. Как же она не подумала о пистолете: ведь это была одна из любимых историй Кристиана. Она знала эту историю наизусть, принадлежа к числу жен, перед которыми мужья не стесняются повторять номера своего репертуара.
Вначале пистолет этот принадлежал певцу Игорю Чуковскому, русскому по происхождению, большому любителю выпить, что в конце концов и погубило его. Еще в тридцатые годы певец подвизался в разных кафе на Монпарнасе; вечно пьяный, вечно без денег, он был вдобавок ко всему еще и азартным игроком. Не раз, потрясая пистолетом, он грозился покончить с собой. Однако доконала его скоротечная чахотка. Пистолет был частью жалкого имущества, доставшегося его вдове, ибо в нескончаемом водовороте связей, страстей и драм он все-таки сумел обзавестись законной супругой по имени Вики. Это была высокая, тощая англичанка, танцовщица из «Парижского казино». Несколько лет спустя Вики объявилась снова — теперь она стала солидной дамой и вторично вышла замуж за своего соотечественника Джона Ландскейпа, владельца каретной мастерской, поселившегося в Леваллуа. У Ландскейпа работал подмастерье по имени Кристиан. Мало-помалу супруги прониклись к парнишке дружескими чувствами («Этот негодяй всегда умел влезть в душу», — подумала Мари-Жо, про себя комментируя историю, неоднократно пересказываемую мужем). Ландскейп и подал ему мысль заняться спортом — начать играть в футбол. Думал ли англичанин, что это обернется для Кристиана началом большой карьеры, окажется истинным его призванием? («И несчастьем для всех нас», — мысленно добавила Мари-Жо.) Кристиан иногда приходил к своим хозяевам с Мари-Жо, но их английский выговор внушал ей робость, и она рвалась поскорее уйти. И это несмотря на то, что мадам Вики часто говорила ей: «Какая вы милашка!» — ведь обычно люди не очень-то щедры на комплименты.
История с пистолетом имела свое продолжение. В годы войны, поражения и оккупации Джон Ландскейп и его жена постоянно дрожали от страха. Они давно получили французское подданство, но все продолжали называть их «англичанами», и они постоянно боялись, что их арестуют и интернируют, а потому жили, что называется, «тише воды ниже травы». Но несмотря на страх, а может быть, именно из-за страха, они все не могли решить, как избавиться от пистолета, который достался Вики после смерти первого мужа, и спрятали его, предварительно тщательно смазав и завернув в тряпки, в кухне за газовой плитой.
Когда вспыхнуло парижское восстание, Кристиан заявился в мастерскую в нарукавной повязке FFJ[23] и с большущим револьвером. («Ему всегда во что бы то ни стало надо было производить впечатление на окружающих».) Каретник прижал своего бывшего ученика к груди. Мадам пролила слезу и обняла его в свою очередь. После чего Кристиан возвратился да баррикады.
Но вскоре его постиг тяжкий удар. У него украли револьвер. Оружия на всех не хватало, и далеко не каждый повстанец был вооружен. Кристиан находился в доме неподалеку от Порт-Шампере, который служил участникам восстания штаб-квартирой и был похож на муравейник. Положив револьвер на подоконник, Кристиан отошел в глубь комнаты, когда же он вернулся, револьвера и след простыл. Искать вора при том, что люди непрерывно приходили и уходили, было совершенно бесполезно. Так Кристиан стал бойцом без оружия, иначе говоря — посмешищем.
В полной растерянности, считая, что его сражение уже проиграно, он отправился к Ландскейпам. Его вел сюда инстинкт — это были настоящие друзья, покровители, почти родные, и он любил бывать в их доме. («Просто-напросто он всегда был гадиной, которая так и норовила кому-нибудь напакостить».) Супруги Ландскейп, встретив Кристиана, молча переглянулись. А потом Джон пошел на кухню и извлек из тайника старый браунинг, который так славно послужил своему первому владельцу во время скандалов в кафе «Куполь» и «Дом» и который его жена столько лет прятала за плитой, — то ли как последнее средство защиты, то ли как талисман. Кристиану и в голову не приходило, что они могла хранить дома оружие. Вот так заканчивалась чудесная история о пистолете, которую любил рассказывать Кристиан Марманд. Ее продолжение он считал неинтересным, но в памяти Мари-Жо оно запечатлелось навсегда.
Спустя два-три дня после Освобождения Кристиан отправился на вечеринку к своим новым друзьям — соратникам по битве за Париж. Пистолет все еще был при нем. Он извлек браунинг из кармана и стал демонстрировать всем, передавая по кругу. Когда очередь дошла до Мари-Жо, ей захотелось получше рассмотреть пистолет. Она впервые держала в руках огнестрельное оружие и размахивала пистолетом, весело смеясь. По-видимому, она задела курок. Выстрел, раздавшийся в закрытом помещении, оглушил присутствующих. Пуля попала в потолок. Мари-Жо продолжала смеяться — теперь уже истерически. Кристиан с видом смельчака, который еще и не такое видел на своем веку, небрежно сунул пистолет обратно в карман.
Молодой человек и не подумал вернуть оружие по принадлежности. По мере того как росла его спортивная слава, все реже и реже удостаивал он бывших хозяев своим появлением. Впрочем, окончание войны принесло супругам Ландскейп новые испытания — мадам Вики заболела, и, похоже, очень тяжело. Она сильно похудела, лицо ее было уже отнюдь не розовым, как прежде. Увидев Кристиана и Мари-Жо и понимая, что видит их, возможно, в последний раз, она не могла сдержать слезы.
После того как молодые люди поженились, пистолет долгое время валялся у них в ящике буфета. Но когда отношения осложнились и пошли скандалы, Кристиан, зная, что в таких случаях Мари-Жо не контролирует свои поступки, спрятал его. По крайней мере так считала супруга футболиста. Она заметила, что пистолета уже нет на прежнем месте, в тот день, когда ей понадобился карманный фонарик, чтобы спуститься в погреб. Она порылась в ящике, где можно было найти все что угодно: свечи и веревку, отвертку и счета за газ… Накануне Мари-Жо обрушилась на мужа с упреками, угрожая убить его, детей и себя. Она поняла, что Кристиан испугался, восприняв ее угрозы всерьез, и спрятал пистолет. Мари-Жо была убеждена, что муж спрятал его, а не выбросил, отдал или продал кому-нибудь. До сегодняшнего дня ей и в голову не приходило разыскивать пистолет. Но сегодня она решила обшарить весь дом, комнату за комнатой; она рылась в стенных шкафах, проверила все коробки, сумки и чемоданы, осмотрела все уголки в погребе. Наконец, ей пришло в голову, взобравшись на табуретку, приподнять крышку чердачного люка на втором этаже, над лестничной клеткой. Рука нащупала бумажный пакет, перевязанный веревочкой. Вернувшись в кухню, она развернула его и стала рассматривать злосчастный пистолет. Ей вспомнился день, когда она впервые взяла его в руки и раздался выстрел, повергший ее в ужас. Но сегодня она проявит осторожность. Это, должно быть, нетрудно… Она взяла пистолет, захватив указательным пальцем курок, выставила руку далеко вперед и нажала курок. Послышался щелчок — пистолет оказался не заряжен. Она вспомнила, что в тумбочке возле кровати мужа валялась металлическая коробка из-под сигарет, в которой она видела четыре пули. Маловато, но все равно должно хватить. Ей не сразу удалось вложить их в магазин пистолета. У дверей кто-то позвонил. Сунув пистолет в кухонный шкаф, она пошла открывать. Оказалось, это соседка привела Жозиану из школы, — Мари-Жо совершенно забыла про время.
— Что-нибудь случилось? — спросила соседка. — Почему ты в халате? Ты заболела?
— Мне нездоровится. Но ничего страшного.
— Хочешь, я покормлю девочку обедом? Какая ты бледная…
— Нет, спасибо. Я отведу ее обратно в школу сама.
Дома обедала одна Жозиана, старшие дети учились в лицее и питались там в столовой. Жозиана, посещавшая начальную школу, была слабенькая девочка, и Мари-Жо ежедневно приводила ее из школы, чтобы покормить дома. Она подала дочери обед, но сама не села за стол, — она стала одеваться, не желая терять времени на то, чтобы умыться и накраситься. На ней, что называется, лица не было. Она положила пистолет в сумочку, но он занял столько места, что сумка не закрылась, и тогда Мари-Жо зажала ее под мышкой, стараясь, чтобы она не торчала из-под накидки.
— Что у тебя в сумке? — спросила Жозиана.
— Ничего. Пакет.
За столом они почти не разговаривали, но это уже вошло у них в привычку, девочка росла молчаливой, в мать.
Они пошли в школу. Подойдя к воротам, Мари-Жо направила девочку ко входу, положив ей руку на плечо, но та обернулась, чтобы поцеловать мать. Мари-Жо провожала дочку взглядом, пока та шла через двор. Когда Жозиана вошла в класс, Мари-Жо увидела ее еще раз в окно. Зажав покрепче сумочку, она прошла пешком до конечной остановки автобуса номер 134 — как раз напротив франко-мусульманской больницы. Она опоздала на очередной рейс всего на какую-нибудь минуту и еще издали увидела, как машина отъезжает. Решив не дожидаться следующего автобуса, который придет не раньше, чем через полчаса, она двинулась к остановке возле типографии «Иллюстрасьон», откуда начинается автобусная линия, ведущая в соседний квартал. Десять минут она шла и еще около десяти минут ждала на остановке. В автобусе ей пришлось открыть сумочку, доставая деньги, но кондуктор даже не заметил пистолета, самой же ей было безразлично — пусть видят. Она прошла в глубину автобуса и сидела там, не шевелясь, застыв в одной позе, не реагируя на толчки. У Порт де ля Виллет она спустилась в метро. Париж все еще оставался для нее чужим и враждебным городом. Она никак не могла найти на схеме улочку, где жила «эта девка». У нее болела голова, болели глаза. На платформе она присела и расплакалась. Но слезы быстро иссякли. Смахнув их рукой, Мари-Жо снова подошла к схеме. Наконец она отыскала нужную улицу, прикинула, как туда добираться, и вошла в вагон метро. Послышался звонок, опоздавшие пассажиры поспешили к поезду, автоматические двери закрылись, поезд тронулся и помчался по подземному туннелю, отсчитывая станции: Корантен-Кариу, Криме, Рике, Сталинград, Луи-Блан, Шато-Ландон, Гао де л’Эст, Пуассоньер, Каде, Шоссе-д’Антен, Опера, Пирамид, Пале-Рояль, Пон-Неф, Шатле. Выйдя из вагона, Мари-Жо снова подошла посмотреть план-схему. Затем пересела на линию Порт д’Орлеан и вышла на станции Сен-Пласид.
Оказавшись на улице, она никак не могла сориентироваться. Наконец она узнала вокзал Монпарнас в конце улицы Ренн, которую пересекла, и, полагая, что вышла на улицу Вожирар, зашагала по улице Аббе-Грегуар. Она долго кружила, путая переулки — Берит, Режи и Жербийон. И все продолжала прижимать к себе незакрывающуюся сумочку. Прошло два с половиной часа с того момента, как Мари-Жо оставила дочь в школе. Она вышла на улицу Шерш-Миди, повернула налево, почти наугад, и наконец попала на улицу Жан-Ферранди. Номер квартиры и этаж она установила, взглянув на почтовый ящик при входе. Консьержки на месте не оказалось. Мари-Жо поднялась на этаж, где снова прочла нужную ей фамилию, написанную красным фломастером на картонке.
21
Начиная свою новую картину, Алексис взял за отправную точку изображение дракона с китайской вазы, ярко расписанной желтым, зеленым и красным; эта ваза с трещиной возле горлышка досталась ему в наследство. Он увеличивал дракона до тех пор, пока, лишившись хвоста, головы и лап, он не стал неузнаваем и не превратился в абстрактную композицию с черными и красными завитками, напоминавшими языки пламени и клубы дыма. Всякий раз, когда он замышлял картину, Алексиса раздирали два противоречивых чувства: стремление к мелодической пластике, с одной стороны, и необходимость сохранять четкую композицию — с другой. Когда-нибудь, возможно, он достигнет идеала и его произведения будут и музыкальными, как песня, и явят собою победу живописи над конкретной реальностью.
Фаншон пришла к нему в мастерскую, рассчитывая поболтать, но на этот раз она не остановилась, как обычно, за спиной у Алексиса, разглядывая через его плечо картину, а уселась перед мольбертом на табурет лицом к художнику. На ней были черные брюки и черная блуза, распахнутая очень глубоко на ее плоской груди.
Фаншон рассказывала о своем отце, которого она не слишком хорошо помнила, но очень почитала. Актер театра и режиссер, он чуть-чуть опережал свое время, однако работал мало, был человеком требовательным в искусстве и в то же время ленивым, а может, не столько ленивым, сколько поверхностным. Он увлекался женщинами, и те платили ему взаимностью. Вполне возможно, что она, Фаншон, его дочь, была последней, посмертной жертвой этого Казановы. Как бы там ни было, сегодня никто не мог запретить ей мечтать и верить, что, если бы Макс Фишгольд остался в живых и возвратился на родину, он достиг бы в конце концов высот Барро и Вилара. Но в тот момент, когда разразилась война, он пребывал на гастролях за границей — на Балканах, куда они повезли «Федру», «Тартюфа» и «Полиэкта», делая вид, будто верят, что несут в мир свет французского гения. На самом же деле в этих гастролях не было ничего выдающегося — просто очередная культурная миссия. Труппа застряла в Румынии, пока ее наконец не забрал английский пароход, возвращавшийся в Лондон. Они совершили довольно длительное плаванье по Черному морю, потом через Босфор и Дарданеллы с заходом в Каир и Гибралтар. Макс Фишгольд нашел себе на этом пароходе подружку — молодую англичанку, влюбился в нее, решил не возвращаться в Париж и действительно остался в Англии, благо он не был военнообязанным. Он существовал на деньги, которые давали ему уроки французского или участие в передачах Би-би-си. Когда идиллия кончилась и он уже подумывал о том, чтобы вернуться к семье, произошло сражение при Дюнкерке. Макс Фишгольд прожил в Англии времена блицкрига и всего, что последовало за этим, — он даже выступал по Лондонскому радио, и его голос нередко звучал в знаменитой передаче «Для родных и близких». Кроме того, он был одним из дикторов информационного бюллетеня.
— Знаешь, у меня есть запись, сделанная во Франции. Из-за помех в эфире голос искажен, но это голос отца. Я дам тебе ее прослушать.
— А где в это время находились вы?
— Мы оставались дома. Прятались как могли.
— Из-за отца ты и решила стать актрисой?
— Да. Впрочем, мама тоже актриса. Но мы с ней никогда особенно не ладили. Я не ставлю ей в вину того, что она не смогла удержать отца. Думаю, это было невозможно. Но как она не могла понять, что он человек незаурядный?
Что произошло после окончания войны, Фаншон точно не знала. Когда наступила пора возвращаться во Францию, Макс Фишгольд покончил с собой. Наверняка не из-за женщины. Многие женщины пытались покончить жизнь самоубийством из-за него, но обратное трудно было себе представить. Да и у Макса Фишгольда была в тот момент связь с очаровательной женщиной из Шотландии. Может быть, он боялся встречи с Парижем? Но ведь он вернулся бы туда с большими козырями, нежели те, с какими уехал, — ореол участника передач Лондонского радио распахнул бы перед ним все двери.
— Фаншон, Фаншон… — произнес Алексис.
Ему было ясно, что Макс Фишгольд вовсе не был великим человеком, и у него сжималось сердце, когда он видел, как, ослепленная своей дочерней любовью, Фаншон строила карточный домик. Чем же была ее жизнь — детство, отрочество, брак с толстяком Батифолем, — если единственным светлым пятном оставался для нее отец-призрак, покончивший жизнь самоубийством, даже не подумав о том, что оставляет дочь сиротой?
— Если бы он вернулся, все было бы иначе… — прошептала Фаншон.
— Он тебя любил?
— Да. Если существует на свете нечто, во что я еще верю, так это его любовь ко мне. Знаешь, он снимался у Ренуара в «Преступлении господина Ланже». Я случайно посмотрела этот фильм и узнала его среди наборщиков в типографии — он буквально на секунду мелькнул на экране. А еще он снимался в «Летнем свете» Жана Гремийона. Там он стоит на строительных лесах. Была у него роль и посерьезнее — в фильме «Метрополитэн» с участием Жинетт Леклерк, но эту картину давно уже не показывают. Он не любил кино и лишь изредка снимался в эпизодах — только ради заработка. В большинстве случаев его фамилии нет в титрах. Я даже не знаю, в каких картинах могла бы увидеть своего отца — увидеть живым. После того как я узнала его в «Преступлении господина Ланже», я стала регулярно посещать просмотры в «Синематеке». Я пересмотрела все довоенные картины. Вглядывалась в каждую сцену до боли в глазах. Но узнать отца на экране почти невозможно. Во-первых, у него слишком короткие роли, а во-вторых, используя его характерную внешность, его часто гримировали под какой-нибудь экзотический персонаж. Например, я знаю, что он снимался в фильме «На дне» вместе с Жуве и Габеном, но в облике мужика с окладистой бородой даже мне не удалось распознать его среди прочих актеров.
— Уж не снимался ли он в «Тарасе Бульбе» вместе с Каплунцовым?
— А разве Каплунцов снимался в «Тарасе Бульбе»?
— Ты сама мне об этом рассказывала.
— Кроме того, отец принимал участие в дубляже всех американских гангстерских фильмов, где режиссерами были Марсель Дюамель и Макс Мориз. Я думаю, что он был в приятельских отношениях с кем-то из них, вот они и давали ему подработать. Всякий раз, как на экране появляется пузатый гангстер, который готов предать своих сообщников, и глава банды орет на него, в то время как он клянется и божится в честности, — звучит голос моего отца. Я слушаю его, закрыв глаза, чтобы не видеть пузатого гангстера. Бедный папа!
— Я хотел бы пойти с тобой посмотреть «Летний свет» и увидеть твоего отца.
— А между тем иногда я думаю…
Послышался звонок в дверь. Занятый своей картиной, Алексис попросил Фаншон пойти открыть. Она поднялась с табурета и направилась к двери. На площадке стояла невысокая худенькая женщина с тонким лицом, поразившим Фаншон своей бледностью, словно женщина забыла накраситься или же, наоборот, наложила слишком густой грим, как у клоуна.
— Вам кого? — спросила ее Фаншон.
— Тебя, грязная шлюха! — последовал ответ.
Дрожащими руками женщина стала рыться в сумочке, пока в конце концов не выронила ее. Сумка шлепнулась на пол, и из нее высыпалось все содержимое. В руке у незнакомки оказался пистолет, и, когда Фаншон стала пятиться назад, в мастерскую, незнакомка выстрелила в нее, но промахнулась и выстрелила вторично. Фаншон почувствовала жгучую боль в левом бедре и повалилась на пол.
Даже не успев еще понять, что, собственно, произошло, Алексис подбежал к Фаншон. Но в тот же миг какой-то человек, оказавшийся за спиной обезумевшей женщины, попытался вывернуть ей руки за спину, однако при том, что Мари-Жо была маленькая и худенькая, ему это никак не удавалось сделать. Два тела покатились по полу. Только тут Алексис узнал Бюнема. Должно быть, сосед направлялся к нему со своим очередным визитом и очутился позади Мари-Жо в тот самый момент, когда та выстрелила в Фаншон. Мари-Жо отбивалась, но Бюнем не разжимал рук. Они катались по полу живым клубком, натыкаясь на стулья. Послышался новый выстрел. Тела распались. Бюнем поднялся с полу, по лицу у него текла кровь.
— Смотрите, что со мной сделали! — вскричал он. — Опять голова. Моя голова! — Он сник и упал на пол, испуская стоны.
Мари-Жо наконец бросила пистолет. Она поднялась на ноги, дрожа всем телом.
— Не знаю, как это могло произойти, — бормотала она. — Этот выстрел получился сам собой. Я не хотела…
Алексис позвонил в полицию. Похоже, пуля только задела бедро Фаншон. Она прикладывала к ране вату. Но Бюнем продолжал стонать, обливаясь кровью, лицо его побледнело и стало страшным. Алексис не решался его трогать. Мари-Жо застыла, оцепенев, на стуле.
— Держу пари, что это жена Марманда, — сказала Фаншон. — Та самая, которая пыталась облить кислотой Женевьеву. Она приняла меня за Нину. — Лицо Фаншон исказила боль. — Мерзавка! Горит так, будто прижгли каленым железом. — Она вскрикнула и тут же с отчаянием в голосе спросила: — А Батифоль? Что скажет мой Батифоль?
Алексис ощутил во рту привкус горечи, подступившей то ли от вида крови, то ли от сознания, что теперь он остался один-одинешенек, — покинут всеми, даже Фаншон. Он постарался взять себя в руки и подошел к Мари-Жо. Схватив за плечо, он стал трясти ее, словно желая разбудить.
— Послушайте, — сказал он. — Сейчас придут из полиции и займутся ранеными. Вы натворили слишком много бед, и никто вам не поверит, будто все это произошло в результате несчастного случая. Они арестуют вас.
Похоже, что к Мари-Жо возвращался рассудок.
— Вы думаете, говорить им, что это несчастный случай, бесполезно? А знаете, так было однажды… Когда освободили Париж, Кристиан решил показать мне свой пистолет, и не успела я взять его в руки, как раздался выстрел. Я чуть было не убила его. Я такая невезучая.
И она спросила:
— А вы не знаете, где Кристиан? Он меня бросил. Вы не можете его найти, вернуть его мне?
Но тут уж никто не мог бы ей помочь.
22
Алексис ежедневно навещал Бюнема, которого поместили в больницу Бусико. Пострадавший находился между жизнью и смертью. Состояние его было до такой степени критическим, что ему предоставили отдельную палату. Он лежал на кровати, точно в клетке — края ее были забраны сетками из опасения, как бы он случайно не упал. Забинтованная голова, руки, исколотые иглами капельницы, такие худые, словно они состояли из одних сухожилий и вен, и лицо, на котором торчали монгольские скулы… На шее, жалкой, как у ощипанного цыпленка, по-прежнему дрожал кадык. Он почти не открывал глаз. Как только еще держалась душа в этом теле? Ему предстояла сложная операция, так как пуля задела мозговые центры. В иные дни Бюнем терял сознание. В тех редких случаях, когда он приоткрывал глаза и вроде бы узнавал Алексиса, Бюнем, казалось, пытался что-то сказать ему. Но голос его был таким слабым, что художник ничего не мог понять и наугад кивал головой: «Да… да…» А между тем Алексис испытывал жгучее желание поговорить с этим мудрым человеком. Ему необходимо было узнать, что тот думает о смерти, как он относится к мысли, что ее легкое, такое легкое прикосновение вот-вот сотрет его с лица земли, и тогда он присоединится к сонму забытых ныне людей, тех, что называли его по имени и были так жестоко уничтожены. Но поздно, Бюнем уже не мог говорить или по крайней мере говорить членораздельно. Да и слышал он тоже плохо.
В первые дни он проклинал жизнь и твердил: «Надеюсь, на этот раз я подохну». Но потом — насколько можно было разобрать его невнятную речь — он хотя и восставал против своих страданий, однако больше не выражал желания умереть. Алексис вспоминал слова, как-то сказанные Бюнемом: «В жизни есть великое утешение, помогающее переносить все ее тяготы, — оно заключается в возможности покончить с нею в любую минуту». Он называл это «выходом из положения». Казалось, в этих словах звучала вся обездоленность одинокого человека, этого изгоя, отвергнутого обществом. Но Алексис не мог бы поручиться, что сам Бюнем считает себя таковым, хотя и внушает подобное впечатление и ему, и вообще всем, с кем он общался. Нередко в разговоре он весьма незаметно и тактично давал понять, что отдает себе отчет в своем интеллектуальном и моральном превосходстве над современниками, которые в большинстве случаев заботятся лишь о внешнем преуспеянии. «Стоит разыграть маленькую комедию, — говорил он, — и ты окажешься наравне с круглыми дураками».
Алексис даже не смог объяснить пострадавшему, кто такая Мари-Жо и почему она явилась к нему с пистолетом.
Ему хотелось спросить у Бюнема, почему, едва встав на ноги и обливаясь кровью, он крикнул: «Смотрите, что со мной сделали!» Не эту ли фразу бросил один известный политический деятель после того, как в него стреляли? Имел ли Бюнем в виду именно его? С его привычкой постоянно кого-нибудь цитировать это было вполне возможно. Но когда Алексис попытался что-то втолковать Бюнему, бедняга сосредоточил все свое внимание на том, как бы просунуть пальцы в сетку своей кровати. Сгибая пальцы, Бюнем натягивал проволоку. Можно было подумать, что это упражнение высшей сложности, иногда он даже поддерживал правой рукой левую, чтобы она не дрожала, и таким образом ему удавалось просунуть в сетку сначала один палец, потом второй и так далее. Целиком поглощенный этим занятием, он тихонько стонал, не отдавая себе в этом отчета.
Каждый раз, приходя в больницу, Алексис спрашивал сиделку: «Как он сегодня?», на что та неизменно отвечала: «Как всегда». Иногда он пытался вытянуть из нее более подробные сведения: «Сегодня у него вид как будто чуточку лучше, вы не находите?» Но ответ был неизменным: «Как всегда». Иной раз, пораженный состоянием больного, Алексис говорил: «Сегодня, мне кажется, он плоховат». На это сиделка отвечала: «Да, бывают плохие моменты».
Плохие моменты. Возможно, такая формулировка понравилась бы Бюнему.
Однажды Алексис увидел в палате Бюнема цветы. Выходит, это человек вовсе не был таким одиноким, как он сам это представлял. Однако художник ни разу не заставал у него посетителей. Однажды больной подал знак, что хочет пить. Алексис поднес ему воду в стакане с пластмассовой соломинкой. Через некоторое время Бюнем снова попросил воды. Когда Алексис, приподняв больного, подносил стакан к его губам, он вдруг открыл для себя, что жизнь — это деятельность и активность, это мысли и желания, но постепенно они ослабевают и уходят, пока не настанет момент, когда ты уже не в состоянии поднести к губам даже стакан с водой и тоненькая струйка живительной влаги, которую ты всасываешь через соломинку, воспринимается как немыслимое счастье, подаренное судьбой, — при условии, если тебя обслужит сиделка или посетитель, спешащий выполнить неприятную обязанность и уйти. Вот так и этот безнадежно больной человек, который еще недавно справлялся со сложнейшими задачами, изъяснялся на нескольких языках, без труда ориентировался в лабиринтах Национальной библиотеки, а когда-то нашел в себе силы бежать из концлагеря в Австрии, чтобы вновь найти — а вернее, никогда не найти — камбоджийскую принцессу, — теперь же выпить несколько глотков воды для него равносильно подвигу.
Алексис покидал больницу подавленный. Безысходная грусть в глазах умирающего, горькая складка у рта — видеть все это было невероятно тяжело. Но он заставлял себя посещать Бюнема, даже не зная, как воспринимает тот его визиты, — просто чтобы наказать самого себя. Хотя бы за то, что он так глупо прожил свою жизнь.
Выстрелы Мари-Жо словно послужили сигналом к окончательному разобщению членов того маленького кружка, который собрал вокруг себя Шарль Тремюла. Нина довела свой брак с Алексисом до полного разрыва, покинув семейный очаг и переселившись в большую однокомнатную квартиру, которую она сняла на Монмартре. Но ей не довелось жить там с Кристианом Мармандом, как она рассчитывала. Футболисту пришлось возвратиться домой, в Бобиньи, и заняться своими детьми, поскольку Мари-Жо сначала находилась под арестом, а затем ее направили в психиатрическую больницу парижского округа. Нине нисколько не улыбалась перспектива взвалить себе на плечи заботы о чужих детях, и таким образом проблема взаимоотношений с Мармандом была решена.
Вопреки опасениям всех, кто был прямо или косвенно замешан в этой драме, делу не дали широкой огласки. Пресса далеко не всегда так немилосердна, как это принято думать. Достаточно было спортивным журналистам — друзьям Марманда — позвонить в пресс-агентство и попросить, чтобы выстрелы Мари-Жо обошли молчанием, и историю решено было не раздувать. Что может быть интересного в том, что жена симпатичного футболиста оказалась психически больной? В его положении мог оказаться каждый, такая беда может постичь любого. И потом надо подумать о детях. В конце-то концов, цинично заявили друзья Марманда, никакого ущерба Мари-Жо не нанесла: один человек легко ранен, только и всего. Газеты вняли просьбам, тем более что как раз в эти дни в Алжире развернулись бурные события, которые практически не оставили в газетах места для хроники происшествий. Тем не менее еженедельник, специализировавшийся на материалах из частной жизни известных людей, опубликовал заметку под заголовком, который имел отношение главным образом к Батифолю. По-видимому, читателей этого журнала футбол интересовал меньше, нежели театр, и потому заметка выглядела так:
«Трагедия Батифоля!
В жену популярного эстрадного комика стреляла супруга футболиста, это произошло в доме одного художника, живущего на Монмартре».
В качестве иллюстрации еженедельник поместил снимок — Батифоль с лицом, искаженным отчаянием, а рядом — старая фотография Фаншон, сделанная на каком-то приеме, на которой ее совершенно невозможно было узнать.
Открыв для себя (или считая, что теперь он уже не может не открыть), что Фаншон поддерживала с Алексисом нежные отношения, Батифоль послал художнику письмо и объявил ему о полном разрыве отношений. Оно гласило:
«Мсье!
Я почитал вас своим другом, но вы обманули мое доверие. Какая низость с вашей стороны — полагать, что со мной можно обращаться как с шутом. В другие времена я потребовал бы сатисфакции и никто не помешал бы мне вас убить. Ваше появление на улице Шарля V будет принято как нежелательное. Впредь ни моя жена, ни я не хотим больше видеть вас у себя».
И подпись: «Маркиз Леонар де Сен-Мамо».
На следующий день Алексис получил второе письмо:
«Извините меня за идиотское послание. Но если я потеряю Фаншон, я погиб. Батифоль».
Однако независимо от тона обоих посланий результат был один — никогда больше Фаншон не появится в мастерской Алексиса, не будет, остановившись за его спиной, молча наблюдать, как он работает. Никогда больше не ласкать ему это смуглое тело, худое и страстное, с готовностью отдающееся его ласкам. Никогда больше не случится ему утолять жажду нежности, прильнув к ее губам, заглядывая в ее глаза, полные слез. Он не услышит больше этого картавого голоса с парижским выговором, который так воспламенял его. И не услышит больше наивных историй из времен детства вместе с придуманной Фаншон золотой легендой о любящем отце, наивной и трогательной. Никогда больше не почувствует он под своими пальцами шрам на ее бедре, оставленный пулей Мари-Жо.
Письма актера-комика навели Алексиса на мысль, что все супружеские пары, собравшиеся вокруг четы Тремюла, разыгрывали водевиль. Но только водевиль с печальным концом.
А Женевьева? Она предоставила им выпутываться из этой ужасной истории без нее, не подавая никаких признаков жизни, даже не написав ни строчки. Но, возможно, она просто ничего не знает о том, что здесь произошло? Вот уже несколько месяцев, как Алексис не встречался с нею.
Однажды, когда художник явился в больницу около трех часов пополудни, ему сообщили, что Бюнем только что скончался. Он успел только увидеть, как два санитара кладут тело на каталку, чтобы отвезти в морг. Никогда еще не казался таким невесомым этот человек, имевший столь малый вес на бренной земле. И чтобы окончательно исчезнуть, ему теперь уже ничего не требуется, кроме крошечного клочка земли где-нибудь в Пантене, Тиэ или Баньо, да и то при условии, если Алексис или кто-либо из его друзей, приносивших ему в больничную палату цветы, позаботятся о похоронах. Но даже и это пристанище будет лишь временным — пройдет еще несколько лет, и ему придется уступить место тем бедолагам, кого похоронят вслед за ним.
23
Алексис искал встреч с некоторыми людьми в надежде, что узнает какие-нибудь новости о Женевьеве. Однако чаще всего и они не могли сообщить ему ничего нового. А ведь только ради этого он принимал приглашение на обед или воскресную загородную прогулку, где мучительно томился от скуки. Он напоминал сам себе охотничью собаку, которая с нескончаемым терпением ищет свою дичь повсюду — в болотах, на равнинах. Обычно он возвращался домой ни с чем, злясь на себя за эти безрезультатные поиски. Почему он влюблен в свои воспоминания?
Наконец до него дошла весть, что Женевьева вторично вышла замуж, как и намеревалась. А еще несколько месяцев спустя донеслись слухи о том, что она якобы уже собирается разводиться. Затем, по прошествии еще некоторого времени, ему рассказали, что родственники купили ей модный магазинчик на улице Турнон, несомненно, чтобы найти для нее какое-нибудь занятие. Но как называется этот магазинчик, в каком доме он находится, никто не знал. Алексис не удержался и отправился на поиски. На улице Турнон, по левой стороне, совсем недалеко от Сената, он наткнулся на небольшой магазин с пустой витриной, на вывеске он прочел: «Фолия». Алексис расспросил соседей и выяснил, что торговля шла не очень успешно, так что в конце концов пришлось закрыть магазин. Владелица появлялась здесь очень редко, и что с ней потом сталось, неизвестно.
В канун рождества, около шести часов вечера, выходя из вагона метро на станции Гавр-Гомартен, Алексис заметил на перроне Женевьеву. С большим абажуром в руке она бежала, как всегда легко и изящно, — ее походку он уже успел забыть, лавируя в толпе, чтобы никого не задеть. И те же вьющиеся волосы. Это была та Женевьева, какую он любил. В одно мгновение все, что искажало ее образ, куда-то исчезло: их отдаление, их свидания в кафе, где они становились раз от разу все более чужими, поездки Женевьевы в Туке, партии в бридж, второй брак — словом, все то, что превращало Женевьеву в женщину, ничем не отличающуюся от других, очень обычную, иной раз даже смешную. Куда это она так спешит в сочельник со своим абажуром? На чье торжество? Чей дом она решила украсить? Алексис потерял Женевьеву из виду. Должно быть, она свернула в туннель, ведущий на пересадку. Ему и в голову не пришло прибавить шагу и догнать ее.
24
И все же настало время, когда Алексису пришлось покинуть улицу Жан-Ферранди и мастерскую, которую он снял временно — пока дом не начнут сносить, но это «временно» затянулось на двенадцать лет. Он подыскал себе другую мастерскую, чуть поменьше, на улице Плант, в Четырнадцатом округе. Ведь теперь он жил один. Иногда на его пути встречались женщины, стремившиеся навязать ему свое общество, но наталкивались на такое равнодушие, что все тут же и кончалось. Он уже не верил в возможность совместной жизни с кем бы то ни было, и женщины это хорошо чувствовали. Впоследствии, перебирая в памяти эпизоды своей биографии, он пришел к выводу, что то ли по случайности, то ли потому, что он обладал странной притягательной силой, но к нему тянулись лишь женщины, предрасположенные к неврозам, и Женевьева — самый яркий тому пример. Впрочем, он начинал подозревать, что, возможно, в чем-то патологичен и сам — если принять во внимание пристрастие к сложным женским натурам, что изначально обрекало их связь на провал. Его постоянная потребность в одиночестве и в то же время неспособность долго выносить затворничество, равно как и бесконечные блуждания, — все это приметы душевной неуравновешенности. А может быть, это шло от увлечения живописью, которая с каждым годом становилась для него все важнее и предъявляла на него свои права?
Алексис по-прежнему выставлялся у Арно Рюфера, бородатого торговца картинами с улицы Сены. Они были верны друг другу. Волосы у того и у другого поседели. Однажды художник зашел в галерею к Арно Рюферу, и тот рассказал:
— Сегодня меня заинтриговала одна посетительница — такая девица в стиле «хиппи». Она интересовалась, не я ли занимаюсь продажей твоих картин, поскольку увидела в соседнем магазине объявление о твоей последней выставке. По ее словам, у нее сохранилась одна картина — твоя давняя работа, и она хотела узнать, не пожелаю ли я ее приобрести. Я пытался добиться, чтобы она подробнее описала мне эту картину, но она не сумела. Говорит, на полотне только красное и черное — черного очень много. Я попросил ее наведаться ко мне завтра и принести картину с собой. Она пообещала. Может, тебе будет интересно ее увидеть?
— Картину или девушку?
— Ну хотя бы картину.
— Должно быть, это какая-то старая мазня, за которую мне придется краснеть.
— В таком случае следовало бы ее выкупить.
— Чтобы сжечь. Можно предположить и другое: это произведение, которое похитили из музея. Тогда ты рискуешь оказаться скупщиком краденого.
— Ты прекрасно знаешь, что ни одной твоей картины ни в одном музее нет. Пока еще нет…
— Я пошутил.
— Не нравится мне твоя манера шутить.
— Ну, а что если это подделка?
— Ты заставляешь меня сказать тебе, что твои картины еще не настолько высоко котируются, чтобы их пытались подделывать.
— Что верно, то верно.
— Послушай, какая муха тебя укусила? Я не помню тебя таким язвительным.
— Я пошутил. Ты же понимаешь, что я знаю себе истинную цену.
— Что бы такое ты мог рисовать черным и красным? Тебе не свойствен такой колорит.
— Понятия не имею. Картина большого формата?
— Нет, маленькая.
На следующий день у дверей галереи Рюфера появилась женщина лет тридцати. И поскольку в одной руке у нее была завернутая в газету картина, а за другую цеплялся мальчонка лет пяти, Рюферу пришлось распахнуть перед нею дверь.
— Здравствуйте, — сказала она. — Я принесла картину…
У нее были несколько резкие движения и глуховатый голос, которые свидетельствовали не то о нервозности, не то о тщательно скрываемой робости. На ней были сильно поношенные джинсы и индийская кофта; вязаный шерстяной шарф зеленого цвета, обвивавший шею, спускался до самых колен.
Молодая женщина была довольно высокого роста, хорошо сложена, с небольшой грудью. Светло-рыжие волосы, собранные сзади в пучок, выбивались из-под зеленого берета. Она повернулась к художнику.
— Вы Алексис Валле…
Это прозвучало не как вопрос, а как утверждение.
— Вы не узнаете меня? Я Кати… Кати Тремюла.
Мальчик оказался ее сыном, его звали Себастьян.
Алексис спросил Кати, как поживает ее мама. Он узнал, что Женевьева живет в Хьюстоне, штат Техас. Снова, в третий раз, вышла замуж. За нефтяного короля? Нет, но за довольно крупного бизнесмена — короля искусственных цветов и растений. Его фабрика выпускает целые сады из пластмассы. Пока Кати говорила, Алексис пытался отыскать в ней черты сходства с матерью. Но они не были похожи. Абсолютно. Если Женевьева была маленького роста, то Кати очень высокая, даже выше его самого, подобно всем нынешним девицам. Пожалуй, единственное, что их роднило, — это складочки в углах рта. Но и они выглядели у них по-разному. На лице матери эти складочки были лукавыми и нежными, тогда как на лицо дочери они, казалось, попали случайно.
— Значит, у вас туговато с деньгами, — сказал Алексис, — если вы пытаетесь продать картину, которая, впрочем, не очень много и стоит…
— Да. Я порвала отношения с родственниками.
— Когда вы были девочкой, вы так любили свою маму! Эта любовь переходила все границы. Вы, наверное, уже забыли, как вы ее ко всем ревновали?
— Все это так. Но после смерти отца мама заболела и меня отправили в пансион. Тогда мне казалось, что все меня бросили.
— Вам случалось встречаться с ней еще?
— Мы как-то вдруг сразу стали чужими. Мне показалось, что она перестала мною интересоваться. Она даже не появилась не моей свадьбе. А между тем, что ей стоило купить билет на самолет.
Внезапно глаза Кати наполнились слезами. Она залилась краской и стала кусать губы. Эта манера прямо, не таясь, отвечать на все вопросы, эта абсолютная искренность делали Кати легко уязвимой или, пожалуй, тут более уместно определение, которое характеризует многих молодых особ ее поколения, — незащищенной.
— Мы поговорим обо всем этом в другой раз, если хотите, — сказал Алексис. — А сейчас давайте посмотрим картину.
Он попытался было развязать веревку, но узел оказался туго затянутым, и он никак не мог с ним справиться. Арно Рюфер пошел за ножницами.
— Дай мне веревочку поиграть, — попросил Себастьян.
Когда сняли газетную обертку, Алексис увидел ту самую картину, которую в начале пятидесятых годов нарисовал для Женевьевы и назвал «Фолия».
— Поразительно, как же я сразу не подумал, что это именно она, — произнес художник. — Это моя единственная картина, которая была у ваших родителей. Вам ее подарила мама?
— Подарила или подбросила — не знаю, как будет правильнее сказать. После окончания школы-пансиона в Лозанне я захотела вернуться в Париж и учиться дальше.
— Чему?
— Всему понемножку. Языкам, изящным искусствам. Но это было несерьезно. Я ни черта не делала. Родственники купили мне небольшую квартиру, а мама подарила немного мебели и вот эту картину в придачу.
Арно взял картину и стал рассматривать на расстоянии.
— Не так уж и плохо. Красное вполне сочетается с черным. А это что такое?
Она показала на то, что можно было бы принять за странного ангела, и за сломанную скрипку.
— Позабыл. Так, какой-то наив.
Алексис прекрасно помнил, но ему не хотелось об этом говорить. Он повернулся к Кати.
— Я с удовольствием выкуплю у вас свою картину. Но я задаюсь вопросом, хватит ли у меня мужества смотреть на нее.
— Почему? Она вам не нравится? — обеспокоенно спросила Кати.
— Нравится. Просто мне тяжело при мысли, что существуют такие вещи, которых уже не помнит ни один человек на всем белом свете, кроме меня.
Когда Алексис отдал Кати деньги — Рюферу пришлось ссудить его наличными, поскольку у Кати не было счета в банке, — она невесело пошутила:
— Себастьяну на молоко.
Она попрощалась как-то неловко и смущенно. Алексис, тоже скованный робостью, чуть было уже не дал ей уйти, но вовремя спохватился и сказал:
— Мне бы хотелось продолжить наш разговор. Не согласитесь ли поужинать со мной сегодня или в любой другой вечер?
— Сегодня не могу. Я в Париже буквально от поезда до поезда. Ведь я живу в Арьеже.
Кати рассказала еще кое-какие подробности своей жизни. Выяснилось, что живет она на ферме, расположенной высоко в горах над Сен-Жироном. Но не с мужем, так как между ними давным-давно порваны все отношения. А тот человек, с кем они живут сейчас, поработав некоторое время в Париже, решил возвратиться в свои родные Пиренеи. Он занимается откормом гусей — для печеночных паштетов. Хватает ли им на жизнь? Более или менее. Теперь понятно, почему она решила продать картину? Кстати, ее приятель проявляет большой интерес к региональным проблемам, в частности к окситанскому движению.
— Он подружился с неким Марино-Гритти — замечательным человеком, таким чистым, таким цельным.
— А вы тоже с ним знакомы?
— Да. Он побывал на нашей ферме, когда путешествовал в горах страны катаров. Мы все ходили на митинг, после чего он провел вечер у нас дома. Он способен часами рассказывать о своей жизни — о своем детстве, о борьбе. Какой он рассказчик! Какой темперамент! Я часто слушаю его выступления по радио. Да и как можно его не слушать!
К чему сообщать Кати то, что он знал об этом человеке, что он сам думал о нем? Похоже, она и понятия не имеет, что в свое время этот Марино-Гритти входил в компанию, объединившуюся вокруг ее родителей. Тем не менее Алексис не удержался и негромко произнес:
— Когда-то я написал его портрет.
— Не может быть!
— Это было очень давно…
И чтобы перевести разговор на другую тему, он спросил:
— Вы привезли мою картину с Пиренеев? Значит, она была на вашей ферме с гусями?
Кати рассмеялась — впервые за все время. И тут складочки в уголках рта, такие же, как у матери, наконец обрели свой смысл. Она объяснила, что сохранила за собой парижскую двухкомнатную квартирку и сдает ее знакомым. Это приносит ей хоть и небольшой, но постоянный доход. «Фолия» оставалась там. Когда же она увидела объявление о персональной выставке Алексиса Валле, ей пришла в голову мысль попытаться предложить эту вещь владельцу картинной галереи. В Париж она приезжала, чтобы поискать такую работу, которую смогла бы выполнять у себя на ферме. Например, могла бы делать переводы — ведь она знает английский и немецкий. Однако эти поиски ничего ей не дали.
— Навестите меня, когда еще раз приедете в Париж, — попросил ее художник.
— Хорошо. Интересно, что вы оказались совершенно не таким, каким рисовались мне по детским воспоминаниям.
— И вы… Вы тоже стали, как бы это лучше выразить мою мысль… совсем другим человеком.
— Вы хотите сказать, что девочкой я была ужасно полная, этакая толстушка? Какой кошмар!
— Нет, я вовсе не это хотел сказать.
Алексис сомневался, что Кати когда-нибудь появится у него, и был не слишком уверен, что сам того желает. Ему не хотелось, чтобы женщина другого поколения, которая для него, сегодняшнего, была далекой, точно марсианка, вконец разрушила образы его воспоминаний. После ухода Кати и Себастьяна Алексис хранил молчание, а Арно Рюфер пустился в абстрактные рассуждения.
— Почему современная молодежь совершенно не умеет пользоваться жизнью?
— Мне не хотелось бы выглядеть пессимистом, но ведь уже и у нас было в этом смысле неблагополучно. У меня такое впечатление, что с ними происходит аналогичное явление.
— Есть все-таки некоторая разница. Мы были немножко мудрее.
— Думаешь? Лично я никогда не отличался особенной мудростью. Я вел себя как последний дурак.
Кати появилась снова четыре месяца спустя. Она предупредила Алексиса о своем приезде по телефону, а через четверть часа позвонила в дверь его мастерской.
Она показалась Алексису еще более незащищенной, чем в день своего появления в галерее у Рюфера. Она обошла мастерскую, рассматривая картины, висевшие на стене, и ту, над которой художник работал. Алексис со своей стороны украдкой поднимал глаза от мольберта, чтобы получше рассмотреть Кати. Нет, у нее решительно ничего не было от Женевьевы, и если стоило заинтересоваться этой женщиной, то лишь ради нее самой.
— Вы не вывесили ту картину, которую купили у меня, — строгим голосом отметила она.
— Я предпочитаю, чтобы она не была все время у меня перед глазами.
— Вот видите, значит, вы не любите ее. А вот я ее любила. Вернее, я к ней привыкла.
— Не стойте, присядьте, пожалуйста.
Она села.
— Куда вы дели Себастьяна?
— Он в детском саду. Я сейчас пойду за ним. Знаете, я опять живу в Париже. У меня не клеются отношения с моим приятелем. Я подыскиваю себе работу.
— По-видимому, дела ваши идут неважно?
Она отрицательно покачала головой и покраснела. И Алексис увидел, что она, как и в первый раз, готова расплакаться.
— А разве ваши родные не могут помочь вам? Ведь у вас есть богатые родственники и со стороны отца, и со стороны матери.
— Похоже, положение моего отца было очень непрочным — все держалось на его плечах, а когда он умер, все тут же развалилось. Мой муж был типичный сутенер. Он очень быстро промотал то небольшое наследство, которое мне досталось от папы. Вы дружили с отцом? Вы его любили?
— Меня в нем многое привлекало. Это был человек сложный, иногда, казалось, даже робкий, а в целом — загадочный. Полный тайничков. Одно было для меня очевидно: он очень любил вас обеих — вас и вашу маму. И страдал оттого, что вы не любили его или по крайней мере он так считал.
— Мое отношение к отцу со временем изменилось. Я и сама очень переменилась. Любопытно, что мы продолжаем пересматривать свое отношение к людям даже после их смерти. Сердимся, пытаемся что-то исправить…
Алексис спросил молодую женщину, не желает ли она чего-нибудь выпить.
— Пожалуй, кофе.
— Мне случалось угощать кофе вашу маму. Но то было очень давно и не здесь. Я жил тогда неподалеку от улицы Шерш-Миди.
— А я туда приходила?
— Разумеется. Вы не припоминаете?
— Нет. Решительно ничего не помню…
— Однажды вы застали у меня в гостях мужчину. Вас поразил его внешний вид. Он был маленького роста, с длинными волосами и бородой, а на черепе — бугры и вмятины.
— Эти приметы мне ничего не говорят.
Бедный Бюнем! У Алексиса мелькнула мысль, что он присутствует при научном эксперименте — «Сейчас вы убедитесь собственными глазами, как стирается память о человеке».
Кати продолжала расспрашивать Алексиса:
— И что же с ним произошло потом?
— Он умер.
— Значит, моя мама приходила вас повидать точно так же, как я сегодня, и вы угощали ее кофе?
— Да.
— Мне кажется, что в юности мною руководило одно-единственное желание — не походить на родителей. Прежде всего потому, что они были несчастные люди. Я же изо всех сил стараюсь быть счастливой.
Кати стала часто наведываться к Алексису. Придя в мастерскую, она робко протягивала ему руку, словно стеснялась. Желая ее поддразнить, Алексис напомнил:
— Когда я увидел вас впервые — вы были тогда чуть постарше Себастьяна, — вы сделали мне реверанс.
Кати двигалась по комнате бесшумно. Она просила Алексиса, чтобы он продолжал заниматься своим делом, не обращая на нее внимания.
— Так легче разговаривать.
Однако то, что она говорила, было зачастую для него невыносимо.
— В последние годы моего пребывания в пансионе Лозанны я металась между танцами, экзаменом и попыткой к самоубийству. А потом начались мужчины и аборты…
— Наверное, май шестьдесят восьмого был серьезным моментом в вашей жизни?
— Чтобы верить во все это, я была уже слишком старой — в тот год мне исполнилось двадцать шесть! Знаете, чем я была занята в мае шестьдесят восьмого? А вы прикиньте… Я рожала Себастьяна!
Во время одного из ее визитов Алексис спросил:
— Не знаете ли вы случайно, что могла делать Женевьева в метро в канун рождества лет десять назад? Я заметил ее в толпе пассажиров на станции Гавр-Гомартен, она бежала по платформе с абажуром в руке.
— Понятия не имею.
— Напрягите-ка свою память.
— Право же, не знаю.
— Очень жаль. Это было тем более удивительно, что в мое время, если позволительно так выразиться, она никогда не ездила в метро. У ваших родителей был «кадиллак» — шикарная машина, и личный шофер. А иной раз они брали такси!
— До чего же вы иногда смешной! Вы были влюблены в мою маму, это ясно как божий день. А в меня вы могли бы влюбиться?
Ее вопрос застал Алексиса врасплох, но тем не менее он попытался ответить на него подобающим образом:
— Несомненно. Но я слишком стар, и было бы стыдно…
— Дело совсем не в этом. Вас влечет ко мне лишь потому, что вы храните память о том чувстве, какое питали к моей матери. Вы не можете полюбить дочь женщины, которая была вашей большой любовью.
— А наша Кати еще и психолог! — попытался иронизировать Алексис.
Однако не следовало рассчитывать на то, что Кати будет его поощрять, если он станет упиваться воспоминаниями. Однажды она сказала:
— А знаете, в чем состоит последнее безумие моей мамы? Насколько мне известно, она выращивает борзых щенков там, в своем Хьюстоне, а потом они участвуют в собачьих выставках. Она ничем не интересуется, кроме своих борзых, и разъезжает по всей стране, собирая медали.
В другой раз Кати пожелала снова взглянуть на картину, которую художник назвал «Фолия». Алексис пошел достать ее, поскольку она была заставлена другими полотнами.
— Знаете, коль скоро вы так любите «Фолию», — сказал он, я хочу подарить ее вам.
— Это было бы нечестно с моей стороны. Я продала вам картину и получила за нее деньги.
Алексис настаивал до тех пор, пока она не согласилась принять его подарок.
— Вы никогда не объясняли мне, какой смысл вложили в эту картину…
— В ней нет никакого смысла. «Фолия» — это танец наподобие чаконы, который был очень распространен в XVII веке. Когда-то эту музыку очень любила ваша мама. У нее была такая пластинка. В своей картине я попытался, насколько возможно, передать впечатление от этой музыки.
Он объяснил ей, что на картине просматриваются статуя то ли амура, то ли странного ангела и сломанная скрипка.
— Как видите, связь с музыкой довольно условная. Здесь можно усмотреть и нечто совсем иное, придать картине любой смысл.
— Да, но ведь этот вихрь красок, этот огонь и чернота — и в самом деле настоящее безумие.
Порою Кати слишком тонко все понимала.
Как бывало некогда с ее матерью, она вдруг исчезала на долгое время и оставляла Алексиса в полном неведении. А то вдруг решала покинуть Париж навсегда. К счастью, это «навсегда» длилось не так уж долго. Оно зависело от переживаемых ею романов, от работы и от Себастьяна. И подобно своей матери, Кати возвращалась как ни в чем не бывало, словно они виделись накануне. А между тем с каждым разом она возвращалась еще более незащищенной и беспомощной — во всяком случае, так казалось. Когда она уходила, обещая, что скоро придет опять, Алексис приникал ухом к двери, чтобы услышать, как ее шаги затихают на лестнице. Затем он пытался следить из окна, как она удаляется по улице. В такие минуты перед его мысленным взором снова возникала Женевьева, которая с абажуром в руке бежала по перрону метро в сочельник. Потому что и сегодня, в эту минуту, все тоже могло быть в последний раз.
Рене Фалле КАПУСТНЫЙ СУП
René Fallet
LA SOUPE AUX CHOUX
Перевод H. Жарковой
Редактор E. Бабун
© by Éditions Denoël, 1980.
Глава первая
От непритязательной деревушки вообще ничего не осталось. Угасла печь в пекарне одновременно с самим пекарем, и он если и печет нынче веночки, то разве что на кладбище под могильной плитой. Кладбище, и большое, по-прежнему на месте, но маленького пекаря уже не стало.
Деревушка была самой обычной деревушкой в Бурбонне. А так как этому скромному Бурбонне досталось на географической карте на редкость неудачное место, оно не вписало своего имени в анналы истории на манер Эльзаса или Лотарингии, и не было здесь, и недаром не было, ни черных от мазута бретонских приливов, ни отливов и не вязли в этой клейкой каше бакланы.
Так, скажем, его путали с Бургундией, совсем как в свое время принимали Пирей за человека, а подвески моей тетушки за, так сказать, дядюшкины подвески. Впрочем, за исключением десятка чем-либо прославившихся мест, провинций больше не существует. Нет даже и департаментов. Этот извечный бич школьников не устоял перед поступью прогресса, грозящего придушить все живое. Провинциям сейчас роздали наспинные номера, как гонщикам-велосипедистам. Бурбонне, в спешке переименованное в 1790 году в Алье, зовется теперь просто 03. Нынче уже рождаются не в Анжевене, а под номером 49, не в Париже, а под номером 75, не в Савое, а под номером 73 и т. д. и т. п. Родятся шифрованными и потом живут в безвестности.
Словом, в деревне ничего больше не осталось. И поэтому-то она походит на сотни и тысячи деревень, без разбора попавших под нумерацию.
Нет уже портомойни на Бесбре, чьи воды орошают деревушку. Замолкли неугомонные вальки. Теперь они красуются в городе на витринах лавчонок, где торгуют случайной мелочишкой. Замолкли и прачки, теперь они сидят, прикорнув у своих стиральных машин. Отныне нелюдимые и одинокие, они уже не слушают веселого бульканья речной воды, а слушают передачи Люксембургского радио, которое раз семь, а то и больше на дню, ворочая суконным языком, вещает всякую бессмыслицу. Где теперь их тачки, где шарики синьки, где уклейки, ненароком затесавшиеся среди мыльных пузырей?..
Нет также и кюре. Старого так и не удосужились заменить новым. Не мелькнет теперь случаем на дороге черная сутана и не крикнет ей вслед в сердцах какой-нибудь отъявленный безбожник: «Долой попов!», потому что опять-таки не увидишь ни попов, ни поповской скуфейки. Конечно, в главном городе кантона живет еще священнослужитель, но коль скоро он принадлежит слишком многим — он, в сущности, ничей. Поэтому-то сего святого мужа его рассеянная по всей округе паства ядовито окрестила «поп на колесах». Бог ты мой — да прости ему бог, — он, одетый точно нотариус, на всех парах несет доброе слово из коммуны в коммуну, кропит верующих на ходу, а ногу держит на акселераторе; отправляет мессы, соборует, венчает, отпевает покойников — и все галопом, в полном соответствии с лошадиными силами своей тарахтелки. В результате деревня получает отпущение грехов раньше, чем успеет нагрешить, что тоже не так уж плохо. Короче, не стало больше доброго боженьки… Или почти не стало… Или осталась самая, самая малость…
Нет теперь и почтальона, пешего или на велосипеде, а есть просто служащий, разъезжающий на грузовичке, столь же безликий и анонимный, как и вручаемые им письма, и нет у него свободной минутки, чтобы распить с вами стаканчик.
И еще нет в деревне своего деревенского дурачка. Если теперь они, блаженненькие, вздумают показывать свои штучки, их собирают, как улиток, и запихивают в психиатрическую лечебницу в Изере. Тут быстро линяет их живописное своеобразие, и не успевают они набраться хоть чуточку ума-разума, как окончательно лишаются рассудка, помирают от скуки, прежде чем помереть по-настоящему, и, главное, без всякой пользы для общества; а ведь раньше они веселили всю округу, так сказать, облагораживали ее одним своим присутствием. При дурачке каждый из односельчан, будь он сам дурак дураком, мог с полным основанием считать себя первым умником. Без настоящего, так сказать, официально засвидетельствованного и проштампованного юродивого начинают коситься по сторонам, ставят себе ненужные вопросы. Правда, зато сейчас есть телевидение. Но, как хотите, это все-таки не одно и то же. Не хватает ему, не знаю, как бы получше выразиться, малости, что ли, той малости, что рождает очарование и размышления.
Нет больше навоза на дорогах, коль скоро нет и самых лошадей. Ни повозок, ни кузнецов, ни кузниц, ни мехов, ни поилок, ни подков на счастье, ни ржания, ни перестука копыт, ни громких проклятий в адрес коняги, ни щелканья бича. Нет больше бича, нет сбруи, а значит, нет и шорника. Подался прочь шорник. На завод, как и все остальные, а на заводе народу тысячи. Побольше, чем в полях, из-за всяких там социальных преимуществ.
Километрах в пятнадцати отсюда стоит завод, где крестьяне, бросившие землю, делают тракторы для крестьян, оставшихся на земле.
Тот, кто еще работает в поле, уже не поет для собственной услады. Ежели он в добром расположении духа, то берет с собой из дому транзистор и круглый год слушает «Дедушку Мороза» в исполнении Тино Росси или «Yesterday»[24] в исполнении битлов. Теперь ему жаворонок ни к чему.
А жаворонков, между прочим, постреляли, также вот не стало из-за удобрений, по словам ученых специалистов, ни куропаток, ни зайцев, а ведь хочешь не хочешь, надо как-то покрыть расходы на покупку патронов и разрешения на охоту. На следующий год вообще разрешения не возьмем. Будем сидеть себе и, не отрывая зада от стула, участвовать в велогонках Пяти наций. Подумать только, горе ты мое, что были времена, когда можно было убивать кого угодно! Скоро не будет ни деревенских охотников, ни тех ушлых парней, коих именуют браконьерами.
Уже сейчас рыбаков можно по пальцам перечесть, если, конечно, не забредут сюда летом с десяток простодушных парижан, которых, по местному выражению, «хоть голыми руками бери». С полной выкладкой, ну чистые Стэнли или Ливингстоны, они, бедняги, прибывшие сюда провести отпуск, к ночи кое-как добираются до своих палаток, еле волоча от усталости ноги, порвав брюки о колючую проволоку и неся на кукане одну-единственную уклейку. Ибо при деревне имеется кемпинг, расположенный неподалеку от ямы, куда скидывают сорняки. Нелепая эта идея принадлежит мэру, свиноторговцу; он мечтает поднять жизнедеятельность края, поставить его, как он говорит, на путь экономической экспансии, о чем наслышался на ярмарках, где, как известно, ведутся умные разговоры. Но деревня, увы, мало чем напоминает Косту Брава, и кемпинг не окупает даже причиненной им потравы.
Уже давно во дворах ферм, где отныне царит тишина, не слышно грохота молотилок. Муниципалитет оскопил навеки умолкнувший общественный фонтан на главной площади поселка. Зачем зря расходовать воду, когда проложили водопровод, она хлещет из всех кранов, пей не хочу! Нет ни ведер, ни кувшинов, ни жизни, ни сплетен у фонтана, даже пузырей пены и тех нету. Все колодцы в забросе, все землекопы, их копавшие, сданы в архив.
Сапожник, изготовлявший некогда сабо, крест-накрест забил досками двери своей мастерской, ибо пришествие эры резиновых сапог сделало его ремесло мало что ненужным — смешным. И не потребовалось много времени, чтобы зеваки поняли, толпясь у трупа портного Зезе Бюрло, удавившегося на орешине, что дела его пошли прахом с тех пор, как люди стали покупать готовое платье в «Мамонте», город запустил свои щупальца даже в деревенскую глушь.
Вся мелкая торговля и все скромные деревенские ремесла постепенно заглохли. Уже не увидишь сейчас тряпичника, сзывающего своим рожком тряпье, кроличьи шкурки и всякую чуланную заваль. Лудильщики, которых здесь величают «бжижи», закрыли свои лавочки с тех пор, как хозяйки стали выбрасывать на помойку кастрюлю, стоило ей хоть чуточку прохудиться. Такой же разгром был учинен в рядах нищих странников, «перекати-поле», этих неотесанных братьев Дилуа Бродяги. Попав, разумеется, на иждивение социального обеспечения, они больше не шатаются по проселкам, от которых тоже уцелело одно только название. И если куры вздохнули свободно, то люди, призревающие своего ближнего, у которых больше нет под рукой этого ближнего, тяжко вздыхают.
В деревне уже не листают любовной рукой «Каталог ремесел», единственное сокровище французской сельской библиотеки наравне с требником. Сейчас в деревне есть автобусы, а на автобусе можно скатать в Виши, в Мулен, даже в Париж. Там делают закупки, и для этого нет нужды прибегать к сложным заказам. Впрочем, плевать на него, отцовский и дедовский каталог. Пусть подыхает добрый старый каталог, будивший мечту под светом керосиновой лампы. С ним вместе захоронена целая цивилизация, ставшая анахронизмом, и ее преследуют повсюду, как китов.
На лугах не пасутся больше ослы. Они стали лишними ртами даже для чертополоха. Прощайте, ослики! Уж не потащатся они с грехом пополам на мельницу молоть зерно сирых. Впрочем, и мельницы нет. Колеса сгнили, и обломки попадали в речку. Нет к тому же и сирых. Все они работают там, на заводе. Нет даже аборигенов. Во время войны последние поселковые парии перемерли с голода над своими хлебными карточками и талонами на топливо, не оставив потомства, словно бы подобное социальное положение было малоперспективным для нового поколения.
Нет в деревне больше цирюльника, остался еще, правда, владелец замка, который, невзирая на ход времени, заправляет охотничьи штаны в шерстяные носки. Если он и сменял тильбюри на «мерседес», его все равно — даже красные — величают, как прежде, мсье Раймон, и величают столь же почтительно. Доживая свое вместе с концом своего века, он выжимает пот из жителей деревушки вполне корректно, что, впрочем, ничуть не лучше, не в пример своим предкам. Не отставая от моды и современности, он собственноручно баламутит воду в своих призамковых канавах, чтобы прогнать оттуда лягушек. Он не гордый, мсье Раймон.
Зато растут отары овец. Рабочие, они же крестьяне, обзавелись каждый несколькими овечками и вечерами, перед сном, пересчитывают свое поголовье. Крестьяне, просто крестьяне, временно живущие сами по себе, утверждают, будто овцеводство — это, мол, для бездельников и что баран лучше всего подходит к тридцативосьмичасовой рабочей неделе и оплачиваемому отпуску.
Все эти сельскохозяйственные проблемы с охотой обсудили бы в пивнушке или за столиком бистро, но нет больше бистро, что, естественно, нарушает нормальную жизнь коммуны. Так что в дни похорон, когда церковь отмыкает в виде исключения свои врата, мужчины не знают, куда им приткнуться в ожидании выноса тела, о чем извещает перезвон колоколов. Раньше они сидели в кафе и лишь потом присоединялись к когорте плакальщиц; выпивали себе по стаканчику, воздавая хвалу усопшему, которого было в чем упрекнуть, но так как он уже почил с миром, то тем самым становился лучшим из людей. А теперь они мерзнут или жарятся под открытым небом, а усопший — невинная жертва общего недовольства — получает по заслугам.
Было, впрочем и не так уже давно было, в этих краях два бистро. Их владельцы и владелицы постепенно отошли от дел, кто на погост, кто на окраину поселка, и возделывают теперь свой сад. Не осталось у них наследников, ибо такого рода семейные профессии не дают права презрительно поглядывать на королей в баккара. Как бы то ни было, деревня без продажи горячительных напитков уже не деревня, и так как они не могли утолить жажду в собственных угодьях, крестьянам хочешь не хочешь приходилось вышагивать добрых пять километров до городка, если их мучило, вполне, впрочем, естественное, желание хватить рюмочку полынной, просто так, для аппетита, воссоздать мир хлебороба за столиком, где режутся в белот, хоть на минуту ускользнуть от опеки своей «матушки», как здесь величают мужья своих супружниц.
Подобная зависимость их унижает и кажется им самым мерзким плодом эволюции, накатившей на их сельский мир, — эволюции, по всему видать, неизбежной. Люди бы уж как-нибудь сжились со всеми этими переменами, если бы их так подло не лишали законной бутылочки. Деревня, словно Сахара, изнывает от жажды, какой не запомнят и всё, как известно, помнящие старожилы. Преобразования, перетасовки, происшедшие в этом краю последние двадцать-тридцать лет, не волнуют молодежь, она плевать хотела на них, как на сношенные до дыр первые свои джинсы. Их могла бы пронять лишь хорошенькая война, скажем, 14-го года, великолепный список побед которой — его сравнишь лишь со списком побед Эдди Меркса на велосипедных гонках — можно прочитать на монументе, увенчанном фигурой пуалю, петухом и парочкой снарядов; но если не стало теперь ни зимы, ни лета, даже весны не стало, то не стало и мировых войн. Как ни прискорбно, пусть оно и аморально, но это именно так. Поэтому молодые живут себе, не щадя своих телес, не тронутых шрапнелью, взгромождаются всем своим неповрежденным костяком на мотоцикл, даже не французской марки, и в треске выхлопов носятся в полное свое удовольствие по дорогам, а то и по вспаханному полю.
По милости этих юных бандитов уже не играют на танцульках ни вальсов, ни танго. Танцует это хулиганье под какое-то столпотворение ультразвуков, под нарастающий грохот децибелов, так что если кто по несчастной случайности заглянет туда хоть на пять минут, то покинет это место увеселения полукретином. А если кто и попросит руки девчонки, то лишь для того, чтобы запихнуть ее пальчики в карман теперь уже легендарных зуавских штанов, так как одновременно с упадком нравов и деградацией общества не стало и самих зуавов.
Короче, деревня пошла ко всем чертям. Даже иллюзий она уже не питает. В один прекрасный день ее вычеркнут из списка налогоплательщиков, а заодно и с географической карты. А если надо будет, то и с лица земли сотрут и на ее месте воздвигнут нечто сногсшибательное, этакий сверхуниверсам, если, конечно, какой-нибудь ловкач решит, что игра стоит свеч. Говоря начистоту со всей возможной ясностью, ничего от деревни не осталось, совсем, совсем ничего. Впрочем…
Еще существовал — худо ли, хорошо — хутор Гурдифло, и жили там двое «придурков», как их обзывают, двое динозавров самой чистой воды, двое местных бедолаг, созданий этого старого бедолаги боженьки. Первый из этих последних могикан, из этих высушенных, продубленных, промаринованных в красном вине черносливин, первый из этих чудаков минувшей эпохи, отброшенной вспять электроникой и даже двигателем внутреннего сгорания, словом, первый из этих двоих друидов пивнушек, звался Франсис Шерасс, в просторечье «Сизисс», в просторечье «Бомбастый», так как был маленький, горбатенький. Второй звался Клод Ратинье. Или, как его величали дома, Глод. Но дом его пришел в упадок, вернее сказать: был до вина падок.
Глава вторая
В былые времена Гурдифло был хутором, где зажигалось примерно двадцать очагов, всего в семистах-восьмистах метрах от городка. Ныне этот хутор так и остался хутором, но в восемнадцати домах провели центральное отопление, и осталось только два живых огня — старая годеновская печка у Бомбастого и еще чугунная плита у Глода, который с утра до вечера помешивал в ней угли.
Оба их деревянных домика стояли рядом в конце ложбины, у откоса, где скакали жабы, и были эти домики самые старые, самые ветхие во всей деревушке. Соседи утверждали, что в один прекрасный день халупы рухнут прямо на тюфяк хозяина, но сами хозяева и в ус не дули, единственной их заботой и утехой было выпить и поесть, особенно выпить, если верить злым языкам, которые в данном случае были, впрочем, не слишком ядовитыми. Глод и Сизисс могли бы резонно ответить, что им-де гораздо легче откупорить бутылочку, чем мастерить волованы по-министерски, потому что, как ни глянь, на волованы по-министерски им плевать, кроме того, красное винцо — последняя их услада на склоне лет, и было бы просто глупо отказывать себе в такой радости прежде, чем откинешь копыта.
Бомбастый раньше был землекопом, рыл колодцы, а Глод — сапожником. Теперь оба эти ремесла, не обогатившие наших дружков, упразднены за ненадобностью. В свои семьдесят лет Шерасс и Ратинье жили на ниспосланную свыше им благодать — пенсию, выдаваемую престарелым труженикам, но временами угущали эту манну небесную плодами собственного сада и огорода, да еще выращивая кур и кроликов.
Глод потерял свою супружницу Франсину уже десять лет назад. Прижил от нее двоих сыновей, коих видел в последний раз в день похорон их матери. Жили они в парижском пригороде, вкалывали на заводе пластмасс или что-то в этом роде, оба обзавелись автомобилями.
А Шерасс никогда и не был женат. В дни его молодости девицы не выходили за горбатых, если даже горб не слишком выпирал и вполне мог сойти за амулет, приносящий счастье, как, скажем, клевер с четырьмя листками. Итак, Шерасс остался холостяком, одним из тех, кого обошла стороной любовь; таких в здешних краях величают «старыми неженатиками». Себе в утешение он выучился играть на аккордеоне, уверяя, что звуки этого инструмента куда мелодичнее, чем голос разъяренной бабы. Ради увеличения своих землекопских доходов он наяривал на аккордеоне на всех танцульках — в те далекие времена, когда музыка, равно как и кухонные плиты не были еще электрическими. Ничего не скажешь, никто лучше Бомбастого не умел пощекотать вам пятки «Вечерним вальсом» и пробрать до самого нутра своим «Самым прекрасным танго на свете»… На военную службу его не призывали даже в 39-м году, хотя родина находилась в опасности, но решила, что вполне может обойтись без Бомбастого — пусть сидит себе на дне своих колодцев… Груду костей, захороненных в братских могилах, вряд ли развеселишь одним горбатым новоселом.
Зато Глод был в плену, пять лет просидел за колючей проволокой и извлек из своего сидения немало основополагающих философских истин. Именно в «сталаге» он и пришел к мысли, что слишком мало пил до войны во время застолий. Выйдя на свободу, он с лихвой вознаградил себя за эту промашку, причем обходился не только без застолья, но даже и без стола.
Вопреки или благодаря этому, так сказать, запьянцовскому режиму оба соседа чувствовали себя как телята на лугу, и только в лицо знали доктора из Жалиньи, так как встречали его на ярмарке, проходившей в этом очаровательном главном городке кантона. Если и случались у одного рези в желудке, то тут же оба обвиняли в этой беде теперешний хлеб, который и в подметки не годился прежнему, привычному с детства. С общего же согласия каждый держал у себя в погребе бочку вина, а так как вина они покупали разные, разнообразие это весьма скрашивало их трапезы, и на все удивленные вопросы соседей — как это они ухитряются делить такую лакомую штуку на двоих — они только лукаво выгибали бровь. Глод был клиентом виноторговца из Вома, Бомбастый больше уважал виноторговца из Сорбье.
Поскольку они не желали жить «как скоты», они читали газету, чтобы быть в курсе малейших перемен в нашем огромном мире, жильцами коего являлись и они. Один год подписывался на «Монтань» Глод. А на следующий год ту же операцию проделывал Бомбастый. Прочитав газету, один передавал ее другому, и этот незыблемый обряд сопровождался появлением двух стаканов на покрытом клеенкой столе и убежденным заявлением: «Это не повредит».
Тот же самый прием — одна газета на двоих, что составляло известную экономию, — распространялся и на свинью. Покупали ее вскладчину и вскладчину же откармливали. Половина просоленной свиной туши с лихвой удовлетворяла их потребности. В четные годы свинья откармливалась у Ратинье, в нечетные — у Сизисса. Оба дружка понимали: может случиться, что в какой-нибудь злосчастный день один из них покинет наш мир, и другому не обобраться хлопот — ведь на руках у него останется вся туша целиком; но, к счастью, столь тяжкие мысли тут же улетучивались, не успев согнать с их лиц румянец, подобный лепесткам шиповника.
Да еще какого шиповника! Разве Глод и усами, и всей своей выправкой не походил на леденцово-розового маршала Петэна? А Бомбастый — на гнома из «Белоснежки», несколько злоупотреблявшего своим положением? Может статься, какой-нибудь придира и обнаружил бы на их щеках и на носу сеточку красноватых прожилок, но этот педант просто не понимает, что таково действие свежего воздуха. Шерасс и Ратинье за всю жизнь не вдохнули ни спертого воздуха угольных шахт, ни вони метро. Их свинка потребляла только отруби, кормовую свеклу, картошку, их курочки и кролики даже не знали, что на свете существует рыбная мука, зловонные кормосмеси и прочие штучки-мучки фабричного изготовления. Овощи с их огородов произрастали и наливались соком на добром гноище Иова многострадального, проще говоря, на навозе. Впрочем, оба наши поборника экологии и не имели иного выбора: корма фабричного производства и искусственное удобрение обошлись бы ох как дорого, «хоть кожу с задницы обдирай», прошу прощения у дам! Будучи бедняками, Ратинье и Шерасс вынуждены были питаться как богачи.
Оба курили, даже не подозревая, что на дне пачки табака притаились канцерогенные вещества. Они свертывали себе сигареты, прикуривали от зажигалки, которую наполняли горючей смесью для мотороллеров. Стоило крутануть колесико, как тут же обоих обволакивало густым облаком дыма, вокруг начинали порхать черные обгорелые бумажные мотыльки, но они только пренебрежительно разгоняли их взмахом руки. А табак уж тем более — никому он повредить не может. Старухи не курят, а помирает их не меньше — это уж точно! Какое вам еще доказательство требуется!
— Вот хоть моя покойная супружница, — втолковывал дружку Глод, — так ведь не пила, не курила, и что же — зарыли ее, голубушку, в сырую землю. А в гроб ее свели разные пилюли, настойки, всякая аптекарская дрянь ядовитая. Она их прямо килограммами заглатывала, набивала себе брюхо ихним товаром. Целыми лоханями потребляла. И что же? Три арпана земли!
Хотя с виду были они люди суровые, однако неустанно пеклись о здоровье друг друга. Умри один, значит, оставшемуся в живых суждено было погибнуть с тоски в те несколько месяцев, что он пережил бы усопшего. В одиночестве человеку не пьется. А если пьется, то без дружеской беседы, без ничего; так только коровы пьют, а это уж совсем беда, большей беды для организма и не бывает. Если случалось Бомбастому кашлянуть, Глод тут же пугался.
— Ого, отец! Будто в пустом бочонке отдается! Надо бы за собой последить! Когда дело о здоровье идет, тут уж не до шуток!
Шерасс демонстративно плевал в свой клетчатый носовой платок — смотри, мол, нет у меня никаких зловредных микробов, пожимал плечами, отчего его слегка перекашивало набок.
— А ты, старая перечница, ко мне не вяжись! Если человеку и кашлянуть нельзя, на что ему тогда легкие дадены, а?
— Франсина вот тоже кашляла. Хоть и кашляла-то всего одно лето.
— Ты же сам знаешь, почему она померла. Через лекарства. С тех пор как стали ими торговать, они больше людей убили, чем во всю войну 14-го года. Слава те господи, хоть глаза нам открыли — нельзя их целыми пачками глушить. А Франсина из-за них богу душу отдала, из-за пустяков то есть.
— Так-то оно так, да все равно у тебя в середке хрипит. Ну будто ты мотороллер проглотил.
— Не твое собачье дело! Собью себе гоголь-моголя и добавлю в него целый стакан хмельного.
Если Глод краснел, Бомбастый бледнел.
— Ого, отец! Уж не удар ли тебя скоро хватит, смотри, какой сделался, чисто красное знамя!
— Да нет, ей-богу, старый ты чудачина! Просто злость у меня выходит — а это в порядке вещей. Что ж, по-твоему, лучше, чтобы она внутри сидела?
— На твоем месте наловил бы я пиявок, да припустил себе на загривок, самое разлюбезное дело.
— Верно, что разлюбезное. А я бы на твоем месте литр мне поставил!
Выпивали литр. Потом задумчиво молчали, но ведь это с любым добрым христианином может случиться. Шерасс сам задавал себе вопрос, потом повторял его вслух заискивающим голоском:
— Знаешь, старик, уж сколько раз я спрашивал себя, не слишком ли много ты пьешь?
Утирая усы, Ратинье возражал столь же учтиво:
— И у меня, старина, один вопросик есть, только я его не задаю. Ты весь насквозь проспиртовался до самого пупа, но пьешь ты уже гляди сколько лет и, пока жив, бросать не собираешься. — И вдруг, побагровев, взрывался без перехода: — Ну и что! Если даже! Если даже я лишку хвачу! Твое-то какое дело? Тебе-то что?
— Если я отдам концы, это уж моя забота. Но не хочу я, чтобы ты помирал, вот ты. Что тогда со мной будет, а, скажи?
— Вон он, эгоизм-то твой! Так бы и сказал. Кстати, и ты бы тоже поменьше мог пить. Между нами говоря, и мне не особенно интересно оставаться одному с этой вот старой падалью, с этим Добрышом…
Добрыш был кот и принадлежал Глоду, мерзейший черный деревенский кот, возможно, когда-то и сибирский, но к старости он стал шелудивый, общипанный, блохастый, растерзанный. Посмотреть на него сзади — просто обглоданный селедочный хребет с двумя не совсем пристойными висюльками. Спереди — пара ушей, хоть и с зазубринами по краям, зато стоявших торчком, как бумажный кулек, как граммофонная труба, иначе ему не уберечься бы было от пинков, от автомобилей, когтей или выстрелов.
Было ему лет двенадцать-тринадцать, и он знал Франсину, это она и окрестила его Добрышом еще в том нежном возрасте, когда он уже ухитрялся стащить целую головку сыра. В скором времени и вся деревня начала звать Добрышом, так сказать, расширительно, всех, кто нечист на руку, впрочем, их также эвфемизма ради называли еще «падки до чужого». Кот Добрыш гордо носил свою анархо-воровскую кличку, дремал обычно у ног своего хозяина, который, впрочем, при посторонних никогда не позволял себе никаких сантиментов в отличие от горожан. Наоборот, в присутствии Бомбастого Ратинье, завидев кота, начинал ворчать:
— Видать, смерть-матушка нынче по горло сыта. Да никогда эта падаль не подохнет. Нас еще с тобой похоронит!
Но стоило Шерассу повернуться к Глоду горбом, как тот быстренько нагибался и гладил кота. В саду Глода стояло с десяток коробок из-под сардин, в которых засыпала рыбешка, предназначавшаяся для его старого спутника жизни.
В один злосчастный день бывший сапожник недрогнувшей рукой оттолкнул стакан, который протянул ему бывший землекоп. Этот последний, засунув пальцы в стакан, вытащил то, что барахталось в вине, другими словами, муху.
— Да это же муха! Если ты боишься, что она тебя в задницу ужалит, я тебе другой стакан налью, но с чего это ты к старости таким деликатным стал! Чего доброго, будешь вино через соломинку цедить!
Но Глод сидел насупившись:
— Да не из-за мухи вовсе! Если даже муху проглотишь, от нее при моей-то болезни такого вреда, как от вина, не будет.
— А какая же это у тебя со вчерашнего дня новая болезнь открылась?
— Диабет.
Бомбастый выпучил свои совиные глаза:
— А как же ты об этом узнал?
— Узнал утром, из «Монтань».
Чтобы окончательно не потерять присутствие духа, Бомбастый осушил свой стакан:
— Неужто в «Монтань» о твоем диабете писали?
Ратинье отрицательно помотал головой, его явно утомляла беседа с такой бестолочью.
— Конечно нет, старый ты болван! Там в одной статье вообще о диабете говорилось, но в частностях это как раз ко мне подходит. Я вспомнил свою тетушку Огюстину, у нее диабет был аж во всем теле, да и померла она одноглазой, а почему и как ей этот глаз удалили, уж не знаю. Да если бы только одна она — это еще не страшно, а был у меня двоюродный братец, Бенуа Клу, так он тоже диабет подцепил. И такой диабет, что уж сильнее не бывает, он его и сгубил, Бенуа и охнуть не успел. Вот и получается — двое у меня.
Бомбастый захихикал, что, по мнению его собеседника, было более чем глупо, и заявил:
— Откровенность за откровенность, и у меня тоже двоих дядюшек в четырнадцатом году убило, но мне странно было бы, если бы и со мной такое приключилось.
Так началась их первая ссора. Глод намертво вцепился в свой воображаемый диабет и никаких шуток на сей счет не терпел. Неведомый бич божий обрушился на него, и целую неделю он не находил себе места. Отныне больной питался только зеленой фасолью, пил кофе без сахара и воротил нос от каждой ложки столь гнусного пойла. Рука его, машинально тянувшаяся к бутылке красного, бессильно падала и от греха подальше зарывалась в карман.
— В жизни больше к нему не прикоснусь, — цедил сквозь зубы Глод, не устояв, однако, против искушения и ставя пустую бутылку в мойку. И продолжал: — А странно все-таки, повсюду болезней полно, даже в десятом колене. Надо полагать, передаются они, как филлоксера на винограднике, а ведь она — филлоксера — штука не смертельная. Чем же это я провинился перед господом богом, елки-палки, чтобы по наследству диабет получить, будто нет на земле другой холеры, кроме этого самого диабета; при холере хоть можно пить сколько душе угодно, и нутро не повредишь.
Как-то утром он вывел из сарайчика свой велосипед, некое сооружение, достойное занять первое место в музее «Вело», и понесся сломя голову в Жалиньи посоветоваться с врачом. На половине дороги он слегка сбавил ход. Этот Гюгюс наверняка вручит ему целый мешок разных снадобий, а он от них наверняка околеет — ведь убили же они его Франсину. Тут он принажал на педали — впереди забрезжила некая надежда. А что, если доктор вдруг разрешит ему пить, хоть немного, а разрешит…
— Пол-литра можете, мсье Ратинье.
— За обедом?
— Что вы! За целый день. Кстати, сколько вы за день выпиваете?
— Да никогда как-то не считал… Литров пять-шесть, как и Бомбастый.
— Да вы с ума сошли! — взовьется доктор. — Вы просто-напросто алкоголик, пьявка безмозглая, трава кровососная! Хватит вам в день и пол-литра!
Пол-литра! Пусть он себе кое-куда эти пол-литра вольет! Глод чиркнул ногой о землю, остановил велосипед. Какого черта катить десять километров туда и обратно, отдавать свои кровные денежки, слушать, как на тебя, старика, орут словно на мальчишку, и все из-за каких-то пол-литра, которые и распробовать-то толком не успеешь, как винцо уже в желудок проскочило! С тяжелой душой Ратинье повернул обратно, с отвращением касаясь носком сабо велосипедных педалей. Не следовало ему читать этот «Монтань». Ведь знал же — все, что печатают в газетах — сплошное вранье, знал, какую ахинею несут депутаты, только головы добрым людям морочат…
Сидя на лавочке у двери, Шерасс нажаривал на аккордеоне «Златую ниву», подпевая себе козлиным голоском. Эка развеселился, скотина, а еще полный стакан рядом поставил. Лучше бы распяли на кресте нашего болящего, чем видеть жизнерадостную физиономию Бомбастого. И не удержавшись, он резко бросил:
— Оставишь ли ты меня в покое, черти бы тебя взяли, дромадер проклятый. Дай хоть мне мирно угаснуть, пьянь чертова! Надрался с утра пораньше, пропойца эдакий!
Говорят, ученые люди запросто употребляют слово «дромадер»; вот и Бомбастый так давно взвалил себе на спину свой верблюжий горб, что до времени пропустил оскорбление мимо ушей. Решил, что, если он еще громче затянет песню, это, пожалуй, будет похлеще любой ругани:
Когда слетит на долы тихий вечер И соловьи свистят еще лениво, Послушаем, что нам споет златая нива!Сгорая от зависти, Глод в отчаянии заперся у себя дома, заткнул уши, чтобы не слышать ужасающего голоса того поганца, что у него под боком опрокидывает десятую поллитровку. Небо было безоблачно синее. На лугу Добрыш играл с лесной мышкой, с еще большим садизмом, чем роковая женщина, заигрывающая с учителем математики. А дома все было мрачное, темное, и беспросветный мрак навалился на Глода.
На следующий день, в воскресенье, Ратинье совсем не встал с постели, мужественно приготовившись к смерти по причине обострившегося диабета. Он будет ждать конца столько времени, сколько потребуется, хоть две недели, хоть месяц. Бомбастый не появлялся, небось залег себе не раздеваясь под красный пуховик и никак не очухается от пьянства. Никто на свете не заглянет к Ратинье, не поможет ему, не вырвет его из когтей смерти. Синеватая муха, басовито жужжа в единственной комнате его хижины, время от времени с глухим стуком ударялась о рамку, где под слоем пыли в два пальца толщиной с трудом можно было различить фотографию молодоженов Ратинье.
В те далекие времена Франсине было ровно двадцать, и она, белокурая, грациозная, в белом подвенечном платье, смеялась перед фотоаппаратом, а Глод выставлял напоказ свои подвитые щипцами усы, столь же черные, как и его прекрасный новый костюм, который и поныне висит в шкафу, и единственный его шанс стряхнуть с себя нафталин — это дождаться кончины хозяина, когда того будут обряжать в последний путь.
Эта страшная картина несколько освежила умирающего. «Если я и дольше буду здесь валяться, — подумал он, — то, чего доброго, сдохну по-настоящему». Муха сядет на его широко открытые глаза, отложит целую кучу яичек, конечно не всмятку. А потом выведутся черви, «жирные кумовья», как их здесь величают, грязно-белые, стоит ковырнуть лопатой торф, и там таких полным-полно. Глоду почудилось, будто они, скользкие, уже устроили себе в его ноздрях логово, лезут в рот, и со страха его подбросило на кровати. Оказывается, не так-то просто взять и помереть. По здравому рассуждению, он не помрет, во всяком случае сегодня, сегодня — вдруг вспомнилось ему — день господень, читай день анисовой настойки. По воскресеньям Глод и Бомбастый взяли себе за привычку пить перно, и пить у того, у кого хранится бутылочка, которую они по неписаному уговору покупали по очереди. Сейчас бутылка как раз находилась у Шерасса, а Шерасс и не думал еще выходить из дому, в чем Ратинье удостоверился, взглянув в оконце. И его это озадачило — ведь время уже шло к полудню. Этот шут, может, уже давно окоченел под своим пуховиком, пал жертвой перепоя, «over-dose» — чрезмерной дозы, как выражаются иностранцы. А что, если Глод дал маху со смертью, а Бомбастый удачно сыграл в ящик?
Ратинье в тревоге выбежал из дому, постучал к соседу.
— Кто там? — раздался кислый голосок Шерасса.
Ратинье вздохнул с облегчением. Но что это за легкое облако там на дороге, уж не Курносая ли удирает отсюда, просчитавшись на день, а может, и на год? Да нет, просто жирный заяц, завезенный из Чехословакии.
— Это я, — крикнул Глод, — кто же еще?
Хлопнули ставни, и в окошко высунулась ехидная физиономия Бомбастого, который был в одной рубашке.
— Да это же наш диабетик! Опять пришел надоедать мне своим диабетом? Заметь, вид-то у тебя вправду не ахти какой. Проваляешься с недельку в постели да поохаешь — непременно раскиснешь, словно тебя лихорадка трепала.
— Что верно, то верно, — признался Глод, — у меня и впрямь ноги заплетаются. Ничего не поделаешь, старею…
Тут Сизисс сурово его оборвал:
— Стареть все стареют, да не все ума лишаются. Если собираешься еще протянуть, так соображать надо. Бери пример с меня!
От Бомбастого, как из винного бочонка, шел такой заманчивый дух, что у Глода сердце захолонуло, и он, еле ворочая языком, пробормотал:
— Ты уж прости меня, что я тебя вчера обидел. Неладно это было — дромадером тебя обзывать.
Тут-то Шерасс решил отыграться за оскорбление и лицемерным голоском — Ратинье уже знал это за ним — захныкал:
— Над убогими все смеются, а никто не знает, что с ним самим завтра стрясется. Вот ты со своим диабетом, глядишь, и потеряешь глаз, а то и оба. Будешь ходить с белой палкой, во все рытвины сверзиваться, как те парни, что на престольных праздниках напиваются до положения риз. — И продолжал уже обычным тоном: — Вот так-то, отец. Ты меня задержал. Час он и есть час, значит, час выпивки наступил. Я сейчас налью себе чуток, если, конечно, твоей диете этот запах не повредит.
Как землекоп, Шерасс, если говорить о колодцах, выгодно отличался от сапожников, которые, как известно, всегда без сапог. Он выкопал себе самый распрекрасный, самый глубокий колодец во всей округе, обложил его розовым кирпичом, сквозь который пробивались такие сочные, такие аппетитные растения, что хоть салат из них готовь. Вытягивая ведро осторожным жестом влюбленного, Сизисс разглагольствовал:
— Лучше моей водички, Глод, скажу не хвалясь, хоть весь край обойди, лучше не найдешь, и для супа и для анисовой. Такой там горизонт грунтовых вод, какого во всем Алье не сыщешь. Как вспомню я, что ты свой колодец уничтожил и воду из крана берешь, так у меня сердце переворачивается.
— Ты же сам знаешь, это Франсина захотела, чтобы вода из крана бежала. Сколько я ей ни толковал о твоем, как его там, горизонте чумовых, что ли вод, она, моя супружница, ни в какую. Они, бабы, сволочи и все такое прочее. Им, видишь ли, современные удобства подавай.
Освобождая от веревки дужку ведра, Бомбастый презрительно хохотнул:
— Говорят еще, что им теперь равенство требуется, бабам-то. Если они без мужиков хотят обходиться, одними только уколами, — у них, верно, карлики получатся. Нарожают не только рахитиков или диабетиков, но и уродов разных! Вроде морских коньков, тех, что в болотах откапывают!
Ратинье поддержал этот ядовитый выпад, скорчил гримасу, даже на глазах осунулся, видя, как Шерасс водрузил на скамейку анисовую и принес только один стакан. Затем Сизисс взял ковшик, зачерпнул водички и, указав на ведро, посоветовал другу:
— Можешь допить! При твоей болезни тебе это только на пользу пойдет.
С этим любезным пожеланием он подлил в стакан воды аперитива, поднес к глазам золотистое питье, на поверхности которого выступили холодные капельки.
— Видишь, Глод? Моя вода точь-в-точь такой температуры, какой требуется для перно. Градус в градус. А ихние холодильники слишком морозят, даже в животе резь начинается. С моей водичкой прямо в кишки льется, будто утренняя роса с листьев. Смотри!
Побагровевший от завистливого желания, Глод смотрел, как его мучитель сначала пригубил дьявольское питье, по движению языка догадался, что тот с наслаждением смочил нёбо, потом глотку, а потом и все прочее. Бомбастый громко причмокнул и спросил:
— Куда это ты, Глод? Опять тебя мутит?
А Глод ворвался в домик Шерасса и вышел оттуда со стаканом в руке, быстренько налил в него воды с перно и выпил одним духом. Затем, не помня себя от восторга, плюхнулся на скамейку рядом с Сизиссом и без всякого перехода объявил:
— По-моему, ночью хо-рошенький дождик будет…
— Оно и на пользу. Для садов очень пользительно. Только бы не сильный ливень.
— Думается, ливня не будет. Только так, землицу смочит.
— Может, Глод, еще один стаканчик выцедишь? Как-то оно нескладно получается — вроде одноногий.
— Ей-богу, Сизисс, я теперь и сам так думаю. Твоя вода все равно что в Лурде, высший класс, против всех болезней.
На сей раз пили они степенно. Бомбастый привалился к спинке скамьи.
— А ведь мы с тобой, Глод, не такие уж несчастные!
— Есть и понесчастнее нас, Сизисс. Глядишь, иного совсем скрючило…
— А есть такие, что ни хрена не видят… А у кого артерии совсем задубели, торчат, как волоски на руке или как спагетти.
— Хочешь, я тебе одну вещь скажу, Сизисс?
— Выкладывай.
— Диабет и пройти может, это уж как пить дать. Да и нет в нем никакого интересу. Не буду я больше диабетиком, никогда не буду. Слышишь, никогда!
Удобно усевшись на скамейке, он подсунул большие пальцы под широкие бретели синего комбинезона, вздохнул глубоко, в полное свое удовольствие и, уставившись на верхушку яблони, увенчанную сорокой, заключил:
— А ведь сейчас ты верно сказал, Сизисс: не такие уж мы с тобой несчастные.
Глава третья
В Гурдифло жили не только чистокровные бурбонезцы, полубелые, полукрасные, которые, как и все и повсюду, старались или захватить чужую землю, или сохранить свою. Жили там также бельгийцы, валлонцы, откликавшиеся на имя Ван-Шлембрук, что служило веским доказательством того, что противоестественные скрещивания происходят повсюду, даже в Бельгии.
Эти пришельцы с Севера купили амбар-развалюху в безумной надежде привести его в христианский вид, чтобы проводить там отпуск. Беднягам не удалось так скоро отпраздновать новоселье. Прошла Пасха, прошел август, прошло Рождество, а они все что-то выгружали, вкалывали до седьмого пота, возясь с расшатанными стенами, трухлявыми балками, как во время оно вкалывали только каторжники в Кайенне. Приезжали они гладенькие, а отправлялись восвояси тощие, как вороны в зимнюю пору. От зари до зари слышно было, как они хлопочут вокруг своей бетономешалки, пилят доски, вбивают гвозди, пошлепывают своим соколком, а когда прищемят палец, орут, словно нализались крепкого бельгийского пива. Они собственноручно очистили колодец, в котором утонула, или, может быть, просто захлебнулась ихняя девочка. Пока длился этот их адов сезон, Ван-Шлембруки ютились в палатках и питались какими-то кореньями. Ремонт амбара, приобретенного по дешевке, должен был обойтись им ровно в такую же сумму, какая пошла бы на постройку нового дома, даже с бассейном.
Обитатели Гурдифло посматривали не без любопытства на этих одержимых, задумавших построить себе новое жилье. Летними вечерами местные жители отправлялись прогуляться и, добравшись до новостройки, пичкали несчастных амбаровладельцев самыми противоречивыми советами. Здешние смотрели благосклонно на Ван-Шлембруков, приняли, так сказать, их в свое лоно: все-таки союзники, потомки маленькой, но доблестной бельгийской армии и короля-рыцаря. Словом, такие же люди, как мы с вами. А работящие — тут уж ничего не скажешь! Если бы все французы были вроде них, не дошли бы мы до теперешнего положения. К тому же иностранцы, а понятно, что хотят сказать, хоть и говорят «пожалуйста» вместо «спасибо», иностранцами их назовешь разве что для смеха, просто они невинные жертвы разных географических штучек, вполне они достойны быть у нас. Правда, они боятся коров, каждую корову принимают за быка, ну да разве парижане лучше…
Летом со всех сторон им тащили корзинами зеленую фасоль, ссылаясь на то, что ее такая прорва уродилась, что девать некуда. Не желая никого обижать, Ван-Шлембруки, совсем захиревшие на строительстве своего амбара, ели все подряд. Уже целых три года трудились они без видимых результатов, когда как-то апрельским вечером Глод объявил Бомбастому:
— Видать, бельгийцы приехали. Вчера, когда я уже лег, слышал, как их машина прошла.
— Нынче пасхальные каникулы, они и приехали поишачить. А я вот что тебе скажу: если им нравится из себя бедняков разыгрывать, значит, им все вполгоря. Все равно как я, когда крышу чинил! Не хватило черепиц, так я вместо них крышку от бака проволокой прикрутил, и, поверь, держится неплохо.
— Ну знаешь, когда ты вместо черепицы повсюду крышки от бака присобачишь, не так-то это будет красиво.
Ответная гримаса Бомбастого свидетельствовала о том, что плевать ему на красоту не только крыши, но и собственную. Глод нахлобучил каскетку.
— Пойду поздороваюсь с бельгийцами, пусть не болтают там у себя, что французы дикари и всякое такое прочее. Надо с людьми вежливо себя вести.
Глядя вслед уходящему другу, Шерасс в порыве благоразумия решил было, что надо бы ему поработать в саду, впрочем, с этим делом и подождать можно. Он сгреб свою шапку.
— Я тоже с тобой пойду, полезно кости поразмять.
Они двинулись в путь под дружное хлопанье двух пар деревянных сабо. Когда Глод бросил свое ремесло, он прихватил с собой в Гурдифло запас не нашедших сбыта деревянных сабо. Так что они с Бомбастым были обуты до конца своих дней, даже если этим дням суждено длиться и длиться. Во всей коммуне только они одни круглый год, при любой погоде щеголяли в сабо. Об их появлении задолго извещал стук деревянных подошв по дороге.
— Закрывайте погреба, — хихикали остряки, — польские гусары скачут.
— Дочек, дочек из дома не выпускайте, — веселились другие, — козлы прутся!
— Берегитесь! — кричал через поле сосед соседу. — Индейцы вышли на военную тропу.
Наши друзья поравнялись с лугом, его обносил оградой Жан-Мари Рубьо с помощью своего сына Антуана.
— Приветик, Жан-Мари, — бросил Шерасс, а Глод тем временем отвернулся и, не скрываясь, уставился в противоположную сторону.
— Приветик, Сизисс, — ответил Жан-Мари.
Прошли еще несколько шагов, и Бомбастый обратился к своему спутнику:
— Почему это ты, Глод, уже и с Жаном-Мари бросил разговаривать?
— Да как-то с годами разучился. Я и без болтовни все, что надо, знаю, а разговоров мне и с тобой хватает. Ну вот ты с ним заговорил, а что, тебе лучше от этого стало?
Шерасс ответил не сразу.
— Да ей-богу, не знаю, — признался он наконец. — А все-таки нужно с людьми разговаривать… Представь, мы бы с тобой не разговаривали…
— Ну мы — это совсем другое дело. Тогда бы нам плохо пришлось, ведь мы с тобой соседи.
Бомбастый снова задумался, потом пробормотал:
— Что верно, то верно. Это дело совсем другое. И потом у нас свинья общая.
— Видишь! — торжествующе заключил Ратинье.
Когда они отошли, Жан-Мари с Антуаном решили передохнуть.
— Даже смотреть жалко на этих двух бедолаг, — вздохнул отец.
— Да почему? Они еще совсем свеженькие.
— Свеженькие-то свеженькие, покуда их паразиты окончательно не одолеют. Если в доме нет женщины, там только и есть чистого, что грязные рубахи. А что они едят-то? Капустный суп, сало, бифштекса и в глаза не видят — напьются и хлоп на пол, а в один прекрасный день и вовсе не подымутся. А уж Глод — последний злыдень.
— И в самом деле, почему это ты с ним не разговариваешь?
Жан-Мари не спеша вытер платком мокрую от пота шею, потом буркнул:
— Это уж наше дело.
Чуть подальше Глоду с Бомбастым пришлось проходить мимо домика Амели Пуланжар, которая в качестве официально признанной местной тихопомешанной палец о палец не ударяла и только подвивала себе локоны. Так как все ее выходки были, по существу, безобидны, сыновья держали мать дома. Хотя по утрам она и пыталась электрической зажигалкой растапливать центральное отопление, зато умела очистить парочку морковок и картофелин и бросить их в суп. Когда она бралась вытаскивать из собачьей шерсти репьи, пес рычал и все шло своим чередом.
Амели всегда ходила в черном на манер всех старых жительниц Бурбонне, в национальном костюме, который она ни к селу ни к городу старалась оживить, нацепляя на голову розовый капор, который выудила в каком-то сундуке. Завидев наших дружков и приняв их за двух развеселых новобранцев, старуха радостно воздела к небу руки.
— Недоставало нам еще на эту полоумную нарваться, — проворчал Глод. — Таким образинам лучше всего смирительная рубашка подходит, верно ведь?
— Дружок мой Глод, — запищала старуха. — Дорогой мой Глод! Иди, я тебя поцелую!
Уязвленный в своем самолюбии, Глод легонько отпихнул ее ладонью.
— Нет уж, старуха, не взыщи, поцелуев не будет! — И добавил, грубо хлопнув себя по ягодицам: — Если тебе так уж приспичило говядину целовать, целуй сюда!
Блаженненькая фыркнула, запустив палец себе в нос:
— Ты всегда был, миленький Глод, ужасным нахалом! Когда же ты ума-разума наберешься? Иди в армию, там тебя быстро обратают!
— Верно, Амели, верно. Через два месяца мне призываться.
Вдруг она, вся даже покраснев от смущения, пискнула:
— Господи, да я же ничего тебя о Франсине не спросила! Ну как она там, моя раскрасавица?
— Хорошо, очень даже хорошо.
— Тем лучше, тем лучше! Скажи, что я завтра зайду к ней и принесу торт, хочу поздравить с двадцатилетием!
— Непременно скажу.
Они ускорили шаг, так что Амели с ее одышкой пришлось, хочешь не хочешь, выпустить свою добычу. Желая утешиться, она подхватила кончиками пальцев свои многочисленные юбки и стала отплясывать польку; от этих ее маневров в ужасе взлетели с яблони две вороны.
С самой зари Ван-Шлембруки замешивали бетон, гасили известь, суетились вокруг своего амбара, как муравьи в банке с вареньем. С верхней ступеньки лестницы Ван-Шлембрук окликнул жену, двух своих сыновей четырнадцати и пятнадцати лет, двух своих дочек десяти и двенадцати лет.
— К нам идут мсье Ратинье и мсье Шерасс! Будьте с ними повежливее, пусть не говорят потом, что бельгийцы дикари. И не упоминайте о велосипедных гонках Париж — Рубе, где мы каждый год побеждаем. Французы ужасные шовинисты, и это будет им неприятно.
После обычных приветствий и пожеланий истомленные долгим путем Глод и Сизисс уселись на складные стульчики, которые поспешили предложить хозяева своим гостям, поклонникам, но и строгим критикам их работы. Младшая девочка принесла им два стакана красного. Хозяева знали, что местные старики крестьяне на дух не принимают пива, будь оно даже творением траппистов, по здешнему понятию пиво было просто-напросто «ослиной мочой».
— До чего же славная девочка, — сказал Сизисс и, поблагодарив, осведомился, что она будет делать, когда вырастет, хотя плевать ему было на это, спросил он из чистой вежливости.
Она сурово взглянула на него, полагая всех французов виновниками своих бед.
— Буду уезжать на каникулы, а то теперь у меня из-за этого дерьмового амбара никогда их не бывает. К морю поеду, в горы, буду повсюду ездить, где ваших сволочных деревень нету!
— Не очень бы обрадовались твои родители, послушав тебя, — заметил Бомбастый.
— Мои родители последние болваны, — проскрежетал зубами этот белокурый ангелочек, и она убежала: мать позвала ее помочь поднести мешок с известкой.
— Не больно-то хорошо ихняя дикарка воспитана, — заметил Глод.
А Бомбастый добавил:
— Это еще полгоря! А вот что они нам литровку не поставили, как принято в компаниях, это уж совсем скверно!
Хоть они и похулили бельгийцев, но продолжали смотреть, как те гнут хребет.
— Я, бывалыча, не так работал, — заметил один, видя, как мальчишки, пыхтя, все в поту, пытаются сдвинуть с места балку.
— Раз они пьют то, что пьют, откуда же им силы набраться, — подтвердил второй.
Глод одним глазком печально заглянул в пустой стакан:
— А знаешь, я даже устал смотреть, как они корячатся. Видно, к старости бездельником становишься.
— Да уж, парень, мы свое отработали. Мы с тобой с десяти до шестидесяти пяти лет круглый год как волы животы надрывали. Тебе-то все-таки лучше было, ты хоть свои бахилы под крышей тачал. А я весь божий день то в воде барахтался, то по верху колодцы украшал, вот и достукался до ревматизма, который мне сейчас покоя не дает…
— Да я и не спорю, я только хочу сказать, что работа у тебя была простая, тут артистом быть не нужно. А вот попробуй с одним сверлом сделай задок и все прочее без всяких машин, знай только поворачивайся, как новобрачная, чтобы четыре пары сабо за день смастерить. Тебе-то, чтобы землю рыть, ни головы не требовалось, ни пальцев, как у пианиста.
Бомбастый вскочил в гневе, опрокинув свой стул.
— Чего ты мне голову морочишь со своими артистами да пианистами, старый ты пустомеля! Попробуй скажи только, что колодцы рыть может любой чернорабочий. Почему тогда не арабы?
— Вот именно это я и хотел сказать, — заорал Глод, теперь уж он поднял за ножку складной стул. — Вы, землекопы, просто хамье деревенское, бурдюки!
— Это я-то бурдюк?
— Пьяница!
— Я пьяница?! А ну повтори!
— Самый что ни на есть запьянцовский алкаш! Недаром про тебя говорят, что ты себе в горб литровку прячешь, как верблюд!
— Смотри, старая падаль, что я с твоими дерьмовыми сабо сделаю! Да лучше я в одних носках ходить буду!
Мимо уха Глода пронеслось со свистом сабо, брошенное Бомбастым, но Глод уже успел схватить лопату, намереваясь сразить агрессора.
— Папа, — завопил сын Ван-Шлембрука. — Французы дерутся!
Папа кубарем скатился с лестницы, горя желанием погасить в самом зародыше гражданскую войну. Наши галльские петухи, угрожающе взмахивая грозным оружием, топтались на месте, явно намереваясь поразить соперника ударом неумолимой шпоры. Но тут оба разом присмирели, услышав с шоссе крик хозяйской девочки:
— Немцы! Немцы!
По шоссе медленно ползла серо-стальная машина с прицепом, и на номерном знаке автомобильного и явно чужеземного номера виделись буквы «WD», выдававшие национальную принадлежность ее владельцев.
Ван-Шлембрук пожурил дочку:
— Ты, Мариека, нас совсем напугала. Ну разве кто кричит: «Немцы! Немцы!», всем и без того хватает этих ужасных воспоминаний. Нужно говорить: «Какие-то немцы», как, скажем, «какие-то японцы», «какие-то американцы».
— Какие бы они ни были, — заметил Бомбастый, спокойненько влезая в свои сабо, — хотелось бы мне знать, что эта немчура здесь промышляет. Как, по-твоему, Глод, ты-то знаешь, небось, недаром они тебя целых пять лет терзали?
— Должно быть, сбились с дороги.
— Тогда, — заключил Шерасс, — это еще полбеды.
Рике, двенадцатилетний сынок Антуана Рубьо, во весь дух понесся домой. Его мать с бабушкой отправились на рынок в Жалиньи. В зальце, обставленном мебелью, покрытой голубым пластиком, мальчуган обнаружил лишь прабабку Маргериту и прадеда Блэза. Папаша Блэз, благополучно дотянувший до восьмидесяти пяти лет, с утра до вечера возлежал в шезлонге в ночном колпаке с помпоном, укутанный в одеяла, покуривал трубочку и потягивал различные лекарственные настойки, в которые ему для запаха подливали чуточку сливовой, потому что иначе, как он уверял, ихнее пойло у него в животе колом стоит. Что поделаешь, приходится подчиняться капризам предков. Хотя прадедушку в свое время хватил удар, он вполне еще мог дошаркать до буфета и стянуть оттуда бутылку сливовой.
Не отдышавшись как следует после бега, Рике торжественно предстал пред своими предками и пробормотал буквально следующие слова, правда не совсем подходящие к случаю, но на местном жаргоне звучащие вполне доходчиво:
— Так вот, родимые! Так вот, детки мои!
Тугие на ухо «детки» насторожились.
— Что с тобой случилось, внучек? — забеспокоилась Маргерита, уж не гдюка ли тебя ужалила?
Мальчуган презрительно махнул рукой, давая понять, что никакая гадюка ему на пути не попадалась, и словоохотливо приступил к объяснениям:
— Я был на Аркандьерской дороге, мы как раз с Сюзанной Пелетье в доктора играли — она стетоскоп где-то ухитрилась раздобыть, — и вдруг машина с прицепом останавливается прямо рядом с нами, чтобы спросить, как к Старому Хлеву проехать. А спрашивал толстый такой, рыжий, он за рулем сидел. Он уже заезжал к нотариусу и Старый Хлев купил, но только не знает, как туда добраться. Вот я и показал дорогу.
— Ну и что? — спросил Блэз, предварительно вставив в рот искусственные челюсти, поблескивавшие в стакане воды на манер целлулоидных рыбок. — Из-за этакого пустяка ты и несешься как оглашенный, того и гляди простуду подхватишь!
Тут малолетний Рике прямо-таки зашелся от торжества:
— Из-за пустяка! Ты бы сам посмотрел, какой это пустяк! Знаешь, кто этот рыжий толстяк, и его супружница, и его дети? Немцы они — вот кто! У них и на машине номерной знак немецкий, и говорят они так, будто у них полон рот картофельного пюре.
— Немцы? Боши? — проблеял Блэз, приподнявшись с шезлонга. — Пруссаки?
— Успокойся, Блэз, миленький, — пыталась утихомирить его Маргерита.
— Точно, дедушка. Даже если они на каникулы в Старый Хлев приехали, все равно они его у нас отобрали, сами же мне сказали.
Козлиная прадедушкина бородка встала торчком, глаза округлились на манер дула семидесятипятимиллиметровки, а сам он, побагровев со здоровой стороны и еще сильнее побледнев со стороны парализованной, завопил во весь голос:
— Да это же подохнуть можно, боши здесь, у нас! Боши в Гурдифло! Под Верденом я их всех до последнего перебил, а они, гляди ты, расхрабрились до того, что через шестьдесят лет сюда прилезли, на мою землю, мне нервы портить? Как бы не так! К оружию, капрал Рубьо! Они не пройдут, господин капитан! Я двинусь на них колонной и вышвырну отсюда этих помойных крыс!
— Не в твои годы этим заниматься, Блэз, миленький! — простонала его жена, ломая себе руки. — У тебя опять давление подскочит!
Но мужественный старец уже отбросил одеяло и, как был в подштанниках и фланелевом жилете, захромал к лестнице, ведущей в подвал.
— Плевал я на твое давление! Рубьо выполнит свой долг до конца! Возраст не помеха, чтобы умереть героем! Храбрый всегда готов к подвигу! Во имя Франции! Пора взять в руки винтовку двенадцатого калибра и обрушить шквал огня на этих ублюдков!
Маргерита попыталась было его остановить, но здоровенная оплеуха отбросила ее к стене.
— Назад, штатские! Прочь со священного пути!
Хотя малолеток Рике был в полном восторге — шутка ли, после его рассказа поднялась такая суматоха, — однако следовал он за ветераном немного ошеломленный: откуда только взялась у разъярившегося прадедушки этакая прыть — ведь еще накануне он плакался, что не может сам разрезать эскалоп за обедом.
— Вот увидишь, малыш, — гремел неукротимый старец, нахлобучивая на голову оставшуюся еще от войны 14-го года серо-голубую каску, которая висела на стене, и препоясавшись патронташем, принадлежавшим его внуку Антуану, прямо поверх подштанников, — вот увидишь, малыш, на что способен кавалер медали за воинскую доблесть, старый солдат, сражавшийся под Эпаржем, единственный уцелевший после резни в Ом-Мор! Я остался в живых, значит, смерть бошам!
— Правду говоришь, дедушка, — ликовал Рике в предвкушении будущих военных действий, — сделай-ка из них хорошенькую отбивную.
— Будет, будет им кровяная колбаса! Сами захотели! Подай-ка мне наш дробовичок.
Мальчуган, не мешкая, вручил прадеду охотничье ружье своего отца. Старый вояка разломил двустволку на колене, загнал два патрона, с сухим щелканьем привел ружье в нормальное положение и, ковыляя, двинулся по дороге, родной сестре Шмен-де-Дам (департамент Эн).
Карл Шопенгауэр, инженер из Штутгарта, широко раскинув руки жестом завоевателя, как бы включал в свои объятья Старый Хлев со всеми прилегавшими к нему угодьями.
— Ну вот! Это наше владение! Прямо за полем река! Вид восхитительный! Валютный курс более чем благоприятный для нас!
Его взрослый сын Франц и дочь Берта уже лазили по руинам Хлева, по-хозяйски осматривая каждый уголок.
— Да, но чтобы привести эту развалюху в христианский вид, потребуется уйма труда, — заметила Фрида Шопенгауэр, настроенная не столь лирически, как ее супруг.
Рыжий тут же осадил жену:
— Десять тысяч марок за гектар луга, это же, дорогая моя, великолепное дело. Надо подходить разумно: за такие деньги Лотарингию, конечно, не купишь. Вон дальше бельгийцы ремонтируют амбар, чтобы проводить там отпуск. Видно, бедняки. Все своими руками делают. А мы можем оплатить хоть всех французских рабочих, раз они выиграли войну!
Его так и повело от смеха, до того забавной показалась ему эта мысль. Он даже заикал:
— Шампанского, Фридочка, шампанского! При нынешнем курсе марки это вовсе не дорого, мы можем позволить себе пить шампанское здесь на каникулах хоть каждый день!
Привыкшая к повиновению Фрида Шопенгауэр открыла дверцы прицепа, расставила складной столик, вынула из холодильника бутылочку шампанского, а муж ее, доставая бокалы, сзывал детей.
— Берта! Франц! Идите сюда! Промочим горло! Выпьем за Францию! Не за Францию под пятой армейского сапога. А за Францию под мягкой домашней туфлей.
Тем временем Блэз Рубьо по-пластунски полз по люцерновому полю, направляясь к неприятельскому биваку.
— А ведь верно, — бубнил он, прислушиваясь, — мальчишка не соврал! И впрямь, это бош говорит, чисто свинячий голос, немало я наслышался, сидя в траншеях, как они промеж себя болтали. Болтай, мой зайчик, болтай, скоро сможешь с самим кайзером поболтать, да и с кронпринцем впридачу, ведь они там находятся, куда ты сейчас пойдешь!
Тут пришлось перевести дыхание, потому что он все-таки не мог действовать так проворно, как в 1917 году. В пятидесяти метрах от него с громким шипением взлетела в воздух пробка от шампанского.
— Дерьмо чертово! — выругался почтенный патриарх семьи Рубьо. — Други, нас засекли.
Взыгравший духом и телом, наш пуалю, не утирая слюней, вольно стекавших по его козлиной бородке, приложил приклад ружья к плечу, прицелился, стараясь попасть в мельтешившие вокруг прицепа тени, и нажал на спусковой крючок. Звук выстрела наполнил его сердце непередаваемо огромным счастьем, пусть даже ему самому казалось, будто оно навеки исчезло во мраке его юности.
Как раз в эту минуту Карл Шопенгауэр поднял бокал, и бокал вдруг разлетелся вдребезги. К счастью, вся семья находилась под защитой своего автомобиля, бока которого исхлестал грохочущий шквал свинца, но, опять-таки к счастью, это оказалась мелкая дробь, всего лишь десятый номер, так как Антуан Рубьо охотился теперь только на сороку да дрозда-пересмешника.
— Mein Gott[25]! — взвизгнула Фрида. — В нас стреляют!
— Сакраменто!.. — прикрикнул на жену Шопенгауэр. — Стреляет охотник, и нас он не видел!
И крикнул по-французски:
— Каспатин охотник! Achtung! Фнимание! Тут людей! Курапатки сдес нет!
В ответ ему грохнул новый выстрел.
На сей раз немцы успели рассеяться, кинувшись в поисках укрытий под руины Старого Хлева.
— Свиньи! — завопил разошедшийся Блэз, продолжая ползти на локтях. — Ни чуточки не изменились! Как были подлыми трусами, так трусами и остались! Честных женщин насиловать — на это они горазды, отрубить мальчонке руку — это сколько угодно, но перед настоящим мужчиной драпают!
Слово «мужчина» он произнес на бурбонезский лад «мосщина». Сказав это, неистовый дед перезарядил ружье и грохнул в сторону Хлева еще дважды.
— Спасайт! Спасайт! — завопили немцы во всю глотку.
Все семейство Ван-Шлембруков в полном недоумении взглянуло на Глода и Сизисса.
— Слышите? — пробормотал Ван-Шлембрук-отец. — Зовут на помощь, стреляют из ружья! Наш долг отправиться на место преступления, ибо это настоящее преступление.
— Чего-то я в толк не возьму, — буркнул ошалевший Глод. — Сроду у нас никаких убийц не водилось.
— Достаточно и одного, мсье Ратинье. Пойдемте туда все вместе.
Представители коренного населения поплелись за бельгийцами, добрались до дороги, где повстречали обоих Рубьо и Амели Пуланжар; они тоже спешили к Старому Хлеву. Навстречу им со всех ног бросился Рике:
— Папа! Папа! Это прадедушка!
Антуан Рубьо побледнел:
— Прадедушка? Что же он наделал? В прабабушку стрелял?
— Нет. Надел каску, взял твое ружье и пошел убивать немцев.
— Немцев? — не помня себя от изумления, повторил Жан-Мари. — Каких таких немцев? Да немцев здесь давно нету.
— Коли их нету, то, надо полагать, еще будут, — заметил Бомбастый просто так, чтобы что-то сказать.
Пока Рике объяснял, в чем дело, Амели Пуланжар восторженно била в ладошки и нежным голоском выводила:
Боши, боши, дураки, Вырвем вам все потрохи!— Да заткнись ты, дурында, — прикрикнул на нее Жан-Мари. — Если отец хоть одного уложит, неприятностей не оберешься. Небось подерьмовее будет, чем если бы в столовой кучу наложили!
Желая окончательно ему досадить, Глод изрек:
— Тут большой вины Блэза нет! А может, немецкие уланы у него под окнами как раз и набезобразили.
Жан-Мари сдержал себя и не ответил Глоду. Когда они подошли к луговине, откуда прозвучало еще два выстрела, с ними поравнялся синий автомобиль жандармерии. Из машины поспешно выпрыгнул бригадир Куссине в сопровождении троих жандармов. Бригадир обратился к Жану-Мари:
— Нам позвонила ваша матушка. Он хоть ни в кого не попал, надеюсь?
— Откуда же мне знать!
— Дробь мелкая, десятый номер, — уточнил Антуан.
— Это, конечно, лучше, чем крупная, но что за идиотская история? Где же он?
— Я его вижу! — завопил Рике, взобравшийся на капот жандармской машины. — Он метрах в двадцати от их прицепа, как раз у яблони.
Привстав на цыпочки, собравшиеся и впрямь разглядели ползущее по люцерне белое пятно фланелевого жилета и белое пятно подштанников.
— Мсье Рубьо, — загремел бригадир, — немедленно прекратите!
— Папа, — взмолился Жан-Мари, — кончай сейчас же свои идиотские штучки!
— От идиота слышу! — отрезал из люцерны Блэз.
— Спасайт! Спасайт! — как эхо, раздались в ответ испуганные голоса невидимых отсюда Шопенгауэров.
— Блэз! Миленький мой Блэз! — пискнула Маргерита, пытаясь догнать стремительно продвигавшийся взвод.
— Заткнись, мать! — донесся издали ответ разбушевавшегося супруга, заглушенный новым выстрелом. Слышно было, как дробинки снова стеганули по машине, и тут чаша терпения Жана-Мари переполнилась:
— Небось не ты, старый бандит, будешь за убытки платить! Сейчас пойду и тебя оттуда за задницу вытащу!
Решительно перешагнув через колючую проволоку ограды, он бросился к луговине. Блэз сделал полный поворот, приложил ружье к плечу и выстрелил, не забыв при этом крикнуть:
— Не смей приближаться, коллаборационист!
Дробины просвистели у левого уха Жана-Мари, который счел более благоразумным спешно ретироваться. Зрители убедились, что он не убит. Зато бледен как мертвец.
— Преступник! В родного сына стрелять! До того довалялся в своем шезлонге, что совсем с ума спятил!
Вопреки явной очевидности, Антуан заступился за деда:
— Он в тебя вовсе не целился. Просто хотел напугать.
— Еще бы он целился! — проворчал Жан-Мари, презрев насмешливый взгляд Глода, и молча проглотил обиду, не желая осложнять и без того сложное положение, в какое попало его семейство.
Один из жандармов обратился к бригадиру:
— Что нам делать, шеф?
— Как что делать?
— Мы могли бы тоже выстрелить.
Бригадир Куссине даже задохся от гнева:
— Выстрелить?
— В воздух, чтобы его напугать.
— В воздух! В воздух! И по своему обыкновению влепить ему маслину прямо в лоб! А с такой накладкой, Мишалон, нас всех на каторгу в Гвиану переведут, поближе к неграм! Может, вам это и улыбается, а мне вот нет. Как сейчас вижу: «Жандармы убили как собаку восьмидесятипятилетнего ветерана первой мировой войны».
Услышав страшное предсказание, жандармы задрожали один за другим, сообразно живости воображения каждого. Бомбастый проворчал:
— Глод прав, Блэза просто раздразнили. Если он и прикончит двух-трех фрицев, сами власти будут виноваты — зачем позволяют немцам оккупировать нас, как в сороковом… В четырнадцатом небось велено было их всех подряд бить, а нынче, видишь ли, запрещено; как же вы хотите, чтобы папаша Блэз в таких делах разбирался?
Куссине сухо прервал его речь:
— А вас не спрашивают, мсье Шерасс.
— Я только хочу, чтобы вы поняли, бригадир…
— … то, что от вас, как и всегда, разит спиртным? Я уже это понял. Помолчите-ка лучше. — Бригадир повернулся к Антуану: — Если я не ошибаюсь, дедушка взял ваш патронташ. Сколько там было патронов?
После недолгого раздумья Антуан заявил:
— Десять, от силы двенадцать. Наверняка не больше. Судя по тому, что мы слышали, восемь он уже расстрелял.
— Тогда, значит, подождем, пока он их все не расстреляет. Единственное, что нам остается делать.
Не простивший обиды Сизисс шепнул на ухо Глоду:
— Слышал, как он со мной разговаривал, этот медведь сволочной? Как с пьянчужкой! Я ему докажу, что никакой я не пьянчужка.
— Решил, что ли, бросить пить? — испуганно спросил Глод.
— Да нет! Вот возьму и напишу жалобу префекту, без единой орфографической ошибочки напишу, и тогда увидим…
Два выстрела прервали его сетования.
— Десять! — воскликнул бригадир.
Уткнувшись носом в одуванчики, папаша Блэз попытался было перезарядить ружье, но обнаружил недостаток боеприпасов.
— Ух, черт возьми, — в отчаянии возопил старец, — только два патрона для этого отродья осталось! А ведь хорошо бы им в морду еще с десяток влепить, иначе уцелевшие не сдадутся, не вылезут из укрытия с поднятыми руками, не захнычут: «Камрад! Камрад! Не стреляйт!»
Вопреки благоприятному курсу валюты, Карлу Шопенгауэру с его семейством показалось, что они сидят на корточках среди руин Старого Хлева уже целую вечность и что лучезарное Бурбонне вдруг каким-то чудом превратилось в некий филиал Сталинграда. Берта тихонько всхлипывала. Фриду била дрожь, ей вспомнилось дело Доминичи и его жертвы.
— Это англичане, — сказал Карл, желая подбодрить супругу.
Спрятавшийся за бревно его сын Франц вдруг заметил, как по люцерне ползет некое привидение, некий безумец, паливший по ним. Недолго думая, Франц схватил пригоршню камушков и со всего размаху бросил их в направлении призрака. Три камушка один за другим стукнули по каске атакующего.
— Гранаты! — завопил Блэз и выстрелил туда, где стоял юный Франц.
А тот едва успел зарыться в сенную труху, иначе не миновать бы ему заряда дроби.
— Двенадцать, — сосчитал Антуан, — теперь все в порядке.
— Всем оставаться на месте, — скомандовал бригадир, — это наше ремесло — жертвовать жизнью. А вовсе не ваше.
В сопровождении троих жандармов-пехотинцев он смело вступил на луг. Старик Блэз поднялся на ноги, готовый к штыковой атаке, будь только у него штык, но тут он заметил жандармов. Ликующий ветеран сорвал с головы каску и стал весело размахивать ею над головой:
— Слава те, господи! Подкрепление идет! Вы вовремя подошли, ребятушки! Перед вами сорок второй пехотный полк! Дуамон! Да здравствует Петэн! Да здравствует Клемансо! Вперед, на пруссаков!
— Не трогайте его, — шепнул Куссине своим подчиненным и громко крикнул: — Добрый день, мсье Рубьо! Как бы вы не простудились, бегая по росе.
— Плевал я на простуду, — высокомерно изрекла главная военная сила Гурдифло, — надо этих бошей отсюда вышибить.
— Они уже отошли, мсье Рубьо. Бегут в беспорядке по дороге на Жалиньи.
Старик жестом отчаяния бросил в люцерну ружье.
— Трусы! А ведь на их стороне было численное преимущество, как и всегда, впрочем. Не изменились, бурдюки, ничуточку не изменились!
Тут приблизились все Рубьо, все Ван-Шлембруки, Глод, Сизисс и Амели Пуланжар и окружили мужественного воина. Жан-Мари еще не отошел от злобы.
— Не знаю, почему бы мне не влепить тебе здоровую оплеуху, старый ты шут! Да застегни ширинку, а то твой военный крест виден.
На что утомленный своими воинскими подвигами Блэз ответил:
— Это пустяки, Жан-Мари. Сущие пустяки. Я выполнил свой долг.
Только сейчас собравшиеся смекнули, что старик все равно ничего не поймет, что бы ему ни говорили. Антуан и Маргерита подхватили его под руки и осторожно повели домой, ласково посулив дать ему за доблесть стопочку спиртного.
— Господа немцы, — закричал Куссине, — можете выходить, опасность миновала!
Еще не пришедшие в себя после пережитого, Шопенгауэры один за другим вылезли на свет божий. Бригадир объяснил им суть дела.
— Ах-ах, — закудахтал инженер, — я понимайт, понимайт! Нас стрелял храбрый старишок. Сабавно! Ошень сабавно!
— Тут вашу машину немного попортило. Если вы хотите установить…
— Остафьте, просим фас. Машин — это нишего. Я не шелаю зориться с моими топрыми зозедями через такую бестелицу.
Жан-Мари вздохнул с облегчением, пообещал Шопенгауэрам прислать курочку в надежде, что они забудут о несколько необычном гостеприимстве, оказанном его папашей.
— Я ше фам говорит, что это весьма сабавно! Мы фсе много позмеялись, ферно, детки?
Детки довольно холодно подтвердили слова отца, явно озадаченные поведением Амели Пуланжар, которая теперь носилась в танце вокруг вражеского автомобиля.
— Шамбанска, Фрида! Всем шамбанска! Са сдоровье мусье Плэза Рупьо!
Выпив по бокальчику, Глод и Бомбастый расстались со всей честной компанией — с придурочной Амели, жандармами, бельгийцами, немцами — и меланхолически побрели к своим пенатам.
— Сам помнишь, Бомбастый, в прежние времена мы с ними здорово расправлялись.
— И столько их поубивали, что уж и не знали, куда девать, — подтвердил Сизисс.
— Только вот оно что, в землю-то мы их закопали, но еще больше их осталось…
Добрыш, отсидевшийся во время стрельбы под колючей изгородью, вышел из своего убежища и поплелся, держась на почтительном расстоянии, за этими двумя самыми безобидными во всем поселке существами. По крайней мере, так подсказывал ему кошачий опыт. А по части опыта Добрыш был поистине умудрен.
Глава четвертая
Ложитесь пораньше, однако прежде насладитесь безмятежностью летнего вечера. Под чистым звездным небом и думается хорошо, и сам становишься лучше. Вечерний покой снизойдет на вашу душу.
Баронесса Штаффе, 1892Грузовичок булочника останавливался у их дверей. Так же как у дверей «Казино», куда завозились сардины, лапша и кофе. После битвы при Гурдифло Глод и Сизисс сблизились еще больше, и между ними царило доброе согласие. В конце-то концов жили они в окружении новоявленных европейских застройщиков, среди людей неприязненных, равнодушных, среди телевизионных антенн, мазутного отопления и плохо воспитанных юнцов, потешавшихся над их деревянными сабо и над английскими булавками, которыми они, как серебряной орденской колодкой, украшали свои ветхие вельветовые куртки.
Нет, и впрямь с течением лет люди чересчур распустились, Шерасс и Ратинье все реже и реже покидали свой островок покоя и мира. У них птицы и последние кролики из садка чувствовали себя как дома, резвились без опаски. Шустрый народец отлично знал это и твердил себе об этом, чирикал, скакал и размножался возле двух этих очагов, где из труб еще подымался дым, приятно попахивавший свиной похлебкой и настоящими дровами из леса.
— Видишь, Бомбастый, только в нашем уголке, вдали от всех этих злыдней, лучше всего дожидаться смерти.
— Смерть, смерть, не нравится мне эта штука. Можно бы и о чем другом поговорить.
— Брось, рано или поздно мы с тобой тоже будем с теми, что за церковью лежат.
— Это тебе небось от темноты разные похоронные мысли в голову лезут. Хочешь, зажгу во дворе свет?
— Не надо. К чему зря в расходы входить. Да потом бабочки в стакан нападают.
Этим тихим весенним вечером они сидели бок о бок на скамейке у дома Шерасса, и разделяла их только бутылка вина. Над головой просматривалось прекрасное синее ночное небо, и было в нем так же много звезд, как букв в кипе засаленных старых газет. Почти каждый вечер, прежде чем лечь, они сидели на холодке, болтали или часами молчали, нацелив нос на луну, сосредоточенно потягивая винцо, не обращая внимания на плавные зигзаги, бесшумно выписываемые летучими мышами, прислушивались к ночным вздохам и рыканью деревни, которая томилась без сна и ворочалась на своем ложе.
Проклятый пес с фермы Грасс-Ваш как оглашенный призывал проклятую сучонку с фермы Пре-Руж, и она объясняла ему тем же мрачным воем, что непременно прибежала бы, не будь она на привязи. Две автомобильные фары, помигивая там внизу, искали дорогу, очевидно сбились с пути.
Глод, уже давно свернувший сигарету, высек наконец огонь из своей зажигалки, обрызгав яркими точками света их честную компанию. Очутившись снова в темноте, они пропустили по глотку вина, смакуя его со знанием дела, как испытанные сибариты.
Глод снова заговорил:
— Жаловаться нам, пожалуй, и не стоит, Бомбастый.
— Я и не жалуюсь!
— Если кладбище тебя не устраивает, тут я вполне с тобой согласен, но подумай, куда хуже гнить в богадельне для престарелых, чем жить в собственном доме, пускай он и победней, чем замок в Жалиньи, зато здесь ты любого к такой-то матери послать можешь.
— В богадельню я лично идти не собираюсь. Лучше уж утоплюсь в своем колодце, как истый землекоп.
— Верно, а я как истый сапожник буду бить себя по башке сабо, пока не сдохну, — пошутил Ратинье.
Оба посмотрели на звезды, один на Большую Медведицу, другой на Малую. Взволнованный всей этой небесной поэзией Бомбастый, деликатно оторвав от скамьи одну ягодицу, издал звук, оглушающий сильнее, чем какой-нибудь апперкот, поднявшийся до верхнего «ре» и закончившийся чем-то вроде азбуки Морзе, только слегка смягченной. После чего с интересом стал ждать реакции аудитории.
— Недурственно, — одобрил Ратинье, будучи сам не только изощренным ценителем, но и виртуозом в вышеупомянутой области, что было не последней причиной дружбы этих двух божьих чад, возросших в буколической простоте.
И добавил не сразу, не отрывая взгляда от путеводной вечерней звезды:
— Черт тебя подери, старый ты подлюга, у тебя в брюхе небось осколки ночного горшка брякают!
Польщенный похвалой друга, Бомбастый открыл секрет своего успеха:
— Я нынче днем гороха поел.
— Ах вот оно в чем дело!..
— Сорта «сен-фиакр». В прошлом году я чуть не тонну его собрал.
— Смотри-ка ты!..
— И хоть бы один долгоносик попался…
— Что верно, то верно, насекомого духа не слыхать.
Забыв даже о сигарете, Глод сосредоточенно и напряженно готовился взять реванш. Воздух мало-помалу вновь обрел свою девственно-нетронутую чистоту, как вдруг из нутра, если только не из самых недр земли, во всяком случае, из недр бывшего сапожника вырвалось, пожалуй, совиное уханье, вряд ли даже свойственное человеку. Столь раздирающее душу, столь пронзительное, что Бомбастый так и подскочил на скамейке. Сияющий от счастья Ратинье торжествовал, хотя на заключительном аккорде несколько сфальшивил.
— Ну, друг, что скажешь, а? Небось на километр, а то и на полтора потянуло, разве нет?
— Пожалуй, не больше, чем на полтора, — честно подтвердил Сизисс. — И откуда только у тебя такое берется?
— Чечевица с салом, — поучительным тоном пояснил маэстро. — Чечевица, знаешь, какой звук дает… Не хуже валторны.
Совсем как барсук, которого выкурили из норы, Бомбастый предпочел удалиться из зараженной зоны.
— Дышать нечем, — признался он, — пойду принесу аккордеон, авось хоть немного ветерка нагонит.
Он вернулся с аккордеоном через плечо и, прежде чем приступить к исполнению «Вечернего вальса», выпил стаканчик и затянул своим кислым, как винный уксус, голоском: «В этот вальс влюблены паладины луны и от яркого света больны». Едва не задохнувшийся от смеха Глод успокоился, затих и чуть ли не со слезами слушал прекрасную музыку прекрасных минувших времен.
— Сколько я под этот вальс, — мечтательно произнес он, — с Франсиной покружился! Бедняжка была легкая, что твоя стрекоза, и танцевали мы с ней и на святого Ипполита, и на апостола Петра, и в богородицын день, везде, где только танцы и балы бывали!.. А теперь, дружище Сизисс, нет больше «Вечернего вальса», а есть под луной только два старых, круглых, как луна, дурака паладина…
Шерасс взорвался:
— Уж не собираешься ли нюни распускать, шимпанзе эдакое! Это от весны, что ли, тебя развезло?
Ратинье шмыгнул носом, сигарета вспыхнула ярче и подпалила ему усы.
— Порой мне так ее, Франсины то есть, недостает. Что ты хочешь, женщины нужны, коли живешь на свете.
— Верно, хорошая она была соседка, — признал Бомбастый. — Но сколько бы ты о ней ни говорил, словами ее не вернешь. А если тебя нынче вечером тоска гложет, так это потому, что ты ничего не пьешь. Только пол-литра принял. С чего ты, отец, разбрюзжался?
— Пожалуй, ты прав! Подкинем-ка уголька в топку.
На сей раз они одним духом прикончили литровку, надеясь разогнать смутную тревогу, норовившую вцепиться им в загривок. Именно такими вечерами далекие от всего земного, в сиянии звезд они и напивались сильнее всего, в доску, и, спотыкаясь на каждом неверном шагу, с трудом добредали до постели. Те, кто сурово их осудит, не понимает, что приходят такие годы, когда конец стережет вас, как охотник, залегший в зарослях. Те люди ничего ровным счетом не знают об этих двух одиноких стариках, напуганных все возрастающим гулом мира, мира, который покидал их, даже не оглянувшись. Те судьи храпят себе мирно рядом со своей супругой и радиатором центрального отопления.
Глод, утешившись, уставился на путаницу планет и прочих небесных ингредиентов.
— А звезды, они ничего.
— Да, здорово пущено.
— Говорят, их сотни и тысячи.
— Помолчи лучше!
Без всякого предупреждения Бомбастый прервал это лирико-астрономическое отступление, обхватил себя обеими руками за коленки, чтобы последовавший засим ужасный звук достиг максимума силы. Нет, это вам не «Бал» из «Фантастической симфонии» Берлиоза. Скорее уж его можно было сравнить с приглушенным голосом трубы в руках Баббера Милея, одного из создателей знаменитого «уа-уа» в «Creole Love Call»[26] в его оригинальном переложении 1927 года. Это мастерское исполнение исторгло из груди Глода крик восторга:
— Отлично! Славно! Такое и на пленку не грех записать!
Упоенный своим успехом, Шерасс бросился за новой литровкой. И, зарядившись, наши два меломана превзошли самих себя, смело берясь в честь звезд небесных за еще неизведанные партитуры, разыгрывали громогласные соло, нежные дуэты, переходя от фагота к тубе, от серьезной музыки к гротеску, от веселой к меланхолической. Никогда еще два этих артиста не испытывали такого физического подъема, никогда еще не устраивали такого Байрёйтовского музыкального фестиваля, никогда еще не импровизировали в столь блестящем джаз-бандовом стиле.
Попусту испуганный Добрыш забрался от греха на дерево. На ближних фермах встревоженные собаки, поджав хвост, заползли в свою конуру.
Только к десяти часам ослабели удары этих сталкивающихся бортами пакетботов, умолкли великие голоса.
— Здо́рово, братец! — воскликнул Бомбастый, когда вкруг них вновь залегла ничем не возмущаемая тишина майского вечера. — Знаешь, что я тебе скажу? Это значит, что мы с тобой еще не померли!
— Никогда в жизни я так не веселился! — поддержал его Глод.
Они утерли выступившие на глаза слезы, совсем ослабев от смеха. Они ни за что бы не прервали этого празднества, если бы их не разочаровали последние, не совсем удачные попытки. И они, никогда не позволявшие себе неуместного проявления дружеских чувств, на сей раз, расходясь по домам, похлопали друг друга по спине. Славный они провели вечерок, как в былые времена, когда еще существовало товарищество, молодое винцо, каштаны, дрова в очаге, бабушки в чепчиках, мебель, натертая до блеска воском, когда крошки хлеба подбирали со скатерти кончиком ножа, а молодые парни с побагровевшими физиономиями подымались из-за стола, едва часы начинали бить полночь, и пели: «Есть у меня в стойле два быка».
Глава пятая
Следующей ночью ни с того ни с сего вдруг налетел ветер, было уже около часа, Глод убедился в этом, взглянув на карманные часы, которые он клал на ночной столик, с вечера заведя их, как заводил все сорок пять лет подряд, если принять во внимание, что это был еще свадебный подарок.
Разбудила его крышка бака, прицепленная Бомбастым к своей крыше на месте недостающей черепицы. Плохо закрепленная проклятая эта крышка барабанила по черепице при малейшем дуновении ветерка и звучала наподобие цимбал. Шерасс, правда, с апломбом утверждал обратное и говорил, что во всяком случае она не может помешать спать сном праведника тому, кто днем вдосталь наломался на огороде.
Ветер крепчал, и совы, которые по-свойски ютились на чердаке, забились по углам, спрятав голову под крыло. Кота дома не было, он просто-напросто отказался ото сна, такое с ним случалось в период галантных похождений.
Глод в ночном бумажном колпаке, прежде чем натянуть одеяло до самого носа, ждал, когда старые стенные часы соблаговолят пробить один раз. В конце концов ему надоело лежать без толку, он нервно чиркнул зажигалкой, снова посмотрел на карманные часы. Не веря глазам, он нажал на резиновую грушу, висящую у изголовья кровати. При жалком свете слабой электрической лампочки, освещавшей все его жилье, он увидел, что на часах по-прежнему без двух час, хотя наверняка прошло не меньше пяти минут. Он потряс часы над ухом и к великому своему удивлению убедился, что они остановились.
— Холера их возьми, — проворчал он, — никогда с ними такого не случалось, с тех пор как они у меня! А ведь я их на пол не ронял…
Тут он вспомнил о стенных часах, которые до сих пор тоже вели себя вполне пристойно. Он поднялся, нашарил ногой старые тапочки и потопал в угол к часам. Тут он с изумлением убедился, что они тоже не ходят, что стрелки остановились на без двух минут час.
— Надо же! — уже во весь голос проговорил он. — Что это еще за история такая? Тут наверняка нечистая сила замешана!
Он проверил гири часов, все оказалось в порядке, все нормально, хотя ничего нормального в этом не было.
Засунув руку под длинную старомодную ночную рубаху, он поскреб себе ягодицы, что было знаком великой растерянности.
— Должно, какой-нибудь феномен произошел! — буркнул он, но такое простое объяснение как-то его не устраивало. Он поплелся в «басси», как на местном наречии именуется чуланчик, где у него хранились точильные камни, полочки, кастрюли, а некогда стояло ведро воды из колодца, который Франсина потом сменила на водопроводный кран. Просто необходимо было позволить себе пол-литра красного, дабы обрести душевное равновесие. Он чуть было не грохнул бутылку об пол и судорожно прижал ее к сильно бьющемуся сердцу.
Через забранное решеткой окошко чулана он заметил, что как раз посреди его поля блестит что-то хромированное, даже, пожалуй, поярче, какой-то диск окружностью в три или четыре метра.
— Да, старик, — запинаясь, еле выговорил он, — диабет не диабет, а пора бросить пить! Смотри, уже наяву бредишь!
И вдруг его осенило, и в этой вспышке озарения ему представилась воочию страница из прошлогоднего номера «Монтань», посвященная «летающим тарелкам», и, как ни странно, на душе у него стало легче при мысли, что лишние пол-литра вовсе неповинны в этом фантастическом видении. Желая успокоить расходившиеся нервы, он произнес очень громко, четко выговаривая каждое слово:
— Так что, дружище Глод, это летающая тарелка! Говорят, они ничего плохого никому еще не сделали, эти самые тарелки, так по крайней мере утверждают типы, которые их видели. Сделай они что-нибудь плохое, сразу стало бы известно. Прилетают, как в свадебную ночь, и улетают себе так же, как прилетели.
И однако, он все пялил вытаращенные глаза на блестящий предмет, отлично понимая, что это вам не баран начихал и по улицам такие зря не разгуливают. Но тут же вздохнул с облегчением при мысли, что эта штуковина разладила все его часы и все дело тут не в чем-либо другом, а в голой технике.
Поэтому он совсем успокоился, вспомнил, зачем забрел в чулан, и вместо обещанного себе в утешение пол-литра решил, что тут поможет только литровка. Выпив винцо одним духом, он снова пошел поглядеть на тарелку. Она по-прежнему была здесь. От литра она не пропала, но и не удвоилась.
«Пойду-ка я за Бомбастым, пусть тоже посмотрит, — решил Глод, — а то в жизни мне не поверит».
Вдруг он услышал дикое мяуканье, кто-то яростно скреб когтями во входную дверь. Он открыл дверь, впустил Добрыша и не узнал своего старого кота. Шерсть у того стояла дыбом, так что он увеличился раза три в объеме, а хвост стал как у муравьеда. Кот ворвался в комнату, забился под кровать. «Чего это скотина так перепугалась?» — подумал Глод, к которому вернулась обычная ясность мысли.
Ветер внезапно стих. Осторожно ступая на цыпочках, Ратинье рискнул выйти наружу. И тут увидел, что по дорожке идет враскачку прямо на него какой-то тип. Явно не здешний. Это уж наверняка, Глод его нигде не встречал, даже на ярмарке. Не большой и не маленький. Похожий, пожалуй, на любого из нас, только вырядился он, как паяц, в яркий желто-красный комбинезон, на голову нацепил шлем, как у авиаторов в 14-м году, — короче, вид у него был не такой уж презентабельный, чтобы незамеченным смешаться с толпой на водах в Виши или, скажем, в Мулене.
В одной руке незнакомец держал тоненькую металлическую трубочку. А другую протягивал Ратинье, ладонью кверху. Надо полагать, дружественным жестом. Бывший сапожник вежливо ему поклонился, хотя кто ж это является к людям с визитом в столь поздний час. Но именно потому, что так грубо были нарушены добрые земные обычаи, Глод догадался, что этот тип просто какой-нибудь марсианин и что именно он водитель летающей тарелки. «Мало нам бельгийцев и немцев, — подумал Глод, — так эти еще тут…»
Однако не мог же он захлопнуть дверь перед самым носом пришельца. Кроме того, субчик, хоть на вид и добродушный, вдруг разозлится. Ратинье, который не на скотном дворе был воспитан, рассыпался в любезностях.
— Привет, дружище! Чего это вы сюда заявились?
Марсианин теперь подошел вплотную к Ратинье. Но Глод остался равнодушен к необычайной стороне этой исторической встречи, не такого еще он нагляделся на войне. Он уже начал терять терпение, он продрог, стоя на дворе в одной ночной рубашке.
— Так что же, старик? Вы говорить не умеете?
Пришелец понял, что его о чем-то спрашивают, и открыл рот. Оттуда полились звуки, напомнившие Глоду кулдыканье индюков на птичьем дворе. Впервые он слышал, чтобы из глотки человека, пусть даже гуманоида, выходила такая невнятица. Поначалу тупо слушавший Глод, не выдержав, расхохотался, и его собеседник сразу прекратил свое кулдыканье.
— Час от часу не легче! Этот индеец даже по-французски говорить не умеет! Интересно, чему вас в школах учат, в ваших тамошних школах! Все равно, заходите. Пусть никто не посмеет сказать, что Ратинье не пустил к себе христианина, хотя он такой же христианин, как упрямый осел.
Жестом он пригласил незнакомца войти в свою хижину. Добрыш, проскользнув между ног марсианина, понесся прочь и, фыркая от ужаса, затерялся во мраке.
Закрыв дверь, Глод уставился на незнакомца, который в свою очередь не спускал с него глаз, вернее, с поразивших его усов, настоящих галльских усов, успевших пожелтеть от табака и слишком частого соприкосновения с содержимым стакана. Усы, видно, так его заинтриговали, что он даже начертил их пальцем над своей верхней губой. Это примирило Глода с пришельцем, и он засюсюкал, как с ребенком, которого учат говорить:
— Усы. Усы. Это усы. Еще довоенные усы, милок.
«Милок» не зря удивился усам, он явно был начисто лишен волосяного покрова, даже ресниц и бровей не было, а под шлемом, конечно, лыс, как колено. Желая его приободрить, Глод хохотнул.
— Надо полагать, и забавная у тебя башка, сынок, гладкая небось, как куриное яйцо. Садись, садись, видать, ты не злой, скорее уж дурашливый, хоть и поболтать не умеешь. А раз ты мне не расскажешь, откуда ты взялся, я так никогда и не узнаю, диковина ты эдакая, хотя думаю, ты не с Луны свалился.
Собеседник Глода опять прокулдыкал что-то на своем тарабарском наречье. Ратинье развел руками, мол, не разбираюсь в твоей китайской грамоте. Марсианин понял, замолчал и, заинтересовавшись окружающим, стал прохаживаться по комнате, изучая все, что попадалось на глаза. Глод, как владелец всего этого добра, был польщен таким вниманием.
— Да, да, кроличек, все это мое! Хоть ты приехал откуда подальше, чем из России, тебя, признайся, прямо ошеломило, сколько здесь прекрасных вещей. Это моя кисточка для бритья, а это моя бритва. А это календарь Почтового ведомства. А это гипсовый кораблик, его наш родственник прислал нам давным-давно, как сувенир. Да не трогай ты, парень, это же денег стоит! И смотри не сунь ногу в ночной горшок, а то хлопот не оберешься!
Марсианин застыл перед гильзой снаряда времен первой мировой войны, из таких гильз солдаты вытачивали цветочные вазы. Он зачарованно обхватил ее ладонями, потом поцарапал ногтем, не обращая внимания на комментарии Глода, который, хоть и понимал, что говорит впустую, не мог удержаться и продолжал:
— Это мне досталось от дяди Батиста, он уже давно помер. Не на войне, а от поганой простуды, потому что не лечили его как следует.
Марсианин наконец расстался с гильзой, осмотрев ее со всех сторон. Ничто из того, что было здесь перед глазами, не заворожило его так, как эта ваза, даже пара сабо, которыми Глод потрясал перед самым носом гостя, пусть, мол, полюбуется, какова работка, а отделка-то, отделка. Их создатель был чуточку даже раздосадован.
— Ничего-то ты не понимаешь, диковина! Ты бы лучше на них посмотрел, чем целый час вазу щупать. Это же день и ночь, дерево или какая-то хреновина железная.
Он вздрогнул, и за ним вздрогнул незнакомец. Откуда-то с дороги донесся пронзительный голос Бомбастого:
— Глод! Глод! Вставай! Иди сюда! На твоем поле летающая тарелка!
Заметив смущение в глазах своего хозяина, марсианин понял, что сейчас он падет жертвой нежданной встречи. Он бросился к двери, открыл ее, мазнул своей трубкой в том направлении, откуда доносились крики, и все мгновенно стихло.
— Что ты натворил, диковина, — заорал Ратинье, — какую же ты беду наделал!
Он зажег во дворе электрическую лампу, оттолкнул «диковину», бросил боязливый взгляд на дорогу. На расстоянии ружейного выстрела, в подштанниках и в клетчатой штопаной-перештопаной рубахе, застыл Бомбастый с поднятой ногой, на манер Гения Свободы, венчающего колонну на площади Бастилии, со сложенными для крика губами, но крику так и не удалось пробиться наружу. От ужаса Глода забила дрожь, и он круто повернулся к незнакомцу:
— Ты мне его убил, палач поганый! Лучшего моего друга уничтожил!
Гнев и горе старика не нуждались в особых разъяснениях, и марсианин поспешил рассеять его заблуждение. Он поднял ладонь, уперся в нее щекой, изображая спящего. Для вящей убедительности он даже громко захрапел. Глод понял эту мимическую сцену, успокоился, облегченно перевел дух, выдохнул, снова вздохнул.
— Ага, понимаю, ты мне его, Бомбастого, усыпил! Ну и ну! Хорошо, что так. Одна смехота глядеть на бедняку Сизисса, статуя, да и только, на одной ноге стоит. Прямо огородное чучело!
Он поглядел на марсианина хоть и с капелькой неприязни, однако не без уважения.
— Подумать только, оказывается, ты, диковина, по части разных штучек и махинаций первый спец! Я, знаешь, решил тебя звать — Диковиной, так удобнее нам с тобой разговаривать, раз я тебя вроде бы окрестил, ведь ты все равно не сможешь мне сказать, как тебя зовут, если у тебя вообще имя есть.
Диковина, поскольку он и вправду был диковиной, так ни разу и не улыбнулся со времени своего появления у Глода. Должно быть, просто не умел. Зато взгляд у него был живой и, надо признать, дружелюбный. Глод прикинул, что ему должно быть лет тридцать, этому колдуну, который запросто навел на Бомбастого каталепсию, только взмахнув палочкой и даже не ударив его по башке. «А они, эти самые туземцы, видать, сильно ученые и все такое прочее», — подумалось ему. Оставив превращенного в мумию Шерасса на произвол судьбы, хоть и нелепой, зато временной, он запер дверь и смехотворное видение исчезло с его глаз. С помощью жестов он старался разузнать у Диковины, почему тот явился именно сюда, все тыча и тыча пальцем в сторону своего поля, где приземлилась летающая тарелка, и, тыча, допытывался:
— Почему? Почему ты здесь, а не где-нибудь еще? Почему у меня? Почему я?
Диковина внимательно следил за этим тыканьем и, понимая, что ему нужно что-то понять, наконец понял. Испустив несколько булькающих звуков, он поставил на стол маленький квадратный ящичек, которого Глод раньше не приметил, с множеством кнопок и небольших циферблатов, только без стрелок и цифр; вместо них там перебегали зеленые огоньки, что несколько смутило Ратинье: ему почудилось, будто они живые.
— Что это еще за штуковина такая, не иначе там внутри что-то есть? — сердито буркнул он. — Что оттуда сейчас полезет? Дым или музыка?
Диковина, очевидно, понял вопросы старика. Он нажал на какую-то клавишу, и ящичек испустил громовой, но непристойный звук, так что Глод от неожиданности даже отпрянул.
— Черти бы тебя взяли, теперь она еще и трещит, словно человек! А ведь гороха небось не жрет!
Из аппарата донеслись человеческие голоса, и Ратинье остолбенел, услышав, что это их с Бомбастым голоса, затем снова раздался взрыв, сопровождаемый смехом, их собственным смехом.
— Но, но… — пробормотал он, запинаясь, — ведь это же мы тогда вечером развлекались на скамейке! Как же ты нас услышал, Диковина? Ведь никого кругом не было! Если ты и не дьявол, то около того!
В свою очередь Диковина пытался объясниться с помощью пантомимы. Он поднял палец к потолку, затем ткнул себя в грудь.
— Понятно, значит, ты в небе был, — прокомментировал этот жест Глод.
Довольный, что его наконец поняли, Диковина снова включил свой ящичек, испустивший треск непомерной силы, поднес ладони к ушам и состроил удивленную гримасу.
— Ага, ты нас сверху подслушивал! — воскликнул Глод, повторяя его жест. — Здорово, видать, у вас, марсиан, слух тонкий. И что же ты подумал? Что это тебя зовут? Верно?
Обрадованный, что его так хорошо поняли, Диковина нажал другую клавишу своего механизма, и канонада этого незабвенного вечера, прерываемая жизнерадостными возгласами, стихла. Поблескивающие огоньки стали из зеленых лиловатыми. Ящичек умолк, однако Глоду еще долго мерещилось, будто он дышит или что-то в этом роде.
— Что бы там ни твердили, — начал Глод просто, радуясь случаю поговорить, — а это дает фору посильнее рокфору. Если уж теперь нельзя при звездах себе невинного развлечения позволить, чтобы на тебя марсианин не сверзился, значит, они скоро нам на голову целыми косяками станут валиться!
Он зашел в чуланчик, вынес оттуда бутылку и два стакана.
— Вот что, отец, не знаю я, распиваете ли вы в своих деревнях литровку, но у нас так принято, особенно когда человека после всех твоих штучек чертова жажда мучает!
Он разлил вино по стаканам и чокнулся с Диковиной, хотя тот даже не прикоснулся к стакану. Зато Глод одним духом осушил свой, смачно прищелкнул языком, довольный, отер усы.
— Просто смех меня берет, когда подумаю, что этот тип прямо на дороге дрыхнет, ну чисто куль с зерном, да еще ногу задрал!
Он фыркнул было, но тут же нахмурился:
— Да что это ты, Диковина, в самом деле? Обижаешь! Ты, парень, теперь во Франции, а во Франции, когда кто входит в дом, хозяин ему сразу подносит стопаря, ведь не дикари же мы, слава богу! Да пей до дна, это вкусненько!
Он подвинул гостю полный стакан. Тот осторожно взял его, понюхал вино. На лице его не отразилось ничего, и сын эфира оттолкнул стакан так, что он проехался по клеенке, отчего Глода даже передернуло.
— Вино ему, видите ли, не по вкусу. Вот уж повезло мне. Как же мы с тобой дружить будем, если ты только одно кокосовое молоко пьешь или еще какую-нибудь бурду. Тебе же хуже, я ведь никогда обратно в бутылку разлитое не сливаю.
Он выпил налитое гостю вино, похлопал себя по животу, рыгнул, что явно заинтриговало Диковину.
— Уж ты прости меня, друг, вижу, что тебе это интересно. Так вот, если кто рыгнет или воздух испортит, это не зря, это свой смысл имеет, можно иной раз и без разговоров обойтись. Мы с Бомбастым, запомни, только во дворе воздух портим, и то когда вместе сидим. В доме это невежливо. А мы с Бомбастым умеем себя прилично вести. Небось и в ресторанах бывали.
Тут он хлопнул себя по лбу.
— О чем только я думаю, сынок! Если тебе пить неохота, ты, глядишь, совсем ополоумел с голодухи, ведь сколько ты на своей хреновой тарелке навертелся! А попросить стесняешься! Сейчас я тебе суп разогрею, там еще немножко осталось.
Он снял с плиты кастрюлю, сунул ее под нос Диковине.
— Скажи, хоть это тебе по душе, если да, тогда я подогрею.
Диковина понял вопрос, понюхал суп и по всей видимости отнесся к предложенному не столь равнодушно, как к вину. Он издал очередное кулдыканье, которое Глод перевел на свой лад.
— Не знаешь, что это такое, а попробовать все-таки не прочь. Это капустный суп, парень. Настоящий, а не из банки или там из пакета. Из собственной моей капусты варено. Из ранней, сорта «скороспелый бакалан», вот как капуста эта зовется, но чтобы ты про такую слышал, я в жизнь не поверю. Не представляю я тебя на огороде с твоим ящиком и тарелкой, разве что ты слизняков усыпишь, как ты того, старого негодника, в сон вогнал.
При этом воспоминании он опять развеселился. Потом захлопотал, зажег спиртовку, поставил на огонь кастрюлю, вынул из буфета белую мисочку с синими разводами — такие мисочки в свое время пользовались большим спросом в Бурбонне, — положил рядом с ней ложку, а тем временем Диковина с нескрываемым интересом следил за действиями хозяина. Глод заметил его любопытный взгляд и хихикнул.
— Видать, там на вашей Большой Медведице вы не жирно кушаете, раз ты глазищи выпучил, когда тебе две ложки супу разогревают. А может, ты удивляешься, что не баба по хозяйству возится, а мужик. Что поделаешь, если моя уже давно в земле лежит, мне ведь не обязательно мчаться за ней следом. Я не так уж и спешу. Чем позже она меня увидит, тем лучше.
Он нарезал хлеб и бросил несколько ломтей в мисочку, что окончательно сразило гостя.
— Тоже мне, чурбаки, — от души веселился Глод. — Куска хлеба в глаза не видели. Если ты, Диковина, пригласишь меня к себе позавтракать, будь уверен, я к тебе вовек не приду. Кушай на здоровье!
Диковина явно оживился, что-то длинно закудахтал, зажав хлебную корку в пальцах. Ратинье прервал его:
— Не надрывайся зря! Все одинаковые. Когда один слово «дерьмо» говорит, другому «окорок» слышится.
Суп закипел. Глод потушил спиртовку, снял кастрюлю с огня, залил горячим супом куски хлеба.
— Не набрасывайся сразу, пусть хлеб немножко соку наберется. Все-то тебе, канибалу, объяснять приходится.
Он свернул сигарету, закурил, чиркнув своей зажигалкой, работавшей на мазуте. Увидев, что из ноздрей Глода повалил дым, Диковина испуганно вскочил со стула. А Глод так и зашелся от смеха.
— Ты небось думал, что я взорвусь! Ей-богу, с этим клоуном не соскучишься. Когда я звук какой издам, он невесть откуда мчится. Когда курю, он, видите ли, пугается. Ну, милок, приступай к делу!
Он указал Диковине на мисочку, а тот, ошеломленный, переводил глаза то на суп, то на Глода, то опять на суп. Этого Ратинье уже не мог выдержать, он заворчал:
— Да он и есть-то не умеет! Еще показывай ему что к чему. В ихних колониях, видать, одну мерзятину жрут. Да ты настоящий дикарь, разнесчастная твоя башка. Кстати, заметь, видик у тебя не очень-то блестящий. Кожа чисто как резина. Тут любой, не только доктор, тебе скажет, что твой организм нуждается в красных кровяных шариках, в красном вине то есть. Ох, Диковина! А ну! Смотри, как я делаю.
Он вооружился ложкой, зачерпнул супа, поднес ко рту, подул и проглотил. Затем протянул ложку Диковине, который неуклюже ухватил ее.
— Понял, дурья голова? Я чистой ложки тебе не дам, небось я не чесоточный какой-нибудь.
Диковина покорно зачерпнул ложку супа, но вместо того, чтобы отправить его в рот, долго принюхивался. Глод даже обозлился.
— Да чтоб тебя разорвало, это же не навоз! Глотай живее! Да глотай же ты!
Но и марсианин получил, видимо, хорошее воспитание и прибыл на Землю из вполне цивилизованной галактики. Подчиняясь Глоду, он поднес ложку к губам, втянул в себя жидкость, но, прежде чем проглотить, долго еще причмокивал языком, стараясь хорошенько распробовать, и только после этих манипуляций сдался и проглотил суп. В первое мгновение его словно ошарашило.
— Следующую! — подбадривал его Глод.
Гость повиновался, он со все возрастающим удивлением приглядывался к землянину, потом зачерпнул третью, а там и четвертую ложку. Перед кусочком свиного сала, попавшегося в супе, он призадумался. При виде капусты пришел в замешательство. А попробовав хлеб, и вовсе растерялся. Но есть продолжал, то и дело бросая вопросительные взгляды на Ратинье, который, войдя в раж, поощрял гостя:
— Теперь совсем хорошо, парень! Слава богу, не приходится приговаривать: съешь-ка, мол, ложечку, за солнышко, еще ложечку за луну, ты из этого возраста уже вышел!
Так, ложка за ложкой, Диковина, отбросив прочь сомнения, очистил всю мисочку. Глод торжествовал:
— Браво, новобранец! Хоть в дорогу подкрепился. От моего супа небось глисты у тебя не заведутся!
Не шевелясь, Диковина смотрел неподвижным взглядом прямо перед собой и, казалось, мучительно о чем-то размышлял. Наконец Глод подметил, что по губам гостя пробежало что-то, и это что-то не могло быть ничем иным, как зародышем, зачином, наброском улыбки. Вскоре он убедился, что не ошибся: Диковина действительно вроде как бы улыбался, губы его морщила полуулыбка, и Глоду померещилось, будто он присутствует при рождении какого-то нового человека.
Он потер руки, он был горд, что сумел вдолбить в голову варвара зачатки цивилизации.
— Так вот, значит, как, браток! Скажем прямо, с тех пор как ты здесь, у нас, впервые у тебя довольный вид! Капустный суп, он весь до самой кочерыжки дух дает, когда он у тебя в кишках переливается, всему организму радость. Телесам хорошо, в голове и то приятность чувствуется. Знаешь, я тебе что скажу: человек лучше становится. Выхлебаешь целую миску, и, когда у тебя полно брюхо супа, даже в ноги он ударяет, ходить легче.
Диковина все еще сидел в задумчивости, казалось, он прослеживает путь этой загадочной пищи, проникшей в его организм. Потом он что-то мечтательно прокулдыкал, предназначавшееся скорее для самого себя, чем для Глода. Тем временем Глод взял со стола кастрюлю.
— Добавки хочешь? Тут еще три-четыре тарелки наберется.
Но гость взял кастрюлю из рук Глода и, просительно покудахтав, показал на потолок. Все было ясно.
— Тебя понял! — подхватил Ратинье. — Ты хочешь суп на небо с собой увезти и своих дружков попотчевать. Это, мальчик, проще простого, я суп все равно доедать не буду, свинье скормлю. Так пускай уж лучше вы, дикари, им попользуетесь. Да неужто ты хочешь его в кастрюле везти, ты же так всю свою тарелку запакостишь! Дам тебе старый бидон для молока, он где-то тут валяется. Не вернешь, я с горя не помру. Молока я не пью никогда.
Он пошарил в буфете, обнаружил металлический бидон, сполоснул его в чуланчике и перелил в него суп.
— Вот видишь. Так оно куда практичнее будет. И дужка у него есть, и крышка. Хоть тысячи километров крутись, капли не прольется.
Диковина просипел что-то, очевидно поблагодарил, поднялся, сунул свою трубку и свой ящичек под мышку, в одну руку взял бидон, а другой показал в направлении летающей тарелки.
— Ага, значит, улетаешь? Ну, всего тебе хорошего, старик. Если захочешь вернуться, адрес тебе теперь известен. Пойду тебя провожу.
Ратинье накинул куртку прямо на ночную сорочку и пошел за Диковиной к своему полю. Отвернувшись, он фыркнул.
— Смешно все-таки, марсианин и с бидоном, ну, чистая молочница. Такое не каждый день увидишь.
Они подошли к летающей тарелке, и Глод осмотрел ее со всех сторон. Внутри находилось сиденье, как в тракторе, а приборный щиток, на тебе пожалуйста, подмигивал десятками огоньков, совсем как механический бильярд в «Кафе дю Марше».
Диковина открыл люк, вошел в космический корабль, а бидон прислонил к перегородке, к которой тот и приклеился намертво. Глод протянул руку своему новому другу, но тот поглядел на него с удивлением.
— Да ну, молоток, пожми мне руку, что же мы, как собаки с тобой расстанемся, что ли?
Но Диковина явно не понимал, чего от него хотят. Заметив его колебания, Глод силком взял его руку и пожал.
— Вот как оно делается, Диковина. Ну счастливого тебе пути! А ручища-то у тебя холодная, бедное ты дитя господне! В жилах небось лягушачья кровь течет!
Диковина захлопнул дверцу, сделал знак Ратинье посторониться. Глод послушно отошел, готовясь присутствовать при взлете тарелки, зрелище, доступном лишь избранным. Диковина покрутил что-то, что именно, Глод не знал, и вдруг лицо его приняло выражение озабоченности, незамедлительно передавшейся и зрителю.
— Так и есть, таратайка поломалась, — буркнул Ратинье, — если она здесь застрянет, минуты спокоя не будет, с утра до вечера народ станет кругом вертеться.
Диковина открыл люк, вылез из своего аппарата, повелительным жестом приказал Глоду стоять на месте, а сам побежал к его дому. «За водой небось пошел, — решил про себя бывший сапожник. — Надо полагать, его молотилка с помощью пара работает». Через минуту все так же рысцой из дома выбежал марсианин, размахивая гильзой дяди Батиста. Даже разрешения не спросил у Ратинье, пристроил как ни в чем не бывало вазу в сопло, в хвостовой части летающей тарелки, прислушался и довольно улыбнулся.
— Мог бы у хозяина попросить, — проворчал Глод. — Не особенно-то красиво получается. Хорошо еще, что не подтибрил гипсовый кораблик заодно.
Диковина ответил ему сердечным кудахтаньем и снова уселся в свой корабль. Глод благоразумно отступил назад, тарелка тут же взвилась на два метра над землей. Бесшумно, даже не поколебав воздух, тарелка начала вращаться все быстрее и быстрее, так что Глод уже не мог различить черты лица улетающего гостя. Потом тарелка стала подниматься вверх и достигла высоты опоры электропередач, обволоклась голубоватым сиянием и, легонько присвистнув, словно воробей прочирикнул, врезалась в небо с быстротой пули, выпущенной из винтовки. В одну секунду она исчезла где-то в стороне Мулена и, прежде чем успеешь дух перевести, должна была оказаться над Жакмаром. Потрясенный этим зрелищем, Глод стоял, задрав голову к небу, и с губ его невольно сорвались слова:
— Когда у этой штукенции в трубу вставлена ваза для цветов, она недурно работает! А нет вазы, небось ругаешь ее на чем свет стоит! Проклятый этот Диковина! Только в Париже такие типы водятся…
Он подошел к тому месту, где приземлялась тарелка, нагнулся. Ни одной травинки не было примято, не разило ни бензином, ни газом, ничем не разило.
— Чистая работка, — одобрительно заметил Глод, задумчиво направляясь восвояси.
На дороге по-прежнему торчал Бомбастый с задранной кверху ногой. Еще не открыв двери, Глод бросил на него прощальный взгляд и вдруг увидел, что сосед его оживает, будто по мановению волшебной палочки, уже поставил ногу на землю и продолжает ту самую фразу, которую не успел тогда договорить:
— Эй, Глод! На твоем поле тарелка приземлилась. Я же тебе говорю, там у тебя тарелка!
Ратинье огрызнулся:
— Да заткнись ты! Чего это ты про какие-то тарелки рассказываешь? Какие тарелки-то?
Бомбастый, еще не отдышавшийся, даже ногой пристукнул о землю и заорал, не помня себя от волнения:
— Летающая! Летающая тарелка! Разве не знаешь, что о тарелках теперь все говорят!
Пока Бомбастый переводил дух, Глод радостно улыбнулся, услышав, что стенные его часы пробили два раза. А это доказывало, что все пришло в обычный порядок и часы нагнали даже свое отставание. Он пожал плечами:
— Совсем ты сдурел, идиотина. Да никаких тарелок не существует.
Шерасс ядовито хихикнул:
— Бьемся об заклад? На литр, ладно?
— Хоть на три.
— Пусть будет три! Давай по рукам. А ну, давай!
Глод с размаху хлопнул его по ладони. А Сизисс не унимался:
— Значит, захотелось мне по малой нужде. Погода была хорошая, вот я и подумал: «Иди, друг, помочись на дворе, а то все ночной горшок да ночной горшок». Я и вышел, и что же я вижу? Летающую тарелку на твоем поле! Тут уж мне ни до чего стало, и я побежал к тебе, чтобы тебя разбудить!
— Я и сам проснулся. И тоже вышел помочиться. Вот видишь, даже куртку накинул. И никаких тарелок я в глаза не видал.
Неколебимо уверенный в своей правоте, Бомбастый схватил его за рукав:
— Иди! Да иди же ты!
Глод пошел за ним как на буксире. Шерасс приложил палец к губам:
— Только давай шуму не подымать! Если она еще там, в ней, в тарелке, глядишь, эти парни сидят с лучами смерти или с какими-нибудь гербицидами.
Они обогнули угол дома Ратинье. Тут он ткнул рукой в пустое поле:
— Ну и что? Где ж она, твоя тарелка?
У Бомбастого даже челюсть от удивления отвисла, а Глод, еле удерживаясь от смеха, тормошил друга:
— Ну что же ты мне ее не покажешь?
Сизисс с трудом выдавил из себя:
— Нету ее…
— А я что, не вижу, что ее нету? И сейчас скажу тебе почему.
— Почему?
— Потому что, прах тебя возьми, никогда ее здесь и не было!
— Но я же сам ее видел! Собственными глазами! Должно быть, улетела, пока я с тобой тары-бары разводил, надо бы нам прямо к ней бежать!
— Просто тебе дурной сон приснился. Такое бывает. Что ты вчера на ужин ел, а?
— Окорок, — растерянно прошептал Шерасс.
— Самая тяжелая для желудка пища. Наелся окорока — вот тебе и летающая тарелка.
— Да отстань от меня, свинячье рыло! — огрызнулся Бомбастый. — Так вот, слушай меня — тарелка белая, словно из хрома, а в окружности примерно три-четыре метра.
— Сказать все можно, это еще легче, чем выдумать.
— Значит, ты мне не веришь?
— Ясное дело! Конечно, не верю! Тебе же лучше, что я не верю. Куда это ты?
— Пойду взгляну, не осталось ли следов. Должны же быть следы.
Бомбастый засеменил к полю, остановился, снова двинулся вперед, ярко освещенный луной. Опершись об изгородь, Глод закусил ус, чтобы не расхохотаться вслух, а было отчего — белые подштанники выписывали вензеля по его полю. «Вот бы Диковина повеселился!» — подумалось ему. Наконец он не выдержал и громко фыркнул. И сразу же в ответ раздался ядовитый голосок Бомбастого:
— С чего это ты так развеселился, старый болван?
— А как же мне не веселиться, старый дурень? Ну, что ты нашел?
— Ничего не нашел.
— Странное дело!
Шерасс повернул обратно, досадливо твердя:
— Ровно ничего. А ведь она была здесь! Вот здесь вот! В самой середине. Должно быть, летает быстрее, чем твоя куропатка. В жизни ее не забуду!
— А ты лучше забудь. Рассуди сам, Сизисс, ведь я тоже во дворе был. Раз ты ее видел, стало быть, и я должен был ее видеть.
— Вовсе не обязательно, она за твоим домом стояла.
Глод посуровел:
— Так вот, дружок, теперь дело решенное, слишком ты много пьешь. Уже начал летающие тарелки видеть, а скоро увидишь, как крысы к тебе на кровать лезут и по твоему пуховику гуляют; видел же их Дюдюсс Пурьо, и помер он от белой горячки, весь истрясся, даже пальцы на ногах у него ходуном ходили.
— Отвяжись от меня, выпил я как обычно, — мрачно проворчал Сизисс, с видом мученика, которого распинают на всех изгородях из колючей проволоки, какие имелись в округе.
Ратинье зевнул, потянулся:
— Хватит трепаться, пойду лягу. Не желаю я всю ночь, как ты, гоняться за марсианами. И не забудь, ты мне три литра должен.
Сизисс даже весь раздулся от злости, притопнул шлепанцами:
— Три литра мочи, вот что ты от меня получишь! Наше пари недействительно, раз я ее видел, как тебя вижу.
— А как ты меня видишь? Может, я у тебя в глазах двоюсь?
Глод пошел к дому, а его дружок, окончательно распалившись, слал во мраке ему вдогонку залпы проклятий. Но Глод, запирая дверь, успел ему крикнуть:
— Нечестный ты малый, Бомбастый! Да и пьянь впридачу! Если отыщешь свою тарелку, плесни-ка в нее молочка, пусть Добрыш полакает.
И карманные и стенные часы шли нормально, словно никакого Диковины здесь и не бывало, словно никакого Диковины вообще на свете не существовало. Но на пыльной полке остался чистый кружочек, на том самом месте, где долгие годы стояла гильза дяди Батиста, гильза, которая в эту самую минуту, должно быть, распалась на атомы, как и капустный суп в чреве неопознанного летающего объекта.
Да, да, Бомбастый, той самой тарелки, которая блестит, что твой хром, и которая, да, да, Бомбастый, действительно имеет три или четыре метра в окружности…
Глава шестая
Разбудили Глода ружейные выстрелы, и он решил, что старый Блэз Рубьо снова пошел в крестовый поход на Шопенгауэров и теперь переправляется не то через Марну, не то через Сомму.
«Наделает он нам беды, неугомонный дед», — подумал он, быстро одеваясь, чтобы поскорее выбраться на дорогу. Раздался еще выстрел у дома Шерасса. Заинтригованный, Ратинье направился в ту сторону и увидел соседа, который с ружьем в руках кружил вокруг своей хижины и время от времени палил в небесную лазурь.
— Так оно и есть, — проворчал Глод, и на душе у него стало тревожно, — спятил-таки, придется везти его в Изер к чокнутым.
Глод подошел поближе, чтобы стрелок его заметил. А стрелок повесил через плечо дряхлое свое ружьишко.
— Оказывается, это ты, Сизисс, такой тарарам поднял? Неужели на дерево обезьяна забралась?
— Да нет. Просто хочу себя, да и тебя заодно от порчи уберечь.
Такие речи не слишком обрадовали Глода.
— От какой еще порчи?
— От такой. Да у нас здесь по всей округе разной нечисти полно. Мой дед Гастон, когда видел, что тут не без лукавого, как раз так и поступал. Снимал ружье с гвоздя и бах-бах по нечистой силе, чтобы она не смела впредь к нему подступаться. Можно подумать, что ты вовсе и не уроженец Бурбонне. Ведь в наших краях так спокон веков делалось.
— Ну если теперь не делается, может, есть на то причина.
Бомбастый злобно ощерился:
— А может, по-твоему, есть какая причина, что лошадей не стало? И колодцев тоже? И бистро в поселке? И портомойни? Может, ты ко всем этим бездельникам тоже перекинулся? Купишь себе авто и телик?
Он вошел в хибарку, но тут же вернулся, успев только повесить на место свое ружьецо и захватить бутылку с прозрачной жидкостью. У Глода полегчало на душе.
— Вот это дело, вот это по мне, плесни-ка нам по стаканчику.
Бомбастый молча протянул другу бутылку, а тот, откупорив ее, отхлебнул глоток и тут же с проклятием выплюнул.
— Ну и дерьмо! Это же вода!
Даже не улыбнувшись, Шерасс отобрал у него бутылку.
— Хотел пробовать, пробуй, я тебе не подносил. Это святая вода.
— Да она еще гаже, чем обыкновенная, твоя святая-то, — проворчал Глод, вытирая губы.
— Не для того ее святили, чтобы хлестать как вино. А святили ее, чтобы чертовню прогнать. Поэтому-то я и хочу, как дедушка Гастон, опрыскать все строения, да и навозную кучу вдобавок.
Сказано — сделано, вскоре Бомбастый вернулся, израсходовав три четверти святой воды; теперь он мог спокойно вздохнуть.
— Ну вот! Устроил всей этой нечисти хорошенькую баню, поди теперь напусти на меня порчу. Если она, тарелка то есть, опять прилетит, она в коровью лепешку расшибется, мокрое место от нее останется, это так же верно, как и то, что Пресвятая дева не какая-нибудь там Мария-потаскуха.
Глод раздумчиво покачал головой:
— Бедняга ты, мой Сизисс, совсем тебя заносит. Тут тебе и боженька, тут тебе и тарелка, а это, как хочешь, уже чересчур. Ты вроде как суп, который вовремя с огня не сняли, так и кипишь, так и брызжешь.
Бомбастый пригорюнился:
— Мне же тяжко, что ты не веришь в то, что я видел тарелку эту. Если уж друзья мне верить не станут, кто же тогда поверит? Слушай, хочешь еще одно доказательство, что нынче ночью не все в порядке было? Когда тарелка приземлилась, мои ходики остановились.
— А хочешь другое доказательство? Мои не остановились. Да почему это часы должны останавливаться из-за того, что там где-то тарелка болтается?
Шерасс снова ощерился:
— Ничему ты в школе, Глод, не научился. Ровнехонько ничему. Да и свидетельство об образовании только потому получил, что работу у дылды Луи Катрсу списал. Да было бы тебе известно, самое что ни на есть магнетическое на свете, так это неопознанные летающие объекты, даже Амели Пуланжар тебе это скажет.
— Прежде всего нужно, чтобы они вообще были, эти летающие тарелки.
— Десятки ученых их видели. Не бойся, ты-то их не увидишь. Для этого способности иметь нужно.
Задетый за живое, Глод буркнул:
— Ничего я у дылды Луи Катрсу не списывал, враки одни…
— Во всяком случае, в 1922 году так все утверждали. Ладно, не в этом дело, я еще одно заданье должен выполнить.
— Какое такое заданье? — ошарашенно переспросил Глод.
— Да уж, конечно, не школьное домашнее задание, тупица. Задание это — мой долг гражданина. Надо в жандармерию смотаться, доложить по начальству насчет летающей тарелки.
И, не дожидаясь ответа, он повернулся к соседу спиной, взгромоздился на старенький велосипед с наполовину спущенными шинами и покатил со скоростью пяти километров в час по пыльной ухабистой дороге.
Покинутый столь бесцеремонно, Глод присел на край колодца. Уж не лучше ли ему было признаться Бомбастому, что тот прав и что летающие тарелки действительно существуют, во плоти, если можно так выразиться? Да нет, нет и еще раз нет. Ежели Диковина усыпил Бомбастого, значит, ему он доверял не больше, чем хорьку в курятнике. И пожалуй, тут он прав. Бомбастому ни в жизнь не сохранить тайны, не то что ему, Глоду. Сизисс, особенно если он хватил бы лишнего, — а лишку он хватает с утра до вечера, — повсюду бы растрепался, что он, мол, закадычный друг марсианина, что водой их не разольешь, и Диковина уже никогда больше не вернулся бы на Землю, так как не только не ищет рекламы, но и опасается ее. А Ратинье крепко надеялся, что инопланетянин вернется в ближайшие четыре ночи похлебать капустного супа. Раз Диковина выбрал его халупу среди тысяч и тысяч других, значит, его в этом доме не предадут. Здесь он всегда будет чувствовать себя как дома.
Глод поднялся, пошел в огород, чтобы выбрать капустный кочан. Самый лучший. Достойный законов гостеприимства. Однако и сейчас, спустя пятьдесят восемь лет, угрызения совести все еще жгли Глоду нутро. Что греха таить, он списал работу у долговязого Луи Катрсу. Кто же мог наябедничать Бомбастому об этом старом его преступлении, об этом несмываемом злодеянии?
Шерасс тем временем бодро налегал на педали. От этого своего путешествия он ждал славы и почета. Ведь он единственный видел летающую тарелку, а это, что ни говори, не каждый день случается в их департаменте, где вообще ничего важного не происходит с тех пор, как отсюда смылся маршал Петэн! Газетчики из «Монтань» или из «Трибюн» прискачут его порасспросить, да еще сфотографируют.
— Вышел я из дома помочиться, — вслух репетировал свое будущее интервью Бомбастый, — нет, помочиться не то слово, больно грубое оно… Короче, вышел по малой нужде… Да, да, так оно лучше: по малой нужде, даже любой женщине этак не зазорно выразиться… И тут я увидел летающую тарелку на поле своего соседа, хотя тот-то ровно ничего не видел. А почему не видел? Не хочется мне о нем плохо говорить, сосед он хороший, только ничего он не видит, прямо как старый осел, и всем в округе известно, что больно он до пол-литра охоч…
Бомбастый чуть было не свалился с велосипеда — такой его разобрал хохот. Вот-то будет смехотища, вдобавок ко всему выставить Глода перед народом дурачком! Сизисс заехал на траву и чуть не сверзился в кювет. Видно, от радости его занесло невесть куда, поэтому он поспешил выехать на шоссе и покатил что было духу, а автомобилисты — те и рады позабавиться, попугать жалкого старикашку на жалком стареньком велосипеде, — они проносились мимо, чуть не задевая его крылом машины. Ничего, все теперь пойдет иначе, все в Алье будут относиться к нему с уважением, когда узнают, что этот старикашка видел летающую тарелку, как другие видят, скажем, обыкновенный автобус. И он будет и будет рассказывать им об этой самой тарелке: столько раз расскажет, сколько потребуется, хоть до скончания веков будет рассказывать.
Если хочешь, чтобы тебя заметили в бистро, как показывает опыт, надо всегда иметь про запас какую-нибудь историю, иначе к твоему столику никто и не подсядет и будешь торчать себе в одиночестве. Так вот у него и будет про запас летающая тарелка. И хватит ее надолго.
Наконец он добрался до места назначения, вошел в жандармерию, заявил, что ему надо видеть самого бригадира. Жандарм почтительно ввел его в кабинет начальника. Бригадир предложил посетителю сесть, потом уставился на него как-то двусмысленно и бросил:
— Я вас ждал, мсье Шерасс.
Не без лукавства Сизисс спросил, стараясь попасть начальству в тон:
— А почему это вы меня ждали, господин бригадир?
Бригадир откинулся на спинку стула.
— Потому что я знаю, с чем вы пришли.
— Ого, удивительное дело! — насмешливо протянул Бомбастый, который вопреки многолетней привычке выпил с утра только стаканчик молока.
— Удивительно было бы, если бы я удивился, мсье Шерасс. Нынче ночью, ровно в час, одна особа, обитающая в Гурдифло, по срочной нужде вышла из дому и увидела в небе летающую тарелку.
— Что? — просипел Бомбастый, его словно в сердце ударило, что он был не единственным свидетелем редчайшего феномена.
— И эта особа, — беспощадно продолжал бригадир Куссине, — зовется Амели Пуланжар и, как вам должно быть известно, справедливо считается помешанной.
— Верно, — фыркнул Сизисс, — совсем полоумная.
— Ее сыновья недавно звонили мне сообщить столь радостную весть и просили, если только этот слух дойдет до меня, ни слову не верить.
— И правильно сделали, — заявил Бомбастый, чуть приободрившись.
— Итак, мсье Шерасс, надеюсь, поняли теперь, почему я вас ждал?
— Ей-богу, нет!..
— Так вот, слушайте. Если блаженненькая видела летающую тарелку, совершенно очевидно, что и какой-нибудь завзятый пьянчужка в тех краях тоже не упустил случая эту тарелку увидеть. А вы, часом, мсье Шерасс, тарелки не видели?
Оскорбленный гнусным намеком на пристрастие к алкоголю, Бомбастый заартачился:
— Именно что видел! Как вас вижу! В час ночи. Вернее, без двух час.
— Очень рад. Эта милейшая тарелка одним ударом двух зайцев убила. Я вас больше не задерживаю, мсье Шерасс.
— Как так не задерживаете! Я хочу дать показания.
— Нет, мсье Шерасс, это уж нет. Я не могу терять время на выслушивание всех, кому что-нибудь привиделось. Государство мне не за то деньги платит, чтобы я скрупулезно собирал по нашему кантону разные бредни, исходящие от всех помешанных или других подобных типов того же порядка. Французская жандармерия уполномочена собирать все сведения касательно неопознанных летающих объектов и инопланетян, но не уполномочена выслушивать бредовые выдумки местных пьяниц и пропойц, среди коих, скажу без лести, вы являетесь просто чемпионом, мсье Шерасс. До свиданья, мсье Шерасс. Ах да, скажите мне, оставила ли ваша тарелка хоть какие-нибудь следы на траве?
— Не оставила, — жалостным голоском признался Бомбастый.
— В чем я нисколько и не сомневался. Запомните, мсье Шерасс, что, так сказать, официально утвержденная тарелка, признанная министерством и жандармерией, непременно обязана оставлять на земле конкретные следы, как то: запах терпентина или, еще лучше, выжженный в траве круг. А сейчас идите и выпейте за мое здоровье, мсье Шерасс, да живенько!
Бомбастый не успел даже заявить, что пришел он с наилучшими намерениями, или поклясться именем господа бога. Жандарм, который ввел его в кабинет, вытолкал Сизисса из жандармерии, даже не посчитавшись с его почтенным возрастом. Шерассу, которого вышвырнули словно побродяжку какого, не оставалось ничего другого, как утопить свое горе в вине, и он отправился в кафе «Отель де Франс», которое держала миловидная девица Эме, из местных. Едва только Шерасс принялся за вторые пол-литра, поверяя стакану свой гнев и разочарование, как слухи о его бедах уже поползли по кафе.
— Так вот, папаша, — начала Эме, кусая себе губы, чтобы не расхохотаться вслух, — говорят, вы видели летающую тарелку?
— Да, душенька, — буркнул Бомбастый. — Видел, как эти пол-литра вижу.
— А какая она? В полоску или в горошек?
— Да нет! Она одноцветная. И блестящая, ну вот как ведерко для шампанского.
— Тарелка блестящая, — пояснила Эме слушателям, сидевшим неподалеку от Сизисса.
— Раз блестящая, значит, ненастоящая! — проревел молодой столяр Сурдо, не самый первый острослов, да и пил он больше, чем дозволено. Потолок бистро чуть не рухнул от громового хохота всех этих пьяниц, и Бомбастый почувствовал, что сердце его сейчас разорвется. В эту самую минуту он понял, что отныне стоит ему появиться в Жалиньи, как все будут трещать, точно оголтелые, о летающих тарелках, что мальчишки будут бежать за ним по улицам и расспрашивать об его тарелке и что до конца своих дней он будет для всех только «дядюшка Марсианин».
Он допил вино и удрал из кафе в отяжелевших сабо и с отяжелевшей душой. Вслед ему фыркали, шлепали его по заду, и этот пьяный рев, этот фейерверочный взрыв насмешек он все еще слышал за три километра, медленно нажимая на велосипедные педали, униженный и сдавшийся.
— Тарелка! Тарелка! Вон она, тарелка-то! За здоровье тарелки! Не угодно ли тарелок!
И что-то мокрое тяжело шлепнулось на руль велосипеда «дядюшки Марсианина».
Глава седьмая
Для бодрости он съедал с утра кусочек, а то и два сахара. Глод пришел пешком и нес горшок герани, завернутый в газету. Он открыл калитку кладбища, направился к могиле Франсины. Не часто он сюда ходил. Слишком уж много здесь тяжких для него встреч. Кроме одного Бомбастого, все его друзья покоились здесь рядком, как луковицы. Говоря по правде, и враги тоже. Бывший сапожник окинул взглядом всех тех, кто были верными его заказчиками. Все те, что померли, дав ему возможность выжить. Поэтому-то у входа он снял с головы каскетку и сунул ее под мышку.
Возле стены был отделен особый участок, где стояли в ряд фамильные склепы семейства Раймона дю Жене, владельца замка. Покрытые ржавчиной цепи отделяли всех этих Жене от мужичья, так сказать, зерно от плевел.
Глод водрузил горшок с геранью на могилу Франсины и, не зная, что делать с газетой — бросишь, оскорбишь покойников, — скомкал ее и сунул в карман своих вельветовых штанов. Кругом щебетали птицы. Пока еще здесь их не осмеливались стрелять. В один злосчастный день Глод тоже прибудет сюда, только не на собственных ногах, не в деревянных сабо, а иным манером, и проводить его соберется совсем мало народа. Мэр, несколько выделенных в наряд жандармов, с десяток бывших военнопленных со знаменем. И все для него будет кончено.
— Это тебе, Франсина, — пробормотал он. — Герань хорошая. А так вообще ничего нового нету. Да откуда ему, новому, взяться? Все идет себе помаленьку. А если не идет, надо постараться, чтобы шло. Ах да, тут к нам домой один марсианин заявился. Нет, нет, я лишнего не выпил. С тех пор как ты померла, я от силы пол-литра выпиваю.
Ему вдруг стало тоскливо. Он вздохнул.
— Так вот, Франсина, как-нибудь утречком и меня тоже…
Но так как мыслями он был далеко отсюда, то чуть было не пожелал покойнице на прощанье: «Ну не скучай, веселись» — и быстро зашагал прочь.
По дороге в поселок он вспомнил Диковину, который так и не прилетал больше, а ведь он ждал его уже три ночи подряд и все эти ночи почти не спал из-за него. Должно быть, что-нибудь с Диковиной приключилось. Или живет он слишком далеко, так что и представить себе человеку трудно. Видать, его планета у черта на куличках, еще дальше Луны. А из-за него, вернее, из-за его тарелки гибнет Бомбастый, портит себе кровь, еле разговаривает, бросил на аккордеоне играть. Невежды жандармы не удосужились даже явиться в Гурдифло, чтобы хоть на поле взглянуть. Они окончательно возвели Бомбастого в сан Марсианина, а это привело к самым пагубным последствиям: Сизисс сейчас молча страдает, и это мука мученическая. С тех пор как в деревне люди не ходят больше к исповеди, они всю желчь держат при себе, что для здоровья один вред, хотя, возможно, доктору от этого одна польза.
Глод медленно шагал по поселку. Забитые крест-накрест досками окна его бывшей мастерской, закрытой с появлением резиновой обуви, были собственным его крестом, и он старался даже не глядеть в ту сторону. Раньше на площади стояли старые каштановые деревья, дававшие в летнюю жару прохладу и тень, а осенью — каштаны, и все мальчишки, включая и самого отрока Ратинье, стреляли ими из рогатки в физиономии прохожих. Деревья срубили, а почему срубили — неизвестно, и не стало больше ни тени, ни каштанов. На площади же снесли все древние бурбоннезские дома и настроили новые, ничего не говорящие ни уму ни сердцу.
Глод шагал между двумя изгородями живых воспоминаний, до которых никому, кроме него, не было дела. Так прошел он мимо замолчавшей навеки кузницы, съеденной ржавчиной, заросшей колючим кустарником. Он увидел, как будто это было только вчера, Пьера Тампона, в кожаном переднике с голыми по локоть руками. Вот он стоит как сам господь бог среди оглушительного грохота, среди звездочек искр… Они были одного призыва с Пьером. Или с Пияром, как здесь у них говорят.
Пияр приходил в кафе вместе со своим подмастерьем и выпивал первую кружку белого, даже не дожидаясь, чтобы ему подали ее на столик. Если его подмастерье не сразу заказывал вторую, Пияр пренебрежительно оглядывал его с ног до головы и глухо ворчал:
— У тебя марки, что ли, нет, чтобы ответ послать?
И говорилось это таким властным тоном, что тут уж, хочешь не хочешь, улизнуть не удавалось. Люди поговаривали, что это белое винцо и сгубило Пияра Тампона. Но Глод хорошо его знал, был твердо уверен, что это не так. Это тоска сглодала Пияра, когда ему пришлось закрыть кузницу. Вслух об этом не говорилось просто из лицемерия. Но он-то, Ратинье, видел собственными глазами, как Пияр год, а то и два, болтался по площади, гоняя носком башмака камешки, совсем как мальчишка, который не знает, куда девать избыток молодых сил.
На месте бывшей кузни коммуна решила воздвигнуть молодежный клуб. «Сам понимаю, мало толку оплакивать старые времена, сам понимаю, что надо уступить место молодым, только где они, молодые-то? — размышлял Глод. — Что-то их не видать. Здесь у нас они не живут по-настоящему. Уезжают утром, а возвращаются вечером, если только совсем в город не перебираются…» Ничего не поделаешь. Есть молодые, нет ли, все равно будет у них, как и везде, свой молодежный клуб.
С легкой душой Глод миновал поселок. За поселком было хоть приволье, хоть жизнь, хоть весна. Цветы, животные, нивы. И даже крапива, и даже улитки, которых никто уже не собирает, с тех пор как стали продавать консервы из них. Правда, дорога здесь теперь тоже загудронирована. Все загудронировано. И люди в том числе.
А когда гудрону здесь еще не было, клали прямо на землю дырявую монетку в пять су и прибивали ее гвоздиком, а сами прятались в кустах, как только вдали показывалась тетушка Фуйон. Тетушка Фуйон была из тех старых скряг, у которых, по местному выражению, не кошелек, а прямо «еж с колючками». При виде монетки она оглядывалась окрест, как настоящая сорока-воровка, быстрее гадюки подбиралась к денежке и хватала ее. Ясно, безуспешно, но старая упорствовала, не помня себя от изумления, кругом весь боярышник грохотал от смеха, а старуха грозила палкой небу. Пияр иногда, чтобы еще веселее было, раскалял монетку докрасна.
В те времена велосипеды, оставленные у дверей бистро, нередко ради забавы подвешивали на столбы электропередачи. А сколько радости получали зрители, измазав навозом, а то и еще чем похуже, ручки тачки. Глода даже дрожь удовольствия проняла только при одном воспоминании обо всех этих шуточках. Теперь и веселятся по-другому — им бы все переломать, все уничтожить, все сожрать, все разграбить, так что Глод уже совсем запутался, но с него и спроса нет, он ведь старый хрыч.
Подходя к дому, он разглядел на своем поле чей-то силуэт, это оказался Бомбастый. Нахлобучив шляпу на глаза, засунув руки в карманы, он стоял как вкопанный на том самом месте, где, по его расчетам, должна была приземлиться тарелка, — значит, по-прежнему отыскивает следы и отпечатки, как настоящий доезжачий.
— Эй, Сизисс!
Шерасс оглянулся, пошел навстречу соседу, волоча сабо, так волочит ноги занедуживший осел.
— Неужто ни о чем другом уже думать не можешь?
— Не могу.
— Да ведь ты же совсем извелся.
— Да, извелся. На меня всё Жалиньи как на дурака смотрит.
— Как был ты дураком, таким и остался.
— Может, и был, но теперь-то эти злыдни полное право имеют меня дураком считать.
Ратинье вдруг стало жаль своего дружка…
— Слушай, Сизисс, хочешь я пойду и скажу им, что я тоже видел летающую тарелку? Нас тогда двое дураков будет.
— Хороший ты малый, — вздохнул Шерасс, — не стоит, но все равно славный ты человек.
— Пойдем, раздавим поллитровочку.
— Ладно. Раздавим, а потом я пойду и повешусь.
Глода словно под ложечку ударило. В Бурбонне уже давно сложилась традиция покидать наш мир посредством повешения. Судя по статистическим данным, провинция Бурбонне прочно держала в своих руках первенство в этой области. Здесь вешались из-за сущих пустяков, вешались в амбарах, в фруктовых садах на яблонях или в погребах, короче по всем азимутам. Один шофер даже дошел до такой изощренности, что ухитрился повеситься на руле своего грузовика. Не так давно дядюшка Жан Косто, в просторечии Косточка, — отсюда шли такие клички, как, скажем, Вишня или Персик и другие фруктово-ягодные названия, — повесился у себя на яблоне, которая до сего дня приносила лишь жалкие плоды — попросту дички, набитые зернышками. В этом случае одна деталь заинтересовала весь поселок. Поутру дядюшка Косто сходил в лавочку и купил там семена редиса сорта «сезан». А после полудня удавился, так сказать плюнув на свой редис. Люди решили, что действовал он в порыве внезапного наития и точно так, как говорилось в 1525 году в песне о сеньоре Лапалисса[27], что в восемнадцати километрах отсюда: он был жив еще за четверть часа до того, как выбрал смерть[28]. Так или иначе, в Алье не любят шутить над виселицами и удавками, каковы бы они ни были, и, если Глод сразу встревожился, так были тому достаточно веские причины, особенно если учесть, что он самолично видел, и не раз, вывалившиеся языки удавленников.
— Да не повесишься ты, Сизисс!
— А вот и повешусь! Назло жандармам и конным стражникам. Оставлю записку, напишу, что это, мол, их вина, их ошибка, а они ошибаться ох как не любят. Оплюю их, так сказать, с высоты своей петли, да еще как оплюю! Пускай тогда бригадир Куссине покрутится!
— Но сам-то ты пропадешь ни за грош!
На что Шерасс ответил как само собой разумеющееся:
— Лучше смерть, дружок, чем бесчестье. Об этом написано во всех историях Франции. Если бы ты по истории, как и по всем прочим предметам, единиц не хватал, ты бы это знал, как я знаю, ведь я только хорошие отметки получал. — И жестокосердный добавил: — Кроме меня, один только Луи Катрсу на отлично учился, уже кому-кому, а тебе это забывать негоже.
Тут Глод словно воочию увидел, как списывает у Луи Катрсу, он даже затрясся от запоздалого страха, почувствовав себя последним негодяем, и шумно высморкался. Он жалобно простонал:
— Ты не имеешь права лишать себя жизни, Франсис. Ведь мы с тобой одна семья, соседи, друзья, наконец, и без тебя я совсем один на свете останусь.
Впервые в жизни Глод назвал Сизисса именем, данным ему при крещении, и это было так непривычно, что Бомбастый растрогался.
— Ты только о себе и думаешь! Плевать тебе на то, что я муку мученическую терплю. Одно тебе надо, чтобы при тебе состоял шут, раб твой, чтобы ты мог измываться над его горбом, и все это лишь потому, что я тарелку видел!
— Но я же верю, что ты видел тарелку! Говорю тебе, верю!
— А было время, ты мне не верил.
— А будет время, и тебе расхочется висеть на балке, как окорок какой! Ты только сам подумай!
Бомбастый задумался.
— Ладно, там увидим. Только помни, ничего я тебе не обещал. По-моему, ты что-то о пол-литре здесь говорил?
Они пошли к Ратинье, хозяин спустился в погреб и вынес целый литр вина. Глод пил и восторгался.
— Нет, ты только попробуй, свежесть-то какая, льется тебе в глотку, как роса в чашечку тюльпана.
— Верно…
— На кладбище такого, брат, не найдешь! Я как раз с кладбища иду. Так вот мне все время чудилось, будто тамошние старики, все эти Рессо и Ремберы, все Перро и Мутоны в один голос просят: «Глод, пол-литра! Глод, поллитровочку!..» Видать, им чертовски винца не хватает…
— Верно…
— Прошел я мимо могилы дядюшки Косто. Весь холмик чертополохом зарос. Хоть бы один мак завалящий. Воистину могила про́клятого. Уж поверь мне, это сам господь бог ему тогда рожу сделал. Я ведь один из первых его, беднягу, увидел. Зрелище, скажу тебе, не из приятных. Сам весь черный, как головешка. Глаза выпучены, точь-в-точь сова. Язык, ну чисто как телячий в мясной лавке. Должно быть, не так-то легко помирать, как он считал. Мы же видели, какую он, разнесчастный, муку перед смертью принял. Да что говорить, такой он страшенный да гадкий был, что ему сразу на голову мешок нацепили, потому что вида его вынести не могли. Выпей-ка еще, Сизисс.
— Ладно… — слабым голоском пробормотал Бомбастый, с трудом осиливая стакан красного.
А Ратинье, проглотивший свою порцию единым духом, встал в дверях и радостно воскликнул:
— Теперь уже точно весна началась. Хотелось бы мне еще с десяток таких весен повидать! И надеюсь, повидаю! Уж кто-кто, а только не я сокращу свои дни на манер дядюшки Косто. Оно само по себе случится слишком рано, даже если я к тому руку не приложу. А сейчас я на огород пойду. Там уже небось все из земли полезло, даже треск стоит. Овощи-то, овощи, поди, без ума от радости!
И он ушел, повесив на локоть корзину, не оглянувшись на пригорюнившегося бедолагу, который не торопясь приступил ко второй поллитровке. Накануне Глод срезал кочан капусты, но она уже подвяла, а вялая капуста недостойна идти в пищу Диковине. Глод выбрал другой кочан, на диво крепкий, оторвал верхние листья, бросил их в навозную кучу. Солнышко нежно ласкало старые кости Ратинье, а с соседнего двора доносился визг пилы — это Бомбастый пилил дрова. Глод улыбнулся. Пилит дрова, значит, о будущем думает. Правда, улыбка тут же сбежала с его лица, когда он вспомнил дядюшку Косто с его редиской. Разве не были семена редиски тоже знаком надежды?
С малых лет Глод наблюдал, как его бабка, мать, жена варили капустный суп. Чуть не с пеленок он узнал секрет его приготовления и сейчас действовал почти машинально. Вымыл сначала кочан, отодрал привядшие листья, разрезал кочан на четыре части, ошпарил кипятком и оставил на пять минут в горячей воде, а сам пока подмел свое жилье. Если Диковина вернется, следует принять его со всем уважением, как водителя такой мощной летающей тарелки, чтобы не мог он пожаловаться на пыль и грязь в хозяйском дому. Пускай человек только и может, что велосипедный руль крутить, все равно и у него своя гордость есть.
Царственным жестом Глод вымел сор за порог. Куры, они ведь всегда найдут в мусоре хлебные крошки. После уборки он вернулся к стряпне, переложил капусту в кастрюлю, бросил туда четыре очищенные картофелины, луковицу, две морковки, щедро залил кипятком. Присолил, добавил тмину, три зернышка черного перца и зубчик чеснока, потому что чеснок глистов убивает, все равно что стакан вина натощак, а на земле нет ничего опаснее глистов, кроме простуды. Тамошние, городские, все они до одного крысы канцелярские и бормочут себе что-то под нос, видать, чеснока в жизни никуда не кладут. Они, городские, из-за всех своих штучек последнее здоровьишко растеряли и мрут как мухи на ихних улицах и бульварах. Глод предпочитал вдыхать запах чеснока, чем погибать через разные там холестерины, артериосклерозы и прочие коварные недуги, подстерегающие человека в метро и в автобусах.
Он накрыл кастрюлю крышкой и оставил ее стоять на своей чугунной печурке, которая никогда еще его не подводила. Пускай покипит три четверти часика на среднем огне, вот тогда можно будет снять суп, предварительно его попробовав. А сало он положит в последнюю минуту, когда Диковина уже усядется за стол.
— Славный супец получился! — объявил он, снимая фартук, в котором возился в огороде, заменявший при случае и поварской.
Глод прислушался. Шерасс уже бросил пилить. А что, если эта тишина — тишина смерти? Ратинье бросился к домику Сизисса. Не нашел его там и завопил:
— Эй, Бомбастый! Что ты там вытворяешь?
Наконец он обнаружил Сизисса в сарае — тот сидел и лущил горох.
— Мог бы и ответить, раз я тебя зову!
Этот прохвост Шерасс злобно ухмыльнулся.
— А я нарочно, чтобы ты помучился. Пускай, думаю, он уже представляет меня черного как головешка, с петлей на шее.
— Стукнуть бы тебя хорошенько, старый ты шарлатан!
Притворщик глубоко вздохнул, на глаза ему навернулась роковая слеза.
— И ты, ты все равно что брат мне родной, будешь меня бить? Прибьешь, как жандармы меня избили?
Глод даже подпрыгнул от неожиданности.
— Они, жандармы, тебя били?
— Как собаку! — жалобно прохныкал Сизисс. — Ты же сам прекрасно знаешь, что они бьют всех подряд, за это им наградные полагаются. Да, да, дружище Глод, не постеснялись избить калеку!
— Чтоб их черти побрали, — прогремел Глод, — пойду сейчас же поговорю с мэром, пускай он с префектом говорит!
— Не нужно! — живо возразил Бомбастый. И торжественно добавил: — Я им прощаю! Ибо не ведают, что творят. Я ведь из тех, кто подставляет левую щеку, когда его бьют по правой. Так оно быстрее получается, и потом они же, палачи, мучаются. Вспомнят ночью о содеянном и лежат без сна, кусают угол подушки и ревут, как дикие звери.
Глод сообразил, что Бомбастый начисто выдумал всю эту ерунду, чтобы придать себе интересу. С детства был такой и к семидесяти годам не переменился. Заметив веревку, Ратинье схватил ее, сделал скользящую петлю и, взобравшись на стремянку, старательно прикрепил к балке:
— Пожалуйста. Вешайся на здоровье. Готово! Дрыгай в свое удовольствие ногами, падаль проклятая, веревка прочная, выдержит.
На что Бомбастый миролюбиво возразил:
— Сам вешайся. Я по команде ничего делать не собираюсь. Когда захочу, тогда и повешусь. Ты же видишь, я горох лущу, не могу же я разом два дела делать.
Сердито сплюнув, Глод побрел домой, проклиная по дороге всех горбунов, у которых не только горб есть на спине, но и сам дьявол со всеми его присными сидит в душе. Перед его дверью стоял желтый почтовый автомобильчик. К великому его удивлению, за рулем на сей раз сидел их местный почтальон, а не какой-нибудь чужак, которому наплевать на все: и на смерти, и на рождения, и на будущий урожай, и на деревенские сплетни. Сегодня почту развозил Гийом, один из четырех сыновей папаши и мамаши Эймонов. Гийом вручил Ратинье номер «Монтань».
— Спасибо, сынок. Зайдем ко мне, выпьем чего-нибудь. Твоим коллегам я никогда ничего не предлагаю — и явились они невесть откуда, и торопятся вечно, будто им зад припекает. А тебя я с малолетства знаю, когда ты еще на горшке сидел. Зайди, выпей, что бог послал, ну, конечно уж, не из горшка!
Гийом рассмеялся и вошел за стариком в дом.
— Ходят слухи, Глод, что Бомбастый летающую тарелку видел?
— А ты пей, еще не то увидишь, если все так ладно пойдет! Да ведь он чуть тронутый. А сейчас небось все над ним потешаются?
— Да есть отчасти…
— Вот он теперь вешаться собрался.
Почтальон покривился.
— Ну это совсем скверно. Ведь уже вешались у нас!
— Да я и сам знаю…
Автомобильчик укатил, и Глод поспешил к Шерассу, в амбар.
Там не оказалось ни гороха, ни Сизисса. Глод постоял с минуту в раздумье, потом побрел в огород, где и обнаружил Бомбастого. Увидев соседа, тот злобно бросил:
— Да кончишь ты когда-нибудь за мной шпионничать, мерзкая твоя рожа? Скоро ты, чего доброго, за мной в нужник ходить станешь!
— Плевать я хотел на тебя! Просто пришел на твой салат поглядеть. А то на мой салат улитки напали.
— А ты их съешь.
Глод кротко ответил ему:
— Какой же ты ворчун стал, бедняга Сизисс! Да, кстати, я видел почтальона, Гийома Эймона. Похоже, что во всем кантоне только о тебе и говорят.
Бомбастый побледнел.
— А… а что говорят?
— Да так, ничего особенного. Ты вот недавно прав был. Говорят, что у тебя вид дурацкий…
Сраженный этими словами, Шерасс тяжело оперся на свою лейку.
— Так я и думал…
— Да это же пустое дело. По мне, лучше иметь дурацкий вид, чем вертеться как ветряная мельница! Повертишься немного и перестанешь. Еще успеешь. Скажу тебе без лести, Сизисс, хорош у тебя салат получился!
Этот теплый майский денек ласково касался их, так гладят мягкую шерстку котенка, так гладят женскую грудь. Глод теперь не выслеживал каждый шаг Бомбастого. А Бомбастый заперся у себя в доме и заиграл на аккордеоне самые душераздирающие мелодии, такие, как, скажем, «Мрачное воскресенье» или «Грусть Шопена». Так как в детстве он пел в церковном хоре, то во весь голос затянул заупокойную мессу. Глоду начало казаться, что все эти развлечения порождают жажду у его соседа, что он то и дело прикладывается к бутылке и что голос его, теряя в силе и латинских песнопениях, становится все более блеющим и благочестивые словеса постепенно сменяются трактирными словечками. Время от времени Шерасс прерывал концертную программу, чтобы выкрикнуть: «Смерть жандармам!» Просто чтобы прочистить глотку. Когда наступала музыкальная пауза, раздавалось кваканье лягушки, которая до самого вечера загорала на краю болотца.
Присев на верхней ступеньке своего трехступенчатого крыльца, Глод ужинал куском козьего сыра, орошаемого винцом и робким сиянием первых звезд. Вдруг Сизисс окончил свой концерт, очевидно, оскорбленный до глубины души зловеще неверной нотой, которую издал напоследок его инструмент. Ратинье навострил уши и услышал, как отворилась сначала дверь дома Бомбастого, затем амбарная дверь; зажав кусок сыра в зубах, Глод затаил дыхание и вздохнул только тогда, когда до его слуха донесся глухой стук падения, сопровождаемый криками боли:
— Глод! Ко мне! На помощь! Глод! Умираю!
Бывший сапожник не торопясь допил вино, медленно поднялся со ступеньки и размеренным шагом направился к амбару, откуда по-прежнему неслись уже не просто крики, а дикие вопли Сизисса:
— Глод! Старая кляча! Не дай мне так подохнуть! Ко мне, Глод!
Ратинье добрался до амбара и увидел Бомбастого, распростертого на земле, с удавкой на шее. Обрывок веревки болтался, свисая с балки амбара, к которой его привязал Глод.
— Что с тобой стряслось, Бомбастый? — удивленно спросил он.
Бледный как смерть Сизисс осторожно растирал себе копчик, что не мешало ему, однако, яростно поносить Глода:
— Сам не видишь! Я разбился, веревка не выдержала, хоть ты, негодяй, уверял, что она прочная! Поясница у меня треснула, как стекло. Сейчас умру! Ох, как зад болит! Господи, до чего же болит! И шея тоже! Не могу ни вздохнуть, ни выдохнуть. И в затылке отдает! Я, видно, до смерти убился.
— Да ведь ты сам этого хотел, — безмятежно заметил Глод.
Бомбастый продолжал корчиться на соломе.
— Разорви меня бог, как же я страдаю! Да брось ехидничать, дубина! Зови пожарных!
— Это еще зачем, пить, что ли, хочешь?
— Ох какая дьявольская боль! — не переставая выл Шерасс. — Миленький мой Глод, закрой мне глаза. Не дай помереть как турку некрещеному!
— Брось орать, вставай.
— Не могу! — хныкал Сизисс. — Я так расшибся. Внутри все так и колет, словно булавками. Я даже себе горб расплющил, нет у меня теперь горба.
— Не горюй, на месте он, твой горб, так что ничуть тебя не изуродовало. Давай руку, я тебе помогу встать.
— Не дам! Нельзя трогать смертельно раненных!
Презрев сей мудрый совет и стенания «смертельно раненного», Глод подхватил его под мышки и силой поставил на ноги. К великому своему удивлению, Бомбастый не умер на месте, не рассыпался на земляном полу, как карточный домик.
— Вот видишь, — подбадривал его Глод, — вовсе ты не разбился на тысячи кусочков.
Сизисс нехотя признал правоту друга, но стонать не перестал.
— Может, и не разбился на куски, но как же у меня зад болит. Мне его в брюхо вбило!
Подняв глаза, он злобно поглядел на обрывок веревки и прошипел:
— У-y, сволочь! А ведь не рвалась, когда ею снопы вязали.
И Глод, тот самый Глод, что чуток подпилил ножом веревку во время своего последнего посещения амбара, заметил:
— Старая она у тебя. Да и гнилая. Надо бы новую купить.
— Покорно благодарю! — завизжал Бомбастый. — Я таких мук натерпелся, словно пулю себе в лоб пустил! Сразу видно, что ты на моем месте не был. Лучше уж я в колодец брошусь, хотя в горизонт грунтовых вод незачем разных бродяг бросать.
С жалобными стенаньями он потирал ушибленные места. И вдруг услышал суровый громовой голос Глода:
— Уж конечно, я на твоем месте не был! Ищи себе другого дурака! Что это тебя вдруг разобрало?
— Поначалу никак я не мог решиться! Ну для храбрости и тяпнул два литра. Тут дело пошло лучше. Я увидел господа бога, славный такой дед, длиннобородый, вот он мне и сказал: «Прииди, мой Франсис! Возносись ко мне сюда, и каждый день ты будешь созерцать летающие тарелки. Прииди ко мне!»
Он попробовал было сделать шаг, другой, все его морщины от боли свело в гримасу, и он крикнул:
— Болван этот твой господь бог!
— С чего это он вдруг мой!
— Ведь он, скотина, швырнул меня, как старый башмак, только мне побольней было, чем башмаку.
Прижав ладони к своей опухшей хвостовой части, Бомбастый с помощью друга заковылял по двору. Глод довел его до скамейки, и Шерасс опустился на нее со всевозможными предосторожностями.
— Ой, ой-ой, Глод! У меня весь зад на куски да на ломти разваливается, поди принеси мне подушку.
Усевшись на подушку, он вздохнул:
— А знаешь, как начинает жажда мучить после удавки? Даже легкие жжет. Будто я целую неделю ни капли не выпил… Когда ты на копчик грохнешься, протрезвляет лучше, чем ведро воды, очухиваешься со скоростью двести километров в час. Притащи-ка литровочку.
Глод повиновался, налил два стакана. Они выпили, и краски снова вернулись на физиономию Бомбастого обычным его стародевическим румянцем.
— Полегче стало, — признался Шерасс.
— И подумать только, что ты чуть не погиб! — пробормотал с невозмутимым видом Ратинье. — Разве не жалко было бы?
— Жалко… верно ты говоришь. Обо всем разом не подумаешь…
— А теперь сможешь подумать?
— Ясно! — бодро ответил Бомбастый. — Это в первый и последний раз, что я умираю. Лучше уж быть дурачиной, чем жмуриком!
Он пожал плечами, что болезненно отдалось у него в горбу и ушибленных ребрах.
— В конце концов, это дело моей совести. Тем хуже для тех, кто ничему и никому не верит. С меня достаточно того, что я ее, мою тарелку, видел. Она красивая, Глод. Белая и круглая, что твой коровий сыр или грудь у бабы.
Глод тоже вздохнул и исступленным взглядом уставился на небо, уже густо приперченное звездами.
— Может, еще раз прилетит, Сизисс, — шепнул он.
— Очень было бы удивительно. Если я за свои семьдесят лет ее всего один раз видал, то мне еще ждать и ждать!..
— А я вот не теряю надежды тоже на нее полюбоваться, — сказал Глод, обшаривая глазами небеса, страстно моля Диковину появиться хоть еще разок, ну почему бы и не нынче ночью?..
Полный сознанием своего превосходства, Бомбастый ядовито хихикнул:
— Может, для этого особый дар нужен, как у знахаря. Может, они, тарелки, не всякому показываются. Сами выбирают, с кем дело иметь…
Глода не обидели насмешливые слова друга, напротив, он пришел к выводу, что удавленник вновь обрел свою боевитость. Что-то шевельнулось в самом нутре Глода, и он издал от радости трубный звук, от которого даже шатнуло скамейку.
В порыве вдохновения Глод возликовал:
— Слышишь, Сизисс, получается! Как в тот вечер! Значит, давай постараемся!
Он представил себе, как там, в звездной бесконечности, подмигивает таинственный ящичек Диковины, как Диковина, уловив его душераздирающие призывы, сразу спикирует на землю… И Ратинье взмолился:
— Ну хоть разок постарайся, Сизисс.
Бомбастый огрызнулся:
— Да неохота мне! Интересно, как бы ты рулады выводил с развороченным задом! Твержу тебе сотни раз, не такое у меня настроение, чтобы веселиться. Не забывай, что как-никак я человек травмированный. И ты бы не мог тужиться после такого случая, что со мной произошел!
Весь побагровев, Глод все-таки поднатужился, так что у него даже дыхание перехватило, и вторично издал хриплый звук.
Из вежливости Шерасс негромко хохотнул. По наступившему затем молчанию Глод понял, что Бомбастый весь напрягся, собрался с силами, что он уязвлен в своей гордыне и не желает, что бы ни случилось, так запросто уступить лавры своему другу. Не удастся Глоду взять над ним верх. И Сизисс внезапно прямо-таки взорвался, как заклепанная бомбарда или непригодная к делу мортира, так что даже сама ночная мгла остолбенело вздрогнула, а с дерева упало три-четыре яблока. Не успев перевести дух, Сизисс произвел еще один долгий звук, с таким неторопливым треском рвут шелк, и к небу вознесся полный отчаяния псалом. Глод захлопал в ладоши, совсем как мальчишка, присутствующий при фейерверке 14 июля.
— Я же знал, что ты сможешь, если захочешь!
— Твой рекорд перекрыт, — скромно заметил Сизисс.
— А ну еще разок! Век бы слушал!
— Надо же благоразумие иметь, — проворчал Шерасс, взявшись за литровку, — ведь не каждый день праздник. Я это только для того, чтобы по-настоящему вернуть себе вкус к жизни. Ну, давай выпьем, и я пойду лягу. Всего меня измолотило, на куски перемололо. Сейчас намажусь мазью, у меня еще осталось немного в баночке, этой мазью я осла пользовал, когда он, бедняга, ревматизм подхватил, и представь себе, у него даже на заднице гуще шерсть выросла.
Глод подождал, пока его дружок уляжется в постель, а сам поплелся на свое поле, щедро залитое лунным светом. Он даже поднес часы к уху, надеясь не услышать их тиканья. Увы, часы ходили исправно. Он присел на пенек. Спать ему не хотелось. Если он вернется домой, то все равно будет без толку кружить по комнате, присаживаться то на один, то на другой стул, и так до трех часов утра. Он нагнулся, сорвал маргаритку и стал общипывать ее лепестки своими заскорузлыми после полувековой возни с деревом пальцами. Он и забыл, когда прибегал к этому ребяческому способу гадания. Последний лепесток, оставшийся между большим и указательным пальцами, гласил: «немножко». Можно любить «немножко», но «немножко» приземлиться?..
Ночная прохлада окутала его своим печальным покровом. Глод вздохнул. Каким же идиотом надо быть, чтобы сидеть здесь и ждать. А главное, чего ждать-то: появления летающей тарелки!
И однако, она прилетела, прилетела час спустя, когда он уже задремывал, натянув каскетку на глаза, положив ладони на колени. Приземлилась она совсем бесшумно, почти у самых его ног, словно пушок одуванчика. Он открыл глаза, увидел внутри Диковину в том же одеянии, что и в прошлый раз, Диковину, что сейчас смотрел на Глода с улыбкой на устах, вернее, намеком на улыбку. Глод вскочил как встрепанный, а Диковина тем временем открыл дверцу, соскочил на землю со своей трубкой в одной руке и бидоном в другой. Не помня себя от радости, Глод весь просиял.
— За капустным супом, сынок, прилетел? И вовремя попал — я как раз сегодня суп сварил, славный получился! Ты, милок, не оторвешься!
В глазах сына эфира мелькнул лукавый огонек, что не скрылось от Глода. Он обозлился:
— Тебе-то, конечно, смешно, а я тебя все ночи ждал, хотелось мне твоего кулдыканья послушать!
Но Диковина не издал ни кулдыканья, ни того бульканья, с каким вода уходит из водопроводной раковины, а просто сказал:
— Я здесь, мсье Ратинье.
Глод так и подскочил, потом его всего словно ожгло, от сабо до каскетки, не миновав бретелей.
— Ты говорить умеешь! Заговорил, наконец! Не сразу, а научился, теперь нам с тобой и поболтать о чем будет, если ты захочешь меня послушать.
И верно, Диковина говорил по-французски, но с таким же сильным акцентом, с каким говорят крестьяне в Бурбонне.
— Я с планеты Оксо, мсье Ратинье. Совсем маленькая планета, на ваших картах ее нет. Величиной с ваш департамент Алье.
— Ты сначала скажи, как это ты научился по-французски говорить, ведь прошлый раз не говорил?
Вместо ответа Диковина показал на свой ящик со светящимся табло, на сей раз он надел ящик через плечо. Он кое-как объяснил Глоду, что ящичек этот нечто вроде сверхчувствительного магнитофона, что достаточно подключить его на несколько часов к телу, чтобы извлечь из него и усвоить любую духовную субстанцию, но что на восприятие этого требуется известный промежуток времени. Глод покачивал головой с умным видом, чтобы его не приняли за последнего невежду. Поэтому он понимающе пробурчал: «Вот оно как» — и тревожно оглянулся. Не дай бог появится Бомбастый, что вызовет, как и в прошлый раз, столько треволнений, последствия коих невозможно даже предвидеть.
— Мсье Шерасс спит, — шепнул Диковина и добавил, гордясь своим новым словарным запасом, — как сурок.
Глод тряхнул головой.
— Ты хорошо сделал! В деревне повсюду за тобой смотрят. На твоем месте я бы припрятал тарелку, так оно спокойнее будет.
— Я сам собирался вас об этом попросить, мсье Ратинье.
— А твоя машина может по земле передвигаться? Как, скажем, автомобиль?
— Гораздо лучше, чем автомобиль.
— Тогда можно поставить ее в хлев. После смерти Франсины я коровы не держу, на что мне для себя одного, ну я ее и продал. Двигай сюда!
Он направился к хлеву, стоявшему вплотную к дому рядом со свинарником. По дороге он взглянул на часы. Часы стояли. Обернувшись, он заметил, что тарелка следует за ним, как верный пес, хотя находилась она в метре над землей и продвигалась в полной тишине. Глод раскрыл двери пустого хлева, и тарелка проскользнула туда ловко и бесшумно, как гадюка в вязанку хвороста. Она опустилась на землю, не примяв ни соломинки, и Диковина выбрался из своего экипажа. Глод запер хлев, и оба вошли в дом. На радостях Глод похлопал Диковину по плечу, чем тот был явно удивлен.
— Очень уж я рад тебя снова увидать, парень!
— Я тоже, мсье Ратинье.
— Зови меня просто, без мсье… Без всяких там церемоний. Раз я тебе в дедушки гожусь, это еще не причина каждый раз присобачивать мне «мсье» длиной в три фута!
На что Диковина ответил безмятежным тоном:
— Мы с вами ровесники, мсье Ратинье.
Глод нахмурился.
— Ты что же это, дружок, из меня дурака делаешь?
— Клянусь, нет! Мне тоже семьдесят, как и вам, мсье Ратинье, но на Оксо мы, так сказать, почти не меняемся с самого начала до самого конца. У нас незачем менять внешний вид.
Тут Глод обратился к своему новоявленному дружку, который походил на младшего из его сыновей.
— Ясно, незачем, — вздохнул он, — но нашего мнения не спрашивают, раз надо — значит надо. Кстати, выходит ты не марсианин вовсе?
— Я оксонианин.
— Если тебе нравится оксонианцем быть, я не против. Хорошие люди повсюду есть, я это всю жизнь твержу. Хочешь стаканчик? Это значит стаканчик красного винца.
— Я понял, мсье Ратинье. Это слово очень часто встречается в вашем языке. Нет, спасибо, я не выпью стаканчика.
— А почему это? Вас тоже заставляют на дороге в такую штуковину дуть?
— Нет, не потому. Наш организм не приспособлен к алкоголю. А ведь ваш стаканчик — это алкоголь.
Глод огорченно поморщился.
— Н-да, об этом часто говорят, много об этом рассказывают. Может, какая правда в этом и есть, но только не вся правда. Так или иначе, у вас, видать, не одни только преимущества перед нами. Верно, вы не так скоро стареете, зато и веселитесь не часто.
Диковина холодно возразил:
— Мы не веселимся, как вы сказали. Вообще не веселимся.
— Да разве это жизнь! — воскликнул возмущенный до глубины души бывший сапожник.
— Верно, не жизнь, — пояснил пришелец, — это наше, так сказать, законное состояние.
— А законы одни только жулики и прочая шваль выдумывают, — яростно взорвался Глод, наливая себе стакан, — странно было бы, чтобы у вас на Луне могло быть иначе.
— Луна от нас очень далеко.
— Это уж как тебе угодно. А по мне, это все чушь собачья.
Смелый образ явно не дошел до Диковины, которого в свою очередь заинтересовала та быстрота, с какой Глод осушил свой стакан.
— Черт побери, — восхитился Ратинье, садясь на стул, — что ни говори, а это куда приятнее, чем получить пинок в зад! Садись, Диковина, у тебя еще пять минут есть.
— Да, — подтвердил гость, садясь по приглашению хозяина. — Времени у меня больше, чем в прошлый раз: тогда я просто вылетел на прогулку, а теперь послан в командировку.
Глод из вполне понятной скромности не спросил у своего гостя, какова ее цель. Теперь, когда Диковина научился говорить по-французски, Глод чувствовал себя в его присутствии чуточку смущенным. Тот уже не был, как раньше, двуногим животным, кулдыкающим по-индюшачьи. Перед ним сидел человек менее фантастический, чем, скажем, Шерасс, и уж наверняка куда более способный, чем какой-нибудь здешний лоботряс. И раз уж он появился здесь, Глод, сгоравший от нетерпения задать ему десяток вопросов, ограничился пока что одним:
— Скажи, Диковина… Тебе ничего, что я тебя Диковиной зову?
— Пожалуйста, мсье Ратинье.
— У тебя, может, какое другое имя есть?
— Нет, мсье Ратинье.
— Вот-то, должно быть, веселье в ваших краях, даже по имени друг дружку назвать нельзя! Впрочем, это ваши заботы. Ах да, скажи, твоя тарелка работает на меди?
— В числе других металлов такой же прочности и на меди тоже.
— Значит, тогда без той гильзы от снаряда ты не мог бы взлететь?
— Да. Пришлось бы залетать в ремонтную мастерскую, но мне бы за это досталось. Тем более что я не так давно получил права на вылет в пространство. Я трижды заваливал экзамен на водителя тарелки.
Глод, не удержавшись, прыснул, уж больно это было по-человечески.
— Н-да, ты совсем как я, не слишком, видать, головастый!
Эта реплика, очевидно, не смутила Диковину, и он подтвердил:
— Точно… А это значит, что современные тарелки не для меня.
— Что же, есть еще побыстрее, чем твоя?
— Да.
— Воображаю, что же это такое! Прошлый раз я видел, как ты взлетаешь — фррр, и готово!
— Ничего особенного, мсье Ратинье. Я за три часа пролетаю расстояние от Оксо до вас, а это двадцать два миллиона километров. На час больше трачу, чем те, у кого хорошие тарелки. А моя просто кляча!
Понятно, что такое количество перечисленных километров оставило Глода равнодушным, так как он не мог физически представить себе миллиона, нигде не бывал дальше Германии, да и то не по собственной воле. Диковина пригорюнился, и бывший сапожник попытался его утешить.
— Да не хмурься ты! Будет тебе новая тарелка, та, что быстрее музыки!
— Это весьма сомнительно, мсье Ратинье. Похоже, что мне такой не видать. У меня нет нужного числа баллов. И диплома я не получу.
Глод кое-как прикончил второй стаканчик. Оказывается, и они там в небесах получают дипломы! Следовало бы посоветовать Диковине списать задание у какого-нибудь ихнего Луи Катрсу, если таковой там имеется, объяснить ему, что повсюду так делают, но Глод вовремя придержал язык. В конце концов, может, Диковина из доносчиков и растрезвонит по всей Вселенной, что, мол, отрок Ратинье поступил неблаговидно. Не так уж он с ним близко знаком, чтобы признаваться в своих прегрешениях. И все-таки приятно, что есть у них общая точка соприкосновения: оба мучились с экзаменами.
— Я-то знаю, — многозначительно произнес Глод, — что такое аттестаты и дипломы.
Эта фраза явно заинтриговала гостя, и он с минуту молчал. Глод бросил взгляд на стоявший на столе бидон.
— Стало быть, снова хочешь полную порцию супа?
— Если вы будете так любезны, мсье Ратинье, то да.
— Признаться, ты мне на нервы действуешь со своими церемониями, но суп тебе будет. Суп готов, осталось только шкварки поджарить. Сало, вернее сказать. Я ведь говорю по-французски не так, как в городах, не как разные там министры; как они залопочут, половины не поймешь.
И польщенный в своей поварской гордости, спросил:
— А вашим там, наверху, суп понравился?
— Его на анализ посылали.
— Что? Что? — с сомнением в голосе проворчал Глод.
— И нашли, что он вреден.
— Вреден? От моего супа, голубчик, еще никто на тот свет не отправился! Так-то вот! Первый раз в жизни слышу, что мой суп может кому вред причинить! Суп мой им, видите, нехорош! Ну и хрен тогда с вами!
Диковина, улыбнувшись своей неумелой улыбкой, постарался успокоить хозяина.
— Не кипятитесь, мсье Ратинье! Именно тем, что он хорош, он и вреден.
— Ничего не понимаю. Объясни ты мне, что это за штуковина получается. Даже в школе я в таких сложных вопросах не силен был.
И впрямь Диковина заговорил учительским тоном:
— Сейчас я вам все объясню, мсье Ратинье. Нас на Оксо всего десять тысяч. И всегда так, не больше и не меньше. И мы все исчезаем, достигнув двухсотлетнего возраста. Не умираем в том смысле, как у вас, но это трудно, пожалуй, будет объяснить. Мы составляем идеальное общество.
— Знаю, знаю, только тогда и веселье, когда зад припечет! — не утерпел уколоть Глод.
Посмотрев на него с любопытством, Диковина помолчал, потом снова приступил к рассказу.
— Кроме нашей, на Оксо нет другой животной жизни. И растительной тоже нет. Не то чтобы она была у нас невозможна. Просто она нам ни к чему. Питаемся мы вытяжкой из минералов. Понятно, мсье Ратинье?
— Понятно-то понятно, особенно когда подумаешь, что не так-то уж весело день-деньской сосать булыжники.
— Вопрос не в этом, мсье Ратинье. Вкус пищи нам ни к чему. Короче говоря, на Оксо все это ни к чему. В идеально устроенном обществе, мсье Ратинье, всякое излишество есть… излишество. И даже опасно. Именно так и оценили ваш капустный суп, хотя, само собой разумеется, все его химические ингредиенты у нас на планете имеются.
— Значит, вы сами можете его варить! На что тогда я вам нужен?
— Верно. Мы и пытались это сделать. Воспроизвели его с абсолютной точностью. Но чего-то не хватает, а чего — мы не поймем. Теперь мы ведем поиски, ищем, чего именно нам недостает.
Прежде чем стать сапожником, Ратинье был крестьянином, воспитание получал в то время, что называется, на навозе, на базарах да ярмарках. Откуда и вынес изрядный запас всяких уловок и хитростей. Раз это тарабарское племя заинтересовалось его капустным супом, не надейтесь, что так он и откроет им сразу секрет его приготовления и будет отвечать на все вопросы кому-то там, в небе, невесть где. Лучше уж поломаться для начала.
— Раз мой суп вам вредный, так не ешьте его! А чем именно он вам не угодил и почему это вы тогда так суетитесь?
— Если бы мы знали, мы бы не назначали комиссию для расследования. Хочу вам сообщить, что на Оксо только и разговоров что о вашем супе, мсье Ратинье.
Глод даже зарделся от гордости. Ему мерещилось, как целое сборище стариков в желто-красных комбинезонах спорят о достоинствах его супа, кулдычат по-индюшачьи, собравшись на форуме, а форум ему представлялся точь-в-точь как площадь Алье в Мулене. Если там есть такая, они устраивают перед префектурой манифестации, несут плакаты, на которых написано: «Требуем суп Глода!», «Суп Глода для всех!», «Свободу супу Глода!»
Он даже испугался нарисованной воображением картины. Во всем Гурдифло, в поселке, в Жалиньи варят точно такой же капустный суп, что и он. Даже Бомбастый, хотя он не из первых кулинаров. Почему же тогда на его долю, на долю Клода Ратинье, выпал такой всекосмический почет?
Устыдившись, он буркнул, будучи человеком честным:
— А знаешь, капустный суп каждая здешняя хозяйка готовит точно так же, как я. Да и некоторые мужчины тоже! Почему именно мой, Диковина?
— Если бы, мсье Ратинье, вы стали повсюду в округе болтать о летающей тарелке, я больше бы сюда никогда не вернулся, даже ни за какие ваши земные капустные супы. Вселенной правит закон молчания. Или, если вам угодно, таково правило, существующее в надзвездном мире. Вы меня позвали в первый раз, как позвали только что, и я прилетел. А если вы меня позвали, значит, вам можно довериться.
— Позвал, позвал, пусть будет что позвал… Шерасс тоже тебя таким же манером звал.
— Ваш зов был более доходчив, чем его.
И снова Глод чуть не задохнулся от тщеславия — оказывается, он побил своего соседа по части децибелов, и его спортивный рекорд официально зачтен. Он снова выпил стаканчик, на сей раз со вздохом сожаления по адресу своего гостя:
— Бог ты мой, до чего же хорошо, особенно если тебя жажда мучает! Ты, бедняга, и не знаешь, чего лишаешься. Видать, вы все на вашей звезде сильно недужные, если не можете вина выносить! Все-таки в один прекрасный день надо будет тебе попробовать! Для начала хотя бы полстакана…
— Нет, мсье Ратинье.
Этот вторичный отказ рассердил Глода.
— Ну и помрете так, придурками! И правильно сделаете! Придурок — это значит идиот.
— Знаю, знаю. Я ведь говорю, как вы говорите, мсье Ратинье. Ведь я у вас научился.
Глод принес из погреба кусок сала, отрезал от него здоровый шматок.
— Надоел ты мне со своим «мсье Ратинье»! Не могу слышать этого. Одни только жандармы смеют называть меня «мсье Ратинье»!
Он разжег печурку. На одном ее конце грелся капустный суп. Глод подтащил кочергой к дверце две головешки, поставил сковородку прямо на огонь, нарезал сала мелкими квадратиками. Острый аппетитный запах, смешанный с дымком, наполнил кухню.
— Короче говоря, — разглагольствовал Глод, хотя Диковина его не слушал, — короче говоря, на твоей звезде вы лопаете всякие гранулы, как нынешние свиньи и телята, а вкус у них такой, словно газетную бумагу жуешь. Прожить так двести лет, по-моему, это вовсе не жить. Если хочешь, пойди посмотри на нашу с Бомбастым свинку, так вот она, когда ей еду приносишь, во все рыло смеется, а ест почти то же самое, что и все христиане едят. Кроме шуток, когда она картошку уплетает, видно, что счастлива. Она тоже, как и я, рано или поздно помрет, но хоть при жизни свои нехитрые радости имела. А это доказывает, что вы поглупее поросенка, слышь, Диковина? На что это ты уставился?
Гость поднялся со стула и стал перед фотографией на стене, где были изображены молодожены Ратинье. Глод быстренько вывалил в суп зазолотившиеся шкварки вместе с вытопившимся салом, прикрыл кастрюлю крышкой и только после всех этих операций подошел к Диковине.
— Вот это мы с моей бедняжкой Франсиной в день нашей свадьбы. Хоть ты вот никогда не меняешься, я-то здорово переменился. Радовался, что твой зяблик, а у Франсины ляжки были розовые-розовые. А у тебя жена есть?
— У нас на Оксо вообще нет женщин.
— Да что ты! Правда, с одной стороны, это даже спокойней, возвращаешься из бистро, и сцен тебе никто не устраивает…
— У нас и бистро тоже нет.
— Тогда зря женщин у вас нету! Ведь единственное преимущество как раз и ни к чему! Но… если у вас баб нет… как же вы детей рожаете?
Он сам не знал, как у него хватило смелости задать такой вопрос. Диковина, заметив его смущение, тут же ответил:
— У нас общая родительница, которая самооплодотворяется химическим способом. В три месяца мы уже достигаем совершеннолетия.
Такое объяснение превосходило умственные способности Глода, представившего себе эту межпланетную пчелиную семью, у которой вместо родной матери какие-то химикаты или там кислота.
— Ты из меня полного кретина сделаешь со всеми твоими россказнями о белых воронах и пятиногих телятах!
Взяв носовой платок, он обтер с фотографии толстый слой пыли.
— Хорошенькая она была, моя Франсина. Как, по-твоему, Диковина, ведь правда милашка?
— Я не понимаю, что вы хотите этим сказать…
— Вы и впрямь в женщинах не разбираетесь, если обходитесь без них. Тем хуже для вас, потому что, кроме возвращений из бистро, о чем я тебе уже рассказывал, у них, у этих баб, не все так уж плохо. Иной раз даже словно в раю побываешь. Вот и у меня с Франсиной так было…
Растроганный воспоминаниями, он громко высморкался, и с фотографии слетело последнее облачко пыли.
— Померла она, — запинаясь, пробормотал он, — померла она, божье дитё. Уже десять лет, как померла. А ведь ей только шестьдесят минуло. Ох, Диковина, до чего же мне ее не хватает!..
Машинальным жестом он положил ладонь на плечо гостя, как человек человеку, как своему другу, и Диковина почувствовал какое-то непонятное волнение, неведомое на их астероиде, а также всю нелепость проводимого им расследования, ради которого его послали в командировку, ему с трудом удавалось держать себя в руках. Глод шмыгнул носом, снял с плеча гостя руку.
— Прости меня, Диковина. Это так, пустяки, ты этого понять не можешь, раз сделан ты из дерева, да не из того, из которого флейты вытачивают. Признаться, поджидая тебя, я сам ничего не ел, только кусочек сыра сжевал. Поужинаем вместе, сообразим вдвоем, как на троих.
На клеенку, покрывавшую стол, он поставил две мисочки, бросил в каждую по несколько ломтей хлеба, налил дымящегося супа.
— Да ты понюхай только, — возликовал он, до того восхитил его самого веселый запах супа, шибавший в нос, — да понюхай ты и скажи, хорошо ли пахнет! Пахнет, если хочешь знать всем, кроме ног. Садом пахнет, стойлом, свежими овощами, землей пахнет! Землей, Диковина, землей, слышишь? Землей. Да, сынок, землей после дуждя! Надо говорить дождя, а здесь у нас дуждя говорят, потому что так еще мокрее получается!
— Землей после дуждя, — старательно выговорил гость.
— Молодец! Говоришь как настоящий чуловек!
— Говорю как настоящий чуловек, — повторил Диковина.
— Славно. Да ешь ты, а не болтай зря. Суп надо горячим есть, ничего, если и обожжешь чуток свою старую гранулированную глотку!
Забыв о всех предосторожностях, сопровождавших первую пробу, гость мигом проглотил свою порцию супа, как заправский крестьянин, весь божий день промахавший на лугу косой. Глотал он бесшумно не в пример Глоду, который за столом и знать не желал всех этих парижских тонкостей. Они одновременно расправились с супом, и Ратинье, утерев усы кончиком тряпки, откинулся на спинку стула и промурлыкал:
— Так-то вот, братец! Такой доброй жратвы у бошей нету и не будет! Что скажешь, дружище?
— С каждым разом ваш суп все вкуснее и вкуснее, Глод.
Ратинье улыбнулся.
— Глодом меня называешь! Порадовал ты меня. Значит, хоть у тебя кожа как у ирокеза какого, нутро у тебя подходящее.
— Да, Глод.
— Славный ты малый, Диковина. А если к тому же и хватишь когда-нибудь стаканчик, тогда настоящим гостем будешь. Как зовется твое угодье-то?
— Оксо.
— Вот что, я тебе сейчас добрый совет дам, дружище: будешь со мной пить, тогда на своем Оксо вождем станешь. Важной шишкой. Воротилой. Есть там у вас, в вашем муравейнике, вожди?
— У нас Комитет Голов. Комитет Пяти Голов, он время от времени обновляется.
— Так вот, после стаканчика ты головой из голов станешь, самой первой головой!
Диковина, которому не доверили даже вождения тарелки новейшего образца, только рукой отмахнулся от этого проекта фантастического продвижения по иерархической лестнице. Он тоже удобно откинулся на спинку стула. «Ему только сигары в зубах не хватает, — с умилением подумал Глод. — Будь он с сигарой, лучшего бы депутата для Алье не найти».
Он налил себе до краев стакан вина, которое они с Бомбастым называли «дядюшка пол-литра» и окрестили 75-м, отхлебнул сразу половину, затем не спеша скрутил «добрую старую сигарету» и со смаком затянулся, чем опять-таки удивил гостя.
— А для чего это, Глод, вы пускаете дым?
— Ни для чего…
— Ни для чего?
— Только для того, чтобы после тарелки супа полное удовольствие получить. Вот для чего, и это уже не так плохо. Находятся умники, что утверждают, будто это не приносит пользы для здоровья. Но у нас, на Земле, с некоторых пор все, что, так сказать, экстра-класс, — считается вредным. — Он заговорщицки подмигнул: — Видать, что на всех планетах есть свои маленькие неудобства, так-то, сынок. — И добавил: — Прости, что я тебя сынком назвал, никак не привыкну, что ты мой ровесник. — И со вздохом: — Правда, это не одно и тоже. Тебе еще сто тридцать лет жить, а мне…
— А вам?
— Ну… от силы десяток… И то еще много! Поэтому-то и нужно вволю пить, вволю есть, вволю курить. Все едино подыхать, и без этого тоже подохнешь!
Во время всего этого монолога Диковина не спускал с хозяина глаз и, наконец, решился:
— Вот что, Глод… Мне хотелось бы рассчитаться с вами за ваш суп.
Весь окутанный, что твой Юпитер на своем Олимпе, облаками дыма, Глод загремел:
— Рассчитаться со мной! Хотелось бы мне это видеть! Ты меня рассердил, Диковина, больно ты мне сделал! Говорить за моим столом о деньгах? Пускай я не богач какой-нибудь, но я еще могу гостю тарелку супа предложить! Обижаешь, ох и обижаешь.
Диковина попытался остановить этот мальстрем упреков:
— Послушайте, Глод!
— Забери свои слова обратно!
— Да послушайте вы меня! Я не о деньгах говорю. Кстати, я о них только тогда узнал, когда проштудировал досье, касающееся Земли и ее обычаев. Добавлю в скобках, странных обычаев. Оказывается, существуют цивилизации, которые не мешало бы отряхнуть от пыли.
Глод нахмурился.
— Тебе-то, конечно, смешно. А у нас без денег не обойтись. И лично я ничего отряхивать, как ты выражаешься, не собираюсь.
Протянув руку, он снял с камина ветхую картонную коробочку, поставил ее на стол, открыл, извлек оттуда блестящую монетку.
— Знаешь, Диковина, что это такое?
— Нет…
— Это луидор. Нынче он стоит сотни и тысячи. Мне его мой крестный Ансельм Пулоссье подарил, когда… когда… — Покраснев до ушей, он добавил шепотом: — Когда я диплом получил… Все равно тебе не понять. Единственно, что ты можешь понять, так это то, что, будь у меня кило или два таких монет, я бы не знал забот до конца своих дней.
— Вы можете ее мне дать взаймы?
Глод поморщился. Такое не дают взаймы, все равно как жену или велосипед.
— Я отдам вам ее!
— А если ты больше не прилетишь?
— Прилечу.
— Да что ты с ней собираешься делать?
— Дайте мне ее!
Диковина упорно стоял на своем, даже в голосе его послышались властные нотки. Скрепя сердце Глод уступил, горько вздохнул, увидев, как его луидор исчез где-то в карманах комбинезона, и проворчал:
— Ты мне еще его потеряешь. Зря я его тебе показал.
Гость счел благоразумным переменить разговор, дабы рассеять облачко досады и тревоги на лице хозяина.
— Глод, вы сказали, что, когда я зову вас Глодом, вам это доставляет удовольствие. А что такое удовольствие?
— Еще бы мне не знать, что это такое! Ну и спросил тоже! Удовольствие оно и есть удовольствие! Ну, скажем, как красное вино. Или вот как суп! Понял?
— Отчасти. Когда я сказал, что хочу с вами расплатиться, я не имел в виду деньги. Я хотел доставить вам удовольствие. Скажите, Глод, если бы вы увидели Франсину, это доставило бы вам удовольствие?
От неожиданности Ратинье даже и думать забыл о своем луидоре. Он печально покачал головой, и впрямь раздосадованный этим предложением.
— Такими вещами, Диковина, шутить грешно. У нас мертвых чтут, пусть даже в ваших краях вы их в навоз бросаете.
Диковина искренне огорчился тем, что так расстроил своего землянина.
— Простите меня, Глод. Но это всерьез. Если вы захотите меня выслушать, вы увидите вашу Франсину живой.
— Живой, после того как она десять лет в земле пролежала? Ну и чудак! Или ты козу мне хочешь подсунуть?
Лицо Диковины независимо от его воли приняло высокомерное выражение, что обозлило Глода, решившего про себя, что его гость «пижона из себя строит».
— Нет, Глод, я вовсе не шучу. Отнюдь нет. Вы сами не умеете воссоздавать материю, но это еще не резон, чтобы считать нас летающими неучами. Мы давно-давно умеем воссоздавать материю.
Глод тупо пробормотал:
— А разве и Франсина тоже материя?..
— Конечно.
— Так ты можешь мне ее воскресить?
— Безусловно.
— Тогда почему же вы сами себя не воскрешаете? Если вы даже в двести лет помираете, значит, ничего вы не можете поделать, как мы…
— Нет, мы могли бы. Но наше исчезновение предусмотрено и принято законом. У вас такого закона нет.
— У нас один закон — божья воля! — с неожиданным пафосом воскликнул Глод, хоть и несколько отупевший и растерявшийся от всех этих ученых разговоров, подымавшихся во все более высокие сферы.
Обозлившись, Диковина забылся до того, что даже хлопнул по столу своей трубочкой, которой усыпил Бомбастого.
— Не знаю никакого бога! Не ломайте дурака, мсье Ратинье. Попрошу без древних суеверий. Хотите вы или нет вновь увидеть вашу жену в своем доме?
Нет, он, оксонианин, не шутил. Надо было слышать, каким подчеркнуто жестким тоном он произнес «мсье Ратинье». Желая поразмыслить минуту-другую и оттянуть время, Глод проглотил чуток вина, просто чтобы прополоснуть себе миндалины. Что и говорить, соблазнительно снова увидеть Франсину, которая была и хорошей женой, и хорошей матерью. Но что подумают в Гурдифло об этой чертовой чертовне? Что скажет ошеломленный Сизисс, столкнувшись нос к носу с покойницей, восставшей из праха? И в их округе, да и в самом департаменте перепутаются все представления о смерти. Вот-то пойдут сплетни, разрази меня гром, даже до Лурда слух дойдет!
Глод поделился своими сомнениями с Диковиной, который счел их вполне обоснованными. Даже новичок в земных обычаях не может совершенно не считаться с силой общественного мнения, каковое является базой и, так сказать, солью всех досье и проспектов касательно нашей планеты.
Тут Диковина встал со стула, подошел к Глоду и шепнул ему что-то на ухо, да так тихо, что даже пауки, раскинувшие свою паутину под потолком, и те ничего не услышали. Лицо Глода прояснилось.
— Это славно… раз так… что же, совсем не глупо… что ж, я не против… там посмотрим… стоило бы попробовать… Подожди-ка, я тебе кое-что дам!
И все из той же картонной коробки, откуда он извлек свой луидор, Ратинье вынул маленький полотняный мешочек, развязал веревку и показал Диковине прядь седых волос.
— Я срезал их у Франсины, когда ее в домовину клали, — пробормотал Глод, все еще не пришедший в себя от произнесенных шепотом слов гостя.
Диковина спрятал мешочек, и по лицу его пробежал проблеск улыбки, словно прорезанной поперечной пилой.
— Будьте любезны супу, Глод…
Ратинье налил супу в бидон, и житель планеты Оксо прижал его к груди, будто святую дароносицу. Тут Глод, не выдержав, зевнул; вопреки деревенским сплетням, он не имел привычки хлестать вино ночами.
— Ты меня, сынок, совсем с толку сбил своими историями, особенно в том, что касается «имени божьего». «Имя божье», запомни хорошенько, и на лбу начертано, от него и крестное знамение. Я тебя не провожаю, и без меня дорогу знаешь. Хлева не запирай, я сам запру. А скоро мы снова увидимся, старина?
— Скоро, старина Глод.
Диковина уже вышел прочь, но Ратинье поспешно распахнул дверь.
— Эй, Диковина!
— Да? — раздался в ночи голос счастливого обладателя сокровища, именуемого капустным супом.
— Слушай, Диковина, главное — не забудь вернуть мне мой луидор! У нас это называется долги отдавать.
Глава восьмая
Кот Добрыш старился, он уже стоял тремя лапами в могиле. И причиной тому была распутная жизнь. В любую погоду, даже тогда, когда добрый хозяин со двора собаку не выгонит, он один шатался по дорогам. А так как был он черный без единой отметинки, считалось, что он приносит несчастье. Впрочем, это было отчасти и справедливо. Так, например, он принес несчастье автомобилистам, которые ночью гнались за ним, чтобы раздавить, так просто, смеха ради. Но проклятый Добрыш сумел в последнюю минуту избежать нелепой кончины, нырнув в кювет, а машина со всего размаха врезалась в дерево. Таким образом на совести Добрыша оказалось четыре человеческих жизни, но это никак не отражалось на его самочувствии до последних дней. Но сейчас старичина — как называл его хозяин — справедливо расплачивался за излишний охотничий пыл и за беспутное поведение.
Нынче ночью его здорово отделал молодой двухлетний кот, который желал воспользоваться благосклонностью кошечки с фермы Мутон-Брюле и не собирался делить своих утех с каким-то ветераном, на целых одиннадцать лет старше его. А ведь еще год назад он мог бы загнать этого молокососа на самую вершину орешины.
Да сверх того, сегодня утром он раз за разом упустил двух мышей, что больно ущемило его гордость. Правда и то, что мыши с некоторого времени, как ему казалось, бегали все быстрее и быстрее, и Добрыш начал уже подумывать, не стал ли и он тоже жертвой прогресса.
Развалившись на траве, он грустно покусывал какую-то былинку, не чувствуя, впрочем, ее вкуса. В дом он входить не решался, с тех пор как там стало разить серой и припахивало костром. А старик Глод хоть бы чихнул разок. Если быть уж совсем откровенным, плевать Добрыш хотел на кошечку из Мулен-Брюле. Не лежало больше его сердце к любовным проказам и лазанию по крышам. Да и кошки тоже изменились к худшему, уже не исходил от них теперь, как прежде, пьянящий запах. Скорее по привычке, чем ради галантных забав, забредал он в Мулен-Брюле.
Он зевнул. Котенком он играл с солнечным лучом. А сейчас солнце играло на его полуоблезлой шерсти, жесткой, как матрасный волос, и Добрыш подставлял свои бока под яркие лучи для того только, чтобы излечиться от ревматизма. Мимо проползла улитка, но Добрышу даже в голову не пришло забавы ради перевернуть ее ударом лапы. Он скучал, ему прискучили неприятности. Он почесывался, впрочем без надежды на успех, ибо знал, что блохи так же неизбежны, как любовные огорчения, это своего рода денежные издержки котов.
Он вяло поднялся с травы и вдруг, без всякой видимой причины, начал мяукать как оглашенный, словно взывая к миру, который уходил от него, как полевые мыши. Не прекращая сиплого воя, он направился к сараям, сделав крюк, чтобы не встретиться с маленьким петушком, драчуном и задирой, увидел открытую дверь и решил лучше уж заглянуть к Бомбастому, потому что дома ему стало совсем невмоготу.
После неудачной попытки самоубийства Бомбастый почти не вставал с постели. Мазь, которой он пользовал своего осла, не исцелила его контузий, как ни рассчитывал он на ее волшебные свойства. Не помогли даже две отбивные котлеты, хотя Глод накрепко привязал их к больным местам. Шерасс обрадовался появлению Добрыша.
— Чего это ты так вопишь, бедолага? Я тоже воплю от боли, я ведь и спать не могу, только одну ночь и спал, а три без сна валялся, совсем как тогда, когда я случайно своротил себе челюсть. Тут все само собой понятно. Глода ищешь? Он в Жалиньи. За мазью поехал для моих синяков. У тебя, Добрыш, добрый хозяин. На его месте я бы давным-давно тебя дубиной промеж ушей хватил!
Порадовало его, что кот, вспрыгнув на стол, доел остатки лапши. И уж совсем был в восторге, когда Добрыш залез к нему на кровать и улегся рядышком. Сизисс погладил его. Под кожей у кота перекатывались дробинки, память о выстреле, настигшем в свое время Добрыша. Теперь это не повторится. Добрыш все реже и реже уходил с хутора, а скоро и вообще никуда уходить ему уже не придется.
— Бедная моя животина, — растроганно прошептал Бомбастый, — бедный ты мой дурачок, и говорить-то ты никогда не умел, а думаешь, я лучше тебя умею? Впрочем, если бы и умел, что бы ты сказал? Сейчас и говорить-то больше не о чем.
С превеликой осторожностью, чтобы не потревожить кота, он достал с ночного столика стакан вина, выпил его разом и тоже замурлыкал. В солнечном луче плясали мухи. Висевшие в углу часы ткали полотнище времени, шевеля своими стрелками. Потом они прокашляли несколько раз что-то невразумительное. А два старика — человек и кот — в конце концов уснули бок о бок.
Глава девятая
В полночь на поле Глода приземлилась летающая тарелка, более просторная, чем у Диковины. Из нее вышли двое жителей Оксо и положили что-то на траву, похожее скорее всего на тюк белья. И, не мешкая, оба инопланетянина взобрались в свою машину и исчезли так же стремительно, как и появились.
А несколько минут спустя от ночной свежести пробудилась Франсина. Она открыла глаза и ужаснулась. Она видит. Над ней мерцают звезды. Еще не придя в себя от изумления, она узнала луну. Она видит. Дышит. Ей холодно. Тут она вспомнила, что умерла. Что была мертва. Ее забила дрожь. Она живая. Уж живее она никогда и не была.
Ее, голую, завернули в какой-то плед, но откуда он взялся, из чего сделан, она не знала. У нее в шкафу никогда такого не было. Похоронили ее, как и всех добрых людей, в простыне, и теперь она уже окончательно ничего не понимала. Что произошло после ее смерти? Где она?
Она боялась шелохнуться из страха, чтобы на нее вновь не навалился уже знакомый ей беспробудный сон. Была тьма, но не та беспросветная и безмолвная тьма, что ее поглотила.
В той тьме, где она жила в эту самую минуту, были звезды, ибо это действительно были звезды там, наверху, и действительно где-то далеко на этой земле брехала собака. Трава, на которой она лежала, пахла травой, и туманом, и росою…
Наконец Франсина решилась приподняться на локте, решилась оглядеться. Сердце ее билось, потому что у нее снова было сердце. Она увидела невдалеке дом, который был, без всякого сомнения, ее домом. Желая окончательно испытать себя, она заговорила вслух, и от звука собственного голоса даже телу стало теплее:
— Ты, Франсина, как раз куда нужно попала. Бедная моя старушка, ты снова живешь, вот ты и воскресла…
Это слово напугало ее. Никогда никто не воскресал, особенно в их семье. Все, кого она провожала до могилы, никогда не выходили оттуда. В их краях в ходу была даже такая шутка: «Должно быть, им там по душе пришлось!» Тут только она осознала всю необычность случившегося с ней. Она смущенно подумала, что будут говорить о ней люди. Начнут судачить. Найдутся и завистники и будут шипеть: «Почему это она, а не кто-то другой?» А злыдни распустят слух, будто она переспала с самим сатаной и за это добилась такой привилегии.
— Ну что ж поделаешь, — проворчала она и сама себе удивилась, что ворчит, — в шестьдесят лет, дьявол их возьми, можно позволить себе воскреснуть, не спрашивая разрешения соседей! Пусть не воображают они, что я ради их удовольствия с собой покончу!
Просто она извинится перед ними, скажет, что не ее это, мол, вина, и она сама, черт побери, не знает, какая это муха ее укусила, что она вылезла из могильного рва.
Она нерешительно поднялась. Ноги вроде бы держали ее крепко. Она не чувствовала даже боли в груди, из-за которой слегла в постель и больше уже не встала. Все-таки, подумалось ей, это какая-то чертова карусель, и только с ней одной такое могло приключиться.
Она зашагала к собственному дому, зябко кутаясь в свое загадочное покрывало. Под босыми ногами поскрипывала влажная земля. Вдруг она растерянно остановилась. Глод, должно быть, спит. Значит, она его разбудит и страшно напугает. Чего доброго, он не вынесет удара и свалится мертвым. Впрочем, за это время, за то время, о котором она ничего не знала, может быть, и он тоже уже умер? При его любви к спиртному, а без нее он наконец-то получил возможность беспрепятственно спускаться за вином в погреб, в этом ничего удивительного нет…
Так или иначе, не может она торчать здесь, похожая в этом пледе на привидение. Полной грудью она вдыхала свежий ночной воздух. Как славно жить! А еще слаще снова начать жить, по крайней мере узнаешь, что произошло за время твоего отсутствия. Она смело вошла в полосу тумана, и туман расступился перед ней, и она снова увидела деревья, заметила, что Глод так и не удосужился вставить разбитое стекло в окошко над дверью амбара. Но… если он тоже помер, его здесь, понятно, нет… Там новые жильцы… Если они ее не знают, они решать, что она сумасшедшая, начнут орать, что нечего в такой час добрых людей беспокоить. И останется она на дороге… А если ее знают, можно будет хоть с ними поговорить, когда страх их отпустит…
Тут-то она и подумала, что жизнь не всегда такая уж веселая штука. Что иной раз она и не плоха, но не всегда, и что к ней что-то слишком быстро возвращаются былые привычки.
Франсина чихнула. Чего доброго, она подхватит здесь простуду, снова тяжело заболеет, если будет разгуливать и дальше в таком одеянии. Поэтому-то она и решила ускорить свое появление на сцене и заторопилась. Движения ее были легки, тело послушно, и она с удивлением подумала, как это ей удалось так хорошо сохраниться после столь длительного пребывания на погосте. Значит, в этих знаменитых корешках одуванчиков, которыми только и могут питаться покойники, действительно много витаминов? Дойдя до дверей дома, она легонько постучала, шепотом позвала:
— Глод! Глод!
Со времени последнего посещения инопланетянина Глод спал вполуха, как кошки. Он приподнялся, прикидывая, уж не снится ли ему сон. Задыхаясь от волнения, он спросил:
— Кто это там? Кто такой?
Франсина ответила полным голосом:
— Не пугайся, главное, не пугайся! Это я, Франсина! Меня воскресили, сама не знаю как, но, как видишь, воскресили!..
И хотя Глод в глубине души питал смутную надежду, ждал этого, но, когда это свершилось, стало правдой, дыхание его пресеклось. А за дверью нетерпеливо переминалась Франсина, та самая Франсина, которая навсегда покинула его и которую десять лет назад вынесли вперед ногами.
— Открывай, Глод! Здесь не так уж жарко!
Ратинье потер себе грудь, где как бешеное билось сердце, поднялся, стал натягивать панталоны, попал правой ногой в левую штанину. Его била дрожь, хотя был он во фланелевом жилете и кальсонах. Он повернул ключ, и в комнату вошла Франсина, само собой разумеется, хорошенькая, как в свои двадцать лет, потому что ей и было двадцать…
— Да не может этого быть, — заикаясь, пробормотал Глод, запирая дверь, силком перенесенный на пятьдесят лет назад. В оцепенении он не спускал с Франсины глаз. Видел он ее в последний раз в гробу, застывшую, старую, иссохшую от болезни, а сейчас перед ним стояла совсем новая женщина, волнующая, молодая, свежая, другими словами, та, которую он полюбил. Франсина тоже глядела на него. Он-то не слишком изменился. Они не осмеливались вступить в разговор, подавленные необычайностью переживаемых минут. Машинально Франсина села как раз на то место возле плиты, где она обычно сидела.
— Ну вот она я, — растерянно повторила воскресшая из мертвых.
— Вижу…
— Ты не очень испугался?..
— Никак не могу поверить, что ты здесь, ты говоришь…
— Лучше и не стараться понять, что к чему, а то еще ум за разум зайдет.
В конце концов она подумала про себя, что выглядит он не таким уж испуганным или оглушенным ее появлением, что полагалось бы ему сильнее испугаться, что принял он все это нормально и что по таким пустякам его удар не хватит. Но если не считать того, что он выпивал и сапожничал, всю свою жизнь он прожил без забот, без хлопот, совсем как комнатный цветок. Не следует с него много спрашивать. У него и воображения никогда не было. Однако сейчас он ел ее глазами и сказал даже что-то уж совсем необыкновенное:
— До чего же ты красивая, Франсина! А я и забыл совсем, что ты была такая красивая!..
Эти глупые слова причинили ей боль, и она пожала плечами. Стало быть, он по-прежнему пьет запоем, даже заговариваться начал.
— Не смейся надо мной, Глод, нехорошо издеваться над теми, кто пришел, откуда пришла я, до сих пор опомниться не могу.
Тут Глод догадался, что она и представления не имеет о своей теперешней внешности. Он улыбнулся, предвкушая, какой это будет для нее сюрприз. И, сняв со стены зеркало, перед которым брился, протянул ей.
— Держи, Франсина! А ну-ка посмотри, какая ты хорошенькая!
Испустив душераздирающий крик, Франсина разом утратила свежий румянец. Зеркало задрожало в ее судорожно сжатых руках. Бледная, как покойница, каковой, в сущности, она и была, Франсина, трепеща всем телом, разглядывала эту белокурую девушку, каковой она тоже была давным-давно, когда-то в бездне времен. На сей раз это было уже слишком для нее. Она потеряла сознание, и зеркало спаслось только потому, что упало на шлепанец Глода и не разбилось на мелкие кусочки, суля семь лет несчастий. Франсина соскользнула со стула на пол, покрывало ее распахнулось, и Ратинье заметил, что грудь ее тоже воскресла, тоже стала совсем как у молодой.
— Франсина, Франсина! — завопил он. — Уксусу! Где уксус, черт бы его побрал?
Он поднял Франсину, снова опустил ее на пол, а сам бросился к буфету, схватил там бутылку уксуса, натер им виски своей жены, вернее, своей невесты.
— Эй, мать! — бормотал он. — Сейчас помирать не время!
Диковина, оказывается, понял, что возвращение шестидесятилетней Франсины произведет в округе слишком большой переполох и вызовет слишком много толков. Поэтому-то он и предложил Глоду воскресить его двадцатилетнюю супругу такой, какой изображена она была на фотографии, снятой в день свадьбы. Таким образом, молодая женщина могла сойти в глазах людей за внучатую племянницу Глода или за какую-нибудь еще родственницу, приехавшую из города присматривать за стариком. Это предложение соблазнило Ратинье, раз воскрешение усопшей не посеет паники во всем департаменте, даже Бомбастого не поставит в тупик.
— Эй, мать!
Щеки Франсины порозовели, и ее супруг сообразил, что будет не слишком-то галантно называть «матерью» эту аппетитную блондиночку. Поэтому он поспешил исправить свою бестактность:
— Франсина, крошка моя! Тебе лучше?
Франсина подняла веки, быстро прикрыла себе грудь концом пледа и взглянула на Глода. Она вздохнула. Да, это уж слишком, вот так перескакивать от чуда к чуду. Мало того, что она уже не покойница, вдобавок ей двадцать лет, и эти двадцать лет неслись по ее жилкам со скоростью рысака. Только теперь она поняла, откуда взялась у нее такая прыть тогда, на поле. Радость затопила ее, и она улыбнулась, не видя склонившегося над ней седоволосого старикашку, от которого разило вином. Вдруг ее повело. Не может быть, чтобы она вышла замуж за этого прадедушку. И она невольно отшатнулась.
От Ратинье не укрылся ее жест.
— Что с тобой, Франсина? Это же я, Глод! Ты меня не узнала, что ли?
Франсина испуганно пробормотала:
— Узнала… Но какой же ты старый!
Глод деланно рассмеялся:
— Да уж постарше тебя!
— И очень жаль.
— Я тут ни при чем…
— Тем хуже…
Она схватила зеркало, ошеломленно уставилась на свое отражение, чувствуя, как ширится в душе какое-то ни на что не похожее счастье, ощущая биение молодой и хмельной крови в каждой своей жилочке. Воскреснуть из мертвых — это уж само по себе неплохо, но вернуться на землю, зная, что перед тобой вся жизнь, — это так прекрасно, что она заплакала от радости.
— Не надо плакать, Франсина!
— Верно! Но я так счастлива!..
— Я тоже. Ведь я же тебе говорил, что ты красивая.
— Да, я красивая! Очень красивая! Даже лучше, чем на фотографии. Я уж совсем забыла, какой я раньше была, только карточка и напомнила. Ах, Глод, как чудесно, когда тебе двадцать лет, как чудесно быть красивой!
— Да, Франсина, — смущенно прошептал Ратинье, — надо полагать, это не так уж неприятно…
Франсина вскочила, смеясь, закружилась по комнате — совсем как дурочка, подумалось Глоду. Она тряхнула своими белокурыми кудрями, потрогала закутанные в плед груди и пришла в восторг, вспомнив, что еще не рожала детей. Сияя от счастья, она воскликнула:
— Глод! Я живу! Я есть хочу! Ведь это потрясающе — хотеть есть!
— Я лично, — буркнул Глод, — после всех этих событий предпочитаю выпить.
Это любовное признание отрезвило Франсину. Она печально оглядела комнату и сурово бросила:
— Бог ты мой, какая грязища в этом стойле!
— Ты ведь знаешь, я тебя не особенно ждал. Могла бы меня предупредить…
— Хватит издеваться, ничего тут смешного нет! А посуда! А пыль! Смотреть противно! Да еще козлом воняет!
— Ты же сама понимаешь, — оправдывался Глод, — когда в доме хозяйки нет, все не так идет…
— Прямо свинарник! — причитала юная девица. — По-моему, занавески так и не стирались с тех пор, как я их десять лет назад выстирала.
— Да-а… — признался Ратинье, он никак не ждал, что вот так сразу возобновятся бури и шквалы былых семейных сцен.
Он жалобно взглянул на бутылку, но налить себе вина не посмел. Присутствие Франсины его смущало. В семьдесят лет он поддался чарам этой болтушки, которая по возрасту вполне могла бы быть его внучкой, но все перепуталось, так как он мог отпраздновать с ней золотую свадьбу… Он подкрался к бутылке, ему удалось даже налить стакан вина. Но, отхлебнув глоток, он чуть не поперхнулся, так напугала его ругань новоявленного ангела их семейного очага:
— Пьянь! Алкаш! Пропойца!
Побагровев от негодования, Глод пошел в наступление:
— Послушай, Франсина, оставь ты меня в покое! Всего полчаса назад воскресла и уже командуешь в доме!
— И это ты называешь домом? Землянка — вот это что! Траншея четырнадцатого года! Хоть яйца-то, папуас ты этакий, в хозяйстве есть?
Франсина всегда была чересчур строга насчет хозяйства и чистоты. Это соображение успокоило Глода, смягчило его гнев, он простил жене ее вспышку и сказал примирительным тоном:
— В буфете лежат. Там, где ты обычно клала. Несколько курочек я еще держу.
Взяв четыре яйца, она стала сбивать омлет, все еще полная яда.
— Только яйца здесь и можно есть, не нажравшись грязи!
— Иной раз я подметаю… — сконфуженно пробормотал Глод.
— Сразу видно! Ручкой от щетки!
Она отдраила сковородку до блеска, поставила ее на огонь, кинула туда комочек масла, предварительно понюхав его с гримаской:
— Ладно. Не будем слишком привередливы. И хватит мне кутаться в это покрывало, неизвестно откуда оно и взялось. Куда ты дел все мои вещи? Тряпичнику небось продал?
— Может быть, кто бы и продал, а я нет, — в порыве благородного негодования запротестовал Глод. — Я мертвых уважаю. Все сложил в чемодан и отнес на чердак.
— Завтра за ним слажу. А сейчас твою рубаху надену. Посмотри-ка за омлетом.
Франсина открыла шкаф, снова ругнулась, увидев царивший там живописный беспорядок, и остановила выбор на просторной синей рубахе, приходившейся ей ниже колен. Прежде чем скинуть с себя плед, она ворчливо потребовала:
— Глод! Отвернись!
— Что я, тебя голую не видал, что ли! Даже в теперешнем твоем возрасте!
— Прошу тебя, отвернись. И не начинай, пожалуйста, мне возражать на каждом шагу.
Глод повиновался, проворчав, что с кладбища, видать, возвращаются не в таком уж хорошем расположении духа.
Скинув покрывало, Франсина с восхищением разглядывала себя голую, разглядывала ноги, бедра, живот, грудь, горько сетуя, что нет у них зеркального шкафа, где бы она могла видеть себя не по частям, а всю победоносную красу двадцатой своей весны. Со вздохом сожаления она натянула рубашку, стыдливо застегнувшись до самого подбородка. Поела она с отменным аппетитом, как и подобает молодым, а она и была теперь молодой.
— Хлеб, пожалуй, черствоват, — извинился Глод.
— Ничего, зубы у меня хорошие.
И действительно, все зубы у нее были на месте, а ведь когда ее клали в гроб, оставалось их всего-навсего пять, не то шесть. Глод зевнул во весь рот.
— Прости, Франсина. Это все от волнения. Даже ноги подкашиваются.
— Волнение! Рассказывай еще! Это все от брюха, да, да, воображаю, сколько ты винища выхлестал, пока меня здесь не было!
Глод промолчал, не желая еще сильнее отравлять радость их встречи. Франсина, не спросясь, сменила постельное белье, хотя простыни и месяца не пролежали. Вопреки своей воле, Глод не мог удержаться и все смотрел на зад Франсины, взбивающей пуховик. Уж давным-давно он не видел под своей крышей красивых молоденьких девушек. Даже уши у него запылали.
Когда они легли, Франсина с ужасом почувствовала, что чья-то заскорузлая ладонь гладит ее бедро.
— Глод! Что это ты делаешь?! — взвизгнула она.
Сдавленным шепотом Глод пояснил:
— Как что? Хочу тебя ублажить…
Она рывком села на постели, зажгла свет и закричала, побледнев от злости:
— Нашелся ублажатель! Меня, видите ли, собрался ублажить! Нет уж! Да ты посмотри на себя! Неужто ты воображаешь, что я в свои двадцать лет со стариком буду спать!
— Но, Франсина… ты ведь моя жена! А жену ублажать нужно, так уж повелось.
— Только не когда ей двадцать лет, а ему семьдесят, старый ты распутник, старая свинья, старый грязнуля! Если ты, старый сатир, снова ко мне полезешь, я пойду на сеновал ночевать!
— Это уже чересчур! — возмутился оскорбленный Глод.
— А ну, сунься только, я о твою башку, дедуля, ночной горшок разобью!
Она потушила свет, свирепо повернулась на бок, поближе к краю кровати. А Глод, раздосадованный, обиженный Глод еще долго лежал без сна. Лежал достаточно долго, чтобы начать думать о другом. А думал он о том, что ему, единственному на всем свете, повезло — лежать рядом с прямым конкурентом Лазаря.
— Послушай, Франсина!
— Опять! Нет, оно и значит нет!..
— Да я не о том. Хотел бы знать…
— Что?
— …видала ли ты бога?
Франсина вздохнула, надо же спрашивать такие глупости…
— Ох, старый ты болван!
И это были последние слова, и так провели они свою вторую брачную ночь, повернувшись спиной друг к другу, словно случайные попутчики.
Глава десятая
Утром Глод открыл глаза, как открывают ставни. В постели он был один, как и всегда. Проснулся он в дурном расположении духа, словно избитый, и подумал, что ему, видать, приснилось, что его Франсина вернулась, а она лежит себе тихонечко в своей могиле, под горшком герани.
Но шум над его головой свидетельствовал, что никакой это не сон и что его чумовая женушка роется на чердаке в чемодане. Он чертыхнулся, проворчал что-то не совсем лестное, посылая ее по всем адресам, и так и разэтак, до сих пор он не мог простить ей, что нынче ночью был отстранен от выполнения супружеских обязанностей. Обязанностей, которые он выполнил бы неплохо, так как в данных обстоятельствах он тоже чувствовал в ногах молодую силу двадцатилетнего парня. В тех самых ногах, которые сейчас, поутру, уже плохо ему служили.
— Чертовы бабенки, — взорвался он, — сколько времени я и не вспоминал обо всех этих шалостях, жил себе преспокойненько, как святой Батист, и вот вам — является, голову мне заморочила и разморачивать не желает! Молодые вообще ни на что не годны и все такое прочее!..
Продолжая воркотню, он и не думал вставать с постели, даже когда пред ним предстала резвушка Франсина, наряженная по последней моде тридцатых годов. В старом тряпье она разыскала очаровательное платьице леденцово-розового цвета с зелеными помпонами на плечах. Кроме того, надела белые носочки и сандалии, которые успели за это время основательно задубеть. Ратинье ядовито хихикнул, наконец-то настал час его мести:
— Ничего не скажешь, прямо по последней моде!
Однако, будучи в превосходном расположении духа, Франсина в тон ему посмеялась над собой:
— Совершенно верно, Глод! Ну чистое пугало! Но не могу же я появиться в Жалиньи в чем мать родила!
— Ты в Жалиньи собралась?
— Надо же мне, в самом деле, купить что-нибудь из одежды. Ты сам видишь, мне нечего даже надеть.
Глод подумал о предстоящих расходах, но не посмел выразить свои мысли вслух и молча проглотил горькие сетования. Но Франсина обо всем догадалась:
— Не бойся, я сэкономлю на лифчике! Теперь они сами держатся!
Так как дверь она за собой не закрыла, в комнату вошел Добрыш, заинтригованный непривычной суетой в доме, он с радостью узнал свою хозяйку и вежливо потерся о ее ноги. Его оттолкнули кончиком сандалии, сопроводив этот не совсем гостеприимный жест визгом:
— Господи боже мой, эта грязная скотина все еще здесь? Немедленно застрели ее! Разве ты сам не видишь, что кот весь запаршивел? Разве можно в доме такую заразу держать?
Добрыш, обладавший безошибочным чутьем по части любых интонаций, счел более благоразумным укрыться в пристройке.
Заваривая кофе, Франсина спросила:
— Кстати, раз уж мы заговорили об этой грязной скотине, скажи, а Бомбастый жив или нет?
— Жив. Сейчас он, правда, приболел. Если ты его когда увидишь, скажи, что ты моя внучатая племянница или вообще какая-нибудь родня…
— Я и сама уже об этом подумала, не стоит лишнего шума подымать.
Оскорбленный в своих лучших чувствах, Глод молча встал с постели, присел к столу. Франсина подала ему чашку кофе и даже поставила на стол бутылку сливовой наливки. Такое внимание растрогало Глода.
— Славная ты женщина. Но, учти, я это заслужил. Я тебе на кладбище то горшок герани, то горшок бегонии приносил. Смело скажу: твоя могилка была не хуже других ухожена.
— Да ну тебя! — нетерпеливо отмахнулась Франсина. — Давай о чем-нибудь другом поговорим, ладно? Не желаю слышать разговоров о мертвецах!
Кофе оказался слишком горячим. Глод охладил его, долив чашку сливянкой. После первого же глотка он оживился, расцвел, напыжился от законной гордости:
— Ладно, ладно, не будем больше о геранях и бегониях. Но если ты сейчас жива, так неплохо бы тебе знать, что воскресла ты только благодаря мне!
— Благодаря тебе?
Глод вкратце рассказал ей про летающую тарелку и про Диковину. Когда он закончил свою волшебную сказку, Франсина пожала плечами, и ее груди, словно высеченные из теплого мрамора, дрогнули под платьем.
— Ты, надо полагать, бочками пил, бедный ты старикашка, пока меня здесь не было!
— Клянусь головой!
— Покорно благодарю, меня не проведешь! И не строй из меня идиотку со всей твоей чепухой, с летающими тарелками и марсианами.
Ратинье возмутился:
— Учти, марсиане и жители Оксо — две большие разницы.
— А сколько их всего для пьянчуг?
— Ты, черт возьми, в летающие тарелки не веришь, но если ты воображаешь, что так же легко воскресить человека, как чихнуть, то это уж слишком!
— А в это я верю, раз своими глазами вижу!
Уязвленный Глод сдался и с яростью капнул в кофе крупную слезу сливянки. Франсина тщательно уложила волосы перед зеркалом. Опрыскала свою миловидную мордашку туалетной водой «Добрый пастырь» и бросила:
— Пока меня не будет, ты бы со стола убрал и чашки помыл. И не вздумай ходить к своему дружку и напиваться с ним, а лучше вымой-ка пол, а то не видать даже, какого цвета плитка!
Глод так и застыл от неожиданности, склонившись над своим питьем. Никогда еще с ним не обращались столь неуважительно. Его хитрюга жена-внучка заметила это и фыркнула:
— Да, да, милый мой Глод! Отныне ты меня не будешь больше ублажать, а я не собираюсь гнуть на тебя спину, как негритянка. Это же нормально! Всю жизнь я штопала тебе носки, стирала в речке белье, кухарила, подтирала ребятишек. Я и жизни-то не видела по-настоящему. Пролетела она как молния, мелькнула, и все. Как по-твоему, пропащая жизнь — это для женщины достаточно? Неужели ты воображаешь, что я снова впрягусь в лямку, раз мне выпала такая неслыханная удача начать новую жизнь? Что я, полная идиотка, что ли? Сейчас мне охота смеяться, петь, веселиться, а потом, может, и любовью подзаняться. Кончено, Глод, с барщиной! Понял? Нет, вижу, ничего ты не понял, но это неважно, зато я за двоих поняла. До свиданья, Глод. Если я опоздаю к обеду, поступай так, как если бы я была еще на кладбище. Куда, кстати, ты девал мой велосипед?
Эта горделивая речь совсем омрачила Ратинье. Но бывший сапожник сдержался. Он охотно бы закатил парочку пощечин своей супружнице, чтобы ее утихомирить. Такое прежде бывало, не часто, но бывало. Но сучонка стала теперь проворнее и сильнее его. Если кто и получит пощечину, так это он, седовласый, так это собственная его щека. Он злобно проскрипел:
— Продал я его, твой велосипед. Согласись, что в гробу редко кто на велосипедах раскатывает!
Эта новость не омрачила веселья Франсины, и она беспечно махнула рукой:
— Ничего, в мои годы и автостопом можно доехать. Дай-ка мне деньжат.
Прекрасный лик патриарха исказился:
— А сколько тебе?
— Думаю, что теперь жизнь стала дороже, так же как и моя жизнь. Дай, сколько мне нужно. Если у человека есть жена, он обязан ее кормить и одевать.
— Жена, которая ни на что не годна, — это не жена! И потом, я только на пенсию по старости и живу…
— Пенсия по молодости еще меньше, дорогой дедуля!
Испытывая невероятные муки, со вздохами, способными расколоть столешницу, «дедуля» вытащил из бумажника одну за другой три бумажки, и Франсина без зазрения совести прямо-таки вырвала их у него из рук. И, прокружившись в вальсе до дверей, обернулась, послала удрученному старику воздушный поцелуй явно в насмешку.
— Жена, которая ни на что не годна, знаешь, что она тебе скажет, Глод? Нет, не знаешь? Так вот подумай хорошенько! Ответ найдешь на дне стакана.
Так бы и швырнул ей в физиономию чашку, да в чашке еще оставалась сливянка. Впрочем, и Франсина была уже далеко, на шоссе. И пела она во весь голос. В раздумье Глод теребил усы, уставившись на самый обыкновенный мушиный помет на стене. Наконец он пробормотал, покачивая головой:
— Хорошо, детки мои! Хорошо, братец! Славное начало.
А Франсина все пела, шагая по шоссе. Ей нравилось ощущать свои мускулы. Нравилась белая, как у всех блондинок, кожа. Буйная грива волос, разметанная по плечам. Вдруг ей захотелось обнять мальчика, и под мерзким платьишком даже в животе жарко стало. Ей нравилась весна, от которой было так тепло на сердце и которая с восхищением любовалась этой столь же юной весной, широко и легко шагавшей по гудрону. За спиной она услышала шум машины и решительно подняла руку. Это оказалась малолитражка, и за рулем сидела девушка примерно ее лет. Автомобильчик остановился, девушка высунулась в окно и обратилась к Франсине на «ты»:
— Куда путь держишь?
— В Жалиньи.
— И я тоже туда. Влезай…
Франсина села рядом с девушкой и, как только машина тронулась, начала без умолку болтать:
— Вчера я платье разорвала. И выкопала в чемодане этот розовый ужас, посмотри-ка, на что я похожа. Думаешь, я найду что-нибудь в Жалиньи? Денег у меня не так-то уж много…
— Только не вздумай платье покупать! Купи джинсы и майку.
— Нет, правда? — недоверчиво спросила Франсина, которая, само собой разумеется, в жизни не носила брюк.
— Ну конечно! Это же красиво! А ты, должно быть, не здешняя, то-то я тебя никогда не видела.
— Я из Мулена приехала, присмотреть за дедушкой, за Глодом Ратинье.
— А ты посади старого алкаша на одну воду, сразу он у тебя взбодрится. А как тебя звать?
— Франсина, в честь бабушки.
— Я ее еще помню. Мне было десять, когда она, бедняжка, умерла. Н-да, невеселая у нее была жизнь, как, впрочем, у многих в те времена. А меня зовут Катрин Ламует, родители мои живут в Мутон-Брюле, я тебе потому это говорю, что ты не знаешь.
Франсина улыбнулась про себя, вспомнив эту самую Катрин Ламует, на редкость уродливую десятилетнюю девчонку. Теперь она явно изменилась к лучшему и даже не без шика щеголяла в джинсах и майке, как раз таких, какие посоветовала купить своей попутчице.
В Жалиньи она заявила, что непременно пойдет с Франсиной в магазин готового платья, даже вместе с ней зашла в кабинку для примерки. А Франсина, которая как-никак принадлежала совсем к иному поколению, постеснялась раздеваться в присутствии новой своей товарки. Но та ее подгоняла.
— Чего ты мнешься? Не бойся, я тебя не изнасилую, я для другого создана!
Девушки расхохотались, и Франсина стащила наконец платье через голову. Катрин от восхищения даже присвистнула:
— Да у тебя, детка, чертовски красивая грудь! И я бы от такой не отказалась. Все парни обалдеют. Джинсы сидят прекрасно. В талии как раз и здорово обтягивают зад.
Франсина натянула также облюбованную ею белую майку. От плеча к плечу шла надпись по-английски, но что означали эти красные буквы, она не поняла: «Make love, not war»[29].
— Точка в точку! — заявила Катрин.
Но Франсина запротестовала, вся залившись румянцем.
— Да нет! Вовсе не точка в точку, как ты говоришь. Все насквозь видно!
— Что видно?
— Ну… кончики грудей.
— Велика важность! Майки для того и делают, чтобы все торчало. Все парни с ума посходят. И так куда красивее.
— Нет, ты это всерьез?
— Ей-богу, по-моему, ты вовсе не из Мулена! Прямо в дебрях каких-то росла! Бери эту майку, все равно лучшей для всех твоих прелестей не найдешь.
Франсина купила еще и босоножки, а розовое свое платье оставила владельцу магазина на пыльную тряпку. Этот торговец смотрел на нее как-то двусмысленно, совсем не так, как смотрел раньше, когда она приходила в магазин за вельветом на брюки Глоду.
— Видела папашу Безюня? — фыркнула Катрин, когда они вышли из магазина. — Еще минута, и он бы не выдержал! Сейчас побежит охлаждать свой пыл в Бесбр! Давай скорее, я ужасно хочу пить, угощу тебя кока-колой.
На террасе «Кафе Бурбонне» трое молодых людей в костюмах мотоциклистов вели беседу с двумя девчушками, закутанными в пестрые занавески в стиле Индиры Ганди. Парни завопили:
— Эй, Катрин, иди к нам!
— Кэти, иди же и подругу свою веди!
— Это не ее подруга, — заметил третий тоном ниже, — нет, черт возьми, это дочка Брижит Бардо.
Если бы Франсина нуждалась в дополнительных доказательствах своей красоты, она бы получила их, взглянув на вытянутые физиономии тех двух девушек в сари. И вдобавок еще три пары мужских глаз, как бы прикалывавших один за другим значок к ее груди.
— Видишь, как тебе эта майка идет, — шепнула ей на ухо Катрин, подсела за столик к молодым людям и усадила рядом с собой Франсину. И добавила, гордясь своим открытием: — Эй, Люлю! На что это ты уставился? Возьми этажом выше.
Тот, кого звали Люлю, проворчал, что у некоторых тут как раз чересчур много, а у других чересчур мало. Индианки приняли этот намек на свой счет и окончательно надулись. Робер, тот, что понизил голос при виде Франсины, нагнулся к ней, глядя ей прямо в глаза. Катрин предупредила товарку:
— Ты с ним поосторожнее, Франсина. Он из всей этой тройки самый хитрый.
Но и самый занятный. Он пользовался своей улыбкой, как акселератором при выходе из виража. Франсине эта улыбка досталась прямо в лицо. И одновременно нежнейшее признание в любви:
— Я бы тебя хорошо шарахнул, Франсина…
А Франсина подумала: очевидно, методы ухаживания тоже претерпели с 1930 года немало изменений.
В половине первого Глод смирился, присел в углу стола и мрачно стал жевать кусок сала. Франсина не вернулась к обещанному времени, эта Франсина только осложнила его жизнь, нарушила весь ее привычный распорядок. К тому же он с трудом переносил ее бунтарские речи. Здорово она переменилась там, в своей домовине. Добрая жена, добрая хозяйка, добрая стряпуха, добрая мать семейства вернулась под их общий кров на огненных крыльях мятежа.
Ратинье упрекнул за это Диковину, должно быть, инопланетянин ошибся и переложил лишку в свою смесь, а может, просто перепутал колбы. Сразу видно, что он ничего не смыслит в женщинах! Если не способен управлять летающей тарелкой последней модели, значит, и тут, когда станешь воссоздавать материю, все сделаешь шиворот-навыворот.
Вышеупомянутая материя явилась только в час со свертком в руке. Глод, в ожидании супруги шагавший взад и вперед по двору, завизжал как поросенок, которого ведут холостить.
— Что это ты так вырядилась, даже в муленском борделе не смеют в таком виде щеголять! Ты совсем, Франсина, спятила, через эту майку обе титьки видать, ты бы еще с голой задницей разгуливала! А что это на тебе за штаны такие? На кладбище тебя, что ли, обучили таким идиотским штучкам?
Смеющуюся, веселую Франсину не смутил этот взрыв негодования:
— Не сердись, папуленька, не сотрясай зря воздух! Не можешь ли ты быть более cool[30], а? Нельзя ли полегче?
Глод старался даже в ярости быть величественным.
— Да ты погляди на себя, распутница!
— Скажет тоже! Ну прекрати стрельбу, папочка, а то у меня мороз по коже!
Ратинье провел ладонью по усам, сперва слева направо, потом справа налево, и мстительно бросил:
— А пол я не помыл!
С прелестных розовых губок Франсины сорвался какой-то неопределенный звук, потом она насмешливо произнесла:
— Плевать я хотела. Живи себе в грязи, старичок! А я позавтракаю на свежем воздухе.
Она развернула сверток, достала простоквашу, хрустящий картофель, бутылку кока-колы. Глод вознегодовал:
— И ты будешь эту дрянь жрать? И пить это? Да это же еще хуже, чем незрелые сливы! Ведь живот схватит!
— Cool, говорят тебе, cool. Выпей свою литровку и забудь обо мне! Молодым — молодые, старым — старые! Чао, бамбино! Адиос, амиго!
С этими словами она повернулась к нему спиной и, пританцовывая, направилась в поле. Глод ничего не понял из нового ее лексикона, которым эта молодая негодница расцвечивала свою речь. Вдруг он завопил:
— Франсина, а мои деньги!
Вместо ответа она звонко шлепнула себя по заду и весело крикнула:
— Вот они где, твои деньги!
Такая наглость окончательно сразила Глода, и, понурив голову под тяжестью враждебного мира, он побрел к больному соседу, надеясь хоть там найти утешение.
Бомбастый, хоть и чувствовал себя много лучше, все еще лежал в постели.
— Здорово мне помогла твоя мазь из бычьей ноги. Завтра непременно встану. Но что у тебя за физиономия, дружище? У тебя такой вид, будто в брюхе пусто, как в порожнем бочонке!
— И не говори, Сизисс! Я теперь не один.
— То-то я вроде слышал голоса во дворе…
— Меня навестить приехала внучатая племянница из Мулена.
— У тебя в Мулене родня? Ты мне никогда об этом не говорил.
— Да не в этом дело! А в том, что она не слишком-то вежливо со мной обходится, так что голова кругом идет. В двадцать лет они все нахальные, как крысы, и ничего не уважают. Она даже мне сказала, что я cool какой-то!
— Cool?
— Да, дружок, cool. Именно так. И это в мои-то годы. Ты знаешь, что такое cool?
— Ей-ей, не слыхал…
— Должно быть, еще какая-нибудь грубость.
— А она, эта мерзавка, долго еще у тебя пробудет?
— Не знаю…
— А ты выставь ее поскорее!
— Хорошо тебе говорить! Да меня в Мулене знаешь как честить будут, обзовут людоедом, который родню вилами встречает.
Бомбастый согласился с этими доводами:
— Ты совсем как я, Глод, есть у тебя честь. Но не порть себе кровь. Твоя землеройка здесь недолго пробудет. Какие тут у нас в Гурдифло развлечения, а они только о том, как бы повеселиться, думают. Это бандитское отродье, им на работу плевать! Пойди-ка принеси мне винца, мне в погреб не спуститься при всех моих болячках!
Ратинье достал из погреба несколько бутылок. И они попивали винцо до тех пор, пока прикованный к постели, сраженный недугом Бомбастый не захрапел. Глод, стараясь ступать на цыпочках и не стучать сабо, удалился и побрел к себе на двор узнать, что там поделывает его супружница. Но при виде ее он побледнел. Она лежала в траве на животе совсем голая, только небрежно накинула себе на ягодицы новую майку, и листала какой-то журнал с иллюстрациями. Не помня себя от негодования, Глод подошел к ней:
— Франсина! Тебя же могут увидеть!
— Ну и смотри на здоровье! Мне-то что! — ответила она, продолжая листать журнал.
Он просто задохнулся от возмущения.
— Да я не о себе говорю! Но тут же другие люди ходят!
— Ну и что! Небось не ослепнут. Не такое уж неприятное зрелище голая девушка. Некоторые за это даже деньги платят. Надеюсь, ты не хочешь, чтобы мне платили?
— Этого еще только недоставало!
— Я принимаю солнечную ванну, невелико преступление.
— Да так же не делается, чертова ты потаскуха!
Замечание мужа рассердило Франсину, и она бросила на него через плечо суровый взгляд.
— Раньше не делалось, а теперь делается! Мне сейчас в бистро объяснили, что нынче запрещается запрещать. По-моему, это очень неглупо, хотя я этого и не знала. А теперь оставь меня, видишь, я читаю.
Вне себя от ярости, Ратинье завопил:
— Уж лучше бы ты осталась там, где была, скотина!
— Я еще успею туда вернуться. Ничего не скажешь, ты, Глод, весьма любезен! Приятно тебя послушать. Я воскресла всего сутки назад, а ты уже желаешь мне смерти. Некрасиво!
Все еще кипя гневом, Ратинье оставил загорать эту бесстыдницу и пошел присесть на лавочку, ворча что-то себе под нос. Здесь, слава те господи, не Фоли-Бержер.
— Дерьмо собачье, — бормотал он, — подумать только, что в свое время я ее в темноте ублажал, даже грудей не видел. Ясное дело, она свихнулась, раз показывает свою задницу всем встречным и поперечным!
Но потом, успокоившись, он в конце концов решил: нет у него причин горевать, что она воскресла. Нехорошо это с его стороны. Пусть даже теперешняя Франсина не его прежняя Франсина, все равно он должен радоваться, что она жива и счастлива. Он ее любил, не ее вина, что он за это время постарел. И он простил ей все ее экстравагантные выходки, простил смиренно, но не без горечи в душе.
Когда солнце начало клониться к закату, Франсина вернулась домой в джинсах и майке. Она все еще дулась на мужа за его злобные пожелания, и, прежде чем он успел сказать ей что-нибудь приятное, она как бичом ударила его по лицу, вернее по усам, бросив:
— Не мешало бы тебе знать, прежде чем ты помрешь, что я спала с Шерассом!
Он тупо пробормотал:
— Спала с Шерассом?
— Ага, не нравится! Предпочел бы видеть меня в могиле? Конечно же, я спала с Бомбастым!
— Когда? Сейчас?
Тут уж рассвирепела она:
— Ды ты что, дубина! Конечно, не сейчас! А когда ты был в плену.
— Врешь ты! — завопил Глод. — Не спала ты с этим уродом!
— Ну, знаешь ли, в этих делах горб ведь не помеха…
Не помня себя от гнева, Ратинье взмахнул рукой. Но Франсина схватила со стола нож и быстрее осы нацелила его в грудь старика:
— Тронь только, живым не останешься, и поверь мне, там тебе будет лучше, чем здесь!
Глод отступил, тупо бормоча:
— А я и не знал…
— Тебе и не собирались рассказывать.
— Но почему вы это сделали?.. — простонал Глод.
— Я скучала… Скука была ужасная… ты был далеко… Но это пустяки…
Теперь уж она пожалела о вырвавшемся у нее признании. Не слишком разумно с ее стороны причинять человеку такие страдания. Глод тяжко рухнул на стул, с трудом выдавив из себя:
— Стало быть, ты была, Франсина, ты была просто шлюхой?
— Да нет, Глод, — шепнула она. — Просто одинокая женщина. Прости меня.
— Не прощу.
— Как тебе угодно. Но ведь с тех пор сорок лет прошло. Подумай-ка сам. Это же старая история.
— А для меня совсем новая.
— Не расстраивайся ты так, Глод, миленький. Забудь, что я тебе сказала.
— Еще чего, в одну минуту рогачом сделался, да еще радоваться этому должен…
— Но какой же ты рогач, спустя сорок лет! Когда ты вернулся, все было кончено, и, клянусь, я любила тебя по-прежнему.
Она нежно пригладила ладонью его буйную гриву, густо присыпанную сединой. Он оттолкнул ее руку и, когда первая волна гнева отхлынула, надулся. По правде говоря, все больше утрачивая с годами дар воображения, он не мог уже целиком погрузиться в пучину своего стародавнего несчастья. Он даже знал счастливых рогачей. И сам принадлежал к их числу. Поэтому незачем, пожалуй, устраивать цирк и срывать со стены ружье. А вот выпить с горя стаканчик в самый раз будет, что он и сделал, не боясь на сей раз, что его отругают.
Да кроме того, в теперешнем ее виде Франсина ничуть не напоминала неверную жену, и это раздвоение личности каким-то странным образом смягчало злобу Глода, и он даже не знал, на кого ее обратить. В конце концов Франсин оказалось слишком много! Множество! И теперешняя не слишком добрая. Но обманула его не эта молодая женщина. Эта молодая женщина была только его…
— Есть с чего рехнуться! — проворчал он.
— Да не надо…
Отчасти успокоившись относительно силы отчаяния Глода, она потихоньку подошла к зеркалу, причесалась, прихорошилась, улыбнулась своему отражению, показав ослепительно белые ровные зубки. Она забыла. Нет, правда, давно уже все забыла. И все-таки ей было неловко:
— Ты ничего не имеешь против, если я уйду, Глод?
— Куда это ты?
— На танцы. С Катрин Ламует. Она за мной заедет.
— Маленькая Ламует?
— Не такая уж она маленькая. Нам обоим по двадцать лет.
— Никак я не привыкну к твоим чертовым двадцати годам! Что ж, иди потанцуй. Веселись на здоровье.
— Спасибо, Глод!
— Возвращайся когда захочешь. Я тебе больше не муж и не твой папаша или дедушка. Теперь у тебя руки развязаны, может, снова меня рогачом сделаешь.
Она наигранно рассмеялась.
— Ну… я еще сама не знаю… Ты у меня, Глод, ужасно милый.
— Верно, ужасно милый болван, ужасно хороший болван, да что там говорить…
— Нет-нет. Если бы ты такой болван был, я бы никогда за тебя не вышла. Ну, бегу, я слышу, Катрин сигналит с шоссе.
Проходя мимо Глода, она по пути влепила ему поцелуй в щеку и исчезла. В ушах Ратинье еще долго звучал этот поцелуй мира. Но тут он с ненавистью подумал о Бомбастом. После недолгих размышлений он решил, что Сизисс расплатится за Франсину. Если она теперь не такая, как прежде, то Бомбастый каким был, таким и остался, он подлый предатель, гнусный тип, достойный самой жестокой кары. Ратинье вскарабкался на стул, снял со стены ружье, однако из предосторожности благоразумно не зарядил его и отправился к дому обманщика. Дверь он распахнул, даже не постучавшись.
Сизисс попивал винцо, лежа в постели, а когда хлопнула дверь, от испуга пролил половину на простыню. Он прогремел было: «Настоящий…» — но не договорил начатого, оцепенев при виде направленной на него двустволки.
— Руки вверх, Иуда! — крикнул Глод. — Руки вверх и доканчивай, что ты хотел сказать! А хотел ты сказать «настоящий рогач», верно?
В страхе Шерасс поднял обе руки, но, так как в одной он держал стакан, вино медленно, капля за каплей, стекало на его ночной колпак.
— Не валяй дурака, Глод, — стуча зубами, произнес Бомбастый, — с чего это тебя разобрало?
— С того, что мне рога наставили!
— Да быть не может! Кто же наставил?
— Ты, старая кляча!
Шерасс пожал плечами, что было не совсем ловко при его позе, и удивленно сказал:
— Послушай, Глод, как же я или кто другой может тебе рога наставить, раз у тебя жены-то нету?
— Была у меня жена! А пока я в плену торчал, ты, тыловая крыса, ее ублажал!
Забыв о грозящей ему опасности, Сизисс сложил на груди руки.
— Какая это сволочь тебе такое наболтала? Никогда этого не было! Клянусь головой матери!
— Там, где твоя мать сейчас находится, она мало чем рискует! Подыми руки!
— Нет! Лучше убей меня, только скажи, кто это тебе такую чепуховину набрехал?
— Узнал я это из самых верных источников, милок. Мне внучка сказала. В Мулене об этом все родные знали. Как увидела внучка, что я с тобой, мерзавцем, дружу, то заело ее, и она открыла мне глаза, и я их открыл. И что же я вижу: чудовище, змею, которая вползла в мою постель, чтобы меня обесчестить и наградить меня рогами, пока я свою шкуру под пули подставлял!
Бомбастый снова удивился, на сей раз из-за пуль.
— Это ты в лагере шкуру подставлял, а?
— Представь себе! И не перебивай меня, не то я тебя прикончу! В правом стволе у меня пять пуль, а в левом три. Все могу на куски разнести! Но… но… что это с тобой, Сизисс? Смотрите-ка, теперь еще и плачет!..
Бомбастый под тяжестью улик закрыл лицо руками.
— Да, плачу, оплакиваю свои мерзости, раз уж я почти что на смертном одре лежу. Ты прав, Глод. Ублажал я Франсину, пока тебя тут не было. Теперь-то я могу об этом прямо сказать, раз она уже умерла.
— А тогда зачем же ты отрицал?
— Хотел бы я посмотреть, что бы ты на моем месте стал делать, когда на тебя двустволка нацелена! И потом, я вдруг снова увидел себя с ней вместе, с несчастной бедняжкой, которая теперь уже на небесах, и не мог сдержаться — заплакал. Стреляй, Глод, стреляй! Поделом мне! Верно, я последний подонок! Просто дерьмо собачье!
Вопреки всем ожиданиям, чистосердечное признание вдруг успокоило Ратинье, его, так сказать, разоружило, и он прислонил двустволку к кровати. Славно было бы сейчас хватить стаканчик, да уж больно был неподходящий момент. Он проворчал:
— Да брось хныкать, а то у тебя вся рожа скукоживается, словно задница! А как это у вас с Франсиной было?
— Ну… ну, как у всех, — пробормотал Шерасс.
— Я тебя не о подробностях спрашиваю! С чего это началось?
Распростертый на своем одре, Бомбастый задумался, нырнул во мрак минувшего и, сам того не зная, извлек из его глубин те же самые слова, что Франсина.
— Она скучала… Я скучал… Холода стояли… А ты был где-то за тридевять земель!.. Я ей дрова колол… Ну она приносила мне мисочку супа. Мы с ней болтали немножко. Мы же молодые были… И как-то все само собой произошло, мы и в мыслях не держали. Но до чего же мы на себя злились, Глод, до чего злились! Решили, что она ослица, а я просто хряк…
— И все-таки своего не оставили…
— Верно, верно, продолжали, хотя совесть нас так и жгла. Ты нам все удовольствие испортил!
— Уж не взыщите.
— Да нет, это не твоя вина!
— Спасибо хоть на этом.
Бомбастый воодушевился, допил вопреки всему свой стакан и стукнул себя кулаком в грудь:
— Застрели меня, Глод, я недостойный, недостоин я твоего прощения! Застрели, или я сам удавлюсь, только на этот раз выберу веревку покрепче, чтобы опять промашки не вышло!
Глод примирительно махнул рукой и тоже, сам того не замечая, повторил слова Франсины:
— Не стоит того. Ведь не вчера это было. Сорок лет срок немалый. В конце концов, рогачом через столько лет не станешь.
— Да не в том дело, — вопил Бомбастый с не совсем уместным пафосом. — Я требую справедливого возмездия! Я обязан искупить свой грех! Я вонзил тебе кинжал в спину, как Муссолини.
— Да заткнись ты, Бомбастый, — миролюбиво произнес Глод. — Надоел ты мне.
С минуту они помолчали, погруженные в свои мысли. Глоду, к примеру, все сильнее хотелось выпить стаканчик. Бомбастого одолевали более возвышенные чувства, и он наконец признался чуть разбитым от волнения голосом:
— Ты же сам знаешь, Глод, каков я. Просто несчастный калека, весь скособоченный. Бабенки-то никогда в жизни друг другу в волосы не вцеплялись, чтобы только со мной потанцевать. Теперь-то я могу тебе признаться, когда ее уже нет на свете, что никогда у меня, кроме нее, не было порядочной женщины, вечно по домам терпимости шатался. Только одна твоя…
Волнение не спешило покидать домишко Сизисса и, словно бабочка, уселось на каскетку Ратинье. Он буркнул:
— Я ведь молодым женился, Сизисс. Как и у тебя, у меня всего одна женщина была, жена то есть, если не считать, конечно, нескольких шлюх в армии.
Бомбастый меланхолически подытожил:
— Выходит, что у нас с тобой всего одна была на двоих — одна и та же…
— Да, старина… одна и та же…
Вот она, подходящая минута выпить. Бомбастый поднялся с постели и, растирая себе поясницу, принес бутылку. Выпили они с явным, даже бурным удовольствием.
— А все-таки винцо получше любой бабы будет, — убежденно заявил Глод. — И подумать только, что мы из-за нее чуть не перегрызлись!
— Я-то лично никаких претензий к тебе не предъявлял, — запротестовал Шерасс. — Это ты собирался всадить мне две пули в брюхо.
Глод сломал о колено ружье, сунул его под нос Сизиссу.
— Оно же не заряжено, дурацкая твоя башка! Просто хотел тебя попугать.
Коль скоро наступил час откровения, Ратинье решил облегчить душу, раз и навсегда, вскрыть нарыв, который в зависимости от настроения то разъедал ему нутро, то просто отдавался легкой щекоткой с тех самых пор, когда он еще щеголял в коротких штанишках. Он откашлялся, прочистил себе горло.
— У меня, друг, тоже есть свой горб. Только невидимый.
— Хотел бы и я так про себя сказать, — буркнул горбун.
— Не говори так. У меня горб в душе. Величиной с монетку в сто су. Пусть даже мне его сам Иисус Христос даровал. Нынче вечером, Сизисс, должен я быть перед тобою чист, как потрошеный кролик. Так вот, истинная правда, что я списал работу у верзилы Луи Катрсу. Иначе никогда бы мне аттестата не получить. И это так же верно, как то, что ты Франсину ублажал.
— Вот оно что? — Бомбастый даже расцвел от радости. — Я-то не совсем был в этом уверен. Люди так говорили. Не особенно это красиво с твоей стороны…
— Поэтому-то я так и изводился. Сейчас даже дышать стало легче. А то, бывало, временами прямо ком в горле стоит. А у тебя такого не было, когда я из Германии вернулся? В конце концов, ты тоже вроде как чужим добром воспользовался.
— Ну это совсем другое дело, — возмутился Бомбастый, чувствовавший себя безгрешным как ангел после откровенного признания Глода. — Да, я ублажал Франсину, а это доказывает, что я вовсе не дурак был.
— Не забывай, что я еще не окончательно простил тебе твое предательство! — обозлился Глод. — У меня в карманах вон сколько пуль лежит! И я могу тебя как лисицу подстрелить!
— Давай лучше выпьем, — предложил Шерасс, поспешив доверху наполнить стаканы. Глод от этого сразу смягчился. А перепуганный Сизисс снова заныл: — Верно, верно, ты меня не простил. Какой же ты все-таки злопамятный! Совсем как мой осел! Неужто ты, Глод, такая же скотина, какой он был?
— Ладно-ладно, прощаю тебя.
— И я тебя тоже.
— Как это так «тоже»? За что тебе-то меня прощать?
— Здрасьте! Сто лет я с тем, кто чужие работы списывает, дружу! Ладно, забудем все, что было!
На ночь Франсина домой не вернулась. Утром Глод, как и всегда, отправился в огород, накормив предварительно кур и кроликов. В огороде ему всегда найдется занятие. Если нет засухи, значит, все от дождей гниет. Если на растения не напала медведка, значит, напал колорадский жук.
Глод и думать забыл о Франсине, как вдруг услышал треск мотора. Где-то у себя во дворе. Ратинье поднял голову и увидел у своих дверей красный мотоцикл. Молодой парень в каске на голове и весь в коже сидел за рулем. Франсина соскочила на землю, заметила Глода, бросилась к нему. Поверх своей майки она натянула мужской пуловер. Она остановилась в нескольких шагах от нашего огородника, запыхавшаяся, сияющая.
— Я уезжаю, Глод. Но я непременно хотела перед отъездом попрощаться с тобой…
— Уезжаешь? — буркнул Ратинье, не так огорченный этой новостью, как нашествием улиток. — А куда ты едешь?
— В Париж.
— В Париж! Да ты с ума сошла!
— Только там мы с Робером найдем работу. Робер — это он, — уточнила она, указывая на молодого мотоциклиста. — Мы любим друг друга, и я отдалась ему, совсем как в романах пишут.
— А ты хоть уверена, что он хороший малый? — встревоженно осведомился Глод.
Франсина ответила ему ясной улыбкой.
— Там видно будет. Если что не так, я другого найду. Скажи, Глод, тебе не очень больно, что я уезжаю?
— Да что там… Если у тебя такие мысли…
— Именно из-за этого я и не могла бы остаться. Мысли-то у меня теперь не те, что раньше. Мы бы с тобой только ругались. Лучше расстаться добрыми друзьями. Верно, Глод?
— Верно…
— Так ты на меня не сердишься?
— За что же я буду на тебя сердиться, девочка? Я ведь понимаю, что тебе не весело жить со стариком.
— Да нет, ты уж не такой старый, — любезно возразила она. — В ту ночь тебе в голову вон какие штучки лезли…
— Ну, отправляйся, а то тянем, тянем, и конца не видно, словно ревматизму… Это даже лучше, что ты уезжаешь. Ты тоже меня бы раздражала, мешала бы мне жить, как я жил после твоей смерти. Н-да, смерти… Просто с языка само сорвалось.
— Глод, я вчера такая вредина была, когда сказала, что жила с тобой как скотина. Это неправда. Были у нас хорошие минуты.
— И я так считаю. Я только тебя одну и любил, Франсина.
— И я тоже, Глод, миленький. А знаешь, Бомбастого я ничуть не любила.
— Знаю. А теперь, Франсина, будь ты по-настоящему и во всем счастлива.
— Попытаюсь.
— Не каждый день это удается, дочка. Мир сильно изменился, и не к лучшему. Словом… Впрочем, ты и сама в этом убедишься. Только смотри сразу не забеременей, у тебя еще все впереди!
— Мне Катрин пилюли дала.
— Пилюли! Пилюли тебя в гроб и свели!
— Это совсем другие. Глод, я тебе напишу, чтобы ты знал, где я и что.
— Спасибо, девочка.
— Через три-четыре часа я буду уже в Париже. Теперь, когда есть автострада, на «кавасаки» это быстро.
— А ведь и мы в Париж собирались в тридцать девятом году, помнишь? Только вот не пришлось.
— Я тебе открытку пришлю. Это почти одно и то же будет.
— Да, почти…
Франсина подошла к нему ближе.
— Я хочу тебя поцеловать, Глод.
— От меня небось винищем разит.
— Не говори глупостей.
Они расцеловались в обе щеки. Глод шепнул ей на ухо:
— Желаю тебе всякого счастья, Франсина.
— И я тебе, Глод.
— Ну это как пилюли — то же, да не то.
Она снова со слезами на глазах поцеловала его и умчалась, легкая, как былинка. Раз десять она оборачивалась и махала рукой, и Глод махал ей тоже. Когда «кавасаки», проревев, тронулся с места, Франсина, сидевшая позади водителя, все оборачивалась и оборачивалась до самого поворота дороги. А потом исчезла, надо полагать, на сей раз навсегда. Теперь никто на всем свете не упрекнет Глода за его слабость к красному вину.
Когда гул мотоцикла затих, Ратинье поднял глаза к небу. Не для того, чтобы узреть лик божий. Она, Франсина, сказала ему, что бога там нету, как нету вина в колодцах Бомбастого. Опершись на грабли, Глод вздохнул, и вздох этот был адресован ввысь к Диковине.
— Сам видишь, парень, так вот что я тебе скажу: я прекрасно мог бы обойтись и без твоих воскрешений!
Глава одиннадцатая
— Да, парень, я бы вполне обошелся без того, чтобы ты мне воскресил мою бедняжку женушку. Столько мне это хлопот наделало, даже хуже того — совсем я обнищал.
— Я не мог этого предвидеть, Глод…
— Ты-то, конечно, нет, раз ты не знаешь, что такое женщина: или с ней жарко, или с ней холодно, а то и разом и холодно и жарко. Но я-то, я-то знал! Надо полагать, просто обо всем позабыл.
— Простите меня, Глод.
— Да нет, я на тебя не сержусь. Если она счастлива теперь, то спасибо тебе все-таки за нее. В конце концов, если и не найдет она счастья, все равно ей веселее будет, чем в яме! В жизни надо не только о себе думать, Диковина. Смотрите-ка, ведь я совсем не заметил, что у тебя костюм другой!
И впрямь, Диковина был не в обычном красно-желтом комбинезоне, а в бело-зеленом.
— Я получил повышение, — гордо выпятив грудь, объяснил Диковина. — Теперь я уже оксонианин не второго разряда, а первого.
— Значит, повсюду есть этот холерный Почетный легион! — заключил Глод, нарезая капусту к супу. Кочан он сорвал только что среди ночи при свете электрического фонарика, едва приземлилась летающая тарелка. И ругнулся:
— Что касается капустного супа, учти, я его не каждый день варю. Я ведь не ты, дай тебе волю, ты бы его целыми лоханками жрал. А мне он надоедает, и вот теперь добрый час с ним возись! Мог бы заранее предупреждать, когда прилетаешь.
— Отныне я буду вас предупреждать. Мне дано разрешение оставить вам ящичек, почти такой же, как мой. Вот он.
— А мне-то какой от него толк? Что я с ним делать буду? Я только-только что часы умею заводить.
— Вам не придется его трогать. Если я захочу с вами поговорить, он зажжется, вот и все. Теперь Комитет Пяти Голов хочет, чтобы я мог общаться с вами в любое время.
Глод поморщился:
— Когда Бомбастый увидит этот аппарат на буфете, он спросит, откудова это взялось и что за штуковина такая.
— Он этого ящика и не заметит. Для него он невидимый, и, когда ваш сосед рядом, он действовать не будет. Он настроен только на ваши собственные волны.
Ратинье даже присвистнул:
— Все-таки вы, — признал он, — на вашей звезде неплохие механики…
Диковина улыбнулся, и на сей раз улыбка у него получилась шире, чем прежде. Это не укрылось от глаз Ратинье.
— По-моему, ты стал шире улыбаться в сравнении с последним разом. Сейчас ты прямо как лягушка улыбаешься.
— Учусь. Комитет Пяти Голов приказал мне научиться, чтобы потом их самих научить. — И возбужденно добавил: — Там наверху зашевелилось, все больше и больше шевелится! Благодаря вам, Глод!
— Благодаря мне?
— Да, благодаря вашему капустному супу. Из-за него, в сущности, мне доверили тарелку, которая долетает до Земли не за три, а за два часа.
— Ах вот оно что! А я-то думал, что это прежняя.
— Снаружи да, а внутри нет. Я доволен, Глод. Меня начинают ценить.
Ратинье хохотнул:
— И все это из-за горшка супа; ну, видать, и чудаки вы там. Я же тебе говорил, что ты следующий чин получишь, ведь говорил, а?
— Да…
— И стоит тебе выпить пол-литра, ты через все головы перепрыгнешь, то есть через все пять ихних голов.
— Да…
— Нынче попробуешь?
Диковина не ответил на зазывы пламенного проповедника, этого энтузиаста-наставника, обращающего новичка в свою веру. Продолжая чистить картошку, Глод проворчал:
— Да не переживай ты так! Если есть у тебя честолюбие, добьешься своего! Наши заправилы все хлещут вино, но только не солдатское пойло! А закупоренное замечательное вино, за которое мы, грешные, заплатить не можем, потому что мы за ихнее вино платим.
— Да, кстати, — проговорил Диковина с гримасой, долженствующей на этот раз изображать ликующую улыбку, — я привез ваш золотой.
Он приподнял какой-то мешок, который, войдя в дом, поставил на стол. Не слишком уверенно Глод сунул туда руку и вытащил целую пригоршню блестящих монет.
— Но, Диковина, — запинаясь, начал он, — да здесь их на целый мульон! Слышишь, на мульон!
Надо ли говорить, что инопланетянин произнес это слово, как произносил его Глод.
— Возможно, что и на мульон. Так или иначе — это вам.
— Мне? Это все мне?
— Да, все. А что я, по-вашему, должен делать с этим металлом? А вам приятно его иметь, вот и все.
Но когда Глод заключил его в объятия, сжал изо всех сил, топоча от радости сабо, Диковина не знал куда деваться от смущения. Земные проявления чувств коробили этого пришельца из иных миров, ибо там никому никогда даже в голову не приходила сумасбродная мысль пожать ближнему руку. Он осторожно высвободился из объятий Глода, боясь оскорбить его резким движением.
— Полноте, Глод, это же сущие пустяки, две минуты работы лаборанта-химика шестого разряда, и все.
Услышав эти слова, Глод задумчиво и печально покачал головой.
— Две минуты работы! А вот у нас, Диковина, это работа всей жизни сапожника…
Чуть ли не бегом бросился он припрятать деньги в ларь, прикрыл его старым тряпьем. Как только гость улетит восвояси, он непременно перепрячет свои сокровища. Конечно, доверять-то он доверяет этому медведю, но поди знай, вдруг он передумает и заберет деньжата обратно?
Овощи в чугунке томились на плите. Глод разжег ее только в два часа ночи. Диковина жадно схватил крышку, нагнулся над чугунком.
— Что это ты делаешь? — завопил Глод.
— Нюхаю…
— Оставь крышку в покое! В жизни не видел, чтобы вокруг какого-то супа такая свистопляска шла! Иди сядь на место, а то никогда суп не уварится, если ты будешь в него без конца сквозняков напускать!
Гость уселся на место, снова улыбнулся еще шире, чем раньше. Говорили ли ему «нет» или «да», он все равно для практики улыбался.
— После сотни анализов, Глод, мы обнаружили сущность вашего супа. Но главным образом мы изучили все до последнего ваши слова для того, чтобы извлечь из них вашу психологию, кстати сказать, потрясающе сложную. Нам удалось установить, что этот суп является супом, именуемым удовольствием.
— Значит, он уже не отравленный, — хихикнул Ратинье, — опасности уже не представляет?
— Двадцать шесть процентов наших соотечественников пришли к выводу, что он представляет известный риск — он способствует упадку. А остальные семьдесят четыре считают, что миг удовольствия стоит свеч.
— Да я же всю жизнь это твержу!
Диковину восхитило это душевное величие под покровом простоты, и он продолжал:
— Из-за вас или, вернее, Глод, благодаря вам на Оксо почти повсюду внедряется понятие «удовольствие». А это событие немаловажное, почти революция. Вот почему мы проводим опыты с улыбками, коль скоро улыбка является внешним выражением удовольствия. Но осторожность никогда не мешает! Мы ведем тщательное наблюдение. Даже сторонники капустного супа признают за ним разрушительные свойства, выражающиеся в ослаблении энергии у едоков. Будет издан специальный указ, согласно которому ваш суп можно употреблять только по случаю праздников и годовщин. Наши ученые установили, что чем реже получаешь удовольствие, тем оно более ценно.
— Передай им от моего имени, что для этого не нужно было и башкой работать, это ведь не скорость у летающих тарелок увеличивать! — снова хихикнул Глод.
Свернув сигарету из доброго своего табачка, хранившегося в добром старом резиновом кисете, украшенном фабричным клеймом в виде пчелы, он закурил и заметил:
— Даже если у вас особый указ существует, не можешь же ты со своим бидоном — да и то ездишь ты не каждый день — накормить все десять тысяч своих паломников, ну, что скажешь?
Диковина, все так же сияя улыбкой, которая до глупого долго держалась на его устах, со всей серьезностью заявил:
— Нам следует также решить эту основную проблему. Тем более, Глод, что через несколько месяцев Оксо будет уже не в двадцати двух миллионах километров от Земли, а в двухстах тридцати восьми; и таким образом, для меня будет уже почти невозможно посещать вас, разве что придется тратить на это свой годовой отпуск. Оксо — никому не ведомый астероид, который, так сказать, укрывается в тени крупных планет и поэтому до сих пор не обнаружен, не занесен в списки небесных светил. В этом-то и вся тайна нашей спокойной жизни. Короче, если мы удалимся от Земли, из этого само собой следует, что приблизиться к Оксо следует вам.
— Кому это нам, Земле?
— Нет, вам, лично вам. Вам, Глоду Ратинье.
Ратинье уже совсем ничего не понимал.
— Как так мне? Как же я могу приблизиться?
— Надо, чтобы вы переехали к нам на Оксо, раз вы умеете выращивать вашу модную теперь капусту и варить из нее суп.
Это нелепое предложение привело к тому, что Глод громко хлопнул себя по ляжкам, опрокинул свой стул и сам чуть не упал на горящую печурку.
— Ён полумный! — завопил он на чистейшем местном наречии. — Ён полумный!
Уязвленный в своих лучших чувствах, Диковина забыл французский язык и энергично прокудахтал что-то по-своему, потом спохватился и перевел:
— Вовсе я не полумный! Комитет Пяти Голов изучил мое предложение и в принципе принял его. На планете Оксо есть кислород, и вы там сможете жить… — Он добавил небрежным тоном: — Там, Глод, вы сможете прожить до двухсот лет, не зная ни болезней, ни старческой немощи. Когда вы поселитесь на Оксо, Глод, вам будет отпущено еще сто тридцать лет жизни, вместо десяти, если очень повезет. А над этим, верно, стоит задуматься, а не верещать как младенец: «Ён полумный, ён полумный!»
Ратинье наконец удалось усесться на стул, он утер глаза, одним махом осушил стакан для поддержания сил, потом отрицательно покачал головой.
— Нет уж, Диковина. Так, как вы там на небе живете, мне в этом интересу нет! Да что это такое — прожить сто тридцать лет без бутылочки, без табаку и жрать в полдень только пальмовый сок, а на ночь какую-нибудь капсулу глотать. Уж лучше я протяну пять или десять годков в своем погребе, где так свежо, или в саду, где очень даже хорошо. Нет уж, парень, нет! Я дожил до своих лет не для того, чтобы меня обрекли потом на сто тридцать лет каторги, тем более что ничего дурного в жизни я не сделал, разве что списал работу у верзилы Луи Катрсу.
Диковина, не приняв в расчет всех этих туманностей, продолжал развивать свои доводы. Его избрание в Комитет Пяти Голов зависело от успеха его переговоров.
— Ваше первое возражение не выдерживает критики, Глод. Целая эскадрилья астронавтов планеты Оксо доставит вино и табак в любом количестве, которое вы сможете только потребить в течение всей вашей долгой жизни. У нас высоко поставлено искусство консервирования продуктов. Гарантирую вам — ваше вино не зацветет, не прокиснет! Да и второе ваше возражение тоже не убедительно. Если вы посадите капусту, вы можете сажать также и все прочее, воссоздать весь ваш огород, так как на Оксо умеренный климат, благоприятствующий произрастанию любых культур.
Но ничто не могло поколебать решимости Глода:
— Это все твои дурацкие ученые — пусть даже их у нас зовут для смеха технократами — в уши тебе такое напели! Я небось не забыл, что ты сам мне рассказывал — у вас, говорил, растительной жизни нет никакой. Не принимай меня за Амели Пуланжар, у которой в башке все перепуталось. Ты мне сначала покажи образец твоей земли! Или, если угодно, твоей почвы, так как земля есть только на Земле.
— Я об этом уже подумал, — сказал Диковина, вынимая из кармана кусочек пористой серой горной породы, напоминающей с виду облицовочный камень. Ратинье положил это себе на ладонь и расхохотался:
— Да это же простая пемза! Теперь понятно, почему на ваших, так сказать, почвах растут только мостовые.
Инопланетянин растерянно пробормотал:
— Значит, это не то, Глод?
Сжалившись над ним, Глод медленно покачал головой:
— Совсем не то! Я тебя за это ругать не собираюсь, поскольку ты здесь ни при чем, но сажать на такой вот мусоряге капусту — это все равно что на плиточном полу ее разводить! Откровенно тебе скажу: что-то ты совсем, бедняга, зафантазировался. Брось ты, старина, эту дурацкую мысль отправить меня к вам на пожизненные каникулы.
Все дипломатические подходы Диковины рухнули разом. Глядя на его огорченное лицо, Глод почувствовал жалость:
— Ну, что поделаешь, сынок! Тут твоей вины нет! Придется вам закладывать супчик за галстук только на ваших праздниках и ваших годовщинах, ничего не попишешь!
Диковина погрузился в глубокую задумчивость, он уже не улыбался по любому поводу и без всякого повода, как собака, что без причины брешет на луну. Вдруг он резким движением отцепил свой светящийся ящичек, который висел у него через плечо, поставил его на клеенку, направил в подходящий с его точки зрения угол.
— Разрешите, Глод? Я должен переговорить с Оксо.
— Валяй, и передай им привет от Глода.
— Непременно.
Замигали огоньки, Диковина быстро нажимал какие-то клавиши, свет то загорался, то потухал, мигал, мерцал. «Должно быть, здорово ругаются, — подумал Глод, — а работает его штука получше радио да телевизора!» И ему почудилось, будто к концу этой безмолвной беседы лицо Диковины вновь приобрело свой обычный свежий оттенок обогащенной урановой руды и полистирена. Наконец сын Оксо нажал еще какую-то кнопку, огоньки в ящичке погасли, и он снова надел его через плечо.
— Ну? — осведомился Ратинье. — Здорово тебя облаяли?
Диковина ответил не сразу, не прежде, чем старательно изобразил на своей физиономии улыбку, и тогда торжествующе заявил:
— Все в порядке, Глод!
— Они небось сказали, что наделают коловоротом дыр в твоем булыжнике и туда зубочисток натыкают, пусть, мол, растут?
— Нет. Раз для капусты требуется земля, земля будет.
— Интересно, откуда ты ее возьмешь, чудила?
— С Земли.
Ратинье фыркнул и снисходительно оглядел своего собеседника с головы до ног.
— С Земли! Хотел бы я посмотреть, как это ты в свою тарелку размером с варежку нагрузишь столько земли, сколько для огорода требуется, и втащишь все это к вам на верхотуру! Да тебе на это твоих двухсот лет не хватит!
— Вы ошибаетесь, Глод. Как раз сейчас началась постройка супертарелки, которая сможет доставить к нам ваше поле.
— Поле!
— А почему бы и нет? Какая для всех посадок, по вашему мнению, потребуется площадь?
Втянувшись в игру, Ратинье, не обладавший электронным мозгом, стал медленно считать, загибая палец за пальцем.
— Сейчас прикинем… Для того, чтобы вырастить капусту и все полагающиеся к ней овощи… для десяти тысяч престарелых парней, которые едят суп три-четыре раза в год… значит, считай один квадратный метр на нос…
— Следовательно, десять тысяч квадратных метров…
— Неужто ты воображаешь, что сможешь дотащить в свое захолустье целый гектар? — спросил огорошенный Глод.
— Конечно. А если понадобится, то за несколько ездок и больше. Была бы техника в порядке, а все остальное пустяки.
Глод с ухмылкой хлопнул себя кулаком по ладони:
— Тогда забирайте поле дядюшки Мюло! Там и земля лучше, да и сам он старая кляча. Вот рожа-то у него будет, когда он увидит, что на его поле и поля-то нет! Прямо так и вижу: хлопнется мордой в дырищу! Со смеха животики можно надорвать!
Потом пожал плечами и вернулся к насущным вопросам:
— Но все же твою гигантскую тарелку увидят! Ее же не спрячешь, как божью коровку!
— Возражение недействительно. Мы усыпим всех обитателей хутора, устроим затемнение в округе и, конечно, на дорогах тоже. А вам, скажите, хотелось бы одурачить дядюшку Мюло?
— Еще как! Я к этому пропойце раз десять заходил, а он мне даже пол-литра не выставил! Ясно, я против него зуб имею. До сих пор в глотке вкус красного стоит, хотя он и не подумал меня угостить!
Диковина поддразнил Глода:
— Боюсь вас огорчить, Глод. Дядюшка Мюло сохранит свое поле, так же как сохранит вино.
— Да почему, гром меня разрази! Коли ты можешь вот так запросто свистнуть у него поле, чего еще с рождества Христова не случалось, так и забирай его с собой. Да его, старого упыря, кондрашка хватит.
— Не хватит. Если вы не приедете к нам с этим полем, оно так и останется на месте.
В гневе Глод хватил кулаком по столу:
— Так и есть, снова ты околесицу несешь! Раз у тебя в башке от мыслей густо, значит, в кальсонах пусто, сынок! Не поеду я к тебе! Нашел тоже дурака — целый гектар земли обрабатывать, когда мне и пяти соток хватает!
— Вам будет оказана любая помощь.
— Нет и нет! Смотри, Диковина, как бы я не рассердился на тебя, что ты ко мне как клещ цепляешься! Если ты думаешь, что я так тебе и брошу мой дом, что я брошу моего бедного старика Бомбастого, лучшего своего друга, который никогда мне зла не делал, даже когда Франсину ублажал, потому что сам-то я сидел за колючей проволокой, — если ты так думаешь, значит, ты сумасшедший и пора тебя связать веревкой от жнейки-косилки!
Дрожащей рукой он налил себе вина и осушил стакан одним духом. Но Диковина не сдавался, он даже для практики послал Ратинье улыбку, шириной, не соврать, с амбарные ворота.
— Мсье Шерасс полетит с вами, мы не видим для этого никаких препятствий, поскольку вы не можете размножаться.
Игривая мысль о том, как бы они с Бомбастым могли размножаться, развеселила Глода.
— Даже если бы очень захотели, и то не смогли бы.
— А это было бы единственным препятствием…
— А Добрыш? Что же я, по-твоему, кину здесь своего кота, когда он на старости лет совсем беспомощным стал? Что же я, оставлю его здесь подыхать одного, когда его даже никто не приласкает, никто в землю не закопает, значит, пусть его вороны расклюют, так, что ли? Не такое уж я дерьмо, Диковина! Если я так поступлю, так я бриться не смогу, потому что каждый раз буду в зеркало на свою рожу плевать.
Диковина вздохнул, сдаваясь на все условия:
— А у него есть опасность умереть?
— Ему уже тринадцать лет! И есть у него опасность до четырнадцати не дотянуть.
— На Оксо никогда не было котов. Но так как он будет там в единственном экземпляре, вы можете его захватить с собой, раз он тоже не народит нам маленьких. И умрет он в двести лет, как вы и я. Он-то сразу согласится!
— Как не согласиться, только он животное! — отрезал Глод и насмешливо продолжал: — А сало, Диковина, для заправки супа шкварками? Неужели и за перевозку свиней берешься?
— Нет, но мы перевезем столько бочонков сала, сколько потребуется.
Глод устало прервал его:
— Ты меня в могилу сведешь. Ты совсем как баба, на все у тебя ответ готов.
Он встал, попробовал суп, неодобрительно покачал головой:
— Сейчас сварится. И подумать только, что из-за какого-то несчастного крестьянского супа вы все с ума посходили, а ты из меня вдобавок еще все жилы вытянул, да это же дело неслыханное! В жизни не видывал, чтобы такой урожай на дураков был! Лучше бы нам с Бомбастым в тот вечер не устраивать такого грохота, тогда бы ты не налетел на нас, как муха на навоз!
Оскорбленный этими словами, Диковина сглотнул невинную улыбку, морщившую его губы. И грустно прошептал:
— Вы хорошо подумали, Глод, прежде чем все это сказать?
— Еще как подумал!
— Не надо так! Потому что… потому что я очень вас люблю, Глод. Меня даже упрекают за это на Оксо, твердят, что это относится к разряду бесполезного. Что любить людей — это беда.
— Они, твои дикари, так прямо и говорят?
— Да…
— Черт побери, значит, прав я был, что не доверял этому зверью, у них и сердца-то нет. Я тоже, Диковина, очень тебя люблю и ничуть этого не стыжусь.
Лицо сына эфира просияло:
— Правда, Глод, что вы меня тоже очень любите?
— Люблю, хотя порой чуть что не силком заставляю себя дружить с таким чудилой. Я пью, а он глазами хлопает, не желает, видите ли, составить мне компанию.
Возбужденный этими словами Диковина, как истый герой, бросился в воду, отнюдь не прозрачно-белую, даже не в розоватую:
— Черт побери, налейте, Глод, и мне стаканчик!
— Минуточку! Не забывай, что стакан — это не просто стакан вина, а, так сказать, знак дружбы. А дружба, слушай, что я тебе скажу, дружба — это когда люди ровня, когда их водой не разольешь.
— Тем более! Стаканчик, Глод, и чокнемся за дружбу. А если мне станет худо, наплевать!
Глод успел перехватить бутылку, которую, забыв свою сдержанность, житель планеты Оксо потянул было к себе.
— Тихо, тихо! Не тронь ее! У тебя еще привычки нету, ты чего доброго свалишься, как будто под высокое напряжение попал. Поешь сначала супцу, чтобы кишки и все потроха хорошенько смазать, а потом уже пей помаленьку. Для начала совсем помаленьку. Слушайся старших, а то кончишь как те полоумные, что хуже настоящих сумасшедших, полоумные, что бистро на куски разносят потому, что пить не умеют.
— Я слушаюсь вас, Глод, раз вы меня так любите.
Помешивая скворчавшие на сковороде шкварки, Глод смущенно пробормотал:
— Видишь ли, так не говорят, не надо так.
— А как же тогда узнать?
— Это сразу видно, это чувствуешь. Вот если бы я явился к Бомбастому и брякнул ему, что я его люблю, он бы меня старой бабой обозвал. И я тоже бы так сделал, если бы он пришел ко мне дурака валять. Только ничего ты своим заправилам об этом не говори. Храни это все про себя, да получше храни. Слушай меня, это как с цветами. Вон у меня перед домом стоят горшки с анютиными глазками, настурциями, петуньями. Понюхаю их и радуюсь, но чего ради я об этом на всех перекрестках кричать буду. Запах хороший, и этого с меня достаточно. Усек?
— Да…
— Ну и слава богу, и не приставай ты ко мне со своими выдумками отправить меня на Луну словно спутник какой-то. Хватит с меня. Иди закуси! Вперед!
Он разлил по мисочкам тот самый суп, который перебаламутил всю планету Оксо, поставил под вопрос все ее институции, в двадцати двух миллионах километров от Гурдифло, хотя смотрели они на хутор как бы с высоты птичьего полета. Диковина ел суп с отменным аппетитом, разумеется, чтобы полнее ощутить этот миг удовольствия, донести его до 74 процентов своих компатриотов, к великому их удовлетворению, ибо им, откровенно говоря, несколько приелся экстракт из натуральных танталатов иттрия, смоченного раствором зеленых солей празеодима и прочих ингредиентов, безусловно укрепляющих организм, но вряд ли достойных быть поданными у Поля Бокюза и Алена Шапеля. Он поднес мисочку к губам и очистил ее языком от последних капель супа. Затем улыбнулся, а Глод с аппетитом рыгнул. Диковина тут же обещал, что и он скоро научится рыгать.
— А это совсем тебе ни к чему, — проворчал Ратинье, — говорят, что в высшем обществе на это косятся. Вот еще научишься воздух портить, как корова, тогда, считай, воспитание твое закончено!
Он с чувством взялся за бутылку. Диковина мужественно схватил стакан, ибо Глод по неистребимой допотопной привычке всегда ставил на клеенку два стакана.
— А мне, Глод? А мне?
Ратинье озабоченно покусывал усы:
— Я все думаю, хорошо ли я поступаю. Запомни хорошенько, поначалу ты завопишь, что сейчас помрешь, будто пулю в тебя всадили…
— Вы же сами говорили, чтобы я попробовал, если у меня есть честолюбие. Так вот оно как раз есть, и немалое! Достаточно меня там на Оксо унижали, три раза заваливали, когда я экзамен держал на право вождения их устарелых тарелок типа вашего «дион-бутон»! Наливайте, Глод!
Не без боязни Глод налил гостю вина, сдерживая прыть руки.
— Чокнемся! — громко возгласил Диковина.
Он чокнулся с Глодом, проглотил половину налитого хозяином стакана.
— Ну как? — беспокойно спросил житель провинции Бурбонне.
Житель Оксо жестом показал, что нужно, мол, подождать результатов опасного эксперимента. Вид у него был неважный, сначала он побледнел, потом покраснел, и только после этого лицо его приняло нормальный для него оттенок. А через минуту он, существо явно ученое и скрупулезное, провел вдоль всего тела каким-то локатором, который судорожно, словно икая, выбрасывал зеленые огоньки. Потом выключил свой аппарат Морзе и ликующе объявил:
— Все в порядке, красного света не было. Значит, это не опасно.
А Глод тем временем думал, что бригадир Куссине не изобрел пороха, запугивая все слои трудолюбивого населения кантона. Потом с живым интересом спросил:
— Да это всякий знает, что не опасно, скажи лучше, как, по-твоему, на вкус, а?
— По-моему, прекрасно сочетается с капустным супом…
— Еще бы тебе не сочеталось. Раздавим еще по стаканчику?
— Раздавим.
Диковина выпил еще полстакана вина, что довело его недолгий опыт до целого стакана. Он размышлял, положив руку на то место, что заменяло живот жителям Оксо, скромного астероида, забытого где-то в правом углу некой затерянной галактики. Он убеждал себя, что Пять Голов в Комитете излишняя роскошь. Что все Пять Голов должны стушеваться перед тем, кто изобрел не только капустный суп, но и радость жизни. Короче, что его собственная голова в самом ближайшем будущем вполне может осуществлять власть, что было нелепо с его стороны и дальше расточать ум впустую.
— Глод, — промямлил он, — у нас в правительстве только одни придурки. Я их всех заменю одним собою, прогоню их всех, как дам им пинка под зад! Ты меня понимаешь, Глод? Что ты об этом думаешь?
— Думаю, что ты от одного стакана окосел и что тебе не мешало бы, пока еще не поздно, лететь восвояси.
— Никто меня не любит! — заголосил Диковина и зарыдал, уронив голову на скрещенные на клеенке стола руки.
— Да нет же, я тебя люблю, — сердито проворчал Глод, не без труда волоча своего гостя к хлеву.
— Меня целовать надо! — жалобно стонал Диковина, примащиваясь бочком на сиденье своей тарелки.
— Не забудь взять суп, — буркнул Глод, ставя бидон рядом с сыном Оксо.
И тут же бидон с сухим стуком словно бы прилип к одной из перегородок.
— Целуй меня! — умолял Диковина.
Еле сдерживая ярость, Глод поцеловал его и сам захлопнул со всего размаху дверцу космического корабля.
На прощанье Диковина одарил его добродушной пьяной улыбкой и потянул рукоятку, по всей вероятности, заднего хода.
Пренебрегши широко раскрытыми дверьми хлева, астронавт двинулся в обратном направлении, что сопровождалось диким грохотом рухнувших досок. К счастью, доски оказались трухлявыми.
Диковина, взмыв в небо, проверил правильность взятого курса, направляясь по обыкновению в сторону Мулена. Тем не менее он несколько часов бороздил космос, принял за Оксо другую планету и уверенно приземлился на Йолдии, где жили моллюски, которые и продержали его в качестве заложника целых две недели.
За его освобождение пришлось дать солидный выкуп — редчайшую минеральную соль, что не вызвало улыбки у Пяти Голов, хотя пять изыскательских Голов главного комитета планеты Оксо и пытались с переменным успехом выдавить улыбку.
Глава двенадцатая
Под жарким августовским солнцем, здорово припекавшим каскетки, бок о бок семенили, возвращаясь с кладбища, Глод с Бомбастым. На кладбище Ратинье бросил ходить с тех самых пор, как его покойная супружница превратилась в официантку в каком-то из ресторанов на Больших Бульварах, о чем сообщила ему открыткой с изображением Эйфелевой башни. И герани он ей больше не носил.
В этот самый час поселок Гурдифло хоронил своего старейшину, бывшего пуалю 14-го года, Блэза Рубо. Не помнившие зла Шопенгауэры тоже непременно пожелали присутствовать на церемонии и даже возложили венок в знак франко-германского примирения, судя по надписи на ленте. А Ван-Шлембруки, те, как и обычно, представляли маленькую, но доблестную бельгийскую армию и короля-рыцаря.
Вырядившиеся в вельветовые, не совсем еще поношенные костюмы, Глод и Бомбастый со вздохом печали прошли мимо запертых дверей бистро, вспоминая, какие веселые раньше получались похороны. В прежние времена умели воздать дань уважения усопшим.
— Бедняга этот старина Блэз, — разорялся Бомбастый, — подумать только, что скоро придет и наш черед отойти вслед за ним в лучший мир. И никто даже не может кружки выпить за упокой его бессмертной души, это же стыд и срам! Религии теперь уже нету, вот и зарывают нас в землю, словно шакалов каких!..
— Это еще что! А заметил ты, что кюре каждую минуту на часы смотрел. Его на другое отпевание ждут в Вомасе. Раньше удовольствие умели растянуть, провожали в последний путь, не глотая половины слов во время панихиды. Нет больше профессиональной чести!
— Ничего больше нет, дружище!
Ратинье зевнул. Он не выспался. Нынешней ночью Диковина пристал к нему как банный лист, этот Диковина, который вот уже два месяца каждый божий день вызывал его с помощью своего бесовского ящичка. «Нет, значит, нет! — вопил Глод, стоя перед этим дьявольским детекторным приемником. — Ни за что не поеду в твою дерьмовую деревню, слышишь, ни за что и никогда!»
И еще кое в чем изменился его Диковина. О, нет-нет, не к худшему! После недоброй памяти первого стаканчика вина он добился серьезных успехов. В результате недолгой тренировки он выпивал теперь пять-шесть стаканов и не заговаривался, как малоопытный в таких делах землянин. Однажды он даже увез с собой на Оксо литр красного, и типы из ихнего комитета постановили, что это не яд. В силу своей редкостной эскалации он даже начал нюхать табак. Как-то ночью, рассматривая табакерку Глода, он попросил разрешения взять понюшку. С тех пор он нюхал табак не хуже путевого обходчика преклонных лет, и все ихние Пять Голов тоже привострились нюхать, словно это была пятерка голов обыкновенных престарелых лесничих.
— О чем ты думаешь? — вдруг спросил Бомбастый.
Ратинье пожал плечами. Не мог же он рассказать Шеррасу о том, что Диковина все надоедливее зовет его на Оксо.
— О смерти, дружок. Нам ее не миновать, как свистка жандарма.
— А что тут поделаешь? Каждый день она всех подряд косит — и владельцев замков, и землекопов, и сапожников, и всех прочих.
А вот и нет, если верить Диковине! Если верить ему, то там, на Оксо, можно даже в точности воспроизвести два их домика. Он, Диковина, с расходами не считается.
Кстати, о расходах. Ратинье специально ездил в Сельскохозяйственный кредитный банк и обменял там дюжину золотых из своих двух тысяч. Ему без всякой волокиты отсчитали три тысячи семьсот франков новыми. В этих новых франках он не разбирался, они к вящей путанице стали в сто раз дороже. Обладатель столь неслыханного богатства, он потребовал себе в «Казино» вина. И не бурду какую-нибудь, уж будьте уверены! А самого что ни на есть лучшего. Бордо, бургундского и даже шампанского. Расщедрившись, он купил вдобавок несколько коробок сардин для Добрыша, который с каждым днем терял аппетит. Может быть, откушав их, он пойдет на поправку.
— Как же я все это к велосипеду прицеплю? — заволновался Глод.
— Пустяки! — воскликнул метрдотель. — Мы вам доставим ваши покупки на дом после обеда! Но, честное слово, дядюшка Ратинье, вы, верно, наследство получили!
— Да нет, просто кое-что прикопил… Лучше все денежки просвистеть, а то они при нашем-то правительстве гроша ломаного стоить не будут…
Ту же самую тираду он произнес перед Бомбастым, ошарашенным этой неведомо откуда взявшейся манной небесной. Нашли пробочник. Просмаковали сначала одну бутылку, затем вторую, третью. Шерасс отверг предложение «свернуть шею» четвертой.
— Не стоит, Глод.
— А почему? Разве вино не высшего качества?
— Я же не возражаю, но меня от него мутит. Куда лучше мое винцо с виноградников Эро. А как по-твоему? Оно куда легче пьется, да и освежает.
— Я и сам хотел тебе то же сказать. А эти в голову ударяют, а мое двенадцатиградусное с виноградников департамента Вар ни в жизнь.
— Мы об этих марках знать ничего не знали, да теперь я узнал, когда оно мне все нутро проело.
— И мне тоже. Вот я все думаю, чего это они туда подмешивают, раз берут две тысячи монет за бутылку, а то и больше.
— Ясно, спекулянты, если хочешь знать.
Запасы вина были отправлены в погреб, и о них начисто забыли. Ратинье, как и раньше, выкуривал за день пачку дешевого табака и не мог в ущерб здоровью выкуривать две только потому, что разбогател! Не купил он себе и нового костюма, раз у него было два старых, еще не совсем заношенных, вполне приличных! Не приобрел он себе также нового велосипеда — ведь его старый еще несся как ветер! И бифштексам он предпочитал кусок собственной свинины! Да и простынь у него было много, в том числе и простыня на саван, и белья хватит до самой смерти!
В его годы деньги не приносят счастья, ни к чему они, в сущности. Ему и так их хватало, чтобы купить себе литр, а то и два вина, и даже самого лучшего, если только после него не приходится глотать таблетки аспирина! Пожалуй, он пошлет перевод Франсине, а сам не тронет больше ни одного луидора.
Они семенили бок о бок, заложив руки за спину.
— Ты даже не зашел на могилу Франсины, — упрекнул его Сизисс. — А ведь рядом были…
— Что там от нее осталось через десять-то лет! — беспечно отозвался Ратинье.
— Кто знает… Когда твой черед придет, твой гроб на ее поставят. А я так буду валяться один-одинешенек в своем углу…
— Ты сам только что говорил, что никого это не минует, все уйдем один за другим!
— И все равно солнышка мне недоставать будет в этой темнотище, — пробормотал Бомбастый. — А я ух как солнышко люблю.
Через десяток шагов он добавил:
— Заметь, мне и при дожде хорошо!
А еще через десять заключил:
— И кроме того, я и против снега ничего не имею, если он по-настоящему ляжет.
Им пришлось пробираться по обочине, сторонясь автомобилей, которые один за другим катили с кладбища. Даже машины с номерным знаком Германии или Бельгии и те не останавливались, чтобы их подвезти. В Гурдифло довольно бездоказательно утверждали, что Шерасс и Ратинье блохастые. Что было жестоко и к тому же неправда. Так или иначе, они предпочитали волочить по пыли две пары своих сабо, глазея по сторонам, не спеша вернуться домой, раз уж они вместе прогуливаются, то понося нерадивого владельца плохо ухоженного сада, то ругательски ругая тощую люцерну, которой не прокормишь даже кролика.
— А когда придем домой, я лично за перно высказываюсь… — ни с того ни с сего вдруг заявил Бомбастый.
— Почему это? Сегодня ведь не воскресенье.
— Похороны тоже вроде воскресенья. Раз мы на горе свое живем в таком краю, где даже бистро нету — явное свидетельство, что цивилизация теперь не та стала, какой прежде была, — мы должны поднять знамя мятежа и выпить именно перно за упокой души Блэза!
— Блэз, — проворчал Глод, — он в конце концов хорошо бы сделал, если бы уложил тогда пруссаков. Ты только послушай, сколько от них шума! А когда не от них, то от бельгийцев, и так уже с начала месяца. Деревня теперь для житья не годна. Если городские полезли в деревню, она сама городом стала.
И впрямь, когда они приблизились к своему проселку, их оглушил грохот бетономешалок и удары парового молота. К тому же цепи нерушимой дружбы связали юных немцев и бельгийцев, когда им провели электричество, и, объединенные общей любовью к рок-н-роллу и поп-музыке, они вытоптали всю траву на лугу под шквальный вихрь децибелов. Да еще понавесили на верхушки деревьев радиоэкраны, чтобы слышнее были благие словеса английской поп-группы, так что Глод и Бомбастый жили как бы под плотным навесом воплей, советовавших им быть, как выражалась Франсина, «cool» и, презрев свои годы, заниматься любовью направо и налево.
Пока Сизисс, не теряя зря времени, вытаскивал из своего колодца ведро воды, Глод сидел на лавочке и чертыхался.
— Говори не говори, все равно не слышно!
— Что? Что? — проорал Шерасс.
— Я говорю, что не слышу, что ты говоришь, и что везет же некоторым старикам — они хоть тугоухие!
— Верно, пойдем в дом, там и выпьем.
Бомбастый принес перно, прохладного, как и все в этой комнате, защищенной от зноя и суматошных звуков.
— Помнишь, — начал Глод, — нашего Губи, юродивого из Жалиньи?
— Еще бы не помнить! Неплохой был парень. Даже не такой полоумный, как Амели.
— А ты помнишь, как вечерами в грозу он влезал на холм и бил бидоном в бак для белья, чтобы прогнать молнии?
— И это тоже помню, само собой.
— Так вот, вчера вечером я было решил, что он, несчастный дурачок, вернулся. Вон те индейцы дикие до полуночи били в бидоны. Похоже, что теперь наравне с тамбуринами и тамтамами бидоны тоже ударными инструментами считаются. Раньше был у нас всего один сумасшедший, а теперь их и не перечтешь… В наше время один только юродивый грохотал по баку, а нынче это, видишь ли, музыкой зовется!..
— Странное дело, — удивился Сизисс, — я ровно ничего не слышал!
Что, впрочем, и неудивительно, поскольку Диковина, как и обычно, усыпил его своей трубкой.
— Иной раз, — пояснил Сизисс, — я всю ночь без просыпу сплю как сурок, и сам в толк не возьму почему. Ну, за твое здоровье, Глод, и помянем Блэза.
Они чокнулись, но тут же поставили стаканы на стол, даже губы не омочив: во двор въехал грузовичок торговца свиньями. Грегуар Труфинь, мэр их городка, вышел из машины в черной, туго обтягивающей его брюхо куртке.
— Смотри, Грегуар приперся, — настороженно сказал Глод.
— Чего ему от нас нужно? — забеспокоился Сизисс. Он инстинктивно не доверял всем властям, как общенациональным, так и коммунальным.
А Труфинь уже стоял на пороге, лучезарно улыбаясь нашим друзьям, как, впрочем, всегда всем своим избирателям.
— Здорово, отцы! Приветствую вас! А вы, я вижу, не скучаете, аперитивами заправляетесь, хотя полдень еще не наступил! Вот как живут у нас старые труженики-пенсионеры. Ах разбойники вы, разбойники!
Было ему пятьдесят лет, лицо цвета огнеупорного кирпича, и, очевидно в силу закона мимикрии, крошечные свиные глазки.
— Выпейте-ка с нами, — предложил Бомбастый, вопреки всем своим чувствам превыше всего ставивший светское обращение.
— Видит бог, не откажусь, — согласился Труфинь, садясь на предложенный ему стул. — Какая же нынче жарища! В доме все-таки легче, чем на дворе.
— На дворе и поговорить-то нельзя, — скрипнул зубами Глод, — эти иностранцы из нашей коммуны адовый шум подняли.
— Словом, вообще иностранцы, — уточнил Шерасс, — неизвестно еще, что там, в своих странах, эти иностранцы вытворяют!
Мэр запротестовал:
— У себя на родине они вполне приличные люди! Бельгиец — преподаватель в школе близ Намюра. А у немца и кубышка и животик кругленькие — он ведь инженер. Инженер — это тебе не дерьмо собачье. И прямо вам скажу, свои марки не глядя тратит. И умеет заставить работать на себя людей! Каменщики, штукатуры, столяры — там в Старом Хлеве все так и завертелось. Не говоря уж о местных налогах, которые он платит, это же для поселка просто золотое дно. Куда лучше для коммуны вот такие, чем, скажем, бедняки арабы. Правда, арабы арабам рознь. Тех арабов, что при нефти, я с открытой душой хоть десяток у нас здесь приютил бы, но они, видите ли, сюда не едут, а все на берег моря норовят податься.
Он тяжело, с явным сожалением вздохнул. Мысль о морском побережье его угнетала.
— За ваше здоровье, Грегуар!
— И за ваше тоже!
Вся тройка выпила, как пьют только мужчины, знающие, что такое жажда.
Труфинь изрек, нацелив указательный палец на свой пустой стакан:
— Ничего не скажешь, хорошо!
Бомбастый, смущенный справедливостью этого наблюдения, хмыкнул, но потом решил полюбопытствовать:
— А что, в сущности, Грегуар, привело вас сюда? Какие-нибудь неприятности?
Ликование Труфиня перешло в открытый энтузиазм.
— Вот и нет! Привез, скорее, добрые вести.
— Добрые? — Лицо Шерасса даже просветлело в ожидании добрых вестей.
Зато Ратинье, вообще не ждавший добрых вестей, на всякий случай насторожился:
— А можно узнать, какие именно?
Мэр разразился громовым хохотом:
— Подождите минуточку! Сначала я изложу вам общий план, это, по-моему, сейчас всего уместнее!
— Ах так, — помрачнел Сизисс.
Теперь Труфинь заговорил уже по-другому, солидно, веско:
— Возможно, вы не знаете, вы живете далеко от города, но немцы, бельгийцы — это для нашего местного бюджета не бог весть какое сокровище, и поэтому коммуна grosso modo[31] дышит на ладан.
— Да не одна она… — высказал вслух свои заветные думы Глод.
— Пожалуйста, не перебивайте меня каждую минуту, а то мы и до вечера не кончим. Скажем без обиняков: единственное, что может нам помочь, — это экономическая экспансия.
Ах, как был он лаком до экономической экспансии, этот Грегуар Труфинь. Два этих волшебных слова он произносил с тем же смаком, с каким выпивал ежедневно свои двадцать рюмочек аперитива, коль скоро он был коммерсантом.
— Французской деревне не хватает именно экономической экспансии, в ваше время о такой штуке и не слыхивали. Так вот, с помощью Раймона дю Жене и муниципального совета мы обнаружили ее, нашу экономическую экспансию. Экономическая экспансия, так сказать, породит занятия, которых сейчас нет. А их можно создать запросто хоть пятнадцать!
Он выпятил грудь, словно ее распирала администраторская гордыня, и бросил:
— Дорогие мои сограждане и друзья, через год, даже меньше, у нас будет парк отдыха, такой же, как в Тионне. Там он зовется «Ле Гутт», у нас будет зваться «Ле Жене», так как три четверти территории принадлежат мсье Раймону. Ну как, огорошило это вас, отцы?
Глод поскреб ногтем усы:
— Да уж огорошило, ничего не скажешь. А что это за штука такая — парк отдыха?
Труфинь фыркнул:
— Даже не знают, что такое парк отдыха!
— Ясно, не знаем…
— А это сейчас в большой моде. Вы что, ни разу в Тионне не были?
— Ясно, не были… Что нам делать в вашем Тионне?
— Ладно, ладно. Сейчас я вам все объясню. Парк отдыха — это не только экономическая экспансия, но одновременно и экологическая. Для начала берется несколько гектаров и обносится забором, а за вход взимаются деньги. На этой территории роют пруды для любителей рыбной ловли и купальщиков. Рядом устраивают всякие аттракционы, качели — словом, все для развлечения публики. Так как на наших гектарах имеется довольно большой лесной массив, запустим туда ланей, косуль, павлинов, пускай посетители снимают фильмы или просто фотографируют. А за все про все — словом, за рыбалку, купанье, аттракционы и прочая, прочая — надо платить! Надо, чтобы каждые десять минут посетители вытаскивали кошелек! Будет там также и ресторан. Буфеты. Продавцы мороженого. Вот что она, экономическая экспансия, нам даст! Короче, для нашей коммуны это же настоящее богатство!
— А мсье Раймон, — не без намека спросил Глод, — он что, от этого ничего иметь не будет?
— Конечно, будет, поскольку его вклад самый крупный. А мы добавим остальное. И будем участвовать в прибылях. Поняли?
Бомбастый решил, что пришла пора вставить ехидное словечко:
— Вот чего я не понял, зачем вы нам все это рассказываете? Что мы двое, к примеру, будем делать на качелях в вашем парке отдыха?
Труфинь расстегнул верхнюю пуговицу куртки, вытащил из кармана план, разложил его на столе, разгладил ладонями.
— Вот проект. И вас он тоже касается, друзья мои. Можете взглянуть, здесь нет ни секретов, ни тайн.
Бомбастый нацепил на нос очки, нагнулся над чертежом.
Мэр ткнул пальцем в какую-то точку.
— Смотрите сюда. Вот вы здесь, а Глод рядом. Вплотную к полю Глода будет примыкать автомобильная стоянка. А на месте поля мы устроим площадку для культурного отдыха, тысяча шезлонгов и какая-нибудь интеллигентная музыка, Моцарт, говорят, что ли, называется, но это не по моей части. На месте дома Ратинье и хозяйственных построек будет павильон для детей, чтобы родители тоже могли развлекаться, — ведь сюда будут разные люди приезжать.
— Что же, неплохо, — заметил Глод равнодушным тоном.
— Верно ведь? Вообще столько всяких идей! Полно идей, кишат прямо как в музее мсье Помпиду. А благоустройство территории — это вам не навоз возить, так они буквально сказали нам в префектуре.
— А что будет на месте моей халупы? — холодно осведомился Бомбастый.
— Посмотрите, тут на плане помечено: «На месте дома мсье Франсиса Шерраса со всеми пристройками и службами решено устроить обезьянью горку, обнесенную рвом».
Сизисс широко открыл глаза, поистине глаза шимпанзе, глядящегося в карманное зеркальце.
— Обезьянью горку?
— Совсем такую, как в зоосаде Венсена, Сизисс, точно такую! Уистити, они знаете какая приманка для публики! Я уже и сейчас вижу, как эти сапажу, мартышки, гориллы, выставив зады, скачут по пластмассовым деревьям. Деревья будут из пластмассы, теперь, говорят, такие повсюду применяют.
Так как Шерасс готов был взорваться, Глод повелительно махнул ему рукой, призывая к молчанию, и насмешливо спросил:
— А нас с Шерассом во что вы намерены превратить? В негритянок на арене? В клоунов? В муниципальных советников или торговцев свиньями?
Почуяв, что ветер резко переменился, Труфинь снова заговорил, пылко, но уже не без лиризма:
— Не сердитесь на нас, отцы! Все это организовано наилучшим образом и всесторонне предусмотрено. Экономическая экспансия не обойдет стороной и вас. Как вам известно, мы собирались на церковной площади построить молодежный клуб. Но предварительно, следуя демократическим традициям, посоветовались с молодежью, что еще осталась в поселке. Так вот, юнцы сказали, что предпочитают носиться по дорогам на мотоциклах, прихватив с собой девчонку, чем чинно играть в своем клубе в домино. Нашлись даже такие нахалы, которые заявили, что мы можем засунуть этот клуб не скажу куда. Так как строить клуб здесь ни к чему, мы тут же приняли новое решение. Вместо молодежного клуба мы возведем клуб для престарелых; там предусмотрен бильярд, комнаты для настольных игр, гостиная с телевизором и, что вас, друзья, должно особенно заинтересовать, четыре квартиры с душем, ватерклозетом, с центральным отоплением! У каждого из вас будет, разумеется, по квартире. Все будет новенькое, чистенькое. И все задаром, деды! Задаром! Ни гроша стоить не будет! Согласитесь, что прогресс — это же чудо! И разве не чудо экономическая экспансия! Полноте, не жалейте вы ваших антисанитарных лачуг — ведь даже свиньи нынче живут в сотни раз лучше, чем вы, на образцовых фермах и в показательных свинарниках! В богадельне за вами будут смотреть! Будут холить! Да вас заласкает общественная благотворительность!
На лицах его избирателей не дрогнул ни один мускул, и мэр прибег к самому своему вескому аргументу, который он приберегал для эффектного финала беседы, с целью окончить ее в свою пользу.
— Вы не только здорово, даже слишком здорово выиграете хотя бы на помещении и удобствах, но это еще не все, счастливчики вы эдакие! Ваши развалюхи, которые от силы три с половиной франка стоят вместе с вашими угодьями, у вас купят по высокой цене! А вы в свою очередь можете взять с собой в богадельню сотни бочек вина. Что вы на это скажете, ловкачи?
Бомбастый налил себе стакан перно, налил стакан Глоду, подчеркнуто забыв налить Труфиню, заткнул бутылку пробкой, запер ее в шкаф. От такого явного оскорбления лицо Труфиня порозовело, что для него означало побледнело.
— Ничего не скажем, — холодно заметил Глод.
— Не будь это прямым оскорблением, — заявил Бомбастый, — я попросил бы вас удалиться отсюда, впрочем, считайте, что я вас уже попросил.
Мэр поднялся со стула, свернул свой план экономической экспансии и, теперь уже побагровев, угрожающе тряхнул головой.
— В муниципалитете я сообщу, что вы полностью лишены гражданского и общественного чувства! Вы ставите нам палки в колеса из простого удовольствия всем все портить. Не будь вы больными и старыми, у вас просто отобрали бы ваше имущество, и никто бы не пикнул! К несчастью…
— К несчастью, вы не имеете на это права, — перебил мэра Ратинье.
— Ну нет! Законы у нас далеко не совершенные. Существуют даже такие, что защищают ретроградов и разных неандертальцев! Но не советую веселиться заранее, Шерасс и Ратинье! Недолго вам торжествовать! Через полгода бульдозеры и экскаваторы начнут грохотать у вас над самым ухом, уж поверьте мне на слово! А через год вы будете счастливы, что твои короли в праздники: в пятидесяти метрах отсюда на стоянке разместятся триста автомашин и тридцать автобусов! Не говоря уж о том, что люди будут глазеть на вас через решетку и бросать вам для забавы земляные орешки! А танцевальную площадку устроим вплотную к вашим хибаркам! Тут тебе машины сталкиваются, тут тебе детишки в мяч играют. Да вы сдохнете, старые мамонты! Зато, когда вы будете на погосте, коммуна хоть скинет с плеч мертвый груз и наконец-то сможет расправить во всю ширь крылья экономической экспансии. Приветик!
Как безумный вскочил он в свой грузовичок и, выруливая со двора на дорогу, взметнул из-под колес не меньше кубического метра гравия.
— Слышал, как я разговаривал с этой сволочью? — ликовал Бомбастый. Но тут же встревожился. — С чего это ты насупился, Глод?
Ратинье взорвался:
— Что же мне, радоваться прикажешь, что ли? Ты дальше своего горба ничего не видишь! Мы же теперь в самом пекле будем жить! В аду! Слышал, что это чудовище молол? На нас люди будут глазеть, если мы не пойдем в их чертову богадельню! А если пойдем, то через три недели от тоски помрем.
— Ты так считаешь? — пробормотал Бомбастый.
— Все к свиньям собачьим пошло, Сизисс. Ведь этот убийца так и сказал: нам, мол, только одно остается — подыхать. Скажи, можешь ты выдержать такую жизнь, если нас решеткой обнесут, а разные там японцы будут нас фотографировать, когда мы в нужник пойдем?
— Твоя правда, дружок, — не задумываясь, ответил Шерасс, он так же скоро умел огорчаться, как и поддаваться убеждениям. — Одно нам остается — покончить с собой. Согласен? Пускай будет сразу два удавленника!
— Помолчи ты со своими глупостями! Не всегда веревки рвутся. Выпьем-ка еще этого старого перно, который ноги горячит, тогда все обдумаем.
Он старался овладеть собой, успокоиться, зато Бомбастый лихорадочно строил один смертоносный план за другим. Ратинье размышлял вслух:
— Раз ничего поделать нельзя и эти дурацкие парки отдыха здесь повсюду понатыкают, можно было бы две другие халупы найти, переехать…
Вне себя от злости, Шерасс хватил кулаком по столу и только in extremis[32] спас от гибели оба стакана.
— Нет уж, не желаю, и все тут! Ни за что! Я здесь пятьдесят лет прожил и с места не тронусь.
— Да ведь и я тоже, как ты, мне ничуть не улыбается все бросать, а самому идти к чертовой бабушке… Это я и твержу…
— И потом, в мэрии все обрадуются, если мы сдадимся.
— Ну и что?
— А то, что давай бросимся в колодец, сначала я, потом ты! Или размозжим себе башку из ружья! Или примем вместе крысиного яда! То-то будет неприятно Труфиню — сразу два покойника на его совести!
— Возможно, и так, да мы-то этого из гроба не увидим…
Так и не придя к согласию, они одинаковым движением поднесли к губам стаканы и одновременно выпили перно.
— Стало быть, никакого выхода нет? — заметил Бомбастый, и слеза увлажнила его взор.
Глод сидел в нерешительности, вертя в пальцах пустой стакан, и наконец пробормотал:
— Возможно, и есть один… Сизисс. Только не знаю, как тебе об этом сказать.
— Говори, раз наше дело все равно пропащее.
— Сизисс… тебе бы хотелось дожить до двухсот лет?
Шерасс даже подскочил на стуле и уставился на друга со столь же явным, как его горб, страхом:
— Эй, Глод, ты сам-то понимаешь, что говоришь? Хочешь в такую минуту меня одного оставить? А самому укатить в клинику? Если такое случится, я тут же утоплюсь в Бесбре!
— Да брось ты каждые пять минут на тот свет собираться, прямо слушать тошно! Пусть даже я и похож на полоумного, вовсе это не так.
Сизисс хихикнул:
— Но ты же сам сказал — до двухсот лет!
— Да, до двухсот.
— Если ты не сбрендил, то это еще хуже. Вот что с тобой сделали два стакана перно подряд.
— Плесни-ка мне третий и слушай, что я тебе скажу. Но если ты мне не веришь, лучше я промолчу. Поклянись, что ты мне поверишь. Ну, поклянись же…
Все еще не пришедший в себя Бомбастый вытащил из шкафа бутылку и вдруг разошелся:
— Попробовать-то я не прочь, но шутка твоя о двухстах годах как-то нескладно началась. Хочешь, чтобы я тебе вот так сразу и поверил, а сам-то ты первый надо мной издевался из-за моей летающей тарелки, а я хоть сейчас готов помереть, если моя летающая тарелка не настоящая была!
В свою очередь Ратинье насмешливо уставился на него:
— Ясно, настоящая. Я ее, тарелку, раньше тебя увидел. Да что там, несколько раз видел-перевидел, и еще увижу, стоит мне только захотеть. Слушай, когда она прилетает, мы ее у меня в хлеву прячем.
В обоих зрачках Бомбастого отразилось по тарелке.
— Чего это ты плетешь, Глод?
Ратинье так и прыснул.
— Что же это такое, стало быть, теперь уже ты в летающие тарелки не веришь? Интересно получается!
— Раз ты ее видел, почему же ты тогда моих слов не подтвердил?
— Да не мог я из-за капустного супа, я потом тебе все объясню.
— Капустного супа? Что это ты раньше о капустном супе ничего не говорил?
— Верно, не говорил…
С несчастным видом Шерасс теребил поля своей шляпы, потом вздохнул:
— Это ни в какие ворота не лезет…
— Я тебе все объясню, сказал же, что объясню! А сейчас мне только одно интересно знать: хочешь ты дожить до двухсот лет или нет?
Сизисс чертыхнулся:
— Ясно, хочу! Скажи сам, разве ты когда-нибудь видел старикашку, который подыхал бы от жажды и при этом от стаканчика отказался?
— Значит, твердо решил?
— Конечно, твердо.
— А я вот нет… Потому что не здесь это произойдет!
— Пускай хоть на Луне, мигом все свои пожитки уложу!
— А дом?
— Первым делом шкуру спасать! Дом-то я с собой на кладбище все равно не уволоку! — Он сморщил лицо: — Одно тут не по мне, Глод, то, что я тебя здесь оставлю, а мне там одному пить… Сколько же это лет выходит?.. Целых сто тридцать лет!
— Ты меня не оставишь. Мы вместе с тобой уедем. И Добрыша в придачу захватим!
— И Добрыша возьмем?.. Ясненько… Раз он здесь… А он тоже, наверное, до двухсот лет доживет?
— Наверняка. Ну что, согласен?
— Да! — завопил Бомбастый. — Да, да и еще раз да!..
— Знаешь, ты меня почти что убедил. По правде говоря, когда я еще так и эдак прикидывал, о парках отдыха речи не было! А теперь дело другое. Лучше жить в небесах, чем бок о бок со стоянкой машин, да еще за решеткой! Стало быть, ты все обдумал, на все решился, Сизисс?
— Да! — снова завопил Шерасс.
— Не вой ты, как старый больной пес! Пойдем ко мне и все им скажем.
Сизисс от волнения даже вспотел:
— Кому… скажем?
— Диковине.
Бомбастый утер потное лицо носовым платком в крупную клетку.
— Диковина? Какой еще Диковина? Ты теперь уже с дикарями, что ли, говоришь?
— Нет, я просто его так прозвал, раз имени у него вообще нету. Славный малый этот Диковина. Идем, сейчас уже без четверти, а он вызывает меня ровно в час. Сообщу ему, что мы улетаем. Вот-то обрадуется!
Он поднялся. Вслед за ним поднялся Сизисс, окончательно сбитый с толку.
— Еду, старая ты диковина, еду! Диковина! Этого только не хватало! Только этого! Вот как в детство-то впадаем! Помешался! На тарелке помешался!
— Иди лучше и не болтай зря!
Бомбастый покорно поплелся за Глодом. А Ратинье пояснил:
— Ровно в час ты выйдешь, потому что аппарат может работать, только когда тебя здесь нету.
— Какой еще аппарат?
— Вон на буфете стоит, только ты его не можешь видеть.
— Вот оно как… — с сомнением протянул Шерасс. — Ведь я говорил…
— Пойдешь посидишь на скамейке.
— Да мне все едино… на скамейке или еще где…
— Но Диковина все устроит. Это из-за ихних волн. Вернешься, когда я тебя позову.
— Ладно, Глод, и будем мы с тобой жить до двухсот лет, — не без грусти согласился Бомбастый.
Когда пробило час, он тихонько выбрался из комнаты, присел на лавочку, молча переживая свое горе.
— Лучше бы это все со мной приключилось, — рассуждал он сам с собой. — Тогда по крайней мере не болтали бы обо мне разные гадости, не испытал бы я ударов судьбы… Никогда он не видел летающей тарелки. Если бы видел, не раздумывал бы так долго…
Ящичек заработал. Диковина ни разу не опаздывал, он не терял надежды уговорить Ратинье складывать пожитки. В комнате раздался его голос:
— Говорит Оксо. Земля, вы меня слышите? Говорит Оксо. Вы здесь, Глод?
— Здесь.
Бомбастый, не вставая со скамейки, навострил уши. Подумать только, вот уж его дружок говорит, и говорит с кем-то другим, это уж превосходит всякое разумение!..
— Есть новости, Диковина. Бомбастый тоже хочет ехать, и кот тоже.
— А вы, Глод?
— Если Бомбастый и кот улетят, и я, конечно, с ними!
— Наконец-то! Наконец! Вы доставили мне удовольствие, Глод!
— Это еще не все, Диковина, тебе надо с этим медведем Бомбастым самому поговорить, потому что мне он не верит. Все они, горбуны, одним миром мазаны. Пошуруй там в своих волнах, чтобы он мог тебя слышать и увидел бы ящик.
— Я вызову вас через две минуты.
Ратинье вышел во двор и за руку привел к себе Шерасса.
— Иди за мной и не воображай, что ты всех умнее, Фома неверный! Садись против буфета, а то, не дай бог, свалишься со стула и зад разобьешь!
Глод даже ладони на плечи ему положил, чтобы тот смирно сидел на стуле.
— Я отсюда ничего не вижу, — заскулил Бомбастый, на которого все же подействовала торжественность момента, — и не слышу ничего…
— Замолчи. Не баламуть зря волны. Там наверху заскворчит, ровно сало на сковородке.
— Да я ничего не вижу…
— Если волны у тебя от печени идут, не думаю, чтобы им удобно было играть в чехарду с твоим горбом.
Сизисс не успел ответить оскорблением на оскорбление. Прямо перед ним на буфете возникло черное пятно, приняло форму ящичка, и постепенно разгорелась зеленая точка.
— Не шевелись, чертов осел, — шепнул Глод, силой удерживая Шерасса, который чуть было не вскочил со стула.
Из ящичка раздался голос инопланетянина:
— Мсье Шерасс… Мсье Шерасс…
— Кто это меня зовет? — пролопотал Сизисс.
— Говорит Оксо, вызываю Землю… Говорит Оксо, вызываю Землю… Мсье Шерасс… Говорит Диковина… Вы здесь, мсье Шерасс?
— Да скажи «здесь», старый потаскун, — шепнул ему Ратинье.
— Это я… Франсис Шерасс…
— Не бойтесь, мсье Шерасс.
— Я ничуть и не боюсь, — ответил Бомбастый, которого била такая дрожь, что стул под ним чуть не разваливался на куски.
— Хотите дожить до двухсот лет, мсье Шерасс?
— Если на то будет ваша добрая воля… Если есть такой способ, чтобы этому способствовать, я не против… — с трудом выдавил из себя Сизисс.
— Значит, решено! Глод!
— Да, Диковина.
— Я прилечу сегодня в полночь. Обговорим подробности вашего отъезда. Вы мне представите мсье Шерасса. А суп будет?
— Как-нибудь уж сварим.
— А бутылочку поставите?
— Даже две.
— Значит, до вечера. До свиданья, мсье Шерасс.
— До свиданья, мсье Диковина, — из последних сил пробормотал Бомбастый.
— Диковина! — крикнул вдруг Глод. — Ты еще здесь?..
— Слушаю вас.
— У нас тут соседи есть, от них такой адский шум, что ты сам небось их за свои миллионы километров слышишь. Что-нибудь можешь сделать?
— Я сейчас же запущу им прямо в морду противозвуковую волну.
— Большое спасибо.
— Не за что. Я до того рад, Глод, что вы наконец решились! Рад, рад!
Зеленый огонь в последний раз ударил им в глаза, мигнул и погас.
— Вот оно как! — заключил Ратинье со скромной простотой, а его друг проглотил слюну с таким звуком, с каким раковина всасывает воду.
Окончательно развеселившись, Глод со всего размаху шлепнул Сизисса по плечу.
— Ну, что скажешь, старый дурень?
— Скажу, что, если ты немедленно не поднесешь мне стаканчик, я в обморок брякнусь.
Ратинье протянул другу стакан, тот хлопнул его одним духом, не пролив ни капли.
Со зловещим урчанием, издав напоследок с десяток до ужаса фальшивых нот, отдаленные тамтамы вдруг оборвали свой речитатив; задохнулись, как-то пришепетывая, громкоговорители, прицепленные к верхушкам деревьев. Чудесная тишина залегла над лугами. И вернулись с десяток птичек, осторожно, на цыпочках, и залились во весь голос…
Глод с Бомбастым уселись на скамеечку, водрузив между собой литровую бутылку, а сбоку у каждого стоял стакан. Пользуясь тем обстоятельством, что Шерасс все еще не мог опомниться, Ратинье рассказал ему во всех подробностях сверхнеобычайную, но, однако ж, вполне достоверную историю о появлении Диковины и их отношениях.
— Похоже, что ты с ним совсем запанибрата, — признал Бомбастый и добавил не без капли яда, именуемого ревностью: — Может, ты с ним больше, чем со мной, дружишь?
— Не болтай глупостей. Ты тоже его другом станешь. А друзей лучше всего иметь двоих.
— Как и папу, — ни к селу ни к городу сбрехнул Бомбастый. И добавил: — Вот я чего никак в толк не возьму, чего это им, твоим старым хрычам, так капустный суп полюбился!
— Из его разговоров я понял, вернее, кажется мне, что понял, будто капустный суп им удовольствие доставляет и что у них никаких удовольствий вообще нету. Ну, словом, вроде они Америку открыли. И что самое малюсенькое удовольствие еще лучше любой Америки.
Они докончили свой литр без малейшего угрызения совести, так как им теперь уже нечего было заботиться о собственном здоровье. Что бы они ни делали, сколько бы ни пили, ни курили, чего бы ни ели, все равно впереди маячила радужная перспектива прожить еще сто тридцать лет.
— А ты говорил Диковине, — спросил Бомбастый, — что мы с собой курочек и кроликов захватим?
— Пока еще нет.
— А ты скажи, милок, потому что овощи и сало дело, конечно, хорошее, но нам нужно и омлет съесть, и говядинки. На что мне лететь в небеса, чтобы я там в чем-нибудь испытывал нужду… Нельзя же с утра до вечера один капустный суп хлебать как каторжный. Кроме того, нет скотины — нет и навоза. А без навоза ничего не вырастишь.
— Верно ты говоришь.
— И аккордеон я тоже с собой возьму.
— Возьмешь все, что вздумаешь. Они подадут нам большую тарелку, и мы, что нам надо, в нее и погрузим.
— А скамейки тоже влезут?
— Почему бы и нет!
Бомбастый вернул Глоду недавно полученный от него дружественный тычок:
— Стало быть, нам еще сто тридцать лет на скамье сидеть, разговаривать, пить, воздух портить и на аккордеоне играть?
— Надо думать, что так оно и будет.
— А я боюсь, не слишком ли это долго?
— Ведь никто этого еще не видал, сами там увидим.
— Верно, будет еще время оглядеться.
— Правильно, будет еще время оглядеться.
— Мне, как и тебе тоже, не очень-то улыбается подыхать здесь и лежать в парке отдыха за церковью. — Бомбастый хохотнул: — Вот-то у мэра с его парком рожа будет, когда он нас разыскивать повсюду станет.
— А мы ему записочку перед отлетом оставим, — уточнил Ратинье. — Так, мол, и так, а мы по его милости вынуждены христорадничать по дорогам. Что, мол, двух несчастных стариков изгнала из дому экономическая экспансия, вот они и бродят, бедолаги, по всем дорогам Земли. Хорошенькая будет реклама для Труфиня! Вынужден будет, падаль, в отставку подать!
Громы и молнии позора, которые обрушатся на голову недостойного мэра, скоропостижная порча высокочувствительных передатчиков, которые юные немцы и бельгийцы безуспешно старались починить, не говоря уж о необъятной перспективе, которую сулило звездное изгнание, — все это наполнило радостью их сегодняшний день. После завтрака они забили свинью. Она тоже полетит на планету Оксо, но в засоленном виде. Потом, по совету Ратинье, они собрали всю капусту и сложили ее в мешки.
— Похоже, там у них наверху все здорово сохраняется, — пояснил Глод. — Надо думать, что поле дядюшки Мюло еще не вспахано и не засеяно.
— А кто там будет спину на поле гнуть?
— Там свои негры есть. В конце концов, они повсюду имеются, по всему свету! Насколько я понимаю.
Раз взявшись за работу, они выкопали и все остальные овощи, набили ими несколько ящиков.
— Глод, а сколько километров до их штуковины?
— Двадцать два миллиона.
— Да-а, это тебе не кот наплакал. Я вот, к примеру, дальше Клермона не бывал, ездил туда в тридцать седьмом году умирающую сестру проведать. А дотудова больше ста километров насчитывалось.
К вечеру оба их опустошенных сада и оба огорода являли собой печальное зрелище парижских скверов. И Глод, оглядываясь кругом, сам того не зная, перефразировал строки поэта:
— Но завтра на Оксо капуста наша будет еще краше!
Ближе к ночи они уселись на скамейку, созерцая звезды.
Скоро на той же самой скамейке, только в двух часах полета отсюда на тарелке, они будут любоваться чужими звездами, но литровка все так же будет стоять у них под рукой. Ничто не изменится, только жизнь будет длиться и длиться, и на сей раз не скоро еще кончится.
На гребне стены в лунном свете четко вырисовывалась тень Добрыша. Он тоже не спускал глаз с небес, и ему мечталось, что это там не звезды, а мыши. Он, со своей одышкой, с вечно слезящимися глазами, и не подозревал, что жить ему осталось еще сто восемьдесят семь лет.
В полночь Глод с Бомбастым увидели, как над их головой блеснул воздушный корабль Диковины, и оба наконец сошлись на том, что это и впрямь самая что ни на есть летающая тарелка.
Глава тринадцатая
Диковина охотно выполнил все их пожелания и даже капризы, до того он был счастлив при мысли, что теперь ему навечно обеспечен дома капустный суп.
На следующую ночь между двух домиков опустится грузовая летающая тарелка, и ударная бригада оксониан перетаскает туда ящики с курами и кроликами, просоленной свининой, капусту и все прочие овощи, целую груду деревянных сабо, скамейки, постели и всю мебелишку, не забыв прихватить стенные часы, печурку, плиту и бочки.
Диковина сказал, что перевезет Глода, Бомбастого и Добрыша на своей ультраскоростной тарелке. А позже, пока Оксо не находится еще на расстоянии двухсот тридцати восьми миллионов километров от Земли, команда инопланетян захватит также солидный запас табака и паштетов для кота, заберет на потребу новых компатриотов вино и уголь.
Когда все было обговорено, естественно, надо было выпить за скорый отъезд. В результате чего Диковина с большим трудом завел свой аппарат, который он по обыкновению загнал в хлев.
Поутру, когда они встали, Бомбастый заявил Глоду:
— Он, Диковина, славный малый, только, по-моему, здоровый алкаш!
— Верно, выпить он не промах. А ведь подумать только, поначалу он разные байки рассказывал, что, мол, алкоголя не переносит. А сейчас ложка супа, стаканчик красного, ложка супа, стаканчик!..
Разгулявшийся ветерок донес до их слуха перезвон колоколов.
— Ага, — протянул Ратинье, — это Труфинь своего сынка на дочке Фонтенов женит. Хочешь, пойдем туда и устроим им хорошенький бордель, чтобы мэру неповадно было.
Он изложил свой план Бомбастому, который в ответ только одобрительно захихикал. Затем Глод уложил в две картонки из-под обуви тысячу луидоров, аккуратно перевязал картонки, вложил в них следующее письмецо:
Дорогая Франсина,
Я уезжаю, слишком долго было бы объяснять тебе, куда именно.
Посылаю тебе немножко деньжат, так как там, куда я отправлюсь, деньги мне не потребуются, не то что здесь, тебе. Положи их в банк, пусть помаленьку размножаются. Только не показывай своему мотоциклисту. Это еще не значит, что ты знаешь мужчин, раз ты меня знала. Остерегайся их, как холеры. Все они вруны, воры и тому подобное. Целую тебя и снова желаю тебе счастья.
Твой старый Глод.
Нацепив через плечо солдатскую сумку, неся картонки в руках, он вышел из дому. Бомбастый присоединился к нему, помог нести другу поклажу. Направлялись они в городок.
— Скажи, Глод, а там наверху так же хорошо, как у нас нынче?
— По словам Диковины, да. Все наши горести и ревматизмы останутся здесь, сынок. Думаю даже, что мы обделали неплохое дельце, задумав улететь отсюда! С некоторых пор даже слепому видно, что вся Земля огнем охвачена, что скоро придется выбирать только между концентрационными лагерями и парками отдыха. Есть такие края, где на хлебе с водой сидят. А есть и другие, где лопают таблетки, чтобы переварить разные деликатесы, которыми обожрались. А возьми море, пропало оно к чертовой бабушке, там теперь вместо воды сплошной мазут, а чайки схватывают рыбешку величиной с граммофонную иглу. Я уже не говорю о тех местностях, где потрошат людей за милую душу на каждом углу, и конца этому не будет, потому что люди никогда не смогут увидеть себя со стороны.
— Верно говоришь, милок. А мы на них будем поглядывать сверху, с нашей скамеечки, попивать винцо и покрикивать: «За ваше здоровье, ребята!», и пусть они сами в своих делах разбираются.
Веселясь от души, как бы уже находясь в состоянии невесомости, они ласково похлопали друг дружку по спине. Впервые со дня сотворения мира два христианина были счастливы покинуть Землю, чего так боялись всю жизнь, равно как и все их современники.
В городке они первым делом зашли на почту, где приемщик, знавший Глода с Бомбастым уже десятки лет, обомлел:
— Дядюшка Ратинье… да неужели вы Франсине посылку отправляете?
— Нет, Виктор, не бедняжке моей Франсине, нет. Это одной родственнице.
— А я уж подумал…
— …что я сбрендил? Пока еще нет. Заметь, мне еще сто тридцать лет жить осталось!
— И мне тоже, — гоготнул Бомбастый.
Виктор решил, что они просто его разыгрывают.
Колокола снова подняли трезвон. Глод с Бомбастым встали у церковных ворот. Через несколько минут появился свадебный кортеж.
— Да здравствует новобрачная! — проревел Ратинье.
— Да здравствуют молодожены! — проорал Шерасс.
Грегуар Труфинь нахмурился и проворчал на ухо соседу:
— Что этим старым обезьянам здесь нужно?
Глод засунул руку в свою сумку, то же самое сделал и Бомбастый, и две пригоршни луидоров пролились золотым дождем на свадебную процессию.
— Осторожно, конфетки! — с громовым смехом рыкнул Ратинье, посылая вторую пулеметную очередь луидоров.
— Их, правда, не едят, но получается то же на то же! — крикнул Шерасс и тоже швырнул горсть золотых величественным жестом сеятеля.
— Да это же, черт побери, золотые монеты! — завопил новобрачный, бросаясь, как вратарь, прямо в пыль, куда вслед за ним рухнули и шаферы.
— Золотые монеты, — подхватил весь свадебный кортеж, рассыпавшись по земле на манер костяшек домино.
— Да не деритесь вы! На всех хватит! — кричали им Глод с Бомбастым, разбрасывая во все стороны луидоры, словно кропя стоящую на четвереньках толпу.
В несколько секунд вся свадьба полегла на землю.
Колотили друг друга.
Рвали друг на друге праздничные одежды.
Новобрачную хватили кулаком по глазу.
Мэр сцепился из-за монетки с кюре, прибежавшим на шум, и укусил его.
Мальчишки из хора тоже врезались в толпу ищущих и били их куда попало.
Старухи царапали друг другу физиономии, теряя в песке вставные челюсти.
Чья-то бабушка, дама весьма тонная, ползала, как удав, между дерущимися и прямо заглатывала попадавшиеся ей золотые.
— Смелей! Смелей! — покрикивали великодушные дарители, подзадоривая это стадо обезумевших баранов, осыпаемых чудесным золотым дождем.
Кюре, не выпускавшего добычу, затоптали.
В пылу боя стащили брючонки с мальчика из хора.
Ругались как извозчики.
Рассорились на всю жизнь.
Вцеплялись дамам в перманент.
Норовили стукнуть соперника башкой в нос.
В лучшем случае обменивались пощечинами.
На паперти то и дело завязывались новые схватки.
Повсюду кровь, пот, слезы.
Фатой новобрачной окутало учителя.
С одного благостного старца сорвали очки, а самого ударили его же собственной тростью по черепу.
Рвали друг с друга галстуки. Рубашки. Платья.
Мэр очутился без подтяжек.
Целили в жизненно важные органы соседа. Не щадили и срамных мест.
Кое-кому расквасили нос.
Чья-то сумочка выскочила за штрафную линию. Ее вбросили на поле ногой.
— Да есть еще! — надрывались Шерасс и Ратинье.
Град луидоров забарабанил по зубам какого-то вполне приличного господина, возвращавшегося из города, и добрался он домой весь в лохмотьях.
Подростки верещали как ошпаренные.
Кепи одного из стражников, до краев полное луидорами, кто-то ловко подбил ногой, как игрок в регби.
А потом уже незачем стало рыться в гравии. Незачем было копать его и перекапывать, оставалось лишь подняться с земли и кое-как привести в порядок непоправимо разодранные одеяния. Никто не видел, как улизнули Глод и Бомбастый. Напрасно свадебный кортеж оглядывался по сторонам кто подбитым, кто заплывшим глазом. Поддерживая панталоны обеими руками, Труфинь громовым голосом допытывался у своего помощника:
— Какую меру наказания можно применить к этим двум старым бандитам?
— Никакую, Грегуар, никакую, — ответил помощник, растирая щеку, на которой остались следы чьей-то пятерни на манер звезды. — Такова традиция — осыпать новобрачных монетами при выходе их из церкви.
— Но не луидорами же, черт подери!
— Это действительно не предусмотрено законом, но не думаю, чтобы оно послужило отягчающим обстоятельством. Уж скорее, все это сделано от доброго сердца.
Оставив позади свадебный кортеж, превратившийся в траурную процессию, распавшиеся семьи, рассорившихся любовников, навеки порвавших друзей, Шерасс и Ратинье с облегчением перевели дух и мирно зашагали по дороге к дому. Даже горб Бомбастого, казалось, веселился вовсю.
— Видал работку-то, Глод?
— В ихнем парке отдыха лучшего не увидишь!
— Труфинь здорово надулся. Наверняка придет нас костить!
— А вот я уверен, что нет.
— Почему это?
— Прежде чем нас костить, им надо нам денежки вернуть, а ни один тебе не вернет, держи карман шире!
— Об этом я и не подумал.
— Зато я подумал. Да они скорее все передохнут, чем хоть грош отдадут.
Пройдя еще немного, они повстречали мальчугана лет семи; заметив наших дружков, он быстро сдернул с головы беретик.
— Добрый день, мсье Шерасс, добрый день, мсье Ратинье.
— Постой-ка, паренек, — сказал Глод. — Уж больно ты вежливый мальчик. Уж не сын ли ты Пурийонов, что живут в Пти-Жавель?
— Да, мсье Ратинье. Меня зовут Максим.
— Конфеты, Максим, любишь?
— Конечно, люблю…
Глод вынул портмоне, вытащил оттуда франки, оставшиеся после обмена луидоров в Сельскохозяйственном кредитном банке, присоединил к ним всю свою пенсию:
— Держи, малый. Тут вроде бы четыреста тысяч наберется.
— Четыреста тысяч!
— Да, только смотри родителям не говори. А то отберут. Спрячь-ка их в металлический ящичек и снеси на чердак.
Затем Глод повернулся к Бомбастому:
— Вот что! Отдай-ка и ты ему свои капиталы! Там, куда мы отправляемся, они прах один!
Сизисс тут же вынул все свои деньги, вручил их мальчику, а тот испуганно пробормотал: «Спасибо, мсье!»
— Теперь ты, Максим, будешь верить волшебным сказкам о добрых феях, — улыбнулся Глод. — Только не треплись повсюду, а феи и впрямь есть. Даже наш Бомбастый — чистая фея Карабосс.
— Тоже мне остряк нашелся! — проворчал Сизисс.
Ратинье погладил мальчика по головке.
— Ну иди, Максим. И запомни: вежливость — великая штука.
Мальчуган еще раз поблагодарил стариков и умчался вприпрыжку не помня себя от радости. А Глод царственным жестом швырнул свое портмоне в придорожную канаву и заявил:
— И никаких удостоверений личности нам тоже не потребуется! Так вот, в наше последнее утро на Земле хочу тебе сказать, Бомбастый, прямо скажу, что мы чертовски повеселились нынче утром!
Оба чувствовали себя легче гусиного пуха, которым набивают подушки, легче листка папиросной бумаги, лежащей рядом с пачкой табака, легче мыльного пузыря, который выдувают через соломинку. Вступив на опушку новой жизни, сулившей им больше свежих и радостных впечатлений, чем даже военные действия, за ходом которых издалека наблюдает важный генерал, они чувствовали себя ровесниками отрока Пурийона, ровесниками цветущего в изгородях боярышника, воробьев, рассевшихся по веткам. Даже библейский Енох и прочие святые, взятые живыми на небеса, не возносились столь безмятежно, как собиралась вскарабкаться туда эта пара пройдох больше чем скромного социального положения. Готовясь помериться силами с самим Иисусом Христом на его собственной территории в день его вознесения, они точно на крыльях летели по дороге, топча ее, как виноград, глотая, как вино.
В полдень они закусили кровяной колбасой, приготовленной еще накануне, когда забили свинью. Бомбастый просто обожрался ею, поскольку ему теперь уже не приходилось беспокоиться о своем давлении, пускай оно так подскочит, что поставит в тупик докторов, энтузиастов своего дела, но в то же время подозревающих в каждом больном симулянта. С двух до шести они предавались сиесте.
Уже вечером Шерасс, вооружившись раскаленной докрасна кочергой, выжег на траве участка Ратинье круг.
В полночь они сидели на скамейке и под звуки аккордеона принимали винцо Сизисса крепостью в двенадцать градусов и ждали грузовой летающей тарелки, каковую и разглядели в небе сначала в виде все увеличивающейся точки, а потом она, как огромный зонтик, опустилась во дворе. Двенадцать здоровенных такелажников с Оксо в красно-желтых комбинезонах, кулдыча, как индюки, в мгновение ока перетащили внутрь тарелки весьма живописное барахло по указанию Глода и Бомбастого.
После погрузки скарба, когда тарелка стала похожа скорее на общественную свалку или на судно, забитое тюками эмигрантов, чем на выставленные на аукционе вещи в стиле Кристи или Сотби, оксониане раскланялись и, став друг другу в затылок, влезли по очереди в свой летающий грузовик.
И грузовик унесло, как зернышко уносит ветром. Лишившимся скамеек Шерассу и Ратинье пришлось сесть прямо на землю. Глод взял на руки своего кота, который хрипло мяукал. Хозяин погладил жалкую головенку, всю в шишках былых побоищ.
— Вот ты и уезжаешь, братец. Если бы ты остался здесь, ты завтра уж окочурился бы. А теперь завтра ты вместе с нами будешь в раю!
Когда спустилась тарелка Диковины, Глод со своим котом и Бомбастый со своим аккордеоном поднялись на борт, веселясь, как семинаристы на каникулах. С ними вознесся в небеса и ящик с литровыми бутылками — надо же поддержать дух во время путешествия.
В ту самую минуту, когда Клод Ратинье и Франсис Шерасс затянули во всю глотку «Есть нам что выпить в небесах!», за ними герметически захлопнулись дверцы тарелки.
Глава четырнадцатая
Карл Шопенгауэр, инженер из Штутгарта, выскочил из своего «мерседеса» с такой быстротой, словно упал с облаков или, на худой конец, с лестницы. Сурово оттолкнув жандарма, который попался ему на пути, он, точно снаряд Большой Берты, ворвался в жандармерию.
— Прикадир! — завопил он не хуже Гитлера на параде в Нюрнберге. — Я кочу кофорить с прикадир! Сейчас!
Разнервничавшийся Карл Шопенгауэр уже расшатывал радиатор батареи центрального отопления, когда вошел бригадир Куссине в пижаме и с коркой застывшего на лице мыла — в появлении его не было ни капли торжественности, что объяснялось ранним часом, когда человеку более пристало заниматься утренним туалетом, нежели международными конференциями.
— Что случилось, мсье Шопенгауэр? — строго осведомился бригадир. — В такой час не тревожат французскую армию! Ваш народ приучил меня к большей дисциплине!
— Я ошитал до утреннего часу, каспадин прикадир! — завопил немец. — Я фител нефероятный вещь, каспадин прикадир!
— Узпокойтесь! Тьфу, успокойтесь! Объяснитесь яснее!
— Я ситеть, — просительным тоном произнес Шопенгауэр.
— Конечно-конечно, присаживайтесь.
Инженер обхватил голову руками и начал свой рассказ, прерываемый изредка чисто щенячьим визгом:
— Так фот, каспадин прикадир. Я уже лешал. Так фот, мне понатопилось по нужте… Как пудет по-франсуски?
— Неважно. Я понял. Продолжайте.
— Слофом, удовлетворив свою нужту, я уфител столь хорошая погота и подумал шутошку погулять по пурпоннесской теревне. Это феликолепно, каспадин прикадир, грандиоз. Прямо Фатерлоо долина, я тальше шел. Мой гигенишеский и боэтишеский прогулка привел меня к дому каспадин Радинье и Шерасса.
— Вот как? — встревожился бригадир. — Ну и в чем дело?
На сей раз Шопенгауэр заговорил тоном Федры, терзаемой призраками.
— В шем дело, каспадин прикадир? В том, што я фител, как с неба упал летающая тарелка, как… завсем как конфетти в тень прастник. Я фител, как тарелка присемлился на поле. Я фител каспадина Радинье с его катце и каспадина Шерасса с его аккортеон, как они флезали в тарелка! А ф ней бил ошень непольшой шитель Марса, весь в шерсти и с хоботом вместо нос. Дочно!
— Ну и в чем дело? — повторил бригадир, машинально облизывая губы вместе с мыльной пеной.
— А в том, каспадин прикадир, тарелка улетел быстрее, чем ваш Конкорт. Каспадин Радинье и каспадин Шерасс были бохищен инопланетянами, фот и фсе!
Бригадир Куссине удрученно присел к углу письменного стола, задумчиво закусил зубами кончик своей барсучьей кисточки для бритья, пососал ее, как ванильное мороженое.
— И вы тоже, мсье Шопенгауэр! И вы! Если уж вы начинаете видеть летающие тарелки, то куда же мы все идем, черт побери! Куда идем! Завтра летающие тарелки увидят и нотариус, и доктор, и аптекарь! И я тоже увижу ее в тарелке супа! И префект ее увидит на коврике у постели! А кончится тем, что сам Жискар увидит ее в бюстгальтере Анн-Эймон!
Тевтонец не перенес такого недоверия. Всей пятерней он вцепился в воротник пижамы Куссине, и воротник остался у него в руках.
— К шорту ваш Шискар! Вы мне не доверяйт, каспадин прикадир, отевайтесь, я вас отфезу! Боняли?
Карл Шопенгауэр с точки зрения экономической был достаточно силен. Шопенгауэр был инженером в Штутгарте. После недолгого колебания Куссине ополоснул лицо, нацепил форму и уселся рядом с немцем в его «мерседес». А инженер, все еще не отошедший от пережитых волнений, гнал до Гурдифло машину с такой быстротой, что только три, а то и два колеса, а уж никак не четыре касались дороги.
— Фот, — заявил Шопенгауэр. — Пософите их. Если они отвечайт, я ставлю фам аберитив, как у вас коворится!
Бригадир Куссине, взволнованный, с пистолетом в руке осмотрел оба дома. Что верно, то верно — они были пусты. Не осталось даже кастрюль и стенных часов. Ни яичка в курятнике, ни морковки на огороде.
— Мсье Шопенгауэр, — еле пролепетал он, — это и впрямь удивительно. Вы говорили, что летающая тарелка приземлилась на поле?
— На боле каспадина Ратинье, фот и фсе.
— Пойдемте туда!
И тут бригадир Куссине обнаружил, к величайшему своему удивлению, круг выжженной травы, что считалось официальным и признанным начальством доказательством того, что летающая тарелка и в самом деле побывала здесь.
Бригадир составил рапорт, прочтя который вся редакция «Монтань» ржала целый день. То обстоятельство, что неопознанный летающий объект прихватил с Земли в качестве трофея двух полоумных стариков пьянчужек, целых две недели веселило журналистов.
На Монмартре распевали песенку о бригадире Куссине, его высмеивали даже в Брюсселе.
И с той поры во всем Бурбонне говорят, разумеется по легкомыслию, про помешанного, что он помешан, как жандарм из Жалиньи. Что отнюдь не радует его коллег, но пусть уж вся эта история останется между нами.
Примечания
1
См. «Литературную газету» от 10 марта 1982 г., «Грэм Грин обвиняет».
(обратно)2
«Знамя», 1976, № 9, 10.
(обратно)3
«Прогресс», 1979.
(обратно)4
Roger Grenier «Le Palais d’hiver», P., 1965.
(обратно)5
Мой бог — ничто (англ.).
(обратно)6
Чудесно! Чудесно! (англ.).
(обратно)7
О господи! (англ.).
(обратно)8
Простите меня (англ.).
(обратно)9
Подростки в возрасте 13–19 лет (амер.).
(обратно)10
Пока, дядя! (англ.).
(обратно)11
Нет никакого ладу в танцах этих, коль их заставишь танцевать: один начнет фолию, другой — алеману, а третий — менуэт. (Из оперы Моцарта «Дон Жуан»).
(обратно)12
Рауль Дюфи (1877–1953) — известный французский художник, близкий фовистам по колористическому решению своих произведений. — Здесь и далее примечания переводчиков.
(обратно)13
Жан Люрса (1892–1966) — французский художник, способствовавший возрождению искусства гобелена.
(обратно)14
Перевод И. Кузнецовой.
(обратно)15
Название испанского танца «фолия» созвучно французскому слову folie — «безумие».
(обратно)16
Первая строка из стихотворения «Разбитая ваза» Сюлли-Прюдома (1839–1907), поэта, необычайно популярного в свое время.
(обратно)17
Имя, созвучное французскому слову l’ange — «ангел».
(обратно)18
Антонен Арто (1896–1948) — французский писатель, поэт и актер.
(обратно)19
Перефразированная знаменитая формула Ж. П. Сартра: «Ад — это другие».
(обратно)20
Строка из стихотворения В. Гюго «После боя». (Перевод А. Энгельке.).
(обратно)21
Катары — члены религиозно-философской секты, возникшей в эпоху средневековья; они жили на юго-западе Франции.
(обратно)22
Герой повести Р. Стивенсона «Странная история доктора Джекиля и мистера Хайда» в результате раздвоения личности превращался то в духа добра, то в духа зла.
(обратно)23
Французские силы Сопротивления.
(обратно)24
«Вчера» (англ.).
(обратно)25
Мой бог! (нем.).
(обратно)26
Любовный зов креолки (англ.).
(обратно)27
А вовсе не Ла Палиса, как сказано в Ларусе. Жак II де Шабан, убитый в Павии, был сеньором Лапалисса. — Прим. автора.
(обратно)28
Солдатская песня, сложенная о прославленном полководце маршале Ла Палисе (1470–1525), кончается словами: «За четверть часа до смерти он был еще живой».
(обратно)29
Занимайтесь любовью, а не войной (англ.).
(обратно)30
Хладнокровный (англ.).
(обратно)31
В общем (итал.).
(обратно)32
В последнюю минуту (лат.).
(обратно)
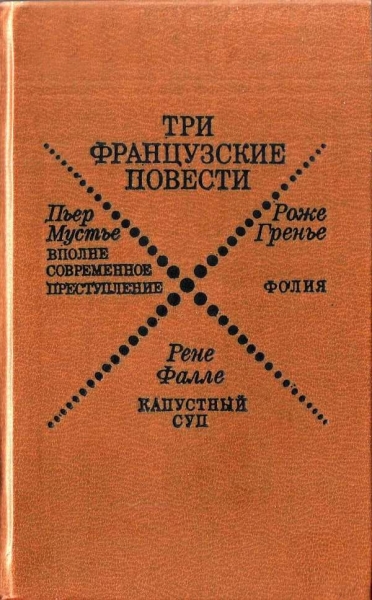



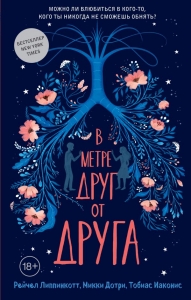

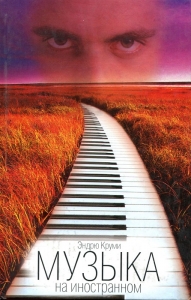




Комментарии к книге «Три французские повести», Рене Фалле
Всего 0 комментариев