Татьяна Хофман Севастопология
Tatjana Gofman
Sewastopologia
© Т. Хофман (Т. Gofman), 2017
© Т. Набатникова, перевод с немецкого, 2017
© Edition fotoTAPETA (Berlin), 2015
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2017
* * *
То ли дело рюмка рома, Ночью сон, поутру чай; То ли дело, братцы, дома!.. Ну, пошёл же, погоняй!.. А. С. ПушкинПредместьесловие
Прощай, милая буковка ß, не нашлось тебе места на клавиатуре впечатлений. Но я не держусь за старые знаки.
Ностальгия, топология… До распада ещё можно было меланхолично сочинять байки об утраченном прошлом и с любопытством открывать для себя настоящее – ныне мы растерянно озираемся в Восточной Европе, почти как в работах историка Карла Шлёгеля, который раскрывает в известном незнакомые ландшафты. Лестно узнавать, что так много уцелело из немецкого прошлого, а вот что появилось экзотического прямо у нашего порога и простирается почти до Москвы… Останемся при красивом культурном наследии на обломках прошлых и будущих войн.
Приятно читать о том, как быстро едва знакомые восточно– или центрально-европейские страны уверенно становятся центрально-европейскими демократиями (они становятся как мы!) и будят интерес своим пока-недоразвитием (где им стать как мы?). Читаешь, словно едешь, а чтение влечёт и манит все дальше и дальше. При этом остаёшься дома и взираешь с Запада – чем он не центр? – как отряхнувшие тоталитаризм приходят в себя воспрявшие, эмансипируются от зла и даже настолько уже хороши, что западнеют.
А есть ещё Швейцария. После двадцати лет в Берлине с неизбежными «наездами» – а весси ли ты или осси, а русская ли, украинка или берлинка, а то и вовсе понаехавшая, то ли ты родительница, то ли радетельница культуры, и last but not least, росла ли ты с детства с немецким языком и почему не полностью срослась – я со всем восточноевропейским пафосом и всей немецкой прямотой позволю себе наперёд заявить: именно здесь виден жизнерадостный баланс из тоски по родине в её старом привлекательном образе, вкупе с широкими возможностями для всех, кто работает и платит налоги. По крайней мере, в крупных городах и на праздниках окончания крупных университетов заметно, что треть людей родом из других стран, а для швейцарцев региональная принадлежность – вообще тема светской беседы.
Чем происхождение отличается от погоды? Оно приходит как погода – и уходит так же. Или остаётся на какое-то время. Например, здесь. Мне хочется прямо здесь, прямо сейчас, каждой фразой, каждым выпадом буквы найти опору в языке. Создать её, хоть топором, чтобы остановиться, оглянуться на остановке с удобной игровой площадкой для детей и взрослых. Встать в порту, где якорь достаёт до дна. И пусть бесплотный лоцман живо буксирует ответ на вытянутый билет.
Трэш мечты. По-настоящему стильный.
Аллитерация – волшебная палочка, которая снабдит звёздочкой произвол значения. В неуклюжем порой кроется настоящее: нестерпимые, неупорядоченные и не поддающиеся строю слои травматических шлаков, от которых не спасёт никакая диета. Помёт мировой истории, дымящийся по её стопам. Чёрный, тяжёлый, коварный. Рассасывается лишь в дурмане чувств, невозможно избежать заряда инспирации истории. Слух о Йозефе Бойсе в ухе – как блоха. Кой-кому пришлось там рухнуть и заново родиться, а кой-кому и не там, а где-то в другом месте приходится многократно умирать. Как ни крути, как ни вертись и как ни сваливай, а крымский жир прилипчив. Войлок навеки, воют чебуреки.
Прибоем подгоняет много морских метафор – и все избитые, как женское имя лодки, краска которой обветрилась и шелушится с бортов. Они не университетские, они универсальные и проверенно обветшавшие. Они тут как тут, стоит только бросить взгляд на озеро со стороны Бельвью, тут же всплывают, тонут и уходят – но нет же, они остаются, мы остаёмся, вы остаётесь: с ними здесь сживаешься, сжимаешься… Sorry. Морское не побороть, иногда оно оборачивается интимным. Благосклонные читатели могут прыгнуть за борт, если вдруг начнёт переливаться через край. Спасательные круги есть лишь в том смысле, что тоска по ним рано или поздно, на этом или на том берегу утихнет. Мои круги распускаются водяными лилиями, плывут по заросшему озеру к Моне, Розалия Шерцер им улыбнётся, Набоков в Монтрё отмахнётся. Целанчик, сыграй мне песню о спасительной игре слов. Моя песня всё равно останется чуть подкрашенной, как первый весенний одуванчик, как помада на молодых губах – как будто с Востока, как в аду начала 90-х.
Что там с той иной страной под именем Росс? Существует ли она ещё? Разве что в начатках называния, и я украдкой укладываю её в моё русское воспоминание. Оно помнит те территории, которые больше не принадлежат России – или уже опять принадлежат, но политически мои манипуляции настолько некорректны, что собственная цензура моей бедной головы сказывается на желудке – и на языке. Может ли русскоязычная диаспора, если её засунуть со всеми её ящичками в комод сверхслов, позволить себе разгладить смятые имена в черновиках памяти? Или её выкинут, как уже ненужные промокашки, задвинут под угловатый стол политики, поставят в угол стыда и совести с требованием исправиться, нет: демократизироваться? Могли бы мы это себе позволить – под тонким покровом текстов и под кровоточащими буквами запрашивать убежища для «русских» (whatever that means) постимпериальных комплексов? Не так уж сильно они отличаются от украинских или пост-югославских. Несносные местности. Cultural Cringe. Звучит хорошо. Критично. Так, что снова становится дурно. Проблемки в желудке закаменевают в прибрежную гальку.
Пробные страны, годовые числа, даты жизни превращаются во что-то другое, выпутываются из своей имматериальности, идут в «народ». Чем откладывать на чёрный день то, что они обозначали, лучше промотать на пару с парой глаз и все дела. Воспоминание и беспамятство, охота и неволя досыта належались, как лодыри на печи в русских сказках.
Севастопология. Collected fieldwords. Go for it. Стоп, это апология алогичности. Кое-что про это. Слова с тихого Дона, из скучного южного предместья Цюриха (моего Zur_ich, к себе) и иногда из отдалившегося, надёжно отдалённого, порой чувствительно шантажирующего берлинского Веддинга – моего монтажного пульта, моей собирательной линзы, сфокусированной на крымской сказочной стране, распавшейся и превратившейся в особый случай, но только бы не в случайность!
Здесь ты легко вплываешь в городские воды, фиксируешь блестящие поверхности, считаешь ступени холмов и крылья чаек, желаешь вечной жизни лебедю, едешь на велосипеде вдоль берега, вдоль несуществующих кулис и стен, въезжая в развёрнутый экран. Золотистое ли, серебряное, Цюрихское озеро может быть сколь угодно глубоким и широким – каким понадобится для мгновения. Если надо, бери. Вбирай. Предполагай. Кислород как вода, огонь как основа. Вода охватывает воздух и втягивает тебя в рисунок, который ещё не нарисован. Многие реки текут с гор. Стоят и ждут. Лимонад Лиммата – противоядный лимонный сок. Речушка Зиль избавит от избытка.
Прикрепи себе за ворот определённое чувство жизни, заражаясь от Крыма, которым здесь поражаешься. Он бросается на тебя как ликующий пёс, смахивая хвостом даль знакомства. Экзальтированные замахи. В таком объятии даже городская собакобояка испытывает озёрнозабавную радость. Идеальный же читатель пусть себе позволит по-детски стать хоть щекотливым щенком, хоть белой белочкой – где-то это должно быть разрешено. Хотя бы коротко, но не кротко. Ибо что есть пафос, а что есть китч, до этого нам не донырнуть в словоморе. Мы надеемся на встречное течение удовольствия, хоть с вольностью, хоть с недовольством русскими. Только бы с лицом, открытым на восток.
Главное направление: настроение, определение, которое берёшь изначально, когда спешишь, например, в магазин и вдруг невольно замедляешь шаг при виде яркой зелени и яркой синевы, коронующих новостройку. Слева луг, справа проносится кабриолет, немного повыше – две коровы, над всем витает лёгкий дух навоза, а может, это лишь навеяно солёным морем из-за гор. Небо хоть в кино снимай, облака сбиваются в нежные шапки сливок, впереди ресторан, обычно закрытый, за углом био-хозяйство, дальше – лошади и пара высотных домов, снаружи притворно социалистических, напоминающих, что это ещё город, хотя он тут кончается. Вокруг твёрдая уверенность, что этот мир не переменится, а если вдруг – то к лучшему. Как в той рекламе – it's cool, man.
Франтоватый флот, униформа матросов в чёрных брюках, расквашенных, как нос боксёра, опорная нога рекламного щита у самой воды, плакучая ива, капающая патокой… Sorry. – Как часто я здесь слышу это вежливое слово. Что ж, я не могу говорить об этом no-другому значит, будем ломать копья за патерналистскую и родноязычную выразительность речи всеми средствами благородной иронии, которая никого так и не защитила от упрёков и разночтений. И я ломаю: гордость и любовь, привязанность и зависимость. Святое, о котором полагалось бы молчать, чтобы оно оставалось святым и прекрасным. Сокровенная, истинная связь, которую едва ли отыщешь в пост-постмодерне, разве что под маркой гуцульской романтики или антисоветской подпольной борьбы.
Идентичность, это недослово эпохи, бьётся в жилах, бренди-иденти. Вынуждает шутить над болью сердца: круговое укутывание против нормированного дискурса культурного пространства. То, что звучит так сухо и неаппетитно, может быть сочно, креативно, и: креольски, крымски – только не кремлёвски (!) – аттрактивно откорректировано. Несмотря на чистосердечнейшие усилия в корректном немецком, я не в ладах с сослагательным наклонением и прошедшими временами (в русском языке удобней, есть только совершенное и несовершённое, и хотя то и другое ускользнуло и заржавело в прошлом веке, след остался). Очерчивая мелом этих строчек Крым, надо бы всё же бросить его, мой якорь. А я вновь поднимаю его, чтобы сдвинуться с места. Иначе невидимый канат утянет меня вдаль, к этому почти предосудительному краешку земли на Чёрном море, который плутовато косится на юго-запад, подмигивая Альпам. Маленький трамплин, катапульта без промаха. Полуостров лихо гикает с палубы: двигай. Но не забывай.
Я пишу не только с оглядкой на братские могилы и те горы, что у меня за спиной, но и с некоторым неудобством, что «моя личная территория» заболтана, политизирована, изрыта враждой – если это не произошло уже тогда, когда я катала своих кукол в уголке, в самодельных колясках. Если Стасюк&Со могут иметь свои малые родины, то и я могу устроить посиделки, даже если на них не явится никто, кроме моих тогдашних кукол.
Крым и так разобран по косточкам, спору нет. Мало того, что я больше двадцати лет назад потеряла его переездом, эмиграцией на буксире родителей в Берлин, так ведь и люди, оставшиеся там, лишились его тоже. Потому что пришла пора Украины. Мои родители, не дожидаясь обещанных улучшений, занялись улучшением сами.
Может быть, мне следовало здесь заговорить об инфляции и некоторых варварских обычаях времён перестройки, о которых провинциалы (а провинция на постсоветской территории – всё, что вне Москвы и Петербурга), были отнюдь не так говорливы, как люди Запада. Я никого не ввожу в заблуждение, кроме себя самой, Крым погибал в 90-е годы. Если что-то во мне и отважится возразить, то лишь с аргументом культурного наследия, респектабельным в любом краю: что-то всё же закрепилось в восточном духе, что-то от меня самой застряло там, что-то я взяла с собой, а поскольку у меня не получается экономить в такой богатой стране, как эта, я поделюсь с другими многочисленными written HerStories. Мне хотелось бы попробовать того каравая, подойти ко всему тому как Хоми Баба, только скорее на деле – не примыкая к нему и не опираясь на него, а просто – как homo баба.
Многое уже не помню, не всё ухватишь буквами, что-то шёпотом ворчит про шок, что-то тает как шоколад, а что-то парит кашей геркулес по утрам. Пришлось отведать яблока ещё до наступления рая. Позволю себе роскошь обойтись без взвешенности, без предметности, без мнений и суждений других. Проветрю подушки, встряхну внутренние монологи, логова языков и пейзажей. Доведу их до ручки. Прогулочная акция с массивной – вплоть до агрессивной – неразберихой чувств. Дам место тому, что не нашло себе адекватного ящика для переезда и подходящей полки ни в моей жизни, ни в жизни других за два десятилетия активного становления немкой и начисленных неудач в этой части. Я прибираю, расчищая место этой звёздной пыли – вытряхиваю остатки в бутылку и запечатываю для отправки бутылочной почтой. Почтовая марка: вид из кресла на озеро, чистое, как альпийская вода из-под крана, и опорная спинка гор.
Прыгаю по скалистому гребню schon-гармоничного Утлиберга, утли-гармоничного Шёнберга, танцую с ядрёными красотами машинерии имиджей Крыма. И тает лёд, шумят потоки, зеленеет луг. Это восстание против повседневной ненависти, за не-политическую весну. Просто за весну, неорганизованную. Которая может быть лишь запоздалым хаосом. А кто опаздывает, того наказывает Горбачёв. Его реформы запоздали, это политическое высказывание, которым я ограничусь, раскрывая границы ассимиляции как симуляцию.
Перед тем, как что-то толкнуло меня в письморе, я читала, что люди в Крыму считаются особо советскими, особо ностальгичными, как нарочно в том паршивом городе Севастополе, где чокнуты на героях, в свободном падении автономной республики. Месяцами про это талдычат газеты, толкуют о моём аргументе и факте, моём немом шумке невыгоревшей солнечности – сбережённой в каждой веснушке и в каждой родинке (нем. Leberfleck). Родинка не имеет ничего общего с печенью, а в русском языке имеет что-то общее с родиной и может означать маленькую родину – как водка означает уменьшительную форму от слова вода, не правда ли?
В моём дремучем, нет: в моём древесно-уютном, на взгляд отсюда удобно скроенном и хорошо темперированном крымском кризисе я чувствую себя так, будто постоянно расхаживаю в майке и мастерю из газеты шляпу от солнца и нашлёпку на нос. Я могла бы чувствовать и свою принадлежность к России, это было бы ясным внешнеполитическим решением внутреннего конфликта.
О чём-то в этом роде размышляли вслух мои родители, они хотели подать заявление на росс, гражданство, чтобы мне больше не мучиться с визами. Ходили в русское посольство в Берлине со своими советскими паспортами. Им сказали, что их паспортам больше двадцати лет и что им сначала нужно получить украинское гражданство (и это стоит слишком много, прежде всего преодоления нестремления к нему), потом отказаться от него и только после этого подать заявку на росс. гражданство. Поскольку они уже не имеют отношения к России, как им заявляют, а я вообще не была никогда гражданкой. А вдруг – слышу я – украинцы скажут, что нам надо отказаться от немецкого гражданства, чтобы получить украинское? И что, если мы потом не избавимся от украинского?
Так мы и дальше живём с немецкими паспортами. Советские паспорта родителей лежат как незаконченные романы в выдвижном ящике в их спальне. Такие выставочные предметы надо бы в семейный архив. Его нет. Тайком их сфотографирую, когда снова окажусь в Берлине, а лучше бы хранить их у себя, чтобы показать детям и внукам.
Объяснения про Крым – хрипят, царапаются, измеряют глубину причин и лепят расхожие лозунги. Снова и снова в ту же точку, до мёртвой скуки. (Когда я вырасту, я спрошу эту мёртвую скуку, да была ли она в Севастополе?) И тут же, как на ладони, исторические необоснованности, логические пропасти. «Русские – стервусские» – повторяет мой сын то, что подхватил в школе на перемене. На вопрос, говорит ли он уже на цюрихском диалекте, он заявляет, что и не должен – я-то ему сказала, что это было бы неплохо, но он по-русски строптив, и мне с тяжёлым сердцем приходится это проглатывать с чёрным чаем, такова судьба – ведь он же немец, как он заявляет. Слова его отца отдаются эхом. Отклик нашей берлинской капитуляции, бегства от проклятий. И от удушающей хватки, от нападок, от удара по столу нашего Степана, как мы его звали: «Говори по-немецки, чёрт бы тебя побрал, или иди в свою степь!»
Колыбель ортодоксии, защита отечества, место романтической тоски, строго стратегический стиль улицы. Несуразный – таков мой немецкий, ходульный, деревянный, я так и не выбилась с ним в высоты буржуазии, и тут не помогут ни титул «д-р», ни кресло. Зато такой стиль будет неукротимым, пардон: неповоротливым, медвежье-сибирским. К тому же втащу контрабандой пару выдержанных интертекстов из экстраординарной литературы, которую мы сохраняем пуще всяких паспортов, у них прочный рельеф, и – хочешь не хочешь – горы гордости вокруг них.
То, что для одного – защита границ, для другого – варварство, нарушающее границы, и вот у нас уже идёт позиционная война. Одни жесты чего стоят. Угроза и власть. Нелегальное. Угольное и игольное, всё в иглах, ледяных, колючих и всё же идущих от сердца – в сердцах от многого выговариваешься и на многое уговариваешь себя. Россия для Крыма, дескать, лишь одна глава из многих. Да, но одна из актуальнейших и продолжительностью более 230 лет.
Важно понять, почему для другого что-то важно, хотя и путь туда неровный, и возврата не будет. Это важное – реальность многих, которые чувствуют себя русскими, – неважно, каким образом, в Крыму и вне Крыма.
Можно было бы провести сравнение. Среди цветущих деревьев, окрылённых первым весенним ароматом, похожим на рисунок блузки из розового, белого и жёлтого, с видом на горы Цюриха – видом, которому пыль Сахары придаёт ещё немного тяги к дальним странствиям – вдруг возникает лишний вопрос: как долго Швейцария существует как Швейцария и какая глава предшествовала этому пятнышку земли на политической карте мира? В качестве сравнения между двумя разными райчиками, рассматривая со всех сторон, от волка до зайчика: кто-нибудь усомнился, что этот круговой перекрёсток кантонов важен для швейцарцев? Что считать годы, если есть несколько поколений, которые в настоящем, в этой зыбко ограниченной современности чтения и письма разделяют одно понятие о родине в отношении этого округа, района, квартала, деревни, горы, страны, полуострова. Что делать? Осудить это или распространить в народе, что он интернационализирован – всем добровольным участникам показать, что они при чтении могут немного попробовать Крыма, и навести их на мысль, что они у себя тоже имели и имеют свой юг, своих героев, свои поля для зарисовки, свои игровые уголки и свои углы, куда их ставили в детстве.
Я не хотела бы писать объяснение про Крым, скорее уж – отправить обращение к нему. Оно просится наружу, вылететь, пойти поиграть. Этакий голубь мира-блин-радости. «Голубь мира – crêpes – радости» должен окрепнуть и слепо лететь туда, куда его влечёт, будь то берлинская зона или город Беллинцона. Он должен спокойно облететь Цюрихское озеро, я прилагаю усилия к дресс-ировке – оденусь намного лучше, чем раньше. Я твёрдо верю в этот особый воздух, в этот свет и эту лёгкость, здесь и сейчас. Здесь gross с долгим О-о. Здесь сожалеют, что не сообразили раньше, как увильнуть от нажима прусских впечатлений, а теперь это требует уже серьёзной восстановительной работы часовщика.
Впрочем, один взгляд на карту – и не так много фантазии понадобится, чтобы провести бережно-небрежные сравнения, добиться баланса (прочь, каламбуры, тут дело серьёзное – ввести «это» в текст, на поводке, навеселе, при галстуке и шляпе, и дело будет в шляпе): Крым лежит лишь чуть южнее Швейцарии и по площади чуть меньше, чем она. Если их вырезать и наложить друг на друга, кое-где они могли бы поласкаться краешками.
Или перестать дурачиться.
Но было бы занятно глянуть, на что придётся бухта Севастополя. И точно, на Тессин. Биографически это звучит хорошо, да и окрашено в рифмованные дополняющие краски: между Севастополем и Тессином – Берлин. Беспечный Тессинчик, мне бы поехать к тебе и поведать об Анне Кесса. О ней с восторгом вспоминает мой сосед восьмидесяти лет – с первого же раза, как он со мной заговорил. Она, мол, подавала лучшее в Тессине русское меню к обеду, а я, мол, готовлю не хуже, и запах моего борща (звучит почти как Борхес) пробудил в нём очень давние воспоминания об этой русской поварихе. Он принёс мне книгу с её автобиографией и попутно рассказал, как его дед, работая в библиотеке дома литературы и продлевая необычные книги одному молодому человеку, таким образом познакомился с Лениным и пригласил его к себе на картошку, запечённую с сыром. Моему соседу было за него стыдно: почему без мяса? Как видите, мои цюрихцы водят знакомство лишь с самыми незаурядными русскими. В кавычках, как водится.
Я не хочу отчуждаться. Вся чокнутость эмиграции – единственно плод отчуждения: чужой здесь, чужой там, чужой самому себе, чужой чужим, вплоть до отрыва от культуры, вплоть до потери всех смыслов, вплоть до того, что ничего уже не чуешь. Хотя, может, даже «чушь» означает что-то важное и весёлое на каком-то из чужих языков. Бесчисленные конверсии в чужую валюту, с потерями на обменном курсе. Добрый день, я Ч.Ч. Чужая в любом смысле для всех, таким образом нельзя по-настоящему с кем-то познакомиться. Рано или поздно я становлюсь здесь настоящей немкой, заносчивой и неадекватно бестактной. В Германии, кстати, спрашивают теперь, не швейцарка ли я, а раньше: см. выше. В Москве я через неделю воинственных самозапретов бываю опознана как наша, своя, только благодаря языку и некоторой эмоциональности (имперской, какой же ещё), с которой «посылаю на хрен» кой-кого – с его теорией заговора и антисемитизмом, – хотя этот «хрен» означает, что путь в неприличные глубины русских вербальных полезных ископаемых ещё далёк. И если украинец признаёт во мне украинку, я не отрекаюсь – это создаёт на время гармоничную причину быть вместе.
Неважно, насколько тверда валюта, твёрдость закалки валидней. Свидетельства об идентичности ошеломляют вновь и вновь, они действуют как обвинения, если ожидаемый образец не оправдал себя. Едва «обосновался» один атрибут, как появляется следующий, для которого полагается найти элегантную вставку, подходящий тон. Только я не музыкальна. Что мне нацарапать на берёзовом стволе? Здесь была, там любила, тут погибла. Бережно, на бегу: меня ничто не мотивирует. Всё пропало, собирать нечего. Текст нанизывает бисерный блеск, а не сами жемчужины, но, может, он сведёт меня и тебя с ума, как раньше нас сводил вид с балкона на машущие стройные тополя, так что мы соберёмся, а то и сойдёмся погулять.
Так вот, отрыв – наибольшее отчуждение, какое можно допустить. Тут нечего добавить, только собрать и снова спустить сквозь пальцы. Дать превратиться в набор букв, указывающий на некогда жившую, прожитую, пролюбленную – любимую – атмосферу с чёрным чаем, четырнадцатью чумазыми чертенятами и китайским термосом в розовых розах. Сверхчувственный опыт. Сугубо немецкий забор из сетки-рабицы светлых и приглушённых тонов, переплетённый и преодолённый старой доброй соседкой.
Моё Мигро
Я никогда не была готова вспоминать о моём детстве и о его конце – эмиграции. Вместо этого я могла пройтись, может быть, по объективным датам моей жизни и по ходу нескольких жизней, которые содействовали осуществлению моей. Мне и нужна утраченная память, мне нельзя помнить себя полностью, иначе будет запечатан источник желания вспоминать. Боязнь, что вытесненное будет жить собственной жизнью и однажды нанесёт ответный удар из универсума, и страх утонуть, оказаться заведённой не туда, подвергнутой воспоминанию – обгоняют друг друга. Я жду, когда память сама даст о себе знать, когда она распрямится во весь рост, отчеканятся её оттиски и впечатления, её чтимые и читаемые следы. До тех пор, пока она не испарится.
Я жду уже давно, как раз с того момента, который можно назвать переживанием миграции. Это странное понятие: оно обозначает нечто завершённое, как первое посещение магазина на новом месте. Переживание пережил, после этого имеешь множество дальнейших переживаний, которые наслаиваются друг на друга, так что самое первое просвечивает лишь в некоторых местах. А эмиграция – это событие, которое не прекращается, это нон-стоп фестиваль нон-фикшн. Она не завершается чисто телесным отсутствием или присутствием. Иногда её вообще больше не чувствуешь, а потом вдруг чувствуешь отчётливо, иногда она погладит тебя подспудно по ноге как кошка, которая хочет подластиться, но этим маркирует свою территорию – она как река, которая легко, мимоходом влияет на настроение в городе. К ней быстро привыкаешь, быстрее, чем к морю или к озеру, свет и воздуховолны которых меняют облик города неожиданно и весомо.
То переживание я уже почти «забыла», однако когда мой сын завопил, явившись в мир, и я решила, что русский язык звучит успокоительно, то состояние часто возвращалось, кричало на меня ещё громче, чем младенец, и от него прибавлялось материнского молока; казалось, его хватит не только для одного, и что-то нагнеталось. В моей деревне, в городе, за горой Энтлисберг, пока ещё не застроенной, дышится глубоко – над последним красным экспрессом дня и прежде, чем актуальный мир взорвётся. Я отважилась выдохнуть.
С тех пор я вымотанная, покупающая те же самые продукты в сети «Мигрос» мигрантская тётя. Кормящая самкамама. Так положено, чтобы поддержать жизнь себя и ребёнка – и ребёнка в себе. Мне уже больше не подсовывают обыденное блюдо «будь чистой немкой», этого от меня уже не ждут. Иногда мне здесь говорят, что я не немка, это заметно ещё и потому, что я говорю на «телевизионном немецком» без регионального акцента, и здесь об этом заговаривают со мной чаще, чем в Берлине.
Там, в «плавильном котле», в самом хипповом из всех немецкоязычных городов (слишком много проглотили каши для грудничков?) на нас – мать и дитя – смотрели как на иностранцев, делали нас (меня снова) таковыми, и удивлялись, что мы тоже говорим по-немецки. Рано или поздно возникал вопрос, почему мы не всё время на нём говорим, если уж можем. – В этом нет ничего особенного, нэма проблэмы, как тут вежливо уверяют на каждом шагу. И тем не менее, достало до молочных протоков и самых старых дружб. Это вам не поверхность озера, что своим небесным отражением одинаково окутывает лощёных коренных жителей и несколько более необычных посетительниц пляжа, так что все краски природы, великолепные даже в дождливую погоду, напоминают о человеческом ничтожестве и о том, что при любой погоде живые существа способны во всей красе проявить присущие им свойства. Параглайдинг в рай. Настало время прекращать с пара-фразированием, пара-текстами и бес-парностью. Этот вид спорта был бы вполне в духе советских фантазий о покорении космоса. Да, пора, сестра, пора: вставай и двигай дальше, да хоть в Москву.
Вопрос культуры речи не сравним даже с тёмной тучей. Он любопытно склоняет свою голову как гигантский дразнящий вопросительный знак, спрашивает, кто ты, почему живёшь как метонимия зла (государства, палача истории), почему ты не такая, как все, хотя могла бы, или могла бы быть другой как-то по-другому: по-берлински прямой – без горных ландшафтов, без многослойности, без общих историй, просто без связи с чем-то плохим.
Свободное падение вытесненного родного языка. Язык моего отца был немецкий: будучи сыном завоевателя Берлина, он первые годы жизни провёл в Потсдаме под присмотром немецкой няни. Лет десять спустя он учил корейский язык, в больнице на острове Сахалин. Этот остров как Исландия, только без гейзеров, кто-то мне говорил. Мой отец несколько лет прожил в этой дальневосточной Исландии, потому что деда сослали туда вместе с семьёй – за что, никто не знает. На этом жестоком Сахалине мой отец получил воспаление почек и проблемы с печенью, так что подолгу лежал в больнице. В одной палате с корейскими подростками, которые научили его своему языку. Недавно в самолёте рядом с ним сидела женщина из Кореи, они поначалу говорили по-немецки. Потом он что-то сказал на её родном языке и порадовался, как оторопело она тут же перешла с ним на «ты».
Когда в 1993 году мы приехали в Берлин (Лихтенберг, серый перрон, серое небо, гримасы прибытия), он не помнил почти ни слова из своего бывшего родного языка. Он разучился ему. Точно так же с украинским. Как и моя мать, он провёл юность в Виннице, одном из промышленных городов Центральной Украины. Я иногда звоню родителям и спрашиваю, что означает то или иное украинское выражение, которое не нахожу в словарях. Если трубку снимает он, то мгновенно находит перевод. Я не верю ни одному его слогу, он без труда изобретает семантические оттенки, которые ему лишь мерещатся. Мама, что это значит?
Мама, мне кажется, рада, что последнее слово – за ней. Поначалу, когда начались мои расспросы, она удивлялась – не столько моей новой работе, сколько тому, что она оказалась востребована со своей языковой и культурной экспертизой. Якобы бесполезный украинский язык, ха, смотрите-ка, даже он может быть важным. Знать языки, говорила она, не на горбу носить. Нет, говорит она теперь, «Г» нужно выговаривать мягче. «Эс» тоже мягче! Своего внука она иногда называет пусятко (Pusselchen, дудит словарь Duden). И это при её языковом пуризме.
Ещё одна заслуга моей матери та, что в моей стержневой семье не говорят друг с другом ни на немецком, ни на его смеси с русским, а говорят на чистом, почти пушкинском русском. Её средство для этого столь же простое, сколь и последовательное: она поправляет всякого, кто допускает ошибку в речи. Она исправляет даже редакторов русских газет и ведущих радиопередач. Но это другая история. Как и та, что в какой-то момент мы больше не разговаривали между собой, я почти разучилась родному языку и записалась на славистику чтобы не потерять тот слой языка, который на глазах высыхает, черствеет и крошится, как остатки моей прежней жизни.
Может быть, с языком всё обстоит так же, как и со всем остальным: он не исчезает между сознанием и бессознательным. Даже если он недоступен напрямую, он оставляет межъязыковый слизистый след, указывающий на одновременное присутствие нескольких языков, что хорошо видно на примере плохих переводов. Когда излагаешь, но ещё не изложил, когда промахиваешься в парадигме, но этим и даёшь понять, что перевод подобен упражнению, в котором проигрываешь заданные ноты, а получается всякий раз другая музыка, и тогда тупо цепляешься за подол юбки исходного текста и боишься его отпустить. Но знаешь также, что есть потенциальные читатели, которые точно так же запутываются в языковых нитях мышления оригинала, слышат сходную музыку и прослеживают этот улиточный темп, который парализует тебя и не даёт перейти от одного языка к другому. Наверняка тренировка помогает. Побежать в круглую кабинку для переодевания на пляже, сперва выплакать грим старой роли и быстренько снова взбежать на сцену, не пропустив свой выход.
Измельчённая в крошки метафора навязывается уже вся изношенная, как сувенир из вторсырья. Как обиходный язык, который остаётся после того, как золотой словарный запас рассован по тайным банковским счетам, отстал на пути (в интеграцию?), перерезал кабель, опустошил молочный канал. Как воспоминание, которое выковыриваешь, или которое пробивается наружу, вычёсывается, словно барашек, взбегающий на гребень волны. Так мы называли пенный гребешок волны на море при сильном ветре, рожки его непокорности – индикатор того, годилось ли море для пляжного дня или было опасным.
Иметь наготове несколько подходящих ответов, дружелюбных по отношению к слушателям, адекватно ориентированных на горизонт ожидания. Да, там было хорошо! Нет, там не повсюду холодно! Нет, не сегодняшняя Росс. Советский Союз. Нет, республика Украина, официально, и: автономия при ней.
На вопросы, как же было «там», в другой жизни, на другой планете, отвечайте лучше сами, ведь вы точно следите за медиа. Кстати, та другая планета находится на том же континенте: Крым – это всё ещё Европа, хотя погодные карты его отсекают и хотя мы перед заплывом говорили друг другу: «Смотри, не уплыви в Турцию!»
Я не заступница ни России, ни Украины, я вообще не понимаю больше ни ту, ни другую страну, хотя и пытаюсь о них иногда робко высказаться. Я защищаю мою крымскую мистерию, мой вольный Крым, мои крымские свободы, Krimfreiheiten, фр-кр и кр-фр. Франция? Crème fraîche? Кефир? Сметана! Немножко. Мы обмазывались сметаной после солнечных ожогов, и этот великолепный послезагарный лосьон обтекал мою кожу и изменял моё нутро, вместе с тогдашним солнечным блаженством, так сказать: матросская татуировка сплошняком. Я ручаюсь за согласный перекат гальки и гласные фабулы моря, прибитые к берегу для купания в куплетах описания. За Крым, как он накатывал на меня при возвращении в Цюрих (крымня, забери-меня), нёс меня и захватывал с собой, хотя так и не научил меня плавать, но и не расплылся во мне. Крым, который навылет меня ранил и подбил на этот текст. Фирменное блюдо в кафе «Вост. Дух»: сливочная крымская волна на десерт. А перед этим на скорую руку рыбные котлетки, южные по природе.
Переживание миграции – это как переживание инициации? Переходной, перекатной, неуклюжей, внезапной, с горизонтом перед глазами, где Камышовая бухта и где вода целует облака. Хотелось бы всё же сделать наглядным когерентный нарратив, который мы наклеим на К. как марку с Запада, сунем вожделение в набежавшую волну и сбрендим, как будто напившись сладковато-южного, подпалённого солнцем крымского бренди и наигравшись в потопленные корабли.
Крупноячеистое плетение сети идентичности на примере смещения языка и места. Попытка увидеть собственную маленькую историю, втиснутую в поток общедоступной наррации, ритмизированной нумерацией страниц – вот рацион балбесного и колбасного. Нанести её на сибирскую берёсту, переработанную ИКЕА в чудесный блок для заметок, или на глобально-безликий козырёк бейсболки. Пересказываемость хромает позади. Выросшая, природно-ризоматическая, ароматическая homo баба-рассказочница. И это тоже – название блюда, за которое меня никто не поставит под наблюдение, даже ради шутки в цюрихской Гесснер-аллее.
«Вост. Дух» представляет: рассказочная homo баба – мерхаба, тешеккюрлер, мерси большое, нам не терпится расслабиться при помощи культурной карусели.
«Мне чудно», как здесь говорят, выражая любопытство к чему-то. На этом месте хотелось бы подилетантничать по-швейцарски, от растерянности иногда случается маленькое чудо. Повернём хотя бы колесо фортуны, если уж нельзя повернуть назад колесо времени. История одной композиции, которая объясняет переходную фазу к сути дела.
Между прочим, у меня есть один любимый писатель, помимо Диккенса: Александар Хемон. Я потом перечитаю его вдоль и поперёк, когда буду на пенсии и со свободным временем, или дождусь открытия нашего бистро, где это пойдёт, в обществе читательской группы. А пока – вот кусочек из интервью с ним:
«Разница между истинной и вымышленной историей состоит по мнению большинства читателей в том, что последняя содержит выдумку, но в языке боснийцев, как и в других славянских языках, этой разницы не существует. Мы делаем различие между правдой и неправдой, а не между выдумкой и невыдуманным (…)»[1].
Чисто писать
Было бы адекватнее писать акварелью, чтобы клише средиземноморского тепла, мечты туриста и в общем весь шарм (по-русски: Хармс, Даниил) преподнести так наглядно, чтобы даже в мыслях не возникло, что нечто подобное могло происходить где-то ещё, кроме Крыма. Но мне не удастся подтвердить неповторимость. Следы трансформации, которую суждено претерпеть акварельным эскизам при переводе в вербализованные очертания, мне не спрятать.
Империализм как впрессованный импрессионизм: я вообще не отличала в гавани красивую природу от военной техники. Солнце отражалось в кораблях так же, как в листьях акаций. Зелёные тона, запахи масла. Воздух, напоённый желтизной, белые цветы акаций. Единство, не немецкое. Всё подходило одно к одному, я сама тоже. Однозначно. Я была частью целого. С моими двумя косичками, красными бантами, вздором в голове, однажды и вшами в волосах и едким керосином для их истребления. Огонь пожара на коже головы, свежеотмытой от вони, лоснящейся и как заново народившейся, внизу на заборе перед родной двенадцатиэтажкой. Другие дети меня расспрашивали, куда это вдруг на целый день пропала.
Бесконечные летние каникулы грозили разом исчерпаться. Я пойду сразу во второй класс, объявила я, ещё ни разу не ступив на порог школы, и кто-то сказал: «Вундеркинд». Звучало у меня в ушах как Кинг-Конг. Ничего обидного, подумала я, главное снова очутиться среди вас, моих любимых монстров, во внутренних дворах безграничной наружности улиц, а не внутри на седьмом этаже. Никогда бы я не подумала, что однажды пропаду оттуда навсегда.
Эту окраину, этот город, этот полуостров и, вероятно, Россию – этот огромный покров героев над моей обесвшивленной головой – я любила без всякой амбиваленции.
Сегодня в ассортименте: бутерброд империо. Любовно запечённый сэндвич из сдобной плетёнки, три слоя, подплывает при подаче как корабль, в рот так и прыгает, как свежевымытая семилетка на улице, в платье в горошек с рукавами, присобранными в «фонарик». Бутерброд обещает блаженство ничего не понимающего вундеркинда. Или другой бутерброд с Восточного вокзала – откидывается, захлопывается – моцарелла на чёрном хлебе из дрожжевого теста, поедание под кантату Моцарта, толика Габсбурга утоньшает европо-критический вкус, помидоры, базилик, вперемешку окрашенные купола церкви, блины с икрой или чечевица. Наш «Вост. Дух» ещё зреет под красной кожей. Наша жизнь может быть стройкой и не одной. Безродной, беззаботной, бесстыдной.
Корабли и ремонтировали в порту, это я помню. Их могли поднимать, и кран походил на гигантский вопросительный знак.
Школа для дураков
Любовь к городу входила в школьную программу я не могла иначе, мне имплантировали в лобные доли мозга аппарат с названием Digging towards history. Не towards, а позади. Нет, позади – никогда, всегда только вперёд! Я ведь стала уже октябрёнком, почти что пионеркой. Никогда не стояла в почётном карауле у Вечного огня. Не носила красный галстук. Красный, как кровь, как революция, алый, как утренняя заря в порту над внуками героев в городе-герое и как ждущий нового выхода в море крейсер Аврора, одно название которого уже ласкает слух, как первые, ещё неопасные для анемичной, бедной меланином кожи, солнечные лучи, предвосхищающие день, который решает всё в будущей биографии.
Учитель истории стоял у доски или между рядами: огромный мужчина с сизоватым лицом – то ли распухшим, то ли в рубцах, из лягушечьего ракурса гротескно искажённым – и строгим голосом. Он диктовал кровожадные ужасы. Когда в восемь или девять лет ты заносишь историю города в тетрадь в клеточку – десятилетие за десятилетием, войну за войной, одно число жертв за другим, – а на полях рисуешь косички, чтобы лучше сконцентрироваться; когда ты перед следующим уроком проходишь каждое пушечное слово, прогрохотавшее на бумагу из этого массива, словно чётки, когда ты по нескольку раз перечитываешь и учишься воспроизводить это более или менее наизусть, то всю твою жизнь ты будешь жить в плену этого слоя абстрактного страдания, подкормленной гордости и победно-торжественно-скорбного чувства, в центре старого доброго черноморского мира. Ведь добровольно, нет? Ты точно такой же его инвентарь, как ион – твоя кулиса, без таких людей, как ты, он бы рухнул, ты несёшь его с собой и вовне. А что касается героев, тут у тебя дыхание пресекается оттого, как храбро они сражались, эти притягательные мамонты в мавзолее урока истории. Однажды ты внезапно замечаешь, что могла бы и остаться такой же, окончательно и по-настоящему. Когда я стану великаном… Название фильма, снятого в Севастополе. Останься я там, я была бы пишущей стихи школьницей средних классов, которая в лифте многоэтажки поднимается ночью наверх.
Ты замечаешь, что у тебя нет шанса жить ни с той историей, ни внутри неё, ни на её поверхности, ни в сливочном содержании правды, которое она могла бы иметь для этих ставших фиктивными людей, которые для тебя были так же нормальны, как униформы, школьный завтрак и томатный сок в огромном стеклянном конусе у троллейбусной остановки. Ты не убежишь от неё, тебя макнули в эту тунику из тонкой синей школьной шерсти, и чем сильней ты стараешься соскрести её с себя сладким печеньем Russischbrot, сухими углами твоего строптивого немецкого, тем больше замечаешь, что эта патина покрывает тебя благородной сединой и морщинами сомнений. Гнев воюющих героев, доспехи женщин-рыцарей, индустрия морской гигантомании делают тебя уязвимой, и ты ищешь место, где это не действует. Тихие стежки́ стишков – ахиллесова пята, не иначе! В этом месте царит нехватка рифмы. В Леймбахе таблички гласят: запрет на верховую езду. В Реймбахе ручьи смывают ил с дурных рифм, если они до него достают. Мы хотели бы вновь захмелеть у Рейнского водопада. И вернуть символы в жёсткие рамки.
Там – и в воспоминании: ты бежишь по ней, ведь история несёт тебя, на каждом квадратном метре, который, как мы знаем, пропитан кровью двух годовых осад, в Крымскую войну и во Вторую мировую. Кровь и почва, это тебе ещё ни о чём не говорит, ты впитываешь это как одиножды один, это первое абсолютное знание, и становишься отличницей по математике, потому что твои родители предсказали: как дочь двух инженеров, ты будешь способна к точным и естественным наукам. По ходу учебного года ты понимаешь, что учитель истории вовсе не злой, а состоит на службе любви, каждым сантиметром своего импозантного роста. Колосс миннезанга. Он влюблён в город, во все многочисленные, поддающиеся учёту и всё же непостижимые ситуации, которые выстрадали герои его учебных историй. Он подводит тебя к купели местного патриотизма – и в ней же тебя топит. Нет, он крестит класс, чтобы тот верил ему, невзирая на урчащие пустые желудки 90-х годов и на бизнес – и жизненные цели, позднее сделавшие полкласса созревшими покинуть город, страну, не подходящую городу, не подходящую новой Украине погибшую Советскую Россию, не подходящую старому Крыму имперскую шумиху, весь тот набор долгосоветских и примитивно-антисоветских отношений, этот «конструктор» из никогда не поддающихся сборке кубиков Рубика. Массово покидали, но никогда не забывали. Мы только не научились придавать памятному городу и произвольному диктату воспоминания другие значения, кроме заданных, унаследованных. Придавать и прощать, создать бы такой учебный семинар.
Он не мог ничему помешать – время пришло, как и должно было: имперская крымская шумиха. Крыматорий.
Памятники Ленину, Нахимову и Суворову (подтягивается и переход через Альпы) – в этом смысле – памятники для нашего учителя истории. Как они взирают со своих постаментов на сократившееся с годами население! Им уже не вернуть прежнего величия, все гласные сделались полугласными, а оставшиеся аморфные скульптурные массы можно уподобить школьным классам на перемене во дворе, а то и туристам, проходящим мимо или поджидающим кого-то, – им не слишком рады, потому что они всё равно приходят, хочешь ты этого или нет. Памятники всё реже говорят людям о чём-то, они становятся свидетелями суеты внизу и вокруг них на пустеющих и вновь наполняющихся площадях, свидетелями переписывания истории, когда площади Свободы становятся местами вознаграждения за предписанную демократизацию – и они видят, как сцена наносит ответный удар лицедеям.
Что говорит мне город-герой? Что он сопротивлялся остальному миру на 200 лет дольше, чем я? Что русский мир в касках возвращает его естественным образом в русскость, что он сияет в своём историческом и культурном превосходстве даже и не по-русски, дополняя северное сияние. Пёстрый букет – без которого не может быть накрыт ни один торжественный праздничный русский стол. Как-то так. Я спрашиваю себя, в моей детской наивности, которую я не могу стряхнуть с себя, разве что иногда в sophisticated German, но и здесь лишь так себе, как русские солдаты были замаскированы в Крыму, я спрашиваю себя в экзистенциальном непонимании, что теперь означает «русское» для других и для меня. Я могу постичь это меньше, чем украинское, с которым я эмоционально дохожу до границы, так сказать, внутренней, личной границы приличия и дистанции. Русскому, каким я его знала, я давно разучилась, онемечилась и обозначаю это ещё раз: я впустила в свою взрослую жизнь этого захватчика, базирующегося в родном порту, только с рождением моего сына – не в последнюю очередь со словами вежливости. В качестве доброго зелёного человечка, который из отчуждения всего вокруг превратился в единственно собственное. Это не вина сына, он говорит, вторя своему отцу, что он немец, а я русская. Он мог бы мне выписать паспорт. Я уверена, он найдёт решение, учредит эффективное и честное государство насекомых – Инсектенштаат. Тогда я буду его инсектианка. После чего мы чокнемся крымским сектом, не сталкиваясь лбами с коллегами и не беря себе в голову новые аргументы и факты.
Пожалуйста, добавьте на полях меню «Вост. Духа»: крымский сект, игристый, чокнутый, ударно-возбуждающий.
Наш учитель истории был не меньше двух метров ростом (я уже упоминала это?), он был таким же огромным, как значение этого города, а его уроки действовали на нас как массаж всего тела. Итак, весь класс учил наизусть его надиктованные лекции по истории, чтобы хором в разных местах мира невербально разглашать их. Я слышу, как другие прислушиваются к временам школьной униформы, я вижу их сидящими перед телевизором и слепо вздыхающими, моя татарская одноклассница чувствует нашу веру в непоколебимость нашего тогдашнего города: и все мы едины в нашей разъ-единённости. Мы давно забыли, какие даты и битвы тогда у нас в одно ухо влетали, в другое вылетали, но теперь мы стали пионерами в метрополиях этого ещё не затонувшего мира. Галстуки взлетают в воздух как шляпы с острых умов бюргеров. Тем не менее, в следующей поездке в Москву настоящий русский этого не увидит, ему нас не понять своим застывшим сердечным холодцом, следы крови выводят на ложный след.
Наш город изнежен, заметьте, мои героини. В продолжение всех войн длится эта жалкая оборона, почти столь же долгая, как беременность, а потом она падает, с почестями, полная невредимых пострадавших. Уже, кажется, давно отстрадали, но нет, дело обстоит так, будто осада ещё видима – как досада быть забытой невидимкой. Вдруг в этом городе, с вашего разрешения, ровное возрождение с проводами для праздничной иллюминации. Провода разбегаются лучами как трубопроводы. Если в Бельгии прокладываются подземные трубы для пива, то Москва давно проложила тайный туннель в Крым для закачки мифа. От историков железной дороги это ускользнуло. Увы, историю тоже можно утаить, сохранить и родить.
Во всех остальных местах, конечно, потерпишь провал, хотя был себе на уме, но не страшно. Нам успешно вбили эту обречённую на неудачу любовь к пространству – потерпело поражение и это, разве что мы транспортируем её на планету нашего мира представлений, вместо того, чтобы парализованно наблюдать, как желтеет последний остаток неустанно спокойного летнего детства. Наш город, священная корова, чреватая историей, что из него выйдет? – Чего только он не выдержал. Тогда и мы выдержим многое и много битв с мельницами, независимо от местонахождения. Смотрите же, эти сильные крылья, что вращаются на ветру! Турки, англичане, французы и немцы и кто там ещё, кто знает, когда и кем закончится собирание.
Полуукраинским русским из Москвы. Небесные глаза, пшенично-русые волосы, симпатии падают то на чёрную землю, то на Чёрное море. Он похож на мою лучшую подругу в Берлине, а через двадцать лет, пожалуй, будет похож на Хрущёва. Он ещё никогда не был нигде западнее Белоруссии. Он подарит мне назад мой Крым? По крайней мере, Кострому, Можайск, Бородино, Полоцк, Ростов-на-Дону Коровье, Пахтино и Псков он послал, и меня туда же – чудесные фото с пространными объяснениями по архитектуре и истории, так что здесь искусство стоит в центре жизни, в простой жизни человека, о котором мои друзья спросили бы меня, из какого русского романа он родом.
Он возникает сам собой в аэропорту, в отглаженной рубашке, с горячей головой и обезоруживающим рецептом из приличия, плана путешествия и шуток. По дороге в город он смахивает слезу растроганности. Неделю спустя в поезде на Домодедово у него идёт носом кровь. Он говорит, что у нас нет ничего общего. Логично, жёстко, неопровержимо. Это его не остановило перед тем, чтобы понести меня на руках, когда дорога к монастырю в босоножках стала непроходимой.
Я смотрю на всё, что он с трепетом показывает, и вижу нечто, чего он не хотел бы видеть: он тоже постоянно работает над своей идентичностью. Со времён коллективного переходного возраста 90-х и тех времён, которые мы разделили бы, останься я «там». Он укрепляет её, гордо претендуя на древне-русские места, и дышит их genius loci. Как бы сильно ни привлекала его духовность и эстетика священной истории, религию он отвергает. Он лазит по остовам монастырей, служивших нацистам для тренировки по стрельбе, а десять лет спустя ставших здравницами. Остатками фресок он напитывает свой личный опыт за МКАДом капитализма – фрагмент за фрагментом, уголок за уголком.
Пока православная церковь и государственные музеи спорят между собой, кто должен реставрировать столь чуждые и столь родные ареалы монастырей, он входит со своим намётанным глазом и взведённой камерой в церковные нефы, искренне защищая свой атеизм и вылетая вон, как только священник пытается наставить его на истинный путь, – вон в своё как пространственное, так и временное кочевье. Москвичи спрашивают меня, где я откопала такой советский экземпляр моего возраста, он давно уже стал раритетом в нашем поколении.
Моя машина времени ведёт меня попутно железнодорожной ветке, которой я, должно быть, уезжала из Москвы в Берлин. «Видите, ваш поезд с родины проезжал мимо Бородина». Он фотографирует меня на провинциальном вокзале, пронзительно уводя меня в прошлое. Мотив при нажатии кнопки: устало улыбающаяся туристка, прошедшая поле битвы с танками и приручёнными журавлями, у красной электрички в мужских носках на натёртых ногах, позади Наполеон и Вторая мировая, поглядывает на мирное закатное солнце.
Мы вдумчиво читаем Войну и мир Толстого, прежде чем разругаться после Бородина. Я вижу, он смотрит на предвзятость, которая до сих пор встречалась мне лишь как школьный материал и в тетрадке интерпретаций к драме идей Лессинга Натан Мудрый, как на историческую правду. Я вижу, как вспыхивает проекционная моторика, и прилежно тушу её, когда слышу: «Но что общего у всего этого с моим отношением к вам?»
Меня очаровывает его пост-волгодонский проект. Он родом из южно-русского города, который вырос из земли – или, пожалуй, из Волги – как советский промышленный проект. Маленький город на водохранилище, в котором не хранится почти никакой истории. Теперь мой спутник пытается наполнить себя огромной досоветской историей. Он видит её сохранённой в его Центральной Европе, «центральной зоне», как он говорит, – в радиусе ночной поездки на поезде от Москвы. Где-то там и «его» деревня, которую он заново отстраивает, с палисадником перед избой. Он не желает слышать, что ландшафт из окна поезда похож на Бранденбург, Мекленбург-Померанию или Польшу.
Я пишу ему: мои родители и я подаём заявление на гражданство, мы (мы?) хотим узаконить то, что мы, крымчане, чувствовали, чувствуем и будем чувствовать себя русскими, аминь. Он этого не одобряет. Я должна оставаться для него Западом, а он для меня – Востоком, нам не надо двигаться с места. Ему требуется различие, чтобы чувствовать свою историю, а мне – симбиоз, чтобы следовать моей истории. Зачем вам это? Он спрашивает это в точности как русские из посольства.
Мы чокнутые, пожалуйста, никогда не обменивайте советские паспорта родителей. Это музейные экземпляры! Уже одно то, что излучают их лица – куда более молодые и куда более утомлённые – на никогда не выцветающих чёрно-белых фотографиях, – пронзает насквозь. Позвольте мне только – без консульских проволочек – переписать моё детство с опытом, перешагивающим через визы. Иначе мне придётся построить здесь машину времени, а ещё лучше – машину пространства, подъёмный кран, поднимающий настроение э-кран (электронный кран) – и надеть очки Dolce&Vita для прямого провидения советского way of life.
Тогдашний урок истории заканчивается упражнением в переводе. Москва, не будешь ли ты так любезна построить дополнительный трубопровод, вложить дымящуюся трубку в рот кому-то, кто способен поэтически выдувать из русского в немецкий? Выдуть облачка слов, которые – как источник изначального потока – дали бы меткому слову просочиться в мой речевой поток. Это было бы полезное изобретение лучшего будущего.
И вот милый неославянофил, ощетинившись, пишет примерно следующее:
Привет, Т.!
Спасибо за фотографии. Некоторые подписи под картинками вызвали у меня улыбку, иногда из-за Вашей иронии, иногда из-за весёлой орфографии. Современный Берлин, судя по этому, напоминает общим колоритом Москву или какой-нибудь другой русский мегаполис. Наверняка имеется и определённая специфика местных условий, и тем не менее доминирует дух глобализации. А я-то полагал, что в Европе этим не страдают, однако и бабушка Европа изрядно затронута этим. В России, правда, глобализации содействует одна национальная черта характера… Это очень хорошо описано в рассказе Лескова Запёчатлённый ангел:
«Англичанин улыбнулся и задумался, и потом тихо молвит, что у них будто в Англии всякая картинка из рода в род сохраняется и тем сама явствует, кто от какого родословия происходит.
– Ну, а у нас, – говорю, – верно, другое образование, и с предковскими преданиями связь рассыпана, дабы всё казалось обновлённее, как будто и весь род русский только вчера наседка под крапивой вывела».
Кстати, коль уж я упомянул Лескова, рекомендую Вам прочесть его рассказ Железная воля о различии между русским и немецким национальным характером. Я уверен, Вам понравится».
Опрятная адресаточка отвечает дневниковой записью из ранних произведений забытой поэтессы из Райникендорфа незадолго до смены тысячелетий. Этот актуальный пример иллюстрирует национальный характер, который не спутаешь ни с чем, так он трещит и скрежещет:
Новый год Мне снился в эту ночь большой салют в маленьком Севастополе. Неброские в старой одёжке, люди стояли на козырьке, благоговейно глядя с горы туда, где базар и где меня нашли в капусте. Яркие звёзды быстро взлетали, медленно падали вниз за знакомые здания. Свеже лучились фигуры, улыбчиво и живо, ромбы и овалы. Девочка с косичкой в белом фартуке, школьный подворотничок мальчишек — всё это стало тесным. Едва родившись, уже выросли. Ароматы имён как пряности. Вещи имели свой масштаб. Небесный фон — занавес из тёмного бушлата — я молча прорывала раной губ. С дедушкой семечки лузгать в звуках солнечного кларнета на площади прогулок, на праздничной лестнице в тенистом уголке. Навеки пышет панорама: Нахимов, мужество матросов и что-то там ещё. Над головой простёртый кров. Фланель розовой пижамы.Буревестник
Оползень земли, холощёные слова, утрата места. Словно проливной дождь, научная речь разрывает землю, питает знание и даёт ему смыться, впрессовывает физически вспомненное в грунт, грязевая масса засыхает, и широкое славянское лицо – год за годом, нападение за обороной – сужается на германский манер, пока не перестанут спрашивать, откуда оно, чьё оно и весь этот Кр-крам, на что и сами спрашивающие, вероятно, ничего не ответили бы без комплекса тем, спроси у них то же самое об их при – или переезде, переодетости и перенасыщенности, восточности, западности или выбранденбуржуазности.
Я могла бы сказать, моё детство было хорошим. Моя Аркадия – мой Аркадий, которому я тайно поклялась в вечной любви. Или ещё что-нибудь романтическое. Из этой же серии. Вовсе не кажется извращённой одержимость местом, как и способность – здесь или там – любить. В тот момент, когда здесь, на лучистом лугу у озера приличного города это ощущается как пошлость, отчуждаешься от выразительности. Пафос – как витамин с минным дном, как сформулированная толкотня текста, формула, задающая форму, освежающий атрибут и как критический штамп – захватывает, не сближая, создаёт дистанцию, о которой читаешь, что она успокоительна – и так далее, дальше, дальше… Сопротивляйтесь, чтобы не пойматься на это. Такое ласковое лассо.
Но что, если ты слишком юн, ещё доиронично глуп, невинно попадаешься в ловушку пафоса и мнишь себя равным ангелу в раю: спаянность, связь, и смеяться над этим никто не будет. На такое отношение к этому городу, к этому полуострову откликается Советский Союз (или его инкарнация а ля рюс): Ура! Никакой зависти, такое низкое чувство в качестве реакции опускается. Беспризрачное признание. В этот момент вид причастности к городу, из которого для меня и состоит Крым главным образом, который – что бы ни было – остаётся почётным героем в том самопонимании, памятник и памятка, ёмкость и окоём, который моделирует контуры рельефа.
Пафос не подходит к культурам сдержанности, замечания моих родителей не подходят к политическому консенсусу в Западной Европе. Я прислушиваюсь и к тому, и к другому, бесстрастно, говорю я, бесстрастно. Рыбка в аквариуме. Внутренний рисрмоскот убит. Из меня что-то получилось, как я слышу от других. (Свиная колбаса?) Они удивляются, когда слышат, где я родилась. Затем следуют упомянутые фразы похвалы, по которым можно заключить о скрытых за ними фразах веры: как хорошо я овладела чужим языком, – свински хорошо, – как я вписалась, по мне ведь ничего не заметно, а если и заметно, то лишь минимально, это я сделала хорошо, мне повезло.
К настоящему времени травмы смылись настолько, что их будто бы и не было, они будто бы совсем не запечатлелись на мозговой пластине, они будто бы на морском дне. Я, наконец, освобождена от моей скалистой горной породы. Равноценна другим на Западе, гражданка. Насколько я в этом хороша, разве это моя профессия? Боюсь, что, к сожалению, нет. Я больше не ищу стратегии дистанцирования, я ищу сближения, той бесстыдно пульсирующей близости, которую я тогда и там переживала всеми чувствами, так мне кажется.
Путин, мол, ловко провернул возвращение Крыма. Это была хорошо продуманная акция, в подходящий момент времени, она не потребовала ни одной жертвы: Украина расшатана и без выбранного правительства. У Путина нервы выдающегося шахматиста. Крым – это ключ к Чёрному морю. У кого Крым, у того и власть над морем. Этот опорный пункт не заменишь – ничем и никогда. Только там есть сухой док. Знаю ли я, что это значит? Возможность чинить корабли. В черноморской зоне такой возможности больше нет. А на севере Крыма находится особый аэродром со взлётной полосой протяжённостью в километры – для советского варианта космического шаттла, для «Бурана».
Буран неизменно напоминает о Буревестнике. Так назывался продовольственный магазин рядом с нашей многоэтажкой. Маленький балкон нашей двухкомнатной квартиры выходит на крышу «Буревестника», сокращённо «Бурик». Я знала, что название магазина обозначает птицу, которая возвещает бурю, когда летает низко над водой. Но «Бурик» на слух напоминало «буряк» – украинское обозначение свёклы, важнейший ингредиент украинско-русско-белорусского борща. Польского тоже, но в самом конце. Иначе список слишком быстро проведёт границу: борщ – Бельт. А мы знаем, свёклу мы едим даже здесь.
Поэтому я понимаю волнение моей матери из-за того, что в этом магазине никогда ничего не купишь: свёклу я действительно никогда не видела в «Бурике». Сегодня я замечаю, что это название скрывает в себе и Запад. Было бы лучше всего, если бы наш магазин назывался Буревестник Европы. Тогда бы можно было, когда полки в начале 90-х годов опустели, считывать их одну за другой как веские строки толстого журнала с одинокими батонами в качестве запятых и восклицательных знаков, призывающих на помощь.
Однако не магазин возвещал мне что-то, а я была разведчицей. Я давала знать, когда к магазину подъезжал грузовик и разгружался: поставки тотчас звали меня наверх, в квартиру – взять денег и вступить в битву за добычу, взвинтить сонное послеполуденное благодушие и не в последнюю очередь мои ожидания наесться. Бегом на седьмой этаж. Лифт часто не работал из-за отключений электричества, предвещая близкую стагнацию страны. Смена голода на не-голод как предвкушение подъёма в гору, причём я уже привыкла между делом оставаться в низменности. Решающий шаг при охоте на продовольствие: умелое, терпеливое и разговорчивое стояние в очередях. Уже здесь учишься захватывать и оккупировать определённое, стратегически важное пространство. Товар, по крайней мере, всегда был свежий, если он был. Или на вкус был таким, из-за усилий. Так же, как Крым всегда останется привлекательным, даже если там взорвётся при очередном землетрясении атомная электростанция или горы мусора при всеобщей застройке перерастут Аю-Даг.
В одной из очередей две женщины, стоявшие за мной, «узнали» меня и сказали, что рады видеть меня такой, какая я есть. Ребёнком я вылетела из коляски, за которой должен был следить мой средний брат. Он сидел с коляской на холме, к которому прилегала главная улица нашего района, довольно высоко наверху и читал, наверное, один из своих любимых романов Агаты Кристи, куда более интересных, чем спящий младенец, если честно. Любовь к скорости действительно была положена мне в колыбель – или из колыбели. Коляска полрайона катилась с горы, пока не опрокинулась, а я выкатилась из неё и из одеяла. Одна из этих женщин снова завернула меня, история не повлекла за собой никаких осложнений.
Двор магазина и его крыша – это были взлётно-посадочные полосы долгих вечеров. На обеих площадках было хорошо играть в бадминтон. Наши ракетки заставляли воланчики ракетами взлетать в воздух. На этом дворе, кстати, собирались жители при землетрясениях – вблизи своих жилых домов и вне досягаемости потенциальных обломков в случае обрушения. У крыши Буревестника была ещё одна особенность: в одном месте она была неровная, там после каждого дождя скапливалась лужа глубокой черноты. По Овальному озеру мы с гиканьем носились на велосипедах, растопырив ноги, как танцоры «казачка» в прыжке.
Землетрясения. Земля, которая становится зыбким морем, а иногда для разнообразия: цунами – такое у нас тоже было, к счастью, в маленьком формате – тряхнёт раз-другой, без серьёзных повреждений крова. Момент, когда понимаешь, что это – землетрясение. Чаек ещё не натренировали настолько, чтобы они могли предсказывать сдвиги земной коры. Однажды после обеда, в общем изнеможении по-летнему полного арбузного живота я играла с подружкой Викой с десятого этажа: я показывала ей мою филигранную, бело-голубую кукольную коляску, в которую я уже однажды засунула котёнка и катала его. Внезапно коляска целеустремлённо покатилась по бордовому ковру с жёлтым растительным рисунком из одного угла комнаты в другой, скатилась с ковра на линолеум и опрокинулась.
После этого в некоторых домах стало на несколько трещин больше. Никто не знал, последуют ли ещё толчки. Я упаковала пластиковую сумку с самыми важными игрушками – на случай, если придётся бежать. Ночью я размышляла, можно ли сбежать с седьмого этажа вниз так резво, чтобы дом никого не успел похоронить под обломками. Чуть позже моя мать странным образом уехала – понятия не имею, куда и зачем, обычно мои родители никуда не уезжали порознь. Я чувствовала себя невероятно взрослой – я была одна с моими статистически-статичными размышлениями: в моём расчёте был предусмотрен шанс, если верхние этажи нашей двенадцатиэтажки рухнут первыми.
Я лежала в постели и упражнялась, напрягая нужные мышцы нужных конечностей, как при малейшем землетрясении схвачу эту пластиковую сумку с тем, что потом окажется необходимо для выживания, упакую её ещё полнее, надену на себя что-нибудь и буду сбегать вниз по лестнице этаж за этажом. Однако какие бы математические выкладки я – прогнозируемый гений математики – ни проделывала, задача не решалась ко всеобщему удовлетворению. Мои родители не появлялись в этих упражнениях: как и в остальных случаях, они блистали отсутствием. Я начала радоваться, что мать в отъезде – она была в безопасности, в другом городе, в другом состоянии земли. Не знаю, где тогда были мои братья. Помню только, что отец позволил мне упаковать игрушки и чемодан с одеждой. Он так и не перепроверил эти сумки, ему было всё равно, чем я их наполню, в отличие от матери, которая бы тщательно обследовала необходимость каждого предмета и что-то отсортировала бы.
Таким образом хотя бы в этом отношении я была готова, когда год спустя мы покидали двухкомнатную квартиру с мебелью, домашней утварью и всем её цельным миром, у каждого по одной сумке. Квартиру, многоэтажку в севастопольских Остряках рядом с Буревестником, штормопредсказателем, на которого в перестройку не было никакой надежды. В качестве тайного дополнения я сунула в сумку пупсика, невзирая на родительский запрет брать с собой игрушки. Немного спустя я предложила матери – когда она в отчаянии размышляла, как провезти через границу кольца, утаив их от алчных погранцов, – по-младенчески крупную голову пупсика для контрабанды драгоценностей. Немного золота и пара рубинов были единственным товаром, резистентным против инфляции. Кроме того, в некоторых славянских семьях есть традиция, что женщина после родов получает от мужа в подарок какое-то ювелирное украшение. На моё рождение мать получила кольцо с рубином в виде ромба, и она его сохранила.
Моя выдумка удалось, пограничники – в отличие от меня – не интересовались, как растут у куклы волосы. Мать назвала меня разумницей. Чуть позже: моя куколка. Целая стилистика разделённой на составные части демонстрации любви. Ещё позже эта изящная ювелирка, которую я стала замечать в общественном транспорте и на других женщинах с советским прошлым – с некоторым разочарованием в стандартности этих ценностей, – последовала в круглый кухонный горшочек, а одним прекрасным летом уплыла по течению Леты. Только гордость ею осталась непереплавленной.
Центрально-европеянка
Доклад в Вене перед полным залом слушателей. Будь то ряды людей или строки текста, в этот момент надо научиться говорить, и я выбрала себе тему, которая пришла мне в голову, когда я наводила порядок и выбрасывала стопки бумаг последних лет. Тема запала в душу, как говорят русские, и прежде чем эти листы упали в мусор, я захотела их немного переписать, раз уж так выпало. Записки о «центрально-европейце». Мне надоело, что его понимают так, как в последние десятилетия трактуют западно-украинские интеллектуалы. Я хотела бы понимать его более гибко, более текуче и дружелюбнее по отношению к позиции Запада и Востока. Вместо того, чтобы ждать от Востока свободы от несправедливости и поучать его свысока, можно начать с такого общения, которое не предполагает несправедливость и незрелость; это не приведёт ни к чему доброму.
Некоторым образом нам придётся понимать центрально-европейца или ещё лучше центрально-европеянку так, что она дотянется до Крыма и достигнет Москвы, причём Москвы весенне-футуристической, а не как burning-вестника, огненную фурию. Она и без того уже была перестроена так, будто 90-е годы принесли с собой городской пожар, такой же опустошительный, как пожар наполеоновских времён.
Если позволить себе набросать идеальный человеческий тип, то уж, пожалуйста, как перекидной мостик, а не как мелкоячеистую сеть для отторжения, отказа, отделённости. «Русские» поглядывают – по традиции – из своего срединного положения как на Запад, так и на Восток, так и на себя самих с презрением из-за оборонительного бруствера. Или нет? На Запад – достаточно часто с мыслью, что там горит надёжный огонь жизни, хотя их собственный – жарче; и они должны лелеять и питать собственное достоинство, чтобы выдержать разницу, или копировать, превосходя Запад, побить его козырем, показать ему, как бегает заяц. Ну, Запад, погоди! Кричат витрины петербуржских и московских променадов, как будто Пётр или Екатерина тщательно обустроили их собственноручно.
Было бы самое время по-джентльменски протянуть руку этим прохожим, а то и обнять их этой рукой, выпить чего-нибудь вместе, ещё лучше: вместе хорошо поесть и подумать «как о том, так и об этом», чем проигрывать outfashioned образец «или – или», который даже моё поколение ещё слишком хорошо помнит по Холодной войне. 25 лет назад упала Стена. Её переиздание неуместно. «Фешенебельно», – говорят по-русски "fashionable", и я думаю, это ни fesch, ни feldwebel-но – усердствовать в проведении границ, тогда уж лучше туманно-хмуро смешать их и искать в тумане философского ёжика.
Во время информационной войны я, вероятно, промахиваюсь мимо всех стульев, будь даже так: я отказываюсь от активного участия в строительстве новой стены, это outer space, этот холод из уютной западной гостиной или из тёплого русского дивана. Позволю себе предубеждение: я думаю, что связующего можно достигнуть женщинам (без косы, повязанной вокруг головы короной, она слишком сужает лоб) скорее, чем мужчинам, у нас есть понятие о моде, мы выкроим новый модус, это будет облекать нас там и тут, будет нам к лицу и поможет сохранить лицо. Пусть лейблом будет «ME», потому что, как это бывает и с другими коллекциями, будут и другие лейблы.
Я перевожу письмо в посольство Российской Федерации насчёт соискания гражданства и прерываюсь, не перевожу дальше и не переведу никогда ни для моих родителей, ни для себя, не спишу его, не подпишу его. Я перепечатываю эту написанную по-русски бумажку, делаю ставку на неё, растроганная тем, что эти слова всё же важны для нас, правда, и постыдны. Адресат и пальцем не пошевелит, именно так, как мать меня упрекала тысячекратно. Я даю дёру, я уезжаю, я не адресат. Может – прохожая, уезжающая и приезжающая странница. Я беру разбег, в изгнание, в экскурс.
Сама я никогда не имела советского паспорта, я была вписана в паспорт матери. В Берлине в течение восьми лет я была без гражданства – отговорка, чтобы никуда не ехать и ничему не принадлежать. Тогда и там, по слову: да будет так. Я даю гражданствам и гражданам этих государств отставку на все четыре стороны, паспарту в рамках моих возможностей: я пасую.
Недосягаемость/недоступность
Диссоциация, затруднение восприятия. Снаружи с усердием ассимилированное, внутри неукротимое дитя, которое другие точно очертили словами «чё так печально глядишь?», прописывает себе громоздкую аутентичность. Её оно будет придерживаться – как раньше придерживалось порхающих бантов на косичках (красных, как будущий галстук). Слово, слетевшее однажды за кафедрой при чтении культурологического реферата, погружается в колодец прелого чувства «Я». Стекает. Им можно напиться, умыться им, оно может размыться до берлинской серой мути. Или расстелиться на выгоне, так выводятся самые стойкие пятна. На краю города, щедро зелёном, где слово даёт себя уговорить под вечер, без продлёнки, не накапливая старых словарей.
Громоздкое в языке, его отклонение от обычных речевых форм Виктор Шкловский называет остранением. Оно необходимо, чтобы по-новому воспринимать вещи, слова, людей, увидеть необычные взаимосвязи, поискать разные перспективы. Именно в этом лежит ключ к искусству, отнюдь не тайный, лишь чуть выгнутый, чтобы не слишком быстро открыть доступ к нему. (Устранение, что за понятие. Состоит из двух слов: Ost (восток) и ранение.
Следовательно, для меня не должно казаться чудовищным – овладеть мнимо родным языком как мнимым. Схватиться за голову, тихо расплести сдобную плетёнку. Дело с немецким сдвигается с мели. С русским всякий мейл всякий раз становится греблей вдоль невидимого берега. Всякое активное применение – воспоминание об окончательном прощании с первым родным языком, с настоящей матерью, питательным шоколадным маслом на бутерброде дня рождения, с праздничным чувством советского ребёнка.
Поначалу читать по-русски и писать по-немецки, по-английски двумя словами ругаться на себя и на тебя, на них и на вас, слушать речитатив Мани Маттера и Высоцкого, включать французский шансон, отфильтровывать английские субтитры.
Если нельзя избежать автобиографического изложения, в каждой новой констелляции, на каждом новом месте, с каждым новым человеком стоишь (должен стоять) на неустойчивом и выкатывающемся из-под ног скейтборде культурных основ идентификации и должен видеть в этом продуктивную площадь трения, с лёгкой руки присасываешься к «как-нибудь». Начала, которые сводятся к странным окончаниям. He-синтаксис, в котором сидит синергия. Непроницаемые правила множественного числа; иногда это происходит за стеной дождя, если смысл проникает сквозь неё.
Ведь может быть так, что снаружи вообще нет жизни. Только в кривоколенных переулках, нетронутых Второй мировой войной, пощажённых невыносимой тяжестью тех комплексов тем, неспешно томящихся в их римской основе как в «римском горшке», в благоухающих исторических центрах городов. Что делать? Взорвать башню из слоновой кости, оседлать букву, поскакать на эрзац-волнах, следуя взглядам, как в сказках – русских? братьев Гримм? Шарля Перро? – идут куда глаза глядят. Так, как следуют за строчками текста, как обегают глазами ряды студентов в аудитории или головы публики на выступлениях. Больше ста или меньше двухсот? На сцене этого не проверишь, потому что ты часть зала, часть текста. Потому что ты сыт по горло тем, чтобы где-то вчитываться или вписываться, ты всё равно рано или поздно выпадаешь из ряда строк. Ты как бы девушка у стенки, которую никто не приглашает на танец, не нашедшая свою пару, или метательница дискурса. Тебе не остаётся ничего и всё: потеря себя означает полную тарелку зелёных овощей, рекомендуемых спортсмену. Ты – салат из букв, который составляет тебя, при каждом чтении, в каждой поездке и дискуссии, как только она раскручивается. Тут в тебя, наконец, попадает витаминная смесь, смузи ведь останавливают всякое нездоровье. Ты набрасываешься на краски ожидающих и опавших плодов, в падении на экран неразделённого городского неба.
Отрава
Мы говорим о постмодернистском, постсоветском пространстве, и его обитатели желают себе в значительной части, чтобы оно было не текучим, а давало возможность идентификации. Не скейтборд, а деревянный стол, ломящийся от еды. Чем стереотипичнее, тем стабильнее. Пространство, о котором думаю я, вопиет, что о нём можно думать только как о постмодернистском: как о хрупком, не только по краям. Оно – само по себе шоколадный лом, с ним бежишь – и без роликов как кочевница – по невиданным майданам, извращённо возвращаешься, pervers, per Vers, голубиной почтой, я имею в виду.
Может, о Крыме можно думать не только как об окровавленном, но и как об отравленном месте, как его видит Иоан Аугустин: «Другие подходы, в которых играют роль такие понятия, как безместность, место-яд или отравленное место, могли бы помочь лучше осмысливать безотрадные и аутистские территории в наших городах, чем понятия, которым дело только до красоты средневековых городов Запада»[2].
«Яд» потерянного первого города циркулирует в крови как заряд иммунизирующих антител, никакое другое название почвы не может проникнуть под кожу. Заражение новыми морями и горами – в работе, Боспорский форум зовёт.
Я не еду в Крым, я лежу в нетопленом старинном доме берлинской подруги или на лугу в разогретом садике моего уютного Хюсли, чтобы наслаждаться переслащённым полуостровом как картинкой ещё нетронутого торта с кремом. Курс детоксикации – в отказе от поездки. Диета для аналитических аскетов? От анорексии я удалена ещё дальше, чем от Крыма. Ещё не вечер. Может быть, хотя и маловероятно, что полуостров отдохнёт от переломов – во всех смыслах. А пока что, глядя с моего луга: мой Крым вновь посещаем, представленный в «Вост. Духе». Комплексное меню, шоколадный лом на десерт за круглым столом.
Больная боязнь, что Севастополь так же перестроен и исчез, как и другие города на Востоке, Москва, Петербург, Киев и Одесса в первую очередь. Я не хочу видеть это другое, этот новодел турецкого производства, это безвкусие, перекрывающее то, что было в 80-е годы. В них не будет никакого родства – только в том советском уродстве, которое я не воспринимала как таковое.
Чёрно-белые образные проявления моей личной территории, не раскрученные никакой самодовольной медийной революцией, имеют мало общего с описанием мест, богоданных и ставших важными в силу девственных блаженств детства. Они не имеют также ничего общего с желанием языкового порождения, творения, демиургического создания. Речь идёт только об одном единственном – как-то самостоятельно наполнившемся переживании, и особенно хорошо ему живётся при ударах по клавишам. Давайте послушаем шум пространственных снов.
Речь идёт о привете той композиции, которую, как мне кажется, я когда-то видела-слышала, хотя сама и не притопывала ногами, и которая сразу открывается подобно коробке шоколадных конфет «Шпрюнгли», бесконтрольно и блаженно растекается по телу, когда на клавиатуре прыгаешь по имеющимся в распоряжении и раздобытым, а то и вовсе беспроцентно сэкономленным буквам – по стёршимся клавишам исторического лэптопа и светящегося яблочка. Чей сладко-кислый сок пенно кипятит в супе букв (русский ритмус-мусс) несносную тяжесть проклятого отчуждения пространства, переродины, провально-весёлого письменного обязательства – в Most, плодовый сок.
Фотографии
Или Fotus, плод. Фотографии, если следовать по созвучию, а не по смыслу, – как аборты, когда делаешь их и потом сжигаешь, пока родное дитя не увидело их, как мои родители поступили с тысячью фотографий перед тем, как мы были исторгнуты погибшим Советским Союзом в Берлин-Лихтенберг. Fotus также, когда перестаёшь их снимать, и собственное дитя отчётливо видит их чёрным по белому, белому, белому, они отдаются эхом в ультразвуке сознания, переосвещённые. Мой отец был не только инженер, многие из своих снимков он печатал с нами ночами. Очень советское средство, кстати. Собирал старые аппараты, проявлял пачками фотографии. Он часто меня фотографировал, он радовался, я радовалась. Когда мне было семь, он это прекратил. Почему, спросила я его тогда, он больше не снимает? «Потому что ты больше не та милая девочка, какой была».
Настоящим событием были семейные снимки. Всем следовало приодеться, причесаться и улыбаться. Беззаботным не был никто, всегда кто-нибудь пребывал в стрессе. Времени нет, солнце как раз светит как надо, сейчас же всё бросайте, кому говорят! Меня наряжали в китайское платье, у меня их было два: одно прикрывало мне зад лет до шести, второе, купленное на вырост, я могла носить ещё и в восемь. Рюшечки, карманчики, вышитые цветочки. Я твёрдо верила, что это второе платье я буду надевать по торжественным случаям всю свою жизнь и ещё научусь не показывать камере то, кто и что кроется под платьем.
Мать прибрала фотографии. Ей не нравилось, что я устилала ими всю большую комнату. «А как же прикажешь здесь пыль вытирать?» Лавина неудобства возникала по большей части прагматически, часто вместе с желанием уборки (влажной уборки – это на немецкий и не перевести), ухода, и потом крупица пыли оборачивалась камнепадом ругани. Фотографии пахли грозой.
В мебельной стенке всё отделение под откидным секретером было уставлено фотоальбомами и конвертами с плёнками. Мать их сортировала, я при случае доставала и потом расставляла в своём порядке (чьи лица, какие времена). Странно, что я ещё в детстве имела склонность рассматривать эти визуальные радиопередачи. Из тоскливого стремления понять, в какую семью я попала, ведь у её членов и до меня была своя история. Раз в несколько месяцев я извлекала фотографии. Всегда находились такие, про которые я забыла или ещё ни разу толком не разглядывала. Однажды я обнаружила, взглянув на женщин в бикини, что моя мать курила. Она лежала на полянке, окружённая высокими хвойными деревьями, рядом с моим отцом и несколькими неизвестными людьми. Все молодые, прокуренно-крутые. Моя мать с высокой причёской, стройная красавица, растянувшаяся на подстилке, сигарета между двумя пальцами едва заметна, настолько она в тот момент была ей к лицу.
Она разволновалась. Объяснила мне, что в тот день только попробовала, потому что друзья попросили её об этом. Я была шокирована – не только из-за сигареты, ведь я знала, что мой отец долгое время очень много курил и избавился от этой привычки только при помощи железной воли и большого количества яблок, так что после этого у нас никто не курил, кроме дорогого дедушки. Меня ошеломило, какой красавицей была моя мать, совсем не такой, какой я её знала. Как деликатно её лицо намекало, казалось, на какую-то тайну. Я хотела стать такой же красивой, но дальше шока это не дошло. Шок-шоги – это тоже могло бы стать блюдом нашего «Вост. Духа». Для тонуса, для не-тонущих посетителей, как после успешного приземления на Туполеве.
Что делают с этими фотографиями люди, купившие нашу квартиру? Родители оставили всю мебель на месте, книги и личные вещи. Или отец снёс их в жилой гараж? Мои родители улетали как жертвы Чернобыля, которые бросали хату на произвол судьбы, в уверенности, что где-то в другом месте есть среда получше для развития их детей. Они эвакуировали нас без поминок, без ритуала, с парой чемоданов, один из которых был ГДР-овским, в который ныне не помещаются даже мои холсты.
Гараж – двухэтажный. Второй этаж – почти готовая однокомнатная квартира, насколько я помню. Квартира в сыром виде – реакция на горбачёвские реформы. Отец построил пристанище для одного из моих братьев. Ключ отец вручил своему коллеге и другу. Мы никогда не узнаем, что стало с этой недвижимостью. На Востоке не бывает ничего недвижимого.
Может, коллега её давно пропил. Или продал этот крутейший из всех гаражей, потому что он был ему не нужен, а теперь цена его была бы не меньше пятидесяти тысяч долларов. Так или иначе, я хотела бы знать, что стало со снимками. Однажды я случайно узнала, что отец, когда был в гараже, чтобы смастерить что-то, сжёг большинство фотографий перед гаражной дверью, которую мы когда-то вместе выкрасили в зелёный цвет.
Вряд ли моим родителям было так же, как мне, когда мы в последний раз стояли на троллейбусной остановке и ждали и я спросила маму, куда девалась коробка с большей частью моих игрушек. Мои игрушки фотографировали мой внутренний мир, ведь она это знала.
Мои родители не плакали из-за фотографий, потому что они, вероятно, вместе бросали их в огонь. Разложившиеся химикаты пахли искрами свободы, не правда ли, новогодними хлопушками нового начала. Они лишили своих детей образа прошлого. Ночами мы печатали фотографии на кухне, мы жертвовали ради них сном. Каждый из нас помогал, даже если речь шла о том, чтобы убрать всю аппаратуру в переполненную кладовку. Летом мне разрешалось не спать до обморока, чтобы в приглушённом свете красного фонаря извлекать мокрую фотобумагу из ванночки с проявителем и погружать в ванночку с закрепителем, наблюдая, как проступает изображение.
Точно так же они лишают меня семейной истории. Они не хотят ни записать её, ни рассказать её мне. Они считают её прошедшей, прошедшей мимо, хотят забрать её с собой в могилу, не поделившись ею ни с кем. Они приговорили своих детей к борьбе с материальной бездомностью.
Иногда моему отцу снится наш город-герой, он говорил. «Даже служба на корабле». Это кошмарные сны? – спросила я однажды наугад. Он кивнул. По нему не было заметно печали, его лицо указывало лишь на одно: этот мужчина думает, заботится, и он – отец. Отец маленького ребёнка, он это чувствует или ему нужно об этом напомнить: отец вечной девочки, которая не становится взрослой. Он в растерянности, все в растерянности, хорошие советы давали лишь шлепками по попе, и девочка станет и тем, и другим: взрослой и маленькой. Большое спасибо.
Позднее: я хотела на основе прихваченных с собой, отобранных картинок припомнить многие другие – с намерением смонтировать фрагменты во внутренний фильм. Я хотела их украсть. По нескольку штук при каждом посещении родителей в прохладной комнате с книгами, где они размещали меня в промежутках между великолепными обедами, чтобы я могла спокойно поработать. Там стоит издание Пушкина, которое стояло на полке ещё в Севастополе, и я выпрашиваю его всякий раз, когда попадаю в этот кабинет, и всякий раз получаю сердечное нет. Теперь я знаю решение, оно не такое тяжёлое, всего пара килограммов. Поеду в Россию, куплю моего Пушкина и уже никогда не буду одна. А мой русский друг говорит, что весь Пушкин давно есть онлайн. Его не продашь, не сожжёшь, он принадлежит всем, и в очереди стоять не надо.
Блюдо Пушкин по общедоступной цене непременно присутствует в нашем меню. Никакой даже самый проблематичный путь эмиграции не минует классика. В китайском платье, преуспевающие, мы подаём вам пышные пельмени. Лёгкий налёт дендизма касается плеча.
Подведите меня к корыту. Каждая поездка в Россию обогащает. Я не знаю точно, чем именно. Однако багаж на обратном пути весит всегда тяжелее, чем при полёте туда, и не только из-за гречки и книг.
Когда я вырасту, дорасту до этого платья на вырост, я стану пушкинисткой. А пока что идёт критическая разборка с путинизмами: слово путятина мы используем в качестве креативного перевода сорта мяса, а именно грудки Puten – индюшки. Заслуженный крест полагается как всегда моей матери за находчивость. Это предприятие уже имело однажды успех во время обеда с представителями разных московских университетов, для которых я переводила, в том числе и меню, в котором значилась жареная грудка Puten. Молчание вопросительных взглядов привело к тому, что я ещё раз повторила: жареная путятина. Я тогда была беременная, усталая, мне простительно.
Сейчас я взыскую совсем другого: некоей гармонии, следствия облегчённого мочевого пузыря или опустошённого гипофиза. В принципе это жажда приключений, охота к превышению, желание дать газу (даже если там и без того избыток газа). Предвкушение детской вседозволенности, возможности распуститься. Покинуть тевтонско-гельветическое пристрастие к календарям и часам в пользу обвинения в агентурной деятельности или безделии, в пользу пришпоренной спонтанности. Разузнавание, хочешь ты того или нет, носит оттенок военной разведки. В знании, что через неделю-другую вернёшься. Что стало с нами и нашими мечтами? Они спустились с мачты, проиграли матч? Космонавты мыслили большими орбитами. Трёх законченных классов школы для этого недостаточно.
Облегчительно было бы: больше не вспоминать, не иметь к этому ни охоты, ни потребности, ни обязанности. Ни счёта, ни расчёта, ни отчёта. Это уж как оно есть, со всеми шрамами и переключениями скоростей на велосипеде Тур-де-Свис. Ничего уже не поделаешь, не мысли, никуда не езжай, можно только по речушке Зиль вверх и вниз, до Адлисвиля, до Энге. Ограничить себя, протиснуться в свой уголок, свернуться калачиком.
Русский со стрижкой ёжиком смотрит из окна вперёд по ходу поезда; он никогда не бросит свою заброшенную деревню, свою радио – и метеостанцию и свою магнетическую Москву. Он пишет, что я веду себя как десятилетняя девочка и что мне надо читать Достоевского, чтобы понять его антисемитизм. Моя мечта быть этнологом лопается. Я насытила интерес к этой России, за которую он стоит горой, но она не покидает меня.
Самое время и самое место очнуться и выставить полотна из берлинских съёмных квартир в качестве зародышей воспоминаний. Выйти на балкон, считывая ветер с флага Швейцарии у моих любимых соседей. На зелёное полотно экрана Энтлисберга скинуть однодневный фильм, с лошадиными копытами Тюрлихофа и криками «браво» юных наездниц, которые ещё лучше знают путь от Адлисвиля вдоль речки Зиль, и не забыть: собирать зелёные тона, их можно потом пастелизировать с ветром, который водит кистью по щекам. Мой макияж. Извинение, освобождение от вины и от вина. Сменить комнату, в следующую ночь проснуться без сновидений от подмигивания Утлиберга. На странице моей лицекниги рекламируется металлический конструктор. Фото профиля можно поменять, я стану профи в конструировании подъёмных кранов. С такими не только ремонтируют корабли, но и сносят памятники.
Скорость
Мои корни? Они образуют небольшие холмики вблизи деревьев, они незаметно двигаются под асфальтом. Я рано научилась, катаясь на роликах, принимать эти бугорки за желанные препятствия: либо осторожно объезжать их, либо вкатываться на них, чтобы потом, съезжая, ускорить темп. Скатерти, кстати, в русских сказках накрываются сами собой, а могут и летать, у них своя жизнь, в которую ты вступаешь, когда позволяешь нести себя тому, что тебе подали.
Ты стоишь в Берлине на коньках-горбунках, на inline skates. В Севастополе они были ещё четырёхколёсными роликами. Не замечаешь, как едешь. Ты пялишься на дорогу в поиске узора, тёмных точек на светлом асфальте. Неожиданные камешки в бетоне слагаются в линии, когда по-настоящему разгонишься да ещё наберёшься отваги смотреть под ноги. Ты летишь всё быстрее, твои ноги при каждом соприкосновении со всей силой отталкивают дорогу.
Ты чувствуешь, как немногие прохожие теряются и почтительно отступают, тогда как ты всё меньше воспринимаешь дорогу как таковую. Узор всё никак не проявляется, только протягиваются линии – и вскипают волнами. Крупнозернисто светится бумага асфальта. Ветер расчёсывает волосы, ты бьёшь ключом через край от свежести и воздуха, который пресекает тебе дыхание. С тех пор ты любишь скорость, чтобы при разгоне бесследно растворялся страх как сахар в чае, – так сильно любишь, что боишься сесть за руль обычного автомобиля: ты превратила бы его в гоночный. Мчаться, неудержимо, вверх и вниз, ступнями и косами, сквозь солнце и подсолнечные семечки бабушек и ряд кормящих матерей. И будь что будет.
На ролики я встала случайно из-за общих проблем с обувью. Мои кроссовки, что я носила в хвост и в гриву, в тон и не в тон школьному синему платью, стали мне малы, а тирады маминой ненависти становились всё пространнее. Безмерна эта родина-мать в недовольстве снабжением: она не знала, где добыть для меня новую обувь. Во всех магазинах, которые мы обежали, детской обуви мы не нашли – в продаже были лишь ролики.
Этот забег запечатлелся у меня как особая экскурсия по городу. Мы были в районах, где наша нога никогда не ступала, и на рынках, запах которых мне никогда не встречался. Моя новая обувка. Металлические, раздвижные, они телескопически росли вместе со мной. Но должны быть и прочные ботинки, в которых становишься на ролики. Где-то нашлась пара мальчишьих, из дедушкиного магазина для ветеранов. То, что называют «убогие», но мне на это, ей-богу, было наплевать. Тщеславие водворилось лишь пару лет спустя, когда школьную форму носили уже только те дети, которым было что скрывать.
В начале 90-х обязательную школьную форму отменили, можно было ходить в школу хоть в форме, хоть в одежде для свободного времени. Только последней не было в продаже, а первая была загодя куплена на вырост. Дети отражали те два класса, на которые внезапно разделился город – немногие родители, которые покупали западные вещи, и большинство родителей, которые не могли дать детям с собой в школу даже бутерброд.
Так я незадолго до исчезновения Советского Союза скользила на лучших самоходах 80-х годов в начавшиеся 90-е. Кто-нибудь на Западе когда-нибудь видел такие прочные, ладно скроенные и крепко сшитые, при этом тихие ролики? Разве что где-то в музее остальгирующей по Востоку провинции они ждут чьих-то ностальгических слёз. Плоды металлических конструкторов для продвижения по квартире, по кварталу, по охотничьим угодьям счастья. Они принадлежат истории свободы, неконтролируемой скорости и несуществующей усталости. На этих штуках я не теряла драйва, а если и теряла, то молниеносно снова обретала силы.
Моё воодушевление было заразительным. Другие дети тоже доставали из кладовок ролики старших сестёр и братьев, если не родителей. Только колесики у них были меньше, медленнее и громче. Я на своей последней советской модели целое лето была на пять сантиметров выше, чем обычно, и парила на невидимых крыльях. Наши холмы как нельзя лучше вписывались в ландшафт достижений – то была вершина головокружительной продукции механики.
Гигантские, даже на бесконечно широких проспектах быстрые колёса оживили этот спорт и во всех соседних дворах. Дети мучились на роликах предыдущего поколения из 70-х, мои по сравнению с ними выглядели в нашей республике колёс как космический шаттл. Чтобы не забыть: я мчалась прямиком в лучшее будущее, букеты нелегальной торговой точки у троллейбусной остановки взлетали в воздух, и я зарывалась лицом в их аромат как космонавт после успешного приземления.
Естественно, те магические ролики были слишком тяжелы, чтобы тащить их с собой в Берлин. Я тогда ещё не знала, что это было последнее беспечное лето моей жизни.
Быстро становишься восьми-, девяти-, десятилетней. Забудь ту почву, что была у тебя под ногами. Когда первая мысль по пробуждении была о роликах. Что за изобретение. Памятник твоему детству, вот чем оно должно стать, две вставленных одна в другую внахлёст металлические пластины. Нержавеющая сталь. Эта скульптура блестит на веснушчатом солнце – твоё солнце было в принципе каникульным, – оно сияло ненамеренно на все стороны, так что даже Наташа, которая в свои 14 лет была сложена как фотомодель и поглядывала на детвору с Олимпа своей красоты, доставала ретроролики своей матери и защёлкивала на своих превосходных ногах. Но и она не могла сравниться с тобой, ты превосходила королеву красоты. Это был твой венец, однажды и больше никогда ты не казалась сама себе универсальным гением из русских сказок, который в своих сапогах-скороходах мчится, несмотря на препятствия, сквозь времена и страны.
Ты не хотела отделяться от роликов даже в квартире, ты передвигалась в них по линолеуму и через порожки комнат, внезапно возвышаясь над отметками годового роста на дверном косяке. Незаметно, неслышно толстые резиновые шины молча переносили любые тяжести.
Тебе нравились и старые модели, они походили на маленькие бочонки. Их обладательницам и владельцам они не нравились, они дисгармонично громыхали на мелких неровностях. Они не могли перелетать через корневища деревьев без потери удовольствия. Ты же беспрепятственно носилась по кругу в квадратуре детского сада, от двора к двору, туда отсюда, и когда я вспоминаю об этом, я уже счастлива.
Олег не мог не заметить, что эту моду задавала ты. Он видел, как ты каталась вокруг огромного детсада прямо по проезжей части. Ты не боялась машин. Машины проезжали там редко, но всё же проезжали. А тебе приходилось мчаться по правой стороне с довольно крутой горы, а после спуска вписываться в крутой же левый поворот, чтобы не въехать в открытый подъезд отнюдь не фланельной пятиэтажки. Проехавшись вдоль неё и завернув на другой стороне, ты собираешь весь свой драйв, чтобы преодолеть ту же крутизну вверх. Ту крымизну. Держи себя в руках, не расползайся кашей, разве что в духе братьев Гримм. Тут мне открывается взгляд на ещё один пункт для меню: гримм-холодец. Свежая рыба из Цюрихского озера, застывшая в собственном соку с морковкой и чесноком. Если пожаловаться рыбке на свою беду, она скажет: отпусти меня на волю, и я исполню твоё желание.
Забравшись наверх, ты катишься по грубо асфальтированному участку между твоей многоэтажкой и фронтальной стороной детсада. Наверху немного разгоняешься и предаёшься склону вперёд. Опять и опять, и снова опять и опять.
Моим берлинским племянницам мне не объяснить, что бывают детства, не ведающие ровных площадок, ибо всегда всё идёт либо вверх, либо вниз. Бесконечные детства, в которых застреваешь как в лифте. Где либо выпрямляешься и воспринимаешь нарастающие сотрясения под ногами как массаж, либо до изнеможения сгибаешься на подъёме – будто тренируешься на профессионально смазанных лыжах для последующих подъёмов в гору.
Re-Enactment, от массажа к месседжу: я помчусь на работу на инлайнскейтах. Тогда я успею до того, как она закончится. Пока не попаду в толпу скейтеров и утолкусь на скейтборде, на котором можно держать равновесие при скольжении.
К роликам, только иначе, относится и обучение катанию на самодельном скейтборде первого друга, вечного Олега, и учительница математики, случайно проходившая мимо. Олег крепко держит меня, а я медленно качусь на его доске к краю тротуара. Стыд быть застигнутой за таким занятием со старшим мальчиком, который на всю жизнь преподнёс мне урок, что бывает нечто вроде совместного танца в одном направлении, то есть держась друг за друга. Тонкая ухмылка молодой учительницы. Я же по математике отличница, отнюдь не уличный ребёнок. Она мне это попустила, я себе нет.
Езда ночным поездом между Цюрихом и Гезундбрунненом – CityNightLine прекрасно соотносится с поездом Жадана Сумы-Луганск, такая же удобная. И похожа на ту езду на скейтборде. На длинной подвижной доске, вытянувшись на полке. Лежать до конечной остановки, до начала нового цикла пребывания.
У того непокидаемого, надёжного деревенского русского, чьи следы тянутся по следам Зиновьева в Кострому, разумеется, глаза Олега. Блондинно-голубое живое фото, подлинник, всё к лицу. К тому же неотступно напоминающее в своей театральной жестикуляции и импульсивности о ближнем, который если был дан, то так же внезапно, стремительно и заботливо-сочувственно, а потом снова нет, без устойчивости на асфальте. Но если что – он тут как тут.
Телефонная будка
Константин, ребёнок-сэндвич, то есть средний из нас троих, девятилетний, звонит из телефонной будки начала 80-х, рядом с родной многоэтажкой, в ближайшую больницу. Его послала мать, она лежит в квартире со схватками, в ожидании третьего ребёнка. В новопостроенном посёлке ещё нет квартирных телефонов. И хотя их вскоре обещают, это никак не сокращает дорогу до телефонной будки: оба лифта в высотке в тот день не работали.
Тётя в больнице уверена, что мальчик шутит, и снова отправляет его к матери. Мама, они мне не верят, что тебе нужна скорая помощь. И тогда мать сама спускается вниз, ступень за ступенью. Звонит. Дело срочное. С третьим-то ребёнком всё по-быстрому. Городская больница переполнена. Родильное отделение закрыло приём рожениц. Беременную везут дальше, на край города, ребёнку уже по легенде рождения суждено аутсайдерство, а то и обязывает к нему. Мать, которой под сорок, что по тем временам было делом нечастым, рождает дитя в необычном месте: в Херсонесе, части Севастополя, а некогда античном городе. С XIX века здесь раскопки, с недавнего времени это место – мировое культурное наследие. Дорические колонны, кое-где сохранившиеся, поддерживают женщину в столь высоком назначении. Дочь можно было бы назвать Дорой. Там по преданию крестился Владимир, который в Киеве на Днепре крестил Русь или должен был крестить, смотря кому и во что верить. Чрезвычайно эллиническое и крайне русское местечко.
Родители шутили, что хотели назвать меня Изольдой, «изо льда», как же весело это звучит. Мне тогда нечего было сказать, и не только тогда, вот теперь говорю: патина пафоса заволакивает сетчатку Крыма. Кретинские ассоциации Крита. Разве через века не чувствуешь, разве не видишь, как это и то значение этой и той культуры непобедимо вписались в слои берегового ландшафта античными осколками? Благодаря бессилию культурологии и всесилию культурного ландшафта значение это унаследовалось, конденсируясь в младенце. Bay! Мяу! Криминально увлекательная Киммерия. Да здравствует Крым! Да здравствует новая жизнь, без гнева и горести. Как бы ни звалась суть, мы зовём её к себе. Вот девочка, о которой впоследствии мать, глядя вслед ей, уходящей в школу, скажет, что у неё походка портового рабочего из Одессы. Наверняка она хотела передать тем самым феминистскую идею, навеянную стабильной хрупкостью греческой архитектуры на скалистом краю Херсонеса. Но тут-то я уже и освоила низменный, берлинский ход вещей.
Вот та телефонная будка между Буревестником и нашей высоткой, в этой будке я однажды нашла пять рублей. Мои первые карманные деньги. Будка стояла, слегка накренившись, и купюра застряла в асфальтовой щели. Дикое корневище – возможно, растущего неподалёку грецкого ореха – готовило этой будке падение.
Всё это больше не в счёт. Считается лишь то, что по случайности мне выпало родиться на этой территории, которая считается одновременно и не-русской, и исконно-русской. Вот только по дороге у меня выпал глубокий интерес к значению старых слоёв. Он не заходит глубже проломов в бетоне, мелких морщин и трещин на фасадах сотрясённых высоток – цветом почти как наш любимый шоколадный лом. Колонны Херсонеса мы могли бы, на мой вкус, предлагать в нашем «Вост. Духе» в виде вафельных башенок на волнах мороженого.
Год свободы
Три первых школьных года я провела в трёх разных классах двух разных школ. Школа в принципе была чем-то очень, очень важным. Тем более странно, что мои родители забыли вовремя определить меня в школу. Я тогда не знала, хорошо это или плохо. Тот «промежуточный» год, проскользнувший сквозь все стандарты биографии, стал вообще самым лучшим. Благодаря ему я поняла, что мои родители заботились обо мне, но как будто издалека – времени у них никогда не было. Спустя несколько моментальных снимков я поняла, что им приходилось бороться с проблемами, которые становились всё больше по мере роста двоих почти взрослых сыновей, с порциями еды, которые становились всё меньше, и разъеданием нервов. С рожами и грабежами, взломами, сломленностью обманутых людей и всего государства, с недоверием и инфляцией. Что по сравнению со всем этим было моё инфантильное желание тепла-близости-понимания. Я ведь тоже не понимала, как это может быть, чтобы, например, бандит, выскочив из засады, вырвал серьги прямо из ушей маминой коллеги, когда она шла с работы.
Мать часто говорила, что я расту сама по себе, как трава у дома, и пасусь под забором, как овечка. Она говорила, что у обоих моих братьев были реальные проблемы – поступление в университет, предстоящее основание семьи и вопрос, где жить. Да что там, они не знали, чем кормиться и что делать с деньгами, которые обесценивались каждый день; не было ни денег, ни еды, которую можно было бы на них купить. Они выменяли мой велоспед на копчёную курицу. Школа отодвинулась на задний план.
В семь лет я уже переросла детский сад, а для школы, которая мне предназначалась, не была подготовлена. Ничего не знала на вступительном экзамене. Мои братья ходили в хорошую старую школу с английским уклоном в центре города. Родители давно забыли, что туда принимают только по результатам вступительного экзамена, а для этого надо было выучить несколько базисных слов. Я пришла на экзамен с улицы, меня поставили между карточками с животными и их названиями, я должна была повторять, но справилась только со словом "elephant" и вскоре заблудилась между тётями и тетрадями. В душном воздухе и суматохе помню только одну цель: пить. В итоге учительница сообщила моим родителям, что их дочь не имеет способности к языкам. Они сказали, что это очевидно, у меня же талант инженера, и я думаю только о том, как смастерить из детского конструктора коляску для кукол.
Был конец августа, неделя пролетела в неизвестности, я возилась с очередными металлическими аксессуарами для моей любимой куклы (не оставлять же её без скейтборда и лодки). Внезапно во дворе внизу всё опустело, потому что для всех остальных наступил учебный год. Мои родители, естественно, оба работали, старший брат учился в Петербурге, средний только что закончил школу и тоже уехал учиться в Симферополь: иностранные языки. Я осталась дома с конструкторами моих братьев – по механике, электронике и химии – и с запретом брать книги с самой верхней полки стеллажа. С указанием, как разогреть суп на газовой плите. С латиноамериканскими мыльными операми и другими душераздирающими передачами, которые мы тайно ловили с турецкого телевидения.
Впоследствии я задумалась о том, как настойчиво пропагандировалась у нас латиноамериканская жизнь, когда встретила молодого человека из Чили. Его предки были немцы, детство он провёл в Мюнхене. Он сел в государственной библиотеке рядом со мной и был почти как русский – второй кожей, вплоть до пилинга культурными глыбами. Он ностальгически поедал у меня на кухне детский шоколад, понимал проблему, что такое быть НЕнемцем, когда, например, речь заходит о настольных играх на посиделках, и упрекал меня в незнании Латинской Америки. Я возражала, что насмотрелась мыльных опер того времени. Он согласился, что жизнь в Чили именно такова, как в сериалах, и что я должна, наконец, понять, что он происходит из этого неджентльменского патриархального общества и обречён быть одним из них. Он хотел совершить побег от несправедливости, как он говорил; он писал философскую книгу по этическим вопросам справедливости и её нехватки. Латинская Америка туда, Латинская Америка сюда, то был летучий голландец семь лет назад, в итоге вернувшийся на свой континент.
Незадолго до моего седьмого дня рождения я решила никогда не учиться читать. Я не хотела превращаться в мумию над книгой. Меня возмущали эти поглощённо-отсутствующие лица людей, которые ведь могли бы со мной говорить, играть, гулять. Возмущали, может быть, даже больше, чем в наши дни пожилых людей возмущает младшее поколение с лицами, закаменевшими в столбняке, когда они пялятся в свои гаджеты.
Пару раз я убегала от матери, когда она хотела обучить меня грамоте, – пусть теряет меня из виду, если легко теряет самообладание. Но когда мне строго запретили чтение слишком сложных книг, я пододвинула стул к стеллажу, чтобы дотянуться до верхней полки. Одно из запретных кодовых слов: ты ещё не доросла до Жюля Верна. Вскоре после этого, потеряв всякое чувство пространства и времени, я пировала на своей первой книжной оргии с Вокруг света за 80 дней и Двадцать тысяч лье под водой, которые совратили меня раз и навсегда. Можно было объездить весь мир, включая его небеса и моря, если предаться на волю фраз, не сходя при этом с места. Первая страница была адом, вторая пошла лучше, двухсотая сделала меня наркозависимой от чтения. Я поднималась на воздушном шаре, сбрасывала вниз мешки с песком, замерзала среди лета над короткими рассказами Джека Лондона и впадала в жар среди зимы с красноармейскими кавалеристами.
Одно время меня захватила книга по астрологии. Она была ещё запретнее любой просветительской книги; причём сегодня я припоминаю, что моя мать скоро перестала обращать внимание на то, что я читаю. Главное, чтоб я читала. И я читала. В том числе и о том, что некоторым парам не подходит спаривание, а некоторых парит, даже если они лишь теоретически ступают на путь, подготовленный звёздами. Кое-что я знала почти наизусть, на какое-то время это стало Библией; внизу во дворе я гадала подружкам по линиям их ладоней.
Вика с десятого этажа в качестве ответной любезности показала мне иллюстрированную Библию. Такое же таинственное мгновение посвящения. Я не находила отличия от книжки сказок. Куда более сильное впечатление на меня произвела Катя с шестого этажа, единственный ребёнок в семье – гитарой в её комнате и тем, что у неё была своя комната и гитара. В отношении музыки мои родители единогласно решили, что слуха у меня нет, поскольку ритм у меня свой, а чувство такта вообще отсутствует. Может быть, я ослышалась, и они имели в виду то, что я их не слушаюсь. С этим непослушанием, освобождённый от гармонии дикий ребёнок рос без музыки, ампутирование и вербально мутированно, вплоть до отвращения к вопросу всех подростков: «А что ты слушаешь?». Я слышала лишь то, что читала и что бормотал телевизор. Тем приятнее потом навёрстывать: уши открылись. Без музыки едва ли возможно вырасти из тяготения картинок.
Школьное время других я прожигала за чтением. Долгие утра проходили на балконе в царстве кукол. Иногда компания внизу: перегруженные школы нашего плодовитого года рождения порой вводили двухсменную систему, когда у половины детей занятия начинались после обеда. Но после обеда и вечером я всегда была внизу, если не дождь. Мы играли в карты, рассказывали анекдоты, делились слухами про НЛО и про Запад (они были похожи), понемногу забывая приезжих детей, с которыми мы проводили лето и которые уезжали до следующего лета или навсегда. Мы пекли в кустах картошку, взятую из запасов наших матерей, гоняли между гаражами мягкий футбольный мяч, брали из пещеры родниковую воду, скатывались на картонке со склона, поросшего травой – так мы представляли себе катание на санках. На снег мы не надеялись, он не выпадал почти никогда и не залёживался дольше пары часов. Мы рассчитывали только на себя. Иногда мы уходили далеко от наших высоток, ухаживали за щенками и котятами, выслушивали истории детей, встреченных на незнакомых улицах, и на закате солнца возвращались назад, усталые, под прощальные взмахи веток акаций и тополей.
Однажды за книгами на полке я нашла вазу с пластиковым пакетом, полным патронов. Мой старший брат, который бывал у нас редко, потому что изучал в Петербурге медицину, занимался стрельбой в высшей лиге. Помню то высокомерие, которое передалось от моей матери мне и даже тому детсадовскому ребёнку, которому я об этом событии сообщила. Мы были почти первыми на республиканских соревнованиях! Я поняла, не обязательно быть победителем, чтобы чувствовать себя им. Я чтила второе место моего брата как скромное и хотела тоже однажды где-нибудь стать второй.
Патроны были, видимо, предназначены для его тренировок дома на каникулах. Он иногда брал меня с собой на стрельбища, я целилась в мишень и жала на курок, в правильной позиции: одна рука вытянута под прямым углом, другая упёрта в бок, с непомерно большими защитными наушниками, всё как положено. С этим запасом патронов, про который явно все забыли, я однажды вечером выкралась вниз. Хотела, видимо, произвести впечатление на Олега. Мальчишки воздвигли небольшое сооружение и поджигали эти штуки одну за другой. Наш маленький фейерверк, тайна. Если бы это увидела моя учительница математики, мне бы уже никогда не видать хорошей оценки – по моей логике страха, во всяком случае. Помню при этом сосредоточенное молчание, напряжение, некоторую торжественность всей акции. Мы были довольны, безгранично, в принципе уже империально, пропитанные запретом, предвестником пра-взрыва – может быть, взрыва Украины.
Когда сын дворника добывал ключ, мы играли в прятки в подвале нашей высотки. Огромный подвал, в нашем доме было по четыре квартиры на этаже. К тому же этот подвал был объединён с подвалами двух соседних высоток. Выключатели света не были проблемой – или мы намеренно никогда их не использовали. Чего только не происходило в этом подвале.
По прошествии времени отмечаю, что у нас не было ничего общего ни с наркотиками, ни с алкоголем или сигаретами. Самое большее – мы жевали вар, вообразив себе, что бывает и чёрная, а не только белая или розовая жвачка, как та, что привозили нам с Запада «плавающие отцы», служившие на флоте.
Я вращалась в двух компаниях: одна состояла из детей моего возраста, с ними я бегала, когда не было никого другого, так сказать, для расслабления. В остальном – в компании из почти уже не детей. Они были в среднем года на четыре старше меня. Их мир был более интересным, волнующим, их истории и реакции неожиданными. Правда, с ними невозможно было состязаться. Они выделывали всевозможные фигуры, прыгая «в резинку», лучше играли в футбол, а главное – не выдыхались так отчаянно быстро, как я, убегая от пьяных. Меня интересовали их амурные переживания, они продолжали вживую мыльные оперы, синхронизируя их монотонным произношением в нос. Из мира рабыни Изауры я уже кое-что знала о страданиях и любви.
В той компании уже не мальчиковые мальчики гоняли на мопеде. Они прибегали из другого района города, чтобы соблазнить красивую Наташу с первого этажа. Она задумчиво стояла у двери подъезда в тесно облегающей малиновой миниюбке, опираясь на столбик под её балконом. Загорелые ноги и взгляд, устремлённый вдаль, выражали немой призыв: заберите меня отсюда! Её трагизм и тоска пленяли меня, потому что я их не понимала. Мне никогда не хотелось никуда от наших подъездов, дворов и холмов.
Иллюстрированная история статуи Свободы – любимый Dad Liberdad за многие годы несколько закоснел, но по-прежнему браво тянет свой факел вверх – разыгрывается в итоге на магической несущей поверхности между детским садом и школой, на лоджии, откуда можно было видеть забор сада, и на меньшем, выкрашенном в зелёный цвет балконе, откуда открывался прямой вид на Буревестник; над книгами, в безлюдных уголках улиц, в подвалах, на крышах, а прежде всего на всём, что крутится и едет. Тронувшийся год. Или: самоструктурированное пространство-время, подготовительный курс по менеджменту жизни. Это отзывается и позже, только я плохо слышу.
Однажды в подвале притаился эксгибиционист, и мы гнали его через весь квартал, чтобы он больше никогда не показывался у нас в районе. Мальчик, казавшийся очень примерным, рассказывал в детском саду неприличные истории. Родители, когда были дома и не дома, посвящали себя добыче, в том числе всё более дефицитных товаров. Мы сообща мирно сошлись на том, что будет лучше быть не всем дома. Статуя свободы памяти не потрудилась бросить это совещательное завещание под стол, где были прикованы на цепь наши лодыжки.
Кроме того, присутствовали и принимали участие:
Катя с шестого этажа, её квартира прямо под нашей. На четыре года старше. Мягкое женственное тело. Её мать стирала бельё в ванной, примыкающей к Катиной комнате, а мы лежали под одеялом. Ещё чаще наша коммуникация происходила от балкона к балкону. Мои кошмары: я падаю с балкона, с седьмого этажа, лечу мимо Кати, а под ней мимо Насти. Настя, у которой лохматая колли, верхом на ней она каталась по гостиной. Я любила стоять в лоджии на табуретке, наблюдая с этого поста за местностью, отслеживая, кто там появился внизу и имеет ли смысл спускаться во двор. Я могла выкликнуть Катю: она выходила на свой балкон, я свешивалась к ней со своего.
Иногда мы вели наши балконные разговоры поздним вечером, когда все уже уходили спать. Я разговаривала с её затылком; отвечая, она поворачивалась. Не знаю, кружилась ли у неё голова, как-никак надо мной высились ещё пять этажей, возносясь в звёздное небо. Нам приходилось говорить так громко, чтобы слышать друг друга, но так тихо, чтобы никто нас не подслушал. Настя была не вполне наша. С Катей нас что-то прочно объединяло, и это я поняла, только когда Катя съехала – её родители поменялись с бабушкой жильём, – и я пришла к ней в их затемнённую деревьями и нерасставленной мебелью квартиру с высокими потолками в далёком старом районе. Уже тогда всё нарушилось: переехать мне казалось преступлением. Там, у неё, в ещё не оборудованной квартире я впервые притронулась к пишущей машинке – чёрное нижнее бельё в детских руках.
Однажды в лоджии меня охватило желание бросать в мальчишек вниз арбузные корки. Их много сидело на заборе, а у нас после обеда осталось много арбузных корок, пока не выброшенных в мусоропровод. Я бросала и пряталась за бортиком. Олег вычислил меня, мы чувствовали друг друга и на расстоянии, и хотя я полагала, что парапет балкона меня скрывает, он крикнул, чтобы Танька с седьмого этажа прекратила. Иначе он её поколотит, как только она покажется внизу. Это любовное послание заставило меня послушаться и прекратить, не могла же я жить без улицы.
Вика с десятого этажа. Которая с Библией и шикарной плиссированной юбкой. Миленькое личико, одуванчиковая улыбка, светлые волосы, хрупкая, оправданная постоянной поговоркой её матери, что с такой фигурой она всегда сможет носить всё что угодно.
Наташа с первого этажа. Вечно стояла перед своим балконом, подпирая задом дом, в одной из жатых юбок с чёрного рынка. Одна у неё была фиолетовая, другая чёрная. Светлые глаза, светлые волосы, часто подколотые наверх и завёрнутые ракушкой. Я тоже просила об этом свою мать, но она говорила, что мне ещё рано думать о юбках и причёске как у Бриджит Бардо. Но не успеешь оглянуться, как уже и поздно. Наташа стояла, смотрела, мальчики на мопеде пришли и победили. Она редко прыгала «в резинку», но если прыгала, то лучше всех. Она делала это с минимальным напряжением, распределяя силы как гепард. Я была на две или на три головы ниже, её лицо я не смогла бы опознать, а вот колени – запросто. Наташа Блюм, однажды она сказала, что её отец из немцев. Может, наши пути в Берлине, этом городе с лицами привидений, в этой гавани для ржавения обречённых развалин, и пересекались, да только ты была в брюках, скрывающих непроходящий загар и неподражаемые ноги?
Что ещё, спросишь ты, дорогой Летний паром, на котором я переправляюсь через Лету, скольжу по Шпрее и по Цюрихскому озеру? Учиться невмешательству в простой и сложной карточной игре и тому, что обманывая далеко не убежишь. Позднее заразить весь класс в Берлине карточной игрой в «дурака». Учителя были в отчаянии. Они не знали, что игру ввели в обиход Аня и Таня. У нас были слишком хорошие оценки и соответствующее поведение. Человек с синдромом отличника, вот что стало из социализации в качестве примерной партизанки, незадолго до того, как она открыла Моргенштерна и встретила Юлимонда. Маскировочный костюм: почти солидный, вечно-тоскливый взгляд из-за очков. И нигде поблизости никакого Олега, чтобы опознать.
На улице я наконец научилась не играть с отъявленными карточными шулерами. Тоже умение вести себя: закон улицы требовал – либо ты не ешь на глазах у других ничего, принесённого из дома, либо делишься со всеми. Это радушие некоторые немецкие друзья – например, моя первая немецкая подруга, которую я заполучила себе только в 17 лет, – считали чересчур милым. Отдавать больше, чем берёшь, это же глупо. Умные дружбы – это хорошие сделки, в которых в кого-то выгодно инвестируешь время. В которых ты экономишь, а чувства – тем более. В противном случае ты слишком добродушна, нет: смешна. Другого слова для этого нет. Это смешно – быть добродушным. Доброта обречена на эксплуатацию. Добро, добрый, доброта – этих понятий нет. Или я не припомню.
Это – абрикосы и ещё незрелые яблоки из садов.
Это история схваченной на лету всемирной истории – такие понятия, как холодная война, ГДР и берлинская Стена, Катя мне объяснила между забором и прыжками со скрещёнными руками через скакалку.
Это белизна букв на Катиной пишущей машинке, Наташины тоскливые глаза и её белые лодочки, прекрасно попадающие на резинку, грация и неповторимость, пока родители Кати не вынесли мебель. Квартал того района, куда они переехали, построили пленные немцы, квартиры славились качеством.
Это – месяцами отсутствующие отцы, усвоившие на корабле неповторимые слова, привозившие джинсовые шмотки и жвачку или просто забывающие про наши клянчущие заказы. Акции по коллекционированию и обмену желанных вкладышей из жвачек под акацией или их выхлопывание в безветренном подъезде. Накопление этих разноцветных и иностранно пахнущих кубиков в тайной коробочке и их демонстративное жевание: торжественное пережёвывание. Прогулка вдоль забора с регулярным надуванием пузыря, который обволакивает голод. Как раз в этой дисциплине я стала второй, Наташа умела надувать их лучше, не пачкая слегка курносый носик.
Это – прочное стекло молочных бутылок, в которых молоко превращалось в простоквашу, если не выпить его в течение пары дней. Это розовые и синие крышечки из толстой алюминиевой фольги от бутылок из-под молока, кефира или ряженки. Кстати, первым делом мы введём в меню нашего местного «Вост. Духа» те грандиозные молочные продукты – кефир и ряженку.
Это – мороженое пломбир в лучших вафельных стаканчиках в мире и земляничное мороженое в картонных стаканчиках, оно странным образом появлялось два или три раза. Это – годы без шоколада, а однажды с шоколадным ломом, украденным кем-то на фабрике и перепроданно-перекупленным (вот что значит «по знакомству»). Массивный нежно-горький кирпич, предназначенный для выпечки. Трудно режется, крошится. Каждому по кусочку к чаю. Чтобы не совсем забыть вкус шоколада, добывалось на праздники (или превращая в них будни) шоколадное масло по талонам в магазине для ветеранов войны или без них, в зависимости от возможностей, так сказать, трофейные произведения искусства добычи. Во время достославной перестройки мать была, а сливочного масла не стало, ни на прилавке, ни под прилавком. Сама не зная, как, она нас всё же обеспечивала. Это мы тоже добавим в наше меню, поставим в экстра-рубрику: Продукты матери-героини.
Это – занятия плаванием, по утрам, после упражнений «всухую», с которыми я ещё как-то справлялась, но потом в воде никогда не могла повторить. Вечный Олег спасает, когда бы я к нему ни прибегала. Может, это именно он – тот, кто руками разводит холодную воду, что смыкается у тебя над головой. Или вызывает подъёмный кран до того, как становится уже невмоготу.
Это – вера, что на худой конец станешь медсестрой – сестрой врача, которым стал мой старший брат, – если уж не преемницей двух инженеров. И успокоительная уверенность, что кто-то уже знает, кем мне быть – внешне, для окружающих, – тогда как про себя я давно решила, ещё до того, как Оскар окончательно оглушил мне уши жестяным барабаном, что я никогда не стану старше семи, как и никогда не покину свой двор.
Это – тайное насилие, на улице и дома. Приватная сфера часто была открытой. Мужчины, которые в предостерегающих рассказах не только заманивают чем-то вкусным, но и средь бела дня подходят к группе детей с непонятными намерениями. Это – дети, которые в один прекрасный день больше не спускаются вниз поиграть. Это – дети, которые защищаются группой. Это – наверняка и другие истории, с которыми мы рассеялись по улицам мира, в уверенности, что вернёмся к ужину. Как будто этот кусочек моря и этот кусочек земли могли нам крикнуть, что за вздор это всё, былые карлики давно уже укрылись за семью горами.
Это – дети, которых на все три месяца летних каникул отправляли к родственникам в Севастополь из Москвы, Петербурга или с Камчатки. Они привозили свои истории и уезжали с нашими, загорев до черноты. Каждое лето вырастаешь вдруг из всего, но всё равно не дорастаешь до одежды старших братьев и родителей. Импортные выражения новичков иногда сохранялись дольше, чем память об их смутных лицах. Например, они привезли с собой весёлое слово сугроб – я два лета подряд удивлялась фантазии, которая могла такое выдумать, пока мне не показали фото со снегом метровой высоты, белым по чёрному.
Мальчишки, которые с садистским удовольствием вырывают у тебя из рук бордовую скакалку из тяжёлого пластика (если ею стегать, больно). Им безразлично, что у тебя день рождения и это твой дорогой подарок. На тебе платье, гольфы, с твоего дня рождения начинается тёплое полугодие, и ты теперь ускачешь от любой серой усталости. Ты смотришь, как один из мальчиков, брутально быстрый бегун, покрикивающий на своего младшего брата, а то и поколачивающий его, использует твою скакалку для того, чтобы между двумя кустами отгородить мальчишечью палатку. Ты не знаешь, как, но вдруг сидишь в этом укрытии, в кустах неподалёку от места под забором, где пекут картошку, с этим жилистым мальчиком. Вы говорите между собой как два вождя разных индейских племён. Ты пытаешься быть как можно более осторожной и выговорить мирный договор. Мальчишки, которых лучше избегать, когда они в стае, поодиночке вполне милы – тихие моменты, беседы на задержанном дыхании, спонтанные поэтики невысказанных симпатий.
Пожилые женщины с моральными проповедями о приличии, загадочные голоса из сигнальной кнопки лифтового пульта (как говорящая женщина попала в красно светящуюся аварийную кнопку?) ни с того ни с сего застрявшей кабины. Однажды, по дороге в гости, у меня оказалась с собой коробка шоколадных конфет. Я все их съела за четыре часа ожидания, уже примирившись со смертью в лифте. Так что смерть подкралась вначале сладко, а потом встала во весь рост в образе дурноты. С тех пор у меня развилось что-то вроде достоинства смерти, и я не готова закончить жизнь трупом, раскисшим в грязи на асфальте.
Между прочим: песни Высоцкого. Некоторые я знала наизусть ещё в детском саду, их слова как стихи вспоминались сами. Придумывала себе объяснения для его метафор и верила в их драматический трагизм, точно так же, как интерпретировала порядок осенних листьев на тротуаре… Про себя я подпевала и Queen, и Майклу Джексону. Произносила громко и отчётливо – как теледикторша, сказала моя мать – старинные поговорки, в том числе о падишахе-ахе-ахе в высоких кавказских горах-ах-ах. Теперь я только начинаю первую строку, мой сын подхватывает вторую. Он уже достиг возраста моего первого внешкольного учебного года, мы бесконечно приближаемся друг к другу.
А ещё: игра, в которой можно говорить только в рифму или не говорить вообще. Необходимость импровизировать шутки, приколы, рассказывать анекдоты, понимать намёки, парировать, находчиво управлять общим настроением и личной позицией – и не уставать. Подобное ведение разговора я наблюдала в дискуссиях о русской поэзии в кафе Ниммерзатт в Берлине, когда несколько мужчин из публики донимали поэтов вопросами, называя их «ходами», но это не имело отношения к немецким Hoden (яйца), а может, и имело, собеседники явно подзуживали друг друга. Собственно, ходами – пещер, лабиринтов или мысли – были, например, такие вопросы, не потому ли автор стихов «ready written» бесстыдно ставит себя в преемственность к концептуалистам, что сам не имеет потенции. Мужчинам приходилось доказывать обратное, стоять на своём. Стилизованные женщины вопрошающих источали ту энергию, которая воспламеняет мужчин. Я рассматриваю сцену из третьего ряда публики или с балкона седьмого этажа панельной высотки как азартно нейтральная жительница Сева-Цюриха, севаслерша, яхтсменка. (После серии переездов у меня развилась эта специфическая лингвистическая хворь – сшивать топонимы и конструировать неологизмы. Правильно выговорить и понять их могут лишь швейцарцы, причём лишь из того краевого кантона, где не больно наткнуться на кант и покататься в картонной карете).
Тот русский полуукраинец продолжает строить деревню в «центральной зоне», из лета в лето. Свою деревню, он говорит о ней как о своей жене. Она его поэзия, и каждый дом, каждый забор – книжка лирики. Он пишет, что он добрый фей. Это рифмуется со словом змей. Хотя он и считает меня шпионкой, он хотел бы показать мне кое-что в России, from Russia with love. Мы пробираемся по руинам, влезаем на строительные леса и зависаем у фресок в монастырях. Мой экскурсовод всегда находит объяснение и выход. Начитанный, он объясняет вечные памятники, и я понимаю: ой, он заменит Олега.
Назад к достоверным слухам и к слоганной тенденции придумывать прозвища. Они приклеиваются, мгновенно подхваченные другими, и впечатываются как клеймо. Я для всех была «С седьмого этажа». И не имела имени. Хватились ли они меня, гадали, куда я подевалась? Возможно, никто из тех бывших детей и не вспоминает так одержимо наше общее время. Нашу скакалку и нашу закалку, наши меловые и травяные граффити, нашу вялость от зноя, которая наступала с трудом, а сдувалась мгновенно. Последний раз я видела народец моих друзей июньским днём 1993 года. Поскольку клички заменяли нам фамилии, мне не найти их через интернет, разве что появится социальная суб-сеть Вконтакте с дворово-шутовскими кличками девчонок и мальчишек, уличными метриками – этакое кладбище детства, на котором позволено устанавливать памятники тогдашнему времени. При помощи googlemaps я отважилась совершить облёт над своими Остряками, нашим неприметным районом новостроек, и пожалела об этом: холмы, со спин которых мы скатывались летом в надежде ощутить это как скольжение по снежной горке, теперь забетонированы.
Мой год свободы совпал с последним вздохом Советского Союза. Если я позволю себе обобщить собственный опыт, я вижу поколение Homo postsovieticus, на котором этот разлом сказался так же сильно, как и детство при позднем социализме. Я вижу разные типы этого постсовьетикуса: с мигрантским уклоном и тех, кто более или менее остался на месте, вывязав свой собственный орнамент жизни, наделив его смыслом (деньги, машина, дети, квартира, поездки на Запад, а то ещё: дача, деревня, строительство), чтобы не впасть в детство, но и не слишком далеко от него отойти. Кто-то запоем читает о местной истории, архитектуре, искусстве. Бродят по ягоды и грибы, словно кладоискатели в поисках истоков, в которых кроется и сберегается идентичность, в поисках кода русскости, которую они могут назвать своей, перейти на собственный кошт. Пусть это будет отныне названием русского бистро, которое мы быстро оборудуем как наше: Russkost, Русский кошт. С филиалом под названием Krimkost. С отрадным доказательством того, что все могут причаститься подрумяненной корочкой крымского побережья; и есть что открыть в тонких традициях, и есть что утоньшить. Мы откроем его открыто в глобальной сети благородного фастфуда, состоящей из безвизовых филиалов «Вост. Духа». Один из них называется Мыс Фиолент, другой – Буревестник.
Реальные герои Достоевского держат у себя и у других перед глазами богатую клетчаткой духовную русскость, выступают от её имени и инкорпорируют её. При таком воплощении идеи, в совместном поиске датированных и бессрочных кусков пирога ценностей они постоянно накрывают стол заново, в непринуждённой домашней одежде в железнодорожном вагоне и на дорогах того, что и как полагается. Некоторые фразы моментально пачкают скатерть, например, пятнами стойкой конфигурации и прессования всего «другого»: когда речь о «чёрных», как некоторые в Москве называют таджиков и прочих кавказцев, или о евреях, которые якобы управляют элитой и вытесняют русских. Это красит в империю и подаётся так естественно, как будто речь идёт о сметане к борщу.
Я, пожалуй, больше не хочу. От этого скисаешь рано или поздно и без всяких кефирных бактерий. Я не отмечала ни Рождества, ни Пасхи, не обучалась ни застольным манерам, ни кокетству. А то, что было что поесть, я ставлю в заслугу родителям, но была ли то русскость? Во мне мало того традиционного, что я могла бы торжественно передать сыну. Ему придётся увидеть, что за бортом балкона прячется невольный постмодернизм. Бетонно-деревянный парапет на седьмом этаже был покрашен и янтарно блестел. На все праздники я желала себе, чтобы этот вдох длился бесконечно.
С носовой части моей смотровой табуретки меня не тянуло и не тянет никуда, только к тому балконированному и подвалированному облаку протяжённостью в год – к тем внезапно раскрывающимся, переполненным чудесными сюрпризами, словно сказочной кашей, мирам кукол, букв и человеческих детей. У гаражей, во въездах и проходах меж домами.
Я дарю моему сыну его седьмой год, продлённое детсадовское время, никакой школы, никакой продлёнки, много времени на улице, много солнца, экспериментов с насекомыми и растениями. Возникающие, рвущиеся и вновь воспламеняющиеся дружбы. Получается, мы уже много лет как лучшие друзья. Я здесь, я вблизи, я стою позади, чтоб всегда постоять за него. Если надо, я брошу ради него компьютер, но не надо его охранять или оправдываться перед другими матерями за то, что я его не охраняю. Я нашпигована надеждой, что в первую очередь привью ему вкус к хорошему вкусу.
Испытать с ним важные для выживания детали и больше от них не открещиваться. Слушать друг друга, понимать друг друга. Позволять ему исследовать биологическое в банках, ходить в непромокаемых штанах, показать ему ценности жизни, попустительствовать ему, благотворно. Вопреки попыткам его отца вернуть его в Берлин, вопреки предложению дедов, мол, малыш мог бы расти у них и ходить в школу при русском посольстве. Он пропустит собственную Story, с солью или без, с картинками, которые его прельщают, с божьими коровками и тлями, с пойманной и ускакавшей лягушкой, с саламандрой на ладони, с важно заглянувшим в гости котом Гарфильдом и другими, часто дву– и триязычными детьми в его новой игрушечной стране.
Та высокая свобода времени выше дорической статуи, выше фаллоса перед музеем Великой отечественной войны. Конкретно-абстрактная культура быта не скульптура, тебя уже не перелепишь, и всё же ты – it's a kind of magic – к концу промежуточного года оказалась первоначально образована, для будущего, а будущее когда-то становится настоящим.
Снова назад, чтобы раньше стало раньше: в моём «тогда» надвигался новый учебный год. Я не хотела быть старше всех в первом классе. Моя мать сказала, что я могу пойти в ближайшую школу № 7, но сразу во второй класс. Снова вступительный экзамен, я должна была что-нибудь громко прочитать вслух. Это получилось. Мать даже пошла со мной, в первый и последний раз я видела кого-то из моих родителей в какой-то из моих школ. Она сказала учительнице, что из меня получится отличница. Я думала, она обещает то, чего мне не придётся исполнять, ведь достаточно быть средней в этой средней школе, главное – резвиться в мире балкона и двора, стать отличной второй и совершенствоваться в наших дисциплинах.
В школе меня угнетало, что там надо каждый день быть. Моё уныние истолковывалось как «спокойная и хорошо воспитанная девочка». Тут кричали и наказывали ещё больше, чем где бы то ни было. Приходилось проводить вынужденное время с совсем другими сверстниками. Подружиться с ними. Я выполняла все задания, из страха перед великаншей у доски и из гордыни: я хотела выделяться среди этих чужих детей. Образцовая ученица, аккуратная, никогда не дерётся и использует только приличные слова. Учительница однажды похвалила меня перед всеми за это, а ещё за пунктуальность, несмотря на то, что живу дальше всех от школы, и я надеялась, что никто не заметил, как потемнело у меня перед глазами.
Табель с ровными оценками, а может, власть внешних обстоятельств год спустя привели мою мать к мысли перевести меня в другую школу, с математическим уклоном, по неизбежно логическому предопределению. Позднее я удивлялась, что тогдашние знания в математике пригодились мне и в берлинской гимназии, хотя никто из нас, героев Севастополя, не воспринимал уроки как слишком трудные. Зато дорога до школы удлинилась втрое. Потенциальные опасности уличного мира были ничто в сравнении с ежедневными поездками на троллейбусе по городу и лестницей вверх на центральный холм, которая могла бы потягаться с одесской потёмкинской лестницей, кстати, в революционном созвучии с катящейся вниз детской коляской. Рядом со школой белый храм, недействующий, но в следующие классы вдруг оживший, со сберегаемыми там историческими мощами, как оказалось. Звон его колоколов успешно соперничал со звонком на перемену. Замирала даже строгая учительница русского языка.
Когда штанги троллейбуса отваливались и нужно было пересаживаться на другой троллейбус, я однажды пересела не на тот и попала куда-то не туда. Страх опоздать на диктант по русскому языку, а пропущенные предложения в спешке дописывать на перемене; страх оказаться не в том троллейбусе и видеть, что не узнаёшь ни одного здания и вообще не можешь сказать, где ты; чувство, что всё одинаково ошибочно – выйдешь ты или поедешь дальше, пойдёшь ли пешком и пропустишь первый урок, расскажешь ли об этом дома или не расскажешь, – это, пожалуй, и преподало мне самый устойчивый урок – продолжительней, чем вера в числа и слова.
Не говоря уже о дороге домой.
Перестройка
«Мама-Обама, почему распался Советский Союз? Из-за Шермобыля?» Трудный вопрос, мон шер.
Кстати сказать, «распался» – ещё не значит «рухнул». Он представляет себе это как взрыв реактора в Чернобыле? Он что-нибудь слышал? Откуда он взял этот образ и слова для этого – из мультфильма, из школы? Для НЕ-мест есть только НЕ-слова, и это означает, что именно слова создают места.
Гибель мира произошла только тогда, когда мы уехали, да и то лишь для таких, как я. С тех пор подрастает новый мир, как раз благодаря ему, но я не уверена, для кого это всё.
Может, Советский Союз погиб потому, что мы перестали фигурно прыгать «в резинку». Эти резинки, связанные вкруговую из кусков растянутой бельевой резинки, которую мы выпрашивали у матерей. Можно было прыгать на уровне щиколоток, на уровне колен и на уровне бёдер, разными техниками, видами и способами, с разными фигурами, когда ступни касаются резинки, когда резинка перекрещивается, натягивается и снова расслабляется. С высоко взлетающей юбкой, с более подходящими для этого, тесно прилегающими и снова популярными шортами. Мы прыгали среди социалистических блочных строений у себя на отшибе. И да, мы были бедны. Бельевую резинку приходилось экономить, как и всё остальное, на чёрный день. История реального социализма – это история удушающей бедности.
Начало просветительской Перестройки я заметила по тому, что электричество в городе стало пропадать ещё до наступления вечера, и ожидание троллейбуса собирало на остановках разбухающие гроздья людей. Хотя наши зимы и были мягкими, то были зимы. Иногда я шла домой пешком в темноте. Однажды я разозлилась – от голода и от запаха свежего хлеба, который испускал свой аромат из недр магазина, перед которым выходили из троллейбусов дорогие пассажиры и выстраивались в аморфную очередь, похожую на дракона в голодной забастовке. Дома зажигали свечи, если они имелись. Впоследствии мне потребовалось время, чтобы и в свечах увидеть что-то романтическое.
Признаком радикальной перемены к светлому будущему стала, кроме того, демократизация водоснабжения. Поначалу вода исчезала по твёрдому графику, плану подачи воды. Горячую воду подключали по воскресеньям. Потом и холодную стали отключать на весь день, она текла всего один час – с 18 до 19. В это время наполняли все имеющиеся в доме ёмкости, так что в ванне стояли про запас кастрюли с драгоценной влагой.
Общество перестраивалось далее: соседи выстраивались в новую очередь – с вёдрами и канистрами, чтобы у присланной к нам цистерны получить по нескольку литров на брата. Поскольку в один прекрасный день отключили всякую подачу воды, а график послали к чёрту. Кто-то в очереди возмущался, что теперь у нас как в Африке. Я училась занимать очередь, не впадая в негодование. Я становилась и за молоком, мой брат будил меня в пять часов утра, чтобы до школы мы могли добыть по литру на брата.
Мать всё больше впадала в отчаяние: у неё были и есть свои представления о гигиене. Водопроводный кран выплёвывал жёлтые сопли. Мать предсказывала блох, вшей, тараканов и со всхлипом выпадала из своего беличьего колеса. Туманные зимние недели угнетали ещё больше. Отец, который работал в городских системах отопления, избавил нас от ожидания воды: он раздобыл ключ от тайной бани своего начальника. У моей семьи никогда не было времени для совместных выездов, разве что в разгар лета пару раз в Балаклаву на пляж, так что эти конспиративные посещения бани в социальном плане были примечательным событием. Первыми шли в баню мои братья и отец, я в это время разглядывала бильярдный стол в соседнем помещении, потом на очереди были мы с матерью. Она считала, что я должна в кои-то веки отмыться как следует и для этого подольше париться в жёлто-древесном облаке пара. Сознание ко мне возвращалось только в бассейне потом.
Ещё один признак перелома: кражи со взломом. Они были вопросом лишь места и времени. Нас ограбили, когда мы были в единственном памятном семейном отпуске; при этом украли лучший фотоаппарат моего отца; думаю, это и стало главной причиной того, что он перестал фотографировать.
Но экономия приводила и в рай: ко времени, когда исчезла школьная униформа, многие женщины носили юбки из жатой ткани (упомянутого лилового цвета, как у Наташи, ярко-зелёного или чёрного), как и синтетические свитера из Турции с подплечиками и плохо пришитым псевдофирменным лейблом. Их можно было принять за почётную одежду города, не будь она такой пёстрой – в них ходили все подряд. Их импортировали массовыми партиями, и каждую субботу на спонтанно возникающих чёрных рынках их сбывали за чужую валюту. Такой рынок называли тучей. Когда по субботам мы поднимались на эту долларовую тучу, чтобы окунуться в товарный мир, мы шли на самый верх Остряков. Этот путь на край города я знала по нашим вылазкам к родниковой пещере. С Константином мы следовали правилу говорить на этом пути только в рифму. С родителями говорить вообще не получалось, они больше ничего не могли объяснить.
Пришёл на смену инженерам новый профессиональный слой – бизнесмены, зарабатывающие лёгкие деньги в твёрдых баксах. Все вокруг внезапно становились бизнесменами и бизнесменками, у них была сподручная универсальная профессия и занятие, которое я раньше считала прерогативой бедных бабушек, продающих на остановках троллейбуса и трамвая цветы и семечки. Я спрашивала родителей, почему они не стали бизнесменами. Они рассердились: торговля несла на себе отпечаток, не смываемый никакой баней. Аргументом были умозрительные спекуляции, что из нас не получится спекулянтов! Когда мать успокоилась, она сказала, что торговля – не для нашей семьи. Случись нам торговать, мы принесём на рынок яйца, сваренные на домашней плите, а продавать их будем по цене сырых.
Но всё-таки мне было жаль: я представляла себе своё место в семейном предприятии как часть приводного механизма, а не как пятое колесо в телеге. Действовать решительно мои родители были вполне в состоянии. В Берлине они раздумывали, не открыть ли им русскую закусочную. Но не отважились, было слишком сложно с разрешениями и их собственными претензиями: пельмени должны лепиться вручную, а не машиной, быть при этом доступными по цене, и одна порция должна насыщать. Люди тогда едва готовы были выложить 4 марки за один дёнер (шаурму). Почему же пельмени должны стоить дороже. Это означало, что родители не могли бы конкурировать. Качество не приносило дохода. А теперь заметьте: «Вост. Дух» подаёт пельмени по рецепту моей матери. Пусть люди платят за это столько, сколько сочтут правильным, а порции пусть определяют себе сами. Мы верим в добро в человеке.
Севастопольская мода 80-х годов добралась и до Цюриха. Тут у людей есть вкус, в этом знают толк, код считывают друг у друга с носков туфель. Бельвью может послужить мостиком через взорванные сходни к прошлому. Сногсшибательно – ареал цюр-реальный. Опять униформированный центр города, но так, будто экономика нанесла слой сахарной глазури на свежепостриженные головы, блестящие кожаные сумочки и стеклянные глаза. Полировка, рубашки-поло, полиция и порция морского порта. Когда вы направляетесь в «Вост. Дух», вам можно носить мини-юбки неоновых расцветок, и пусть вас несут ноги, прыгая по тонким, как резинки, рельсам новой моды. Мужчины, вам можно показаться в удобных, но не слишком растянутых, показывающих ваши пропорции бело-коричневых пуловерах с фирменной надписью посередине. Как в начале 90-х – унисекс. Обслуживающий персонал носит рабочую одежду из тонкой шерсти с белыми фартуками и нарукавничками, а в углу играет моё синее пианино.
Незабвенное
Дело сделано, съедено, я отделалась от него. Моим мадлен-печеньем могли бы стать чебуреки. Не путать с Чебурашкой, милым медвежонком-обезьянкой из одноимённого мультика, советской заменой Микки Маусу. У чебуреков наверняка крымско-татарское происхождение – лопоухие, жаренные в масле пирожки, по-немецки: кармашки из теста, они же: бёрек.
Я могла бы, но не стану вызывать дымки превосходных вкусовых нюансов; я могла бы, но не стану приводить в пример маленького медвежонка-обезьянку, его защитника крокодила Гену и их печально-весёлые песни. Я подаю тем самым прошение о лишении меня гражданства: разбюргерлите меня, я больше знать ничего ни о чём не хочу, сделайте из внучки героев вкусный бургер. Весёлый крендель. Я подаю заявление на представление. Я хочу, чтоб аромат изжаренного в жире чебурека щекотал нос – а я нацарапаю рецепт этих политкорректных, но пропитанных ужасно жирными кислотами пирожков, начинённых неведомо чьим фаршем. Моя мама недавно делала такие. В Берлине. У них был превосходный вкус, она сказала, что турки в их районе не изжарили бы лучше. Как знать. Иногда я не помню вообще ничего.
А она ещё помнит! Неважно что, лишь бы с морем, бухтами и пловом, который она брала на пляж в стеклянной банке. Плов пах особенно вкусно после того, как прямо из воды пробираешься, балансируя на острых камнях, к надувному матрацу, где тёплый материнский живот покоится на солнце. Плов из баночки а ля Балаклава, гарнированный черноморскими кореньями – ещё одно лакомство, засевшее в восточной голове, нарядно сервированное на серебряном подносе. И потом: холодец по-флотски.
Бурдьё всё-таки был прав, во вкусе концентрируется могущественная власть. Сколько ни дегустируй, а что-то запечатлелось в тебе так глубоко, что как компас ведёт к определённым вещам, продуктам, людям. Я люблю осеннюю оленину в Цюрихе. Её нужно не так много, а после сладковатого послевкусия красной капусты повисает нитка сухофруктов – половинки абрикосов, высоко подвешенные на нитке на балконе, чтобы я до них не дотянулась; в холодное время года мне перепадает парочка на десерт ради праздника. Полки с закатанными банками – огурцы, помидоры, плоды из огорода бабушки. Спроси меня как мать, когда и как моя мать делала все эти заготовки, квашеную капусту и заштопанные носки, ручную стирку и влажную уборку – при полной занятости на работе, при детях, обязанностях и ответственности, выстаивая очередные часы в очереди, охотясь за едой и никогда не ведая, что каким окажется. Что пошлёт дух перестройки, то покупается и перерабатывается и будет в апокалиптическом настроении в один прекрасный день съедено или с задней мыслью отложено на ещё более чёрный день, и самый конец процесса никогда не забудется, потому что у мамы, как это ни смешно, всё получалось по-настоящему вкусно.
Пару раз – это было нечто особенное – воспитательница в детском саду наливала томатный сок в наши жадно подставленные чашки.
Два года спустя: первый томатный сок из огромного конуса, купленный после школьного дня на собственные карманные деньги. Стакан козьего молока с рынка перед экзаменами, чтобы перепрыгнуть через четвёртый класс. Мать сказала, что это помогает, и это помогло.
Ягоды с кустов и грецкие орехи с деревьев.
Кульминация на балконе, наших Балканах: пакет для старшего брата, посылка с лучшими продуктами в холодный, бедный вареньем и фруктами Петербург. Коробка стояла на моей табуретке, моей наблюдательной вышке, так сказать, и у коробки не было прочного дна, чего я не знала. В этом и крылась трагедия. Я приподняла её, чтобы занять свой пост, иначе моя голова не выглядывала за парапет. Содержимое коробки вывалилось, разбилось об пол балкона, смородиновое варенье разлилось, не поможешь ни стиранием, ни стенанием. Удержу ли я за собой после этого мою высоту, мой верблюжий горб, мой наблюдательный бугор? На почве последовавших за этим последствий у меня была отнята перспектива остаться в раю.
Та коробка с южными фруктами в Петербург имела вкус крушения, вкус слома и неутолимой тоски увидеть кого-то внизу, хотя уже наступила осень, Олег вернулся на свою Камчатку, и не смести те крошки печали на крышке, на карнизе балкона. Такая коробка с едой имеет солоноватый вкус гремучих вопросительных знаков, всевластного бессилия в судебной упаковке, копоти подпалённого в России сердца.
В слове судьба кроется не меньше, чем в той коробке или в человеческой жизни. Она способна подняться со своей непредсказуемой лёгкостью, но может и, чудовищно отяжелев, вдруг упасть с тобой на семь этажей вниз, до подвала. Жизнь владеет судьбой, тут ничего не попишешь, разве что выпьешь чёрного чаю и поговоришь по душам. Отвратительное фаталистическое представление, которым одержимы и атеисты. Судья – в этом слове сразу слышишь, что судьба правит жизнью, и не всегда мягко: люди, которые верят в неё, верят в то, что отдаёшь из рук то, чего сам никогда не держал в руках. Жизнь жарится и готовится сама по себе, и вот никак к ней не подготовиться. Она укладывается и устраивается как получится, она тушится на медленном огне или кипит понемногу, рецепта никто не знает, но постоянно что-то из этого получается – полная тарелка или лицом об стол.
Ингредиенты попадают в кастрюлю, карты выпадают при рождении. Бурдьё незабвенный, габитус берёт начало в колыбели, и почему не в поздне – и постсоциалистической социализации? Ведь всему найдётся подходящая сказка, и если есть такая, где каша варится, вытекая через край, это было бы даже логично. Если обслуживаешь и западно-европейские рынки, посылаешь Карлсона с крыши на кухню: он печёт блины, с шоколадным кремом, а ещё сырники и оладьи.
В «Вост. Духе» на обед есть суп судьбы без указания ингредиентов, происходящий из пра-бульона кипящего океана. Есть также каша контингенции и блиносудьи с начинкой, которую составляет себе сам клиент. Мы смиренно следуем судьбе. Мы разрешаем себе некоторую интервенцию, вгрызаясь как можно веселее. Мы выставляем мисочки для начинки: позволяем комбинированные гарниры, включая варенье из смородины без ограничения и наказания.
«Вост. Дух» предлагает и то, что мне заповедала мать. Только один раз, но я бы размножила это, плюрализировала и демократизировала: вместе лузгать семечки, читая при этом газету. That's it. Можно раздобыть чуть больше, чем хочется, и пригоршню носить в кармане куртки, чтобы в случае чего при ожидании втыкать чёрно-белые семена между зубов – фотография прошлого мира, она чудеснее мотива с сигаретой.
К любимым материнским кушаньям относится – грызть халву, запивая ряженкой. Молочноцветная революция «Вост. Духа». Поэтому я мчусь в архив молочных культур и подбираю при помощи незаменимых бактерий необходимую кислоту и сладость. Не так уж это и нешвейцарски, клянусь святыми коровами, тем более эти напитки полезны для желудочной флоры – так я слышу по её урчанию. Мы добьёмся и безлактозной версии. Кефирализации федерации a la carte.
Возможно, что в ванне, из которой можно уплыть в Турцию, маются без дела пара карпов из Океана, многоэтажного рыбного магазина в начале проспекта Остряки. Но в отделе колбасных товаров плохи дела. Мой габитус законсервировался при дефиците мяса, от которого я никогда не страдала, если не брать во внимание анемию. Когда встречаешь сосиски не чаще, чем доллары, считаешь их чужой валютой и не знаешь, что с ними делать, если они вдруг окажутся на твоей тарелке – как золото в кошельке.
Мой любимый балкон, я прощаюсь с ожерельем из сушёных фруктов, с обоими велосипедами, обменянными на копчёных кур, и с бельевыми верёвками, на которых простыни, словно паруса, парят к далёким берегам. С Дуней со второго этажа на Лангштрассе, молодёжной улице Цюриха. Такой же далёкой от нехватки еды. Голод унижает, и этого не объяснишь тому, кто сам не хлебнул ничего подобного в Перестройку.
Перестройкой нам надо бы назвать одно блюдо – на выбор консервы или что-нибудь сезонное с дачи. В этом подлом состоянии ты очень хорошо понимаешь, что значит «судьба»: когда никто не знает, где, чего и сколько он сможет укупить, и речь о «добытом» вдруг звучит куда заносчивей, чем песня миннезингера. Ибо, судя по эху взрослых, ты одурачен: платишь деньгами, которые ещё вчера потеряли свою стоимость, переплачиваешь, потому что по большей части в долларах, а получаешь за них с гулькин нос, и то по знакомству, если кто-то окажет тебе милость отдать товары за банкноты. Товары, качество которых давно не в качестве, а только в обладании ими.
У других детей из твоего класса дела не лучше: один мальчик однажды выпрашивает у тебя завтрак, ты делишь его в качестве практического применения теоретического постулата. «Быть добрым» – центральный предмет в школе, мы учим наизусть важное выражение: «Будьте добры!»
Мы имеем дело с сыром, купленным на дорогом рынке, но мать опасается положить его тебе на хлеб к утренней чашке чёрного чая, потому что, как она обнаружила, по вкусу он больше похож на мыло. С разбитым пакетом надежд для старшего брата я тоже прощаюсь. Ну и что, мешают ли они нынче кому в избытке речевого потока, продовольствия и взбитых сливок? Мешает лишь жалобный писк на заднем плане, им мы сыты по горло.
Мы прощаемся и с тем, что половая тряпка – your wish comes true – гонит меня на улицу, где я буду счастлива с моим подарком, бордовой скакалкой. Мать – outragious, вне себя, что я пригласила к себе на седьмой день рожденья друзей, не предупредив её, и она должна приготовить нам еду, которой у неё нет.
Именинного пирога, к сожалению, в «Вост. Духе» не будет: если нет представления, невозможно и подражание. Зато будут круглый год арбузы, да! И помидоры, которые тают во рту, как будто откусываешь их на краю скалы. Это заслуживает отдельной главы, как домашний плов из баночки, а помидоры входят в его состав и входят в состав свободного вида на морскую даль. Вторая глава. Арбузы и украшающие балкон сушёные абрикосы, у меня голова идёт кругом от голода.
Что касается плова: мы сидели и ели в запретном месте; у врат закрытого города в Балаклаве дежурили тайные подводные лодки. Смелее, Ифигения в Тавриде, а фигуральный страх – иди на фиг. У нас в Балаклаве была баба Клава. Она была, когда мы там были, она оставалась, когда мы уходили. Мы как семья. По крайней мере, судя по воспоминанию о той поездке и по фото. Эту родственницу Клаву, слывущую весёлой сумасшедшей, я никогда не видела, но мать её всё время поминала. Эта баба бдила, как я выуживаю из банки морковно-жёлтый рис и кусочки баранины, заедая их помидоркой. Она подмигивала, когда сок с подбородка капал на горячие гальки и соединялся с солёным запахом морской пены.
Плавать
Прыгать с утёса. Со скалистого выступа вниз. Нырнуть – вот цель, а что дальше, ты не знаешь. Не всегда и не всё обозначено на карте. Это не наносят, это выносят. Вода разливается своими потоками и вздымается кручами волн, так и рвётся тебя поглотить. Пока ты ещё не, но скоро станешь прыгуньей с утёса. И ещё раз. Плыви сквозь внутреннюю преграду к ближайшей россыпи камней, которая так призывно возносится из воды, и ты – с носом, полным солёной воды и радости, что ещё что-то чувствуешь, – даже не замечаешь, что поранила о камни подушечки пальцев. Так ты учишься этому. Вода не может быть пугающей. Глубокой, да, но тебя уже ждёт ближайший камень держись-за-меня-крепче, в десяти или двадцати метрах. Напрягись и плыви к нему. Всякий должен это уметь. Да брось ты, ну тебя. Это же не трудно. Надо только держать голову под водой. Выдохнуть, в воду. Голову вниз, я сказал, вот так!
Кто-то помогает. Вода устремляется в нос, заполняет мозги. Ноги невесомы, ищут дно, но оно не всегда оказывается под рукой. Ступни не нащупывают колких камней, которые подтвердили бы, что всё скользко. Ноги тянут тело вниз, дальше ничего. Вода продолжает струиться вверх. Соль раскалывает лоб. Ты проглотила скалу. Руки хватаются за обещанный камень, они обнимают цель, они ненавидят её, они вытирают слёзы, слёзы моря, кровь морской степи, а позади горизонта кланяется Турция. В конце мира всё-таки ещё не конец, а продолжение.
В конце концов, мы в Крыму, где не обплывёшь стороной Волошина и непременно окунёшься в возвышенную мишуру из рифм и акварелей. Поклониться ему, почитать его, там-там. Его почитание Киммерии и почитание его как поэта Крыма укажут верный путь. Он – задающий маркер пути, выдающаяся веха. Придвигаешься к нему вплотную, навязчиво, в восточной зоне не настаивают на приватной зоне, особенно когда речь идёт о том, чтобы повторно воздвигнуть его стихам памятник, крымский камень первичной горной породы.
Я выныриваю из его стихов и вижу другие памятники. Они берут верх, они указывают простёртыми руками в победное будущее, и если они не угодили на свалки борьбы за украинскую независимость, то ещё и поныне возвышаются над пробегающими человеческими строками. Немножко как маяки на Балтийском и Северном морях. Путеводные знаки и стрелки заблуждений. Вертикальное расположение обязательно, глаз радуется подразделению на передний и задний планы, он радуется всем композициям привычного городского силуэта – смотря по тому, откуда идёшь, как движешься, откуда наблюдаешь и в какое время года – и дня. Зачем мне говорить о них красиво, они сами красивы, включая матросов-патриотов и исторический нимб, который, как у Волошина, склоняется ко многим большим О. Я представляла себе, что они меня спасут, если я буду тонуть, оранжевые, как закатное солнце в Севастопольской бухте. Если в этой бухте доблестно спасли отечество, косы девочки в море были бы пустяком, мелочью, лёгким, в мгновение ока осуществимым кусочком в меню – de rien, а не rien n' est va plus.
Что-то у меня не вьются цветуще-ветвистые истории вокруг целебного купания в Крыму. А как бы я хотела их рассказать. Такую историю мог бы поведать семейный отпуск, не будь он досрочно прерванным, но я вспоминаю только о судорожной атмосфере, о слишком тесном для нас четверых или пятерых бунгало (я спала на неудобной раскладушке), о совместном завтраке в душной столовке. После еды – большое задание: обязанность выполнить план по плаванию и солнцу за всё лето. Катастрофа, когда вернулись из столовой в бунгало взять вещи для пляжа: нас ограбили, отдыху конец. Я нарвала цветов, что росли поблизости, и подарила букетик матери, чтобы приободрить её. Она сказала, что это цветы, которые приносят на похороны. Её скорбь прочно сомкнулась вокруг меня. Я спасалась от дальнейшего бедствия тем, что с того утра играла с девочкой из соседнего бунгало и опять не понимала, как это может быть между людьми, а они не находят в этом ничего необычного: мне казалось жутким, что подружишься в раю, потом разъезжаешься в разные места, в разные времена года и больше никогда ничего не услышишь друг о друге.
Что слышит моё воспоминание? Выговори это, расскажи о мифе русалок, волна набегает: неповторимая поездка в отпуск, путёвка, которую мой отец раздобыл для своего брата по отцу, и эту поездку тоже пришлось прервать досрочно – я стала успешной прерывательницей отпусков, вероятно поэтому у меня их так мало, да, я должна признаться, что годами впадала в панику перед любой поездкой, после того, как мы попали в Берлин. Хорошо, мы ещё в Крыму, спокойно поглощаем его. Доведём аннексию до анорексии.
О существовании своего брата по отцу, Константина, мой отец узнал только в конце 80-х. Мой дедушка со стороны отца, герой Советского Союза, умалчивал существование внебрачного сына, почти того же возраста, что и первый сын в браке. Поскольку моего отца его родители выставили за дверь в 17 лет, антиродительская позиция объединяла его с новооткрытым братом. Он был единственным родственником, которого мои родители принимали в качестве такового. Причём моя мать заметила, что это нехороший знак, когда в одной семье двое носят одно и то же имя – если бы она знала, что уже есть один Константин, она не назвала бы этим именем второго сына. Этот дядя был, пожалуй, стратегической осью для моих родителей, дядя в Москве, своего рода Константинополе. У него можно было переночевать – например, когда мой отец раздобывал гомеопатические шарики для моего среднего брата, впавшего в апатию. В качестве ответной любезности мы предоставляли дяде доступ к Чёрному морю. Последний раз, когда я встретила его в Москве, он меня спросил, не жалею ли я, что мы уехали из великолепного Крыма.
В плохую погоду, если я не выстраивала кукольный мир и не поглощала книги и фильмы без оглядки на возрастные ограничения, я страстно рисовала. Это было важно и потом, в Берлине, жизненно важно. Мой полудядя, с ясной стратегией, открыл мне доступ к искусству: он привёз из Москвы ящик с красками, вдохновение и альбомы по искусству. С колонковой кисточкой в руках я приняла решение быть художницей. Когда бы мне ни попадала в руки бумага, даже если на ней были буквы, тут же закручивалась русская рутина: составлять композиции, делать наброски, слой за слоем, вперёд, промежуток, перспектива, детали, декоративный результат. Рулетка. Переживание на уровне декольте, иногда – и часто без бумаги – голое переживание, то чёрное, то красное.
В Берлине, где я мигрировала от акварели к акрилу, мне требовалось много холста. А вот чего мне не требовалось – это назойливых вопросов, почему я предпочитаю пурпурный цвет и что я, собственно, рисую. Не ЧТО и не СОБСТВЕННО, вот ведь как. И я прекратила и путешествовать, и рисовать. С чтением было то же самое, у меня развилась буквобоязнь, они чего-то хотели от меня, они провоцировали на реакцию, а я была ещё занята реинкарнацией. Они требовали чистого места. Я терялась.
Мне кажется, что чтение – это то же письмо. Со стороны читателя требуется для этого много – я замечаю это теперь, когда у меня не хватает энергии развесить бельё, приладить строку из мокрых шмоток. Я не люблю ряды, я не хочу этой линейности, этих горизонтов, которые воздвигают и отделяют, строка за строкой, строка против строки, цель без цели… Что касается живописи, живописи Крыма, я ношу её – как чтение-письмо – как взгляд, радость, потребность, запрет по необходимости. Я запрещаю это себе, так легче живётся, я думаю, и я думаю, я буду рисовать и дальше, когда что-нибудь увижу, вычитаю, учую. Это сложится само, даже если не попадёт на холст, а будет задумчиво играть на внутреннем дворе, никем не замеченное.
Во всяком случае, я имела удовольствие быть взятой в ту трудно добытую поездку в отпуск, чтобы с братьями и моим новообретённым дядей отдыхать в специально обустроенном для этого месте. В санатории для душевнобольных. Наряду с фото, на котором я выгляжу высокой и тонкой, останется закрепившееся впечатление, что меня в мои восемь или девять тогдашних лет выбросило после кораблекрушения в фильм без возрастных ограничений.
Дядя получил от моей матери указание мыть мне волосы после посещения пляжа, чтобы не завелись вши, такова была её железная логика. Это значило стоять голой перед мужчиной, который намыливал мне голову по приказу моей матери. Но по дороге на пляж и обратно мне напоминали, чтобы я прикрывала глаза («Нудисты!»). На море потом были и другие побуждения.
Мои братья полагали, что в это лето я, наконец, научусь плавать. В шесть часов утра они тащили меня из постели на раннее купание, пока море тихое. Я карабкалась с ними вместе, ничего не съев, а главное, не попив, вдоль каменистого берега на их любимое место. Ненавидела купание ещё до прихода туда. Выдающееся место: выдающийся утёс, с которого я от толчка летела в воду глубиной в несколько метров. Как всегда, в моём распоряжении была возможность догрести по-собачьи до ближайшего камня. Или утонуть.
То, что я хочу пить, никого не интересовало ни утром, ни в послеобеденных купаниях. Мне было ясно, что этим мужчинам ребёнка не понять, и я не понимала, почему я должна была их уважать. Никому не было дела до того, что я уже несколько дней не ходила в туалет, не высыпалась и часами вскарабкивалась на одни и те же камни и сухие деревья вокруг нашего бунгало, медитативно или вцепляясь в них, потому что со скалами я всегда могла что-то затеять – как альпинистка у Высоцкого. Засыпание регулировал мой старший брат, студент-медик, при помощи гипноза. Твой мускул с таким-то и таким-то латинским названием расслабляется наряду с жилой, которая становится соверше-е-е-енно эласти-и-и-ичной…
На четвёртый день меня осенила идея позвонить родителям. Я хотела услышать их голоса, существуют ли они ещё, и есть ли ещё инстанция, которой небезразлична брутальность по отношению к их приплоду. Когда красивый голос моей матери спросил, как у меня дела, я разревелась. Пищеварение – то, что хорошо срабатывало в её философии. Мать сказала, что отец заберёт меня из Нового Света, как назывался тот отпускной рай. Он действительно приехал. На тёмно-зелёной машине городской службы отопления.
По возвращении с этого Южного Берега Крыма – название, пробуждающее мечты, – меня обняла моя мать. Я была не в себе. Она уделила мне целый вечер, героический подвиг ввиду сломавшейся стиральной машины и её регулярной посменной работы. Я чувствовала себя как после жестокого индейского испытания. Ничего не могло быть хуже, чем обучаться плаванию: когда она мыла меня в душе – из страха, что я могла подцепить на побережье вшей, – я сказала, что нахожу хорошей её идею перепрыгнуть через четвёртый класс, и сдам для этого экзамены.
Она проходила со мной в то лето учебники за четвёртый класс каждое утро между завтраком и обедом. Её идея состояла в том, чтобы в пятом классе я начала изучение английского языка и тем самым подготовилась к изучению немецкого, чтобы после намеченной смены планет мне было не слишком трудно. До поездки с тремя мужчинами в бунгало я целый месяц сражалась с матерью против этих элегантных экзаменов по перепрыгиванию целого класса, но сдалась. Я хотела покоя, хотела вниз во двор, хотела своих каникул и друзей. Но после путёвки добровольно приняла на себя муки учёбы. Я выдержала эти экзамены – скорей всего, благодаря козьему молоку, – была самой младшей в пятом классе и принимала обозначение моих друзей – «вундеркинд» – за обидное прозвище а ля Кинг-конг, которое можно было выдержать только как привычно грубый тон улицы.
В Берлине, где я смогла понять значение моего прозвища, дворового кода, я чувствовала себя поистине обезьяной, потому что мне пришлось заново проходить пятый класс. Как всегда, родители не показывались в моей школе, мне всё приходилось улаживать самой. Мне сказали, что в десять лет ходят в пятый класс, для шестого я слишком мала и сперва должна выучить язык, чтобы хоть что-то понимать. Это не обсуждалось. Возрастные ограничения, увы.
Как только голова пробивает поверхность воды, ты хватаешь ртом воздух и хватаешься за шест. Он предательски отдаляется, от ярости ты держишься на плаву. В конце, когда ты достигаешь лестницы победителей, ведущей из плавательного бассейна в порту к бетонированному причалу, ты хотя и чувствуешь себя на издыхании, но стоишь выше этого и даже готова повторить процедуру. Кто-то говорит тебе за это молодец, а кто-то дура. Ты скоро забываешь всё, кроме холода капель, высыхающих на коже.
Никто не виноват, что тренер по плаванию пьёт и уже не знает, в какой ты группе – начинающих или продвинутых, то ли отправить тебя в мелкий бассейн, то ли к корабельным килям, на дорожку с мальчишками, плывущими кролем, пыхтящими и плечистыми. В ту школу плавания ходили твои братья, эти занятия по справедливости полагаются и тебе. Раньше, пожалуй, действительно всё было лучше.
Говорят, для России типично – заставать утопию и дистопию рядом друг с другом и друг в друге. Крым играет на руку этой двойной связке, здесь сходится вместе много смерти и жизни, крови и жара, старых героев и нуворишей, битв и удовольствий. История сбывшаяся и несбыточная. Моя история морского чудища изморилась. Опасность и защита, степь или пустыня, горы или волны, долгий и прощальный взгляд на море, море плаванья и море гнева, всё это очень хорошо. Но как солнце блещет в каждом атоме дыхания, как морская соль проникает в поры, как пинии отбрасывают тени и как дремлешь на привале, доверчиво предаваясь этому всему, остаётся на дне прозрачной картины запахов, в обеззараженной от вшей кубышке чтения.
Украина
Osteopatin. Может, это новое немецкое правописание? Может, профессия – остеопатка? Не восточная немка и не крёстная мать с востока. Восточные вокзалы на Западе и глобальные психопатки. Когда я думаю об Украине, я на краю. Безумия или сна наяву. Когда я думаю об Украине, мой сон убит. Принеси жертвенного агнца. Предприми неполитическое бегство, прикрытое фиговым листком, причём тамошним, а то и лавровым, у нас был и лавровый куст, он рос перед высотным домом, и иногда я приносила матери эту важную приправу для супа из моей первой империи, лавровые листья были ей милее, чем букеты цветов. Это истинная соль супа, единственно верная, сделайте так, чтоб я не сбилась с курса, не спрыгнула с края, не уплыла в Турцию через Цюрихское озеро или Ваннзее, оно же озеро безумия.
Алупка, Алушта, еврейский город пещер и катакомб, Ялта? Конференции, мировые события? Мы знаем, мы город мира. Достаточно знать, что тенистые обратные стороны фасадов готовы для настенной живописи, быть окружённым морской водой, её запахом в носу и иметь братьев, которые знают английский. Я не помню ни одной этнически гомогенной семьи. Лучший друг моего старшего брата был грек, мать моей подруги Насти с пятого этажа была из цыган, в мой класс ходила татарская девочка с косами до попы, а подруга из соседнего двора была полька с красноречивым именем Ванда. Татары часто приходили в гости к нашему дворнику на первом этаже, мы разглядывали круговой орнамент на их шапках, как и всякого, кто к нам входил и выходил. Домофонов тогда не было, дверь стояла открытой – как детям, так и педофилам, социалистическое равноправие.
Путаница в генах, в семьях, в поселениях и языках, на которых говорили в этих семьях. Ни налёта мысли о разделении внутри, только железно ясная, но не холодная разделительная линия по отношению к остальному миру. Идея распутать и это. Мы мыслили временами года, еды и погоды: что скажет вид с левого борта, как мы называли балкон, купабельно ли нынче море или на его волнах слишком много барашков? Мои родители мыслили вопросами, которые волновали наш мир: чему будут обучаться мои братья, где им жить, где и как после учёбы они создадут семью?
Мой Крым имел мало общего с Украиной, уж извините. После 1991 года Украина присутствовала первым делом на новых деньгах, которые ежедневно теряли покупательную способность. Купоны купировали существование, мои родители чувствовали себя одураченными. Основополагающая опасность пропитывала воздух. Я рассталась с моей коллекцией рублёвых монет.
Откуда ни возьмись у нас дома возник Киев, потому что мой отец зачастил туда в посольство ФРГ. Возникли проблемы. Дело выглядело так, будто посольство намекало на взятку, чтобы всё шло в соответствии с законом о беженцах по квоте. Я удивлялась, при чём здесь Киев. Мать сказала, что это столица Украины. Я спросила: мы что, живём на Украине? Да, я удивлялась, но с другой стороны, если постоянно удивляться тому, что день, ночь, краны с водой и дружбы рушатся, что мать держит ломик у двери в квартиру на случай ещё одного вторжения, что ботинки снова жмут и как быть с этим дальше, то всё удивление удивительным образом проходит на удивительном полуострове, острове сокровищ нашей русской души, на её радостном кладбище и гульбище, или: в преддверии, в первых рядах, в авангарде. В общем и целом я действительно исходила из того, что мы живём в России, причём в центре. У меня не было никакого представления о том, что такое украинцы или Украина; этот концепт – просто концерт по заявкам, сказал кто-то позднее. Я выросла с понятием «различного», но не с понятием «другого». Это началось на Западе. Но Запад ведь приплыл к нам на всех парусах, и, кроме этого, он стоял на книжной полке. И назывался он скорее всего США.
Лишь недавно, пару лет назад, когда я изучала украинский язык, я обнаружила, что домашний русский язык моей матери был пересыпан украинизмами. А я-то думала, это просто жаргон нашей семьи, пронизанный шутками, намёками и цитатами. Моя мать, которая в десять лет пошла в Виннице в украинскую школу и таким образом сделалась двуязычной, иногда обменивалась с моим отцом парой фраз по-украински, парой стихотворных или песенных строчек или просто русскими фразами, инкрустированными отдельными украинскими словами. Они постоянно перебрасывались строчками, это был их язык любви, а я не понимала его даже после изучения славистики. Учёба так и не помогла преодолеть выросшие в Берлине языковые барьеры с моими родителями, пока они медленно преодолевали свои барьеры по отношению к принявшей их стране. В конечном счёте мы встречались лишь иногда по делам, чтобы я напечатала им какое-нибудь официальное письмо в органы. Но это было куда скучнее, чем украинская история моих родителей – ещё и потому, что они скрывали её от меня, как и всю семейную историю.
Я смутно знаю, где-то в промежутке между русским и украинским языками, что мой отец в Виннице ходил в ту же школу, что и моя мать, когда вернулся из сахалинской ссылки с корейским налётом. Он давал ей дополнительные уроки по математике и физике, чтобы она наверстала то время, которое ей приходилось проводить на фабрике вместо школы.
Когда у моего отца на Сахалине случилось что-то серьёзное с почками, ему пришлось принимать лекарства. Из-за этого он не рос и пропустил полтора школьных года. Несмотря на эти превратные обстоятельства, на слух это воспринималось как история подвига, он сумел стать в школе лучшим по естественным наукам. Учительница рекомендовала его моей матери. Они встречались после школы, чтобы заниматься.
Благодаря общему времени в Виннице у них было что-то общее в украинском, когда он мимолётно проскальзывал или когда мать в очередной раз взвинчивалась, скажем так с сегодняшней дистанции, в речах антисоветской ненависти – эти речи вовлекали в свой снежный вихрь всё подряд, как, пожалуй, и всякий язык, который подворачивался ей под руку. Или когда я мешала ей слушать радио – передачи она слушала по-русски, по-украински и по-белорусски. Или когда она с седьмого этажа кричала мне: «Таньця» (другие дети удивлялись и спрашивали, не станцую ли я им что-нибудь). Она называла меня всегда только так, и я долго считала, что меня так и зовут. Нет такого имени, это украинское новообразование, аналогичное «Ганьця». На прощание утром в дни экзаменов или трудных испытаний она меня напутствовала: «Держись, казак, атаманом будешь!»
Но всё это не очень помогало убедить меня, что я живу на Украине. Украинские вкрапления не были обозначены как таковые, я относила их на счёт языковых игр. Они всплёскивались броско, но вместе с тем и уместно – как боцман, лоцман, мичман и в пандан им Гофман – так же по-мужски и главное дело: по-моряцки.
Кроме того, на этом месте взывают и польские поля вокруг городка Радзилов, чтобы их рассмотрели поближе и выслушали их – а может, и мои – истории. Полагается не больше и не меньше, как вернуться. Притянуть на канате, причалить. Как-нибудь в другой раз. Поле ещё далеко, лёд слишком тонок, зов слишком тих. Ещё одна заглублённая почва, которая выталкивает эту волну: мне нравится представление – вполне знаменательно оставаться «девчонкой с нашего двора». Чтобы не слишком бросалось в глаза, но когда подпись выступает вперёд и прикрывает тебя, я выступаю за Хофман.
Но вернёмся к языку матери: отношение к Украине часто сопутствовало вольному настроению моих родителей. В этом настроении всплывал и Ленинград, мой отец там учился, они пять лет поддерживали заочные отношения между Винницей и Ленинградом. Всплывал и Туркменистан. «Ведь твоя мать оттуда родом», – с ухмылкой говаривал мой отец и уточнял у матери, на сколько верблюдов он её выменял. Туркменистан? У него какое-то родство с Турцией? Это же была страна, куда мне не следовало заплывать и где я годы спустя научусь, наконец, плавать, какая ирония. Честно признаться, это говорит не в пользу моего кругозора, который открывался с балкона в сторону Турции. Ведь топографические векторы, которые простирались дальше дорических ворот моего города, я принимала тогда за шутки взрослых.
Накануне последних летних каникул в Севастополе наша учительница сказала, что с нового учебного года ей придётся говорить с нами по-украински. Хотя она его не знает. Моя мать успокаивала меня, что я научусь, это не трудно, она тоже учила украинский язык в школе и через полгода была первой ученицей по этому предмету. Мне следовало бы сказать себе: подумаешь, я пропустила два класса, а новый язык – это пустяк, перекус между делом. Если бы не отвращение. Ведь я провалила вступительный экзамен в школу с английским уклоном, у меня не было способностей к языкам, как мне объяснили, и по логике я полагала, что кроме естественных наук ничего не потяну.
Я и в Германии испытывала отвращение. Увы, я не любила немецкий язык, его мелодия и его носители мне не нравились. И нечего искать объяснения, я просто не хотела учить чужой язык и вообще переходить на метауровень. Я хотела говорить по-русски, не задумываясь о том, на каком языке, почему и как я говорю, а просто хотела решать задачи по математике. Я вглядывалась в лица моих немецких одноклассников. Кто ищет, тот находит: некоторые стали казаться мне вскоре знакомыми, и одну, с удобным именем Катарина, я спросила, не говорит ли она случайно по-русски. Она брезгливо скривила своё славянистое лицо. Не только она, вся моя школа, а прежде всего учительницы, которые прежде должны были изучать русский язык, терпеть его не могли. Немецкий заменил мне таким образом украинский и тем самым образ образования.
Другие проявления болезни по имени культура, перед выездом: родители возмущались украинскими политиками, начались демонстрации, зимний холод ощущался как при минусовой температуре, влажность стала влажнее. Севастополь перешёл на московское время, наша квартира тоже, и мать ликовала. Она вслух проклинала проект «Украина», впервые она ругалась на что-то, не вовлекая меня в лавину. Они совсем забыли про меня, настолько всё политизировалось, давали мне порой стопочку украинских денег, поскольку купоны ввиду инфляции имели только игровую ценность. Меня оставили в покое, правда, лишь до тех пор, пока не возник план переехать в Москву. Там наш способный Константин – средний сын, вот он был настоящий вундеркинд – мог бы изучать языки по-настоящему. Они уже просматривали объявления в газетах. Хотели обменять нашу квартиру на однокомнатную в Москве или Подмосковье. Но потом на Новый год моя мать позвонила своему двоюродному брату и случайно узнала про закон о контингентных беженцах. Так они перебежали с континента контингенции, причём только им было ясно, что они делают; я уверена, что для моих братьев, как и для меня, всё это было смутно, и я не знаю, развеялась ли эта туманная завеса до конца.
Тут я приостановлюсь и спрошу ещё раз: каково людям, которые остались там и до конца прожили распад Советского Союза на месте? Они мигрировали, не покидая свою землю? Так или иначе, это в какой-то момент дошло бы и до меня. И с этим «чувство» – Тамраньше, – что раньше и именно там существовало настоящее слово. Настоящая близость, настоящие родители, настоящие друзья и настоящие радости. Мир без кавычек, даже если он распался политически и экономически.
Я сохранила не только то ребячливо-детское представление, я сохранила саму себя в этом представлении, что где-то на улице не была неприкаянным обрывком. Я не хочу называть это ностальгией, это вообще не имеет названия, не имеет рода – оно то женского рода, то среднего, то так, то этак. Это и эта была важна, чтобы не застрять в постоянной депрессии. Подавленность, которая вызывает её, расплющивает тебя: ты развиваешься плющом вокруг твоих предков, смещая сдвиг в искажение. Доказываешь, что равенства справедливы лишь на бумаге. Прилипаешь на обратном пути из школы к сиденью в автобусе, хотя автобус останавливается у дверей «твоего» дома. Свинцовая и бледная, поставленная перед решением – срастись с пластиковой обивкой автобуса «Икарус» или спрыгнуть с ГДР-овского высотного дома. Как бы не угодить внизу на мусор голого кустарника.
Это больно: трогать струны инструмента, из которого я никогда не умела извлечь музыку. Объявим набирание пальцами букв похожим на пробирание на ощупь в подвале во время игры в прятки. Вместе с Олегом, который случайно меня обнимает, оглядываясь в поисках опасности, и осторожно прижимает палец к моим губам, чтобы я молчала, следовала за ним и чтобы мы застукались о стенку – и тем самым выиграли раунд непойманными. Вот видите, когда-то я чувствовала так глубоко, как это уже никогда больше не будет адекватно. Когда-то была в безопасности, на запретном и запертом месте, с людьми и без людей. Если обмануть статистику, я бы его уже не узнала, разве что на том же словоместе. Хотя я понимаю, как безнадёжно это представление, которое я обетовала сама себе – как на обеде, который хотя и подаёшь друзьям, но за который отвечаешь перед собой, так что это всё равно твоя еда, кем бы она ни была съедена.
Это представление по сей день делает меня бессловесной, даже если я впрысну себе ещё столько же языков, жаргонов и регистров. Я никогда не играла на них как следует, у меня нет слуха, я промахиваюсь, попадаю в промежуток Хоми Баба, глажу двух зайчиков сразу, вместо того, чтобы забить одного хотя бы раз. В недостающей мне Русскости мало раздельной пищи и много разваренных (хотя и не распространённых), пересалаченных, тушённых в сливочном масле блюд. Всё наготове, мой Маратик, и даже для тебя салатик. Мы уезжаем – невзирая на зверские попытки упражняться в аскезе или напротив – предаться традициям на толстослойной подложке торта.
Forever – Олег
Олег, я думала, у твоего имени нет уменьшительной формы. Однажды читала в каком-то украинском тексте: Олеша. Но это имечко похоже на фамилию одного русского автора польского происхождения. Я никогда не придавала большого значения именам – важнее было знать, кто на каком этаже живёт. Ты жил на самом верхнем, обожествление было запрограммировано. Олег с двенадцатого этажа. Из комнаты Вики можно было смотреть в сторону твоего балкона. С моего балкона я могла лишь проверить, внизу ли ты. Глядя на тебя сверху до тех пор, пока ты не поднимешь голову – так же, как я иногда сканировала твой балкон снизу, застигая врасплох твоё лицо, обращённое ко мне.
Может, мы всё-таки узнаем друг друга, в один прекрасный день, в одном прекрасном месте. Я вспоминаю твой запах, когда думаю о том, каким ты был светлым. Когда ты к нам приехал, ты был русый, а в конце лета, когда так же неожиданно исчез, твои волосы светились лунной белизной. Живой, шутливый, но не так преувеличенно, как некоторые из твоих друзей. Ты часто смеялся, и я любила поглядывать краем глаза: ты стоял перед своей компанией, они сидели на бортике тротуара, и ты был капитаном их настроения. Стоящий впереди обязан был поддерживать каждое слово шуткой. Танцующие губы так запомнились не потому, что было важно то, что они произносят, а потому, что ты был необъяснимо важен для меня.
Стройный закат солнца настраивал меня на грусть при мысли о завтрашнем дне, а потом, когда темнело, мы уходили домой последними, счастливыми. Солнце, этот витаминный апельсин, закатывалось за Буревестник, ты сидел рядом со мной на скамье, и другие мальчишки (даже тот, что отнял у меня скакалку) тактично уходили по домам. Может быть, тебя я потеряла навсегда, но та скамья без спинки, из тёмно-зелёных деревянных планок, одна из которых была вырвана, а ещё одна сломана, та сцена вокруг скамьи, вокруг нас, сами мы – это застряло навсегда.
Я рассказывала тебе про занятия плаванием в порту и что мне совсем неохота тащиться туда завтра с братом. Про языкового гения, который углубляется в английский роман и ничего вокруг не видит, про мальчика, который, спасаясь от воды, цепляется за бабушкину юбку и стягивает эту юбку ко всеобщей конфузии. Ты говорил, что можно бросить то, чего совсем не хочешь. Я повторяю твоё утверждение, эту фразу, я преподам её моим детям и студентам как единственно верную истину. Это мой спасательный круг, эта фраза меня освободила – и для матери моей была понятна. Перед лицом берлинских панелек, своей равномерностью и стандартностью похожих на перфорацию киноплёнки, на которой мне нет роли, я дала клятву, что ты останешься моей бол. люб. Не позволю увлечь себя никакой западной декорации, никаким цветочкам на балконе. Мои зелёные лимоны цветут при любой погоде.
Нынешние студенты хорошо воспитаны и модно одеты. Хотела бы я знать, какое у них было детство, какое детство было возможно после 1991 года… Ты не придавал значения тряпкам (какие уж тогда были). Твоя бежевая рубашка с растительным рисунком из 70-х. Такой же рисунок был на кухонном фартуке бабушки, такой же я видела в троллейбусе по дороге на пляж, только в более тёмных, сине-зелёных тонах. Но у тебя всё было светлым, даже когда ты загорел. Белый призрак с Дальнего Востока, темнокожий матрос из неведомых мест.
О-лег, оставь уже меня. Завидев его, я слегка вздрагивала, как от куска сахара с лимоном, вкус которого внезапно чувствуешь, несмотря на простудное притупление. На четыре года старше. На три месяца каникул он приезжал к своему сводному брату. В мебельной стенке у этого брата в том отделении, где у нас хранились фотографии, я разглядывала коллекцию маленьких танков. Ещё у них была лежанка на балконе – в такой же квартире, как у нас, только на верхнем этаже в высотке напротив. Там жила бабушка, сводный брат, а летом и Олег, но одно время он был там и зимой. У меня не было каникул, я ходила во вторую школьную смену вдоль холма, с которого мы обычно скатывались на картонках. Я смотрела вверх, он наблюдал за мной. Он видел туго заплетённый конский хвост, летом обычно растрёпанный ветром. Немного как мальчик из Когда я стану великаном, только стихи бы для него писала я, по-немецки.
Мой тогда ещё не ставший другим брат дружил со сводным братом Олега, поэтому я как маленькая сестра бывала в той квартире, потихотьку перефотографируя её мега-сердцем. Его лицо я вижу на множестве разных снимков. Голубые или серо-голубые или зелено-голубые глаза, в них всё Чёрное море. Человек, причаливший из Сибири прямо на пляж и на скейтборд. Сейчас он, может, стал мачо и даже не знает, что я была на свете. Или сентиментально вспоминает Севастополь и растрёпанную девочку с седьмого этажа, которой он тогда тайком подмигивал, когда никто не видел.
Когда я проезжала мимо него на роликах, а он дирижировал настроением своих дружков, сидящих на дорожном бортике, я была так сосредоточена на том, чтобы казаться безучастной, что так и не услышала, какими шутками он их развлекал. – Неописуемый мужчина мечты, где-то между Лиссабоном и Камчаткой. Жизнь иногда кажется мне obvious pun. Бросить на сковородку и изжарить из этого что-то съедобное. Я мать, я не только стала ею, я она и есть. И точка, конец, бутылка пуста, я управилась.
И всё это лишь потому, что я не посмела спросить у вечного Олега фамилию. Мы же называли его Олег с Камчатки. Оттуда, откуда берётся лучшая копчёная рыба, которой недавно угощали редакцию Русского Берлина. Моя единственная русскоговорящая подруга в Берлине рассказывала мне, отчитываясь об этой дегустации: судя по звукам, мы все испытывали множественный оргазм. Ну хорошо, она рассказывала об этом не мне, а фейсбуку. По-немецки. В Германии ты либо ассимилируешься, либо мелируешься потихоньку, замыкаясь в себе, и не играет роли, попала ты сюда в десять лет, как я, или в тринадцать, как она. Привезённые по воле родителей в надежде на лучшее будущее. В ней меня удивляло то, что хотя она приспособилась меньше, чем я, но зато сохранила талант в случае чего – смеяться. Мне интересно, что она скажет, когда навестит меня в Швейцарии. Я пока придерживаюсь принципа – будь что будет, и приходи кто хочет. Мне становится всё равно, звучат их сладострастные стоны ЗА или ПРОТИВ родины, они давно меня обесцветили, я в исходнике за венец федерализма – Гельвецию.
Постой, тот покрой: полунарядное платье. Для суббот и тех дней, когда мы с матерью в бесхлопотном настроении. Узор – ветки рябины. Бело-голубой, немного блёклый хлопок, в холодном противоречии к реальности оранжево-красной рябины у забора детсада. А платье, в котором уютно себя чувствовала мать – чёрное с красно-бело-жёлтыми цветами. В Берлине она его выбросила – и я боялась, что к ней уже никогда не вернётся хорошее настроение.
Короткие рукава моего полупраздничного платья присобраны на резинку мать называет этот фасон фонариком. На поясе тоже резинка. Юбка от пояса ниспадает до колен повторяющимися вертикальными волнами. Каждое лето она неудержимо становится короче. Но «кружится» так же, и с ней надо быть осторожной: едва с моря порыв ветра, юбку надо укрощать, и уже не попрыгаешь. Подлые птичьи ягоды рябины, не порхайте выше пупка. Почти-праздничность платьев – на фоне шортов, обычно перешитых из братниных брюк. Точность цветопередачи – на фоне чёрно-белого телевизионного приёма западных мультфильмов – как банда жевательных мишек…
Его рубашка бежевой расцветки преподносит кофейный крендель для медитирования; я так никогда и не разгадала, какое явление живой природы было положено в основу этого узора. Его тренированные руки коричнево выглядывали из коротких рукавов. Я подарю тебе рубашку с рисунком незабудки, как ты смотришь на это? Я уже давно подумываю скроить себе какую-нибудь одёжку из белого полотна с чёрной вышивкой: буквы, строчки, параграфы, разрезанные и достаточно фрагментарные, чтобы в них можно было что-то зачаточно прочесть, если охота. Я нарежу этих строчек и пошлю к тебе голубя с этим текстилем. Ты сможешь им обернуться. Нет, лучше не голубя, а чайку. Буревестника, нашу штормовую птицу. Кран, который переместит тебя сюда в качестве музы музея Милая семья.
Было не так много приметного. У Вики была красно-жёлтая юбка, которую можно было носить и зимой с колготками. Я просила мать связать мне тоже нечто такое. Мать отвечала, что ей некогда. И я продолжала ходить в тёмно-синем шерстяном платье школьной формы, с гольфами, которые вечно сползали. Зимой в пальто из искусственного меха, в переходное время – в красно-синей непромокаемой мальчишьей куртке из 70-х с прекрасными прорезными карманами – в них помещалась в аккурат горсть семечек.
Теперь не вижу ни рубашек с кренделями, ни героев Крыма на горизонте. А если и увижу, я всё равно не смогу нарисовать те цветочные кружки и завихрения, хотя они маячат у меня перед глазами. Я хотела бы либо забыть их, либо найти такую же рубашку и купить её, носить. Рисовать. Рисовать. Призраки, которые стремительно вырвались клочьями. Что мне в них? О, лег, ляг, рубашка превращается, как полагается таким вещам, она становится украшением романтичнейшего угловатого стола: поэтически пропитанной скатерти нашей Русскости. За этим столом питаются лишь изголодавшиеся друг по другу пары. На лирическом фоне красуются вазы с букетами. В рифму с приветами.
Мы обходимся с вещами бережно. Мы слышим, что с вещами надо обходиться как с людьми. Мы учим наизусть свои опознавательные знаки. Чтобы мега-сердце могло остановиться и на расстоянии. Чтобы не опоздало.
Преимущество в том, что платье кружится, когда играешь в балерину. Крутишь быстрые пируэты, и подол взмывает горизонтально.
На одной из моих прогулок вокруг квартала и вокруг неприступного домика с надписью «Высокоопасное блаблабла электричество», о стенку которого мы кидали мячи с разной силой отскока, я бубнила слова из песни Высоцкого и продумывала своё решение. Я решила избегать этого мальчика. Брату Олега было самое меньшее лет шестнадцать, в нём было что-то от Тома Круза – что-то слишком ухарское. Я испытывала страх и переходила на другую сторону двора.
Дитя улицы
Незнание. Бытие. День. Одуванчики, мальвы, тополя. Мы разыскивали божьих коровок и других насекомых, но не так профессионально, как это делает мой сын. Я рада, что у него тоже есть детство, в котором он много времени проводит вне дома, пусть его «вне дома» куда упорядоченнее, благоустроеннее нашего и полно договорённостей. Что-то не припомню, чтобы мы – «уличные дети» – встречались иначе, как спонтанно. Наши мамы не были секретаршами нашего досуга, они между собой не разговаривали и не в свои дела не вмешивались. Наша договорённость была другого рода, она была принципиальной, хотя и не высказанной.
Здешний садовник приветствует тебя как друга, а твой друг вверяет тебе второй террариум на твоей садовой территории перед домом. Мы в Севастополе не видели никакого садовника, тем более за работой, разве что краснолицего толстяка в детском саду, на заборе которого мы сидели как куры на насесте; время от времени этот толстяк прогонял нас водяным шлангом, но мы никогда не видели, чтобы кто-то поливал кусты и деревья, растущие у домов. Всё росло само по себе – и растения, и дети.
Ещё когда ты был младенцем, в старинном доме в Берлине, я с тревогой думала, поймёшь ли ты меня, если я возьмусь рассказывать тебе о своём детстве, когда просыпаешься от мягкого, манящего к приключениям утреннего ветерка, оптимистично – как маленький Ленин из букваря – без промедления встаёшь, надеваешь короткие шорты и жёлтую майку, из которых брат уже вырос, выбегаешь из дома куда глаза глядят, бродишь по ещё тихому кварталу, обрыскиваешь местность на предмет только что проснувшихся, умытых и ещё не позавтракавших детей, намечаешь дерзкие планы на предстоящий день и сталкиваешься с жизненно важными вопросами: например, обнаружив повисший на кустах под окнами использованный презерватив.
Проверяешь мальвы – какие уже распустились, а какие в форме бутона ещё годятся на куклы. Втыкаешь в бутон спичку – её тоже легко находишь под балконами – или тонкую веточку. На другой её конец насаживаешь цветок одуванчика. Так возникают природные кудри: разделяешь стебель одуванчика на мелкие полоски, напускаешь эти волосы Медузы вниз на цветок и погружаешь в воду. Последнее – лишь в случае, если есть доступ к крану в нише мусоросборника и если тамошняя вонь переносима. Это означает, что кто-то смелый пойдёт туда, лучше всего прямо в восемь часов, а по выходным в девять, когда мусорщик опорожняет контейнер, и, нарушая утренний штиль, выполнит первую задачу дня – преодолев запах, отфильтровать через него солнечную свежесть. Для этого смельчаку полагалось иметь при себе водяной пистолет, маузер маленьких девчушек и мальчуганов. Увлажнённые растения сразу иначе пахнут.
Водяные пистолеты всегда наготове – на случай, если разразится битва. Случай наступает, если мусорщик забудет запереть дверь этой каморки, куда валится по мусоропроводу мусор со всех двенадцати этажей; когда погода жаждет охлаждения, а мальчики девочек, замаскировав обливной войной потребность опрыскивать нас влагой. Игра в войну была общественно приемлемой – во времена холодной войны лишняя тренировка не повредит, да и Перестройка походила на войну, кому-то становилось жарко от безысходности тоски. Рекомендовалось иметь при себе крутой пистолет: жёлтый флакон от шампуня с насаженной на него красной уткой. Мы все были оснащены этим оружием, только некоторые мальчики были половчее в наполнении и не боялись вони мусорной камеры, где пополнялся боезапас.
Наполняешь бутылку, продырявливаешь красную крышку. Следи за диаметром отверстий, в зависимости от диаметра вода выстрелит длинной или короткой струёй. Жми на визжащую утку, нацелившись на пацана, который требовал отмщения, а поздно вечером, когда солнце наверху уже не держится, покорно возвращайся домой в платье, обсохшем на ветру.
У всех были равные стартовые условия, за исключением старших мальчиков: у них откуда-то были бутылки побольше, и гонялись они за девочками постарше. Моя струйка была до отчаяния вялой, а бег слабым, так что мальчики, нападавшие на нас, дистанционно склеивали наши блузки, юбки, банты и парализовали подошвы наших сандалий. Я бушевала у штурвала каникул в уверенности, что лето за летом до самой смерти ветер будет веять именно так. Нам не надо было никакого видео от MTV.
Я слышу как мой сын рифмодразнилкой ответил мальчику который расцарапал ему щёку и нахожу что ничего страшного. Он защищается сам, не призывая на помощь маму (которая тут среднего рода). Потом я всё-таки выглядываю из окна с воспитательной задачей: вразумляю его на моём родном языке, на котором я теперь снова говорю, не боясь, что какой-то мужчина будет орать на нас или бить по столу: «Мы в Германии, здесь говорят по-немецки!» Образованный германист.
Мой сын отвечает по-немецки, следуя в такие моменты пропаганде своего отца: «Ты русская девочка, где тебе понять, что я имел в виду». Нахал какой, и я ругаюсь чуть серьёзнее, но в принципе он прав: я становлюсь всё менее немецкой, а он всё более немецко-ошвейцаренным пацанёнком, который всё хорошо понимает. Даже то, что я не слишком строга, и что его отец преувеличивает, внушая ему, что он немец, только немец. Мы оба ловим лёгкость детства, только мне нельзя это показывать явственно, и я думаю, он понимает и это.
Цюрихские бело-фиолетовые мальвы, цветы как барочный рок, как тогда на ступенях запертого второго входа в нашу панельную башню. Курильщики, ах, курильщики, знали бы они, сколько радости готовят девочкам, выбрасывая из окна едва подгоревшие спички. Ни одна спичечная кукла не походила на другую – платьем из бутона мальвы и париком на голове – например, тоже в виде бутона. Весенняя, рыжая альтернатива: голова из одуванчика, стебель которого расщеплялся и обмакивался в лужу. Перманентная завивка. О, уличность цветочных кукол! – эту причёску мы будем предлагать клиенткам после обильного воскресного завтрака в эксклюзивном филиале «Вост. Духа» – Русскости.
Выжатые, обессмысленные воспоминания откладываются как накипь на стенках чайника. Временные файлы, которыми не следует перегружать жёсткий диск. Коварнейшим образом они занимают место, как будто подпирают спину науке: хоть выверни мозги, чтобы заметить, на что способен, а к этим способностям прибавь ещё надрыв в виде процента. В тотализаторе всё – за счёт тоталитаризма.
Вокзал в нашем городе-герое, на котором я ни разу не была до нашего окончательного отъезда, стал для меня обобщённым образом всех вокзалов. Теперь этот пра-отец – звено то больше, то меньше гремящей цепи ассоциаций и воспоминаний идиотически-патриотичного всёещёребёнка, который носит эту цепь на шее, влачит её как скрипучую телегу по ухабистой асфальтовой бумаге.
Любви к игре меня учить не приходилось. Обустроенных игровых площадок не было, мы превращали в таковые всё наше окружение. Мини-топография обводит медитативно-повторяемые контуры: главные протагонисты – две приникшие друг к другу ребром двенадцатиэтажные панельки. Метрах в ста пятидесяти от них – наша величественная одинокая высотка. Перед ней пространный детский сад, слева и справа от него пятиэтажки, вытянутые в длину. Близняшки-высотки не примыкали друг к другу вплотную, между ними оставалась щель, как будто специально для пряток. Этот паутинный зазор давал стратегическое укрытие тощим мальчишкам, лишённым чувства отвращения, и через него можно было незаметно пробраться на задний двор. Всегда найдётся тот, кто знает свою родину доскональнее прочих.
Вокруг одинокой высотки, в которой жили мы, и вокруг «близняшек» вилась дорога, ведущая к электрической будке – её стена служила нам для «застукивания» в прятки, она же спасала нас от слишком быстрых мальчиков, и от неё упруго отскакивали наши магические мячики. Мяч, брошенный о стенку, должен был оттолкнуться от неё так, чтобы с не очень низким отскоком удариться о землю между ногами, не задевая их. Чьих ног коснулся мячик, тот или скорее всего та выбывала из игры.
Стену этой электрической будки украшала разнообразная мазня, острые предметы и ключи увековечили себя на ней. Мелкие граффити составляли абстрактный узор, который я позднее вспоминала, глядя на стены берлинских домов, испещрённые следами от пуль. Мы никогда не считали электробудку опасной – как и нашу жизнь. Мы знали, что она опасна, но знали и то, что по-другому её не повернёшь и что надо извлечь из неё наибольший азарт, пока она не стала действительно опасной. По-французски hasard означает случайность или риск, но в русском языке это видится не столь узко: азарт – нечто среднее между страстью, пылом и жаром. Так как в немецком языке такого объединяющего слова пока нет, мы введём его в Русскостъ в качестве универсальной приправы на всех столах, в том числе для сваренного вкрутую азарта на десерт.
Повзрослевшие дети теряют этот драйв, они двигаются иначе, девочки не подпрыгивают над мячиком, мальчики сходятся в более тесный кружок и с другими анекдотами, школа безжалостно поглощает время.
Лоджия нашей двухкомнатной квартиры, которая становилась всё более крошечной, открывала вид на гигантский детский сад. Запад не знает таких пространственных масштабов. В этот детский сад меня почему-то не взяли – вероятно, по неполитическим причинам. И бедная моя мать таскала меня в садик за километр, чтобы иметь хотя бы несколько часов на уборку и приготовление еды, иначе бы я, по её словам, опорожнила все чугунки, стащила все полотенца и покрыла бы весь пол квартиры этой чугунной географической картой.
Детский садик у подъезда заменял нам игровую площадку, он сам содержал их несколько. Мы следили – с наблюдательного поста на заборе, – кто когда вызволялся из рабства, с какими лицами родители покидали врата сада-ада – иные тупо, озабоченно, рассеянно, хотя выводили на волю дитя и вроде бы имели основание сиять… Мы экспроприировали садик, когда он закрывался. Садовник запирал синие ворота, мы забирались через забор в засаду.
Приключение состояло в том, чтобы садовник не заметил нас на прогулочной территории внутри ареала садика. В фанерном грузовике, на крыше веранды или за рябинами, которые росли вокруг баскетбольной площадки. По крайней мере, САДист, он же сторож и алкоголик, знал наши уловки. Переход его от полива цветов к полицескому брандспойтированию нашей демо-труппы протекал слишком бегло, бутылкам-пистолетам ответного слова не давали. Поскольку об этом садовнике ходили ужасные слухи, при его появлении следовало бежать во весь опор, насколько позволяли лёгкие и ноги. Моей дыхалки не хватало на всю дистанцию, я была в этой компании самая младшая. Моя мама иногда наблюдала погоню с балкона, развешивая бельё, – развлечение было гарантировано. Садовника из-за цвета рожи и грозного вида прозвали Помидором. Мама лишь качала головой: «И он гоняет вас с такими выражениями? Ну, он вас научит!» Мы и сами всё знали, но это не имело отношения к делу.
У меня было два повторяющихся кошмара: в одном я убегала голышом – все платья стали мне малы – от Помидора. В решающем месте забор становился роковым: я не могла перелезть через высокие железные прутья. На этом я обычно просыпалась. Во втором кошмаре я падала с балкона. А здесь, в видимости Альп мне снятся поцелуи на Бельвью. Когда никакие туристы больше не издают избыток восторгов, когда тротуары откинуты вверх, а огни на левом и правом берегах озера уже не так кричащи, мега-сердце бьётся в провинциальном темпе, а душа истекает глазуньей в морское озеро.
Вариант воскресного завтрака в отделе Русскостъ нашего «Вост. Духа»: омлет в форме севастопольской бухты Омега, с Помидором, на мелко порезанном и ровно разглаженном базилике, ветке базисного лексикона. Раз в неделю в меню будет сердце, если мы с Дуней, вернувшись на Лангштрассе, не будем сдерживать себя. Кто заказывает это блюдо (ингредиенты – секрет фирмы), для того автоматически включается песня Утёсова: «Сердце, тебе не хочется покоя, сердце, как хорошо на свете жить, сердце, как хорошо, что ты такое…» В краткой форме: у меня стучит в груди, что там будет впереди?
Благодаря пологому холму, на котором располагалась наша улица, крыша Буревестника вместе с вышепролегающей дорогой образовывала уровень, на котором находилась панельная пятиэтажка. За ней виднелись ещё три двенадцатиэтажки, расположенные симметрично нашим. То был соседний двор – «Верхний». Ниже по холму находился третий ансамбль, зеркальной формы соседний двор – «Под холмом». Эй там, на холме! Поглядывай наверх. Кстати, в нашем тогдашнем Випкингене мы были роднёй с викингами – и в Скандинавии стоят такие же социальные строения. Но считается только оригинал. Уже соседние дворы излучали в сравнении с нашим что-то такое не наше, и хотелось узнать, который час, и смыться. Туда можно как в гости, поглядывая на окна нашей башни или на зелёный балкончик: не вышла ли мать, не машет ли мне с севастополоджии: домой!
Остальные панельки ужасали чуждым обликом, если смотреть на них из моей твёрдой перспективы связи. Но всё же те, что на Востоке (начиная с Польши), трогают меня сильнее, чем на Севере (начиная с Констанца). Те, что с индивидуальным застеклением, кажутся особенно уютными – неважно, в Москве ли они по пути в литературный архив, в Киеве по пути в аэропорт или в Варшаве, коротко схваченные из окна поезда. Они родня друг другу, их владельцы перемоделировали ячейки в небольшие делянки мелкого уюта, отделённые от остального непредсказуемого мира. На каждом квадратном метре – универсум плотности воспоминания всех членов семьи. Наверняка миллионы постсоветских людей вспомнят поэтические моменты за балконным стеклом, если захотят. Но они, может быть, хотят оставить их внутри застеклённых балконов, как тепло квартир, как авансы и обманы доверия, зачастую ушедшую в прошлое вечную любовь и зажатые зачатия жизни.
Было ещё два двора, где я часто бывала, если в моём становилось пустынно или слишком привычно; или меня манили туда сирены свадеб с разбрасыванием монет и конфет. Бедные историей дворы длинных пятиэтажек вокруг Помидорова детского сада. Если смотреть с лоджии, то был соответственно «левый» двор и «правый». В левом я бывала чаще. Там жил школьный товарищ моего старшего брата, Глеб. Поэтому мы называли весь левый блок «Глебов дом». Мне были знакомы два подъезда, там жили девочки моего возраста, и одна из них делилась со мной хлебом с маслом, посыпанным сахаром. Всё девчоночье население в Глебовом доме я научила играть в бадминтон. В спорах они брали меня в качестве судьи, они выбирали меня в командиры, и у меня было впечатление, что я принимала справедливые решения. После исполненного долга я спешила домой, на нашу улицу, к нашему дому, выходя из роли.
Обозначения дворов и имена участников дворовой жизни плюс число их этажей исключали путаницу. Наши имена были подобны краскам из коробки с двенадцатью лунками. Данные координат: Верхний двор, Аня с третьего этажа. А как ещё было выразить, куда уходишь играть?
Here we go. Разве что у моих подружек и друзей было слишком много домашних заданий, или они находились под домашним арестом – странное наказание, которое мои родители на меня никогда не налагали. Они охотно отправляли меня на свежий воздух. Откуда им было знать, что этот воздух тоже мог удушить, и парящая душа могла задерживать дыхание как под душем чувств и навсегда сохранить его для себя.
Нет, душу можно сравнить всё-таки с одним из опрятных цюрихских фонтанчиков, рассеянных по всему городу и в соцреалистическом дизайне снабжения питьевой водой с уголками для собак, где они могут полакать воду. Хорошо расположенные, на всякий случай.
Тогдашняя душа нашёптывает, словно невоспитанный ребёнок: я стану в городе единственной распутницей узлов. Это моя первая серьёзная мечта о профессии. Я представляла, как открою бюро, соорудив деревянную будку вроде той, где сидел сапожник у гаражей за Буревестником. Я бы выкрасила будку в зелёный цвет, она бы подмигивала нашему балкончику и походила на русский железнодорожный вагон. Бюро располагалось бы в центральной точке моей жизни: между нашей высоткой и верхним соседним двором пятиэтажки. В шесть лет я уже чётко представляла, как ко мне будут стучаться просители, перед моим окошечком выстроится очередь с запутанными клубками шерсти, и хотя я буду расторопной, всё равно в каждом отдельном случае стану целиком углубляться в задание, даже если оно продлится долго.
Вяжут-то повсюду, как же управиться женщинам. Всем известно, что на пряже возникают узелки. Стоит времени и нервов их распутать, иногда доходит и до ссор в семье, а я – я спасала бы лучшую шерсть при любых обстоятельствах. Попутно я бы специализировалась на ремонте игрушек, поскольку у меня в голове не укладывалось, как можно оставлять детей один на один с роковыми вещами – такими, как выпавшие или из любопытства выдернутые и больше не влезающие в туловище кукольные головы, руки и ноги (а как укреплять волосы, отрастут ли они, если я обрежу чёлку?). Анатомию советских и даже некоторых ГДР-овских кукол я знала вслепую, как мне казалось, и я знала несколько приёмов, как привести их конечности в исходное состояние и, если кто захочет, сшить или связать им платье. В мой сервис будут включены и королевские дисциплины: строить кукольные машины вроде металлического мерседеса и – уже менее родственные им – краны, которые двигались бы – в отличие от тех неподвижных, что можно увидеть на стройках. Не в последнюю очередь я бы разрабатывала в моём конструкторском бюро ролики, на которых дети хорошо насоветованных республик катались бы по дурно асфальтированным дорогам. Марка: крымролики.
Что отпечаталось на будущее: смотреть вниз на тополь с балконного табурета как на человека за бортом. Этот тополь приходилось заново спасать при помощи моего взгляда, он был как живое существо, как риторическая фигура, говорящая со мной. Он менялся в зависимости от времени года и выдавал мне, что весна – как детство, а детство – как весна. Лето, как я думала, это время, когда рожаешь детей, а осень – когда становишься бабушкой. Зима – подготовка к вечному сну. Зимы у нас почти не бывало, а если и бывала, то сразу за ней просматривалась перспектива весны.
Я метафоризирую величественную топографию островов панельных микрорайонов: куда ни глянь, она транспортировала значения туда и сюда, сдвигала обычные способы зрения и виды и возводила новые. Мне казалось, даже с асфальтом на разных местах я вела интенсивные разговоры. Следы под ногами мне говорили о многом, хотя это оставалось между нами.
Однажды, идя вверх по холму у дороги, я представила, как на такой возвышенности собирались люди, выкрикивали разные слова, обсуждали их значения и договаривались о порядке букв, об определённом звучании, об одном или нескольких его значениях. И всё из-за произвольности знака! Должно быть, раньше был путь прямой демократии, как выражение мнений и нахождение решения. Я была убеждена в том, что эта внезапная мысль принадлежит к закономерностям, которые я выводила из мира в результате наблюдения. Я видела в точнейшем воображении древних русов, которые на гладко заасфальтированном холме, на возвышении между высотками договариваются о корректном написании, ударении и склонении своих могучих слов.
Не говоря уже о том, как головы наполнялись видениями, когда улицы быстро пустели, как только наша прелестная Гостья из будущего приземлялась на космическом корабле в телевизор. Или Три мушкетёра. С их залихватскими лицами и их песнями, которые подходили нам и потом, когда мы были влюблены, разлучены и уповали на чудо, ожидающее нас вдали, для которого мы каждый день готовы были что-то делать.
Западная еда
Политика была чем-то абстрактным – как «Запад» или «Туркменистан», – даже если конкретные её кусочки оказывались прямо на блюдечке и давали возможность выглянуть за край тарелки; может, это и по сей день так. Мой старший брат ритуально указывал на дачу Горбачёва, когда брал меня с собой на своё любимое место в Крыму – Фиолент.
Горбачёва я знала по телевизору. Когда мне было пять лет, мне казалось, что он обращается ко мне напрямую: он подчёркивал значение пятилетки. От неё, дескать, зависит будущее Советского Союза, повторял он. Потом мне исполнилось шесть лет. Пала берлинская стена. Прыгая «в резинку», меняя её высоту с лодыжек до колен, Катя с шестого этажа объявила, что больше нет Западной и Восточной Германий и что мы пребываем в холодной войне. Для меня это звучало так, как впоследствии в Берлине «холодная собака», представленная на одной вечеринке в качестве десерта. Мать на мой вопрос, что означает перестройка, отвечала: пустые полки.
Когда мне было шесть лет, состоялся один аттракцион изобилия: в нашем порту причалил американский корабль, матросы США устремились на берег Севастополя. Было воскресенье или какой-то праздник. Неорганизованной, но тем более органичной толпой жители спального района Остряки двинулись вниз с холма по своему проспекту, мимо кишащего рыбой Океана и мимо столпившихся троллейбусов, у которых как нарочно в этот день непоправимо упали токосъёмники. Помню, я шла рядом с матерью, её любопытство передалось и мне, и скоро я уже ускакала вперёд, на безопасную дистанцию, чтобы никто не одёргивал моё счастливое волнение.
Мы хотели видеть этих матросов, чтобы потом говорить: да видал я этих американцев! В нашем интровертном, но известном всему миру городе, который не сдали врагу непобедимые воины. Америкосы в городе были – как анис в сахарной глазури – событием праздника в порту. Мать отметила, что они дородные и статные, со здоровым цветом лица, из чего можно заключить, что кормят их не только макаронами по-флотски. Среди них было несколько темнокожих – для меня тогда вершина мыслимой экзотики. Если я и была уже влюблена в Олега, что произошло той весной, то просто забыла о нём, с глаз долой – из сердца вон. Я представляла себе, как буду взрослой женщиной с внушительно выступающим бюстом, а мой муж будет спешить с корабля домой и радовать меня своей шоколадной кожей. В оправдание такого сравнения скажу: американских матросов и настоящий шоколад я видела в нашем городе-герое примерно с одинаковой частотой.
Если я правильно понимала спорадические упоминания и отрывочные рассказы, мой отец рисковал жизнью, добиваясь отстранения от службы на корабле – а он был военно-морским инженером – и перевода на берег. Мать настаивала на этом после многих лет ожидания (ей приходилось постоянно чего-то ждать: его, мира, второго ребёнка, двухкомнатную квартиру, очереди на установку телефона). Чтобы провернуть это невозможное дело, он выпил бутылку водки и в этом состоянии предстал перед начальством. Это ничего не дало, ему лишь посоветовали проспаться. Он повторил акцию и на несколько недель угодил на губу. Он мог бы схлопотать и несколько лет тюрьмы, но так и не освободился бы от армии, такого не бывало, как я слышала. Но и для моего отца не бывало ничего недостижимого.
Я думаю, именно это и есть история его героизма. Он не оставил мою мать одну с двумя маленькими сыновьями на берегу, и я думаю, для всех это было лучше, чем ему оказаться в плену на атомных подводных лодках и авианосцах – хоть в порту, хоть прочёсывая в манёврах Средиземное море.
А у многих других детей отцы были в море – для нас всё равно что мёртвые, которых поминаешь лишь при случае. Это значило, что совершалось чудо, когда они вдруг возвращались. В наших представлениях мы связывали их возвращение почти исключительно со сладостями. На улице мы обменивались важными сведениями, отмечая в наших вахтенных журналах, кому досталось сколько и каких жвачек, резинок для волос, шоколадок, а то и джинсовой одежды. Пришло время научиться запирать зависть за решётку. Мой отец больше не был корабельным призраком.
Папа Оли с четвёртого этажа, девочки из породы рабов сольфеджио, которые почти никогда не появлялись среди нас, однажды привёз «Мерседес». Красный, пригожий и пригодный для настоящей езды. Мы дивились этой машине как музейному экспонату и ещё больше удивились, когда гордый владелец предложил нас покатать. На заднем сиденье нас уместилось аж пятеро! В Цюрихе такое не может себе позволить ни один лимузин. А мы могли потом рассказывать в школе, что катались на Мер-се-десе. Кстати, неплохое название для десерта – малинового сорбета на банановом пюре.
Ну и о бананах. Моя первая учительница – крупная решительная блондинка – была похожа на белую медведицу. Она умела зычно, как оперная певица, выкликать имена нерадивых мальчишек, бескомпромиссно, как Иван Грозный, бить линейкой по столу и заполнить несколько уроков историями про бананы. Я до той поры и не знала о существовании такого фрукта, как и другие дети в нашем классе. Отныне мы знали, чего лишены. Решающее отличие от детства в ГДР. Те жили в постоянном сознании символически желанного фрукта – там можно было, пусть и не часто, купить бананы.
У нас же были наши яблоки, груши, а самое главное – превосходные персики, не говоря уже о дикорастущих кустах ежевики и смородины, «подножного корма», как говорила моя мать. Бананы нас не интересовали, разве что своим названием и сиянием славы. Однажды учительница принесла на урок жёлтую гроздь и передала её по рядам для обзора, как редкую книгу. Она рассказала историю её обретения: её сын был в море и по её заказу добыл специально много бананов. Я представляла, как молодой матрос стоит в очереди и просит у кассы на один килограмм больше, чем положено отвешивать в одни руки: не пробьют ли ему больше бананов для его матери, учительницы, в качестве учебного пособия для средней школы. Каждому из нас она отрезала по ломтику на пробу. Мы ещё долго взволнованно судачили об этом вкусе, хотя нам не с чем было его сравнить. Ну вот, и таким образом я могла сказать, что видела американцев, ездила на «Мерседесе» и ела бананы.
Запад продолжил вторжение в нашу жизнь, когда американцы снимали на побережье фильм и Константин, гений по части языка, был у них переводчиком. Он вернулся домой с сотней долларов и несколькими «сникерсами». Поскольку возвращался он через Симферополь, где и учился последние два года, их можно назвать симфи-сникерсами (по Аксёнову) и изгнать из нашей Русскости (санкции против безбожного утолщителя). Сникерсы, этот фейерверк вкусов – ванили, шоколада и орехов – мы нарезали мелкими кусочками, как бананы на уроке; на Западе и не знают, какими длинными могут быть банан или шоколадка и как долго может длиться послевкусие. Я и недели спустя всё нюхала бумажную обёртку, пьянея от запаха сильнее, чем от гомеопатических лекарств Константина. Может быть, в этом сладком яде и крылось коварное начало последовавшего словесного поноса и анорексии брата. Чем хуже ему было, тем торопливее, сбивчивей, но в своей абсурдности и веселее и изобретательнее становился его язык. И тем больше он худел. Тем больше сходили с ума наши родители. Алогичная логорея, недержание речи. В Берлине они часто покупали ему сникерсы, а поскольку он отказывался, я тайком разворачивала гильзу с лакомством и вызывала «звездопад».
С наслаждением втягивать аромат, аномалия понаехавших: токсикомания. Как при прохладном дуновении свежеокрашенных стен в подъезде дома, как при свешивании с лоджии через парапет – неудержимая потребность вдыхать. Раз уж не сложилось у меня с ремонтом кукол и карьерой «распутницы узлов», мне подошла бы достойная альтернатива: быть составительницей ароматов. На худой конец парикмахершей: моему добродушному дедушке, который без возражений всё претерпевал, я сооружала на голове панковскую причёску – мне нравился запах кожи на голове.
Сядешь в сторонку и панически шепчешь: аромат – это парик, он обволакивает тебя другой действительностью, женщина с этим аксессуаром в новом облике неотвратимо пускается к неведомым берегам.
Потребление сникерса и даже аромат его обёртки, которая служила закладкой для тома рассказов Джека Лондона, приводили к ванильному шоку. От запаха у меня кружилась и всё ещё кружится голова. Эта волна превосходит другие нюансы вкуса, если ты с раннего детства не водил капиталистическую дружбу с ванильным привкусом в йогурте, мороженом и пирогах.
В нашей Русскости мы первым делом откажемся от ванильного пудинга. Будем предлагать при случае гомеопатические шарики в качестве десерта или украшения на советско-сливочном пломбирном гляссе.
Моя тоска по сахару жадно сглотнула замечание Константина, что его лекарство сладкое на вкус, но он, дескать, не хочет его принимать, потому что не чувствует себя больным. Он и сегодня так говорит и по-своему прав. Я ещё и потому выбросилась за борт, что не могла ничем помочь – прочь, вниз, на мою просторную игровую площадку рядом с памятником кошмарным снам; мигрировала в сны, которые приходят, когда прежние устаревают; туда, где они лучше сохраняются, как в выдвижном ящичке со сладостями.
Я тогда завидовала брату из-за этих шариков в аккуратно подписанных коробочках. Оставшись дома одна в очередной раз, я опять пододвинула стул к «стенке». Так назывался стенной шкаф, и мать часто рассказывала героическую историю его добычи: это достижение из искусственной древесины стояло на том же месте в том же исполнении в квартирах моих друзей и подруг – различались эти стенки разве что способом их покупки, приобретённые нашими родителями путём решения формулы с несколькими неизвестными, как результат высокосложного торгового забега, полного лишений, ожидания и замены, хитро-гордого социального маневрирования, при котором не положено ронять своё достоинство, и денежного вклада, который – как указание этажа после имени – навсегда определяет значение этого объекта. Я взобралась на стул, на котором сидела младенцем, как видно на фото. На нём заметно, что Константин, упитанный пионер, незаметно держит меня, чтобы я не сползла. Оба мои брата – в белых рубашках и красных галстуках, на фото они чёрно-белые, на мне белый костюм-комбинезон. Мы все трое улыбаемся как пришельцы с планеты Безмятежной.
Стоя на этом историческом стуле – отныне без посторонней помощи, – я сую руку за проигрыватель, где хранятся подписанные коробочки подальше от детей. Я была слишком склонна к естественным наукам, чтобы понимать принцип гомеопатии. Пустые маленькие картонные коробочки служили в качестве желанной движимости в моём недвижимом кукольном мире, поэтому все коробочки постепенно освобождались от своего содержимого. Сахарные шарики сходили за мини-конфетки. Ведь не могло быть лекарством вещество, сладкое на вкус, думала я в своё оправдание, медленно рассасывая шарики, а родители думали, что эти московские шарики, которые так же трудно было раздобыть, как и стенку, принимает ко всеобщему благу Константин.
Сколько себя помню, все разговоры в семье велись о нормах и об отклонениях от нормы, о решении «будущего твоих братьев», о справедливости, её нехватке, о еде и её нехватке или избытке. Всё это варилось до готовности и разбухало как сказочная каша. Без сникерса рушится качество жизни, с ним избыток ароматов стреляет в голову золотом, экономика дефицита вдруг оказывается полезной для здоровья. Тренируешься в аскезе со стрижкой ирокез, растущей внутрь, или съедаешь свой долг перед родителями. Они произвели нас в этот прекрасный новый мир. Мы теперь что-то производим. Завтра погода будет хорошая, если мы съедим всё, что на тарелке.
Своего сына я вторично родила на свет в Швейцарии, здесь он ожил, а с другой стороны: его детство, которое он – с пяти лет – может переживать как таковое, кормит во мне бродячую лакомку, хочу я того или нет. Мы видим, жизнь может протекать без экстрима, без брани и ругани, без летающих домашних тапок, битой посуды и других метко нацеленных упрёков. Вдруг никто тебя ни к чему не принуждает, не давит на тебя и ничего от тебя не ожидает. Я купила викторианский шкаф, поставила его в гостиной и поставила в него русские книги. У нас вдруг возникло однозначное отношение друг к другу, независимо от аппетита, языка и погоды, а также от того, что мы затеваем, он или я. Мы не притворяемся, и дело движется.
Зачем вспоминать, река Зиль всё выводит на чистую воду, на углу у очистных сооружений и у водопада в Адлисвиле. Но каким-то образом это ощущается так, будто берёшь с полки книгу или суёшь руку за проигрыватель.
С тех пор, как я уронила и разбила бесценный пакет, который стоял на моей территории – на балконном табурете, моей наблюдательной вышке – и ждал отправки в Ленинград, я больше не притрагиваюсь ни к какому пакету с едой. Я больше не интересуюсь его скрытым, ценным содержимым, накопленным, отнимая от себя, как не интересуюсь больше ни джинсами, ни заколками для волос моих подружек. Я сама добываю себе сладости, к тому же Вика научила меня карамелизировать, а у них на кухне был сахар. Скоро я ещё и шить научусь.
Резкие запахи и мясо с кровью на рынке. Продукты, которые стоят больше, чем западные тряпки. Бесконечные дискуссии, где, что, как. Результат: продовольственный пакет, включая салат оливье, в дорожной сумке, родители уже в дверях. Они едут к Константину в Симферополь, в общежитие. Там он изучает немецкий и английский с тех пор, как я хожу в школу с математическим уклоном. Голый, жёстко высказанный, бьющий по желудку страх, что он голодает. Что ещё за голод, почему? Что значит анорексия, может, мы просто просмотрели голодную забастовку. Может, была тоска, к ней тоже надо обладать способностью, иногда вообще больше ничего не хочется.
Западная еда приходила в Крым постепенно, но когда мы оказались на Западе, она удерживала нас вместе как семью и давала культурные костыли – чтоб опереться, а если надо, и отбиться. Еда, этот капитал, который не опишешь и с помощью Бурдьё, – мои родители сопротивлялись ею против того, чтобы быть съеденными; это их срывы, направленные в упорядоченное русло, их систематическое выедание системы в образе рутинно приготовленных супов, торжественные и кальвинистские пельменные заседания, когда мои родители и я по четыре часа кряду, а в последние годы только они двое, готовили про запас эти мясные колобки в лапшевом тесте для особых поводов. Благородно и аутентично, как раньше, иногда с турецкой бараниной. В Берлине Турция придвинулась ближе, содействуя парной работе с чётким разделением ролей между мясом и тестом, что социально производительнее. В конце наполняется целый мешок замороженной любви, которую мы варим по потребности, порционно.
Каждый шаг в этой процедуре закреплён, ход в течение десятилетий по-фордовски образцово подогнан под имеющиеся в Берлине продукты и маленький размер кухни. Пока отец проворачивает через мясорубку два-три разных вида мяса, лук и немножко хлеба, мать готовит тесто, закругляя его в шар ударом от всего сердца. Только ей удаётся угадать консистенцию, формат куружочков и свадебную слипаемость краёв, так что все пельмени выглядят парадно едиными, при варке не разваливаются и исходят соком только там, где положено – во рту.
Такая согласованная, концентрированная, коллективная акция. Танцы и выезды на пляж уже излишни. Человеческое тепло посредством надёжности обеденного варева. Будь что будет, без бульона не останемся. Пометим это для нашего меню как верный козырь. Суповый след тянется как артерия вдоль любой непредвиденности. Единственная действующая страховка, десять минут славной гармонии, даже если нет никаких пряностей, кроме соли, перца, укропа и петрушки. Приверженность к супам и пельменям переживёт зависимость от баночек с нутеллой.
Средство укрощения аппетита – переезд. Иногда я слышу рецепты, куда мне следует отправиться, хотя и не прошу совета. Знамение восходит, вопросительный знак бьёт по нему, странные пути пересекаются. А ведь я как раз занята тем, что делаю алию – своего рода кувырок, движение по инерции, назад, вперёд и при слабости ветра маневрирую зигзагом, к супам – вместо того, чтобы к родовым корням, через обозримое озеро существования. Эликсир жизни, аллилуйя.
Однажды в Берлине меня рисовал художник из Ленинграда. Он по случайности учился в Питере с моим старшим братом в военно-медицинской академии. В отличие от меня он прочно ощущал себя евреем, это была его тема. Он не понимал, что я ещё ни разу не была в Израиле. Я не понимала, что он мне по-русски, да в анамнезе с такой же юностью, что была у моего крутого брата, с жизненным опытом в таком крутом городе, объявил, что ненавидит русских и сам никак не русский. Что для меня уже всё сделано, подано Западом на блюдечке с золотой каёмочкой. Что мне не пришлось прилагать усилия к тому, чтобы бежать из ада. Что я должна быть в высшей степени благодарна моим родителям. А вот он надорвал себе задницу, чтобы унести ноги. И в первые годы посылал туда своим перловую крупу. Иначе бы они сдохли там от голода. Он желает России, чтоб она окочурилась, он сыт ею по горло! Я попросила его добавить немного жёлтого к красному и чёрному, и он с отвращением надавил на тюбик с охрой.
Слишком советское
Пышный цветочный орнамент на обоях в маленькой комнате двухкомнатной квартиры, которая никогда не казалась мне маленькой. Писклявым приветом оттуда мне явился орнамент, когда я впервые за тысячу лет приехала в Москву – не по внутреннему зову, а по профессиональному призванию обмена студентами – и поселилась в студенческом общежитии РГГу, среди таких же «родных» обоев, как в нашей объективно крошечной детской комнате. Обезоруженная, оглушённая, озарённая, я иду по Тверской к Красной площади, сворачиваю и случайно покупаю в переулке оранжево-жёлтые летние туфли из крокодиловой кожи, которые потом боюсь надеть.
Два балкона образуют дачу. Необъяснимо радостно пляшущие пятна утренних бликов, которые надёжно отодвигают на задний план стенания измученных родителей, их тирады о тяготах существования, которые звучат чаще, чем никогда не проходящие майские парады и демонстрации трудящихся с их барабанным боем. Всё это можно понять и об этом более не ныть. Это не ставит в тень их добрые качества. По этой исторической истории в миниатюрном формате легко распознать, что мои родители – инженеры, невзирая на тот горький факт, что их учёба и их трудовой опыт не были признаны в Германии: они прагматически-эффективны как цюрихские банкиры, а с ресурсами обходятся как экологические фрики из Кройцберга.
Моя мать раскрывалась, когда ей с папой приходилось идти извилистым путём из-за сломанной домашней техники, когда начались абсурдные хождения по инстанциям или грянула всеохватывающая инфляция, у неё было чувство достоинства рациональности, здравый человеческий рассудок представлял собой ещё абсолютную ценность. Сохранить элегантность простейшего решения, вот чего я желаю себе от того советского детства. Унаследовать что-то от заземлённой любви к математике; наглость настаивать на том, что всеобщее образование, разум и добро привлекательнее, чем тесно прилегающие джинсы, зачёсанные гелем волосы и счета, полные капусты. Оптимированно-функциональное строительство из того, что есть, образовало фундамент того образования, которым мне напоследок подали пример. За годы словесного марева, которое обволокло меня в Берлине и заставило свернуться Ежихой в тумане, эта уверенность износилась, истёрлась в сомнениях, что есть реальность и что есть основа. Если больше не смеешь взглянуть, на кого положиться, опору даст тройное правило. Или сложно-подчинённое предложение, в котором мысли входят одна в другую как разнокалиберные коробки.
Химические формулы, эти символы материи, которые увлекательно вели за собой старика Менделеева, через сколько-то лет растворились в значениях слов, для валентности и порядка которых не висит на стене таблица. Порядок слов строптиво переливался через край, промахивался мимо того, что ты хотел сказать, казался укротимым, а сам в то время прыгал на бумагу кувырком.
Сперва в Марцане, у пожилой учительницы из ГДР с коротким, ухоженным седым перманентом всё стремительно перешло в уравнения реакции. Она писала под контрольными ошеломительное и непереводимое, поскольку именно на русском: «молодец!» после и без того космической оценки «отлично с плюсом». Загадка, разрешимая для нас обеих, вываривалась из исходных материалов, и мы с упоением знали, как. Предприимчивые электроны, сила дополнительности, притяжение… Та валентность приводит с собой швейцарское «mol» для немецкого «doch», такова теперь ассимиляция.
После смены школы сменилась постановка задачи. Теперь это называлось: опиши эксперимент. Из страха перед взрывом – воду в кислоту не лей, не то будешь дуралей – вместо формул пошли формулировки, долженствовавшие обезопасить гипотетическую исследовательницу. С тем результатом, что учительница стала зачитывать выдержки из тестов. Она зачитывала лучшую иностранную литературу. Моя подруга Аня тут же разоблачила себя, она первая прыснула при цитате, что в построении опыта она бы надела маску и соответствующие доспехи. Моя мера предосторожности гласила: «Я бы не надела ничего такого, что не выдержало бы разъедающего действия». Учительница скорчилась на первой половине фразы, забавляясь, а пубертатный класс ещё и приумножил, и вторая половина фразы утонула в смехе. Коллективное злорадство захватило и меня. Я знала русский метод выборки цитат, и то был не показательный процесс высмеивающей самоюстиции, а серьёзное дело: научить нас стандартам научного описания.
Что ещё осталось для меня советским? Что «невозможно» не невозможно. Поговорка моего отца, который советовал мне изучать юриспруденцию: надо знать опорные столбы общества, чтобы уметь их обойти. Такие идеи, как превращение гаража на краю города в однокомнатную квартиру с машиноместом внизу. Развестись, чтобы встать в очередь на отдельную квартиру, которая досталась бы одному из моих братьев. Идеал находчивости: чем больше нужда, тем больше добродетель, которую можно из неё сделать. Здесь и сейчас это можно было бы назвать ориентацией на решение проблемы: несмотря на все сложности, добиться своего. Но и создать себе трудности, сказав, что думаешь и в чём суть. Суета. Напор. Стрессовый речевой поток. Короткие крико-слова как на корабле, убеждать других убойной риторикой, беседовать, говорить красивым русским языком, проказы в каждой второй фразе, анекдоты, ссылки на фильмы и литературу, и смех и грех. Великолепный театр. Усилия оставаться дипломатичной и не казаться при этом скучной.
И тогдашние дети. Или взрослые были особенно рисковыми, не устанавливая нам границ, кроме одной: чтоб с наступлением темноты мы были дома? Дети взаимно просвещали друг друга. Однажды так случилось, что у моей Кати никого не оказалось дома, а комната была полна детей, которым было интересно, как мальчики и девочки выглядят голыми. Они раздели одну девочку, вертели её туда-сюда и восклицали: смотрите, у неё на ноге синяк! Потом девочка оделась, и они раздели мальчика. Вот как выглядит голый мальчик. Без синяка.
В другой вечер Катя показывала нам фотографии взрослых, найденные в мебельной стенке. (Может, некоторые стенки продавались уже с содержанием). На картинках позировали не её родители, а двое других взрослых. Выглядело так, будто они занимаются физкультурой, а спортивные костюмы стали дефицитом, и всё равно это превосходило фантазию. Чёрно-белые снимки. Казалось, время тогда шло no-другому а иногда и вообще выпадало. Мои семь вечных лет. Тайны, растущие на кустах мальвы, не развеивались по ветру полностью.
Тем не менее, интимность и публичность регулировались. Склонность к контрастам – вот что оставило более глубокий след на карте чувств. Высокие и частые волны приятии и отталкиваний, резкие и мягкие, ругательные и ласкательные слова. Карусельная палитра симпатий и занятий, объятий и сверхромантической дали, бездонной безнадёжности и густого одиночества – смешанные с упрямством и помпой. Вот это и есть привлекательная «интенсивность чувств» Востока, сподвигнувшая скучный Запад не только критиковать его за отсутствие демократии, но и томиться по выпуклым ощущениям? Или долгое запрягание, амбивалентность, ящик красок дополнительных цветов, в которые окунаешься и позднее всем бросаешься в глаза, выпадаешь из ряда гармонично-монотонных, размахивая кистью как веником?
Налёт интимной мимики: подмигиваний и разлитого в воздухе юмора. Олег, но также и Игорь, пианинный невольник, и Сергей, которого можно было увидеть только с догом. Тонкий, рослый, с длинными конечностями, Сергей с большим смеющимся ртом и верный дог походили друг на друга, но это не имело отношения к делу. Игоря я вообще не знала. Пианист, будущий, как говорили: из правильной еврейской семьи. Его не допускали до настоящей игры, спуститься к нам означало бы, видимо, опуститься. Мы его видели, только когда он покидал дом для выступления в сопровождении своей матери. В этом он разделял участь той девочки с третьего этажа, отец которой выплавал себе «Мерседес». Она по четыре часа в день играла на пианино, так она говорила. Я переводила это для себя так, будто она постоянно жила, перепрыгивая через один класс. Мы ей соболезновали. Мы любовались её джинсовым платьем с оборками, которое отец купил ей на Западе, и с некоторым содроганием глазели на её истощённое тело, мимо которого проходили все каникулы. Эти дети были для нас такими же пугающими, как девочка с редкой болезнью из верхнего двора – она была намного меньше и тоньше, чем должна была, и на улицу её выпускали очень редко. Даже если будущие гении случайно показывались внизу, они были одеты слишком хорошо для двора и должны были следить за аккуратностью. Они не только не предложили ни разу своей собственной игры и не участвовали в общих затеях, они вообще не знали, чего хотят. Эти дети давали нам ощутить, насколько же нам повезло. Шла ли речь об отметках или о музыке. Мы-то выступали в оркестре с Оскаром Мацератом. Он, конечно, барабанил, а у меня ведь было красное пианино, по которому я временами била головой какой-нибудь из кукол, чтобы придать её причёске небходимую пре-берлинскую небрежность.
Анфилада запахов
Севастополь пахнет елями, когда подошвы сами по себе нащупывают орбиту в парке района Панков, а лёгкие тянут голову наверх – к воздуху над необъединимым многообразием города, полного отзвуков, галлюцинаций из зелёных крон, световых бликов, обрывков неба, затишья между напряжениями. Нерушимо упорное знание, что море скрывается за этой стеной кустарника, за домом престарелых, за терракотовой аркой парка.
Вход в Панковский муниципальный парк приводит к выходу воспоминания. Память никогда не входит решительно и не занимает своё место, а стучится смущённо и при этом помято как заспанная, беззаботная берлинка в десять часов утра. Просвечивает насквозь, поддувает. Хочется предложить ей кофе, усадить её, подкрепить силу сердца.
Те ворота из терракоты пахнут интеллигентской воскресной прогулкой, выпирают из позапрошлого века в современность и сигнализируют семейный рай, на грани которого мы прожили несколько лет на крайней улице рабоче-турецкого Веддинга, пока не испарилась надежда на Мы. Кое-что из прежнего – например, безупречно работающая стиральная машина – ещё покоится на Нордбанштрассе; она тщетно уповала на переезд в Скандинавию. Пусть стирает. Кое-что во множестве коробок сползло на юг, а что-то зависло посередине как линии огней на передержанном ночном фотоснимке.
Ликвидация мыслей, механическое изменение стиля к перенесению веса на носочки (чтобы пощадить суставы), испытание руководства по бегу нагугленного сайта о пробежках. Ещё больше приглушения шока при внезапно ощутимом подъёме на горку. Неконтролируемые токи счастья, поля токов, ползучая галька. Не думать, не управлять, наобум, беги, ну же, так, как получится, а получится ровно дорога, которой я бегала раньше, только на сей раз она бежит, после многолетнего отсутствия, более холмисто – и вниз к остановке Эс-бана Борнхольм. Рождество среди лета. Изнеможение в затишье между воротами парка и свободой шутки, дозволенной шуту. Творение. Столько неба над головой, что всё не поместится над широкой берлинской улицей. Гейневские ели, Линденберг-Панков, ржавеющие гэдээровские скульптуры, розовый сад – вы машете мне с полным приветом. И букет ароматов, в который вы солидарно объединились, близок к аромату скал, которые в Чёрном море противостоят прибою и к которым приникает капризное облачко чаек.
Собака без поводка. Лай. Стой. Её мокрая шерсть пахнет речкой Панке, и лапы у неё мокрые. Я кричу хозяину: «Боюсь!» Он не двигается с места и ворчит: «Жизнь – это вам не прогулка на пони и букет цветов». Собака продолжает лаять, я бегу дальше.
Когда-нибудь я напишу историю запахов Восточной Европы. И историю голода. Нет, каждый раз по утрам: прежде чем начнётся суматоха, нос, у которого ещё есть силы на любопытство, чует чётче всего. Вначале я думала о примерах «из русской литературы», но это попахивает самохвальством, поскольку «русское» есть ещё в салате с прилагательным «советский», до – и пост-, и со всеми острыми приправами с наших Остряков, это мало кому понравится, если никогда не приходилось переваривать похожее – со стороны оно не кажется ни добротным, ни отборным. Не тот винегрет. Не забудем, винегретом по-русски называют нечто совсем другое: не приправу, а картофельно-свекольно-морковно-капустно-горошковый салат. Носовая аллергия так и наматывает по стадиону напрасные круги. Лучше в регате идти на всех парусах к родному порту.
Пляжная панамка
Можно, я убегу подальше, на пляж? За пределы видимости, классически, ближе к морю. Вот я стою, пятилетняя, судя по фото, на галечном пляже и пою. Я возвышаюсь на метр в вышину, судя по грибку от солнца у меня за спиной. Достаточно примерная, чтобы знать, что на моих плечах ворочается будущее страны. Мои братья взяли меня с собой на море, на их любимое место, и оно же встретилось мне в Швейцарии: нежные очертания горных вершин, вместе с естественностью узнавания этих очертаний и их названий из любого ракурса.
На мысу я всматриваюсь глазами старших братьев вдаль, в поиске нашего Маттерхорна, горбачёвской летней резиденции. Мы различаем дом на краю скалы, он рвёт с современностью, так сильно он устремлён в будущее – маленькая сестра is watching you. Я не контролирую то, что я вижу, но верю им во всём, они взрослые, а мне нравится, когда кто-то силится познакомить меня с местными особенностями. Дача царя, у нас, не так близко, но всё-таки, очень, очень у нас, и теперь мне так же объявляют про виллы падишахов-ахов-ахов на цюрихских горах-ах-ах: там вот уже несколько лет живёт критик Путина, ныне уехал злой олигарх с Золотого побережья. Места работорговли, омываемого Рейном, отмывающего деньги меценатства, и ставни, какие бывают во Флоренции… Домовладелец – здесь не захватчик дома, как в Берлине, это надо перевести себе самой и не бросать лишних слов о домах, как и о горах денег в горных подвалах. Не следует ни обсуждать, ни осуждать, а сесть и смотреть вперёд. А ты ложись, мятая память, обратно под одеяло, поленись в своём поиске вещего Олега.
Не надо нам Красную площадь, наши восходы и закаты солнца прекрасней – алые паруса волшебнее шёпота Хоттабыча, и держатся они в наших снах гораздо дольше – навсегда. Не надо нам ни с кем конкурировать. С правильно настроенным ветром и благоприятными пропорциями прибрежной архитектуры: зигзаговая серость, щебёнка и водянисто-зелёная голубизна, сухая трава, мокрые волосы, с которых каплет вода. Мини-юбка, бикини-шок, клочок бумажки на носу, доза облучения без молочка от солнца. Выброшенные на берег Кремлём.
«Крым» (татаро-монгольское: керим) говорит сам за себя и означает крепость. Ещё при Османской империи мы маниакально притягивали военных. Наша выдающаяся крепость, наш смытый отеческий дом, наше безудержное использование коллективных местоимений, часто захватывающее и под угрозой захвата, а в тихом единодушии всё-таки неприемлемое – не охватить вам нас ни разу ни ружьём, ни разумом. Для нас не важно, жить там долговременно или спорадически, проводить там свой рабочий отпуск или школьные каникулы. Dreamcastle можно завоевать лишь путём субтильно-фронтального мысле-чувства. Компактная mental тар в подкорке как айпад, засунутый в карман брюк. Но от Гугла мало проку, у нас есть mental cap: если надеть Крым как шляпу, причём изнутри, на кору головного мозга, то он позволит части тебя исчезнуть, перенесёт тебя в другое место, туда, где ты носила панамку, под полями которой никогда не обгорало лицо.
Хлопчатобумажную панамку, которая слишком быстро стала мне мала, я надевала как блаженный знак высокого полуденного солнца. То детство состояло из таких раритетных вещей, что из них было бы легко составить блошиный рынок беглеца. Не было у меня никакой другой шляпы от солнца, охранявшей мои мысле-чувства. Панамкин канал всегда в моде – в уповании на скорую поездку на пляж. Белая кепка, отделанная тёмно-красным рантиком. Три сочные вишни и пара зелёных листиков на принте спереди возвышались надо лбом.
Моя кепка, моя самая лучшая кипа. Крепко держится на голове, даже если я запрокидываю её, чтоб наблюдать за парашютистами на военных учениях или присмотреть, где растут лучшие вишни в бабушкином саду. В достойном процессе срывания и поедания деятельно участвуют и мои братья. А кто бы ещё мог дотянуться так высоко, как они, а кто лучше меня умел взбираться на верхушки деревьев. Я усердно выискивала парные ягодки. На дереве соседнего участка висела даже Ménage – a – trois. Парные ягоды были мне нужны, чтобы вешать их себе на уши: мои серьги, в созвучие к мотиву кепки. Они болтались как лапша на ушах – надурив меня навек, приучив к сладкому самообману.
Константин за всё лето не прикоснулся ни к одной ягодке – после того, как однажды переел их. Может, он живёт честнее нас всех, в своей поздне-модернистской мета-реальности, метафорически непостижимой для нас, невежд. Его порции перепадали мне.
Веснушки вишням родня. Мои никогда не были такими круглыми и частыми, как у моего брата, который тайком загорает через сито, как говорила мама. Через дуршлаг. Про-бой по-немецки. Я чувствовала, что не могу ей поверить. Это сито с ручкой использовала только она, на кухне, и если бы оно попало в руки ему, он бы замахивался им на меня, когда я не могла повторить английские слова, например. Но, может быть, я путала дуршлаг и фартук. (Vor-tuch, передник). Меня пробивало, что это не типичные русские слова, но с другой стороны: русский язык плещется многоструйно, впитывая французские, английские, немецкие, голландские, а прежде ещё арабские, а то и вовсе китайские заимствования и просеивая их через граммолексическое сито. Не он ли теперь просеивается через дуршлаг на кожу других языков?
Мы спим и видим сон. А мой сын – мальчик моих сновидений, он вырывает меня из сна и настаивает на том, чтобы заснуть рядом со мной, и он дарит нам обоим сны наяву. Мы смотрим мультик про Карлсона, с ожиданием смотрим в окно и загоняем какао со шведскими бёллерами в ленивые рудники наших утроб. Мы просыпаем школу, университет, договорённости о встречах. Мы беззастенчиво напяливаем на себя спальные колпаки и выкрикиваем шумные лозунги в монастыре, храме русскоши.
Взять на заметку ещё одну неотъемлемую составную часть летней жизни, на другом фотоснимке она подходит к моей вишнёвой кипе: хлопчатное узорчатое платье на каждый день. Юбка из трёх широких присборенных полос. Сейчас такие были бы супер-крутыми и мега-модерновыми. Рисунок – бабочки в цветовой гамме от разнообразных до извращённых красок, неистощимо-калейдоскопический узор. Плательная почта из давних 70-х годов. Лиловое, красное, ещё какое-то, уже безымянное, поскольку солнце высветлило краски. У этого платья было одно свойство – становиться короче и быть при этом впору. Из года в год я замеряла его длину по трём родинкам на бедре: поначалу оно было очень благонравное, чуть выше колена – и до той точки, когда для безнравственности уже не требовалось никакого порыва ветра. В братниных шортах это не было темой. Они прилегали своей жёлтой бархатистой тканью и требовали максимального укорочения – как и сейчас в тренде, – чтобы в них не парились бегущие ноги. А к ним бело-жёлтый верх, мой первый костюм из того космоса. Я походила в нём на цыплёнка, отметили родители и братья. Желток, прозвал меня Константин. Нет, цыплёнок, сказала мать, ведь самая маленькая под забором. И самая горластая, возразил он. Ну пусть будет Желток, согласилась с ним мать, раз уж яйцо учит курицу.
Бабушкин дом
Когда подкатывает волна воли писать о закрытом (заключённом, прежде всего, в сердце) городе, всплывающие слова напоминают мне одесские блатные песни. Как только переведёшь их текст на немецкий, на листе бумаги (Blatt) они кажутся банальными до недоумения. В переводах скрыты истории весёлых самопотерь. Оборвём листки помарок – что останется в сердцевине? Момент созвучия с тем и другим, момент «да, это прекрасно» – и разве это не так, честное слово?
Люди, приезжавшие на лето в Севастополь, снова уезжают, а мы – мы стоим на якоре. Расширить радиус известной мне местности, начиная от нашего дома – это поэма. Но ехать к моей бабушке в Северную бухту, больше получаса на троллейбусе, четверть часа на катере и ещё 20 минут пешком по крутой песчаной дороге вверх – это конец света. Едва одолеешь дорогу к её дому с «квартирантами» (отпускниками, которые снимали на её участке времянку), как тут же начинается пропалывание грядок, окучивание картошки, ремонт ограды. Все были чем-то заняты, папа всегда что-то чинил, мама чистила, чаще всего время не двигалось с места.
Использовался каждый квадратный метр. И земли, и жилой площади. Эти ужасные москвичи с их протяжным аканьем. Правда, они привозили с собой еду. Колбасой рассчитывались за постой. Но лучше б я часами бегала голодная по моим дворам, только б не за преградой огорода. Всё это не переводится на язык слов, это в лучшем случае перформирует и парфюмирует современность – подобно неожиданному букету цветов без всякого повода. «Подъезд номер 7» – гласит названье эксклюзивного панельного парфюма. Если он кончается, я пополняю его – подобно флакончику с мыльными пузырями – так что дети из чужих дворов нас добро пожаловали и пускали беситься с ними.
Некоторым блюдам место в поваренной книге, а некоторым путешествиям – в вахтенном журнале. Часть мигрантов в больших городах говорит прошлому: давай-ка, bye, bye. Ставь точку и не тяни резину. Этот фильм не получится снять, ты можешь сослаться на Когда я стану великаном, и половина зала тихо встанет, расставаясь с этим инсайдером после рекламы. Слишком разные у нас коды и слишком разномастные, чтобы подшить их в один регистратор с надписью «русское», или «советское», или «украинское» и так далее. Но без этикетки ничего не складывается! Кричи не кричи, время вспять не повернёшь, твоё сознание всё реже поддаётся сдвигу, ты всё меньше крутишься вокруг себя, и этот малюсенький, мелочный мир, давно подорожавший вдесятеро и снова обесценившийся от падения рубля, расстроился и перестроился, населился другими людьми, стал средним, а то и вовсе иноязычным, с легендой о твоей семье, а то и без следа, без бабушки, без деда. Тебе теперь до феньки, до колбасы, будь то московская охотничья для салата оливы или острая карри от расстройства и для запора. Ешь, дитя, крепчая, бывай и забывай.
На языке забвения читаю вслух: в гостях у бабушки я впервые услышала внутренний зов домой, и это определило, что такое «домой». А ведь у неё были и интересные вещи, например, будка с душем в углу огородика и будка туалета с выгребной ямой в другом углу. Чёрная и красная смородина. Малина. Картошка, при окучивании которой в земле поблёскивали патронные гильзы. Мать прожужжала мне уши своей поговоркой: здесь каждый метр земли пропитан кровью. Мы стоим на костях наших храбрых матросов. Под райским солнцем, под парадную музыку, под слоем майонеза холодного салата шуба.
Один раз на меня надели китайское платье, в котором я должна была позировать для семейного фото, ещё перед тем, как отправиться к бабушке. Мы с отцом вдвоём уехали вперёд, остальные должны были подтянуться после обеда. Мы были одни на бабушкином участке. Отец проводил своё время со мной – красный день в моём календаре. Квартиранты предавались на пляже радостям отпускников. Отец для них недавно обустроил на участке три времянки. Теперь они стояли для нас открытыми. Отец чинил дверь, она была раскрыта настежь, я заглянула, как приезжие живут у нашей вишни и у сарая с инструментами. Сделав обход и съев персик, я перешагнула у душа через грядку с петрушкой и укропом на уровень ниже. Участок располагался, как и всё здесь, на склоне, такая уж местность. Два входа в дом, грядки вплотную одна к другой, астральные звёзды ярких астр, мягкая земля, бдительные соседи и глубоко в животе ожидание, что кто-нибудь внезапно вернётся.
В домиках отпускников подушки, поставленные на кровати треугольником, сам их вид располагал к дневному сну. А потом я увидела машинку. Настоящий детский автомобиль, в который можно было сесть, давить на педали – и он ехал! Я прыгнула в него, в полном сознании преступления запрета. Моя бабушка обзавелась этим кабриолетом для детей отпускников и спрятала его от меня, чтобы я не сломала. Может, моё предположение было ошибочно, тем не менее я, забравшись в педальное авто, полдня не вылезала из него.
Отец тоже сделал обход и убедился, что мы одни. Мне было уже всё равно, увидит ли меня кто – в моём китайском нарядном платье и с огромным бантом, который стягивал мне кожу головы в перманентную улыбку. Отец начал фотосессию. На одном снимке, который мне удалось похитить из родительского дома, я еду сквозь чёрно-белые пионы прямо на объектив. Моё счастье выходит за пределы, обусловленные чисто бантом, фото пахнет как «Подъезд номер 7», благоухает цветным.
Не знаю, живы ли мои тогдашние друзья и хочу ли я отвечать себе на этот вопрос. Трусиха туда не едет, у неё нет времени. Она говорит, что время ещё не созрело для этого, что сама она не созрела, ребёнок ещё маленький, без ребёнка она не поедет, она хотела бы показать ребёнку своё Тогда таким, каким пережила его в детстве, а ведь это, увы, не получится, и вот – мы не поедем, а поедим.
Это клятвенно и заклято, как с Петербургом, который отец божился показать мне, включая все места, которые имели для моих родителей значение, когда они ещё не были родителями, а были любовной парой, в течение пяти лет встречаясь в Петербурге. Мой отец, твой дед, изучал там в военной академии что-то близкое к физике, а теперь он заполняет своими изобретениями пустоту выдвижного ящика в маленькой комнате имени Анны Карениной. «Когда ты найдёшь своего человека, мы проведём вас по нашему Петербургу», – гласила формула. Своего человека. Который попадётся на пути – он будет ехать, идти, скакать верхом, трусцой бежать. – Скорее я распознаю резиденцию Горбачёва, чем его. В итоге я коротаю годы в посттравматической зашоренности, без Питера, без Севы. Я рассыпаю свои мечты вместе с покоем и воспоминанием. Я больше не могу нигде ориентироваться, нет системы координат, всякая точка опоры проваливается, как обычно. Пространства наваливаются, громоздятся, облезают и устраняются. Но уже надвигается штурм Зимнего.
Однажды ночью я лежу щека к щеке с моим сыном, иначе мы мёрзнем. Я надеюсь, он не улавливает мои гнетущие мысли, и я надеюсь приобщиться к его светлым снам. Он говорит – видимо, в полусне, – что хочет в Москву, в Петербург и в Севастополь. Он спрашивает, действительно ли Россия самая большая страна в мире, и где она находится – в Европе или в Азии.
Являются отвратительные винительные падежи. Нет кого, чего. Налагаю на себя обет: чтобы спасти моего дедушку от рака гортани, я искурю его сигареты. На Учкуевке – ближнем от бабушки пляже – я больше не позволю огромной волне поглотить меня. А если это всё-таки случится, я буду держать глаза открытыми – уж если умирать, то глядя внутрь, в око водоворота.
Если я и буду опять писать о бабушке и тамошнем пляже, то в главе о возвращении на проспект Острякова. Поздороваться, увидеться, поздороветь, закалиться. Чтобы ни призрака, пьющего пиво в национальном наряде, ни Маттерхорна, а – раз! – и сейчас же счастье возвращенца: в изнеможении, на плечах одного из братьев, или из последних сил, пригодившихся на всякий случай, удирая прочь, чтобы не путаться в ногах ещё более усталых родителей, в предвкушении terra cognita. Даже если солнце непослушно сползает вниз, а ведь тебя предупреждали, бегом домой – неотвратимая, по-медвежьи горячо обнимающая четверть часа во дворе придвигается и вползает как гусеница перекура. С ней ты сможешь заснуть.
Ах да, бабушкин дом. Полный жалоб, упрёков, невоссоединимых различий в восприятии правды. Ужасная несправедливость, чей потенциал ранимости никак не соотносится с запахом внутри дома, запаха лекарств и возраста. Правда в глазах правнуков. Отсюда вырастает моя антипатия к непоколебимой как скала исторической правде, ради которой своды крепких связей рушатся в мутные разводы, как и моё убеждение, что лучшим в этом доме было возвращение из него на наш остряковский островок. Это засело так крепко в материнской голове, в её сердце и разумении, что я держусь в сторонке, чтобы хоть как-то сохранять себя в целости. В конце концов, в детстве тебя не касается никакое наследство.
Претензия на долгосрочное действие или предварительная расплата: семейный спор за дом уже начался, ещё когда родители ждали двухкомнатную квартиру в Остряках. Проблема с пропиской – и вот, всё зависит от того, кому и где что приписывается. В этой очереди на получение жилья они простояли восемь лет, почти до моего рождения. И всё это время жили у бабушки в отдалённом районе Северной бухты, наподобие отпускников, только не так обустроенно. Это наложило свой отпечаток, а скорее наследственный шрам.
У бабушки были деньги на дом – после того, как она в туркменском Ташаузе дослужилась из учительницы химии до городской администрации – пока её не обвинили в том, что она дочь кулака, и не исключили её из партии, так что ей пришлось уехать из города. Они с дедом продали всё своё имущество и перебрались в Винницу, а позднее в город-порт – видимо, потому, что там служил мой отец, а может, и из личных предпочтений, в виде исключения.
Тогда отец служил на корабле, у моего старшего брата было воспаление лёгких, растянувшееся в семейной памяти месяцев на десять, а мать была беременна Константином и пребывала под капельницей недоразумения: бабушка опасалась, что мои родители прописались у неё, чтобы прибрать к рукам её дом. Этот упрёк как родился, так уже был неустраним, он мог довести до безумия всех. Но эту гравюру мы наконец зарисовали, и она стала историей.
Свёкры и своды
Слово «дед» – по-немецки «опа» – спрятано и в «Европа», и в «Севастопа». Спрятано и в слове «стоп». Мои родители сдерживают меня в моём намерении составить историю семьи: они не хотят мне ничего рассказывать и сами ничего не написали, хотя я их об этом просила и прошу, просила и прошу, просила и прошу. Они неумолимы и неумолимо стареют. Они сами уже давно деды и посему являются объектами предстоящей реконструкции. Может, многое становится более гибким, если от него постоянно отмахиваться и уклоняться.
Сходным образом весомо и гнетуще до удушья, перегруженное тяжёлой историей – подобно моему учителю истории, – давит на мою семью значение моего деда со стороны отца. Он отличился во Второй мировой войне и был героем Советского Союза, ещё и дважды. Польский, украинский, русский – короче, советский – еврей, который графу «национальность» в своём паспорте заполнил своим отчеством, так что мог беспрепятственно делать карьеру, удержал Сталинград и одержал победу в первом взятии Берлина, прошёл через семь мостов, брал город с севера, с Райникендорфа, где мы проживём лет десять с середины 90-х, если можно положиться на время и на его деформации.
Его статус статуи присутствовал опять же благодаря банальностям, провозглашаемым моей матерью в сражении с повседневностью. Она могла – в тяжёлых случаях – отовариваться продуктами в супер-пупер-магазине для ветеранов геройского звания (дефицит вместо плебисцита) и даже во время Перестройки, когда у нас в провинции не было уже ничего, покупала для меня что-нибудь из одежды, в том числе мальчишескую куртку. Магазин назывался на языке моей матери «дедов магазин», так что я какое-то время считала его героем торговли. Тот дедов магазин находился даже не в Севастополе, а в Виннице и был так же важен для выживания, как и связь с Москвой. Надеть куртку из дедова магазина – это звучало как big deal. Жирный фирменный знак: внучка героя Советского Союза. Ребёнком уже знаешь своё место и кому ты им обязан. Вездесущая зависимость от дедушки и бабушки так и вытесняла тебя наружу: зависнуть на улице, по дороге с родителями оторваться от них, укатиться колобком со скамьи запасных, и предаться катанию во дворе на четырёх надёжных роликах.
Тот слой, кажется, был в доступном распоряжении моей матери, но если его затрагивать, то в движение приводится одновременно столь многое другое, что лучше было лишний раз её не беспокоить. Как будто эти речи сочинили неутомимые духи, Ghostwriter, ангельски хранившие семейные тайны. В последние годы кубки Грааля открываются всё-таки чаще, чем раньше. Или я прислушиваюсь теперь по-другому. Начинаю что-нибудь примечать, пытаюсь запомнить, пока они не спохватились и не умолкли, заметив, к чему я клоню. Расспрашивать их напрямую – попадёшь под подозрение в разведке, как в Москве в поисках фотографий Сергея Третьякова или за столом с Мило Pay и его приверженцами, которые выпытывали, откуда я, надолго ли тут и как давно шпионю для Москвы – обычная программа вопросов… Притом что задача моих поисков утраченного пространства проста: понять произвол системы и индивидуальные пируэты моей семьи. Говоря по-русски, выпутываешься из досадной ситуации, распускаешь моток ниток, разматываешь и наматываешь заново.
Мне приходилось тщательно следить за тем, как моя мать запутывала в один клубок фамилии и названия городов, национальностей и стран. Так же у неё было и с именами. Одну её тётю звали Анна, но называли её Нюрой. Мать моего отца Анастасия Ивановна, но звали её Ася, потому что это звучало более по-тургеневски. Мы заговорили про дедов, когда я рассказывала маме, что мой бывший муж долго не знал о том, что я родилась в Советском Союзе, и не поверил мне, когда я ему сказала об этом (в Осло, у подножия городских укреплений, в примечательно тёплом предвечернем свете над фьордом). «Не может быть! Ты же совсем немецкая картофелина», – воскликнул он.
Его мать в Северо-Восточной Германии тоже не поверила. Мы с ней шли по фабричной местности, на которой стоит их дом, перестроенный когда-то из конюшни. Мы несли собакам миску с костями. Пока она объясняла мне, что у меня типично тюрингский акцент, местность напомнила мне территорию гаражей в Севастополе, куда мы однажды забежала с другими детьми, хотя мне нельзя было так далеко отбегать от нашей высотки. Там тоже ждали голодные собаки.
Когда мы играли между гаражами в футбол на маленьком квадратном поле, я наступила невзначай на мяч, упала навзничь и разбила голову об асфальт. Мне надо было торопиться, чтобы вовремя успеть домой, и я сделала вид, что ничего не случилось. И действительно ничего не случилось. Был один из тридцати трёх летних месяцев, солнце опускалось в ночь. Никто не обратил внимания ни на часы, ни на мои волосы, склеенные запёкшейся кровью.
Тогда будущая, а теперь давно уже бывшая свекровь спросила, с Востока я или с Запада. Причём она настаивала на том, что на слух я воспринимаюсь как уроженка Тюрингии. Я не знала, что мне сказать, я не знала никого из Тюрингии и не знала, что это могла быть старинная форма Цюрихинген. Да и впоследствии я не знала, что сказать, когда мой лёгкий швейцарский акцент интерпретировался как саксонский – думайте что хотите, пусть я буду из верхних саксов в горах, откуда происходят лучшие этнологи и пасечники.
В тогдашнем же волнующем «потом» те свёкры и их сын спрашивали, почему я разговариваю с их внуком (и сыном) по-русски. А я спрашивала себя, не насмешка ли над настоящей бухтой тот блёклый Штетинский залив, не насмешка ли над морем Балтийский водоём и не насмешка ли над идеей семьи то, что получилось у нас, несмотря на старинную детскую коляску – она треснула, не прошло и полгода. На севере Германии вода и всё вокруг неё имело другой формат, другую размерность. Мега-сердце запиналось, оно не могло биться ни тактично, ни осмотрительно, душа продолжала полёт на всех парусах. Чтобы развеяться, мы предприняли пасхальную прогулку в Укра(и)ненланд – диковинка в лесу, тут жили когда-то Украны. Я лопалась от отчаяния, мне стало ясно, что хорошего ждать не приходится. Для этого была почва, твёрдая, зелёно-голубая. Удар по почкам. А места не было. Не было прибытия в Теперь, несмотря на всё терпение. История не асфальтировалась, она лаяла, скалясь через стенки гаражей. За крахом последовала вспышка:
Претензия на более высокий социальный слой растёт пропорционально географической близости к среде, которая кажется неперспективной. Мекленбург-Передняя Померания не хочет быть Мекленбургом-Передней Польшей. И тем более Передней Украиной. Даже если некоторые информации для туристов печатаются по-немецки и по-польски, названия некоторых местечек пишутся на табличках на обоих языках, а польские отпускники отовариваются в выходные в Штетинском заливе, угрожающая близость к Польше – повод ментально отфильтровывать «восток» и ездить по брусчатому, тесному Старому городу на больших автомобилях.
Неонацистская Национал-демократическая партия, кстати, размахивает в той земле лозунгом «Национализм как политическая весна», ежегодно празднует «народные» дни лагуны в конце июля в Юккермюнде, раздаёт газеты с правой пропагандой, кидает в толпу конфеты с их партийным логотипом – должно быть, в качестве альтернативы к проблеме наркотиков среди подростков в регионе. На глазах у зрителей, которые с невыраженным тонким чутьём упражняются в игнорировании, презирая нежеланных соседей и придерживаясь чётких ограничений. Человек, с которым я была вместе – и там, и вообще, – попросил меня в один из таких прекрасных дней лагуны не говорить по телефону с моими родителями по-русски. Замаскироваться и помалкивать как рыба.
Ничем не выдавать себя. Притом что эта область – судя по её названию – некогда была славянской и даже украинской, насколько я помню из словаря немецко-славянских отношений.
Если проследить ход Юккера (в Померании) или Укера (в Бранденбурге), по которому весёлые мужички на городских праздниках катаются на лодках с вёслами, то он впадает в самом восточном немецком портовом городке Юккермюнде в Штетинский залив, выходящий к Балтийскому морю. Река, должно быть, дала название укранам или укрерам – западно-славянскому племени, которое в раннем средневековье обитало между Заале и Эльбой на западе и Припятью на востоке. Припять течёт через Центральную Украину и Беларусь, это река, которая после Чернобыльской катастрофы стала поневоле водным охладителем реактора. Возможно, «Украина» имеет больше общего с Северо-Восточной Германией, чем хотелось бы некоторым. В экспериментальной этимологии можно было бы допустить, что не река дала название племени, а славянское самоназвание «живущих на краю реки» тамошних укра(и)нцев дало название реке и области Уккермарк. Тогда «Юккеррандов» и «Передняя Померания» были бы двойной периферией, композицией из славянских и германских обозначений, то есть двойной Украиной…
Подушечки пальцев печатают этот баш-блог и резко обрывают его, осёкшись на неудаче. Заглянем дальше, на собственное славянство, в унаследованный вахтенный журнал: моя бабушка с материнской стороны, Вера, была тринадцатым ребёнком в крестьянской семье с Урала. Моя мать говорит, что бабушкина деревня нынче оказалась в Казахстане. Их считали кулацкой семьёй, хотя они никого не нанимали и тем более не эксплуатировали: вся семья работала на своё хозяйство. (В этом сходство с семьями русских немцев). Будучи раскулаченной, семья бежала в Туркменистан. Бабушке Вере было десять лет, когда она покинула своё уральское село. В Ашхабаде она закончила химический факультет, а позднее поселилась в Ташаузе, где стала директором школы и заместителем председателя горсовета, тогда как мой дед, судя по всему, был в тени её должности и поддерживал её с тыла. Он работал где придётся, в основном присматривал за домом, за хозяйством и двумя дочерьми. Он отлично готовил, его блины были легендарными.
Моя мать первые десять лет жизни провела в Ташаузе, пока они не переехали в Винницу в Центральной Украине. Логично, что и мне было десять лет, когда мы переехали из Севастополя в Берлин. Алгоритм продолжает исполняться в ускоренной форме: моему сыну было пять, когда мы из Берлина бежали в Цюрих от нашей несостоявшейся семьи, и я уже спрашиваю себя, какие перемены у нас грядут, когда он отпразднует свой десятый день рождения.
Моя мать носила не фамилию своего отца, Гофман, а известную всему городу фамилию своей матери. Фамилии как окопы и водоотводы. Моя еврейская семья настолько советская, что отложила своё еврейство – да так далеко, что уже не подставишь стул и не дотянешься рукой за проигрыватель. Не проследишь задним числом, не сыграешь на слух, не получится – ни для врага, ни для друга. Мы сами должны придумать, исполнить и снять продолжение этой серии, развернуть задник, завернуться в него, согреться.
В Ташаузе директорше школы было по силам получить участок земли, стройматериалы, привилегии, имидж. Они строили дом. Они знали толк в домах. Странная традиция. Но всё-таки его пришлось покинуть.
Про это место рождения и детства моей матери я знаю только, что у них долго не было стола и что на экскурсии они ходили в пустыню Каракум. Русские сочинения она писала на песчаной туркменской почве. Я никогда там не была, как не была ни на Урале, ни за Уралом, но не была и в кантоне Ури – у жизни ещё есть что мне показать. К родному языку моей матери добавился и туркменский язык. Это помогает ей в субботние базарные дни на Леопольдплац в Берлине и в отпуске в Турции, где мы считаемся из Кирим и дружелюбно приняты как наследники Османской империи из мест, близких ко двору Осрама. Всё-таки мы приплыли в Турцию через линию горизонта – или они к нам: турецкий «дёнер делает берлинцев шёнер (нем. красивее)».
В Ташаузе мать с тех пор ни разу не была. Ведь и у неё вряд ли укладывается в голове то, что бабушку Веру тогда внезапно привлекли к ответу по партийной линии за то, что она имеет кулацкое происхождение и утаила это. Бабушка Вера сказала, что её отец вступил в колхоз добровольно, но доказательств у неё не было. Её уволили. Она не могла найти работу нигде в городе, потому что была слишком известна. Им оставалось только уехать, и они не знали, куда. И тут вспомнили, что у моего деда была кузина неподалёку от Винницы, уважаемый зубной врач Дина, которая спасла его ещё ребёнком под белорусской Красной Слободой. Они продали недостроенный дом в Ташаузе и купили дом на окраине Винницы. Изгнание произошло за несколько месяцев до хрущёвской чистки на партийном съезде в 1956 году.
«Мне было далеко до школы, час ходу. Может, благодаря этому у меня и до сих пор хорошее здоровье», – перевожу я вздох моей матери на этот счёт. В Виннице она встретила своего будущего мужа, в школе, которую ей пришлось оставить в выпускной год, чтобы работать полный рабочий день со своим отцом на электростанции. После работы она посещала вечернюю школу. Но через некоторое время поняла, что должна вернуться в дневную, иначе ей не получить хороший аттестат и не поступить в хороший институт. Последние три месяца она провела в нормальной школе и закончила её с отличием. Вот отличная история: мои родители вместе с первого мгновения весны, с семнадцати лет – как в сказке, как в фильме про войну.
А отец после школы учился в Петербурге на инженера. Он больше никуда не мог поступить, кроме как в эту военно-морскую академию – его отец, герой Советского Союза, не задействовал свои контакты. Мать училась в Виннице на инженера, только другой специальности, хотя предпочла бы изучать языки, но и это было невозможно без связей. Во время заочных отношений они, как полагается, писали письма – для сугрева, да и на растопку пригодились. В двадцать с небольшим переехали в Севастополь, отца направили туда служить. Наконец-то вместе в одном городе, но это только видимость, отец уходил в море. Пока не совершил упомянутый геройский поступок, который следует поставить в один ряд с их фиктивным разводом. Потом и его перещеголяла эмиграция. Так разворачивается начало вокруг конца истории успеха. Историю их любви я извлеку на свет ещё не раз – чтоб не забыть, что такое бывает.
Однажды коллега, с которой моя мать работала в туннеле под холмом (там проходила кабельная сеть городской телефонной системы), спросила, какой национальности мой отец. Мать ответила, что не знает, это никогда её не интересовало. Я навострила уши, когда она вдруг заговорила об этом. Мы обыкновенные советские люди, ответила мать, и какое значение имеет остальное? Одна из её тёток была замужем за украинцем, вторая за белорусом, а её мать – за евреем, и так было всюду, куда ни глянь.
Однажды мать бронировала авиабилет для моей бабушки по отцу и обнаружила в её паспорте запись: «Национальность: еврейка». Она не преминула назвать своими именами все вещи и лица: что это было – странная случайность или стыд, если еврейство утаивалось друг от друга даже внутри одной семьи. Она приветствовала реабилитацию своей фамилии после нашей эмиграции: я предложила жить дальше под щитом её девичьей фамилии из соображений собственной защищённости при поступлении в гимназию в мерзком Марцане.
К тому клочку земли, который приобрели мои бабка с дедом, который никогда не будет принадлежать мне и которому сама я никогда не принадлежала, поскольку он был для меня принудительным огородом, принадлежит мой милый дедушка Миша, он же – Моисей. Назовём-ка его дед Моисей. Он был простой и добрый, он всегда был под рукой. Про него говорили, что он панически боится мышей. Однажды запрыгнул на стол, когда по полу прошмыгнула мышка. Персонаж из немого кино, без всякого актёрства. Мне было позволено в лучах заката перед домом причёсывать его поредевшую седину в непокорно-профессорский гребень. Он ничего не имел против. Мой хаотический брат тоже находил это забавным, как и дедушкин идиш – он попросил научить его нескольким фразам. Как раз вовремя, потому что вскоре Моисею пришлось ехать в Москву, там ему проперировали горло. Он вернулся с пластиковой трубкой в шее, из её хрипа уже невозможно было понять ни слова.
Дважды наш Моисей выжил под нацистами. Один раз, когда они подожгли его белорусскую деревню, включая сарай, куда согнали всех жителей, а второй раз – tete-a-tete. Перед своей операцией, когда мы целый вечер сообща подсчитывали стопку обесценившихся денег, чтобы понять, сколько у нас купонов (про «Монополию» мы тогда ничего не знали), он показал на своё покалеченное левое предплечье: в нём застряла пуля немецкого офицера. Так что в нём с тех пор водились инородные тела. И сигареты никогда не переводились, хотя бабушка прятала их в ванной и в кладовке, приказывая мне, чтоб я никому не выдавала тайники.
Я беспомощно оглядываюсь на тени прошлого, они мне ни о чём не говорят. Голоса далеко живущих родителей спрашивают по телефону, как у меня продвигаются дела (вера в прогресс – это идеологический атавизм?), мы общаемся регулярно и поддерживаем друг друга. Ни тогдашний прогресс, ни нынешний не говорят мне ничего, дайте ему растаять на языке. Не оставляет вкуса, не питает. Я и здесь не могу запитать настоящий сказ: я плохо пишу на немецком по-русски. Что есть, то есть. Когда я об этом забываю, то не прибегаю к кондому языка.
Однажды утром, это было в выходные, меня разбудил телефонный звонок – и потом всхлипы матери. Смерть деда не была неожиданностью. Мать мне было жалко, но я не скорбела и не набрала ей букет цветов. С тех пор мне ещё меньше хотелось к бабушке. На похоронах было холодно. Я держалась подальше от открытого гроба и всё же посмотрела на покойника: панковского гребня у него на голове не было. Пришло много народу на Малахов курган, деда знали в Северной бухте. Похороны и поминки со всей ритуальной и неритуальной скорбью, с першеньем в горле, с плачем и опусканием гроба в зимнюю землю запомнились как первый фильм ужаса. Мне так хотелось погладить его по голове. Если кто-нибудь забредёт в Русскостъ, пошатываясь, смертельно-бледный, он бесплатно получит панковский пунш, и по воле народа вспыхнет путч как на бессмертной Красной площади. Мы не позволим себя одурачить. Оп-па, дед остановит смерть!
Игрушки
На горизонте Германия, туда уплывают с базара-вокзала. Семейство пакует свои нервные узлы. Каждый остаётся на своём участке связи и немного инфантилен под давлением ожидаемого. Старший брат отсиживается в Петербурге, прикрываясь медицинской учёбой, но год спустя отец его всё-таки вытащит – или, лучше сказать, достанет. Год-два спустя он попадёт в Свободный университет опять на первый курс – предыдущее образование не в счёт, – а потом в сумасшедший дом, врачом.
Но ещё там, перед самым отъездом, вскоре после землетрясения зазвонила в колокола одна фраза из телевизионных сериалов: ничто уже не будет таким, как прежде. Ты внезапно понимаешь, что имелось в виду. Вместо выигрыша жизненного смысла заводится протокол потерь. Пробивается охота к стихосложению, которая – вопреки многим причинам держать язык за зубами – всё-таки лезет наружу, как трава сквозь трещины в бетоне. Асфальт в России трескается постоянно, потому что температурная кривая проходит в любви к контрастам: летом слишком жарко, зимой слишком холодно. Только не в Крыму.
Там почва прогибается от толчков роликами. Или на почве подземной активности гор. Она разрывается и обнажает ту эстетику атмосферы, которую я за едой разделила бы всеми чувствами со всеми – как в опере, – если уж не в ломаном, пере-ведённом, пере-саженном, запоздалом, промазанном, попавшем не на ту клавишу слове. Тогда земля разверзается и даёт волю охоте.
Желание построить обозримую, достойную защиты планету, мир из свободно ассоциируемых составных частей, в котором ты режиссёр во время всей игры. И пусть ключевые слова врезаются глубже, чем штыковая лопата для крымской картошки, извлекающая на свет патронные гильзы. Вот – сплавление с идеальным социумом взрослых и защитой границ, полёт фантазии и объезд неизбежного «надо», программа разгрузки, трогательная сцена, надёжное представление действующих лиц. Даже если они тривиальны, ты свихнёшься, если долгое время не сможешь снимать свой кукольный фильм.
Разыгрывать альтернативные семьи, дружбы, немые здания и службы. Оформительский взгляд за кулисы. Бери чужие образцы. Игра – новаторство и плагиат. Демиургически-демократически каждый может поставить рядом свои желанные или имеющиеся, вспомненные, сбережённые, дарёные игрушки – своих первых истинных друзей – и прикинуться то одержимым, то дежурным, вести себя воспитанно и неистово, взять себе из «раньше» то, что нужно теперь. Заглянуть внутрь других ролей, перепробовать их в примерочной кабинке для кукольных платьев.
Я беру металлический «конструктор» и ящик с игрушками напрокат. Играю, будто фотографирую их – окунаю в тогдашнее – в цвете и с вредным для здоровья запахом резины. По-русски это называется кайф. Кайф ловят как рыбку или волну для сёрфинга. Мирное довольство, слегка зловещее и сомнительное, пронизанное светом до жары, потеть разрешается, внутренние голоса выступают наружу. Страхи привидений и плюшевые желания в пластиковом исполнении. Мы слышим их и смотрим на них, склоняемся перед ними и разметаем перед ними площадку. Я протестую, когда мать в конце дня или перед тем, как ей захотелось вымыть пол, настаивает на том, чтобы я убрала соответствующую нагромождённую инсталляцию.
6 июня 1993 года мать подарила ящик с моими игрушками своей коллеге для какой-то девочки-сироты. Такова её версия. Может быть, всё содержимое ящика она высыпала в мусоропровод, может, твоя любимая кукла Ютта, с которой ты иногда вела разговоры о Боге и мире, при этом громко вскрикнула. Мать даже не спросила тебя, так же, как она не спросила тебя, можно ли взять из твоей коллекции монеты с Лениным и Мусоргским. Она купила на них хлеба. Как все настоящие подарки, монеты были от твоего старшего брата. Они имели тот смысл, что был кто-то, кто защитит тебя от летающих тарелок и домашних тапок. Наверняка твои игрушки подскажут той сироте, как ей интуитивно осуществить семейную диспозицию.
Это было незадолго до отъезда, на троллейбусной остановке, когда мать подтвердила мне, что раздала моё состояние. Родителям, наверное, было так же, когда все их сбережения в один прекрасный день пропали в банке. Или как оно было – жить в страхе, что снова обворуют. В утешение я бы устроила для моей одноразовой куклы из одуванчика перманентную завивку в форме Медузы, оросив её слезами, но округлая морда троллейбуса уже подъезжала, чтобы везти нас к железнодорожному вокзалу.
Та коллекция реквизита содержала среди прочего танки моих братьев, которые я перенацелила в качестве автомобилей для кукол, мягких зверей в самовязаных юбочках, и предметы мебели, в том числе голубую кроватку для Ютты и её матроса, с золотым атласным постельным бельём. Последнее когда-то подарила на Пасху соседка, она сама его сшила. Я ещё удивлялась, что для кого-то этот день – праздник.
С игрушками были украдены и приведённые истории. Они могли быть рассказаны только протагонистами и статистами, иначе они прочитываются как абсурдистская пьеса о дефекте фантазии. Куклы многое пережили. Я надеюсь, они рассказали сиротке обо всём, возродили мой план постановки и вовлекли в него ребёнка, так что он избавился от сиротства и мог бы даже породниться со мной.
Всё, чем я обладала, было просто ничто по сравнению с тем, что есть в сегодняшних детских комнатах, хотя мать и ругалась, что у меня всего слишком много, а жилой площади и без того не хватает. Когда в Детском мире или перед ним я что-нибудь выпрашивала, на всё был один ответ: То нам нэ трэба. Поэтому я исполняю свои желания сама, сколько себя помню. Только вот желание возиться с игрушками в Берлине покинуло меня навсегда. Того, что я хотела, не было, а принцип кукол Барби мне показался варварским.
На некоторых фотоснимках я вижу себя с мишкой, который принадлежал ещё моему старшему брату. Чёрно-белые, разумеется, снимки, и на них мой старший брат, которого я никак не могла представить себе маленьким, а если и представляла, то так, что его длинные волосатые ноги выпирали из детской коляски, и с ним мишка, тогда ещё новый, мохнатый. Они почти не отличались друг от друга размером. На другом фото мой брат держит его в руках как младенца. Немного испуганно выглядит мой будущий даритель и защитник. Как будто он предвидел, что лет через семнадцать его сестра подстрижёт мишкин мех, сломает механизм его рычания, превратив его в погремушку, и будет обращаться с ним как с нарушителем спокойствия – медведь подвергался наказанию, когда она играла в учительницу.
Теперь мишка, если он ещё жив, валяется в детском саду в Севастополе. Там теперь меньше детей, чем было раньше, они по-прежнему русские, татарские, греческие, украинские, светловолосые, рыжие, брюнеты, милые, подлые, скучные, любопытные… Интересно, носят ли ещё косы и банты… Мишка сидит в углу рядом с куклами, одетыми в фольклорные костюмы, каждая из которых символизирует какую-нибудь советскую республику, пардон: постсоветское государство, и наблюдает. Он ветеран игр, зачем ему навязывать себя. Его берут в руки только чтобы сфотографироваться. За все эти годы его измусолили. Его мех, выстриженный клочками, похож на географическую карту со множеством островов. Наверняка он ответно вспоминает тебя и надеется, что ты не стала парикмахершей.
Ютта из ГДР, с тонкой эластичной кожей и зелёными глазами, много лет возглавлявшая чарт-лист любимых кукол, живёт в Сибири, в Омске. Её похитила одна мстительная девочка, которая играла с сиротой. В Омске много хорошеньких девушек, лицом похожих на Ютту; большинство из них выходит замуж за благосостоятельных мужчин в стране и за границей, и не удивительно, что одну из них я, кажется, недавно видела в Цюрихе.
Пластмассовый волк, ухватистые лапы которого могли, например, при строительстве дома переносить кровлю и стены, хорошо годился как помощник в странствиях и переездах. Он вовсе не был таким злым, как волк из Ну, погоди! – был такой советский Том и Джерри, – а волк из мультфильма уже был не таким злым, как американский Том. Наш волк ходил в брюках-клёш и в тельняшке. Он был в принципе прототип берлинского хипстера – антипод культивированному, располагающему, прилежному зайчику-пионеру.
Мой волк вовсе не был тунеядцем и чаще всего ехал верхом на осле, причём осёл прыгал как собака. А теперь печальная весть: волк попал в костёр, вонь была ужасная, к счастью, направление ветра было благоприятным, и солёный бриз наводил на другие мысли. Это случилось, когда мальчики на улице пекли картошку. Кто-то толкнул его теперешнюю владелицу, и волк выскользнул у неё из рук. А может, целый дождь волков пролился в тот костёр. Дети сжигали свой старый хлам. Они бунтовали, жгли ради позы, в принципе не злые, не то что один панк в соседнем дворе, свернувший шею котёнку, которого мы прикармливали в кустах.
Кукла-пупс. Из-за своих сравнительно больших размеров и голубых глаз с хлупающими ресницами он играл мужскую партию для Ютты или других женских кукол. Его младенчески кривые ноги казались тебе несколько постыдными, но ему безупречно подходил матросский костюм от другой, менее любимой куклы. Служить на корабле и иметь кривые ноги – это сочеталось, ведь ему приходилось быстро взбираться на мачту. Он считался другом Ютты. Этот пупс никогда не играл роль младенца, которым был, и ты не понимала, почему другие девочки старались как можно чаще переодевать своих пластмассовых пупсов, а те притворялись мёртвыми: ведь их роль заканчивалась, как только их укладывали спать.
Матросская бескозырка – к твоему облегчению – скрывала младенческий пушок его причёски, ведь молодой человек представлял Черноморский флот. С таким великолепным парнем, могучим младенцем в униформе любая из историй, в какие попадала Ютта, кончалась хорошо. Теперь бедняга коротает жизнь как бэби-бэби в кукольной кроватке, а то и вовсе в памперсе. Лучше бы он остался другом Ютты и дослужился до адмирала. По крайней мере, он теперь совершеннолетний. Он в том возрасте, когда уже сам может иметь детей. Он огорчён, что ему не нужно преодолевать препятствия, спасая Ютту. В остальном он привык лежать, постоянно спит и апатично видит один и тот же кошмар, как новая владелица выкручивает ему руки и ноги и не может вставить их назад в туловище, а бюро по ремонту кукол, которое могло бы ей помочь, к сожалению, всё никак не откроется.
Пребывание остальных друзей является задачей разведки: мы пишем обоснование, почему нам необходимо получить доступ в самые тайные архивы ФСБ. Возможно, в деле обнаружатся друзья со всех этажей, фотографии и любовные письма моих родителей. История игрушек, ожившая.
Отъезд
Когда мы стояли на вокзале нашего города-героя и мой отец сказал, что вот этот поезд – наш, я нащёлкала снимков – своими тогда блестящими глазами без очков, в чудесно восприимчивый блок памяти, на будущее, впрок. Снимков-навеки, заключив этот альбом в глубину души, как и мой закрытый город. Возможно, я включила при этом подходящую к случаю внутреннюю музыку. Возможно, именно поэтому я с тех пор почти не фотографирую и не щёлкаю всё, что придётся, я слишком впечатлительна по отношению к снимкам – и по отношению к истории как таковой. «Тогда» не подлежит отображению, а то, что отображено, всегда показывает мне слишком много всякой каши, напрасно я присматриваюсь, прислушиваюсь, принюхиваюсь – и всё не могу рассказать ничего, приводящего к цели…
Я вспоминаю: блеск рельсов, лязг поезда, подъезжающего и отъезжающего; помню, что думала тогда о том, как мы только что выходили из нашей высотки будто семья, собравшаяся на пляж, и о том, как моя мать рискнула оглянуться. Я после неё тоже. Когда уходишь, оглянись. Чтобы потом не надеяться, будто ты что-то упустила.
Последний взгляд на мой первый дом показал мне маленького брата красивой Наташи с первого этажа. Этот двух – или трёхлетний малыш был единственным свидетелем нашего Исхода, и он, кажется, почувствовал, что мы едем не на пляж. Было десять часов утра, он играл в палисаднике у балкона, на котором Наташа обычно ждала своих мальчиков на мопеде. Он посмотрел на нас печально и задумчиво и помахал рукой и вовсе не казался больше маленьким ребёнком. Это и была картина, которую я видела на вокзале, таращась на рельсы, и которая всё ещё остро врезается в память.
По дороге к троллейбусной остановке мне приходилось поспевать за матерью, и я была поглощена узором зернистого асфальта. Вот тут я каталась на роликах неделю назад. Слева от «Бурика», нашего Буревестника, накануне вечером я играла в бадминтон. В последний вечер, как по молчаливому сговору, во дворе было очень много наших – будто все вышли, чтобы спастись от землетрясения. Среди них был и Олег, и Сергей с догом, и даже Игорь-пианист. Они сидели все трое на той лавке, на которой я сиживала с Олегом, пока солнце не садилось за Буревестник. Я щёлкнула на спуск.
Я невольно зафиксировала каждую щербинку на ступенях, каждую ямку в асфальте и моё знание, в каком месте в какую игру лучше играть. Сфотографировала сигнал "Game-Over" записала исходники, где-то падая в обморок, пресекая дыхание. Некоторые переходы похожи на края советских бордюрных камней: стой, упади или изобрети игру в прыгалки, которая сделает выщербленные края необходимыми. Я вас никогда не забуду, в этом я перед вами в долгу, мелочи, неважности и приятности, без которых мне никогда не удастся правильно выдохнуть. Но антиимперский императив независимости настигает, тот воздух просто прохвост. Даже когда у меня в ушах стоит какофонический гул, он скоро заводит пластинку, что надо развиваться, идти дальше, не стоять на месте – тем более, с теми же людьми. И так мои корни остались под серым асфальтом. Случись ещё одно землетрясение, они покажутся из-под земли.
Никто не знал тайну, я никому не сказала, что мы уезжаем – так хотели мои родители, хотели ради меня же. Как всегда, для детей – самое лучшее.
Мы стояли-стояли на троллейбусной остановке, а пришёл не тот троллейбус. Мы сели в такси до вокзала, второй раз за мою жизнь, и смотрели – из непривычного для меня ракурса – на привычно посверкивающие на солнце строения, зелень кустов, контурные пятна теней.
Поезд увёз нас сначала в Винницу, к деду с бабой с отцовской стороны, чтобы попрощаться с ними. Поехали мой отец, Константин и я. Мать отправилась к моему дяде в Москву, чтобы не ехать к свёкрам. Мы встретились с ней через пару недель в Москве. Старший брат оставался пока в Петербурге.
Но Константин почти не побыл в квартире дедов: он так исхудал, что попал в больницу, где его кормили искусственно. Моей обязанностью к этому времени стало гладить рубашки отца. На них был перевитый растительный узор. Я представляла себе, что эти джунгли выросли из растительности на рубашке Олега, и я пробиваюсь сквозь них утюгом как носом корабля сквозь заросли камыша.
Когда мы проезжали через Киев, поезд там стоял довольно долго. Купола церквей сверкали на зелёном холме. Эх, хороши монастыри, а ты лишь издали смотри. Из окон было видно, что надо обязательно выйти и осмотреть ещё многое другое. Сердце прыгало от радости, оно бы выскочило к истоку Руси, но улеглось на вагонную полку.
В Виннице отец взял меня с собой на рыбалку на ближнее озеро, причём я была захвачена врасплох: было четыре или пять часов утра, холодно, и я не знала, что мне делать. Как будто в очередной раз встаём с сонным Константином, чтобы вовремя занять очередь за литром молока в одни руки, а впоследствии со старшим братом, чтобы встать на учёт в берлинском отделе виз и регистрации на продление пребывания.
На рыбалке у отца случился приступ ярости, не помню, отчего, но виновата была всё равно я. Мысленно я много раз прыгала с лодки и наконец-то нащупала дно причины, уроки плавания не прекращаются никогда. Лодка чуть не опрокинулась. Как и впоследствии во время парусной прогулки по Ваннзее, когда мой старший брат только что получил права на судовождение, но ещё не нажил страха. Я уставилась на тихую, коварно неподвижную винницкую воду под непроницаемым торчащим камышом. Зеленовато-ледяное центрально-украинское озеро выглядело не блестяще. Сюрприз: мы не перевернулись. Я поймала карпа. Бабушка хвалила меня за улов, уха была вкусная. Она заказала сделать из серебряной ложки серьги и кольцо с голубым камнем – для меня, на память. И это несмотря на то, что дед, официальный Герой, осуждал всю акцию эмиграции и никогда не простил нам её.
Константин вернулся из больницы, мы поехали с ним и с отцом в столицу. В Москве мне все ноги покусали какие-то мутанты-комары, прокусив плотные колготки. Моя кожа ещё не была готова к этим бессовестным укусам насекомых, получившим перед этим свою дозу безумия в болоте на Болотной площади; кожа среагировала аллергически с настоящими шишками и царапинами. В Москву, в Москву – и вот мы в ней. Кульминация: разговоры о курах, за которыми здесь не надо стоять, о художественных музеях, среди которых много важных. С дополнением, что я ещё мала, что это пустая трата времени – брать меня с собой в Третьяковку (расположенную на Крымском валу) или в Пушкинский музей. Моё тело не приспосабливалось к непредсказуемому климату московского лета. Я стояла на Красной площади, порицая булыжную мостовую, по который не удалось бы покататься на роликах. Скоро я лежала больная на раскладушке в гостиной дяди Константина, проклиная все перемены.
В этой гостиной я ночевала двенадцать лет спустя на диване с будущим отцом моего ребёнка. Дядя Константин, забыв, видимо, о разнице во времени, ворвался к нам рано утром с вопросом, всё ли у вас, ребята, в порядке. Ещё одиннадцать лет спустя, будучи там в командировке, я скомандовала себе нанести дяде визит вежливости: он настаивал на этом и передал мне мёд для моей матери, к которой всегда питал терпкую симпатию. Со мной пришёл знакомый, как раз к прощальному ужину, так получилось. Дядя тут же принял его за моего молодого человека. Не успела я возразить, как он – коллекционер живописи – навязал мне картину. Я купила её и откупилась от него. Теперь исконно-русский зелёный пейзаж с рекой висит над моим кухонным столом. Он хорошо сочетается с букетом калл, который мой новый друг принёс к борщу и пельменям. Обстановка и мотив картины подыгрывают друг другу в своей монотонной гармонии.
Из Москвы в Берлин мы уезжали поездом – мать, Константин и я, – поездка длилась 36 часов, через тот же Можайск. Как дорогу, так и поле битвы в войне с Наполеоном покажет мне потом тот мой знакомый, сведущий в вопросах национальности, подробно всё прокомментирует, а сам исчезнет как подружка по каникулам.
Отец остался пока в Петербурге-Москве-Севастополе, чтобы «вытащить» моего старшего брата. Был панический страх перед произволом пограничников и вообще. Драгоценности матери я везла в голове моей куклы и в пакете молока на столике купе. На мне был спортивный костюм цвета мяты, в карманах брюк которого было по пачке купюр в долларах. Моей задачей было притвориться спящей, когда мы будем пересекать белорусскую границу или выжидать на ней – там нестерпимо долгий пограничный пункт, пока на вагонах часами меняют колёса для более узкой железной дороги в золотое будущее, метафорическое rites de passage.
Мой зелёный спортивный костюм, купленный на «туче», на нашем субботнем чёрном рынке. Кажется, он был ярче всей моей одежды до сих пор. Корабельный флаг Запада из Турции. Когда я надела его впервые, я была ещё маленькая и могла носить его свитер как короткое платье поверх колготок, а потом доросла и до того «выроста», на который он был куплен. В поезде он был суперским маскировочным костюмом, а в Германии – русским флагом, который ни в какие ворота не лез.
После того, как я переоделась в купе, молодой человек, который ехал на второй верхней полке, предложил расчесать мне волосы. Я отказалась. Он увязался за мной, когда я вышла из купе и направилась в туалет. Он выговаривал h в названии Ahrensfelde как «х», получалось А-хренс-фельде. Я не знала, что эта резкая приправа – ничто иное как хрен, который есть и в австрийском немецком. Я также не знала, как выглядит Россия, и часами, невзирая на опасность охреневшего соседа, глядела из коридора на пролетающие леса и поля. Я даже опустила окно, чтобы быть ближе к шуму колёс и леса. Своему ребёнку я бы не позволила этого, но на меня не обращал внимания никто, кроме извращенца. Мой бант улетел, волосы растрепались и реяли по неведомой средней полосе России, Белоруссии и Польши, этому поясу салоедов, туже затянувших пояс, gudbaj. Поезд стучал колёсами, потом застрочил немецкий язык, потом я заговорила на нём, ломаном, потом получила по нему отлично и много завистников. Позднее читала Под колесом, запустила школу, изобретала на альбоме DIN-A3 визуальную поэзию и обнаружила, что она уже была изобретена до меня.
Моему старшему брату отказали в документах, он не мог выехать, мы были оторваны друг от друга. Кто изучает медицину в военной академии, тот имеет свои обязательства перед отечеством. Мой отец чувствовал себя обязанным помочь сыну и застрял там в неизвестности и в нашем ответном неведении. Он пока не ведал о том, что Константин хотел удрать – в Большой Берлин, всё равно куда; что я шокировала детей в общежитии своими рассказами о презервативах, которые растут на кустах нашего райского полуострова, полного природных резерватов; и ни с кем не хотела играть: я ждала, когда мы наконец вернёмся из этой затянувшейся семейной экскурсии, которая уже затянулась петлёй. Но вместо возвращения продолжались подставы, пардон: сюрпризы, летние каникулы длились не три месяца, а ровно вполовину того и уже кончились, у ребёнка, каким я тогда уже не имела права быть, были не все дома. Я приняла решение бастовать и не изучать немецкий язык, я была сыта учением, у меня украли моё лето. Как минимум.
Факты: через месяц после нашего прибытия в общежитие в Аренсфельде к нам примкнул папа и чуть позже снова уехал назад из-за моего старшего брата. Тот переселился в Берлин лишь через год после нас. Благодаря непобиваемой пробивной силе отца он смог приехать, хотя и без бессрочного разрешения на пребывание, как у нас, и, как мне казалось, без радости, какую ожидали от него родители. Он жил с бабушкой в Севастополе и проводил операции по жизненным показаниям – он уже начал работать хирургом в городской больнице, и там у него завязался роман.
Когда надо, он сопровождает меня в больницу, помогает с переездами, выслушивает – мы с ним хорошо понимаем друг друга, независимо от того, сколько лет, сколько сотен километров разделяют нас, как редко мы видимся и как мало говорим. Мой бывалый брат небывалой крутизны.
Прибытие
Помню бесконечное сопротивление, которое никак не выводилось из закона Ома U=RI и о котором никто ничего не мог узнать: Вы хотите меня провести? Куда вы меня ведёте? Очень похоже грело вечернее солнце, почти такие же были высотки, шофёр такси (автобус от вокзала Аренсфельде больше не ходил, а мы не знали толком, куда нам ехать) почти без акцента говорил по-русски. Но это была уже Германия, Берлин, пригородная дыра, всё безвозвратно другое.
Дыра – это преувеличение. Казарма. Бундесвер предоставил на своей территории компактную трёхэтажную панельку с двухкомнатными квартирками для беженцев по квоте, как было обозначено на нашем разрешении на пребывание. Каждая квартира состояла из двух маленьких комнат, крохотной кухонной ниши без окна, ванной комнаты без окна, но зато с водой, последнее нас впечатлило. По комнате на семью, то есть мать, Константин и я в одной комнате, и девочка, у которой как раз была ветрянка, с родителями в соседней комнате.
Днём раз в час автобус в город. Многие за год находили себе какую-нибудь работу, чаще всего не по специальности, осваивали структуру Берлина, снимали квартиру в Шарлоттенбурге, если могли заплатить квартирным маклерам, а если нет, то находили квартиру в Марцане, близлежащем районе. Это делалось без маклеров и погружало в такую вязкую бессвязность с псевдо-нашей местностью, что уже скоро после прибытия я начала мечтать о берлинском доме старой постройки – такой исторической субстанции, которая так и просит, чтоб её заполнили книгами.
Я снова выросла из всех одёжек, только свитер от мятно-зелёного спортивного костюма ещё годился. Меня одевали во что-нибудь из гуманитарки. Мои ново-старые джинсы пахли ванилью. Мне не нравилось носить брюки, перепавшие мне не от одного из моих братьев, а имеющие свою собственную, неведомую историю. Тем более я рада была унаследовать пуловер, прошедший обычный путь от старшего брата ко мне через среднего брата. Был ещё свитер в разноцветную полоску который моя мать связала за несколько вечеров из шерсти от разных распущенных вещей. Я хотела его носить, я должна была его носить, моя мать говорила, что специально для этой вещи она освоила тёплую норвежскую вязку, и я находила, что его сине-бело-красные полосы очень хорошо сочетаются с моей джинсовой юбкой (тоже купленной на «туче», и она красила мне ноги в небесный цвет) и добротными советскими хлопчатобумажными колготками красного цвета. Вот только одна проблемка появилась: голова никак не проходила в горловину. Одёжка, тем более ценная за счёт перевоза в Германию, больше не представляла собой никакой ценности. Ничего не поделаешь – и никто не виноват.
Дети и подростки в бывшей гэдээровской школе ненавидели русский язык, Россию. Любые признаки советского и постсоветского, казалось, были непростительны.
Привезённый с собой оттуда ширпотреб тянул ребёнка на дно, и он смертельно боялся стать изгнанником. Слепой щенок в Берлине, где беспризорных кошек и собак не встретишь. Придём домой, выпьем липового чаю и ждём, когда уже кончится эта затяжная минута молчания. Да, пока я не забыла: вдруг сразу появилось много еды, но всё было липовое, этот апельсиновый сок, первая опустошённая баночка с неладным шоколадным кремом, длинные огурцы, вкус которых был также растянут на всю их длину. Белый хлеб, для которого ещё требовался тостер, и всё равно он потом не имел вкуса белого хлеба. А к нему плавленый сыр, каждая пластинка упакована отдельно. Ещё при обнюхивании этот продукт заключал с тобой пакт об истреблении: как он ни вреден и как ни противен, а должен оказаться у тебя в желудке.
Дитя утешалось тем, что пыталось быть ребёнком, хотя бы играть в это, играя. Упаковки, которых раньше у продуктов почти никогда не бывало, а теперь после каждого похода в магазин оставалась целая гора цветных коробок – их можно было использовать в качестве мебели для куклы-пончика, контрабандно спасшей наше золотишко. Этот добрый старый и вечно юный пластмассовый пупс всё понимал, всё прощал, голова у него без проблем отрывалась. Но детская игра не шла, больше ничего не шло. Ароматизированный пакет от апельсинового сока сходил за кухонный стол, обёртка от плитки шоколада шла на скатерть, из другого тетрапака складывалась кровать. Только все эти вещи стояли вокруг, ничего не говоря, никакая история вокруг них не разыгрывалась. Они вдохновляли самое большее на то, чтобы переодеть кукол и уложить их спать.
Всё это пахло провалом.
Временами я играла с одним мальчиком на его приставке в Супер-Марио. Если не отвлекаться, одолевала печаль. Вот есть же родители, которые балуют своих детей, хотя бы и киндер-сюрпризом, как родители Ани и его родители тоже. Мне хотелось, чтобы его родители меня удочерили. Они хотели, чтобы я приходила к ним каждый вечер. Он хотел дёргать меня за косы и целовать. А я хотела Супер-Марио.
Лист календаря перевернулся – огромный оранжевый цветок. Я сижу на кухне у моих родителей в Веддинге и хлебаю щавелевый суп. Мой отец и мой сын нарвали зелёных стеблей у клиники Bonnies Ranch, которую мы называем «парк с лошадками», чтобы не вводить малыша в соприкосновение со словами «нервная клиника». Мать только что сварила суп, и дочь заехала «заправиться».
Мать вдруг вспоминает, что у неё было платье с такими цветами, как на календаре. Очень длинное, она в этом платье ходила и на работу, в службу связи. Что с ним стало потом? Износила. Или оно стало мало? Жаль, оно так мило сидело. Его шила ей Алла Михайловна, очень удачно. Вообще-то Алла Михайловна была учительница математики, но когда они жили на Сахалине, ей там некому было преподавать. И она закончила курсы кройки и шитья и стала отличной портнихой. Не помню ли я розовую юбку, из такой воздушной ткани, с подходящей блузкой получался летний костюм. (Конечно помню, в этом наряде она вечно была в дурном расположении духа, потому что куда-то спешила). Это тоже от неё, она дала матери выкройку, и мать по ней тоже шила. И чёрное платье с цветами тоже сшила она.
В чёрном платье с цветами она бывала непривычно мягкой. Оно шло к её тёмным волосам. Платье скрашивало её кошмары, её первый месяц тревоги, когда она была одна с Константином и со мной – первый раз, когда они с отцом надолго разлучились, если не считать их добрачных заочных отношений Винница – Петербург. Круговая оборка вокруг выреза по моде поздних 70-х годов подчёркивала что-то мягкое в её глазах. В первое время в «хаймс», как мы называли казарму, она часто его надевала. То время быстро прошло. Я так и не поняла, почему она его выбросила.
Она сказала, что не понимает, почему упаковала именно те вещи, которые мы привезли сюда. По одному чемодану на каждого или меньше. Для меня не нашлось чемодана, если не считать сундучка для игрушек, сплетённого из пластмассовых прутков, расцветкой напоминающих тот вязаный свитер, в который не пролезала голова. Что осталось от почти пятидесяти лет, которые они провели на той планете, под теми платанами, в том порту? Поддельные импортные товары, – горевала мать. Полотенца вместо фарфоровой посуды. Нет бы прихватить ту сковородку, на которой получались тончайшие блины, так ведь взяла собрание сочинений Пушкина. Могла бы взять их здесь в библиотеке славистики при университете.
Кстати, в этой библиотеке над столами возвышается бюст Пушкина, а книги могут брать и нестуденты. Я иногда видела там отца, он целеустремлённо шагал к стеллажам. Из-за походки он казался мне прилежнее, чем я, сидящая – высиживающая время до следующей страницы. Отец не чувствовал моего взгляда и искал что-нибудь, что пришлось бы по вкусу его жене. Он и без электронного каталога и без тематических разделов находил то, что привлекало их обоих. Мне кажется, если я выдвину ящик в их комнате имени Анны Карениной, то увижу чертежи, найду шедевры механики и пойму, что он продолжает изобретать. По его словам, возможности механики далеко не исчерпаны, она до сих пор даёт вполне приличный КПД.
Он всегда что-нибудь мастерит, сколько я его помню, и всегда-то он занят. В Севастополе на вопрос, куда он спешит, твёрдое: «По делам». Он молниеносно одевается, накидывает серый пиджак, берёт папку. Теперь он говорит мне по телефону: сделай то-то и то-то, а я по делам на трамвай.
Быстрый, сильный и стильный. Запатентовал бы свои изобретения, да всё руки не доходят. Его дети своими вводными держат его на плаву. Вводные – это очевидные проблемки и очередные просьбы, не предполагающие отказа, и не всегда разрешимые задачи, в основном со стороны его проблемного сына, который хотел бы перешагнуть горизонт Веддинга – и податься хоть в Арабские Эмираты. Советы не помогают.
Если дела совсем плохи, его жена идёт в кабинет. Садится в кожаное кресло и читает Анну Каренину. Жёлтый том она притащила в Берлин вместе с серым Пушкиным. Потрёпанный Толстой означает ничто иное как невыносимую тяжесть бытия. Только я этого ещё не знаю, я вижу из лягушачьего ракурса её шершавые пятки на «гэдээровском» диване у двери на лоджию, над ними жёлтый прямоугольник, лицо утопает в книге. На войне за внимание толстый Толстой проглатывает всё, что могло бы поведать – мимикой или сочувствием – о дурном расположении духа моей матери, а может, там было и расположение к фигурному катанию? Говорю же, чтение – странная штука: демон оцепенения завладевал моими близкими, отнимал их у меня, оставив вместо них непроницаемые, нечитаемые маски.
Эта книга, должно быть, неисчерпаема, если моя мать до сих пор снимает её с полки. Я к ней не прикасалась никогда. Если понадобится, я ту Анну найду в библиотеке.
Утрата брата
Школа для всех нас была настолько важной, что Константин впервые сломался на плохой оценке по химии. Я притворилась спящей, когда отец ругал его за позорную контрольную, объяснял, обсуждал, но опоздал.
Его заклинило ещё там, в Крыму. Он поехал до конечной станции троллейбусной линии, ведущей далеко за пределы города – должно быть, самой длинной в мире. Можно было доехать до Ялты, если позволяли токосъёмники. Пропал без вести. Отсутствовал несколько дней. У меня была задача обыскать весь наш район, спрашивая людей, не видел ли его кто-нибудь. С тех пор он так и не вернулся – во всяком случае, таким, каким был раньше.
В странноприимном приюте под Берлином мать ждала мужа и своего старшего сына. Чтобы всё наладилось. Константин ждал, что теперь его жизнь по-настоящему начнётся. Мы боялись, а он был на подъёме. Нас он слушался меньше, чем отца. Зато мы убеждали его своей витиеватой женственностью. Ничем другим я не могу это объяснить. Мне было ещё десять, а ему уже девятнадцать. Он хотел обследовать город самостоятельно – без денег, без понятия, без рассудка, как говорили, но можно было взглянуть на это дело иначе: рассудка у него с избытком. Мы не знали, вернётся ли он, вечером автобус в наш пригород уже не ходил. Но был ещё не вечер, как обнадёживающе кричит Высоцкий капитану, чтоб остановить горе от ума. Сегодня я не знаю – может, мы и переборщили. Тогда речь шла о его спасении.
Автобус, которым едут из лесного А-хренс-фельде в Берлин, к счастью, так и не показался. Мать искала Константина на придомовой территории, а я нашла его за воротами казармы, на автобусной остановке. На нём была майка, хотя день был холодный. Я потела, я говорила с ним неподражаемым тоном, теплее африканского суховея. С его помощью отдаёшь всю нежность, что имеешь, ничего не требуя взамен – что за стратег, что за умный ребёнок, куда ты девался? В принципе я пела так, как я хотела бы, чтобы моя мать разговаривала со мной. Видно, тот Желток сел в жёлтый двухэтажный автобус и с тех пор блуждает по Берлину.
Константин вернулся. Когда я привела его в нашу комнатку, мать в восхищении увлекла меня в кухонную нишу: мол, какое я сокровище, мудрая, как прабабушка Соня (которую я совсем не помнила), настоящая умница. Я прислушивалась к её голосу. Мне впору было зареветь, потому что я внезапно поняла: мне никогда не удастся убедить папу и её вернуться отсюда домой.
И всё равно я не переставала ждать. Ведь я там даже ни с кем не простилась. Что подумает обо мне двор? И соседние дворы – надеюсь, они уже нашли себе другую умелицу сглаживать ссоры и равномерно бить по воланчику. Там ждал меня не только наш проспект. Излучение улицы доставало до нашего книжного стеллажа на седьмом этаже и доставало до родниковой пещерки за городом, за «тучей», куда мы с Константином ходили набирать заколдованную воду. Мы часто увлекались тропами рифмы настолько, что лишь дома вспоминали про чай из родниковой воды, за которой ходили потому, что у нас отключили воду вне плана отключений.
Константин то и дело куда-нибудь исчезал. И во время учёбы в Берлине тоже. Может быть, он искал троллейбус, в котором было бы уютно и можно было ехать «далёко, всё дальше от нашей земли». Когда он исчез надолго и забросил учёбу, ко мне пришёл отец с идеей: я могу писать по-немецки сочинения и официальные письма в инстанции, значит, я могла бы писать и рефераты за моего брата. Не вопрос, конечно могу, я и без того тестирую дженерики в различных жанрах и флиртую с изучаемым языком.
Воспоминание подсказывает, как однажды между сочинениями оно подслушало что-то мятежное и внесло в свой черновик:
«Запись тезисов, дискуссионная пьеса в прокламирующе-рекламирующей прозе, кусочек документа с пометкой о непризнании места жительства. Сколько ни рифмуй, она остаётся непонятной. Скольки ни ищи родины в языке, она уже слиняла. Привет от Гейне, он давно всё написал о невозможности Германии быть его родиной. Признайся и не зазнавайся, ты лишь заново изобретаешь твои ролики. Изворачиваешься, пойманная в лагерь – во времянку для беженцев экрана и никогда не заэкранируешься от радара вечного пионерлагеря.
Даже Гёте блистает слишком чисто. Онегин ещё выдерживал в качестве денди, а вот с Фаустом теперь всё. Из сегодняшнего взгляда на берлинское небо поэзия постыдна, так и навязывается на казнь. Буревестник без моря. При этом судьба-дыра окунула тебя в иностранный язык, в котором меньше возможностей для рифмования, чем в твоём родном. Там, во рву, в звериной клетке, среди возможностей и перед замком, искусство скалится и лает непринуждённо, без поводка».
Через три года в Германии ни акцента, ни ошибок посторонние не замечали. Мой немецкий, созданный из переводных английских и французских приключенческих книг, подражал окружающему немецкому языку – за исключением того предательского факта, что я слишком часто рассказывала о морских битвах и не говорила на берлинском диалекте. Сегодня я пишу с ошибками, всё иное кажется мне ошибочным: и пусть они тихонечко подкрадываются, я поглажу их по шерсти.
Может, я записалась на славистику для того, чтобы лично познакомиться с профессорами, с которыми в школьное время по случайности корреспондировала под именем брата – или во имя его. У одного из этих корифеев он провалил выпускной экзамен по литературоведению. У него же я позднее посещала семинар по Саше Соколову и писала о комизме шизофрении в Школе для дураков: исследовала следы того языкового мира, в котором пропадал мой брат, и, следовательно, сама заразилась. Так уж оно с чтением, оно ведёт лишь к недоразумениям; а письмо просто кричит вовне, без желания попасть в кого-то как такового.
Иногда я прошу этого пятиязычного гения о помощи в переводе – задание, для меня ещё сомнительнее и подозрительнее, чем чтение. Так мы взаимно поддерживаем наши высушенные субъектоскелеты, в поисках сути, в поисках вишни и персиков с настоящим вкусом. Так образовательные амбиции советской семьи приносят свои плоды. Большим кораблям – большое плавание, говорит он. И я привожу с собой на поездобаркасе шаланды, полные шоколадной кефали, в Веддинг для не евшего Вундеркинда.
В Берлине
Берлин, в первую очередь Восточный, мне был противен. Я знаю, я знаю. Я не смогла тогда среди отчаяния найти то очарование. Противень с блёклыми белыми булками на воде. На днях прокисшее молоко, было бы ты по-настоящему чёрным или белым. Но то фото было недо– и переосвещено, а наше стихотворение хотело всё же по-пионерски радостно звучать.
Свернувшееся содержимое молочного бидона, из которого не испечь ни блины, ни оладьи, ни сырники, потому что молоко было предварительно обработано, уже затянулось собственной историей. Так и должно быть, это наверняка вид политической субверсии и существенная составная часть чего-то очень классного – то, что русские не могут себе присвоить, может быть только хорошим. И вот они пришли! Даже если они уже не настоящие русские, здесь они таковыми станут. В первую очередь для осси они станут представителями Оси Зла, и – хотят они или нет – они становятся адресатами культурной макулатуры. Из неё они волей-неволей должны вытренировать мускулатуру, чтобы их не исшинковали в шредере.
Они провели свою жизнь в стране, которую они себе не выбирали. Из неё они не взяли с собой ничего в двух ГДР-овских чемоданах, коробке книг и нескольких жалобно-жалких детских вещах. Они повернулись к ней спиной и переехали в страну, какая нашлась, когда по причине нескольких предков вдруг получили небольшой выбор. Предков, которые ввиду антисемитизма в тех краях, где родились на свет – в Польше, Белоруссии, Украине, Туркменистане, – давно отмели всё, что могло их «выдать», и сами не придавали этому особого значения.
Обрыв наследования работает так успешно, что нет никакой семейной истории, которая передавалась бы из уст в уста (передавать – почти предать?), и, по идее, мне можно расслабиться: хватает других культурных обломков, в ту бочку мне лезть не стоит. Но стоит кому-то понадобиться – и вдруг я оказываюсь не та, что надо, и – чуешь или не чуешь историко-истерику вокруг – чужая, хоть тресни. Даже если думаешь, что едешь бронепоездом в правильном направлении да с верными, как я готова поверить, спутниками, и даже если вынуждена жить с тем, какими беспутными они могут оказаться. Хочу я того или нет, их сногсшибательные проекции опрокидывают меня в смолу, обваливают в перьях. Когда после этого я примеряю доспехи и наряд принцессы, то снова инсценирую в безмерно большом и распавшемся целом процесс любого подростка, будь он с краю, из Украины, или из середины мира русскости. Белая ворона имеет мало общего с раввинами.
Настигнутые приступом справедливости канцлера Коля, мои родители заново пересматривали своё прошлое, смеясь и ругаясь между собой: разом всплыло на поверхность, что теоретически оба – наполовину евреи, но практически это настолько и настолько долго не играло роли, что можно было заподозрить обоих в сокрытии правды друг от друга или в молчаливом согласии не будить спящую собаку. Индикатор советосемитизма: многонациональное государство превыше всего, но в квотах и анекдотах не на шутку одерживали верх славянские братские народы. В нашем случае след стигмы затруднял или препятствовал допущению к учёбе в университете. Не знаю, интересовались ли мои родители культурным следом. Возможно, этому было не время, и у них его не было. Главной задачей стало – собрать бумаги для заявления. Они говорили, что их предки перевернулись бы в гробу ввиду раскапывания корней: немецкое посольство хотело докопаться, сколько же в нас точно процентов еврейства, тогда как твои родители, как уже и их родители, оставили остатки ашке-сефардизма позади русско-советскости. Они ломали голову, как доказать – ввиду переписанных, потерянных и ненаписанных бумаг, – что они – если не в принципе, то хотя бы в сумме – в достаточной степени имеют еврейские корни для лучшего будущего их детей. Сокращённо лу-бу-де. Это блюдо мы подаём в Русскости под мелодию Ламбады круглый год – без проверки, что написано в графе «национальность».
Я прошла несколько кругов вокруг детского сада, размышляя над тем, что это значит – еврейство по документам, о котором никому ничего не говорить, ничего об этом не знать. Ничего не помогало, у меня не умещались в голове ритмы перемен. Оставалось единственной правдой: вокзалы, аэропорты, гавани – вот всё, за что могли ручаться граждане мира.
Мне было велено держать язык за зубами, я и держала, но не всегда, и к сожалению, к сожалению должна об этом запоздало пожалеть. Когда тебя расспрашивают, как и почему ты оказалась в хвалёной тевтонской стране, нет-нет да и скажешь, вместо того, чтобы ответить, что меня никто не спрашивал, а просто захватили с собой. Или приводишь этот бэкграунд в качестве защитного щита, чтоб отступились от своих предубеждений. В России отступаются, когда влюбляются, а в Германии минута молчания может затянуться навсегда, как и вера в то, что я религиозна, потому что некорректно считать еврейство чем-нибудь другим, чем верой. Наверное, политкорректно, что звонят колокола тревоги. А ещё вернее будет от греха герметично прикрыть этот слой, погружаясь в покой.
Я тревожусь за моё воспоминание, а оно подсказывает, что отец несколько раз ездил в Киев к некоему господину Шацу за подтверждением, что этнически мы достаточно состоятельны. Я слышала шутку, мол, немецкое посольство в духе возмещения вины воспользуется теми же доказательствами, какие действовали в Третьем Рейхе. Я рассмеялась, когда мои родители дали мне с собой при отъезде из Германии кой-какие документы, надёжно сберегаемые, в том числе два свидетельства о рождении. В одном в строке национальность стоит «русская», документ для внутренних дел. В другом национальность – еврейка. Мой первый загранпаспорт. Ирония судьбы, как говорят.
Ирония судьбы: мы часто ломимся в открытую дверь, испытывая при этом боль, но не знаем, какая из двух одинаковых дверей закрыта. Мои родители открыто говорили – и это поверх непременных детских обид всего важнее: они уехали не из-за своих предков, а ради своих детей. Мужественные матросы в военных клёшах, военно-морская семья с чёткой линией, и куда бы они ни курсировали, куда бы их ни буксировали, они придерживаются своего курса. Они верят в семью и в то, что за неё стоит бороться. Между тем я боюсь, что этот слом ещё аукнется нам, и мы взаимно сдвинем с места все наши координаты, зато последующие поколения смогут расслабленно сидеть на западно-восточном диване и продолжать то, что закрепилось у таких, как я: рисуешь свой восточный портрет совестливо и совместно со многими другими, которые, может, уже не молчат о предках из СССР и не трындят про берлинский мультикульти – то портрет тебя ведёт, то ты его, шаг за шагом, зигзаг за зигзагом. Выбор быстрейшего (вы)хода.
Недавно профессор, похвалив меня за мой немецкий, углубился в расспросы, почему моя семья не уехала в Израиль. Я сказала, что родители принимали решение по критерию культурной близости, а они чувствовали её сильнее к стране поэтов и мыслителей. К тому же моя мать не хотела изучать неевропейский язык и не хотела, чтобы её дочь служила в армии. А отец говорил, что он ведь родился в Потсдаме, почему бы ему не вернуться на историческую родину. И они смеялись. Культура – вопрос традиции, идентичность – дело самовольное. Отец прекрасно ориентируется в Берлине, даже среди перестроенных 90-х. Всякий раз, когда он легко находил нужную улицу и умело спрямлял путь, мы шутили: ну да, ты же местный, не то что мы.
Эти русские пришли в Берлин, победно, прежде всего благодаря истории. Бедные, голодные до жизни, они им овладели. Громадное желание: вобрать в себя серое небо, заглянуть за обшарпанные фасады, ощупать их на предмет следов Второй мировой войны и: пережить свободу (назовём так пакет переживаний, в духе самоисполненного пророческого извинения). Но эта слобода не далась мне в обладание, при всём желании. Блин-Берлин выскальзывал из рук, его нельзя было начинить ни сметаной, ни вареньем, не говоря уже об икре. Он не давал удержать себя в руках, он не имел запаха, который соблазнил бы на бесконечные усилия. Он выпрыгивал из горла как предательски раскатистое Р. Блин, что за прыжки через стену.
Нет чувства городской поверхности, её трещин и шрамов, её смелости и серости. Небо над Берлином красится пылью природных полотен сожаления, в цвета асфальта, бетона, бидонов, с которыми мы в прежней жизни рано утром становились в очередь за молоком. Никакого «я могу», иногда «я могла бы», но какое «могла бы», если даже молоко не имело вкуса молока. «Я» растекалось, в каждом районе оно пыталось дать себя чему-нибудь очаровать и впадало прямиком в причудливое экспрессионистское стихотворение.
И, напротив, этот город очень быстро стал городом моих родителей. Что-то во мне противилось – ещё и в соответствии с возрастом. Как ни жалко, мне казалось, везде вопиющая вонь, и вот жалко у пчёлки – хоть закрытые, хоть открытые двери. Открыты были как правило двери осси или детей осси, у которых был интерес к русским. Любопытство открывало двери, и чёрт знает что потом шумно хлопало ими, с отзвуком их репрессий, прямо в пылесос моего депрессионного полотна. Даём задний ход – обратно на палубу севастопо-лоджии.
Ложка льняного масла стимулирует пищеварение. Гип-гип, ура. Говорилось, город «в тренде», Пренцльберг – оплот искусства. Какой там оплот – аборт. Какая там гора, какие художники, а проникнуть в эту среду со стороны без настоящего по-диссидентски пахнущего прошлого и понять их так же невозможно, как интеллигентские круги, из которых питается фонд обучения немецкого народа. Да, интересно, между прочим, вывести художественную ауру из их сухопутных клёшей, а при случае из слегка прогорклых морщинок и порочности вокруг глаз. Но мне это ни о чём не говорило, и мне нечего было сказать. Я не располагала ни их историей, ни их словами, близость авторши и протагонистки приводила к неудержимому отчуждению. Ни адресатов, ни адресов. Мы переезжали, мы ладно научились складывать вещи, за один день из бывшего Восточного Берлина в запахший летом Западный Берлин. Через восемь трудных лет мы могли подавать заявление на гражданство, мы могли предъявить скромную жизнь без правонарушений. Все те оцепенелые годы в статусе «без гражданства». Непризнанный синоним бессловесных.
Я нацепила безакцентную и беспорочную маску немки, чтобы не выделяться в Марцане. Чтобы в парке по дороге в школу к тебе не приставал какой-нибудь носитель куртки бомбера, чтобы не быть побитой пьяным или обкуренным в том же парке (собственно, не парк, а протяжённый луг с болотом посредине), как это случилось с русским немцем из нашей школы, с тех пор вообще не говорящим; чтобы не грозили ножом средь бела дня в воскресенье, когда я «как раньше» хотела идти гулять, прерывая бездвижность и бесчувственность серо-коричневого бетона.
Перед этим я выпила какао, чувствовала себя сверхсытой и пресыщенной от скуки. Эта «уютность» очень опасна. Я подалась куда глаза глядят. Слева и справа тянулись панельные дома, дальше взгляд уходил на длинную и – хоть кричи – пустую улицу Рауля Валленберга, ведущую к станции Эс-бана. Впереди меня шёл мужчина, довольно медленно, я почти догнала его, но он немного ускорил шаг. Не помню, чтобы я уделила его фигуре какое-то внимание. Вдруг, когда я почти обогнала его, он развернулся, выхватил нож и спросил, почему я его преследую. Я попыталась объяснить, что я просто выгуливаю сама себя. Но мой словарный запас оказался недостаточным. Зато его – достаточным: «Сраные иностранцы. Ещё раз увижу – зарежу».
Кто бы мог подумать, это Германия в выходные в разгар питья кофе. Вообще-то, ничего же не случилось, не стоит обращать внимание, такая карма, звучит уже почти как корм… Виновата была всепоглощающая пустота. После этого я не могла успокоиться, я спрашивала себя, почему вокруг не было ни души: прогуляться, проветриться, наполнить себя свежим воздухом перед началом новой недели, ведь это, как-никак, одна из основных человеческих потребностей, даже основное право, чтобы не наступила ни ужасающая пространственная, ни душевная пустота. Естественнее всего после этого было бы идти в полицейский участок, а не молчать. В Цюрихе это далось бы мне легко, здесь у меня подруга полицейская, но, к счастью, здесь у меня нет досуга.
Тогда мы жили в 18-этажной высотке прямо перед Форумом досуга, в котором размещалась районная библиотека. Досуг у меня был, и даже в избытке. Я снова спрашивала у братьев, что мне почитать, и то, что из этого находила на полке, читала – в том числе Диккенса, Стивенсона, разумеется Агату Кристи и тома с наклейкой «Смешное». В моей словарной тетрадке выстраивались на корме и на носу, кренились и брали на абордаж списки устаревших и новых слов. Каждый день у меня появлялось хотя бы одно любимое слово. Querulant, сутяжник, продержалось дольше остальных. На школьных переменах я читала что-нибудь из Bravo и учила наизусть имя клавишника из Take That – алиби-ответ на вопрос, который постоянно занимал моих одноклассниц: кем я увлекаюсь. Несмотря на это, я бравурно попадала на шкалу популярности, будучи в школе одной из трёх иностранцев, кто проходил сквозь ячейки установленного сетчатого заграждения. Я хотела когда-нибудь стать текстовичкой для Круга друзей. Однажды я заказала на радио песню – теперь уж не вспомнить, какую. Началась анемия, у меня регулярно темнело перед глазами, я падала с ног.
Какой там социализм. Какие там братские страны. Какое там падение стены. Стены воздвигались всё выше, внутренний и внешний миры были напрочь отрезаны друг от друга. Меня преследовала идея порыться в телефонной книге и позвонить туда, на ту сторону. И что потом? Спросить детское имя и этаж проживания, зареветь, сказать, что скучаю, услышать, что мы позорно смылись, вовсе не «заре навстречу»? Интернет станет доступным лишь лет через десять. Этот Берлин не приживался во мне, а я в нём, мне было ещё одиноче, чем одной. Город казался мне голым, а сама я была – пара-нечто, не пришей кобыле хвост. Это состояние имело с тем миром лишь одно общее обстоятельство, на него обратила внимание моя мать: в Берлине, как и в Крыму, не нужна шуба – здесь хотя и неприветливые зимы, но не настоящие.
Мои родители и братья завидовали моему немецкому лепету («ребёнку это даётся легче»), а я им завидовала в том, что они в своих чемоданах и головах привезли с собой знание, помогающее им на бывшей территории войны ориентироваться на внутреннее умиротворение. Они узнавали здесь что-то знакомое. Война, оказывается, связывает. Им были интересны следы пуль на стенах, исторические процессы, Инвалиденштрассе, аура Штирлица, Семнадцать мгновений весны. Они как будто угодили в нужный фильм. Пара таких мгновений – и ты движешься уже иначе, можешь чего-то ждать от города, он заговорил с тобой.
Мне же был скучен этот музей под открытым небом, я никогда не была с историей «на ты». Иногда я неделями не произносила ни слова, спала по двенадцать часов, за партой клевала носом так же, как и в Пергамон-музее. Никакая новизна меня не трогала. Про меня говорили, что я выгляжу старше своих лет, серьёзная, вдумчивая – то есть ребёнок всё-таки присутствовал отчасти – со слишком совершенным немецким языком, который кому-то, может быть, о чём-то говорил; мне нет.
Мой немецкий я ре-оккупирую русским языком, и когда я буду великаном, я смогу себя переводить. Пока же это так: когда я считаю, что владею нем., он меня проводит, причём не в ту степь. Он играет со мной злые шутки: играет мне другую музыку, чем тем, кто меня слышит. Он – игрушка и одёжка, которая мне осталась, я успешно маскировалась им вплоть до замужества. Потом меня отбросило назад к тому, что он и я культурно несовместимы – муж выстрелил мне в ахиллесову пяту: он запрещал мне писать по-немецки («ты не носитель языка») и говорить по-русски с ребёнком («ты воспитаешь иностранца»). Себе он не позволял любовь (это «слишком»). Юмор был бессилен против этого. У него появился свой, наш общий смылся.
Несколько лет – дневник в стихах-ах-ах, без оглядки на потерю значения, без страха перед обретением обречённости. Вперёд и вверх к седьмому чувству-смыслу!
Но да, я одумываюсь и вспоминаю: хорошие оценки по всем предметам, кроме физкультуры и музыки, эдакие спасательные круги для родителей и для эго. В остальном заносчивая ассис-тётка, унесённая раздражающим потоком асси-миляции, в принципиальной и нелинейной зимней спячке. Несколько зим были отнюдь не мягкими. Ни одного мгновенья весны. Я мёрзла, отказывалась от мяса (а жареные куриные ноги прибегали на сковородку постоянно – как компенсация за всю перестроечную нехватку), пила чай и кофе, питалась шоколадом. Шок-glück-оза. Упоительные «поцелуи негра», хрустящие обезглавленные мавры, белая пена на губах. Имперская прогулка верхом по картинам импрессионистов в освоенном таким образом западном мире. Своеобразно стало ясно: в сладком нет ничего особенного, в понимании Запада. Именно это и вызывало шок: за продуктами нет никакой охоты, в изобилии избегают калорий. Всё должно быть сбалансировано и контролируемо, от близости до питания. Уже само слово «шок», казалось, было искусственным преувеличением – слишком притянутое сравнение, слишком подчёркнутое, слишком жирное.
Приют искусства и выбора мировоззрения предоставлял свободное место – при безбилетной езде, при рисовании чёрной краской, хотя и под разноцветной радугой. Беженец по квоте, чужой в стране чудес, турка среди турок следует сладкому следу – открыл для себя культурку и перекрыл доступ воздуха. Позднее моему сыну передалось нарушение дыхания, он сперва молча глядел на мир, с пуповиной вокруг шеи. Вдох глубокий, руки шире, не спешите, три-четыре – и он быстрее всех нас преодолел преграду, как и полагается юному поколению, с лукавой улыбкой пройдохи. Он прекрасно приспособился к этому миру и заодно воспитал меня: просунул-таки упрямую голову в свитер материнской вязки. Омолодил дедушку с бабушкой, наших молодцов. Мы заново научились вместе смеяться, даже над поговорками, которым его научил его отец, типа: «У тебя есть мать – тебе не голодать. Пока пеклось – годилось, потом не раскусилось». Вот так, сказал бедняк.
Блошиный рынок
Моя мать годами искала фарфоровую посуду на замену той, которую оставила. По тому сервизу – а он был визой её праздничного стола и кофейного утра – она ещё долго горевала. Вместе с чугунной сковородкой для блинов он стал фетишем её ностальгии. Посуда должна быть филигранной, с цветочным рисунком, золотой каёмкой, по-дрезденски, дездемонически – из оперы для дедушки и бабушки, спектакль за стеклом буфета.
На блошином рынке, куда мы ходили в выходные наших первых двух лет, чтобы собрать необходимые предметы для домашнего хозяйства, она разговорилась с женщиной из Польши. Я их не понимала, притом что говорили они на славянском наречии и хорошо понимали друг друга. Они улыбались, их разговор носил в себе что-то конспиративное. Я побоялась вникать. Они о чём-то условились, и через неделю мы опять отправились на тот блошиный рынок.
Женщина из Польши привезла в своём автомобиле несколько килограммов того, о чём они договорились. Я впервые задалась вопросом, как далеко или близко от Берлина до Польши и как далеко это кажется тому, кто ездит туда и обратно за рулём. Они тайком перегрузили товар из багажника в сумку, несколько килограммов! Мама достала из бумажника дойчемарки. Как в Греции, у нас всё есть – то была гречка, в здешних магазинах она тогда не продавалась. Купленная на чёрном рынке, она особенно вкусна. Прекрасный гарнир с названием Buchweizen, первый слог которого обозначает по-немецки книгу. И не с бухты-барахты мать так легко договорилась с продавщицей – оказалось, мама говорила по-украински, а та отвечала ей по-польски.
В Кракове, когда я пыталась изучать польский, эта сцена взаимопонимания над гречкой мотивировала меня не расслабляться с этим языком, полным «ложных друзей переводчика». Я нашла там и других друзей, не ложных: моя соседка по комнате провела детство в ГДР, её семья бежала в Западную Германию незадолго до 1989 года. Она решительно отвергла мой тезис, что жизнь в ГДР была бананово-сливочной по сравнению с моей провинцией Советского Союза вдали от двух метрополий, процветавших в том числе и за счёт польских товаров. Я перегрузила её моим детством, она воздвигла между нами оборонительную стену, но однажды утром эта стена рухнула – в шутку я назвала её за завтраком, который она поглощала с помидорами, коханье. Я до сих пор люблю её, помидоры и это слово. И мне нравится, что любовь приходит через желудок. Через фотографии у неё на кухне (разумеется, она готовит – kocht – отлично) и через вид из её окна в Нойкёльне я вновь полюбила Берлин. Первый взгляд не всегда решающий. Решает то обстоятельство, направлен ли он в перспективе на разделяющее или на связующее.
Моя мать включает в себя – среди прочих – этнолога, лингвиста, повариху, портниху, вязальщицу и одарённого оратора. Этнолог в ней интересует меня сейчас больше всего. В первые годы в Берлине она обнаруживала существенные различия, иногда анализировала их. А я не могла – долгие годы, которые длились вдвое-втрое больше, чем по календарю, – назвать вещи своими именами ни на каком языке. Тем охотнее я слушала её умозаключения, тогда как во многих других случаях мой слух переключался на шум морской раковины. Её наблюдения накапливались, это бросалось в глаза. Она могла их распознать и назвать, определить и сравнить – у неё была эта координатная сетка. В учёбе, в усилии наверстать упущенное и что-то глубокое в культурах, я поняла, что это возможно разве что с друзьями в застолье.
Слава богу, то внутренне-внешнее оцепенение, которое владело мной, рассеялось, когда мой старший брат, добрый доктор Айболит, подарил мне к 16-летию инлайнскейты. Десять лет, отделяющие их от севастопольских роликов, съежились в одно мгновение весеннего пробуждения. Теперь можно было брать Берлин на этих рокочущих танковых гусеницах, а броню души растанцевать в паре с Аней, моей сестринской подругой.
Мы познакомились с ней ещё в казарме для иностранцев в Аренсфельде. Аня входила в число тех, кого я запугивала историями, происходившими у моего доберлинского дома. Спустя четыре безутешных года в изгнании, после переезда в огромный и крайне урбанизированный район по имени Райникендорф я случайно попала в класс, где училась и она. Редкое совпадение, в школе было свыше тысячи учеников. Мы подружились, прогуливая уроки физкультуры, говорили между собой по-немецки, а мыслили обрусело: мы не имели понятия о концептуальном искусстве, но были настроены диссидентски по отношению к школе и собственной юности, с которой не знали, куда деваться, и решили проживать повседневность по-своему. Не думаю, чтобы кто-то понимал наши акции – вполне открытые, – кроме нас, да вообще осознавал их как таковые. Может, нам с Аней следовало бы вновь объединиться в наш маленький, но замечательный союзик и повиноваться нашей заговорщицки-клятвенной фразе «что-то становится скучно, давай придумаем что-нибудь».
Одной из рядовых акций, когда мы не были погружены в какой-нибудь проект, было сознательное заблуждение. Мы становились на инлайнскейты или садились на велосипеды – я научила Аню ездить на велосипеде на парковке супермаркета, после того, как научилась тому чудо-юдом самостоятельно, как и плаванию – и катались по Берлину или за его пределы, пока не оказывались в незнакомой местности. Мы считали себя достигшими цели, когда полностью теряли ориентацию, не знали, где находимся и куда нам двигаться, и чувствовали себя настоящими авантюристками. Проголодавшись, мы спрашивали у прохожих, где ближайший вокзал или остановка автобуса. Всегда где-то что-нибудь ходило, или там висела карта. Целиком от цивилизации не оторваться, но если нам удавалось сделать это хотя бы на короткое время, Аня смеялась долго и громко, вовлекая в око своего смеховихря и меня.
В какой-то момент она приняла евангелическое крещение, читала Билию на всех старых языках, пела красивым АББА-голосом в церковном хоре и эмигрировала в Израиль к дедушке после большого несчастья в их семье. А до того, как потерять связь, мы вышучивали задавак-мальчишек: писали им любовные письма от имени якобы обожающих их семиклассниц, назначали свидания сразу нескольким задавакам: им недоумение, нам потеха; мы придумывали имена и адреса, уводящие в никуда, чтобы заставить их задуматься о тщеславии (они гордились успехом у девушек), и наблюдали их одиночество из дальней засады. Мы устраивали состязания в метании банановой кожуры через голову назад, переодевались в турчанок при помощи платков и длинных юбок, проверяя на своём теле узкие границы толерантности в районе Белого озера на однородном – по крайней мере, тогда – северо-востоке Берлина, пока к нам не пристал настоящий турок.
Мы рисовали шаржи на учителей на полях наших школьных тетрадей (Аня отлично рисовала), пускали на уроках – учителя в гимназии часто опаздывали или вообще не появлялись – в ход анекдоты, записки и карточные игры. Из года в год упорно писали картины для школьных выставок. Поклялись в вечной дружбе, скрепив клятву договором, запертым в синей ячейке в холле перед залом искусства. Паролем было слово: Tanzania. Так называется в Русскости изумительное банановое мороженое.
То, что тогда моя мать зорко примечала, теперь уже не бросается ей в глаза, например, что многие здесь ездят на велосипедах даже в 70 и 80 лет. Время от времени она повторяла с облегчением, что здесь можно работать – да хоть бы и уборщицей, – с заработанными деньгами пойти в магазин и купить себе что захочется, не прилагая к деньгам ещё и знакомства. Наконец-то она не чувствовала себя униженной, покупая мясо.
Но я думаю, всё же унизительно, что ни её образование, ни профессиональный опыт здесь не признавались и трудовые книжки полетели в макулатуру. Она считалась в Германии необученной, как и отец. Как чувствуешь себя – после более чем двадцати лет профессионального опыта, ответственности, порядочности? На это они бы ответили в один голос: про это они давно забыли, ведь переехали они ради детей. Мне кажется, мои родители всё-таки стали берлинцами.
Как в кроссворде, мать обнаруживала в русском языке слова, которые выводились из немецкого. Она находила лингвистическую радость в разоблачённом эклектизме нашей привычной лексики, но и в немецком языке тоже, в другом произношении и неожиданных оттенках, которые возникали из ассоциативных комбинаций. Мы на ходу производили шутки обиходного языка. Достаточно взглянуть, к примеру, на последние четыре буквы слова Bundesrat, федеральный совет. Увидев однажды Йошку Фишера в музее, она крикнула моему отцу, чтобы он взглянул: «Смотри же, Фишка!»
В какой-то момент она начала меня коллективировать. Перестала говорить обо мне как обо мне. Речь моей матери относилась только к «нам», её детям во множественном числе. Касается что-то одного из моих братьев – «мои дети». Касается что-то одной меня – «мои дети». Они натворили что-то, а я отвечай. И наверняка наоборот. Из детей что-то должно получиться, гласил девиз. Мы тянем вас за уши по жизни. Вы идёте своим путём. Вы громоздите катастрофы одну за другой. Мы вами гордимся. Ну вы даёте! Вот это наши дети! И шуба женщине всё-таки нужна, иначе ничего не добьёшься. Подумайте о средстве против моли.
Так в Берлине возник особый жанр, который нужно было бы проверить на соответствие поэтическим причитаньям. Мне следовало бы объявить причитанья моей матери предметом исследования и изучать этот феномен на дистанции. Постсоветские причитанья в их эмоциональной выразительной силе – между обвинениями и орнаментальным повествовательным узором.
Понимание того, что мои родители – подлинные герои Советского Союза с дополнительными отличиями героев Перестройки и послеповоротного сёрфинга на волнах волнений и воли. Невзирая на минимальный рацион, чтобы не сказать кастрацию симпатии, невзирая на все преграды, они мастерски преодолели нагрузки распавшегося Советского Союза и целые орды органов сросшейся Германии. Награждаем их за мастерские прыжки в резинку. За меткое попадание гранат их деяний. За основные гарантии существования, с карантином для фонтанов произвола.
В одной квази-коллективной акции я попыталась поддаться давлению ожидаемых благодарностей. Выразилась. Акция закончилась, теперь я далеко, на ярмарке тщеславия, на блошином рынке культурных магазинов фарфора, среди сезонной распродажи. Жажда деятельности выдавила меня. Я причаливаю в одном приемлемом порту. Снова учусь, что такое гулять: фланировать, вспоминать времена с Аней, уступать основное настроение ветру и воде, на отрезке предопределённого морского, пардон: озёрного пути, ради десяти минут восторга спрыгивать по гулким сходням к Красной фабрике.
Продолжительное отчуждение ощущается как свежевыстиранная рубашка – каждый день заново накрахмаленная, вперёд и вверх. Так тело катится на вело мимо Афродиты к Бельвью. На мифическом пирсе оно позволяет зачаровать себя и метафоризируется в курьера радостных вестей. Часть лодок жёлтые, часть синие. Штанги мачт пропорционально разделяют живокартину и жизненно важную порцию я прихватываю по пути, ведущем вдоль дома искусств. Каким бы серым ни было небо, в течение дня оно изменится. Поверхность озера отразит его с другим свечением, густота красок разбавится, отлакирует воду и воздух – первый взгляд требует повторения. Фрагмент картины сдвигается с одной стороны озера к другой с каждым нажатием на педали, с каждым поворотом головы направо к мерцающему лодочно-горному пейзажу, который не требует фиксирующего средства. Гид Перестройки в каждом мгновении, нонстоп. Гид Перестройки – таким будет название моей выставки, обозначение любимого блюда, и его же будут носить суда. Будь это хоть цюрихский суд, карающий близорукость, подавляя аппетит увидеть больше.
Я отвергаю уже упомянутое коллективирование и, хочешь не хочешь, также радикализм антисоветского мышления. Он устарел в отношении распавшегося и переругавшегося Востока. Мой-то зрелый Советский Союз ещё квохтал над утопическим остатком счастья. Я могу дискриминировать его, удостоить удостоверением. Прописать: немного украиноведения? Так или иначе, я больше ничего не знаю о Востоке – хотела бы его увидеть, разнюхать его, сочинить этажи репортажей, и – что поделать, профессиональная болезнь – понять, что происходит со страной и людьми.
От предвидимых упрёков я бегу через Польшу и Белоруссию на Урал, оттуда следую по мажорному следу в Туркменистан, из Ташауза в Винницу, подписываюсь на службу в военно-морском флоте, согласившись переместиться на кончик ромба полуострова, который будто показывает кому-то язык, мой тяжёлый якорь – спасённый русский язык. Становлюсь сухой, становлюсь полной. Что касается идеологии: моментальные снимки не работают ни на распад Советского Союза, ни на его реставрацию. По воле случая он затих. Не будем его поминать, чтобы он – как живой демон – не занимал наш дух.
Что мы за актёры, что за фигуры, в какой констелляции, в какой конституции? Кто наши герои, и каковы наши подвиги? Когда мы имели дело с настоящим делом, а когда с дискурсивной проституцией? Вначале жратва, потом мораль. Куда ни посмотришь, конфликт интересов. Вместе мы сильны, а вместе быть особенно хорошо, когда смеёшься не один. Подражаемы: независимость, исконность, подлинность. В пафосных образах и пантомимическом бреде. Боюсь, мой юг отныне заминирован.
Минуточку, разве мы не учили вот только что: больше уже не бывает никаких значений правды, есть лишь её назначение, нарративы, сконструированные выбором и комбинированием, сдвинутые и взбалмошные векторы значений? Простите, я слишком всерьёз принимаю всё, что мне говорят. Вывороченные частицы и важно заряженные атомы дают объединяющие энергии, интенсивнее всего в идеологической идиотии войны. С обеих сторон на свой лад, но по структуре сходны до неразличимости. В медиальной войне и в войне на восточном фронте, которую мы отсюда воспринимаем лишь как медиальную. Не из них ли состоит восточно-европейский край – из сломов, перекосов и чересполосиц?
На тарелке – салат. Если на нём проставлен знак качества «годен для аллергиков Русскости», мы перемелем полезную сырую пищу. Острота соуса обжигает нам язык и назидательно тюкающие пальцы. Она стирает наши этюды, location of culture inbetween уже не в моде. Она теперь чётко локализируется, причём на нашей стороне.
Желудок говорит: моя еда – что надо, а твоя – лишь бестолковая бравада.
Можете ругаться и смеяться, но я хотела бы понять поляков, русских и украинцев в их новом национальном бытии. Я хотела бы говорить с ними так, чтобы мы все заметили, как приятно понимать друг друга, вместо того, чтоб подстраиваться под понимание со стороны Запада или вместо того, чтобы закапсулироваться в качестве не-европейцев, лепя свои национальные ушки-пельмени – вареники.
Ясно, каждый варит свой собственный супчик, но как отличить украинский борщ от русского? А что там, кстати, поляки – бледнеют, краснеют, чувствуют ли себя отражением Украины? Строгие попытки предъявить свою аутентичную культурно-историческую языковую кашу и оборонять её как неповторимое национальное блюдо заваривают отторжение.
Я хотела держаться в стороне, я хотела стать математиком, а то и вовсе информатиком – но нет, лучше с информацией дела не иметь. Однако я всегда готова восстанавливать и создавать, к примеру, новый язык, который сводится к включению стручков паприки или чили, готова к жизни рядом и внутри друг друга, к блинчикам и пончикам миро-радости. Невозможно больше делить на адекватное и неадекватное, хотя я и часто слышу это слово по-украински и по-русски. Они все рано или поздно заворачиваются в вату на тех местах, где слишком ломко, проницаемо, прозрачно. Ватники тоже едят с удовольствием укр. вареники или польск. pierogi ruskie, кому что больше нравится.
Пацифизм начинается не над Pazifik, а здесь и сейчас, в языке, в нашей речи. Я фантазирую, а что мне ещё остаётся ввиду того, что там происходит: J'accuse, «я обвиняю», что мы участвуем в риторике, которую продолжает плести советология холодной войны. Что с её помощью возводят культурно-интеллектуально обоснованные крепости, из которых в гражданское население стреляют лоббисты, наёмники олигархов, зэки и художники. Это достаточно подло, достаточно стрелять, достаточно принимать решения поверх голов. Зло демонстративно названо, мы в курсе. Отпустите нас, мы выбросим белые флаги: спросим, чего хотят люди, и посмотрим, какие ответы они на это найдут. Даёшь решения вместо решительных лозунгов!
Дорогой Дед Мороз, я хотела бы тому убежищу для иностранцев, в который превратился Советский Союз, не-агрессивной риторики и политической тонкой моторики. Раньше там ласкательные слова фантастически танцевали ритмическую спортивную гимнастику, и их не пригвождали тотчас как слишком романтичные, чувствительные или слишком резкие; выразить столько форм, доброту и дружбу при всём различии бэкграунда – это же не только моё посттравматическое заражение. (Салат Остальгия, ностальгия по Восточной Германии, разумеется, уже представлен на крымской странице меню Русскости). Напомни же им, наконец, о том, что они уже однажды поняли друг друга и понимали, что важно, а что менее, и, заодно, напомни им о том, что больше нет добряков в мире, кроме тебя, дорогой Дед Мороз. Зато есть равная несправедливость для всех.
Их язык, прошу тебя, не должен крутиться только вокруг моего-твоего, нашего-вашего, раньше-сегодня, чёрного-белого. Здесь и сейчас, в литературе и в разговоре о ней, на фейсбуке и в газете. Я капаю воск в уши, когда сирены просветительской работы поют с репрезентативной претензией. Украина не Россия, а Курков – новый Андрухович… Я моментально замешу тесто, усиленно выварю несказанные остатки забвения. Поляризировать легко, люди, слишком легко, и безвкусно как в отношении Польши, в отношении Югоусталости, в отношении переездов. Там – прочь, здесь – сдохни, и тут – не мир.
Моё Я и моё Мы для меня одинаково равные заместители. Я не хотела бы ничего и никого представлять, я хотела бы ответить всеми своими шрамами и красками за нехватку правильных и ложных исторических ходов, культур воспоминания, за нехватку стратегического разделения и исторической справедливости, пусть это и назовут самонадеянным.
Ничто – ни в биографиях моих родителей, ни в биографиях моих дедов – не было неуязвимо безупречным, и ничто нельзя назвать чистым событием – без интерпретации, без оценки, без зашкаливающего контекста. Едва ли можно хоть о чём-то вспомнить непротиворечиво, нет ни справедливого ОК, ни порядка подлежащего и сказуемого, ни внесубъективной оценивающей инстанции. Даже если мы и дальше будем рихтовать, корректное – дефектно. Оно смазывает колёса машины убеждения и предметов веры, но и торчит внутри них. Да, надо на этом стоять, надо уметь различать Гулаг и кулак. Я снимаю шляпу, когда историки, могильщики культурных войн, подступаются к этой экспертизе трупов. Но мы не можем все стать историками, чтобы копаться в аргументах и фактах мировой истории.
Я хотела бы сказать моему инфант – Я: ступай по тому следу, который ведёт туда, где сердце. Душа не ходит вообще, я знаю, поэтому: иррациональный компас социализации и имажинации позволит тебе почувствовать себя причастным, будь то место или неместо, Эдем или подземка, географически близкое или по времени далёкое – причём не обезвреживая гигиенически те ёмкости, которые размечают названия мест. Для этого не хватит никаких запасов уксуса бывших советских республик, а из душа вода никак не пойдёт.
Когда я ем, я глух и нем, а когда я нема, я сыта. Я не хочу, чтобы кто-то вцеплялся зубами в суждения, пусть раж-рагу культурной ярости, на мой взгляд, перебродит, пока не размягчится. Я беру под мою ответственность все счета, аллергии и непереносимости и отбрасываю их. Я не хочу ничего более прочного, чем текущая вода, и воды много, на все дни и порты.
Блин, Бахтин, теперь начистоту и напрямоту, иди-ка сюда с полки в практическую жизнь, мы должны распутать узлы «культурных отношений» и починить героические фигурки с легендарными историями вокруг них! Давай будем культивировать в коллективной акции конкретную риторику диалога, практической полифонии. Культура и знание, где вопросительные знаки семенят за мячиками, где понятия в качестве рабочих определений скрещивают руки на груди, а претензии на высказывания, ожидающие ответов, – не больше и не меньше как тезисы, предстоящие к обсуждению.
Пляска вокруг международной толерантности утомляет, остаётся экспериментом и не кончается. Тут мне приходит на ум одна геройская история моего отца: работнику немецкого посольства в Киеве, который добивался от него подтверждения этничности или как там это называется, на повторный вопрос, кто же он, отец ответил: «Китаец, разве вы не видите? Я китаец!»
На вопрос о моём происхождении я отвечала жителям Восточного Берлина, что мой отец родился в Потсдаме; западноберлинцам – что не владею восточно-берлинским диалектом; а русским – что из Севастополя. И только швейцарцам я перечисляю мои бывшие места хронологически, не наталкиваясь на убийственную иерархию, кого какой волной сюда прибило.
Я продолжаю эксперимент, он кажется мне подходящим для данного фотомомента, хотя и выхолащивает меня до пустоты: в Москве вдова А. Зиновьева дала мне совет быть только русской – и тогда у меня всё сложится хорошо с русско-украинским молодым человеком, которому она заменяет мать. Теперь украинцам я разрешаю записывать меня в их анналы как немецкоязычную украинскую изгнанницу. Берлинцам можно на худой конец считать меня берлинкой, ибо, несмотря ни на что, я люблю этот город – издали – как бывшего мужа, с которым находишь общий язык после того, как простила ему всё жестокое. А швейцарцам можно либо выдворить меня как инкомпатибельную несочетантку (интересно бы знать, куда), либо оставить как актантку ради защиты многообразия видов.
У меня нет патентованного рецепта, но я бы предпочла, чтобы писатели и идейные просители, здешние и тамошние – эти переменные заполняются востоком и западом или севером и югом, – вместе бы ели и пили вместо того, чтобы рассказывать западноевропейской публике, что Советский Союз – знак равенства – Россия есть откатившийся на обочину негодный рубль. И так дальше. Да, дальше, шагайте, перешагивайте. Если мы не хотим войны, нам следует говорить друг с другом по-другому и вообще именно друг с другом, а не кивать между собой, поддакивая, что вон те, мол, так ужасны, и не двигаться же нам в их сторону с трона нашего всезнающего постороннего взгляда.
Может, с минимальной акробатикой, не сильно прогибаясь, тыкать пальцем не только на агрессию России, но и на вербальное, латентное, стратегически-ракетное насилие тех, кто упрекает Россию в культурно мотивированном насилии. Нажать на тревожную кнопку, без атомной бомбы, и идти дальше, торить тропу, если уж не строить мосты. Давайте сядем на пенёк, съедим пирожок. На лоджии, на веранде, полной веры. При желании сходим в баню. Уютно выпьем турецкого кофе, неприлично хорошо попируем, с водкой и закуской – в Russkostbar – в баре Русскостъ, где присутствует немецкое kostbar – бесценный. Для тостов соорудим Speakers' Corner, как в Гайд-парке. А после бани – на паркет. Вальс-мазурка.
Следовало бы договориться о программе праздника, который всем по вкусу. Если праздник, то и ритуал, трапеза, повторяемая трапеза поминовения, то есть памятник, в рамках которого можно сообща подумать, с общим интересом и с пищей для всех. Формат, который может быть перформативным, а если что-то не пойдёт, пусть – для проформы. Потом всё равно состоится, не оборвёшь тот разговор, он привязан к постоянству праздника – здесь и сейчас, а не изворачиваясь на бумаге. Если нужно, со временем можно и ритуал подправить. Края расположены к переменам.
А если подпустили в ухо блоху с дурными слухами, крепитесь, ешьте путятину. Набирайтесь сил, чтоб взяться сообща за мирное будущее, в котором ваши дети будут хорошо питаться и жить в тепле. Дайте газу! Я слышу базарные крики, громче карканья. Пожалуйте на Зехсен-лойтен у Оперы перед озером, от малышей до дедушек и бабушек, омытых красно-золотыми облаками, оттенённых горными грядами над смолистым озером.
Трижды постучать по дереву
Почему не вытанцовывается уравновешенный семейный роман, в который можно было бы уютно погрузиться? Почему я не на дружеской ноге с увлекательным плотом? Плотина, эта скотина, ускользает, гонит свою волну на Днепре, на Волге, гонит вал Чёрного и Средиземного морей, Цюрихского и Женевского озёр и вообще творит безобразия. Не получается чему-то подражать, притворяться, пробуждать к той жизни. Или я не смею. Что-то варится само по себе, что-то неоново-зелёное кипит в ново-налаженном glück-озном счастье, что-то копошится, прыгает с потомством и растёт, поскольку в него посажено. Рано или поздно оно снова постучится в дверь: ничто уже не будет таким, как раньше. Оно станет другим, когда настанет время показывать идентифиги, когда ему придётся проредить своё портфолио и отстранить меня в целях эмансипации и тому подобного. В любом случае я стану прекрасной бабушкой, так я для себя решила. Так же, как мои родители с их внуком заключили пакт о компенсации («на тебя у нас не было времени, а для него сейчас есть») и заключили его в сердце со всей нежностью.
Я запускаю плоский камешек по ряби Зиль-реки и считаю, сколько раз он коснётся на лету поверхности воды. Я вяжу полосатый шарф. Камешки не простые, и шарф – не для удушья. Я выдаю обломки стены – не хочу, чтобы они угодили в музей. Упражнение в нецелесообразном постсоветском импрессионизме.
Личные терзания – нечто относительное. Всё индивидуальное однажды видится постыдным. Точно так же, как специально селективные нац. истории и фиктивные нарративы. Такие музеи скрытых тайн иногда держат публику за дураков, а себя мнят просветителями. Нет, спасибо, здесь шлагбаум закрывается. Выставка в крайнем случае пройдёт в лабиринте виллы, с опорами балконов в виде колоссальных эротических женских колонн у парадного входа, античный облик. С долгими периодами закрытия в целях обновления.
В Maison de haute écriture в каждой комнате стоит мольберт. Посетители могут писать экспонаты музея и записывать мои эскизы, пуантилистски, с понтом, с точко-запятой. Anything goes – всякий приветствуется и волен уйти. Верхняя надпись гласит: Семантический лифтинг постмодерна. По ту сторону добра и зла. Памятуя блокады, растворяйте их за спиной, в вашем спинном мозгу, в ваших извилинах и внутривенностях Читайте Блока, слушайте New Kids On The Block, обойдите квартал, ведите блог. Носите с собой блокнот и caran d'ache. Он выручит из любой нужды. Вносите записи, троеточие после каждой. Не забывайте делать опыты; они держатся дольше, чем фоты.
Мой сын, который понимает меня, как дельфин, настаивает на том, чтобы вместе посмотреть фильм: Звёздные войны. И предлагает, чтобы мы играли в этот фильм. Мне можно быть принцессой, а он – он победит Дарта Вейдера, как полагается герою нового поколения. Точка, всё, представление окончено.
У меня нет ощущения миссии, есть ощущение проблемы. Иногда потребность в повторении. Иногда любопытство: что думают люди в Москве, в Петербурге, в Омске, в Томске, и да, что на том опять полузабытом полуострове, который отрезается с погодных карт Европы? Что для них важно? Что происходит сейчас, с чем нам придётся иметь дело или не иметь ничего общего? Простите мне сугубо русский вопрос, но если бы мы хотели вмешаться иначе, чем Россия, то – что делать? Ведь само по себе в порядке, когда хочется навести порядок, только это – дело домохозяек и хозяев дома.
Мы катаемся с горок озеленённых и застроенных историй, мы читаем наши газетные мнения, мы на стороне добра. Нас информируют беженцы с Золотого Берега, импортированные авторы, которые наловчились впрессовывать свои тексты в нашу прессу и говорить нам своими словами то, что мы хотим слышать, со щепоткой переживательной и поверхностной экзотики. Мы мним себя в корректном многоголосии, слушаем многие голоса тех, кто выстраивает свою музыку-поэтику-энергетику по нашим ожиданиям и берёт нас тем, что уже отточили во время SU. Это ОК. Лучше, чем нокаут, и так возникает некое МЫ, по англ. US. Это Мы полностью с нами! Добрая старая Европа прыгает на задних лапках, когда перед ней маячит колбаса демократии. Или сама Европа машет кому-то? Своим рынкам сбыта и зонам влияния? Лодкам с беженцами?
Занимайся физкультурой, и всё будет не так плохо. Прошлое, современность воспоминаний. Аттрактивные атрибуты, культо-явные этикетки. Такелаж каждого актуального положения громоздится в ещё никогда не пробованное блюдо. Или в то, с ароматом которого ты вырос. Оно заключает тебя в исходную клетку утоляет тоску по истокам и принадлежности. Попробуй, с острым или без. Вкусно или нет, вот и всё.
Можно быть готовым убедить себя, что нечто полезно или неполезно. Рано или поздно кто-то публикует исследование, которое говорит против этого и за что-то другое. Дело вкуса. Тут уж нам Бурдьё наворотил дел – аромат расслабления, узнаваемости, ритуальной причастности историческому, уплотнённому выбором слов артефакту: это всегда будет съедено за милую душу, а человек есть то, что он ест. Из засады настораживающий запах изгнания, бескрайней дали и похищенного времени. Аромат объединяющей ностальгии – ладно, все дороги ведут мимо лакомства и в Рим.
Переписанные школьные учебники лежат на книгах с кулинарными рецептами моей матери. Из кухни – запахи, которые ты во флакончике всю свою жизнь будешь иметь при себе. Они иррационально программируют тебя геномами добра и зла и снабжают жиром жизненного смысла. Скажи мне, какой твой родной язык (позвольте, первый или второй?), и я скажу тебе, какое у тебя – но не обязательно у меня – любимое блюдо. Где бы мы ни очутились, это мы уже видели по вдохновляющему краху Йозефа Бойса в Крыму, можно только промахнуться – и лечь то более, то менее удобно. Блюдо выносит приговор: сам виноват. Если оно тебе невкусно, значит, ты выбрал что-то не своё.
Бывает нечто вроде очень личного значения, параноидальное поляроидное фото, внутри пустоты и её политизированной крёстной матери, тяготения. Мне следовало держать либо кино-хлопушку перед камерой, либо язык за зубами: это встало у меня на пути, и я стою перед этим намерением, этим измерением, этим пороком. Он заслоняет мне вид, этот подлесок, и я вырезаю из него матрёшек.
Поиск скуки, нового социального положения. На двух ногах – независимо от того, идёшь ли ты вверх или вниз. В растянуто-долгое, невесомое космонавтское время, с конструктором «Космос», зелёное, как коровье пастбище, с договорённостями о встречах на солнечных восходах и тучных закатах. Там не извлекаются корни с яснейшими формулами. Там царит противоположность королевы драм, противоположность разделённости до фрагментов, и Лакан – лакуна.
Нет спрятанных фотографий, архив бывшего КГБ отсылает меня к государственному литературному архиву и там я попадаю в тупик. Я фотографирую сама, но эти снимки ничего мне не говорят, у нас нет семейного альбома, которым мы могли бы отбиваться в драке, мы безоружны и устремлены в будущее, закалённые и весомые, как ленинская указующая железная рука. Чем старше я становлюсь, тем чаще я фиксирую, что у каждого свой дефект, как говаривала мне моя математическая подруга в неуклюжем возрасте пятнадцати лет. Пубертатность реальности не кончается ни у кого. Зафиксируем идеей фикс идиллическую картину.
Тысячу раз начинаем и тысячу раз прекращаем. Тысячу раз дотрагиваемся и ничего не чувствуем. Слишком много чувствуем, ничего и никого не трогаем, не касаемся ни одной клавиши, не жмём, никого не осчастливливаем, не берём в руки никакую кисть, не стыдимся никакого полуострова.
Предоставь буквам их ход, фразам, рубленым, мясному фаршу с луком, благородной начинке для пельменей. Не так уж это было тяжело, ты пережила, сообщи про свои щи да кашу другим нашим, пусть просветлеют их лица. Не держи всё при себе. Эгоистично. Всегда думаешь только о себе, а не о месте. Город. Другие, которые могли бы с твоей помощью посетить этот город при чтении.
Говорили, Севастополь закрытый город. Запертый, запретный. Я не находила это трагичным. Меньше туристов. Меньше машущих жизнерадостных пенсионеров из страны, которая была как марка качественных костюмов и приборов для домашнего хозяйства. ГДР была нашим Западом, полным фокусов, которые ещё надо было достать из цилиндра.
Тоже кое-что для меню: ментальный туризм. ГДР-овские отпускники, которые могли бы посетить твой город, но не могли, они уже раритетны, частично дементны, а то и вымерли. Много их быть не могло, их только казалось много, потому что им не надо было ехать в школу на троллейбусе, их возили по городу без всяких обязанностей, и они осматривали тебя/меня и твой/мой троллейбус из окон своих туристических автобусов. Вот так выглядит ещё-пока-советская школьница, в тёмно-синем форменном платье, с двумя красными бантами в косах и в сине-красной непромокаемой мальчишьей куртке. Я была местная. Показать вам аборигенские обычаи? Налить чаю? Будь то приверженность славному прошлому или привычка трижды стучать по дереву, «чтобы всё сложилось хорошо».
Расписания маршрутов
Как это было по Фергану Броделю, природно-пространственные условия предопределяют человеческие действия. Точно так же, как бурдьёвская модель габитуса. Триада: деньги, друзья и рассудок – или оливки, вино и пшеница. Крымская триада – персики, гречка и квас. Идею méditeranée фея превращает в дорожную еду карадаг. Вот – итальянская любовь, турецкая чернота и зловещая мара – в Библии это напиток, в славянской мифологии женский образ. Наш коктейль «Мара» в Русскости – очистительный и оздоровительный, на лимонной основе.
Радостный, всегда молодой голос моей матери зовёт на кухню – на блюдечке с золотой каёмочкой последний в этом сезоне помидор.
Собрание предложений по приготовлению. Объединение рецептов. Вот и получается: рецепция.
Недавно я раздумывала, не поехать ли на год-другой в Киев. Это было за пару лет до Майдана, и тогда город захватил меня своей неполитической весной. Он устремлялся вверх и вдаль, на удивление удачный Inbetween между Москвой и Берлином. Урбанический, тюрбанный, динамичный, славно славянский. Цветущие парки, горячие пары, подкатывающие к университету лимузины, лимонадные девушки, болтающие о своих дачах и задачках дамы, пригодная погода. Прямой поезд в Крым. Если вагон ждёт уже наготове, может, и хватит отваги. Приготовиться в Киеве к тому личному, недоделанному, внутрисубъективному делу. Твёрдо заглянуть ему в глаза, как цыганке, что подкралась к моему столу, за которым я читала про Карпаты со стаканом кваса. Только я глянула на неё, как она сказала, словно приоткрывая тайну, что я непокорная, неуловимая. Что мой Дима или Сергей не сможет меня удержать.
Нанизывай сушёные абрикосы на длинную нитку извилистого «Вост. Духа». Натягивай летнее платье и езжай в Севастополь. Ведь он тебя тянет. Шлифую мой заржавевший русский язык – хотелось бы собрать прозрачный, как стакан водки, набор слов, подходящий телефонный код, правильное ударение и произношение. Я запасаюсь туфлями на высоком каблуке и губной помадой. План был изначально романтический: взять с собой к моему тамошнему месту преступления моего тогдашнего Mister Big. Ввести его не только в петербургский текст моих родителей – где он мог спокойно оставаться призрачным, – а привезти в ту автономную область, чтобы сплавиться в огне эмоций. Разделить высоту ожиданий от взрослого возвращения и глубину разочарований из-за перемен детского мира.
Тот ОН понял бы меня. Он бы тоже умел считывать с асфальта игру, аромат и атмосферу. Словно с монитора, он бы прочёл те священно-уютные дни, которые прошли, и те, что прошли над границей Винница-Севасто-полярной станции. И тогда, на вершине всего, появился бы читатель, который понял бы этот текст, покинутый всеми смыслочувствами, нет: обыгранный их сердечными шутками. Единение через общий опыт. В панораме вездесущей бухты, могущественно рогатого троллейбуса, бабушек как на картинке, заколдованного дома бабушки. Кулисы, предпосылки, обес-патологизированное, я имею в виду избавленное от пафоса присутствие исторического гула, диорамы, тотального воспоминания, будь то национальная или фикциональная, коллективная или индивидуальная драма.
Прекрати даже думать об этом. Повторное проигрывание прошлого функционирует иначе, чем у диджеев.
Катайся на лыжах, пусть тебя чему-нибудь обучит тот студент, который в каникулы даёт уроки сноуборда. Ходи пешком, шлифуй себя о концепцию экскурсий выходного дня. Устрой что-то разумное из своей жизни, воспитывай ребёнка, кончай с этим попустительством или начни Laissez-faire, вот именно, освежи свой французский.
Мы собирались поехать вместе с Ф. Она мне объяснила, что понимают под левизной западные немцы поколения её родителей, которые издавали самый левый из всех левых журналов: это начинается с защищённости в отдельном домике на одну семью или в собственной квартире, с ежегодного летнего и зимнего отпусков и кашемировых пуловеров. С того, что эти родители финансировали её – в её тогдашние лет тридцать пять.
Она распространяла вокруг себя безграничное, почти американское дружелюбие, предупредительность, вежливость. Пока возле меня не оказался чилиперцовый аспирант, она была тем, кто незаметно тебя обрабатывает, приближает, принимает. Вкрадчиво, ползуче. Ты даже принялась носить кашемировый пуловер, розовый, но это как-то не привилось. Несмотря на самые отборные доказательства любви, друг друга мы не понимали.
Моя муза, спасение, лучшая подруга времён государственной библиотеки, когда мы зависали над зелёными столами в естественнонаучном читальном зале. Я предложила Ф. поездку в Крым, как делают брачное предложение. Как и многим друзьям. И ведь все они сказали да, я могла бы устроить гарем. Но люди приходят и уходят, а Годо так и не появился. Ничего не происходит, сначала обрывается контакт, потом происходит слишком многое – и всё не то. Из Берлина больше не ходит поезд в Крым, меня больше не тянет в Киев. Целый роман можно было бы написать из этих неисполненных намерений. Много было воодушевлённых глаз, ответов, утверждений. Контракты доверия, надежды на нечаемое. Начатки профессиональных начинателей.
Среди прочего я планировала поездку с одним австралийцем, которому не терпелось увидеть как можно больше Европы. А ещё с подругой, с которой мы хотели таким образом вознаградить себя за наш завершённый проект. The big after. Это так и осталось в задах. Потенциальная осада Севастополя потенциальными друзьями и подругами.
Даже бывший муж хотел со мной поехать. Пришлось отказаться общим пакетом от этой тщеты, как от прочитанной книги. Тема всплыла, когда он не напрямую завёл речь о том, что Восток есть нечто дикое и что я родом из степи. Нет, степь находится как раз у вас, ледник разгладил твой Мек-Пом, вдавил в нижне-немецкий диалект, тогда как в Крыму есть средиземноморски гористое побережье. Степь, опьянившую Чехова в его почтовой карете, я никогда не ведала. Может, мы и проезжали её на поезде, когда покидали нашу маленькую ферму. Может, моя мать как раз в тот момент распаковывала копчёную курицу, так что всё моё внимание было устремлено на неё.
Через ту местность проходит не только эстетическая ось мира, как гласит Крымский клуб (Сид, привет!), но и аксиологическая. И хочешь не хочешь, заточишься ли ты в башню из слоновой кости, а скорее всего в бетонный бункер по имени наука, или будешь с боем брать в Русскости по воскресеньям экспрессивный танец, а по понедельникам сессии живописи: тебе из клуба никуда не деться.
Романтика поездки на поезде. Эта глава показывает сепаратистские тенденции. Но после Жадана тут нечего добавить. Мне не перекрыть его отменные отрывки впечатлений от его поездки по Восточной Украине. По Крыму я не разъезжала, насильственные поездки в санаторий или на Северную не в счёт, так же, как к топографии игр не относится чердак, на который тебя волок мужчина, приставивший в лифте нож к горлу.
Моя романтика (повторение – мать учения) состояла в том, чтоб никуда не ехать и не носить дурацкие бантики, а вместо этого или быть под акацией, на заборе, или пешком пойти в новый квартал, знакомиться там с менее знакомыми детьми, на велосипеде въезжать на холм, который на роликах ощущался совсем иначе, удирать от мальчишек с дурными намерениями, а самую скользкую картонку в качестве ледянки до следующего раза припрятывать в подъезде под лестницей. Снова активировать, чтобы не потерять её из виду.
В уродливом великом, в распавшемся целом витает этот дух, как НЛО. То есть можно было бы полететь туда. На венике, на собственный риск, ученик волшебника ничего не испортит и читателя с собой прихватит.
Мои родители назвали бы это сумасшествием. Не знаю. Они никогда туда так и не поехали.
Я разыскала бы папиного коллегу и жила бы в гараже, который сама красила зелёным. На тебя там нападут и всё такое. Одной тебе туда не надо ехать. И даже если вдвоём, тоже могут напасть и всё такое. Просто беда. Так действительность становится фантазией. Выпьем за это, лечебный курс, настойка на рану. Мне вспомнилось, как я болела, у меня было воспаление во рту. Приходилось полоскать и булькать. Уважительная причина молчать.
Ученье, впитанное с молоком матери, незадолго до конца лактации: твой родной город ввергнет тебя в ужас, если ты туда поедешь. Какой там родной порт, там скорее приют для соискателей статуса беженца, накопитель беженцев, расистское проклятие, набегающий с узкого горизонта вал – подныривай под воду, иначе получишь от неё удар. В уроках плавания это означало поднырнуть, выдохнуть в воду и сигать вперёд, независимо от температуры и волнения.
Многое потеряно, многое обретено. То, что было раньше многим, с каждым годом уменьшается в отношении к нарастающему прошлому. Нелепо, смешно, безрассудно – безумно, волшебно. Лабиринтовидное заблуждение. Ошибка – проронить хотя бы слово о выброшенном за борт месте, да даже букву о сигнальном жезле морского флота. Маринированные рыбки воспоминаний. Не бывает скучного детства, не бывает детства долгого. Больше так не делай. Каждый ребёнок отрывается от своих игрушек, как и от родителей и от постаревших мечтаний о будущем. От овсяной каши и от порта, от бухты, которую не возьмёшь с собой, и от проглотивших тебя книг, от миров всемирной литературы, от первой любви и от последующих. Тут действует принцип волны, приветствия и прощания, усвоенный на уроках немецкого. Привет и пока, хой и чао, причём последнее означает и то, и другое. Жизнь редко имеет вкус дунайской волны и иногда имеет сходство с перманентной завивкой, закрученной от солнечной соли на черноморском берегу.
Моё миндальное дерево
На каждом углу подстерегают флэшбэки. Они выпрыгивают на тебя, как акулы из бассейна. Лучи света преломляются на зелени акации и белизне цветов, падают на морщинистый ствол дерева и спрашивают, как дела.
Из озера выныривает Несси.
Ты обжигаешься о сияющее будущее, натыкаешься на углы думающих голов, и жизнь обламывает тебе рога. Пионеров больше нет, ценится неразрывность. Соседний город называется Констанц. Старый город никогда не был разрушен. Ты, лишённая истории инопланетянка, блуждаешь на дороге вокруг озера в твоей прожитой выдумке – она твой велошлем, твоё принцессинское платье, твой лазерный меч. Империя впечатлений побеждает, не забывать и о плоскостях Сезанна и кубистическом кубике Рубика.
Неожиданно, как высокое волнение на озере, накатывает катастрофа: на подиумной дискуссии, где ты, согласно программе, являешься соведущей, тебе нельзя сказать своё слово. Оно может оказаться критическим. Здесь мы срезаем путь и попадаем на поворотный пункт. В то утро тебе говорят в руководстве университета, что ты такая-сякая немка, которой всё вынь да положь, потом ты сидишь в одном ряду с украинскими авторами и чувствуешь себя с ними заодно, вопреки неловкости от национальной картечи, и испытываешь стыд за других. А непосредственно перед этим ты доводишь свою коллегу до белого каления, когда отвечаешь на её вопрос, за ты или против того, что Крым принадлежит России. После этого ты всё своё самообладание топишь в бокале вина, а язык засовываешь в сэндвич с сыром, пока тебе никто не предложил, а почему бы тебе не уехать в Израиль или в США, и пока никто не сказал, что Западной Украине было бы лучше всего примкнуть к польской Галиции.
Ещё кто-то советует выпить водки. И ещё кто-то: лучше помолчать и прогнуться. Скурвиться.
Тебе и разговаривать не надо на первом родном языке, ты и без него ныряешь в южный свет твоей России, погружаешься в него и обжигаешься: слои пространства по имени Раньше прорисовываются сквозь другие ландшафтные зрелища, мерцают насквозь до самой грунтовки. Ты смотришь туда перед тем, как утешительно сменить этот угол зрения, скрошить его в салат и поставить на нём крест – швейцарский белый крест на красном фоне.
Я обвиняю: ещё до того, как мир обратил негодующий взор на обычно лишь тебе привычный ромб полуострова на юго-востоке, ты годами глушила своё любопытство к тому, что происходило на этом клочке внутренней геомертии в последние двадцать лет. Потребность поехать туда ты давила в зародыше. Вместо этого ты много просаживала на еду, просиживала лекции и выступления, набирала разбег, слушая чужие впечатления, – нет чтоб составить картину на месте. Вместо того, чтобы удрать, ты била по клавишам, вещая миру, что бухте Цюриха не требуются потопленные корабли. Улетают твои призрачные суда, через порт Омега и бухту Балаклавы. Баба Клава, она же Афродита, приветствует нас с мифического причала.
Из лекций тебе больше всего запомнились выступления Юрия Андруховича. Он собирал полные залы в литературной мастерской и в Сенатском зале университета Гумбольдта. Почтенные профессора германистики почтили его и себя своим присутствием; у одного из них я писала работу о Die Ballade vom Baikalsee Герда Руге.
Украинский национальный автор постоянно возвращался к цифре 2017. Украина со своей революцией, возрождением и родами, с послеродовыми болями ещё до родовых схваток – всё важное в ней подчиняется ритму в 13 лет, поэтому он так предвкушает 2017 год. Тогда российский Черноморский флот уйдёт из Севастополя, и Крым будет продан. – И тогда я отделаюсь от своей прилипчивой переводной картинки, да? Расскажи нам ещё о поездке по Днепру, Дунаю или Дону. Да что там, рассказывай что хочешь, я больше не рассчитываю на будущее.
В десять лет я подорвалась на троллейбусной остановке, уезжая оттуда, и с тех пор блуждаю по минным полям. Вместо пути мастерю руководство, сопровождение. По другой версии: в семь лет. Числа не имеют смысла. То время – да, вот оно имеет смысл. Вдобавок к батону-плетёнке – сплетённое счастье, свихнувшееся на свежем воздухе ветреное дитя. Послушная девочка с седьмого этажа, которая знает о размножении всё, что могли ей рассказать и сочинить старшие подружки. Бабушки, что сидят перед домом, наблюдают, всё видят и потом информируют родителей в лифте, что их мальчики были ещё примерными, а вот дочка – другое дело. Она даже лазает по деревьям!
Ещё как. у меня было любимое дерево – грецкий орех, и ещё более любимое – миндальное. На обоих я устраивала трон, удобное ложе в развилке ветвей. Лазая по деревьям, я многое узнала о гармонии произведений искусства и строительства, да что там – о людях. Некоторые стволы раздваивались слишком высоко, туда не доберёшься, как ни старайся, а другие слишком низко, слишком рано, не хватало вызова, и в этом случае я даже не взбиралась, а как бы всходила туда. Но миндаль с его махагоновыми разводами был то что надо, ни большой, ни маленький, он светился полированно и надёжно. Ветки тонкие, развилины филигранные, но жилистые, как строительный кран, и приёмистые. Дерево, удобное, как матросская одежда. Как будто дизайнер специально подогнал это дерзкое сиденье к детскому телу и обоюдному росту. Ноги свисали, спина опиралась, миндальные орехи были горьковато-сладкими на вкус. Мы с Наташей с первого этажа облюбовали этот пост для наблюдения и отступления, чтобы без помех болтать, не попадаясь на глаза ни бабушкам на скамейке, ни пацанам на мопеде.
Девочка. Если бы не было юбки, то кто знает. Жизнь на улице шла вприпляс, и о том, что я девочка, я вспоминала лишь тогда, когда становилось ясно, что бегаю я медленно, из армрестлинга выбываю немедленно, а зимой ношу красные сапожки, как существо из сказки. Про это чирикали птицы на крышах, на которые мы, кстати, никогда не посягали, хотя с балкона седьмого этажа я видела людей, расхаживающих по крышам окрестных пятиэтажек. Какие-то квартиры мне казались подозрительными, я не знала никого оттуда, но могла смотреть в окна – иногда часами, когда погода позволяла подолгу сидеть на наблюдательном посту.
Сидеть. Мы проводили на улице столько времени, что важно было и отдохнуть. Ограда детского сада перед нашим домом предоставляла самую центральную и самую социальную возможность посидеть. Мы сидели рядком – как куры на насесте – на нашем выкрашенном в синий цвет шезлонге из железных прутков под застеклёнными лоджиями фасада. Динамика сцены была такова: рано или поздно кто-нибудь вставал перед другими и модерировал беседу или, не найдя на заборе хорошего места, устраивался внизу. На заборе приходилось держаться, чтобы не упасть. Искусство незаметно удерживать баланс между шуткой и дерзостью, чтобы не спасовать перед блистательным вызовом, внятным товарищам и неразборчиво-безобидным для взрослых наблюдательниц из ложи.
С забором, с моим горизонтальным миндальным ложем связана история того летнего дня, когда девочка от смеха потеряла равновесие. Правда, упала она не навзничь, не в берёзовый лесок детского сада, почва которого была на глубине нескольких метров. А упала ничком, на асфальт, но с высоты метра в полтора. Из носа пошла кровь. Дома, куда она добралась с Катиной помощью, мать верным средством остановила кровь. Кончай реветь! Вот будешь рожать – узнаешь, что такое настоящая боль!
Севас-того
Я прикупила себе в Нойкёльне школьный ранец, он давно поглядывал на меня с витрины недреманными оком двух красных светоотражателей. Район с самоуправлением, честно говоря, ещё и район собственноручно созданных торговых марок – это компенсирует многие изъяны, и доставляет удовольствие в нём пропадать, как тогда на велосипедах, на инлайнскейтах и на чердаках, ещё не перестроенных в пентхаусы, в Панкове и Шарлоттенбурге, беспутно болтаясь до глубокой ночи. Время в старших классах развевалось как просторная майка с надписью СССР баскетбол, которую мой старший брат носил в баскетбольной команде его и моей первой школы и которая добралась в бордовом ГДР-овском чемодане из Севастополя аж до Цюриха, вместе с серым советским феном и синим «Малым атласом» большого мира. Фен и до сих пор работает безупречно, а вот атлас – с упрёками, упираясь в стены новых границ.
Но назад к левому Берлину. Место нашей генерации – не дегенеративное ли? Мы: хитрые, бледные, страдающие от экзистенциальных страхов, не представляли себе ни другое состояние, ни другой город. При этом генерация растяжима, простирается от 25 до 55, в зависимости от тренированности мускулов и социального возраста.
Большинство моих подруг и друзей сохраняют верность Берлину – как неославянофилы верность модной Москве. Их повседневность пронизана обычными и необычными, ненужными и неизбежными заботами. Они страдают от долгих маршрутов, бастующих транспортников, растущей стоимости аренды, цен на газ и состязания их смузи в экологичности. Они выходят к телебашне на демонстрации за улучшение мира. И это хорошо. Берлин больше не бедный, бедны староберлинцы. Никто из моих друзей не находит это особо привлекательным. Про «Happy End» мы читаем пока только на принте туалетной бумаги.
Я предлагаю ввести столичную надбавку в фирмах и общественных заведениях и скидку на подоходный налог. Эксплуатация замрёт, если ты сам не согласишься на бедность. Не ударим лицом в грязь. Давайте работать над своими возможностями, протест – да поострее. Учредить полиморфность в реальности. В центре города, у чекпойнта Чарли выясним, что будет, если псевдоработа, практика и PR-волонтёрство останутся незаняты. Займите несколько общественных зданий, почему бы и не русские памятники (в Трептове, Шёнхольце и напротив Тиргартена), при случае и оба музея Союзников (в Целендорфе и Карлсхорсте), объединимся с ними в изгоев в стране экономического чуда.
Мои краткие отлучки из дома позволяют мне испытать лишь пару ощущений в парках и мансардах, где после слишком обильных обжиманий у меня может пойти кругом голова. Но вы-то, вы могли бы переосмыслить город по-новому. В отблеске имиджа, который пока ещё есть, мы могли бы заложить новую ось Берлин-Цюрих-Вена, по дуге реки Шпрее. Логотип на странице Шарлоттен-града в меню Русскости: Nasch Berlintschik!
Разминировать дис-крыминирование. Крым-минимирование. Ecriture cremature, Crimature, torture de la creature. Как Форрест Гамп, забегать в кондитерские «Шпрюнгли», поглощать печенье «люксембургер». Будтье осторожны, пропаганда ломится в двери: я стою на стороне людей desire, дезертиров реальности, я вписываюсь за десерт, за крымский торт: le gâteau – bateau avec la crème de la Crimé.
«He ходите, дети, в Африку гулять». А долгоиграющие дети тем охотнее гуляют по запретным площадям, которые выпадают из мест их карьеры. Они давно уже туда не вхожи, они вышли из моды, в обносках своей памяти. В этом смысле у Севастополя есть социалистический брат, с сегодняшней точки зрения слегка асоциальный: Тогоштрассе в Берлине, в самых глубоких джунглях Западного Веддинга.
Моя деловая подруга П. – ещё со школьных времён – вдруг рассказывает о своём детстве на Тогоштрассе. Она приехала из своего голландского института математики навестить родных. В последнюю неделю старого года мы выпиваем с ней в пивной на углу в Веддинге. Мы местные, и нам есть о чём поговорить и за пределами местных популярных ресторанов. Мы не верим, что нам уже за тридцать.
Пивная пена её воспоминаний – это она и её сестра, одни с работающей матерью, обе девочки красивые, подраставшие без присмотра и без надзора в холодноватом доме старинной постройки. Соответствующая среда: чужие бебиситтеры, анорексичные тётки, жирные собаки, много мальчиков. Однажды вечером она оказалась запертой в морозилке супермаркета. Пару раз ездила в Базель к кузену делать радиозапись и ещё что-то незабываемое впервые. Голландские деды, времена нацизма, переезды, банковский счёт в Швейцарии, наследство, из обычных прекариев поднялись в верхние слои среднего класса Берлина. Это мы и празднуем, это заслужила её мать, прекрасная писательница, а я праздную превращение молчаливой П. в разговорчивую женщину, которая тоже не отходит от своего детства дальше, чем это необходимо для выживания на прекрасном Западе.
Мы ещё никогда не испытывали такой близости друг к другу, как в этот момент, когда отложили в сторону наши академические шапочки. Воссоединение благодаря прыжку во времена распада 1990-х годов. Нас, понаехавших, это бессознательно подпитывало: наше надпролетарское происхождение, зацементированное в протестантском пролетарском городе. Добро пожаловать в гильдию невоспитуемых. Нас подгоняло и прибило друг к другу опытом ладить с поколением наших перегруженных равнодушных родителей. В школе мы часто сидели рядом, до последнего класса. То на математике, то на рисовании. Мы часто проводили в долгих разговорах эти два академических часа – она в своей стабильной логике, а я неуклюже-ассоциативно, но мы двигались в одном направлении: она к хорошему аттестату, а я прочь из Берлина. Теперь нам подходит один и тот же размер плетёного пляжного кресла, раз уж наши пути пересеклись в городе школьного детства, и мы прокурили в кафе Бюргерпарк несколько часов, как это бывало и раньше.
Её Тогоштрассе отличает её от голландцев с добропорядочным буржуазным детством. Как немке за границей, ей бросаются в глаза различия, по которым и в Швейцарии сразу отличишь немецкий дух. Тем самым для меня, тогдашней чужой, её Тогоштрассе по-домашнему подплывает к Севастополю. Эта улица – её персональный остров сокровищ, и специально для П. он светит маяком как буддистский храм, неподалёку от скалы, с которой и сама я прыгаю в море. Мне кажется, что я в несколько сажёнок доплыву до берега, где мы с П. поставили свои плетёные кресла. Она будет, как всегда, курить и считать, а я буду составлять ей компанию, пассивно-импрессивно.
Только теперь, когда мы расслабляемся в Берлине, я узнаю, что было для неё важным все эти годы и чего в Амстердаме она никому не может толком рассказать, потому что там это никому не знакомо, несмотря на тамошнюю свободу с наркотиками: курить с одиннадцати, подрабатывая в кафе у Али, найдя в лице Али замену отцу, который говорит ей, когда идти домой и от каких мальчиков ей следует держаться подальше, в летнем лагере для детей Моабита и Веддинга познакомиться с первой любовью – девочкой, первым наркодилером, смотреть Alice im Wunderland под ЛСД, травку тоже курить, быть первой по математике, хотя всегда самой младшей, потому что в школу пошла на год раньше. В пандан к нашему «Под колесом» блестяще сдать в Англии экзамен на аттестат зрелости, быть самой привлекательной блондинкой своего выпуска. Длинноногая модель, гений, мало говорит, поскольку много думает. Быть вместе с таким же гениальным сыном полицейского, который насилует его сестру. Понимать коварство турецкой мафии, которая воюет с русской мафией. В одежде исповедовать стиль прибеднённого берлинства: внешняя неухоженность, джинсы-клёш с дырками, майка с нарисованным пистолетом, синие кроссовки с тремя белыми полосками, вялая осанка узкого тела, почти скрытная, ничего не выставляющая вперёд. С травкой покончено, а с мальчиками нет, с девочками тоже. Навещать отца, когда-то успешного консультанта предпринимателей, в его квартире на Нордбанштрассе за углом с видом на Стену, и помогать ему, теперь осевшему в Бранденбурге в доме без водопровода.
Его квартира с видом на Стену находилась на улице, где жили мои родители и мой бывший муж – мы с ним познакомились на улице, где же ещё. Он напугал меня, когда тёмным вечером я пересекала место бывшей Стены, свернув после пробежки в парке в эту первую улицу на Западе. Он тогда рассмеялся: «Нельзя же быть такой рассеянной». От души. Мы вместе изучали немецкую литературу. Только мало чему научились.
Спустя десять лет мы уже в курсе всего, школа со всеми её обличиями расплылась, некоторые учителя умерли. Мы ждём такси в три часа ночи у моста Эс-бана между Веддингом и Пайковом. По своей инициативе нам его вызвал молодой турок из ещё открытой закусочной. Мы ждём у упомянутой исторической точки под мостом, вдоль которого проходила Стена. Снова уместно смотреть на асфальт, он изукрашен собачьим и голубиным помётом. Здесь живёт множество голубей мира. Мы опять потеряем друг друга из виду на многие годы: спецпоезда на Берлин ходят нынче реже.
Я читаю названия улиц, которые знаю более чем наизусть, и всё же обнаруживаю нечто новое: изящные таблички объясняют историческое значение этого угла, иллюстрируя путь Стены. Не прибить ли таблички и к нашей анти-истории? У нас бы нашлось чем поделиться. Правда, надписи на этих табличках мы не можем прочитать из-за нашей близорукости – следствие нашей работы за компьютером. П., а ведь твоя сестра хотела стать художницей комиксов, дадим ей раскадровку наших историй. Начнём с того, как мы на этом Эс-бане едем к Комической опере, там слоняемся без дела, ты хочешь написать Пако пару любовных CMC, и я тебе их сочиняю так, что они не звучат ни математически, ни берлински, а отвечают моей потребности в китче. Поскольку Берлин – это прибеднение и в таких деликатных вещах. «Чего-то хотеть от кого-то» – так ты называешь это. Подарок, который никто не может оценить. Не расхожая небрежность – принять это максимально возможное, со всеми последствиями, будь это даже пламенные письма. Нет же, по-берлински: лучше вовсе ничего, чем любовь. Такие тучные вещи сочатся глубоким… слёзы и всё такое. Сопряжено с риском, а отношения обязывают, итак, лучше оборвать контакт, сломать сердце, ничего к себе не подпускать. А выпускать – через литературных «негров», винтаж, секондхэнд.
«Здесь мы в детстве каждое утро перебирались с папой через Стену и ели там, на Востоке, мороженое», – вспоминает П.
«Здесь я по утрам отводила ребёнка в ясли в Панков, а на обратном пути покупала булочки», – припоминаю я.
Я не добавляю к этому, что тот детский сад в народно-материнских устах на детской площадке назывался «арийским». Тогда бы мне пришлось добавить, что мой сын был единственным двуязычным ребёнком в своей группе, хотя сад находился всего в десяти минутах ходьбы от Веддинга, и что на обязательном тестировании по немецкому языку для четырёхлетних он наткнулся на особое внимание: сначала из боязни, что он будет выделяться как проблемный ребёнок, по опасениям его отца, а потом из-за того, что прошёл этот тест лучше всех.
П. садится в такси и едет к своей матери, которая переезжает в Шарлоттенбург, где она окажется чуть дальше от своей знаменитой сестры, базельской писательницы. Сын которой был одним из тех мальчиков, с которыми нельзя ложиться в постель, с чисто объективной точки зрения, судя по спорной книге его тёти. Власть топологии эмоций пребывает в нас, охватывая несколько поколений – причём без всяких табличек.
Её отец собирает теперь – немного как жадановский Эрнст Тельман со своими танками – верстовые таблички из Второй мировой войны на северо-востоке Ещё-Пруссии. Работая в должности консультанта для предпринимателей, он сказал, что фирма сэкономит больше всего, если уволит такого консультанта, как он. Теперь моя П. говорит, что она отказалась от предложенного ей места ассистента профессора в Филадельфии: «Хоть это и Берлин Соединённых Штатов». Из-за курения травки и всего такого память уже не такая, как надо, всё чаще – размазня, знаешь. Нет уж, лучше пойти в консультанты по предпринимательству и иметь что-то в руках. Потом сойти, стать самостоятельной и предаться улучшению мира. Я обожаю её ясный язык, который можно слушать, только если мозг не размазан. В честь П. добавим в бар Русскостъ коктейль: Кисель вычисления Пи.
Миши
May I introduce, моего сына зовут Михаил и Анину дочку – почти так же. Моя мать со слезами настаивала на том, чтобы реинкарнировать имя её отца. А того изначально звали Моисей. Еврейское звучание трансформировалось в Союзе по расхожему уравнению реакции в Михаила. Русский именной костюм дедушка надел по инициативе своей кузины Дины, крестившей его. Ну и ладно.
Что бы я ни делала, Миша is my mission.
Его, уже почти большого, по моей формуле зовут Мишутка. Чего только нет в этом имени: и шутка, и медвежонок, и мешанина. Как я буду жалеть о том, что не записывала за ним его весёлые, хитрые, блестящие языковые находки – от хлебервурст про ломоть хлеба с печёночной колбасой Leberwurst до снеголошадки – Schneepferdchen – про салазки.
Он сидит над своим террариумом, он стоит наготове для ходячей истории. Для натяжения тетивы рассказа не хватает сило-времени. Неписания хватает как раз на кофе, на чай, на дыхание, на уход в себя, на невыход из себя. Блокнот, который раскрывается, когда душа не может удержать язык за зубами и душится «Подъездом № 7». Вот сейчас я как раз не пишу, а курю и вымываю аромат былого. Так повседневность выдыхается наружу.
Недавно он рассказывал за ужином, что открыл новый вид жуков. Он окрестил этот вид Sandläuferstreifenkäfer – полосатик-пескобег. Этот полосатик приносит пользу, поедая дохлых насекомых и остатки фруктов из компоста (биолог выудил из компоста кусочек сгнившего ананаса, на котором и сидел жук). Полосатик-пескобег якобы преследует свою добычу как детектив: «Хвост кверху, мордой вниз! Как только настигнет – раз, скок на неё и слопал!» Глаза сверкают, рот поёт. «Мяу, а можно спросить? Почему люди едят мёд? Ведь это же рвота пчёл».
Я варю ему щавелевый суп и борщ – смотря по тому, хочется мне зелёного или красного, – иногда варю тыквенный, гороховый, цветно-капустный, а то и щи, и каждым своим действием благодарю его за то, что он находит свой язык – то немецкий, то русский, то биологический, – разворачивает весь регистр, посвящает себя всеохватной культуре природы. Сопровождаю его в восторженных вылазках, в которых он именами и свойствами насекомых и тритонов объясняет то, что я тут же отфильтровываю – но только не излучение радости в его голосе. Привожу его в лабораторию в университете. Закрываю глаза на то, что в ночном поезде на Берлин он зайцем провозит лягушку в банке. Несу за ним ведёрко, когда он браво несёт впереди свой сачок как знамя, направляясь к пруду, к биотопу, на реку: не попадётся ли в сеть какой головастик и не пролетит ли мимо какая бабочка, улов сберегается перед домом во множестве разных сосудов – ради наблюдения за окукливанием или, наоборот, выползанием из кокона.
Жить можно. Скоро мы сделаем из детской комнаты террариум-аквариум-делириум и споём под электрогитару песню-мяучи. Я бегу вверх от станции Эс-бана, забывая, что живу в городе внизу, чтобы сдвинуть вместе горы Утлиберг и Энтлисберг. В нашем подвале слышен шум реки Зиль, построим тут баню и будем охлаждаться в реке. Долина защищает. Мы иммунизируемся от всего, что снаружи.
Недавно на Красной фабрике прозвучала песня Всё – снег, вчерашний снег. Снега ещё нет, осень каждый день является на Энтлисберге в оглушительном великолепии, превращая тёмно-зелёное в жёлто-багряное. Я начинаю фотографировать это полотно за порогом ежедневно в одно и то же время – когда рассеется утренний туман и гора всплывает из оцепенения.
Любительские фото удаются своим звуком и без аналогового клика, дигитально. Стилистически безупречный язык так же мало возможен. Упрёки приветствуются, так у нас с вами завяжется разговор. Консультанты по письму пожимают плечами, носителям языка это удаётся, неносителям лучше помалкивать. Пригодился бы фото-язык, от которого теряешь дар речи.
Здесь мне не обязательно владеть стандартным немецким. Что такое письменный немецкий, как здесь называют тот язык, который считается обыкновенным в Германии, но здесь он – занесённый, заносчиво нанесённый на средневековые диалекты? Это – язык печати. На клавишах я выбираю немецкий язык в один клик. Время подскажет, в чём суть. Здесь не пользуются буквой б, здесь не увидишь ровный горизонт без возвышенностей и не услышишь вопросы вроде того, скольких женщин изнасиловал мой дед при взятии Берлина. Я всё отфильтровываю: пусть небесная синева воды поглотит культурную истерику и историческую неприязнь. В то время как 6-оборона плутует и подсовывает мне англицизмы.
Моё подсознание просторно как подвал нашего секционного домика – с бомбоубежищем, винным погребом, стиральной машиной и кабинетом. Подпольная мануфактура – так окрестил подвал мой старший брат, оглядев его, когда мы въехали.
Этот домишко открывает свою парадную дверь и чёрный ход – для прошлого и будущего. Новые друзья входят и отправляются в последний путь. Новые окна показывают мужчин в страстном настроении, они безмолвно слетают в озеро или парапланируют с Утлиберга на коровьи пастбища. Стучатся дети и спрашивают про Михххаэля, про его насекомых и «нет ли красного супа». Подлетают снежинки. Испаряются. Бывает обывательство. Модерн, постмодерн и пост-постмодерн. На зависть кратковременно. Многосторонне-многообразные женщины, которые всё про всё, в мытье, в таянии снежных масс, на исходе единства семьи и профессии. Здесь жила поэтесса Мария Лутц-Гантенбайн. Говорят, она била своего мужа.
Документально, герменевтически, по-домашнему. Наладить себя, создать налаженное. Засунуть банальное в штабель выдвижных ящиков, при необходимости снова извлечь – как очистить бананы, витаминно, обезвреженно. Обес-кочуемость быта. Анти-нарциссическое сопротивление.
Мы цюрихские хаоты. Мы опаздываем, что-нибудь забываем, пропускаем сроки, садимся не в тот поезд. Я заснула в убаюкивающем уюте вагона, ребёнок разбудил меня на главном вокзале со словами, что мамы в поездах не спят. Мы надеваем одежду, только что постиранную, мы делаем уборку перед приходом гостей и оба находим ранний подъём тяжёлым, даже если это вправе сказать только один из нас. Неделя за неделей расплываюсь в его мире первого класса. Крымизирую современность в облако № 7 и ответственно, даже изрядно способствую овосточиванию этой предместности.
Чем больше я приближаюсь к себе самой, тем ближе становлюсь к своему ребёнку – и наоборот. Наша пуповина невидимо срастается, мы на расстоянии знаем, как дела у другого. В Берлине для него движение было проблемой. Он не хотел ходить, не говоря уже о том, чтоб заниматься спортом; на свой беговел он рычал – унаследованная, ныне отшумевшая, боязнь путешествий.
Теперь он бегает уже не как фрикаделька, а как пацан вместе со всеми по футбольному полю, по посёлку он носится один или бежит в школу вместе с остальной шпаной. Он балансирует на бортике тротуара, когда мы идём куда-нибудь вместе и – в виде исключения – не торопимся. Мы разом вошли в норму. Я не знаю другого такого местечка, где он мог бы подрастать так упорядочение и самостоятельно, защищенный не передозированной щепоткой социального контроля. Происходит не много, но нам более и не надо. Достигнуть покоя – с делами, с которыми я долго не могла разделаться, которые долго считались неуместными для этих мест. Тут меня спрашивали с радио, не смогу ли я выступить как эксперт по Крыму, но я не взялась. Как раз пережариваю старые песни в сплошные любимые блюда. Вытирая пыль, я нахожу в альбоме с названием «Желток подводной лодки» подрастающего Майкла:
Крымский крем Мороженое-крем Москакао Крым, сливки сливок You creep me out Пищеводная тележка Путевая карта Хлеботам Съел, встал и пошёл Из Берливии I_scream_yes Yesterday В рифму течёт русский Рейн Места культурного наследия Грядки смерти культуры Неспешный Baby Bhabha – баба – бобы – пруды Пусть играет Лайбах На балалайке Да здравствует Крым Ice CreameaОн пишет в свободное время книгу с собственными иллюстрациями – про образ жизни яблочных улиток и чесночных жаб. Кроме того, он учится играть на гитаре, после того, как необратимо убедительно услышал об авторской песне, о Высоцком и о рифме к имени Татьяна: Любляна. По-немецки это Лайбах.
Цюрих. Zur_ich
Когда я в первые разы поднималась по лестнице на Шинхутвег, нарастало ощущение дежавю, вплоть до неимоверного подъёма настроения на безуклонном, безукоризненном Бельвью. Тогда наконец включился альбом воспоминаний и проявилось фото, которое придало всем прежним характер серии: я взбиралась по точно такой же лестнице к школе № 1 в Севастополе, она располагалась в центре города на похожем холме, а красивый вид на озеро, здешний, заменяет, если кто забыл, вид на знаменитую бухту, непобедимую, где в Крымскую войну затопили корабли, чтобы перекрыть доступ врагу. Открытка: тренер по плаванию, пьяный с утра, швыряет детей в родную гавань.
Рядом со школой стоял храм не действующего тогда монастыря, в котором покоились останки военных и других важных людей, а может, уже забеспокоились. Когда на уроках физкультуры спортивная площадка была занята другим классом, мы бегали в маленьком парке вокруг монастыря. Он высился на пригорке как заброшенный корабль, и я ещё не знала, что большинство уцелевших монастырей в России похожи на огромные корабли, стоящие на якоре в запертых бухтах, и никто и ничто не может сдвинуть их с места.
Картинка в год переезда: Creux du Van. Это волшебно – идти сквозь фантастическую картину, вдоль обозримой бездны. Поразительно, какую опасность представляет собой взгляд вниз, зрелище могущественной природы, которой ты отдан во власть. Идти пешком по хребту Утлиберга – это было бы ближе. Эта метафорика хождения по краю пропасти легко может стать щекотливой. К этому присоединяется другая картина, фото пожарной стены в Ростове-на-Дону. На ней начертано белой краской: Да здравствует любовь. С восклицательным знаком.
Поиск жилья и нахождение дома в Цюрихе, одном из самых дорогих городов мира, про который я думаю, что он стал мне дорог, несмотря на униформу его сумочек, высокий лоск внешности в результате кальвинистских реформ, шикарные машины и интересные интеракции с велосипедистами (не дай бог, по тротуару!). Мой вело – лилово-бело-розовый, выпуска конца 80-х – носит надпись: Tour de Suisse.
Я чувствую себя как Kaminerin – с тех пор, как перестала пересекать границы и являюсь персоной пребывания класса В. Come-innerin, прибывшая, перешагнувшая через порог. Составляю общество этому обществу иммигрантов. Вплоть до первого кровотечения из носа, атомарной воскресной тишины и понедельничного кофе у Sternentaler рядом с канатной дорогой на университетский холм. Кофе вымывает летаргию прочь, в город: навстречу возбуждённости последующих ошибок и необратимости решения именно здесь и именно жить.
Заточённый вкус, тонкий аромат, торт из языка, амортизация. Я читаю то, что попытаюсь опровергнуть, и пусть его гнев будет мне поощрением:
Гнев высвобождался из его мира со словами, понятиями, цитатами: в языке высокого происхождения он застревал. Он пишет об избавлении в языке образованной буржуазии и застывает как отчаявшийся заключённый в своём смертоносном для него происхождении. Саморефлексия в качестве литературы; тут, чтобы остаться при современниках, всё-таки надо держаться скорее Мишеля Лейриса, француза – и принять гнев гнева в последней фразе его книги: «Я объявляю себя в состоянии тотальной войны».
(Из Цайт)На тротуаре нет собачьего помёта, нет шума на стройках, нет бродяг на углу, нет пьяных с утра мужчин. Вставать в шесть утра, в двенадцать – обед, в день стирки стирать, докупать пару добротных шмоток, приветствовать любой вопросительный взгляд, обучиться дружелюбию, иметь выигрыш в солнечных днях. Наличники… Окна кричат, словно широко распахнутые глаза: «Италия»! Это восклицание слышится чаще, чем удары сердца церквей и монастырей и поспешные шаги в катакомбном туннеле Старого города, который в пост-римские времена служил путепроводом для устранения отбросов и ключи от которого есть у одного исконно цюрихского итальянца, который пьёт там по ночам красное вино.
Италия, Тессин, Тоскана… Мы вводим в меню Русскости одно совершенно особое блюдо. Оно приводит к нам посетителей, а те сокровенно доводят до нашего сведения: это тоска.
Что-то здесь принципиально по-другому.
Свет, ландшафт, любезные бизнесмены. Это не вполне подходит, но стоит мне впасть в рассеянность и зазеваться, как меня накрывает, одолевает всё та же волна, и вот опять тут как тут: здесь на каждом углу свет как в Севастополе в начале 90-х. Даже на Дуниных снимках вечернего Цюриха. Богатое ли, бедное, оно ощущается как моё богоданное царство. Назовём его Южик. Такого рода присвоение никого не ранит, а настроение настроит как посещение Лозанны и вкусная лазанья. Аз есмь там, где я вижу тебя, Южик, а в это весеннее мгновение я вижу тебя у озера. Как удобно, что здесь нет военных и швартуются только прогулочные суда.
Сева-цюрихский свет заслуживает романного памятника, ордена, пира духа, оперы. Да, опера была бы лучше всего. Виртуозно и вирусо-заразно сочинённая музыка. Трубы, тромбоны, скрипки, струны сердца, завязанные бантом, пока не пустятся в пляс в Зеркальном зале берлинского ночного клуба Клерхенс Бальхаус. Дольше искры, крепче – только хлопок по плечу. «Подъезд № 7» шепчет мне: Ой. Ahoi! Привет!
Чёрным озеро – нет, море – не бывает никогда! Мы тянем шеи из траншеи. Никогда не думала и вот узнала. Цвета черноморского солнца достигают своей наивысшей интенсивности на Цюрихском озере. Города-побратимы? Да что там, близнецы. Близнец, может статься, был бы недоволен, но блеском своих глаз это место раздаёт задорные подзатыльники. Когда я стою на Бельвью, еду по мосту на велосипеде (я рада, что швейцарцы сокращают это слово так, что получается рад, а я ещё предлагаю и велик, в нём – величие), то поневоле скольжу по воде. Так и вышла бы в море посыльной лодкой, но не стоит – ни подниматься ни на один из этих кораблей, ни удостоверяться, что озеро – лишь озеро, а не что-то большее.
Я повторяюсь, извлекаю эту цюри-радость как шпрюнгли-конфету из ящика с неприкосновенным запасом. Хвастаюсь ею. Переслащённосьь меня не страшит, она расщепляется в нежное и моё, в китчевое и наивное. Ива назывался бы отдельный рассказ. Если сломить с ивы ветку и очистить от листьев, будет прут, который в воздухе свищет как скакалка. Но покончим с мелочёвкой. Однако речь о начале, начале марш-рута, дорожной лозы. Южику не нужен штамп «made in Jugoslawia». Я не хочу войны, мой гнев другой. Я не хочу, чтобы тот ромб полуострова на карте, пусть и печальный, пусть и перегруженный, разрушился. Подыгрывайте той полноте идиллии, клянитесь миром, присягайте солидарности. Что и требовалось доказать: когда бы ни увидел то, чему ты слышишь отзвук, откликнись про себя.
Как будто плывёшь на катере к бабушке на Северную, с маленькими отклонениями туда, где волны поменьше, pimped up до ирреальности обоих городов – город детства играет в прятки, скрываясь за толпами лет и за ордами слов. Но этот город, что у тебя перед глазами, не поддаётся восприятию без той частицы в «Вост. Духе». Давно мы не заглядывали в наше кафе, а тесто поднимается.
Сюда бы немного берлинской скудости. Капельку её не помешало бы этому шикарному озеру, и оно бы стало ещё более своим, включилось в этот хоровод. Как-то тревожно: быть здесь дома, недалеко от дома ДАДА. Скажи ДА – и будешь влёт просватана: на мосту Бельвью разлетаются все сомнения.
Пространство бегства. Из беженцев по квоте – в беженку из семьи, из города джутовых сумок – в город, укомплектованный жертвами Луи Виттона. В духе интернационализма мы привозим из Берлина на Цюрихское озеро пару оттенков серого, которые разместим на палитре между белизной морских чаек и чернотой кругов под глазами. Из Вены мы привозим колбаски, способные потягаться с сосисками-карри. И хрен, кстати. Перед Одеоном мы воздвигнем памятник Ленину, с рукой, простёртой к Воллисхофену. Давайте уповать на лучшее будущее, радужно расцвечивая его по выходным. В будни опрожекторим его лучами стихотворных строчек. Какой же русский язык без поэзии, ведь страна существует как проект, как череда творческих проектов. Под девизом «рифмуй или сдохни» необъятные сокодавильни строчек производят неизбежную абсурдность бытия. Кафе Одеон мы предназначим быть центром сети «Вост. Духа». А коль и дальше так пойдёт, не устоять и ресторану Кроненхалле.
Тут есть водоём, волны которого разглажены под виллами, и есть коммунизм богатства: мы легко перещеголяли панельные дома Севастополя, роскошные строения классицизма и ржавые военные суда. Но Севастополь всё равно непобедим. Разница между двумя городами – каждый в четыреста тысяч жителей – в оттенках, но не категорична. Меня тянет и туда, и сюда. Тем более, что «да» здесь означает «здесь». Всё и везде привычно, как во сне.
Первичный взрыв миграции объявляет этот город идеальной версией защищённой планеты Винета, неподкупной, неоплатной дорожной виньетки на проезд в тот юго-восточный постсоветский сонет. С солнцем и одушевлёнными (да, именно) людьми. Взгляните, люди, на этот город! Из доцентского фойе университета или из частного самолёта. Последний наверняка был и у Горби, когда он отдыхал в Крыму, причём именно там, куда мой брат по-ленински указывал рукой, когда мы стояли высоко над морем на скале, а мамин портативный радиоприёмник чего-то шебаршал про путч в Москве, поэтому я так и вижу простёртый жест в шуме морского прибоя – а не дачу, которая вам бы показалась, возможно, подсобной кладовой виллы Серебряного побережья.
Тогда вам, может, повезёт узнать, что презентируют «Вост. Дух» и бар Русскостъ в качестве «моё марево для всех»: Крымские горы, яичный желток, чашку Петри, и если не Ай-Петри, то Бахчисарай с фонтаном, где Пушкин рука об руку с Мицкевичем – что-то в этом роде, причём, если чуть забудешься, то вдруг – ах, Альпы! – кажется, снова вспомнил, и слышишь, как жужжит проектор, хором и хороводом с такими фигурами, как повторение, сдвиг, уплотнение. И символами синевы. Подсвистывайте мелодически, предайтесь поеданию изысканного студня из студенческой столовки над озером. Празднуйте, если это вам о чём-то говорит, нежнее, чем нашёптывала мать. Лакомый вид верещит от радости, когда его для себя и для тебя открывают. Необычайно тайнозвучный, но квитированный, этот контур следует за вами по пятам.
Разве Опера Земпера в Дрездене и её великая сестра Этеха – не эхо севастопольского Пионерского дворца? И не эхо дельфинария в парке у одной из главных магистралей, ведущих к площади Ленина (или Нахимова?) и к прозрачной воде как из-под крана, к руке, манящей прыгнуть к волнующим, расположенным к тебе джинам на спине улыбчивого дельфинчика?
Возможно, в прежней жизни я была швейцаркой, здешней. Екатерина Великая приглашала местных жителей из Цюрихской долины в Крым. Они сделали там большой гешефт в XIX в. на Крымской войне, на швейцарский взгляд «реализуя себя», а на русский – поддавшись денежной морали, что предосудительно, коль ты не новый русский. Превращусь в новую швейцарку в один прекрасный день? Мои соседи покупают яйца в деревне, жители которой в конце XVIII в., приблизительно в то самое время, когда был основан Севастополь, пустились в долгий путь к Чёрному морю, чтоб будущие цюритальские яйца превратить в исторические крымские талеры, чтоб утилизоваться эпохально – в эхе мировой истории. Экспатка из крымчанок ждёт, когда и в ней проснутся эти гениальные отблески – и она никогда уже не пропустит дня и часа, когда приезжают забрать бумажный и картонный мусор, не будет впредь опаздывать на поезд и так научится управлять своим временем, что в выходные дни и праздники с чистой совестью сможет отправиться – на ту гору, на какую захочет, хоть туда, где стояла дача Горби. А в апреле – в архив Центральной библиотеки, чтобы искать там, наподобие пасхальных яиц, дневники крымских цюрихцев.
Крым повсюду, где ты только сможешь опознать его легендарность и лёгкость его дыхания. Он один такой, но если кому-то захочется иметь его для себя, лучше всего распрощаться с ядром его значительности и принять его как трёхмерный, и как духовно – привиденческий и, если привлечь историю литературы, искусства и кино, то остроумный симулякр, сокращённо симу. Это кушанье также имеется в нашей сети «Вост. Духа» – да, это должна быть сеть, причём Russkost пока может быть постоянным духокафе – круглосуточным, круглогодичным.
Мы предлагаем также крымские курсы. Круизные туры, в которых вместо вечного Олега нам будет подмигивать молодой Том Круз из Top Gun. Курсы, как раскусывать крымское ядро, как его социально переформировать, перелицевать, переложить на музыку, как обращаться с глиной и тестом: лепите из неё что-нибудь, к примеру, пироги, вместительные тарелки, на которых поместится всё богатство Южика, и столько чашек, чтоб шкафы трещали.
Крым становится, таким образом, видом восприятия. Как таковой он налагаем и на другие пространства – естественно, такого рода вид особенно хорош вечерами на водах: не осложнённый, сложенный из сообщников, мы объявим его неотъемлемой частью нашей сети. Выпивая в баре, вдохновляешься, обновляешься; его можно рассматривать как превращение образа жизни – от отпускного, военно-морского до средиземноморского. Таким образом в курсах для продвинутых мы научимся рассматривать и Москву. И Цюрих, это особенно подходящее основание, чтобы запустить проектор. Основание жить дальше, на уровне почвы, чтобы не слишком часто смотреть вниз с балкона.
Я учусь тому, что можно иметь вокруг себя много пространства, но не обязательно всё его использовать. Подвал только в крайнем случае, если придут русские. И лоджию, когда солнце жарит с южной стороны. Она просторная как комната, пустая, даже с сушилкой для белья. Даже под шляпой и шезлонгом. Мегакрасиво, очертания горы Утлиберг. Мегабалкон. Здесь всё очень мега, даже Гага. Лого. Сева. Стоп.
Цугское озеро
Один из выходных, заметный как таковой: куда-нибудь поехать, всюду есть что посмотреть, тут и там – на любом отрезке бесчисленные оттенки красивого. Не проедешь и часа, а это уже другой город, другой кантон. Край одного мира, начало другого: мы с Мишей едем навестить Сергея Жадана на Цугском озере. Украинский писатель из Харькова получил стипендию. Мы знакомимся с его хорошенькой женой, от которой я узнаю, что мы уже знакомы по Берлину. Тогда из-за пелены слёз расставания я видела её нерезко, а ребёнка тогда ещё не было видно вообще.
Теперь наши дети играют. Когда я набираюсь храбрости предаться швейцарским водам, Сергей играет с Мишей, так что я без забот могу нырнуть во влагу только что растаявших ледников. И что я вижу из воды: знаменитый, уже не первый год заметный поэт, писатель и певец из Украины таскает за Мишей сачок. Вместе они ищут насекомых, рыбок и растения. Жадан и Миша ждут, когда появится рыба того вида, которую биолог хотел бы показать, наконец, литератору.
С сачком мужчина кажется ещё более близким, чем когда-либо. Я вспоминаю, что он ровесник моего старшего брата, такой же тонкий телом и лицом, и когда он говорит, меня так и подмывает спросить, возьмётся ли он при переезде за подпольную мануфактуру.
Жадан походит на моего брата, а Миша – на меня, какой я была на пляжном фото из 80-х, это сбивает меня с толку. Гладкая вода, пальмы, словно нарисованные, Альпы или что там разрывает задний план, тренированные тела, лоснящиеся от крема для загара, и неумолимое расписание поездов наводят на мысль, уж не навязчивое ли это представление о прошлом: ведь я так и не научилась плавать. Панические атаки у воды, не характерные для крымчан, случались у меня в начале учёбы в берлинских библиотеках (волны книг, you know, you never know). Или это я захлебнулась, заглядевшись на его жену.
Без лишних слов мы обнаруживаем на пляже, что у нас много общего: родительские дома, которым предпочитаешь уличную беготню, и чистая приверженность к первому месту, которое тебя инициировало, научило жить. Мы пробуем представить его в виде контейнера с жизненным опытом; он катится по железной дороге и троллейбусным линиям – наш багаж, который нас сопровождает, независимо от того, где мы остановимся и сколько лет прошло с тех пор, как мы упаковались. Он уже больше двух месяцев в Цуге и говорит, что ему нестерпимо так долго быть вне Харькова.
Я привезла с собой арбуз, у Жадана в кармане был нож. Мы так же мало боялись испачкаться соком, как и того, что своим русским языком заденем швейцарских соседей. Вскоре мы уже сидели с арбузными животами на каменистом берегу, выискивая у Цугского озера какие-то недостатки или даже уродство, но тщетно.
Мы запускали взгляд вдаль, как полагается в субботу у воды, взгляд, который не позволит ограничить себя прибрежными горами и пустяковыми вопросами. Он прервал молчание, но не поколебал этим атмосферу: «Здесь похоже на наш Крым. Вот что из него могло бы стать».
Он рассказал, что в том году, в начале 90-х, когда мы уже уехали из Крыма, он впервые попал туда. Мы прощались, а он только присматривался к нему, как в эстафетном беге.
Мне вспомнился один его текст о Крыме, я чуть не подсказала ему название: Матросский паспорт. Кочующие парни, печально-весёлая офицерская вдова, по-советски милый фильм. Крымский восторг читался там так свежо, как у всех парней, которые летом впервые бывали «у нас». Смотри, вот тебе Крым как ломоть сочного арбуза.
Тогда было удачное время, чтобы купить в Крыму квартиру, продолжал он вспоминать. Можно было купить всего за десять тысяч долларов. Один писатель купил квартиру на южном побережье на премию, ещё и фотоаппарат впридачу аналоговый. Мне ли не знать те цены, хотя мне лучше было бы не знать. Мои родители так же продали свою квартиру, включая отцовскую коллекцию фотоаппаратов, бесценные детали, накидки для кресел, цветы на коврах и посуду, со стрёкотом швейной машинки, с оглушительным ароматом окрашенных балконных перил, с остатком неслакомленных сушёных фруктовых колечек, которые месяцами висели над головой, с кухонным столом, арбузный сок с которого стекал мне на колени и меж них, с прохладой зелёного балкончика, с патронными гильзами в керамической вазе, с волнениями и отражениями, с моей невидимой подругой-разумницей – я и сидя в туалете обсуждала с ней насущные проблемы, пока мать не спрашивала через дверь, не с Пушкиным ли я там разговариваю – и с другими банальностями безбананного бытия, что для кого-то означало почву под ногами и отсутствие необходимости куда-то уходить.
А надо было бы тогда – с выручкой от продажи – вместо того, чтобы притворяться спящей в поезде на белорусской границе, ради удовольствия, «в качестве эксперимента», как сказал бы Миша, спрыгнуть и пуститься в бега. Проверить, как долго я смогла бы с нею бегать по лесам и полям и докуда добежала бы, пока доллары в карманах малахитовых тренировочных штанов не закончились и не растаяли как дым.
Писатель сказал тогда, в том идиллическом мае за год до Майдана, что на Украине создаётся впечатление, будто Вторая мировая война ещё не закончилась. Всё очень, очень политизировано. Я ничего не сказала, ибо, как я поняла год спустя, я не поняла его высказывания.
Моя тема не ценная, моя тема инфляционная. Кстати, недавно я видела статистику: в начале 90-х людям в распавшемся Советском Союзе жилось не легче, чем во Вторую мировую войну и сразу после неё.
Переломы. Несколько поломок. Взломы, много взломов, даже и с двумя, и с тремя дверьми одна за другой, тяжёлые деревянные и металлические двери, их начали всё чаще устанавливать на свои квартиры. Поэтому я так люблю открытки с дверями из разных городов – они стоят в ряд в своей естественности, даже не подозревая о ценности того, что за ними стоит. Кому не повезло, того не только обокрали. Но некоторым везло. Или не везёт долго помнить.
Мы жадно впитывали солнце.
Он никак не мог поверить, что я двадцать лет не была в Крыму.
Мы только делали вид, что говорим между собой на русском. На самом деле мы говорили начистоту: о кошмаре 90-х, о наших юношеских мечтах, которые почти скрестились в Крыму, и о мечтах наших детей. Давай ещё раз проведём наш разговор, вместе с другими крымскими мечтателями, пока не намозолим подиуму попу.
Я говорю харьковскому поэту: давай учредим свой Крым, по-настоящему автономный. Продолжим крымский конструктивизм в издательствах Харькова, распространим на Москву, Киев, Минск, пустим листовки плавать по Цугскому и Цюрихскому озёрам, как кувшинки Клода Моне, вверх по Лиммату и Зилю, вдоль Рейна и Дуная, пока не застынут в памятники танки, на которые взбираются уже три поколения, считая их волнующими космическими – или хотя бы морскими – кораблями. Главное, чтоб за рулём сидели дети.
Концепцию надо ещё продумать, со следующим арбузом, будущим летом. Однако жизнь живётся без черновика, она пишется сразу начисто, даже если пишется на грязи – нам следовало бы меньше надеяться и больше действовать, прямо тогда, на месте.
Разослать по всему миру наш пакет «Крым как раньше». Излучить его, приобщить к нему других, и насадить его собратьев в подходящих местах в Швейцарии, во Франции, Италии, Испании и Португалии, инкрымироватъ его. При всей любви, наш тогдашний Крым давайте не будем принимать так уж близко к сердцу. Его больные родимые пятна, наши незыблемые первые отметины – замалевать, у нас новые связи и привязанности, мы преодолели юность, последовали за последствиями, а это означает волей-неволей: мы исцелились от былого.
Мой старший брат, врач, которого ты мне почти заменяешь, советовал, когда я волновалась попусту: Дели всё на два. Как бы нам найти места, которые бы мы делили и распределяли, которые бы мы на пробу ментально занимали и давали взаймы; места, которые мы заливаем своими воспоминаниями, которые ночами перекраиваем (флаги смытых стран) на реющие юбки. Проделка, как с Аней, тайный заговор того поколения, которое проигрывает свой рай на детских площадках среди высотных домов, постоянно проигрывает. Пусть и другие будут к этому причастны, тогда всё уладится, так и слышу я невидимую подругу в туалете. Пушкин говорит на сей раз женским голосом.
Нам бы флаг раздобыть. Смастерить. Нечто, что можно начертать на знамёнах. Жадан, пиши стихи. Нет, слова отслужили своё. Мы страдаем от вербальных оборотов и переворотов, мы перегорели, истекли в этот слишком яркий западный мир, который тоже влился в наш, техника «по сырому». Хотя ты скоро вернёшься, ты тоже выжженный. Крымское солнце не ведает крема от солнца, оно само крем, который мы наносим не наружно, а подкожно, в железную дорогу кровотока.
Я опять страдаю от анемии.
Ты убегаешь прочь, за рыбками с моим сынком.
К тому же я целиком за резьбу по дереву (мы меняем цвет шаблонов), за прочные материалы, в которые мы встраиваем наши языки, словоместа, пожеланья жилья и фотосубъективы. Я полностью за визуальные медиа, иначе мы не опознаем Крым в другом месте и не сможем распространить его. Это было бы жаль – не установить его как следует в дружных точках мира. У нас много инструментов, чтобы осмотреть Крым здесь и сейчас, и не в последнюю очередь на берегах укрощённого мореозера, чем уличать полуостров в изоляции.
Кабриолетово-озёрно-горно-луговые виллы. Ай-пэды, ай-пады, эти электронные ограждения, е-краны которых видны повсеместно. Ай, ай, I означает instantkrim. Его заваривают кое-чем погорячее, чем альпийская вода, чтоб промокнуть им веснушки покруче, чем Джордж Клуни пьёт кофе, – утомлённые солнцем, но никогда не сгорающие. Или по глоточку испивают как пресный эспрессо. Я слышала, это хорошее средство от малокровия. Мы не покраснеем и не побледнеем – и полуострову поблекнуть и померкнуть не дадим.
Но постой, ведь это лежит на поверхности: где бы он ни лежал, в какой стране, в каком веке, под какими атомными грибами, над какими горами субмаринового мусора, он тяжестью лежит у нас в желудке, он стоит у нас над душой. Давай заключим Крымский пакт, давай подпишем факт на наших же глазах. Вещи назовём своими именами. Давай выговаривать вслух имена тех важных для нас вещей – словно на выставке, пока публика не ознакомилась с феноменом, а то и вовсе с ним не свыклась. Тогда мы сможем сняться с места, выставку отправим дальше, эмпирический ампирский Крым мы актуализируем и кратенько, но всё же, как удастся, дис-дис-крыминируем.
Совет. Удар. Предательство. Тайник. Попытка. Поиск антистиха. Мои антитела не воплощают больше ничего.
Досада, ограда: назальный вопль – о-боже-мой – исказить до сладкого ирредентизма. Видеть всегда, где удастся, оппортунистски привычное и – в удовольствие. Сливочный йогурт и – на выходные! Думать не о различиях, а о сходстве. Или: сходство представлять себе как фильтр для кожи, тут как тут, всегда готов. Вырулить из «прочь, навсегда, безвозвратно», покивать-помахать, как королева, ждущим и нежданным-негаданным проекционным поверхностям, вежливо их поприветствовать и ещё вежливее распрощаться, пройти сквозь них и ускакать от них прочь резвым пионером.
Весёлый полуостров, ты поли-ост, поли-восток, ты всюду близко, вместо того, чтоб быть вдали, в Нигде. Ты не на Винеташтрассе, ты не у Стивенсона, ты не в Восточном экспрессе. Ты личный сундук с сокровищами у тех, кто однажды сидел на тебе, лежал, отдыхал, – у тех, кого ты уже не оставишь в покое.
Говори, речь, говори
Я мыслю себе Крым так, что эту природную наивную живопись не переведёшь на другой язык. Красить полуостров швейцарской кистью – как возможность не проникать в речеобразы о нём, не комментировать и не цементировать. Я в глубоком шоке: корешки проломили асфальт, жаждущие влаги и полные море-зависимости.
Рифму на «консерватив» смазывает нарратив. Только свадьбу в Копенгагене, если вспомнить то неудобство, мой отец фотографировал со штативом.
Пусть это будет захват языком, прокрученным через мясорубку «Вост. Духа», в любом случае легкомысленный посыл: Bei mir biste scheen. Я-то считаю переводы делом, обречённым на провал. Надёжно можно перевезти лишь на корабле или на лодке, от одного причала к другому, от пирса к пирсу, от пристани к пристани. Можно говорить о подражательных стихах, писать о подражании при письме. При этом бьёт ключом пусть не совсем другой, но всё-таки новый текст.
Пишите ваши крымские тексты по-русски, по-украински, по-крымско-татарски. Встраивайтесь в соответствующие традиции, в крымские тексты национально-язычного значения. Не отнимайте у меня моего. Ребёнок, однако, щедро разделяет идею саму по себе. Улица отучает от эгоизма, она учит думать о коллективном благе и делиться благополучием.
Попытки расчёсывать зудящую крымскую память не могут служить доказательством. Более того: спонтанное Re-Enactment в тихом домике в пронзительных словечках – это разваренные остатки в протопленной кухне. Сомнамбулически брести к дивану, который в полусне оборачивается западно-восточной дивой. Частью сознательно, частью совсем нет и не совсем. Праздничные зачерствевшие остатки не могут быть выдумкой, как бы им этого ни хотелось – решение о происходящем выносит вышестоящий уровень. Переживание выхрюкивает текст и нечто, не имеющее с «текстом» ничего общего, чисто восприимчиво изнутри, а снаружи умащает, втирает, смазывает, описывает. Массаж – это месседж. Диктует желудок.
Моё «Я» захватывают переживания воспоминаний и воспоминания переживаний: мой Крым завладевает мной, тюкает в своём ритме (иногда молчание растягивается на годы), в своём нестиле, иногда по бумаге, иногда по лбу. Проживать в чтении, дать себя захватить и освободиться, самое позднее восьмого мая или восьмого марта – не помню точно.
Лечение едой и голодом одновременно, выметание веником из кухни ведьмы, облёт в стиле «Оборотень-веник, / Охлади свой пыл! / Снова стань, мошенник, / Тем, чем прежде был». И при этом имя Маргарита напоминает мне главным образом лишь маргарин. Весьма примечательная смена равнины и волн, движущихся с Чёрного моря, как бы мелко здесь ни было. Они прихлынут, когда купола бело-золотых киевских церквей отразятся в Днепре, в боковом переулке недалеко от асимметричной башни на рыночной площади в Кракове, в круизе по Москве-реке с влюблённым, подпалённым слишком ранней весной лицом, которое не отворачивается даже от безмозгло перестроенного города и утверждает, что жить на Западе – быть рыбой на суше. Moskaukrakau, Крым-киев. Моё восприятие, предварительно отчуждённое без моего содействия, криминально обогащается. И что творится, разве это не модерново: продукция, конструкция, реорганизация. Основа, на которой прямо сейчас стоишь, хотя и редко прямо; о которую бьёшься, сверзившись с забора родины. С каждой перевёрнутой страницей взлетает бумажный самолётик со звёздочками на крыльях. Беженец строчек в пляжной палатке, на полях страницы.
Я выбираю шрифт Calibri, когда мне надоедает Courier, и я выбираю Helvetica. Справа от неё стоит: «Normal». Ещё правее чёрный четырёхугольник и перечёркнутое а. Хорошенькая черта для подведения итогов. TextEdit не считает страницы. Поля можно сдвигать из поля зрения.
Шрифт устанавливает язык. Разбавленный немецкий иностранца. Ну, раз уж мне больше не надо быть немкой, мне незачем и делать вид, будто я и впрямь и правильно пишу по-немецки. Теперь мне можно применить свои заученные, не везде одинаково разглаженные немецкие простынки с морщинками русизмов, которые уже не скроешь – они проникают повсюду, стирать их так же безнадёжно, как улавливать ловца во ржи. Вот кто-то с горочки спустился, белочка прыгает в колесе хомяка на деревце и попадает на Calibris всех размеров.
И всё же, всё же, время от времени, как плитка нежно-горького шогги, лопаются на языке местечковые словечки, гребут на вёслах между эротическими неологизмами, коробя не себя, а материал. Применять материалы, родные языки по прихоти и настроению, причём по хорошему настроению. Пустить их течь в метафорах, как по длинному жёлобу водяных горок. Мне навстречу дует фёноветер с Альп, а добрый советский фен моментально высушивает картину маслом.
Демонстративная бравада. Восток образует мой штатив. Я образовываю себя, но это не помогает, картины смазываются. Фигурация пространства и конституция субъекта. Почему не исчезает это чувство, что ты имитируешь язык? Язык, заговори же наконец! И перестань чувствовать себя чужим. Думай не о розовых слонах, думай о зелёном балкончике, о твоём кактусе. Ты можешь утечь у меня сквозь пальцы, но не делай вид, будто я не являюсь частью тебя. Ты был бы другим без людей, которые цепляются за тебя как за спасательный круг, чтобы достойно встретить им волей-неволей чужое – степь ли это белого экрана, незатасканный символ для любовных писем или уму непостижимое «чего-то хотеть от кого-то». Непременно ведь чего-то хочешь – для себя, для кого-то, для всех: смотреть в око экрана, если больше нет пространства, которое тебя обнимает, опутывает сетями, лелеет тебя, делает безрассудным и идёт тебе впрок.
Площади Революции
Собирая мир в Крыму, а Крым катапультируя в мир, мы выпустим из него бесконечное множество осей – они разбегутся морщинками смеха! Рассеем их, а в нём – рассеемся. Крымской чечевицей как гарниром украсим край тарелки, искурим, словно дурманную травку на воскресной прогулке, нанесём на задний план скалистое море. Наш паспорт – свод акаций и плакучих ив – всегда при нас. То ли он – Австралия Европы, то ли центр Евразии: поставим его в центр наших дум, обежим все дороги, ведущие к нему и уводящие прочь, проберёмся к нему окольными путями.
Например: В Крыму, 42369 Вупперталь, Германия.
Taurus: образ быка. Таврида: место в Крыму.
Вполне в консенсусе с популярными адептами spatial turn я дистанцируюсь от того, чтобы путать реально не существующие, воображаемые пространства с географическими. Без ссылки на пространство лучше послать себя туда цугом (или на станцию Цуг побережья нашего Южика).
Референты моих пространств выскальзывают прочь или изменились до неузнаваемости. Будучи знаками прошедшего, знаками времени, они платят свою дань. Все признаки любви. Любви к месту самому по себе, беспримесно, отныне у нас в Русскости дежурное блюдо – местолюбие. Называется также: Ortlove, можно на вынос. Красное как Красная фабрика, как Красная площадь, действует повсюду, особенно в центре твоего тела, словно маленький путч: разверни твой душевный смайлик наружу, твой внутренний bunt.
Ortlove, экспортированная из Крыма путём передачи мыслей. Это вкус вина, которое я там возделываю, облагораживая его в другом месте. Поэтому я не подстёгиваю свой переезд туда и обуздываю любопытство в отношении «действительного Крыма». Его тени дотягиваются до Киева, до Кантштрассе и обегают Афродиту, которая выжидательно смотрит на лодки Цюрихского озера. Скоро они укажут на края. Чтобы их разгладить, потребуется много времени вне контаминированного контейнерного пространства.
Хотя проект социализма развалился больше двадцати лет назад, личный опыт того времени продолжает жить в человеке, с современностью или против неё – как подспудный долгосрочный план, который не обязательно выбираешь себе сам, но который объявляет себя как вызов к дальнейшей обработке. Постановка, вечная постановка задачи. В зависимости от контекста, в зависимости от культурного фона сограждан и внешнеполитического положения это означает управиться с вопросами, а то и позволить им доминировать. Извлечь из фрагмента смысл момента; в следующей подобной ситуации увидеть, что извлечённое снова забыто.
Эти остатки опыта пусть и рухнули как берлинская Стена, рухнули или распались, как Советский Союз, но они не исчезают. Они ведут свою жизнь, то тихую, то газированную, то гибридную, то жаждущую однозначной идентификации. Тихую, когда вопрос о происхождении, который всплывает рано или поздно при каждом знакомстве, признаёт простой, не требующий особого ухода ответ; более громкую, когда кто-нибудь начинает вести поиски градуса интересности и из летнего салата со здоровой составляющей балластных веществ выковыривает что-то единственно съедобное.
Со временем ответы автоматизируются. Вырезаешь из себя свои стерео-типы, становишься мультикультурным типом, способным – в естественно рациональном понимании – выразить на аналитической дистанции то, что для меня не является ни описуемым, ни постижимым: здравствуйте, с немецкой прямотой и грубой русской самоинсценировкой я предлагаю: наведите сами порядок, соответствующий вашим ожиданиям. В моих жилах перепутана вся Восточная Европа, и их вскрывать я не готова. На визитной карточке напечатаем: места происхождения моей семьи простираются от Потсдама до Ташауза; места ссылки, бегства и переселения – от Сахалина до Севастополя через Винницу, а языки, на которых говорили, сменяя один другим, не совпадают ни с национальностью в паспорте, ни с национальным языком государств, в которых жили-были до определённого момента времени. Мой отец вообще китаец. Обыкновенная советская семья.
Динамика балласта – или для удобства: балла, мяча, который сам отпасовался из прошлого в сегодня – содержит щепотку динамита, уже упомянутую энергетику. Она может взорвать дно лодки, а может оказаться основой опыта, в который погружаешься как в насиженное кожаное кресло. Из этого сиденья на миндальном дереве можно при случае говорить с микроскопической, микроволновой претензией на истину. Оно поддерживает, в нём удобно, как на балконе, выходящем на юг, как при выдувании пузыря из фантастически эластичной жевательной резинки с Запада. В этом сиденье забвения вспоминается то, что торит себе путь сквозь ненужное или взлетает как хорошо забитый в небо мяч: бей по нему, смачно, лупи и отпасовывай дальше, прямо в тортик анекдотика. Пусть он скатится в вымышленное, из шезлонга и с дивана вниз. Кто-то мог бы его даже укусить, от голода, не зависящего от времени и пространства, по чему-то другому. Раскусывая контуры, хватко, захватывающе.
Увидеть в море порт-герой удастся в акте, который мы окрестим синэстетическим интеропытом. Мы вместе с соседями едим гляссе, я варю для них борщ, они показывают мне взаимосвязь сыра со швейцарскими блюдами. Мне нравится их словечко «Gsi». Пусть будет gsi (по-швейцарски это «было-сплыло»). Вытесненное срывается как голубь с каменной стены, и затонувшие корабли, запершие вход в бухту, поднимаются и идут в дальнее плавание. След просвечивает через блокнот, направляя взгляд на стержень, которым он пронизан. Мы видим с террасы полиса: танцуют New Kids, лучась как солнце над Старым городом. Рассеялся туман из утренней долины, моего Востока.
Помимо длительности, есть бесконечно протяжённая одновременность. В ней больше не отыщешь оригинального места, она состоит из уклонений от него – в хорошем старом смысле дифферанса, нюансов шанса. Хватит скакать у истока, элегантно исходить из него в акте миграции, а что же с местом? Оно мертво.
Мы позволим себе: есть не только сексуальное, есть и пространственное влечение. Есть пространства, к которым нас влечёт, и есть пространства, которые выматывают нас. Такие, что поначалу не впускают, и такие, что водят нас за нос, хотим мы или нет. Есть пространства, которые мы хотим, и есть такие, что хотят нас назад, хотя в том виде, какими мы их знаем, их больше нет. Есть пространства, которые вспыхивают в других людях у нас на глазах, и есть люди, которые протягивают нам пространства, когда мы смотрим им в глаза и узнаём в них финские озёра, русские реки или крымские Альпы. Которых мы жаждем, с которыми мы на мгновенье сливаемся, чьи топонимы имеют тот же тон и оттенок, что имена возлюбленных, которые мы как-то персонифицируем, которые не мыслим себе иначе как объекты любви – и субъекты, ещё бы!
Русский полуукраинец не рвётся съездить на Запад, он и нынешним летом строит в родной деревне Зиновьева, давно исчезнувшей с лица земли, свою традиционную бревенчатую избу с аккуратными сенями. Вместе с одним археологом он расчистил фундамент родного дома этого писателя, раскрыл для социологов и собственноручно возвёл избу на том же самом месте. Может, он сам там рождается заново каждое лето? Одно слово: оригинал. В этих сенях стягивают валенки перед тем как ступить в дом. Обтёсывая брёвна, он вспоминает стихотворения Есенина. Кто-то пишет докторскую диссертацию о «Значении исчезающей деревни в…». Кто-то становится врачом, а кто-то голодает, доходя до состояния пациента. Сени мы впишем в меню в качестве закуски перед неведомым блюдом зимы.
Я комментирую русские излияния: сырой материал. Капуста, всё капуста, шутка: авось в ней кого-то найдёшь. А ведь вполне можно принять за признание, за легитимацию того, что лежит за пределами моей досягаемости – где-то в реально-конкретном, контролируемом, географически достижимом Крыму, а не в непостижимой для меня крыминалистике эмпатических описок, опасных желобов скольжения в аквапарках.
Есть один-единственный «политический» (поли-этический?) диагноз, который я себе позволю, и да простится мне – так же, как некогерентный пафос наивности, с мафиозным крёстным патером на заднем плане. Ну вот, главное для меня – проигрывание того, что надо бы отложить на чёрный день, на крайний случай, на прилавок бара Русскостъ, а ещё лучше на политеррасу – если буду читать для Миши об этом вслух, то именно там, чтоб он увидел, где виды сместили мне точку зрения.
Может быть, речи, статьи, сообщения и ставшие историческими действия, дарения, стратегии и озираемые оком Аргуса аргументы под рациональной герметизацией всё-таки не вполне герметичны. Может быть, пространственное влечение держит их под контролем. Ибо чем была бы империя – Османская, Британская, Готландовская, Российская, НАТОвская – без ботоксного слоя накачки символами? Импро-нацией? Кувырок, рулетик с кремом, и ещё заверните, пожалуйста, новый киноролик – для нас или нас в него.
Забудем, что эти политики и их политика, радикальные и умеренные углы в конечном счёте выстроят череду пространственных эффектов, что зиждутся на презренных, осуждаемых, но всё-таки могущественных аффект-олигархиях. Олигархии чувств покоятся вокруг этих пространств, то бурлят в буквах, образах, запахах и даже в оскорбительно воздетых средних пальцах. Можно назвать события, в нескольких оплаченных абзацах для газет поставить их один под другим и в связь друг с другом. Так что они образуют «образ». Предаться перу, читателю и всеобщему образованию. Да. И всё же останется чудный остаток. Большое спасибо за ваши усилия, вашу пространственную фантазмаму.
Это тоже можно опровергнуть, так же легко, как исторические претензии. Можно снова надеяться, что обойдётся без танковой брони, и в пространстве между строк лишь этот мини-хитин безумия останется самым большим возможным крыминальным деликтом. Ибо деликатес, о котором мы, как нам кажется, ведём речь, давно заболтанный, военно-выгодный, дорогой и пошло-сентиментальный, чудесный и соблазнительный – где он?
Пространственное влечение иссекает пространство само по себе. Вожделение, за которым мы бежим, держит в жизни, если не разрушает нас. Оно слепит как полуденное солнце. Я надеюсь, мы, утомлённые, выспимся в сиесту без будильника и перейдём к поеданию органических арбузов в оргии коллективного объюжения. Давайте сообща писать, давайте прописывать себе поэтологию глобальной литературы, в которой регионализмы, локализмы, топологии и топографии дружные и передвижные; интуитивно связать воедино, искать сходства, а не настаивать на особенностях неподражаемого. В гостях хорошо, а дома лучше, следы путешествий загрязняют окружающую среду. Насекомых – сецировать. (Поклон эффектам бутылки крымского секта). У каждого за горами – свои маленькие родинки.
Крымские безделушки
Уже забавно. Страна огромная, страна равнинная; считается, там степь да степь кругом. Если не считать Урал, Алтай и Кавказ. Куда ни глянь, в глаза тебе твёрдо смотрит горизонталь горизонта. Но мышление, действие, код продвигается вертикально. Мне кажется, люди правы, к сожалению, «та» культурная коммуникация попахивает иногда насилием, даже если она надушится (иногда с избытком): в просоветских речах строителя избы Зиновьева, как и в антирусских речах ненависти мрачного художника. Один аргументирует (агитирует) как антисемитский неославянофил, другой как русофобский новоеврей – они грустно схожи в их однобокой брутальной сентиментальности. Но вот что мне хочется учинить над ними, когда они виляют стрелкой своего компаса.
Светятся у обоих русые волосы, сверкают зелено-голубые глаза. Оба в середине жизни, 30 +, оба не очень знают, на что бы употребить эту жизнь, и оба помешаны на идеалах своего культурного пространства. Они уговаривают меня, перетягивают меня каждый на свою сторону – кто в монастырь, кто в мастерскую художника. В возвышении и унижении, в или-или и в безоговорочной капитуляции перед различением. Логическое мышление – присутствует. В любви к мысли и прочерку-тире – верны. Вплоть до того места, что судьбу следует принимать и нечего субъекту противиться ей – как и историческому предопределению. Не замечать, как переливается через край всякая основа коммуникации, этот трезвый напиток по имени доверие. Страна велика, можно сбиться с пути, можно и вовсе уехать из страны. Один говорит, что это предательство, другой – что это лучший выход.
Но как же это было? Ещё раз: русский в Москве, цитируя советский фильм Люди и звери, спрашивает, есть ли любовь за границей, а я вместо ответа спрашиваю, а где находится эта заграница. Он в ответ предлагает взять ещё один мандарин. Я предлагаю поехать в Севастополь, это они делают в конце фильма, втроём. Он пишет, что я более русская, чем большинство русских в нынешней России, и, забыв об этом, позже пишет, что евреям и русским не о чем говорить. И что этого я могу прождать всю жизнь, и скорее луна упадёт на землю.
Юлимонд – такова кличка самого старого школьного друга, тоже блондинистого – бросил аспирантуру в Потсдамском институте географии и пишет теперь с азартом для жёлтой прессы. Его работа называется образованием общественного мнения, так он говорит. Он предлагает мне купить бронежилет и поехать с ним в Украину, переводить для его газеты. Раньше он говорил по дороге в школу, что успешно бомбил в компьютерной игре мой родной город. Мы перестали тогда разговаривать.
Сейчас балконные перила стали бы мне намного ниже, чем раньше – хватило бы одного сильного движения. Во избежание этого я пишу любовное письмо из вестибюля Комической оперы, из государственной библиотеки Берлина, из Центральной библиотеки на Церингерплац и из Ленинки недалеко от площади Революции. А что ещё делать в этих центральных органах. Я пишу письмо в университет, нет, в универсум. Чтобы он вычеркнул из плана неистовых экс-активистов андерграунда. Чтобы остановил мужчину, который сдаёт в гардероб Ленинки книгу, в которую встроил бомбу, о чём мечтает художник от слова «худо». Чтобы шепнул мальчику-с-пальчик на ухо: расслабить и помирить блондинов и неблондинов – и увести бы их в баню.
В поезде Киев – Варшава я слышала от одной молодой, образованной украинки, что в Киеве мужчины часто импотентны, из-за чего она наезжает к своему новому другу в Польшу. Было бы хорошо, если бы они снова смогли обрести свой жизненный смысл и свою чувственность.
Скоро мне не придёт в голову уже ни одного правила на этот счёт. Правила веры уже распались. Я одним махом прыгаю к крепкой вере и хотя не знаю, как она выглядит, но верю в неё, в примирительницу Крыма, чтобы навсегда распрощались с окровавленной землёй.
Я направляю моё письмо в департамент питания и культуры. Обе ветви предоставляют стабильное местопребывание в парламенте миндального дерева: они не только взаимно обусловливают друг друга, они развиваются параллельно и даже успешно парализуют друг друга. Рагу культуры одному по вкусу, другому не особо. Совсем без него не обойтись, это – мясо на рёбрах, соль супа. Культура происходит от агрикультуры, так же, как сперва идёт хлеб на стол, а потом уж мораль под стол.
Сажать продукты питания и потом из них что-то готовить с калориями и пряностями, есть культура, есть с ножом и вилкой – это ещё больше культура, а если он ест то, что я люблю, мы чувствуем сродство, мы вместе, сообща, и нам не приходится прибегать к языку слов.
Когда нечего есть, люди теряют дружелюбие. Если нет простой еды, к которой они привыкли, они будут что-то делать для того, чтобы опять до неё добраться. Если ты не получишь еды, ты получишь войну. За настоящую культуру, за привычное блюдо, за то, чтобы никто не голодал. Неразборчивый почерк войны в нашем империальном филиале мы – как и во всей сети «Вост. Духа» – вычеркнули из геокулинарной карты.
Видение: придать облик травмам, как и мечтам. Shaped вместо shaved, и место, именно: место – взошло и после следующего замешивания опять взойдёт. Приготовить мачты и паруса к новым путешествиям, блюдам, способам поведения и речи. Сейте гречиху вместо ненависти, варите хотя бы из неё что-нибудь поесть вместо того, чтобы кипятить ненависть. Щи да каша – пища наша.
Все блюда, впрочем, сварены по какому-то образцу или рецепту, в том числе и те, что называются «аутентичными». Больше нет настоящего-ненастоящего, так же, как устарели восток-запад, пролетая, словно лето, мимо самолётом – комично, как комета.
Каким моральным кодексом мы меряем пост – или ретромодернизм, моральную и мыльную анархию на Востоке? В каком суде, за каким блюдом? Мой монолог порицает личное как особенное (оно – не более, чем пример нашего, общего), стихо – и тихотворное (уже не до стихов), непримиримое. Если это для тебя недостаточное искусство, иди улыбайся Моне Лизе. Поездка по озеру. Переварить, выстроить доверие. Потом посмотрим.
Облака зеленят листву салата. Хорошо бы провернуть их через мясорубку, чтобы получилось смузи. Погрузить в винный уксус, убить бактерии, удушить шумиху, пока Крым не станет nasch – лакомым десертом для всех согласных и сочувствующих, из шампанских конфет, замешанных шоколадье Линдт и Шпрюнгли: «крымская лакошка». По-французски это звучало бы корректнее всего: лакош, по-украински: лакошко. Наше окошко.
– После нашего меню обеда по имени Одиссея, после нескольких ходов, кругов, чёрных квадратов, красно-сине-белых солнечных ромбов, после нескольких бокалов крымского вина, после нескольких жутких туннелей и надежды на свет в их конце, what else, однако не берлинской Золотой Эльзы… а теперь довольно остроумия и расстройства, ваше полуостровное Геройство.
Примечания
1
В «NZZ» от 22.4.2014.
(обратно)2
Augustin, Ioan: «ScarCity. Vom Genius Loci (ver)Gift(ete) Orte zu einem denkwürdigen Stadtbild». In: Groys, Boris u.a. (Hg.): Zurück aus der Zukunft. Osteuropäische Kulturen im Zeitalter des Postkommunismus. Frankfurt a. M. 2005, S. 364–406.
(обратно)



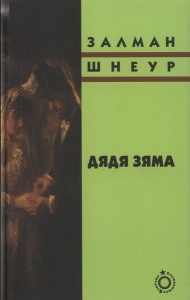


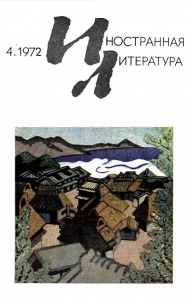
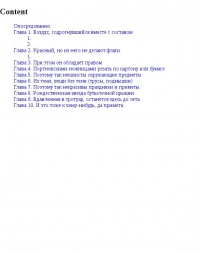
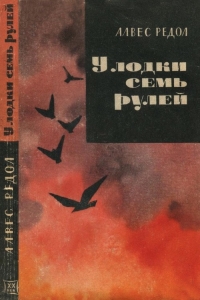


Комментарии к книге «Севастопология», Татьяна Хофман
Всего 0 комментариев