Андрей Шляхов Байки доктора Данилова
Вы простите за всю эту канитель,
но дело, видите ли, в том, что всякий раз,
когда я пишу Вам, мне хочется наговорить
Вам чего-нибудь такого, отчего Вам
было бы и весело, и приятно и вообще
легче жилось на этой довольно-таки
дрянной земле.
Из письма А. М. Горького А. П. ЧеховуДоктор Данилов не только хороший врач и хороший человек, но еще и хороший рассказчик. Только ему все никак не выпадало случая выступить в роли рассказчика. Теперь эта вопиющая несправедливость ликвидирована. В этой книге рассказывает о себе и не только о себе сам доктор Данилов.
Все истории абсолютно и полностью реальны, а не просто «основаны на реальном материале». Только имена и фамилии действующих лиц изменены, за что доктор Данилов просит действующих лиц на него не обижаться.
Пятьдесят оттенков красного
Многообразие бытия не находит своего отражения в поводах к вызову «Скорой помощи». Болит живот, высокая температура, плохо с сердцем, задыхается, травма, отравление, кровотечение… Ну и еще кое-что. Если систематизировать по всем бюрократическим правилам, то получится десять групп состояний, представляющих угрозу жизни. Ключевые слова, если кто не в курсе, — «представляющие угрозу жизни». Именно при таких состояниях положено вызывать «Скорую помощь». И это вроде бы все знают…
«Плохо с сердцем» — самый распространенный повод. И совсем не факт, что, приехав на этот повод («приехать на повод» — это выражение из скоропомощного лексикона, а не проявление моей неграмотности), бригада не наткнется на ножевое ранение, белую горячку или, скажем, на элементарный гоп-стоп с целью отъема сильнодействующих препаратов или денег. Да-да — денег. В некоторые головы порой приходит «гениальная» мысль ограбить сотрудников «Скорой», которые на каждом вызове гребут деньги лопатами. Организация подобного грабежа сложности не представляет, поскольку скоропомощную бригаду можно вызвать в любое подходящее для преступных намерений место. Повод к вызову «мужчина 40 лет, перелом ноги», а на самом деле в подвале многоэтажки бригаду поджидают два алкаша, которым не на что опохмелиться…
Всяко бывает. Жизнь на «Скорой» тяжелая, но скучной ее назвать нельзя. Широкое употребление повода «плохо с сердцем» (или если точнее, то злоупотребление им) представляется мне довольно обоснованным и логичным. Посудите сами — почти все болезненно-травматичное, начиная с торчащего в спине ножа и заканчивая абстинентным синдромом, в той или иной мере отражается на сердце. Или оно начинает болеть, или сбивается с ритма, или норовит остановиться… Но оставим прикладную кардиологию в покое, сейчас речь не об этом.
В моей практике, на втором году выездной работы, однажды произошел такой вот случай. Приехав на повод «женщина 30, плохо с сердцем», я застал на месте, причем не в квартире, а в подъезде «нехорошего» дома, аж троих кандидатов в пациенты:
1) женщину тридцати лет с закрытым переломом костей левого предплечья, обширными ожогами кипятком и сотрясением головного мозга;
2) мужчину тридцати лет с обширными ожогами кипятком и переломом костей носа;
3) мужчину сорока пяти лет в состоянии алкогольного опьянения с сотрясением головного мозга и переломом нижней челюсти.
Неплохо, очень неплохо, особенно с учетом того, что работал я в ту смену один, без фельдшера. Вообще-то, по канонам, писанным золотым пером на белоснежных облаках, фельдшеров в одной бригаде может быть даже не один, а целых два, но то каноны, а то жизнь. Фельдшер тоже человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Он может заболеть, уйти в запой, внезапно уволиться и даже (не про нас с вами будь сказано) скоропостижно скончаться, иногда даже прямо во время работы на линии. Вот и приходится врачу временами работать в одиночку. Врач тоже человек, и с ним тоже всякое может случиться. Тогда в одиночку будет отдуваться фельдшер. Но фельдшерам чуточку легче, поскольку на серьезные поводы вроде «задыхается» или «потерял сознание» принято отправлять врачебные бригады. При наличии свободных, разумеется. Если под рукой у диспетчера нет свободных врачебных бригад, то к потерявшему сознание отправят фельдшера. Ну и опять же, серьезность повода и тяжесть состояния пациента не всегда взаимосвязаны. Вызывающие нередко «утяжеляют» состояние, считая, что в таком случае бригада приедет быстрее. А иной раз при весьма серьезных проблемах со здоровьем вызывают на «головную боль».
Упомянутый мною «нехороший» дом — это не булгаковский дом на Большой Садовой. В районе обслуживания каждой подстанции есть свои «нехорошие» дома, куда вызывают часто, чаще всего не по делу, да вдобавок на большинстве вызовов происходят скандалы. Наш «нехороший» дом был бывшим общежитием деревообрабатывающего комбината, населенным простой и бесхитростной публикой. Основным развлечением жильцов были пьянки-буянки. Пока дом считался общежитием, там имелся какой-никакой комендант, у входа дежурила вахтерша, а чрезмерно пьющих и особо буйных увольняли с работы и автоматом выселяли из общаги. Короче говоря, там было некое подобие порядка. С началом приватизации жилья общежитие превратилось в обычный дом. Коменданта и вахтерш не стало, выселять уже никого не выселяли, потому что практически невозможно выселить человека из принадлежащей ему квартиры или комнаты, разве что посадить. Подобие порядка исчезло напрочь. Если вызов в «нехороший» дом обходился без какого-либо ЧП, то это считалось большой удачей.
Вселенский закон подлости применительно к скоропомощной работе звучит так: «Чем меньше в бригаде народу, тем круче нагрузка». В те редкие светлые дни, когда со мной ездили аж два фельдшера, я ложился спать в половине двенадцатого вечера, зная, что вызовов ночью не будет, и спал обычно до семи утра сном праведных (ах, если бы знали вы, как сладок сон за деньги, да еще и с ночной надбавкой — м-м-м!). А если работаешь один, то носишься как савраска. Закон подлости из тех законов, которые не знают исключений.
Пострадавшие находились на лестничной площадке, возле лифта. Не потому, что заранее приготовились к эвакуации, а потому, что лестничные площадки в бывшей общаге были чем-то вроде клубной зоны, где жильцы могли общаться друг с другом. Многие площадки шестнадцатиэтажной башни были благоустроены — два-три старых стула, такой же столик, пепельницы из консервных банок, какое-нибудь чахлое растение на подоконнике.
Женщина лежала посреди площадки на обычном «постельном» матраце. Молодая, симпатичная, совершенно голая, кое-как укрытая сверху ситцевым халатом. Левая рука ее была прижата к груди и поддерживалась правой рукой. Даже с учетом того, что руки находились под халатом, можно было сразу и уверенно диагностировать перелом костей левого предплечья. Практически для каждого перелома есть свое «любимое» положение травмированной конечности. Кожа на лице и ногах была красно-белой — белые ожоговые пузыри на красном фоне. Женщина была в сознании — то закрывала, то открывала глаза и тихо страдальчески стонала. Уже только по громкости и тональности стонов было ясно, что ей очень плохо, то есть очень больно.
Люди, которым очень плохо, не орут во весь голос. У них на это нет ни сил, ни энтузиазма. Те, кому очень плохо, тихо стонут или вовсе молчат. На этом, собственно, и основан главный принцип сортировки пострадавших при различных массовых ЧП — в первую очередь занимаемся теми, кто молчит, во вторую — теми, кто стонет, а те, кто орет, подождут, с ними в целом и общем все в порядке.
Женщину утешали трое или четверо подруг, стоявших вокруг нее на коленях. Подруги то и дело стреляли глазами влево и вправо. Влево они смотрели сочувственно, а вправо — негодующе и с презрением.
Слева в углу сидел на корточках парень лет тридцати с залитым кровью лицом и тянул из бутылки пиво. В отличие от женщины он был относительно одет, на нем были семейные трусы с алыми лампасами. «Генеральские», — машинально подумал я. Торс парня тоже был покрыт ожоговыми пузырями. Рядом с парнем сидел приятель, одетый в спортивный костюм. Приятель тоже пил пиво и что-то негромко бубнил в успокаивающей тональности. Слов не разобрать, но ясно было, что смысл сводится к «все хорошо, не нервничай».
Справа на подоконнике сидел мужик среднего возраста, относящийся к категории «ханыга» — плешивый, небритый, грязноватый, красноносый, опухший. Обеими руками он придерживал нижнюю челюсть — еще один перелом. На меня он посмотрел радостно и с облегчением, как на своего спасителя.
В первую очередь я занялся женщиной. Не потому, что вызов был сделан к ней и не из галантности, а потому, что она выглядела наиболее тяжелой. Сняв халат, которым она была укрыта, я увидел, что у ней спереди обожжено практически все тело. Но, к счастью, дальше второй степени, то есть дальше пузырей, дело не пошло. Без расспросов было ясно, что она обожглась кипятком. На пострадавшей левой руке болтались наручники, свободное кольцо которых было сломано.
— Это у нее от горячей воды так, а еще закрытый перелом левой руки и сотрясение головного мозга! — доложила мне одна из подруг. — Сознание потеряла, когда ее муж ударил, — кивок влево, — но ненадолго.
— Не надо про это, Тань! — простонала пострадавшая.
— Почему не надо?! — возмутилась Таня. — Я же по делу говорю! Но муж, конечно, не виноват, это все этот… — последовал кивок в сторону сидевшего на подоконнике ханыги. — А вообще, доктор, все это дело житейское, в милицию сообщать не надо…
— Я этим не занимаюсь, — уклончиво ответил я, имея в виду, что обо всем противоправном в милицию сообщит врач приемного отделения стационара, ему положено это делать. — А вы, как я погляжу, медсестра?
— Да! — гордо кивнула Таня. — В здравпункте на комбинате работаю.
— Замечательно! — похвалил я. — Тогда будете мне помогать. Для начала сходите, пожалуйста, к машине и скажите водителю, чтобы принес носилки, шины и стерильную простыню…
Пока Таня ходила за водителем, я успел сделать обезболивающий укол женщине, осмотреть ханыгу и наложить ему фиксирующую повязку на сломанную челюсть. Обезболивать его я не стал, поскольку он был сильно пьян. С одной стороны, боли практически не ощущал, только неудобство, а с другой — на фоне выраженного алкогольного опьянения обезболивающие препараты могут действовать не совсем так, как им положено. Здесь же к алкогольному опьянению добавлялось еще и сотрясение головного мозга. Жаловаться ханыга не мог, он только мычал, но уж если удар был таким, что сломал довольно крепкую нижнечелюстную кость, то сотрясение мозга, хотя бы в легкой степени, непременно имело место. Тут уж, как говорится, к гадалке можно не ходить.
Явившийся водитель — мастер на все руки, при помощи своего складного ножичка в несколько секунд снял с запястья женщины наручники. Я наложил шину на левую руку женщины и занялся парнем, который пострадал меньше всех. Перелом костей носа, ожоги, но в целом он держался бодро, пьян был не сильно (по меркам «нехорошего» дома — так практически трезв) и жаловался только на то, что не может дышать носом. Еще бы! Кровотечение к тому моменту прекратилось, так что вся моя задача свелась к осмотру.
По-хорошему (и по инструкции тоже) мне следовало бы вызывать «на себя» две другие бригады, а не превращать свой бригаденваген[1] в подобие маршрутки, но свободных бригад на подстанции не имелось — январь, эпидемия, лихолетье, все пострадавшие были стабильными, а ехать до больницы совсем недолго — каких-то семь минут с мигалкой по ночной Москве. Дама, как и положено дамам, поехала лежа, со всеми удобствами, а мужчины — сидя. Ничего, нормально доехали. В приемном отделении, правда, немного удивились тому, что одна бригада привезла сразу троих, причем не с улицы после какой-нибудь аварии, а из дома, но дело не в этом…
Дело в том, что меня из чистого любопытства, а не ради сообщения в милицию интересовали обстоятельства случившегося. Мозг врачей так устроен, чтобы непременно докапываться до самой сути. Если убрать ожоги, то пазл складывался довольно просто — парень застукал свою неверную жену в объятьях ханыги и устроил скандал с мордобоем. Невзрачность ханыги значения не имела. Может, парень — импотент, а невзрачный ханыга — гибрид Казановы с Дон Жуаном. Всякое в жизни бывает. И наручники как элемент ролевой игры особого удивления не вызывали. У многих, знаете ли, чувство несвободы усиливает ощущения. А возможно, что и ревнивый муж приковывал ветреную жену к батарее, чтобы она в его отсутствие не могла бы никуда отлучиться, но герой-любовник или пришел сам, или нашел возможность освободить любимую… Короче говоря, многое можно объяснить, но только не эти чертовы ожоги кипятком. У двоих есть, а у третьего нет, хотя если он любовник, то ему вроде как положено их иметь…
— Что мы имеем, Ватсон? — сказал бы гениальный Шерлок Холмс, окажись он на моем месте. — Мы имеем довольно нестандартный набор травм, обнаженную и обожженную леди на лестничной площадке, покореженные наручники на сломанной руке леди и пар, много пара…
Да, прошу прощения, я забыл сказать, что на площадке довольно сильно «парило». Не так, конечно, как в бане, но близко к тому. В рабочей суете я не придал значения этому обстоятельству, не учел его. Решил, что тут так сильно натоплено и еще сильно надышали. Когда ты один на троих пациентов, как-то некогда задумываться над влажностью воздуха. Не до нее.
В стационар мы ехали недолго, считаные минуты, но этого времени мне хватило для того, чтобы разговорить парня и выяснить все обстоятельства случившегося. Почему именно парня? Да, собственно, никого другого я и разговорить не мог, потому что дама, получив положенное ей обезболивание, задремала, а из ханыги со сломанной челюстью собеседник был никудышный. При помощи мычания можно общаться лишь в том случае, если оба собеседника знакомы с азбукой Морзе. Я же из нее знаю только «три точки — три тире — три точки» — международный сигнал бедствия SOS, так что вариантов общения с ханыгой у меня не было.
— Мы с женой играли, — разоткровенничался парень (врачи вообще располагают к душевному общению, к тому же после потрясений некоторых людей конкретно пробивает на откровенность). — Разнообразили сексуальную жизнь. Нам такое психолог посоветовал, когда у нас после трех лет совместной жизни охлаждение друг к другу наступило. Мы разное пробовали, а в этот раз решили, что я буду похитителем, а Вера — жертвой. Ей эта роль очень нравилась. Я приковал ее руку наручниками к трубе, у нас прямо у кровати батарея, очень удобно. А когда после хотел открыть наручники, то сломал ключ. Половина застряла в замке, замок заело. Я попробовал ножовкой, но у меня ничего не получилось. Металл хороший, да и Вера все время дергалась. На нервной почве ей стало плохо, и я пошел к соседу, чтобы вызвать «Скорую» (дело было в «малосотовом» 1995 году, а стационарные телефоны в бывшей общаге были редкостью). Этот м…ла, — парень сурово посмотрел на ханыгу, — предложил перепилить наручники болгаркой. Я сдуру согласился, не посмотрел, что он пьяный. А он вместо цепи резанул по трубе, хорошо еще, что не по руке. Кипяток ударил фонтаном. Я пытался отцепить жену, а этот м…ла, вместо того чтобы мне помочь, убежал и болгарку унес. А трубу перерезал не до конца. Я уж и не помню, как отцепил жену, вот — руку ей сломал, но все же сумел. Она в панике меня по лицу ударила, нос сломала, пришлось стукнуть ее разок, чтобы не мешала спасать, короче, обоим досталось. Я вышел в подъезд сам не свой, а там этот тип стоит и ухмыляется. Ну, я от всей души и дал ему в зубы…
«При чем тут оттенки красного?» — спросите вы, дочитавшие мой рассказ до конца. Ну, во-первых, при том, что игры с наручниками вызывают определенные ассоциации. А во-вторых, оттенков красного в подъезде было предостаточно — кровь на лице, кровь на руке, кровь на полу, ожоги разной степени выраженности, багровое лицо соседки снизу… Нескучная, в общем, выдалась ночка, и вся в красных тонах.
Мораль (да, у этой истории есть мораль) такова: прежде, чем приступать к ролевым играм, обзаведитесь гидравлическим арматурорезом или гидравлическими же кусачками. Про кусачки не я придумал, про них водитель сказал. Надо же учитывать, что замок может сломаться.
«Ibi victoria, ubi instruendum», — говорили древние римляне — там победа, где оснащение соответствующее.
Берегите себя! Думайте о последствиях!
Легенда о пионере
Фельдшеру Ларе нравился водитель Витя Кузьмин. И доктору Оле он тоже нравился. Неизвестно, до каких потрясений на одной отдельно взятой подстанции могло бы дойти соперничество двух женщин, если бы Лара и Оля не были бы близкими подругами. Более того они работали вместе, на одной линейной бригаде, а это уже больше, чем просто дружба, это нечто вроде фронтового братства, или, если точнее, сестринства. А еще обе они жили в одном офицерском общежитии, и у обеих мужья так крепко дружили с зеленым змием, что на жен у них ни времени, ни сил не оставалось. Не оставалось напрасно и совершенно незаслуженно, поскольку что Лара, что Оля были красавицами. Лара в кустодиевском стиле, этакая Златовласка в теле, но без чрезмерно-неэстетичных излишеств, а Оля походила на актрису Одри Хепберн, вроде бы по отдельности и ничего особенного, но в комплексе все смотрится очень даже неплохо.
Водителя Витю Кузьмина на подстанции прозвали Пионером. Не столько за детскую наивность, которую он умудрился сохранить до тридцатника, сколько за постоянную готовность к любовным утехам. «Клич пионера: «Всегда будь готов!» — помните? Вот и Витя всегда был готов. Его «всегда» означало именно «всегда и постоянно», а не «часто» или «нередко». Приедет бригада на вызов, доктор с фельдшером уйдут помощь оказывать, а Витя пригласит в салон проходящую мимо любительницу развлечений и отлюбит по полной программе. Или по неполной, если врач с фельдшером скоро вернутся. Или, скажем, отдыхает бригада на подстанции в перерыве между вызовами, а Витя слиняет тихонько в машину с кем-то из своих многочисленных любовниц и «дает стране угля». Весельчак доктор Туркин даже песню о Вите сложил, на английском. Точнее, не сложил, а переиначил старую песню группы «Бони Эм» о Распутине. Пел: «Ku-Ku-Ku-Kuzmin, Russia’s greatest love machine…» Витя не возражал, ему нравилось, когда им восхищались.
Несчастная Витина жена, родившая от беспутного мужа трех прелестных девочек, отчаянно старалась сохранить семью. Поначалу она даже приходила на подстанцию устраивать скандалы Витиным пассиям. Но что она могла сделать — одна против целой орды? Пассии у Вити были не только на подстанциях, но и на районе, и в приемных отделениях разных больниц, и вообще где их только не было. Витя обладал каким-то невероятным магнетизмом, женщины тянулись к нему, как пчелы к меду. Витина жена очень скоро отчаялась и смирилась. Решила вместо семьи сохранять ее видимость. Разводиться Витя не хотел, поскольку очень любил дочерей и вообще считал, что «хрен на хрен менять — только время терять». Жена утешалась тем, что муж у нее хоть и гулящий, но зато непьющий, всю получку домой приносит исправно. На пассий своих Витя не тратил ни копейки, у него все было бескорыстно и по доброму согласию.
Насчет детской наивности я не преувеличиваю. Природа щедро одарила Витю всем, кроме ума. Если бы им всерьез занялись психиатры, то поставили бы диагноз дебильности в легкой форме. Но психиатрам до Вити не было дела. Окончил восемь классов, выучился в ПТУ на водителя, отслужил в армии, работает на «Скорой помощи» — с чего бы психиатрам им заниматься? У них и без этого дел хватает.
Если бы, конечно, природа Вите и ума отвесила той же мерой, что и красоты с обаянием, то не вышло бы никакой истории.
Оля с Ларой имели в анамнезе[2] любовные эпизоды с Витей, но относительно редкие эпизоды их мало устраивали. Они решили улучшить это дело и вместо того, чтобы выцарапывать друг другу глаза или прибегать к столь любимому всеми медиками мышьяку, поступили умнее. Договорились любить Витю вдвоем. Одновременно. А пуркуа не? Что тут такого? Во-первых, Витиных сил хватало и на обеих сразу (да его бы и на семерых хватило бы, жеребца этакого!). Во-вторых, любовь втроем Вите очень нравилась, и он практически целиком стал принадлежать Ларе с Олей. Во всяком случае, на дежурствах — уже большое дело. В-третьих, сохранилась и ничуть не пострадала крепкая женская дружба, а ведь такая дружба очень дорого стоит. И в-четвертых, в курилке (тогда на подстанциях еще были курилки) Лара с Олей признавались заслуживающим доверия личностям в том, что втроем все же гораздо интереснее, нежели вдвоем.
Почему «на дежурствах»? А где еще, скажите пожалуйста? Приводить Витю в офицерское общежитие было не с руки. Не те условия, кругом глаза и уши, контроль на входе, у некоторых жильцов табельное оружие при себе, дети дома… Совсем не вариант. Дома у Вити были жена, которую хронические измены мужа превратили в нечто среднее между фурией и Медузой горгоной, дети и теща. Кто-нибудь да всегда дома. К тому же Лара с Олей дежурили сутки через двое (на полторы ставки), а в промежутках между дежурствами подрабатывали. Лара — медсестрой в частном медицинском центре, а Оля — коммивояжером в фармацевтической фирме. Обе копили деньги на самостоятельную жизнь — развестись с мужьями-пьянчугами, съехать из общежития на съемные квартиры, обзавестись всем самым необходимым и жить — не тужить. Так что у дам оставался всего один выход — предаваться любви во время дежурств. В машине. На подстанции им не хотелось. Коллеги шуточками задолбают. Не все же такие толстокожие и бесхитростные (бесстыжие?), как Витя, который на вопрос «Где ты был?», не моргнув глазом отвечал: «Люсю (Надю, Машу, Лену…) в машине трахал».
Действовали так. Ночью Витя кидал по телефону из водительской уличный ложняк (то есть делал ложный вызов к человеку, якобы находящемуся на улице). «Алё! Скорая? На улице Прокатчиков возле восьмого дома, на углу мужчина лежит! Без сознания. На вид ему лет пятьдесят. Нет, вроде бы водкой от него не пахнет…» Классика жанра.
Все на подстанции знали, почему у 14-й бригады через две ночи на третью (в дежурство Оли, Лары и Вити) ночью всегда бывает уличный вызов, но помалкивали, потому что влюбленные вели себя честно по отношению к коллегам. Во время запарки, когда вызовы сыплются один за другим, ложняков не кидали, несли службу, как и все остальные. Ну а когда все спокойно, то почему бы людям и не расслабиться? Всю троицу на подстанции жалели — у девок мужья алкаши, у мужика жена мегера. Должна же быть у людей хоть какая-то радость в жизни… О том, почему Витина жена стала мегерой, никто на подстанции не задумывался. Как говорится, «на хрена нам нужен анамнез, если патогенез[3] ясен?». Мегера, и все тут!
Дело было в благословенные доджипиэсные времена, когда члены бригады чувствовали себя в машине хозяевами, а не галерными рабами, за которыми денно и нощно бдит недремлющее хозяйское око. Витя отгонял машину в укромное местечко на берегу Москвы-реки, где примерно в течение сорока-пятидесяти минут (служебные нормативы надо блюсти, без этого никуда) троица самозабвенно предавалась любви.
Любовь затмевает разум. Троица забыла одно очень важное, пусть и негласное, скоропомощное правило: «В одном и том же месте два раза подряд не «отстаиваются». Но больно уж место было удобное: тихое, спокойное, и машину с дороги не видно. А то ведь народ как «Скорую» видит, так сразу с просьбами да вопросами лезет. Кому давление померить, кого по поводу застарелого геморроя проконсультировать… Ни минуты покоя.
Но правила, особенно негласные, нужно соблюдать. Легкомысленное пренебрежение чревато серьезными последствиями. Влюбленные пренебрегли правилом и были жестоко наказаны безжалостным провидением за свое легкомыслие.
Машину, часто появляющуюся в одном и том же укромном месте, приметили наркоманы. В те благословенные, как уже было сказано — доджипиэсные времена (а именно — в середине 90-х) многие бригады «Скорой помощи» приторговывали наркотиками и прекурсорами[4], причем — в изрядных количествах. Так что любая скоропомощная машина представлялась наркоманам настоящей пещерой Аладдина. Ради трех ампул наркотиков, которые были у врача официально, и пяти-шести ампул димедрола, что лежали в ящике у фельдшера, они, может, и не стали бы нападать на машину толпой. Добыча — мелочь, на всех не разделишь. А вот «торговый запас» бригады — совсем другое дело. Некоторые сотрудники вели торговлю весьма широко. Их суточный запас считался не ампулами-упаковками, а целыми коробками.
И вот в одну зловещую ненастную осеннюю ночь наркоманы толпой напали на ритмично колыхающуюся и абсолютно беззащитную машину «Скорой помощи». В целом эта публика довольно безалаберна и не склонна к четким слаженным действиям. Но когда дело касалось добычи вожделенных субстанций, могла творить чудеса. Налетели скопом, разом перебили все окна, кричали устрашающе, отжали ломиком дверь салона… Ломик заранее припасли! Вот как основательно готовились, оцените.
Витя после говорил, что нападавших было десять. Лара с Олей называли гораздо большие цифры — до двадцати с гаком. Но не в конкретных цифрах было дело, а в том, что сопротивляться не было смысла. Да и все оружие — молоток, нож, гаечные ключи — хранилось у Вити под его водительским сиденьем, а застали его в салоне, когда он… Ну, впрочем, эти подробности можно опустить, поскольку для сюжета они значения не имеют. Достаточно понимать, что все члены бригады находились в салоне в чем мать родила, беззащитные в своей беспомощности. Опять же, нападавшие действовали наверняка. Вите, как самому опасному из троих, досталось ломиком по плечу и по колену, отчего он совершенно утратил способность к активным действиям. Хорошо еще, что без переломов обошлось.
Забрав то, что было у бригады официально, нападавшие потребовали неофициального, которого у бригады не было, поскольку наркотиками Оля, Лара и Витя не приторговывали. Но пойди объясни наркоману, что его вожделенная пещера Аладдина пуста, — не поверит же. И эти не поверили. Вышвырнули незадачливую троицу в чем мать родила (в том виде, в котором застали) из машины, а саму машину угнали, чтобы разобрать ее в своем укромном месте на атомы и найти все попрятанные заначки. Вышвыривание сопровождалось нанесением побоев, нападавшие вымещали зло на ни в чем не повинных членах бригады. В результате прошло не меньше получаса, а то и час, до тех пор, пока Витя, Оля и Лара пришли в себя и обрели способность передвигаться.
Пошли к родной подстанции. А куда же им, бедолагам, еще было идти? Домой к Вите? Или же в офицерское общежитие?
Призовите на помощь все свое воображение и вообразите эту картину — осень, ночь, ливень, грязь, три голых человека крадучись пробираются к подстанции окольными путями (ну не по улице же прямиком топать в таком виде!)… И нарываются они на милицейский патруль, который их, естественно, задерживает, не слушая сумбурных объяснений. В Москве с середины двадцатых годов прошлого века перестали раздевать догола при ограблении. Так что у милиционеров было два варианта мнения о нагой троице — или чокнутые, или обдолбанные. Вероятнее всего, второе.
Если вы думаете, что на этом проблемы и приключения закончились, то сильно ошибаетесь. По приезде в отделение выходивший из милицейской машины Витя поскользнулся (не привык он босиком по мокрому ходить), ударился головой о бордюр и потерял сознание. Разумеется, дежурный по ОВД вызвал «Скорую». Приехала бригада с соседней подстанции (свои все были в разгоне) и увидела незабываемую картину — голого Витю, лежащего на кушетке в позе спящей Данаи, и сидящих по бокам от него Лару и Олю. Женщинам сердобольные милиционеры выдали одеяла, в которые те завернулись наподобие тог. Получилась такая картина в древнеримском стиле — две рабыни охраняют покой спящего господина… Но дело было не в Витином бессознательном покое, а в том, что эту картину увидели «чужаки». Приехали бы свои, было бы не так стыдно и оставался бы шанс как-то выкрутиться, сгладить дело. Полюбовно договориться со стражами порядка проблемы не составляло. Задержанные были не правонарушителями, а пострадавшими, да и редко ли когда «скоропомощники» выручали милиционеров? А вот соседи-медики сразу же растрезвонили о происшествии. Назавтра об этом на «Скорой» уже знали все — и те, кому положено знать, и те, кому не положено. А то можно было бы сказать, что машину остановили по дороге на вызов и так далее…
Но тем не менее все закончилось более-менее хорошо, могло бы быть и хуже… Машину нашли неподалеку от подстанции и не сильно раскуроченной. Витя неделю пробыл на больничном. Оля получила выговор за то, что, возвращаясь с вызова на подстанцию разрешила водителю остановиться по личному делу (формулировка из ее объяснительной), а Ларе ничего не было. Финансовые потери влюбленных свелись к одежде, которую наркоманы забрали с собой явно с целью продажи.
Гораздо значительнее был моральный ущерб — заведующая подстанцией, получив нагоняй от начальства, взъярилась и навечно разлучила влюбленных, расставив их по разным сменам. Вы только представьте себе эту ситуацию! Люди работают порознь сутки через двое, значит, каждые сутки кто-то один из них находится на линии. Не встретиться втроем никогда, не отвести душу…
В результате большому и светлому чувству быстро пришел конец. Оля развелась с мужем и вышла замуж за одного из фельдшеров, но не со своей подстанции, а с соседней. Лара тоже развелась и стала жить с подстанционным охранником, но без регистрации брака. Витя вскоре уволился и начал перегонять из Германии подержанные автомобили… Злые языки судачили, что после всего случившегося его любовный пыл немного поутих. То ли нападение, произошедшее в самый интересный момент, наложило свой отпечаток, то ли черепно-мозговая травма была тому виной. Или же Витя просто охладел к производственным романам…
Мне хочется думать, что у всех героев этой истории дальнейшая жизнь сложилась хорошо.
Баллада о неупокоенных душах
В кардиологическом отделении одной московской больницы одна пациентка начала слышать потусторонние голоса. За стенкой. По ночам. Голоса стонали и всхлипывали. Тихо, но как-то пугающе.
В больнице по ночам чего только ни услышишь! И то, что есть на самом деле, и то, чего нет. Такие уж это особенные места — больницы.
Поначалу пациентка не осознала, что слышит именно голоса. Решила, что в соседней палате кто-то ночью стонал и плакал. Она сказала об этом во время обхода своему лечащему врачу, а тот напомнил ей, что за стенкой не палата, а кабинет старшей медсестры отделения, в котором если кто из распекаемых подчиненных стонет или даже рыдает, то исключительно в дневное время. С семнадцати часов вечера до восьми часов утра кабинет пустует и заперт на ключ, некому там стонать.
Пациентка решила, что ей почудилось. Следующей ночью она спала крепко и никаких голосов не слышала. А на вторую ночь услышала их снова. В той же тональности — стоны вперемежку с всхлипами. И имела неосторожность сказать об этом лечащему врачу. Мол, вы мне, доктор, не верите, а стоны-всхлипы за стенкой на самом деле имеют место быть! Казалось бы, ну что тебе за дело до того, что происходит за стенкой? Радуйся, что твои дела идут хорошо, что тебя готовят к выписке и спи спокойно. Но есть такие люди, которым непременно нужно доказать свою правоту и настоять на своем.
Имеют место быть… Как бы не так! Если вы думаете, что доктор решил провести ночь в палате, чтобы лично убедиться в правоте пациентки, то сильно ошибаетесь. Во-первых, мужчине, пускай даже и врачу, ночевать в женской палате нельзя. Во-вторых, доктору было чем ночью заняться, он недавно женился. А в-третьих, зачем огород городить, когда и так все ясно. Доктор назначил пациентке консультацию психиатра, как и положено при галлюцинациях.
Больничные пациенты обожают консультироваться у специалистов разных профилей. Многие даже госпитализируются не для лечения, а ради обследования. С первого же дня начинают нудить: «Покажите меня урологу, эндокринологу, невропатологу, окулисту и т. п.». Людей можно понять. Консультации приятно разнообразят скучную больничную жизнь. Кроме того, в больнице консультироваться очень удобно, не то что в поликлинике. Не надо неделями ждать дефицитных талонов, а потом отсиживать часы в очередях. Специалисты сами приходят в палату… Сервис на высшем уровне!
Больничные пациенты обожают консультироваться у специалистов разных профилей… За одним исключением. Консультацию психиатра любой здравомыслящий, а тем более нездравомыслящий, пациент воспринимает как личное оскорбление. «Да кто вам дал право считать меня психом?!! Да я вас…!!! Да вы сами все тут психи, раз нормального человека от сумасшедшего отличить не можете!» Разумеется, пациентка осталась недовольна тем, что ей в течение двух часов пришлось отвечать на дурацкие, по ее мнению, вопросы психиатра и доказывать, что она не верблюд. То есть что она на самом деле слышит голоса по ночам, причем только здесь, в этой палате и вот за этой стенкой. А дома не слышала. И когда в больничном туалете сидит, тоже ничего не слышит. И в буфете тоже не слышит. Сказано же — только в палате и исключительно по ночам.
Но чем больше горячилась пациентка, тем сильнее консультант-психиатр убеждался в ее психическом нездоровье… Неадекватное возбуждение, зацикленность на своей правоте и все такое, симптоматическое.
Перевод в психиатрическую больницу психиатр не санкционировал, но рекомендовал «постоянное наблюдение», которое заключалось в том, что койку с несчастной женщиной выкатили из палаты в коридор и поставили против сестринского поста. А что еще прикажете делать? Отдельную медсестру в палате сажать, чтобы наблюдала за шизофреничкой? Ха! А где ее взять? Тут не до жиру, народу не хватает для того, чтобы все дыры в табеле закрыть. Случается и так, что сестры поодиночке дежурят. На семьдесят коек! Рабам на галерах легче жилось, они хотя бы на одном месте сидели, а не носились взад-вперед по отделению, как наскипидаренные. Раз «постоянное наблюдение», то изволь лежать перед постом! Сама виновата, достала врачей своими голосами.
Пациентка, ясное дело, осталась недовольна. Очень. В коридоре, да еще и возле сестринского поста, не так комфортно лежать, как в палате. Хотя, и в палате тоже не сахар, не «Хилтон», конечно, и не «Марриотт», но все же какой-то уют, «свой» угол. А в коридоре лежать все равно что на тротуаре. Постоянно кто-то ходит мимо, и днем и ночью, сестры дверками шкафов громыхают, то и дело звонки раздаются, сквозняк постоянно… Голосов, правда, не слышно, да разве услышишь их в этом бедламе? Да и не до голосов было бедной женщине. Сама то и дело всхлипывала и стонала, а также скандалила с врачами и медсестрами, а также жаловалась другим пациентам на то, как несправедливо с ней поступили — сочли сумасшедшей, «вышвырнули» в коридор… Родственники пациентки устраивали скандалы по возрастающей — лечащему врачу, заведующей отделением, заместителю главного врача по лечебной работе, главному врачу… Но на всех уровнях их тыкали носами (в переносном, разумеется, смысле) сначала в рекомендацию психиатра, а затем — в штатное расписание отделения. Вот вам, образно говоря, еж, а вот — уж. Соедините одно с другим, то есть объясните: откуда мы вам возьмем еще одну дежурную медсестру? Родственники были готовы нанять за свой счет сиделку, раз уж такое дело, но им объяснили, что наблюдение, прописанное психиатром, может осуществляться только сотрудниками отделения, а не какими-то «левыми» сиделками, даже и с медицинским образованием. Кто ее знает, вашу сиделку? Может, она такая же невменяемая, как и ваша родственница. Может, они на пару из окна выпрыгнут полетать. Или повесятся на карнизе…
Другие пациенты несчастную женщину, разумеется, жалели. Жалели и верили ей. Пребывание в больнице вообще располагает к вере во все мистическое и необъяснимое. Впрочем, кто-то умный объяснил, что это стонут и плачут неупокоенные души тех, кого загубили местные горе-эскулапы. И не за стенкой, в медицинских кабинетах они стонут, а прямо в палатах, там, где расстались с жизнью. Просто их не видно, вот и кажется, что стоны доносятся из-за стены. Что же касается врачей, в том числе и психиатров, то они все прекрасно понимают и тоже слышат голоса, но из врачебной солидарности делают вид, будто ничего не понимают и не слышат. Круговая порука, мафия. Ворон ворону, как известно, глаз не выклюет. Бессовестные люди.
Индуцированное бредовое расстройство — это такой вид расстройства, при котором бред разделяется двумя или несколькими лицами, связанными тесными эмоциональными связями. Очень скоро стоны-всхлипы стали слышны чуть ли не во всех палатах. Многие из пациентов начали видеть какие-то неясные тени, светящиеся или черные. Разумеется, никому не хотелось лежать в компании с призраками. Какое тут может быть лечение? Одно расстройство.
Около девяноста процентов пациентов стали требовать немедленной выписки или, как вариант, немедленного перевода в другой стационар. Заведующая отделением уговаривала-объясняла, но пациенты ее не слушали, потому что не верили ей. Не дождавшись «законной» выписки, народ начал сбегать, благо дело было летом и можно было уходить «в домашнем», то есть в чем лежишь. Персонал пытался воспрепятствовать Исходу, но выходило не лучше, чем у пресловутого фараона. Главная же виновница никуда уходить не собиралась. Она лежала в коридоре и требовала восстановления статус-кво — перевода обратно в палату. Активно и настойчиво боролась за свои попранные права. И говорила врачам: «Уйду только из своей палаты!»
Скандал из локального грозил превратиться в «международный», то есть рано или поздно кто-то из пациентов или кто-то из родственников пациентов должен был нажаловаться в департамент здравоохранения — нет, мол, условий, для нормального спокойного лечения, примите меры… Стремясь спасти положение и остановить Исход, больничная администрация приняла единственно верное в подобной ситуации решение — пригласила батюшку освятить «проклятое» отделение. Батюшка попался ответственный. Он не только совершил требу, но и обстоятельно поговорил с пациентами по душам. Успокоил всех и заверил, что никаких голосов больше не будет. Батюшка говорил убедительно и проникновенно, поэтому оставшийся в отделении народ успокоился. Пациентку вернули из коридора в палату, откуда она на следующий день выписалась по собственному желанию. Уходила с пафосом, высказала в последний раз всем сопричастным все, что она о них думала, а перед тем, как выйти из отделения смачно плюнула на пол и громко воскликнула: «Ноги моей больше здесь не будет!» Никто ее, собственно, и не приглашал возвращаться — баба с возу, всем хорошо. Проходившая мимо санитарка подтерла плевок и на этом затянувшийся инцидент был исперчен. То есть исчерпан. «Уф-ф-ф-ф-ф!» — дружно выдохнули врачи с медсестрами.
Постепенно произошедшее стало забываться, вытесняться другими событиями. В крупной больнице ведь каждый день что-то да случается и новое всегда интереснее старого хотя бы потому, что оно новое…
А вот старшая медсестра кардиологического отделения, та самая, в кабинете которой якобы стонали неупокоенные души, никак не могла успокоиться. То ли она была завзятой материалисткой, то ли интуитивно чувствовала, что дело здесь нечисто, а скорее всего, и то, и другое вместе…
Мотивы не важны, важен результат. Проведя расследование, которому позавидовали бы Шерлок Холмс, Эркюль Пуаро и майор Пронин, старшая медсестра выяснила, как все было на самом деле.
Оказалось, что у одной из постовых медсестер, молодой и красивой женщины, случился роман с одним из пациентов — относительно молодым, относительно красивым и относительно богатым гипертоником. Бурный, страстный роман с претензией на нечто серьезное, поскольку гипертоник был разведен, причем не на словах, а официально — бери, ешь и наслаждайся. Медсестра и наслаждалась, на всю катушку. Во время дежурств. Совмещала, так сказать, полезное (то есть работу) с приятным.
Кабинет старшей медсестры был выбран ею для утех по четырем причинам. Во-первых, по ночам там было спокойно. Никто не стучал в дверь и вообще не мешал влюбленным любить друг друга… Во-вторых, кабинет находился в укромном уголке, за поворотом коридора, и туда можно было проникнуть незаметно, тихой мышкой. В-третьих, там был очень удобный (и совершенно не скрипучий) новенький диван… Ну и в-четвертых, запасной ключ от кабинета старшей медсестры хранился на посту. На всякий случай. Удобно — взяла, попользовалась, положила обратно в ящик.
Вторая дежурная медсестра стойко хранила тайну своей постоянной напарницы. Даже во время массового исхода пациентов не выдала ее — партизанка. Но припертая к стенке старшей медсестрой все же не выдержала и раскололась. Уволили с треском (то есть по статье) обеих дежурных медсестер. Одну за дело, другую — за потакание и недонесение. Впрочем, официальная формулировка была бюрократически-индифферентной: «За систематическое нарушение трудовой дисциплины».
Старшая медсестра сильно нервничала во время Исхода, потому что была пенсионеркой, которую уволить — раз плюнуть. Вроде бы и не за что увольнять, ведь она потусторонними голосами не заведует, но дойди скандал до департамента, крайними бы оказалось отделенческое начальство — заведующая и старшая медсестра. Кроме того, старшей медсестре было больно и обидно сознавать, что ее, заслуженного работника здравоохранения, долгое время обманывали две профурсетки, которым она имела неосторожность доверять. Да и заведующая отделением, узнав, как было дело, укорила многозначительно: «Распустила ты, дорогуша, своих девок!» Обидно же. Поэтому всякий раз, когда из других медицинских учреждений наводили справки об уволенных медсестрах — что за причина увольнения, девушка вроде бы на первый взгляд нормальная? — старшая сестра рассказывала такое, что у собеседников кровь стыла в жилах и начинали дрожать руки. Короче говоря, с трудоустройством у обеих девушек были проблемы, и крупные. Одна, изрядно намыкавшись, устроилась на работу в противотуберкулезный диспансер, куда брали всех подряд, без разборов и уточнений, а другую (главную виновницу) взяли в приемное отделение психиатрической больницы. Тоже не сахар, отнюдь.
Чем закончился роман медсестры с пациентом, я не знаю. Но мне хочется верить, что закончился он хорошо. Должно же быть хоть что-то хорошее в этой истории…
Из жизни геев
Когда я на почте служил ямщиком, точнее говоря, разъезжал по бескрайним столичным просторам на машине с красным крестом, то наш директор региона[5] был геем. И не скрывал этого, что для московской «Скорой» конца 90-х было… Вот не знаю, какое слово подобрать: «смело», «революционно», «прогрессивно», «необычно»… Вставьте сами то, какое вам больше нравится. Да, иные времена, иные нравы.
Директор региона был одновременно заведующим соседней подстанцией, на которой у него было два любовника — старший фельдшер и старший фельдшер по аптечному хозяйству. На крупных подстанциях «Скорой помощи», если кто не в курсе, два старших фельдшера — один организационную работу ведет и графики составляет, а другой занимается аптекой — пополняет бригадные запасы, следит за тем, чтобы на подстанции было бы все необходимое для работы и т. п. А еще у директора региона был третий любовник — выездной фельдшер нашей подстанции Вадик Донцов.
Любвеобильный начальник щедро одаривал своим вниманием всю троицу, но не поровну. В фаворитах у него всегда ходил кто-то один. То один, то другой, то третий… Все они были разными, абсолютно непохожими друг на друга). «Конан» (так, в честь Конана-варвара, сыгранного Арнольдом Шварценеггером, прозвали просто старшего фельдшера) был высоким, широкоплечим и с хорошо развитой мускулатурой. Отличие от Конана у него имелось только одно — голову он брил наголо. Характер соответствовал внешности — Конан был брутален и суров. Собственно говоря, вся головная подстанция держалась именно на нем, а не на заведующем-директоре, который любил руководить масштабно и глобально, а в рутинную текучку вникать не любил — скучно.
Старший фельдшер по аптечному хозяйству, прозванный Аптекарем, был невысок, полноват, круглолиц и носил бородку а-ля Чехов, которая шла ему примерно так же, как очки свинье. В правом ухе Аптекарь носил огромную серебряную серьгу в виде витого кольца. Любитель ночных развлечений, он пребывал в состоянии вечного недосыпа и часто в рабочее время засыпал в своем кабинетике. Любимым развлечением подстанционных шутников было прократься в кабинетик и навесить на серьгу при помощи крючка, изготовленного из обычной канцелярской скрепки, какую-нибудь лаконичную записку издевательского содержания (ну, вы понимаете какого). Проснувшись так же внезапно, как и заснул, Аптекарь мог впопыхах не сразу заметить «подвеску» и ходить с ней по подстанции на потеху публике. Однажды он вышел с «подвеской», на которой была обозначена его сексуальная ориентация, навстречу линейному контролеру Департамента здравоохранения, в результате чего произошел скандал… Сотрудники все видели, но останавливать Аптекаря не стали. Аптекарь был подлым и вредным, обожал делать пакости как по поводу, так и без. Из всех сотрудников подстанции любил его только заведующий-директор, да и то в сугубо физиологическом смысле. Кроме физиологической пользы была от Аптекаря начальству и другая — он помогал увольнять неугодных сотрудников, искусно устраивая поводы для увольнения.
Заедет бригада на подстанцию пообедать, оставит врач кардиограф в машине или занесет на подстанцию в комнату отдыха, вернется за ним после обеда, а кардиографа нет! Пропал куда-то! За потерю кардиографа — выговор, плюс удержание его стоимости из зарплаты. На следующем дежурстве так же загадочно пропадет тонометр — второй выговор. А неделей позже «лояльная руководству» диспетчер передаст бригаде вызов с небольшой задержкой. Микрофон у нее забарахлит, или еще что-то в этом роде случится. На выходе из здания подстанции бригаду тормознут оба старших фельдшера — комиссия. «Непорядок, по нормативам вам положено уже минуту в пути быть, а вы еще даже в машину не сели…» После смены заведующий-директор приглашает врача в свой кабинет и ставит перед простым и несложным выбором: или пиши заявление на увольнение по собственному желанию, или получай третий выговор с последующим увольнением по статье…
— Это дома вы п…р, а на работе вы старший фельдшер по «а-хэ»! — орал линейный контролер. — И поверьте — недолго еще вы в старших фельдшерах будете ходить! На линии станете ездить!
Обошлось, заведующий-директор отстоял Аптекаря. Тот даже выговора не получил. Зато выговор получила дежурившая в тот день диспетчер. Формально за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а на самом деле за то, что не предупредила Аптекаря о появлении на подстанции линейного контроля. А интересно, как она могла бы предупредить? Объявить по громкоговорителю: «Коллеги, на подстанции линейный контроль!» Так за это ей тоже бы выговор дали.
Фельдшер Вадик был тонким, звонким и прозрачным, то есть очень худым. На подстанции шутили, что роскошная каштановая шевелюра Вадика весит больше, чем его тело. Телесная тонкость сочеталась у Вадика с тонкостью черт лица, томностью взора и невероятным пристрастием к матерщине. В любой фразе, произнесенной Вадиком в быту (то есть не на вызове и не во время пятиминутки), непременно присутствовало хотя бы одно неприличное слово. Он даже поздороваться или попрощаться не мог без мата. «Доброе на х…й утро» или «Пока, е…а мать». При всей своей субтильности Вадик был физически крепким и выносливым, имел разряд по плаванию, занимался йогой. На подстанции к Вадику относились хорошо, потому что человек он был добрый, отзывчивый и хороший специалист. В фармакологии разбирался лучше иных врачей, а уж по части попадания в самые что ни на есть «непопадаемые» вены ему на подстанции не было равных. В любую вену на любой конечности в любых условиях Вадик попадал не глядя и с первой же попытки. Ценный кадр. От умения быстро и точно попасть иглой в вену на «Скорой» многое зависит.
Сказав столько о фельдшерах, нужно и о заведующем-директоре рассказать. Прозвище у него было образовано от имени — Боря. Да, просто Боря. В глаза, разумеется, Борис Батькович. Боря считался средним руководителем и плохим специалистом. В медицине он и впрямь рубил слабовато. Всеми «клиническими разборками», то есть оценкой качества оказанной помощи и решением спорных медицинских вопросов, на головной подстанции занимался старший врач, которому Боря всегда поддакивал. Если же вопрос нужно было решать на уровне директора регионального объединения, то Боря вначале выяснял мнение Центра, то есть главного врача станции «Скорой помощи» или его заместителей, а затем уже выносил свое решение. Разумеется, совпадавшее с мнением свыше. Подобная тактика делала положение Бори весьма устойчивым.
Кадровая политика у Бори основывалась на принципах личной лояльности и личной симпатии. Те, из подчиненных, кому Боря симпатизировал (не только в узкофизиологическом, но и в более широком смысле), могли творить все, что им вздумается, вплоть до работы навеселе и вымогательства на вызовах. «Хороших» людей Боря всегда прикрывал. Наказывал только для виду, а если кого и приходилось увольнять под давлением вышестоящего начальства, то уволенные очень скоро появлялись на другой подстанции Бориного «куста»[6]. Боря дружил с главным кадровиком московской «Скорой помощи» Сестричкиным и благодаря этому мог «утрясти» любой кадровый вопрос.
Те сотрудники, которых Боря по каким-то причинам (или без оных) не любил, на его «родной» подстанции и вообще на всем «кусте» долго не задерживались — увольнялись или переходили работать в другие региональные объединения. Выживать Боря умел и любил это дело. Любой нелояльный подчиненный рассматривался им как потенциальная угроза. В сущности, так оно и есть.
Внешность у Бори была академическо-вальяжной. Неглубокие залысины увеличивали высоту и без того не низкого лба, проницательный взгляд, очки в массивной оправе, твердый подбородок. Не красавчик, но симпатичный. И солидный до невозможности. Прочие начальники на Борином фоне выглядели мальчиками на побегушках.
Такой вот сложился любовный квадрат — Боря-шеф, Конан, Аптекарь и Вадик.
Я за свою жизнь навидался всяких-разных романов, в том числе и производственных, но такой бури страстей, как в этом «квадрате», я никогда не наблюдал.
Здесь было все: и яркие истерики, и прилюдные знаки внимания, и заламывание рук, и искусанные до крови губы… Короче говоря, вся атрибутика романтизма во всей его красе.
Помню, как Вадик яростно топтал в курилке свою сумку, по виду сильно похожую на женскую (явно директорский подарок), а после рыдал так громко, что на подстанцию завернул проезжавший мимо милицейский патруль. Сердобольная диспетчер Люся утешала Вадика — гладила по голове и приговаривала: «Не убивайся ты так, миленький. Все мужики — сволочи, привыкай, привыкай…»
Помню, как однажды к Вадику во время дежурства прицепился Конан, который на правах старшего фельдшера головной подстанции и директорского любимчика совершал какой-то инспекционный объезд «куста». Конан полез проверять «имущество», то есть — оснащение машины, на которой в тот день работал Вадик, и нашел какие-то нарушения (странно было бы, если бы не нашел) и начал составлять акт. Вадик в диспетчерской, на глазах у нескольких свидетелей схватил недописанный акт, изобразил, будто подтирается им, а затем скомкал, швырнул в лицо Конану и закричал истерически-надрывно:
— Ты такой злой, мать-перемать, потому что тебя, такого-то сына, никто не любит и никогда не будет любить! И ты это прекрасно понимаешь, мать-мать-мать!
Конан побагровел, засверкал глазами, сжал кулаки… Самые сообразительные из очевидцев этой сцены постарались утащить Вадика подальше от Конана, но Вадик, которому аффект придал сил, стоял на месте, словно скала. Губами он производил такие движения, будто старался набрать во рту побольше слюны, чтобы плюнуть в соперника. Конан одумался первым — развернулся и молча ушел.
— Милые бранятся — только тешатся! — прокомментировал эту сцену циничный фельдшер Волгин и тут же получил подзатыльник от диспетчера Люси.
Люся любила печь, постоянно возилась с тестом, и потому руки у нее были сильными, а подзатыльники увесистыми.
Соперники не так уж и редко наведывались к Вадику на подстанцию. Всегда при этом происходили скандалы, и большей частью эти скандалы были очень громкими.
Один раз дошло до удара кардиографом по голове (Аптекарь ударил Вадика). Надежный аппарат отечественного производства не пострадал. Страшно подумать, что могло бы случиться с японским…
— Не понимаю я этих… — удивлялся простодушный водитель Витя Кузьмин. — Что за любовь такая? Ни семьи не создать, ни детей не завести… А страстей как у Отеллы с Джульеткой!
— Когда ни семьи, ни детей, остается только любовь… — говорили нечуткому Вите подстанционные дамы, мечтательно закатывая глаза. Вадику они сочувствовали, как своей подружке, а старших фельдшеров с другой подстанции ненавидели, как подлых и коварных разлучников. Если вы люди, то отойдите в сторону и не мешайте чужому счастью, как-то так.
Но бывало и иначе. Так, например, на праздновании очередного юбилея московской станции «Скорой помощи» вся троица — Конан, Аптекарь и Вадик — премило общалась между собой в течение всего вечера. Боря на подобных мероприятиях держался отдельно от своих пассий — в директорском кругу. Круги разного уровня не пересекались друг с другом, подобно орбитам спутников Сатурна. Каждому — свой шесток.
По правде говоря, всем нам, сотрудникам Энской героической трижды краснокрестовой подстанции, на которой работал Вадик, от этой любови-моркови было одно только расстройство. Не в смысле сострадательных переживаний, а в смысле постоянного беспокойства, потому что к Вадику приезжали не только соперники-злыдни, но и душка-директор. Если на других подстанциях своего региона директор появлялся в среднем раз в месяц, не считая каких-то чрезвычайных случаев, то к нам он, в те периоды, когда Вадик был в фаворе, наведывался едва ли не в каждое Вадиково дежурство, то есть через двое суток на третьи (Вадик работал на полторы ставки). Ладно бы еще, если все заканчивалось бы вздохами-поцелуями. Так он же еще и начальственную сущность свою проявлял — лез кругом с проверками, чтобы оправдать очередное свое появление на нашей подстанции. А от проверки до выговора как от одного поцелуя до другого… Да и вообще, присутствие верховного начальства на подстанции раздражает неимоверно. Самим фактом своего присутствия. Потому что от начальства ничего хорошего ждать не приходится. Никогда не было так, чтобы директор региона взял у диспетчера карту вызова, только что сданную бригадой, прочел и сказал: «Ай, молодцы! Ах, как хорошо и как быстро полечили гражданку Иванову Иваниду Ивановну от гипертонического криза! И актив[7] в поликлинику передать не забыли! Надо им премию выдать в размере трех месячных окладов!» Теоретически такое допустить можно, поскольку теоретически практически все можно допустить, но на деле всегда бывает иначе: «Да разве можно так небрежно карты заполнять?! Почему проведенное лечение не соответствует поставленному диагнозу?! Ваша бригада вообще мыслить умеет?! И где отметка об активе, переданном в поликлинику?! За такую карту — выговор! Строгий! Немедленно!»
Все мы обрадовались (что уж греха таить), когда в один злосчастный для себя день Вадик решил сделать «ход конем» и написал заявление о переводе на ту подстанцию, которой руководил директор региона. Видимо, он рассудил, что чем ближе будет находиться к Боре, тем их любовь крепче.
— Одумайся! — уговаривала его диспетчер Люся, искренне расстраивавшаяся по поводу предстоящего перехода Вадика. — Оставайся у нас! Сожрут эти гады (в смысле — Конан и Аптекарь) тебя и не подавятся.
Вадик упрямо тряс своими умопомрачительными кудряшками, которые были предметом зависти всех женщин на подстанции (включая и заведующую Нину Павловну), и говорил:
— Не сожрут! Подавятся!
Вадика сожрали еще до перехода на головную подстанцию, в момент отработки двух положенных недель на нашей героической, трижды краснокрестовой. Оно и правильно, ведь умные стратеги уничтожают врага вдали от собственных позиций. На головной подстанции Вадик был бы всегда начеку, как Штирлиц, просчитывал бы каждый свой шаг, взвешивал бы каждое слово. На нашей же, «родной и любимой», он никакого подвоха не ожидал. А должен был ожидать с того самого момента, как написал заявление о переводе. Декларация намерений — сигнал к уничтожению, разве не так?
Будучи грамотным, умелым и амбициозным фельдшером, Вадик большей частью работал в фельдшерской бригаде. В одиночку или старшим из двух фельдшеров. В предпоследнее дежурство Вадика на нашей подстанции его машину при возвращении с вызова возле ворот остановил линейный контроль (не департаментовский, а свой, скоропомощной) и подверг такой дотошной проверке, которая вызвала у Вадика истерику. Судя по всему, его намеренно спровоцировали на грубость, которая была истолкована как неподчинение требованиям линейного контроля и в совокупности с выявленными нарушениями (свинья, как известно, всегда грязь найдет) потянула на увольнение по статье. Ни для кого на подстанции не было секретом (в былые времена, возможно, сейчас все иначе), что линейный контроль можно целенаправленно натравить на определенного человека. Все дело в цене вопроса и личных связях…
— Как же так?! — сокрушалась наутро заведующая подстанцией. — Вадик! Они в акте такого понаписали! Что делать?!
Ее стенания следовало понимать так: «Вадик, срочно проси Бориса Батьковича вмешаться и уладить дело миром, то есть без увольнения». Но Вадика, что называется, «замкнуло». По каким-то причинам он не захотел обращаться к своему любовнику и покровителю. Возможно, по каким-то своим каналам узнал, что Боря приложил руку к случившейся несправедливости или же просто не стал ей препятствовать. Или же ждал, что Боря сам вмешается и все уладит.
Боря ничего не уладил.
Вадик попытался уйти по собственному желанию, но его с треском выперли по статье. И сказали на прощанье: «Ближе сто первого километра ты хрен на работу устроишься». Если кто не в курсе, то «сто первый километр» — это неофициальный советский термин, обозначавший способ ограничения в правах, применявшийся к отдельным категориям граждан, которым запрещалось селиться в пределах 100-километровой зоны вокруг Москвы, Ленинграда, столиц союзных республик и ряда крупных городов. Высылали на сто первый километр тунеядцев, проституток, не очень активных диссидентов… В переводе на современный язык упоминание сто первого километра означало, что Вадику не дадут устроиться на работу и спокойно работать не только в Москве, но и в Московской области. Чисто из вредности. Большей частью же при приеме на работу принято звонить на прежнее место и наводить справки. Вадику светили крайне паршивые рекомендации. А ведь у фельдшера не так уж и много вариантов трудоустройства. По сути дела, или «Скорая помощь» или какой-нибудь здравпункт. Или же опускайся на ступеньку ниже и иди работать медбратом.
Вадик плюнул на медицину и ушел работать массажистом в какие-то бани, благо соответствующие «корочки» и навыки у него имелись. Спустя полгода после увольнения он появился на подстанции, привез два торта, рассказал, что все у него хорошо, и исчез теперь уже навсегда.
Директор Боря примерно через год после увольнения Вадика внезапно уволился со «Скорой» и устроился на работу в одну крупную медицинскую страховую компанию, начальником отдела или кем-то в этом роде. Сам он ссылался на пошатнувшееся здоровье, которое не позволяло ему оставаться на столь нервной работе, как руководство региональным объединением, но злые языки поговаривали, что Боря уволился не столько по медицинским, сколько по юридическим показаниям — почувствовал, что его вскорости «возьмут за жабры» за многочисленные финансовые нарушения, и поспешил слинять. Видимо, злые языки были правы, поскольку вскоре после Бориного ухода региональное объединение замучили проверками, но отдуваться за все грехи пришлось уже новому директору региона.
Конан уволился следом за заведующим-директором и устроился на работу в МЧС, в один из спасательных отрядов. Он серьезно занимался альпинизмом и дайвингом, так что приняли его с распростертыми объятиями. Аптекарь же перешел на другую подстанцию, находившуюся на противоположном конце Москвы, но уже не в качестве старшего фельдшера по АХ, а просто старшего фельдшера, то есть немного поднялся по карьерной лестнице. Но долго на новой должности не удержался, поскольку никаких организационных навыков не имел и ушел работать медицинским представителем (коммивояжером) в одну индийскую фармацевтическую компанию. Медицинское представительство — это та ниша, куда попадают все медики, которым больше некуда идти. Были бы ноги да язык, а все остальное неважно.
Волшебная сила искусства
Кардиолог Смирнов был женат на актрисе. Не на этуали первого порядка, но на довольно востребованной в сериалах и узнаваемой повсюду. Смирнов очень любил свою жену. С учетом того, что он постоянно дежурил, а она постоянно была на съемках (чаще всего в Минске — там снимать гораздо дешевле), семь лет супружества не притупили остроту впечатлений. Достаточно было услышать, как Смирнов разговаривает с женой по телефону, чтобы понять — это таки любовь. Настоящая.
— Лизонька!.. Как ты?! Как съемки?.. Все хорошо?.. Ну тебе же все всегда удается сразу, потому что ты талантливая!.. А что голос такой хриплый?.. Ты не простудилась?.. Знаешь, у меня в Минске бывший однокурсник работает, доцент на кафедре ЛОР. Я сейчас позвоню и договорюсь, чтобы он тебя проконсультировал! Со связками шутки плохи, особенно в твоей профессии… Скажи, милая, а ты не можешь выкроить пару деньков для того, чтобы наведаться в Москву? Я та-а-ак по тебе соскучился, моя заинька…
И так далее, и тому подобное.
Слышать, как воркует с женой по телефону доктор Смирнов, было очень удивительно, ибо воркование совершенно не увязывалось с его обликом. Хагрида все видели? Слегка причешите его, оденьте в белый халат, и у вас получится доктор Смирнов. А для тех, кто не видел Хагрида, — описание внешности Смирнова. Двухметровый рост, косая сажень в плечах, длинные, вечно лохматые волосы, разбойничья борода, огромные руки, низкий «диаконский» бас. «Диаконский» потому, что в старину таким мощным голосом, от которого дрожали стекла и гасли свечи, отличались диаконы. И вот стоит такая громада и басит в телефон: «Ах, ты моя заинька… Ах ты моя кисанька…» Смешно! Прикольно! И очень трогательно.
Но смеяться надо было втихаря. Характер у Смирнова был добрый и покладистый, как у многих брутальных здоровяков, он спокойно реагировал на шуточки-подначки коллег, но только в том случае, если эти шуточки касались его самого. Жена Смирнова была священна и неприкосновенна. Попробуй тронь… Однажды больничный осляк (в слове нет опечатки, это новое слово, созданное мною из «осла» и «остряка») доктор Кочергин сказал Смирнову, что его жена «милая, но звезд с неба не хватает». Смирнов молча и сразу разбил Кочергину нос. Ожидать от добродушного интеллигентного Смирнова рукоприкладства, да еще и столь эффективного в своей результативности, было невозможно. Для сравнения — это все равно что увидеть Гитлера, покрытого талесом, на субботней молитве в синагоге. Теоретически допустимо, но практически быть такого не может. Главный врач поверил в то, что Смирнов мог ударить человека (да еще и коллегу!) только после того, как Смирнов сам это подтвердил — было такое дело, и еще будет с каждым в случае повторения подобных высказываний.
Повторения, разумеется, не было. Смирнов, ходивший до рукоприкладства у медсестер просто в любимцах, превратился в их кумира. Ах, какой мужчина, кто бы мог подумать…
Иногда жена приезжала к Смирнову на работу. Нет, не для того, чтобы привезти ему свежесваренного борща или свежеиспеченных пирожков, а потому что вечно теряла ключи. Надо было видеть картину их встречи… Увидев жену, Смирнов начинал светиться, будто стоваттная лампочка, устремлялся ей навстречу, не знал, куда усадить, и то и дело восклицал:
— Надо же, Лизонька! Какая радость! А мне сегодня та-а-акой вкусный тортик принесли…
И так далее, и тому подобное.
— Миша! Какие тортики! — томно упрекала жена, вечно сидевшая на диете. — Ты мне еще шоколаду предложи!
— Да! Конечно! Прости, Лизонька! — волновался Смирнов. — У меня яблочки есть! Вкусные! Сейчас принесу!..
Когда жена уходила (а надолго она никогда не задерживалась), Смирнов провожал ее до больничных ворот. Шел по терапевтическому корпусу, а затем — по больничной территории сияющий, радостный. Жену нежно придерживал своей лапищей под острый локоток. Если на пути попадалась лужа, то без слов подхватывал жену на руки и переносил через нее. Уходящей долго махал рукой вслед. Впору было подумать, что в следующий раз они встретятся через много лет, а не через несколько часов. Картина по Вознесенскому: «Я тебя никогда не забуду, я тебя никогда не увижу». Трогательно до невозможности.
О показе очередного сериала с участием жены Смирнов извещал коллег как минимум за неделю. А с началом показа каждое утро искательно заглядывал всем в глаза — ну как? Понравилось? Каждую похвалу в адрес жены, даже самую скупую, Смирнов воспринимал как дар небесный — сиял, расплывался в улыбке и проникался приязнью к похвалившему. Зная эту смирновскую слабость, коллеги частенько ею пользовались в корыстных целях. Надо, к примеру, кому-то из кардиологов обменять новогоднее дежурство на обычное будничное, декабрьское или январское. Вообще-то, нулевой вариант, никаких шансов. Но если подкатиться к Смирнову и начать разговор с того, что Елизавета Александровна в последнем сериале сыграла блестяще, то можно считать, что дело в шляпе. Смирнов, вне всякого сомнения, пойдет навстречу человеку, разбирающемуся в искусстве. Просто не может не пойти.
Единственным днем в году, когда Смирнова нельзя было заставить дежурить, был день рождения его жены. Такой праздник — это святое! А если жена находилась в отъезде, Смирнов брал три дня за свой счет и мчался к ней на крыльях любви. Администрация всегда шла ему навстречу, потому что другого выхода у нее не было. Не дашь ему эти три дня, так он просто прогуляет… Махнет на все рукой и уедет к своей Лизоньке. Лучше уж уступить, опять же — у людей та-а-акая любовь.
Любовь была взаимной, не подумайте, что жена Смирнова, подобно Ольге Книппер-Чеховой и многим другим актрисам, всего лишь позволяла супругу обожать себя. Нет, она его тоже любила. Однажды зимним вечером Смирнов получил на дежурстве сотрясение мозга. Возвращался после консультации из соседнего хирургического корпуса не по галерее, а по улице (решил немного освежиться холодным воздухом), поскользнулся, ударился головой о край скамейки так, что ненадолго потерял сознание. Произошло это возле терапевтического корпуса, кто-то из медсестер увидел падение из окна, и потому помощь Смирнову была оказана немедленно — отвезли в приемное отделение, сделали рентген, госпитализировали в неврологическое отделение, начали лечить… Смирнов порывался встать и продолжить свое дежурство, но ему этого сделать не дали, уговорили полежать хотя бы до прихода заведующего отделением, понаблюдаться несколько часов, а то мало ли что.
Вся эта катавасия нарушила установленный ритуал. Смирнов непременно звонил жене с дежурства поздно вечером, интересовался делами, сообщал, что у него все хорошо, и желал спокойной ночи. А тут вдруг не позвонил… Жена встревожилась и позвонила сама на сестринский пост. Ей очень мягко и бережно объяснили: «Ничего страшного, просто голова у доктора закружилась от переутомления, вот его и положили отдохнуть до утра в неврологию. Отдельная палата, тишина, покой… Все хорошо».
Хорошо?! Покой?!! Жена немедленно примчалась в больницу, самоотверженно прорвалась через все кордоны и заслоны в палату к Смирнову, уселась возле него и заявила, что никуда не уйдет. Так и просидела до полудня. В полдень, убедившись в том, что ничего опасного у Смирнова нет, его отпустили домой.
Насчет «самоотверженно прорвалась» — это не ошибка, не опечатка и не преувеличение. Представься она охране на воротах и на входе в корпус как жена доктора Смирнова, ее бы пропустили без слов, да еще бы и до отделения проводили. Но она, пребывая в смятении чувств, начинала общение с фразы: «У меня мужа госпитализировали в неврологию, мне нужно к нему!» Ага, нужно! Среди ночи. Вот ее и пытались остановить. Пытались, да не смогли.
— Да если б я мог надеяться на то, что ко мне вот так жена прилетит, если со мной что случится, то я, может, на каждом дежурстве бы падал… — тихо завидовал доктор Кочергин, предварительно убедившись в том, что Смирнова нет рядом.
— Ты и так падаешь чуть ли не на каждом дежурстве! — отвечали ему коллеги, прозрачно намекая на чрезмерное пристрастие Кочергина к выпивке.
С людьми, заслуживающими доверия и хорошо разбирающимися в искусстве, доктор Смирнов делился сокровенным:
— Эх, если бы я только мог! — сокрушался он. — Если бы я мог написать сценарий, достойный Лизочкиного таланта, и снять по нему фильм так, чтобы показать ее талант во всей красе… Ей в большом кино блистать надо. Сериалы — это, конечно, хорошо, но Лизочка заслуживает большего. Но нужен хороший сценарий и талантливый режиссер…
В кино всегда так — недостает хорошего сценария или талантливого режиссера или и того и другого. А то бы… Впрочем, давайте не будем отвлекаться от темы.
Известие о разводе Смирнова прозвучало в больнице как гром среди ясного неба. Сам Смирнов об этом не рассказывал, но народ быстро приметил, что он перестал вдруг регулярно ворковать по телефону, и осторожно поинтересовался: в чем дело?
— Дело житейское, — лаконично отвечал Смирнов. — Разводимся мы.
— Изменила? — понимающе спрашивали пессимисты, на всякий случай прикрывая носы руками.
— Ты это, не поддавайся, — советовали оптимисты. — Потяни время. Мало ли что в жизни бывает. Не соглашайся на развод, уговори ее подождать. Время все лечит.
— Как я могу не соглашаться, если сам на развод и подал? — удивлялся Смирнов. — Это она меня уговаривает подождать, не торопиться, но после того, что случилось, между нами все кончено!
«После того, что случилось, между нами все кончено» явственно и однозначно намекало на измену. Всем известно, какие у этой богемы свободные нравы. Народ некоторое время пребывал в этом заблуждении. Как-то раз медсестра Юля Горина, давно и тайно влюбленная в Смирнова, не выдержала и сказала ему во время совместного дежурства:
— Да если бы вы были моим мужем, я ни на кого бы больше не взглянула! Удивляюсь, как она могла!
— Да Елизавета (Лизонька-Лизочка уже стала Елизаветой) ни на кого другого не смотрела, — ответил Смирнов. — У нее потому и карьера застопорилась, что она через постель ее не делала и вообще ничего лишнего себе не позволяла. Мы с ней сразу договорились, еще перед свадьбой, что обманывать друг друга не станем. Если возникнут какие-то чувства на стороне, то говорим о них прямо и расстаемся. При отсутствии любви и взаимного доверия совместная жизнь не имеет смысла.
— Так почему же вы подали на развод? — рискнула спросить Юля.
А теперь ненадолго отвлекитесь от чтения и придумайте причину, по которой доктор Смирнов мог подать на развод.
Придумали? Хорошо, читайте дальше.
Жена Смирнова в очередном сериале сыграла врача (уже не помню, какой именно специальности, но это неважно). Важно то, что сыграла она роль недостоверно с врачебной точки зрения. Это обычное дело, потому что кино есть кино и многое в нем представляется не совсем так, как в жизни. К тому же к доктору Хаусу у любого врача дюжина претензий найдется — и то не так, и это не этак. А с другой стороны, если снять «все как в жизни», то в результате получится не художественный фильм, а профессионально-специальное учебное пособие, которое широкой публике будет совершенно неинтересно.
Вот вам пример для наглядности. Одна и та же сцена в двух вариантах.
Вариант первый. Возле лежащего на койке пациента стоят четыре человека в белых халатах и что-то быстро делают, что именно — непонятно, потому что их спины заслоняют обзор, да и руки мешают. Слышны отрывистые фразы:
— Маша, «тройник»!
— Вера, кубик адреналина на двести пятьдесят глюкозы!
— Руку подержи!
— Зачастил!
— Маша, подтяни «стукалку» на всякий.
— Боюсь, свернется.
— Не дадим!
Долго ли вы станете смотреть такую скучную и непонятную муру? Навряд ли. А ведь это — как в жизни бывает.
Вариант второй. Возле лежащего на койке пациента стоит один человек в белом халате. Он щупает пульс на руке пациента и сосредоточенно глядит на монитор, который висит над койкой.
Подходит второй человек в белом халате и останавливается сбоку, так, чтобы не заслонять обзора.
ВТОРОЙ. Что, совсем плохи дела?
ПЕРВЫЙ. Да, хорошего мало. Боюсь, как бы не произошло внутрисосудистого свертывания крови.
ВТОРОЙ. Возможно.
ПЕРВЫЙ. Тут главное — успеть. (Вздыхает.)
ВТОРОЙ (сочувственно). Никак не можешь забыть тот случай? Брось, не казни себя. Ты сделал все возможное…
ПЕРВЫЙ. Если бы я сделал все возможное, человек был бы жив…
ВТОРОЙ. Юра, мы не боги!
ПЕРВЫЙ (многозначительно). Мы не боги, но мы врачи!
Монитор начинает пронзительно пищать. По нему тянется ровная линия.
ЖЕНСКИЙ ГОЛОС ЗА КАДРОМ. Остановка! У нас остановка!
ПЕРВЫЙ. Маша, давай дефибриллятор!..
Второй вариант гораздо интереснее в плане просмотра, верно? И гораздо информативнее. Не только ясно, что у пациента дела плохи, но и характеры обоих врачей обозначены, драматический накал начал проявляться… Все так, только покажите эту сцену врачам, и они скажут: «Что за хрень?» И будут абсолютно правы.
Но вернемся к Смирнову.
Смирнова глубоко оскорбило то, что его обожаемая и невероятно талантливая Лизонька сыграла врача «не так, как в жизни».
— Если ты после стольких лет жизни со мной не можешь нормально сыграть врача, значит ты совершенно не интересуешься ни моей работой, ни мной! — сказал он. — Примириться с подобным равнодушием невозможно. Я развожусь!
И развелся. Мужик сказал — мужик сделал.
Долго, с полгода, ходил печальный, но затем повеселел и стал прежним жизнерадостным оптимистом, желанным гостем на всех больничных тусовках. А то — такой завидный жених! Добрый, симпатичный, без вредных привычек, с двухкомнатной квартирой и хорошей машиной… А самое главное, это ж так приятно небрежно обронить в обществе «Мой муж раньше был женат на актрисе Елизавете ***». Понимать следует так: «Он предпочел меня ей». Красота!
Так что долго в холостяках Смирнов не проходил. Спустя год после развода он женился на невропатологе Ветлугиной. Она, конечно, не актриса, но, если что, врача может изобразить достоверно. Хоть на сцене, хоть на съемочной площадке.
Психопат
Доктор Зелинский считался на подстанции знающим и ответственным врачом, а также кристально честным человеком.
Надо сказать, что на подстанциях «Скорой помощи», где люди сутками на виду друг у друга, характеры проявляются и оцениваются очень быстро и крайне точно.
Зелинский не позволял себе никаких «шалостей», ни крупных, вроде очистки карманов пациентов, находящихся в бессознательном состоянии, ни мелких, таких, например, как тайное поглощение чужой еды, оставленной в подстанционном холодильнике, или питья чужих соков. Правда, из водителей он пил кровь по полной программе, требуя четкого и неукоснительного исполнения ими должностных обязанностей, но это другое дело.
Более того — если кто-то из сопровождающих пациента при госпитализации забывал в машине сумочку или борсетку, Зелинский не передавал находку диспетчеру подстанции, а отвозил ее по назначению сам, после смены. Предварительно составлял опись содержимого, подписанную фельдшером и водителем. Во избежание кривотолков. Ему говорили: «Да позвони и скажи, что сумка в диспетчерской, пускай приходят и забирают». «У людей беда, родственника госпитализировали, некогда им по подстанциям бегать, — отвечал гуманный Зелинский. — Лучше я сам завезу, мне не трудно».
А еще Зелинский был психопат. В том смысле, что если уж овладевала им какая-нибудь идея, то овладевала всецело и яростно. Например, невзлюбит водителя (за дело, исключительно за дело, по веским причинам), так не успокоится, пока не выживет его с подстанции к чертям собачьим. Вообще-то, многие врачи и фельдшеры предпочитают не связываться с водителями, а ладить с ними. По ряду причин. Во-первых, водители в основной своей массе брутальны и не склонны к интеллигентному ведению дискуссий, чуть что — срываются на мат, а то и кулаки в ход пустить могут. Во-вторых, при обострении противоречий между водителем и врачом или фельдшером водитель может причинить оппоненту больше неудобств, чем оппонент ему. Откажется подъезжать близко к подъезду («потом оттуда не выеду») и вынудит бригаду топать сто метров по снегу и льду. Или же не притормозит около киоска с едой («не положено»). Или возить станет так, что все кости растрясет… Машина для бригады — дом родной, а хозяин в этом доме — водитель. Так что делайте выводы.
Но Зелинского подобные соображения не останавливали. Не понравилось Зелинскому, что водитель Аникин не подчиняется его распоряжениям, а заставляет себя уговаривать, всякий раз какие-то поблажки выторговывает, так он Аникину прямо сказал:
— Мы с тобой на одной подстанции работать не можем.
— Так вали на другую! — осклабился Аникин, уверенный в том, что уж ему-то самому никуда валить не придется.
Аникин был бригадиром водителей, а бригадирами обычно назначают самых стойких (и самых наглых).
— Николай Иванович, вас надо спасать от Аникина? — спросила заведующая подстанцией, узнав о конфликте.
«Спасать» означало «не ставить работать вместе». Всегда «спасали» врачей или фельдшеров от водителей, а не наоборот.
— Нет, не надо! — отказался Зелинский. — Мечтаю работать исключительно вместе с Аникиным и больше ни с кем!
Аникин выдержал пять «образцово-воспитательных» смен и свалил на другую подстанцию.
— Ну ты монстр! — восхищались коллеги. — Самого Аникина «съел».
— А наглеть не надо, — скромно отвечал Зелинский.
Как-то раз Зелинский не смог с первой попытки заинтубировать[8] пациента с короткой толстой шеей. Это очень сложно, даже очень опытные анестезиологи-реаниматологи в стационарных условиях, то есть, при всех удобствах, не всегда ставят трубки с первой же попытки. А Зелинский производил интубацию в машине, скрючившись, в тесноте и при не самом лучшем освещении. И работал он в ту смену один, без фельдшера, умотался вконец, а усталость — она на все влияет. Поэтому в некоторых странах врачам запрещено работать дольше двенадцати часов подряд.
Но Зелинский не искал себе оправданий. Для него, перфекциониста в квадрате, было важно только то, что он, доктор Зелинский, не смог произвести интубацию с первой попытки. Все прочее не имело значения. Целых два месяца после смены Зелинский отправлялся не домой отсыпаться, а в морг ближайшей больницы — тренироваться на трупах. Натренировался так, что равных ему в деле интубации не было на всей московской «Скорой помощи». Народ шутил: «Зелинскому хоть на живот пациента положи — заинтубирует в лучшем виде». (Для тех, кто не в курсе, поясню, что человека, который лежит на животе, заинтубировать невозможно, это все равно что сделать укол в ягодицу лежащему на спине.)
Как-то раз, в конце суточного дежурства, Зелинский ощутил одышку при быстром подъеме на восьмой этаж. Странно было бы, если бы ее не было. Бегом, уставший, на восьмой, да еще и с грузом — кардиографом и портативным аппаратом ИВЛ. Но Зелинский решил, что он теряет форму, и начал бегать по утрам. Двадцать кругов по школьному стадиону, благо тот был рядом с домом, и затем еще двадцать раз бегом на девятый этаж и обратно. Он бы и на шестнадцатый бегал бы, да вот незадача — жил в девятиэтажке. По этажам скакал не налегке, а с двумя полными пятилитровыми канистрами в руках.
Умение правильно организовать работу бригады, стремление к повышению собственного профессионализма и забота о своем здоровье похвальны и приветствуются. Только вот ко всему похвальному у Зелинского примешивалась некая яростная ожесточенность, этакая героическая упертость, этакая самоотверженная несгибаемость. В иных условиях из него бы, наверное, получился бы спортсмен-чемпион или герой войны. А в реальности Зелинский получил срок за кражу.
Дело было так.
Однажды у жены Зелинского украли кошелек. На вещевом рынке в Выхине, в тот момент, когда она выбирала себе дубленку. Сумма была крупной, потому что кроме дубленки несчастная женщина хотела купить шапку и сапоги. В первой половине 90-х врачебно-учительским семьям на такие покупки приходилось копить долго, месяцами. Да и вообще на любое обзаведение приходилось копить, поскольку самый паршивый китайский пуховик стоил больше, чем месячная зарплата врача или учительницы (жена Зелинского преподавала в школе географию).
Жена, ясное дело, сильно расстроилась: такая потеря и такой облом. Нашла, наконец, подходящую дубленку, которая сидела на ней как влитая, сбила цену, полезла за деньгами, а в сумочке — дыра. По уму-то, собираясь на такое стремное место, как вещевой рынок, кошелек надо было не в сумку класть, а куда поглубже прятать, но жена Зелинского в таких вопросах не разбиралась, это же не география.
Зелинского «замкнуло» — он разозлился на весь белый свет и решил, что раз так, раз уж жену его обокрали, то и он станет красть, чтобы возместить утраченное. Имеет полное право. Это ему знак судьбы — засунь ты, дружок, свою честность сам знаешь куда и живи как все! Хотя бы до тех пор, пока не возместишь потерю.
Не спрашивайте меня, как Зелинский пришел к такой идее, этого, кроме него, самого никто понять не мог. Сказано же — психопат. Опять же, в лихие девяностые сама обстановка в стране толкала людей на скользкий путь. Да и мысль «до тех пор, пока не возмещу потерю» была для честного человека чем-то вроде спасательного круга.
О том, что он временно сворачивает с честного пути, Зелинский во всеуслышанье объявил на подстанции. Рассказал утром в диспетчерской о случившемся и о том, что жена прорыдала всю ночь, и заявил под конец:
— Я никогда не узнаю, кто это сделал, но это не так уж и важно. Важно то, что я теперь стану поступать точно так же — хватать все, что идет в руки. Принципы в карман не положишь и на хлеб не намажешь!
Народ принял это как сказанное в сердцах и пытался Зелинского успокоить. Добрая диспетчер Горбунова даже попыталась устроить сбор денег в пользу Зелинского, но Зелинский категорически воспротивился. «ВЫ мне ничего не должны! — с пафосом заявил он коллегам. — Мне должны ОНИ. Вот пускай ОНИ и расплачиваются!»
И уехал на первый вызов.
Первый вызов оказался уличным «ложняком», на котором ничего не могло прийти в руки. Приехала бригада в указанное место, где на тротуаре должен был валяться мужчина без сознания, но никого там не нашла. То ли какой-то идиот решил пошутить таким гнусным образом, то ли мужчина успел прийти в сознание и ушел или уполз.
Кстати говоря, если первый вызов оказался ложным, то это весьма плохая примета. Значит все дежурство будет тяжелым, суетным, дерганым. Хуже только смерть на первом вызове. Если «потерял» первого пациента, то за дежурство еще кого-то «потеряешь», возможно, что и не одного…
На втором по счету вызове Зелинский украл золотое кольцо с камушком. Семидесятилетняя женщина, у которой на фоне повышения артериального давления развился приступ стенокардии, была дома одна. Кольцо лежало на трюмо. Там еще были какие-то побрякушки, но они выглядели непрезентабельно, и красть их не представляло смысла. Кольцо на их фоне выглядело как артист Хабенский в шеренге гастарбайтеров.
Моральное облегчение дало поведение пациентки, которая с порога начала возмущаться на тему «что же вы, паразиты этакие, так долго ехали меня спасать?!» и всяко-разно обзывать Зелинского и приехавшую с ним фельдшера Ларису. Вообще-то, на нападки пациентов и их родственников Зелинский никогда внимания не обращал — людям плохо, вот они и нервничают-скандалят, пускай не всегда по делу. Но на этот раз поведение пациентки было на руку Зелинскому. Если бы старуха с порога пригласила бы бригаду пройти на кухню, выпить горячего чаю и полакомится свежеиспеченными пирожками (очень редко, но бывает, бывает такое!), то Зелинский навряд ли бы украл кольцо.
А тут вот не устоял.
Опыта в таких делах у Зелинского не было никакого, а ведь недаром еще древние римляне говорили: «Usus est optimus magister», то есть опыт — лучший учитель. Он неверно оценил обстановку и взял кольцо с трюмо в тот момент, когда фельдшер Лариса делала пациентке внутривенную инъекцию и заслоняла от нее Зелинского своей широкой спиной. Зелинский думал, что украл кольцо незаметно, но пациентка заметила, потому что трюмо было не простым трюмо с одним зеркалом, а трельяжем с тремя зеркалами, расположенными под углом друг к другу. И вот в отражениях этих зеркал пациентке все было видно.
Пациентка повела себя очень умно, впору подумать, что ее не в первый раз обкрадывала бригада «Скорой помощи». Сразу возмущаться не стала и вообще ничего не сказала, потому что побоялась выступать. Расклад сил был не в ее пользу: одна больная женщина в почтенных летах против двоих молодых и здоровых. Чего доброго, отдуплят при помощи какого-нибудь укола ироды этакие, с них станется. Но сразу же после убытия бригады старуха позвонила в милицию. «Так, мол, и так, только что врач «Скорой помощи» украл у меня золотое кольцо с бриллиантом».
Милиция отреагировала оперативно, несмотря на то что в те лихие времена дел у нее было выше крыши. Приехали к потерпевшей два сотрудника, взяли заявление, выяснили по телефону, какая именно бригада и откуда приезжала на вызов, и отправились на подстанцию раскрывать дело по горячим следам.
Зелинский как с утра уехал на уличный «ложняк», так и скакал с одного вызова на другой без заезда на подстанцию. Диспетчер Горбунова связала утренние заявления Зелинского с приходом двух оперативников, догадалась о том, что произошло что-то нехорошее, криминальное, и передала Зелинскому по рации следующее: «14-я бригада, возвращайтесь! К вам есть вопросы на подстанции». Больше ничего она сказать не могла, потому что оперативники сидели рядом, но Зелинскому этого хватило. Диспетчеры никогда не говорили «есть вопросы», а говорили просто «возвращайтесь!». Это означало, что вызовов сейчас нет, можно отдохнуть немного и пополнить ящик с медикаментами. А вот для оперативников фраза: «К вам есть вопросы на подстанции» прозвучала вполне невинно. Мало ли какие могут быть вопросы? Может, пациент нажаловался на то, что ему вместо клизмы промывание желудка устроили и сейчас бригаду ждет нахлобучка от заведующего подстанцией.
Зелинский все понял. Он сидел рядом с водителем, и вариантов, куда бы незаметно спрятать кольцо, у него было мало. Выбросить улику в окно он не мог — зима, открытие окна в мчащейся машине сразу же привлечет внимание других членов бригады. А вот сунуть за обивку двери — хороший вариант, тем более что обивка на старом «рафике» во многих местах отставала. Так Зелинский и сделал. Водитель ничего не заметил, сидевшая в салоне Лариса тем более.
На подстанции бригаду прямо у машины встретили оперативники. Ничего не объясняя, всех усадили в оперативную машину, причем на Зелинского надели «браслеты». Один оперативник повез задержанных в отделение, а другой сел за руль скоропомощного автомобиля и поехал следом. Адвокат Зелинского потом говорил, что если бы не чистосердечное признание его клиента, то он бы на одном этом обстоятельстве разбил бы обвинение вдребезги — обыскивать машину надо было сразу на подстанции и в присутствии понятых. А так мало ли что оперативник мог спрятать в машине, пока был там один. Может, это он сам кольцо украл, а свалил все на Зелинского…
В отделении первым делом обыскали всех членов бригады и машину. При понятых, в любом отделении всегда найдутся кандидаты в понятые. Ничего не нашли — поди-ка догадайся, что кольцо за обивкой дверцы. А так вообще искали весьма старательно, даже кардиограф разобрали. Водитель и фельдшер были в прострации: «Да как вы можете думать о нас такое?!», а Зелинский эту самую «прострацию» искусно разыгрывал и твердил любимую фразочку незабвенного Софрона Ложкина из «Дела «пестрых»: «Вещей нет, кражи нет».
Вот эта самая фразочка, намекающая на значительный криминальный опыт, оперативников и насторожила. «Очень уж ушлый доктор попался», — подумали они. Оперативники не могли знать, что вся «ушлость» Зелинского ограничивалась любовью к качественным советским детективам, не более того.
Поняв, что кнутом (образно, сугубо образно — Зелинского в отделении не били) им ничего добиться не удастся, оперативники пошли на хитрость и показали Зелинскому условный «пряник».
— У нас тут труп на улице третий час лежит, нас дожидается, а мы с тобой возимся из-за какого-то с…го кольца! — сказал Зелинскому тот, что был постарше. — Пойми, доктор, что нам этот геморрой не нужен, а тебе — тем более. Но остается старуха, у которой ты кольцо украл, а оно ей от ее прабабки досталось. Это память о человеке, а не просто цацка-бирюлька. Старуха не успокоится, пока его обратно не получит, будет жалобы писать во все инстанции и на тебя, и на нас. Так что разумнее будет решить дело миром. Предлагаю следующее. Я сейчас на твоих глазах рву заявление потерпевшей и все протоколы, касающиеся твоего дела, после чего ты отдаешь мне кольцо, чтобы я вернул его потерпевшей. И все мы расстаемся довольными и счастливыми. Я еду возвращать кольцо потерпевшей, а ты со своими подельниками топаете домой.
И ведь не обманул — порвал на глазах у Зелинского какие-то бумажки. После этого Зелинский в сопровождении группы товарищей, среди которых было и двое понятых, прошел к стоящей во дворе машине, извлек из-за обивки украденное кольцо и передал его старшему оперативнику.
— Молодец! — похвалил оперативник и спросил: — Как оформлять будем? Раз уж ты пошел нам навстречу, то и я собачиться не стану. Оформлю как добровольную выдачу, улавливаешь разницу? Суд это учтет.
— Зачем оформлять?! — удивился Зелинский. — Какой суд?! Вы же сказали: «Отдашь кольцо и иди домой».
— Такой большой, — усмехнулся оперативник, — воровать научился, а в сказки все еще веришь. Это суд будет решать, куда тебе идти, домой или на зону…
Домой Зелинский вернулся через два года. Кольцо оказалось старинным, дорогим, да и на суде он вел себя вызывающе. Оперативников назвал «аферистами», следователя «дебилом», а судье посоветовал «не раздувать щеки, а пошевелить мозгами». Вел бы себя хорошо, получил бы условно — как-никак первая кража, добровольная выдача, хорошая характеристика с места работы, да и адвоката ему жена наняла хорошего. Но вышло так, как вышло — дорога дальняя, казенный дом.
Жена Зелинского проявила качества, совершенно несвойственные человеку, незнакомому с пенитенциарной системой (видимо, советчик ей попался сведущий). Договорилась о том, чтобы Зелинского отправили в близкую к Москве колонию, съездила туда вперед мужа и договорилась насчет того, чтобы его назначили в медчасть санитаром (блатное место!) и вообще чтобы не гнобили. Возила передачи, «грела» начальство, продала все, что только можно было продать, и влезла в долги по самую макушку, но устроила так, что Зелинский сидел с относительным комфортом (насколько это вообще возможно в колонии для простого «мужика») и освободился досрочно. Чувствовала себя виноватой в случившемся — надо было кошелек спрятать получше и не надо было так убиваться по поводу этих треклятых денег. На фоне последующих затрат украденные деньги выглядели мелочью, сущими копейками.
Первое, что сделал Зелинский по возвращении домой, так это подал на развод.
— Я не могу жить с тобой, — сказал он жене, опешившей от такого поступка (ждала, поддерживала-помогала, столько сил и средств потратила — и на тебе!). — Стоит мне на тебя посмотреть, как я сразу же вспоминаю все, что произошло. Ни тебе, ни мне ничего хорошего от этого не будет, так что давай расстанемся по-хорошему.
Обратно на московскую «Скорую» Зелинского не взяли. Заместитель главного врача по кадрам Сестричкин (тот еще фрукт, штучный) устроил в своем кабинете целое шоу в шекспировском духе.
— Да как вы могли подумать, что мы возьмем на работу человека, который обокрал беззащитную пациентку?! Да вас вообще диплома лишить надо! Да вы вообще мерзавец и вдобавок бесстыжий, раз имеете наглость проситься обратно! — негодовал Сестричкин, раздувая впалые щеки.
Зона научила Зелинского сдержанности, а то бы он заработал в кабинете Сестричкина новый срок за нанесение тяжких телесных повреждений. Зелинский ограничился смачным плевком на пол и громким хлопком дверью.
Устроился он на «Скорую» в одном из подмосковных городов, где была большая нехватка в кадрах. Платили там меньше, чем в Москве, но никто прошлым в глаза не тыкал, и работалось гораздо спокойнее. Вызовов меньше, «концы» короче, народ поспокойнее, чем в Москве. Сущая благодать! На новой работе он нашел новое счастье в лице одной из диспетчеров и со временем сделал карьеру — стал старшим врачом. Судимость его к тому моменту была уже погашена.
Клиническая смерть
Доктор Токарев пострадал на вызове. Поскользнулся на ступеньках в темном подъезде, упал, приложился головой о какой-то выступ и собрался помирать.
И помер бы, кабы не героические усилия бригаденфельдшера Супниковой, каковая в одиночку, в условиях плохой видимости и недружелюбно-алкоголизированного окружения (дело было в рабочей общаге в субботнюю ночь) провела полный объем реанимационных мероприятий и таки вытянула Токарева с того света на этот. Но в состоянии клинической смерти он сколько-то пробыл.
Полтора месяца длилось лечение, затем Токарев вернулся на работу. Ему предлагали тихую «неразъездную» должность на Центре, но он отказался — скучно по телефону консультировать. Раз уж здоровье позволяет работать на линии, так надо работать на линии.
После клинической смерти, которая сопровождается кислородным голоданием головного мозга, с людьми случается разное. Может интеллект резко снизиться, психика может того-этого, в смысле — нарушиться, а у некоторых просто голова болит к перемене погоды. Каждому — свое.
Токарева пронесло: он сохранил интеллект, не приобрел психических расстройств, и голова у него не болела. Зато у других начали болеть головы, поскольку молчаливый тихоня Токарев превратился в говорливого, жизнерадостного и, что хуже всего, очень искреннего человека. Рубил правду-матку налево и направо, причем в этакой задушевно-доверительной форме…
«Игорек, я тебе как коллега коллеге скажу, что врач из тебя, как из фекалии боеприпас. Ты же за семь лет кардиограмму так и не научился читать, чудило…»
«Валечка, ну ты как ребенок. Неужели ты думаешь, что мужикам можно верить? Когда ты на сутках, твой муж ночью один спать не будет, найдет об кого бока погреть…»
«Лидия Ивановна, вот вы на каждой пятиминутке одно и то же говорите. Разве вам самой не надоело?»
«Толик, ты вместо того, чтобы на жизнь жаловаться, лучше бы пить бросил…»
И так далее. Причем говорил чистую правду, ничего не придумывал. Но правда, как известно, больнее всего глаза колет.
На вызовах Токарев тоже откровенничал. И с пациентами, и с их родственниками…
«А внучка-то у вас недобрая, по глазам видно, что она только одного и ждет — когда вы помрете и квартиру ей оставите…»
«Ну а что вы хотели при вашем диагнозе? Я вам сейчас объясню вашу ситуацию…»
Фельдшеру Супниковой, своей спасительнице, Токарев сказал, что для замужества бюста четвертого размера и однокомнатной квартиры мало, нужно иметь еще кое-какие качества, которых у нее нет и в помине. Супникова потом рыдала в курилке и говорила, что явно перестаралась с реанимацией Токарева, не нужно было так выкладываться.
Выражая волю трудящихся масс и пытаясь сберечь остатки своего авторитета, заведующая подстанцией попыталась избавиться от Токарева миром. Предложила ему перейти на Центр с повышением (обещала помочь всеми своими ресурсами), но Токарев отказался. Переводиться на другую подстанцию или по собственному уходить он тоже не захотел. Уволить по статье его было невозможно: работал на совесть, не пил на дежурстве, приходил на подстанцию за полчаса до начала смены, не грубил, не вымогал. Ангел!
Благие намерения заведующей обернулись сами понимаете чем. Токарев обиделся. Он столько лет проработал на подстанции, он ко всем относился по-товарищески, со всей душой, а от него хотят избавиться? Выживают ни за что ни про что? Как бы не так! А вот хрен вам! В результате произошла трансформация добродушного жизнерадостного болтуна в активного и принципиального борца с недостатками, этакую Совесть Подстанции.
Токарев начал обличать недостатки и обличал их не только устно, но и письменно. Писал в департамент, в министерство, а когда отчаялся найти поддержку у медицинского начальства, то начал сливать информацию в газеты. Подстанция пару-тройку раз засветилась в газетной хронике, после чего заведующую сняли и… назначили на ее место Токарева.
А что такого? Опешившему Токареву так и сказали на Центре — руководить должны самые сознательные, а сознательнее вас на всей московской «Скорой» никого нет. А может, он и на всю Россию один такой уникум. Токарев проникся и принял руководство.
Прозаведовал он сорок один день и был уволен по статье. Заведующего подстанцией снять куда проще, чем выездного врача. Заведующий же не только за свои грехи отвечает, но и за чужие тоже. Кто-то умный в верхах (поговаривали, будто главный кадровик Сестричкин) придумал такой вот элегантный административный гамбит — пожертвовал заведующей, чтобы избавиться от Токарева.
Токарев ушел и будто в воду канул. Он был сильно обижен на всех коллег, ополчившихся на него без каких-либо причин, а коллеги тоже не горели желанием поддерживать знакомство. Обычно на «Скорой» людей, которые проработали более-менее длительное время, так же долго и помнят, но о Токареве все дружно поспешили забыть как можно скорее.
Осенью прошлого года во время прогулки я увидел знакомое лицо на стенде с фотографиями депутатов одного муниципального округа и порадовался за Токарева — человек на своем месте.
Приколист-буквалист
Доктор Старчевский был (и остается по сей день) энцефалопатом-приколистом. Сам он считает, что обладает острым чувством юмора, а вот окружающим этого чувства сильно недостает.
Однажды во время обхода жена лежачего пациента сказала Старчевскому:
— Мой муж нуждается в вашем уходе!
Этим она хотела сказать, что не имеет возможности сутками пребывать возле мужа и что санитаркам тоже надо бы хоть иногда обращать на него внимание.
Старчевский молча развернулся и ушел. После объяснял в кабинете главврача:
— Она же сказала «нуждается в вашем уходе»! Я и ушел!
Однажды во время пятиминутки начмед сказала:
— Скоро будут учения. Заведующие, организуйте занятия по изучению гроба!
Она имела в виду гражданскую оборону, сокращенно — ГРОБ. Заведующий терапевтическим отделением, в котором работал Старчевский, неделю отбивался от назойливых коммивояжеров, пытавшихся продать ему обычный гроб.
— А что такого? — удивлялся Старчевский. — Я обзвонил несколько фирм, пытался найти лучшее предложение. Татьяна Петровна велела изучить гроб, а разве можно что-то изучать без наглядного пособия?
Однажды заведующий отделением сказал:
— Коллеги! Мне не нравится, что в последнее время в нашем отделении скопилось много негатива! Давайте-ка все дружно начнем избавляться от негатива. Хорошо?
После обхода врачи спохватились — где рентгеновские снимки пациентов? Ни одного нет в ординаторской!
— Я их в архив отнес, — сказал Старчевский. — Виктор Иванович же велел избавляться от негативов, вот я один за всех и постарался.
Как-то раз больницу решил почтить своим визитом Человек в кепке, известный нестандартностью своих выражений. Разумеется, Старчевского попытались устранить, поставив ему дежурство накануне высочайшего посещения. Чтобы отдежурил и ушел домой отсыпаться, ирод непредсказуемый.
Но не тут-то было. Старчевский сказал, что в столь знаменательный день он должен быть рядом с коллегами, и остался после дежурства в отделении.
— Хорошая у вас больница! — похвалил в завершение визита сановный гость. — Прямо самому захотелось в ней поработать.
— Без проблем! — выкрикнул из толпы медработников Старчевский. — В приемном отделении всегда есть свободные санитарские ставки!
— В приемном? — растерялся гость, не ожидавший такого предложения.
— А вы что — сразу в морге санитарить хотите? — удивился Старчевский. — Не выйдет, в морг кого попало не берут!
Главного врача больницы сняли через неделю. За развал работы. Причина явно была притянута за уши. Семь лет все разваливал да разваливал, и никаких претензий к нему не было. А тут вдруг сняли, причем сняли нехорошо, обидно, без последующего трудоустройства на какую-нибудь должностишку помельче. Короче говоря, вышвырнули на улицу. Ясно же почему…
А вот Старчевский работает в отделении до сих пор. Интерны и клинические ординаторы его обожают, потому что с ним очень весело дежурить. Коллеги в ходе длительного общения со Старчевским выдрессировались настолько, что не позволяют себе ни фразеологических оборотов, ни двусмысленностей, ни эвфемизмов и вообще ничего лишнего или усложненного в речи. Выражаются простыми, предельно конкретными фразами, следят за своим базаром не хуже, чем бывалые зэки. Но Старчевскому для проявления своих качеств хватает пациентов.
Матримониальное
Жених фельдшера Светы работал в охране Черномырдина. Охранял дальний периметр. Света своим женихом очень гордилась. Военный, красивый-здоровенный, да еще и при высочайшей особе состоит. Пусть и на дальнем периметре.
— Оно и хорошо, — говорила Света. — «Дальним» платят меньше, но зато «ближние» сильно рискуют. Мало ли что…
После бракосочетания Света заговорила иначе.
— Я своему (он уже стал «свой») устала твердить, чтобы он нашел возможность перевестись в «ближние». А этот пенек все тормозит и тормозит…
— Как же так? — удивлялись мы. — В «ближних» же опасно…
— Зато в случае чего пенсия семье хорошая и квартиру сразу дадут, — отвечала Света.
Святочный рассказ
Восьмое января. Повод к вызову: «Девочка 10 месяцев, ранение горла крючком».
Пока ехали — гадали. Каким крючком? Как? Нестандартный повод для такого возраста.
Водитель предположил, что отец-рыболов мог играть с дочуркой в «рыбалку». Прицепил на крючок игрушку и махал ею у ребенка перед лицом. А что? Еще и не такие идиоты бывают.
Фельдшер выдвигал версию с проглатыванием бабушкиного вязального крючка. Тоже не айс, в смысле — опасное дело, но вязальный крючок все же лучше рыболовного.
Я больше склонялся к версии фельдшера. Оставить возле младенца вязальный крючок по недомыслию можно. Но рыболовный? Любой рыболов, каким бы идиотом он ни был, очень скоро приучается к осторожному обращению с крючками. Опыт — лучший учитель.
На деле же оказалось, что девочка схватила пластиковую вешалку, валявшуюся на полу, и засунула в рот крюк, а когда мать вешалку отобрала, разок кашлянула, что навело мать на мысль о ранении горла. «Где имение и где наводнение?» — говорил в подобных случаях, когда причина для вызова была пустопорожней, один из наших коллег.
Но мы мамаше ничего не сказали. Мы были рады, что все так хорошо закончилось, а больше всех радовался водитель, которому бы в противном случае пришлось бы ехать ой как далеко.
Тайна закрытой палаты
В кардиологическом отделении одной московской больницы из одноместной палаты люкс начал таинственно исчезать пациент.
Палата (собственно, это была часть большой шестиместной палаты, «выкроенная» при ремонте хватким заведующим) находилась прямо напротив сестринского поста. То есть медсестры видели, когда пациент из нее выходил.
Лежал в то время в палате один начальничек окружного масштаба. Он верно рассудил, что в ведомственно-начальственной больнице будет простым пациентом, мелкой сошкой на фоне градоначальственных титанов, а вот в обычной больничке «своего» округа получит повышенное внимание и всяческие плюшки. Оно и верно, лучше быть первым парнем на деревне, чем последним в городе.
Особому клиенту — особый почет. Выполняя указания заведующего отделением, одна из дежурных медсестер ближе к ночи заглядывала в палату люкс и спрашивала у пациента, не нужно ли ему чего. Не подумайте чего плохого, речь шла о вещах сугубо прозаических: стакане чая, таблетке снотворного или слабительного и т. п.
И вот однажды медсестра пациента на койке не обнаружила. Решила, что пациент вышел в туалет. Вернулась на пост и стала ждать, когда пациент вернется, чтобы задать положенный вопрос. Это была очень старательная и весьма амбициозная медсестра, которая хотела дорасти до старшей, а то и до главной.
Час просидела, не отлучаясь, но пациента так и не увидела. Сказала напарнице:
— Ты посиди-покарауль, а я пробегусь по отделению, поищу нашего начальничка. Вдруг ему в туалете плохо стало, и он там лежит головой в унитазе…
В палате люкс не было туалета. Закуточек заведующий смог выкроить, а вот для установки унитаза у него административного ресурса не хватило. В прокладке канализационных труб есть свои сложности.
Медсестра пробежалась по отделению, даже в женский туалет заглянула на всякий случай, но пациента нигде не нашла. Вернулась на пост, а напарница ей говорит:
— Что ты пургу гонишь, Света? В палате твой начальничек, спит как суслик. Я только что к нему заходила.
Света проверила — так оно и есть. Лежит-храпит дорогой пациент, дышит ровно, все путем. Удивилась, конечно: как же он смог незаметно вернуться? Утром рассказала о случившемся старшей медсестре. Та посоветовала Свете не увлекаться на дежурстве водочкой. За Светой был такой грех. В расстроенных чувствах она могла «остограммиться» во время работы. Но меру знала и после работала так же ответственно, как и до. Поэтому старшая медсестра с этим Светиным недостатком мирилась. Особенно с учетом нехватки медсестер в отделении.
— Я до такого состояния даже дома не позволяю себе доходить! — обиженно ответила Света. — Здесь какая-то мистика.
И верно — мистика. Днем позже та же история повторилась с другой сменой. Начальственный пациент вышел из палаты так, что никто из сидевших на посту медсестер этого не заметил, и так же незаметно вернулся обратно. Отделение находилось на пятом этаже, рядом с окном не было пожарной лестницы, а под окном не было никаких выступов-карнизов. Да и физподготовка у пациента предпенсионного возраста была не такая, чтобы по карнизам ходить. Опять же, ишемическая болезнь сердца к подобным занятиям не располагает.
На вопрос лечащего врача начальственный пациент ответил, что он если и покидает палату, то самым обычным образом — через дверь. И никак иначе. И вообще, с чего бы вдруг такие странные вопросы?
Дежурные медсестры получили от заведующего взаимопротиворечащие указания «не маяться дурью», «обращать внимание» и четко их выполняли. Внимание обращали и старались заходить в нехорошую палату вдвоем с напарницей. Чтобы был свидетель.
Практически в каждую смену, по вечерам, начальственный пациент продолжал таинственно исчезать из палаты. Разок его медсестры даже разбудили для мягкого допроса. Толку от допроса не было никакого. Пациент все отрицал, а утром нажаловался заведующему отделением. «Вот вы мне снотворное выписываете, а ваши медсестры меня ночью будят, чтобы задавать дурацкие вопросы. Давайте-ка наведите порядок у себя в отделении!»
Врачи не знали, что и думать. Галлюцинации, в отличие от симптомов гриппа, не могут одновременно появляться у всех медсестер отделения. Что-то явно было не так. Лечащий врач склонялся к диагнозу сомнамбулизма, заведующий отделением считал, что тут что-то другое, но, что именно, объяснить не мог. А еще никто не мог объяснить, почему медсестры не замечали перемещений начальственного пациента. Ну как объяснить такое? Впору предположить, что он через стены умеет проходить…
Психиатра, для проверки насчет сомнабулизма, к начальственному пациенту не приглашали, поскольку не хотели обижать «такого человека» сомнением в его психической полноценности. Ну его, еще мстить начнет, он и так недовольство выказывает. Да и по уму к психиатру нужно было отправлять восьмерых дежурных медсестер. А заодно еще и к окулисту…
Это книжно-киношные тайны приятно обогащают и разнообразят жизнь. В реальности встречи с непостижимым только нервируют. Одна из медсестер пожаловалась своему любовнику, больничному охраннику, на нервозную обстановку, создавшуюся в отделении. Охранник заинтересовался. В прошлом он работал опером, но после ранения был вынужден оставить службу в органах. Дотошно расспросив любимую обо всех обстоятельствах этого странного дела, охранник пообещал ей разобраться и внести ясность.
И ведь внес! Придя в палату и не увидев начальственного пациента на койке, экс-опер сделал то, чего никто до него не догадывался сделать — заглянул под койку. И нашел там забившегося в угол пациента. Палата была крошечной, койка — широкой, и пока не нагнешься, то подкоечного пространства не увидишь. Даже от двери. А пациент НН был субтильным коротышкой. Таким под койкой втроем можно было прятаться, не то что в одиночку.
Вот так и была раскрыта эта «тайна двух океанов» и утвержден приоритет охранников над врачами. В самом деле — доктора две недели дурью маялись, не понимали, в чем дело, а охранник пришел и сразу увидел все, что было нужно увидеть. Анекдот, да и только.
Вы спросите: зачем начальственный пациент тайком прятался под кроватью? Дело в том, что на фоне воздержания, вызванного госпитализацией, в его организме регулярно возникало некое напряжение, для снятия которого требовалось уединение в благоприятной обстановке. А какая возможность уединения в благоприятной обстановке может быть у пациента, пускай даже и начальственного, в условиях обычного больничного отделения? Никакой! Палаты изнутри не запираются, в туалетах запахи, грязновато и вообще как-то некуртуазно. Вот и приходилось начальственному пациенту уединяться под кроватью, благо что он лежал в палате один. Таково селяви.
Ирония судьбы (новогодняя история)
Кардиолог Панкратов был ценителем продажной любви. Другой он после бурного и болезненного развода не признавал, поскольку совершенно разочаровался в любви непродажной, женщинах, семейных ценностях и прелестях домашнего уюта. Бывает. Семейные ценности Панкратов цинично называл «семенными», а к слову «любовь» непременно добавлял «морковь». Такой вот он был циник.
Подробностями своей личной жизни Панкратов щедро делился с коллегами. В результате вся больница знала, где открылся новый притон, где закрылся старый, где цены на продажную любовь выросли, а где, наоборот, упали благодаря завозу свежих работниц из сопредельного государства…
Бывало, что девушки навещали Панкратова на дежурстве. Больничное начальство закрывало на это глаза.
Во-первых, по негласным древним правилам, в обычных не «режимных» больницах дежурных врачей можно навещать, лишь бы это не мешало работе. Панкратову девушки работать не мешали. Только в дверь ординаторской стукни — и ритмичный скрип дивана сразу же утихал, а спустя пять секунд Панкратов, бодрый и немного раскрасневшийся, выходил и шел лечить-спасать-консультировать. «Лучше на дежурстве культурно отдохнуть, чем напиваться в лежку», — говорила о Панкратове замглавврача по медицинской части. Опять же, Панкратов пользовался услугами проверенных-доверенных кадров. Ни из ординаторской, ни из отделения в целом никогда ничего не пропадало.
Во-вторых, холостой Панкратов был безотказным в смысле замен. Им вечно затыкались дыры в графике дежурств. Вплоть до того, что ему можно было позвонить в воскресенье утром и сказать: «Юра, надо!» Спустя полчаса (жил он недалеко) Панкратов являлся на внеочередное внезапное дежурство. Соглашался выручить он без долгих уговоров и никаких преференций взамен выторговать не пытался. Надо, значит надо. Разумеется, к столь сознательным сотрудникам у начальства отношение особо бережное.
Жаловались, правда, на него часто. Причем не сами пациенты, а их жены. Дело в том, что после инфаркта многих мужчин посещают сомнения в своих возможностях. Наслушаешься в палате рассказов соседей, начитаешься информации в интернете и сникнешь… На все вопросы и жалобы по поводу мужской несостоятельности Панкратов отвечал одно и тоже: «Это все от головы, психическое. Возьмите классную девушку, пообещайте ей премию за старания, и она вам докажет, что у вас все в порядке». Мог и адреском-телефончиком поделиться, добрая душа. Пациенты были счастливы, а вот их жены — не очень. Бывало, жалобы на Панкратова поступали спустя год (!) после выписки пациента. «Вот ваш доктор посоветовал моему мужу по б…м ходить, так он теперь остановиться не может, все ходит и ходит…»
В ординаторской из панкратовской кружки с надписью BOSS (мания величия детектед) никто никогда не пил. Кто его знает… Больничные невесты к Панкратову, нестарому, симпатичному, с двухкомнатной квартирой и неплохим заработком, никакого интереса не проявляли. Ни матримониального, ни адюльтерного. «Лучше бы уж он пил, это неприятно, но не обидно», — говорили девы.
Однажды, дежуря в первый день нового года, Панкратов пригласил к себе очередную девушку, но вместо радости поимел крупные проблемы.
Девушка оказалась дочерью одного из лежавших в отделении «инфарктников». Такой вот казус. Отношения между отцом и дочерью были настолько прохладными, что дочь не знала, в какой больнице и в каком отделении лежит ее папаша, а папаша не знал о том, чем конкретно зарабатывает на жизнь его дочурка. А когда узнал, то сильно расстроился и устроил безобразный дебош. Дочери дал оплеуху, Панкратову порвал халат, опрокинул елочку в ординаторской, разбил зеркало, а под занавес выдал гипертонический криз с нарушением сердечного ритма.
Несчастный отец выжил, слава богу, но жалобу тем не менее он в департамент написал. О поруганной елочке, разорванном халате, разбитом зеркале и рукоприкладстве по отношению ко взрослой дочери в жалобе ни слова не было, и вообще все случившееся подавалось превратно. Мол такой-сякой доктор Панкратов на дежурстве с проститутками развлекается, вместо того чтобы своевременно пациентам помощь оказывать. Я вот из-за его халатности в реанимацию угодил и чуть ласты не склеил.
Дело осложнилось тем, что главе департамента по личным причинам очень хотелось снять главного врача больницы, в которой работал Панкратов. Так что ЧП сугубо больничного масштаба было раздуто до масштабов вселенско-галактических. Панкратова уволили по статье и даже пытались завести на него уголовное дело, но то ли так и не завели, то ли сразу закрыли.
Но в любой новогодней истории есть место чуду.
Потеряв вкус к дежурствам и к стационарной работе в целом, Панкратов устроился в одну солидную ведомственную поликлинику и за несколько лет дорос там до заместителя главного врача. И это еще не предел…
Коротенькая псевдорождественская история, или о вреде абортов
Одна из моих начальниц любила к месту и не к месту рассказывать о том, как ее мать, будучи беременна ею, собиралась сделать аборт, но передумала буквально под дверью у гинеколога.
— И это было в Рождество! — всякий раз торжественно добавляла начальница. Типа чудо.
Странное дело — день рождения начальница праздновала в первой декаде января по григорианскому календарю. Какой уж тут аборт в Рождество? Скорее уж на Пасху. Впрочем, дело не в этом…
А в том, что я до сих пор не могу понять, что заставило мать моей бывшей начальницы рассказать дочери о том, что она собиралась ее того-этого… Почему дочь об этом часто рассказывала, я понимаю прекрасно. И натянутый псевдозаливистый смех, которым сопровождался рассказ, тоже могу объяснить при помощи дедушки Фрейда… Но мотивы матери так и остаются для меня загадкой по сей день.
Однажды отделенческая буфетчица, доведенная начальницей до ярости берсерка, которому терять уже нечего — жизнь подороже бы продать, сказала:
— Напрасно ваша мама, Полина Федотовна, передумала с абортом!
Я, будучи очевидцем этой сцены, приготовился к тому, что сейчас полетят клочки по закоулочкам (буфетчицыны клочки, разумеется), но начальница вздохнула совсем по-мхатовски и ответила:
— Я и сама думаю, что напрасно.
Капитанская дочка
Фельдшер Маша была дочерью капитана второго ранга. Сухопутного капитана. Отец ее был политработником и всю службу провел на берегу, в штабах. «Я дочь штабного офицера», — гордо говорила Маша, напирая на слово «штабного» так выразительно, будто речь шла о Генштабе.
После школы Маша поступила в мединститут, но на пятом курсе бросила учебу по причине неземной любви к одному известному в свое время (в предзакатный советский период) цирковому артисту. После того как любовь прошла, Маша около двух лет пребывала в депрессии, а затем пошла работать фельдшером на «Скорую». Четыре курса мединститута приравниваются к фельшерскому диплому.
Доучиваться на врача Маша не хотела. Потеряла интерес к учебе, да и позабыла многое за время депрессии. Придя на «Скорую», она училась всему на практике буквально с нуля. Другие фельдшеры, глядя на Машу, иронизировали — ну разве в институтах чему-то полезному учат? Иронизировали, впрочем, дружелюбно, в рамках врачебно-фельдшерского антагонизма, который в слабом виде присутствует на каждой подстанции. Маша, хоть и была по должности фельдшером, фельдшерами считалась за врача, поскольку училась в институте. Как говорится, в каждом теремочке свои заморочки.
Двухлетняя депрессия бесследно не проходит. Слабость к выпивке осталась у Маши на всю жизнь. Причем капитальная слабость. Если Машу пытались угостить на вызове, то она охотно угощалась и срывалась в запой. Если отработавшая смена что-то отмечала на подстанции, то бутылки доставались из тайников только после Машиного ухода домой или отъезда на вызов. Иначе Маша выклянчит «капельку» и… Ну, вы понимаете. Незачем провоцировать. Опять же, всезнающий старший фельдшер перекроит график так, чтобы за Машу отдувались те, кто ей налил. Должна же быть справедливость.
Однажды, когда Маша работала в одиночку на перевозке (то есть на доставке плохопередвигающихся пациентов из стационара домой), ее взяли в заложники в одной из квартир. Натурально — в заложники. Маша позвонила диспетчеру подстанции и прошептала, что ее заперли в квартире и не хотят выпускать. Разговор внезапно прервался. Диспетчер связалась по рации с водителем и узнала, что пять минут назад Маша вместе с доставленным из стационара пациентом и его друзьями в количестве трех человек поднялась в квартиру. Так положено — доставлять до дверей. Даже если пациента у подъезда встречают друзья-соседи-братья, фельдшер должен лично убедиться в том, что «груз» доставлен по назначению, то есть в квартиру. А то мало ли что. Вдруг пациент на лестнице упадет или еще что…
Велев водителю отъехать в сторонку, запереться в машине и ждать дальнейшего развития событий, диспетчер позвонила в райотдел и сообщила, что по такому-то адресу группа мужиков захватила в заложницы фельдшера. Вообще-то, диспетчер поступила не совсем правильно. Ей полагалось сообщить Центру, а уж Центр вызывал бы милицию и прочие службы. Но она решила, что так, напрямую и по-свойски, будет скорее и надежнее. В райотделе работают хорошо знакомые, можно сказать, родные люди. Не дадут нашей Маше пропасть. Да и ехать от райотдела до адреса, на котором Машу взяли в заложницы, недалеко. Можно сказать, рукой подать.
Тем самым диспетчер, не ведая того, спасла Машу от больших неприятностей.
Усиленному наряду в составе пяти сотрудников не пришлось вышибать дверь в квартиру или даже стучаться, поскольку дверь была гостеприимно распахнута. Войдя внутрь, милиционеры увидели идиллистическую картину застолья. Друзья встречали кореша, вернувшегося из больницы с загипсованной ногой, водка лилась рекой. На грозный рык: «Где фельдшер, суки?!», опешившие «суки» хором ответили: «С-с-спит в друг-г-гой к-к-комнате». Перебравшая Маша (а накачивалась она моментально) и впрямь спала в соседней комнате, заботливо накрытая одеялом.
Поскольку менты были знакомые, из «родного» территориального отделения, связанного с подстанцией множеством незримых, но крепких нитей, дело закончилось Машиным увольнением по собственному желанию. Если бы на вызов из Центра скорой помощи приехали бы какие-нибудь омоновцы плюс корреспонденты, Маша за свою невинную, в сущности, ложь могла бы пострадать куда сильнее. После она говорила, что не ожидала подобного развития событий. Думала, что выручать ее никто не приедет, а она потом скажет, что ее пожалели и отпустили. Не спрашивайте меня о логике, у сильнопьющих людей она весьма своеобразная.
Ныне Маша занимается политикой, стала активисткой одной из известных партий с фруктовым названием. Иногда я вижу ее в новостных репортажах и радуюсь, что у нее все хорошо.
Однобуквенная фамилия
Одна моя коллега, с которой я вместе работал в поликлинике, обожала таинственность и часто изъяснялась намеками там, где можно было сказать все прямо. Такой уж характер был у человека — усложняющий. Одни люди стараются все упростить, а другие все усложняют. Им так интереснее.
Однажды она поймала меня в коридоре поликлиники, в котором, кроме нас двоих, не было ни единой души, и зловещим шепотом сказала:
— К тебе сегодня человек придет от меня (наши с ней смены не совпадали), очень хороший человек. Ему больничный нужен на три дня позарез, а ко мне на прием он не успевает! Ты хоть и физиотерапевт, но как врач во время эпидемии гриппа можешь выписать больничный. Ты меня понял?
Во время эпидемии гриппа «узкие» специалисты не только помогали участковым терапевтам принимать пациентов, но и ходили по вызовам. А чего вы хотите — чрезвычайное положение.
— Понял, — ответил я. — А как его фамилия?
Коллега уже мчалась вперед по коридору. Она была очень энергичная и деятельная, долго на одном месте стоять не могла.
— Однобуквенная у него фамилия, не ошибешься! — бросила она на бегу.
Однобуквенная, так однобуквенная. Бывает. «Китаец, наверное, или кореец», — подумал я. А что я еще мог подумать? У каких наций еще бывают однобуквенные фамилии?
Ни китаец, ни кореец, ни японец, ни даже вьетнамец на прием ко мне в тот день не пришел. Два симулянта приходили, оба русские, с многобуквенными фамилиями.
На следующий день, едва придя в поликлинику, я был перехвачен коллегой и отбуксирован в подвал, где мне предъявили суровые претензии:
— Ну как же так! Просила же тебя, ирода! Можно сказать, умоляла! А ты хорошему человеку дал от ворот поворот! Как я теперь ему в глаза смотреть стану?
— Да не было твоего «хорошего человека» с однобуквенной фамилией! — возмутился я. — И вообще, ни одного китайца на приеме не было!
— При чем тут китаец?! — пуще прежнего взъярилась коллега. — Русский он! Хренов его фамилия!
— В фамилии «Хренов» — шесть букв, — резонно заметил я. — А ты сказала «однобуквенная».
— Так «однобуквенная» и есть! — Коллега выразительно покрутила указательным пальцем у виска. — На одну ту самую букву! Соображать надо! Ты же врач, а не дворник!
Не надругаются любя…
Один клинический ординатор из Индии (редкостный, скажу я вам, болван из касты браминов) никак не мог научиться правильно употреблять некоторые русские слова, в том числе и слово «надругательство» и все производные от него.
Ему мешал формализм. «Надругательство» из-за приставки «над-» он трактовал как ругань кого-то вышестоящего. Потому и говорил на пятиминутках: «Я забыл истории болезни в палате (забыл назначить или забыл отменить препарат… забыл перевести пациента… и т. п.) и за это заведующий отделением (доцент кафедры, замглавврача и т. д.) надо мной надругался». В смысле — строго отчитал.
Мы-то привыкли, а новичкам — студентам, впервые попавшим на пятиминутку, или новым сотрудникам, это было… мягко говоря, удивительно. Они испуганно смотрели на того, кто был указан в качестве надругавшегося, а остальные сотрудники их «успокаивали»: «Ничего, привыкайте, у нас такие порядки».
А вообще-то, индийские студенты-ординаторы-аспиранты очень старательные и вдумчивые люди. По серьезности отношения к учебе уступают только китайцам, но тех вообще невозможно переплюнуть.
Говнопатия
Был у меня сосед Евгений Алексеевич, начинающий пенсионер, в прошлом инженер, «патентованный» изобретатель и профсоюзный лидер. Живость ума и огромное обаяние сочетались у Евгения Алексеевича с большой любовью к спиртному. Жена его из ревности этой любви пыталась препятствовать.
Кодирование не помогло, поскольку друзья-собутыльники объяснили Евгению Алексеевичу суть метода, отчего он сразу же раскодировался. Чудотворные иконы и заговоры на стойкого коммуниста и убежденного атеиста не действовали. Одна известная ведунья, к которой ездили заговариваться со всей страны, так и сказала жене: «Партейными не занимаюсь, нехай их в парткомах заговаривают!»
Дошло дело и до гомеопата. Гомеопат попался словоохотливый, да и Евгений Алексеевич сильно располагал к общению, был у него такой талант. За полчаса Евгений Алексеевич узнал основные принципы гомеопатии, в том числе и то, как приготовляются гомеопатические препараты — многократным разведением и встряхиванием. Исходного препарата при тысячекратном разведении в воде уже не остается совсем, но вода хранит память о нем и действует как препарат, причем гораздо сильнее. Все это, конечно же, чушь, но многие в это верят.
Выйдя от гомеопата, Евгений Алексеевич сказал жене, что хочет немедленно ехать на дачу, тяжко ему в шумном и суетном городе. Там, в уединении, прерываемом лишь контрольными наездами жены, он провел около двух недель. Жена взахлеб рассказывала соседкам о чудесной гомеопатии, поскольку всякий раз заставала мужа трезвым.
Рано она радовалась. Вернувшись домой, Евгений Алексеевич ушел в запой, на выходе из которого поведал мне следующее:
— Эта гомеопатия, скажу я тебе, настоящая говнопатия! Обман! Я две недели спирт в воду капал, тряс и разводил. Какую только воду не брал — и из колодцев, и из озера, и дождевую, и кипяченую, даже дистиллированную, как ни тряс, сколько ни разводил, ничего у меня не вышло. Любая вода так водой и оставалась. Хоть литрами пей, никакого эффекта!
Чистосердечное признание (рассказ врача-патологоанатома)
Кем я только не хотел стать в студенческие годы. К примеру, на четвертом курсе я хотел стать акушером-гинекологом и потому устроился на работу медбратом в роддом (три курса мединститута, если кто не знает, приравниваются к окончанию медучилища). Дежурил по субботам и иногда в будние дни по ночам.
В том роддоме существовал подпольный тотализатор. В конце восьмидесятых — начале девяностых ультразвуковое исследование было труднодоступным, ультразвуковые аппараты в стране можно было в прямом смысле пересчитать по пальцам, и потому подавляющее большинство будущих матерей не знало пол своего будущего ребенка.
Во время обходов врачи, гинекологи и анестезиологи, делали пяти — или десятирублевые ставки на пол младенцев, которым предстояло родиться в текущую смену. Те, кто ставил на мальчика, показывал кулак с оттопыренным пальцем. Девочка обозначалась просто кулаком. Конспирация — непременный спутник всех подпольных тотализаторов. Кто-то из незаинтересованных, например я, не имеющий никакой возможности делать такие бешеные ставки, учитывал ставки и вел бухгалтерию. За это мне делались различные ценные поблажки.
Самый крупный выигрыш на моей памяти составил сто сорок рублей за смену, что в те времена считалось нормальной месячной зарплатой советского врача. Так-то вот.
Однажды у одной чересчур внимательной и настолько же мнительной первородящей дамы случилась истерика. Увидев, что у койки соседки по предродовой палате анестезиолог показал оттопыренный палец, а возле ее койки — кулак, она решила, что соседкины дела хороши, а ее собственные плохи, и громко расстроилась. Ее дружно успокоили (кстати, анестезиолог проиграл, потому что родила она мальчика) и изменили правила игры. Отныне и впредь те, кто ставил на мальчика, касался рукой носа, а те, кто на девочку, уха. Абсолютно нейтральные жесты, которые никак не истолковать.
Гинекологом я так и не стал — передумал…
К азартным играм так и не пристрастился…
Ультразвуковые аппараты в наше время повсюду…
На что сейчас делают ставки в том роддоме, я не знаю…
Фамильное
— Фамилия моя для медицины, конечно, не очень-то подходит, — сокрушалась кардиолог Вагина, — а что делать? Я бы мамину взяла, так она Кровопускова, тоже не самый лучший вариант. Ничего, вот выйду замуж и сменю фамилию.
Спустя несколько лет, уже работая на кафедре, я встретил Вагину и увидел на ее пальце толстенное обручальное кольцо. Разумеется, спросил, какая у нее теперь фамилия.
— Та же, — вздохнула Вагина. — Муж у меня Померанцев. Ну как я буду работать с такой фамилией? Народ станет язвить: «Вот у Померанцевой все помирают». Оно мне надо?
Сиамские близнецы
В столичных следственных изоляторах мне приходилось бывать не раз… В качестве врача «Скорой». В том числе и в женском. Однажды забирал я из камеры в больницу подследственного, у которого случился ишемический инсульт, в результате чего была обездвижена правая половина тела. Как и положено, с нами поехал сопровождающий — старлей с пистолетом.
Усевшись в салоне нашего «ишачка», старлей первым делом сковал себя наручниками с конвоируемым.
— Это лишнее, — прокомментировал я. — Он при всем желании никуда не убежит. Даже не уползет.
— Всякое в жизни бывает! — огрызнулся старлей. — Может, и нет у него никакого паралича. Может, вы с ним в сговоре!
Я представил себе эту комбинацию — в нужный момент отправить в нужное место машину с нужной бригадой с другой подстанции, а не со своей «районной» (в СИЗО мы выехали, помогая соседям, перегруженным сверх всякой меры). Это ж надо профессором Мориарти быть, чтобы все так спланировать.
— Если мы в сговоре, — сказал мой фельдшер Вова Груздев, — то наручники не помогут. Один усыпляющий укол в мышцу — и дело сделано.
У фельдшера Груздева «там» побывали отец и старший брат. Сами понимаете, как он относился к конвоирам и прочим «тюремщикам»…
Свободной рукой (правой) старлей переложил пистолет из кобуры в карман, сняв его при этом с предохранителя. Я проследил за положением ствола и подумал, что если нашу машину хорошо тряхнет на ухабе, то старлей определенно лишится кое-чего ценного. Но ничего — в той больнице, куда мы ехали, урология тоже была, пришили бы обратно.
В приемном отделении старлей не смог найти ключей от наручников. Все карманы обшарил — нет! Так мы его и сдали вместе с пациентом, будто сиамских близнецов. Под смешки медперсонала и яростные матюки старлея.
Куда делся ключ, который старлей на моих глазах положил в нагрудный карман, я до сих пор не знаю. Вряд ли к этой пропаже имеет отношение то обстоятельство, что отец и брат моего фельдшера отбывали сроки за карманные кражи.
— Вот если бы у него пистолет пропал, то это было бы круто! — сказал я, усевшись в машину.
— Пистолет тяжелый, он сразу бы почувствовал, — ответил фельдшер Груздев.
Проклятье доктора Мотылькова
Невропатолог Мотыльков был наполовину цыганом. Мать его влюбилась в молодого фельдшера, отца Мотылькова, и сбежала к нему из табора. После этого побега влюбленным пришлось срочно предпринять еще один — из солнечной Молдавии куда-то за Урал, чтобы спастись от гнева отца и братьев беглянки. Ничего, со временем все утряслось и отношения наладились. У Мотылькова вечно какие-то родственники с материнской стороны гостили.
От отца-вологжанина Мотыльков унаследовал славянскую внешность, а от матери — карий цвет глаз и взрывной эмоциональный характер. Впрочем, пациенты его любили, поскольку он был добрым, знающим и неалчным. С коллегами у Мотылькова тоже были хорошие отношения. До тех пор, пока старушка-заведующая не ушла на пенсию и вместо нее не поставили «варяга» из другой больницы, отставного майора медицинской службы. Пока что с приставкой «и. о.», но вроде как с дальним прицелом.
У Майора (буду называть его так) была любовница, тоже невропатолог. И ему очень хотелось, чтобы она работала вместе с ним. Удобно же, и вообще… Уже одно это желание показывает и доказывает, насколько глуп был Майор.
Свободных врачебных ставок в отделении не было. Хорошая больница, да и неврология — хорошая специальность. Чтобы принять любимую на работу, Майору вначале следовало кого-то уволить.
Прикинув расклады, Майор решил, что проще всего будет избавиться от Мотылькова. Люди с взрывным характером легко провоцируются на всякие необдуманные поступки, могущие стать поводом для выговоров. Личный мотив тоже имел место. Нордический красавец Мотыльков придумал плюгавому и. о. заведующего обидную кличку Сморчок, которую сразу же подхватила вся больница.
Первый выговор Мотыльков получил за пререкания с начальством во время обхода. «Пререкания» заключались в том, что в ответ на слова и. о. заведующего: «Завтра выписывайте товарища» — Мотыльков сказал: «Я хочу подержать его еще пару дней» и объяснил почему. Нормальный, в сущности, разговор, обмен мнениями, но Майор раскричался прямо в палате, обвинил Мотылькова в том, что он своими пререканиями срывает обход, и настрочил кляузу главному врачу. Главный поддержал Майора.
Второй выговор Мотыльков получил за некачественное ведение историй болезни. По этому поводу можно сказать лишь одно — нет такой истории болезни, к которой при желании нельзя придраться. Что-нибудь да всегда найдется, какой-то огрех. Выговоры за некачественное ведение историй болезни обычно получают те, кто по нескольку дней записей об обходах туда не вносят. А у Мотылькова в одной истории клинический диагноз показался Майору недостаточно полно обоснованным, а в другой Мотыльков написал в назначениях «R — ГК» вместо «рентгенография грудной клетки». Неправильно сделал, конечно, но давать за такое выговор — это все равно что расстреливать за переход улицы на красный свет.
Перед получением третьего выговора (точно так же притянутого за уши) состоялся разговор Майора с Мотыльковым, в ходе которого Мотыльков написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Перед уходом Мотыльков проклял Майора и своих бывших коллег, ставших соучастниками в творимых несправедливостях, каким-то сложносоставным цыганским проклятьем. Прямо в ординаторской и сказал:
— Да чтобы вас так-растак-перетак-разэтак…
На прощанье хлопнул дверью так, что упало зеркало, висевшее над умывальником. И был таков.
Мотыльков имел полное право ненавидеть не только Майора, но и своих коллег, которые поступили по отношению к нему по-свински. Кто-то подыгрывал Майору, кто-то стучал ему на Мотылькова, а кто ничего не делал, тот молчаливо одобрял происходящее. В другом отделении врачи взбунтовались бы уже после первого мотыльковского выговора — как нам теперь работать, если с начальством дискуссии вести нельзя? Возразишь по делу, и на тебе — выговор? Что за террор такой? Но Мотылькову с коллегами не повезло в той же степени, что и с новым начальником.
С того самого дня в ординаторской неврологического отделения, преимущественно по ночам, начал слышаться тоскливый заунывный вой, в котором одна из докторш даже различала фрагменты «Реквиема» Шнитке.
«У-у-у… у-у-у-у-у… у-у… у-у-у…»
Днем вой слышали очень редко, а ночью часто… Уж лучше бы наоборот, поскольку днем не так удивительно, то есть не так страшно. Причем вой был разнообразным, тональность и продолжительность звуков менялись. Ясно было, что воет кто-то живой.
— Мотыльков же сказал: «Ни дня покоя вам не будет», — озвучила общую мысль во время отделенческой пятиминутки старшая медсестра. — Так оно и есть! Не забывайте, что у него мать цыганка. А цыганские проклятья — это вам не ля-ля-тополя, это серьезно. Мою тетку цыганка на рынке прокляла, так ее на следующий день парализовало.
— Цыганку? — спросил Майор.
— Тетку. — Старшая медсестра посмотрела на начальника тем специфическим взглядом, каким медицинский персонал смотрит на умственно отсталых. — Девять лет в лежку лежала.
— Я в эту проклятую ординаторскую даже днем не войду, не то что ночью! — сказала одна из невропатологов. — На сестринском посту истории писать буду. И спать в коридоре стану во время дежурств!
— Неприятно, очень, — поддержали остальные. — Нервирует, и вообще неспроста все это. Добром не кончится.
Вообще-то, врачам полагается быть материалистами, но на самом деле никто так сильно не верит в мистику, как врачи. Уж очень много непонятного и необъяснимого встречается им в ходе работы. Здоровые люди вдруг ни с того, ни с сего умирают, и при вскрытии патологоанатом не может найти причины смерти, пишет дежурное: «Острая сердечно-сосудистая недостаточность». А неизлечимо больные вдруг выздоравливают в тот момент, когда их положение кажется абсолютно безнадежным… Что это, если не мистика? А потом Мотыльков та-а-ак сверкал своими глазами, когда проклинал, та-а-ак сверкал! Однозначно — не к добру.
— Да что вы словно дети! — хорохорился Майор. — Верите во всякую чушь. Он где-то динамик в ординаторской спрятал, с мощным аккумулятором, которого на несколько недель хватает. Давайте искать!
В идею с динамиком поверили, поскольку Мотыльков был на все руки мастер, что среди врачей великая редкость. И телевизор мог починить, и шкаф из досок сделать, и коробку передач поменять, а бывшей заведующей даже починил фамильные настольные часы, которые не работали с осени 1941 года.
Ординаторскую перевернули вверх дном, разобрали столы, тыкали вязальной спицей в диван, чем его напрочь испортили, даже отодрали плинтусы и сняли линолеум…
Ничего не нашли. Приуныли пуще прежнего. Майор получил выговор от главврача за разгром в ординаторской. Сдуру он пригласил главврача провести ночь в ординаторской и послушать вой.
— Делать мне больше нечего! — оскорбился главврач. — У меня другой метод — поменяю вас на заведующего, который сможет обеспечить в отделении порядок. Не забывайте, что вы пока еще исполняющий обязанности заведующего. Мне даже повод не нужен для того, чтобы от вас избавиться. Но вообще-то поводов у меня достаточно. Намеренная порча больничного имущества — это очень серьезный проступок.
Стремясь упрочить свое шаткое положение, Майор купил за свой счет новый диван в ординаторскую. Но кому был нужен тот диван? Никто из дежурных врачей в ординаторской не спал, да и работать днем врачи старались на сестринском посту, сильно обременяя тем самым медсестер — тесно же. Это не способствовало улучшению климата в отделении, скорее наоборот. Про ординаторскую говорили, что в ней после проклятья поселился демон смерти, который своим воем высасывает из людей жизненную силу. Пригласили, как водится, батюшку, который освятил все отделение целиком. Не помогло. Разговоры о демоне смерти сильно нервировали пациентов и их родственников. Плохо, когда пациенты нервничают, а уж когда нервничают неврологические пациенты, это плохо втройне…
А вой продолжал звучать. По-разному. Что интересно, когда ординаторской практически перестали пользоваться, демон стал выть и днем — сердился, наверное, что никто не приходит слушать его «концерты». Через закрытую дверь было слышно, как он там беснуется. Майора кто-то надоумил проверить вентиляционный ход. Майор взгромоздился на стул, который стоял на столе, снял решетку, пошарил в отверстии рукой, ничего не нашарил и… свалился на пол. Ничего не сломал, но сильно ушибся и неделю провел на больничном. Если кто и не верил в проклятье Мотылькова, то после этого случая поверил. Приземлись Майор чуточку неудачнее, то свернул бы себе шею и был бы в отделении новый заведующий.
Впрочем, он и так надолго не задержался, поскольку на отделение свалилась новая напасть — проверка из департамента, причем «прицельная», то есть члены комиссии явно знали, где им следует копать. По результатам проверки Майор лишился заведования и счел за лучшее уйти из больницы совсем. Вместе с ним ушла и принятая на место Мотылькова любовница. Заведующей назначили одну из врачей отделения. Причем — без обидной приставки «и. о.».
Демон продолжал выть.
На третий день работы новой заведующей в отделение явился Мотыльков, которому все обрадовались как родному. Новая заведующая начала с того, что попросила прощения за свое соучастие в подлых делах Майора, и выразила готовность вот прямо сейчас пойти к главврачу и просить принять Мотылькова обратно в отделение, тем более что и место вакантное имеется. Другие коллеги тоже покаялись и сказали, что пойдут просить за Мотылькова к главному всем отделением.
— Не надо, — отказался Мотыльков. — Мне и на новом месте неплохо. А что это у вас новая мода такая — врачи на сестринском посту сидят?
— А то ты не знаешь! — огрызнулась заведующая. — Сам же нас проклял. Тварь какая-то в ординаторской воет, и ничто ее не берет.
— Да ну? — делано удивился Мотыльков. — Можно послушать?
Мотыльков зашел в ординаторскую и пробыл там несколько минут, совсем недолго. Никто другой вместе с ним заходить не рискнул, а сам он никого не приглашал. Затем Мотыльков вернулся в кабинет заведующей и сказал:
— Да не воет там никто, можете сами убедиться. А диванчик хороший после Сморчка остался, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Счастливо вам оставаться!
И ушел.
В ординаторской больше никто не выл, ни днем, ни ночью. Примерно через неделю там отважилась провести ночь одна из дежурных врачей. Кроме биения своего сердца, никаких других звуков она не слышала.
Коллектив больницы разделился на мистиков (85 %) и прагматиков (15 %). Мистики считали, что Мотыльков ворожбой снял проклятие, потому и воя больше нет. Прагматики были уверены в том, что рукастый Мотыльков устроил какой-то хитрый фокус. А также в том, что комиссию на Майора наслал не демон, а сам Мотыльков. Но прагматики не видели разгрома в ординаторской неврологического отделения, перевернутых столов и истыканного спицей дивана…
В течение нескольких лет я рассказывал вкратце эту историю людям с математически-инженерным складом ума и спрашивал их мнения по поводу того, что мог устроить Мотыльков. Те, кто рисковал выдвинуть версию, единогласно сходились на том, что каверза была устроена в системе вентиляции, толком осмотреть которую Майор так и не смог. Трубочки какие-нибудь, издающие определенные звуки при прохождении через них воздуха, причем установленные глубоко, чтобы их нельзя было нашарить рукой так вот сразу.
— А в какое время года было дело? — спросил один из экспертов.
— Поздней осенью и в начале зимы, — ответил я.
— Скорее всего, система была установлена так, чтобы срабатывать при закрытых дверях и окнах, — предположил эксперт. — Днем дверь нараспашку, форточка открыта, ток воздуха иной. А ночью, когда все закрыто, звучит. Ну и посторонних шумов ночью тоже меньше. А когда ординаторской пользоваться перестали, иначе говоря, форточку и дверь держали закрытыми, вой был слышен и днем. Однако этот ваш Бабочкин в своем роде гений.
Не отбивайте жен у таксистов…
Доктор Моржов любил одну девушку, полумесяцем бровь… А если точнее, то такую знойную кустодиевскую красавицу, мечту всех поэтов.
Он приехал к ней на вызов в первый месяц своей работы… Влюбился с первого осмотра… Вожделел… Надеялся… Строил планы…
Она тоже вроде как была не против. Но не сложилось у них… Моржов женился на коллеге со «Скорой», спустя полгода развелся, а она вышла замуж за таксиста.
Обретя утраченную ненадолго свободу, Моржов отбил ее у таксиста.
О, эта история была достойна пера Шекспира или Пушкина… Она привозила Моржову на подстанцию горячие свежесваренные борщи (мы завидовали и умилялись), а таксист со товарищи пытался подкараулить Моржова после смены и поговорить с ним по-мужски. Но куда им, желтопузым, против «Скорой», особенно с учетом наших тесных связей с районными ментами…
Искренняя и сильная любовь всегда умиляет. Приятно же сознавать, что где-то все как положено. Но вдруг Моржову перестали привозить на дежурство горячие обеды. И ревнивый таксист куда-то пропал.
— Юра, что случилось? — спросили мы Моржова. — Мы же не чужие. Сопереживали тебе, борщи за компанию ели, от таксистов защищали. Имеем право знать!
— Выгнал я ее, — поведал Моржов. — Невмоготу стало. Ирка, моя бывшая, на что уж сука была, но после дежурства первым делом спрашивала: «Устал? Поспал ли ночью хоть часок?» А эта только одно и знает: «Сколько заработал?» У нее в голове вместо мозгов — счетчик. Поначалу на фоне общей эйфории вроде ничего было, но довольно скоро меня такой меркантилизм начал угнетать. Я вам так скажу: жена таксиста — это не судьба. Жена таксиста — это диагноз. Если вам дорога спокойная жизнь, то не отбивайте жен у таксистов!
Мы запомнили этот совет и никогда-никогда… Ну, вы понимаете.
Главное, чтобы помнили
— Пятнадцать лет я на пенсии, а ученики меня помнят, — сказала мне одна пациентка, бывшая школьная директриса, указывая глазами на мужичка, вставлявшего в окно ее спальни новое стекло вместо разбитого.
— Это хорошо, что помнят, — бодро сказал я. — Приятно же, когда есть кому окно застеклить или еще чем-то помочь.
— Да нет, это не ученик, — вздохнула пациентка. — Ученики мне стекла бьют. Регулярно.
Свадебное
Свадьба — это чаще все же праздник. Как и день рождения.
Свадебное торжество — это коллективное мероприятие. Так же, как и поминки.
Но почему-то в народных традициях постсоветского пространства принято отбивать-окупать именно свадьбы. Вот я знаю только одного человека, который устраивал празднование своего дня рождения на широкую ногу в расчете на богатые подарки и золотой дождь. Потом бросил. И в качестве гостя я за всю жизнь был только на одной свадьбе, где не звучала и не поднималась тема окупаемости. О ней просто не думали. На всех остальных звучала, да еще как.
Отец новобрачной — официантам: «Ребята, вы как бы случайно между собой восхититесь громко: «Какой шикарный стол! Каких денег стоит! По столько-то на персону! Чтоб людям было понятно, что раскошелиться они должны как следует. Ладно?»
Отец новобрачной — старшему сыну: «Не окупается свадьба, половину денег только собрали. Мать — мать — мать! Ну что за народ?! Ну торт продадим, еще сколько-то соберем, а все равно — мало. Что делать?» Сын: «А давай торт не просто продавать будем, а устроим аукцион. Все к тому времени дойдут до полной кондиции и захотят друг перед дружкой себя показать. В открытую ведь жлобствовать стыдно». (Аукцион, кстати говоря прошел плохо, больше эквивалента пяти баксов никто за кусок торта не давал.)
Отец новобрачного — своему приятелю: «Нет, кроме брачного контракта, нужно еще отдельный свадебный подписывать. Я вдвое больше на всю эту «канимудию» дал, чем сваты, а они хотят собранное пополам делить». Приятель: «Да ты пригрози им, что сын завтра разведется, станут как шелковые».
Однажды матери новобрачных так увлеклись обсуждением долей, что немножко порастрепали друг другу прически на виду у всех. Попутно рассказали гостям про все недостатки молодоженов в стиле «Да твой…!!! Да твоя…!!!» Всем, кроме молодоженов, было очень весело. Но праздник же, он в первую очередь устраивается для увеселения гостей, верно?
Про свадебные «обряды» и конкурсы я лучше промолчу. Однажды во время работы на «Скорой» я госпитализировал жениха, которого во время очередного конкурса перевернули вниз головой, да неудачно уронили. В другой раз госпитализировал с проникающим ножевым ранением неудачно пошутившего шафера. Во время конкурса «Угадай суженую по ноге» дома у невесты шафер сказал, что сподручнее было бы угадывать по другому месту. И тут же словил ножа в бок от вспыльчивого отца невесты, которому такая шуточка сильно не понравилась. Вот не знаю, состоялось ли в тот день запланированное бракосочетание. Хочется верить, что состоялось, ведь настоящая любовь преодолевает любые преграды, а шафер и отец невесты не являются обязательными участниками процесса.
Но однажды на дежурстве случилось небывалое…
Все свободные бригады нашей подстанции бросили в помощь соседям. Из Центра сообщили, что в ресторане произошла какая-то катастрофа. Толком не понять, какая именно, но очень много травмированных. У одних переломы, другие без сознания. Свободные бригады сгоняются со всего региона.
Катастрофа в ресторане? Много пострадавших? Ясное дело — или провалился пол, или обвалился потолок. Явно здание из нового коммерческого самостроя, которые лепят где и как придется по принципу «лишь бы подешевле».
Доехав до места, мы увидели, что ресторан цел, во всяком случае, снаружи никаких повреждений заметно не было, но пострадавших и впрямь много. То и дело кого-то на носилках выносили на улицу, загружали в скоропомощной автомобиль и увозили. Всего пострадало, то есть получило переломы, ножевые ранения и закрытые черепно-мозговые травмы, около тридцати человек. Наша бригада вывезла в больницу сразу двоих. А что поделать — аврал.
Причиной «катастрофы» была банальная драка. Та самая, без которой, как говорят знатоки, и свадьба не свадьба. Публика в ресторане собралась простая, люди с рабочей окраины, то есть такие, которые переходят к делу без интеллигентских рефлексий и ненужных церемоний. В момент одаривания молодоженов подарками дядя невесты обозвал женихову родню жлобами и крохоборами. Мол, с нашей стороны подарки как подарки — стиральная машина, телевизор, посудомойка, а вы норовите фенами да утюгами отделаться. Представители обоих сторон к тому времени успели хорошо набраться, поэтому драка вспыхнула сразу. Дрались по-простому, то есть умело, ожесточенно и с использованием различных предметов. Кто-то даже ножи в ход пустил. Женщины не отставали от мужчин, вносили свою лепту в общее разгулье. Так, например, одна из родственниц жениха вырубила при помощи подаренного молодоженам утюга дядю невесты, который спровоцировал драку, а когда тот упал, отвесила (тоже утюгом) щедрой добавки. Дядя получил сотрясение мозга, перелом костей носа и двойной перелом нижней челюсти. Он был одним из тех двоих пострадавших, которым оказывал помощь я. Дяде повезло — добавка была ему отвешена не то задней, не то боковой частью утюга, но не острым концом. В противном случае его бы, скорее всего, пришлось бы вести не в больницу, а в морг.
Горько мне, горько…
Доктор Пирамидонов
Доктор Пирамидонов (прозвище, созвучное фамилии, которую я называть не стану) был радикальным анархокоммунистом, убежденным абстинентом и непризнанным гением. Гремучая, скажу я вам, смесь.
В больнице Пирамидонова терпели вынужденно, как непьющего врача-дежуранта приемного покоя. Выгнали бы пинками, да заменить некем, желающих сидеть на приеме мало. Медицину Пирамидонов знал назубок, но на фельдшерском уровне, не слишком глубоко. Ничего, для приемного отделения хватало. Там же главное не знания, а четкость мысли. Умом пускай в «лечебных» отделениях блещут.
Как коммунист, Пирамидонов был поборником справедливости. Бесполезно было просить его (даже за деньги) положить блатного больного в конкретную палату конкретного отделения. Положит блатного в коридор терапевтического отделения, а в конкретную палату конкретного отделения заложит бомжа. Или безумную старушку.
Как анархист, Пирамидонов больше всего на свете ценил свободу. Бесполезно было просить его выйти не в свою смену. «Надо мне! Сдохну на работе, а вы потом меня на семикопеечной марке изобразите», — саркастически отвечал Пирамидонов на все предложения начальства относительно «подменить». Почему именно на семикопеечной, так и осталось загадкой.
Карьера Пирамидонова оборвалась трагически. Однажды в его дежурство в приемное отделение самотеком после некоего ЧП поступил Небожитель. Если конкретнее, то второй после Бога человек по столичным меркам. В сопровождении телохранителя, тоже пострадавшего. Демонстративно проигнорировав Небожителя, Пирамидонов занялся Телохранителем. Оказал ему помощь на высшем уровне, да вдобавок прочел лекцию о том, что взрослому и крепкому мужчине с военным опытом следует бороться за справедливость в первых рядах, а не бюрократических буржуев от народного гнева защищать. Небожителя Пирамидонов «обслужил» кое-как и затем перевел обоих в другой стационар, по назначению.
Неизвестно, что больше обидело Небожителя — демонстративное предпочтение ему Телохранителя или же содержание агитационной лекции, которую Пирамидонов читал громко и с выражением своим густым «левитановским» голосом. Но через два дня Пирамидонова вызвал главный врач и посоветовал экстренно увольняться и уматывать из Москвы-матушки не ближе чем на сто первый километр. Иначе будет плохо, даже очень.
Пирамидонов внял совету и исчез. С концами. Мы часто вспоминали его и гадали: где он сейчас? Я как-то раз, обуреваемый ностальгией, даже у Гугла о нем спросил. Гугл мне ничего не ответил. На почте я иногда спрашивал семикопеечные марки. Мне отвечали, что таких давно уже не выпускают.
Весной этого года жажда новизны занесла меня в один губернский город, в котором я уже до этого бывал не раз. После прогулки по городу я зашел перекусить в первое попавшееся заведение общепита, из которого до меня донеслись приятные ароматы (до того все больше неприятные доносились). Бармен, он же официант, показался мне смутно знакомым. «Неужели я здесь уже был в прошлый приезд?» — задумался я в ожидании заказа. Озарение пришло в тот момент, когда бармен-официант поставил передо мной тарелку с солянкой. Дело в том, что на одной из рук у Пирамидонова не хватало фаланги пальца — последствие юношеского увлечения химией взрывчатых веществ.
— Пирамидонов?! — воскликнул я, не веря своим глазам. — Неужели?!
— А я тебя сразу узнал, — как ни в чем не бывало сказал Пирамидонов, — как только ты вошел. Но решил не лезть сразу с расспросами. Пускай человек поест сначала.
Мы взаимно поудивлялись друг другу. Я тому, что анархокоммунист Пирамидонов стал владельцем кафе, а Пирамидонов тому, что меня судьба завела на кафедру.
— Но как же ты с твоими взглядами стал буржуем? — поразился я. — Эксплуататором трудящихся масс?
— Это ничего, это можно, — ответил Пирамидонов. — Я же не на буржуев работаю, а на себя. И никого не эксплуатирую, просто мне жена с дочкой помогают. Семейный подряд.
Из копилки мудрости
Пациенты обожают делиться мудростью с врачами. В порядке, так сказать, обмена опытом…
— Выгоднее всего ремонтировать школы, — поведал мне один прораб. — В смысле репутации. Что бы ни случилось, все скажут «дети сломали», а не «рабочие накосячили».
Крестный эскулап
В лихие девяностые был среди моих знакомых врач ОПГ (организованной преступной группировки, если кто не в курсе, что означает это сокращение). Какой именно, не так уж и важно, но пытливым и вдумчивым могу шепнуть слово «шайба». А дальше уж сами, сами и без уточнений…
Врач ОПГ — это тема, до сих пор не охваченная многострадальной (в смысле количества нив, на которых идет страда) околомедицинской художественной литературой. Только о врачах мафии, Крестных Эскулапах, да о медицинских статистиках никто еще, насколько я знаю, не писал.
Вообще-то, он был реаниматологом, который по бедности промышлял выведением из запоев на дому. Приехал к одному братку, вывел, познакомился, потом приехал к другому… Так и устроился на работу. Надо сказать, что работа у него была не пыльной. Запои, уретриты, несложная амбулаторная хирургия (сложные операции делались в стационарах другими врачами)… А платили по-царски, очень даже хорошо.
Как-то раз я неожиданно столкнулся с Крестным Эскулапом в одной из московских больниц. Привез инфаркт в реанимацию, а тут он навстречу выходит, в белом халате.
Я, естественно, спросил: что так? Приготовился услышать душераздирающую историю о романе с дочерью босса или еще что-то в этом роде. Кто ж в здравом уме от такой яхонтовой синекуры откажется без особых причин?
— Да ну их деньги эти! — сказал Крестный Эскулап. — Деньги еще не главное в жизни. Я к уважению привык, а у них принято на «ты», по имени и «давай-пошевеливайся». Не хочу так! Не могу!
— Отпустили-то легко? — Из книжек я знал, что в мафию вход копейка, а выход — сто рублей плюс белые тапочки.
— Без проблем, — ответил Крестный Эскулап. — Даже сам удивился. Сказал, что мне практика нужна, а то квалификацию теряю, и ушел спокойно.
Уважайте врачей. Им это реально нужно.
Еще из копилки мудрости
— Умный студент пойдет не в хирурги или гинекологи, а в терапевты, — говорил на лекциях один профессор-терапевт (слишком известный для того, чтобы оглашать его фамилию). — Терапевт может преспокойно работать до самых преклонных лет, а вот в хирургии возраст становится серьезной помехой. Руки начинают дрожать, ноги болят от долгого простаивания за столом и так далее. Выгоднее работать не руками, а головой.
— Но ведь и голова в преклонном возрасте соображает хуже, — возражали студенты. — Церебральный атеросклероз и все такое.
— Ах, оставьте! — пренебрежительно махал рукой профессор. — Когда руки дрожат, это всем сразу бросается в глаза, а что там с головой происходит, никому не видно.
Эринии сильнее Гиппократа
В одной московской поликлинике (центральной, между прочим, где в очередях каждый третий был народный артист или заслуженный деятель иных искусств) работал врачом ультразвуковой диагностики доктор Овечкин.
Доктор Овечкин был типичным «литературным» врачом — добродушным, приятным в общении, склонным к полноте и отчасти слабохарактерным. Или он просто слишком вежливым был (и остается), настолько, что стеснялся на своем настаивать, считал, что лучше уступить.
Ездили на нем все кому не лень. «Ой, Сан Саныч, миленький, а нельзя ли срочно бабушку «глянуть»…» Он и глядел, добрая душа, целыми днями в поликлинике просиживал вместо положенных шести часов. «Я вам этого времени оплатить не в состоянии! — кричала на совещаниях главврач. — Нельзя столько перерабатывать!» «Да я не ради оплаты, — отвечал Овечкин. — Люди просят, коллеги. Как я могу им отказать?»
У доктора Овечкина была жена Маша, которую он очень любил. Чтобы понять глубину этой любви, достаточно было послушать, как он с ней разговаривал по телефону. Дело было в середине девяностых, когда скромный врач ультразвуковой диагностики не мог обладать мобильным телефоном. Поэтому Овечкин звонил жене из регистратуры. Раз по десять в день. «Машенька, милая, я так по тебе соскучился…» И так далее, в романтическом духе. Медики в большинстве своем люди циничные, склонные к издевкам и глумлению, но над Овечкиным никто не глумился. Язык не поворачивался глумиться. Такая это была любовь.
Ключевое слово «была». Увы, все проходит…
В один ужасный день Маша объявила Овечкину, что она давно любит другого мужчину («Настоящего, а не такого пентюха, как ты») и намерена строить с ним новую, безусловно счастливую, жизнь. Овечкин сильно расстроился и даже попробовал уйти в запой с горя, но у него не получилось. Опыта не хватило. Пришлось лечить горе работой.
Прошло полгода. Свободные от обязательств сотрудницы поликлиники пытались помочь Овечкину справиться с горем, но он после такого потрясения ни с кем на сближение не шел. Похудел, осунулся, перестал регулярно бриться, мог две недели в одном и том же халате проработать. Но работал так же качественно, как и раньше, и по-прежнему никому не отказывал «глянуть бабушку в срочном порядке». Хороших людей горе не ожесточает.
И вот однажды на исследование органов брюшной полости к Овечкину пришел новый муж его бывшей жены. Они все жили в районе обслуживания поликлиники, и Овечкин часто встречал на улице бывшую жену с ее новым мужем.
Машу потянуло на противоположное. Новый муж был плечист и брутален. Тренер по плаванию, мастер спорта и чего-то там призер. Во время случайных встреч он отпускал в адрес Овечкина различные колкости, явно желая спровоцировать «пентюха» на драку. А может, просто хотел доказать таким образом Маше свою мужественность и превосходство над ее бывшим мужем.
Во время случайных встреч новый муж Маши отпускал в адрес Овечкина различные колкости, но тем не менее приперся к нему на прием? А что тут такого необычного и удивительного? Ровным счетом ничего! Доктор клятву самому Гиппократу давал и вообще он гуманист и всем по жизни обязан. Кто из врачей не сталкивался с подобным отношением? Каждый и не раз! Нажалуется пациент на врача главному врачу или в Департамент здравоохранения, а после, как ни в чем не бывало, является к нему на прием… А что? А ничего!
Овечкин внимательно исследовал органы брюшной полости своего счастливого соперника и написал заключение: опухоль головки поджелудочной железы с метастазами в печень. Он оказался настолько человечным, что пригласил в кабинет Машу, скромно ожидавшую своего нового мужа в коридоре, ознакомил с заключением и ее, и сказал, что, несмотря ни на что, продолжает оставаться ее другом. Понимай так: «Он помрет, а я останусь, и мы сможем попробовать снова». Маша прослезилась. Тренер и призер как-то весь сразу сдулся, стал меньше и в росте, и в объеме. Ясное дело, такой диагноз.
Но по результатам одного-единственного исследования диагнозы, да еще и такие серьезные, выставлять не принято. Нового мужа Маши направили в городской онкодиспансер на Бауманской, где его обследовали повторно и никакой опухоли не нашли. Радость радостью, но под дамокловым мечом скорой кончины он проходил около недели. А первые дни, если кто не знает (и слава богу, что не знает!), они наиболее «переживательные», самые тяжелые. Наибольшее количество суицидов приходится именно на них.
Мнимый больной истерил в кабинете главного врача так, что послушать на четвертый этаж сбежалась вся поликлиника. Жалобы ушли не только в Департамент здравоохранения, но и в министерство. Овечкин стоял на своем, как двадцать восемь панфиловцев: обычная врачебная ошибка и ничего более. Какой злой умысел? О чем вы?
Выговор он, конечно же, получил, без этого нельзя, раз ошибка задокументирована и жалобы в вышестоящие инстанции имеются, но — редкий случай! — премий его из-за этого выговора не лишали. Главврач побоялась, что Овечкин обидится и уйдет в другую поликлинику. Где ж она еще такого пахаря найдет?
Маша после этой истории пришла к Овечкину в поликлинику (домой, на пепелище любви, видимо, являться постеснялась) и сказала: «Теперь я поняла, что ты продолжаешь меня любить». «Ты ошибаешься, между нами все кончено», — ответил Овечкин и выставил ее из кабинета.
Главврач все никак не могла успокоиться. Ей хотелось поставить точку в этой истории. Примерно через месяц она во время еженедельного собрания сотрудников сказала: «Ну признайтесь же, наконец, Сан Саныч, что в вас Венера взяла верх над Гиппократом! Между нами, а?» «Эринии взяли верх, а не Венера, — ответил начитанный Овечкин. — Венера здесь ни при чем!»
Недавно я узнал, что Овечкин уже давно женат повторно и вроде как счастливо. Старшая дочь его в сентябре пойдет в одиннадцатый класс, младшая — в шестой. Младшую, кстати говоря, зовут Машей. Я не стал уточнять, в честь кого. Работает Овечкин в одной из московских больниц, заведует отделением ультразвуковой диагностики.
Уникум
Один, мягко говоря, неординарный, участковый врач очень любил выставлять пациентам диагнозы, которых не было в Международной классификации болезней. Вроде «общее недомогание» или «полный упадок сил».
— Что вы творите?! — стенала (стонала, рыдала, негодовала…) заведующая отделением. — Есть же клас-си-фи-ка-ци-я!!!
— Если бы эта ваша классификация была бы полной и верной, то ее бы не пересматривали то и дело! — резонно возражал неординарный участковый врач.
К слову, если кто не знает, сейчас врачи пользуются классификацией 10-го пересмотра.
С дураком спорить все равно что покойника реанимировать.
Жемчужным перлом его коллекции неординарных диагнозов было: «Олигоаппетития»[9]. Желающие могут расшифровать этот ребус самостоятельно.
Маша, у нас чума!!!
Борьбе с особо опасными инфекциями все начальственно-контролирующие органы придают огромное значение. Поэтому учений и проверок по этой теме проводится много. Чуть где что случится, а где-то что-то то и дело случается, принимаются «соответствующие меры», то есть проводится массовая проверка знаний персонала. Проверка может проводиться в виде масштабных учений, о которых руководители причастных учреждений извещаются заранее, и одиночных провокаций, о которых никто заранее не извещается.
Третья суббота июня. Лето в самом разгаре… В приемном покое одной многопрофильной московской больницы — тишь и благодать. Полгорода на дачах, поступлений мало, завтра — День медика, который по устоявшейся традиции можно начинать праздновать уже с субботнего вечера…
Дежурный врач приемного отделения в смотровом кабинете перечитывает вересаевские «Записки врача» и с привычной тоской думает о том, что если бы эта книга попалась бы ему в девятом или в десятом классе, то черта с два он бы сунулся в эту проклятую медицину… Эх, добрая мысля, как известно, приходит опосля, когда менять что-то уже поздно и немного страшно.
Грустные мысли прерывает стук в дверь. В больнице, где все повсюду входят без стука, это сигнал тревоги. Пришел кто-то чужой, а чужие, как известно, с добром не приходят.
— Заходите! — громко говорит врач, захлопывая книгу на самом болезненном месте.
В кабинет входит женщина средних лет. Ухоженная, благоухающая дорогими духами, хорошо одетая, стильно подстриженная и как следует причесанная. Явно ничем не больная. Садится напротив врача и заученно излагает жалобы и анамнез. Летала на три недели в Индию, колесила там повсюду, за день до вылета в Москву в паху с одной стороны появились болезненные шишки, поднялась температура…
Чума! Как есть чума!
Но никакая это не больная, а контролер. Вот она закончила свой рассказ и теперь будет следить за действиями персонала. А действовать положено так, будто перед тобой реально больной чумой человек. Никаких поблажек и отступлений от инструкций.
При выявлении больного чумой медицинский работник не имеет права выходить из кабинета. Нечего заразу по учреждению разносить. Нужно сообщить о выявлении больного чумой своему руководству, запереть дверь и оставаться с больным до прибытия специализированной эпидемиологической бригады, членов которой из-за ношения защитных костюмов прозвали «клоунами-инопланетянами».
— Покажите, что у вас там в паху, — говорит врач.
Вместо этого ему показывают удостоверение сотрудника Департамента здравоохранения.
Все — шоу началось. Врач запирает дверь кабинета, чтобы никто не вошел, закрывает окна, тщательно заклеивает лейкопластырем вентиляционное отверстие (не забывайте — это же шоу), а затем снимает телефонную трубку, чтобы доложить о случившемся ответственному дежурному по больнице. На дворе 1996 год, мобильники есть далеко не у всех.
Телефон не работает. Связи с внешним миром нет. Выходить из кабинета запрещено правилами.
— А у вас, случайно, нет сотового телефона? — задает Врач идиотский вопрос Проверяющей.
— Случайно — нет, — отвечает она и смотрит испытующе — что делать будешь, дружок? Как станешь выкручиваться?
Врача приемного покоя скоропомощных больниц, где за каждую смену меньше дюжины сюрпризов не бывает, жизнь быстро учит нестандартно мыслить и находить выходы из безвыходных положений. А тут-то и думать нечего — по совету незабвенного Филеаса Фогга используй то, что под рукой, и не ищи себе другого. Под рукой есть только собственный голос. Врач подходит к двери, набирает в грудь побольше воздуха и кричит дежурной медсестре:
— Маша, сообщи Александру Авессаломовичу (ответственному дежурному врачу по больнице), что у нас чума! Женщина, сорок лет! Чума! У нас чума, Маша!
Доктор зовет, только Маша не слышит… (ну прямо песня складывается).
Призыв пришлось повторить несколько раз. Крещендо, то есть по нарастающей. До Маши все никак не доходило, а вот до тех, кому информация не предназначалась, дошло сразу.
Что сделает здравомыслящий человек, узнав, что в одном здании с ним находится больной чумой? Вариант всего один — бежать прочь, бросив в холодильнике на прокорм персоналу то, чего нельзя унести с собой. Начался Великий Стихийный Исход Пациентов из всех отделений терапевтического корпуса.
— Успокойтесь, это учения! — лепетали дежурные медсестры.
Их не слушали. На лестнице была такая давка, что двое «исходников» получили переломы и были отвезены в хирургический приемный покой. Даже лежачие пациенты поддались массовому психозу. Они падали с коек на пол и пытались ползти.
Охранник у больничных ворот, не поняв сути дела, додумал все сам и позвонил на «ноль два» с сообщением о заложенной в больнице бомбе. Ну а о чем мог еще подумать при виде панически бегущей толпы отставной майор? О нашествии анаконд? Или об атаке людей-скорпионов?
Кто-то и в «Московский комсомолец» позвонил в надежде получить награду за «сенсационную» новость. Непосвященные не знают о том, что подобные новости в здравом уме ни один редактор не пропустит. А почему — не спрашивайте, я все равно не скажу.
Шухер вышел знатный. Пока виновник произошедшего усердно составлял список лиц, с которыми якобы контактировала мнимая больная чумой, все прочие медики пытались вернуть хаос в лоно порядка. Ценой огромных усилий и непрекращающейся разъяснительной работы удалось возвратить часть пациентов в палаты. Тем, кто успел сбежать, звонили домой, объясняли ситуацию и просили вернуться обратно. Старались как могли, но всех до утра обзвонить не успели. Еще и следующей смене пришлось заниматься обзвоном. В День медика… То-то радости. Весь дежурный персонал мечтал только об одном — линчевать нерадивую Машу, а заодно и громогласного доктора. Тоже Шаляпин выискался, идиот хренов…
Виновнику случившегося главный врач хотел дать выговор — нельзя же оставлять такое безнаказанным! — но тот пригрозил начальству судом. Как можно давать выговор за добросовестное исполнение служебных обязанностей? Вы лучше за больничными телефонами следите, чтобы они всегда были исправными. В результате выговор дали медсестре Маше, которой все было как с гуся вода. Приемное отделение — это то самое дно, ниже которого ничего нет. Не уволят, потому что работать некому, и никуда не переведут, поскольку любой перевод будет считаться поощрением.
Хорошо, что нынче у всех есть мобильные телефоны. А у некоторых даже несколько…
Баллада о старшей медсестре (посвящается международному дню медицинской сестры)
В одном терапевтическом отделении одной московской больницы заведующий отделением хотел выжить старшую медсестру, чтобы посадить на ее место свою любовницу, работавшую процедурной медсестрой.
Реальный повод был таков, но формально Заведующий использовал то обстоятельство, что старшая медсестра достигла пенсионного возраста. Однако при этом она была бодра, энергична и в своем уме — пятьдесят шесть лет всего. И на своем месте, то есть целиком и полностью соответствовала занимаемой должности.
Надо сказать, что опытными старшими медсестрами в медучреждениях не разбрасываются, ибо там они на вес золота. Главного врача найти на замену в десять раз легче, чем старшую медсестру (и это не шутка). Репутация отделения держится на заведующем, а порядок в отделении — на старшей медсестре. Посудите сами: возможна ли хорошая репутация без порядка? То-то же. Но у заведующего взыграло ретивое, иначе и не скажешь. Уж очень соблазнительна была претендентка на ее место. Лицо — что ясная луна, кожа — что бархат небесный, бюст четвертого размера, а темперамент… Ух! Такой не то что место расчистить, такой свое место отдашь без раздумий… Я видел ту процедурную медсестру, которая была любовницей заведующего, и скажу вам, положив руку на сердце: этот Париж таки стоил мессы. Как мужчина могу понять заведующего. Как человек, бывший недолгое время исполняющим обязанности заведующего отделением — нет, не могу. Нерационально и просто глупо менять опытных старших сестер на неопытных. Даже если бес в ребро на пятом десятке.
Заведующий заявил старшей медсестре в ультимативной форме: кто-то из нас должен уйти!
Кто-то из нас должен уйти! А тут на больницу пала казнь египетская в виде комиссии из Департамента здравоохранения, которая должна была проверить, готова ли больница к возможному поступлению холерных больных. Из Шереметьева «Скорая» в очередной раз госпитализировала какого-то больного холерой, прилетевшего из жарких стран. Когда такое случается, по всей Москве трубят в трубы и бьют в барабаны — возможна эпидемия, подтянитесь!
Терапевтические и приемные отделения непременно посещаются всеми комиссиями, проверяющими готовность к приему больных с особо опасными инфекциями. Подготовкой среднего медперсонала занималась старшая медсестра. Заведующий в это дело не вникал. Он вообще предпочитал не вникать в то, что можно было спихнуть на кого-то, такой уж был человек. Только проверку санитарного состояния процедурного кабинета никому не доверял. Сам ее проводил, практически ежедневно, в спокойное послеобеденное время. При закрытых дверях и подолгу.
Старшая медсестра регулярно собирала в своем кабинете медсестер и санитарок на занятия. Занимались на совесть, даже конспектики писали. Заведующий был спокоен — видел, что подготовка идет полным ходом, постовые медсестры, как выдастся свободная минутка, сразу же в свои конспектики утыкаются. Эх, ему бы заглянуть в те конспектики… Но гораздо приятнее было лишний раз заглянуть в процедурный кабинет, к своей ненаглядной. Он, кстати говоря, своей властью избавил процедурную медсестру от участия в подготовке к проверке. И верно — негоже лилиям прясть, у них другие дела есть поважнее.
Медсестер любая комиссия мучает больше, чем врачей, ибо комиссии проверяют в первую очередь режим, а его обеспечивает средний медперсонал. Эта комиссия не оказалась исключением из вечного правила. Выслушав для проформы клинику холеры, бойко пересказанную одним из ординаторов, комиссия взялась за сестер.
Взялась — и ахнула, потому что на все вопросы сестры отвечали неправильно, а одна даже возмутилась — что-то вы нас не о том спрашиваете! Комиссия в свою очередь возмутилась — да что вы говорите? — и вышел большой скандал.
Формально было выявлено два больших греха.
Во-первых, терапевтическое отделение оказалось полностью неподготовленным к холерной атаке. Эту ситуацию можно сравнить вот с какой, чтобы была ясна степень негативной реакции проверяющих. Представьте себе войну, фронт. В одну из рот прибывает проверка и видит, что вместо того, чтобы нести службу как положено в боевых условиях, солдаты побросали оружие в кучу и занимаются каждый своим делом. Кто книжку читает, кто письмо домой пишет, кто подштанники штопает. Нагрянет враг — возьмет их голыми руками за жабры.
Во-вторых, неподготовленные медсестры осмелились перечить начальственной департаментской комиссии! Это вопиющее нарушение субординации. Все равно что рядовой с генералом в пререкания вступит.
В результате главный врач получил из Департамента по шапке (строгий выговор с предупреждением), а заведующий получил пинка под зад по несоответствию занимаемой должности. Заслуженно получил, ибо заведующий отвечает за все, что происходит в отделении, в том числе и за подготовку среднего и младшего персонала к учениям.
А вот старшей сестре за то, что она учила с подчиненными не холеру, а чуму, ничего не было. Она осталась на своем посту при новой заведующей и, кажется, работает до сих пор.
Процедурной медсестре, конечно же, пришлось уйти следом за заведующим. Что с ней стало, я не знаю.
Клинические испытания
Во время моей работы в госпитале МВД в блок кардиологической реанимации частенько поступал пациент с вышедшим из строя кардиостимулятором. Пациенту ставили новый стимулятор, через месяц он ломался. И так много раз подряд. Удивительно — у других кардиостимуляторы работают годами, а этот каждый месяц на замену укладывается.
Пациент жил на Аргуновской улице, поэтому мои коллеги списывали все на пагубное действие Останкинской телебашни и советовали пациенту менять район проживания. Он вяло соглашался — да, надо бы.
Кардиостимулятор пациент всякий раз покупал на свои кровные (он мог себе это позволить, да и никакие установленные квоты не покрыли бы такого расхода), поэтому в причины частых поломок никто из коллег особо глубоко не вникал. Идея с телебашней всех полностью устраивала. А вот я как-то не верил в телебашню. Если бы так, то ни один бы он стал нашим завсегдатаем. Были бы еще, кто-нибудь из соседей. Кардиостимулятор — не такая уж редкая штука. И район вокруг Останкинской башни густонаселенный.
Короче говоря, вся эта история сильно меня заинтриговала. В один более-менее спокойный вечер я смог «расколоть» пациента. Оказалось, что наш завсегдатай ходит в сауну и парится там до седьмого пота и восьмого пара. С кардиостимулятором. Два раза в неделю, по средам и субботам. За исключением времени, когда лежит в больницах. Организм пока выдерживает такой режим, а вот кардиостимуляторы — нет.
На вопрос «Зачем?!!» он ответил:
— Как это «зачем», доктор? Сердце у меня больное, если бы я не тренировал бы его, то давно бы помер!
И посмотрел на меня с истинно ленинским прищуром, как умный на дурака.
Гвозди бы делать из этих людей! И галоперидолом кормить, непременно — галоперидолом…
Срезал (почти по Шукшину)
Работал в отделении реанимации одной московской больницы некий доктор. Не очень умный, но сильно алчный и столь же сильно пьющий. В медицинском понимании «сильно пьющий» этот тот, кто нажирается на дежурстве, перекладывая свои обязанности на напарников и медсестер. Мотивация для пьянства у него была интересная: «Отец мой — главврач, брат родной — доцент, а я рядовой врач, и они этим мне постоянно в глаза колют. Ну как тут не выпить?»
Ах уж эти мотивации пьющих! Их анализ на целую книгу потянет, а может, даже и не на одну.
Но дело не в этом.
А в том, что, будучи алчным стяжателем, этот доктор всем пациентам, находящимся в сознании, и всем родственникам пациентов постоянно намекал на свое бедственное материальное положение в надежде получить мзду. И вот однажды я был свидетелем его разговора с водителем автобуса, которого привез в реанимацию на «Скорой». С нестабильной стенокардией.
Алчный Доктор, что называется, с места в карьер, еще не расписавшись в приеме пациента, сразу же начал прозрачно намекать:
— Вот я врач, шесть лет в институте учился, два года в ординатуре, на курсы повышения квалификации постоянно хожу, а получаю втрое меньше вашего. Разве это справедливо?
О том, что пациент работает водителем автобуса, Алчный Доктор узнал от меня. Я сказал, что мы его взяли с улицы. Ему во время работы стало плохо, он остановил автобус, объявил пассажирам, что сломался, вышел подышать свежим воздухом и не смог устоять на ногах. А мы как раз ехали мимо, возвращались на подстанцию. В общем, все очень удачно вышло. На момент доставки в реанимационное отделение ничего у него не болело (уколы подействовали) и давление было нормальным. Он даже порывался вернуться на работу, такой вот герой.
Водитель на это ответил:
— Абсолютно справедливо, доктор. У меня профессия рискованная. Задавлю, не дай бог, человека и сяду, а у вас никакого риска. Даже если мы все здесь к утру помрем, вам ничего не будет!
Так любой дурак сможет…
Хочу рассказать вам нестрашную историю об одной диагностической ошибке, допущенной мною во время работы на «Скорой помощи».
Вызов к сорокалетнему мужчине с поводом «плохо с сердцем».
Пациент угнетен, выражение лица страдальческое, жалуется на боль за грудиной и общую слабость. Почувствовал себя плохо около часа назад, до этого все было в порядке. Вокруг суетится испуганная жена. Из глубины квартиры доносится громкое уханье тяжелого рока, что позволяет предположить наличие чада или нескольких чад, страстно любящих хорошую музыку. В общем, все, как обычно. И на этот раз «плохо с сердцем» вроде бы как на самом деле означает «плохо с сердцем». А то чего только не кроется за этим поводом. От ножевого ранения до приапизма.
Клинику приступа нестабильной стенокардии пациент излагает как отличник на экзамене, но на кардиограмме никаких изменений нет. Такое случается. В первые часы инфаркта миокарда кардиограмма может не «успевать» за клиникой, изменения появятся позже, так что умные врачи ориентируются на клинику (разумеется, допуская возможность симуляции), а дураки — только на кардиограмму.
В моей скоропомощной практике был один случай, когда мне написал благодарность муж умершей пациентки. Это, знаете ли, довольно редкий случай, чтобы родственники умерших благодарности писали. Они все чаще жалуются. А дело было так. Приехал я по вызову к женщине шестидесяти лет на «плохо с сердцем». Клиника инфарктная, кардиограмма «чистая», состояние тяжелое. Поскольку я в ту смену работал один, без фельдшера, то не рискнул везти ее в стационар в таком состоянии (начала бы «ухудшаться» — рук для спасения не хватило бы), а вызвал «на себя» специализированную бригаду интенсивной терапии, в просторечии — «битов». Те приехали, я им сдал пациентку и уехал. А «битовский» врач решил, что раз кардиограмма «чиста», то и инфаркта нет. Снял мой диагноз инфаркта, поставил вместо него простую стенокардию, сделал укол и уехал. А пациентка спустя два часа умерла. При вскрытии был обнаружен острый трансмуральный (крупноочаговый) инфаркт миокарда нижней стенки левого желудочка. Муж умершей написал жалобу на «битовского» врача и благодарность мне…
Но вернемся к нашему сорокалетнему мужчине.
Зачем может понадобиться симулировать приступ стенокардии сорокалетнему мужику? Призыв ему давно не грозит. Военные сборы? Но дело было в середине декабря, а я ни разу не слышал о том, чтобы кого-то призывали на сборы в это время. Прогулял работу? Но, по его словам, он был сегодня на работе и отпахал смену от звонка до звонка. К тому же рассказывает, что заболел только что, а не с утра. «Косари-прогульщики» всегда заболевают с утра, и так сильно, что врача им вечером вызывают вернувшиеся с работы родственники. Сами они до телефона дойти не могут. До туалета — могут, а до телефона — нет, такой вот парадокс. И затем, на том основании, что они заболели с утра, они требуют выдачи больничного листа «задним числом».
Но дело не в этом, а в том, что я отверг все возможные поводы для симуляции и решил госпитализировать пациента с диагнозом «нестабильная стенокардия». Фельдшер пошел за носилками, а пациент со словами: «Да что вы, я пешком спокойно дойду» — ломанулся в прихожую одеваться. Я ринулся за ним (навидался, как и куда они «сами доходят») и обратил внимание на то, что первым делом мой пациент выключил в прихожей свет.
Ау, доктор Ватсон! Какие будут предположения?
На закономерный вопрос «Зачем?» был получен ответ: «При свете любой дурак одеться сможет, а я не люблю чувствовать себя дураком!»
В голове моей, как принято выражаться, молнией сверкнула догадка. Взяв пациента под локоток, я вернул его на диван и, глядя в его бесстыжие глаза, спросил страшным голосом: «В психоневрологическом диспансере на учете состоите?!!»
Пациент кивнул — состою, мол. «Шизофрения у него, — встряла жена. — Вот сегодня опять голоса слышать начал. А в психушке разве лечат? Накачают каким-то г. ом, и лежишь бревном. Вот мы и подумали, что лучше бы ему в обычную больницу лечь, к нормальным докторам…»
К нормальным! Вот так.
Пускай и не по профилю.
Пришлось мне вызывать «на себя» специализированную психиатрическую бригаду.
О вреде сочувствия к рыдающим матерям-одиночкам
Спросите меня: «Нужно ли сочувствовать рыдающим матерям-одиночкам?» — и я вам вместо конкретного ответа расскажу одну историю.
Жила-была в одном подмосковном городе девочка Анечка с умеренно выраженной дебильностью.
Умеренно выраженная дебильность — диагноз довольно условный. То ли нижняя граница нормы, то ли верхняя граница патологии. Можно сказать — «он дебил» (не в смысле оскорбления, а в медицинско-диагностическом), а можно сказать — «недалекий человек» или «простоватый». Разница есть, верно? Так что, если хотите, можно начать рассказ и так: «Жила-была в одном подмосковном городе недалекая девочка Анечка…» Те же яйца, только в профиль.
Мама у Анечки работала санитаркой в больнице и крепко мечтала о том, чтобы дочка стала врачом. Хорошая же специальность — уважаемая, хлебная (дело было в семидесятые годы прошлого века). Прекрасно понимая, что прямиком Анечка в мединститут сроду не попадет, мама решила привести ее в доктора кружным путем. Он, как известно, самый надежный.
За год до окончания Анечкой школы мама перешла на работу в медицинское училище. Потеряла существенно в деньгах, потому что от учащихся и тем более от преподавателей рублей-полтинников не дождешься, это тебе не лежачие больные, но чего только не сделаешь для счастья родной дочери? Анечка была недалекой, а вот мама ее — очень себе на уме. Бывает, что яблочки от яблоньки очень далеко укатываются.
Будучи носительницей почетного титула «дочь сотрудницы», Анечка без труда поступила в училище, причем стала учиться не на медсестру, а на фельдшера. Фельдшеров в училищах позднего СССР вечно был недобор. Дурацкая специальность — ни рыба ни мясо (это я излагаю мнение общественности, а не свое собственное), ни врач, ни медсестра. Учиться на год дольше, а работать можно только на «Скорой» или в заводском здравпункте. Больше нигде фельдшера не нужны. Девушки, желавшие подняться на ступеньку выше медсестры, обычно шли в акушерки. Это тоже фельшерская специальность, но повсюду востребованная, прибыльная, престижная. Однако Анечку, то есть ее маму, акушерство не привлекало.
Училась Анечка хорошо. Она вообще была очень прилежной и вдобавок послушной. Педагоги ее любили и меньше четверки никогда не ставили. Опять же, дочь сотрудницы, свой человек. А что черепные нервы перечислить не может — ничего страшного. Не в нервах этих счастье.
После училища Анечка пошла работать на «Скорую» — зарабатывать стаж для льготного поступления в мединститут. Нацеливалась в Третий мед, как наименее престижный и наиболее доступный. Еще в училище Анечка вышла замуж, а работая на «Скорой», родила сначала девочку, а потом мальчика. То есть из пяти лет работы на «Скорой» она реально проработала на линии меньше года, а остальное время просидела с детьми. На «Скорой» Анечкины способности оценили очень скоро и ставили работать только в паре с опытными врачами, чтобы не накосячила чего-нибудь. В тандеме с кем-то умным Анечка работала замечательно — распоряжения исполняла точно и неукоснительно, уколы делала хорошо, а повязки накладывала так, что просто хоть для учебника фотографируй. Природа придерживается своеобразной справедливости — если чего-то недодаст, то другого отсыплет с лихвой. Недалекая Анечка была очень рукастой.
Вскоре после рождения сына Анечку бросил муж. Содержала всю ораву мама, которая после окончания дочерью училища вернулась на работу в больницу.
Сидя дома, Анечка времени зря не теряла — готовилась к поступлению в институт. Ну, это ей казалось, что она готовится. И ее маме. Тыл у Анечки был крепким; пять лет на «Скорой» и поступала она на подготовительный факультет… Но срезалась с треском на первом же устном экзамене по биологии. Мама маху дала — не устроилась уборщицей в Третий мед. А может, и пыталась, да не вышло.
Анечка была уверена в том, что она поступит. На подготовительный же, со стажем, и она же столько готовилась…
Неужели придется проститься с мечтой?
А вот вам шиш!
Недалекая Анечка была очень целеустремленной.
Анечка решила сделать ход конем. А может, кто-то надоумил ее, подсказал. Сложила в папочку трудовую книжку, фельдшерский диплом, свидетельства о рождении детей, свидетельство о разводе, характеристику со «Скорой» и грамоту, полученную за второе место в конкурсе фельдшеров (голова у нее варила плохо, но руки, как уже было сказано, работали сноровисто), и отправилась…
Куда бы вы думали?
В Министерство здравоохранения СССР!
Там она принялась ходить из кабинета в кабинет, показывать содержимое папки, рассказывать о том, как она хочет стать врачом, рыдать и умолять помочь ей — устроить в институт в виде исключения. Время от времени для большей убедительности бухалась на колени и начинала заламывать руки.
Мать-одиночка, двое детей, пять лет отпахала на «Скорой», рыдает так, что мороз по коже…
А вдруг она сейчас выйдет на улицу и бросится под машину?..
Да и вообще, видно же, что у человека призвание, иначе бы она так не убивалась…
Кто-то из высокого начальства сжалился и помог. Анечку в порядке исключения допустили к уже закончившимся экзаменам, «нарисовали» удовлетворительные результаты и зачислили в Третий мед на подготовительный факультет.
Мечта сбылась! Настоящие мечты всегда сбываются, потому что для их исполнения человек готов на все.
Метод рыданий Анечка с успехом применяла в институте, выпрашивая на кафедрах тройки.
Мать-одиночка, двое детей, подрабатывает на «Скорой», рыдает так, что мороз по коже…
А вдруг она сейчас выйдет на улицу и бросится под машину?..
Тройки ей ставили. Кто из жалости, кто просто чтобы скорее отвязаться. Опять же, все прекрасно знали, как Анечка попала в студентки. Ну ее… Откажешь — а она снова в министерство побежит.
Закончив институт, Анечка почувствовала в себе великую силу и перешла на работу в реанимационное отделение одной московской больницы. Не всю же жизнь на колесах проводить… И тут начались проблемы. На «Скорой» работать было просто, поскольку за много лет Анечка все же усвоила нехитрые скоропомощные шаблоны и с успехом их применяла. Опять же, на пятьдесят процентов скоропомощная работа ручная — колоть-шинировать-таскать-перевязывать, а руки у Анечки работали хорошо. В реанимации работа гораздо сложнее — у одного кетоацидоз, у другого — алкалоз, третий «мерцает», то есть выдает мерцательную аритмию, а четвертый вообще непонятно от чего помирать собрался… И всех надо до ума довести, полностью стабилизировать, а не просто до стационара довезти-дотянуть, как на «Скорой». Довести гораздо сложнее, чем довезти, это в словах только разница в одну букву.
Анечка начала «пробуксовывать», то есть выдавать одну ошибку за другой.
Некоторые ошибки приводили к летальным исходам…
Настал день, и заведующий отделением сказал Анечке: «Уходи подобру-поздорову, пока я не взъярился…» Анечка ушла. Когда речь идет о проценте смертности, падать в ноги и рыдать бесполезно. Не подействует.
Врачебная карьера Анечки сложилась следующим образом — по два-три года в каждой из больниц. Больницы она выбирала хорошие, «центровые», даже в одном очень известном ведомственном госпитале успела поработать. В каждой из больниц ее сначала пытались «научить пулемету», то есть специальности, а когда понимали, что безуспешно, выживали, чтобы не портила показатель смертности. Работала Анечка исключительно в реанимации — зарплата побольше, дежурств можно брать сколько угодно. Деньги матери-одиночке с двумя детьми всегда нужны.
Она училась, старалась. Нормальные люди на дежурствах обычно детективы читают, а Анечка — руководства и справочники. Только вот беда — она почти ничего не запоминала и вообще соображала туговато, если не сказать, совсем туго. Ее обычно ставили в паре с более толковыми врачами, чтобы те за ней приглядывали. Но чуть недоглядишь (а не всегда есть возможность доглядеть — реанимация же), так у Анны Ивановны очередной труп.
Никто из администрации ни разу не поставил вопрос об Анечкином служебном несоответствии. Избавлялись и забывали. Еще и хвалили, если звонили интересоваться из других больниц. Жалко же человека, мать-одиночка все-таки, двоих детей тянет…
— Мне главное все по полочкам разложить, — сказала однажды мне Анечка, оторвавшись от руководства по кардиологии. — Если я что разложу, то никогда не забуду.
— Развесила бы ты сначала свои полочки, — посоветовал я.
Анечка не обиделась, она вообще была доброй.
Почему «была»? Есть! Анечка жива-здорова и продолжает работать в одной из московских больниц.
Выдохните и не пугайтесь… Страшное уже позади. Оформив пенсию, Анечка перешла из реанимации в приемное отделение. Возраст и состояние здоровья уже не позволяли работать в реанимации. Теперь она никого не лечит, а только «раскладывает пасьянсы», то есть распределяет больных по отделениям. По реанимации скучает.
— Там я настоящим делом занималась, а здесь — писаниной, — жалуется она коллегам. — Но с моим давлением в приемном все же легче.
Почерк, к слову будь сказано, у Анечки замечательный, совсем не врачебный — буковка к буковке. Заместитель главного врача по лечебной работе ставит Анечку в пример на каждой пятиминутке — учитесь писать как надо, а то ваши каракули прочесть невозможно.
Баллада о подставе
В лихие девяностые на московской «Скорой» знатно барыжничали, то есть торговали наркотой. Торговали как конечными продуктами, которые скупались оптом для последующей продажи в розницу, так и ингредиентами для синтеза конечных продуктов.
Лично я знал одну подстанцию (какую — не скажу, но намекну, что на ней был бы счастлив работать любой китаец), где одно время не было бригады, не участвовавшей в процессе барыжничества. Так вот сложилось.
Товар хранился в автомобилях в условных, так сказать, «тайниках». Слово взято в кавычки, поскольку нехитрые эти тайники знали все. В то сложное время исправные замки на дверях скоропомощного автомобиля недвусмысленно намекали на то, что бригада барыжничает. Иначе какой смысл за замками следить?
Барыжничали по принципу «все или никто» — или вся бригада при делах, или же непричастный заложит. При поимке средняя цена отмазки составляла пять тысяч баксов с человека. Недорого (для барыг), но и ловили часто.
Разумеется, существовало нечто вроде корпоративного сговора, неофициального джентльменского соглашения о розничных ценах. И вот на одной подстанции одна бригада это соглашение вероломно нарушила…
Дело было в том, что у врача муж работал на одном химическом производстве и мог тырить оттуда что угодно в неограниченных количествах (девяностые годы, вселенский бардак). Если опт халявный, то и на розницу скидку делать можно, чтобы товар лучше шел… Они всей бригадой и скинули. Процентов на сорок, чем серьезно потеснили бизнес своих коллег.
«Светофоры, дайте визу, мчится «Скорая» на вызов…» Мчится, да. И останавливается на взмах. В одно окошко деньги приняли, из другого товар выдали — бизнес идет, ура.
Коллеги-злопыхатели задумали гнусное — подменить реальные товары водой и уксусом.
Надо понимать, что в любом теневом бизнесе кидалово влечет за собой гораздо более весомые последствия, нежели в бизнесе легальном. Особенно с учетом специфики потребителей, то есть покупателей. Вполне могли грохнуть от расстройства, ну а о последующих покупках у недостойных поставщиков и речи быть не могло — в этой среде новости разносятся мгновенно.
Замена реального товара на воду и уксус была произведена во время утренней подстанционной конференции. Четко, гладко, быстро…
Коварные интриганы предвкушали крах конкурентов-демпингаторов, а возможно, и гибель от рук разъяренных покупателей.
Но могли ли они предполагать, что на выезде с подстанции демпингаторов тормознут оперативники?
Тормознули, обшмонали, проверили заначки и выругались — за наличие в скоропомощном автомобиле ненормативной воды и уксуса и попытку их продажи с рук к уголовной ответственности привлечь невозможно. Вышло как в старой притче про воробья и кобылу — не всяк враг тебе, кто на тебя нагадит. Бригада демпингаторов отделалась легким испугом.
Бригада отделалась легким испугом… Но через два месяца их таки взяли с поличным и посадили. Они-то думали, что в одну воронку второй снаряд не попадет, но не учли, что это правило артиллеристов. А у оперативников другое правило — работать до посадки.
Граф Монте-Кристо северо-восточного уезда
Однажды в одной московской больнице обидели интерна. Собственно, несчастных бесправных и безответных интернов в больницах обижают на каждом шагу, но это был особый случай, заслуживающий внесения в анналы, потому что интерн страшно отомстил своему обидчику.
У интерна был роман с медсестрой физиотерапевтического отделения, а заведующий реанимационным отделением как-то раз на утренней конференции при всем честном народе позволил себе гадко пошутить на эту тему. Гадко, но, надо признать, остроумно — обыграл фамилии влюбленных. Шуточку подхватили, запомнили и то и дело повторяли, что причиняло влюбленным сильные страдания.
Если бы заведующий реанимацией знал, какой оборот примет дело, то он, конечно, так шутить бы не стал. Он бы, наверное, этого интерна за десять метров обходил… Но если бы молодость знала, если бы старость могла…
Интерн разработал План и стал ждать своего часа. Слово План я намеренно пишу с заглавной буквы, чтобы подчеркнуть его грандиозность и оригинальность. Но сначала одно уточнение, имеющее значение для нашей истории. Шутник-заведующий исполнял свою должность с приставкой «и. о.». Были у него кое-какие трения с главным врачом, и тот его таким образом воспитывал. Любой начальник сильно уязвим, а начальник с приставкой «и. о» уязвим втройне. Чуть что — и сдует ветром с должности. Клятву Гиппократа прочесть не успеешь…
Суббота. Вечер. Реанимация. Дежурит заведующий на пару с одним из врачей. Интерн при них на подхвате — стажируется, набирается опыта.
Умирает один из пациентов. После безуспешных реанимационных мероприятий каталку с трупом закатывают в «отстойник» — закуток, предназначенный для агонизирующих больных. Трупу положено отлежать два часа до появления трупных пятен, которые являются абсолютным признаком смерти, и только после этого его можно отправлять в патологоанатомическое отделение. Таковы правила.
Вскоре после смерти пациента заведующего вызвали в кардиологическое отделение на срочную консультацию, а второй дежурный врач с двумя дежурными медсестрами уселись пить чай в ординаторской. Интерн же сидел на сестринском посту в отделении, имитируя изучение документации. Ждал удобного момента, коварный монтекриста…
Дождавшись, когда в ординаторской тихо запели «Огней так много золотых…» (вечерний чай выходного дня в больницах часто пьют с коньяком или еще с чем-то крепким), интерн осуществил перевозку трупа из «отстойника» в массажный кабинет физиотерапевтического отделения, который в выходные дни был свободен.
Ключ от массажного кабинета ему дала любимая, чтобы было где отдохнуть во время дежурства. Интерн же — существо бесправное и бесприютное, ему койки-дивана для отдыха не положено, не выслужил еще. Ну и также они в этом самом массажном кабинете периодически уединялись для любви. Хорошо оборудованные массажные кабинеты для романтических целей подходят весьма и весьма.
Напоминаю, что дело было в субботу вечером, и сообщаю, что во всей физиотерапии воскресенье является выходным днем. Таким образом труп имел возможность пролежать необнаруженным до утра понедельника.
Сделав дело, интерн незаметно вернул каталку в «отстойник». Это была новая, неразболтанная каталка, которая ехала тихо-тихо. Заведующий реанимацией других не признавал. На свою голову. Если бы каталка дребезжала и лязгала, перекрывая пение в ординаторской, то ничего бы у интерна не вышло бы. Засекли бы его еще в момент вывоза трупа. Но не засекли.
Вывоз трупа был только первой частью замечательного Плана. Вернув каталку на место, интерн устроил инсталляцию. Сбросил на пол простыню, которой был накрыт труп. Опрокинул штатив для капельниц. Возле выхода в реанимационный зал бросил на пол подключичный катетер, который изъял из мертвого тела. Улавливаете смысл инсталляции? А зомби встал и пошел…
На все про все у него ушло около пяти минут, так как молодость резва, а физиотерапия была на том же этаже, что и реанимация. К тому моменту, как дело было сделано, в ординаторской пели «Виновата ли я?», а заведующий еще не вернулся с консультации. Консультация реаниматолога, особенно в субботу вечером, — дело долгое. Пока осмотришь, пока будешь препираться с коллегой из отделения (всем же охота на выходные тяжелого больного в реанимацию спихнуть, а реанимация не резиновая), пока запишешь все подробно, пока кофе выпьешь…
Короче говоря, к возвращению заведующего интерн уже сидел на сестринском посту и имитировал наблюдение за мониторами, к которым были подключены пациенты. Ну и, конечно, злорадствовал, предвкушая последующие события.
Исчезновение трупа обнаружилось около полуночи, поскольку сразу после возвращения заведующего в реанимации случился небольшой аврал — «ухудшились» сразу двое пациентов.
После выяснения того, что никто покойника в больничный морг не отвозил и что в морге он не числится, заведующий стал восстанавливать случившееся по следам и скоро пришел к единственному возможному выводу — покойник умер не до конца, он полежал, ожил и куда-то ушел.
Куда? Куда?!! Поиски по корпусам и обширной больничной территории продолжались до утра. Заведующему помогал интерн, в реанимации отдувался за всех второй дежурный врач.
Попробуйте вообразить эту ситуацию. Из отделения бесследно исчез пациент, которого ошибочно сочли мертвым! Он бродит где-то в явном помрачении сознания! Возможно, он вывалится из окна какого-нибудь верхнего этажа… Возможно, он попадет под машину… Заведующему реанимационным отделением как старшему из дежурных врачей явно высвечивались дорога дальняя и казенный дом. Как заведующему — снятие с должности.
Общебольничный переполох не мог остаться без внимания (стукнул кто-то) зама главного врача по медицинской части, молодой и амбициозной женщины, мечтавшей стать директором Департамента здравоохранения, а то и министром. Увы, она до сих пор работает замом главного врача по медицинской части, причем в одной из самых сложных московских больниц (в какой именно, неважно). А ведь прошло много лет…
Почтив своим присутствием утреннюю воскресную конференцию, на которой сдавались и принимались дежурства по отделениям, замглавврача устроила разнос «виновнику» случившегося — заведующему реанимацией. Он был виноват вдвойне — и как старший дежурный врач смены, и как заведующий, который отвечает за все. Пылая праведным гневом, замглавврача после конференции направилась в реанимационное отделение, чтобы на месте событий продолжить воспитательную работу. Ее сопровождали заведующий, дежуривший с ним врач и один из врачей новой смены.
— Что за труп в «отстойнике»? — услышали они, едва войдя в отделение. — Вывезти забыли, да? Он уже немного пахнуть начал, кажется…
Вопрос задал второй дежурный врач новой смены, на которого было оставлено реанимационное отделение на время утренней конференции. За его спиной маячил довольный интерн…
Заведующий на пару со своим напарником лепетали:
— Мы не понимаем, Татьяна Сергеевна, как такое могло случиться… не было его там… совсем… и катетер на полу лежал…
Коварный интерн, кстати говоря, вставил трупу перед возвращением новый подключичный катетер взамен изъятого, восстановил статус-кво полностью.
— На дежурстве нельзя пить ничего крепче чая!!! Идиоты!!! Чем вы вообще тут вчера занимались?!! — орала замглавврача ужасным криком, от которого покойник вполне имел шансы восстать.
Это было в воскресенье.
Во вторник заведующий (то есть — и. о. заведующего) реанимационным отделением сдал отделение своему преемнику.
В среду он уволился. Трудно работать простым врачом там, где еще вчера руководил. И неуютно как-то, и коллеги многое могут припомнить.
Роман интерна и медсестры скоро угас. Бывает. Ничто не вечно под луной. После того как они стали друг другу чужими, медсестра разболтала по больнице как оно было на самом деле. В результате интерна не взяли ни в одно из отделений после окончания им интернатуры. Кому захочется иметь в отделении такого коварного монтекристу? Это же все равно что мина замедленного действия — рвануть может в любой момент. Да как рвануть…
Короче говоря, пострадали все главные действующие лица этой истории. Заведующий отделением потерял свою должность, медсестра — любовь, а интерн — перспективу трудоустройства в хорошей больнице.
Только покойнику было все равно. На то он и покойник.
«Никогда не было» не означает «невозможно»
Одну из моих однокурсниц, томную деву и по совместительству проректорскую дочку, на семинаре по биологии преподавательница попросила написать на доске возможные сочетания половых хромосом. Элементарная для студента-медика задача, за которой следовало бы итоговое «хор» за семестр (дочь проректора, напоминаю, таким обычно только элементарные вопросы и задают).
С решительностью и смелостью, присущими ей как дочери маститого ученого и самоотверженного борца за личное благосостояние, она написала: XX, XY и YY, осчастливив (или — озадачив?) тем самым человечество третьим полом YY. Он, она и оно…
— Двух игрек-хромосом быть не может, — мягко сказала преподавательница. — Наука такого не знает.
— Ну и что? — возмутилась дочь проректора. — Наука много чего не знает! Но это не означает, что этого не может быть! Вы лучше математику подучите! Тогда узнаете, что комбинация из двух элементов дает три варианта! Три! А не два! Как у вас с логикой?!
— Лучше, чем у вас! — взъярилась преподавательница, но итоговое «хор» все же вывела.
Оппоненты тихо бухтели до конца занятия.
— Вот что у нее с логикой? — шипела на задах аудитории дочь проректора. — Что за придирки?
— Оплодотвори один сперматозоид другим и Нобелевскую получишь! — бурчала под нос преподавательница.
Гениальный врач
Единственный гений от медицины, с которым я был знаком лично, сильно походил на доктора Грегори Хауса…
Впрочем, нет, Хаус перед ним был мальчик-одуванчик и эталон дружелюбия. Общение с коллегами и руководством Гений начинал и заканчивал фразой: «Ну это же и олигофрену понятно», а больным говорил: «Это пройдет, пройдет. Проходит жизнь, и все проходит». В результате любили его только на больничной кухне, потому что во время дежурства ответственным по больнице он никогда не опускался до заглядывания в котлы и выяснения соответствия нормам закладки. Он вообще на кухню ходить не любил — далеко, долго. Журналы на подпись ему приносили в ординаторскую.
Коллег Гений третировал. Другого способа общения с коллегами он, кажется, и не знал. Хирургическое отделение называл «сантехническим», гинекологию — «отделением прочистки», неврологию — «лежбищем».
Представьте себе такую картину. Идет утренняя конференция, отчитывается дежурный хирург, рассказывает о непонятном пациенте, и вдруг из задних рядов раздается: «Ну у них в сантехническом дебил на идиоте сидит и кретином погоняет! У пациента серповидноклеточная анемия, а они его на стол брать собрались! (Т. е. — оперировать.) Ясное дело — им проще зарезать, чем лечить, это же и олигофрену понятно!»
Диагнозы Гения, поставленные большей частью «с налету», без долгих раздумий, всегда оказывались верными. Причем половина из них ставилась заочно (привет, доктор Хаус!). Общаться с пациентами Гений не любил.
В больнице Гения терпели не из-за его гениальности, хотя, конечно, от нее была большая польза всем отделениям, кроме патологоанатомического, которому все до лампочки, а из-за страха перед возможными последствиями. Больничная администрация понимала, что изгнанный Гений не угомонится, пока не сожрет всех своих обидчиков с потрохами. А много ли надо для того, чтобы посадить главного врача или заведующего отделением? Совсем немного. Особенно если быть в курсе происходящего.
Последний раз я видел Гения в конце 90-х. Потом наши пути разошлись совсем. От кого-то я услышал, что Гений уехал в Израиль. Ну, уехал и уехал, ничего особенного, там же одна половина врачей из Москвы, а другая половина — из бывшего СССР.
Особенное случилось, когда лет пять назад я встретил одну из бывших коллег. То да се, как дела, а помнишь…
— А помнишь Гения? — спросила коллега. — Он живет в Израиле в (название маленького города я пропущу), у него там оружейный магазин, от тестя унаследовал. Из медицины ушел. Я была у него два года назад.
— Да ну! — удивился я. — И как он?
— Да без изменений, ведет себя за прилавком так же, как в больнице! — хмыкнула коллега. — Все кругом олигофрены, один он умный.
Тяжело, наверное, быть гением.
Грустно, когда все вокруг олигофрены.
О роли туалетов в судьбах руководящих работников отечественного здравоохранения (грустно-поучительное)
За время работы в медицине знал я около двух десятков главных врачей. Пятеро из них (двадцать пять процентов от общего количества!) лишились своих должностей из-за того, что происходило в таком прозаическом месте, как туалет лечебного учреждения.
История первая, самая трагическая. Женщина, находившаяся на стационарном лечении по поводу сохранения беременности, тихо родила в туалете и тихо утопила своего новорожденного ребенка в унитазе. Слетел с места главный врач районной больницы (теперь он работает участковым терапевтом), причем, по сути дела, слетел ни за что. По уму следовало наказать только дежурившую в те сутки смену. Они недосмотрели. Ну при чем тут главный врач? Однако, видимо, нужен был повод…
История вторая. В одной поликлинике уролог приторговывал наркотой. Покупатели вводили себе купленный продукт прямо в мужском туалете рядом с кабинетом уролога. Этой публике вечно же невтерпеж. Шприцы, разумеется, бросали на пол (или в урну). Однажды в туалет зашел оперативник из райотдела, который привез в женскую консультацию беременную жену. Обратил внимание на обилие шприцев, задумался и вывел уролога на чистую воду. Уролога посадили, главного врача сняли. Надо сказать — поделом. Во время обхода поликлиники в туалеты тоже надо заглядывать.
История третья, почти комическая. В одну поликлинику приехал линейный контроль Департамента здравоохранения. Если кто не в курсе, то хуже этого только пожар с потопом. Вроде обошлось, куда ни совались контролеры, везде все было в порядке. Но главному из контролеров напоследок захотелось облегчиться. В туалете, который он удостоил своим высочайшим вниманием, было… мягко говоря, грязновато. Не так уж и много, чтобы ноги по щиколотку утопали, но достаточно для того, чтобы беднягу стошнило на брюки-ботинки (а еще врач называется, вроде как должен быть привычным к виду и запаху чужих фекалий). Кое-как очистившись, Главный Контролер приступил к повторной и, как вы сами понимаете, донельзя пристрастной проверке поликлиники. При желании найти грязи можно сколько угодно. Спустя два дня главный врач поликлиники сдавал дела своему преемнику.
История четвертая, абсурдная. В день приезда Высочайшей Комиссии, возглавляемой небожителем в ранге вице-мэра, неизвестные хулиганы вывесили из окна туалета на третьем этаже поликлиники транспарант откровенно хулиганского содержания. Казалось бы, ну при чем тут главный врач? Не может же он одновременно дежурить во всех поликлинических туалетах? И часто ли в поликлиниках из окон вывешивают транспаранты? Да и вообще, транспарант — это не горы использованных шприцев и не грязь в туалете. И как вообще с этим прикажете бороться? Дело же минутное — вывесил хулиган транспарант перед самым появлением комиссии и убежал. У каждого окна охранника не поставишь, нет такой возможности, на поликлинику положен только один охранник — у входа.
Но не тут-то было — главного врача сняли. Причем с неофициальной формулировкой: «Ближе Саратова ты работу не найдешь» (и не спрашивайте меня, что было написано на том транспаранте, я спокойно жить хочу).
История пятая, романтическая. В одной небольшой, но уютной стоматологической поликлинике была такая роскошь, как отдельный туалет для персонала. И как-то раз во время новогоднего дежурства (первого января) дежурный стоматолог пустил в туалет своего приятеля с его дамой. Уединиться для любовных утех.
Не спешите говорить «фу!».
Во-первых, посмотрите на дату. Зимой на улице несподручно.
Во-вторых, в туалетах для персонала, запираемых на ключ, обычно очень чисто. Совсем как дома.
В-третьих, разные бывают у людей обстоятельства…
Уединившуюся парочку выследил ревнивый муж дамы. В туалете произошло сражение с вышибанием двери, сотрясениями головного мозга и переломом нижней челюсти у незадачливого любовника.
Приезжал наряд милиции (тогда еще была милиция)… Врачу, допустившему использование служебного помещения в неслужебных целях, дали выговор, а главного врача сняли. Нелогично? Если вдуматься, то логично, ведь на место главного врача поликлиники, да еще стоматологической, найдется гораздо больше желающих, чем на место рядового стоматолога.
Берегите себя! И следите за порядком в ваших туалетах!
Вспомнилось под руку
На уроке анатомии — третий семестр, второй курс — одна из моих одногруппниц убила доцента (и многих из нас тоже) вопросом:
— А это что — мышца или мясо?
Милая была девушка. И уже взрослая, по сравнению с нами, восемнадцати — и девятнадцатилетними. Двадцать пять ей было. Любовница одного замминистра.
Часто ее вспоминаю, когда мясо разделываю.
Tinctura crataegi
Tinctura Crataegi, господа, это настойка боярышника.
Трудясь во время эпидемии гриппа на участке, я пришел на вызов к одному из хронических пациентов — безработному алкашу. Вместо жалоб этот паразит предъявил мне кухонный нож, размером напоминавший скорее самурайский меч (у страха, как известно, глаза велики), и назвал мне цену моей молодой, тогда еще, жизни — пятьдесят рецептов на настойку пустырника и столько же на настойку боярышника. По правилам в одном рецепте больше одного флакона нельзя было выписывать. Причем льготных рецептов! То есть чтобы забесплатно. Иначе… Ну вы понимаете.
С учетом того, что до недавних пор пациент работал обвальщиком на мясокомбинате, и, следовательно, должен был виртуозно владеть ножом, доводить дело до поединка мне не хотелось. Тем более, что, в отличие от скоропомощного врача, врач участковый на вызове практически беззащитен. Нет у него тяжелого ящика, который так хорош при обороне.
Оценив ситуацию и степень опьянения пациента, я принял единственное верное решение. Сел за стол и начал крайне неторопливо выписывать рецепты, приговаривая: «Торопиться нельзя, ошибки делают рецепты недействительными». Видя мою покладистость (и ответственность тоже), пациент слегка успокоился и сел на диван. Ножа, однако, не выпустил.
Где-то на двадцатом рецепте он заснул. Я собрал выписанные рецепты, чтобы затем обменять их в поликлинике как испорченные, подошел к нему, забрал нож, выбросил в окно, предварительно убедившись, что внизу в кустах никто не предается любви (тот еще был район), и ушел. Никому ничего рассказывать не стал.
На следующий день пациент явился ко мне в поликлинику с дарами — палкой конской колбасы (он был татарин) и трехлитровой банкой самогона, настоянного на апельсиновых корках. Надо ли объяснять вам, что значит для ханыги три (!) литра этого божественного напитка? Видно было, что он сильно раскаивается и искренне хочет загладить свою вину.
Колбасу я взял, люблю я конину, а самогон вернул, чем окончательно покорил дарителя. Расстались мы почти друзьями.
Если что, то я только что рассказал вам о самом гуманном поступке, совершенном мною за время работы врачом.
Без вины виноватые
Людей, которые заработали судимость на ровном, что называется, месте, я встречал не раз.
На первом месте в этом списке идет девушка Юля из одной торговой сети. Когда юная Юля впервые устроилась на работу в магазин, ее начальник сделал ей медицинскую книжку. Так сказать, заочно. Книжка была левой как по форме, так и по содержанию, то есть фальшивой вдвойне — липовая книжка с липовыми записями. Спустя четыре года, когда Юля уже сама была начальницей, очередная проверка обнаружила «липовость» ее книжки и запросила за решение вопроса пять тысяч долларов. Юля, смеясь, послала алчных проверяющих подальше — совсем офонарели, за такой пустяк столько требовать. Ладно еще сто баксов или двести…
Суд дал ей два года, правда условно. Как матери-одиночке. А могли бы и посадить… Статья 327 Уголовного кодекса РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» предусматривает и отсидку.
Роковые страсти в… роковой больнице, или «маузер» папанина
Давным-давно, когда по ВДНХ и Парку Горького гулять совершенно не хотелось, работала в одной московской больнице молодая и красивая операционная медсестра. Как и положено большинству красивых женщин, была она не очень-то счастлива в личной жизни (парадокс, но ведь так чаще всего оно и бывает).
И был у медсестры-красавицы перспективный производственный роман с ведущим хирургом одного из отделений. Перспективный в том смысле, что из производственного, когда все происходит только во время совместных дежурств, грозил перейти в настоящий, когда все происходит независимо от рабочего графика и может даже закончиться бракосочетанием.
Медсестра, как я уже сказал, была молодой — около тридцатника. Острый глаз, твердая рука, ясная голова… Но с некоторых пор голова, то есть ум, начала ее подводить. Не все, наверное, знают, что операционные сестры до операции и после пересчитывают инструменты и перевязочный материал, чтобы быть уверенной в том, что в ране ничего не забыли. Хорошая медсестра еще и очки на докторах пересчитает. А что? Бывали случаи. И вот с некоторых пор после операции начало у нашей героини получаться на несколько марлевых шариков (тампонов) больше, чем до операции. На один, на два, а то и на три. Не каждый день, но частенько.
Не меньше, а больше — обратите внимание на это обстоятельство!
Если обнаруживается недостача операционного инструмента или материала, то тут все ясно без ненужных вопросов и лишних сомнений. Режьте, уважаемые доктора, по свежезашитому и ищите то, что забыли. А вот излишки… И как их объяснить? Причем тампоны были использованные, все в крови.
Все хорошо познается на личном примере. Вот, допустим, вы помните, что, уходя из дома, оставили запасной комплект ключей на «законном» месте — в ящике тумбочки или, скажем, на гвоздике в прихожей. А когда вернулись домой и хотели открыть дверь, то нашли в кармане или в сумке оба комплекта ключей — и основной, и запасной. И так почти каждый день в течение нескольких месяцев… На первый взгляд, вроде бы — ничего страшного. Ключи же не пропадают, вы их всякий раз находите. Но осадочек остается весьма неприятный… Особенно если у вас медицинское образование, пускай и среднее, и вы знаете, что такое шизофрения или деменция.
За каких-то два месяца бедная медсестра из цветущей энергичной веселой женщины превратилась в задерганную истеричку. У нее еще и привычка появилась считать все, что на глаза попадается. Это она так себя проверяла.
Доверие к ней снизилось до уровня плинтуса — хоть и «в плюс», да ошибается постоянно, а еще она начала срываться во время операции на врачей, чем окончательно погубила свою репутацию и свое будущее в той больнице, о которой идет речь. Некоторые даже подозревали, что она начала употреблять наркотики, уж очень разительной была перемена. В общем, уволилась медсестра и больше о себе знать не давала. И с любимым хирургом рассталась, поскольку он не проявил в этой истории той чуткости и того понимания, на которое она рассчитывала с учетом их близких отношений и радужных перспектив.
Судьбой медсестры-красавицы никто из бывших сослуживцев не интересовался, потому что за два последних месяцев она, на нервной почве, рассорилась со всеми, с кем раньше дружила. Кто-то над ней подшучивал, кто-то успокаивал недостаточно искренне, кто-то, наоборот, был слишком настойчив… Но дело не в этом.
Хирург, у которого с медсестрой был производственный роман, вскоре закрутил новый роман, с дочерью одной из своих пациенток. Это, вообще, очень правильное решение — имея хронически больную маму, выйти замуж за врача. Гениальное, можно сказать. Но не в этом дело. Ну женился и женился — с кем не бывает.
Развязка наступила на небольшой больничной вечеринке, посвященной бракосочетанию хирурга. Вернувшись из свадебного путешествия на Гоа, где новобрачную укусила змея и муж лично отсасывал… Впрочем, это совсем другая история. Так вот, во время вечеринки одна из врачей-анестезиологов напилась в стельку и, рыдая, поведала миру о том, что это она подбрасывала марлевые шарики медсестре-красавице, потому что тоже любила (и продолжает любить) хирурга и хотела устранить соперницу. Шарики анестезиолог пропитывала фальшивой кровью, которую готовила, смешивая красный и синий пищевые красители. Проносила их в кармане формы в операционную и, улучив момент, подбрасывала в тазик с грязным материалом. Много-много дней подряд, пока не сработало.
На следующий день анестезиолога-вредительницу уволили. И правильно, поделом. Любовь любовью, а режим стерильности в операционной — это святое. Да и вообще, поступила она как-то не по-людски.
Впрочем, мнения сотрудников по поводу поступка анестезиолога разделились надвое. Мужчины, особенно хирурги, гневно ее осуждали, а вот многие женщины жалели, причем больше, чем медсестру-красавицу. У той хоть производственный роман в анамнезе был, счастье испытала. Пускай и недолгое счастье, а все равно есть что вспомнить.
«При чем тут «маузер» товарища Папанина?» спросите вы. Ни при чем, просто у Михаила Веллера есть рассказ в тему с таким названием. Сколько в том рассказе исторической правды, мне неизвестно, но в моем — все истинная правда, не сомневайтесь.
О вреде чаепития
Величайшая заслуга Грегори нашего Хауса состоит в том, что он эмпирическим путем доказал миру: врут даже самые искренние пациенты. Самообман безграничен, и чем он безграничнее, тем искреннее нам врется.
Когда-то давно я в частном порядке наблюдал одну даму, коллегу моей матери, имевшую проблемы с сердечно-сосудистой системой. Проблемы эти в первую очередь были обусловлены избыточным весом. Моя пациентка искренне хотела похудеть, но у нее ничего не получалось. Причем довольно длительное время — месяца четыре. Эндокринной патологии у нее не нашли один за другим три врача-эндокринолога. Проблема упиралась в соблюдение диеты. Стуча пухлым кулаком в необъятную грудь, пациентка клялась мне в том, что истово соблюдает все мои рекомендации, начинает день с яблока и заканчивает его половинкой грейпфрута. Со слезами на глазах она рассказывала мне о том, как ей снятся розовое «с прожилочками» сало и копченая рулька… После каждой нашей встречи я на полтора-два часа лишался аппетита. Мне было стыдно думать о еде. Да, я такой вот сентиментальный, кто бы мог подумать.
Кое-какие таблетки для снижения веса, не шарлатанские экзотически-чудодейственные, а обычные, так сказать «официальные», ей тоже не помогали.
Сказать, что я сломал мой извилистый мозг об эту проблему, означает не сказать ничего. Было ясно, что моя пациентка злостно нарушает мои предписания, но я не мог этого доказать. Сама она, едва я заводил речь о нарушениях режима, начинала плакать и ссылалась на свой необычный обмен веществ. Когда я прямо сказал, что ей лучше наблюдаться у другого врача, пациентка горько вздохнула и с обреченностью, могущей сделать честь любой актрисе, исполняющей роль Офелии, сказала: «Вот и у вас опустились руки…» Эта фраза прозвучала столь искренне и столь трагично, что я решил сделать последнюю попытку. Опять же, коллега матери, не чужой человек.
Дав пациентке ручку и бумагу, я попросил ее написать без купюр все, что она делала три последних дня. Не ела, прошу заметить, а делала. «Все-все писать?» — уточнила она. «Даже про туалет и секс! — ответил я. — И время ставьте как можно точнее».
Пациентка закусила губу и за полчаса написала мне подробнейший отчет (она была учительницей и понимала толк в отчетах) о трех последних днях своей жизни. Про секс там, кстати говоря, ничего не было, только про бессонницу и чаепития. Да-да, первым делом мне бросилось в глаза повторяющееся словосочетание «пила чай». Этому занятию моя пациентка предавалась регулярно и часто — по приходе на работу, вскоре после полудня во время большой перемены, затем — по окончании уроков, затем — перед уходом с работы, вечером дома после ужина и перед сном. В скобках всякий раз писалось трогательное уточнение: «Чай зеленый, слабенький, без сахара».
— Чай пьете? — спросил я с чувством, похожим на то, которое испытывает сыщик, обнаружив на месте убийства чей-то паспорт. — Много раз в день. Пустой? Или чем-то закусываете?
— Да так… — замялась пациентка. — Ну, печенья могу съесть кусочек… Или пастилку… Или пряничек… Но всего понемногу, доктор, в микроскопических дозах… Чтобы не скучно было чай пить…
— А почему вы об этом не рассказывали? — укорил я. — Я же сто раз просил перечислить все, что вы едите! И разве в моих рекомендациях были пряники с печеньем, не говоря уже о пастиле?!
— Мы с вами говорили только о еде, — ответила пациентка, глядя на меня своими бездонными голубыми глазами. — Про чай вы меня никогда не спрашивали. Сказали только, чтобы сахар не класть, я так и делала. А пряники — это же такая мелочь…
Железо надо ковать, пока горячо. Я тут же попросил другой отчет. Недельный. О закупках провизии к чаю. Чего там только не было: курабье, халва, овсяное печенье с изюмом, пастила, зефир в шоколаде, пряники, сушки, курага с черносливом (а-ля натюрель и в шоколаде) и даже мед… Всего понемногу, да. Но если сложить объемы да подсчитать калорийность…
Вырулив на верную дорогу, я дал пациентке новые рекомендации, с поправками на «чаепития». Не знаю, соблюдала она их или нет, потому что больше она ко мне не обращалась. Сам виноват, конечно. Вторгся своими отчетами в сферу сокровенного, куда даже врачам доступа нет.
Два брата
У главврача районной подмосковной больницы Ухватова было два сына. Оба росли жуткими оболтусами-хулиганами. От постановок на учет, второгодничества и прочих неприятностей их спасал отцовский статус. Когда старший сын перешел в восьмой класс, а младший — в шестой, отец в жесткой и бескомпромиссной форме довел до сведения отпрысков, что он не вечен (увы!) и что рано или поздно им придется начинать жить самостоятельно. А перспектива у них вырисовывается невеселая — не то казенный дом, не то шоферская баранка. И еще отец поклялся Гиппократом, Авиценной, Склифософским и памятью прадеда-коновала, основателя славной врачебной династии Ухватовых, что ради перехода старшего сына в девятый класс пальцем о палец не ударит. Не вытянешь — пойдешь в ПТУ (это было в советское время, при десятиклассном среднем образовании). И судьбой младшего тоже заниматься больше не станет. Черт с вами, дегенераты этакие, живите как считаете нужным.
Отцовский гнев оказался настолько убедительным, что старший брат взялся за ум — бросил хулиганить и начал учиться. За ним потянулся и младший, известно же, что дурной пример заразителен. Оба очень скоро выбились из троечников в отличники, благо головы у обоих соображали хорошо. Оба поступили в медицинский институт, продолжать династию. Прадед-коновал определенно радовался, взирая с горних высей на свое потомство.
Старший брат избрал практическую стезю, которая в восьмидесятых годах прошлого века казалась перспективнее научной. На первый взгляд, но казалась. Логика была примерно такой — зачем тратить пять лет на ординатуру-аспирантуру, если можно после годичной интернатуры идти на «Скорую» и зарабатывать на полторы ставки примерно столько же, сколько получает доцент? И сверху еще без труда можно срубать два оклада. А то и три, это как повезет. Не всякий доцент столько нарубит.
Младший брат оказался дальновиднее и ударился в науку. В середине девяностых он уже был доцентом кафедры. Уточнять специальность не стану, во избежание угадывания, о ком идет речь, скажу только, что это была кафедра одной из узких специальностей хирургического направления. А старший ушел со «Скорой» в реанимационное отделение. Рядовым врачом. Устал мотаться по вызовам, захотелось спокойной жизни. Точнее, относительно спокойной, ибо абсолютно спокойная жизнь в медицине возможна только в статистике и патологоанатомии, да и то не всегда.
И это неравенство в положении привело к тому, что между братьями пробежала кошка. Да что там кошка — целая пантера! Ухватовы совсем перестали общаться. Про младшего не скажу, ибо знаком с ним не был, а старший, вместе с которым я работал некоторое время, никогда не упоминал о том, что у него есть брат-доцент. Во всяком случае, ни коллеги, ни больничная администрация об этом не знали.
И вот однажды к одному из пациентов реанимационного отделения родственники пригласили консультанта — Ухватова-младшего. По своей инициативе — очень доверяем, знакомый врач, прекрасный специалист. Заведующий отделением, ясное дело, разрешил. Умные заведующие никогда не возражают против консультаций со стороны. Один ум — хорошо, а два всяко лучше, да и родственников пациентов лишний раз раздражать не стоит. Древняя врачебная мудрость гласит: «Не так страшен пациент, как его родственники», и всякий, кто о ней забудет, бывает наказан.
В день появления младшего брата в отделении у старшего был выходной. Старший заступил на дежурство на следующее утро, прочел запись о консультации в истории болезни, взъярился и на больничной пятиминутке подверг консультанта резкой критике. И то он не так сделал, и это, и назначения не соответствуют диагнозу, и вообще, это не консультация, а черт знает что такое. Полная безграмотность и дебилизм…
— Да вроде бы все нормально, Вячеслав Александрович, — сказала замглавврача по медицинской части, ознакомившись с историей болезни. — Будет вам… Ой, смотрите — какое совпадение! Консультант ваш однофамилец.
— Не однофамилец, а брат родной! — со злостью уточнил Ухватов-старший, а после истинно мхатовской паузы добавил: — Бывший!
С тех пор его прозвали «Бывшим братом». Прозвище быстро сократилось до Бывшего. Если новички-интерны (или ординаторы) спрашивали Ухватова: «Вы не видели доктора Бывшего?» — то Ухватов устраивал грандиозный скандал на потеху публике, нечто вроде смеси «Танца с саблями» с «Песней варяжского гостя». Некоторые коллеги нарочно говорили новичкам что-нибудь вроде: «Отнесите анализы в ординаторскую и отдайте доктору Бывшему» — и шли следом за ними, чтобы в очередной раз насладиться «концертом».
Их можно понять и простить, ведь в жизни врачей так мало веселья…
Противозачаточное средство
Полвторого ночи. Январь. Лютый мороз. Повод для вызова: «Мужчина тридцать пять лет, ожог кипятком». Суть случившегося ясна сразу — пришел замерзший человек домой, решил согреться чайком, да случайно опрокинул на себя чайник с кипятком. Бывает, дело житейское. Пока ехали, гадали только о том, какова поверхность ожога. Если большая, то придется госпитализировать, ехать через пол-Москвы, если нет, то дело закончится на месте — обезболивающий укол плюс совет.
Кипятком обычно обвариваются руки и нижняя часть тела. Если кому любопытно, то можно провести эксперимент — опрокинуть на себя чайник или кастрюлю с холодной (подчеркиваю — с холодной!) водой и посмотреть, на какие участки тела попадет вода.
У мужика, к которому мы приехали, ожог локализовался на коже яичек. Исключительно там, что другое не пострадало. Выраженный такой был ожог, «пузыристый» — пузырь на пузыре сидит и пузырем погоняет. Пациент голышом лежит на кровати, картинно раскинув ноги, и стонет-вздыхает. Рядом мечется испуганная жена, не знает, что делать.
Разумеется, вторым вопросом после «на что жалуетесь?», был вопрос: «Как это случилось»?
— Мылся я, — поведал пациент, — а в тот самый момент, когда там мыло смывал, из душа вдруг крутой кипяток полился. У нас так бывает, часто.
Ага, бывает. Фантазия пациентов неистощима. Мне как-то раз такую историю рассказали про бусины от четок, «случайно» оказавшиеся в заднем проходе, что после того я уже ничему не удивляюсь. Но далеко не всему верю. А четкое понимание механизма и обстоятельств получения пациентом травмы нужно врачу не для создания очередной байки (на дежурстве об этом не думаешь, не до того), а для того, чтобы правильно оценить психическое состояние пациента или наличие криминала.
Может, пациент таким образом наказывал себя за плохое поведение — забрался в ванну и начал обливать пах кипятком из чайника. Тогда к нему нужно вызывать психиатров. Вдруг он после отъезда бригады решит наказать себя с помощью ножа или веревки? А может, и не себя, а жену. Такое, знаете ли, случается не так уж и редко.
Или его сосед-садист пытал таким образом, мстил за что-нибудь. Привязал к кровати и начал поливать самое чувствительное место кипятком. За что с человеком такое сотворить можно? Да за что угодно! Может, они место для парковки во дворе не поделили, или же пациент долго долг не возвращал. На моей памяти один сосед зарезал другого за игру на гитаре позже одиннадцати часов вечера. А что? Веский повод. Кто не согласен, перечитайте рассказ Чехова «Спать хочется», который написан по следам реальных событий. Бригада уедет, а монструозный сосед заявится продолжать свою месть с паяльной лампой или с пилой-болгаркой…
— Кипятком из душа так обжечься невозможно, — сказал я, глядя пациенту в глаза. — Как только пойдет кипяток, так сразу же душ отшвырнете и выскочите из ванной. Вы, чай, не Муций Сцевола и не легендарный революционер Камо, чтобы стоически терпеть длительное воздействие высоких температур. Говорите правду. Докторам вообще нельзя врать — себе дороже выйдет.
— Я, может, и не легендарный революционер, но ради любимой женщины готов на многое! — обиженно и с вызовом сказал пациент.
Жена пациента зарыдала в голос и выбежала из комнаты.
«Ой, — думаю я, — какие мавританские страсти! Жена его, что ли, наказала таким образом за супружескую неверность? Или у них ролевые игры так далеко зашли?»
Оказалось, что это пациент сам себя «наказал». Есть такой народный сермяжно-посконный метод предохранения, который называется «яйца парить». Метод этот научно обоснован.
Вы никогда не задумывались, почему у женщины яичники находятся в брюшной полости, а яички у мужчин — снаружи?
Все дело в том, что сперматозоиды плохо переносят высокие и даже повышенные температуры. Теряют активность и приказывают долго жить. Поэтому природа и вывела у всех самцов млекопитающих яички из «теплой» брюшной полости на свежий воздух. Чтобы, значит, сперматозоиды не страдали и бодро исполняли бы свое предназначение. А если перед любовным актом хорошенько попариться в баньке или же, скажем, минут десять подержать яички в тазике с горячей водой, то о последствиях можно не беспокоиться.
Просто! Удобно! Безопасно! Презервативы имеют свойство лопаться в самый неподходящий момент, спирали врастают в матку и далеко не всегда являются препятствием для беременности, колпачки соскакивают, от противозачаточных таблеток вреда больше, чем пользы, прерванный акт требует большой самоконцентрации и хорош только для «однопалчан», то есть для тех, кто не больше раза зараз… Ну, в общем, супругам казалось, что парить яйца — самый действенный и удобный способ. Опять же, за время этой процедуры мужчина успевает настроиться на соответствующий лад…
Эх, все бы хорошо, да что-то нехорошо, как писал Гайдар (талантливый, кстати говоря, писатель). В любой бочке с медом непременно найдется своя ложка дегтя, а то и не одна. Парка яиц — метод простой и удобный, но не очень-то действенный. Какая-нибудь группа сперматозоидов может сохранить свою активность и тогда… Ну, вы понимаете.
Жене пациента недавно пришлось сделать аборт, и она по этому поводу очень страдала.
— Ну не можем мы сейчас себе позволить ребенка, — объяснял пациент. — Живем на съемной квартире, денег в обрез, зарабатываем не так уж чтобы… Никак не вариант. А Танечка очень расстраивалась по поводу залета и аборта. Просила, чтобы я поответственнее отнесся к делу. Я ее очень люблю, и вообще, жалко ее было, она так убивалась, так убивалась… Раньше я горячую воду из крана наливал, а на этот раз решил чайник вскипятить. С полминуты терпел, а потом невмоготу стало. Жуткая боль…
От госпитализации он отказался. Наотрез.
— А я однажды на вызове был у девчонки, которая в целях предохранения уксусной эссенцией проспринцеваться решила, — сказал мой фельдшер, когда мы вышли из подъезда. — Чтобы уж наверняка подействовало.
— Ну ты сравнил! — ответил я. — То была глупость, а сейчас мы с тобой видели человека, сознательно совершившего героический поступок ради любимой женщины.
True love waits…
Романы на вызовах между врачами и пациентами в реальной жизни, в отличие от сериалов, завязываются нечасто. «Фишка» «Скорой помощи» — романы между сотрудниками. Каждая подстанция по сути представляет собой одну большую семью, скрепленную (опутанную?) множеством романтических или же просто физиологических связей. Суточная работа она, знаете ли, способствует… Да и контингент в подавляющем большинстве не старый еще, бодрый, любвеобильный.
Но сейчас я хочу рассказать о романе, вспыхнувшем на вызове, в результате которого доктор Морозов нашел любовь и жену в придачу, а одна московская подстанция потеряла хорошего, опытного выездного врача.
Так и хочется написать, что дело было майской ночью, когда все цвело и благоухало, а в садах заливались соловьи, перепела, глухари и прочие пернатые певцы. Но на самом деле это случилось в ненастную ноябрьскую ночь, когда хляби небесные проводили очередную тренировку под названием «Начало потопа».
В третьем часу ночи поступил вызов из гостиницы, которая пользовалась в округе недоброй славой. Бывшее общежитие Академии наук одной бывшей союзной республики заняли разномастные «коммерсанты», половина из которых были отъявленными бандитами.
— Женщина, двадцать семь лет, плохо с сердцем?! — возмутился доктор Морозов, когда диспетчер по рации передала ему вызов. — Люся, имей совесть! Я с утра на подстанции не был! Ящик почти пустой! Чистых шприцев — две «пятерки» осталось! И к тому же я один работаю, а ты меня отправляешь ночью в этот шалман!
— Сходи с водителем, если один боишься! — отрезала диспетчер. — А претензии утром выскажешь. Все равно у меня другой свободной бригады нет!
Диспетчер, если кто не знает, в отсутствие заведующего подстанцией — самый главный. Официально, по инструкции. Распоряжения диспетчера обязаны выполнять все сотрудники, и фельдшеры, и врачи.
Морозов хотел сказать, что если водитель ночью около этой гостиницы оставит машину без присмотра, то по возвращении сильно рискует не найти ее на месте. Но тут в разговор вмешалась диспетчер Центра, которая напомнила, что «отсебятину» по рации нести нельзя. Получили вызов — действуйте.
Спустя два часа Морозов отзвонился диспетчеру и сказал, что внезапно заболел — поднялось давление, и работать дальше не может. Снимается с линии и будет брать больничный. Диспетчер сильно удивилась, потому что тридцатипятилетний Морозов никогда не жаловался на здоровье. Да и до конца смены осталось всего-ничего… Хотя все когда-то случается в первый раз.
Когда на подстанцию вернулся водитель Юра, работавший в ту смену с Морозовым, и рассказал подробности, удивление диспетчера Люси переросло в ярость.
— Забрали мы из гостиницы девку, — рассказывал Юра, — отвезли в «кузницу» («кузницей здоровья» в девяностые называлась одна из самых поганых московских больниц), Морозов проторчал полчаса в приемнике, а потом вернулся вместе с девкой и попросил отвезти их к нему домой. Все равно, мол, по пути на подстанцию. Сказал, что заболел и снимается с линии. Все имущество меня попросил передать…
По правилам Морозов, пускай и заболевший, должен был лично вернуться на подстанцию и «сдаться», то есть отдать диспетчеру ящик с медикаментами, пенальчик с наркотическими препаратами и кардиограф. И расписаться где надо. А он все скинул на водителя — непорядок. За это его и двинули по статье, несмотря на правильно оформленный больничный лист.
Это была суровая проза жизни. А теперь переходим к поэзии…
Она приехала в Москву из Саратова в командировку. Привезла в министерство какие-то отчеты. Рассчитывала в тот же день уехать обратно, но со сдачей отчетов вышла большая задержка, и она опоздала на поезд. Кто-то посоветовал ей ту самую гостиницу. Сказал, что недорогая, места всегда есть и расположена удобно — прямо у станции метро.
Так все и было… Однако ей не сказали самого главного — про контингент. Молодая красивая женщина была сразу же замечена и «оценена». В том смысле, что раз одинокая дама снимает номер в таком месте, то вопросов тут быть не может — приехала работать. Ну, вы понимаете…
Желающие шли косяком. Стучали, спрашивали цену, скандалили: «Почему не открываешь?! Почему через дверь разговариваешь?!» — а один самый рьяный выбил дверь пинком, после чего у бедной женщины началась истерика по типу панической атаки. Прибежавшая дежурная разогнала публику и вызвала «Скорую».
Приехавшему Морозову пациентка заявила, что ни за что не останется в этой гостинице, и попросила отвезти ее «куда-нибудь». Искра между ними проскочила сразу. Морозов решил помочь неформальным способом — отвезти девушку в приемное отделение «кузницы здоровья» и устроить там до утра в палате, предназначенной для изоляции инфекционных больных. А что? В приемном работают свои, хорошо знакомые люди — помогут без вопросов.
Но надо же было случиться такому, что именно в эту ночь «кузницу здоровья» тряс линейный контроль Департамента здравоохранения. Причем тряс очень усердно, сверху донизу, поскольку была установка на снятие главного врача, чем-то не угодившего директору департамента. Разумеется, ни о каком «оставить девушку до утра» и речи быть не могло.
Что делать? Ей даже посидеть в приемном отделении не разрешили. Сказали, что могут официально положить в терапию, если Морозов оставит сопроводительный лист[10] с соответствующим диагнозом. Ага, в терапию — в коридор, набитый стонущими, писающими-какающими, вопящими и т. п. Опять же, верхнюю одежду и сумку придется сдать, а получить обратно удастся только после врачебного обхода и оформления выписки, то есть не ранее двух часов дня. С какой стороны ни взгляни — не вариант.
— А поехали ко мне домой! — предложил Морозов. — Я один живу, вы никого не стесните. А утром после смены я провожу вас до вокзала…
— Спасибо, но я не останусь одна в чужой квартире! — наотрез отказалась девушка. — Возьму такси и поеду на вокзал…
1995-й год, самый разгул криминала. Такси в пятом часу утра… Сидение одной на вокзале… То, что сейчас кажется простым, тогда таковым не являлось.
— А если я останусь с вами? — предложил Морозов.
— Тогда я согласна, — ответила она.
В феврале они поженились. Морозов сдал свою квартиру и уехал к жене в Саратов, где продолжил работать на «Скорой помощи». Хочется верить, что все у них сложилось хорошо.
50 оттенков пульса
Повару положено быть корпулентным, офицеру — бравым, а врачу — добрым и сострадательным…
Стереотипы, такие стереотипы.
Поваров и офицеров касаться не буду, а вот про врачей пару слов скажу.
Самая добрая докторша из всех, кого я знал (тридцать баллов по десятибальной шкале доброты), была полной дурой. Ноль знаний, помноженный на ноль соображения.
Как она стала врачом — отдельная история. После медучилища в 1983 году по доброй воле поступила на военную службу и попросилась в Афганистан. Такая вот была самоотверженная девушка, с дальним прицелом.
Отслужила два года, заслужила медаль, вступила в партию, вернулась домой и подала документы в мединститут (какой не скажу, чтобы не обижать другие мединституты, в которых тоже учились герои).
Разумеется, поступила. Во время учебы была ярой общественницей, комсомольским секретарем курса, а затем — факультета. Училась на «твердый «хор», который ей ставили постольку, поскольку «мягкий «уд» таким студентам поставить было невозможно даже при полном отсутствии знаний. Себе дороже, гораздо опаснее, чем министерского сынка на экзамене завалить.
К окончанию института стезя вырисовывалась четко — инструктор горздравотдела, главный врач, завгорздравотделом, а дальше уж как фишка ляжет.
Фишка легла боком. В 1991 году. Принцесса осталась у разбитого корыта. Погоревала-погоревала и пошла в участковые врачи. Больше ей при полном отсутствии профессиональных знаний идти было просто некуда.
Она не распознавала инфарктов и вообще всего серьезного, подлежащего экстренной госпитализации, там, где следовало распознавать, и «распознавала» несуществующие болезни на пустом месте. Проще говоря, пациентов с инфарктами миокарда и прочими тяжелыми заболеваниями она оставляла лечиться дома под каким-нибудь легким диагнозом, а невралгии и неврозы госпитализировала под видом инфарктов и инсультов.
И как госпитализировала! Сама собирала вещи пациентам! Сидела с ними до приезда «Скорой», успокаивала, ободряла (а после до ночи бегала по вызовам). Одиноким старикам покупала лекарства и продукты (а после до ночи бегала по вызовам). Меняла памперсы, делала перевязки, будучи не хирургической сестрой, а участковым терапевтом, могла укол сделать, если медсестра не успевала (а после… ну вы поняли). Народ на участке ее обожал и осыпал благодарностями как в переносном, так и в прямом смысле. Домой она неизменно уходила с полной сумкой даров. Люди ценят хорошее отношение.
Жалобы, конечно, тоже были, не без этого. И пациенты якобы с ОРВИ спустя час-другой после визита доброй докторши умирали дома, а потом на вскрытии обнаруживался трансмуральный инфаркт. Ну, дадут очередной выговор, а затем снимут. Об увольнении речи никогда не было. Во-первых, работать и так некому, а во-вторых, у нее на каждый выговор было по десять благодарностей — как тут уволишь?
Самый умный главный врач той поликлиники, в которой работала наша ДДД («добрейшей души доктор», а не то, что вы подумали), таки нашел способ безболезненно и безопасно снизить процент надомной смертности на одном отдельно взятом участке. Он назначил ДДД заведующей отделением, и, надо сказать, поступил очень мудро. Убил трех зайцев.
Во-первых, заведующие терапевтическими отделениями поликлиник по домам практически не ходят, разве что иногда с целью контроля работы подчиненных, но это крайне редко. А в поликлинике за коллегой всегда могут проследить заместители главного врача и другие врачи. Подскажут, предостерегут, обратят внимание. Короче говоря, не дадут пополнить личное кладбище еще одним покойником.
Во-вторых, заведующие терапевтическими отделениями поликлиник половину рабочего времени (а то и больше) тратят на разбор жалоб и общение с недовольным населением. Добрая заведующая так жалобщика выслушает, да так ему посочувствует, что тот растает, отмякнет душой и не станет писать в департамент или в министерство.
В-третьих, у добрых начальников и подчиненные незаметно для себя постепенно добреют, это аксиома. В целом улучшается обстановка в отделении, жалоб-кляуз меньше, работается приятнее и спокойнее. Разве плохо?
В прошлом году ДДД ушла на пенсию, потому что внучка пошла в школу и потребовалась помощь бабушки. В школе ее обожают и учителя, и другие родители, выбрали в председатели родительского комитета.
50 оттенков пульса (окончание)
Другой гений от медицины из числа знакомых мне врачей (об одном я уже рассказывал в «Гениальном враче») был прагматиком-рационалистом, любившим решать логические задачи. Возможно, вы сейчас снова вспомнили Грегори нашего Хауса… Хаус — дело другое. Он законченный социопат, да еще и любитель манипулировать окружающими. Наш Гениальный Доктор (буду называть его так, чтобы не путать с гением) не был социопатом. И окружающими он манипулировать не любил, неинтересно ему было.
Жизненное кредо Гениального Доктора укладывалось в понятия «интересно» и «черт с ним».
Когда-то в юности Гениальный Доктор пробовал поступить в Бауманку и недобрал полбалла. «Ах так?! — сказал он Провидению. — Не пустило меня в математики? Черт с тобой! Я стану врачом!» Бросать вызовы Провидению было для Гениального Доктора привычным делом. «Хочешь забрать старушку?! А вот те шиш!»
В Первый мед он поступил без проблем. Подумаешь, химию пришлось немного подучить. Дело было еще при Леониде Красивом (кто в теме, тот понял, каково тогда это было, а остальным скажу, что это было ой как непросто). Окончил с отличием, поступил в аспирантуру, начал писать диссертацию…
Диссертацию «придержали» по причине несовпадения взглядов Гениального Доктора и заведующего кафедрой по вопросу участия аспирантов в строительстве профессорской дачи. «Ах так?! — сказал Гениальный Доктор. — Не пускаете меня в ученые? Пойду в практики!» И пошел. С написанной диссертацией, прошедшей все дантовы круги, кроме защиты.
Пациенты его ненавидели. А какие еще чувства можно испытывать к доктору, который не дает подробно рассказать анамнез начиная с 1937 года? Перебивает вопросами, а минуты через полторы говорит: «Ну, все с вами ясно». То, что на самом деле ясно и диагноз выставлен верно, для пациента не так важно, как выговориться. Доктор может быть дебилом в кубе, но если он дает пациенту возможность выговориться, даже не слушая его при этом, то он хороший доктор. Если нет, то плохой, однозначно.
Коллеги Гениального Доктора тоже ненавидели. Посредственности не любят гениев, особенно тех, которые любят объяснять посредственностям, кто они есть. Гениального Доктора любили только медсестры (и это показательно) — толковый, зря не грузит, если что, то может сам работать за троих, и вообще не задается.
Лечебная деятельность сводилась для Гениального Доктора к двум моментам — постановке правильного диагноза и подтверждению его правильным лечением. Все остальное его не интересовало. Общение с пациентами и их родственниками тяготило. Диагноз ясен, лечение проводится, о чем еще разговаривать?
Читал он только книги и журналы по специальности. Как-то раз попробовал прочесть несколько страниц «Сорока лет Чанчжоэ» (книгу забыл в ординаторской кто-то из коллег). Выражение лица у него при этом было такое же, как у вегана, жующего стейк слабой прожарки.
Благодарности от пациентов Гениальному Доктору перепадали редко. Жалоб было гораздо больше. Грубый, нечуткий, невнимательный и т. п. Те редкие премии, которые Гениальный Доктор получал в светлые «безвыговорные» промежутки, он пропивал «с треском» в компании двух приятельниц-медсестер. Никто из врачей с ним не дружил.
Высоко отзывался о нем только заведующий патологоанатомическим отделением. «Пациентов Гениального Доктора можно не брать на секцию, — часто повторял он. — Клинический диагноз всегда совпадает с посмертным. Можно сразу переписывать из истории болезни».
Вы ждете моралей? Их нет у меня. Просто захотелось рассказать о двух коллегах.
При чем тут 50 оттенков пульса? При том, что Гениальный Доктор, подобно легендарным китайским эскулапам, частенько ставил диагноз на основании одного лишь прощупывания пульса (он был кардиологом).
Бетховен
Доктор Сергеев вдруг начал терять слух и потерял его довольно быстро. Не слышал совсем ничего — атрофировались нервные окончания, которые воспринимают звуки, то есть произошла полная «отключка» слуха. Характер процесса был таким, что слуховые аппараты не помогали. То ли тяжелый грипп послужил тому причиной, то ли долгая работа в шумно-трясучих условиях — дело не в этом. Дело в том, что Сергеев был ветераном «Скорой». 35 лет выездного стажа! Это вам не кот начхал. И до пенсии Сергееву оставался всего один год.
От кохлеарной имплантации[11] Сергеев наотрез отказался, сказав, что не хочет превращаться в киборга, и вообще дело это серьезное. Можно получить больше геморроя, нежели пользы.
Инвалидность Сергеев оформлять не хотел, его морально угнетала сама мысль об этом, да и пенсия инвалида не шла ни в какое сравнение с зарплатой врача «Скорой помощи», работающего на полторы ставки. Опять же, если не считать пониженного слуха, мужчина он был крепкий и бодрый. Спортсмен, турист, на десятый этаж с полной выкладкой (ящик, кардиограф, аппарат ИВЛ) поднимался без одышки. Такому работать да работать. И по достижении пенсионного возраста тоже работать. Только вот где?
Кроме скоропомощной работы, Сергеев ничего не знал и не умел. Вся его профессиональная жизнь прошла «на линии». В стационаре или на участке он бы не потянул, поскольку хорошо умел спасать, но совсем не умел лечить — специфика. Работать старшим врачом подстанции или консультантом на Центре Сергеев не мог, поскольку эти виды деятельности (особенно вторая) связаны с телефонными разговорами, а Сергеев телефонных собеседников совсем не слышал. Он и нетелефонных тоже не слышал, но зато научился превосходно читать по губам. Тот, кто не знал о проблеме Сергеева, ни за что бы не мог догадаться.
На подстанции Сергеева за глухоту прозвали Бетховеном. Прозвище было ласково-уважительным. Коллеги жалели Сергеева — одинокий, весь смысл жизни в работе, и на тебе, такая беда! Жалели и старались помочь ему, чем могли. Старший фельдшер с благословения заведующей поставила Сергееву в вечные напарницы фельдшера Гусеву, обладавшую доброй отзывчивой душой и превосходной артикуляцией. Гусева транслировала Сергееву на вызовах то, что он не успевал прочесть по губам, и вела все переговоры по телефону и по рации. Она и сдачу пациентов в приемный покой пыталась было взять на себя, но Сергеев не разрешил — это врачебное дело, и вообще мне несложно.
Подстанция, на которой работал Сергеев, была небольшой и очень дружной, поэтому слух о том, что на линии работает абсолютно глухой доктор, за ее пределы не распространялись. Даже директор региона ничего не знал. А зачем ему знать? Проблема решена своими силами, доктор справляется, пациенты довольны. Сергеев всегда работал на совесть, а уж после того, как коллеги вошли в его положение, стал поистине идеальным сотрудником.
— Учитесь у Владимира Никитича! — призывала на каждой пятиминутке заведующая подстанцией. — Вот почему у него не бывает ни «повторов»[12], ни «отказов»[13], ни «расхождений»?[14] Вот почему его карты хочется под стекло да на стену? Вот почему он никогда не хамит на вызовах?..
И так далее.
Сергеев от этих постоянных похвал сильно смущался. Возражал, что не такой уж он и идеальный и ошибки тоже допускает.
— Вот в прошлую смену приехал на «больной живот» и не сразу понял, что это инфаркт…
— Но ведь поняли же! — парировала заведующая. — Разобрались! Кардиограмму сняли! В реанимацию отвезли! А Кашурников не думая бы погрузил в машину, да отвез в хирургию с прободной язвой! И имели бы мы очередное ЧП! Что, разве не так?
Доктора Кашурникова, амбициозного дурака, на подстанции звали Окочурниковым. У него и в самом деле было много смертей «в присутствии». Заведующая не раз пыталась избавиться от дурака, да все как-то не получалось подвести Кашурникова под увольнение, скользкий он был, как угорь.
Никто на подстанции, и в первую очередь сам Сергеев, не ждал никакой беды, связанной с его глухотой. Напротив, между Сергеевым и Гусевой вдруг возникло нечто, похожее на чувство. Проскочила искра после пятнадцати лет работы на одной подстанции — надо же! Куда они раньше глядели? Но всему свое время. Влюбленные не афишировали своих отношений, но окружающие всегда замечают, когда между людьми что-то есть. Особенно такие внимательные люди, как сотрудники «Скорой помощи».
— А что? — говорили на подстанции. — Она одинокая, он тоже. А пятнадцать лет разницы в возрасте и глухота — это не препятствие. Зато у него характер хороший, и пьет он в меру, то есть по случаю, а не двое суток через одни, как многие. Да и притерлись они друг к дружке на одной бригаде.
На дружеские подколы — пора бы честным пирком да и за свадебку, Сергеев отвечал «Да будет вам!» — а Гусева смущенно улыбалась. Но все к тому шло.
И вдруг грянул гром! Да еще какой!
Дело было так.
Приехали на вызов к старушке с гипертоническим кризом. Хрущевка, пятый этаж. Полечили. Гусева вышла из квартиры первой, а Сергеева в прихожей задержала дочь пациентки — задала какой-то вопрос. Пока он отвечал, Гусева уже вышла на улицу и села в машину. Водитель завел двигатель.
Сергеев быстро спускался вниз. Когда он дошел до третьего этажа, из одной квартиры этажом выше выскочила женщина и стала громко кричать:
— Доктор! «Скорая»! Скорей сюда! Муж мой умирает!
Он действительно умирал и вскоре умер. Тромбоэмболия легочной артерии — это очень серьезное дело.
Сергеев женщину не видел, а стало быть, и не «слышал». А она не побежала за ним вниз, поскольку боялась оставить в одиночестве умирающего мужа. Но вопила так, что переполошила весь подъезд. Однако к тому времени, когда из квартир повыскакивали соседи, бригада уже уехала. Торопились на следующий вызов.
Вообразите эту ситуацию. Врач «Скорой помощи», находясь при исполнении, то есть на дежурстве, внаглую проигнорировал просьбу о помощи и в результате человек, которого можно было спасти (вероятно), умер на руках у безутешной жены. В Департамент здравоохранения написала жалобу не только вдова, но и кое-кто из соседей. Их можно было понять — вопиющий случай! А племянник вдовы, уголовник с двумя ходками, даже приходил выяснять отношения на подстанцию… Хорошо еще, что Сергеев в тот день был выходной, а то мало ли что. Когда племяннику объяснили причину, он не поверил. Пришлось вмешаться одному из водителей, отсидевшему по молодости за драку. Тот с положенными по ритуалу уверениями в своей искренности подтвердил сказанное диспетчером. Что-то вроде: «Гадом буду по-тамбовски, сукой стану по-ростовски, с харей битою по-псковски, век свободы не видать, если наш Никитич хоть что-то слышит!» Уголовник сильно удивился, но ушел с миром.
Положение Сергеева осложнялось тем, что на московской «Скорой» в тот период проходила очередная кампания по закручиванию гаек. Поводом для ее начала послужило другое ЧП. Переработавшая[15] бригада привезла в приемное отделение старушку-гипертоничку. Поскольку очень торопились, дожидаться принимающего врача не стали. Усадили пациентку на банкетку, дали ей в руки сопроводительный лист — жди бабка! — и уехали. Старушка посидела-посидела, да и задремала. А задремав, упала с банкетки на пол, да так неудачно, что получила перелом левого предплечья. Старые кости хрупкие, особенно у женщин. Для перелома достаточно несильного удара. Старушке еще гипс наложить не успели, а Департамент здравоохранения уже стоял на ушах. Ну и началась кампания…
Из Сергеева было решено сделать «показательный пример». То есть не просто уволить, а с треском и заведением уголовного дела. По закону за неоказание помощи больному, повлекшее за собой смертельный исход, Сергееву грозило до четырех лет отсидки.
— И он их получит! — свирепствовал главный кадровик «Скорой» Сестричкин. — На всю катушку! Отсидит четыре года как миленький! А потом пойдет в приемный покой санитаром!
К Сергееву у Сестричкина был личный счет. Однажды, лет десять тому назад, Сергеев приходил на прием к Сестричкину вместе с фельдшером, которого несправедливо хотели уволить.
— Нечего меня учить! — грубо прервал объяснения Сергеева Сестричкин.
— Почему? — удивился Сергеев. — Дураков надо учить, иначе они так дураками и помрут.
И это при свидетелях. Высокому начальству. Да еще и такому человеку, как Сестричкин!
Фельдшера не уволили, но Сестричкин Сергеева запомнил. Он вообще был памятливый, ничего не забывал.
Получив объяснительную, в которой Сергеев признавался в своей глухоте и к которой была приложена подтверждающая справка из поликлиники, Сестричкин не поверил ни объяснительной, ни справке. Решил, что Сергеев хочет таким манером уйти от ответственности. Следователь, который вел дело Сергеева, тоже не поверил — ну какой врач не сможет получить у коллег нужные справки? — и назначил экспертизу. Результат авторитетной экспертизы оспаривать было невозможно, дело закрыли.
А у Сергеева как раз подошел пенсионный возраст. Разумеется, после такого случая он не мог и не хотел оставаться на «Скорой». Стал пенсионером, оформил брак с Гусевой и занялся разведением ценных аквариумных рыбок. Несмотря на то что опыта у Сергеева не было, дело у него пошло хорошо, рыбки стали приносить довольно внушительный доход.
— Почему вдруг рыбки, а не собачки или, к примеру, мейнкуны? — интересовались бывшие коллеги. — С собачками же хлопот не в пример меньше.
— Глухому с немыми сподручнее, — объяснял Сергеев.
Ветеринар
— Если бы я был ветеринаром, то сказал бы вам, что вашу бабушку следует усыпить, — говорил доктор Кандауров родственникам безнадежных пациентов. — Но я не ветеринар.
Родственники жаловались начальству. Начальство стенало:
— Ну сколько же можно, Вадим Романович?! Неужели нельзя просто сказать, что положение безнадежное?!
— У меня язык не поворачивается прямо сказать такое людям, — отвечал Канадауров. — Только намекнуть могу.
Прозвище у него было Ветеринар. Это обстоятельство часто создавало в больнице пикантные ситуации.
Разговор врача приемного покоя с санитаркой:
— Поднимайте пациента в кардиологию, Марья Васильевна!
— А кто там сегодня дежурит?
— Ветеринар.
Пациент робко интересуется:
— Доктор, а разве нельзя меня к нормальному врачу положить?
Хорош борщок, да мал горшок
В одной больнице обидели интерна…
Да, несчастных бесправных интернов часто обижают, такая уж у них планида.
Но тут был особый случай, можно сказать, крайняя степень унижения. Заведующий одним узкопрофильным хирургическим отделением приставил интерна помогать одной из двух буфетчиц. Проще говоря, заставил его возить с больничной кухни в отделение бидоны с едой и отвозить обратно пустые. Мол, буфетчица у нас старенькая, ей тяжело, а ты вон какой бугай — помогай.
Да, разумеется, интерн был вправе отказаться. Не врачебное это дело — бидоны туда-сюда тягать. Может, вам еще и полы в отделении вымыть? Но отделение, как я уже сказал, было узкопрофильным хирургическим. Интерн жаждал полноценного участия в операциях, жаждал набираться опыта и потому не осмелился возражать заведующему. А то ведь разозлится Зевс-Громовержец и вместо операционной вся интернатура в перевязочной пройдет.
Но, конечно же, ему было обидно. Да и буфетчица оказалась неделикатной. Ей крайне льстило, что у нее врач на побегушках состоит, и она этим обстоятельством прямо-таки наслаждалась.
Хвасталась в коридоре так, что слышно было на все отделение:
— Вот меня, в отличие от моей сменщицы, наш заведующий ценит и уважает. Даже «ынтерна» мне в помощь выделил. Ни у какой другой буфетчицы «ынтерна» в помощниках нет, а у меня есть! Вот как!
Или, к примеру, разговаривает интерн в коридоре с кем-то из пациентов или их родственников, а буфетчица ему мимоходом:
— Шурик, милый, пора бы уже и обед везти. Давай поспешай.
И не пора еще совсем, и интерн никогда не забывал вовремя на кухню отбыть, и это дома он Шурик, а в больнице — Александр Николаевич, но ей, старой суке, лишний раз хотелось поизгаляться над бесправным человеком, которого злой рок в лице заведующего отделением отдал, пускай и частично, в ее власть.
Любому терпению рано или поздно приходит конец…
Интерн решил отомстить своим обидчикам — заведующему отделением и буфетчице. А поскольку человеком он был креативным и осторожным, то и способ отмщения выбрал оригинальный и в целом безопасный для себя самого в смысле последствий.
Спер на кафедре пластиковый череп (часть учебного скелета) да подложил его в бидон с борщом. Клялся после, что предварительно дважды вымыл череп с мылом, чтобы никакой инфекции в борщ не занести.
Он бы мог в патологоанатомическом отделении, то есть в морге, и настоящей мертвой головой разжиться. Или рукой. Для сотрудника это дело нехитрое. Но тогда бы это было и глумление, и отравление еды трупными ядами, пускай и не сильно, но все же токсичными… А интерну хотелось радости, то есть мщения, без геморроя.
Вот представьте эту картину. Обед. Ходячие пациенты выстроились в очередь в буфете. Буфетчица разливает половником суп по тарелкам. Половник натыкается на что-то круглое…
— Кочан эти дуры, что ли, порубить забыли? — вслух удивляется буфетчица лености кухонных работниц.
Поддевает «кочан» половником, ловко достает, рассматривает, визжит и падает без сознания…
«Кочан» катится по полу. Пациенты удивляются…
Весть о том, что на больничной кухне варят супы из человечины («голову, голову в бидоне нашли!»), мгновенно разнеслась по всей больнице. Впечатлительных рвало, решительные требовали немедленной выписки, агрессивные швыряли тарелки в буфетчиц… Не берусь даже предположить, сколько сигналов поступило в Департамент здравоохранения.
Разумеется, в больницу явилась с проверкой комиссия из Департамента здравоохранения.
Разумеется, больничная администрация пережила нечто вроде катарсиса.
Кухню трясли так, что оттуда все тараканы в страхе сбежали, да и всей больнице в целом досталось… Беда, как известно, не приходит одна. То есть проверяющие только в одно место не ходят. Им чем больше мест, тем лучше — больше нарушений найти-нарыть можно.
Виновника случившегося обнаружили еще до прибытия комиссии — кому же устроить такое, как не интерну? Кухонные сотрудницы так шутить сроду не станут, не такие они дуры, чтобы навлекать дурацкими шутками на себя гнев небесный в виде департаментских проверок. Старуха-буфетчица тем более такого не сделает. Да и в обморок она упала самым натуральным образом, полчаса в чувство привести не могли.
Интерн своей вины не отрицал. Заведующему отделением сказал, что с ним по этому поводу объясняться не станет, только с главврачом, а главврачу так и заявил — это мой протест против неправильной организации моей стажировки. Надоело мне бидоны туда-сюда возить и в придачу унижениям подвергаться.
Главврач развел руками, помянул чью-то мать и снял… заведующего отделением.
А кого же ему еще было снимать? Интерна? Ой, не смешите меня, умоляю вас! Интерна ни снять, ни уволить невозможно. Можно только убить. Но здесь был не настолько тяжелый случай, и вообще, правда и справедливость были на стороне интерна.
Старуху-буфетчицу тоже выперли. Не справляешься, так живи на пенсию. А то, чего доброго, все другие буфетчицы тоже интернов в помощь захотят. А интерны начнут мстить за свою загубленную молодость…
Новый заведующий отделением держался с интерном крайне предупредительно. Давал оперировать, учил всему, делал разные поблажки… И не потому, что боялся новых каверз, а из обычной человеческой благодарности. Ведь если бы не интерн, то не стал бы он заведующим.
Бойтесь данайцев, дары приносящих! То есть интернов, которых используют не по назначению.
Бизнесмен
У реаниматолога Артемова был собственный бизнес — оптовая торговля продуктами. В середине девяностых у многих врачей были побочные заработки, но все больше по мелочи, а у Артемова бизнес был крупный.
Такой вывод делался коллегами из двух фактов.
Во-первых, Артемов никогда не хвастался крутизной своего бизнеса, а это однозначно свидетельствует о крутизне. Не хвастается только тот, кому не нужно доказывать миру и себе самому собственное величие.
Во-вторых, Артемов устраивал всем желающим сотрудникам партии продуктов по о-о-очень хорошим ценам. При условии, что заказ тянет не меньше чем на штуку баксов. По мелочам он не разменивался. Тоже показатель.
Заказанное Артемов привозил покупателям сам на личном микроавтобусе-иномарке. Мог себе позволить такой автомобиль. Он и на дежурства на нем ездил.
Некоторые отделения больницы кооперировались, складывая свои потребности, и раз в неделю делали Артемову совокупный продуктовый заказ. Ну а уж к свадьбам-юбилеям у него заказывали продукты практически все сотрудники больницы. Артемов никому не отказывал и поставлял продукты в любых объемах. Да хоть тонну сервелата заказывай — только плати. И деньги, добрая душа, брал по факту доставки, а не вперед.
Продукты всегда были свежими, без изъяна и без обмана. Если, к примеру, колбаса была не ахти какой, то Артемов об этом честно предупреждал.
— Есть молочная, не очень вкусная, но дешевая. А есть докторская, подороже, но и вкус совсем другой. Я себе лично докторскую беру.
«Я себе лично» — было самым убедительным показателем качества продукта. Ну, раз уж сам Артемов это ест, значит, продукт высочайшего качества. Он же профессионал-специалист и абы что есть не станет.
Никаких прайсов, кстати говоря, у Артемова не было. Все цены он держал в голове и называл по памяти. Никогда не ошибался, потому что память у него была хорошая.
В долг, правда, Артемов никому не верил. Даже самым близким коллегам, с которыми на пару дежурил. Но это было понятно и никого не обижало. Он же не банкир, чтобы кредиты раздавать.
Дежурить в одну смену с Артемовым означало для врачей и медсестер реанимационного отделения «не брать с собой на дежурство никакой еды». Артемов всякий раз приносил целый батон колбасы, килограммовый кусок сыра, пачку сливочного масла, несколько банок консервов… Про хлеб и чай тоже не забывал. И угощал всех. Если кто стеснялся, шутил: «Да не стесняйтесь, пожалуйста, я же все это не в магазине купил».
Народ понимал так — не по розничным ценам я все это покупал, а по оптовым.
Так длилось около года. Артемова в больнице буквально на руках носили. Уважения ему оказывали больше, чем главному врачу. А что главный может сделать? Ну, наорет или выговор влепит — пустяки, дело житейское. А вот если Артемов заказ к свадьбе дочери не примет — это серьезно. Все забыли, что Артемов работает в больнице недавно. Казалось, что он был и будет всегда.
Но однажды исполнительный и пунктуальный Артемов не явился на дежурство без каких-либо предупреждений. Домашний телефон не отвечал (мобильные в то время еще не получили широкого распространения), и справок навести было не у кого, потому что холостяк Артемов жил один на съемной квартире. Как называлась артемовская фирма и где она находилась, никто в больнице не знал.
Но зато в реанимационное отделение явились сначала оперативники, а затем мордовороты с каменными лицами. Им всем нужен был Артемов. Оперативники быстро ушли, а вот мордовороты задержались надолго. Приставали ко всем с расспросами, выпытывали (пока что дружелюбно) «зацепочки», по которым можно было бы выйти на Артемова, интересовались, с кем он дружил в больнице.
— Вот сразу видно, что бандиты относятся к своим обязанностям гораздо ответственнее милиционеров, — сказал заведующий реанимационным отделением после двухчасового общения с мордоворотами.
Оказалось, что никакого бизнеса у Артемова не было. В свободные сутки он работал водителем-экспедитором на оптовой продуктовой фирме и в сговоре с сотрудниками склада внаглую тырил продукты в огромных объемах. Народ потом прикинул, сколько всего Артемов получил с коллег денег за свои продукты, и сумма перевалила за двести штук баксов. А ведь явно не только в больнице он сбывал краденое.
— Ой, не говорите никому, что мы тут все у Артемова продукты покупали! — предостерегала народ на утренних конференциях старшая медсестра травматологического отделения Малашкина. — Эти бандиты же могут запросто нам претензии предъявить — покупали краденое, так расплачивайтесь за Артемова. Им же пофиг, что мы ему уже заплатили. Не заплатим — начнут кости ломать, горячие паяльники вставлять во все отверстия и утюгами жечь.
Муж Малашкиной был капитаном милиции, и потому она считалась в больнице самой сведущей в криминальных вопросах. Сотрудники переживали: а вдруг и вправду заставят расплачиваться? Но, к счастью, обошлось. Мордоворотам был нужен только Артемов. Они наведывались в больницу с неделю, потом исчезли. Кадровичке Светлане Остаповне мордовороты оставили номер телефона, по которому нужно было позвонить, если Артемов вдруг явится за своей трудовой книжкой, и строго-настрого наказали ей «не делать глупостей».
Но Артемов, разумеется, за трудовой книжкой не явился. Он вообще как в воду канул. Никто из коллег его больше никогда не встречал и ничего о нем не слышал. Но выражение «артемовская цена», то есть наивыгоднейшая, лучше которой и быть не может, надолго вошло в больничный лексикон.
Некоторые и поныне его употребляют.
Коля и Оля
Коля и Оля поженились по любви на втором курсе мединститута. Ах уж этот второй курс, пора несбыточных надежд и великих стремлений, располагающая к решительным поступкам. Бракосочетанию предшествовали пятимесячные романтические отношения и совместная недельная поездка на Селигер.
Они были очень разными, и потому их тянуло друг к другу. Оля, в частности, была однолюбкой. А Коля — донжуаном, каких мало. Поначалу Оле нравилось, что другие женщины обращают столько внимания на ее мужа. Со временем стало напрягать.
В институте все проще, особенно когда ветреный муж учится с тобой в одной группе. Всегда можно вмешаться и сохранить семейное счастье. После института все стало сложнее — пути-дорожки разошлись.
Оля устроилась в приемное отделение одной из лучших (без преувеличения) московских городских больниц. Кроме приемного, мест там нигде не было, но Оля рассудила, что лучше уж худшее отделение в лучшей больнице, чем наоборот. Оля была целеустремленной, планировала свою жизнь на несколько лет вперед и прекрасно понимала, что от «стартовой площадки» зависит очень многое. Хорошая, «центровая» клиника была наилучшей «стартовой площадкой» для дочери отставного подполковника и учительницы математики, то есть для человека без широких связей в медицинском мире. У Оли был вариант пристроиться на кафедре терапии, но ее к науке не тянуло. Уж больно долго делаются научные карьеры. Пока в профессоры выбьешься — сдохнешь. Да и что такое простой профессор? Ноль без палочки, пешка. Для того чтобы считаться фигурой, нужно заведовать кафедрой или отделом в научном институте, а лучше всего — руководить всем институтом. Но до таких должностей Оле было как пешком до Китая. А вот стать к сорока годам главным врачом крупного стационара она рассчитывала твердо.
Коля же стал работать в реанимационном отделении «окраинной» больницы, у которой было только одно преимущество — ее многопрофильность. Ему там было интересно. К науке Коля не тяготел совершенно, а вот практическую работу любил очень. Причем серьезную. Чтобы не просто лечить, а спасать, вырывать из рук смерти. В реаниматологии преимущественно такие фанатики и работают.
Коля и Оля были умными и ответственными, поэтому года через четыре почти синхронно шагнули на ступеньку выше — стали заведовать своими отделениями. Замечательный, надо сказать, результат. Обычно со второй категорией на заведование не ставят, да еще в такие ответственные отделения, как приемное и реанимационное. Но из любого правила существуют исключения.
Людям, далеким от медицины, сравнение реанимационного отделения с приемным может показаться неуместным и даже кощунственным. В самом деле — в реанимации людей с того света на этот возвращают, а в приемном бумажки заполняют да по отделениям распределяют. Как можно сравнивать? На самом же деле с административно-деловой точки зрения приемное отделение важнее всех прочих. Даже важнее реанимационного. Приемное отделение не просто принимает пациентов, а оценивает их состояние и распределяет по другим отделениям. Или же отказывает в госпитализации. Или же переводит в другие стационары. Если приемное отделение работает плохо, то и вся больница будет работать плохо, поскольку половину своего рабочего времени врачи станут тратить на переводы «не туда положенных» пациентов из одних отделений в другие. В результате теряется драгоценное время, страдает качество медицинской помощи, пишутся жалобы… А представьте, что будет, если в приемном отделении обычной больницы не распознают вовремя холеру и уложат холерного больного в гастроэнтерологическое отделение с диагнозом «обострение хронического гастроэнтероколита»? Больницу закроют на карантин со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями, а после заодно с карантином снимут и главного врача…
Очень скоро главный врач больницы, в которой работала Оля, осознал, что его заведующая приемным отделением — это та самая каменная стена, за которой любой руководитель может ̶жить спокойно, и сделал Олю своим заместителем по медицинской части (на врачебном арго — начмедом). То есть формально Оля стала Номером Вторым в масштабах больницы, а неформально — Номером Первым, поскольку начмед решает все внутрибольничные вопросы.
И все было бы хорошо, да только одно напрягало Олю — великая любвеобильность ее ветреного супруга, которому должность заведующего реанимационным отделением давала в этом смысле великие преимущества. Любой ночной приход домой, а то и неприход, можно спокойно оправдать служебной необходимостью. «Извини, кисонька, тяжелого пациента перевели из терапии, пришлось всю ночь с ним лично возиться, никому больше доверить не мог». А уж с кем Коля там на самом деле возился — с пациентом или с дежурными медсестрами, это только ему одному известно.
Разумеется, Оля страдала. Она как могла пыталась сохранить хрустальный сосуд своего счастья, а для этого ей было нужно контролировать Колю. После нескольких лет брака Оля поняла, что требовать от любимого («любимого» — ключевое слово) мужа полной и абсолютной верности — это все равно что требовать у кошки, чтобы она перестала вылизываться. Оля старалась не допускать перехода легких Колиных интрижек в нечто серьезное. Сами понимаете, что без обладания исчерпывающей информацией добиться этого невозможно.
Оля поступила мудро — завербовала одну из медсестер Колиного отделения. Уговор был таким: ты мне даешь информацию о похождениях моего блудливого муженька, а я тебе годика через два дам должность старшей медсестры в моей больнице, причем не в хлопотно-суетливом реанимационном отделении, а где-нибудь поспокойнее и повыгоднее. Да, кандидатуры для измены жене Коля находил исключительно в больнице, поскольку больше нигде не бывал. Придет домой, отоспится — и бежит на работу. Ну фанатик же, как и было сказано.
Медсестра согласилась и два с половиной года исправно снабжала Олю информацией. Бедный Коля не мог понять, кто из отделения «стучит» на него супруге. Уволил двух ни в чем не повинных медсестер и одного невиновного врача… Но все без толку. Стоило только Коле «углубить» очередную интрижку, как дома начинался настоящий Армагеддон. Кандидаткам в разлучницы тоже доставалось на орехи. Скандалов на рабочем месте Оля не устраивала — ни к чему этот цирк, а вот явиться домой к разлучнице могла запросто. Причем не со скандалом, а с разговором по душам. «Вот посмотри, как я мучаюсь, и скажи — хочешь ли ты такой участи для себя? Коля мог тебе наплести все, что угодно, но я-то его, кобеля кобелянского, знаю куда лучше тебя. Он даже сейчас, в самый разгар вашего «необыкновенного» романа, трахает на дежурствах Таню, Веру и Надю. А еще у него с окулистом Ириной Николаевной вялотекущий роман уже третий год». В глаза разлучницам Оля глядела искренне, сведения излагала самые что ни на есть верные, плакала интеллигентно — минимум слез, максимум тоски в глазах. Убедившись в том, что про Таню, Веру, Надю и Ирину Николаевну Оля сказала правду, разлучницы давали Коле от ворот поворот. А одна из разлучниц даже стала Олиной близкой подругой. Знакомя ее с кем-нибудь, Оля шутила: «Это моя молочная сестра». Молочная, ага.
Тайное всегда становится явным. Когда одна из медсестер реанимационного отделения вдруг перешла в Олину больницу на мегасуперхлебную должность старшей медсестры гинекологического отделения, Коля все понял. Из «окраинной» больницы — в «центровую», да еще в старшие, да еще в такое отделение… Для сравнения — это все равно что из кресла главы администрации какого-нибудь сельского поселения пересесть в кресло мэра Москвы. Чудес на свете не бывает, а у того, что кажется чудом, всегда есть какая-то реальная подоплека.
Коля все понял и пришел к предательнице на новую работу. Нет, не счеты сводить или скандалы устраивать, не такой у него был характер, а для того, чтобы просто посмотреть в глаза и спросить: «Ну как же так, Маша? За что? Разве я тебя чем обидел?»
«Обидели! — истерично выкрикнула Маша в лицо Коле. — Столько лет вместе проработали, а вы на меня никакого внимания не обращали! Разве это не обидно?!»
«Обращал… — растерялся Коля. — Еще как обращал… Даже очень. Но ты была такая недотрога, что я на тебя лишний раз взглянуть боялся…»
«А что я должна была, как все эти проститутки, вам на шею вешаться? — всхлипнула Маша. — Я не такая! У меня, может, чувство собственного достоинства есть! И вообще, любовь — это не потрахушки на дежурстве, а нечто иное…»
Чувство собственного достоинства — это серьезно.
И любовь, конечно же, не потрахушки на дежурстве, а нечто иное.
Вскоре Маше пришлось уволиться со своей мегасуперхлебной должности, потому что Коля ушел от Оли к ней. Маша вернулась в свою старую больницу, только не в реанимацию, а в неврологическое отделение, потому что принципиально не хотела работать в одном отделении с мужем. Очень скоро она выбилась в старшие медсестры. Доказала себе и миру, что и без Олиной поддержки что-то может.
Самое интересное во всей этой истории то, что после женитьбы на Маше Коля сильно изменился — совершенно забыл про свое былое донжуанство. Как отрезало. На дежурствах в свободное время книжки читать начал, с окулистом Ириной Николаевной отношения перешли в чисто дружеские… И так далее. Видимо, что-то его в Оле не устраивало, вот он и искал свой идеал, пока не нашел его в Маше.
Коля и по сей день заведует своим отделением, а Маша работает старшей медсестрой. Оля занимает очень ответственную должность в министерстве здравоохранения. Замуж она больше не выходила, несмотря на неоднократно поступавшие предложения. Короче говоря, все у всех хорошо, чего и вам желаю.
Плотницкая бригада, или медик должен быть не только медиком, но и тактиком
У фельдшера Ульянова по прозвищу Ильич за долгие годы работы на «Скорой» невероятно гипертрофировалась природная склонность к точности и конкретике. Так, например, Ильич не мог сказать «я выпил стакан чая» или «я съел бутерброд с колбасой». Он говорил «я выпил двести «кубиков» чая» или «я съел кусок черного хлеба с семьюдесятью граммами любительской колбасы». На вопрос пациента или его родственников «скоро ли доедем до больницы?» Ильич не отвечал «как получится» или «как доедем, так и доедем», а говорил: «От двадцати до семидесяти минут в зависимости от дорожной ситуации». Если пациент или родственники спрашивали о прогнозе, Ильич не говорил «да вы еще много лет проживете!», а производил в уме какие-то вычисления и выдавал конкретные цифры. «Если пить перестанете и больше ничем не заболеете, то на пять лет вполне можете рассчитывать».
Однажды, пока бригада сдавала пациента в реанимацию, водитель отлучился из машины в туалет и был наказан за это безжалостным провидением — из салона украли спинальный щит[16]. Не спрашивайте, кому он мог понадобиться. Ясное дело — какой-то другой бригаде, которая лишилась своего щита. Это, в общем-то, распространенная практика — красть у коллег недостающий инвентарь, чаще всего — простыни и мягкие носилки. Только не у тех, с кем работаешь на одной подстанции — табу. Так что возле приемных отделений, где «Скорые» кишмя кишат, машину без присмотра лучше не оставлять. Велики шансы, что по возвращении чего-то недосчитаешься. И на замки сильно уповать не стоит, ведь открыть их нетрудно.
Одна из множества версий закона подлости гласит, что все недостающее непременно понадобится. Так и в случае со спинальным щитом произошло. Следующий вызов был к пятидесятилетнему мужчине, который упал дома с лестницы-стремянки, когда вешал новую люстру. Тверская, дореволюционный дом, потолки под четыре метра, стремянки тоже высокие… Упал на спину, ненадолго потерял сознание, когда очнулся, пожаловался на ноги: «Отнялись, шевельнуть не могу и не чувствую ничего». У жены хватило соображения оставить мужа там, куда он упал, не пытаясь переложить в кровать или на диван. При подозрении на травму позвоночника очень важно не усугубить состояние пострадавшего лишними движениями. И транспортировать таких положено исключительно на жестком щите, чтобы от прогиба спины еще сильнее не повредился бы спинной мозг.
— Ильич, найди какую-нибудь доску[17], — сказал врач, осмотрев пострадавшего.
— У вас есть рулетка или хотя бы лента сантиметровая? — спросил Ильич у жены пациента.
Получив ленту, он обстоятельно обмерил пациента.
— З-з-зачем в-в-вам д-д-доски? — пролепетала растерявшаяся жена.
— Чтобы вынести тело из квартиры, — ответил Ильич.
Ничего неправильного он не сказал, но о живых людях в немедицинской среде (да и в медицинской тоже) обычно не говорят «тело». Сложив в уме «тело» с «досками», бедная женщина настолько впечатлилась, что упала в обморок. Не забывайте, что она только что пережила или, может, даже продолжала переживать тяжелое потрясение. Не каждый же день мужья со стремянок падают и сознание теряют.
Пока врач приводил женщину в чувство, Ильич успел сбегать к ближайшей помойке и найти там подходящую ДСП-панель, которая совсем недавно была дверцей шкафа. Да, панель была немного обшарпанной и слегка грязноватой. Но не рукавом же форменной куртки ее обтирать. И тем более не носовым платком.
— Откуда у вас это? — спросила очнувшаяся женщина, увидев Ильича с панелью в руках.
— На помойке нашел, которая за углом справа, — честно ответил Ильич. — Сейчас мы положим вашего мужа на эту доску…
— Нет! — возопила женщина так громко, что Ильич от неожиданности чуть не выронил панель. — Не положите! Я вам его не отдам! Вы вообще не врачи! Вы — плотники! Мерку с живых людей снимаете! «Телом» человека называете! На грязных досках носите! Вон отсюда! Вон!!!
Напрасно доктор пытался что-то объяснять. Женщина стояла на своем — не отдам! Муж поддержал жену и наотрез отказался от госпитализации. Сказал, что они вызовут платную «Скорую». С укоризненным ударением на слове «платную». Бригаде пришлось уйти.
Доктор оказался ответственным. Едва сев в машину, он отзвонился диспетчеру подстанции, объяснил ситуацию и попросил срочно прислать по этому адресу другую бригаду. Пациент все же с подозрением на травму позвоночника, как бы чего не вышло.
К счастью, не вышло. Следующая бригада, прибывшая через пятнадцать минут, застала пострадавшего сидящим в кресле. С ногами у него было все в порядке и с позвоночником тоже. Только голова немного кружилась.
Неделей позже на имя главного врача «Скорой помощи» поступила жалоба от жены пациента. Жалоба была написана ярким, образным языком и читалась как поэма в прозе. Бригаду в ней называли «плотниками от медицины». Разумеется, врач с фельдшером огребли по выговору и на подстанции к ним прилипло прозвище Плотницкая бригада.
— Спинальные травмы — это мое проклятие, — вздыхал Ильич. — Я на самом первом своем вызове попал на спинальную травму и получил выговор. Спинальных щитов у нас тогда не было совсем, от слова «вообще». На законных основаниях, можно сказать, использовали подручные средства. На крайний случай — снимали с петель дверь и несли на ней. Так вот, ту самую первую жалобу написали на нас за то, что мы снятую дверь у подъезда оставили, а не принесли и не навесили обратно. А как мы могли это сделать, если у нас пациент тяжелый, в полной отключке? Вполне мог помереть, пока бы мы дверью занимались.
— Да ну! — удивлялись коллеги.
— Палки гну! — огрызался Ильич. — Заведующий нам так и сказал: «С медицинской точки зрения вы поступили правильно, поскольку не оставили тяжелого больного без присмотра и поторопились доставить его в стационар. Но с тактической точки зрения вы допустили ошибку, которая повлекла за собой жалобу, и в результате получаете то, что заслужили. Каждый медик должен быть не только медиком, но и тактиком».
Поэт
Доктор Корытников, прозванный на подстанции Поэтом, страдал шизофренией и запоями, но эти печальные обстоятельства не мешали ему работать на «Скорой помощи» и считаться одним из лучших врачей подстанции.
Во-первых, официально диагнозы шизофрении и алкоголизма ему выставлены не были, а с формальной точки зрения если нет диагноза, то нет и болезни.
Во-вторых, запои у Корытникова были редкими и не очень долгими. В среднем от восьми до десяти дней раз в полгода. Можно сказать, что он отгуливал на запоях свой ежегодный отпуск. В два приема.
В-третьих, работал Корытников на совесть, дело свое знал хорошо и трудовую дисциплину соблюдал неукоснительно. Ценный кадр. А что касается запоев, то кто из нас без греха?
В-четвертых, шизофрения у Корытникова была невредная, то есть неопасная для общества, в том числе и для пациентов. Клинические проявления ее были крайне скудными и выражались в том, что за сутки-двое до ухода в запой Корытников начинал изъясняться стихами. Вот полностью, абсолютно все говорил в рифму. И карты вызовов тоже заполнял поэзией. За исключением перечня проведенного лечения. Препараты рифмовать очень сложно, особенно при малом их числе. Тут бы и Пушкин с Лермонтовым не справились бы, а Корытникову до Пушкина было далеко. Очень.
В-пятых, Корытникову по некоторым причинам покровительствовала заведующая подстанцией. Получив утром стопку Корытниковской «поэзии», она передавала все свои полномочия старшему врачу, а сама запиралась с Корытниковым в своем кабинете, где он под ее диктовку писал все карты заново, сухой казенной прозой. Закончив с картами, Корытников так же под диктовку и прозой писал заявление о предоставлении ему двухнедельного отпуска. В зависимости от ситуации — очередного или за свой счет по семейным обстоятельствам. Не спрашивайте меня, какие семейные обстоятельства могут быть у холостого и не имеющего никаких родственников (так вот сложилось) человека. Надо же какую-то пристойную причину в заявлении указывать. Если написать: «Прошу предоставить мне отпуск по причине ухода в запой», то в отделе кадров такого «юмора» не поймут.
Вот как проходили «поэтические» дежурства Корытникова.
— Приветствую, друзья! — провозглашал он на входе. — Я встрече с вами рад, улыбки ваши мне дороже всех наград!
Рифмованные приветствия Корытникова всякий раз были разными, но неизменно пафосными. Коллеги понимающе переглядывались и прикидывали, как будет перекроен график дежурств на две недели отсутствия Поэта.
— Юрий Витальевич, может, вам сегодня не надо работать? — традиционно и осторожно спрашивали диспетчеры или старший фельдшер.
— Сегодня — надо! — отрезал Корытников и шел переодеваться.
До вечера он писал карты вызова обстоятельно. Но — в рифму.
Вот пример: «Жалобы на кашель и одышку. Кашляет она без передышки. Отмечает боль в груди на вдохе, и дела ее совсем уж плохи».
Далее следовало описание состояния: «Температура тридцать семь и пять. Сидит в постели, ей ни лечь, ни встать. Дыханье жесткое, слышны сухие хрипы. Зев чистый, и на коже нету сыпи. Живот хорош, и мочится нормально. Так, в целом, тяжела, но не фатально».
С вечера обычная, можно сказать, бытописательная поэзия сменялась меланхолическим нуаром. Оно и ясно — ночное время располагает.
«Ночью опять навалилась тоска, — писал Корытников. — Душит, царапает грудь изнутри. Смотришь в окно, а там холод и мрак. Значит, пора звонить по «ноль-три». Иначе — кранты».
Можете поставить диагноз по этим жалобам? Думаете — депрессия? Нет, приступ стенокардии.
Под утро записи становились короткими и малоинформативными. Но зато писались уже не в строчку, а столбиком, благо места хватало.
«Достало все больного старика.
Но жив еще.
Пока».
Фельдшерам Корытников говорил:
— Пусти по вене кубик строфантина, иначе потеряем гражданина…
(Творчество Корытникова цитируется дословно по сохранившимся записям. В такие дни многие записывали сказанное им — очень уж было чудно.)
Рифма у него лилась полноводной рекой, то есть не обрывалась.
Скажет, к примеру, фельдшеру:
— Магнезии впендюрь-ка в ягодицу…
И тут же пациентке:
— Но будет больновато вам садиться.
Пациентам нравилось, что к ним приехал такой веселый доктор. Они так и говорили:
— Ой, а я вас узнала! Вы — такой веселый доктор, вы уже у нас бывали.
Правда, в обычные, то есть «прозаические», дни Корытников был скорее угрюмым, нежели веселым. Или, если точнее — сдержанным.
В приемных отделениях он выдавал вот такие перлы:
— К вам привезли мы с астмою старушку. Куда, скажите, можно скинуть тушку?
Или:
— У пациента явно «нестабилка»[18]. Причина — сигареты и бутылка.
Те из врачей «приемников», которые не знали за Корытниковым поэтического дарования, настороженно принюхивались: уж не пьян ли. Когда убеждались, что Корытников трезвее осеннего листа, начинали улыбаться: какой шутник. Приятно же, когда кто-то разнообразит унылую рабочую рутину.
Самое сложное в работе сотрудника «Скорой помощи» это не на автоаварии одновременно троим пострадавшим помощь оказывать, а общаться с линейным контролем — проверяющими из Департамента здравоохранения или со станции. С теми, которые со станции, немного легче, потому что они условно «свои», трудятся в той же конторе. С департаментским линейным контролем очень тяжело — звери, а не люди, ни на что глаза не закроют, даже на самую ничтожную мелочь, а то еще и сами создадут повод, бывало и такое.
Для контролеров Корытников исключений не делал, да и не мог он в такие дни скатываться в прозу, мог только под диктовку ее писать. Встретит его линейный контроль в приемном отделении больницы и слышит:
— Мы привезли больную по наряду, но оказались нам не слишком рады. Со сдачей вышла длинная заминка. Дежурит нынче полная кретинка.
Одновременно Корытников показывал контролерам карту вызова и циферблат своих наручных часов — смотрите сами, когда мы сюда приехали и когда уезжаем.
Если контролеры выражали желание осмотреть машину, то Корытников говорил:
— Имущество у нас всегда в порядке. Баллоны в состоянии зарядки. В салоне чисто, сами мы трезвы, бодры и удивительно резвы!
Линейные контролеры не только принюхивались, но и пытливо вглядывались Корытникову в глаза, оценивая состояние зрачков, а также обращали внимание еще на кое-какие признаки употребления одурманивающих веществ. Ничего «криминального», разумеется, не находили. Состояние машины и укомплектованность имуществом проверяли дотошно и тоже ничего не находили. У Корытникова всегда было все в порядке — на своем месте и в рабочем состоянии. К работе он относился очень ответственно.
«Чудик» думали контролеры. Чудик — это ненаказуемо, и в должностных инструкциях ничего не сказано о том, что врач «Скорой помощи» непременно должен изъясняться прозой. Там сказано, что нельзя пациентов со стенокардией в приемное отделение из машины пешком вести, что нельзя во время дежурства по своим делам разъезжать, что нельзя хамить на вызовах и т. д. Но ничего запретного Корытников не делал. Не такой он был человек.
Утром, «сдавшись», то есть передав машину со всем имуществом следующей смене, Корытников во всю свою луженую глотку пел гимн:
— Я сдался! Я счастлив! Дежурство позади! Радость впереди! Тоска — уходи!
— Юрий Витальевич, зайдите ко мне, — приглашала заведующая подстанцией.
За закрытой дверью, тет-а-тет, они были на ты и по именам. Уж очень многое их связывало — полтора десятка лет совместной работы и два года совместной жизни. По причине этих самых двух лет заведующая Корытникову и покровительствовала, потому что чувствовала себя перед ним виноватой. Без вины, но виноватой. Так не только в пьесах бывает, но и в жизни.
Они встретились на подстанции, куда пришли в один и тот же день. Новички всегда тянутся друг к другу, а у них еще и было много общего — любовь к авторской песне (он сочинял, но пел так себе, а она пела чужое, зато замечательно), любовь к туристическим походам, разряд по плаванию. К этому набору очень скоро добавилась любовь друг к другу. Они стали жить вместе. Он переехал к ней. Так было удобнее, поскольку она жила буквально напротив подстанции, а он — в Подольске. Электричка, метро, автобус… На дежурство так ехать еще ничего, а после, уставшему да не выспавшемуся — настоящая мука. Он часто засыпал в электричке так крепко, что уезжал в Серпухов или близко к нему. Будили его обычно железнодорожные контролеры, но после объяснения ситуации и демонстрации скоропомощного удостоверения отпускали с миром. Тоже ведь не звери, входили в положение.
Регистрировать брак не спешили, решили сначала как следует проверить чувства.
И все у них было бы хорошо, если бы они догадались разойтись по разным подстанциям. Небольшие суточные разлуки только укрепляют любовь, еще сильнее разжигают пламя страсти. А так им ставили дежурства в одну смену (шли навстречу), и они постоянно, то есть за исключением времени, проведенного на вызовах, были вместе.
Если кто не понял, почему им ставили дежурства в одну смену, то это на «Скорой» так принято. Иначе когда супруги при стандартном полутораставочном графике «сутки через двое» будут видеться. Сегодня он дежурит, завтра он отсыпается, послезавтра она дежурит… Как вариант может быть — сегодня он дежурит, завтра она дежурит, послезавтра она отсыпается… Но, как говорится, хрен редьки не слаще. Как ни поверни, все равно плохо. А если бы они дежурили в одни и те же дни, но на разных подстанциях, то все могло бы у них сложиться. Приходили бы домой соскучившиеся друг по другу, обменивались бы впечатлениями о прошедшем дежурстве и подстанционными сплетнями, сравнивали бы, чья подстанция лучше… И так далее. А так вернутся вместе домой с дежурства — и поговорить не о чем. Обо всем уже на подстанции переговорено.
Она заскучала. Он старался развеять ее скуку, но действовал неверно. Ему бы отойти в сторонку и дать ей возможность понять-осознать, что с ним лучше, чем без него, а он, напротив, ни на шаг от нее не отходил. Даже если друзья звали пивка попить, то отказывался. Держал за руку, преданно заглядывал в глаза, ну и надоел вконец.
— Ты очень хороший, — сказала она в один ужасный день, — но нам надо расстаться.
Долго решалась, потому что очень трудно, почти невозможно сказать такое человеку, который тебя любит, на руках носит, все твои желания предвосхищает и жить без тебя не может. Ей было стыдно, что она вот такая бессердечная дрянь, но приперло, и она сказала.
— Если ты этого хочешь, то что я могу сделать, — сказал он и в тот же день переехал в Подольск с чемоданом личных вещей.
Она попыталась было заикнуться о дележе того, что они два года вместе наживали, но он так удивленно на нее посмотрел, что она заткнулась на полуслове.
С подстанции ушла она. Успела первой. Ей было неловко и не хотелось, чтобы он вдобавок ко всему еще и оказался в кругу чужих людей. Но вышло так, что перевестись ей предложили на другой конец Москвы (вот ближе мест не оказалось — надо же!), да вдобавок на ужасную подстанцию, которую прозвали «разгильдяйской». Там был слабый заведующий — ни рыба ни мясо — и сильно пьющий старший врач. Какая будет дисциплина при таком руководстве? Ясное дело — нулевая.
Хороший, то есть толковый и добросовестный сотрудник на фоне разгильдяев выглядит бриллиантом в навозной куче. Через два года работы она стала старшим врачом, еще через два — заведующей. И это притом, что карьеру она делать не стремилась нисколько, короче говоря не набивалась в начальники. Ей предлагали, а она не могла отказаться, потому что предложения делались в стиле: «Если не вы, то кто же?»
Он после расставания бросил сочинять песни и петь их. В походы ходить тоже перестал. Зато пристрастился к бутылке.
До поэзии и запоев дело дошло нескоро. Она к тому времени перевелась обратно на свою первую подстанцию, теперь уже в качестве заведующей. Ей надоело мотаться через всю Москву пять-шесть раз в неделю плюс внеочередные ночные приезды при каких-нибудь ЧП. А тут на бывшей подстанции место заведующей освободилось. Она и попросилась. Ей не отказали, администрация приветствует, когда заведующие живут недалеко от своих подстанций. Это укрепляет дисциплину. Близко живущий заведующий обычно приходит на работу раньше, уходит позже, да и вечерком может заглянуть проведать. Создается очень полезный эффект вечного присутствия начальства. А уж если заведующая живет через дорогу наискосок и из своего окна видит подстанционный двор, так это просто замечательно!
Она любила смотреть в окно вечерами, а часто и ночью, в те дни, когда дежурил он. Радовалась, если его машина долго стояла на подстанции — хоть отдохнет немного, бедняга. Переживала, если он работал без заезда на подстанцию. Давно уже поняла, что была неправа и вообще дура, но разбитый вдребезги горшок не склеишь, а если и ухитришься склеить, то он станет протекать. Попыталась было, уже по возвращении на заведование, сделать шажок навстречу — пригласила его в гости, посидеть-повспоминать, но он сказал:
— Извините, Ольга Георгиевна, но я предпочитаю не вспоминать. Мне это очень больно, да и вам, наверное, тоже.
Разумеется, при таком вот «анамнезе» она бы покрывала его даже в том случае, если бы он был хам, дурак и вымогатель, потому что еще раз сделать ему что-то плохое она не могла. А тут речь шла всего-навсего о том, чтобы надиктовать правильно карточки да оформить отпуск. Шизофреником она его не считала. Считала, что это его поэтический дар после нервного потрясения, вызванного расставанием, принял такую вот странную форму. Раньше он мог во время совместной прогулки, буквально — на ходу, сочинять романтические песни, которые она замечательно пела у костра под гитару, а теперь карты вызовов рифмует. Ну, вышло так, что ж теперь поделаешь?
Серьезных отношений у обоих больше не было. Он вообще был однолюб, а она всех кандидатов сравнивала с ним, и всегда это сравнение было в его пользу. Даже в моменты его пребывания в запое…
Уволили Корытникова по статье после страшного скандала, устроенного им в приемном отделении Склифа. Заведующая подстанцией умоляла главного врача «Скорой» спустить дело на тормозах и дать Корытникову возможность уйти по собственному желанию (кто ж его на нормальную работу со статьей возьмет?), но тот отказал. Точнее, сказал, что пошел бы ей навстречу, поскольку она никогда ни о чем его не просила, но не может, потому что это не в его власти — за ходом дела внимательно следит Департамент здравоохранения.
У Корытникова был очередной «поэтическое» дежурство. Начало дежурства выдалось эмоциональным. Первый вызов был к пенсионерке, которую родственники хотели госпитализировать при полном отсутствии показаний. Для того, чтобы спокойно съездить на море. Сиделки нынче дороги, а в больнице можно лежать бесплатно, поэтому рачительные люди выбирают больницу.
Осмотрев пациентку и выслушав многословный и лживый рассказ родственников о якобы тяжелом ее состоянии, Корытников сказал:
— Зачем мы говорим так много тут? Ее без показаний не возьмут!
Родственники начали кричать и оскорблять. Корытников покинул квартиру, не вступая в пререкания (он вообще предпочитал в них не вступать), но немного «подзавелся».
Следующий вызов был на станцию метро к мужчине с инфарктом. Пока бригада оказывала пациенту помощь, столпившиеся вокруг зеваки комментировали происходящее, причем в критическом ключе, и давали разнообразные глупые советы. Это тоже добавило «завода».
В седьмом часу вечера Корытников привез в Склиф «суицидницу» — женщину, попытавшуюся отравиться снотворными таблетками. После того как сдал ее, решил сходить в туалет. Очень уж сильно надо было, как по маленькому, так и по большому. Просто невтерпеж. Бригада, кстати говоря, как с утра уехала, так больше на подстанцию не возвращалась.
Попросив фельдшера отзвониться и получить новый вызов, Корытников поспешил в туалет. Пробыл он там не более пяти минут (работа на «Скорой» приучает все делать быстро), но этого времени хватило для того, чтобы машина была взята «на карандаш» линейным контролером Департамента здравоохранения.
— Отстаиваетесь?! — радостно спросил контролер. — Вызов получили и стоите…
— Да кто же в здравом уме возле Склифа отстаиваться станет? — резонно возразил фельдшер. — Доктор в туалет пошел, сейчас придет. Мы с утра без «заезда»[19] работаем, даже обеда не брали, скачем с вызова на вызов, некогда в туалет было сходить.
— Вы мне зубы своими туалетами не заговаривайте! — взъярился контролер. — Я ничего знать не хочу, я верю только своим глазам. Факт «отстоя» налицо! Внаглую! Возле Склифа!
Формально линейный контролер был прав. Освободился, получил вызов — поезжай без промедления. Но по сути он был неправ. Если люди с утра работают без передыху, не получив получасового обеденного перерыва, то рано или поздно им придется наведаться в туалет в «несанкционированное» время. Уж врачу-то (а линейными контролерами работают врачи) надо понимать, что у организма есть определенные физиологические потребности, удовлетворение которых нельзя откладывать до бесконечности.
Все это контролеру рифмой попытался объяснить вернувшийся из туалета Корытников. Дословно сказанное им не было сохранено для истории, поскольку из памяти водителя и фельдшера оно было вытеснено последующими, гораздо более яркими фразами.
— Не пререкайтесь! — талдычил контролер. — Вы виноваты! Езжайте на вызов! Не усугубляйте!
И тут Корытников усугубил. От цензурной речи перешел к нецензурной и в рифму обложил контролера семиэтажным матом. Громогласно. При свидетелях. На виду у охраны Склифа, санитарки приемного покоя и нескольких бригад «Скорой помощи». Вот эти слова водитель с фельдшером запомнили прекрасно, но привести их здесь нет никакой возможности, поскольку выйдет сплошное многоточие. Закончив свою экспрессивную речь, Корытников плюнул под ноги (плевок попал на носок контролерской туфли), сел в машину и был таков.
Никто и никогда еще за всю историю московской «Скорой помощи», а возможно, и за всю историю московского здравоохранения в целом не позволял себе ничего подобного по отношению к линейному контролю.
Департамент метал громы и молнии, которые могли снести к бебеням всю верхушку скоропомощной администрации, и требовал крови, то есть немедленного и «статейного» увольнения Корытникова. Но к тому времени, как грянул первый громовой раскат, Корытников уже был в отпуске, официально санкционированном заведующей.
По выходе из отпуска он явился на ковер к главному кадровику Сестричкину, спокойно выслушал всю «правду» о себе и написал объяснительную, состоявшую из одной-единственной фразы: «Если бы я нас. л в машине, то он бы ко мне тоже придрался». Сестричкин вслух пожалел о том, что в наше время за рабочие проступки не принято расстреливать.
— Всех не перестреляете, — мягко ответил Корытников и вышел в коридор ждать, пока ему отдадут трудовую книжку. Со статьей. Сестричкин лично проверил, чтобы ее туда вписали. А то бывали случаи, когда в приказе стояло «уволить за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей», а доброхоты-кадровики за деньги писали в трудовой «уволен по собственному желанию», надеясь на то, что в общей массе трудовых книжек, подписываемых начальством, это может проскочить. И ведь проскакивало.
Положение у Корытникова было на первый взгляд аховое. То есть безвыходное. Нигде, кроме «Скорой», он работать не мог, а на московскую «Скорую» путь ему был отныне заказан. Да и на все подмосковные станции тоже, поскольку оттуда непременно позвонили бы Сестричкину, чтобы навести справки о докторе-«статейнике». Ну и, разумеется, не взяли бы на работу человека, публично обматерившего линейного контролера Департамента здравоохранения.
Оставалось одно — засунуть диплом и опыт куда подальше и идти в охранники. Все, кому некуда податься, идут в охранники, это такая пристань разбитых судеб в масштабе всей страны.
Но Корытников поступил иначе. Он устроился на работу в один областной центр недалеко от Москвы. На тамошней «Скорой» с кадрами дело обстояло не просто плохо, а катастрофически ужасно. Подавляющее большинство сотрудников ездило на работу в Москву, где зарплаты были не в пример лучше. На собеседовании Корытников честно рассказал о причине своего увольнения и о своем запойном графике.
Но, несмотря на это, его приняли на работу. Во-первых, при полном кадровом «безрыбье» начальство бывает очень покладистым. А во-вторых, честность всегда производит хорошее впечатление.
Из-за великой нехватки сотрудников Корытников работает на две с лишним ставки. И не говорите, что так не бывает, потому что не разрешается трудовым законодательством. Еще как бывает, когда деваться некуда. Есть определенные возможности, о которых здесь рассказывать нет смысла. Корытников дежурит сутки, затем отсыпается прямо на подстанции, на следующий день выходит на полусутки — с восьми до двадцати двух или с девяти до двадцати трех, — затем спит на подстанции и на следующий день выходит на сутки. Его закаленный в турпоходах организм спокойно выдерживает подобные нагрузки. Домой в Подольск он наведывается изредка, для того, чтобы убедиться, что его квартира цела и в ней все в порядке. Только при запоях уезжает домой на две недели.
«Поэтические» дни продолжают иметь место, но на новой работе Корытникова зовут не Поэтом, а Москвичом. Видимо, поэтов там и своих хватает, а сотрудник-москвич — один на всю «Скорую помощь» в области.
Покладистый человек
Патологоанатом Любарский был сговорчивым человеком. Не добрым, не уступчивым, а сговорчивым. То есть при желании с ним можно было договориться. Но желание должно было быть взаимным. То есть для того, чтобы Любарский пошел на уступки, его надо было чем-то заинтересовать.
Любарский был не простым патологоанатомом, а заведующим отделением. В крупной московской больнице. Неправы те, кто считает, что патологоанатомы занимают в больничной иерархии одно из последних мест, потому что они имеют дело не с живыми, а с мертвыми. А также неправы те, кто считает, что патологанатомы не имеют побочных заработков, потому что платить за вскрытия у населения как-то не принято. Все зависит от того, как себя поставить. Поставишь правильно — и уважение тебе будет, и доход.
Вся больница знала, что пытаться давить на Сан Саныча (так звали Любарского) через главного врача или начмеда — бесполезно. Сан Саныч иронически усмехнется в бороду и скажет:
— Ну как я вам могу «подогнать» посмертный диагноз? Подгоняют машины, а диагнозы выставляют на основе определенных данных. Я, знаете ли, доктор, а не шаман.
Бить на жалость тоже было бесполезно. Сан Саныч выслушает, предложит чайку для успокоения, а затем иронически усмехнется в бороду и… Ну, вы поняли.
Но если сразу же деньги на бочку, то есть на рабочий стол или прямиком в карман, то даже объяснять ничего не нужно. Сан Саныч усмехнется в бороду, на этот раз не иронически, а понимающе, и скажет:
— Совпадение обеспечу. Я же не крокодил какой-нибудь, все понимаю.
Под «совпадением» подразумевалось совпадение прижизненного и посмертного диагноза. Если диагнозы совпадают полностью, то это врачам, лечившим покойника, плюс — правильно поставили диагноз и назначили правильное лечение. Если совпадение не совсем полное, то ай-яй-яй, надо было внимательнее работать. А если уж вместо совпадения — расхождение, то есть лечили от одной болезни, а умер пациент совсем от другой, то это — бо-о-ольшой минус. Выговоры, жалобы, иной раз — снятие с должности, а возможно, и заведение уголовного дела. Ну и каждое расхождение ложится несмываемым пятном на репутацию врача. Короче говоря, ничего хорошего в этих расхождениях нет. Покойнику все уже до лампочки, а врачам и родственникам — сплошное расстройство. Врачам гораздо приятнее сознавать, что они лечили умершего пациента правильно, и родственникам тоже гораздо приятнее это сознавать.
Патологоанатом — человек, и ничто человеческое ему не чуждо.
Например, он может правильно интерпретировать результаты. В медицинские дебри вдаваться нет необходимости, поскольку возможности интерпретации можно продемонстрировать и на «бытовом» примере. Вот про пьяного человека можно сказать и что он пьян в стельку, и что он немного навеселе. И каждое из этих весьма разнящихся утверждений будет иметь нечто общее с реальностью. На глазок степень алкогольного опьянения точно не определишь. Примерно то же происходит и при оценке результатов вскрытия. Можно и так повернуть, и этак.
Даже если есть пробирка с кровью для проведения теста на алкоголь, то есть орган с характерными и ярко выраженными изменениями, которые никакой интерпретации не поддаются, то не спешите отчаиваться. Можно же взять другую пробирку, с кровью от другого пациента, который пил только воду, и добросовестно ее исследовать. Короче говоря, на органах человека нет печатей или меток, подтверждающих их принадлежность определенному лицу. Ради подгонки диагноза можно взять для исследования кусочек органа от другого покойника, он не обидится. И никто не увидит, потому что в морге все делается за плотно закрытыми дверями, келейно.
Ставки у Любарского были довольно высокими, некоторые даже называли их «грабительскими», но деваться было некуда. В рамках одной отдельно взятой больницы у Любарского, была монополия на выставление посмертных диагнозов. Врачей в свое отделение он набирал не по уму и опыту, а по отсутствию этих качеств. Работали у него два молодых парня, недавно окончившие ординатуру, да сорокалетняя дама, которая панически боялась покойников и потому занималась только лишь гистологическим исследованием[20] материала. Вы можете представить патологоанатома, который боится покойников? А Любарский в этом ничего особенного и тем более неправильного не находил. Чем меньше народу в секционный зал суется, тем лучше.
Ассистировал ему на вскрытиях всегда один и тот же доверенный лаборант, свой в доску, верный-надежный. Короче говоря, дело было поставлено так, как было нужно Любарскому, и без него вся работа в патологоанатомическом отделении начинала буксовать. Поэтому он никогда не отгуливал свой отпуск «в один присест». Брал две недели в июле, в самое спокойное время, неделю в ноябре и неделю в марте.
Случилось так, что приход в больницу нового заведующего кардиологическим «инфарктным» отделением совпал с началом развода Любарского. За полтора десятка лет совместной жизни Любарский с женой надоели друг другу настолько, что даже наличие общего ребенка не могло спасти их брак. После подачи заявления в суд жену Любарского будто подменили. Из обычной ворчливой вредины она превратилась в свирепую фурию. Закатывала чуть ли не каждый день дичайшие по своей фееричности скандалы (хотя, казалось бы, что толку скандалить, если уж решили разводиться?), а еще завела привычку в отсутствие мужа шарить в его вещах в поисках якобы заныканных от нее денег. Ей казалось, что муж скрывает от нее и от одиннадцатилетней дочери львиную долю своих доходов.
Любарский действительно не все отдавал жене. Откладывал понемногу в кубышку, поскольку лодка его семейной жизни начала протекать довольно давно и надо было задумываться о собственном холостяцком будущем. Кубышкой Любарскому служил не банковский счет, а банковская ячейка. Так казалось умно вдвойне, хоть и проценты не капали. Во-первых, никто не спросит: «А откуда у вас, гражданин Любарский, взялись сбережения в таком крупном размере?» В последнее время несколько человек из круга знакомых Любарского, в том числе и бывшая заведующая больничной аптекой, получили крупные неприятности в виде судимости и всего, что с ней связано, поскольку не смогли дать ясного ответа на такой простой вопрос. Во-вторых, на деньги, лежащие на счете, могла наложить руку жена. Ну, пускай не на все, а на большую часть — точно, для себя и для дочери. Анонимного счета в банке в России не откроешь, можно только полуанонимный, оформленный на кого-то «левого», человека или фирму, но это дорого, хлопотно, да и связи нужны. А у Любарского, помимо медицины, связи были только в похоронном бизнесе. Оттуда, к слову будет сказано, и большая часть сбережений «накапала». Оказание ритуальных услуг — дело прибыльное, конкуренция в нем невероятная, и тот, кто снабжает клиентурой, получает щедрые комиссионные. Ну и еще есть нюансы. Впрочем, это неважно. Важно то, что Любарский хранил свою заначку в банковской ячейке и до поры до времени, то есть до подачи на развод, был за нее спокоен.
А после подачи решил проконсультироваться по поводу своих перспектив с бывшим одноклассником, который стал адвокатом по гражданским делам (в том числе и по бракоразводным) и весьма преуспел на этом поприще.
— Наивный ты человек, Саня, — огорошил бывший одноклассник. — Ты договор об аренде ячейки на свое имя заключал? То-то же. У частных детективов есть такая услуга, как поиск ячеек. Найдут, вскроют по постановлению суда и поделят твое бабло, как полагается по закону!
— Ой ли?! — усомнился Любарский.
Адвокат рассказал ему несколько поучительных историй из практики.
Промаявшись с неделю, Любарский приехал на работу в воскресенье, вроде бы для того, чтобы очередной отчет в спокойной обстановке написать, а на самом деле для того, чтобы устроить в своем кабинете тайник под подоконником. Идею и чертеж нашел в интернете. Тайник получился на славу, кто не знает, сроду не догадается, да еще и с потайной защелкой. Постоянные операции, а вскрытия по сути та же хирургия, хорошо развивают умение работать руками. Переложив свою заначку из ячейки в тайник под подоконником, Любарский вздохнул спокойно.
Но спокойствие длилось недолго. Очень скоро у него случился конфликт с новым заведующим «инфарктным» отделением. Тот был молодым, амбициозным и скупым. Пришел договариваться о совпадении диагнозов с пустыми руками. Даже бутылку коньяка пожадничал прихватить с собой, жлобяра этакий.
Разумеется, Любарский иронично усмехнулся в бороду и сказал то, что говорил в таких случаях.
Заведующий кардиологией не понял или не захотел понимать. Завел речь об общих интересах, о репутации больницы, а в конце ляпнул:
— Да что вы выкобениваетесь, Александр Александрович? Зачем корчите из себя принципиального человека? Вся больница знает цену вашей принципиальности. И я тоже ее знаю! Просветили добрые люди.
— Тогда в чем же дело? — спросил Любарский, малость опешивший от подобного обращения.
С таким напором с ним даже главный врач не разговаривал. Тот вообще был мягким человеком и предпочитал не давить, а просить. Наверное, потому, и сидел одиннадцатый год в своем кресле. По нашему времени, это ой как долго.
— Вот вам! — с этими словами оппонент показал Любарскому кукиш и ушел, громко хлопнув дверью.
«Натуральный хам, — подумал Любарский. — А с виду вроде бы интеллигентный человек».
Хамство требовало адекватного ответа. Надо было показать наглецу, что с Любарским связываться себе дороже. В ходе вскрытия пациента, по поводу которого приходил договариваться завинфарктом (так в больнице сокращали название должности наглеца), Любарский намеренно не заметил очевидного, но «заметил» то, чего на самом деле не было, и выдал полное расхождение прижизненного и посмертного диагнозов вместо некоторого относительного несовпадения. Причем так искусно свел концы с концами и зачистил «следы», что доказать иное стало невозможно. Заодно и пустил по больнице мнение — вот ведь нашли дурака на заведование, пневмонию лечит как инфаркт!
Любарский нарочно запутал график вскрытий, чтобы вскрыть «инфарктного» покойника в одиночку, то есть при помощи своего верного лаборанта, но без присутствия завинфарктом и лечащего врача. Когда те явились, Любарский уже дописывал протокол. «Извините, ошибочка вышла, лаборант неверно вас проинформировал». Лаборант развел руками — каюсь, простите, повинную голову меч не сечет.
Завинфарктом выдержал удар стойко и достойно. Не выставил себя на посмешище, доказывая, что на самом деле все было не совсем так, а точнее, совсем не так (не смог бы он этого доказать), а признал ошибку и обещал подтянуться сам и подтянуть остальных. Родственники умершего жаловаться не стали, дело для кардиологов, можно сказать, закончилось «легким испугом». Но несколькими днями позже разведка в лице одной из медсестер «инфарктного» отделения донесла Любарскому, что заведующий поклялся посадить его. Не в лужу, как можно было подумать, а за решетку.
— Кишка у него тонка! — иронически усмехнулся в бороду Любарский, которому никто и никогда не угрожал «посадкой».
— Не скажите! — нахмурилась медсестра. — У него брат родной в ГУВД работает, в следственном управлении. Вы того, смотрите в оба. Мало ли что.
Люди, в течение долгого времени чувствовавшие себя в безопасности, привыкают к этому приятно-расслабляющему состоянию и, в отличие от тех, кто живет с опаской, не вырабатывают иммунитета к опасности. Поэтому перед лицом опасности они оказываются совершенно беспомощными, не знают, как ей противостоять, и оттого делают разные глупости. Дилетанты, ну что с них возьмешь?
Любарский навел справки в интернете. Действительно, один из сотрудников следственного управления ГУВД, имя которого несколько раз упоминалось журналистами, был однофамильцем завинфарктом. Разведка доложила верно. Сам завинфарктом при встречах глядел на Любарского с такой откровенной ненавистью, что у того по спине пробегали мурашки. Чувствовалось, что история с расхождением диагнозов будет иметь продолжение. Еще бы! Первый удар по репутации после назначения на заведование, да и на любую должность — самый болезненный. Да еще и такой коварный, если не сказать — подлый, удар.
Из уверенного в себе и оттого немного нагловатого человека Любарский всего за какую-то неделю переживаний превратился в беспокойного субъекта, шарахающегося от собственной тени. Положение его усугублялось тем, что в кабинете, под подоконником, хранилась крупная сумма денег в долларах и евро. (Предусмотрительный Любарский, дабы не очень сильно страдать при резких изменениях курса, делил свои сбережения поровну между двумя валютами.) И храниться там ей предстояло еще долго.
Из осторожности (береженого, как известно, и бог бережет) Любарский решил на время «притормозить». Комиссионные от похоронных контор он продолжал получать, ибо то была отдельная сфера, но с сотрудниками больницы резко оборвал все неформальные отношения. Кто их знает, дорогих коллег, никому же доверять нельзя. Вдруг завинфарктом договорится с кем-то из других заведующих… Возьмешь деньги, а следом в кабинет вломятся оперативники. И все…
Заведующий неврологическим реанимационным отделением сильно удивился, когда Любарский попросил его забрать выложенный на стол конверт.
— Может, нужно добавить? — уточнил он.
Случай был серьезным. Две дежурные смены, субботняя и воскресная, лечили доставленную по «Скорой» больную от острого нарушения мозгового кровообращения и пневмонии. Вроде бы и врачи в обеих сменах были не самые бестолковые, с опытом, да вот же — дали маху. Не обратили внимания на живот и мочевой пузырь, а у пациентки был гнойный цистит, осложнившийся перитонитом, отеком легких и отеком головного мозга. Врачи реанимации сдуру пошли на поводу у врача «Скорой помощи», который поставил диагноз инсульта и пневмонии. Даже хирурга на консультацию за двое суток никто не догадался пригласить. Да что там хирурга — живот толком никто не удосужился пропальпировать. «Вроде бы мягкий…» Ага — мягкий! Не очень-то и мягкий, да и понимать надо, что в восемьдесят лет клиника воспалительных заболеваний бывает стертой, а пациентка вдобавок еще и на преднизолоне сидела из-за своего артрита… Короче говоря, во время понедельничного обхода заведующий отделением схватился за голову, обложил отдежурившую смену многоступенчатым матом и попытался срочно все исправить, да только пациентка ждать не стала, умерла через полчаса после осмотра. Само по себе крайне неприятное дело — расхождение третьей категории[21], осложнялось еще и наличием у умершей пациентки сына-журналиста. Главный врач, едва услышав слово «журналист», отказался разговаривать с Любарским лично. Сказал: «Вы уж сами, сами…» «Не хочешь мараться, ясное дело, — подумал заведующий неврологической реанимацией. — Если что, то ты в стороне, а меня спокойно принесешь в жертву».
— Что — добавить? — вытаращился Любарский. — Вы, вообще, зачем пришли, Вениамин Яковлевич? Узнать, когда будет вскрытие Тимошкиной? Завтра в десять.
— Но там же явное расхождение, — скривился Вениамин Яковлевич. — Надо бы «сгладить».
— Посмертно ничего не «сглаживается»! — отрезал Любарский так резко, будто бы никогда не принимал от заведующего неврологической реанимацией конвертов с деньгами. — Пока жива была, надо было «сглаживать»!
Вениамин Яковлевич ушел от Любарского в недоумении.
По больнице прошел слух о том, что Любарский на чем-то обжегся и стал несговорчивым. Коллеги начали его сторониться. «Обжегшиеся», они же ведь как прокаженные, на всякий случай нужно держаться от них подальше.
Любарский воспринял возникшее отчуждение как признак вселенского, то есть всебольничного, заговора против него. Душевного спокойствия это ему не добавило, скорее наоборот. Да еще и постоянные домашние скандалы расшатывали психику. Жена требовала, чтобы он немедленно купил себе квартиру и свалил от них с дочерью. «Так я тебя и послушал! — думал Любарский. — Тебе только обнаружь какие-нибудь средства, так ты на них сразу же лапу наложишь». Вариант переезда на съемную квартиру Любарский не рассматривал. Это было бы началом капитуляции. Нет уж, родная, если развод, то и размен тоже. Большая трешка на «Алексеевской» прекрасно разменивалась на две однокомнатные квартиры. Так было справедливо, поскольку изначально эта квартира принадлежала Любарскому. Жена прописалась сюда после того, как вышла за него замуж.
Видимо, имелись у Любарского и какие-то предпосылки, не проявлявшиеся до поры до времени. Определенно, имелись, поскольку без предпосылок бред преследования, который в быту ошибочно называется «манией»[22], не развивается. Любарский перестал доверять даже своему верному и надежному лаборанту… Всякий раз, входя в свой кабинет, он закрывал жалюзи и проверял сохранность своей кубышки. Всякий раз! Даже если в туалет на минуточку выходил. Мало ли что… Очень тянуло пересчитывать купюры, но Любарский пока крепился — не хотелось нарушать герметичную упаковку из трех слоев толстого полиэтилена (сам лично запаивал утюгом). Упаковка должна была сберечь деньги в случае прорыва отопительной системы — батарея располагалась под подоконником, прямо возле тайника. Но все шло к тому, чтобы нарушать и пересчитывать, уж больно сильно тянуло. Любарский уже подумывал о том, что надо бы держать в кабинете рулончик полиэтилена и утюг. Однако до пересчета купюр дело так и не дошло. Любарский лишился своей кубышки, точнее, лишил себя сам, своими руками. Ну и злой рок тоже поучаствовал, не без этого…
Большой черный джип с затененными окнами стоял около входа в одноэтажный патологоанатомический корпус с самого утра. Из него никто не выходил и не выглядывал, но Любарский знал, что там внутри сидят люди, которые ведут за ним наблюдение. А еще он почувствовал, что именно сегодня эти люди намерены перейти от долгого наблюдения к решительным действиям. Дождутся удобного момента — и устроят обыск в кабинете. В том, что они найдут тайник с деньгами, Любарский не сомневался. Такие всегда все находят.
Знание, пришедшее к Любарскому из ниоткуда, было надежным. Как и все бредовые идеи. Любарский знал, что с обыском к нему нагрянут сегодня, а еще он знал, что если при обыске денег не найдут, то повторных обысков устраивать не станут. Точно знал, железно. Он сидел за столом в кабинете, стараясь казаться спокойным, чтобы те, кто за ним наблюдает, не догадались о том, что он раскусил их планы. Любарский чертил на бумаге квадратики, притворяясь, будто что-то пишет, а сам напряженно думал о том, куда можно перепрятать кубышку таким образом, чтобы оперативники ее не нашли. Выносить деньги из корпуса было нельзя — тут же схватят, да еще и обрадуются, что сам вынес, искать не надо. Требовалось спрятать деньги где-то внутри, в более надежном месте, чем тайник под подоконником. Но на деле тайник и был самым надежным местом!
Перепрятать нечто из самого надежного места в еще более надежное, которого не существует, — как вам такая задача? Любой из выдающихся мыслителей сошел бы с ума, пытаясь ее решить, но Любарский находился в более выигрышном положении. Ему уже некуда было сходить, он и так уже был сумасшедшим.
«Где бы тут внутри спрятать деньги? Где бы тут внутри спрятать деньги? — вертелось в голове Любарского и вдруг осенило: — Внутри! Конечно же, внутри!!! Внутри, мать его за ногу!!!»
От возбуждения Любарский подпрыгнул на стуле и выронил ручку. Испуганно оглянулся на окно — не заметили ли? — и притворился будто просто решил сделать перерыв и как следует потянуться. Потягивался так, что кости хрустели, а в голове ангельские голоса пели: «Внутри! Внутри! Внутри!»
И как он раньше не догадался?
Деньги надо спрятать внутри трупа! Внутри того, кого уже вскрывали и куда никто больше не полезет! Уж какими бы ушлыми и опытными ни были те, кто станет делать обыск, копаться в животах у покойников им и в голову не придет!
На ловца, как известно, и зверь бежит. В морге имелся как раз такой труп, какой был нужен Любарскому. Девяностолетнюю старуху, тихо угасшую в терапевтическом отделении при полном совпадении прижизненного и посмертного диагнозов, родственники хотели похоронить на родовом кладбище, которое находилось в одной из сопредельных стран. Транспортировка покойницы откладывалась до оформления всех необходимых бумаг, а оформление — дело небыстрое, поэтому старший сын ее попросил Любарского подержать тело в морге до вторника, а то и до среды.
— Раншэ ныкак нэ успээм! — говорил он, стуча себя в грудь огромным волосатым кулаком. — Ныкак!
Просьба была подкреплена тремя «открытками» с портретом президента Франклина (Любарский любил называть купюры «открытками»). Случай был абсолютно не стремным — ну кто же станет устраивать такую сложную провокацию? — поэтому Любарский деньги взял и заверил сына, что он может не волноваться за сохранность тела матери, сохраним в лучшем виде.
Делать «закладку» Любарский решил прямо в холодильнике, чтобы не привлекать внимания сотрудников. Транспортировка из холодильника в секционный зал и обратно трупа, который в услугах патологоанатома уже не нуждается, неизбежно вызовет удивление. Кто-то может догадаться или же «стукнуть». Любарский точно знал, что у него в отделении есть «стукач», но только все никак не мог определить, кто он. Знал оттуда же, откуда знал про все остальное: про наблюдение, про оперативников, про предстоящий обыск.
Озадачив всех сотрудников поручениями с таким расчетом, чтобы никто из них в течение получаса не мог явиться в кабинет заведующего или в холодильник, Любарский переместил деньги из одного тайника в другой. В кабинетный тайник поместил початую бутылку коньяка, которую обычно хранил в тумбе письменного стола. Пустой тайник всегда вызывает подозрение, а так все ясно — заведующий прячет от санитарки-уборщицы бутылку, чтобы по больнице не поползли бы слухи о его алкоголизме. Логично и убедительно.
Черный джип простоял до вечера, а в шестом часу уехал.
«Перехитрить хотят, — догадался Любарский. — Создают впечатление, что опасность миновала. Надеются застать меня врасплох. А вот вам шиш! Не на такого напали».
Из корпуса он выходил в радостно-приподнятом настроении, предвкушая, как его сейчас схватят, обыщут и ничего не найдут. Шел по больничной территории до своей «Тойоты» медленным шагом — вот он я, хватайте, обыскивайте! Но враги оказались хитрее. Они решили наведаться с обыском в отсутствие Любарского, а затем устроить засаду. Любарский переключился с одного на другое и стал представлять, как в понедельник он обнаружит в отделении следы тотального и бесполезного обыска и выслушает рассказ дежурного санитара. Засады, разумеется, никакой не будет. Зачем нужна засада, если ничего «криминального» не нашли?
Выходные Любарский провел на удивление спокойно. Давно так хорошо не отдыхал. Даже жена не скандалила — видимо, надоело.
В понедельник, явившись на работу, он благоразумно переборол желание сразу же пройти в холодильник к своему новому «тайнику» и свернул в другую сторону, к кабинету. Решил, что наведается в холодильник после утренней пятиминутки. Да, в патологоанатомических отделениях тоже бывают по утрам пятиминутки. Должны же дежурные санитары отчитываться перед начальством.
— Вижу, что дежурство прошло хорошо, — сказал Любарский, глядя на довольную рожу старшего дежурного.
— Все, что хорошо начинается, заканчивается тоже хорошо, — осклабился санитар. — Вчера едва мы заступили, за *** (санитар назвал фамилию «тайника») родня приехала. Хорошие люди, понятливые, отблагодарили нас как положено…
Тема благодарности от родственников в стенах патологоанатомического отделения не замалчивалась. Зачем притворяться перед своими?
— Родня?!! — ахнул Любарский, не веря своим ушам. — За ***?!! Как?!! Они же просили оставить ее до вторника.
— Сказали, что документы удалось оформить раньше. — Санитар посмотрел на Любарского с удивлением. — Да вы не волнуйтесь, Сан Саныч, я все как положено оформил, и вообще все остались довольны.
«Кроме меня!», чуть было не выкрикнул Любарский, но вовремя прикусил язык.
«Кубышку» надо было спасать. Любарский понимал, как нужно это сделать. Затратно, хлопотно, но игра в любом случае стоила свеч.
На истории болезни умершей старушки был указан ее домашний номер телефона. Сразу же после пятиминутки Любарский позвонил по нему. Ответила женщина.
— Здравствуйте, — елейным голосом сказал Любарский. — Примите мои глубочайшие соболезнования по поводу кончины вашей уважаемой матушки…
— Это моя свекровь, — уточнила женщина.
По-русски она говорила без акцента, возможно, что и была русской.
— Ах какая была женщина! — заливался соловьем Любарский, не давая собеседнице спросить, с кем она разговаривает. — Золотое сердце! Добрейшая душа! Ах, какое горе! Скажите, пожалуйста, а когда похороны? Я непременно должен…
— Похороны будут дома, в городе N, — перебила собеседница. — Вчера ее увезли, завтра будут хоронить.
— В городе N? — переспросил Любарский. — Завтра? Днем, наверное, да? Я могу успеть, если из аэропорта поеду прямо на кладбище… Да, могу! Скажите, а в городе N одно кладбище или несколько?
Собеседница оказалась настолько любезной, что не только назвала кладбище, но и сказала, сколько нужно платить таксистам за поездку туда от аэропорта. «А то эти паразиты с незнающего человека и сто долларов не постесняются слупить». Сразу же после разговора Любарский отправился к главному врачу и попросил недельный отпуск за свой счет. Главный не возражал, только спросил, что случилось. Любарский не моргнув глазом сказал, что родная тетка по матери, одинокая пенсионерка, живущая в Екатеринбурге, слегла в больницу с инфарктом и нужно срочно мчаться к ней. В сущности, не соврал, поскольку так оно и было, но только очень давно. Тетки уже лет десять как не было в живых.
В городе N Любарского на кладбище задержала полиция. Могильщикам (или кладбищенским садовникам? — черт их разберет) показался подозрительным турист, интересующийся стоимостью раскапывания-закапывания свежего захоронения. Во-первых, это кощунство, а во-вторых, зачем оно нужно? В то, что Любарскому, опоздавшему на похороны бесконечно уважаемой и безгранично любимой старушки, хотелось взглянуть на ее лицо в последний раз, никто не поверил. Смотри на фотографию, если хочешь, а могилы трогать нельзя.
В полицейском участке Любарский потребовал встречи с начальником, что было абсолютно логично для туриста. Но в кабинете начальника он повел себя совсем нелогично. Начал нести какую-то чушь про деньги, которые случайно (случайно!) оказались в брюшной полости покойницы, и предложил начальнику треть за содействие в их извлечении.
— Я понимаю, у нас жарко, а вы к этому не привыкли, — мягко сказал начальник, убедившись в том, что разговаривает с сумасшедшим. — И вина-коньяка, наверное, много выпили? — от самого начальника разило спиртным духом на метр. — Вот и придумали непонятно что. Поезжайте в гостиницу, поспите…
— Я все понял!!! — заорал Любарский. — Вы хотите сплавить меня, чтобы без меня достать мои деньги и присвоить их!!! Не выйдет!!! Не на такого напали!!! Я требую встречи с вашим министром внутренних дел!!!
Вместо встречи с министром внутренних дел ему устроили встречу с психиатром, который учился в Первом меде, там же, где и Любарский, только курсом младше. Узнав о том, что имеет дело с однокашником, Любарский попытался заручиться поддержкой психиатра, которому предложил половину спрятанных денег. Короче говоря, диагноз шизофрении сомнений не вызывал.
Интересное обстоятельство — оформление документов для возвращения Любарского из города N в Москву заняло гораздо больше времени, чем оформление документов для отправки трупа из Москвы в город N. Возможно, так вышло потому, что в скорой отправке Любарского никто заинтересован не был.
Ныне Любарский получает пенсию по инвалидности (вторая группа). Свой бесконечный досуг он заполняет ведением домашнего хозяйства и написанием автобиографического романа. Дело с романом продвигается медленно, вернее, совсем не движется, поскольку все, написанное за день, вечером непременно рвется в мелкие клочья.
После того, что произошло, жена Любарского передумала разводиться. Решила, декабристка этакая, что не может бросить мужа, хоть и искренне ненавидимого, в столь бедственном положении. Впрочем, сейчас ей ненавидеть мужа не за что. На фоне принимаемых таблеток он тих, мил и покладист.
Сговорчивый человек.
Прививай и окучивай
Доктор Васильев любил выпить, причем пил так, что никаких заработков не хватало, ни правых, ни левых. Дело было не столько в количествах выпиваемого, сколько в качестве. Васильев не имел привычки пить водку с пивом. Он любил вкусные вина и дорогие коньяки, а это удовольствие не из дешевых.
Работал Васильев не пластическим хирургом (туда бы его с вечно трясущимися руками и не взяли бы), а участковым терапевтом. Так что пациенты вкусных вин и дорогих коньяков ему не носили. Разве что водки бутылку пытались иногда вручить или литровую банку с самогоном. Ни того, ни другого Васильев не брал. Говорил:
— Мне лучше деньгами.
Некоторые после этого давали деньгами, а некоторые оскорблялись — самогонкой моей брезгуешь? — и ничего не давали. И вообще, участок у Васильева был не очень-то и хлебный — рабочая окраина, но зато поликлиника была замечательная, с администрацией, которой ни до чего не было дела, лишь бы ее не трогали. Принцип руководства был прост и ясен: «Делайте что хотите, лишь бы жалоб не было». На Васильева жаловались очень редко, он умел ладить с людьми.
Умный человек не ждет, когда ему дадут денег. Умный человек делает так, чтобы ему дали денег. В искусстве создавать «прибыльные» ситуации Васильеву не было равных. Его ум работал только в одном направлении — где бы бабла срубить, но без скандалов? Короче говоря, Васильев был тихим, вежливым стяжателем.
В рамках борьбы с ежегодными эпидемиями гриппа прививку (а если правильнее, то вакцинацию) от гриппа можно сделать не только в поликлинике или в передвижном прививочном пункте возле станции метро, но и прямо на рабочем месте. Для этого руководителю организации достаточно позвонить в районную поликлинику. А в некоторые организации медики сами приходят, не дожидаясь приглашения.
Многие люди не хотят делать прививку. Что ж — это их право. Прививки — дело добровольное, насильно никто не заставляет. Но однажды в одном супермаркете дежурная администратор сказала Васильеву:
— Ах, доктор, это наша дирекция носится с прививками, а мы их делать не хотим, потому что как сделаешь — так сразу заболеешь. Но и отказаться не можем — нас тогда премии лишат. Нельзя ли не делать, но написать, что сделали. А мы вам с вашей сестричкой за это презенты к чаю соберем.
— При желании все возможно, — ответил Васильев.
«Презенты к чаю» оказались очень хорошими — сырокопченая колбаса, ветчина, три вида сыров, бутылка коньяка, полностью устроившая взыскательного Васильева. Каждый бы день такие презенты!
«А почему бы и нет?» — подумал Васильев, чувствуя примерно такое же воодушевление, которое испытывает золотоискатель, неожиданно наткнувшийся на золотую жилу.
Тема прививок требовала глубокого и всестороннего осмысления. Васильев посвятил этому занятию весь выходной день и пришел к следующим выводам:
— на прививки нужно ходить по своему почину, в рамках личной инициативы, о которой никому в поликлинике знать не нужно;
— на прививки нужно ходить без медсестры, это увеличит доходы и сведет риск разоблачения к нулю;
— прививки нужно делать не только от гриппа, но и от других болезней, благо их существует много;
— «окучивать», то есть обрабатывать, нужно только магазины, где работает простецкая, недалекая и привыкшая откупаться публика; офисы не годятся — в них слишком много умников, а некоторые еще и с медицинским образованием, да и проникать в офисные центры сложнее — кругом охранники торчат, документы требуют.
Самая главная загвоздка заключалась в том, чтобы правильно запугать прививаемых. Пугать нужно было хорошо, качественно, веско, пугать так, чтобы у них не возникало даже и мысли о том, что можно сделать прививку. Отказы непременно должны были быть стопроцентными. Так и прибыльнее и спокойнее. А то еще, чего доброго, привитые начнут стучать на непривитых своему начальству, и в результате пойдет совершенно ненужная волна.
Но как пугать? Ведь врачу положено уговаривать сделать прививку, а не отговаривать от нее. Как можно совместить ежа и ужа — уговаривать сделать прививку и в то же время отговаривать от нее? Обронить между делом: «А вот в соседнем магазине после прививки три человека в реанимацию попали»? Нет, в этом сразу чувствуется какой-то подвох: с чего вдруг врач после уговоров страшилки рассказывать начал?
От весьма соблазнительного на первый взгляд варианта «обязательные прививки по распоряжению санэпидстанции» Васильев отказался. От санэпидстанции и прочих проверяющих контор по объектам ходят одни и те же люди, с которыми часто устанавливаются неформальные отношения… Легко спалиться, ну его. Нет, лучше от поликлиники, тем более что поликлинические врачи хорошо знакомы жителям района, но не сотрудникам организаций, которые там находятся.
Нет, без страшилок никак нельзя обойтись…
«Раз так, то это должна быть такая страшилка, которую я обязан рассказывать по долгу службы! — осенило Васильева после четвертого бокала вина. — Информированное согласие!»
Добровольное информированное согласие пациента — необходимое условие для проведения любого медицинского вмешательства, в том числе и прививки. Официальные бланки, которые имелись в поликлинике, Васильев снабдил неофициальным приложением на двух листах. Пунктом первым в этом замечательном приложении значились «аллергические реакции по типу отека Квинке, могущие привести к летальному исходу вследствие удушья», а последним — острые нарушения мозгового кровообращения, вызванные спазмом кровеносных сосудов». Немного подумав, Васильев заменил многократно встречающееся в приложении слово «летальный» на слово «смертельный», чтобы народу было бы понятнее. Отредактированное приложение несколько раз прочел вслух, чтобы насладиться результатом своего труда и привыкнуть к тексту. Читать же надо как бы на автомате.
В понедельник с утра Васильев сидел на приеме, а после ходил по вызовам. Но желание опробовать идею было настолько сильным, что по дороге на вызовы он завернул в сетевой обувной магазин, благо для этого никуда не нужно было сворачивать.
Идея сработала замечательно и безотказно. Правда, хитрые торгаши попытались соблазнить доктора возможностью приобретения пары обуви со скидкой, но Васильев ответил, что обут он на пять лет вперед, а вот с деньгами у него вечные проблемы. Прозрачный намек дошел по назначению, и добрый доктор стал богаче на три тысячи рублей. Неплохо для начала.
Магазины, находившиеся на участке Васильева, принесли тридцать две тысячи дохода. Метод работал замечательно. Начинать прививочную кампанию от столбняка можно было не раньше чем через три-четыре месяца. Васильев был умным человеком и понимал, что зарываться и наглеть не стоит. Лучше расширить территорию.
Другие участки родной поликлиники он благоразумно проигнорировал, поскольку хождение по ним грозило неминуемым столкновением с коллегами и ненужными вопросами. А то ведь и выследить из любопытства могут — что это Васильеву на моем участке понадобилось? Нет, гораздо удобнее ходить по участкам других поликлиник, где его никто не знает. Москва большая, даже очень…
От развернувшейся перспективы буквально захватывало дух. Откупались в магазинах, конечно, по мелочи — давали в среднем три или четыре тысячи, но на «окучивание» магазина уходило всего полчаса или сорок пять минут, если считать вместе с перемещениями из одного магазина в другой. Меньше чем за три часа можно было срубить тысяч двенадцать-пятнадцать. Двенадцать, умноженное на двадцать, дает двести сорок тысяч в месяц! Плохо ли? Легкие деньги! Это вам не по второму участку за тридцатку в месяц бегать савраской. И безопасно! Это вам не больничными листами торговать, рискуя свободой.
Надежды полностью оправдались, даже с избытком. Первый месяц принес Васильеву двести шестьдесят семь тысяч пятьсот рублей. Прививай да окучивай! То есть не прививай. Огорчало только одно — то, что такая замечательная идея не пришла в голову раньше. Ах, сколько времени было потеряно напрасно!
В большие магазины Васильев не совался, осторожничал. Маленькие, «семейные», где работали два-три человека, тоже обходил стороной — они сами себе дирекция, откупаться не станут. Окучивал «средние», то есть обычные супермаркеты.
— Здравствуйте, ваше руководство договорилось с поликлиникой о проведении профилактических прививок! Прошу дать мне список сотрудников магазина и отметить там тех, кто работает сегодня. Где я могу развернуть прививочный пункт?
Прививочный пункт Васильев разворачивал по всем правилам. Надевал халат и тщательно-демонстративно мыл руки. Доставал из сумки одноразовую стерильную скатерть, давно уже, конечно, нестерильную, но чистую, и расстилал ее на столе в бухгалтерии (почему-то его всегда вели в бухгалтерию). Расставлял на ней все, что было нужно для проведения вакцинации. Приглашал всех сотрудников (в торговом зале обычно оставались два человека) и скороговоркой зачитывал им свое чудесное приложение. В наиболее страшных местах замедлял темп речи, чтобы лучше доходило. Если в чьих-то глазах встречал непонимание, то объяснял попроще:
— Летальный исход вследствие удушья — это когда горло распухает так, что дышать невозможно, и человек умирает. Но вы не волнуйтесь, это случается очень редко, в среднем один случай на десять тысяч. И потом, у меня с собой есть все необходимое для реанимации.
В подтверждение своих слов Васильев вытаскивал из сумки и клал на угол стола ларингоскоп[23], парочку одноразовых дыхательных трубок и пластиковый контейнер с набором ампул. Никелированный ларингоскоп действовал на публику магнетическим образом. Люди начинали прикидывать в уме — зачем доктору такая штука, и пугались. Все непонятное пугает.
Закончив свою декламацию, Васильев брал в руки список сотрудников и читал первую из фамилий.
— Я не хочу делать прививку.
Васильев недоуменно качал головой и вызывал следующего.
— Я не буду делать прививку.
Где-то на пятом отказавшемся (время было дорого) Васильев недоуменно говорил магазинному начальству:
— Не понимаю, что происходит! Ваша дирекция договорилась с моим начальством, меня сняли с приема и откомандировали к вам, а у вас никто не хочет прививаться. Может, вы, как руководитель, подадите пример?
Вместо того чтобы подать пример, начальство отсылало сотрудников на рабочие места и с глазу на глаз делало Васильеву предложение, от которого он не мог отказаться. Васильев сворачивал свой прививочный пункт и топал в следующий магазин. Список сотрудников забирал с собой, обещал отметить как привитых и тех, кого сегодня не было. Будьте спокойны — у дирекции к вам претензий не возникнет.
Претензий, разумеется, никогда не возникало. И вышестоящему руководству никто никогда не звонил с уточнениями. Во-первых, Васильев был очень убедителен — человек на своем месте и в своем праве, а во-вторых, он действовал быстро, не оставляя магазинному начальству времени для совершения «посторонних» действий. Если начальство мешкало, Васильев вежливо, но строго просил поторопиться, говорил, что ему сегодня еще несколько объектов нужно обойти.
«А что я такого нехорошего делаю? — размышлял на досуге под коньячок Васильев. — По собственному почину хожу делать вакцинации. Имею при себе все необходимое, в том числе и свежую, годную вакцину. Если кто захочет вакцинироваться — сделаю в лучшем виде. Но люди не хотят. Что ж, это их право. И поблагодарить меня за труды они тоже имеют право, а я имею право эту благодарность принять. Как гражданин и гуманист, тратящий свое свободное от работы время на борьбу со вспышками инфекционных заболеваний, а не как должностное лицо. Никакого криминала. А что касается Приложения, так оно полностью соответствует реальности. У кого-нибудь вакцина может и отек Квинке вызвать, а у кого-то и острое нарушение мозгового кровообращения… Есть же особо чуткие организмы».
Прививки давали столько, что «крохоборничать» в поликлинике потеряло всяческий смысл. Риска много (за тысячерублевую взятку два года дают), а денег мало. Васильев сохранил деловые отношения с ограниченным кругом особо доверенных пациентов, а всем остальным на просьбу выдать больничный или, скажем, оформить «заочно» санаторно-курортную карту: отвечал:
— Не могу. Раньше мог, а теперь — никак. Обстановка изменилась.
Мнения сотрудников (в поликлиниках же все про всех всё знают) разделились надвое: одни предполагали, что Васильев нашел себе богатую любовницу и потому в «левых» деньгах больше не нуждается, а другие считали, что Васильев уверовал в бога и начал жить праведно. Собственно говоря, Васильев и ощущал себя праведником. Он же никому не делал плохого, а только хорошее. Для магазина эти несчастные три тысячи — сущая мелочь. Они небось на одних только овощах да фруктах за смену в десять раз больше наваривают. Была бы не мелочь, так не предлагали бы с ходу, не раздумывая.
Как и положено настоящему стратегу, Васильев поделил Москву на направления и участки.
Направлениями служили линии метрополитена. Машины у Васильева не было, да она ему бездачному и не склонному к выездам на природу совершенно не была нужна. На метро и быстрее, и проще, и под хмельком можно.
Территория, расположенная вокруг двух соседних станций метро, образовывала участок. Такую территорию можно было обработать примерно за двадцать дней, то есть за календарный месяц.
Начав со станции «Медведково», Васильев двигался на юг. Развлечения ради он повесил в своем кабинете большую карту Московского метрополитена, на которой двумя красными флажками обозначал текущий участок. Все — и коллеги, и пациенты — спрашивали, зачем Васильеву нужна карта метро, а некоторые еще и флажками интересовались.
— Нужно, — таинственно отвечал Васильев.
Он и главному врачу так ответил. Ничего — проглотила. Васильеву нравилось быть таинственным. Опять же, эта милая игра в таинственность была абсолютно безопасной. Ну кто мог догадаться о том, что на самом деле обозначают флажки?
Про флажки в поликлинике никто так и не догадался…
Но дело не в этом.
Дело в том, что в одной широко известной торговой сети велся строгий учет директорского фонда. Так там назывались неучтенные официально суммы, которые предназначались для дачи взяток проверяющим. С проверками же известно как — или даешь на месте не очень много проверяющим, или же даешь позже и очень много их начальству. У начальства аппетиты всегда больше. Для того, чтобы откупаться от проверок, и существовал директорский фонд.
Первая заведующая магазином, которая выдала из этого фонда три тысячи рублей врачу, пришедшему делать прививки, якобы по приглашению дирекции, была вынуждена восполнить «растрату» из своего кармана. В историю с прививками никто из руководства не поверил. Решили, что хитрая баба просто выдумала это для того, чтобы запустить руку в директорский фонд. Такое иногда случалось — кто-то выдумывал повод, кто-то завышал выданные суммы. Проверяющие, получив взятку, расписок не выдают, так что простор для злоупотреблений создается широкий.
Но где широк простор, там и суров контроль. Иначе и разориться недолго. Все траты из директорских фондов анализировались службой безопасности торговой сети. Велась тщательная статистика, и если где-то выявлялся перерасход или просто возникали подозрения, то магазин брался в разработку. Вплоть до того, что сотрудники службы безопасности могли явиться в магазин под видом проверяющих, получить взятку, а потом сравнить полученное с указанным в графе расходов директорского фонда. Как говорится, на бутылку с кривым горлышком найдется кривой штопор.
Получив третий по счету сигнал об откупе от прививок, руководитель службы безопасности понял, что будет и четвертый приход на прививки, и пятый… Три случая — это уже система. А если система сработала без сбоев трижды, то почему бы и не продолжать?
Васильеву несколько раз подряд повезло, только он об этом не догадывался. В один раз новенькая администратор в суете приема дел у своей предшественницы не успела добраться до информационного письма службы безопасности, в котором говорилось о том, как надо поступать при попытке прививок в магазине. При приеме магазина в первую очередь пересчитывают товар, а уже после читают документы. В другой раз нерадивая администратор забыла о письме. В третий раз Васильева встречала и привечала старший кассир, которой заведующая магазином на время обеденного перерыва передала свои полномочия. Доступ к директорскому фонду старший кассир имела, но вот насчет прививок заведующая ее не предупредила.
Но в четвертый раз все сработало как было запланировано. Услышав о прививках, заведующая магазином отправила эсэмэску в службу безопасности и принялась тянуть время. Тянула искусно, чтобы не вызвать подозрений у Васильева. Сначала минут пять не могла решить, где будет развернут прививочный пункт, затем немного замешкалась, собирая сотрудников, затем задавала вопросы, а когда Васильев обратился к ней за помощью, сказала краткую речь о том, что распоряжения дирекции обязательны к исполнению (но сама при этом желания вакцинироваться не изъявила). Во время разговора с глазу на глаз она вначале попыталась откупиться от Васильева бутылкой коньяка, а когда он сказал, что берет только деньгами, минут пять ходила за наличкой…
Васильев к тому времени от постоянных удач и сознания собственной безгрешности расслабился настолько, что не почувствовал никакого подвоха. Только подумал о заведующей нехорошо: «Дура тормознутая, как такую только в начальниках держат?»
Арест и последовавшее за ним обвинение в мошенничестве стали для Васильева такой же ошеломляющей неожиданностью, какой стал для очевидцев взрыв Тунгусского метеорита. Во время следствия и на суде он твердил о своей невиновности, о том, что из гуманистических соображений помогал улучшать эпидемиологическую обстановку, и о том, что деньги в сумме четырех тысяч рублей ему подбросили. Сам он их никогда бы не взял. Своим упорством он настолько достал судью, что вместо условного срока получил два года отсидки (совсем как доктор Зелинский, герой рассказа «Психопат»).
Освободившись, Васильев устроился врачом приемного отделения в одну из московских больниц и работает там по сей день. К поликлинической работе у него сформировалась стойкая идиосинкразия.
Летальные стереотипы, или primum non nocere
Спросите у ста человек — что нужно делать для помощи эпилептику во время припадка? — и девяносто девять ответят: «Нужно вставить ему между зубами что-то твердое (как вариант — разжать челюсти), чтобы он не прикусил или не проглотил бы свой язык». Один человек скажет: «Нужно сильно-сильно ущипнуть его и дать понюхать нашатыря».
На самом же деле нужно подложить эпилептику под голову что-то мягкое и вызвать врача.
Лето, июль. Поезд Москва — Минеральные Воды подходит к Ростову-на-Дону. Пассажиры, притомившись от жары и долгого общения друг с другом, откровенно скучают.
Вдруг по вагону со скоростью болида, сметая всех стоящих в коридоре, проносится проводница.
— Врача! Врача! В СВ! Врача! Врача!
В первый момент я даже обрадовался — хоть какое-то дело, а то тоска смертная. Выскочил из купе и пошел в ту сторону, откуда прилетел болид. Вся нужная информация у меня имелась — в спальном вагоне кому-то нужен врач. Не было только ничего для оказания помощи, но я точно знал, что в поезде, в каждом вагоне, должна быть аптечка. И еще, кажется, своя аптечка есть у начальника поезда. Так что найдется чем полечить.
Коридор спального вагона удивил меня своей пустотой и закрытыми дверями купе. Обычно вокруг человека, которому стало плохо, сразу же собираются доброхоты-советчики или же просто наблюдатели. А тут — никого. И — тишина, относительная тишина, поездная. Только стук колес слышен. Нет — еще что-то стучит. Мелко и тихо. Т-т-т… Т-т-т… Т-т-т…
Единственное купе с открытой дверью было залито кровью. Залито в прямом смысле этого слова. Казалось, что какой-то безумный маляр решил полить купе красной краской прямо из банки…
…На очередное практическое занятие доцент Малофеев принес пакет с томатным соком. Мы, студенты четвертого курса, очень этому удивились, потому что знали о привычках Малофеева. Он пил только водку. И во время практических занятий тоже. У него на столе стоял графинчик якобы с водой, но, когда Малофеев наливал свою «воду» в стакан, по кабинету разносился спиртной дух. А тут вдруг — сок, причем накануне зачета. Студентов настораживают любые перемены, происходящие с преподавателями, а уж те, которые происходят накануне зачетов и экзаменов, настораживают втройне.
Малофеев взял стакан, налил в него сок из пакета и… выплеснул сок на пол. «Белая горячка, — дружно подумали мы. — Небось, огненных чертиков решил соком погасить…» Но мы ошиблись. Никакой белой горячки у Малофеева не было, она случилась двумя месяцами позже, но это уже совсем другая история.
— Обратите внимание! — Малофеев поднял кверху указательный палец. — Я вылил на пол всего двести миллилитров томатного сока. А лужа на полу получилась просто огромной. Спроси я кого-то из вас: «Сколько сока пролилось на пол?», так вы бы ответили: «литр или полтора». Если бы не видели, конечно, что я вылил всего лишь стакан. Ответили бы?
Мы закивали — да, ответили бы. Лужа и впрямь была впечатляющая — на полкабинета.
— А теперь я вылью весь пакет! — объявил Малофеев.
Он встал и начал ходить по кабинету, поливая пол соком.
— Это не «белка», а шиза! — прошептал мне сосед.
— Ну как? — спросил Малофеев, когда пакет опустел. — Впечатляет? А ведь это всего лишь литр. А кажется, будто пять. Вот вам домашнее задание. Берете литр томатного сока. Сначала выливаете на пол полстакана, то есть сто миллилитров. Смотрите на лужу, запоминаете ее размеры. Затем выливаете еще сто миллилитров. И продолжаете выливать по сто до тех пор, пока пакет не опустеет…
Я представил, что со мной сделает мама, если я попробую сделать дома нечто подобное. Даже с учетом того, что я ее единственный и любимый сын.
— И у вас больше никогда не будет проблем с определением объема кровопотери на глаз! — торжественно провозгласил Малофеев. — А теперь уходите, занятие окончено, надо пол вытереть…
Судя по всему, в купе пролилось не менее полутора, а то и двух литров. Смертельная кровопотеря. Потерявший кровь лежал на левой от двери полке. Я сразу понял, что он мертв. На правой полке, обхватив голову руками, сидел живой мужчина. Его зубы выбивали ту самую дробь «т-т-т…», которую я услышал из коридора. На полу в луже крови, которую не могла впитать ковровая дорожка, лежал раскрытый складной нож. Внушительных таких размеров, чуть ли не мачете.
Мне стало ясно, почему в коридоре никого не было. Картина не располагала к созерцанию, а уж к даче советов — тем более. Первой моей мыслью было бежать за помощью, пока этот маньяк не набросился на меня со своим замечательным ножом. Но тут мой взгляд вернулся к лицу покойника.
Мимические мышцы сведены судорогой, зубы оскалены, передние резцы обломаны едва ли не наполовину…
— Аптечку мне, срочно! — гаркнул я во все горло.
При помощи оплеухи и нашатырного спирта я быстро привел живого в чувство.
— Эпилептический приступ был у соседа? — спросил я.
— Д-д-да! — ответил он.
— Ножом пытались зубы разжать?
— Д-д-да! Я н-н-не п-п-понимаю, ч-ч-что п-п-произошло…
А что тут понимать? Все ясно. Разумеется, просовывать нож между сомкнутыми зубами удобнее и логичнее острым краем, то есть лезвием. Порезать при этом язык очень легко. Язык снабжается кровью очень щедро, и кровотечения при ранениях языка бывают очень опасными. Недаром же в Японии существовал такой способ самоубийства, как откусывание собственного языка. Гарантия смертельного исхода при этом была стопроцентной — человек или захлебывался собственной кровью, или умирал от кровопотери.
Сосед по купе неожиданно выдает эпилептический припадок. Попутчик решает помочь. Достает нож и пытается разжать стиснутые челюсти. Челюсти стиснуты как следует, эпилептик трясется, попутчик нервничает, прилагает больше усилий… Зубы крошатся, лезвие ножа проникает в ротовую полость и разрезает язык. Изо рта ударяет фонтан крови… Убийство по неосторожности, пускай и из благих побуждений. Классический пример медвежьей услуги.
Я долго объяснял сотрудникам полиции в Ростове, как было дело. Убийца к тому времени снова впал в прострацию и на контакт не шел. Сотрудники не верили. Удивлялись: ну разве ж такое может быть?
Может!
Вот другой случай. На этот раз стереотип был отчасти верным, но его исполнение оказалось неправильным.
Три закадычных друга отмечали развод одного из них. Сидели дома у разведшегося и сидели очень хорошо, поскольку жена, теперь уже бывшая, съехала и не могла испортить праздника.
Праздновали день, другой, третий… Только в магазин за добавкой выходили. Короче говоря, все было так хорошо, что просто замечательно. Только вот на третий день одного из собутыльников начало подташнивать. Вполне закономерное явление после столь продолжительного употребления спиртных напитков. Но мужики решили, что во всем виновата селедка, которой они вчера закусывали. Или — позавчера? Неважно, важно то, что они знали, как нужно лечить отравления. Промыванием желудка!
Промывание организовали там же, где и пили, — на кухне. Усадили страдальца возле раковины, взяли резиновый шланг, один конец надели на кран и обмотали проволокой, чтобы не сорвало напором воды, а другой попытались пропихнуть страдальцу в желудок.
О том, что промывание желудка делается не из крана, а через воронку, они не знали. Из крана уже получается не медицинская процедура, а средневековая пытка водой.
Ладно бы это. Пережить пытку водой еще как-то можно. Но все получилось гораздо хуже.
Страдалец, несмотря на то что был согласен на промывание, никак не давал пропихнуть шланг себе в желудок. Хватал руками и выдергивал. Тогда один из собутыльников, наиболее крепкий, схватил его за руки и держал так, пока другой пропихивал шланг.
Получилось! Когда шланг во что-то уперся, тот, кто производил процедуру, поспешил открыть воду. Спешка была вызвана тем, что страдалец жутко пучил глаза и раздувал щеки. Было видно, что процедура переносится им очень болезненно, поэтому друзьям страдальца хотелось покончить с ней как можно скорее. В том, что они делают все правильно, никаких сомнений не возникало. О том, что шланг может попасть не только в желудок, но и в трахею, они не думали. В результате утопили насмерть своего друга, залили ему легкие водой по самые гланды. Из самых что ни на есть лучших побуждений.
Вот так.
Если вы специально не обучались какому-то способу медицинской помощи, то есть если вы не имеете о нем полного и исчерпывающего представления, то лучше не помогайте.
Недаром же еще древние римляне говорили: «Primum non nocere». Прежде всего — не навреди.
Фантазеры
Все люди врут, тут доктор Хаус абсолютно прав.
А пациенты врут вдвойне.
Но есть одна категория пациентов, фантазия которых поистине безгранична и беспредельна. Их фантазия на порядок превосходит фантазию сценаристов сериалов, а уж больших выдумщиков и представить трудно.
Эта категория — обладатели инородных тел в прямой кишке.
Вопрос «Как оно там оказалось?» врачи задают не праздного любопытства ради, а для того, чтобы оценить психическое состояние пациента. Люди с психическими нарушениями способны затолкать себе в задний проход напильник для того, чтобы наказать себя за какой-то проступок, реальный или мнимый. Они обычно не скрывают своих намерений и обещают придерживаться подобной линии поведения и впредь. «Если достанете напильник, так я туда молоток засуну, потому что без наказания мне оставаться никак нельзя».
Люди, не имеющие психических нарушений, преимущественно мужчины, засовывают в задний проход различные предметы с определенной целью, которая медикам хорошо известна. Пациенты знают, что врачи знают, а врачи знают, что пациенты знают, что они знают… (ужасно несуразное предложение получилось). Но тем не менее пациенты врут.
И как врут! Заслушаться можно! Сценаристы сериалов, эти несравненные выдумщики, умеющие выдать сто историй на сто серий с семью героями, сдохнут от зависти, услышав объяснения по поводу того, как инородное тело попало в прямую кишку.
* * *
— Доктор, у меня там четки.
— Четки?
— Да, доктор, четки. Дело в том, что у меня привычка такая — на ночь глядя четки перебирать, чтобы заснуть поскорее. Бессонница, знаете ли, мучает. А четки помогают. Я часто так и засыпаю, с четками в руке. И сегодня, то есть уже вчера, так заснул. А ночью мне снилось, будто у меня попа чешется. Видимо, я почесал ее той рукой, в которой были четки, и нечаянно затолкал их в задний проход. Целиком. Вот сейчас чувствую, как они там перекатываются…
* * *
— Доктор, мне неудобно об этом рассказывать, но у меня там термометр. Дело в том, что меня жена научила мерить температуру в заднем проходе. Сказала, что так точнее выходит. Я вчера вечером почувствовал себя плохо и решил измерить температуру. Вставил термометр в задний проход, да случайно и заснул. Утром проснулся, а термометра нет. То есть он есть, но там, внутри. Я его чувствую…
* * *
— Доктор, у меня там тюбик зубной пасты! Я вылезал из ванны и поскользнулся случайно. Плюхнулся попой на пол, как раз на тюбик с зубной пастой, который там валялся. Да так неудачно упал, что он вошел мне в задний проход. Полностью. Я пытался достать его самостоятельно, но не смог…
* * *
В ванной также падают голой попой на баллончики дезодорантов и на различные флаконы. На кухне — на свечи и на морковь. Впрочем, наличие моркови в прямой кишке можно объяснить и иначе.
— Доктор, у меня там морковь. Я ею геморрой лечил. На работе посоветовали, сказали, что верное средство. Наш главбух морковью совсем геморрой вылечил, начисто, а у него такой был, что хирурги даже оперировать боялись…
Вместо моркови может быть огурец. Огурцом тоже геморрой лечат.
* * *
— Доктор, я вчера во время работы случайно проглотил карандаш. Только не спрашивайте, как это случилось. Я и сам не знаю. Задумался и не понял — как. У меня работа творческая, я дизайнер. Как начну задумываться, так обо всем на свете забываю. Вот и карандаш проглотил. А сегодня почувствовал, что он уже там. Туда дошел, а наружу не выходит…
* * *
— Доктор, у меня там носовой платок. С узелками. Меня запоры сильно мучают, а на работе посоветовали на платке несколько узелков навязать и туда засовывать, а затем вынимать. Сказали, что такой массаж устраняет запоры. Я попробовал, а платок сам втянулся…
* * *
— Доктор, у меня там ручка. Ну, обычная ручка, та, которой пишут. Я перед сном вчера решил поработать в постели, проект договора набросать, да заснул. Спал беспокойно, метался по кровати, потому что всю ночь разные кошмары снились, и вот во время этих метаний мне ручка в задний проход и воткнулась. И втянулась внутрь. Я чувствую, как она внутри колется…
* * *
— Доктор, у меня там венчик для миксера. Я вчера после ванны захотел приготовить себе гоголь-моголь. Пошел на кухню голышом. А кого мне стесняться? Я же один живу. Когда взял в руку миксер, руку вдруг судорогой свело, да так сильно, что я весь скрючился, а венчик, в результате, воткнулся в задний проход…
* * *
— Доктор, у меня там фонарик. Дело в том, что у меня заболело вдруг там, в заднем проходе. Я решил посмотреть, что там такое. Взял фонарик, встал перед зеркалом, изогнулся и… вдруг поскользнулся! Взмахнул руками, чтобы сохранить равновесие, и воткнул случайно фонарик в задний проход. Целиком, уж очень сильно рука дернулась…
* * *
— Доктор, у меня там лампочка. Дело в том, что на меня в подъезде напали какие-то хулиганы. Двое. Маньяки, не иначе. Ничего не говоря, повалили меня на пол, сдернули штаны с трусами и засунули мне в задний проход лампочку. И убежали…
* * *
— Доктор, у меня там отвертка. Дело в том, что у меня попа зачесалась, когда я утюг починял. Я машинально почесал попу рукой, в которой была отвертка, а она случайно попала в задний проход.
— Хорошо, что у вас в руке отвертка была, а не утюг.
— И не говорите, доктор!
* * *
С чайными ложечками происходит примерно то же самое.
— Доктор, у меня там ложечка. Дело в том, что у меня попа зачесалась, когда я йогурт кушал…
* * *
— Доктор, я в газете прочитал, что в задницу можно полулитровую пластиковую бутылочку засунуть. Удивился — это же невозможно! Но ведь пишут, что можно. И такое любопытство меня разобрало, что я решил поставить эксперимент. Оказалось, что засунуть туда бутылочку не так сложно, как достать…
Это объяснение можно считать наиболее близким к истине. Мотивы поступка, возможно, были иными, но пациент хотя бы признал факт намеренного и осознанного вложения бутылочки в прямую кишку.
Юристы говорят: «Врет, как очевидец», а врачи говорят: «Врет, как пациент».
Доктор Розенкранц и фельдшер Гильденштерн
Доктор Сарычев и фельдшер Вяткин были раздолбаями-весельчаками. Настолько раздолбаями и настолько весельчаками, что старший фельдшер была вынуждена ставить их работать вместе. Другие сотрудники наотрез отказывались работать с Сарычевым или Вяткиным.
— Надежда Павловна, как вы могли меня с Вяткиным поставить? Нет, вы как хотите, но я лучше заранее больничный возьму, чем буду с гипертоническим кризом с линии сниматься! У меня от одного вида его идиотской рожи давление повышается!
— Надя, ты что, охренела? Я же говорила, что лучше ночью одна буду работать, чем с Сарычевым. Короче говоря, у нас с тобой два варианта: или ты переделываешь график, или я пишу заявление о переводе на другую подстанцию!
Да, вот так. Категорично. Или больничный, или заявление о переводе. Фельдшер Резниченко так вообще грозилась руки на себя наложить. В скоропомощном ящике есть много препаратов, позволяющих осуществить это намерение, а Резниченко была женщиной импульсивной, так что старший фельдшер решила не доводить до греха и переделала график.
Не увольняли Сарычева и Вяткина по двум причинам. Во-первых, если за все подряд увольнять, то всех подряд и уволишь, работать некому будет. Во-вторых, раздолбайство их выражалось в легком, а не в халатном отношении к работе. Легкость и халатность — это, знаете ли, совершенно разные понятия.
Например, не сделать пациенту нужного укола или же не отвезти его в больницу при наличии показаний к госпитализации это халатность. Явная и безоговорочная.
А вот забыть на подстанции тонометр, кардиограф и ящик с лекарствами и без них обслужить три вызова, причем так, что пациенты остались довольны, — это уже легкое отношение к работе. Улавливаете разницу?
Они вообще ко всему происходящему относились легко. Премии лишили? И хрен с ней, с премией — народ компенсирует! Дежурить первого января поставили? Ничего — отдежурим, да так, что заведующая подстанцией до осени будет икать, вспоминая это наше дежурство! Жена ушла? И хрен с ней — разве на подстанции женщин мало? Руку на вызове сломал? Да это же вообще прикол и возможность два месяца получать зарплату просто так, не работая!
— Завидую я вам, — говорил водитель Адаев, отец четырех великовозрастных дочерей, одна другой страшнее. — Живете, как воробьи — ничего в голову не берете, ни о чем не думаете! Эх, мне бы так научиться…
— Учись, пока мы живы! — смеялись Сарычев и Вяткин. — Ты же с нами на одной бригаде работаешь, тебе и карты в руки.
Кроме Адаева, никто из водителей с ними работать не соглашался. И, вообще-то, не без оснований. Трудно было выносить в течение суток веселье Сарычева и Вяткина. К примеру, едет машина ночью по кольцевой на скорости сто километров в час. И вдруг Вяткин в салоне громко кукарекать начинает. Вздрогнешь от неожиданности, да и въедешь в столб или еще куда. А это Вяткин просто хотел сказать, что уже час ночи — время первых петухов. Или вдруг на ходу в машине начинается странный и очень пугающий стук, кажется, будто она сейчас рассыплется. А это Сарычев металлических шариков в круглую железную банку из-под чая насыпал и в салон подкинул. Машина едет, банка по полу катается, на ухабах подпрыгивают, шарики стучат, водила дергается, а Сарычеву весело. Только флегматичный Адаев, которому дома, по его выражению, «сверлило мозг пять дрелей» (жена и дочери), мог снисходительно относиться к подобным шуточкам и вообще мог уживаться с раздолбаями.
Сам Адаев никогда не шутил, не умел, хотя однажды Сарычеву с Вяткиным показалось, что он чему-то научился. Ехали на вызов, но вдруг Адаев резко затормозил, гаркнул: «Вылезайте! Сейчас взорвемся!» — и выскочил из машины. Сарычев с Вяткиным и не подумали вылезать, они на такие примитивные розыгрыши не велись. Но когда принюхались, выскочили как ошпаренные. Машина минуты три горела тихо, а потом друг за дружкой взорвались бензобак и кислородный баллон.
— А мы думали, что ты прикалываешься, — сказал Адаеву Сарычев, созерцая догорающий автомобиль.
— Ну я же не такой идиот, как вы, чтобы так шутить, — ответил Адаев.
Сарычев с Вяткиным не обиделись. Они вообще ни на кого не обижались. Атрофированная обидчивость — непременная составляющая легкого отношения к бытию.
На вызовах у Сарычева с Вяткиным иногда случались конфликты. Не так часто, как у подстанционного грубияна-энцефалопата доктора Бондаря, который вместо: «Здравствуйте, вызывали?» — говорил: «Ну что? Нажрались и решили поразвлечься?» Но и не так редко, как у идеального доктора Петрова, лелеющего мечту о великой скоропомощной карьере — от выездного врача до главного. Если недовольные пациенты интересовались фамилиями Сарычева и Вяткина, то слышали в ответ:
— Доктор Розенкранц.
— Фельдшер Гильденштерн.
Подстанция обслуживала спальные районы, в большинстве своем населенные простым рабочим людом. Пациенты записывали фамилии, не чуя подвоха. Если было нужно, Сарычев и Вяткин могли повторить фамилии по слогам. Даже несколько раз. Но тем не менее фамилии безбожно перевирались. Получив жалобу на Розенблюма и Гильдяева, заведующая подстанцией не утруждала себя выяснением того, какая именно бригада в ту смену была по тому адресу. Она вызывала в свой кабинет Сарычева с Вяткиным, грозно стучала кулаком по столу, объявляла выговор, лишала премии, а под конец горестно вздыхала:
— Наказание мое! Ну когда же вы повзрослеете?
Обоим «раздолбаям» было немного за тридцать.
— Успеем еще! — обнадеживал Сарычев.
Заведующая качала головой — не верила и даже не надеялась. Но до поры до времени терпела. Сарычев и Вяткин не хамили и не вымогали деньги на вызовах, как доктор Бондарь, не пили в рабочее время, не конфликтовали с коллегами… Да и с пациентами не конфликтовали, жаловались на них преимущественно из-за шуточек.
Начнет, к примеру, пациентка с гипертонией рассказывать, что ничегошеньки ей бедной не помогает, ни одни таблетки давления не понижают, только перекисью водорода она и спасается — по капле на столовую ложку воды. Вообще-то, современное развитие фармацевтической промышленности позволяет без труда подобрать подходящую терапию практически для любого гипертоника. «Ничегошеньки мне не помогает» — это прямые показания к назначению галоперидола. Галоперидол точно поможет, он такой. Но дело в том, что галоперидол может назначать-выписывать только психиатр, а к психиатрам пациенты по своей воле обычно не обращаются…
— Вот, видите, у меня на тумбочке перекись и водичка. Как только почувствую себя плохо, так сразу же и лечусь. Но сегодня уже восемь ложек выпила, но что-то не помогает. Видимо, день магнитный…
— А вот моей бабушке от давления коровья моча помогала, — начинает делиться знаниями Вяткин, заодно набирая в шприц лекарство. — Выпивала утром натощак стакан и не знала, что такое давление. Дожила до девяноста лет. Главное — не кипятить, пить сырую. При кипячении вся польза испаряется.
Кто-то верил, а кто-то обижался — почему издеваетесь? Хотя Сарычев с Вяткиным не издевались, а просто шутили. А что такого? Если перекись помогает, то и коровья моча должна помогать.
Но после одного случая заведующая подстанцией буквально ополчилась на весельчаков и в течение полугода всячески — хоть увольнением, хоть переводом — пыталась от них избавиться. Когда поняла, что не получится, стала держаться с ними сухо-недружелюбно, как мачеха с пасынками. Заведующую можно было понять: и она, и старший врач получили из-за Сарычева с Вяткиным крупную нахлобучку. Всего полшага оставалось до постановки вопроса о неполном служебном соответствии, но главный врач все же решил до этого не доводить. Несмотря на то, что ему тоже досталось изрядно. С двух сторон — от Департамента здравоохранения и от журналистов. Шухер выдался большой, резонансный. И что примечательно, никакой вины Сарычева с Вяткиным, а точнее, Сарычева, как врача и старшего в бригаде, в случившемся не было. Просто так получилось. «Планеты встали раком», как выразилась диспетчер Сироткина.
Дело было так.
Октябрь. Полночь. Дождь. Вызов в подъезд девятиэтажки. Женщина, тридцать лет, плохо с сердцем.
На лестничной площадке между первым и вторым этажом лежит грязная пьяная в стельку бомжиха и стонет — плохо ей.
— На что жалуетесь? — спрашивает Сарычев.
— А вы что, сами не видите?! — Бомжиха распахивает свою верхнюю одежду, которая когда-то была пуховиком, и показывает огромный вздутый живот. — Вот!
— Вы беременны?
— Да! И воды уже отошли!
Под бомжихой действительно растекается лужа. Приличная, на половину площадки.
Большинство сотрудников «Скорой» после этого просто закинули бы бомжиху в машину и отвезли бы в роддом не осматривая. Но Сарычев в салоне раздел ее, пощупал живот, выслушал сердце и легкие, измерил давление и спросил о наличии каких-либо заболеваний. То есть сделал все как положено.
По дороге в роддом бомжиха отплатила добром за добро — повеселила бригаду. Рассказала, что она бывшая известная оперная певица, «лучшее меццо-сопрано» Европы, которая опустилась до столь плачевного состояния в результате козней завистников. Надо сказать, что по красочности историй на тему «как я дошел до такой жизни» бомжи дадут сто очков любому таксисту. Под интересный рассказ не заметили, как доехали до роддома.
В роддоме при многопрофильной скоропомощной больнице, конечно же, были без памяти рады получить такой «подарок». Дежурный врач вспомнил всех матерей, в том числе и свою родную маму, которая советовала ему поступать в консерваторию. Мама однозначно была права: со скрипками да роялями дело иметь приятнее. Но, как говорят французы, если бы молодость знала, если бы старость могла.
Вспоминай хоть мать самого Гиппократа, а роженице с отошедшими водами отказать не моги. Даже если она без определенного места жительства и вшивая. Дежурный врач расписался в приеме, бригада уехала, бомжиху начали срочно мыть-стричь-брить-обрабатывать. Быстрее, быстрее, а то ведь сейчас рожать начнет…
После приведения в надлежащее санитарно-гигиеническое состояние дежурный врач осмотрел «роженицу» (кавычки — не опечатка, а почему они здесь, сейчас станет ясно). Начал, как и положено акушеру-гинекологу, с влагалищного исследования. И сильно удивился, поскольку не обнаружил ожидаемого раскрытия шейки матки…
Срочно вызванный для осмотра бомжихи дежурный терапевт подтвердил диагноз цирроза печени, осложненного асцитом[24], и санкционировал перевод в терапевтическое отделение.
С медицинской точки зрения ничего страшного не произошло. Ошибочный диагноз был снят, верный был выставлен, пациентка в итоге легла по назначению, и состояние ее здоровья от небольшой проволочки не пострадало. Но это с медицинской. А есть же еще и политическая, основанная на извечных противоречиях между тремя столпами медицинской помощи — стационарной, амбулаторной и экстренно-неотложной.
— Эти идиоты-разгильдяи со «Скорой» совсем работать не хотят! — свирепствовал утром на конференции ответственный дежурный по роддому. — Извозчики хреновы! Лепят наугад любой диагноз, лишь бы для госпитализации подходил! Асцит с беременностью путают! Я за годы работы всякого успел навидаться, но такого в моей практике еще не было! Такого спускать нельзя! Я ночью уже звонил в оперативный отдел, высказал все, что думаю об их сотрудниках, но этого мало. Слова они, как обычно, пропустят мимо ушей и завтра нам снова бомжиху с асцитом рожать привезут! Тут нужны решительные меры! Прошу администрацию поддержать! Нам, кроме всего прочего, после этой грязнули еще и полную санобработку «приемника» пришлось проводить! Вот уж было радости!
Больничная администрация, разумеется, поддержала — в Департамент здравоохранения ушло письмо, подписанное главным врачом. Кроме этого, директор департамента был извещен о случившемся устно. Он сказал, что полностью разделяет справедливое негодование, и пообещал принять «самые решительные меры». И не обманул — принял. Вызвал «на ковер» главного врача станции «Скорой помощи», потребовал объяснить случившееся и пригрозил тотальной проверкой работы станции («а то непонятно, чем вы там вообще занимаетесь»).
Главный врач вернулся к себе в кабинет в сильно расстроенном состоянии. Ему хотелось рвать и метать, но с этим пришлось погодить, потому что в приемной его ждал корреспондент самой известной (и заодно — самой «желтой») московской газеты. Кто-то из больницы слил интересную новость в газету. Там заинтересовались, причем интерес был большим, с замахом на статью. Разумеется, резонансную. Все статьи на медицинские темы всегда бывают резонансными.
Около часа главный врач наговаривал на диктофон умные мысли о трудностях диагностики в «полевых» условиях и о том, как сильно одно может походить на другое. Выговорился, пускай и не теми словами, какими хотелось, успокоился немного. Поэтому с заведующей подстанцией разговаривал негромко и цензурно, но от этого смысл сказанного менее зловещим не стал. Смысл сводился к следующему: «Я из вас душу вытрясу за ту свинью, которую вы мне подложили». А уж души вытрясать главный врач умел хорошо, на том весь скоропомощной порядок и держался. Вытрясет душу из одного сотрудника — сто сделают выводы.
Заведующая тоже впала в сильно расстроенное состояние. Немного отыгралась на старшем враче, которому по должностной инструкции положено следить за знаниями сотрудников и своевременно восполнять недостающее. На Сарычеве у нее отыграться не получилось. Он стоял на том, что все сделал правильно. Виновата пациентка, которая дала ложную информацию о себе.
— Нашли кому верить — бомжихе! — стенала заведующая подстанцией.
— А почему бы и не верить? — удивлялся Сарычев. — Отсутствие постоянного места жительства еще не повод для того, чтобы не верить человеку!
— Но она же была пьяная! Вы же сами указали в карте и сопроводительном листе алкогольное опьянение!
— Да, она была в состоянии алкогольного опьянения, но вела себя адекватно, понимала, где она находится, с кем разговаривает и так далее. У меня не было повода не доверять ее сообщению о беременности!
— А как вы мочу с плодными водами спутали, доктор?
— Помилуйте! В подъезде было темно, пациентка сильно воняла, лестничная площадка была грязной — ну как тут не спутать? Она сказала, что воды отошли, значит, воды.
— Но осматривать вы ее не осматривали!
— Нет, осмотрел, полностью. Даже давление измерил.
— А как вы тогда желтушности склер и кожных покровов не заметили?
— Так она же грязная была невероятно. Серая от грязи! Какая тут желтушность? Ее сначала отмыть надо было, чтобы цвет кожи оценить. А глаза все в гною были. Я же указал хронический гнойный конъюнктивит в диагнозе. Нам из-за этого конъюнктивита место дали на другом конце Москвы!
— А почему влагалищное исследование не сделали?
— Потому что после отхода вод туда лишний раз лазить не рекомендуется. Велик риск инфекцию занести, особенно если роженица правила гигиены не соблюдает. А у этой пациентки, как вы сами понимаете, с соблюдением гигиены дело обстояло не лучшим образом. Вот я и решил, что лучше уж ее в роддоме исследуют, после помывки и обработки.
Так же убедительно Сарычев защищал свою правоту и перед лицом высокой начальственной комиссии, возглавляемой главным кадровиком Сестричкиным. Поставить ему в вину можно было лишь то, что он не произвел влагалищного исследования пациентки. Но для того, чтобы так поступить, у Сарычева имелись веские мотивы.
Выговор ему тем не менее дали. Раз вышел такой шухер, то без выговора никак нельзя. И премии, разумеется, лишили, потому что тем, у кого есть выговоры и замечания, премии не полагаются. Заведующей и старшему врачу тоже дали по выговору и тоже с лишением премий. А заведующей еще и главный врач с глазу на глаз сказал:
— Спасибо вам огромное, Анна Петровна! Мне в департаменте этот случай то и дело припоминают. И в газете, между прочим, ославили не вас, а меня!
Статья в газете с семисоттысячным тиражом называлась длинно и ехидно: «Наше дело — не рожать! Привез, скинул и бежать!» И в адрес московской «Скорой помощи» в этой статье не было сказано ни одного доброго слова. Только плохие. Ничем, мол, скоропомощники заниматься не хотят, думать не хотят, лечить не хотят, а только отвозят пациентов в больницы, причем не куда надо, а как придется. Так, может, пора убрать со «Скорой» врачей с фельдшерами, оставить одних водителей и переименовать «Скорую помощь» в «медицинское такси»? Короче говоря, автор статьи изгалялся как мог. И в каждом абзаце упоминал фамилию главного врача. Ну кому такое может понравиться?
Вот после этого случая заведующая подстанцией и решила избавиться от Сарычева, а заодно и от Вяткина. Видеть она их больше не могла. Как видела, так сразу аппетит теряла. Да и повторения чего-то в том же духе тоже боялась. Главный недвусмысленно дал понять, что следующее ЧП на подстанции поставит жирную точку в карьере заведующей. А ей было всего сорок лет, и она считала заведование подстанцией всего лишь ступенькой в своей карьере.
От придирок Сарычев с Вяткиным легко отбивались. Или просто отмалчивались. Увидев к себе такое предвзятое отношение, они подтянулись, начали предельно ответственно относиться к работе и перестали шутить на вызовах. Зато на подстанции отрывались на всю катушку. Заведующая очень скоро поняла, что, придираясь к ним, она рушит свой авторитет, выставляет себя на посмешище. Им-то что? Им как с гуся вода, но каждая новая придирка рождает очередную историю, в которой заведующая предстает дурой.
— Надеюсь, вы понимаете, что нам с вами трудно ужиться на одной подстанции, — сказала заведующая Сарычеву в качестве ultima ratio regum[25].
— Мне вы не мешаете, — улыбнулся Сарычев, — но если вам хочется уйти на другую подстанцию, то дело ваше.
Разумеется, этот разговор мгновенно стал очередной историей из цикла «Кардинал против мушкетеров», то есть «Заведующая против хороших ребят».
В результате заведующая оставила Сарычева и Вяткина в покое, но всячески демонстрировала им свое высочайшее неодобрение. Не то, чтобы надеялась выжить, надежды давно погибли, а просто не могла переступить через свою неприязнь. От всей этой истории заведующей была только одна прибыль — ввиду постоянного угнетения аппетита при виде довольных физиономий Сарычева и Вяткина она похудела на восемнадцать килограммов, которые были явно лишними. Подстанционные дамы завидовали и вымаливали рецепт чудодейственной диеты. Заведующая уклончиво отвечала:
— Никакой диеты, я просто ем мало.
О истинной причине своего похудания она благоразумно никому не рассказывала. Проболтаешься, а потом этот придурок Сарычев станет говорить, что ты по нему сохнешь. Вот уж будет позор так позор!
В один прекрасный (а если честно, то не очень) день у регионального объединения, в которое входила подстанция, сменился директор. Новый директор по каким-то непонятным или, скорее, неизвестным общественности причинам невзлюбил заведующую подстанцией и начал под нее подкапываться. Можно было бы сказать, что это сработали кармические законы, обернув против заведующей то, что она пыталась сделать Сарычеву и Вяткину. Но если кто в карму не верит, то может просто считать, что произошло такое вот поучительное совпадение.
Директор подстанции перетянул на свою сторону старшего врача, которому пообещал место заведующей, и нескольких сотрудников подстанции. Сотрудникам за содействие в свержении заведующей тоже были обещаны какие-то плюшки-пряники, кому перевод на специализированную бригаду, кому — должность старшего врача, кому — направление на вожделенную переквалификацию.
Тучи вокруг заведующей все сгущались и сгущались, то есть кляузы на нее писались все чаще и чаще. Кляузы писались на имя главного врача «Скорой». Директор регионального объединения, запустивший этот процесс, предпочитал оставаться в белых одеждах и при чистых руках. Пускай уж главный врач примет решение снять заведующую без его непосредственного участия.
Заведующая уже потеряла было надежду и сопротивлялась из последних сил, по инерции, примерно так, как сопротивлялись в мае сорок пятого года недобитые фашисты. Перспектив у нее не было никаких. Она даже уже начала вести переговоры о месте врача приемного покоя в одной из ведомственных больниц. Ведомственная больница была выбрана с умыслом. В ведомственную больницу преимущественно возила пациентов ведомственная «Скорая», и это было заведующей на руку. Ей хотелось свести общение с бывшими подчиненными к минимальному минимуму. А то начнут злорадно сплетничать: «Анечка-то наша теперь в приемном покое пашет…» Тьфу на них! Сколько добра людям сделала, в том числе и старшему врачу, гаду подколодному, но никто этого добра не помнит.
И вдруг — тучи рассеялись!
Старший врач ни с того ни с сего написал заявление об увольнении по собственному желанию. Когда заведующая спросила о причинах, промямлил что-то невразумительное, вроде бы как получше работу нашел, а где — не сказал.
Двое из врачей-стукачей перешли на другие подстанции, а один уволился. Якобы на платную «Скорую», а на самом деле непонятно куда. И все это произошло в течение одной недели! Впору было поверить в чудо.
С крепкими тылами любой начальник чувствует себя уверенно. В ходе приватной беседы с директором регионального объединения заведующая напомнила, что любая палка имеет два конца. То есть дала ему понять, что если он не уймется, то сильно пожалеет. Директор был крайне удивлен и сильно угнетен потерей всей своей агентуры на подстанции. Ему стало ясно, что враждовать с таким опасным противником, как заведующая, очень непросто. Лучше поладить. Худой мир, как известно, предпочтительнее доброй ссоры.
— Больше никогда-никогда… — заверил директор.
— Бывает, — снисходительно ответила заведующая.
На том они и поладили. Директор изменил свое поведение не только на словах, но и на деле. Когда на подстанции что-то происходило (а на любой подстанции всегда что-то да происходит), не спешил с оргвыводами, а звонил и мягко интересовался, не нужна ли помощь. Короче говоря, из грозного тирана превратился в такую пусечку-дусечку, что хоть замуж за него выходи.
Тучи рассеялись, но недоумение у заведующей осталось. «Что же все-таки произошло? — думала она. — Или же это просто совпадение?»
Тайну двух океанов, то есть двух сотрудников, выдал водитель Агеев. Поддал по своему обыкновению после суток прямо на подстанции, вышел покурить на улицу и сказал доктору Петрову:
— Ты вот, Саша, тюфяк-тюфяком, а Колька (Сарычев) и Сережка (Вяткин) — орлы!
Петрова на подстанции не любили — подлый, скупой, все мысли только о карьере.
— С чего же это они такие орлы? — обиженно спросил Петров.
— А хотя бы с того, что Аньпетровну нам уберегли, — ляпнул Агеев. — А то бы, чего гляди, тебя бы заведующим назначили, правильный ты наш. Тогда бы половина народу повесилась, а другая половина уволилась.
Петров скользкую тему дальше развивать не стал. Обозвал Агеева «старым дураком» и ушел на кухню пить чай. Тему развила диспетчер Сироткина, услышавшая этот разговор. Вцепившись в Агеева клещом безжалостным, она быстро вытянула из него всю правду. Оказалось, что Сарычев с Вяткиным провели тайную работу с каждым из директорских агентов. Работа проводилась по простой и доходчивой схеме: «Уймись и вали на хрен с подстанции, а то все твои грехи разом всплывут, мы уж постараемся». А кто же из сотрудников без грехов? И кто лучше знает эти грехи, чем коллеги с подстанции? Разве что сам грешник.
Агенты пробовали удивляться:
— А вам-то какое дело? Она же вас самих выжить хотела!
— Какое наше дело — это наше дело, — отвечали борцы за справедливость. — Вы лучше о своих делах думайте. И помните, что на подстанции вам покоя не будет.
Первым капитулировал старший врач. После того, как он подал заявление, слиняли и остальные агенты. Директору никто из них своих мотивов объяснять не стал. Не нужен был им уже директор. Те, кто остался на «Скорой», перевелись на подстанции другого региона.
— Зачем вы это сделали? — спросила заведующая. — Я вам, конечно, очень благодарна, но характер наших отношений не позволял ожидать чего-то подобного. Так зачем же?
— Да просто мы к вам привыкли, Анна Петровна, — ответил Вяткин. — Сработались, притерлись. Неохота было к новому начальству привыкать. А уж если бы Гаврилу вместо вас назначили бы, то на подстанции вообще невозможно бы стало работать. У вас тоже характер не сахар, но вы умная. А Гаврила был вредный дурак.
Гаврилой на подстанции прозвали бывшего старшего врача Евгения Гавриловича.
После этих слов заведующая даже прослезилась.
Все трое до сих пор работают на той же подстанции. Сарычев стал старшим врачом, а Вяткин — старшим фельдшером. Оба они не хотели уходить с линии на более спокойную и более скучную работу. Даже с учетом выигрыша в зарплате (у начальства нет надбавок за работу в ночное время и возможности работать на полторы ставки, но зато сами ставки выше, а уж премии не идут ни в какое сравнение с «рядовыми»). Но заведующая уговорила. Главным ее аргументом был такой: «Я же только вам могу доверять».
А коварного директора региональной зоны вскоре сняли за развал работы на своей подстанции. Даже года он в директорах не проходил. И поделом ему. Как говорится: «Не все коту творог, бывает, и мордой об порог».
Таинственное исчезновение
История эта произошла в далеком 1994 году, когда у сотрудников «Скорой помощи» не было «ведомственной» формы. Работали в белых халатах, которые к обеду обычно становились серыми в горошек — капли крови и прочих жидкостей на фоне грязи. А что вы хотите при такой работе? Ничего? Тогда слушайте дальше.
Среди специализированных скоропомощных бригад психиатрические стоят особняком. Как элита элит, сливки сливок и аристократы из аристократов.
Любую другую специализированную бригаду при нехватке обычных линейных бригад могут направить на непрофильный вызов — лечить гипертонию или щупать больной живот. Психиатрическую — никогда.
На обычных линейных бригадах при нехватке народа врачи и фельдшеры могут работать в одиночку. А что такого? Справляются, потому что деваться им некуда. А у психиатров бригада всегда состоит из одного врача и двух фельдшеров. Иначе — никак. Иначе им несподручно будет после смены на троих соображать.
На психиатрической бригаде появился новый доктор по фамилии Мартынов, отставной майор медицинской службы. И сразу же пришелся ко двору, поскольку человеком он был общительным и компанейским. Рубаха-парень, свой в доску. Таких повсюду и везде любят.
Мартынов обладал всеми необходимыми качествами для работы на «Скорой»: знаниями, умением быстро соображать, крепкими нервами и физической силой. Скоропомощным врачам-психиатрам хорошая физическая подготовка крайне необходима. Какими бы дюжими и опытными ни были фельдшеры, далеко не каждого возбужденного больного они смогут скрутить вдвоем. Часто требуется помощь врача, а иногда и водителя приходится привлекать для того, чтобы справиться с каким-нибудь субтильным субъектом. Возбужденные психические больные — народ могучий, настоящие чудо-богатыри.
Пил Мартынов тоже правильно, то есть в меру. Выпьет после дежурства с фельдшерами бутылку водки за все хорошее и идет домой бодрячком. Через двое суток таким же бодрячком, но трезвым как стеклышко приходит на дежурство.
Короче говоря, идеальный сотрудник. И когда этот идеальный сотрудник однажды ночью вдруг таинственно исчез на территории тринадцатой (вот она — чертова дюжина!) психиатрической больницы, фельдшеры и водитель не знали, что и думать. Пошел доктор сдавать в приемное отделение пациента (смирного, потому и в одиночку) и пропал с концами.
После сорокаминутного ожидания бригада начала проявлять беспокойство. Всякое в жизни бывает. Врач приемного покоя может не сразу выйти, а медсестра психического больного без врача никогда и ни за какие коврижки не примет. Ей потом эти «коврижки» в одно место засунут, да так, что мало не покажется. В психиатрии не только пациенты дрессированные, но и средний медперсонал. Да и младший тоже. Боже упаси без врачебного дозволения самостоятельность проявить.
Врач приемного покоя может усомниться в том, что пациенту показана госпитализация. Мало ли, что он дома всю посуду перебил, кидаясь ею в жену. После успокаивающего укола такой метатель молота становится тише воды ниже травы. Возможно, что врач приемного покоя пожелал пообщаться с пациентом. Для выяснения показаний к госпитализации.
Но не сорок же минут! Бригада на дежурстве, в конце концов!
— Может, он заблудился? — подумал вслух один из фельдшеров. — Новый человек, не привык еще.
— Да как там можно заблудиться? — удивился другой. — Не лабиринт с Минотавром. Потом, всегда можно спросить, где выход. Нет, тут что-то другое…
— Удивляюсь я, на вас глядя, медики хреновы! — вступил в разговор водитель. — Призовите на помощь логику и подумайте о самой простой причине. Живот у него прихватило, это единственная причина для задержки. Ничего, сейчас облегчится и придет.
Прошло еще полчаса. Диспетчер уже интересовалась по рации, куда пропали. Ей бодро соврали, что уже возвращаются на базу, только вот на заправку заедут.
Еще через пятнадцать минут всем троим стало ясно, что с доктором случилось что-то нехорошее. Ни облегчаться, ни сдавать больного, ни блуждать по больнице столько времени невозможно.
— А я сразу понял, когда эта дура доктора борщом облила, что не к добру это, — бухтел водитель. — Если человека чистой водой обольют, то это на счастье. А если чем другим, то к беде.
Мартынова облила борщом жена того самого пациента, которого он полтора часа назад повел сдавать. Тетка оказалась дурой, под стать своему муженьку. Не исключено, кстати, что они познакомились в психдиспансере, когда в очереди сидели. Ну разве нормальному человеку придет в голову дать мужу с собой в больницу кастрюлю борща? Да еще и так вот, «голяком», без сумки. Побежала следом с кастрюлей в руках, споткнулась на лестнице, да выплеснула весь борщ на шедшего в арьергарде Мартынова. Облила весь халат так, что его пришлось снять.
В истории с борщом Мартынов в очередной раз показал свой спокойный характер. Другой бы ругался на чем свет стоит, а этот молча снял халат, как будто так и надо, и бросил в салоне в угол — поменяю на подстанции. Водитель всю дорогу до больницы морщился — что за борщ такой, воняет хуже помоев.
Один из фельдшеров вошел в приемное отделение, а другой решил пройтись вокруг корпуса. Вдруг Мартынов вышел через какой-то другой выход и теперь блуждает по территории? Спустя четверть часа оба встретились на том же месте, где и расстались, — у входа в приемное отделение. Переглянулись, вздохнули и развели руками.
— Здешнего врача я не видел, — доложил тот, что заходил внутрь, — но медсестра сказала, что никакого постороннего не видела. Я пробежался на всякий случай по коридорам, но там везде пусто.
— На улице тоже пусто, — сказал другой фельдшер. — Только кошки бегают.
Закономерно — третий час ночи. Кому же еще в это время по больничной территории бегать?
Пришлось рассказать диспетчеру подстанции правду. Для того чтобы эта правда не стала достоянием всей скоропомощной общественности, а прежде всего диспетчеров оперативного отдела, переговоры велись по телефону из отделения (мобильники на станции «Скорой помощи» в 1994 году были только у главного врача и его заместителей). Диспетчер отчитала за ложь и велела ждать на месте. Сама же по телефону связалась с приемным отделением больницы. То есть позвонила на тот же номер, с которого с ней только что разговаривал фельдшер и пообщалась с дежурной медсестрой. Та подтвердила слова фельдшера. Да, ищут тут вашего доктора, а его нигде нет. Дежурного врача к аппарату подзывать отказалась — занят, мол, с пациентами. Скорее всего, врала, просто будить не хотела, но диспетчер на разговоре с врачом настаивать не стала.
Ей и так все было ясно.
У Мартынова наступило острое сумеречное помрачение сознания. Психиатры тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Опять же, сам характер работы действует на психику разрушающе. Недаром же говорится: «с кем поведешься, от того и наберешься». Мартынов, скорее всего, вышел через другой выход и ушел куда-то в ночь. В Москве его хрен найдешь, да и не скоропомощное это дело. Пускай милиция ищет.
Бригада получила приказ возвращаться на подстанцию, где фельдшеры проспали до утра сном праведных, потому что диспетчер сняла всю бригаду с линии. Психиатрическая бригада без врача работать не может.
Диспетчер для очистки совести позвонила по «ноль-два». Так, мол, и так, у нас на территории тринадцатой психбольницы доктор исчез. Ей на это ответили, что заявления о пропавших людях подаются в установленном порядке в территориальные отделения, причем в письменном виде. Короче говоря, идите девушка лесом и не мешайте работать.
Утром подстанция развлекалась созданием версий, объясняющих загадочное исчезновение Мартынова. Во внезапное помрачение сознания как-то не верилось. Ну не производил доктор Мартынов впечатления человека, у которого могло бы внезапно помрачиться сознание.
— Его, наверное, чебуречники похитили, — предположил фельдшер Фефелов, скудоумие которого с лихвой компенсировалось богатым воображением. — Там рынок неподалеку, вот они по ночам и выходят на отлов одиноких прохожих. Вполне могут и на больничную территорию проникнуть, а почему бы и нет? Вышел он через черный ход, а они тут как тут. Мешок на голову и уволокли. Сейчас уже, наверное, разделывать заканчивают. Был человек, а стал чебурек.
— Да ну тебя! — отмахивались от Фефелова коллеги. — Скажешь тоже.
— А что тогда произошло?! — строго спрашивал Фефелов. — Объясните, будьте так любезны! Только не говорите, пожалуйста, что он устал и пешком пошел домой отдыхать.
— Чебуречники крадут не людей, а собак, — сказал доктор Мкртчян, горячий сторонник существования внеземных цивилизаций. — А вот инопланетяне похищают людей. Для изучения. Мартынов вполне подходит на роль исследуемого объекта. Средних лет, здоровый, умный, образованный, общительный, симпатичный. С таким приятно иметь дело.
— Да бабу он там встретил! — убеждал фельдшер Ласточкин, подстанционный Казанова. — Бывают же такие бабы, мимо которых пройти нельзя! Вот ему такая и попалась. Потерял от страсти голову, затащил ее в укромный уголок, и пошла любовь кочегарить! Придет на следующее дежурство — поделится впечатлениями.
— Что за чушь! — возмущалась диспетчер Боброва, положившая глаз на Мартынова с момента его появления на подстанции. — Игорь Олегович не такой, чтобы на каждую проходящую мимо б…дь западать! Он человек с принципами, бывший офицер!
Истина лежала на поверхности, но до нее так никто и не дошел.
— Это же элементарно, Ватсон! — сказал бы Шерлок Холмс. — Если человек исчез в больнице, значит, его нужно искать в больнице!
Дело было так.
— Подождите, врач сейчас придет, — сказал Мартынову охранник.
Мартынов и пациент сели на банкетку. Мартынов за день сильно устал (хлопотным выдалось дежурство), поэтому сам не заметил, как задремал. А пациент заметил, что доктор заснул. И в его голове созрел замечательный план — бежать из этой проклятой больницы, в которой, кроме горя и обид, ничего ожидать не стоит.
И он бежал. Тихой мышкой прошмыгнул в боковой выход и ушел далеко-далеко в ночь.
А Мартынов остался дремать на банкетке. Без халата (тот, как уже говорилось, был облит борщом и непригоден для ношения), с сопроводительным листом в руках.
Врач приемного покоя удивился: ну вконец обнаглели «скорики», усадили психа на банкетку, сунули ему «сопроводилку» в руку и слиняли. Но звонить в оперативный отдел и высказывать свое возмущение действиями бригады не стал, поскольку пребывал в хорошем расположении духа. Принял недавно стакан и блаженствовал.
Разбуженный Мартынов пытался объяснить, что это ошибка, что он не псих, а врач-психиатр, даже латынью изо рта брызгал, но все это не произвело ровным счетом никакого впечатления на коллегу из приемного отделения. Психически больные сплошь и рядом пытаются выдавать себя за здоровых людей, в том числе и за докторов, а уж запомнить немного латыни для пациента со стажем не представляет труда. Возбужденного Мартынова быстро успокоили и госпитализировали в отделение для буйных.
Проснувшись утром, Мартынов снова начал возмущаться и качать права. Ему добавили успокоительного, в том числе и разок кулаком по морде, уж больно нагло он себя вел.
Истина открылась только в первом часу, во время обхода заведующего отделением. Мартынова с извинениями отпустили и даже довезли до дома на больничной машине.
Эта история имела все шансы на то, чтобы стать легендой, но почему-то превратилась в анекдот. Ее помнят и по сей день, несмотря на то что прошло более двадцати лет, но не верят, что так оно и было на самом деле.
9
Приставка «олиго-» указывает на малое количество, немногочисленность чего-либо. Например, олигофрения — умственная отсталость (в дословном переводе с греческого «малоумие»).
10
Сопроводительный лист — документ, заполняемый бригадой «Скорой помощи» при госпитализации пациента и остающийся в стационаре.
11
Кохлеарная имплантация — операция по слухопротезированию, в ходе которой в ушную раковину вживляют специальное устройство, состоящее из акустического приемника и процессора.
12
Повторных вызовов к тому же пациенту в течение одной суточной смены.
13
Отказов в госпитализации пациентов в приемном отделении. Это происходит в тех случаях, когда бригада «Скорой помощи» привозит пациента, вообще не имеющего показаний для госпитализации или имеющего показания для госпитализации в другой, специализированный стационар (например, в инфекционную больницу).
14
Расхождение диагнозов, поставленных бригадой «Скорой помощи» и врачами стационара.
15
То есть уже отработавшая положенное время дежурства.
16
Щит, предназначенный для транспортировки пациентов со спинальной травмой, т. е. с травмой позвоночника.
17
«Доской» на скоропомощном жаргоне называют спинальный щит, используемый для переноски и транспортировки пациентов с травмой позвоночника.
18
Нестабильная стенокардия, состояние, угрожающее развитием инфаркта миокарда.
19
То есть — без возвращения на подстанцию.
20
Гистологическое исследование представляет собой изучение образцов тканей под оптическим микроскопом.
21
Расхождения клинического и патологоанатомического диагнозов третьей категории — это такие случаи, при которых неправильное выставление диагноза повлекло за собой неправильное лечение, приведшее к смертельному исходу.
22
Бред — это расстройство мыслительной деятельности, а мания — это болезненное сосредоточение сознания и чувств на какой-либо одной идее.
23
Ларингоскоп — медицинский прибор, используемый для обследования гортани и введения пластиковых трубок в трахею с целью обеспечения проходимости дыхательных путей. Имеет форму буквы Г.
24
Асцит (устар. «брюшная водянка») — скопление свободной жидкости в брюшной полости.
25
Ultima ratio regum (лат.) — последний довод королей.
Примечания
1
Жаргонное название машины «Скорой помощи» (в переводе с немецкого — «бригадная машина»).
(обратно)2
Анамнез — совокупность сведений о развитии болезни, об условиях жизни пациента, перенесенных им заболеваниях и т. п., получаемых при медицинском обследовании путем расспроса самого пациента и/или знающих его лиц.
(обратно)3
Патогенез — механизм зарождения и развития болезни.
(обратно)4
Прекурсор — вещество, участвующее в реакции, приводящей к образованию конечного вещества.
(обратно)5
Регион (полностью — региональное объединение) состоит из нескольких близко расположенных подстанций московской «Скорой помощи»; одна из подстанций является головной, ее заведующий одновременно является директором регионального объединения. В настоящее время на Станции скорой помощи города Москвы насчитывается десять региональных объединений.
(обратно)6
Куст — жаргонное название регионального объединения станции «Скорой помощи».
(обратно)7
«Актив» — сокращенное название активного вызова, то есть такого, который делают не пациент или его родственники, а медицинские работники.
(обратно)8
Интубация трахеи — введение специальной трубки в трахею с целью обеспечения проходимости дыхательных путей.
(обратно)

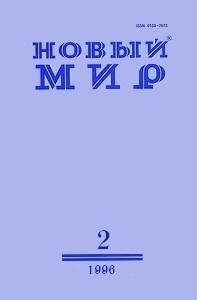



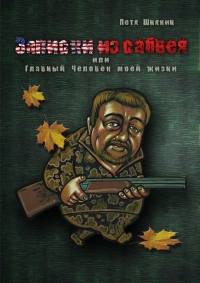
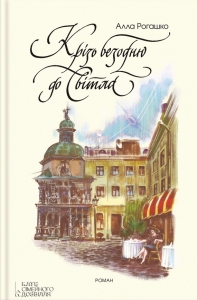


Комментарии к книге «Хроники безумной подстанции, или доктор Данилов снова в «скорой»», Андрей Левонович Шляхов
Всего 0 комментариев