©Хадживатов-Эфрос К., тексты, 2013
©Петровская Е. А., иллюстрации, 2013
©Геликон Плюс, макет, 2013
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
©Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)
Посвящается моей маме…
От автораВсе, что здесь написано,
и
было,
и не было,
но возможно и не возможно.
Может быть,
кто-то узнает
себя,
а
кто-то – не узнает.
Главное – любите друг друга
и
не обижайте…
Пьесы Домовой (комедия в шести сценах)Действующие лица:
Шоропов,
Шоропова,
Инна – их дочь,
Роман – их племянник.
Сцена первая
(Шоропов у себя дома. За окном идет снег. Под громкий звук телевизора он одновременно листает книгу, жует бутерброд и пьет чай из стакана. За стеной раздается плач ребенка. Шоропов встает и шаркает по полу от окна к дверям комнаты. Заходит Шоропова.)
Шоропова (кричит) . Эдик, выключи звук, я тебя прошу! Иначе я выкину телевизор.
Шоропов . Так, господи, выкини его и все! В чем дело? Тебя же не волнует, что я так сосредотачиваюсь. Только постучи соседям: то, что у них там плачет – пусть оно перестанет. Постучи им в стенку и погромче. Я уже сейчас почти поймал свое состояние. А ты вот заходишь, Наденька, и шумишь!
Шоропова (выключает телевизор) . Ребенка невозможно успокоить, ты же знаешь. Это тебе не радиоприемник, который выключить можно. Это живой человек!
Шоропов. Мне смешно! Как будто я не понимаю! Но мне очень и очень тяжело это слушать. Я эти плачи не переношу!
Шоропова. Ну, что же, убить его? Он иначе не замолчит.
Шоропов. А почему же они не на даче? Ребенку нужен воздух.
Шоропова. На улице зима.
Шоропов. Ах, да! (Пауза.) Я не могу работать! Пусть все летит прахом, я не могу! (Ложится на диван.)
Шоропова. Ты хочешь еще чая?
Шоропов. Где-то у меня была здесь веревка.
Шоропова. Я ее уже лет как десять выкинула.
Шоропов. И кто тебя просил?
Шоропова. Это же все-таки твой внук.
Шоропов. Я никогда не хотел, чтобы она его приводила сюда. Пусть едут.
Шоропова. Тебе надо быть терпеливее.
Шоропов. А если я ненавижу?
Шоропова. Значит, перебори себя. Заставь. Значит, стань сам моложе и пойми, что дочери некуда деться.
Шоропов. Мне этого не понять. Я теперь совсем не могу работать.
Шоропова. Хочешь, я тебе помогу?
Шоропов. Хочу. Но как?
(Плач ребенка.)Это подло – мешать отцу! Подло заводить свои порядки! Я уважаемый человек. Я на нее всю жизнь положил. А она мне внука принесла. Я не прощу ослушания!
Шоропова. Тебе надо бы подстричь ногти.
Шоропов. Я не могу найти то слово. Не могу его найти. Как я разгадаю эту головоломку? (Показывает Шороповой газету.)
Шоропова (разглядывает слово). Я не знаю, что это.
Шоропов. Любой кроссворд для тебя – дремучий лес!
Шоропова. Я растила дочь.
Шоропов. А я ездил… Я строил. А теперь никому стал не нужен. Даже внуку, который мешает моей голове разгадать это слово.
Шоропова. Может быть, поспишь.
Шоропов. Куда там! Заело. Пока не найду ответа, не засну. (Ходит.)
Шоропова. Я принесу тебе печенья.
Шоропов. Она когда-нибудь уедет?
Шоропова. Ты должен ее простить.
Шоропов. Я эту квартиру своими руками…
Шоропова. Она твоя дочь! (Уходит из комнаты.)
Шоропов (кричит). Дайте покой людям! Уймите дитя! Накормите его или усыпите! И чтоб я увидел, наконец, твоего мужа! Пусть придет и извинится за все, что сделал. Имею же я право заниматься своими делами тогда, когда хочу, а не тогда, когда уснет твой сын!
(Заходит Инна.)Инна. Папа, ты так громко кричишь, что Петенька испугался и затих. Зачем ты кричишь, папа?
Шоропов. Выйди отсюда.
Инна. Папа, мы должны покончить навсегда с нашими разногласиями.
Шоропов. Выйди отсюда! Я с тобой не разговариваю. (Пауза.) Как скучно на все это смотреть! Как мерзко осознавать, что рядом живут люди-паразиты.
Инна. А что ты бесишься-то?
Шоропов. Они еще о чем-то там говорят! Ха-ха! Не мешайте мне думать. Если сами не умеете, так другим дайте. Дайте думать!
Инна. Ты сам виноват.
Шоропов (кричит). Шоропова, уведи отсюда напоминание о своем бесстыдстве!
Инна. Как ты можешь выгонять родного человека?
Шоропов. Я глухой! У меня пробки в ушах! (Пауза.) На, посмотри. (Дает Инне газету.) Может, твои мозги почище.
Инна (после паузы). Я никогда не умела разгадывать кроссворды.
Шоропов. А что вы умеете-то? Только вот это. Кому мы страну отдаем в руки? Пустым малообразованным куклам. Когда твой негодяй, наконец, объявится? Я желаю его отчитать!
Инна. Папа, сколько можно? У меня тоже больное сердце! Перестань мне напоминать!
Шоропов. Я тебя просил не заходить в мою комнату?
Инна. Ты же знаешь, как мне тяжело одной.
Шоропов. Поэтому надо врываться сюда?
Инна. Если бы не твои упреки, Игорь никогда бы не ушел.
Шоропов. А кто это такой?
Инна. Папа!
Шоропов. А! Его вот так зовут, оказывается! Видишь, даже не запомнил. Промелькнул он тут как-то, я его и не разглядел толком. Значит, испугался навечно.
Инна. Папа!
Шоропов. Что «папа»?! Папа – человек с большой буквы! У него и мысли не было, у твоего папы, маму бросать с ребенком. Он пахал, чтоб ты… Ой, даже тошно продолжать. Попрошу тебя сюда больше не являться. Это мой личный кабинет. И я не желаю. (Пауза.) Чего Петька у тебя так заливается? Болит, что ли, у него что?
Инна. Не знаю.
Шоропов. Не знаю? А кто должен знать?! Тоже мне родительница! К врачу снеси! Пусть осмотрит. Сделай хоть что-нибудь полезное. Ох, как вы все меня доводите! Ждете не дождетесь, чтоб я поскорее на тот свет отправился!
Инна. Папа, это нечестно! Это жестоко! Никто о таком даже не думает.
Шоропов. Ну, так что? Игорь твой, значит, не вернется?
Инна. Нет.
Шоропов. Ну и правильно. Я вообще мечтаю один остаться. Чтобы убрались вы с матерью куда подальше и не висели здесь у меня перед носом. Мне необходимо пожить одному. Иначе я совсем вас возненавижу. Это же сколько лет вместе? И все вы, да вы. Вас так много. Теперь еще больше стало. Хорошо хоть твой Игорь меня понял. (Кричит.) Одиночества хочу! И чтоб долго! И чтоб не смели даже заходить. (Пауза.) Вот жизнь-то прошла, я ее даже по-настоящему-то и не почувствовал. Сколько всего вокруг! Столько, оказывается, хотелось! Вот скажи, почему я должен терпеть? Почему я должен сдерживаться, если мне не нравится так жить?
Инна. Папа! Папа, ты что-то плохое говоришь! Я сейчас заплачу!
Шоропов. Может, мне самому уйти? (Пауза.) У тебя измученный вид. Наверное, ночами не спишь. А спать надо. Мы около тебя тоже дежурили, тоже не высыпались. Но никому не мешали. И вообще я твоего крика в детстве наслушался, с меня хватит. Я не хочу больше этого слышать. Пусть не плачет. Понятно?
Инна. Ты, собственно, меня выгоняешь? Я так понимаю. (Пауза.) Скажи прямо, папа.
Шоропов. Я в своей квартире сам себе не принадлежу. Вы тут вытворяете, что хотите, а мне и вздохнуть нельзя. Так сколько ж можно!
Инна (выходя из комнаты). Я поняла, папа, поняла! (Уходит.)
Шоропов. А я не понял! (Включает громко телевизор. Через секунду опять слышен плач ребенка. Заходит Шоропова.)
Шоропова (громко). Нам уже в дверь звонят из-за твоего телевизора. Ты соседям мешаешь.
(Шоропов отмахивается, уткнувшись в газету. Шоропова уходит, через паузу возвращается, подходит к Шоропову, выключает телевизор.)Шоропов. Какого черта!
Шоропова. Там Роман приехал.
Шоропов. Какого черта! Какой еще, к лешему, Роман?!
Шоропова. Мой племянник. Говори, пожалуйста, потише.
Шоропов (чуть тише). Что ты от меня хочешь? Мне идти обниматься? Я его знать не знаю. Дайте додумать!
Шоропова. Роман приехал издалека. Выйди, поздоровайся.
Шоропов. Если он хочет, пусть сам здоровается.
(Заходит Роман.)Роман. Доброй ночи, дядя Эдик.
Шоропов (не глядя). Здрасьте.
(Пауза.)Шоропова. Ромочка, ты голодный наверно?
Шоропов. А как же! С такого мороза, да сытый! Ты откуда и куда?
Роман. Да я ненадолго. Я до лета. Пока поработаю, а потом в институт. Я тоже, как и вы, хочу. Потому прямо к вам. Мать сказала, вы поможете с работой. Вы же поможете? Вот я к вам. Мы же родственники?
Шоропов. Родственники. И что дальше?
Роман. Ну, я не знаю. Как получится. Вообще-то, мои тоже переезжать сюда собираются. У нас же рабочих мест-то не хватает. Мама сказала, что меня тетя Надя приютит. Мы же родственники. Они-то месяца через два переедут.
Шоропов. Оригинально!
Шоропова. А что же мать письмо-то не написала?
Шоропов. Можно было и позвонить.
Шоропова. Мы бы встретили.
Роман. Да, это точно, а то я заблудился. Проплутал. Вон аж к ночи нашел-то.
Шоропов. Можно было сначала позвонить, договориться. Может быть, у нас сложности.
Роман. Да какие у вас тут сложности? Мать сказала – комнаты у вас три. Так я тихий, вы не тревожьтесь. Мне бы работу. Вот когда они переедут, тогда да, пока еще квартиру купим. Надо ж заработать. Там-то продадим, так у вас же жилье дороже. Да к тому же мы же родственники. Мы бы вас с удовольствием встретили бы. Серьезно, не вру.
(Пауза.)Шоропов. Надя, мы в каком году познакомились?
Шоропова. В восьмидесятом.
Шоропов. Надо же, а я уже и забыл. Правда, сестру твою помню на свадьбе. Помню. Вы совсем не похожи друг на друга.
Роман. Я на мать похож.
Шоропова. Иди, Рома, на кухню, я тебя сейчас покормлю.
Роман. У меня там варенье, огурцы. Я выложу или что?
Шоропов. Тебе сколько лет, племянничек?
Роман. Скоро восемнадцать. Надо успеть в институт-то.
Шоропов. Почему вам дома не сидится? Почему вот я никуда не еду? И желания у меня такого нет.
Шоропова. Рома, иди.
(Роман уходит.)Можно не при нем недовольство проявлять?
Шоропов. А при ком? Еще не хватало! Что же это – гостиница, что ли? Колхоз? Понаехали тут! А мне где дышать?
Шоропова. Люди могут жить где угодно! (Пауза.) Я сама в шоке.
(Пауза.)Шоропов. За что же мне такое счастье?
(В комнату заглядывает Роман.)Роман. Простите, тетя Надя, я кажется, кран в раковине сорвал. Вода полилась!
(Резко уходит свет. Конец первой сцены.) Сцена вторая(Утро следующего дня. Комната Инны. В детской кроватке спит сын. Инна собирает вещи. Роман сидит в кресле.)
Роман. Твой папа, сестренка, не любит людей. Он некрасиво с ними разговаривает. Он злой. Я вот матери все расскажу про него. А ты хорошая. Только ты меня вчера защищала от его визга. Скажу честно, жалко, что мы брат и сестра. Я бы тебя… ну, сама понимаешь… Интересная ты девушка.
Инна. Я просто не люблю, когда отец такой, когда он всех обвиняет во всех грехах. Когда он сам виноват, что ему скучно.
Роман. Не уезжай, а? Кто меня защитит?
Инна. Он и тебя скоро выгонит, так что не беспокойся. Он всех выгонит и будет решать свои кроссворды.
Роман. А ты все равно не уезжай, а? Что там твои подруги? Тоже ведь ненадолго, а дальше-то что? Вот я, например – меня и с пулеметом не выставишь, если я что-то решил для себя. А я решил: раз места достаточно, то родственники должны уплотниться. Ничего, мне бы до приезда матери дожить, а там она поставит его на место. У меня папаша тихий.
Инна. Ты серьезно?
Роман. А что? Я – нахал! Я, конечно, в лицо ему ничего не скажу, на это мамаша есть. Но меня с места не сдвинешь!
Инна (смеется) . Бедный папа! Хотя, может, так лучше. Все-таки он обижает меня.
Роман. Это сразу видно. (Пауза.) Вообще-то у вас тут хорошо, уютненько. Чистенько. Только невесело. (Пауза.) А я кран специально сорвал. Вижу же все. Что ж я, дурак, чтобы не заметить, как меня встретили. Вот взял и отомстил. В следующий раз еще что-нибудь придумаю. Правильно, сестра?!
Инна. Я так не умею. Мне его все же жалко.
Роман. Так он же твой. Мне своего тоже жалко. Я с матерью ругаюсь из-за папки. Она его прямо мучает. А у вас наоборот. (Пауза.) Ничего, обустроимся. Родственники ведь.
(Пауза.)Инна. Он моему Игорю простить не может внука. Мы, видишь ли, без разрешения рожали. Надо было с ним договариваться, когда мне рожать.
Роман. Вот оно что! А я смотрю, где же твой мужик? Нет мужика! Ох, ты!
(Пауза.)Инна. А Игорь что, взял и ушел. Когда каждый день на мозги капают, да и за что? За ребенка! Какой нормальный человек выдержит? Вот я и одна. И Игорь тоже уехал, даже письма не напишет.
Роман. Жалко мне тебя. А мать что говорит?
Инна. Она как-то пытается наладить мои отношения с отцом, но это бесполезно! Я ведь его всегда слушалась. А рожать решила – не спросила. Ослушалась. Нарушила – наказана! Нет мне прощения!
Роман. Дурацкая история. Да что тут сделаешь? Может, со временем простит. Наверно, и вправду лучше уехать. Заскучает, заскучает – и позовет! Дочка, внук, эй, где вы?
Инна. Ты смеешься! Тебе еще и смешно? Замечательно!
Роман. Я-то что? Я стараюсь тебя поддержать. Стараюсь понять вас. Чтобы было как лучше. Мне же здесь еще жить. Это ты уходишь. Просто я бы себя в такой ситуации по-другому бы вел.
Инна. Да? И как же? В лицо вцепился бы? Исцарапал? Ну, как бы ты сделал?
Роман. Я бы его уговорил. Просто по-родственному. Зачем морды-то бить? Это всяк умеет. Тут и уметь нечего. Взял и треснул. А ты попробуй уговори. Когда тебя не слышат.
Инна. Я пробовала, у меня не получается.
Роман. А у меня получилось бы. Потому что я проще бы сказал: вот я есть я, и хрен ты меня сдвинешь. Сказал – и сразу как глухой бы стал: возражений не слышу, ни полслова не отвечаю. Как стена. И пусть бы попробовал проломить… Ничего не вижу, никого не знаю и не узна ю . Хоть головой о стенку стучи, хоть милицию зови! Я есть, и все тут! Вот так надо разговаривать с папой. (Пауза.) Чего-нибудь ему передать вечером-то?
Инна. Нет.
Роман. Это правильно. Вдруг вспомнит, что кого-то не хватает? Да?
Инна. Ты очень жестокий, братик!
Роман. Я честный! Не люблю вот эти ваши: «простите», «извините». Как считаю, так и говорю. Меня так мать учила. Я с детства прямой. Обидеть могу, это правда, но зато никаких гадостей исподтишка. А то вон улыбаются, притворяются. А сами что?
Инна. А сами никого не любят.
Роман. Во! В точку!
(Пауза.)Инна. Я ему просто позволяла так себя вести со мной. А теперь ни за что!
Роман. Правильно.
Инна. Никуда я не уеду!
Роман (после паузы) . Не понял.
Инна. Это и моя квартира. Останусь и не уйду!
Роман. А! (Пауза.) А он с работы придет, ругаться будет.
Инна. Ну и что?
Роман. Да ничего. Просто странно. То уходишь, то не уходишь. Непонятно как-то. Где стержень-то?
Инна. Я ему докажу, что я тоже с характером.
Роман. Характер – это, конечно, хорошо. Только зачем место-то занимать? И так шума от тебя сколько! Я вот полночи не спал от плача этого вот. А когда работать пойду, он вообще мешать будет. Мне же рано вставать надо. А тут писки, крики. А?
Инна. Ты чего, Рома? Ты же в гостях.
Роман. Я сказал – я человек прямой. Я в будущее заглядываю. И что это, скажи, за жизнь – с грудным ребенком через стенку? Я, может быть, покоя хочу, а тут плач беспрерывный.
Инна. Ты давай, убирайся давай из не своей комнаты! Иди, иди, не сиди тут!
Роман. А мне тут удобно.
Инна. А мне не удобно!
Роман. И что с того? Кто тебя слушать будет, мямля! Мне, кстати, для жилья эта комната больше нравится. Здесь светлее. Поняла?
Инна. Именно так?
Роман. Ага. А что?
Инна. А тебе не кажется?..
Роман. Не-а. Не кажется.
Инна. Это же хамство!
Роман. Вот еще! Это так, борьба мнений. Способ выживания.
Инна. Выживания? Я родителям поведаю об этом способе.
Роман. Я буду все отрицать. Скажу, что наговариваешь. Мне поверят. С тобой тут не считаются. А меня поймут. Сама посуди, я приехал, у тебя с ними конфликт, я еще тут под ногами. Во проблема! Решила меня оболгать. По-всякому можно повернуть, знаешь ли.
Инна. Интересно, каковы же твои намерения в дальнейшем?
Роман. Тебе могу сказать, потому что ты не выдашь. (Пауза.) Хочу занять чужое место и сделать его своим. Кстати, я очень откровенен, а это плохо. Хочу, знаешь ли, все иметь, что надо; хочу сразу, чтоб времени не тратить. Хочу сейчас. А здесь мне нравится.
Инна. Да кто же тебе это все отдаст?
Роман. Да вы же и отдадите. (Пауза.) Поживешь в наших условиях – поймешь, как надо отрывать с руками. По секрету говорю тебе, это все теперь только мое, а вы временные. Уезжай, а?
(Пауза.)Инна. Ты идиот?
Роман. Нет.
Инна. Но есть же законы.
Роман. Да я же никого убивать-то не собираюсь. Я как в революцию: забираю лишнее, а что лишнее – это я решаю сам.
Инна. Прямо страшно.
Роман. Так всегда, Инночка. Сначала не верится, а потом удивляешься, что все именно так. Делиться нужно. И придется. Потому что кто победил в бою, тому и добыча.
Инна. Ты очень умный, Ромочка!
Роман. А тебе ведь страшно! Значит, понимаешь, насколько я опасен.
Инна . Ты опасен? (Хохочет.) Да ты сегодня вечером вылетишь отсюда. Родственничек!
Роман. Вылетишь – ты! (Пауза.) И вообще, мне надоело разглагольствовать. И тобой я по горло сыт уже, во как! Я ведь могу спровоцировать все что угодно. Вот, смотри! (Берет с дивана пакет с колготками, вытаскивает их и обкручивает вокруг своей шеи и душит себя.) Мне задохнуться ничего не стоит. И тебя посадят. Довела!
Инна (бросается к нему, отбирает колготки). Я поняла! Не надо демонстрировать, поняла я!
Роман. Я-то выживу… Я-то смогу потом показать, кто меня душил, резал, стрелял, сбрасывал с крыши, топил в ванной, толкал под машину.
Инна. Я ухожу. Только не надо никаких таких страстей. Я найду способ с тобой разобраться.
Роман. К твоему сожалению, это невозможно. Некому за тебя заступиться. (Пауза.) Хочешь еще чуток правды? Вы все удобно живете, а мы там, у себя, должны локти кусать да облизываться, как тут у вас хорошо. Мы же все видим, телевизор смотрим. Ничего честно не делается. Мы этому учимся. Мы научились. Не такие уже лопухи. У меня тоже есть мать и отец. А чего они видели в жизни? Кроме проходной. Да и та теперь не работает. А я так не хочу. У меня другой план. И в этом плане вы должны поменяться со мной местами. Насмотрелся я, спасибо! По головам я лучше пойду. А вы же родственники – должны понять, что теперь наша очередь жить! (Пауза.) Кстати, сынишка твой спит себе и спит. Что это с ним? Дышит ли?
Инна (осматривает кроватку). Полнейший бред! Кто бы слышал. Явился победитель! (Собирает вещи.) Я потом долго буду смеяться над твоим итогом. Получишь ты сполна!
Роман. Уже уходишь? Странно. Так хорошо говорили. Жалко. Ну, ладно. Ты позванивай – вдруг что переменится, вдруг папа тебя назад кликнет… из темноты. Не стесняйся, я же не зверь. Должны деды и внуки встречаться иногда хотя бы.
Инна. Я поражаюсь твоей наивности.
Роман. О, я классный экспериментатор! Не обижайся, это все преходящее. Тебе ли не радоваться свободе от папы? От его злости и непонимания.
Инна. А кормить-то меня кто будет?
Роман. Найдутся добрые люди, помогут. Вот я нашел, например, теперь ты ищи.
Инна. А вот никуда я не денусь, понял? Не получишь ты этой комнаты! Я здесь жила и буду жить, понял? Дверь закрой, подлец!
Роман (смеется). Тихо, тихо! Все же в порядке. Пока! Пока все нормально. А потом.… (Идет к двери.) Поживем – увидим. Только запомни: я тебе ничего не говорил. А то, знаешь, всякое со мной может случиться.
Инна. Да сегодня же вечером и случится! Молчать я не буду!
(Роман, хохоча, уходит из комнаты. Инна садится на диван и плачет. Уходит свет. Конец сцены.) Сцена третья (Комната Шоропова. Вечер. Шоропов ругается с Шороповой.)Шоропов. У меня есть право! Право на свободу от всякой дряни.
Шоропова. Ты называешь дрянью нашу дочь?
Шоропов. Их много, всяких дряней вокруг. И она, в частности, и племянничек твой, кстати.
Шоропова. И твой, кстати.
Шоропов. Когда вы все провалитесь к черту под землю?
Шоропова. Ты послушай, что ты говоришь! О ком! И как ты это делаешь?! Как ты смеешь это делать?!
Шоропов. Почему вот вы, родные мне люди, считаете, что можете нарушать мой покой, надоедать мне вечно? А не один посторонний, чужой человек так не считает. Почему незнакомые люди не лезут ко мне со всякой ерундой? Почему они не пристают? А близкие лезут и лезут, не отстают! Какого черта? Я что, вам еще что-то должен? Я уже все вам отдал. И молодость, и деньги, и сердце. Я вас вырастил, обеспечил. Отстаньте, а?
(Пауза. Шоропова уходит из комнаты.)Ведь вот двадцать лет – одна и та же жизнь!
(Из шкафа вылезает Роман.)Роман. Дядя Эдик, мне так вас жалко, что плакать хочется. Ведь вы же святой человек! Если бы у меня такой отец был, я бы его на руках носил. Но вас здесь никто не понимает и никогда не понимал.
Шоропов. Ты что в шкафу делал?
(Пауза.)Роман. Прятался.
Шоропов. Прятался?
Роман. Мне страшно, понимаете? Я иногда прячусь. Это нервное. И не проходит. Я как испугаюсь, так сразу прячусь. Я люблю в шкафу прятаться. Сижу там тихонечко и жду.
Шоропов. Чего ж ты там ждешь?
Роман. Когда страх уйдет. А он такой прилипчивый.
Шоропов (проверяя шкаф). Так, может, тебе в шкафу пожить, а?
Роман. Не надо в шкафу… Шкаф – явление временное. Я хочу рядом с вами жить. Я хочу вас только видеть. Вы для меня пример стойкости и человечности.
(Пауза.)Шоропов. Дурнее чуши я не слышал.
Роман. Только не наговаривайте на себя. Вы же мизинца их не стоите. Ой, наоборот! И потом – ваша тонкая организация психики.
Шоропов. Ты где таких слов нахватался?
Роман. Вы думаете, я тупой? Ничего не знаю, не понимаю? А я, кстати, защищал вас перед вашей же дочерью, которая не стеснялась в выражениях при мне. Я был за вас! Я ей ответил!
Шоропов. Мне все равно, что она обо мне думает. Ее для меня нет больше!
Роман. Но мне-то не все равно. Я к вам расположен и полюбил. Как папу, а папу принято защищать.
Шоропов. Спасибо.
Роман. А мне не надо благодарности. Я от всей души. Я и в следующий раз за вас буду.
Шоропов. Ты только в шкаф мой больше не залезай, хорошо?
Роман. Я бы с удовольствием, но в тот самый момент могу не сообразить и залезть автоматически. Понимаете меня?
Шоропов. А ты постарайся сюда просто не заходить. Тебе что, места мало?
Роман. А у вас здесь очень интересно. И телевизор только в вашей комнате. А я телевизор люблю. (Пауза.) Вам же приятно, что мне здесь интересно, а не там?
Шоропов. Ничего мне не приятно!
Роман. Мне нравится, что вы честный. Другой бы изобразил радость. А вы не врете.
Шоропов. Чего тебе от меня надо, Рома?
Роман. Да ничего. Я просто посижу. Вы делайте, что хотите.
(Пауза.)Шоропов. Я бы один хотел.
Роман. Я понимаю ваши чувства. Я бы тоже хотел. А ведь вам ваша родня жить не дает, так?
Шоропов. Ну?
Роман. И это безобразие, правда?
Шоропов. Ну?
Роман. Что-то ведь надо делать.
Шоропов. Да ничего не надо делать. Я хочу один побыть в своем кабинете.
Роман. И это правильно. На то он и кабинет. А ведь вас фактически лишают этой возможности. То жена, то дочь. Так?
Шоропов. Ну, так! И что?
Роман. Ничего. Я факт констатирую. Смотреть на это больно! Я бы на вашем месте спрятался. Потому что страшно. Уехать вам надо куда-нибудь. И пусть ищут.
Шоропов. Зачем искать-то?
Роман. Ну, все-таки приятно, что нервничают.
Шоропов. Да ничего мне не приятно. Не надо меня искать. Я никуда не еду.
Роман. А вы не зарекайтесь. Потому как вы же не можете разных-то там выставлять за дверь. Это непорядочно. Вы же хороший человек. Значит надо уезжать от них, чтоб не лезли.
Шоропов. Что ты выдумываешь глупости всякие?
Роман. Помочь я хочу в вашей муке. Помочь и спасти. Вы мне дороги. Хоть вам я и не нужен вовсе. Хоть вы терпеть не можете меня. Но я не смотрю на это – ведь что я такое по сравнению с вами.
Шоропов. Рома.
Роман. Да.
Шоропов. Рома, ты в порядке вообще? Не ударился, а? Эти твои откровения меня пугают.
Роман. Ну, ударялся, и что? Чувствую я себя хорошо. Главное, пусть у вас все будет спокойно. А покоя вам здесь не дадут. Вам есть куда уехать?
Шоропов. Уехать? Уехать всегда есть куда. Уехать и не приехать.
(Пауза.)Роман. Зато как ценно ваше исчезновение – без слов и прощаний. Вот шум-то подымется!
Шоропов. Без прощания – это хорошо. То есть просто исчезнуть.
Роман. Ну!
Шоропов. Хитро. Долго думал?
Роман. Это в моем стиле. Вам будет очень хорошо.
(Пауза.)Шоропов. Не понимаю твоего дурацкого рвения.
Роман. Я такой человек, который все отдаст ради ближнего своего!
Шоропов. Дочь, говоришь, гадости говорила?
Роман. Говорила.
Шоропов. Ну, это ей так не пройдет! За это ей воздастся! Я ей сейчас покажу!
Роман. Сейчас-то зачем?
Шоропов (кричит). Эй, мадонна с младенцем! Соседка! (Стучит в стену, сразу начинает плакать ребенок.) Во, детеныш заквакал! Иди сюда, мамаша-одиночка!
(Входит Инна, за ней заглядывает Шоропова.)(Шороповой.) Тебя не звали! (Шоропова уходит.) Ну, доченька, как живется?
Инна. Замечательно, папочка!
Шоропов. Я тут многое узнал.
Инна. И что же ты узнал?
Шоропов. Вот, молодой человек поведал.
Инна. Да? И что же он тебе поведал?
Шоропов. Что ты меня по-всякому обзывала.
Инна. Да ну! Ни разу не слышала.
Шоропов. Не слышала?
Инна. Нет. Не случалось как-то.
Шоропов. А вот юноша слышал.
Инна. Ой, молодец какой! Какой прекрасный юноша!
Шоропов. Ты мне прекрати театральное представление! Это тебе не игра! Если ты посмела про отца мерзости говорить, а тем более думать, то не жить тебе под моей крышей! Ты и так все, что могла, нарушила.
Инна. А вы не хотите, молодой человек, рассказать моему отцу про ваш план? Не хотите правду сказать о том, что вы желаете эту квартиру захватить в свое пользование, а нас всех выгнать?
Роман. Чего только от злобы люди не скажут!
Шоропов. Инна, ты бы хотя бы следила за мыслями. Городишь полнейший бред. Как он такое может?
Инна. Он мне об этом сказал.
Роман. Сама посуди, если бы я так хотел, разве ж я сказал бы?
Шоропов. Вот это логично. Ты уже совсем спятила. Настраиваешь меня против родственников. Ну, давай что-нибудь плохое про мать теперь.
Роман. Может быть, не надо? Это же больно слушать.
Инна. Ты мне не веришь, папа?
Шоропов. Тебе?! Нет. После всего сказанного путь тебе отсюда, куда хочешь. Даю на сборы час. Звони, кому хочешь, и пошла вон!
Инна. Мне легче, я уйду. Чтобы не видеть того, что будет. Позовешь еще! Поблагодари свою ненависть, когда выть будешь!
Шоропов. Да как ты смеешь! Навсегда! С глаз долой!
(Заглядывает Шоропова.)Шоропова. Эдик, остановись!
Шоропов. Закрой дверь! Прекратите меня терроризировать! (Инне.) Уходи сейчас же!
(Инна уходит. Шоропова хлопает дверью, потом опять заходит в комнату.)Шоропова. Эдик, она не может уйти!
Шоропов. Не твое дело. Твое дело – котлеты.
Шоропова. Эдик, я уйду с ней.
Шоропов. И поживее!
Шоропова. Рома, ну скажи что-нибудь! Останови этот скандал! Ты же один здесь – нормальный человек!
Шоропов. Не ему решать! А мне!
Роман (вдруг). Надо остановиться и сосчитать до десяти. Мне кажется, вы, дядя, переборщили. Выгонять человека на ночь глядя нельзя.
Шоропова. Господи, спасибо за светлые мысли!
(Пауза.)Шоропов. Понимаешь, Ромочка, если не сейчас, то когда? Когда мне это сделать?
Роман. Неправильно это, не по-людски. Надо по-другому.
Шоропов. По-другому – это значит мне уходить?
Роман. Ну, наверно. Хотя, я не знаю. Решайте сами.
(Пауза.)Шоропов. Хорошо, оставим все на своих местах. Пусть остается. Пусть только посмеет хоть слово сказать. Иди, Шоропова, передай ей. И еще, никогда сюда не заходите. Кроме него. Если что-нибудь надо, только через него. Понятно?
(Шоропова уходит. Плач ребенка замолкает.)Слушай, племянничек, ты умеешь в шашки играть? Нет, лучше в шахматы. (Достает доску.) Садись.
Роман. Я не очень. Только правила знаю.
Шоропов. Через неделю будешь асом. Сегодня играем двадцать четыре партии. Надо только чаю заказать. Сходи, а?
(Роман уходит из комнаты, через некоторое время возвращается, за ним заглядывает плачущая Шоропова.)Ну, что там у вас?
Роман. Да уехала она, сбежала. Вот, тетя говорит.
(Пауза.)Шоропов. Закрой дверь, Шоропова, не мешай!
(Уходит свет. Конец сцены.) Сцена четвертая (Роман и Шоропов играют в гостиной в шахматы. Большой обеденный стол, шкафы, ковры, картины. Красиво.)Шоропов. Это какая по счету?
Роман. Триста девяносто восьмая. Триста девяносто семь – ноль.
Шоропов. Если бы на деньги играли, ты бы, братец, без штанов остался.
Роман. Только не надо, дядя, свое превосходство выражать. И без того понятно, что я не умею играть.
Шоропов. Знаешь, я вот думаю, как хорошо иметь свой дом, особенно зимой. За окнами мороз, а у нас батареи греют. И вот мы с тобой режемся в шахматы.
Роман. Вы, дядя, просто романтик. Как там, интересно, ваши поживают?
Шоропов. Но я же, в общем-то, если подумать, их не выгонял. Я попытался было, да потом отменил.
Роман. Ну, конечно, они сами ушли.
Шоропов. Ушли – значит, хотели уйти, да?
Роман. Ваш ход.
Шоропов. Сделаем перерыв. (Задумывается. Пауза.) В конечном итоге, кто прав? Я прав. Как ты думаешь?
Роман. Проиграйте хоть одну? Мне же обидно. У меня интерес пропадет.
Шоропов. Не люблю я проигрывать.
Роман. А я люблю? Вам-то легко. А мне каково? На улицу, что ли, идти?Шоропов. Ну и пойдешь. Еще две партии, и пойдешь. Как договорились. Если, конечно, хоть одну не выиграешь.
Роман. Я думал, это шутка.
Шоропов. Ты думал, что выиграешь. Я и сам так думал, когда обговаривал условия. Но сейчас, прямо смотрю, скоро таки на морозец побежишь. Предлагаю ехать к моим, на дачу. Там хоть печка есть.
Роман. Проиграйте, а? Вам же скучно будет без меня.
Шоропов. Уговор дороже денег.
Роман. Тогда я больше играть не буду. Я не хочу уходить.
Шоропов. А это уже нечестно. Если ты мужчина – держи слово. Кстати, очередной вам мат!
Роман. Что же вы сразу не сказали? Зачем перерыв брали? Поиздеваться, да?
Шоропов. Отдохнуть, подумать. Ну что тут поделаешь, если мат. Я-то ни при чем, это ты зеваешь фигуры. Расставлять?
Роман. Я устал, дядя Эдик. Все равно проиграю. Я лучше собираться буду. Да и поеду сразу на дачу.
Шоропов. Ага, совсем сдаешься! Ну что же, как хочешь. Препятствовать не буду. Сейчас объясню, как дорогу найти.
Роман. Не надо! Сам разберусь, без вашей помощи.
Шоропов. Ну, все, свобода. Слава Богу!
(Шоропов уходит в свою комнату. Пауза.)Роман. Ладно, дядя Эдик, я решил продолжить. Расставляю фигуры. (Расставляет фигуры на доске.)
Шоропов (возвращается в гостиную) . Ну-ну, дорогой друг! Продолжим.
(Играют. Шоропов вдруг быстро проигрывает.)Эй, эй! Я не понял! Ну-ка, вернем-ка ходы. Мне кажется, ты где-то сжульничал!
Роман. Я? Да как у вас совести-то хватает, так думать?! Умейте проигрывать!
(Пауза.)Шоропов. Так, еще одну.
Роман. А смысл-то? Все равно я остаюсь.
Шоропов. Еще одну!
Роман. Расставляйте.
(Расставляют. Играют.)Вот видите, как все обернулось. Думали-думали, надеялись-надеялись! И в одну минуту все надежды в прах.
Шоропов. Да, Господи! Одну из четырехсот партий и годовалый младенец выиграет.Роман. А вы ходите, ходите.
Шоропов. Да я-то хожу. Уже до мата недалеко.
Роман. Ну, это смотря кому.
Шоропов. Так-так. Надо поразмышлять. Ты как-то странно играть стал. Ты так не играл.
Роман. Видимо, научился.
Шоропов. Вот тебе раз! Ни с того ни с сего, и научился. А я вот так пойду.
Роман. А я так.
Шоропов. То есть?
Роман. Вот!
Шоропов. Ну, знаешь! Это уже слишком! Мат, что ли?
Роман. Сами видите.
Шоропов. Ты и раньше умел играть! Зачем было притворяться, а?
Роман. Еще?
Шоропов. Зачем обманывал?
Роман. Я же вас повеселил? А? Повеселил?
Шоропов. Ты меня обидел. Я думал тебе помочь, а ты исподтишка.
Роман. Да это же шутка.
Шоропов. Двухнедельная? Откуда только терпение?
Роман. Так ведь весь интерес-то в этом. Чтобы до конца дошутить.
Шоропов (хохочет). Дошутил? А теперь моя очередь. (Пауза.) Поддался я тебе, братец. Разыграл. Чтоб не уходил ты.
Роман. Ну, конечно, выкручивайтесь, выкручивайтесь. Я же видел, как вы обалдели от моих ходов.
Шоропов. Ну, говорю, поддался.
Роман. Ладно, давайте внеплановую сыграем. Без поддавков.
Шоропов. А на что?
Роман. Проверим друг друга. Узнаем, кто врет из нас.
Шоропов. Может быть, мы оба врем?
Роман. Я, например, не вру.
Шоропов. И я тоже. Разве ж я могу? Я не умею.
Роман. А я просто не вру. Потому что это я шутил!
Шоропов. Я тоже шутил. Я же сказал: не хотел, чтобы ты ушел. Вот ты и не ушел.
Роман. А я говорю, я сам выиграл. И это принципиально. Я умею играть!
(Пауза.)
Шоропов. До чего ты занудный и дотошный! Расставляй! Сейчас получишь. Но смотри, если проиграешь, телевизор три дня смотреть не будешь!
Роман. А если вы проиграете, то я три дня буду в вашем кабинете жить. С утра до вечера, один.
(Пауза.)
Шоропов. Только аккуратней там с книгами и вообще.
Роман. Вы уже сдаетесь?
Шоропов (расставляет фигуры) . Ну, в какой руке?
(Роман показывает и первый ходит. Играют.)
Играть он умеет! Как же!
Роман. А вы уж точно мастер!
(Задумываются.)
Шоропов. Я, знаешь, почему-то по Шороповой скучаю. Да и без внука как-то тихо.
Роман. Конечно, а когда они вернутся, опять выгоните. Знаем мы вас!
Шоропов. Ну, это ты не прав. Долгая разлука, видишь, сближает.
Роман. Ну, прямо очень долгая.
Шоропов. Не скажи, я раньше вот думал, уедут они и хоть год без них поживу. Невмоготу! А тут вот ночью снятся. А ты по матери скучаешь?
Роман. Мне и здесь хорошо. Я там так не отдыхал, как у вас. Там в тишине и спокойствии не побудешь. Мать всех на уши ставит. Все ей что-то не нравится.
Шоропов. А я вот скучаю, черт! Даже противно.
Роман. Да бросьте вы ерунду! Живете и хорошо. Я вас развлекаю?
Шоропов. Все-таки двадцать лет вместе были. Почти не расставались. Только когда в командировки ездил.
Роман. Ну вот, теперь начали сантименты разводить.
Шоропов. Так ведь это ж моя семья. Никого же больше нет.
Роман. Здрасьте! Вы еще заплачьте мне здесь!
Шоропов. Ну, родила она без спросу, и что? Что с того? Родила же внука, продолжателя рода. Не внучку же. Хотя и внучка хорошо.
Роман. Да что же вас понесло-то вдруг? Все же здорово было. Я вас, что ли, задел чем-то? Вы ходить будете?
Шоропов. А Шоропова со мной не осталась. Предала и понеслась к дочке.
Роман. Вот видите! А я-то остался.
Шоропов. А ты-то кто?
(Пауза.)
Роман. Я – Рома, племянник ваш.
Шоропов. А почему я с тобой живу эти две недели, а? Не скажешь, почему?
Роман. Потому что я так захотел. Потому что жалею вас.
Шоропов. А жена, значит, меня не жалеет? А ведь жена-то ушла из-за моего идиотизма. Из-за моего! А ты только вот под руку попался. Если бы тебя не было, ничего бы не было!
Роман. Ну, давайте, сваливайте все на меня! Я молодой, мне все нипочем!
Шоропов. Да, действительно, что это я! Сам виноват. (Пауза.) Как бы их так позвать обратно?
Роман. Что это вам, игрушки? Захотел – выкинул, захотел – вернул. Тут надо силы тратить. А вдруг у них другая жизнь уже? Другие люди рядом?
Шоропов. Какие люди? Какая еще жизнь другая?
Роман. Вы же не задумывались об этом. Вот вы со мной время проводите – а они еще с кем-нибудь. Вы ходить будете?
Шоропов. Ты хочешь сказать, что дочь и жена мне изменяют?!
Роман. По поводу дочери я не очень понимаю, как это возможно. А вот тетя Надя вполне еще может…
Шоропов. Ну, ты и фрукт!
Роман. Стоп, стоп! Я шучу. У вас же с юмором-то хорошо вроде!
Шоропов. Уже плохо!
Роман. Да чего вы терзаетесь? Хотите вину свою признавать, так признайте. Надо только и всего-то – на дачу съездить.
Шоропов. О, Господи! Какое это будет унижение!
Роман. Так а я-то про что? Я тоже про это. Но если вы страдаете, то это необходимо.
(Пауза.)
Шоропов (делает ход) . На тебя можно квартиру оставить?
Роман. А вы когда поедете?
Шоропов. Ходи.
Роман. Интересная ситуация. Вы когда приедете? ( Делает ход.)
Шоропов. Я думаю. (Делает ход.)
Роман. Можете погулять там, на лыжах покататься. Завтра суббота.
Шоропов. Я сегодня поеду.
Роман. Ну, и хорошо. По-моему, мат!
Шоропов. Да где же? А если так?
Роман. Мимо.
Шоропов. Погоди, тут есть выход.
Роман. Нет тут выхода!
(Пауза.)
Шоропов (вдруг делает ход) . Пожалуйста, вот таким образом. Ну, что?
Роман. Я прозевал ферзя?!
Шоропов (хохочет) . Ага, ты прозевал ферзя!
Роман (смахивает фигуры с доски ). Ерунда какая! Что-то тут не чисто, я должен был заметить.
Шоропов. Ты проиграл, Рома. Ладно, не психуй! Пока меня не будет, можешь телевизор смотреть. А приеду, о работе поговорим.
Роман. Вы же мне не поддались тогда, раньше?
Шоропов. Ну, конечно, нет. Я просто невнимательно играл, наверно.
Роман. Но я-то вам специально проигрывал. Я так старался вас обрадовать.
Шоропов. Да что же ты теперь-то хочешь? Не понимаю. Все образовалось как нельзя лучше. На днях мы все будем вместе.
Роман. Понимаете, дядя Эдик! (Пауза. ) Не надо больше никого, дядя Эдик! ( Пытается обнять Шоропова.) Не надо никого! Вы такой добрый сейчас. А приедут они, вы опять будете надутым и недовольным. Еще того гляди, будете и меня ненавидеть, как всех!
Шоропов. Да ну что ты, Рома. Я уже люблю всех, не видишь разве? Вот что ты себе в голову вбил? Как же я могу семью свою не привезти обратно?
Роман. Но, дядя, вы не слышите меня. Они вас сделают старым и злым. Вы только со мной молодой такой, живой. Дядя, пусть они на даче будут, а вы в гости к ним приезжайте иногда!
Шоропов. Так, дружок, похоже, я был прав, считая тебя не вполне здоровым.
Роман. Не то вы говорите. Совсем не то. Может, я и нездоров, у меня прыщи вот, и живот болит часто, но я лучше понимаю, что с вами будет. Вы хронический антисемьянин. Не надо ни жен, ни детей! Они пусть там, на расстоянии. Иначе, я не смогу жить. Я покончу с собой. Вот смотрите. (Начинает запихивать себе в рот шахматные фигуры.)
Шоропов (хохоча) . Погоди, дурила! Я что-то совсем ничего не понимаю!
(Рома мычит.)
Что ты там мычишь? Выплюни, а то я не понимаю! Ну, ладно, я не подхожу к тебе, успокойся. Хватит меня смешить! Только не глотай. В чем-то ты чертовски прав. Я подумаю, а пока съезжу все-таки туда. Не знаю, привезу их или нет. ( Пауза. ) Но, если честно, мне боязно тебя одного-то оставлять. Натворишь ты дел, коли сумасшедший!
Роман ( выплевывая фигуры ). Я не сумасшедший! Я переживаю! Мне обидно за вас.
Шоропов. Удивительно ты дурачишься! Обещаешь тишину и покой в доме? И никаких самоубийств!
Роман. Я ничего такого не сделаю плохого. Я переживу. Вы отдыхайте долго.
Шоропов. Если что, можешь в шкафу спрятаться.
Роман. Дядя, перестаньте насмехаться!
Шоропов. Ладно, прости. (Пауза. ) Смотри, квартиру не продай без нас.
Роман. Ну, вы даете! Как вы догадались? Я же так пытался это скрыть!
Шоропов (хохочет, уходя в свою комнату) . Вот юморист тоже!
Роман. Я так боюсь встретить вас другим, дядя! Вы так сильно изменились! Я вас просто не узнаю.
(Роман начинает собирать шахматные фигуры. Уходит свет. Конец сцены.)
Сцена пятая
(Кабинет Шоропова. Роман один. Смотрит телевизор, пьет чай с пирожными, наслаждается одиночеством. Телефонный звонок. Роман берет трубку.)
Роман. Алло!.. А это я… Привет, ма! Как дела? Так дела.… Всех из квартиры выжил. Наслаждаюсь одиночеством. Все сделал, как договорились. Как просили, так и сделал. У меня по-другому и не получается… они где? Говорю же, выжил.… На дачу… Они тут ссорились, теперь мирятся, наверно. А я телевизор смотрю. Так что все получилось удачно.… Не звонил, потому что рано было звонить! А теперь в самый раз… Ты долго-то не говори – вообще-то деньги идут! Да все у них нормально будет, я особенно не перебарщивал. Так только, дочку припугнул, а с дядей нянчился прямо. Еле уговорил.… Сижу, отдыхаю. Так что не нервничайте. Все в порядке. Ехать-то когда? Ну, это я не знаю. Скоро. Я сообщу отдельно. Папе привет! Пока… (Вешает трубку. Гаснет свет. Конец сцены.) Сцена шестая (В кабинете Шоропова пусто. Распахивается дверь, в кабинет входит веселый Шоропов.)
Шоропов (говорит, обернувшись к двери) . Я потом помоюсь. Сначала вы грейтесь. Инна и Петька. (В кабинет заглядывает Шоропова.)
Шоропова. Рома-то уехал – смотри, записка. Тебе большой привет.
Шоропов. То есть как это уехал? Он же до лета собирался…
Шоропова. Ну, видишь, по дому соскучился. И уехал. Я его понимаю.
Шоропов. Надя, я его не обижал. Мы с ним мирно. Я его не трогал.
Шоропова. Да Бог с ним. Меньше народу – больше кислороду.
Шоропов. Ну, это ты зря. Все-таки жаль, парень-то добрый, хоть и напугал тут нас своими выкрутасами. Особенно Инку.
Шоропова. Тебе бы надо с Игорем связаться.
Шоропов. Нет, не могу я это. Давай ты сама.
Шоропова. Это должен сделать ты. Ты с ним обошелся не по-человечески. Ты должен.
Шоропов. Мне тяжело переступать. Он мне не родной.
Шоропова. Еще как родной!
(Пауза.)Шоропов. Зачем ты меня заставляешь? (Пауза.) Хорошо, давай адрес. Только ты сама диктуй, что я должен сказать.
Шоропова. Да что ж ты такой беспомощный!
Шоропов (включает телевизор). Вот черт, телевизор сломал племянничек твой! Не работает. Когда уезжал, работал ведь. Посмотри, в розетку включено?
Шоропова. Включено.
Шоропов. И что я буду делать теперь? Мастера звать? Когда он придет? Мне же фон необходим.
Шоропова. Эдик, ты опять чем-то недоволен.
Шоропов. Да нет, я всем доволен, но вот телевизор… Я расстроился.
Шоропова. Из-за ерунды. Повтори.
Шоропов. Из-за ерунды. Я расстроился из-за ерунды.
Шоропова. Что важнее в жизни?
Шоропов. Вы. Люди важней.
Шоропова. А телевизор – это что?
Шоропов. Телевизор не человек, ему все равно, смотрят его или нет, слышат его или нет. Но мастера ведь надо вызвать?
Шоропова. Надо.
(Пауза.)Шоропов. Ну, я нагулялся лет на сто вперед.
Шоропова. Видишь, как ты хорошо поступил. Инна вся сияет. Она так рада, что ты с Петькой играешь.
Шоропов. Да. Но до этого надо было дойти. И если бы не этот твой племянник, я бы вряд ли с места сдвинулся. Он так умело все изменил, что даже странно. Как будто специально так сделал.
Шоропова. Не знаю, специально или нет, но талант в нем заложен, это точно. Будоражит кровь.
Шоропов. Я к нему привык. Кто еще так подурачится? Хотел вот на работу его устроить, а он уехал.
Шоропова. Я сестре напишу, поблагодарю. (Пауза.) Ну, в смысле просто похвалю сына. Она обрадуется.
Шоропов. Вот только я попрошу тебя, ты не обижайся, пусть они все-то сюда не едут. Все-таки у них одна семья, у нас другая.
Шоропова. Я обещаю об этом попросить. Думаю, родная сестра меня поймет.
Шоропов. И все же непонятно, почему он взял и уехал.
(Пауза.)Шоропова. Ну, уехал и уехал. Пойдем чай пить.
Шоропов. Я здесь.
Шоропова. Мне кажется нам всем вместе надо, в большой комнате, за большим столом. Как на даче.
Шоропов. Я сейчас не могу понять, что же меня раздражало в вас. Я же буквально кипел, ненавидел вас. А теперь за вами бегаю. Вот загадка! Старею. Старею…
Шоропова. Ой, стареет он! Тоже мне придумал. Ну, все, пошли, пошли.
(Шоропова уходит. Шоропов снимает свитер, переодевается в тренировочный костюм и тоже уходит из кабинета. Пауза. Из шкафа вылезает Роман, он быстро-быстро вставляет на заднюю панель телевизора предохранитель, включает телевизор на полную громкость и прячется обратно в шкаф. Пауза. В кабинет влетает Шоропов, за ним Шоропова.)Шоропов. Вот этого я не понял. Домовой, что ли, завелся?
(Крутится около телевизора, уменьшает звук.)Шоропова. Ну, перестань, пожалуйста, меня разыгрывать. У Романа научился?
Шоропов. Да я ничего не делал. При тебе же проверял.
Шоропова (уходя из кабинета ). Знаешь что? Пошутил, и сам поверил. Я на кухне.
(Шоропов один в кабинете. Выключает телевизор. В раздумье подходит к шкафу.)Шоропов. Помнится, тут кто-то прятаться любил! (Открывает шкаф. ) Выходи!
(Роман вылезает из шкафа.)Ну, здравствуй, шутник!
Роман. Здрасьте, дядя Эдик! Вот, прячусь, знаете ли.
Шоропов. Ну, так прячься, чего вылез? Залезай, залезай обратно.
(Роман залезает.)И живи здесь. Понял? Это теперь твой дом.
Роман. Вообще-то мне возвращаться пора. Домой-то. Дела-то я свои сделал.
Шоропов. А как же работа, институт? Вы же сюда переезжать собирались.
Роман. Ой, дядя Эдик, какой вы наивный!
(В кабинет заходит Шоропова.)Шоропова (Роману ). Так, ты почему еще здесь?!
Роман (вылезая из шкафа) . Да как-то не мог я уехать, не попрощавшись.
Шоропова. Мать в курсе?
Роман. В курсе. Я ее предупредил, что задержусь.
Шоропов. Я что-то не понимаю…
Шоропова. Ну, и все! Спасибо тебе, Рома. Сейчас чайку попьем – и в добрый путь.
Роман. Слушаюсь!
Шоропов. Я.… Объясните мне, в чем дело?! Надя, почему ты его выгоняешь? Почему так бесцеремонно? Он же родственник. Может, он не хочет, в конце концов, уезжать!
Шоропова. Он все хочет и сам знает, почему.
Шоропов. А я не знаю. Кто-нибудь мне скажет, что здесь происходит?
Роман. Да это же шутка, дядя Эдик. Тетя Надя тоже научилась шутить. Она разыгрывает вас. Пойдемте, я там пирожных купил, целых две коробки.
(Шоропова выходит из кабинета.)Шоропов (после паузы) . Рома, а ведь ты приезжал специально.
Роман ( выходя из кабинета ). Даже не понимаю, о чем вы говорите.
Шоропов (идет вслед за ним ). Нет, погоди, я все понял, я все понял. Ты приезжал не просто так!
(Уходят из кабинета. Пауза. Звучит громкая веселая музыка.) Конец 2003 г. Приступы таланта (одноактная пьеса)Действующие лица:
Неля, Ольга, Мать.
(Тишина. На диване спит Ольга. Затем в комнате появляется сонная Неля, одетая в халат. Распахивает шторы, и становится понятно, что уже утро. Ольга ворочается, что-то бормочет во сне. Неля подходит к ней.)
Неля. Олечка, тихо, тихо.
Ольга (ворочаясь) . А? Почему светло? Перестань! Выключи лампу. Хватит меня теребить всю ночь! Не спится тебе, так валерьянки напринимайся или хлороформа понюхай. Погаси люстру.
Неля. Олечка, ну поспи еще, поспи.
Ольга. Я не сплю. И перестань меня жалеть. Тошнит от твоей жалости. (Пауза.) Меня не искали?
Неля. Что ты? Я никому ничего не скажу. Успокойся. Мы с тобой только вдвоем, никто ничего не знает. А если и что-нибудь узнается, то я никогда тебя не оставлю.
(Пауза.)
Ольга. Это что же, даже после премьеры никто не додумался, никто не захотел, ни у кого в голове мысли не мелькнуло поздравить?
Неля. С премьерой.
Ольга. Я не тебя имею в виду. Не тебя. Тебе просто спасибо.
Неля. Тебе тоже. За то, что ты здесь, со мной. Спасибо.
Ольга. Пожалуйста, пожалуйста. (Пауза.) Где моя одежда?
Неля. Одежда твоя, уж извини, постирана. Вот тебе халат. (Берет со стула халат и дает его Ольге.) Надевай. Остальное сохнет.
Ольга. Какое вчера было приподнятое настроение! (Смеется.) Все ласковые, все ищут щечки друг друга. Нервы пришлось тратить. То одну поцелуешь, то другую, и ведь испытываешь искренние чувства. Так бы и плюнула в кого-нибудь. (Пауза.) А что было после банкета?
Неля. Мы ехали, я тебя сюда привезла. Ты сама просила.
(Пауза.)
Ольга. Как тебе вообще?
Неля. Ты же знаешь, я уже говорила. Я в восторге.
Ольга. Ты всегда в восторге. А что-нибудь поконкретнее.
Неля. Мне все нравится. Потому что так, как ты переживаешь эти минуты напряжения, как точно передаешь все эти страсти – так никто не может. Ты словно рождаешься заново, словно расцветаешь. А как на тебя все смотрят! Как любуются тобой!
Ольга. У тебя мама дома?
Неля. Оленька, какая мама? Вспомни, какая у меня мама?
Ольга. А что у тебя с мамой, господи?
Неля. Оленька, ты меня удивляешь. Ты меня обижаешь. Как можно совсем ничего не помнить? (Пауза.) Я тебе подсказывать не буду, не буду. Вспоминай сама, иначе это просто хамство.
(Пауза.)
Ольга. А что, что-то случилось с твоей мамой?
(Пауза. Неля подходит к окну, на лице написано недоумение.)
Хорошо, мама у тебя в больнице?
Неля. Вторая попытка.
Ольга. Уехала в командировку?
Неля. Третья попытка.
Ольга. Я не знаю! Не знаю! Говори сама! У меня с памятью все в порядке! Я единственно не помню вчерашней ночи. (Пауза.) Так ты на вопрос ответь: где твоя мама?
Неля. Где всегда! И пора это запомнить! Она на дежурстве!
(Ольга вскакивает и носится за Нелей, пытаясь ударить ее халатом.)
Ольга (остановившись) . Знаешь, что! Знаешь, что! Я же по-настоящему испугалась. Я же подумала, у меня с мозгами что-то на самом деле. И ты так можешь шутить? Дура! Дура! Дура! (Пауза. Ольга садится за стол.) Меня кормить будут?
Неля. Ах, я дура? Тогда пусть тебя умные кормят.
Ольга. Ты чего, обиделась? Сама же меня обидела, а теперь еще и губы надувает! Нормально? Я есть хочу или хотя бы воды попить.
Неля. Я дура?
Ольга. Чуточку.
Неля. Ну и вот!
(Пауза.)
Ольга. Хорошо, ты не дура. (Пауза.) Неля, прости! Прости! Ты не дура. (Пауза.) Ладно, можешь про меня гадость сказать.
Неля. Ты сумасшедшая.
Ольга . Вот, теперь квиты.
Неля. Но это правда. Это не гадость.
Ольга. Хорошо, я сумасшедшая, и давно?
Неля. Пять лет.
Ольга. А ты?
Неля. Я вместе с тобой. У меня видения начались. Я ночью в самолете летаю. Как вот раньше. Разношу напитки. А самолет все время падает, и я не успеваю спастись. Я все время погибаю. Потом хожу себе, хожу по песку… он теплый, а рядом море розовое. И наш самолет плавает. И все там, и я там. Ты меня понимаешь?
Ольга. Грустно. (Пауза.) Ты считаешь, я хорошая актриса?
Неля. Честно? Замечательная.
Ольга. Зачем ты врешь! Никчемная я, пустая, я только орать могу, выжимать из себя, из себя. Хотя, вот поклоннички бегают. Бегают?
Неля. Бегают.
Ольга. Я все-таки здорово вчера сыграла? Что-то ты ничего мне не говоришь об этом. Мне твое мнение важно, подруга.
Неля (устало) . Лучше некуда. Только ты так умеешь.
Ольга. Как-то ты нехотя свое впечатление высказываешь. Как будто я тебя заставляю.
Неля. Мне лично очень понравилось. Я бы еще несколько раз посмотрела. Это то, что сейчас нужно.
Ольга. Как-то ты странно говоришь! Видела ли ты спектакль, голубушка? Ну-ка, признавайся.
Неля. Само собой. Как ты могла так подумать? Я, да и не видела!
Ольга. А может быть, ты в вестибюле прохаживалась или бутерброды поедала! А ну, признайся! Сидела ли ты в зале?
Неля. Оля, как ты можешь! Это для меня святое. Я даже плакала.
Ольга. Правду говори! Тебе было отвратительно! Ты не то что удовольствия не получила, ты эту пьесу терпеть не можешь, ни меня, ни всех остальных. Ты ненавидела тех, кто сидит рядом, всех нас готова была задушить навсегда.
Неля. Неправда! Я вас всех очень люблю! (Пауза.) Ты будешь завтракать?
Ольга. Из твоих рук?!
Неля. Это жестоко. Я все для тебя, всегда все и только для тебя. Я работу бросила. Это мне самолеты снятся. Это я мучаюсь, чтобы тебе облегчить жизнь. Чтобы быть рядом с тобой. Чтоб ты жила и радовалась… (Пауза.) Зачем ты, Оленька? Почему ты так?
(Пауза.)
Ольга. Неля, это глупости. Мы же, как родные. Мы же друг для друга – самые добрые. Скажи мне: как я вчера играла? Плохо? Скажи мне: ты смотрела или нет? Любишь ли ты меня как актрису? Где мне еще помощи искать от своего бессилия? От того яда, что таится во мне. Ты ведь не знаешь, какой он. Он там плавится, он меня колет вот тут, внутри, в груди, в желчном пузыре. А я молчу и только вздрагиваю всякий раз, когда больно. Или тебе кажется, что мне не больно? Что мне весело, всегда непременно весело? Ты надеешься на мою невнимательность? А я все замечаю. Вот эти косые взгляды, например. Я бездарна, как пробка, как носок заштопанный, как первокурсница.
(Пауза.)
Неля. О, господи, лучше бы я разбилась где-нибудь! Зачем я, дура, летать перестала?
Ольга. Не говори так! Это безобразие. Так нечестно! Ты портишь мне настроение. Пусть я сейчас говорю какие-то вещи тебе непонятные, неприятные. Может быть, плоские, дурные, но это мои мысли, в конце концов, накопились они у меня. Я пойму, если ты мне скажешь, наконец, что актриса я дерьмовая, что все, что я пытаюсь донести до зрителя – пустобрехство, кощунство и пародия на правду, на ложь, на страсть. Бесчувствие – вот что во мне. Я права?
Неля. Оленька, ты не хочешь кое-чего принять. Тебе успокоиться надо.
Ольга. Опять алкоголь! К черту! После вчерашнего – ни за что! Меня воротит от коньяка. Сколько я вчера приняла?
Неля. Да много, конечно.
Ольга. Вот, а ты опять мне предлагаешь. (Пауза.) Это все твоя благотворительность. Заставлять измученную душу пить. Я тебя раскусила. От зависти ты хочешь, чтобы я под забором валялась, как свинья. Только этого ты хочешь! Об этом только и мечтаешь. Выпей, Оленька, залейся и сдохни. (Плачет.) Талант мой хочешь изрешетить!
(Пауза.)
Неля. Я устала, я так больше не могу. (Выходит из комнаты, возвращается с подносом.) Ешь, актриса чертова!
Ольга. Вот! Вот! Правденка! Выскочило, наконец! Теперь ты говоришь правду. ( Пауза. ) Где твоя мама? Только она меня любит. Скорее позови ее! Мне нужна ее нежность, а не твое недружелюбие.
Неля. Мама скоро придет. Только она и может с тобой справиться.
Ольга. Неужели никто-никто не приходил? Неужели я так и не нужна никому?! Ну, ведь звонил кто-нибудь, звонил, передавал добрые слова. Я хочу слышать много добрых слов. От нее не дождешься. (Пауза. Ольга пьет кофе. ) Ты дай кому-нибудь этот номер телефона. (Пауза.) Или лучше не давай, а то проходу не будет.
Неля. Знаешь, когда ты поступила в этот дурацкий театральный институт, мы так за тебя радовались! Чуть с ума не посходили.
Ольга. И мама твоя?
Неля. И мама тоже. Это же так здорово было! Ты – и вдруг будешь актрисой.
Ольга. И что?
Неля. Ничего, просто так говорю. Просто так. Поговорить-то мне не с кем.
Ольга. А я что, пустое место? Поговори со мной. Я могу, я согласна. Только ты говори правду. Не ври.
Неля. Оля, а ты нормальный человек? Я понимаю, извини, я тебе этот вопрос очень часто задаю, просто он меня тревожит.
Ольга. Я-то нормальный человек. А почему это тебя тревожит? Ты что, считаешь, что если я – великолепная героиня, потрясающая умы – значит, я ненормальная? У меня четкая логика, я – лучше всех! И я супернормальная. Я – творческий организм, не студентка уже. Я – профессор, понимаешь? И твое недовольство мной – это, по меньшей мере, мерзость! Я люблю сцену, сцена любит меня. Что еще надо? Я здоровая духовно. У моей души вывертов нет. Тебе бы стоило на себя посмотреть. Мне кажется иногда, что с тобой творятся странные вещи, у тебя на лбу написано, что с тобой не так. Ты, во-первых, любишь подсматривать за мной. Если ты сидишь в зале – ты подсматриваешь. Причем нагло, во все глаза. Это нормально? Я-то гений, это понятно. А ты? Ты, наверное, ведешь дневник, записываешь то, что подсмотришь.
(Пауза.)
Неля. Ты очень здорово играла, Оленька. Как всегда, здорово.
Ольга. Не подлизывайся. Знаю я твои чувства. Кстати, вот это все невкусно мне. Не чувствую я от переживаний вкуса пищи.
Неля. Ну, прости, не угодила.
Ольга. А ты знаешь, это не важно. Это пустяк по сравнению с твоей жестокостью ко мне. Где это только моя одежда, чтоб уйти?
Неля. Тебе нельзя уйти.
Ольга. Как это нельзя? А вот и можно – я в халате пойду.
Неля. Не вставай. Сиди на месте. Не вздумай делать лишних движений.
Ольга. Да тебе со мной не справиться. (Пауза. Ольга встает.) Дай мне куртку или рубашку, я пойду. Уйду от тебя. Так куда лучше будет.
Неля. Ты собираешься силой отсюда вырваться?
Ольга. Как получится. Можно и силой. Искать меня не надо. Не надо, мне это неприятно. Лишние заботы. Да отпусти же меня!
Неля. И куда ты пойдешь?
Ольга. В театр, куда еще? На репетицию.
Неля. У тебя сегодня нет репетиции.
Ольга. Как это нет?! Есть. Каждое утро есть репетиция в театре, меня ждут.
Неля. Высохнет одежда, уйдешь.
Ольга. Дай свою!
Неля. Дождись маму.
Ольга. Нет, нет. Я так, без нее. Если она придет, мне неудобно будет уходить. А так – будто меня и не было. Пусти, а? Прошу ведь!
(Бросается на Нелю. Драка, визг, крики. Открывается дверь, заходит мать.)
Мать. Прекратить немедленно!
(Неля отходит к окну, Ольга садится на диван.)
Что вы опять устроили? Неля, ну ты-то хотя бы могла по-другому.
Неля. Она хотела уйти.
Мать. Оленька, доченька, куда же тебе идти? Мы тебя, солнышко мое, столько искали в прошлый раз. Я с работы отпрашивалась. А ведь ты же знаешь, что для нас эта работа. А, зайчик ты мой, ну что же ты нас мучаешь? Что же вы, девчонки! Я с ночи, столько вызовов, у меня сил-то совсем немного тянуть вас. Ты бы, Нелька хоть об этом подумала! Ладно, Оленьке не до этого. Пожалела бы меня. Ты белье-то погладила, наконец?
Неля. Я летать хочу!
Ольга. А у меня, между прочим, репетиция. И я ей это объясняю. У меня репетиция, меня ждут, ждут. Трезвонить будут. Не дотрезвонятся! Мне в театр надо. А она не понимает.
Мать. Господи, видать, обострение!
Неля. А я что говорю? Давай ее обратно в эту…
Мать (перебивает) . Тихо, Неля, тихо. Остановись. Ты и так не в себе.
Неля. Да я с ней точно спятила. Я с ней сдурела. Отпусти ты меня, мама. Я больше не могу тебя об этом просить. Я хоть куда уеду! Хоть куда! Только не с ней быть. Мне минуты тихой не бывает, пока ты на работе. Даже когда сплю. А я и не сплю совсем. Я все жду, чего она еще выкинет. Тошно! И почему ты сейчас не говоришь мне ничего? Почему ты как застывшая? Я тоже не собираюсь всю жизнь тут ползать!
Ольга. Вот такая она, мамочка! Так и продолжает не чувствовать ко мне никакой любви. Не испытывать. Я-то ведь должна быть? Или вы все надеетесь, что меня нет? А я есть, и вся одна на этой сцене.
(Пауза.)
Неля. Мама, посмотри на вещи трезво, без боли. Пожалуйста. Не вытерпеть же!
Мать. Я понимаю, девочка моя, все понимаю. Потерпи.
Ольга. Вы мне лучше скажите: как я вчера сыграла? Потому что мне нужно знать. Продолжать или все бросить? Потому что, если я играла плохо – значит, все. (Пауза. Мать садится на стул. Неля открывает окно.) Вот вы здесь, вы на меня смотрите, а время летит. И мне ничего не нужно, только признание. Я хочу быть всем! И чтобы даже не было ни единого слова непонимания. Мне в этом мире необходима искренность ваших чувств, а не плохой тон. Любите ли вы меня на сцене? Ответьте, а? Ни о чем больше я вас не прошу!
Неля (резко) . Мама, заставь ее заткнуться, иначе от нее ничего не останется!
Мать. Вы как хотите, девчонки, а я думаю, надо нам праздник устроить. Давайте устроим праздник. Веселый и добрый. (Пауза. ) Или вы не хотите?
Ольга. Вот вчера мне нравилось. Я играла. Мне нравился спектакль, мне нравилась я. А вы как думаете, я вам нравилась?
Неля. Кому ты там нравилась! Сколько можно вокруг нее плясать, скакать, подпрыгивать?! Я жить хочу, а не ухаживать за этой чокнутой. Ты как хочешь, мамочка, а мне надоело. Она же пользуется нами. Сидит тут и пользуется. А мы слушаем да поддакиваем.
Ольга. Неля, ты моя самая любимая сестра. Не говори так, не обижай маму. Мы ведь и живем. И живем хорошо. Мы можем быть самими собой. Того, что у меня есть, мне достаточно. Вся эта слава, весь успех – мне нравится это. Это мое. Я общаюсь – мне хорошо, я воспринимаю маму – мне хорошо. И с тобой я разговариваю. Вот если бы я молчала (а я могла бы и молчать, ведь так?) – так вот, если бы я всегда молчала, лучше было бы? Как ты думаешь? Я ведь тоже маму люблю, больше, чем все остальные здесь.
Неля. Не лезь ты ко мне, умоляю! Со своими разглагольствованиями иди в туалет или в ванную. Включи там воду и бухти!
Ольга. Ты еще поймешь, что неправа. Ты еще пожалеешь, что злилась. (Пауза.) Ты нас не любишь. Презираешь даже мысленно. Да, мама? Ты, Неля, накопила раздражение, у тебя в голове собралось все самое плохое, какое только может быть. (Пауза.) Да, мама? А нужно-то всего: прийти домой, раздеться, принять ванну после премьеры и жить. Я же живу, хоть у меня совсем счастья нет.
Неля (кричит) . Я думаю, ты давненько лекарство не принимала, так я тебе его сейчас дам. Дам столько, чтоб ты.… (У ходит. )
Мать. Что у вас новенького в театре?
Ольга. А, завтра у нас премьера. Я не готова, хоть плачь! Премьера тяжелая. А Нелька не понимает. Я ей говорю: приготовь мне костюм, причеши меня, накрась, одень, как следует и подобает. А ей все равно. Наплевательски она относится к своим обязанностям. Вот и злится тоже. Подрались мы даже.
(Возвращается Неля, протягивает Ольге несколько таблеток и стакан воды.)
Так, это что? Мне это пить, что ли? Вот это все? Все вот эти таблеточки, да, мама? Ладно, я поняла. Пью. (Глотает таблетки, запивает водой.) Там, мамочка, очень сложный текст, строчек много, нужна подготовка, нужен важный жест, много штрихов, но и лестного много потом услышишь. (Встает, хватается за живот, кричит. Неля и мать бросаются к ней.)
Мать. Господи! Что с тобой! Где болит? Ты ляг, ляг!
Ольга (ложась) . Мама, прости! Неля, прости! (Пауза. Вскакивает.) Я вас приглашаю в театр, на премьеру. Обязательно. Вы туда придете и сядете на места, для вас специально отведенные. Вы мне верите? Потому что обо мне должны рецензию написать. Меня все любят. Меня всюду зовут. Я известна.
Мать (резко) . Значит так, послезавтра поедем за город. В гости. Там твой бывший, привычный коллектив. Там у тебя знакомых много.
(Пауза.)
Ольга (подходит к Неле) . И Нелечку возьмем?
Мать ( после долгой паузы ). А это как она сама решит. Поедешь? (Пауза.) Конечно, поедет. Куда мы без нее, правда? Да и она без нас.
Ольга. Ну, тогда контрамарки на служебном входе будут. Только не опаздывайте и цветы принесите. Мне сейчас нужны эти лишние цветы. Потому что мне надо доказывать. Вы меня целуйте чаще, это помогает… (Засыпает.)
(Пауза.)
Мать. Надо что-то пожевать. Потом тоже подремлю. (Выходит из комнаты, но сразу же возвращается. Подходит к Неле. ) Думаешь, все? Вот тут такая жизнь, а там настоящая жизнь. Как мы с тобой одиноки обе! Ты и я, ты и я. И она. Жуть. (Пауза.) Больных много. Тратят люди себя. Одинокие и остаются, никого рядом. Даже если и живы родственники. Ты чувствуешь? Поживем, поживем и… (Пауза.) Сколько я еще протяну? И ты будешь здесь так же бессмысленно жить. Нет. Это неправильно. Справлюсь как-нибудь. (Пауза. ) Уезжай, Неля. Я больше тебя не держу. Достаточно одной бедняжки. И сама я тоже уже не того… ( Пауза.) Как я проклинаю тот день, когда она поступила в институт!
Конец
Человек и человек (одноактная пьеса)Действующие лица:
Лариса,
Валера,
мужчина.
(Вечер. Городская набережная. Спуск к воде, две лестницы слева и справа, наверху фонарь. Легкий плеск воды о гранит. Когда зажигается свет, видны мужчина и женщина, целующиеся на правой лесенке. Женщина – в красном плаще и в шляпе с широкими полями, мужчина в осенней куртке и в вязаной шапочке. Они целуются, но видно, что мужчина хочет поскорее уйти, он отворачивается от женщины, и оказывается, что это совсем еще юноша, лет восемнадцати.)
Валера. Ну, все, все, Ларис, все, пора бежать.
Лариса ( оборачивается, ей на вид лет 35–38) . Валера, не уходи так рано. Я еще на метро успею. Побудь, а? ( Обнимает и целует его. ) Ну, что тебе идти-то тут – две минуты.
Валера. Мне заниматься надо, у меня зачет завтра, я же говорил, по зарубежке.
Лариса. Господи, ерунда, какая! Что ты, не знаешь, что ли, ничего? Я тебе столько всего рассказывала. И тебе еще готовиться надо? Не надо меня обижать, а то я подумаю, что ты меня не слушал. ( Обнимает, целует. )
Валера (отстраняясь ). Да у нас педагогиня вредная. Она мужиков всех валит.
Лариса. Ну, она наверно не любила ни разу.
Валера. Да мне какое дело! Привяжется еще. Пойду учить.
Лариса. Давай я тебе расскажу. Ты вопросы задавай. (Пауза. ) Валер, поехали ко мне. Я тебе все-все расскажу. А?
Валера. Не могу я, я же говорю, не могу. Отец взъерепенится. Мать не поймет.
Лариса. Ты же не мальчик, в конце концов.
Валера . Ты понимаешь хоть что-нибудь? (Поднимается на ступеньку выше. ) Послезавтра встретимся. А лучше в пятницу.
Лариса. Валера, а разве бывают зачеты осенью? Ведь сессия-то…
Валера ( перебивает ). Ты мне не веришь? У нас все бывает. ( Пауза. ) Ну, это такой промежуточный, неофициальный.
Лариса. Ладно. ( Поднимается к нему ближе, берет за руку. ) Иди, занимайся хорошенько. (Тянется к нему, целует. )
Валера. Что ж ты плачешь-то? Я не могу, когда ты плачешь! Ты же взрослый человек. Перестань.
Лариса. Что я могу поделать, Валерочка? Оно само собой как-то плачется. (Пауза.) Я – взрослый человек? Да, я очень взрослый человек! Я даже плачу перед тобой, хотя должна тебя не замечать. Что я могу еще для тебя сделать?
Валера (резко) . Да не надо ничего делать! Отпусти, и все! И все! (Он высвобождается) . Я прошу… Мне надо… Мне надо идти…
Лариса. Мне же хорошо!
Валера. А мне плохо! ( Отталкивает ее, поднимается наверх к фонарю. ) И больше не надо ничего! Не хочу я больше тебя знать-то. Стой на месте. Не поднимайся ты… И забери свои чертовы пирожки. (Вынимает из кармана куртки бумажный сверток и бросает вниз. ) Мне неприятно и гадко с тобой. Пошла ты! (Уходит.)
(Лариса поднимает сверток, тут же садится на ступеньку и плачет, потом вскакивает, поднимается по лестнице к фонарю.)
Лариса (кричит) . Валера, Валера! Вернись!
(Опускает голову и руки и спускается к воде. Садится на приступок, поджимает колени, утыкается в них лицом и замирает на время. Сзади, по левой лесенке, неслышно для Ларисы, спускается мужчина в длинном и широком белом плаще, в резиновых сапогах. Он молча подходит ближе и смотрит на Ларису, задумавшись.)
Мужчина. Я, это, есть хочу!
Лариса ( вздрагивает, быстро встает ). Ой, господи, что вы пугаете-то меня так?!
Мужчина. А ты не плачь. Дай пирожки!
Лариса. Что вам надо? ( Хочет убежать, но мужчина загораживает ей дорогу. )
Мужчина. От себя не убежишь. (Вдруг у него начинают литься слезы, дальше он говорит, плача. ) Я вот три дня не ел, а ты убегаешь, убегаешь! (Вытирает слезы ладонью.) Я не опасный, я только плачу всегда, когда обижают любящих. Я так рыдаю, что не остановиться! Так я возьму? (Берет сверток, разворачивает, ест.) Ух, ты, с капустой! Давным-давно мечтал. Сама пекла?
Лариса ( осторожно) . Отпустите меня.
Мужчина. Я думал, у тебя горе. Как он тебя сейчас тут послал-то, а! Мы товарищи по несчастью. У меня тоже, знаешь, горе. А вообще-то иди, свободна. (Дает Ларисе дорогу.) Иди, мучайся. Жди, когда у него в одном месте засвербит. Или того хуже – совесть проснется, и он прибежит-приползет на коленях виниться. А ты его не простишь, не простишь, и он будет страдать. О-го-го! Так?
Лариса (недоуменно). Я не понимаю: смотреть, так вот подглядывать… да как вы смеете!
Мужчина. А вот смею! (Доедает пирожки. ) Пирожки твои – барахло!
Лариса. Они из пирожковой.
Мужчина. Из какой, не подскажешь?
Лариса. Слушайте, дайте мне уйти!
Мужчина. Иди. Чего стоишь? Я тебя не держу. Ну, вперед и с песней!
Лариса. Какой вы все-таки хам! (Плачет.) Ничего святого!
Мужчина. Откуда, что ты?! Ни грамма.
Лариса. Дайте лучше закурить, а то я не остановлюсь. (Мужчина достает пачку папирос.) Господи, почему же именно папиросы? Как это можно курить?
Мужчина. А я и не курю. Это про запас. Хотя вот сейчас, после мерзких этих недопеченных пирожков, пожалуй, надо сменить во рту обстановку. (Закуривают. ) Интересно, дым во рту. Как-то необычно. (Присаживается на ступеньку лестницы. ) Да ты садись, нечего тут стоять, как столб телеграфный.
Лариса. Не указывайте мне, пожалуйста, что мне делать! Я не ваша подружка!
Мужчина. А чего ж так? Надо хвататься за любую возможность. Пора уже, понимаешь ли! Хватит уже думать о несбывшемся. Твой принц улетел к другой, помоложе. Оно и понятно. Потому что везде должен быть порядок, равновесие, а не сбой в системе. Семнадцать лет разницы – это много.
Лариса (присаживается рядом) . Слушайте, перестаньте за больное задевать.
Мужчина. Клин клином! (Курят. ) Ты вот всю свою жизнь чего-то искала, все выбирала. То поинтеллигентнее, то почестнее, то поумнее, то да се. И чего? Выбрала последнего троечника, который тебе в сыновья годится.
Лариса. Погодите, а откуда?..
Мужчина (смеется ). Тоже мне открытие. С тобой и с виду все ясно. Даже мемуары писать не надо. Могу сказать, что дальше будет.
Лариса. Не надо.
Мужчина. Ничего у тебя не будет, пока ты не поймешь.
Лариса. Мне неинтересно.
Мужчина. Как всегда, интересно только свое мнение! А прогибаешься перед мальчишкой, который как раз и не стоит этого.
Лариса. Я люблю.
Мужчина. Вот новость! Да ты и понятия не имеешь, что такое любовь. Да и все вы здесь вокруг и везде не знаете и не узнаете.
Лариса. Вы сумасшедший?
Мужчина. Банально, милая, делать выводы, не пройдя со мной и двух шагов.
Лариса (рассматривая его ). А вы плащ не испачкаете? А то ведь здесь грязно.
Мужчина (угрюмо ). Всегда нужно знать только две вещи: чего я хочу и чего не хочу. И делать только то, что хочу. Потому что если не хочу, то это против желания. А значит, против себя. А мой плащ постирается. И мне сейчас не до него.
Лариса. Вам нехорошо?
Мужчина. Да, будет тут хорошо, когда все одно и то же кругом. Поплавать, что ли? (Снимает плащ и остается в одной майке поверх брюк.)
Лариса (вскрикивает) . Вы что, сдурели?! Как вас там? ( Хватает его за руку.) Что случилось-то? Только не бросайтесь, пожалуйста, в воду, умоляю!
Мужчина. Я собирался поплавать. Мне так хочется.
Лариса. Хорошо, черт с вами, только я тогда уйду.
Мужчина. Замечательно. Прошу. (Указывает ей наверх.) У меня нет времени с тобой прохлаждаться, Ларисочка.
Лариса (после паузы ). Вы что же, застали не только конец нашего разговора с Валерой? Вы что, все это время подслушивали?
Мужчина. Я? Да Боже упаси! Ну, то есть, наверное. Хотя я не помню. Это ты по поводу того, что я знаю, как тебя зовут? Значит, слышал, слышал. (Надевает плащ. ) А может, и не слышал. Я ведь и угадать мог.
Лариса. А все-таки, вас-то как зовут?
Мужчина. Меня? (Пауза.) Угадай!
Лариса. Откуда же мне знать?
Мужчина . Я же смог. Попробуй.
Лариса. Миша.
Мужчина. Вот так! А почему именно Миша?
Лариса. Просто на язык попало.
Мужчина. Хорошо, Миша так Миша. Я согласен.
Лариса. Не угадала?
Мужчина. Угадала, угадала. Не нервничай. Какая разница, как кого зовут. Человек и человек, и больше-то никто. А Миша или Валера – подумаешь, красота! Я Миша, ты Лариса, познакомились. Ну что, купаться будешь со мной?
Лариса. Я до такого… (Задумывается.)
Мужчина. А зря. Охлаждает пораненные и горящие чувства.
Лариса. Вас бросили!
Мужчина (угрюмо) . Бросили тебя. А ты все надеешься. Выкинь надежду. Начни сначала. Скажи себе: «Я желаю поменять жизнь»!
Лариса. Что вы понимаете в женщинах?! Как можно из сердца любимого-то выкинуть?
Мужчина. Да обман это! ( Пауза. ) А, впрочем, твое дело! ( Быстро встает. ) Спасибо за беседу! ( Взбегает по лестнице наверх, говорит оттуда. ) Там у себя, среди вялых, безликих коллег, там, где ты все еще продолжаешь долбать хрестоматийные проблемы, которые мы и так знаем… Там у тебя, среди научных статей есть то, что тебя держит, но нет того, что тебе нужно. Литература и искусство – вещи неосязаемые, а жизнь бьет вот такими юными мальчиками.
Лариса. Вы что, меня знаете? Вы следите за мной?
Мужчина (не слыша ее) . Это был удар об стену. Шишка выросла и надо приложить что-нибудь холодненькое!
Лариса ( кричит) . Вы не ответили!
Мужчина. Я пытался угадать и попал в точку. Спустись с небес, говорю я тебе, посмотри вокруг. ( Спускается снова к воде.)
Лариса. Но я же забочусь о нем! Я хотела с ним быть.
Мужчина. Я рад, что заботишься, но факты… Сама посуди – нужна ли ты ему.
Лариса (кричит) . Но у меня больше никого нет! Это все, что мне удалось.
Мужчина. Он тобой просто пользуется…
Лариса. Не верю, не верю!
Мужчина. Тебя прогнали.
Лариса. Даже если не любит, все равно мне! Я с ним осталась бы.
Мужчина. Вот чудило! Верная женщина! Ничего не упустила из виду?
Лариса. Да пусть унижает. Я простила. Ничего лучше все равно не будет.
(Мужчина закуривает, Лариса тоже.)Какой-то сладкий дым у папирос. Ну, поймите, Миша – молодой он, красивый, здоровый. Я бы родила от него ребенка.
Мужчина. Банальщина первостатейная! Я же говорю – одно и то же, куда ни плюнь. Хотя этот довод мне понятнее.
Лариса. Почему я с вами вообще разговариваю? Что это, в самом деле? Вы суетесь в мою жизнь, а я вас слушаю.
Мужчина. Наверно, я говорю то, о чем ты думаешь сама, а вот сказать не можешь. ( Садится рядом, обнимает ее осторожно за плечи. ) Скоро ночь, а решение не принято. Так и будешь хвататься за соломинку? Так и будешь жить и мечтать, опираясь на давно упавший стол?
Лариса. Но ребенок же.
Мужчина. Что так поздно? Где вы были раньше?
Лариса. Да и Валера для меня как ребенок, поймите.
Мужчина. И ты его потом оставила бы в покое?
Лариса ( после паузы ). Нет… Я не смогла бы.
Мужчина. И все-таки чувства впереди. Ай-ай-ай! Взрослая женщина, а порывы ребячьи. Так беги к нему, стучи в дверь, разбей окна. Объясни родителям его, кричи, проси! (Пауза.) Услышит? Как ты думаешь? Я думаю, вряд ли. Где серьезность критической буки? Где искусствоведческий порыв, наконец? Где то, благодаря чему ты разгоняла блестящих мужчин? Хотя, конечно, следить за собой надо. Вот что это за шляпа? ( Срывает с Ларисы шляпу, бросает в воду. На голове Ларисы несообразная стрижка. )
Лариса ( расстроенно ). Ну вот, и что же вы сделали? Зачем вы так? ( Чуть не плача .) Эта шляпа, между прочим, была мне дорога.
Мужчина. Дурацкая шляпа! Никчемная прическа!
Лариса. Валере нравится.
Мужчина. У него вкус отсутствует. И все остальное. То, что дорого сейчас, надо возненавидеть, а полюбить другое.
Лариса. Почему вы хотите, чтобы я забыла Валеру?
Мужчина. Я не то… Я – другое… А до Валеры твоего мне дела нет… Я о себе беспокоюсь. Это ты жить не хочешь. И, если бы не я, всплыла бы здесь через пару дней. А запах-то какой бы был, представь. Ну вот, хоть шляпа плавает. Он завтра утром пойдет, шляпу увидит. Вот психанет, да?
Лариса. Вы – дьявол! ( Встает .) Вы просто меня распотрошили. Вы просто сосете кровь!
Мужчина (улыбаясь ). Добрая моя, милая, сядь, прошу тебя. Ты не так все понимаешь. Не под тем углом смотришь. Тебе все только кажется ведь, а действительность – другая. Мне тебя очень жалко. Я помочь хочу. У меня к тебе нет претензий. Пожалуйста, пусть все будет по-твоему. (Пауза, потом кричит.) А ты давай, кидайся в воду, кидайся, пусть тебя рыбки подъедят. Тоже мне, «последний бой»! Какого-то ерундового недоумка она потеряла! И теперь, ребята, простите. Есть кому дело, нет дела – я, значит, туда хочу! Ну и прыгай. Подтолкнул бы, да права не имею. ( Встает, вдруг у него начинают литься слезы. ) Надо свести счеты с жизнью. Надо сделать этот трудный, но в тоже время такой нужный шажочек. И плюх, плюх, плюх!
Лариса. Миша, успокойтесь. Я же понимаю вас. Я даже не знаю, что делать!
Мужчина (успокаивается резко) . Я тоже. (Смеется.) Где ты с ним познакомилась?
Лариса. Он сын моей подруги.
Мужчина. Ах, да, да! Лихо! С детства, значит.
Лариса. Но только я недавно поняла. Мы скрываем, правда, от всех.
Мужчина. Твое место – в пустоте. Не ври хоть мне. Я-то знаю. Как только он стал похож на мужчину, ты его захотела.
Лариса. Может быть, и захотела, может быть, я неправильно что-то делаю, но я не могу по-другому.
Мужчина. Хочешь правду? Бросишь эту затею, сможешь по-другому.
Лариса. Вот только не надо за меня решать. Я не отступлюсь.
Мужчина (после паузы ). До чего люди тупые, кошмар! Ну ладно, твоя правда, не отступайся. (Пауза.) Можно, я тебя разик поцелую в лоб?
Лариса (встает, отходит) . То есть?
Мужчина. Да не бойся ты. (Подходит к ней, долго рассматривает. ) Ты похорошела, порозовела. Я только в лобик, и попрощаемся. Обещаю, никто не узнает. (Пауза.) Так можно? Ты глаза закрой, словно я нечаянно. А потом возмущаться будешь. Ну? (Пауза.)
Лариса. Хорошо. (Закрывает глаза.)
(Одновременно с тем, как Лариса закрывает глаза, также моментально гаснет свет, как будто все моргнули и чуть задержали глаза закрытыми.)Что-то я ничего не чувствую. Целуйте скорей. Я открываю глаза.
(После этого резко дается свет, словно все быстро раскрыли глаза. Лариса одна около воды. Мужчина пропал.)Миша, где вы? ( Смотрит на воду, приседает, пытается вглядеться. ) Да нет же, если б прыгнул, то я услышала бы. Господи, пропал, как ветром сдуло. Словно улетел! ( Поднимается по лестнице к фонарю. ) Миша, Миша! Ни там нет, ни здесь. ( Медленно спускается вниз, садится на ступеньку. ) Чего я здесь торчу-то, господи? Чего жду? Валерочка вернется? Нет, Миша прав, во всем прав. А я действительно глупая. ( Усмехается. ) Неужели он подумал, что я брошусь в воду? А ведь хотела. Хотела? А зачем, ради чего? ( Пауза. ) Разговариваю сама с собой, дура! ( Смотрит на воду. ) Шляпа плавает. Ну, так ему и надо! ( Шепотом. ) Шляпочка, не уплывай отсюда до утра, пусть ее Валерочка заметит. Вот ему урок будет! ( Встает, подходит к воде ближе, примеряется, собираясь прыгнуть, топчется, потом пятится, хватается за лицо. ) Чушь, чушь! ( Взбегает по лестнице, наверху натыкается на Валеру, взъерошенного, в накинутой на спортивный костюм куртке. )
Валера (удивленно) . Ты это, чего это… здесь еще, что ли?
Лариса. Да, воздухом дышу. А ты как сюда?
Валера. Просто пробежаться. (Пауза. ) А все нормально?
Лариса. Разве что-то не так?
Валера. Шляпа.
Лариса. Надоела она мне, вон плавает.
Валера. А, понятно. Ты домой?
Лариса. Пройдусь.
Валера. Не боишься?
Лариса. А чего мне бояться? Я старая тетка, никому не нужна. Денег у меня больших нет, украшений тоже. Вот так.
Валера. Ты совсем не старая, не наговаривай.
Лариса. Я не хочу тебя слушать, Валера, живи своей жизнью.
Валера. Лариса, ты чего?
Лариса. Ты меня послал?
Валера. Ну, я случайно. Я… не хотел… Само как-то.
Лариса. Будь здоров. Учись!
Валера. Погоди. Человек вот приходил сейчас ко мне в белом плаще. Это кто? Он сказал, чтобы я немедленно бежал сюда, потому что ты тонешь. Он сказал, что ты меня любишь, чтобы я не смел тебя обижать, чтобы я с тобой… В общем, напугал он меня.
Лариса ( усмехаясь ). А ты и напугался?
Валера. Он мне под дых надавал на лестничной площадке.
Лариса. А ты сразу все понял и осознал. И полюбил.
Валера. Нет, ну, я в смысле…
Лариса. Меня спасать не надо. Я всплыла. А ты иди домой. ( Оглядывается по сторонам. )
Валера. Мы когда увидимся? Я хочу с тобой… тебя…
Лариса (после паузы ). Я так давно ждала этих слов… Только мне не нужно уже, Валерочка… Ты еще мальчик, ищи девочку… А я не девочка. Я… ( Торжественно. ) Я – женщина! Причем очень даже ничего. Спасибо за поддержку!
Валера ( улыбается, пытается ее обнять ). Я не понимаю – ты серьезно? Ты недавно тут… ну, плакала, просила.
Лариса. Руки отпусти. Кругом! Бегом! Учить зарубежную литературу.
Валера. Ну, и черт с тобой! Я готов был мириться. Ты сама не хочешь. Скажи своему этому в белом плаще, что сама отказалась, чтобы он потом меня не трогал и не дергал.
Лариса (усмехаясь ). Пошел ты! ( Отворачивается. Валера быстро уходит. Лариса раздумывает. Оборачивается. ) Стой, идиот, стой! Вернись, Валерка, дурень! Вернись! ( Плачет. Сбоку появляется Мужчина в белом плаще, проходит мимо. )
Лариса ( хватает его за рукав) . Стоять, гад! ( Пытается его ударить. ) Все из-за тебя, все из-за тебя! Что ты со мной сделал?
Мужчина ( легко отбивается от нее ). Женщина, вы чего, я вас разве знаю? Вы что-то перепутали! Я вас вижу в первый раз. И нападать на меня незачем, и обвинять меня не в чем.
Лариса ( отпустив его, зло ). Так ты еще меня и не узнаешь? Ты еще дурака тут валяешь?
Мужчина. Да вот Богом клянусь, женщина! Я как раз своего ищу, а то тут бегают всякие, а мы теряем. Где он? Поди найди!
Лариса (кричит ). Нет уж, Миша, не пройдет. Ты же меня…
Мужчина ( перебивает) . Да я Миша разве? Вот вы даже не знаете, как меня зовут, милая, а шумите. Вы глаза пошире раскройте. ( Отворачиваясь и уходя. ) Вот тоже люди! Посреди уже ночи от дела отрывают! ( Уходит .)
Лариса ( кричит) . Нет, постой! Что ж ты издеваешься? Стой, говорю. Верни мне шляпу! ( Бежит за ним .) Верни мне Валерку! ( Убегает .)
(Вода плещет все громче. После паузы наверху появляется Валера. Он опирается локтями на перила набережной, закуривает.)Валера. Такое впечатление, что что-то потерял. ( Пауза. ) Такое чувство, будто шкуру содрали. ( Курит, смотрит вперед на волны. Медленно гаснет свет. )
Конец Любят круглые сутки (одноактная пьеса)Действующие лица:
Игорь,
Лиза,
Эля,
Борис Борисович.
(Подъезд пятиэтажного дома, видно несколько окон первого и второго этажей, около подъезда – скамейка. Поздний вечер, почти ночь. Уличный фонарь освещает небольшое пространство от двери подъезда к поребрику. Слева от скамейки еле освещены густые кусты, справа дерево. Вдалеке слышны крики, иногда звуки проезжающих машин, где-то играет музыка. На скамейке сидит Игорь, парень 25 лет. Он покуривает и оглядывается, будто кого-то ждет. Со стороны кустов по дорожке идет девушка. Она сворачивает и проходит мимо пятиэтажки. Девушке лет 20, одета она нарядно и легкомысленно – видно, что возвращается с какого-то праздника.)
Игорь. Лизка!
Лиза (оборачивается и смотрит с близоруким прищуром в сторону Игоря). Кто тут?
Игорь. Я, я! Иди сюда.
Лиза (подходит к скамейке ). Ну, чего сидишь?
Игорь (смущенно) . Ты пока домой не ходи.
Лиза. А чего это?
Игорь. Мать просила. Там этот пижон с автобазы приплелся, так она его угощает. Представляешь?
Лиза. Я спать хочу.
Игорь. Посидим еще немного. А то она рычать будет.
Лиза. Что ей неймется? Старуха уже! (Пауза.) А я у Жорика Эльку видела. Она так изменилась, я ее даже не узнала. (Пауза.) Слышь, Игорек, тебя это не интересует?
Игорь. Плевать!
Лиза. Твое дело. Она все еще…
Игорь (перебивает ее) . Говорю, плевать!
(Пауза. Лиза садится рядом с Игорем, он обнимает ее.)
Может, нам условие ей поставить? Мол, хватит, мы вообще-то тоже люди. А то чуть ли не каждый день одно и тоже.
Лиза. Да, на работу завтра. Спать осталось часов пять. ( Пауза .) А Элька про тебя спрашивала. ( Пауза .) Слышь, что говорю?
Игорь. И чего?
Лиза. Ничего, я ей сказала, что ты переживаешь. Она обещала…
Игорь ( перебивает ее ). Ты перестань меня с ней опять сводить. Знать я ее не желаю. И так огреб полные штаны. То ей не так, это не этак. Нормальную найду. А не эту расфуфыренную!
Лиза. Игорь, а ведь ты ее любишь!
Игорь. Мала еще. Больше мне делать нечего!
Лиза. Любишь, любишь! И не отказывайся. ( Кричит .) Эля!
Игорь. Ты что?!
Лиза ( еще громче ). Эля!!!
(Слышен стук каблуков. Эля появляется из-за темных густых кустов, оттуда же примерно, откуда выходила Лиза. Одета Эля еще легкомысленнее, чем Лиза.)
Игорь. Больные вы! Устраиваете мне здесь тоже!
Лиза. Вы это, поговорите, а я вокруг дома прогуляюсь.
Игорь. Я с ней один не останусь!
Эля. Игорь, я прошу.
(Лиза тихонько отходит в сторону. Наступает долгая пауза. Эля садится на скамейку. Оба не знают, с чего начать разговор.)
Игорь. Как дела?
Эля. Да так себе.
Игорь. Понятно.
Эля. А у тебя?
Игорь. Так же.
Эля. Учишься?
Игорь. Само собой.
Эля. Сессию сдал?
Игорь. А как же!
Эля. Отличник?
Игорь. Отличник.
(Пауза.)
Эля. А настроение как?
Игорь. Тоже ничего. ( Пауза .) Мне извиняться не за что!
Эля. Я так и думала. Считаешь себя вечно правым.
Игорь. Опять ты! ( Встает и расхаживает от двери до поребрика, держа руки в карманах.)
Эля. Две недели – это срок.
Игорь. Хоть восемь! Не важно. Разве ничего не прояснилось?
Эля. Прояснилось.
Игорь. Ну вот.
Эля. А что – вот? Две недели не звонишь.
Игорь. А сама?
Эля. А я вот пришла.
Игорь. Ага, по дороге со дня рождения, от Жорика!
(Пауза.)
Эля. Ну, не будь ты дураком!
Игорь. Вот и не буду. Чего тебе?
Эля. Какой-то разговор тупой.
Игорь. Ну, что уж, какой есть.
Эля. Что ты препираешься, как юнец пятнадцатилетний?
Игорь. Какой есть. ( Пауза .) Ты чего-то хотела?
Эля. Теперь уже ничего.
Игорь. Ну, и иди себе дальше. Пусть тебе кто-нибудь другой посуду моет!
Эля ( иронично ). А чего это ты не дома? Мама выгнала?
Игорь. Гуляю.
Эля. Ну-ну, гуляй. Ведь есть куда пойти. Нет, ты специально будешь на улице торчать.
Игорь. Ты что имеешь в виду? Квартирочку твоего папочки? Я такие подарки не принимаю!
Эля. Больше бегать за тобой не буду, живи с пьяницей-мамашей и с ее хахалями.
Игорь. Это моя мать! Я твою не трогаю.
Эля. Но это же смешно! Жена должна родного мужа уговаривать домой идти!
Игорь ( после паузы ). Уже поздно. Метро закрыто.
Эля. На машине поедем.
Игорь. А, папа уже и машинку организовал.
Эля. А он к тебе, между прочим, хорошо относится.
Игорь. Конечно. Помню я, как он на мою мать смотрел!
Эля. Чего ты меня унижаешь? Да, мои родители меня обеспечивают. И что? Это плохо, что они о дочке заботятся, а не только о себе? Ты что, завидуешь?
Игорь. Боже упаси!
(Пауза.)
Эля. Опять мы скатились до этого. Почему нельзя о нас-то поговорить? Без пап, мам…
Игорь. Потому что вылезают из всех щелей.
Эля. Ну, вот чего ты торчишь здесь? Мать твоя развлекается, а ты, бедняга…
Игорь ( перебивает ). Замолчи, а?
Эля. Хорошо. Но учти, я с тобой не ссорилась. ( Громко .) Что ж тебе эта посуда так далась?
Игорь. Громкость поменьше сделай. Далась и далась. Еще и мусор.
Эля. Это детский сад какой-то! Можно же договориться.
Игорь. До свадьбы надо было договариваться. А то патоку развели, а на утро уже командный голос появился. Умно! Как собачонку! Тю-тю-тю! Кис-кис-кис! И – по морде тряпкой. А еще лучше сковородкой. Могла ведь.
Эля. Я просто замахнулась.
Игорь. Привыкла, что все твои приказания выполняются. Классно! Гоняешь своих в ресторане. Так же и меня хотела. А?
Эля. Игорь, я скучала без тебя.
(Пауза.)
Игорь. Что-то Лизка долго бродит. Уже, пожалуй, пора.
Эля. Иди, иди. Будет проходить, домой отправлю.
(Игорь проходит до поребрика и почти исчезает в темноте, но останавливается, топчется на месте и неуверенно, медленно двигается обратно к скамейке.)
Игорь. Ты это, как у Жорика-то оказалась? Не живешь здесь уже давно. Пригласил, что ли?
Эля. Меня Лизка позвала.
Игорь ( после паузы ). Думала, что я приду? А я не пришел.
Эля. Я не думала. Просто мне скучно одной.
Игорь. Насмешила! У тебя навалом подруг, друзей всяких там. На работе, наверно, кто-нибудь желает-мучится.
Эля. А почему ты не пришел?
Игорь ( задумался ). А вот так!
Эля. Тебя вспоминали. Конечно, мы здесь здорово дружили. И до сих пор добрыми друзьями все остались. Наверно, искорка какого-то счастья сохранилась.
Игорь ( кривится ). Не сентиментальничай. Все здесь было. Как и везде.
Эля ( после паузы ). Ты хоть переживаешь?
Игорь ( задумывается ). Не получится ничего, Эля. Ты – барыня, я – простой студент. Жить на твои деньги не могу.
Эля. Какая ерунда! Чем ты меня попрекаешь? Тем, что я родному человеку помогаю! Ведь тебе учиться надо. ( Пауза .) Кто еще поможет? Мать?
Игорь ( кричит ). Ну не могу я! ( Пауза .) Тебе легко, ты привыкла. Раз, и все принесли. А я вон в институт не поступил, в армию пошел. Потом столько лет поступал. Потом опять поступал.
Эля. Но ведь поступил.
Игорь. Ты, небось, и экзамены не сдавала. ( Пауза .) Слушай, зачем я-то тебе? Кто я для тебя? Ноль! ( Пауза, садится рядом с Элей .) Какие у меня возможности, сама посуди? Закончу институт, буду работу искать. Найду – хорошо. Не найду – тогда-то что?
Эля ( улыбаясь ). Найдем мы тебе работу.
Игорь ( вскакивает ). Опять! А я за это посуду буду мыть!
Эля ( рассержено ). Оставь в покое посуду! Я вообще тогда спросонья была и ничего не соображала. Я просыпаюсь долго, знаешь же, и контроль не работает.
Игорь. Любят круглые сутки.
Эля. Да Господи! Чего ты хочешь? Чтобы я прощения попросила? Пожалуйста, прости!
Игорь. Не надо.
Эля. На колени встать перед тобой? Пожалуйста! ( Встает на колени .)
Игорь. Не надо! ( Пытается поднять ее, но Эля сопротивляется.) Встань ты, неудобно! Сейчас же! Встань! ( Отходит от нее .)
Эля. Я буду вот так стоять, пока ты не вернешься! ( Пауза .) Эй! Ку-ку! Ты ничего не замечаешь?
Игорь. Хватит выделываться!
Эля ( после паузы ). Игорь, я очень тебя прошу, отнесись к этому как, ну я не знаю, как к настоящей правде. Я. ( Пауза .) Я тебе хочу сказать, я хочу тебя заставить, то есть, нет, не заставить, а попросить. Поверь мне, пожалуйста. Я никогда больше этого не сделаю. Никогда, даже чуть-чуть голос на тебя не подниму. Никогда! Я буду мыть всю посуду, дом, шкафы, лестницу, подъезд, улицу. Все-все-все! Я буду сама выносить мусор. Я буду делать так, как захочешь ты!
(Пауза, смотрят друг на друга.)
Вернись, а?
Игорь. Это что, за две недели так женщины меняются? ( Пауза .) Где Лизка, черт возьми, не случилось ли чего?
Эля ( опускает голову в колени ). Не понимает! ( Смеется .) Не слышит! ( Смеется .) Игорь, ты меня понял?
Игорь. Понял, понял. Можешь вставать, я подумаю.
Эля. Сколько можно думать! Решай сейчас!
Игорь. Я так хочу, мне надо подумать.
Эля ( истерично ). Нет, сейчас, и ни минутой позже!
Игорь ( усмехаясь ). Ты вроде обещала что-то другое.
Эля ( просительно ). Ой, прости, прости! Я пошутила. Я не хотела. Реши сейчас, пожалуйста!
Игорь. А куда торопиться? Две недели ждала, еще немного тоже сможешь подождать.
Эля. Нет, я больше не смогу, серьезно. ( Пауза .) Давай домой пойдем, там все и решишь.
Игорь. Глупости! Там твоя территория. Здесь мне свободнее.
Эля. Все, больше не могу! ( Встает с колен .) Мало тебе моего унижения? Надо было, Игорек, вовремя остановиться и осознать, что ты сейчас теряешь. И ты потерял! С меня довольно!
Игорь. Папе привет!
Эля. Ничтожество! Слабак! Бездарность!
Игорь. В смысле?
Эля. Да по жизни, понятно! ( Пауза .) Ты думаешь, ты в институт просто так поступил? В университет, да на исторический? А?
(Пауза.)
Игорь. О чем ты? Что ты хочешь этим сказать?
(Пауза.)
Эля. Что хотела, то и сказала. Что тут непонятного? Мне уйти?
(Пауза.)
Игорь. Отчего же, посиди еще, куда торопиться? Ночь длинная. Разговор у нас впечатляющий. Да и мы сами…
Эля ( спохватившись ). Игорь, я тебя не интересую? ( Оглядывает себя .) Вот это все кому?
Игорь. Не знаю. Жорику там или еще кому.
Эля ( усмехается ). Ты меня такой видел?
Игорь. Чего не сделает одинокая женщина, чтобы на нее обратили внимание?
Эля. Я к тебе шла… Я к тебе сюда приехала. Можешь ты это понять?
Игорь ( пожимает плечами ). Так я и понимаю. И что с того? Это что, заслуга какая-то? Ты что, награду за это хочешь?
Эля. Посмотри, что ты творишь!
Игорь. Ну, после того, что ты мне про университет сказала, я вообще могу и кирпичом тебя треснуть. И сам тоже могу треснуться. Зря сказала.
Эля. Почему зря? Как раз нет. Теперь ты будешь знать, что это не так плохо.
Игорь. Нет. Я оттуда уйду. И буду сам поступать. В другое место.
Эля. Да пожалуйста! Только скажи, в какое.
Игорь ( хохочет ). Я папе твоему скажу, чтоб без посредников. Кстати, надо у него будет еще кое-чего попросить.
Эля. Конечно, только лучше это сделаю я.
Игорь ( игриво ). Нетушки, нетушки! Только сам. В самом деле, чего это я мучаюсь! Пойду и все проблемы решу. Правильно?
Эля. Не ерничай! Я все понимаю. Издеваешься.
Игорь. Да нет. Просто благодарен очень.
(Пауза.)
Эля. Ты едешь?
Игорь. Я все сказал.
Эля. Хорошо. (Собирается уходить, но вместо этого подходит ближе к Игорю. Справа от скамейки вдоль дома идет нетрезвый мужчина лет сорока, его чуть покачивает, он замечает Игоря и Элю, приветливо присвистывает и направляется к ним.)
Я надеюсь, ты все решишь, как надо?
Игорь. Надейся.
(Эля пытается его обнять, но Игорь отстраняется, Эля отходит и машет рукой. К Игорю в этот момент приближается тот мужчина. Эля исчезает в темноте кустов.)
Борис Борисович (говорит очень медленно). Игорь! Хочу выразить свою благо… ( Слышен звук открываемой дверцы машины, потом хлопок .) …дарность за предоставленную… ( Слышно, как заводится мотор машины .)
Игорь (резко хватает Бориса Борисовича за воротник ). Внимательно слушай, Борис Борисович! Я тебя у матери видел в последний раз, понял?! Еще раз увижу – будет так, будто ты сам упал и ударился об урну! Понял?
Борис Борисович. Молокосос! Не мешай людям жить, как им хочется! Не внедряйся в чужие владения! Метафизику не нарушай! Экзистенциализма поменьше.
Игорь. Чего, чего? ( Смеется .) Ты откуда вылез?
Борис Борисович. С автобазы. Знаешь же.
Игорь. Это у вас там философию так глубоко изучают?
Борис Борисович. А, это. Осколки прошлого. Философский факультет! ( Кланяется .) Ты не обессудь! ( Поворачивается и отходит от Игоря .) Мать не ругать. Не надо тут бунтующих человеков разводить! (Медленно, покачиваясь, удаляется.)
Игорь ( ему вслед ). Да пойми ты, пьет же она!
Борис Борисович ( останавливается, стоит спиной к Игорю ). И я пью, и ты пей! И не мешай людям! Им же хочется. В этом смысл их жизни. Истина-то где?
(Слышен звук отъезжающей машины. Игорь неожиданно набрасывается на Бориса Борисовича, толкает его, тот падает и остается лежать лицом вниз, Игорь приседает рядом на корточки и коленкой прижимает Бориса Борисовича к земле.)
Игорь. Значит, так! Я тебе сказал, ты меня понял! Тебе сюда путь заказан!
Борис Борисович ( пытаясь развернуться ). Так другой объявится. Уж лучше я. Это ж философия. Свято место пусто не бывает!
Игорь ( зло ). У тебя семья есть?
Борис Борисович. Ну, жена – философичка. Я весь в этом. Она науку изучает, я автобазу. ( Смеется ). Диалектика! Или я не прав?
Игорь ( отводит коленку в сторону ). Замордовал ты меня.
(С той же стороны, откуда шел Борис Борисович, бежит, размахивая руками, Лиза, она уже переоделась, и теперь одета в кофту и джинсы. Игорь приподнимается.)
Лиза ( кричит ). Игорь, Игорь! Оставь его, не трогай!
Борис Борисович ( лежа ). Не-е, ты что, Лизонька, я споткнулся. Он мне чуть не помог. Встаю. ( Поднимается с трудом, они пытаются помочь ему .) Я сам, сам. (Встает.)
Лиза. Эля уехала?
(Игорь кивает.)
Тебе вот такое надо? ( Показывает рукой на Бориса Борисовича .) Столько понасмотришься этого в ларьке! Тьфу! Тоже таким хочешь быть?
Борис Борисович. Ребятки, пора мне. Матери – гуд лак! Игорь, я почти все понял! ( Слегка качаясь, отходит все дальше от них .)
Лиза. Я уже дома была. Ты-то идешь?
(Игорь молчит.)
Чего замолк? Стыдно стало? Женщина за тобой бегает! Разве это по-мужски?
Игорь ( взорвавшись ). Думаешь, после таких словечек я к ней вернусь? ( Пауза, потом говорит уже обычным тоном.) Деньги у тебя есть?
(Лиза достает из кармана кофты несколько купюр.)
Лиза. Сколько надо?
Игорь. На такси, от нас до нее. ( Берет все деньги и, убегая, кричит .) Я позвоню!
Лиза ( улыбаясь ). Позвони. ( Замечает в кустах кошку .) Кис-кис-кис! Иди сюда, моя хорошая. ( Лезет в кусты .)
Конец 2001 г.
Рассказы ВесельеВеселье закончилось. Жесткий ноябрьский ветер выдувает из головы остатки добрых чувств и честных решений. Скользкая дорожка тянется в темноте вдоль разорванных бумаг около помойки и редкой травы у гаражей.
Боровикова качает в стороны, и кажется ему вся земля действительно круглой и такой шаткой, что он, держась за освободившийся от листьев куст, с грустью пытается определить местоположение своего подъезда.
– Вот там дом, – громко, глядя вверх, где черное небо, словно сговорившись со звездами, совсем не светится, – Вот там дом, – продолжает Боровиков и смотрит на землю такую страшно неровную и близкую. – Вот этот дом.
У Боровикова появляются слезы на глазах, и видится ему и слышится предстоящая ругань с женой и чувствует он, что где-то рядом дорога. Что где-то рядом кто-то смеется над ним, смеется, даже не понимая, как ему плохо.
– Проводите, – выговаривает он, резко опрокинув свою голову назад, – проводите, женщина!
Маленькая женщина стоит невдалеке и смотрит, посмеиваясь, на Боровикова.
– Уелся, дорогой, как чучело, – жалеет она его, – вот и стоишь, как березка на ветру, и ветки твои в стороны.
– Только не талдычьте о воспитании, – Боровикова корежит, – у меня есть кому об этом.
Губа его нижняя то отвисает, то вновь поднимается, он чавкает, как будто доедает капусту.
– Справлял, – плавает Боровиков языком по зубам, – они недоотмечали, уехали. Я ел, только ресторан негодный. Чужая свадьба.
Он встряхивает руками от расстройства, и его чуть не относит спиной назад; женщина ловит его и держит, упираясь ему в спину руками, а носками ног – в землю.
– Валера, – говорит она, – позоришься. Какой же ты гадкий!
– Я вас знаю? – выпутываясь из головокружения, спрашивает Боровиков. – Не надо только выдумывать лишнего. Слишком просто вот так вот.
Женщина перестает улыбаться и визжит на всю улицу:
– Скотина ненавистная, сколько я терпеть-то это буду?! Взять, да и зарыть тебя здесь около дома, чтобы не нашел никто.
– Галя? – спрашивает снова Боровиков. – Галя, это ты?
Глаза его никак не могут поймать фокус. Каждая попытка до странности напоминает ему лотерею «Спортлото»: все так и крутится, как барабан с шариками, а на них – номера.
– Галя, если это ты, – повторяет Боровиков сквозь слезы, – если это ты, то откликнись. Жена, заговори!
Крик Боровикова тяжел, слезы, вдруг выплеснувшиеся из глаз, горчат на губах испугом. Молчание стоящей за спиной женщины повергает Боровикова в ужас, и неумолимо тают его последние слабые надежды не свихнуться окончательно прямо здесь и сейчас. Тишина и чьи-то руки за спиной отрезвляют, да только тело потеряло ориентиры, а силы не восстанавливаются. И плачет он от недоумения, и размазывает мокрой рукой по волосам слезы.
– Галя! – мольба его гремит по двору, и зажигаются чужие окна. – Галя, почему тебя не слышно?
Он пытается опустить себя на землю и лечь, но, словно привязанный, зацепляется за что-то.
– Куда тебя несет? – шипит женщина. – Совсем как студень! Завскладом так даже не набирается. Очумевший магазин придурков.
– Мне теперь незнаком твой голос, Галя! – воспламеняется Боровиков. – Ты изменила тембр.
– Да никакая я тебе не Галя, – отвечает женщина, – Оськина я с обувного. Зачем ты пивом-то запивал, дубина?!
– Оськина?! – Плавное тело Боровикова изгибается, принимая сразу форму и вопросительного, и восклицательного знака. – Оськина… фамилия знакомая.
– Еще бы, – гудит Оськина, – весь вечер мне коленку тер.
Боровиков мягко разворачивается боком и уже видит худое, немыслимо плоское ее лицо.
– А ты как тут? – спрашивает он и западает набок.
– Как, как! – вскрикивает Оськина. – Хватило ума тебя тащить! Со свадьбы мы вместе.
Левая половина лица Боровикова отходит в сторону, и глаз опускается вниз, и видит, что на Оськиной надето желтое, длинное, в черных точечках от грязи платье, а поверх платья накинут еще бордовый плащ.
– Мы, то есть, вместе идем ко мне домой? – глупо обрадовавшись, спросил Боровиков. – Вот Галя-то обрадуется!
– Нет уж, – кривляется Оськина, – мы вместе ко мне домой идем. А к тебе поздно ехать. Полпервого уже. Тю-тю!
Боровиков играет бровями и, не веря, бормочет:
– Ой, ли, душенька, вот же моя помойка, вот мой подъезд – вон там.
Рука его летит вперед, тело – вслед за рукой, и плюхается он головой в грязную слизь.
– Теперь еще и мой тебя, – констатирует Оськина, – пошли-поехали, говорит, по клубам, видишь ли, потом к тебе, – передразнивает она, изображая Боровикова, – приехали ко мне. Тьфу, что же это я, как б…дь-то!!! Вставай, давай, лежбище устроил.
Оськина наклоняется к Боровикову и толкает его рукой в плечо.
– Слышь, Валера, – шепчет она, – ты морду-то всю измазал.
– Скажи, что я около моего дома, – упрямится Боровиков, – иначе я ползком пойду.
Он тычется носом в грязь и размазывает ее по лицу. На него вдруг нахлынуло какое-то невероятное вдохновение, настоящий творческий порыв, и в голове проносятся свежие мысли, новые веяния, возникают целые жанры, доселе никому не ведомые. Хочется ему и вовсе плясать лежа. Но молчание Оськиной настораживает, и поэтому, повернув голову набок и прижавшись щекой к земле, Боровиков кричит:
– Оськина, позови Галю, мне ветрено очень.
– Ладно, пойдем, – кричит в ответ Оськина, – хватит дурака валять, а то Галя заждалась уже.
Боровиков пытается оттолкнуть себя от земли и с помощью Оськиной приподнимается, и, выписывая невероятные кренделя, он закручивает такие виражи, что все время почему-то оказывается спиной к направлению движения.
– Мы туда идем! – тащит его Оськина. – Туда, а не туда.
Кивая и потеряв способность вязать лыко, Боровиков мычит, хрюкает и повизгивает. Дверь подъезда, конечно же, цепляет его ручкой за распущенный шарф.
– Послушайте, – выдавливает он, обращаясь к двери, – ведь это же дверь!
– Дверь, – говорит усталая Оськина, – дверь вот это, а это ручка.
Ее тон напоминает Боровикову добрые старые времена, золотое детство, когда каждый предмет разъяснялся и описывался досконально.
– Да, – говорит он, – я, кажется, очень пьяный. Ладно, никуда я отсюда не пойду.
Он хватается за ручку двери и повисает на ней.
– Хватит идиотничать, – кричит Оськина, – люди спят!
– Я сказал: не пойду! Значит, не пойду! – разглагольствует Боровиков. – Мне здесь нравится, здесь небо видно!
Глаза его смотрят вверх и не принимают возражений.
– Я что же, тебя сюда для этого тащила?! – пищит Оськина. – Мне что же, наказание это, что ли? За что только?
– За безобразие! – вставляет Боровиков. – За моральное разложение! Ты меня от жены увела! Вот! А я не хочу!
– Ну, пойдем, пожалуйста, – ноет Оськина, пытаясь образумить его по-хорошему, – я тебе постираю.
– Жена постирает! – гордится Боровиков. – И вообще, я ничего не помню! Дайте пройти!
Он делает шаг, спотыкается и попадает в объятья Оськиной, а та с силой затаскивает его в подъезд и сажает на ступеньку лестницы.
– Не пройдет! – машет рукой Боровиков. – Пустое. Я не хочу, не могу, не буду мочь!
Он замолкает и всматривается в белое лицо Оськиной, потом медленно закрывает глаза. И вертящиеся круги заворачивают его, и летит он с неимоверной скоростью непонятно куда. Как сорвавшийся с катушек истребитель…
Очухивается Боровиков часа через два на полу около двери в квартире Оськиной, совершенно голый. Тишина и запахи пугают его. Хочется пить, голова неуверенно держится на плечах. Шлепая по коридору на кухню, Боровиков вздыхает и вспоминает, что перед банкетом обещал Оськиной потом заехать к ней.
– Ай, черт, надо ей позвонить, – говорит он вслух, и, хлебнув воду, расстраивается, что не удалось повеселиться.
Глаза его рассматривают кухонный пейзаж. Что-то малознакомое и непонятное вокруг. Холодок пробегает по телу…
А Оськина уже давно спит, и ей абсолютно наплевать на Боровикова – того Боровикова, которого она зачем-то затащила к себе, раздела и все ему перестирала. А он отказался спать на диване и ушел в коридор к двери на коврик, как собачка. Даже подвывал, пока не уснул…
...2001
Время для любвиСеврюгины ужинали. Правда, ел только муж, а жена наблюдала. Макароны и жареное мясо – в самый раз после семи.
С утра они разбежались по работам, а накануне Евгений Владимирович всю ночь доделывал новый проект. Ася же долго вязала, а потом заснула. Правда, ей позже вставать.
Настало, наконец, время побыть вместе.
Тягучие минуты поглощения пищи разворовывали свободное для любви время. А прошлая ночь осталась в памяти невосполнимо утраченной.
Ася несколько раз провела вилкой по пустой тарелке, издавая пронзительный и выводящий из себя звук. Ей есть уже не положено, а тут еще Евгений Владимирович со своими служебными рассказами и упреками.
Проект не приняли, и он его выбросил по дороге домой.
– Ненавижу, – сердился он, – все им до последней точечки объяснишь, нарисуешь, и вот тебе – шиш! Что ты молчишь?
Ася продолжала неловко скользить вилкой по тарелке, и переводить глаза с мужа на солонку.
– Интересное кино! – возмутился Евгений Владимирович. – Я тебе тут рассказываю, а ты кривишься. Потрясающе!
Он жует мясо и даже не чувствует вкуса, неудача злит, но еще больше злит то, что жена не поддерживает его.
– Тебе это не важно, да? – пристает он к Асе. – Что муж деньги теряет, что муж без проекта, что у него неудача?! Что это, в конце концов, за еда? Макароны?!
Он отодвигает тарелку и ждет новых мыслей.
– Женя, – говорит Ася ласковым тоном, каким обычно разговаривают с душевнобольными, стараясь их не слишком раздражать, – ты меня обижаешь. Ведь я готовила.
– Что тут готовить! Готовила она! – возмущение мужа нарастает, он крутит глазами в стороны и начитает размахивать рукой. – Молодец! Спасибо! Что еще? Не хочешь меня пожалеть? Я всю ночь все-таки это барахло выравнивал! Думаешь, я хорошенько выспался?
– Вот-вот, – Ася грустно улыбается, – лучше бы лег спать. Я ждала.
Тут Евгений Владимирович осекся и, чуть успокоившись, сказал:
– Мне надо было закончить.
Он пододвинул тарелку обратно, капнул на макароны кетчупа из стеклянной бутылки и стал их есть, холодные почти, совсем уж не вкусные. Да и мясо тоже не для всяких зубов.
Ася же молчала вновь, тыча вилкой в солонку, перемешивая белые кристаллики, и ждала новых придирок. Она к мужу не лезла. Успокаивай его или наоборот – не замечай, все ему не так.
– Опять молчишь? – снова лип к ней Евгений Владимирович. – Ну, а у тебя что новенького?
– Ничего, – нервно ответила Ася, – все так же.
– Да! – приторно сказал он. – Ну-ну.
Он опять принялся есть и доел, наконец.
– Чаю? – предложила Ася.
– Какого чаю? – встрепенулся Севрюгин. – Сегодня положено, с горя!
– Мне нельзя! – укорила она.
– А тебя никто и не просит! – разгорячился он. – Что у нас там? Водка есть?
Севрюгин полез в холодильник, достал бутылку коньяка и добавил:
– Ага, коньячок-с! Вот, зато посплю.
Ася недовольно убрала тарелки в раковину, налила себе заварки и воды из электросамовара. Евгений Владимирович успел за это время выпить целый стакан. Лицо его потеплело, и что-то пощипывало под кожей.
– Я что, красный весь? – глупо спросил он.
Ася качала головой и смотрела в сторону.
– Расстроилась, голубушка моя, – ласково пропел Севрюгин, – муж пришел, накричал. Ах, какой он невоспитанный! Ладно, пожалуй, еще малость для успокоения.
Он налил еще полстакана и выпил медленно, будто смакуя.
– А вообще, гадость! – заключил он.
Ася молча пила чай и думала о чем-то своем.
– Ну, а сейчас чего молчишь? – спросил Евгений Владимирович. – Вроде я к тебе с работой своей не пристаю. Сейчас-то можно хоть что-то сказать?!
– А что? – ухмыльнулась Ася.
Севрюгин развел руки.
– Ну, ты даешь! – воскликнул он. – Родной муж рядом, а жена…
– Не нужна тебе никакая жена! – презрительно смотря ему в глаза, сказала Ася.
– То есть? – Евгений Владимирович был в недоумении. – Ты давай договаривай, давай! Не ломайся!
Его руки вертели стакан, ощупывая его грани.
Ася подлила еще заварки и бросила теперь два кусочка сахара.
– А как же фигура! – позаботился Севрюгин. – Тебе же нельзя.
– Какое твое дело, – оборвала его Ася, – было нельзя, стало можно.
– Не понял! – Севрюгин привстал, пытаясь поймать взгляд жены. – У тебя что, тоже неприятности?
– Нет, – съязвила Ася, – у меня все хорошо. Муж, работа классная, дети не мешают…
– Ты ребенка хочешь? – перебил Евгений Владимирович.
– Куда уж тут ребенка еще?! – сказал Ася. – Надоело мне все!
– Ну, так бросай ты эту вихлястую работу, – попытался успокоить ее Севрюгин, – на фиг она нужна. Хочешь, вообще не работай.
Ася посмотрела в красивые серо-голубые глаза мужа: он улыбался, и от этого две ямочки отметились на щеках. Он ей нравился – его ноги, плотные его руки, как железо, впивавшееся в ее тело, все, что было в нем, особенно тот мужской запах, от которого всегда кружится голова, все это нравилось ей. И все же…
– Ну, что там, в самом деле, – рассуждал Севрюгин, – ходишь, задницей виляешь перед этими всеми. Сиди ты дома. О чем еще мечтать?
Он ее жалел.
– Мне ты здесь нужна! – заключил он.
– Бесплатная прислуга и полежать есть с кем иногда! – ядовито заметила Ася.
– Что ты, голубушка, – расстроился Евгений Владимирович, – ты тоже капнула, знаешь. Я же не виноват, что макароны не люблю.
– Да при чем здесь макароны, – голос Аси леденел, – ты меня в упор не видишь. Придешь – не поцелуешь, не обнимешь. Да если б ты… Вспомни, как это было до свадьбы.
Остекленевший Севрюгин что-то соображал, глядя на остроносое лицо Аси. Она была худа, но пока его устраивала – правда, в ней все-таки не хватало аппетитности. Однако же другим мужчинам его жена нравится. Интересно!
– А я думал, это из-за макарон, – после раздумий пробормотал он, – ну, давай я тебя поцелую.
Он потянулся было к ней, но нужно было обходить стол, и Ася, заметив это, отодвинулась и сказала:
– Я не навязываюсь.
– Да ты что, одурела, что ли?! – вспылил сразу Евгений Владимирович и сел обратно. – Прямо самодурство какое-то! Ай!
Он так махнул рукой, что задел кончиками пальцев висячий деревянный шкафчик.
– Знаешь, Женя, – грустно заговорила Ася, – я познакомилась недавно с одним человеком…
– То есть как это?! – грубо прервал ее Севрюгин. – Ты посмела? При муже живом!
– Дай договорить! – закричала Ася. – Или у нас только твои монологи разрешены?
Она плеснула себе коньяка в стакан Севрюгина и, глядя в его изумленные глаза, тут же выпила, потом продолжила свой рассказ:
– Я познакомилась, знаешь, и он мне цветы дарит каждый день, только я их выбрасываю… и подарки, и вообще…
Севрюгин вскочил и, шипя, стал расхаживать по кухне.
– У вас что-то было? – спросил он, скрипя зубами. – Ну, ну, говори, давай!
Ася долго держала паузу, пока, наконец, не испугалась за мужа – что-то слишком уж сильно он покраснел, даже глаза начали багроветь и сливаться с новым цветом лица. Тогда она все же ответила:
– Да нет, не было ничего, я пошутила.
– Нет! – тряся указательным пальцем перед ней, обличал Севрюгин. – Нет, было! Это не шутка! Все было, я давно заметил. Давно все вижу. Проговорилась-таки, предательница! Она изменяет мне!!!
Он захохотал совершенно неестественно – как ненормальный или, по крайней мере, притворяющийся таковым.
– Ну, и как, с ним лучше? – выделывался Севрюгин, крутясь волчком над сидящей Асей. – Лучше с ним? Конечно, цветочки, подарочки…
– Да замолчи ты! – крикнула Ася. – Замолчи! Поцеловать, так стол не мог обойти, а тут скачешь! Нет у меня никого. Нет и не было.
– Точно? – спросил Севрюгин.
– Да! – проорала Ася. – Я просто проверяла… Ревнуешь или нет.
– Так что? Ревную? – уже утихомириваясь, Севрюгин сел на свой табурет и налил остатки коньяка.
Ася встала, взяла пустую бутылку и поставила ее в ящик под раковину рядом с мусорным ведром, потом решительно пустила воду и стала мыть посуду.
Севрюгин подошел к ней, обнял и сказал:
– Ну, я ревную ведь.
– Не-а, – ответила Ася оттаявшим голосом и опустила свою голову мужу на грудь, – только не засыпай сейчас.
Севрюгин провел руками по ее телу, допил коньяк и пошел в комнату смотреть телевизор.
Минуты через три он уже спал…
Ночью Ася сидела рядом с ним, вязала, плакала и вспоминала недолгое свое трехмесячное замужество…
Утром Севрюгин проснулся один.
...27.07.01
Высота взаимопониманияВокруг пятиэтажки – грязные лужи и слипшиеся листья. Шум и гам позднего утра разлетается по хмурому сентябрьскому воздуху.
На срубленном стволе тополя, опохмеляясь, сидят под окнами два друга: Василий Степанович и Сергей. Тут же на дереве разложена еда: три нарубленных огурца, порванная пополам палка полукопченой колбасы, батон, обкусанный с двух сторон, и бутылка самого дешевого вина бордового цвета. Глаза у друзей слипшиеся, словно проведенная без сна ночь окунула их в сморщенные песочной жижей лужи. Оба пьют из «горла» по очереди, молча хрустят огурцом и откусывают каждый от своей половинки колбасы. Выпив бутылку, они хмурятся, но настроение повышается, и даже сонливая густота безразличия сближает их.
– А хороший вообще мужик был, – говорит Серега и чешет свою сорокалетнюю коленку, – хорошо, когда хоронят в субботу, целый день следующий свободный.
Сергея мучит зубная боль, поэтому жует он только правой стороной рта.
– Вообще вся семья у них хорошая, – вторит ему Василий Степанович, – я вот, когда им унитаз ставил – даже накормили, об вознаграждении и речи быть не может, заплатили честь по чести, особенно Клавдия.
– Да, жена у него человек хороший… была, – поддерживая и себя, и Василия Степановича, проговорил Сергей.
– Почему была? – брови Василия Степановича сошлись в центре лба. – Она есть.
Сергей почему-то долго смотрит на друга и косо усмехается, губы его заблестели колбасным жирком, а левая щека покраснела.
– Люблю, когда люди хорошие, – говорит он, – сколько раз замечал, когда они у себя на площадке лампочку вкручивали.
Оба на минуту замолкают и вдыхают в себя свежий прохладный ветерок, набирая полные легкие воздуха. Сергей достает из внутреннего кармана телогрейки новую винную бутылку. Пьют также из «горла», по очереди.
– Мы хорошим людям таким всегда должны памятники ставить, – возобновляет беседу Сергей после третьего глотка, – а вот моей дуре надо табуретку на голову надеть.
Василий Степанович широко раздвигает густые брови, и волосы его медленно двигаются по черепу.
– А мы сегодня не работаем? – вдруг спохватывается он.
– Нет, – отвечает Сергей, – сегодня выходной. А все-таки жаль хороших людей, им теперь и трубы менять не надо.
Он пускает скупую мужскую слезу, вытирает щеку рукавом, от чего на щеке появляются два длинных маслянистых пятна.
– У тебя кровь пошла, – видя это, говорит Василий Степанович, – ты, наверно, руку поранил.
Некоторое время они ищут рану на ладони Сергея, но не находят. Сергей отводит в сторону левую ноздрю носа и машет рукой.
– Бог с ней, с кровью, – говорит отважно он, – это не проблема. Люди вот хорошие умирают.
Погода портится. Бутылка допита, доедаются оставшиеся продукты.
Тишина и шарканье прохожих сливаются в ушах в нежное гудение. Организмы плывут в пространстве, одухотворенные важным смыслом.
– Клавдия у него завсегда здоровалась, – говорит после Василий Степанович, – идешь, бывало, чемоданчиком размахиваешь, а она тебе: «Здрасьте!» Ты ей поклонишься.
– А он не здоровался, – отвечает Серега, – вот недавно я с ним кланяюсь, а он глаза отводит. Хороший человек Георгий, и Клавдия хорошая. А ты придешь к ним, трубу прочистить, она тут вертится, а он по-хорошему даже не выйдет. Ну, и не надо, думаешь. Куда нам до их воодушевления. Мы пониже будем.
– А дочка ихняя! – продолжает разговор Василий Степанович. – Унитаз им меняешь, а ей тишина нужна, чтобы малыш спал. Так попросишь извинения, а она кивнет головой, и дверь запирает к себе в комнату. Хорошая дочка.
– Вообще все хорошо, – поддерживает вновь Василия Степановича Сергей, – день вот хороший. Похороны тоже. Видишь, к дому почти подвезли, как хорошо. Да? Все соседи посмотрели, попрощались.
– А ведь главное, хорошо попрощались, – соглашается Василий Степанович, – а то, бывает, так попрощаются, что хоть в петлю лезь. Человек, можно сказать, уже сгинул, все можно уже ему простить, а они начинают вспоминать прошлое.
– Вот-вот, – загорается Серега, – моя тоже такая. Я говорю, можно же уже и простить меня, хорошего человека, работягу-пахаря, весь день на работе вожусь с чужими этими… Ну, вот… А ей хоть бы хны! Вот и думай тут, что лучше-то. Не прощает, не прощает… Даже вот сегодня обязательно упрекнет за все, за все! – он тяжело вздыхает и продолжает. – Жалко мне себя, жалко так, что будто на могилу к себе пришел. Смотрю: даже, свинья, оградку не поставила, а уже про памятник я вообще молчу. Ни цветочка, ни грядочки, ни бутылочки. Хлеб только разбросан, только хлеб для ворон. Все…
Василий Степанович превращает свои глаза в шарики и выпучено смотрит на друга.
– Серега, ты не плачь так, – успокаивает его он, – я тебе, хочешь, стырю где-нибудь камень! Притащу, поставлю тама. И цветочков нарву.
– А бутылочку? – слегка покачиваясь, спрашивает Серега.
– Вот это – прости! Денег нету, – виновато отмахивается Василий Степанович.
– Как это! – Серега недоволен. – Для покойника и пятьдесят рублей не найдешь? Да кто ж ты такой после этого! Да я тебя после этого в свой гроб даже не пущу!
Уши Сергея краснеют и начинают пылать, он их трогает руками и морщит нос. Недружелюбие проскакивает по стволу дерева и западает обоим друзьям в души. Наступают минуты волнительного томления и ожидания. Каждый надеется, что у кого-то совесть взыграет раньше. И, может быть, тогда мировой порядок будет восстановлен. Но тень сопротивления поднимается все выше и выше.
– Я тебя в прошлый раз угощал! – зло укоряет Серега. – Совсем недавно, когда ты мать свою хоронил… в третий раз. И сейчас… Неужто ты благодарность совсем пропил? Что же я, гад ты такой, должен тебе еще сказать, чтобы ты не скупердяйничал?
Расстроенное лицо Василия Степановича пытается удержать разбежавшиеся по нему брови. Настроение с холодным блеском льда падает вниз, и ловить его становится уже нечем. Выветривается всякая надежда, и даже жалеет он, что закусывал.
– Понимаешь, Серега, – говорит он, – мы уже перешли грань взаимопонимания. И потому ты не можешь укорять меня ни в чем. Такая тоска – прости, друг, даже слезы наворачиваются. Ведь я тебя ставлю всегда в пример… Я же тебя считаю самым светлым пятном в жизни. А путать дружбу с деньгами – это последнее дело! Все мои намерения к тебе – только благодарность! Потому что, вот кого только уважаю, так это тебя. Даже матери своей не дам столько уважения. И прежде всего – за щедрость!
Серега тупо смотрит на друга, а потом совершенно разочарованно говорит:
– Да, жалко, что сегодня выходной. А то сломали бы чего да починили. Вот у Клавдии, например. Забью ей, бывало, трубу, а потом прихожу чистить. И ведь какие люди хорошие, ничего не заметят и заплатят. А я так чищу, что и на потом себе работы оставлю.
– Я им тоже унитаз, знаешь, слегка не так завернул, – говорит Василий Степанович, – у меня заявка на послезавтра.
Туго соображая, они замолкают и смотрят на соседские окна. В глубине обоих голов рождается одинаковое решение. И вот уже оба встают, и начинают обходить дом.
Сергей останавливает Василия Степановича на полдороги и говорит:
– Только давай, значит, условимся. Больше не хоронить тех, кто нас вызывает. А то бы сейчас как пошли бы, если бы действительно он помер?
Василий Степанович соглашается и целует свой маленький нательный крестик на цепочке…
...02.10.01
День рожденияПустая комната и накрытый длинный стол.
Тихое щебетание воробьев за окном.
Остаток дневного солнца проникает сквозь темную занавеску.
Где-то на кухне позвякивает посуда и льется вода.
Стулья в комнате стоят по периметру стола, на подоконнике в горшке – алоэ.
Полина расставляет тарелки и складывает вилки в кучу, выходит на кухню, забирает бутылки, и взгляд ее застревает на струе воды.
Весна влетела в жизнь Полины солнечным разбитым счастьем и кубарем покатилась по оттаявшему асфальту. Но природа не плачет, наоборот, она светится разухабистой яркостью, от чего силы Полины иссякают с каждой секундой.
Медленные напряженные движения ее сталкиваются с необходимостью торопить события.
Времени мало, скоро все приедут: и мама, и папа, и брат. И другие.
Зеленые ее глаза разглядывают льющуюся воду, а руки заняты бутылками… Жаль! Так хочется ей порвать струю напополам и остановить движение времени.
Прошедшая жизнь – воспоминания о радостях и тоске – в этой струе.
Светлое небо, как наказание за плохое предчувствие ее в ожидании мужа, тление памяти и сгустки несбывшихся желаний вызывают страх у Полины….
…Убили, не подумали о ней. Отняли, не зная ее беспомощности перед миром. Врачи не спасли.
Поминки вечером, а не нужны они нисколько.
На похоронах – слабость и пустые глаза. Шепот друзей, слезы подруг…
Полина ставит бутылки на стол.
…Квартира получена только что, а он уже был смертельно болен.
Но его все равно убили, не помогли.
Нужна ли теперь эта трехкомнатная могила ей?..
Полина не плачет, просто не может. Последние месяцы все было отдано борьбе со смертью, все слезы вылиты на простыни и подушки. Все силы выплеснуты, все сердце на кусочки.
…Квартиру ждали, детей не заводили, и теперь вот Полина одна осталась…
Куцая ворона села на карниз комнатного окна и как будто просила покормить ее. Полина, увидев ворону, перешла на кухню и села за столик. Ворона перелетела и стояла уже на кухонном окне. Полина шикнула на нее. Удивленные глаза вороны подпрыгнули вместе с клювом, и сама она сорвалась с места недовольная и улетела.
Все готово к приему гостей, только бессмыслица момента сдавливает жилы, как шнур вокруг шеи.
Кислая капуста, заправленная растительным маслом, и сегодняшний день рождения Полины, и поминки по мужу, и похороны утренние, завершают очередной жизненный цикл.
Трезвая печаль, когда соображаешь и действуешь автоматически, хуже порезанной вены.
…Дорогие лекарства не помогли, дорогие врачи только драли деньги и крутили носами от разных диагнозов коллег. Каждый из них знал лучше другого – что и как делать…
Будет ли сегодня ночь такой же, как и вчера – со снотворным, но бессонной, с беганьем по пустой квартире в поисках спокойного места?
Душа стынет от ощущения мрака и безысходности.
Зачем-то лыжи в прихожей вытянулись вдоль пола. Полина двинула их ногой к стене, одна лыжа треснула. На вешалке – одежда Павла: две куртки и плащ.
Она сорвала все с крючков, свернула и засунула в кладовку.
Все три комнаты пусты, только в одной раскладушка и диван.
Полина ложится на диван и сворачивается в клубок, не в силах справиться с нервной дрожью.
Мысленные картины снова и снова возвращают ее к тому врачу, который всегда обманывал.
…Павел умер ночью, во сне; а утром, когда его уже не было, ей так и не сумели толком сказать, как же чувствует себя больной…
Полина ударяет рукой по дивану.
Хорошо, что она отправила родственников и друзей гулять, попросив оставить ее одну. Она бы не смогла сейчас с ними быть. Но они скоро возвратятся, чтобы память почтить. Где ж вы раньше-то были?
…Ее осуждали. Павел был старше на двадцать лет. Осуждали и посмеивались. А они прожили вместе четыре года.
Три из них были годами ожидания этой злосчастной квартиры. Сколько денег, сколько нервов потратил тогда Павел – и только для того, как выяснилось, чтобы умереть здесь.
Полина не работала, она вообще ничего не могла делать без мужа, он был настолько опорой ей и крепостью, хоть и болел. О болезни она узнала случайно, он боялся ранить ее…
Сейчас, оставшись одна, Полина поняла, что не сможет жить дальше, не сумеет.
Жизнь до встречи с Павлом забылась, стерлась, и возвращаться туда не хотелось.
… Познакомились они в сауне. Павел с приятелем вызвали девочек для развлечения – одной из них как раз и оказалась Полина.
И как-то сразу жизнь гулящая закончилась. Павел, как увидел Полину, так больше и не отпустил ее. Богатым он не был, а в сауне оказался со школьным приятелем, пригласившим его случайно. Он ей рассказал потом, что это похождение было для него и странным, и противным одновременно. И случилось это один-единственный раз.
А так он был страшно одинок, как и Полина.
И эта сауна, так неприятная Павлу, стала тогда местом их соединения друг с другом.
Он ее поднял, вытащил и умер…
Похороны были скомканы, говорили мало, друзей у Павла не было, всех его друзей затмила Полина, она стала центром его вселенной, и она это понимала.
Единственный, кто с Павлом был более или менее близок – это Степан, тот самый школьный приятель, водивший его в сауну и вызывавший девочек, но на похороны он не пришел, прислал только цветы и пачку дорогих презервативов. Полина озверела, когда увидела их.
Степан Полину недолюбливал – знал ее прошлое и нередко наедине демонстрировал свое к ней отношение. Эти беседы их заканчивались руганью. Поэтому друг друга они сторонились. А Павел запретил Степану обсуждать с ним Полину сразу после свадьбы.
Вся эта муть окутала лежащую на диване Полину. Она накручивала черные локоны на палец и пыталась усилием воли побороть яростное желание напиться. Она перед свадьбой поклялась Павлу бросить пить и курить, и клятву свою сдержала.
Но сейчас, взбудораженная своей виной и слабостью, она еле удерживалась от того, чтобы не открыть клапаны, позабыв про все клятвы на свете.
Но еще были эти гости, еще надо как-то держаться!
Полина вскочила и выбежала на балкон. Воздух опрокинул на нее свою свежесть, ласковость и влажность. Впитывая ветерок, ее кожа покрылась легкими пупырышками.
Раздался звонок в дверь. Нарушилось одиночество, и одновременно нарушилась способность адекватно существовать в пространстве.
Схватив себя за запястье и сосчитав пульс, Полина постояла минуту на месте и подошла к двери.
В тиши пустой квартиры электрический соловей раздражал своей бесцеремонностью и грубым вмешательством. Иногда звонок замолкал, но потом снова, как ни в чем ни бывало, распевал веселенькую мелодию.
Полина повернула рычажок замка.
В дверях стоял Степан и ехидно скалился.
– Можно! – сказал он и влез в квартиру. – Ну, как ты? Закопала-таки?!
Полина бессмысленно смотрела на его толстый нос и выкатившиеся из-под век карие глаза.
– Правду говорят, – продолжал Степан, расхаживая вдоль стола, – отдай женщине все, она все и заберет! Зря Пашка не захотел моей помощи. А то все – нет, я добьюсь, я им покажу! Я их выведу! Ну и показал! На хрена было эту хату дожидаться, когда я ему мог любую дать, за его-то мозги!
Полина не отвечала, только схватила стоящую на столе рюмку и крутила в пальцах.
– Гордый дурак! И еще тебя пригрел, змеюку! Ну, я тебе жизни-то сладкой не обещаю! – сурово сказал Степан, оглядев Полину. – Чего-то тебе достанется от Пашки! Ну, вот квартира эта. Ну, и от меня тебе тоже достанется! За все, что ты с ним сделала!
Полина будто не слышала этих слов, она не реагировала на них, стояла и глядела сквозь Степана в пространство.
– Ты! – он подошел к ней вплотную и, блестя глазами, отрывисто говорил. – Попомнишь наши разговоры! Сейчас я тебя оставлю, но с завтрашнего дня твоя жизнь круто повернется! Не хочу при его духе здесь говорить, что я о тебе думаю, потом поговорим!
Он вытащил из кармана пачку долларов и бросил на стол.
– Это тебе на расходы. Он просил передать. Заботился, дурак, о стерве! – он сказал это, почему-то волнуясь, а потом печально добавил. – Зачем же ты спала с этим врачом? Думала, поможет? Или уже невмоготу было? Ты даже с… умудрилась в ночь смерти его переспать!
Степан сдержался, чтобы не выругаться и, едва не толкнув Полину, выбежал из квартиры.
Полина схватилась за голову и села на пол. Она выкручивала волосы с силой, заворачивая их на пальцы.
У нее вдруг словно пелена с глаз упала.
Значит, Павел все знал.
Она вспомнила, как лежала с этим врачом, от которого тошнотворно пахло одеколоном. Она ложилась с ним, сама толком не понимая зачем.
То ли чтобы он спас Павла. То ли и вправду – измученная женская природа кинула ее с размаха к первому встречному. То ли все вместе подействовало, да и сошлось на том враче.
Она только надеялась, что этой связью помогает мужу, как бы поддерживает иллюзию нормальной жизни. И видела всегда только Павла, хотя лежал на ней душный и потный врач. Она попусту растрачивала себя на эту ненужную связь, бездумно подставляя грудь чужим поцелуям.
Но сейчас, как только об этом напомнил Степан, Полина неожиданно для себя осознала, что убила мужа сама, жестокой своей женской жаждой любви, страсти и наслаждения, пытаясь оправдать деяние это спасением жизни мужа…
Пространство комнаты стало наполняться друзьями и родственниками. Кто-то подходил к Полине, что-то говорил ей, она не слышала, как будто отключила слух.
Все плыло перед глазами и дергалось, как круги по воде от брошенного камешка.
Ноги сами понесли ее в ванную. Она заперлась, включила воду…
Раздевшись, Полина залезла под душ…
Вымывшись, она оделась, как следует накрасилась и вышла из ванной…
Плавной кошачьей походкой направилась в комнату и села за стол.
И слух к ней вернулся, и зрение: заметила, как смотрит на нее малознакомый молодой человек в атласном синем костюме. Его взгляд словно щекотал Полину, и это ощущение не было неприятным.
Она поправила левой рукой свои черные локоны, потом положила ладонь на запястье правой руки, ласково подмигнув юноше.
Большего сделать обстановка не позволяла. Нужно было выдержать небольшую паузу…
День рождения начинался…...18.03.01
Доброе делоРыжие волосы и усеянное веснушками вытянутое лицо появились в окне. Волосы дрожали, а губы что-то шептали. Поначалу Юрику показалось в темноте комнаты, что лампочка, освещающая переднюю часть дачи, стала ярче, но потом он понял, что тот, кто скребется в стекло, направляет рукой лампочку в комнату.
Юрик встал и на цыпочках подошел к окну, наклонился, пытаясь рассмотреть, кто же это такой.
– Юра, – услышал он шепот, – открой!
Это был шепот Марины, живущей на соседней даче.
Юрик сдвинул защелку, и окно раскрылось, Марина вскарабкалась на подоконник, зацепилась юбкой за торчащий из него гвоздь, и, конечно, порвала ее. Раздался тихий треск, и Марина вдруг упала в объятья Юрика.
– Ты чего, ополоумела?! – отстраняясь от нее, зашептал он. – Куда лезешь?
– Тихо, тихо, – успокоила его Марина, – не беспокойся, я сейчас уйду.
Она посмотрела по углам и быстро залезла в кровать Юрика.
– Я минутку полежу, – сказала она.
Юрик закрыл окно, и так уже комары налетели, хотел было зажечь свет, но Марина запротестовала:
– Брось, брось! Не вздумай, нельзя сейчас!
– Блин! – забурчал Юрик. – Я у себя на даче вообще-то. Мне темно тут с тобой.
– Да ладно, трусишка, – засмеялась Марина, – не бойся, иди лучше, ложись рядом.
Юра выглянул в окно: тихая дачная ночь текла как обычно, улица перед домом была пуста, ничего и никого не слыхать, и только Марина почему-то очутилась в его кровати.
– Я не понимаю, – сказал он после раздумья, – я-то здесь причем, ты же ведь…
– Ха-ха! – Марина приподнялась, оперлась локтем о подушку и зашептала в темноте. – Ты его боишься? Со мной, значит, не хочешь?! Трус ты, Юрик! Маленький такой ленивый зайчик! Иди ты сюда, полежи чуток рядом. Чего, тебя убудет, что ли?
Юрик медленно подошел к кровати и присел на краешек.
– Мама может проснуться, – сказал он.
– А мы тихо, – Марина взяла его за плечо и потянула к себе, – ну, иди же скорей, дубинушка, скорей, скорей.
Она прижалась губами к его щеке, потом перебралась по коже к уголку рта.
– Разве тебе не хочется, – от тепла ее тела ночной воздух стал почти горячим, и Юрик втягивал носом запах недавно проснувшегося человека, – ну, поцелуй же меня, миленький, мне надо…
Жадные губы Марины сами впились в Юрика и всасывали его молодость и свежесть.
– Господи, как хорошо, – лепетала Марина, – как сладко.
Юрик держался из последних сил: воспоминания о своем опыте в таких делах пока еще не стерлись в памяти, да к тому же он случайные связи не признавал, а постоянной теперь уже не было.
– Отстань, а! – сказал он, после того как Марина добралась до его живота.
– Тьфу, дурак! – взвизгнула она и отскочила. – Тебе же хотела доброе дело сделать! А-а, и сиди тут, пень!
Она вылезла из кровати и гордо пошла к двери.
– Ты что! – Юрик резко замигал глазами и бросился к ней. – Там мать спит, увидит же!
– А ты что, стесняешься меня? – спросила Марина. – Что тут такого? У тебя что, девушки быть не может?
– Но ведь все знают, что ты… – начал оправдываться Юрик.
– Кому какое дело? – перебила его Марина и взялась за ручку двери, но тут же остановилась. – Поцелуешь меня – не буду мать будить.
Юрик замялся.
Конечно, Марина ему нравилась, было в ней что-то такое ясное и простое, что-то берущее за сердце, а вернее, за тело. Она так легко и плавно шла всегда по поселку – будто ветерок летел. С ней вообще было легко, как с ветерком. Хотя сама рыжая, лицо некрасивое, но вот что интересно – не в лице дело было, а в какой-то интуитивной чувственности. К ней всех парней тянуло, словно магнитом, а вот сама она не тянулась ни к кому.
– Ладно, поцелую, – согласился Юрик, – только я все равно не понимаю ничего.
Марина повалила его на кровать…
Через семь минут они лежали распаренные, покрытые липким потом, на простыне и подушке на полу, потому что кровать слишком скрипела, но на полу было жестко, и ничего не получалось.
– Сейчас остынем и еще разок попробуем, – тихо проговорила Марина, – жарко-то как.
– А что случилось-то, что тебя ко мне принесло? – потирая натертую коленку, спросил Юрик.
– А, мало ли! – шепнула Марина. – Какая теперь разница? Ему все равно.
Она положила ладонь на глаза и отвернулась.
– Ох, – тихо простонала Марина, – какая все-таки это чушь…
Юрик, чуть отстранившись, молча разглядывал очертания ее тела. Он чувствовал почему-то жалость к этому телу, какую-то трепетную жалость к желаниям и страстям этого веснушчатого, мягкого и уже неровного немолодого тела.
– Как я могла? – шептала Марина. – Какая пустота, черт!
Она легла на живот, провела рукой по полу перед собой и стукнула кулаком.
– Ты еще тут надоедаешь! – истерическим шепотом воскликнула она. – Со своим дурацкими вопросами! К тебе баба пришла!
Она замолчала и уткнулась носом в подушку.
Юрик погладил ее по спине и ягодицам. Марина не отвечала. Тогда он провел пальцами по ее шее и потянул к себе. Дотронувшись губами до лица Марины, Юрик почувствовал там что-то мокрое, вытер ей слезы и поцеловал. Марина от этого дернулась, потянулась ближе к нему и, тяжело дыша, тоже стала целовать, целовать…
В соседней комнате заскрипела кровать – громко, недвусмысленно грозно.
– Юрик, что там у тебя? – позвала мать.
Они замолчали и замерли.
– Спишь, что ли? – еще раз крикнула мать. – Снится, наверное, гадость какая… мне тоже черти спать не дают. Вот жара-то, хоть и не ложись вовсе.
Ворчание продолжалось еще минут пять. Марина и Юрик, обнявшись, тихо посмеивались.
Вскоре мать замолчала.
– Ладно, – зашептала Марина, – сейчас еще полежу и домой пойду. Все равно не получается. Будто Бог следит и не дает.
– Приходи днем, – попросил Юрик, – мать уедет.
– Днем не могу, сам понимаешь, – Марина прижалась к его груди, – вот если ночью опять…
Волосы ее приятно щекотали Юрика, поднимая ему настроение, а сердце бухало, как колокол. Томительная тоска оттого, что это сейчас прекратится, захватила его целиком, поглотила тело и вытравливала страх из души. Ему было теперь все равно, что скажут потом, ему теперь хотелось кричать об этом, ему теперь хотелось фотографировать Марину.
– Давай я тебя сниму как-нибудь, – сказал он, – сделаю новую серию. Надоели мне эти кукольные красотки. Все одинаковые. А ты… Ты мне, пожалуй, подойдешь. Может, это будет лучшей моей работой. А?
Марина уже спала, как девочка с любимым мишкой или зайчиком.
– Вот тебе раз! – только и сказал Юрик.
Но будить ее не стал.
Марина, лежавшая рядом с ним, нежно вздрагивающая во сне, подкосила Юрино сознание, подкосила так, что он не мог теперь отпустить ее…
Юра проснулся утром на полу один.
Окно было открыто. Солнце размягченно светило в глаза и звало на речку.
Радостно подскочив от ночных воспоминаний, Юрик уже ждал следующей ночи, ждал – с того самого момента, как проснулся, – легкого поскребывания в окно. Теперь смысл жизни, появившийся оттуда, как и бывает, откуда не ждешь, вдруг замаячил рыжим сиянием копны Марининых волос, ее зовущим телом и необычностью приключения с замужней женщиной. Она оказалась интересней и добрей бесконечных его фотомоделей, романы с которыми заплели чувства Юрика в железный клубок.
– Спасибо тебе, Мариночка! – сказал он шепотом.
– Спасибо тебе, Мариночка! – услышал Юрик голос матери. – Ты приходи сегодня. Муж-то что, не узнает?
– Да ну, что вы, он и не вспомнит-то ничего из вчерашнего, – ответил голос Марины, – потом, я же ведь не довела дело до измены. Но больше не смогу, наверно – сил нет, не умею…
Юрик приподнялся и, сидя на коленях, выглянул в окно. Марина и мать стояли в тенечке под вишней.
– Ну, пожалуйста, не отказывайся! – упрашивала Марину мать, качая головой. – А то последняя вертихвостка так довела его, что он и покоя не знал, а потом вообще на девок рычать стал. Еле на дачу утащила. Хоть ты его выведи из этого состояния, беднягу. Сама же напросилась помочь!
– Да ему жениться надо! Сын-то у вас красивый, ласковый! – сказала Марина. – Ничего, подыщем! Вот в этом, пожалуй, я могу помочь.
Юра встал в полный рост и громким разбитым голосом сказал:
– Мама, – женщины обернулись, – а никого помоложе ты не могла мне предложить? Что ж ты такую швабру-то подкладываешь?!
Марина мелким быстрым шагом удалялась от дачи.
Мать, всплеснув руками, спряталась за угол.
Юра взял полотенце и пошел купаться, на берегу реки было много всяких девчонок, в самый раз…...27.07.01
ДолжникиУже был вечер, когда Бритвин выпрыгнул на платформу. Разные звезды отбрасывали забытые огоньки на плохо освещенную землю. Идти было совсем недалеко. До дома Тихвинских как будто специально была проложена узкая тропинка среди маленьких кустиков. Листики их были мокры, и легкая грязь облюбовала лакированные ботинки Бритвина.
Давненько он не был за городом и словно забыл, что здесь нет асфальта и освещенных трасс. Тяжелая сумка, набитая подарками, едой, бутылками, оттягивала плечо, плащ смялся от часового сидения в электричке.
И хотелось Бритвину идти, дышать и мечтать. Но еще больше хотелось прийти к Тихвинским и выяснить с ними отношения.
Забор вокруг дома, почти весь проржавевший, грязный, очень громко скрипнул, когда Бритвин раскрыл маленькие ворота. В доме горел свет, и на кухне, видно было, сидели Тихвинские. Света, их дочь, что-то рассказывала, резко жестикулируя и морщась.
Бритвин подошел ближе; хозяева не слышали скрипа и продолжали спокойно слушать Светочку. Три гвоздики в руке Бритвина крепко прижались друг к другу и вспотели вместе с рукой. Он стоял под окном и наслаждался нежным и плавным голосом, приглушенным закрытыми створками, и от этого казавшимся чуть глуховатым и отдаленным, словно по телефону. Света рассказывала о том, как сдавала последний экзамен.
Оттого, что он сразу не постучался и не вошел в дом, Бритвин испытывал нараставшее замешательство, и решимость его гасла с каждой секундой. А ведь надо было действовать.
Глупость ситуации усугублялась тем, что его могли не понять и просто выгнать. Весь его порыв, вся его надежда могли раствориться и исчезнуть. Стеснение нарастало, оставляя тело Бритвина без движения.
На кухне пили чай и ели сухарики. А Бритвин мок под окном и тяжело вздыхал. Сад был полон темноты, только рядом, перед собой, Бритвин видел несколько грядок да небольшую яблоню, а дальше и вокруг воздушное пространство, словно прикрытое покрывалом, напоминало стену. Звезды над садом висели кучками и совсем не напоминали нарисованные в учебниках созвездия. И пахло вскопанной картошкой.
– У меня такое впечатление, – услышал Бритвин далекий голос Светы, – что нас подслушивают!
Он напрягся, мелкими шажками вернулся к воротам и тихо отошел в сторонку, к столбу. Могли ведь выйти и заметить. А говорить о чем бы то ни было он сейчас уже не мог – и не хотел, и боялся. Столб был низенький, под ним было темно – свет от окна сюда не доставал. Время шло.
Кто-то вышел на крыльцо дома и помахал по сторонам фонарем.
– Нет никого, – пробурчал мужской голос, – ты, дочь, абсолютная паникерша.
Мужчина – Бритвин видел только его силуэт, но уже сообразил, что это отец Светы, – круто развернулся, свет фонаря метнулся в сторону столба. Бритвин зажмурился. Лучик проскользил мимо, опустился на землю и вывернул к крыльцу.
– Да нет, дочь, одни столбы, – громко утвердил отец Светы, – да и кому мы нужны?
На крыльцо вышел силуэт в юбке, на голову выше отца.
– Надо походить, папа, – сказала Света, – черт их знает, у меня предчувствие!
– Мать-то не оставляй одну, – попросил отец, – она же психованная! Кстати, могла бы мне на ухо сказать. Чего напугала-то всех?!
– Я здесь одна не останусь, – на крыльцо вышла низенького роста женщина с распущенными волосами, – вы шутите, что ли!
– Да, конечно, Сонечка, – успокоил отец, – Света шутит… иди это… мы сейчас.
Бритвин понял, что пора объявляться, не то потом вся эта семья его просто возненавидит. Но сейчас торможение достигло у него наивысшей точки, и то, что он понимал головой, телу совсем не передавалось. На Бритвина прямо столбняк какой-то нашел, и даже гвоздики уже, казалось, не способны отлепиться друг от друга.
– Дьявольщина, – рассуждала Света, – ведь чувствую, что кто-то здесь ползает! Ну, что давай так: идем вместе за дом. У забора вроде никого не видно.
– Не видно, – подтвердил отец, – я светил туда.
Они обошли дом с разных сторон и скрылись за углами.
Бритвин ощущал бессмысленность ситуации и свое полнейшее отупение. Ведь давно можно было найти самый простой выход!
– Идти надо, – прошептал он, – идти и никаких гвоздей!
Он дернулся и вывалился из-за столба, ноги медленно разгибались и шагали неуклюже, как палки, – почти не сгибаясь. Неудобно Бритвину было еще и оттого, что он потерял вдруг смысл своего приезда, несмотря на долгие, напряженные потуги, так и не смог восстановить в памяти точную цель появления здесь. Нет, смысл, конечно, был – в его понимании, а вот увидят ли этот смысл Тихвинские? Так, шурша подошвами и борясь с одолевающими его страшными сомнениями, Бритвин ступил на крыльцо.
– Артем?! – раздался из-за двери удивленный женский шепот. – Ты что здесь делаешь?
От неожиданности правая нога Бритвина подвернулась, его резко качнуло вправо, а сумка на плече еще сильнее потянула вниз, но он схватился за перила и устоял.
На крыльцо вышла Сонечка.
– Ты меня напугал, – шепнула она, – приехал все-таки!
Голова ее приблизилась к Бритвину и губы страстно впились в его губы.
– Я не знаю, что мне делать без тебя! С той самой ночи, когда ты осталась, а не она! – быстро проговорил Бритвин. – Я запутался!
Он смотрел на нее, а Сонечка отвернулась. Сзади послышались шаги.
– Здрасти-мордасти! – воскликнул отец Светы. – Это еще что за явление?
Он обошел крыльцо со свирепым взглядом.
– Доктор?! – радостно удивился отец. – Господи, твою мать, а мы-то рыщем! – закричал он. – Светка, докторишка твой прибыл! – он посмотрел на Бритвина. – Седеем, братец! Нервы, понимаю! Пошли-ка в дом.
Света зашла последняя, почему-то молча.
– Вот, понимаете, приехал, – выговорил Бритвин, запинаясь, опустив глаза вниз, снимая сумку с плеча и стягивая плащ, – сидел, понимаете, дома, сидел, потом вспомнил, что вы меня приглашали. Ну, помните, после операции, тогда, когда вы, Николай Александрович, еще ночевали вместе со Светочкой. Вы еще, помните, мне нарисовали, как сюда доехать, как дойти.
– Конечно, помню, Тема, – панибратски сказал отец, – говорил же, всегда тебя благодарить будем. Ребенку жизнь спас! Что это у тебя вид-то такой виноватый? Давай-ка выпьем! Мы твои должники.
Он ушел на кухню, а Бритвин достал из сумки бутылки шампанского, коньяку, четыре нарезки красной рыбы, коробку конфет и подарки: Свете – компакт-диск с какой-то игрой, отцу Светы – набор отверток, разводных ключей, а Сонечке – желтые кожаные перчатки.
– Вы что же, Артем, кормить нас приехали? – спросила Сонечка.
– Ого! – воскликнул отец, входя в комнату. – А я тут беленькую достал. Ладно, потом пригодится, – он стал рассматривать свой подарок, – действительно ты странный! Права Светка. Вот тебе какого мужика надо.
Он хитро подмигнул Сонечке. Света продолжала молчать.
– А вы не свататься ли? – вдруг осенило Сонечку.
Сладкая тишина пронеслась мгновенной зыбью, всколыхнув сердца. У кого-то закружилась голова, кому-то стало не по себе. А отец обрадовался:
– Я так и подумал сразу. Молодец! Спас человека, обязан, значит, и всю жизнь всех спасать! Открывай баллоны, – он взял бутылку шампанского и, сковырнув фольгу, легко, без звука, извлек пробку, – Теплое шампанское – к теплу!
Бритвин нарочито кашлянул и посмотрел на Сонечку. Света стояла рядом и ожидала давно ожидаемых слов. Только вот ей хотелось и самой хоть что-то сказать:
– Артем, ведь ты мне ничего не говорил никогда такого. Мы же уже не виделись месяца три. Это что, правда?
Добрые глаза Бритвина искали на полу незнамо что. Значит, они его не поняли. И, пятясь к двери, хватая свой плащ, он жалобно промямлил:
– Я не то чтобы… не про это… я про другое…
Он резко рванулся и, в последний раз взглянув на Сонечку, спотыкаясь, выскочил из дома.
– Что это с ним? – спросил отец. – Чего он так стесняется? А, Сонь?
Света крутила в руке компакт-диск, Сонечка потирала руки.
– Он что, не мог прямо сказать! – крикнул Николай Александрович. – Ты-то чего молчала? Соня? Надо было объяснить.
Сонечка всхлипнула и ответила:
– Пойду догонять. Все равно до электрички он никуда не уедет.
– И тебе не страшно? – удивился отец.
– Теперь нет! – Сонечка оделась и вышла из дома.
Отец осторожно присел на стул и глотнул из бутылки.
– А все-таки жаль, – сказал он, подумав, – хоть все и выяснили… а все-таки жаль…
Света торопливо поднялась по лестнице к себе в комнату и тут же раскромсала коробку от компакт-диска на части. Сверху еще долго были слышны ее смех и топот…
...26.09.01
ДугаВалентина Ивановна сконфужено улыбнулась и даже рукой прическу поправила. Василевский моргнул глазами и слегка сдвинул брови. Ему нравилось то, что женщина стесняется и ведет себя, как юная девушка.
– Вы уж будьте уверены! – весело подбодрил он ее. – Я что обещал, то и сделаю! Тем более для вас!
Он развернулся, надел фуражку и проскрипел сапогами через КПП в часть.
Валентина Ивановна осталась на солнцепеке дожидаться. Не теряя времени даром, она подставила белое еще лицо под лучи. Загореть хотелось сразу и прямо сейчас, пока редкое в это лето солнце отогревало военный городок.
– Валя, – окликнул ее проходящий мимо офицер, – у Коленкина сегодня дочка родилась!
Валентина Ивановна помахала рукой офицеру. Кто это был, она не разглядела, от солнечных лучей в глазах ее бродили сине-желто-красные разводы, и все вокруг исчезало, когда она открывала глаза.
«Коленкин молодец, – подумала она, – не то, что мой!»
На ступеньках КПП появился седой капитан, он вяло спустился вниз и медленно подошел к Валентине Ивановне.
– Ну, что надо-то? – спросил он недовольно. – От службы отрываешь.
Валентина Ивановна открыла глаза и пыталась поймать очертания мужа. Сосредоточившись, она ухватилась взглядом за его лицо и пригляделась.
– У Коленкина сегодня дочка родилась! – неожиданно для себе вырвалось у нее.
– Ну? – угрюмо спросил муж. – Дальше-то что? Чего звала? За этим, что ли?
– Толик, – все еще раздумывая, говорить или не говорить, начала она, – я на развод подаю!
– Даже так! – вдруг гаркнул муж, и лицо его сделалось еще шире.
Он замолчал. Молчала и Валентина Ивановна; она за последние дни часто представляла себе эту сцену в разных вариантах, примеривала реакцию мужа, боясь ответа, но молчания не ожидала, поэтому задумалась, что дальше-то делать.
«Не понял он, что ли? – проскочила наивная мысль. – Еще раз сказать? Или ему все равно?»
Она достала из сумки ключи и стала вертеть голубым шариком-брелком, в шарике подпрыгивали маленькие камушки и издавали бренчащий звук, раздражающий и монотонный.
– Перестань, – сказал муж тихо, но твердо, – хватит в голову долбать!
Он опять замолчал, и было видно, что собираться с мыслями на таком солнцепеке ему трудно, поэтому мокрый лоб у него хмурился, и морщинки выстраивались в четкие линейки. Валентине Ивановне показалось даже, что красивее было бы подрисовать поперечины к морщинкам, чтоб получилась ровная решетка.
Муж закрыл глаза, почесал кончик носа большим пальцем, отчего-то скривился и с тяжелым вздохом спросил:
– Причину можно узнать?
Валентина Ивановна качнула головой вперед и провела рукой по зеленой рубашке мужа.
– Ой, Толик, – пробормотала она, – ну, какая тебе причина! Нет причины! И все.
– Так, а чего ж тогда, – задумчиво сказал муж, – чего ж еще-то? Почему вот так-то?
Валентина Ивановна не ответила, она только уголком рта двинула, да ногу на каблук поставила. Муж, как положено, ждал ответа.
Он уже весь вспотел, и разговор превращался для него в ненужную сейчас, на жаре, парилку, где и дышать нечем, так еще надо заставлять себя думать и рассуждать. Происходило что-то такое, чего голова Толика не могла переварить.
– Ты, в общем, успокойся, – сказала Валентина Ивановна, опустив голову и разглядывая неаккуратно поглаженные брюки мужа, – ты, в общем, себя-то не вини. Мало ли что в жизни бывает.
– А кто он? – осенило Толика.
– Да никто! – прыснула Валентина Ивановна, и мелкий смешок ее застыл на полдороге. – Ну, никто, никто!
Она еще раз погладила мужа по рубашке.
– Ну, делай, как знаешь, – проговорил Толик, – мне идти надо.
Он посмотрел, наконец, в серые, широко расставленные глаза жены. Там что-то скверное показалось ему, что-то предательски неуютное.
– Я пойду, – сказал муж, – там, если что надо, я все сделаю, я со всем согласен. Препятствий не будет.
Он повернулся, чтобы уйти.
– Толя, – позвала его жена, – вот так просто?
Муж молчал, сознание неизбежности покрыло его сонной липкой паутиной, а мысли захлестнул поток какого-то отвращения к дальнейшему. Поток взбирался все выше и начинал теребить сердце. Толик даже поднял руку к груди слева, но резко опустил и ответил:
– Ты живешь, и никто тебя не заставит по-другому. Сделала, как решила. Я здесь причем?!
Его голос леденел и позвякивал, будто бы заслоняя капитана от предстоящих испытаний.
– Не знаю я, – сказал он, – что тебе от меня надо?
– Ты не знаешь! – зло усмехнулась Валентина Ивановна. – Сейчас буду я тебе всю свою переломанную жизнь вываливать!
На КПП показался Василевский, он как-то странно взглянул на Валентину Ивановну и ее мужа, потом быстро спустился по лестнице и понесся в сторону магазина.
– Куда это он? – спросила Валентина Ивановна.
Муж вытер ладонью лоб, еще раз посмотрел в глаза жене и нежно сказал:
– Ты же пошутила, да?
Валентина Ивановна смотрела на магазин. Она увидела, как Василевский выволакивает из подсобки свою жену в белом халате, а по дорожке, в глубь военной части, бежит высокий худой солдат. Василевский развернул жену и стал резко размахивать левой рукой. Жена его, было видно, сжалась вся и, закрыв лицо руками, отступала от мужа. Потом она вдруг бросилась к Василевскому и попыталась его обнять, но тот оттолкнул ее и поплелся к КПП.
– Опять ее застукал! – расстроено сказал Толик.
Он хотел подойти к Василевскому, но Валентина Ивановна удержала его, взяв за локоть.
– Не трогай его! – попросила она. – Только разозлишь еще больше!
Толик послушался и остался стоять, повернувшись спиной к жене.
Василевский, сверкая глазами, прошел мимо них и зло буркнул, обернувшись:
– Из твоей роты, из третьего взвода! Солопов, убью!
Он пошел вдоль забора и никак не мог расстегнуть рубашку, потом расстегнул-таки и запустил ее на столб, рубашка ударилась о верхушку и упала на землю.
– Ты помнишь, что у меня юбилей через неделю? – вдруг каким-то нарочито веселым тоном спросил Толик. – Сороковник! А?
Валентина Ивановна хотела прижаться к мужу – ну, или что-то хорошее ему сказать, но вместо этого стояла и просто кивала.
– Ладно, пойду я, а то действительно дел много, – спокойно проговорил Толик, – а остальное…
Он повернулся к Валентине Ивановне, обнял ее за шею, прижал к себе и поцеловал в волосы.
– Живут люди по-разному, и мы тоже, – сказал он и пошел к ступенькам КПП.
– Толик, – опять позвала его жена, – держи!
Она бросила ему ключи от дома, он не поймал их, они упали, слегка задев пальцы, на землю. Толик наклонился, поднял их и спросил:
– Ты что?
– Да, – раздраженно сказала Валентина Ивановна, – я столько лет с тобой прожила и ведь так и не…
– Я знаю, – перебил ее капитан, – ну и что? Остальное-то все нормально. Не изменяю, не пью, всегда дома. Что еще-то? Ты тоже не изменяешь. Я уверен.
Валентина Ивановна покачала головой. Дуга солнечного луча брызнула ей в глаза каплями желтого цвета, а душа ее рвалась на лоскутки, плачущие надрывы выискивали трещины в сердце и, сопротивляясь спокойствию и сдержанности, чуть не выскакивали наружу.
Схватив себя за горло, Валентина Ивановна закашлялась.
– Я уеду, – давясь, сказала она, – уеду, как и хотела в молодости. Если бы не ты!
Толик пошатнулся, подошел к ступенькам КПП и присел на них.
– Да ведь жили же мы нормально, – грустно сказал он, вздохнул и продолжил. – Да живут и не так. А мы-то не ссоримся.
– Ты так и не понял, – говорила жена, приближаясь к нему, – я-то думала, что увезешь ты меня отсюда. Видеть все это не могу!
Она села рядом с мужем.
– Разведут быстро, без детей оно легче! Так что, вот! – голос ее почему-то дрогнул. – Толя, ведь я уже не женщина, я средний пол.
Василевский медленно приближался к КПП, по дороге он подобрал свою рубашку, надел ее и так и шел нараспашку, на лице его разлеглась дряблая, жиденькая улыбка. Он подошел к Валентине Ивановне и сказал:
– Вы-то хоть его любите! Настоящая жена вы!
Он посмотрел на небо и договорил:
– А интересно, мне зачтется моя мука там, на небесах?
Василевский поднялся по ступенькам и ушел в часть.
Валентина Ивановна сидела рядом с Толиком и глядела на его нервное плечо.
«Наверное, хоть теперь понял что-то, – думала она. – А если и нет, так не будет меня рядом – поймет».
– А были бы дети, не уехала бы? – спросил Толик.
– Да не было бы их! Не было бы! Откуда им взяться? – она сказала это равнодушно и почему-то провела рукой по брючной стрелке мужа.
Солнце спряталось за облако, стало легче дышать, теплый ветерок прокатился по дорожке и всколыхнул песок. Капитан нагнулся и протер носок ботинка рукой.
– Мне страшно, – произнес он, – страшно, что вот так все случается. И войны нет, а жизнь на волоске висит.
Он встал и ушел в часть.
Валентина Ивановна еще немножко посидела на ступеньках, посмотрела по сторонам, потом поднялась и медленно пошла в сторону магазина. Смешливые когда-то глаза ее тоскливо мерцали, и жестокое безразличие сменялось кувыркающейся жалостью.
Она оглянулась: ступеньки КПП были пусты, а за забором слышалась солдатская ругань.
Валентина Ивановна зашла в магазин.
– Вера, – позвала она продавщицу, жену Василевского, – выйди на минуту.
Из-за стеллажа с консервами вышла Вера, заплаканное лицо ее было снова поспешно накрашено.
– Ты бы собрала вещички, да ехала бы отсюда! – посоветовала Валентина Ивановна ей. – У тебя еще есть время. Хватит тебе мужика своего мучить. Есть тебе куда податься?
Вера помотала головой в разные стороны и ответила:
– Так люблю же его! Куда мне ехать-то?! Только и остальные другие нравятся.
Она надула верхнюю губу обидчиво и продолжила:
– Мне же его жалко!
– Тебе жалко?! – закричала Валентина Ивановна. – Поэтому ты всю солдатню через себя?! А знаешь ли ты, что с ним может случиться? Оставь ты его, пусть живет. Потоскует, потом другую найдет! Нет, ты посмотри только, что ты вытворяешь!
Вера испуганно выпучила глаза и смотрела на перекошенное лицо Валентины Ивановны, боясь, что она вот-вот взорвется.
– Валечка, милая, – быстро заголосила она, и опять слезы, смывая синюю тушь с ресниц, выкатились на гладкое лицо ее, – Валечка, тебе просто так говорить, но ты не понимаешь же…
Вера вытирала лицо маленьким кулачком и всхлипывала.
– Почему же не понимаю? – сказала, глядя на нее, Валентина Ивановна. – Еще как понимаю. Не понимала бы, жила бы по-другому. Радостно!
Ей захотелось пожалеть Веру, но она вышла из магазина и, ни разу не оглянувшись, пошла к автобусной остановке. Там она достала из сумки паспорт, из паспорта – заявление в загс, перечитала его, аккуратно сложила и разорвала, а клочки пустила по ветру.
Потом резко развернулась и быстрым шагом направилась к КПП.
Там она попросила позвонить в роту старшего лейтенанта Василевского и позвать его.
Василевский вышел с таким видом, будто только что разгрузил целую платформу щебенки.
– Саша, – сказала она, – то, что я попросила тебя приглядеть за мужем, пока меня не будет – отменяется! Никуда я, пожалуй, не поеду. Мы решили, что незачем деньги тратить.
Она помолчала и все-таки решила сказать самое главное:
– И вот еще, лично для тебя. Чтобы ты меньше мучился. Вера тебя любит, но чего-то ей не хватает. Подумай. Да, еще вот что, я – не настоящая жена, я-то как раз не…
Ее слова заглушил протяжный скрип железных ворот. Вот-вот должна была подойти машина командира части…
...10.07.01
Издержки профессииПоздние сумерки. Транспорт почти не мелькает по длинному проспекту в центре города. Отгулявшие и отработавшие граждане покидают прохладу неуютного слабоосвещенного воздуха.
Вдоль ограды сквера задумчиво бродит невысокая женщина в шелестящем плаще. От нее только что отошел мужчина в потертых джинсах и свитере, присел невдалеке на скамейку и ищет в карманах спички.
Несколько бродячих собак расхаживают в сторонке, поглядывая на мужчину с надеждой и злостью. Кислый фонарный свет истекает последними каплями желтизны.
Безветрие.
Мужчина тупо глядит себе под ноги и поднимает окурок сигареты, обжигает его огоньком спички и прикуривает.
Женщина посматривает по сторонам, выглядывая что-то в глубинах темного почти проспекта.
Луна пробивается не оттертым от пыли зеркалом сквозь сконфуженные тучи и, проглядывая сквозь них, иногда напоминает о себе.
Желтый плащ женщины не застегнут, она держит руки в карманах черных широких брюк, прищуривая глаза, и скалится. Время от времени мужчина и женщина переглядываются, как будто загадывая желание.
Бесцветные глаза мужчины скорбно ощупывают освещенную полосу песочной дорожки в поисках нового окурка. Он находит его и, вскакивая радостно, подбегает и поднимает. Пальцы его дрожат, он сглатывает слюну и вдруг начинает хохотать.
– Что ты орешь? – громким шепотом говорит женщина, поворачиваясь к мужчине лицом. – Делать дураку нечего?!
– Цыц, Ирка, не бухти, – продолжая хохотать, говорит мужчина, – ты следи лучше, не отвлекайся. А то перехватять, а?
Женщина подходит ближе к нему и долго, молча и осуждающе, смотрит в глаза мужчине.
– Ты для чего здесь? Помогать или издеваться?! – чуть не взрываясь, почти кричит она все тем же громким шепотом.
– Ну ладно, ладно! – отвечает мужчина. – Иди, стой себе. Я молчу, молчу.
Показывая смирение, он на цыпочках отходит к скамейке и прикуривает снова.
– Ну, иди же, проморгаешь! – примирительно говорит он.
Женщина возвращается на свой пост и продолжает ожидание.
Две черные собаки осторожно приближаются к скамейке и садятся невдалеке, облизываясь и посвистывая.
Мимо ограды сквера проходят два милиционера, окидывают женщину внимательными взглядами и идут дальше. Она показывает им в спину язык.
Долгая ночная тишина нарушается редкими машинами и последними прохожими.
– Вот все-таки я дурак, – вдруг начинает рассуждать мужчина, – вот зачем я с тобой связался? Жил бы себе и жил, один! Рисовал бы, ведь месяц простоя… Нет вот, вляпался! Что мне, в конце концов, страдать-то от твоих психозов?
Видя, что женщина не обращает внимания на его слова, он замолкает и долго смотрит на черных собак. Их злые глаза пугают мужчину, он встает и подходит ближе к ограде.
– Слышь, Ирка, скоро уже? – спрашивает он. – А то пойдем, может?!
Из глубины проспекта появляется темная фигура. Движения ее беспорядочны и кривы. Фигура, поправляя галстук, постепенно приближается к скверу; уже видны квадратные очки на носу, небольшой чемоданчик в руке и хитрая неровная улыбка на лице. Темный костюм местами помят, а на коленях у фигуры пыльные пятна.
– Мужчина! – обращается к фигуре женщина. – Не хотите ли развлечься?!
Фигура мужчины ставит чемоданчик на асфальт, и улыбка на его лице превращается в пропасть.
– А где? – спрашивает он, и тут его неожиданно прислоняет по инерции к ограде.
– Не узнаешь? – вдруг спрашивает женщина и, обращаясь к своему спутнику, говорит. – Сеня, помоги ему!
– Ну, что, господин, узнавать будешь или что?! – вопрошает Сеня, выпрямляясь, расправляя плечи и показывая дырку на своем свитере.
– Вы что? Вы что, ребята? – испуганно ноет мужчина. – Что вам надо?
– Ты меня не узнаешь? – еще раз спрашивает женщина, подходит ближе к мужчине и вытягивает свое лицо.
– Ирка? – после паузы, вглядываясь в нее, протягивает он. – Ира, господи прости! Ты откуда и куда? Не знал, что ты… А ты что, меня ждешь, что ли? А это кто?
Он показал пальцем на Сеню.
– Это Сеня, я теперь с ним живу! – ответила женщина.
– А-а, – многозначительно и удивленно сказал мужчина, – живешь, значит. Ну, живи…
Он поднял свой чемоданчик, развернулся и пошел в ту сторону, откуда пришел. На пути у него оказалась одна из собак. Он остановился и протер глаза.
– Аркаша, – спокойно сказала женщина, – надо бы должок вернуть.
– А чего это я тебе должен? – спросил мужчина, стоя к женщине спиной и гладя на собаку. – Я с тобой разобрался. Понятно же. Не подходишь ты. Не подходишь.
Он замолчал. Женщина сжала кулаки и еле сдерживалась. Вдруг она закричала:
– Значит, когда спал со мной, подходила! А теперь не подхожу?!
Она размахивала руками и дергала головой, продолжая кричать:
– Ты мне обещал месяц назад, обещал! Это для меня самое важное! Как ты мог! Ну, ладно, нашел ты другую, ну и что?! Черт с ней! Но отдавать мое – ты не имел права!
– Слушайте, это, – неуверенно сказал Аркаша, – а это ваша собака?
Он повернулся к женщине.
– Ирина, – продолжал он, – это ваша собака? Вы это чего надумали?
Ира бросилась резко к нему и упала на колени. Собака злобно залаяла. Сеня подбежал к ним и стал шикать на собаку. Ирина, плача, говорила умоляющим тоном:
– Отдай мне эту роль! Аркашенька! Отдай! Ты же знаешь, у меня закат! Мне нужна эта роль! Нужна! Прости меня!
Сеня глупо уставился на нее, она схватила Аркашу за брюки и стала целовать их.
– Господи, Ира, какой позор! – сказал Сеня. – Что ты делаешь? Ты же хотела отомстить! Это невозможно…
Он подошел к ней ближе и попытался ее поднять.
– Уйди, ты! – заорала она на него. – Уйди отсюда! Оставь меня в покое, к черту! Бездарь!
Сеня бессильно сгорбился, развернулся и прошел мимо Аркаши и собаки. Собака замолчала, немного постояла и двинулась за Сеней. Он сунул руки в карманы, посвистывал и шел, нарочито подскребывая подошвами ботинок по асфальту.
– Ну, пойдем, что ли, – успокоившись после ухода собаки, сказал Аркаша, – пойдем, пойдем.
Он помог Ире подняться, отряхнул ей брюки и спросил:
– Ты, что действительно живешь с этим оборвышем?
– Да брось ты, – надменно улыбаясь, ответила Ира, – с этим…
Она фыркнула.
Ночь, приспуская тени, копошилась по подворотням.
Вторая черная собака медленно плелась за Ирой и Аркашей. Они шли по проспекту, обсуждая уже общие дела…
...18.04.01
КрикГде-то в воздухе плавится влага. Опустошенные жарой комары и мухи спят на веранде. Даже кузнечик стрекочет медленнее, чем обычно. Ягоды приуныли. На небе все еще синее, жестоко синющее полотно. Тишина брезглива, и вялость растений нарушается только какой-то попыткой молодого ветерка хоть что-то сдунуть с места. Маячат силуэты дачников, виляющих по дорожке между заборами – из тенька в тенек.
Суровое жаркое лето мстительно сжигает мысли некоторых недовольных прошлогодней его прохладностью. Лето мстит за то, что бранили прежние частые дожди и низкую температуру.
– Валя! – страшной громкости крик нарушает вальяжность двух перегревшихся фигур, сидящих в плетеных креслах возле забора под дубом.
– Что-то Колымов кричит! – говорит пожилой мужчина своему соседу под дубом – профессору истории Изумлинову.
– Василий Сергеевич, вы не уходите от спора! – упрекает мужчину Изумлинов. – Ваша сестра совершено не умеет рисовать. Контуры профуканы.
Василий Сергеевич, и без того нагретый солнцем, начинает краснеть от недовольства.
– Сергей Фомич, Сергей Фомич! Катенька не рисует, а, скажем, пишет свои картины совсем не для вашего дилетантского взгляда. Все-таки я в этом что-то понимаю. – Василий Сергеевич старается говорить сдержанно и внятно.
– Валя! – опять раздается дикий крик в пустынной дачной атмосфере. – Валя! Ау!
– Он с ума сошел, видимо! – говорит профессор истории. – Кто ему эта Валя?
– Это его сожительница, – уточняет Василий Сергеич, – они очень часто друг друга зовут именно таким образом. Так что вы скажете на ту мою мысль?
– Понимаете, дорогой, – отвечает Сергей Фомич, – у вас глаз замылился! Художник о художнике не может рассуждать здраво. Это мы, ничего не понимающие, оцениваем, нравится или не нравится…
– Валя! – истошный крик заставляет пожилых собеседников взмахнуть руками, как по команде, и откинуться на спинки кресел. Они прислушиваются и поэтому некоторое время молчат.
– Зачем вы сдаете комнату таким ненормальным людям, как этот Колымов? – после молчания спрашивает Сергей Фомич.
– Женщины, они сами не знают, что им надо! Вот ушла куда-то, а он теперь кричит! – беспокоится Василий Сергеич. – Я сдаю ему комнату уже пять лет, он хорошо платит, и мы с ним в общении. Но вот теперь он привез эту Валю, и я его не узнаю.
На какое-то время наступает тишина, и собеседники, вдыхая распаренный воздух, что-то обдумывают.
– Вот, не кричит теперь! – удивленно замечает Сергей Фомич. – А представьте себе, что я приехал к вам на день, и буду выслушивать этот крик каждые пять минут.
– Валя! – крик Колымова разбивает вдребезги спокойствие Сергей Фомича, он начинает нервничать и приподнимается с места.
– Может быть, вы сходите и узнаете, чего он вопит? – просит художника профессор истории.
– Я вот одного не понимаю, Сергей Фомич, как вы можете судить о картинах, не нарисовав даже маленькой рожицы?! – постепенно нахмуриваясь, спрашивает Василий Сергеич.
– Я вам про одно, вы про другое! Там случилось что-то! Вы проверьте! – голос профессора становится все больше преподавательским, хлестким.
– Вы мне что, приказывать будете?! – Василий Сергеич уже менее дружелюбно посматривает на собеседника. – Ведь не орет он больше! Что вам еще нужно?!
Он багровеет и, кажется, если бы не было так жарко, если бы не отчаянная потребность в тени, он просто бы взял и ушел куда-нибудь.
Обиженный Сергей Фомич упрямо смотрит перед собой в траву и, чуть скашивая взгляд, наблюдает за художником. Он словно собирается с силами, чтобы возразить. Кипящее чувство с шипением вырывается из его рта выкриком:
– Вы что, меня позвали сюда слушать, как ваш Колымов Валю зовет?!
– Валя! – крик Колымова зловещ и яростен; он, как падающая с горы каменная глыба, срывается и бьет по обеим головам под дубом.
– Вы мне за это ответите! – кричит, выплывая, наконец, полностью из дачного состояния Сергей Фомич. – Вы пойдете сейчас и спросите у него, что ему от Вали надо!
И вскочив, как окунь на сковородке, профессор начинает ходить вокруг дуба и рассуждать:
– Ваша бессовестная сестра не то что рисовать не умеет! Она же скандал закатила мне за то, что я ее не уважаю! Как я могу уважать ее, если все по блату! Вы-то хоть не помогаете ей?!
– А как же, милый мой! – поднимаясь и припрыгивая за профессором, объясняет Василий Сергеич. – Вы ей поможете, что ли? Вы только «неуды» ставите всем подряд! Принципиальный вы наш!
– Вот оно что! – Сергей Фомич грозно поднимает большой палец вверх и трясет им. – Здорово! Это вы про вашего бездарного племянника, сытого, объевшегося лося! Так я ему и в следующий раз влеплю! Даже если знать будет хоть что-то!
– Вы очень вредный и склочный человечишка! – говорит Василий Сергеич и бессильно опускается в свое плетеное кресло.
Сергей Фомич останавливается на минуту и прищуренно смотрит на бороду собеседника, потом поднимает глаза и видит, что Василий Сергеич свой взгляд отводит.
– Вы что это глаза прячете? Вы вот сейчас зачем лицо отвернули? – полунепонимающе кряхтит профессор истории. – Вы меня что, позвали, чтобы я вашего этого бездельника, что ли…
– Сядьте вы, Сергей Фомич, – быстро перебил его художник, – сядьте, говорю! Не… это… не психуйте! Поймите вы! Упертый вы, ну, то есть… Она просила… Ай, да ну вас!
Василий Сергеич машет рукой, встает и собирается уходить.
– Пойду действительно посмотрю, чего он орет, – говорит он, конфузясь, и бочком пытается уйти.
Перед его взглядом невдалеке возникает Колымов – человек лет сорока, очень крепкого телосложения, с удивленным лицом и сверкающими глазами. Он покачивается и, как бы примеряя губами точные слова, задает вопрос:
– Старики-братцы, вы чего спать мешаете! Разорались, черти! Вы это, – он подбирается ближе к профессору истории и, наклоняясь к нему почти что под прямым углом, говорит дальше, – вы это, на хозяина-то не кричите больно! А то у нас ведь в таксопарке вас в пустынном месте высадят, и иди сам своими этими… тапками!
Сказав это, Колымов поднял голову, выпрямился и заорал:
– Валя! Проснись, наконец! У нас гости!
Он плавно подмигнул Василию Сергеичу, надул губы и, проходя, задел его креслице. Оно упало. Не подняв его, Колымов шатнулся в сторону и поплыл по солнечной лужайке обратно в дом. Там что-то звякнуло, и снова все затихло.
Василий Сергеич и Сергей Фомич одновременно взяли свои плетенки и, не разговаривая, пересели в разные углы сада, метрах в двадцати друг от друга. Сергей Фомич сидел и что-то бурчал себе под нос. Художник же поглядывал на профессора и злился на сестру.
Удручающий своей бессмысленностью громкий крик понесся из дачного домика:
– Колымов! – орал женский голос. – Колымов!
...18.07.01
Мелкий фолПоезда шумели почти каждые две минуты. Они ходили туда-сюда, и совсем было не слышно то, что говорил он. А в наступавшем промежутке относительной тишины голос его немедленно переходил на шепот. Павлик смотрел на отца и удивлялся, как в этом маленьком человечке сосредоточилась такая буйная энергия.
– Я матери обещал, – скользя глазами по пробегающим мимо женским ножкам и жестикулируя пальцами, почти кричал отец, – я помогу. Все от тебя зависит, но не будь занудой!
Павлик почесал затылок. Отцовский голос был неприятен, далек и по-детски тонок. К тому же толстая широкая родинка, напоминавшая маленький помпончик, очень назойливо свисала с края брови над глазом и поддергивалась в такт шевелению отцовских губ. Павлику это очень мешало, и его глаза то и дело утыкались в этот коричневый мешочек.
Женщины же все больше захватывали взгляд отца, и он говорил с сыном, уже повернувшись к нему почти боком. Павлик тоже отвернулся, и теперь ему стало совсем не слышно ничего, да и вообще ему хотелось есть после тренировки. А здесь, в метро, в самое запруженное народом время терпение истощалось, по капле сползая по взмыленному лбу и щекоча немытую голову.
– Ну, давай, давай, выкладывай, – отец резко перепрыгнул на шепот в ухо, – что там она просила? Сколько это стоит?
Снова загрохотал поезд, и Павлик решил переждать. Объяснять еще и отцу свое несчастье, рассказывать ему все с начала было как-то глупо, но отвертеться от этого не получалось. Мать уже подняла бучу, прозвонилась папаше, и тот трепыхался теперь, как флажок на углу футбольного поля, выказывая дикое желание помочь, спасти и оградить от неприятностей своего сынишку, для которого раньше почти ничего не делал.
В вестибюле метро стало тихо. Тогда Павлик нехотя сказал:
– Ну, чего, ты же все знаешь. А там, ну это… в общем, я не знаю. Мать говорит, надо делать… А я… Ну, мне с ней, конечно, неохота. Так случайно все поползло… Я-то что? Но мать настаивает…
– Как ее зовут? – спросил отец перебивая.
– Да, – почти небрежно выскользнуло из Павлика, – Лора зовут. Да так, дура! Про нее всякое разное говорят. Говорю же, погуляли, а тут она прицепилась! Кто его знает?!
– Так ты и не знаешь точно? – серьезность отца просвечивала рентгеном.
– Она говорит, – Павлик был безразличен.
– Ну, вы даете братцы-акробатцы! – отец встал и засмотрелся на высоченную, волейбольного роста девицу в неуместной короткой юбке – из-за этого ноги ее казались стволами молоденькой осинки, у них совершенно не изменялась форма ни в бедрах, ни в икрах. – Куда мы катимся?!
Павлик тоже смотрел на девицу, а потом опустил голову, упрямо мотнул ею и почесал лоб пальцем.
– Да нет, – пробормотал он, – вроде, правда… С чего бы по-другому то.
– Мы в наше время, знаешь ли, точно знали! – сердито буркнул отец. – Ты вообще соображать уже что-то должен. Не девочка все же…
Отец сел и немного покачался взад-вперед, словно футбольный тренер на скамейке запасных.
– Я матери, значит, сказал: есть у меня там врач, она созвонится, – громкий голос отца направлялся прямо в ухо Павлику, – вот, а сам с детскими игрушками заканчивай, пора остепениться. Может, женишься все-таки на ней?
– Папа! – укоризненно воскликнул Павлик. – Только играть начал! Какая семья?!
– Наоборот, – отец заговорил с убеждающей скоростью, – наоборот! Семья удержит, все устаканится. Будет руль у тебя, будет сила направляющая. Вот как у меня. Да все мы… Все равно не как нормальные люди живем. А тут пристань. В хорошую команду попадешь – сборы, поездки, сам знаешь. Возвращаешься – сын, дочь, жена. А так, боюсь, занесет тебя. Вы, молодые, ни хрена не соображаете. Пошли гурьбой и устроили… Так и карьера у мальчишек таких заканчивается. Ты это, на будущее подумай. Сейчас-то ладно…
Он отвернулся, и Павлик вдруг заметил, насколько седина сожрала некогда каштановые волосы отца.
– Она, значит, сама хочет оставить? – подумав, спросил отец.
– Ну, – Павлик нахмурился, – да, и вообще вяжется.
– Значит, еще уговаривать надо! – констатировал факт отец.
– А чего ее уговаривать! Бабок отвалить, и все! – усмехнулся Павлик. – Отвалим бабок, вот и отвалит!
– Да, набезобразничал ты, сынок, – отцовские глаза смотрели на очередную красавицу широкого профиля, которая только что уселась напротив и коряво выставила напоказ левую ногу и бедро. Отец не мог оторваться от нее, а та смотрела по сторонам и глупо облизывала языком нижнюю губу. Было ей лет двадцать, глаза густо накрашены и обведены жирной полосой туши, которая заезжала набок, к виску.
– Кстати, – сказал отец, – паршиво вы играете, смотрел тут на федерации отчеты.
– Да ты и сам, папа, во второй лиге, – Павлик ощерился, большие белые зубы распахнули здоровенную пасть, – вы-то плететесь черт знает где!
– Ну-ну, я только клуб начал развивать, – зашептал отец, отрывая взгляд от девицы и морщась от звука очень шумного поезда, – городок безденежный. Жду, когда ты уже зашибать начнешь. Нам-то гроши платят, только обещают много. Вот думаю, надо бы в город возвращаться, в области вообще глухо.
Отец встал, нерешительно полез в карман, повернулся лицом к сыну и достал кошелек – очень старый, из тех, что закрываются такой железной застежкой, крест-накрест.
– На вот тут тебе, – он достал смятые купюры. – Сколько надо, я не понял, но все, что есть, бери.
Павлик сунул деньги во внутренний карман куртки и тоже встал. Разница в росте между отцом и сыном была огромная.
– Ты сейчас кого играешь? – добродушно спросил отец с чувством выполнено родительского долга.
– Последнего, – хмыкнул Павлик.
– Понятно, – отец провел рукой по квадратному плечу сына, – дерьмо подчищаешь!
Павлик отвернул искривленное лицо и буркнул:
– Надоело мне болтаться, как не знаю что! Хочется в серьезную команду.
– Ну-ну, – начал успокаивать его отец, – талантику хватит – все нормально будет. Пообтереться еще надо на городском… Семнадцать лет, парнишка – это только начало.
– Не говори чепухи, папа, – озлобился Павлик, – телевизор-то смотрим…
– Придет время, – отец был излишне оптимистичен. – Ну, мне ползти пора. Я с тобой поговорил, как обещал. Что я тебя, в самом деле, учить, что ли буду?! Матери скажи, что я тебя пропесочил. Понял? Денег я дал, ну, в общем, и все! Играй и будь здоров!
Он протянул руку Павлику. Павлик пожал, рука у отца была шершавая, вся в мозолях, как необтесанная деревяшка.
– Красивая девка-то хоть? – по-братски спросил отец.
– Да Бог его знает, кто там красивые, – расфилософствовался Павлик. – Смотришь, вроде ничего! А рот раскроет – думаешь, где вообще тут женщина… Она старше меня, папа, старше на год. Ладно, проскочим как-нибудь. Понимаешь, сидит на трибуне, познакомился, а потом это… сказали, ну, что она тут всякому… Откуда я знал, что залетит!
– А чего матери сказал? Маленький, что ли? – произнес отец очень громко, не успев сменить голос после промчавшегося поезда. – Ох, мне эти маменькины сынки! Ничего вы сами не можете, все за вас делать надо. Скоро в койку с вашей бабой лезть придется.
Он засмеялся, а Павлик посмотрел на ту сидящую напротив них девицу; она уже убрала ногу и приготовилась уходить. Комкала в руках полиэтиленовый пакет, поглаживала короткую юбку – все ее нетерпение в этом только и выражалось. Отец заметил, что Павлик смотрит на кого-то за его спиной и обернулся.
– Нравится? – спросил он.
Павлик отвел глаза от девицы и чуть покраснел.
– Ничего баба, правда? – продолжил конфузить сына отец. – Вульгарна, правда, несколько, но глазки какие яркие, да и то, что ниже, очень даже… Хотел бы такую?
Павлик стеснительно мялся – с отцом он такие вопросы никогда не обсуждал, только с приятелями. А отец сейчас говорил, как и они, правда, выражения подбирал другие.
– Ну, что замолчал? Вот баба сидит, взял бы, да и подошел, а? Боишься? – отец повернулся лицом к Павлику и, иронично взглянув на сына, продолжил. – Мама твоя, сынок, тоже ничего была, но характер – танк. Я ведь из-за нее играть бросил, а мог бы и двинуть дальше коллективов физкультуры. Ныла все, ныла! А воля-то у меня слабая была. А! Черт с ней! Ищи бабу с раскрытым ртом – чтоб слушала тебя, а сама молчала. Понял? Нахлебался я с умными и сильными. Такое, блин, устраивают! Слышишь меня?
Павлик закивал головой и с удивленным лицом вглядывался в морщины отца.
– Мы, футболисты – люди слабые, – продолжал отец. – Это только так кажется на поле, что мы здоровые и все из себя мужики. Иногда играешь и думаешь о склоках, просьбах, упреках и ноги бережешь. Хорошо, я хоть поздно, но понял это, а то бы сейчас тренировал бы по планам твоей мамаши. А так она человек хороший! Ты же не обиделся?
– Нет, – ответил Павлик.
Девица, сидевшая напротив, встала и, хлопая по полу туфлями без пяток, зашагала к ним, недовольно пялясь на Павлика. Она подошла и протянула вдруг плавным, несколько заторможенным, тонким голоском:
– Олег, пойдем, а?! Что ты с этим бугаем так долго! На две минуты сказал же! Сколько можно ждать?
Отец не заметил, как она подошла и, услышав ее голос, обернулся. Лицо тут же накалилось краской. Девица была немного выше него.
– Верочка, – просительно залепетал он, – это же сынишка мой.
Девица вульгарно-кокетливо качнула головой, глаза ее уплыли вверх, потом плавно перекатились вправо, влево и вернулись на место.
– Ничего мальчик, – все также растягивала слова Верочка. – Но все равно пойдем, ты мне обещал купить новый плащ! Я вот еще подумала, надо бы новую зубную щетку, старая уже растопырилась вся.
Она подхватила отца за локоть и увела к платформе. Отец почему-то даже не обернулся…
Павлик поднял с лавки свою спортивную сумку и услышал, что подъехал очередной поезд. Он тут же с размаху треснул сумку об пол и побежал за отцом…
Двери закрылись перед его носом…
Отец не видел, как сын тряс здоровенным своим кулаком вслед уходящему поезду и чертыхался!...20.09.01
Нежные чувстваМелькают утренние плохо протертые лица, везде уже горячий асфальт, так и не остывший за жаркую ночь.
Несколько рабочих в оранжевых фуфайках с криками и руганью разламывают проезжую часть.
Лена Федорова проходит мимо и открывает свой «жигуленок». Лене хочется спать. Ее рано разбудили, вырвали с силой из интереснейшего сна и вытащили на улицу, где все так же нечем дышать.
Надо было ехать через весь город. Тащиться туда, где уже была совсем недавно. И обязательно это надо делать с утра, срывая ее, не выспавшуюся, с постели…
Лена летела на своей машине мимо домов, ларьков, деревьев, гаишников и просто мимо людей…
Больница была почти пустая. Бабка на вахте Лену пускать не хотела, пришлось десятку ей давать…
Мать лежала в своей палате какая-то хмурая, недовольная. Соседка ее еще спала.
Медсестра, вошедшая вместе с Леной, сочувственно улыбнулась, отчего Лене еще больше не по себе стало. Ей подумалось о том, что вот такие молодые «страшилы» свою не состоявшуюся любовь и жалость к мужикам, воплощают здесь, в больнице, жалея, кого попало.
Медсестра вышла.
– Почему так долго? – капризно спросила мать.
– Что тебе? – Лена отводила глаза от разрывающего ее взгляда матери. – Что-то срочное? Или опять мозги потекли?
– Хамка! – обозлилась мать. – Я целую неделю тебя, доченьку, дожидаюсь! Тут ко всем каждый день приходят.
– Что так долго ждала? – Лене захотелось поиронизировать. – Поднимала бы общественность на дыбы, как обычно. Дворнику не позвонила?
– Ты к матери пришла! – отчеканила мать. – В больницу! А не в тюрьму! И будь добра…
Лена перебила ее:
– Я уже была, хватит. Говори, что надо, и мне на работу пора.
– Известна нам твоя работа, – мать начинала заводиться, – секретаришка!
– Эта моя работа тебя кормит, – у Лены появилось желание разораться. – А вот твои подозрения советую придержать – я ведь и ответить могу.
Мать молчала и только скоблила взглядом дорогую одежду дочери, ее красивое лицо и совершенно не подходящую к нему стрижку.
– Скоро вернусь, – заговорила мать, – кончится твоя лафа! Узнаю, что кто-то там ночует – отутюжу!
– Не лезь! – чуть не крикнула Лена. – Я тоже там живу.
– Я тебе сказала, – еще жестче проговорила мать, – я еще пока жива. Или ты мне уже могилку готовишь? Попомнишь меня, когда цветы принесешь!
Не зная, что ответить, Лена опустилась на больничную койку. Зубы ее наскакивали друг на друга, поскрипывали, толкались и все крепче сжимались. Скулы натягивали кожу на щеках, и под глазами выдувались в небольшие кружки. Моргала она часто, из-за чего и две капельки слез начали свое движение из уголков глаз и повисли у переносицы.
– Нечего сказать? – прервала ее раздумье мать. – Ты о чем сейчас думала?
– Это мое дело! – отрезала Лена.
– Смотри, смотри, не принеси там мне никого в подоле, – издевательски сказала мать. – Я нянчиться не буду.
– Чего тебе надо? – резко выдавила из себя Лена.
– Ничего. Жива, здорова – и слава Богу! – мать стала нарочито дружелюбна. – Могла бы и гостинцев принести, все-таки больница, кормят паршиво. Мне ведь еще лежать здесь.
– И лежи себе, – сказала Лена, – да подольше, не торопись.
– Жизнь себе устраиваешь? – мать засмеялась. – А кому ты нужна? Да и тебе-то никто не нужен. Что, я не знаю, как ты делаешь? С нужными людьми ты одна. С ненужными – другая. С матерью, например!
Лена нервно цепляла нижними зубами верхнюю губу. А мать продолжала:
– Вот у тебя мать в больнице, а тебе ее не жалко. Зато какого-нибудь блядуна облизываешь.
– Послушай, – Лена встала, – я не собираюсь грязь всякую выслушивать. Мне работать надо, я не отпросилась.
– А кто тебе кроме меня-то скажет это? – мать приподнялась. – Соседка по дому? Так она даже радуется, что у тебя все плохо.
– У меня все хорошо! – отрубила Лена.
– Ну-ну, – мать опять улеглась на подушку, – хорошо и ладно. Заглядывай почаще.
– Мама, – Лена подошла ближе, – зачем ты меня позвала?
– Какая тебе разница? – глухо ответила мать. – Позвала и позвала. Надо было.
Она перевела взгляд на дочку и застыла. Казалось, что мать остановилась специально, чтобы укорить своим бледным лицом и усталым взглядом дочку за черствость.
– Помру, узнаешь! – добивала Лену мать. – Уходи и можешь больше не приходить.
Самодурство и непоследовательность, бесконечная череда упреков и жестокости, исходивших от матери, огрубили душу Лены, и она уже не могла ни жалеть ее, ни сочувствовать. То, что мать оказалась в больнице, не прочувствовалось Леной. Тем более что та даже здесь умудрялась быть такой же, как и всегда, она даже здесь лезла в Ленину жизнь.
И, подумав об этом, Лена сказала:
– Ты не лезь больше в мою жизнь. Пожалей себя. Я и так из-за твоего желания обвинять всех во всем, очень многих людей потеряла, потому что тебя с раскрытым ртом слушала.
– Конечно, – взмолилась мать, – обвиняй, обвиняй! Нашла на кого свалить. Мать – дерьмо! Мать тебе жизнь сломала! А ведь я тебя вырастила такой вот красавицей. Хоть бы слово благодарности… Это ты распоряжаешься своей жизнью. Я тебя только предостерегаю от ошибок.
– Твои предостережения мне дорого стоили, мама, – Лена присела рядом с матерью, – Сколько мне, помнишь? Я уже семь лет могла быть замужем и ребенка бы уже растила. Вместо этого стучу по клавиатуре, стучу и буду стучать.
– Да, – просто сказала мать, – два аборта – это много.
– Откуда?.. – только и смогла шепнуть Лена.
– Читала я твою спрятанную медкарту из консультации, – умно подхватила мать, – вот от какого подонка я тебя уберегла! Хотел бы, не сделала бы.
Лена потерла глаза и усмехнулась, как будто тайна ее, вскрытая сейчас, ничего теперь уже не значила. Слезы не желали выходить из нее. Раз мать все давно знала, то чего беситься?
То напряжение, что сковало ее с утра, почему-то быстро проходило. Мать даже становилась сейчас не такой уж и злой, как раньше. Глаза их встретились и неожиданный порыв, откуда-то из детства, бросил Лену в объятья мамы. Они поцеловались.
– Думаешь, я железная? – мама гладила дочку, словно держа ее маленькую на руках. – Думаешь, мне не больно на тебя смотреть? Ведь я все понимаю.
Слезы Лены не выдержали и хлынули небольшим потоком.
– У меня операция завтра, – чуть слышно проговорила мама.
– Я буду держать кулаки, – ответила дочь.
Они попрощались…
Лена выбежала из больницы. Теплый воздух согнал тучи на небе, вот-вот должен был пойти дождь.
Душа Лены взволнованно дрожала, но нежные чувства охватили ее всю, и становилось сердце добрее.
Она с трудом перешла широкий проспект: движение здесь было адское, – и села в машину.
Машина не заводилась. Надо было выходить и голосовать, чтобы кто-нибудь зацепил тросом и подтолкнул с места.
Лена открыла дверцу и вышла.
Первая же машина, несшаяся по ближней полосе, сбила ее.
Летела Лена метров пять…
...29.08.01
НеудовлетворительноПоздний февральский вечер. Замороженное окно блестит желтоватым светом кухонной лампочки. Павел Федорович Гомонов – профессор культурологии – сидит на кухне и перебирает гречневую крупу.
На душе у него тяжко: обиженный им любимый студент – Степа Коловаров – нагрубил ему и разорвал свой студенческий билет.
Павел Федорович весь вечер ждал Степиного телефонного звонка, но уже время позднее, и надежды на примирение нет.
«Сколько, однако ж, вложишь в эту шантрапу, а поди ж ты, никакого тебе эффекта! – думает профессор, вылавливая на столе черную крупинку. – Поди объясни ему, что надо свой город знать! А ведь не понимает, злится! Что ж остается-то? Только расстаться, а сколько вместе говорено-то, переговорено. Что ж это он такое себе навоображал, что и я его понимать перестал?»
Степа Коловаров, приезжий, был взят под опеку профессора из-за своей самобытности и всегдашнего желания записывать за Павлом Федоровичем его длинные и важные монологи. Не важно, что в этих монологах перескакивал профессор с пятого на десятое, важно то, что Степу он видел всегда с блокнотом и ручкой наготове.
«Купился я, что ли, на услужливость, но как же можно не знать таких простых вещей!» – сокрушается Павел Федорович и все еще с надеждой смотрит на телефон.
Живет он один давно – дочка редко навещает, а жены у профессора то появляются, то пропадают.
Одна отдушина – Степа, да вот обидел его Павел Федорович, поставил ему неудовлетворительно, а теперь мучается. Благо бы знал он, что Степа ответить не сможет, но ведь был в нем уверен…
Крупа уже засыпана в кипящую воду, а мысли профессора до слез, до отчаяния насквозь продирают. Как страшно разочарование!
Да и все можно было бы простить, но хамство, с которым Степа рвал билет и обзывал профессора крысой, грызет сердце.
Да если бы и позвонил Степа ему, что было бы? Гордость и обида захлестывают, и поди объявись сейчас студент, точно высказал бы Павел Федорович ему всю правду в глаза.
На лестничной площадке послышалось поскрипывание и кислые вздохи, легкий топот, а затем бряканье – как будто железной банки.
Профессор прислушался и подошел к входной двери, заглянул в глазок. На площадке света не было, но кто-то прикуривал, слышалось щелканье зажигалки и сплевывание.
Профессор не решался открывать дверь, хотя начинал понимать, кто за ней стоит. И, поняв это, решил ни за что не открывать, пока Степа сам не позвонит. Пошел на кухню, сел и раскрыл газету, пытаясь вчитаться в большую статью.
Каша шипела на плите; за дверью шуршало и позвякивало.
Ожидание еще больше разозлило профессора, и он стал говорить сам с собой:
– Да что он там возится, негодяй! Пришел – так заходи, и нечего топтаться под дверью! Ведь прощу же и так! Нет, торчит, идиот!
Пауза затягивалась. Уже и каша поспела, и положил себе профессор ее в тарелочку, молоком залил.
В дверь постучали. Профессор, стараясь не шаркать, прошел к двери и спросил:
– Кто там?
Никто не ответил. Павел Федорович вслушивался.
«Да что он дурачится, – думал он, – мстит мне, что ли?»
– Степа, это ты? – спросил громко профессор.
Ответа все еще не было. Тогда Павел Федорович скинул цепочку и повернул рычажок замка.
В дверях стоял Степа и бессмысленно смотрел сквозь разбитые очки: треснули оба стекла так, что казалось, что глаза выехали за середину стекол и выглядывали – сбоку один, и у носа другой. Степу качнуло.
Никто из разругавшихся не начинал объяснений.
Стояли они так с минуту, потом Степа развернулся и, покачиваясь, стал спускаться по лестнице.
– Куда ты, дурак?! – только и сообразил сказать вслед профессор, чувствуя холодноватый ветерок в рваных тапочках.
Дверь в парадной нарочито тихо прикрылась.
– Издевается! – вскликнул Павел Федорович и посмотрел на часы. – Второй час ночи!
Профессор доел кашу и прилег, но сон не шел, он то ложился, то вставал и изредка поглядывал в окно, все еще надеясь увидеть фигуру любимого студента.
– Чертова бестолочь! – бубнил он. – Надо было его завести в квартиру! Стояли, как два истукана! Да он еще и пьян, наверное!
Незаметно для себя профессор задремал.
С дивана его столкнул сильнейший звонок в дверь. Он вскочил и подлетел к двери. За нею стоял все тот же Степа, в руке он держал оторванную от телефонного аппарата трубку, прижимая ее к уху, и как будто внимательно слушал.
– Да заходи ты, дурень! – сказал профессор и придвинул Степу так, чтобы закрылась дверь.
Степа сел в прихожей, достал из куртки пачку папирос, выдул одну папиросу, продул другую уже нормально и закурил.
– Есть будешь? – спросил профессор и метнулся на кухню, – сегодня у нас каша с молоком.
Степа согласно качнулся вперед и подавился дымом, закашлялся.
– Павел Федорович, – заговорил он корявым голосом, – простите вы меня за это самое!
Извинившись, Степа прошел, не раздеваясь, на кухню и сел напротив профессора.
– Но вы неправы! – скорбно утвердил Степа. – Вы неправы в самом важном вопросе!
– Степа, давай кушай, завтра разберемся! Давай завтра! – пытался успокоить студента Павел Федорович.
Степа опять согласно качнулся и опять закашлялся.
– Знаете, – сказал он вдруг, взмахивая ложкой, – а ведь я любил вас той самой, этой самой!
Проглотив кашу и выпив чая, он теперь замолчал.
Профессор говорить с ним в таком состоянии не собирался и все ждал удобного случая, чтобы уложить парня на диван: пусть проспится.
Степа согрелся и стал зевать.
– Иди спать, сынок, – сказал профессор.
– А вот здесь вы дважды неправы! – ответил ему Степа.
И тут же пулеметом выпалил ответ на тот самый вопрос, на который не ответил на экзамене. Причем рассказал с такими красками и со смаком, что Павел Федорович понял: Степа это все и раньше знал.
Когда студент закончил, на глазах профессора выступили слезы.
Степа сказал:
– Вот она, любовь, а вы говорите – обидно! Обидно кому? Если б я не знал, так и не знал бы…
– Но зачем, Степа? – утыкаясь взглядом в морозное окно, задал вопрос Павел Федорович.
Степа встал и пошел в прихожую.
– А что для вас важнее? – спросил он.
Входная дверь хлопнула.
Профессор тер пальцем щеку в том самом месте, где засыхала слеза…
...06.02.00
Общий языкТам в траве что-то шуршало. Подползавший трепет сворачивался в трубочку и тыкался в сердце. Лицо замерло, и сквозь чуть треснутое маленькое окошко засквозила влажная прохлада. Топающий дождь впивался в землю, и Ясельниковой становилось несколько легче в предчувствии худшего…
Но вот раздался стук в дверь. Яна Петровна резко взглянула в сторону крыльца – там сквозь прозрачную дверь стал виден силуэт промокшей женщины. Волосы ее свисали вниз так, что стали похожи на уши спаниеля, а сама она отчаянно дрожала и что-то бормотала.
Утро начиналось тусклое, и Ясельникова нехотя пошла открывать дверь. Сейчас она уже не думала о боли в сердце, а только старалась ступать аккуратно, не торопясь.
– Можно? – ступив на порог, спросила женщина и тут же смахнула с губ ледяные капли воды.
Ясельникова посторонилась и, глядя в пол, кивнула.
– Володя дома? – задала новый вопрос женщина, присаживаясь на скамейку на маленькой кухоньке у входа.
Ясельникова нахмурила лоб и выставила выпуклые морщины: будто не могла понять, о чем идет речь. И тут же, потеряв серьезность, кисло улыбнулась и ядовито сказала:
– Володя уехал вчера вечером.
После чего отошла в сторону и, сорвав грязное полотенце с крючка около рукомойника, бросила его женщине.
– Что вам надо? – спросила Ясельникова, глядя на просвечивающее платье женщины.
– Тогда я к вам! – вдруг сказала вошедшая, сняв босоножки и вытянув тонкие, почти куриные, ножки вперед; пошевелила пальцами.
– А в чем надобность? – от Ясельниковой веяло неясностью. – Что это вам не терпелось в такую рань?
– Я потому что спешила, – тихо, шепотом заговорила женщина, – я потому что встретиться должна… Да вот не успела, а он, думала, здесь… А впрочем, я все равно про вас хотела говорить.
Женщина подтянула к себе босую ногу и провела рукой по лодыжке.
– Вот ноги-то болят, – огорчилась она, – застудила, хуже некуда.
Ясельникова бросила взгляд на газовую плиту, но тратить газ не стала, тем более идти за водой.
– Да вы не беспокойтесь, – заметив выражение глаз Ясельниковой, сказала женщина, – я потерплю, мне бы только чайку горяченького. А уж потом все остальное.
Яна Петровна присела рядом на скамейку. Сырость утра, эта вот неприятная гостья, пожелавшая чаю и отчего-то пришедшая к ней за разговором, – все вместе наводило еще большую тоску. Словно чересчур утомившись, уткнулась она не понимающим ничего сознанием в повторяющиеся удары капель о деревянный карниз.
– Вы ведь что-то хотели спросить? – спросила она вялым тоном и посмотрела в глаза женщине.
Дождь начал стрекотать наискосок по кухонному стеклу, напоминая звуком своим удары в бубен.
– Странное дело, – пробормотала женщина, – этот дождь. Как будто летим.
Она забралась на скамейку и села по-турецки. Ногти на пальцах ног были неровными, местами даже треугольными. Руки женщина положила на грудь, словно старалась от чего-то защититься.
– Я с Володей просто посоветовалась, – выдохнула она, – я же знаю, что тут с вами никого нет.
Яна Петровна слушала дождь, в проплывающем голосе женщины угадывался запах непроизвольного напряжения и какая-то нечаянная обманчивость. Женщина слишком откровенно сидела, ничуть не стесняясь. Яне Петровне даже захотелось в какой-то момент сказать об этом, но рука ее сама полезла в халат и достала большой длинный ключ.
– Я все поняла, – оскорблено сказала Ясельникова. – вот вам, живите!
Она встала и медленно прошаркала в нетопленую комнату.
Дача ее в октябрьское это утро показалась ей вдруг потерянной, как будто из прошлой жизни, оттуда, где остался маленький сын и жестокий, давно уже бросивший ее муж. Дача сейчас умывалась дождем.
В комнату вошла эта женщина.
– Я, простите, не поняла вас! – сказала она. – Все вопросы уже решены?
– Решены?! – закричала Ясельникова. – Я, что ли, их решала? Перед фактом теперь ставите! Решены!!! – руки ее искали, за что бы схватиться. – Вам бы мою жизнь! Взять, и так запросто мать выгонять!
– Но по справедливости-то, – упрямо сказала в ответ женщина, – по справедливости, это все уже давно не ваше. Вам здесь просто из душевного расположения жить, черт возьми, давали! А вы еще и недовольны были!
Ясельникова по-старушечьи заплакала, словно запищала.
– Вели бы себя тихо, как человек, – продолжила женщина, – вы разве можете ухаживать за собой?
– Вот она – ненависть! – запричитала Яна Петровна. – Вот она – ненужность! Как спасать ваши нервы и душу, так они ко мне все. А так – просто выселяете!
– Мы нашли вам место, – жестко прервала ее женщина, – и перестаньте канючить!
– А ты ударь меня! – искривленное лицо Яны Петровны вспыхнуло. – Что вы там нашли? Дом престарелых?! А я одна хочу быть! Одна и навсегда!
У нее закололо сердце, но просить помощи гордость не позволила.
– Вы вчера Володю довели, – ничего не замечая, продолжала упрекать ее женщина, – очень много сказали ему гадостей – просто так, от дури старческой. Вот теперь пришлось вас обманывать и мне приезжать, чтобы вы заглохли. Потому что он с вами больше не может. Вы же сумасшедшая! Вы же до того психованная, что до сих пор меня не признаете!
– А ты мне никто! – крик Ясельниковой пронесся в сторону треснувшего окна. – Никто и была, и будешь, вплоть до того света! Ты просто хищница! И я это помню.
– Скажите спасибо, – мягко и иронично сказала женщина, – что я пока принимаю правила вашей игры. Принимала, точнее. А теперь все, хватит мне делать вид постороннего человека. Поедешь туда, куда повезем! Собирайся, старая уродина!
Яна Петровна, как собака, оскалилась на стекло и завыла:
– Разве это мой сын? Пиявка! Ты его с пути сбила! Столько лет над мальчиком моим измываешься! И он сдался! Торговка паршивая! Тля! Овечкой тут прикидывалась!
– Да успокойтесь вы, Яна Петровна, – сказала женщина. – Все, кончилось ваше время. Володя уехал, а против меня вы – нуль. Если не хотите по лесу без палки бродить, собирайтесь и поедем. Вас там ждут.
Ясельникова сухими глазами смотрела на не работающий механический будильник. Тяжеленный блин страха придавил ее сердце к спине, а раскисшая душа начала проставлять точки в конце предложения. Невестка жесточайшим взглядом пробивала отступавшую все дальше надежду. И тут уже всплыли все правды и неправды их обоюдной ненависти. И жалость Ясельниковой, что когда-то она не смогла убедить сына оставить эту женщину.
– Ты мне десять лет душу мотала, – смеялась невестка, – я имею право на ответные действия.
– Может быть, ты меня убьешь? – попросила вдруг ее Ясельникова. – Просто возьмешь и убьешь!
– Убивайте себя сами, – ответила невестка, – только без меня и не здесь. Я Володе обещала вас доставить туда. А там… В общем, как сами хотите. Впрочем, поделом!
Жестокость ее клокотала не переставая.
– Сам-то не смог мать спровадить! – заключила Ясельникова и легла на спину. – Я в тишине хочу побыть. Выйди.
Невестка с недоверием взглянула на нее. Но вышла.
Ясельникова теперь покачивалась, лежа на кровати, и ждала, что вот сейчас вдруг явится смерть, и все закончится. Но смерть выжидала, а сердце уже не болело. Да и дождь прошел.
– Лариса! – позвала она невестку минут через пятнадцать. – Подойди, мне сказать надо.
Лариса зашла в комнату. Свекровь стояла на четвереньках на кровати, как собака.
– Гав, – сказала она и стала лаять, раз двадцать подряд, громко и пискляво подвывая.
Невестка спокойно смотрела на этот аттракцион. А потом стала лаять в ответ, злобно фыркая и урча.
Отлаяв, они замолчали. Утомившаяся Ясельникова перевернулась на спину и тихо сказала:
– Обижала я тебя, Лариса. Не желаю тебе такой гнусной старости.
На лице Ларисы отразилось ласковое недоумение, она подсела рядом на кровать, улыбнулась и сказала:
– А я вам желаю долгой счастливой старости. Вы только валерьянку пейте.
Они обе смотрели в окно и понимали, что когда-то безнадежные потуги найти общий язык, вдруг дали свой результат.
Невестка сидела рядом с Ясельниковой еще долго, пока та не уснула. Теперь Ларисе нужно было собрать вещи свекрови и хотя бы чего-нибудь поесть. Только почему-то встать с места она не могла. Только сказала вслух, понимая, что Яна Петровна все равно не слышит:
– По мне бы, если бы со мной так, так я своими бы руками удавила. Даже родного сына.
Что-то качнулось в ней, и непонятная жалость к не любившей ее свекрови чуть-чуть затрепетала, закопошилась в груди:
– Если бы только не со зла все, тогда можно, а так не получается.
Лариса стояла и всматривалась в спящее тревожное лицо Яны Петровны. Ей захотелось почему-то ударить чем попало своего мужа…
...11.10.01
ОднолюбыАня Козлицына вышла из универмага на улицу, зажмурилась и посмотрела по сторонам. Под ярким солнцем безмятежно прогуливались сонные люди. Мороженое и лимонад в их руках появились неожиданно и сразу, после вчерашнего еще холодного вечера.
Козлицына зевнула.
Муж сидел в машине и листал журнал. У него был такой вид, что Аня даже и не узнала его. Сжатый рот, выпяченный подбородок, как будто Жорик кривлялся.
Медленно переворачивая страницу, он вдруг поднял глаза и уставился на девицу, проходящую мимо Козлицыной.
Волосы у девицы были красно-рыжие, губы выпячены, и вообще казалось, что она настолько недовольна своей жизнью, что вся эта внутренняя ненависть вспенилась на лице. Главное же – черные колготки ее почти не прекращались от узких, с нарочито вытянутым носком, туфель, до того места, где должна была быть юбка.
Все у девицы гуляло: и пальцы, и икры, и бедра, и грудь. А грудь, казалось, ей просто мешала, она висела впереди и перетягивала спину, отчего девица шла чуть согнувшись.
Недовольство окружающим ее миром выдавало еще и то, что ноги девицы, хоть и были длинными, но выглядели изогнутыми, а стопы косолапили. И, казалось, что она разбужена случайно, вылезла, в чем попало, а спала накрасившись. На лице все блестело, переливалось, только что не стекало.
Козлицына взглянула на Жорика: он, высунув язык, смотрел вслед удаляющейся девице.
Аня чертыхнулась и посмотрела на свое отражение в витрине. Она была сантиметров на двадцать ниже девицы, хоть и надела сегодня туфли на высоком каблуке. Брючный костюм Козлицыной был подогнан аккуратно, он обтягивал ее короткое тело как влитый.
Жорик чуть не свинтил себе шею, но девица ему уже была не видна, и он опять схватился за журнал.
Паршивое настроение подкатило к Козлицыной сразу и надолго. Оно овладело Аней полностью, как будто опустив ее за шкирку в душную пропасть воспоминаний и сомнений.
Стало тяжело дышать. Сердце натужно гнало кровь по венам, от чего те вздулись и заклокотали.
Аню передернуло.
Жорик все так же кривлялся, изучая мотоциклетный журнал.
Козлицына смотрела на свой «BMW», сияющий свежей черной краской, сверкающий отмытыми до блеска стеклами. И ей захотелось расплакаться, а еще лучше – подойти, схватить мужа за язык и дергать изо всех сил.
Аня покраснела и, покачнувшись, направилась к машине.
– Ну, чего, пумпончик? – спросил Жорик, когда Козлицына грубо хлопнула дверцей и вставила ключ в зажигание. – Купила?
Аня не ответила. Если бы она купила, у нее был бы большой пакет.
– Понятно! – согласился Жорик с молчавшей Аней. – Куда теперь?
Он спросил это вяло, потом зевнул и долго держал рот раскрытым.
Козлицына повернула голову к нему, ее глаза были сощурены, и из них текла ярость, но Жорик этого даже не заметил.
Она вырулила на проспект, и они молча поехали на большой скорости…
…Жизнь у них нормальной, конечно, не была. Что-то вроде взаимной договоренности о совместном проживании, не более.
У Жорика была своя торговля, у Ани своя. Они пересекались только в постели, и это было единственное, что их связывало.
Даже ели они отдельно. Аня не выносила жирную и вредную для здоровья пищу Жорика, а он не мог есть ее воздушные салаты и прочую некалорийную ерунду, от которой его тошнило.
Разговоров общих они почти не вели.
Аню такая жизнь совсем не устраивала, она сделала попытку все изменить, но Жорик отказался, да и ей, казалось, легче стало после этого.
Козлицыной, правда, становилось иногда страшно от осознания того, что живет она с этим человеком ради одного – чтобы было с кем переспать.
А Жорик к тому же в последние месяцы перестал ею интересоваться.
И Аня заметила вдруг, как он смотрит на других женщин и как ей больно оттого, что кто-то может стать ему важнее в постели, что кто-то заменит ее.
Изменял он или нет, она не знала, но ожидала измен и боялась…
…Пока они ехали, Жорик задремал.
Чувства Козлицыной скакали пинг-понговыми шариками по неровному асфальту. Ей хотелось и остановить машину, и в то же время гнать ее еще быстрее и быстрее, чтобы уехать подальше от той девицы.
Посмотрев на себя в зеркальце заднего вида, она поморщилась и чуть не плюнула в свое отражение.
Недовольная гримаса отразилась на ее лице, на миг исчезла и вернулась снова.
– Я тебе не нужна! – сказала Аня вслух, а потом крикнула. – Да ответь же! Я тебе не нужна больше?!
Жорик спокойно открыл глаза. Ветерок поддувал справа и колыхал на плече его футболку. Он посмотрел на Аню и тяжело вздохнул.
– Зачем ты это у меня спрашиваешь? – спросил Жорик. – Что я могу тебе ответить?
Аня нажала на тормоз.
На большой скорости машина долго не могла остановиться – хорошо еще, что они ехали по почти пустому пригородному шоссе.
Машину занесло, она развернулась и встала поперек дороги.
– Кто она? – закричала Козлицына и закрыла руками уши, будто не хотела слышать ответ. – Кто она? – крикнула Аня еще раз.
– Вот тебе уже двадцать четыре года, а ведешь себя, как пятнадцатилетняя! – поучительно сказал Жорик. И вдруг заорал. – Все, жизнь закончилась! Полный привет! – он подавился и закашлялся, продолжая орать сквозь кашель. – Больше ничего на свете нет! Да? Все сама решила?! Полслова от тебя не услышишь! И вот тебе раз – кто она! Это сейчас главное, да?
Он вытер ладонью лоб и провел рукой по волосам.
Аня сидела, одеревенев, и держалась за руль обеими руками, словно боясь его отпустить и упасть в пропасть.
От испуга она почувствовала, что ее мысленная лента подвергается жестокой перфорации, словно сотни игл то и дело вонзаются в нее – снова и снова в те же места, причиняя нестерпимую боль.
Ей хотелось что-нибудь сказать, но вязкий страх и горечь обиды, усиленные Аниным воображением, так сдавили ей горло, что она не могла издать ни звука.
А Жорик все что-то орал, пока, наконец, не успокоился и опять не замолчал.
Аня развернула машину и повела ее обратно в город.
Они не говорили друг другу ни слова всю дорогу.
Козлицына остановила машину около желтого двухэтажного дома и вышла на улицу.
Она оглянулась на Жорика: он постукивал по сидению пальцами и смотрел в окно.
Аня подождала, потом поняла, что он не повернется к ней, и быстрым шагом вошла в раскрытую дверь здания.
У столика сидела за стеклом пожилая женщина и разгадывала кроссворд.
Аня подошла к ней, наклонилась к окошку и негромко сказала:
– Простите, вы меня не помните?
Дежурная подняла голову и, вглядевшись в Козлицыну, покачала головой:
– Не-а! А что?
– Ну, как же, милая женщина! – растерянно протянула Аня. – Как же? Вы же дежурили, когда я уходила!
– Ну, так и что? – недоуменно и раздраженно ответила женщина. – Не могу всех я помнить! Вона вас сколько!
– Да Господи! – закричала Аня и опустилась на корточки; удивленная дежурная даже привстала.
Она выглянула в окошко и посмотрела вниз, чтобы видеть Аню.
– Девушка, вы чего? – испуганно спросила дежурная. – У вас чего-то пропало? Оглашенная прямо!
Козлицына поднялась, собралась с силами и мыслями, и, наконец, выдавила:
– Я хочу ребенка обратно! Я отказываюсь от отказа! Я хочу его вернуть себе! Куда мне обратиться? К кому? Я же рожала здесь неделю назад! Неужели вы не помните?!
Дежурная ошарашено присела на стул и повертела пальцем у своего виска.
– Ты что? Дура, что ли? – сказала она.
Аня заплакала.
Слезы лились непрерывным потоком. Она что-то умоляюще бормотала, почти выла.
В это время в приемный покой зашел Жорик, увидел рыдающую Аню и сказал дежурной:
– Пожалуйста, вызовите какого-нибудь, как у вас там, врача! Видите, жена перенервничала! Есть у вас успокаивающее какое-нибудь?!
Он наклонился к Ане и взял ее за руку.
– Ну, может, мы пойдем? – спросил он у нее и повторил еще раз. – Ну, пойдем, а?
Аня кивнула, вытирая пальцами глаза.
– Извините, – еле слышно проговорила она. – Что-то я совсем не того.
Жорик вывел Козлицыну из роддома и посадил в машину, сам сел за руль и они отъехали.
Посвистывая, Жорик вел машину на невысокой скорости.
Аня сидела, уткнув голову в колени, она уже не плакала. Веки ее чувствовали гладкую поверхность брюк.
– Тебе что, ребенок так нужен? – помолчав, спросил Жорик усталым голосом.
Аня отрицательно помотала головой и тихо сказала:
– Я просто подумала: если ты уйдешь, я ведь останусь совсем одна…
– Не переживай! – усмехнулся муж. – Спать я с тобой буду! А что тебе еще-то от меня надо?
Она взяла его за локоть, подтянулась ближе, чмокнула в щеку и погладила ладонью его волосы.
Жорик сморщил левый глаз, который не видела Козлицына, и повернул руль вправо.
Он остановился около магазина. Аня выскочила из машины и быстро поднялась на второй этаж…
Через десять минут она вышла с большим пакетом.
Козлицына купила новую подушку…...24.04.01
По кругуКаблуки стучали неровно.
Создавалось впечатление, что кто-то ходит по кругу, все время возвращаясь в одну и ту же точку.
Борис выглянул в окно, спрятавшись за занавеску.
Она приплясывала внизу.
Ей казалось, стоит только прийти сюда, и все изменится. Но он не впускал ее, даже дверь не открывал. Звонила четыре раза, кричала – ни в какую. Что-то она чувствовала, поэтому и примчалась сразу после экзамена.
Борис курил на кухне.
– Кто это? – спросила Лена, сидевшая в одной футболке тут же рядом, на столе.
– Да так! – уклончиво бросил Борис. У него болел зуб, поэтому за час он умудрился выкурить целую пачку сигарет, и сейчас засовывал пустую коробку в мусорное ведро. – Да ничего у меня с ней… Кончено все…
Он отвел глаза от вопросительного взгляда Лены. Губы ее начинали недобро подрагивать.
– Не психуй, – мягко попросил Борис, – не надо. Это все пустое.
– Но она же торчит здесь! – руки Лены теребили футболку. – Что ей надо?
Борис еще раз посмотрел в щелку между занавесок. Венера сидела на поребрике и смотрела то в одну сторону, то в другую.
– Ждет, – сам себе объяснил Боря.
– Кого? – накручивала себя Лена.
– Да так, – Борис вышел из кухни и хотел было спуститься вниз, на улицу, но все-таки вернулся и взял Лену за руки. – Ты полежи чуток, поспи еще. Я выйду, разберусь… Неудобно как-то.
– Я с тобой, – спохватилась Лена. – Я тоже хочу знать.
– Чего тут знать? – Борис сел на табуретку. – Необязательно это.
Лена, однако же, пошла собираться. Она оделась, собрала свои длинные русые волосы в хвост и вернулась на кухню.
Борис думал. То, что они не разговаривали, делало атмосферу натянутой и нереальной. Но ему совсем не хотелось впутывать в свои дела Венеру, поэтому он сделал еще одну попытку упросить Лену остаться.
– Я все-таки сам должен, понимаешь! – уговаривал он. – То есть это, понимаешь – как бы помягче сказать? – не твое дело.
– А что мое? – сердито спросила Лена. – Пробивать твое личико на телевидении?
– Ну, зачем ты так! – воскликнул Борис, сокрушаясь. – Там другое совсем… Не то, что ты думаешь.
– Так пойдем, – взяв за шею, Лена потянула его к двери, – Пойдем и узнаем, чего она на лестнице орала.
– Не могу я с тобой! – упрямо вскрикнул Борис. – Это слишком серьезно. И очень важно для меня!
– Я переживаю и должна все знать! – настаивала Лена. – Тем более про тебя.
– Да какого черта мучить меня! – не выдержав, грубо закричал Борис. – Бывшая подружка пришла в гости, а я тебя испугался, вот и не открыл. Теперь она не уходит, а я тут с ума схожу! Да провалитесь вы! Пошли.
Они вышли на лестницу и спустились вниз.
Венера сидела все там же и смотрела влево. Когда стукнула дверь подъезда, она подскочила с места, сделала три широких шага к Борису и бросилась к нему на шею.
– Боря, Боря! – целуя его в щеки и губы, радовалась она. – Я знала, что ты дома! Давай уже мириться! А чего не открыл-то?
Тут она увидела за спиной Бориса пронзительный взгляд Лены.
– Кто это? – Венера отпустила его. – Кто это? Я тебя спрашиваю! Она, что ли?
Венера оттолкнула Бориса и повернулась к Лене.
– Дешевые методы, старушка! – презрительно прошипела Венера и, взглянув на Бориса, крикнула Лене. – Почем нынче любовь?
– Послушай, – Борис старался не взорваться, – мы потом поговорим. Видишь, у нас дела.
– Ты согласился?! – взорвалась Венера. – Ну? Теперь ты с ней?
– Дорогуша, – тихий голос Лены резко контрастировал с их шумным выяснением отношений, – мне, в общем-то, все ясно теперь. Могу тебе сказать, что твой любимый никогда на телевидение не попадет. Я об этом позабочусь. Так что забирай его обратно. Боря, я наверх за сумкой не пойду. Завтра кто-нибудь заедет и заберет. Нет, ты не ходи сейчас. Не надо. Пока.
Она двинулась по дороге мягкой походкой в белых своих кроссовках, обходя рытвины.
Борис безвольно опустил плечи и смотрел ей вслед.
Через минуту ее бордовая машина укатила со двора.
– Рада! – злобно сказал Борис. – Ладно, пошли ко мне, и так шуму наделали.
Венера тоскливо зажмуривала глаза. Черные ее волосы все время лезли вперед, и от этого чесались веки. Ей было и смешно, и грустно, а Борис казался сейчас чужим и ничтожным.
Они поднялись в квартиру.
– Понимаешь, – оправдывался Борис, зажигая конфорку и ставя чайник на плиту, – ты же сама мне сказала: делай, как знаешь. Потом я бы все равно перестал с ней общаться, когда пробился бы. А сейчас ну никак нельзя: кто заказывает, с тем и надо…
Венера упорно молчала, и от этого Борис еще сильнее ощущал свою вину. Он не пытался ее разговорить, зная, что это бесполезно. Она должна была заговорить первой, но не начинала.
– Теперь что? – разливая чай, продолжал он. – Теперь все! Это же система. А возможность была, только ты все испортила.
Пили чай, не разговаривая, а лишь изредка бросая взгляды друг на друга. Холодные глаза Венеры не теплели, а Борис путался в мыслях и не знал, что говорить. Лучше молчать.
Тишина длилась, длилась и длилась, заводя обоих в такие тупики, откуда выход вообще не просматривался. Бесцельность молчания раздувалась, становилась упругой и непробиваемой.
Чай скоро кончился. Началась новая пачка сигарет. Неожиданно закурила Венера.
– Ты что! – закричал Борис. – Не смей курить, я не разрешаю!
Венера не послушалась и, крепко сжимая фильтр зубами, втянула дым и закашлялась. А когда Борис попытался вырвать сигарету у нее из пальцев, она бросилась в ванную и заперлась там.
– Я не думал, что ты куришь! – возмущался он. – Вот этого я не ожидал!
Борис бессильно опустил руки и потерся лбом о дверь ванной.
– Ты все-таки переспал с ней, – утвердительно и медленно проговорила Венера, – переспал и попался.
Она рассмеялась.
– Можешь не врать, я чувствую, – отсмеявшись, продолжила она монотонным сухим голосом, – я ведь и приехала-то к тебе, потому что поняла это. Не хотела верить, а вот теперь знаю точно.
– Ты сама виновата! – барабаня в дверь, закричал Борис. – Я только выполнял твое пожелание и делал, как знаю.
– Я думала, ты меня любишь, и не способен предать, – Венера вышла из ванной. – А на деле выходит, ты такой же, как все. И даже сейчас не то говоришь.
Она легонько стукнула его костяшкой пальца по лбу.
– Не психуй, – по-дружески успокоила она, – все вернется.
Венера ушла, хлопнув дверью.
А Борис остался стоять в одиночестве и бессмысленной тишине.
Он не стал догонять Венеру…
Только удивился тому, что убежали оба зайца…
Через минуту он уже набирал номер мобильного телефона Лены…
...21.08.01
Порог добротыОна прошла по коридору, зло сверкнув не выспавшимися глазами. Стук черных сапожек ее был нарочит и упрям. Коля наблюдал, как она распахнула дверь своего кабинета и буквально с треском захлопнула ее. Все, кто был в коридоре, обернулись. Новая директриса пришла явно не в духе.
– Коленкин! – из кабинета директрисы высунулась секретарша Лиза. – Иди сюда.
Коля подошел к дверям. Кислая улыбка Лизы и плохо причесанные волосы ее почему-то навевали совсем не счастливое продолжение утра.
– Вас зовуть! – коверкая язык, съязвила секретарша. – Довольно недовольна госпожа-то!
Лиза пропустила Коленкина в приемную и, важно оглядев опустевший уже коридор, тоже треснула дверью. Коленкин мялся и топтался в приемной.
– Чего ей? – на всякий случай спросил он Лизу.
– Дорогой мой, – укоризненно сказала Лиза, – кто же ее знает?!
Улыбка ее была похожа теперь на перезревший помидор – так и казалось, что лицо секретарши вот-вот лопнет и разбрызгает весь свой сарказм и издевательскую благожелательность.
– Ну, иди, иди! – Лиза подтолкнула Коленкина в плечо миниатюрным кулачком. – Еще злее будет, не испытывай терпение.
Коленкин заглянул в кабинет. Светлана Степановна сидела за большим своим столом, обложившись бумагами, запасшись чашкой кофе, и тупо смотрела в монитор компьютера.
– Стучаться надо! – прикрикнула она, услышав звук открываемой двери и повернув серое, как показалось Коленкину, лицо.
– Извините, – пробурчал Коля и сделал шаг назад, порываясь выйти.
– Хватит отплясывать! – голос директрисы никаких сомнений в ее намерениях не оставлял. – Сядьте сюда.
Она вытянула руку в сторону высокого черного стула, стоявшего метрах в двух от стола около книжного шкафа слева. Туда Коля и сел, и теперь он видел директрису, а она, сидя вполоборота к нему, разговаривала как бы и не с ним, а со своим монитором.
– Николай Андреевич, вы идиот? – риторически спросила Светлана Степановна, выдержав сперва огромную паузу. – Неужели у вас еще хватает смелости и наглости сюда заходить?
Коля, в общем-то, не очень привык к такому обращению. Но уверенность директора просто раздавила его.
– А я, собственно, не понимаю в чем дело-то? – промямлил он. – Я, как бы это сказать, кажется, никому ничем…
Тут Коленкин смолк, потому что директриса поднялась, вышла из-за стола и встала напротив Коли, глядя так, что у него зачесалась коленка.
– Вы мне ночью звонили! Вы это помните? – прокричала Светлана Степановна, протирая левый глаз. – Вы меня подняли с постели, я понеслась как ненормальная! Вы вообще хоть что-нибудь помните?
Мысли Коленкина зависли над головой, не в силах сдвинуться ни туда, ни сюда. Осторожно, чтобы хоть чуть-чуть выиграть время и постараться вспомнить, как же было дело, он протянул:
– У меня день рождения вчера был!
– Знаю я! – Светлана Степановна упорно смотрела Коле в лоб. – Я с вашей женой по городу всю ночь искала вас. Вы себя видели в зеркало?
Она подошла и рывком подтянула Коленкина к трельяжу.
– Смотрите, смотрите! – раскачивая его за плечо, говорила она. – Нравится вам такая картина?
Глаза у него были мутно-красные, мешки под ними и лицо потрепано, будто обдувалось сильным ветром и поливалось дождем.
– Это учитель перед вами? – директриса толкнула Коленкина прямо в зеркало, и он ударился носом. – Господи, если бы вы слышали, что вы только несли вчера мне! Где вы ночевали-то?
Коленки тряслись, потому что ничего он не помнил. Нет, проснулся он у себя в доме на чердаке под балкой, но что он кому-то звонил – этого не было в памяти.
– А Вероника где? – только и смог спросить он.
– Позвонила я ей сейчас! – закричала Светлана Степановна. – Вы что же думали, у меня больше дел нет на свете, как вас разыскивать?
– Мы поругались, – стал оправдываться Коля, – вот я, наверное, и ушел, только вот не помню ничего. А что я вам говорил?
– Да, Коленкин, – воскликнула директриса, – вы мне сказали, что никто вам не нужен, кроме меня. Что вы выгнали жену и меня ждете. Я вам перезвонила. Вероника ваша в таком была состоянии, что мне пришлось… Просто дикость какая-то!
Светлана Степановна подошла к тумбочке, стоящей около стола, и достала оттуда чайник, проверила, есть ли в нем вода, и включила в розетку.
Коленкин, совершенно одурев, наблюдал за ней; чувства его искали точку опоры, от которой можно было хоть куда-то плясать.
– Сейчас кофе попьете, – сказала тихо директриса, – и домой, я вашей жене обещала. Урок отменю. Все равно с утра вашей литературой заниматься бессмысленно.
Пока Светлана Степановна готовила Коле кофе, он задумчиво смотрел в потолок, и создавалось впечатление, что крошечное столкновение внутренних токов подводит его к какому-то новому решению. Какая-то длинная и умная фраза составлялась в его голове, но придать ей окончательную форму Коленкин не решался.
Кофе был хороший. Крепкий и сладкий.
– Так я тут еще работаю? – осмелев, спросил Коля, сидя за раскладным столиком и глотая горячий напиток.
Светлана Степановна смотрелась в зеркало, но неожиданно резко развернулась и стремительно налетела на Коленкина.
– Послушайте, дорогой мой! – грубым шепотом проговорила она. – Вы вот живете, как вам хочется, устраиваете спектакли, я вам кофе подаю. Что это такое? Что, скажите?
– Нет, вы не поняли! – замахал руками Коля. – Я виноват, виноват. Просто узнать хотел. Я же не специально!
– А как же вы? – садясь рядом на диван, спросила директриса. – Если женщина одинока, так и поиздеваться в самый раз? Или все это правда?
– Что правда? – недоуменно спросил Коля.
– Ну, то, что вы мне ночью говорили, – глядя ему в глаза, сказала Светлана Степановна.
– А вы как хотите? – стал выкручиваться Коленкин. – Вот как хотите, так и есть!
Он улыбнулся. Директриса встала и села за свой большой стол.
– Пишите заявление, – спокойно сказала она. – Хватит с меня выкрутасов ваших.
– А если я против? – нервно пробормотал Коля. – Если я не желаю писать заявление?
Директриса не знала, что ответить, и молчала. А Коля ощутил прилив бодрости и уверенности в себе от кофе, и поэтому он чувствовал желание говорить, что вздумается.
– Вы вот к нам пришли, – рассуждал он. – Не здороваетесь никогда ни с кем. Мы что, чем-то вам обязаны? Что это вы так неуважительно? Персонал любить надо. А то, что я к вам обратился в трудную для себя минуту – это проявление коллективного начала.
– Замолчите, Коленкин! – прервала его директриса. – Вы не на уроке, и я вам не ученица.
Да? – кривлялся Коля. – А я вам тоже, знаете, не подчиненный. Вы сначала уважение заслужите. Мы здесь поработали. Не то, что вы – на все готовенькое.
Директриса недовольно шмыгнула носом.
– Пишите заявление, – еще раз сказала она. – Только я не понимаю, какой вы на самом деле. Я-то другое про вас подумала. Может быть, действительно у вас нелады в семье, плохо стало. И я помочь могу. А вы – просто шут! Пишите, и не будем ничего обсуждать.
Горькая ирония заблестела в ее глазах, и отсутствующий взгляд Светланы Степановны печально застыл в одной точке.
– Мне просто обидно, – заговорила она, – что каждый день я прихожу домой, словно в пустоту, и там только стены и мама, только стены и мама.
Коле стало не по себе, извиняться захотелось прямо сейчас и по-настоящему, но он сказал совсем другое:
– А давайте дружить! Мы же теперь вроде разобрались.
Директриса встала и подошла к двери, и открыла ее.
– Лиза, – сказала она секретарше, – подготовьте приказ вот по этому товарищу.
Коленкин все понял и вышел из кабинета. В приемной он чуть потоптался и сказал сам себе:
– Господи, тоже мне! Что я, работы не найду? – потом повернулся к директрисе и выругался. – Тьфу на тебя, образина тридцатилетняя!
Дверь кабинета хлопнула. Секретарша уставилась на Коленкина, словно перед ней стояло восьмое чудо света.
– А ты чего пялишься? – рубанул он Лизе. – Пиши, печатай!
Оскорбление увольнением сдавило ему горло и сердце. Заболели глаза. Паутина дурости исчезла. Коленкин сказал:
– Хотел ведь ее повеселить, дурак! Жалко мне вас всех, одиноких!
Он вышел в коридор и со страшным чувством потери стал спускаться вниз по лестнице школы, в которой отработал почти двадцать лет…
...17.09.01
Последний разворотБородкина не спала. Словно в укор своему Васечке, который сидел на кухне и трепался уже три часа с Галей, ее подругой. Гудение монотонного его голоса и глуповатое хихиканье Гали раздражали, сердили и несли Бородкину в гущу вредности и стервозности. Она готова была уже идти туда, на кухню, и разбивать надоевшую ей идиллию. Пренеприятные звуки вырывались из ее горла, и шепот, которым она пыталась сдержать негодование, превращался потихоньку в звериный рев, пока еще тихий, как шепот.
– Мне на работу с утра, – бесилась Бородкина. – На работу, на целый день. А он тут валяться будет до вечера. Завтра точно что-нибудь напортачу!
Бешенство ее постепенно растворялось в наползающем сне, и, проклиная мужа и приехавшую по делам подругу, Бородкина заснула-таки, зажав в кулаке угол подушки, будто выдавливая из него сок…
Под утро что-то холодное и тяжелое залезло под одеяло рядом с Бородкиной, залезло и заговорило:
– Татьян, подвинься-то, вот развалилась тоже! Я эту твою лахудру-подружку на кухне на матрац сунул. Пусть там дрыхнет. Да слышишь ты меня?
– Да, – скрипнула Бородкина.
Васечка просунул руку ей под шею и подвинул к себе.
– Чего тебе?! – обозлилась Бородкина. – Не налялякался, что ли?
Она вывернула голову, и в свете уличного фонаря, проникающем в щелку между шторами, заглянула в глаза Васечки.
– Как ты только мог? – обиженно сказала она.
Он погладил ее по голове.
– Ой, – вяло сострил Васечка, – а что это у нас?
– Мне на работу! – ответила Бородкина. – И вообще, о чем вы там столько времени болтали?
Она отодвинулась от мужа дальше, к краю дивана.
– Да чего там, – Васечка подхватил ее голову, – дура она и есть дура. Просто человек новый. Интересно ведь, чего у них там за городом, как они вообще.
Ему ничего делать не хотелось, кроме того, чтобы уснуть.
– А ты обиделась вроде? – на всякий случай спросил он. – Подумаешь, с человеком поговорил.
– Нет, – бессмысленно ответила Бородкина, – сейчас уже нет.
Она сунула свое лицо в подушку. Он отвернулся.
– Нет, не обижаюсь, – почти неслышно проговорила она, – все уже, Васечка.
Он молчал и смотрел на кусок светлого уже неба из-под полуприкрытых век. Бородкина продолжала шептать:
– Васечка, ну, сдурила я, правда.
– А зачем вид было делать? – сонно прошептал он и совсем закрыл глаза. – Чего тебе не хватает? А вот придет кто в дом, сразу косишься. Что она, чужой человек? Твоя же…
Бородкина лениво перевернулась на спину и тоскливо сказала:
– Знаешь, Вася, если честно, мне не светит Галку неделю кормить.
– А зачем же ты ее оставила тогда? Так и сказала бы: уходи мол, места нет. А то строишь из себя.
Васечка повернул сморщенное лицо к Бородкиной и укорил ее:
– А она ведь к тебе со всей душой!
– Она работать здесь хочет, вот и прилипла, – Бородкина нервничала, – там-то у них какая работа.
– Да, работать надо! – уклончиво заключил Васечка и почесал нос. – Дак, а кто ее возьмет, своим-то…
– Надоел ты мне! – буркнула Бородкина. – Одни обещания от тебя! Когда выполнять будешь?
Васечка надул губы и резко отвернулся.
– Стерва! – зло шепнул он. – И есть ты, и всегда ей была. Только и знаешь, как за больное место задевать!
– А ты – подлец! – завелась Бородкина. Она набрала воздуха в легкие и, привстав, громко прошептала в ухо Васечке. – Всю ночь с ней на кухне проторчал и еще смеешь меня винить! А что ты сделал? Что ты сделал?
– Замолчи! – скрипнув зубами, выдавил Васечка. – Тошно!
Он накрылся с головой одеялом и тяжело задышал.
Бородкина разнервничалась совсем, спать оставалось часа полтора, но решение она так и не смогла принять. Злоба на Васечку врезывалась острой болью в ее голубые глаза. Она почти уже сделала все, чтобы успокоиться и ничего не выяснять, но будоражащая ее ревность глушила все добрые намерения. И где-то еще бродила надоевшая до чертиков совестливость, все время мешавшая двигаться дальше, цепляющая в самые важные, решающие моменты.
Подруга Галя сопела на кухне, и это ее сопение теперь еще больше подогревало ревность и злость, доводя Бородкину до точки кипения.
А Васечка продолжал кряхтеть, укрывшись одеялом с головой.
– Что, она к тебе сама лезла? – съязвила Бородкина.
– Ты с ума сошла, Таня? – глухой голос Васечки из-под одеяла переполнился возмущением. Он открыл нос, потом все лицо и навис над Бородкиной. – У тебя с головой как вообще?
– Не пялься! – огрызнулась она. – Знаю я все!
Васечка состроил глуповатую гримасу и чуть не расхохотался в голос:
– Ну, насмешила, Таня! Ты соображаешь?
– Я ее сейчас разбужу, вместе и сообразим! – сказала Бородкина и слезла с дивана. – Мне даже интересно, как ты лихо-то!
– Таня, Таня, Таня, – быстро заговорил Васечка, – успокойся. Не надо человека будить. Пускай. Давай это… поспим!
Бородкина легла и закрыла глаза, она думала, все еще не решаясь говорить. Васечка дергал правой ногой, и диван слегка раскачивало. Бородкина представляла картину истинных событий и пыталась отыскать нужные мысли. Но все они блуждали и липкими тонкими линиями обкручивали тело; ее бросало в горячий и уже нездоровый пот.
– Когда ты, наконец, скажешь правду, а? – шепнула Бородкина и сорвала одеяло с себя и Васечки.
Он испуганно вскрикнул:
– Ты чего творишь? Дай одеяло!
– А вот шиш! Мерзни вместе со мной! – зло съехидничала Бородкина. – Или только с ней тебе нравится?
Она вытащила из-под одеяла руку, указала в сторону окна.
Белизна превратила лицо Васечки в плоский блестящий лист.
– Ты со мной так теперь! Хорошо, буду спать так! А тебе на работу пора! – захрипел он и сунул голову под подушку.
– Как ты так можешь! – удрученно сказала Бородкина. – Когда ты только успел? Это ж надо! И с кем?! А я знала, что это именно она.
– А я знал, что ты знала! – Васечка выставил нос наружу и стал передразнивать жену. – А кто она-то? И почему?
– А вот потому! Вон отсюда! – она спихнула его с дивана. – Иди к своей новой, пусть тебя накроет. Сам расскажешь или я поднимусь и все выясню?
Васечка разлегся на полу и закинул ногу на ногу. Ему было холодно и отвратительно неудобно.
– Нет, вы видели?! – причитал он. – Она все знает! Знает она! Чудовище! И только подойди к ней, вот только подойди! Я тебе устрою минуту молчания!
– Всю ночь мне нервы мотаешь! – свесившись с дивана, огрызнулась Бородкина.
Васечка снизу посмотрел на нее и мечтательно заметил:
– Вот Галя – нормальная женщина, нежная, добрая. Жалеет меня. Она-то понимает. Вообще другой человек.
– Ну, все, хватит! – Бородкина мотнула головой и прищурила глаза. – Понимает – ступай туда! А ко мне ни шагу, лимит исчерпан!
Она подняла одеяло с пола и накрылась им.
– Одного понять не могу, – мстительно заговорил Васечка, – ты сама все решила, сама там все уже придумала… Меня куда-то посылаешь… Я вообще с тобой не спорю, мне все равно. Но вот только подумай, сколько зла ты своим идиотизмом принесла… Швабру свою сегодня в руках держать не сможешь, вместе со шприцем! Разбираться она собралась, выяснять! А то, что я тридцать пять лет на тебя ишачил, а ты меня котлетами магазинными кормила?! А теперь ушел, так каждый божий день только и слышу: иди работай, иди работай! На хрена тебе деньги сейчас? На гроб?! Так уже не надо… Человеку до пенсии чуть осталось, а дышать уже нечем… Проработал всю жизнь с этими долбаными больными, с этими больными, не выздоравливающими никогда! Не хочу я их больше видеть! Понимаешь?.. Вот что ты в жизни сделала?.. А нашелся удивительный человек, удивительный…
Васечка перевел дыхание и, услышав писклявое подвывание Бородкиной, все-таки продолжил:
– Господи! Господи! Почему я так поздно опомнился?.. Она почему-то меня уважает, сочувствует мне… Не знаешь, почему? – он вдруг задумался, а потом разъяренно зашептал. – Кто тебе про Катю рассказал? Какая сволочь? Или выслеживала?
– Она мне сама сказала! – пробурчала Бородкина. – Она подошла сегодня вечером ко мне около парадной и сказала, чтобы я вообще-то тебя попросила к ней не ходить больше, а то уже соседи косятся.
Бородкин вскочил на ноги и подбежал к окну, там совсем рассвело.
– Как ты была дубовой медсестрой, так и осталась! – скрежетал он. – Я тебе не верю.
Он стал постукивать по оконному стеклу ногтями.
Минут через пять, устав слушать стекольный звон, Бородкина позвала его:
– Вася, иди ложись, потом разберемся. Галю разбудишь. Я удивляюсь, как она еще не проснулась.
Бородкин стоял у окна, его сжимало жуткое чувство мести и страха от того, что все вылезло наружу.
– Еще Галю принесло не вовремя, прямо в такой день. Я даже не знаю, что и делать, – бормотала Бородкина.
– Так я и понял. Так вот, – он подошел и сел на диван, – так вот, сегодня я и уйду к ней. Лягу там у порога!
Он ткнул пальцем в потолок.
– Позора совсем хочешь?! – устало выдохнула Бородкина. – Мало тебе глупостей на старости лет? Ей-то ты зачем? Тебя скоро под ручку водить надо будет. Куда я тебя теперь отпущу?
Васечка взглянул на потолок, в почти светлой комнате перед ним замаячила тень окончательного одиночества.
– Неужели ты не понимаешь? – успокаивая мужа, заговорила жена. – Сними ты с себя этот зарок. Тебе и работать-то придется только по вызовам. Ты же не виноват, что кто-то ошибся… И потом, ведь надо накопить денег, надо, Васечка. Сын все-таки, полгода уже… Там есть недорогие и хорошие памятники.
Васечка опустил голову и закивал ей, соглашаясь…
...08.08.01
ПротестГолубые глаза его смотрели просительно и безнадежно, он повторил:
– Ну, хоть что-нибудь! Дайте!
Мужчина, к которому он обращался, стыдливо прятался в воротник и что-то бубнил.
– А я сейчас твоей матери скажу! – закричала немного гнусавым голосом пожилая женщина. Она уже не первый раз привязывалась к мальчику.
На ней был надет рваный плащ, выпученные глаза ее блестели, с нижней губы свисала ниточка слюны, а на кончике носа висела капелька.
– Матерь найду и скажу, что попрошайничаешь! – она была похожа больше на старуху, специально отбивающую у него подающих.
Мальчишка – выглядел он лет на двенадцать – весь сжался. Одет был не очень аккуратно, джинсовая куртка вся в черных маслянистых пятнах.
– Где матерь? – кричала старуха на весь подземный переход. – Где твоя матерь?
Она трясла перед носом мальчика костлявым пальцем и брызгала слюной.
– Не махайся! – огрызнулся ребенок – Рвань ларечная!
Старуха схватила ртом воздух, а потом огрела мальчишку ладонью по голове. Он закричал и тоже стал бить ее. Они отмахивались друг от друга, как две дерущиеся кошки, сидящие на задних лапах.
– Урод! Пакостник! – кричала старуха.
Две девушки, рассматривающие аптечный ларек, стали их разнимать. Пожилая женщина зыркнула на них своими острыми, проклинающими зрачками и закричала:
– Шлюшки! Шлюшки!
– Она сумасшедшая! – взвизгнула одна из девушек и потащила мальчишку в сторону.
Он вырвался из ее рук и отбежал от них, а злая женщина шипела, кривлялась и кричала:
– Подонки! Тварское отродье! Дьяволовы дети! Уроды!
Заикаясь, она пошла в глубину перехода, спотыкаясь, натыкаясь на встречных людей и громко сморкаясь.
Мальчишка стоял у лестницы и шарил у себя в карманах. Он вытащил всю мелочь, пересчитал.
Девушки подошли к нему. Одна из них, в очках, спросила:
– Давай мы тебе шоколадку купим или апельсин? Что ты хочешь?
Мальчик оторвал взгляд от мелочи и буркнул:
– Да пошли вы!
– Идиот! – хором сказали возмущенные девушки.
Мальчишка шикнул на них и подошел к ларьку. Купил две сигареты, жвачку и присел здесь же рядом. Щелкнул зажигалкой и закурил.
День у него сегодня получился невезучий, насобирать почти ничего не удалось.
Как доказать им, что он такой же, как и они? Что он может так же, как они.
Злая старуха все еще кричала где-то у входа в метро, он слышал ее голос и чуть сдерживался, чтобы не побежать и не наподдать ей ногами.
– На, держи, дурак, – фыркнула одна из девушек в синем пальто и в очках.
Она вернулась, чтобы бросить парню пакет чипсов. Он расхохотался и сквозь смех сказал:
– Вот дура-то! Да засунь ты свои чипсы куда-нибудь! Мне «бабки» нужны.
Он смял пакет руками. Пакет лопнул и из него посыпался раскромсанный картофель. Девушка терпеливо смотрела на мальчишку.
– Как тебя зовут? – спросила она.
– Петя я! – парень кривлялся и высовывал язык. – Тетя, шла бы ты отсюда!
Девушка дернула подбородком, рука ее поднялась, она хотела его треснуть, но мальчишка захохотал снова:
– Ну, ударь! Ударь! – крикнул он. – Ребенка бьют!
Парень подскочил и быстро поднялся по лестнице на улицу.
Уже стемнело, капал маленький дождик.
На остановке троллейбуса, на скамейке, сидел небритый и не очень трезвый дедок. Он увидел мальчишку и подозвал его:
– Шурик! – парень подошел, а дед продолжил. – Твое испытание закончилось. Не выгоден ты. Ничего за неделю не заработал. Так что пошел вон! К маме и папе!
Дед замахнулся и шикнул на Шурика:
– Кыш, чудо! И чтобы я тебя здесь не видел, понял?!
Мальчишка испугался и отбежал от остановки. Перед ним вдруг выросла та самая девушка в синем пальто.
– Я за тобой следила, – сказала она, – и все слышала. Тебе что, жить негде? Ты в школе-то учишься?
Шурик кивнул ей и чуть улыбнулся. Ему было и грустно, и смешно оттого, что его не понимают.
– Ну, чего тебе от меня надо? – спросил он.
– Я помочь могу, я психолог детский, – ответила девушка.
Мальчишка махнул на нее рукой, увидел троллейбус, подъехавший к остановке, подбежал и вскочил в него. Девушка не успела за ним. Шурик показал ей через закрытую дверь фигу и сел у окошка.
Домой ему не хотелось, дома надоело. Ему нужно было что-то настоящее, новое. Старое приелось и вылетало из сердца. Хотелось доказать право на сосуществование.
У пустой, неинтересной жизни Шурика не было будущего. И его стремление показать всем свою самостоятельность, вылезти, выскочить из болота душной повседневности будоражило и заставляло действовать. Он перепробовал все, что только мог придумать. Попрошайничество было последним шагом на этом пути.
А дома – мать и отец. А дома плохо.
Троллейбус стоял на перекрестке, ожидая сигнала светофора.
Шурик глядел в упор на беловолосую девочку лет восьми, сидевшую на коленях у мамы. Одета девочка была до того бедно, что Шурик даже усмехнулся. Какие-то потертые, с порванной местами кожей, сапоги, да и куртка облезлая. Он-то свою джинсовку специально в смоле испачкал, чтоб страшней была, чтоб больше жалели. А здесь перед ним сидела такая бедность! У матери девочки правая рука была перевязана грязным бинтом, и виднелись ногти с почти облезшим лаком. Ногти были тупые.
Девочка вертелась, оглядываясь по сторонам, то и дело спрашивая что-то у матери, а та в ответ лишь отнекивалась.
На своей остановке Шурик вышел из троллейбуса, постоял немного, потом зашел за павильон с игровыми автоматами и закурил последнюю сигарету.
Воздух и темное небо усиливали ощущение безысходности, заставляли острее почувствовать бессмысленность жизни. Радости от жизни не было совсем. Почему-то казалось, что вот так и придется просуществовать до смерти.
Затоптав сигарету, Шурик пошел к своему дому.
Ему очень хотелось раздобыть где-нибудь денег и доказать этому деду Василию, что он может быть настоящим попрошайкой. Дед в это не верил, не видел он в Шурике мастера. Но мальчишке не терпелось поменять свою надоевшую жизнь. Он старался, а его взяли и прогнали. Возвращаться туда можно было только с деньгами, и немалыми, иначе будут бить.
Мимо Шурика медленно проехал, блестя свеженькой краской, широкий «джип».
Машина вдруг остановилась.
Из нее вылез мужчина в сером костюме с полуразвязанным галстуком, сунул одну руку в карман брюк и недовольным голосом сказал Шурику:
– Ты чего здесь бродишь?
Шурик остановился и на мгновение задумался, что-то промелькнуло в его глазах, сразу заработала мысль, он даже удивился, что раньше до этого не додумался. Но он же хотел решить для себя задачу по-настоящему.
А сейчас Шурик вдруг понял, чем он может отличиться – хотя бы один раз.
Он приветливо улыбнулся и подбежал к мужчине.
– Папа, – сказал он, – я согласен все вернуть обратно. Теперь можешь опять выдавать мне деньги. Ты прав.
– Ну, вот видишь! – обрадовался мужчина. – Я же говорю: каждому свое! Не все ведь равны – что дано, то дано!
Он обнял сына, посадил его в машину, и они, проехав метров двадцать, остановились у своего подъезда.
– Ну, что самостоятельный мой, – дружелюбно юморил отец, – не можешь без папки?
Шурик хитро моргнул и опустил голову. Он сжал губы и осторожно, чтобы не видел отец, скрестил пальцы за спиной. Так и пришел домой…
На следующий день дед Василий ставил в пример удачу Шурика перед своей командой. Ребята переглядывались и тихо завидовали…...22–23.04.01
Пыль и песокВокруг автобусной остановки – тишина. Только поздние прохожие, спеша, заглядывают в расписание и, убедившись, что автобусов не будет, идут домой пешком.
Фонарь, стоящий рядом, мутно подсвечивает каких-то мотыльков, мошкару, с непонятной назойливостью крутящуюся около света, будто ее туда магнитом тянет.
Денис и Света целуются в темноте железного павильона остановки. Долгая прогулка завершается, а им никак не расстаться. Тень от крыши скрывает их от посторонних глаз – от тех, кто проходит или проезжает мимо.
Ночь подбирается ближе и летним своим безветрием и влажностью расслабляет тела, разгоняет усталые мысли, пробуждает желания.
Звуки крепких поцелуев сочны, объятья нежны, голова идет кругом.
– Сегодня нельзя, – шепчет Света, – сегодня никак нельзя.
– А когда можно? – сдерживать себя Денису нелегко, руки его нацелены на определенные действия. – Когда можно? Когда, наконец, станет можно?
Он ощущает Светин трепет, глаза его начинают лихорадочно блестеть.
– Не могу я так сразу, – умоляет Света, – не заводи меня. К тому же…
– Да, да, – Денис отпускает ее, – я понимаю, вечная тема…
Наступает тревожное молчание, в котором таятся осуждение и страсть, нежелание расставаться и опасения возможных последствий.
– Подумаешь, – возобновляет разговор Денис, – можно же ко мне пойти. Отец все равно в стельку.
– Я Борису обещала, – Света опускается на торчащий кусок сломанной скамейки, – я не могу его обманывать опять.
Денис поворачивает голову и видит горящие окна в доме у дороги.
– Ну, пойдем, я все расскажу, – храбрится он, – в конце концов, тебе это нужно, не мне.
– Нет! – отказывается Света. – Он не поймет.
– Что он, дурак? – смеется Денис. – Каждый день за полночь возвращаешься. Ничем не интересуется?
Света встает, обхватывает шею Дениса руками, и они опять целуются.
– Нет, ты погоди, – отстраняет ее Денис, – погоди. Сколько же можно издеваться? Я таких отношений не понимаю. Надо все по правде.
– Денис, – Света расстроена, – Денис, дорогой, этот разговор пустой. Ну не могу я пока что, не могу.
Денис неожиданно выскакивает из тени павильона и обходит его вокруг, затем появляется в свете фонаря и рассержено говорит:
– За этот месяц я бы мог уже десяток в постель уложить, а ведь кручусь вокруг тебя! Я же не деревянный чурбан! Мне бабу нужно! У меня от воздержания уже мозги ничего не соображают.
– Подожди немного, – успокаивает Света, – я решусь, мне время надо.
Денис садится на край скамейки и смотрит на Свету. Взгляд его дрожит, в глазах сверкает злая ирония.
– Время ей надо! – злиться он. – Что ж ты меня вокруг пальца-то водишь? Или я не понимаю, думаешь?! Играешь мною! Наверно, и Никитиным тоже… Вчера вы с ним очень мило беседовали в рекреации…
– Ты что! – возмущается Света. – Мы обсуждали план работы на сентябрь – ты же знаешь, сколько у меня конкурсов. Все школы мне одной не объехать. А он со мной в паре работает.
– Работает, – передразнивает ее Денис, – руками по спине.
– Да что ты такое говоришь? – вскрикивает Света. – Это действительно работа. Почему я докладывать тебе что-то должна? Кто ты вообще такой?
Она порывается уйти, но Денис ловит ее за руку и притягивает к себе.
– Вот как ты заговорила, то-то на работе от меня прячешься, – сквозь зубы цедит он. – Да весь уже наш Дом творчества в курсе.
– Откуда? – голос Светы делается стальным, она вырывает свою руку из ладони Дениса. – Все твой бабский язык!
– А чего скрывать! – кричит в ответ Денис. – Или есть тебе, что скрывать?
– Я с Борисом туда прихожу, дурак! – Света сжимает кулаки и трясет ими перед носом Дениса. – Какая-нибудь добрая тетя расскажет ему, он мне в жизни не простит!
– Ну и что? – Денис с силой опускает ее кулаки вниз. – В чем проблема, я не понимаю… Я тебе нужен, скажи?
– Нужен, нужен, – у Светы раздуваются ноздри носа. – Нужен!
– Ну вот, так в чем дело-то? – упрямо продолжает Денис. – Пойдем, я с ним поговорю.
– Никогда! – Света отворачивается от Дениса. – Я сама должна, иначе для него это будет как удар в спину.
– Тьфу! – сплевывает Денис. – Ну и живите, как хотите! Только время трачу зря. Пойду Лободниковой звонить, ей ничего не стоит…
Света поворачивает к Денису измученное лицо.
– Тебе не стыдно? – убитым голосом говорит она. – Что же ты мне душу травишь… Ты же знаешь, как я боюсь, что так и произойдет… Я же тебе говорила об этом сама… Что же ты это используешь?.. Ты, такой ласковый всегда, теперь бьешь меня этим…
Она плачет, но Денис не трогает ее. Ему неловко, и как действовать дальше, он не знает. Топчется только на месте и беззвучно шевелит губами. Слова не идут с языка, а мысли все перепутались, но все равно – что-то ведь надо говорить.
– Случайно, – выдавливает он, – просто неожиданно и случайно, опять же…
Хочется ее обнять, ласкать и целовать, но руки бессильно висят, как ненужное приложение к здоровому телу, гудящему и дрожащему. Щеки Дениса красны.
– Никакого от тебя сочувствия, – бормочет Света. – Только одно тебе и надо, что переспать… Мне уже сорок почти…
Услышав это, Денис замер, потом вытянул лицо и отскочил к стене павильона.
– Не знал? – рассмеялась Света. – Что, испугался? Да, это так… Непохоже? Значит, хорошо сохранилась!.. Да успокойся ты!
– Ты почему мне не сказала? – истерично взвизгнул он. – Ты же мне в матери… Вот почему ты меня стесняешься, вот почему тебе стыдно…
– Да не стыдно мне, – Света подхватила его руку и прижала к своей груди. – Не хочу я, чтобы в жизнь мою лезли! Неужели тебе не все равно, сколько мне лет? Если любишь…
Неожиданный поворот судьбы своей нестерпимой прямотой и жестокостью кувыркнул Дениса через голову.
– Но если тебе почти сорок, – рассуждал он, – так чего же ты выпендриваешься?
Света усмехнулась. Лев превратился в комара, осталось только прихлопнуть.
– Ты что же думаешь, я должна к тебе в постель прыгать, раз так? – сказала она. – Что же, у меня, думаешь, только это в голове?
– Боишься ты, что не поймут тебя! – упрекнул Денис. – Вот почему они смеются надо мной, а ведь никто не выдал твой возраст…
– Смеются они, Денис, потому что смешно на тебя смотреть, – Света обезоруживала его своей прямотой. – Смешно смотреть на здорового, молодого мужика, который у теток пожилых на побегушках… Местечко себе высиживаешь тепленькое, заместитель ты наш…
– Ого, – Денис обессилел, – завидуешь…
От тягостных раздумий ушло из тела приятное тепло, заменилось тревожным ознобом предчувствия окончательного расставания. Казалось, сыпется вокруг пыль и песок, покрывая воздух непроходимой духотой.
Денис поднял глаза и наткнулся на насмешливый и победный взгляд Светы.
– Вот видишь, – она стала уже безразличным тоном. – Какая теперь постель, когда ты, как затравленный зверек?.. А вид создаешь крутого и могучего. Ладно, иди вон. Постарайся не доставать меня…
Денис ненавидящим взглядом уткнулся в Светин лоб. Он готов был броситься на нее, причинить боль.
В доме через дорогу хлопнула дверь, и мальчишеский голос о чем-то говорил, ему отвечал мужской баритон.
Света пригнулась и отпрыгнула в тень павильона.
– Бориска, – нервно прошептала она и сжала руку Дениса, – черт, они ведь и сюда могут зайти… Чего это они гуляют в такую позднь?
– А кто это с ним? – все еще не веря своим глазам, спросил Денис. – Что за мужик?
Его колотило до остервенения, и он бы закричал, если бы мог.
– Вернулся он неделю назад, – объяснила Света, – папа Борискин.
– Ах, вот оно что! – громко рассмеялся Денис. – Так чего же ты чушь-то всякую несла?..
Он вышел из тени и направился к сыну и мужу Светы.
Проходя мимо них, Денис остановился и, наклонившись, потрепал Бориса по голове.
– Ну, здравствуй, Борька! – приветливо сказал он. – Как мама поживает?
Боря протянул руку Денису и сказал:
– Вот, папа, познакомься – это тот самый мамин ухажер…
Денис бросился бежать по шоссе, громко хлопая сандалиями. Оборачиваться он боялся, хотя чувствовал, что никто за ним не гонится…
Началась душная летняя ночь, радости и горести засыпали, дожидаясь завтрашнего дня.
Темно было и страшно, словно весь мир залез под одеяло с головой…
...10.08.01
СопровождающийЗа углом торговали свежей рыбешкой.
Виртухов долго сворачивал носовой платок, пытаясь найти на нем чистое место. Простуда так и лезла из него, изрядно натирая ноздри.
Крикливая продавщица рыбы поругивалась и обсчитывала покупателей. Виртухов устал слушать ее плаксивую ругань и, выйдя из-за угла, прошелся по солнечной стороне проспекта к цветочному киоску. К нему тут же пристала цветочница, упрашивая купить цветы. Виртухов скривился и раздраженно замотал головой.
Дождаться эту чертову Лену оказалось ой каким противным и несносным делом. Зашла к подруге на две минуты, а уже сорок прошло.
Виртухов покашлял и завернул в пышечную. Здесь вообще стояла невыносимая духота, и пот выступил в секунду. Однако Виртухов тут же понял ценность этой процедуры для своего здоровья. К тому же из пышечной все видно, и можно было обождать прямо здесь. Кто-то тут курил, потому что простуженное горло сразу же почувствовало горечь, а забитый нос защекотало.
– Дайте мне пять пышек и кофе, – еле сдерживая недовольство, попросил Виртухов у смазливой девицы в зеленом фартуке.
Она положила пышки, процедила пудру и ткнула стакан под кран кофейного бачка. Оттуда полилась грязновато-серая жидкость, почти без пара. Потом девица что-то буркнула сквозь зубы, исподлобья глянула на Виртухова и бросила сдачу на тарелку.
«Вот рожа, – подумал тут же Виртухов, – хайло неподобранное, прости, господи. Руки-то, руки-то какие!»
Руки у нее действительно были грязные, жирные, с толстыми пальцами, словно набухшими от непонятной болезни.
Встав за длинный столик, Виртухов глотнул кофе. И тут же мерзкая жидкость встала поперек горла и ни за что не проходила вовнутрь.
– Скандалить не хочу, – уговаривая самого себя, прошептал Виртухов, – не дождетесь!
У него сегодня складывалось такое впечатление, что все с ним идут на конфликт, все его ненавидят, в чем-то подозревают и поэтому делают всякие гадости. Все было против него. Даже недопеченные пышки.
– Да, что же она там, утонула, что ли? – шептал Виртухов, втискивая в рот сладкое тягучее тесто.
Рядом с ним чавкала женщина лет сорока, чавкала и фыркала, запивая пышку, крутила головой во все стороны и строила Виртухову глазки.
«Ой, ну и рожа, – глядя на женщину, рассуждал Виртухов про себя, – ну, чего зыришь?! Боже ж ты мой! Сколько ж уродов-то за один день!»
Женщина расчавкалась так, что лицо ее стало напоминать Виртухову в слоеный пирожок, только что надкушенный.
Кофе был холодный, несладкий почти, а настроение становилось все злобнее и злобнее.
«Где эта дура? – возмущался Виртухов. – Две минуты давным-давно прошли. Скотина!»
Он уперся взглядом в дверь, из которой должна была выйти Лена, и принялся считать – сначала до десяти, потом до шестидесяти, потом до ста. В какую она пошла квартиру, он не знал, даже этажа не знал.
Стоящая рядом женщина поперхнулась и закашлялась; она так давилась, что Виртухов, посмотрев на нее, с отвращением отвернулся и только слушал кашель и хрип.
– Ударить тебя, что ли? – вдруг заорал он и обернулся.
Женщина закивала головой и, Виртухов подскочив к ней, треснул ее по спине так, что женщина от удара ткнулась головой в стол.
– Вы что? – заныла она. – Чокнулись?
– Зато кряхтеть перестала! – дурным голосом буркнул Виртухов.
Женщина покрутила пальцем около виска, поправила волосы, кофточку и юбку, надула губы и вышла из пышечной. Продавщица за спиной Виртухова как-то насмешливо хрюкнула.
Он повернулся к ней лицом и подошел к прилавку.
Хотелось скандала, крика – вообще было большое желание перебить всю посуду и дать этой девице в зеленом фартуке в нос.
Но оттого, что Виртухов все еще сдерживал себя, чтобы не разругаться, его движениям не хватало целенаправленности.
Он подошел к прилавку именно в тот момент, когда в голове уже появилось желание не подходить. Поэтому, обрубив свое движение около кофейного бачка, он заложил вираж, его занесло и плечом ткнуло в этот самый бачок.
Девица в фартуке сначала испуганно вскрикнула, но когда увидела, что Виртухов хватает падающий бачок, вдруг стала хохотать в полный голос. Хорошо, что бачок был почти холодный.
Виртухов, чертыхнувшись, вышел на улицу.
Солнце одурело и пекло как будто специально слишком сильно и зло.
Лена уже стояла там, где договорились – за углом у газетного стенда, в руке она держала голубую кофту, а глаза, как всегда, слегка косили от волнения.
У Виртухова уже не было сил выяснять отношения, он только подошел к Лене, тяжело вздохнул, зажмурил глаза и потрепал ее по волосам. Она сразу же затараторила, ее писклявый голос почему-то тоже вонзился в голову Виртухова новым невыносимым раздражителем, и вновь показалось ему, что мир ополчился на него.
– Дедушка, – пищала Лена, – Дина говорит, что Стасик ей вчера звонил, чтобы она мне передала, что он не сможет со мной пойти, потому что уезжает в деревню и чтобы я сама как-то… а он позвонит ректору и попросит.
– Да обманул тебя твой Стасик, – зловеще сказал Виртухов, – попользовался и обманул! Репетировали вы! Чего он тебе еще наобещал? Репетитор!
– Нет, дедушка, он хороший! Просто обстоятельства! – уже чуть не плача, протянула Лена.
– Обстоятельства?! Кто эта Дина? – резко спросил Виртухов.
– Мы вместе поступаем. Она просто со Стасиком виделась один раз, вот он ей и позвонил, а она мне! – трещала Лена.
– Стасик! А чего же он тебе не позвонил? – буркнул Виртухов.
– Не знаю! – сказала Лена, и слезы резкими стрелочками выскочили из ее глаз, побежали-понеслись по щекам. – Он же обещал, что поможет! Если я соглашусь! Обещал ведь!
Она ныла и чуть попискивала. Виртухову стало плохо, гадко и абсолютно тошно. Пышечный привкус разгуливал где-то около горла. Нос забит был так, что оставалось только чихнуть. И он чихнул. Два раза.
– Ты не беременная, часом? – безразлично спросил Виртухов, вытягивая глаза вверх и протирая платком нос, подбородок и жирные еще от пышек губы.
Он уже все понял и спросил об этом так, на всякий случай, чтобы уберечься хоть от этой напасти.
Лена замолчала и почти непонимающе смотрела на Виртухова. Создавалось впечатление, что произнесенная дедушкой фраза не сходилась с ее пониманием, мыслями и представлениями. Она смотрела на дедушку так, как будто он сказал ей что-то новое, то, о чем она слышала в первый раз.
– Ну, чего молчишь? – крикнул Виртухов. – Неужто и вправду? Вот дуреха-то!
Лена опустила голову и посмотрела на свои толстые туфли, которые отблескивали лакировкой. На одной туфле, сбоку, чуть сморщилась кожа так, что стало похоже на прищуренный глаз. Эта похожесть, да новое открытие, да сопливый дедушка, да полная наивность вдруг всплыли разом в голове Лены, соединились вместе и взорвались. И она закричала:
– Он меня бросил, дедушка!
Она схватила Виртухова за рубашку и резко потянула к себе, рубашка треснула. И, вконец доведенный идиотизмом внучки до бешенства, Виртухов вырвался из ее рук, сплюнул, завернул за угол и подошел к продавщице рыбы, которая все это время что-то выясняла и ругалась с надоевшей ей теткой в панаме.
Виртухов подошел к сложенным друг на друга ящикам с рыбой, посмотрел на блестящую чешуйку, взял в охапку кучку рыбной мелочи и запустил в продавщицу, потом поддел ногой верхний ящик и, пока ящики падали, быстро вернулся за угол, схватил внучку за руку и потащил за собой.
– Сейчас же к гинекологу пойдешь, дура! – крикнул он Лене. – Актриса чертова! И, если все нормально… вот, если все нормально только – никаких институтов, пока я жив! В деревню и на поле!
Он шел, орал на Лену, махал порванным рукавом рубашки и чувствовал, черт возьми, почему-то облегчение…...03.07.01
Такая, не такаяТолько что закончилась гроза.
Кто-то разбивает бутылку об асфальт.
Дорожка тянется, выкручиваясь вдоль заросших газонов и срубленных тополей. Всюду ветки.
Трещат кусты. Выползающие из укрытий дети несутся на игровую площадку. Возобновляются ругань и препирательства возле аттракционов.
Парк в центре города во всей своей красе продолжает удовлетворять потребности горожан в относительно свежем тенистом воздухе, неглубоких прудах и свободных скамейках.
На одной из них, на берегу пруда, почти у самого входа в парк, отдыхают две подружки, Дина и Юля. Они только что закончили свою работу и теперь сидят, болтают ногами и вообще болтают. Мокрые такие девушки, спокойные и сытые.
– Все-таки действительно, – убеждает Дину Юля, – Валерка – дурак, потому, что тебе не делает предложения.
– А я и не хочу, – Дина очень вальяжна, – зачем мне гири, и так хорошо.
Они рассматривают уток, двух бабушек в панамах, сидящих на другой скамейке – метрах в пятнадцати, и рыжего парня, покуривающего невдалеке от входа.
– Смешной он, – говорит Юля и достает из сумочки конфету.
– Я тоже покурю, – Дина закуривает. – Не люблю рыжих.
После грозы хорошо, дышится – легко, свободно; влажный воздух бодрит.
– Я вообще насквозь, – говорит Юля. – А ты?
Дина согласно моргает своими черными глазами и всматривается в рыжего парня.
– Он явно кого-то ждет, – пытается угадать она. – Очень уж ногой трясет.
– Ты красивая, – завидует Юля и достает из сумочки косметичку. – Ногти у тебя!.. Будешь краситься?
– Меня и так примут, – куражится Дина. – Сегодня я опоздаю на полчаса. Потому что вчера пришла вовремя.
Подруги смеются. Юля подкрашивается, Дина поправляет волосы и пытается убрать из уголка глаза маленький кусочек туши.
– Всегда попадает, – объясняет она, – вечная история… А мы сегодня на свадьбу идем. К Валеркиному другу.
Она улыбается, в памяти ее всплывают грустные глаза того друга. Он, видимо, сравнив Дину со своей невестой, очень расстроился.
– Она такая маленькая, – вспоминает Дина, – такие глаза у нее узкие-узкие. Что она ими видит? Лицо круглое, как блин.
Юля понимающе кивает, ее фигура отличается мягкостью и немалой шириной. Она невысока ростом и похожа на гирьку.
– Мне уже и не светит похудеть, – сокрушается она.
– Есть надо меньше! – упрекает Дина. – Вечно у тебя то конфетка, то булочка, то пирожное, то мороженое! Так мужика не прихватишь… И еще – чего ты всем в магазине улыбаешься, как дура? Мужики к нам приходят для своих баб косметику покупать. Они на нас не смотрят…
– Ну, как же! – перебивает Динин монолог Юля. – А Валерка?
– Так то я, а не ты! – смеется Дина. – Да и вообще, что такое Валерка? Водила, он и есть водила! Вот если бы юрист или какой-нибудь банкир!
Она мечтательно взмахивает рукой.
Юля убирает косметичку в сумочку. Так хорошо сидеть среди людей и слушать наставления настоящей красавицы!
– Мне бы хоть какого-нибудь! – упрашивает неизвестно кого Юля.
– А вот это ты брось – рассуждения «серой мышки»: схватить первого попавшегося и прилипнуть! – Дина явно недовольна подругой. – Надо выбирать, дорогая моя, долго и придирчиво… А то попадется какая-нибудь пьянь или того хуже, бездельник! Содержи его потом! А ведь сердцем прибьешься, не отцепишься!
– Какая ты умная! – чуть не плача говорит Юля.
Прудик покачивается от плавных движений уток. Рыжий парень подсаживается на скамейку к бабушкам, и те вдруг начинают веселиться, даже поправляют платья и панамы.
– Видала, что такое мужик! – восклицает Юля, увидев это. – Господи, помоги, а?
Она прищурила один глаз, а вторым глядит на небо. Там местами облачка, а так очень даже все синее и спокойное.
– Ну, ты прямо как милостыню просишь, – сердится Дина. – Еще на панель пойди – может, кто и возьмет… Это все не так надо… А парень этот противный…
Ей становится скучно с Юлей, но и на встречу к метро идти еще рано, надо держать марку.
Бабушки, сидящие напротив, чего-то все смеются и громко говорят, а рыжий парень не смотрит на них, он смотрит на ворота парка.
– Да, – вздыхает Юля, – почему мне так не везет? Страшная я!
Ее губки чмокают, и яркая помада как бы с трудом позволяет открыть рот, ложась легкой пленочкой и чуть разрываясь вдоль ленточки соединения губ. Толстый носик плавает из стороны в сторону, словно желая уследить за входящими в парк и провожая их. Глазки бегают вверх-вниз, вправо-влево, отчего устают веки под тяжестью синей туши на длинных ресницах.
– Только не хнычь! – просит Дина. – Надоело слушать плаканья твои. Делайте что-нибудь, и вас заметят, а то привыкли все на подносике получать.
– А что я получала на подносике? – вдруг строптиво перебила ее Юля.
– Что? – Дина приподняла брови от неожиданного всплеска чувств. – Последи за речью!
– Нет, а вот что это я получала? – еще горячее спросила Юля.
– А ты не шуми! – остепенила ее Дина. – Больно борзая!
– Это я борзая? – Юля вскочила на ноги. – Я только и слышу, какая я такая не такая! А ты-то какая?
Дина ошалело посмотрела на Юлю и затрясла головой, пытаясь подстроиться под новую ситуацию.
– Чего ты прыгаешь, корова? – грубо сказала она. – Сядь, мартышка, и не ори! В зеркало надо чаще смотреться! Больше знать о себе будешь…
Замешательство Юли длится минуту, потом она садится на свое место и бросает взгляд то на траву, то на Дину. Обида на подругу не то чтобы разозлила ее, просто ей вдруг стало страшно оттого, что рядом с Диной она как пустое место.
– То, что я некрасивая, – сказала Юля, помолчав, – еще не значит, что я плохая.
– А кто знает, какая ты? – усмехается в ответ Дина. – Кто узнает, если никто не подходит? Товарный вид на нуле.
Она и сама не понимает сейчас, зачем все больше и больше обижает подругу, подбирая самые ранящие сердце одинокой девушки прозвища.
– Было бы по-другому, – поясняет она, – не я бы тебя учила, а ты меня.
– Ну и что, – голос Юли совсем несчастный, – ну и что? Но я же человек!
– Поди расскажи кому об этом, – ирония у Дины бьет уже через край, – чего-то никто не хочет быть с человеком, хотят быть с красивой женщиной.
Юля прикусывает губу и сдерживает слезы, достает из сумочки носовой платочек и держит его наготове.
– Дина, – говорит она, – почему ты такая злая?
– Я не злая, – отвечает Дина, – я справедливая.
Утки плещутся в пруду, вокруг гуляют влюбленные и ненавидящие, старые и молодые, бегают маленькие смешные собачки. А бабушки в панамах тоже рассорились, сидят на противоположных концах скамейки и смотрят в разные стороны. Рыжий парень стоит у ворот парка, нервно переминается с ноги на ногу.
– Вот бедняга, – глядя на него, рассуждает Дина. – Сейчас какая-нибудь выдра придет, а он волнуется, будто королеву ждет.
– А по-моему, он хороший парень, – защищает рыжего Юля. – Меня бы так кто-нибудь ждал…
– Да брось ты, – морщится Дина. – Чего там в нем хорошего? Обыкновенный, как все.
Ей смешно и в тоже время тошно от всего вокруг и оттого, что происходит рядом.
Рыжий парень вдруг взял, да и быстро ушел из парка через ворота.
– Ой, – воскликнула Дина, – не дождался! Слабак! А она правильно сделала, что не пришла. Так ему и надо!
– Тебя вообще-то Валера ждет, – напоминает Юля. – Волнуется, наверное…
– Паузу надо держать до конца, – жестко отвечает Дина. – Раз решила, значит, так и сделаю.
В воротах опять появился рыжий, он стремительно шел по дорожке парка, а за ним торопясь, семенила тоненькая девушка, такая же рыжая, и что-то объясняла ему в спину; он не оборачивался.
– Вот ненормальная, – хихикнула Дина, – где гордость-то? Подумаешь, постоял немного, что ж так унижаться?
Она встала, поправила свою коротенькую юбку и сказала:
– Ну, пошли.
Подруги направились к метро. Идти надо было минут десять. И все это время они молчали, даже смотрели только под ноги…
Валера ее ждал. Только его покачивало слегка. Дыхнув сложным перегаром, в котором чувствовались самые разнообразные напитки, он возмутился:
– Я тут, видите ли, стою! Она там, знаешь ли, ходит! Я не понял вообще, кто здесь кто? Здравствуйте, Юля!
Он кивнул головой и подбородком задел Юлин нос, но не больно.
– Лерочка, – просительно заголосила Дина, – прости, пожалуйста! Что с тобой?
– Праздник, знаешь ли! – он криво улыбнулся. – За опоздание штрафные полагаются.
Дина взяла его за локоть, нежно поправила ему сбившиеся волосы и ласково сказала:
– Мы пойдем, Юленька, ладно? Нам уже пора.
Валера косо посмотрел на Дину, впился губами в ее щеку, громко чмокнул, икнул и пробормотал:
– Я больше тебя ждать так долго не буду! Что, мало девчонок что ли? Я, знаешь ли, не в состоянии столько пить! Я теперь решил: опоздание на пять минут – бутылка пива! Слушай, а где здесь туалет?
– Конечно, конечно, – Дина быстро закивала головой и потащила его от метро в узкий переулок, махая подруге рукой.
Юля осталась стоять. От удивления она онемела и сдвинуть себя с места не могла. Глаза буквально вывалились наружу, а рот широко открылся.
– Девушка, – рядом с ней стоял синеглазый, аккуратно побритый брюнет, – вам плохо? Давайте, я вас мороженым угощу?
Перед носом Юли возник блестящий четырехугольник на палочке, от которого тянуло приятным холодком…
...10.08.01
В театрСубботний вечер. Теплая апрельская погода предполагает долгую хорошую прогулку на воздухе, но Анатолий и Тамара собираются в театр. Наконец-то они нашли время, чтобы выбраться в центр.
До спектакля еще два часа, и супруги снуют по квартире в поисках нужных им обоим вещей. Тамара примеряет разные наряды, а Анатолий, побрившись и одевшись, сидит то у телевизора, то на кухне.
Спокойный мирный вечер без ссор и ругани начинается.
Копошащаяся и бурчащая чего-то себе под нос жена через некоторое время вынуждает мужа нервно постукивать пальцами по кухонному столу.
– Ну, скоро ты уже? – ворчит Анатолий.
Тусклые глаза его разглядывают давно не вытиравшийся стол: жирные пятна разбросаны по нему; сжившись с поверхностью, они превратились в естественный узор.
Желания идти в театр с женой у Анатолия мало, но чтобы не перечить ей, он согласился. Тем более что однообразное существование надоело ему страшно. Раньше он в выходные хоть из дому исчезал, но, как только поссорился с любовницей, пойти стало некуда, а видеть все время одну и ту же женщину ему тяжело. Поход в театр для него хоть какое-то разнообразие, а так – он не любитель искусства.
Тамара появляется на кухне в розовом платье, облегающем ее неровные телесные формы. Это платье ей, как назло, совсем не идет.
– Ты бы, – морщится Анатолий, – может, другого цвета надела бы что-нибудь? И так розовая, да еще и это! А?
– Господи! – отвечает жена. – Дай хоть раз в жизни девушкой побыть молодой!
Тяжелая и широкая ступня Тамары пытается втиснуться в узкие изящные туфельки.
– Где ты эти туфли-то нашла? – с испугом спрашивает Анатолий, боясь, что сейчас эта не подходящая для Тамариной ноги обувь порвется.
– Эльвира дала! – отвечает довольная своим видом жена. – Это же мой размер. Господи, не лезут! Что делать? Вот паразитка!
Тамара долго возмущается, потом все-таки втискивается в туфлю.
– Надо было тебе рожать тогда! – неожиданно после раздумья говорит муж. – Худая бы была!
– Поговори у меня! – замахивается Тамара на Анатолия, он резко отклоняется – на всякий случай. – Рожать! Это такая все-таки ответственность! Я вот на наших девиц смотрю: запуганные, вечно бегают, звонят – что там дома, как девочки-мальчики у них? Все чего-то обсуждают. Ой, а болезни! Себя бы вылечить!
Анатолий закатывает глаза. Такие речи жены он слышит уже пятнадцать лет, и ничего не меняется.
– У нас Оксанка-то Семинишина, – продолжает Тамара, – своего Валерку в бассейн повела – воспаление легких, вот теперь мается! А у других чего только не бывает.
– Ну, все же живая душа была бы, – почти неслышно произносит муж.
Тамара, зыркнув на него, сжимает губы.
– Душевный ты мой! – говорит она. – Заработай на ребенка сначала, покажи мне, что хочешь его, я тогда подумаю.
– Куда уж теперь думать, – вздыхает Анатолий, – поздно! Ладно, пошли-ка, пропустим по стаканчику.
Он уходит в комнату, потом возвращается на кухню, в руках у него бутылка дешевого крепленого вина и два бокала.
Анатолий смотрит в пол и краешком глаза видит здоровенную коленку жены в черном чулке, ему становится что-то совсем нехорошо.
Они выпивают по бокалу. Крепкая жидкость растворяет угрызения совести.
– А если бы ты не выпивал, было бы еще лучше! Вот и родила бы, понимаешь? – осуждающе говорит Тамара.
Анатолий, наливая вино, кивает головой.
– Ну, я же не пьянь подзаборная! Вообще-то я, между прочим, конструктор! Без которого бюро встанет! – говорит он, отпивая из своего бокала.
– Лучше б ты работу нашел, а не в бюро своем сопел! – рассуждает Тамара, заглядывая в мусорное ведро. – Ведро тебе даже не вынести, конструктор!
Их мягкая перебранка длится до конца бутылки, после чего Анатолий чувствует, что ему надо добавить, но не решается, потому что знает, чем это кончится.
– Мы не опоздаем? – слегка повеселевшим голосом спрашивает Тамара.
– Нет, – угрюмо отвечает муж. От желания выпить еще и от нетерпения он начинает злиться.
Полное лицо жены расширяется перед его глазами, намазанные румянами щеки выводят из себя. Желая, но не исполняя желаемое, Анатолий тянет время.
– Ну, пойдем что ли? – говорит Тамара.
– А вот скажи мне, Тамарочка! – немного лебезящим тоном говорит муж. – Вот у вас в суде есть хоть одна красивая баба? Или судят только страшные, чтоб боялись?
Тамара хмурит брови и чуть ведет подбородком в сторону.
– Что ты имеешь в виду? – спрашивает она звенящим голосом.
– А то! – кричит Анатолий. – Есть у вас бабы нормальные или все такие тумбы, как ты?
Он тычет пальцем в сторону жены, задевает бокал – тот сразу же падает и разбивается.
Тамара краснеет, подбородок ее гуляет по шее и трясется, глаза сужаются, кулаки сжаты и приготовлены к бою.
Анатолий, увидев изменения в настроении жены, поспешно бежит в туалет, где и закрывается.
– Выходи! – кричит ему Тамара.
– Как тебе только позволяют судить-то? – отвечает муж, сидя в брюках на унитазе и закуривая сигарету без фильтра. – Тебе, которая без сердца! А? Как? Ответь!
Тамара долбит кулачищами в дверь и орет:
– Как ты смеешь мне такое говорить? Пьянь ты чертова!
Анатолий не отвечает.
Тамара садится на кухне, нервы бродят по ее телу и колышут его. Она осматривается и достает из шкафчика под раковиной пакет сока, в котором спрятаны ее запасы вина. Она пьет прямо из пакета.
– Пьянь! – причитает она. – Только выпьет и поносит! Я не имею… Я имею право на все! Я заслуженный человек! Я только по букве закона! А ты?! Бездельник! Двадцать лет – и ни одной лишней копейки! Дети ему нужны! Ты с собой-то разберись!
– А Вика хотела родить! – истошно кричит Анатолий из туалета.
Тамара от этих слов поперхнулась.
– Какая Вика? – закричала она и подбежала к двери туалета и опять забарабанила по ней. – Что еще за Вика?!
– Я пошутил! – испугавшись бешенства жены, ответил Анатолий. – Хотел проверить – любишь ли!
Оба они замолкают, каждый думает о своем.
Молчание длится минут пять. Потом Тамара говорит:
– Вылезай, дурень! Опоздаем ведь!
Выпитое вино еще больше подкрасило ее щеки и успокоило.
– Я тебя трогать не буду. Пошли, а? – зовет она мужа.
Анатолий открывает дверь и опасливо выглядывает. Тамара стоит перед ним и поправляет подпрыгнувшее на бедрах платье.
– Давай еще по стаканчику? – с надеждой спрашивает муж.
Жена неряшливо кивает взлохмаченной головой.
Вечер продолжается…
Утром они находят друг друга лежащими поперек дивана в праздничных измятых нарядах.
Хорошо, что воскресенье…...06.04.01
УзелокКофе варится медленно. Глаза уже устали следить за кривой улыбкой буфетчицы. Она вроде и не кокетничает, но выставляет вперед лицо, словно подавая себя на подносе. Как будто нарочно медлит. Сосновскому смешно, все женщины превратились для него в один моток старых шерстяных ниток, из которых он устал что-либо вязать из-за своего нетерпения.
– А чего вы здесь не видели? – ехидничает Сосновский. – Я что, так необычно выгляжу?
Буфетчица хмурит левый глаз, и щека ее покрывается морщинами.
– Ну так занимайтесь своим делом! – Сосновский теперь резок.
Кофе подается со стуком о стеклянный прилавок, сахару насыпается меньше, чем положено. Нос буфетчицы подергивается, она что-то еле слышно бормочет.
– Своему мужику будешь так подавать, – грубит Сосновский, – а я так пить не буду!
Странное противоречие нарастает в нем, а от презрительного взгляда буфетчицы вообще раздувается донельзя.
– Хам вы, Иннокентий! – только и вскрикивает она. – В мою смену больше не приходите! Пусть Валька вас обслуживает!
– Ничего, – отвечает Сосновский, – вы нашему институту принадлежите. Так что попрошу…
Он все-таки берет чашку с кофе и садится за пустой стол в сторонке. Теперь он чувствует себя неудобно: на самом деле эта девочка ни в чем не виновата, разве что косметика у нее излишне вульгарна, а вот ногти никак не гармонируют с бордовыми губами – последние вообще широкие и обкусанные.
Глупая тишина буфета и одиночество за столом все больше поворачивают состояние Сосновского ближе к панике. По душе лупит ливень невысказанных слов и бессмысленных чувств. А ожидание натужного разговора вводит его в испуг и тормошит нервы.
Галя приходит с Алексеем. Они сначала заказывают по стакану сока, а потом присаживаются к Сосновскому.
– Ну, – веселится Алексей, – чего звал?
Сосновский видит на лице своего голубоглазого друга полное доверие, а Галя лыбится рядом с ним и сияет, словно только что вымытая шампунем машина. Сосновский готовится говорить так, как будто перед ним экзаменаторы, а предмет он знает не шибко, почему старается ответить хотя бы приблизительно по теме.
– Друзья, – словно сбросив скорость, не торопясь, подъезжает он к нужной мысли. – Друзья, – повторенное слово висит над столиком и никаким боком не поворачивается, – хочу вас огорчить. Не нравится мне эта история.
Опушенные его глаза наблюдают движение пенки по кофейной глади.
– Ты же обещал! – восклицает Галя. – Мы же договорились!
– Я передумал! – утверждение Сосновского до зависти неумолимо.
– Ну, знаешь ли! – Алексей встает и выходит из кафе, у выхода договаривает. – Спасибо, блин, друг!
Галя и Сосновский долго смотрят в стол и поднимают глаза, не глядя друг на друга.
– А что я могу поделать? – говорит потом Сосновский. – Откуда же я знал, что это так больно?
Буфетчица роняет чашку за прилавком и тут же, причитая и извиняясь, начинает собирать осколки. Злая оса крутится возле тарелки с пирожными, и ее жужжание размазывает гудящую тишину буфета.
Галя почесывает подбородок и наблюдает за буфетчицей. Сосновский копается в карманах, потом бросает на стол ключи.
– Вот, – говорит он, – забирай! Мне теперь ни к чему.
– До чего же ты отвратительный тип, – цедит сквозь зубы Галя. – Только ты так можешь.
– Только вот без оскорблений, – начинает заводиться Сосновский. – Я не обязан, знаешь, никого слушать! Это вы придумали, вы и делайте или другого идиота ищите. НИИ наш большой. Вон сколько мужиков. А я не намерен.
Галя скептически сжимает уголок рта и надменно усмехается.
– Я всегда знала, что ты трус! – утверждает она. – Всего на свете боишься!
Наступает та самая минута, когда многое хочется, но никто ни на что не решается.
– Если честно, – с трудом вытаскивая из себя слова, говорит Сосновский, – я с ней разговаривал. И потому-то я против того, о чем вы меня просите. Мне кажется, женщина она хорошая, и я ее обижать не хочу. Вы как-нибудь сами.
– Она встала у нас поперек дороги! – вскрикивает Галя. – Встала, как стена! Это ты хотя бы понял?
– У нее свои аргументы, Галя, – успокаивает ее Сосновский, – и я ее понимаю.
– А нас? – резким тоном задает Галя весьма скользкий вопрос.
Сосновский останавливает свой взгляд на колючей улыбке буфетчицы. Теперь она ему кажется еще больше неприятной.
– Да все вы хороши! – говорит он. – И она тоже. Но ее правда честнее.
– Мы тебе, Кеша, доверились, – взяв ключи со стола, огорченно говорит Галя, а ты не смог сделать того, что всегда бесплатно делал. Тебе что, слабо ее соблазнить? Мы тебе даже Лешину машину на время дали. Да, я понимаю, старая, но еще ничего.
– Галя, – угрюмо спрашивает Сосновский, – а ты бы смогла сейчас со мной переспать?
– Ну, знаешь ли! – Галино лицо краснеет, но она не уходит, надежда плещется еще в ее глазах. – Я мужика из-за тебя потеряю.
– Да, елки-палки, не нужен ей никто, кроме Лехи! – голос Сосновского вздрагивает. – Тебе бы так любить!
Тусклые пятна появляются в блестящих зрачках Гали и, томясь, расширяются.
– И вообще, что я вам, игрушка что ли? Я тоже человек! – Сосновский вновь смотрит на буфетчицу; взгляд ее серьезен и почему-то кажется благожелательным. – Не хочу я человеку сердце переламывать. Странно тебе это слышать? Так вот, это произошло! Жалко мне ее, и все!
Галя недоверчиво косится на выпученные глаза Сосновского и опирается рукой о стол.
– От тебя требовалось всего-навсего ее соблазнить, – говорит она наставительно. – Сделать это так, как ты один умеешь, чтобы она Алексея забыла.
– Как это легко, оказывается, – ехидничает в ответ Сосновский. – Забыть! Ты-то пробовала, а? А меня вот черт дернул! Я словно очнулся, когда эту женщину увидел. И теперь я не понимаю, чего Лехе-то не хватает?
– Не будь сволочью! – Галя сердита. – Каждый завоевывает то, что по силам. И я все равно выиграю!
– Интересно будет посмотреть, – Сосновский смеется. – Она надеется и верит ему!
– И не отпускает! – кричит Галя.
– А он не мальчик, он и сам что-то должен решить! – Сосновскому совсем перестает нравиться этот разговор. – Взял бы и не ночевал у нее. К тебе ушел бы. Нет, он, как послушный ребенок, ровно в девять дома. Ты об этом подумала? Что это такое?
Тяжелый вздох Гали заглушает сопение Сосновского.
– Я и сама этого не понимаю. Я думала, что дело в ней! – говорит она. – Теперь вовсе концы с концами не сходятся.
В буфет возвращается Леша, садится снова за стол, берет стакан нетронутого сока и выпивает залпом.
– Ты его все равно не уговоришь, – говорит он Гале. – Этот же, как баран упрется, с места не сдвинуть! – он смотрит на друга и недружелюбно продолжает. – Ну, что тебе-то не так, дружочек?
– Я уже все Гале объяснил, – отвечает Сосновский, – с ней и разговаривай.
Сосновский встает, немного раздумывает и подходит к буфетчице.
– Олеся, – говорит он громко, – прости меня, ладно?
Краснеющее лицо Олеси сверкает победным румянцем и расплывается в принимающей в объятья улыбке.
– Спасибо, Иннокентий, – попискивает она. – Вас прямо не узнать.
Сосновский кланяется ей и, играя глазами, обещает:
– Я должен загладить! Выбирайте день и час!
Он разворачивается, не давая Олесе времени выбрать, и возвращается за свой столик.
– Ну, поговорили?
– Нет, – отвечает Леша, – мы представление твое наблюдали.
– Скажи мне, – Сосновский серьезен, – скажи мне, Леша, а хочешь ли ты того, что делаешь? Может быть, тебе и так хорошо?
– Вот еще судья! – возмущается Леша. – Зачем я тебя тогда вообще просил?!
– А это не ты просил, – Сосновский допивает остывший кофе и показывает на Галю, – это же она просила.
Леша неожиданно теряется, вся его напускная важность сползает, как сгущенное молоко с ложки. Галя молчит, ее сознание соединяет факты и результат, и видно, что она начинает сомневаться в чем-то и в ком-то.
– Что она тебе там наговорила? – Леша все еще пытается быть солидным. – Я бы на твоем месте не верил.
– Я не девушка – верить или не верить, – Сосновский до умопомрачения спокоен. – Это вот Гале вера нужна. Ну не буду же я дружбу-то разбивать.
– Нет уж, – Алексей встает, – что ты имеешь в виду, говори при Гале. Я не боюсь.
– Ладно, ты сам просил, – Сосновский тоже встает. – Первым делом, прости за резкие движения!
Он тут же дает другу пощечину. Алексей дергается, поднимает кулак, чтобы дать сдачи, но останавливается, видя, что Сосновский открыто на него смотрит и не защищается. Галя сидит отстраненно. Она начинает тоскливо подвывать, тихо-тихо.
– Ну, говори, говори, – голос Алексея жесток. – Говори, за что ударил? Раз уж начал, теперь не имеешь права останавливаться! Иначе получишь!
Сосновский чешет нос и, как бы выдергивая нервы друга, тянет паузу до конца.
– Леша, – говорит он потом, – ты же на прошлой неделе с той женщиной расписался же, так?
Галя быстро вскакивает, хочет выбежать из кафе, но цепляется за стол, а Леша успевает схватить ее.
– Не слушай его, – громко шепчет он, – это неправда.
– Да? – всхлипывает Галя. – Покажи паспорт!
– Я его потерял, – отвечает Леша.
Галя пытается вырваться из его рук, ее бьет неожиданная истерика.
– Отпусти ты ее, – просит Сосновский. – Ей же плохо, дурак!
Галя убегает из кафе.
Сосновский и Леша стоят друг против друга и щурят глаза. Буфетчица вся сжалась, наблюдая за ними, она чувствует приближение драки. Алексей вдруг смеется и хлопает Сосновского по плечу, потом садится за стол.
– Ладно, молодец, друг, – говорит он. – Садись, договорим.
Сосновский недоуменно присаживается.
– Не мог же я ей сам сказать, – продолжает Леша, – в конце концов, Бог правду любит! А эта ее придумка с соблазнением…а, ну и хрен с ним! Я все пустил на самотек специально…
Сквозь наступившую дурную тишину вдруг слышится голос буфетчицы, который словно сыплется мелкой щебенкой на крупные волны:
– Алексей, попрошу тебя в мою смену в буфет не заходить больше… я тебя обслуживать не буду!
Сосновский встает из-за стола, и в голове его начинают печально бренчать осколки былой дружбы…
...07.10.01
ФараРазбросанные вещи повсюду.
Раскрытый чемодан лежит на полу, рядом с опрокинутой вазой, из которой вода растеклась холодной лужицей и просочилась в щелки паркета.
Шум в ванной напоминает о прошедших неделях, полных теплого моря, короткой любви и резкого расставания.
Пустота своего дома очевидна и как будто вечна.
…А прожитые тридцать лет, в нетронутом раньше жестокосердии и долгом одиночестве, нарушены романтической иглой приключений с неожиданным финалом…
Ирина выходит из ванной в черных тапочках и… в тоске.
…Ничего не получилось из того, что хотелось, ничего не досталось из того, что само шло в руки – а все из-за ее упрямого характера. Алексей женат, и те две недели, которые Ирина провела с ним на юге, ничего в этом не изменили.
А знакомство было шикарное: и жили они, оказывается, в одном городе, и ехали, оказывается, в отпуск в одном поезде, – но нашли друг друга только на балконе гостиницы, номера тоже оказались по соседству.
Теплая постель, долгие бессонные ночи с первым мужчиной в ее жизни…
Надо поднять вазу, вытереть пол, надо разобрать вещи, убрать чемодан на антресоли и продолжать плыть по течению.
Но чувственность уже проснулась. Только он не оставил ей ни телефона, ни адреса своего.
И опять трудные ночи, ворочанье на диване, комканье простыни и взбивание подушки. Опять нарочитое выдавливание из себя счастливой жизни для сослуживцев. А ведь все у нее есть, одного только нет – его.
Леша – художник, вот на дне чемодана ее портрет, ее первый портрет.
…Она ведь вложила в свое чувство все то, что могла. Как будто он ее сын, они везде ходили с ним, взявшись за руки. Она дарила ему всю свою любовь и… себя за любовь. И это было что-то такое, о чем она не догадывалась, когда разглядывала своих кассиров и охранников, менеджеров и просто курьеров. Ей, коммерческому директору фирмы, все было под силу, только вот внешность давала сбой, провинциальная юность не одарила ее умением подать себя. А Леша обратил внимание и увлек…
Квартира убрана, и поздний вечер в одиночестве… Что делать ей одной теперь, когда сердце не может смириться с отказом Алексея?
Почему же он остался с женой?
Почему же Ирина, отдавая ему все, не смогла удержать его рядом с собой?
Она услышала вдруг ор сигнализации – это ее машина звала на помощь, просто выла, как сумасшедшая, потерянная собака.
Выглянув в окно, Ирина увидела, что рядом с белым «фордом» копошится какая-то старушка.
Ира побежала вниз.
Действительно старуха пыталась отколупать фару.
– Бабушка! – крикнула она подбегая. – Это моя машина!
Старушка остановилась и замерла, словно замороженная, даже согнулась еще больше.
– Я вам говорю, – Ирина подошла ближе, ей было как-то неудобно хватать за шкирку пожилого человека, поэтому она просто присела.
Платок на голове старушки был не по-летнему шерстяной.
– Фара-то вам зачем? – спросила Ира и почувствовала приторный противный запах.
Старуха молчала и не двигалась.
– Милицию вызвать? – морща лицо, Ирина дотронулась до плеча бабушки рукой, та упала сразу набок и лежала в такой же позе, что и стояла.
– Что с вами? – вскрикнула Ирина, ей совсем не хотелось решать чужие проблемы.
Но, наклонившись над старушкой, она вдруг поняла, что та не дышит, пульс на сухой, костлявой руке тоже никак не удавалось прощупать.
– Господи! – Ирина отбежала от машины. – Умерла, что ли?!
Ее стало колотить, озноб страха путал мысли и действия, и движения были суетливы.
Подскочив обратно, Ирина перевернула старушку на спину, и так, сгорбившись, с поднятыми ногами, та и осталась лежать.
– Далась тебе эта фара, бабушка! – заныла Ирина. – Что мне с тобой делать?..
Она огляделась вокруг и крикнула:
– Эй, вызовите скорую! Человеку плохо!
– Что ты там, шалава, ей сделала? – ответил чей-то голос сверху. Откуда он звучал, определить было трудно: окна, балконы, даже зеваки на балконах – в огромном доме все было стандартным, одинаковым.
– Уже вызвали! – раздался уже другой крик. – И милицию тоже!
Ира от неожиданности резко привстала и отбежала к дверям дома.
Кто-то опять крикнул:
– О, почесала-то, смотри! Убила старушку и деру дала! А мы все видели и запомнили!
Еще недавно, буквально месяц назад, она даже не обратила бы внимание ни на какую-то старуху, ни тем более на чьи-то там угрозы, но сейчас противно затряслись поджилки, сердце испуганно и неуютно затрепетало.
Тишина лестницы, и вдруг грохот лифта… У своей двери – возня с ключом… И, наконец, запах родного дома…
У окошка Ирина спряталась за занавеску и подглядывала.
Старушка лежала, вниз уже спустились какие-то люди, но «скорой» еще не было. Люди переговаривались и тыкали пальцами, как казалось Ирине, в ее окно на пятом этаже.
– Надо было просто в милицию звонить! – взвизгнула она и случайно сорвала угол занавески.
Старушка принесла ей серьезное неудобство, оправдываться Ирина не любила.
– И чего же я убежала! – психовала она. – Что я такого сделала? Надо было стоять и ждать, а то ведь не отговоришься! Дрянь какая!!! Моя ведь машина!
Приехала милиция, постояли, порасспрашивали очевидцев. Осмотрев старуху, стали закидывать головы в сторону Ирининого окна.
Она тяжело дышала, нужно было опять спускаться, объясняться и дрожать. Голос был не свой. Прежнее спокойствие, уверенность в себе умчались, а рядом не было никого, кто бы мог хоть что-то объяснить. И оказалось, что обыкновенный человеческий страх, да и глупость тоже, существуют. Оставалось плакать.
Входная дверь залилась веселеньким звоночком.
Один из милиционеров, ехидно вздернув верхнюю губу, демонстрировал превосходство власти. Он был молод и розовощек.
– Я войду? – спросил он и зашел в прихожую. – Свидетели все видели, но надо поговорить, положено.
– Я ничего не понимаю, – прошептала Ирина. – Я не сделала ничего плохого.
– Все так говорят! – милиционер многозначительно моргнул и заглянул в комнату. – Человек старый, можно было и без рукоприкладства. Тем более вы все-таки женщина.
– Я ее не трогала, – тихо сказала Ира.
– Ну да, вы на нее просто дунули! – милиционер иронизировал. – Тебе что, фары жалко? Руками машешь!
Он прошел и сел в зеленое кресло, испачкав весь ковер песком с ботинок.
Пришлось рассказывать: кто она, где работает, откуда машина, и объяснять, что произошло на самом деле.
– Все это ерунда, – заключил милиционер, закончив опрос. – Живете, господа фирмачи, так, будто остальные люди для вас – что тараканы на кухне. Помедленней бы надо…
– Но я же ничего не сделала! – упрямо вскрикнула Ирина.
– Я не о том, – продолжил милиционер. – Зачем вообще сверкать деньгами? Людям же обидно… А машину надо на платную стоянку поставить, а не разборками с бомжами заниматься… Вот у тебя есть что пожрать! А у нее?
Он встал, тоскливо посмотрел на золотые кольца, которыми унизаны пальца Ирины, прошел в коридор, открыл дверь и, обернувшись, добавил:
– Вот потому ты одна и живешь!
Милиционер вышел, а Ира вернулась к окну и увидела, что уже приехала скорая, и врачи мелькали белыми халатами в наступающих сумерках.
Вскоре милиция уехала на своей машине, и только тот милиционер, что допрашивал ее, остался стоять около умершей старухи.
Ирина машина отсвечивала диким пятном на фоне неубранного двора, странного милиционера и неживой старой воровки.
Душная узость тревоги уплывала, наконец, от Ирины. Она стояла, всматривалась в милиционера и успокаивалась.
И скользкая трепетная мысль все точнее и точнее озвучивалась в голове. То, что Алексей уходил из ее взволнованной груди все дальше и дальше, становилось для нее ясной и осознанной радостью. Ей вдруг сделалось легче оттого, что эта дикая история с ее машиной выводит, наконец, душу из нестерпимой до этого боли разлуки. Видимо, стресс вытеснил ее желания и, как бывает обычно при боли, перебросил внимание на что-то другое, на то, что вызывает меньшие муки…
Во двор въехал синий фургон и остановился на тротуаре около милиционера.
Ирина сорвалась с места, подбежала к двери и, открыв ее, припустила вниз.
Ей хотелось успеть… Ей хотелось спуститься и увидеть… Ей нужно было сказать… Нужно было выразить свое нетерпение…
И она вышла на улицу.
Старушку засовывали в машину, милиционер разговаривал с водителем. Соседи высунулись из своих окон и переговаривались…
Когда машина отъехала, то милиционер с чувством выполненного долга зашагал по тропинке, как раз мимо стоящей Ирины.
– Ну, что вы выскочили? – примирительно спросил он. – Идите отдыхайте! Она, похоже, от страха умерла.
Ира повернулась, вошла в подъезд и остановилась, в груди у нее играла легкость освобождения. Ей было хорошо, и сладковатый привкус стоящего в холодильнике ликера вдруг разгулялся по рту и зазывал в мягкое кресло.
Она обернулась и крикнула вслед милиционеру:
– Может быть, зайдете на чашечку кофе?
Милиционер почесал розовую щеку, мотнул головой и добродушно улыбнулся. Постоял немного, а потом двинулся дальше, так ничего и не ответив.
Ира схватилась за железную дверную ручку и сжала пальцы.
Пустота снова окружила ее и никого не впускала…...14.08.01
ШлепокРадиоприемник периодически съезжает с волны. Треск и шипение недвусмысленно призывают подвигать ручкой громкости. Музыка из двух потертых стареньких динамиков не льется уже, а еле прослушивается сквозь сплошной скрежет и треск.
Ноябрьский день становится еще кислее, чем утро. Мелкий моросящий дождик брызжет на оконное стекло, словно из распылителя.
Антон Семенович смотрит на Костюхина. Глаза слипаются, словно после позднего сытного обеда, хотя сейчас желудок лишь урчит от голода. От настырной музыки, хрипящей в кабинете, мысли обоих, как потерявшиеся спутники, не находят своих орбит.
– Это ты? – спрашивает Антон Семенович. – Или кто-то другой?
Костюхину скверно, у него второй час побаливает голова, и беспредметность тупой беседы с шефом корежит его лоб и резче выделяет морщины.
– Я, – отвечает он нехотя. – А может быть, и нет.
Им обоим давно уже хочется отвязаться друг от друга, но общая проблема тяготит, не позволяет расстаться так легко.
– Ты мне точно скажи, – просит Антон Семенович, – а то я не уверен.
Его рука нерешительно тянется к приемнику, но падает на полдороге, позволяя позывным разнообразных станций и чуть слышным куплетам песен и дальше дребезжать в кабинете.
– А почему я еще должен вас уверять? – говорит Костюхин. – Вы сами-то что, решить не можете?
– Ты не увиливай, – Антон Семенович гладит свою прилизанную прическу. – У меня волосы не торчат? – вдруг спрашивает он.
– Я же вам еще на прошлой неделе об этом сам говорил! – оправдывается Костюхин. – Говорил? Подходил?
Антон Семенович вздыхает и кивает одновременно. Хочется ему выйти, смочить голову водой, а потом пройтись по ней расческой. Вернуть рабочее состояние не удается, все больше лишних идей вспыхивает и откладывается на полочках. Костюхин смотрит на шефа привычным пустым взглядом и тоже мешает тому сосредоточиться и отбиться от растущего потока посторонних желаний. Антон Семенович ненадолго закрывает глаза, и видятся ему черные и красные пятна, то сужающиеся, то вытягивающиеся в длинные сардельки. Маленький зеленый горошек подлетает к ним, будто длинная автоматная очередь. Свинцовая тяжесть не уходит из глаз.
– Мне же надо, в конце концов, разобраться, – не открывая глаз, говорит он. – Все знают, какие у вас отношения. А на улице дождь каждый день, грязь, слякоть.
– Вы, Антон Семенович, знаете только этот факт, – отвечает Костюхин. – А фактов много, я говорил вам.
– Я тебя давно знаю! – Антон Семенович открывает глаза и следит за капельками на окне – те все липнут и липнут друга на друга. – Ты и не такое придумаешь!
Тошнотворность глупых выяснений и заранее понятной реакции смещаются к воспитательским мотивам, и Антону Семеновичу неприятно от этого. И чем глубже он понимает ситуацию, тем смешнее ему становится.
– Ты понимаешь, – говорит он, – я ведь должен.
Костюхин инстинктивно улыбается, как бы давая понять, что он согласен.
– Ну, хорошо, – чуть быстрее произносит Антон Семенович. – Зачем ты ей-то повод давал? Валентина Ивановна у нас резкая женщина.
– Да мне-то какая разница! – чуть взбадривается Костюхин от слабого прилива раздражения. – Зачем других-то учить? Кто ее просит?!
– Да, – соглашается Антон Семенович и, с трудом оттолкнувшись от кресла, вырубает приемник, потом плюхается на место.
Сразу наступает желанная тишина, только слышны шорохи за дверью кабинета и шлепки дождика о карниз и по стеклу.
– Вы же понимаете, – Костюхин удовлетворен поддержкой, – да и все тоже.
– Но извиниться надо, – настаивает Антон Семенович. – Она работник заслуженный. Прояви сочувствие. Когда-то была одним из лучших наших программистов.
– Лучше бы она внуков воспитывала, – возмущается Костюхин, – прохода нет от этих заслуженных.
Внезапная мысль пронеслась по капризной кривой в голове Антона Семеновича. Слова Костюхина нервно крутанули там винтики, и организм беззвучно заверещал, не выплескивая свой вопль на поверхность. Показались Антону Семеновичу глаза Костюхина двумя пятнышками на белой скатерти.
– Зачем же так судить? – проворчал пока что он. – Зачем же наступать на пятки?
– Да вы сами посмотрите, – Костюхин склонил голову набок, – вокруг, здесь и везде. Как же нам-то быть?
– Ты и меня имеешь в виду, – фактически напоминая Костюхину, кто перед ним, бросил вскользь Антон Семенович.
– И вас! – чуть ли не радостно подтвердил Костюхин.
– Ага, – обрадовался Антон Семенович и сразу стал проворно развязывать свои ботинки. – Сейчас сниму, куда-нибудь спрячешь, – иронизировал он скороговоркой. – Раз я тоже, то зачем же стороной обходить? Спрячешь, а потом я – пожилой, больной, полуслепой, как и Валентина Ивановна, человек – буду бегать по институту и искать обувь, чтобы домой идти. На!
Антон Семенович поставил ботинки на стол и засунул концы шнурков вовнутрь.
– На, на, – пододвигая к Костюхину свою обувь, предлагал Антон Семенович. – Плевать, что жена с ума сойдет, ожидая меня дома, потому что неудобно ей будет сказать о таком конфузе. Плевать на мужа Валентины Ивановны, совсем уже немолодого человека, которому пришлось нестись через весь город и везти жене другие сапоги – потому что, видите ли, в институте завелись настоящие идиоты. Ну, бери, прячь. Чего застыл? Или мои боишься, потому что я и сдачи могу дать? А ведь у тебя наглости хватило на следующий день, сегодня, бродить по этажам и всем, от лаборантки до черт знает кого, трандеть о своем подвиге! А Валентина ведь плакала… А мне, знаешь, смешно было сначала. Да, смешно. Только не сейчас.
Антон Семенович поставил ногу в зеленом с белой полоской носке на железный блин, на котором крутилось кресло. Повеяло холодом в пятку, и шеф стал понемногу остывать.
– Да я же пошутил, черт! – крутанув головой, сказал Костюхин. – Они и лежали-то рядом, в корзинке – ну, которая для бумаг изрезанных. Надо было хорошенько поискать. А могла бы и в тапочках пойти…
– Я бы тебя выпорол, Костюхин, – грустно сказал Антон Семенович. – Не уважаешь ты людей в возрасте. Даже мне нахамил. А ведь тебе тоже таким быть лет через двадцать.
– Я больше не буду, – выжал из себя извинение Костюхин. – Только ведь, если честно, молодых сотрудников мало.
– Ну, это не твое дело, – остановил его Антон Семенович. – Будешь руководить институтом, будешь и решать… Чтобы пошел и цветы Валентине Ивановне купил. И отсядь ты от нее, поменяйся с кем-нибудь… Или нет, постой, не надо, она не так поймет. В общем, будет что-то говорить, кивай своей башкой длинноволосой и не лыбься, а то подумает, что издеваешься… По-доброму будь…
Костюхин смирно вслушивался, но ернические огоньки не переставали водить хороводы в его глазах, и Антон Семенович это видел. Он понимал, что парень уязвлен, и от этого еще больше может обозлиться. Но, к большому сожалению Антона Семеновича, уговаривать он больше не мог, потому что слишком много уже сказал, абсолютно исчерпав лимит слов и выражений на сегодняшний день, и поэтому теперь должен был дозировать фразы и даже звуки.
Капельки на оконном стекле заблестели солнечными осколками.
Рука Антона Семеновича дотянулась до радиоприемника и включила его. Злобный голос заклокотал из динамиков так, словно хотел со злости проглотить весь мир.
Костюхин сидел напротив, ожидающий еще чего-то, но Антон Семенович выдавил из себя только одно:
– Пошли обедать, что ли!
Он встал и в одних носках направился к двери.
Ошарашенный Костюхин схватил ботинки Антона Семеновича со стола и припустил за ним.
– Вы наденьте, – конфузился он. – К чему так-то?..
В столовой было весело, а кому-то грустно…...16.10.01
ОглавлениеКонстантин Хадживатов-ЭфросВысота взаимопонимания, или Любят круглые суткиОт автораПьесыДомовой (комедия в шести сценах)Приступы таланта (одноактная пьеса)Человек и человек (одноактная пьеса)Любят круглые сутки (одноактная пьеса)РассказыВесельеВремя для любвиВысота взаимопониманияДень рожденияДоброе делоДолжникиДугаИздержки профессииКрикМелкий фолНежные чувстваНеудовлетворительноОбщий языкОднолюбыПо кругуПорог добротыПоследний разворотПротестПыль и песокСопровождающийТакая, не такаяВ театрУзелокФараШлепок
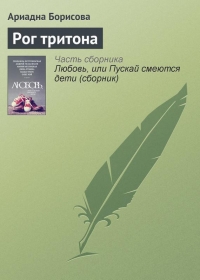

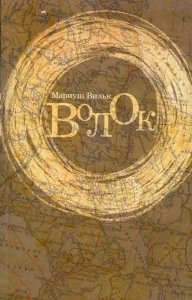

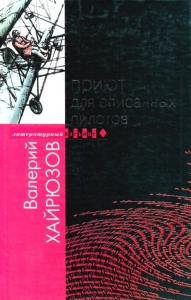





Комментарии к книге «Высота взаимопонимания, или Любят круглые сутки», Константин Константинович Хадживатов-Эфрос
Всего 0 комментариев