Василий Иванович Аксёнов Золотой век
© В. Аксёнов, 2018
© ООО «Издательство К. Тублина», макет, 2018
© А. Веселов, оформление, 2018
Дождь
Нет достоинства добывать себе жизнь для себя, для своей драгоценной личности, и защищать свою личную свободу, всякий зверь так поступает.
Н. Ф. ФёдоровОколо Ялани. На виду. На самом въезде, если следовать в село от города, у сворота с тракта к ельнику. Там, где когда-то, до – как выражаются здесь некоторые, на собственном опыте пережившие коммунистическое раскулачивание и расказачивание, старые люди – христонаступнической власти местных рыбаков-бездельников и пришлых наглых, большеротых, голодранцев, стояла в духовном карауле ладная листвяжная часовенка. На Копыловской полине. Возле остожья в четыре жиденьких осиновых жерди, на стяжках из алюминиевой проволоки с ещё не вывезенным из него промокшим по бокам зародом сена под сырой, тяжёлой снежной шапкой, средь бела дня задрала медведица двух мужиков. Отца и сына. На коне в санях отправились те в ельник за дровами.
Как на притчу. Так будут говорить потом встревоженные, словно пчёлы в кем-то задетом нарочно или нечаянно улье, яланцы, долго ещё после вспоминая и обсуждая это несчастье. И им поехать, мужикам, ни часом раньше, ни минутой позже, мол, и той, медведице-то, подгадать. Ну, смерть-де не ружьё – как ей приспичит до кого, так ни осечки, ни промашки у неё не происходит, лупит прицельно. И суждено-то если, мол, не прозеваешь и не разминёшься, в должное время к встрече с ней, неумолимой, подоспеешь. Знатьё-то б, дескать, дома бы остались. Ну, так знатьё! Знатьё-то бы, так и соломы там, где надо, подложил бы, не за большим, мол, делом.
Такая притка.
Нашли их, загубленных и, как шевяки, уже окоченевших, вечером, при сгустившихся ноябрьских потёмках, передвигаясь в поисках с фонариками, – пока думали-гадали да сговаривались, пока неспешно собирались, время и протекло – кто же тогда такое мог предположить, худое-то, всё что угодно, но не это, – и стемняло. Дома у них давно уже забеспокоились родные: долго никак с дровами-то не обернутся. Ну а потом – и лошадь прибежала. Унеслась она сначала, судя по следу, в направлении Елисейска, в Ялань вернулась уже в сумерках, взмыленная, как мышь, и со сбитой на бок сбруей; кое-как дала себя распрячь; всю ночь после, рассказывали, ещё дико вскидывалась и всхрапывала – так напугалась; круп-то и ей когтями оцарапала косматая зверина. Лежали метрах в тридцати от тракта, отец с одной стороны санной дороги, сын с другой; у отца топор в руке зажат был, а у сына – в кулаках по клоку бурой шерсти. Мякоть выела у них – шатаясь-то, оголодала.
Убили медведицу охотники на следующий же день. Скоро настигли и управились. Так всю ночь вокруг Ялани и петляла. Уходить далеко от деревни не было у неё и в намерении, пожалуй; и всё равно догнали бы, отметилась так кровно, никуда бы ей не деться, обрекла себя на гибель. На Кеми, на льду, и завалили. Там же, на льду, под заполошный треск сорок, тихое попискивание синичек и под зорким наблюдением немых от напряжения ворон, наполнивших береговой тальник, и ободрали. Плотным, вонючим мясом её, медвежатиной, собак своих кормить теперь охотники станут, кашу перловую им, мясом этим, разбавляя, – сытно, зиму-то не лежать собакам, di работать. Была супоросна медведица, чижёлая, как говорят тут, тремя крохотными, с напёрсток, медвежатами. В марте, всё-то шло своим бы чином, в сухой, тёплой берлоге и разрешилась бы, в конце ли февраля. Но не случилось.
Уничижённых похоронили. Были они при жизни Голублевы по фамилии, из коренных, из местных, из чевошников-чалдонов, теперь: прими и упокой души их грешные, Господи, – смерть-то какая вот, нечаянная, лютая – от зверя, минуй бы всякого такая; и теперь они не Голублевы, а – покойники. Остались у них вдовы, у невестки – и детишек двое. Белобрысые девчонки. Малые ещё – не понимают: народ собрался в доме на поминки, им и весело, девчонкам. Женщинам – горе – такая утрата. Одна воет, другая ей подвывает. Нескоро теперь стихнут – не ветер.
В конце сентября нападал щедро снег, в полметра сразу, чуть ли не весь октябрь после поджимал морозец крепкий, а в начале ноября, на Казанскую – вдруг и для этих мест в диковину – оттеплило и задожжыло. Чтобы ещё когда происходило так, никто тут и не помнит. В берлоги стала затекать вода, медведи-то и поднялись и подались, заколобродя, ближе к людям – в тайге им нечем пропитаться. До весны всех их, шатунов, выбьют, где какой только объявится, – нам и с самими-то с собой ужиться трудно, людям.
Помогала на поминках Голублева Катерина, родная сестра и тётка покойных.
* * *
Всю первую половину мая дуло. Дуло и дуло.
«Бытто в шшель из преисподней. Откэль ишшо сквозить-то эдак может, оттэль тока. Заслонку сдвинули враги, там раскозокались, оно и свишшет», – сказала бы её, Катерины, бабушка по матери, Фиста Егоровна Усольцева, будь бы она жива сейчас, конечно. Умерла нынче на Пасху рано утром, свет забрезжил только-только. Отошла радостно, с охотой, как на покос будто отправилась. Очень уж покосничать любила, больше другой какой крестьянской работы, и жила бы на покосе. Отошла, оставив на своём круглом, скуластом лице, поросшем, как лист медуницы с исподней стороны, белым, мелким, бархатистым пухом, светлую улыбку, – так приветливо к ней, к смерти, своего кого за ней увидела ли, улыбалась-то тому ли? Рядом будто, а сокрыто. И не вникнешь, не дознаешься. Полных девяносто шесть лет за спину, как тень, откинула и, бытто голодом, имя, годами-то, до горести насытилась. В добром уме до самой, дай Бог каждому, кончины пребывала, рассуждала ясно, здраво: гостью, смерть-то, поджидала – та всё мешкала пошто-то. «Мной и смерть-то, как гостинцем малым, брезгует, – говаривала Фиста Егоровна. – По грехам моим такое: дё-ёрзкая больно уж, строптивая. Как корамора, видать, иссохну, но не упокоюсь. Да сносить уж как-то надо. Жизь вытерпеть – на свете пушше-то труда и нету – одно бы дело наказание, а то и дар идь – пользуйся на благо».
Когда вспоминает теперь её, бабушку, Катерина, всякий раз при этом повторяет: «Царство Небесное, кровинушка родная. Хорошо тебе, наверное, раз умирала, улыбалась-то. Не каждый… Заслужила: сроду и мухи не обидела, пожалуй – муха-летуньица, мышка-бегуньица, травушка-смиреньица. Ну и нам тут пока ладно. Только скучно без тебя, тоскливо. Мне и дедушке, тому уж и подавно – виду только не показывает. Вечерами-то, как в комнатку твою войду, заплачу. Смотрит, смотрит на твою кровать пустую Боженька, глядит упорно – вглядывается, как в любимое-любезное. Ну и я теперь, как раньше ты, в лампадку масла подливаю – теплит».
Две недели не стихало. Как отмерило. День в день. Пока у него, у ветра, будто завод не кончился. Вечером в одно воскресенье началось, в другое воскресенье вечером и прекратилось. Не успокаивалось даже и на короткую уже, но тёмную пока ещё, не белую, ночь. А иной ночью и того пуще разыгрывалось. Звёзды с неба как-то не сдувало, крепко, значит, приколочены, но зато уж их надраило – сияли.
Всё везде выстудило. Где тепло какое хоронилось, отовсюду его выжало. До душ людских едва не добралось.
В лесу валило подгоревшие или подгнившие деревья. Ломало в Ялани долговязые, скрипучие антенные шесты и скворечни – обновляли после их хозяева.
Сдирало с пристроек плохо закреплённый рубероид. Его чёрные лохмотья заодно с вытаявшим из-под снега и подсохшим уже мусором таскало после сутками по деревне, пока не загоняло где-нибудь в лужу или в заросли прошлогодней крапивы, как в ловушку.
Сносило с крыш шиферные листы, кроша их тут же о заборы или, подальше отшвырнув, об землю, – в убыток людям.
Приунывшим от такой погоды и от бессезонья собакам, раздражая их изрядно, трепало шерсть в пахах и на загривках.
Дыму вверх подняться не давало. Сорвав, чуть только высунется где с печной трубы, мотало его, как нарочного, туда-сюда по улицам и по полянам, пока тот от него, от ветра, не спасался в ельнике, там-то уж всё же – не на голом тебе месте.
И тянуло всё это время, не сворачивая, как по трубе прямой, невидимой, с севера. С низовки, как говорят здесь. Прокидывал и снег, высыпаясь реденько и будто ненароком из бело-розовых, как молочные поросята, бесформенных и жидких облаков, через которые не только солнце виделось, но и проглядывало голубое небо – таких неплотных, словно выветрившихся.
И вот уже неделю стоит тепло и тихо. Погода красная, как говорят в Ялани старики. Для молодых погода и погода, кости-то ни в какую им не ломит, ни в плохую и ни в добрую, а если и ломит от чего-то, так не от погоды.
Пронизанно, затаённо: словно бабочка из куколки, рождается из весны лето. Набухают на кустах и на деревьях почки. Можно услышать даже, как они лопаются; щебет птичий только заглушает. На солнечных местах из них, из почек, уже и листья показались, проклюнулись буро-зелёно.
Воздух смолисто загустел – пьянит, тревожит. Пахнет прелым. Воспаряет.
Дали нечёткие – размыты сизым маревом – взгляд притягивают, душу манят, да куда она от тела, заодно пока томятся.
Дым от костров, в которых, не боясь, в безветрие, что залетит куда-нибудь искра – заронит, сжигают оставшуюся с осени ботву и скопившуюся за зиму труху сенную в огородах, и из печных труб, где топится, беспрепятственно теперь уходит кверху, в синеве теряется, неразличимый.
Прилетели галки и кукушки. Первые в поисках корма, прошлогодних ли своих следов, шляясь по не просохшим ещё огородам или праздно болтаясь стаями в безоблачном весеннем небе, радостно галдят. Вторые, всегда будто сытые, однообразно кукуют, в тайге окрест и тут, в Ялани прямо – со столбов, с обнажённых ещё берёз, рябин ли в палисадниках. Кому-то не нравится, выходят, прогоняют, если кукует рядом с домом. «Надоела, – говорят. – Наскрозь уж уши все прококовала. И кокует и кокует… ну, дак делать-то ей нечего… как репродуктор». Переместится кукушка на другой столб, на другую ли берёзу, оттуда заведёт свою нехитрую, булгалтерскую, песню. Ну и на самом деле: нечем ей заняться – детей своих, и тех не ростит, легкомысленная.
Снег на открытых местах весь съело, остаётся он ещё только в лесу, в тёмных, частых пихтачах да ельниках, ноздреватый и зернистый, доживает – век у него тут, вокруг Ялани, долгий.
Вода в Кеми ещё не в берегах, большая, мутная, влечёт по ней похожие на куски пористого пенопласта клочья бело-рыжей пены, щепы, брёвна, доски, прошлогодние будылины и лесины с корнями – кокоры, упавшие с подмытых где-то берегов.
Лёд пронесло. Лежат в тени, под обрывами, и в зарослях прибрежного, ободранного и растрёпанного ими в раскалье тальника не успевшие ещё растаять рыхлые, светло-зелёные, как внутренности свежего огурца, льдины, сочатся.
Сквозь старую, жухлую начинает только-только пробиваться молодая травка – глаз радует.
Пчёлы летают высоко и густо: за нектаром к вербам и обратно – мёд, значит, будет. Майский. Первый, может быть, поэтому и самый вкусный. Ночью заморозков сильных не случится, тогда будет.
Звенит от пчёл, словно от шрапнели, над Яланью небо. Как хрустальное. Не раскололось бы – засыпет крошками, осколками.
Стосковавшись по уличному теплу, которое здесь как подарок дорогой и редкий, и устав за долгие холодные месяцы от зимней тяжёлой одежды, люди по-летнему одеты: мужчины – в своих рабочих неизменных парных костюмах, штанах, заправленных в кирзовые сапоги, и пеньжаках, женщины – в лёгких, повседневных, обыденных, кохтах и платьях; мальчишки – те и вовсе – в майке и в трусах, а кто от солнца не облазит, и без майки – загорает; лишь старики – те только к июлю из телогреек выберутся, и то не всякий, иной, осторожный, до следующей зимы так и валенок не снимет, чтоб от земли-то не иззябнуть, и – шапки, темя чтобы уж не настудило, – Бог бережёт ведь бережёного – слова, конечно, не пустые.
У взрослых свои заботы, у детей свои, мало кто сейчас дома находится – усиди-ка! – совсем уж немощные разве, и тех, есть у кого кому, на лавочки около ворот или возле палисадников вынесли – проветриться, – как полушубки, прежде чем их, пока не надобны, убрать в кладовки или на полати.
Вот опять и воскресенье.
Геологи отдыхают. Накупив в магазине по-купечески обильно выпивки и закуски, уехали они с утра пораньше куда-то на танкетке бражничать. Не то на Монастырское озеро, не то на Нижний Крутой яр. Красивых и пригодных для такого времяпрепровождения мест достаточно в округе. На вездеходе-то они куда угодно проберутся, ничто нигде их не задержит, и даже Кемь – переплывут на нём и реку, а уж обратно-то – и море будет по колено им. Вернутся, как обычно, и если не случится что в дороге, ночью; ещё и пошумят, может, недолго – бывает; между собой; к местным не пристают, не задираются, с туземцами они, к спокойствию Ялани, в добром мире – покуда девок-то не делят – оно и ладно.
Поварихой у них Катерина. Наняли они её ещё в апреле, сразу, только-только здесь обосновались. Предложили ей, она и согласилась, по совету бабушки, ещё жива была та: девка, ступай и не раздумывай, работа, мол, под боком, и не пыльная, у печки постоять – не землю рыть и не хлысты в тайге ворочать, и деньги, дескать, нам не помешали бы. Оно и верно, не быть денег может, а лишними они не бывают. Пошла. Готовит теперь шесть дней в неделю геологам, на восемь человек, завтрак и ужин, а обедают они, геологи, в поле. И ей не хлопотно, и нанимателям ладно, очень довольны они поварихой, величают её уважительно Катериной Ивановной. Рано подняться для неё не тяжело, а даже в радость, с малых лет привыкла вставать с петухами, да и готовить, с бабушкой рядом, научилась, головы над этим не ломает.
Выходной сегодня и у Катерины.
Живёт она по соседству с общежитием, щитовым бараком, бывшей рыбкооповской конторой, где и базируется партия. Дверь входную – кем-то и зачем-то, скорей всего, мальчишками и ради баловства, с петель снята была, тут же и брошена – повесили на место да окна только застеклили. Сверху не льёт, сбоку не дует. Больших удобств, не избалованным, им и не надо, так уютно; ну а к зиме они все далеко уже отсюда будут – по домам своим разъедутся.
На невысоком, в три ступеньки, простеньком, некрашеном, крепком ещё крыльце общежития сидит тот, с длинными, соломенного цвета волосами, перетянутыми вокруг головы, как у хиппи или у древнерусского гусляра, кузнеца ли, плетёным шнурком, и тёмно-каштановой, кудрявой бородой, чудной, но симпатичный, как считает Катерина. Глаза у него большие, светло-карие, и глядит он ими из-под мохнатых, словно подкрашенных, ресниц бесхитростно, как телёнок, – так, Телёнок, про себя она его и называет добродушно. А бабушка, Фиста Егоровна, выглядев его в окно, так говорила про него, бывало: «Этот… Патлатый-то… Как батюшка». И ещё она, крестясь и глубоко вздыхая, добавляла: «Это пошто оне, как девки, нонче не стригутся-то?.. Космы отростят, так оно и надо бытто. Прямо беда с имя и только». Не пьёт – за сторожа остался. Зовут его Слава. Он из Ленинграда. Лет ему около тридцати. Рядом с ним, на перилах крыльца стоит катушечный магнитофон, звучит музыка. Сам он читает какую-то толстую книгу в чёрном твёрдом переплёте.
Катерина вскапывает в огороднике землю под грядку. Скоро, только земля взрыхлённая прогреется, подсохнет, она тут что-нибудь посадит, лук или свёклу, что, и сама ещё не знает. Грядку сделает, тогда вот и решит. В прошлом году сидела здесь морковка.
– Может, сюда мне репу нынче сунуть? – вслух сама с собою рассуждает Катерина. – А чё, и суну. – В красных босоножках на толстой пробковой подошве, чтобы ногу об лопату не давило. – Репу, баушка, ага идь? – В голубом, в мелкий белый горошек, ситцевом платье без воротничка и с короткими рукавами. На голове у неё пилотка из газеты, из-под которой, рассыпаясь, выбиваются русые волосы с искристым золотым отливом. На носу и около, под глазами, как посеянные, мелкие точки-веснушки, которые появляются только весной, а к зиме бесследно, и без спросу у хозяйки, исчезают, будто самостоятельные – так оно и есть, наверное, – своевольные. Глаза, как небо, бирюзовые – такого цвета. Щурит их на солнце дружелюбно Катерина, прячет за ресницами. Восемнадцать лет исполнилось ей в марте, взрослая. – Или уж лук?.. Пока не знаю.
На толстом лиственничном столбе бревенчатого забора, что между огородчиком и оградой общежития, где обосновались геологи, обернув себя хвостом, сидит, как на постаменте, рыжий, потрёпанный кошачьей жизнью кот, глядит внимательно, как естественноиспытатель, на Катерину.
– Жарочек, – говорит ему Катерина.
Молчит Жарочек, будто и не слышит, нет бы в ответ хоть что-нибудь мяукнуть. Зенки у него бледно-жёлтые, располовинены полосками-зрачками, словно острым лезвием разрезаны. Усы – как будто он их где себе случайно подпалил, или как будто мыши их ему подгрызли – короткими щёточками – только одежду ими чистить. И выражение морды у него глупое, как у копилки из папье-маше, – мурластое.
– Не усни, – говорит ему Катерина. – То упадёшь… на солнышке-то разомлеешь… Походил бы, поразмялся… Не по вскопанному только.
Кот и ухом не повёл. Не жмурясь, пялится на Катерину; солнцу в его зрачки-прорези не проникнуть, потёмки в голове его не разредить – и не пытается, похоже, просто – ощупывает лучами – как что-то неизвестное.
Закончив вскапывать, Катерина втыкает лопату в землю, снимает с головы и вешает на черенок лопаты бумажную, сложенную из газеты, пилотку, идёт к забору. Гладит безмолвного и бездвижного кота по ощетинившемуся вдруг хребту, чешет пальцем ему за зубчатым, обмороженным в зимнюю стужу, ухом. Смотрит на сидящего с книгой на крыльце общежития Славу и спрашивает:
– А кто у вас это играет?
– «Битлз», – отрываясь от книги и затенив ею глаза от солнца, отвечает не сразу геолог.
– А-а, – говорит Катерина.
– Нравится? – спрашивает Слава.
– Да так, – говорит Катерина. – Нерусские?
– Нерусские.
– А вчера вечером кто пел?
– Вечером?.. Вчера, – задумался геолог. Вспомнил, наверное, и говорит: – A-а. Челентано.
– У-у, – говорит Катерина.
– А что?
– А у того мотивы красивее.
– Ну… Не буду спорить, Катерина Ивановна, – говорит Слава. – Но Челентано тоже ведь нерусский.
– Мало ли… А чё читаешь?
– Хемингуэя.
– Тоже не наш?
– Тоже не наш. А это важно?
– Не знаю… Может быть… Мне наши интересней. Я люблю Пушкина, Тургенева и Гончарова.
– А Достоевского?.. Толстого?
– Не-е-а, я по ним экзамен чуть не завалила… Ну, я пошла, – говорит Катерина.
– Всего хорошего, – говорит Слава. Положил книгу на колени, уткнулся в неё снова. Рядом с магнитофоном, на перилах же, стоит стакан с золотистым компотом – потянулся, взял, отпил – и всё это не глядя; тут же стакан вернул на место.
Чудной, – думает про него Катерина. – Телёнок… Но симпатичный. Наши не такие… Наши… как эти… – и думает: – Тепло-то, Господи, тепло как… ну дак и время… и пора уж.
Выйдя из огородника, затем – в настежь открытые ворота – и из ограды, оказалась она на улице, зеленеющей уже муравой – скоро та после зимы в себя приходит, быстро просыпается.
Около дома, на обшарпанной и облупленной – сплошь голубой, наверное, когда-то – лавочке, спинкой гвоздями приколоченной к забору – чтобы не качалась, шаткая, с подгнившими от времени ножками, сидят её, Катерины, дедушка, Игнат Иванович Усольцев, и его приятель, Пребодаев Николай Ефимович. Игнат Иванович в старой ондатровой шапке с болтающимися ушами и свисающими с них тесёмками и в новой телогрейке нараспашку, а Николай Ефимович в казацкой, облезлой по краям, чёрной когда-то, теперь бурой барашковой папахе и в солдатской шинелке современного пошива, с малиновыми на ней сержантскими погонами и петлицами. Оба – в броднях. Бродни и у того и у другого блестят и пахнут ядрёно дёгтем – только что их, похоже, смазали. Ел аза у них, у стариков, выцветшие, как клочки бумаги от давнишних похоронок, слезятся, усталые, на ярком солнце, глядят ими куда-то старики – за горизонт слепо, в прошлое ли зорко – туда-то зрение не слабнет, а, напротив, с каждым годом обостряется.
Перед стариками развалился на земле кобель, спит, ему и запах дёгтя не мешает. Висит над ним, тоненько крыльями позванивая, строка – муха такая жёлто-полосатая. И на неё кобель внимания не обращает.
– Соболь, – говорит Катерина.
Оторвал от земли Соболь голову, скосил глаза на Катерину и, помигав ими виновато, плюхнулся ухом обратно в муравку, лапой стукнув себя по носу – что-то с него стряхнул как будто.
– Ага, – говорит Игнат Иванович. – Дак как же.
– Я всё вскопала, дедушка… в углу там оставалось, – говорит Катерина. – Пусть земля теперь просохнет. Садить уж после буду, на неделе.
– Пусь, конечно. Знамо дело, – говорит Игнат Иванович. – Других-то нече быть глупе: люди не садят вон, и мы малёхо-то потерпим. Указу нет прямого в этом – не упомню. Шибко в сыру-то да в холодну семя запихивать, поди, не станем… На каку такую язву? Посев тока загубить. Вроде и время не ушло ишшо, оно успется… Куды направилась-то? К речке?
– К речке.
– Куды?!
– Да к речке, к речке, деда, чё, не слышишь?!
– Дак я и говорю тебе, что к речке. Ты там хошь в воду-то не забирайся.
– Не заберусь, деда, не бойся.
– А в одном-то платьишке пошто?.. Чё, разжарела?
– Да тепло же вон какое.
– Тепло… Какое там тепло.
– Ты, девка, замуж-то когда? – спрашивает её Николай Ефимович. Однорукий. Другая есть, но: отсохла – утомилась робить. Ею, одною, ловко управляется: полез в карман шинелки за кисетом, трубка лежит уже на лавочке – готова: зёвом своим голодным поджидает – выбил только что из неё о колено своё пепел, упал тот ему на бродень – лежит на нём, на смазанном, лепёшкой серебристой.
– Не знаю, дедушка Николай, – отвечает Катерина. И улыбается. – Не зовёт пока никто чё-то.
– Шибко-то не откла-а-адывай, любезная, а то на свадьбе-то не погуляю, – говорит дедушка Николай. – А идь охота… да и как ишшо охота… последний раз хоть перед смертью покричать кому-то «хорько». – Вынул плюшевый, красный когда-то, теперь бордовый, как свёкла, засаленный кисет, развязал его, на Катерину слёзно глядя, набивает табаком трубку, наминает его жёлто-зелёным от никотина большим пальцем. – У вас идь день за год, милая, а у нас, девка, год за день, – говорит. – Парней-то много холостых вон… ну дык. Нутром гудят, слышно, проходят мимо-то… быки быками… ну и ладно… жись-то на том она и зыблется – на мощчи.
– Пусть гудят, – говорит Катерина. И говорит:-Деда, ты есть-то хочешь?.. Я тебе кашу там сварила.
– Да не-е, я сытый, – отвечает деда. – До отвороту с черемшой молоденькой картошки-то намялся… Вот ежлив б выпить ты нашла маленько нам, тогда бы это…
– Не, деда, выпить не найду. Нет у меня ничего, – говорит Катерина. – Откуда? Бражки от Вовкиных проводин маленько оставалось, вы ж на Девятое её и выпили.
– Жалко… Запасу-то мы не храним, – говорит Игнат Иванович; заскучал как-то сразу, к ельнику глазами обратился, повис ими на ельнике.
– Да-а, – говорит Николай Ефимович. – У нас оно, как в мочевом пузыре, долго не дёржится пошто-то – бытто само куда-то и уходит. Не по-хозяйски. – И говорит: – Эх, подоспеть бы умереть до Вознесенья.
– А чё ты вдруг засобирался? – спрашивает у него Игнат Иванович.
– Да пока там, в Раю, ворота-то для всех открыты, – отвечает Николай Ефимович, – и для таких, как я, шакалов.
– Ну, я пошла, – говорит Катерина.
– Тупай, – говорит Игнат Иванович, не отрываясь от ельника взглядом, будто поджидая оттуда кого-то. – Оно уж где тут по-хозяйски… когда не можем.
– С Богом, родная, – говорит Николай Ефимович. – Какой денёк… Красный, как девка… Вёдро, одно тому и слово. И в шинелку-то я сёдни здря однако что обмундировался… Мясо вот сварится на мне да от костей моих отстанет – и попрусь домой шкилетом, напугаю там старуху, и помрёт до Вознесенья, а в Раю ей делать неча – шуму от неё много – как от мельницы… горлопанистая… Но вариться долго ему, мясу-то моёму, надо, правда… старое… Подюжу. Лучше уж жарко пусь, чем зябнуть. Щурюсь от свету-то, чтоб в голове прохладней было, то в ей душно, как в конюшне.
– Соболь, – говорит Катерина.
Соболь едва хвостом лишь шевельнул, веком даже и не дрогнул – так разоспался.
– Дак как же, – сказал Игнат Иванович.
– Ну и… подумаешь, какой он, – сказала Катерина и пошла. – И оставайся.
Тут же, сразу за амбаром с малахитово-зелёной мшистой крышей, свернув со своей улицы и пройдя пустынным переулком – называют их заулками в Ялани, ну а улицы – краями, затем – околицей, мимо пёстро расположившихся на ней, шумно и тяжко, как о вселенской беде, вздыхающих и жующих задумчиво жвачку коров, потом – в уже просохшей после основного паводка старице – густым тальником поднялась Катерина по крутой, бурой от плотно устлавшей её кедровой палой хвои, тропинке и вышла на берег Кеми – высокую, подмытую за несколько последних лет веретию – точит здесь Кемь себе новое русло – река настырная – пробьётся. Подступив, села Катерина на давным-давно уже, саму по себе, от урагана ли когда, но не на памяти у Катерины, упавшую лиственницу с торчащими огромным пауком корнями. Река далеко внизу, под отвесным, рыжим яром, сверкает раздробленным в ней солнцем, шумит в затопленных кустах водою – спешит к Ислени. На другом берегу Кеми, в пойме, простёгнутый насквозь солнечными лучами, раскинулся брусничный бор с корабельными золотоствольными соснами – ветра-то нет, и кронами не покачнутся. Возвышается над бором Камень с охристыми, поросшими кое-где ольшаником, откосами – осыпями. Над Камнем, от горизонта до горизонта, протянулся кучерявый, белый след от самолёта – давно пролетел самолёт – след широко уже расплылся в небе – облако из себя теперь изображает… как ребёнок.
Тотчас и он, Чеславлев Сенька, появился, позапятки, что называется. Из мелкого, на жарком солнце канифолью пахнущего пихтача тихонько выбрался, подступил, стараясь не шуршать сухой травой, сзади. Слышит его Катерина, не сомневается, что это он, но не оглядывается, в кемской излучине глазами будто растворилась. Перепрыгнул Сенька через толстую лиственницу-валёжину, встал перед Катериной. Русоволос, коротко стрижен. Строен. Смахиват, как говорят здесь, малёхо на актёра Ланового. В красной клетчатой рубахе, с засученными до локтей рукавами. На ногах болотные сапоги с низко завёрнутыми голенищами; был у воды, наверное, помыл их, сапоги-то, – чистые, уже обсохли. Лицо и руки загоревшие. Как и условились, не опоздал. Преподнёс маленький букет жёлтых подснежников Катерине. Взяла та цветы, держит их в ладони, как свечку, смотрит на Сеньку и улыбается ему, как дню погожему, продолжительно. Подсел Сенька к ней рядом, обнял её за плечи. Не отстраняется Катерина – приручил уже за месяц – как себе, ему доверилась. Сенька добрый и красивый – и не ей одной так кажется, конечно, многим девчонкам Сенька нравится, и здесь, в Ялани, и там, где учится, а учится он в Елисейском педагогическом институте, на филологическом факультете, заканчивает последний курс, в Ялань к родителям на выходные приезжает: очень уж хорошо поёт он и играет на гитаре, и не наглый, как другие, и не нудный, а весёлый, – ну а ей вот только повезло-то, Катерине, отчего и сердце у неё колотится – как у котёнка.
Солнечно. Безоблачно. Безветренно. Небозём клубится, будто кипятится: отнимает небо у земли, напитанной сверх меры, влагу, вернёт её дождём после – если ко времени-то, ладно, а если нет… но тут уж как Бог даст.
За Бобровкой, таёжной, родниковой и, на самом деле, много где перегороженной бобрами речкой, чуть выше этого яра перекатисто впадающей в Кемь, надрывается бензопила – успевает кто-то – заготавливает, пока листва не распустилась и от неё в лесу не стало глухо, на зиму дрова в березнике. Кричат где-то мальчишки: то «аут!», то «не куйся!» – на песке в футбол, наверное, играют. Едет – гудит одиноко, но не скучно – по тракту мотоцикл – слышно его только тогда, когда пила перестаёт работать; одноцилиндровый; в Ялань едет и, по гуду судя, не торопится.
Постоит такое тепло ещё сколько-то, не заненастит, и начнутся в тайге пожары, всё кругом затянет жёлтым, едким дымом.
Птицы туда-сюда, с ветки на ветку, с дерева на дерево, порхают – праздно снуют, будто заняться нечем им – так, глядя на них, кажется; а то и Кемь перелетают, перелетая – отражаются в реке, знают об этом – кажется и так – им, отражением своим, любуются как будто; барашки, падая и блея, воздух сверлят беспрестанно – только начнёт светать, и принимаются; земли по-асовски не достигая, в падении затормозят и снова ввысь молчком взмывают, чтобы опять в пике оттуда свергнуться с любовной песней. Купаются стрижи – едва касаются брюшком воды, оставляя на поверхности реки круги недолговечные, что означает: пока, в ближайшее время, погода не испортится – примета.
Налетели с гнёзд своих на Камне коршуны, стали круги и петли над Яланью вырисовывать несуетно. Хищников шесть или семь разом, не меньше, парят в небе. Нет-нет, да и прокричит какой-нибудь из них сверху неожиданно для хищника жалобно: пи-и-ить! – и на самом деле пить как будто просит – та-ак протяжно; опустись и удоволься: столько вон её, воды-то, хоть запейся. И другой ему, слышно, вторит, и третий. Что они оттуда видят?
– Куриц моих бы там не растаскали, – заботится Катерина. И глядит на птиц из-под ладони в поднебесье. – Понависли над деревней… Выискивают.
– Я уже брожу тут больше часу, – будто обиженно, склоняясь и заглядывая в бирюзовые глаза подружке, говорит шутливо Сенька. – На берёзу уж залазил.
– На берёзу-то зачем?
– Чтоб тебя с неё увидеть.
– И увидел?
– И увидел… К тальнику уж подходила.
– Как договаривались, так я и пришла, – говорит Катерина. – Ровно в час, чуть даже раньше.
– Да дождаться было трудно, – говорит весело Сенька. – Ждать и догонять хуже всего.
– Ну, ведь дождался, – говорит Катерина.
Вынырнула из пихтача рыжая, башкастая ронжа, беспокойно приткнулась на нижнем сухом суку толстого и высокого, к Кеми накренившегося, кедра, беззлобно потрещала, чёрным хвостом тряся, на сидящих рядышком людей и подалась куда-то, спичкой горящей юрко шмыгая между деревьями, – не подпалила бы – с таким-то оперением.
– Поступать куда надумала? – спрашивает Сенька. – Или так пока и не решила?
– Да куда мне поступать, – говорит Катерина. – Дедушку-то на кого оставлю?
– Ну, куда-то ж идти надо, – говорит Сенька, целуя Катерину в солнцем пахнущую щёку. – В Ялани же не станешь оставаться.
– До октября поработаю… Пока геологи тут, – говорит Катерина. – А там видно будет.
– Поня-ятно, – говорит Сенька, о другом о чём-то думая при этом будто, и целует в губы Катерину. И целует, и целует… Отстранился и, искря глазами, смотрит на подружку, говорит: – Пойдём на наше место?
Пожав плечами, согласилась Катерина – податлива, как воск, обласканный в ладонях.
Встали они с валёжины, за руки взявшись и подминая ногами мох, медвежьи ушки и брусничник, пошли вдоль обрыва, за молодым, тёмно-зелёным, непроглядным пихтачом, по кромке яра обогнув его, исчезли: вниз спустились.
И быстро-быстро день сворачиваться начал.
И свернулся скоро в майский, тёплый вечер, а тот – череду не нарушая – в майскую ещё, но белую уже, туманную ночь.
И домой вернулась Катерина на рассвете.
Молча, погладив по сырому от туманной измороси загривку встретившего её возле ворот без лая Соболя, Катерина, пересчитав машинально сидящих на жерди под навесом куриц – в сохранности все, слава Богу, – прошла оградой к бане. Вступив в неё, положила на полок смятый и увядший уже букет подснежников и свитый из медуниц венчик. Разделась, помылась холодной водой. Накинув только платье, скомкав и зажав в руке трусы, направилась в избу. Дедушка спит в прихожей, не проснулся. Минуя скрипучие половицы, чтобы его не разбудить, вступила Катерина в комнату покойной бабушки. Вынула из игольницы иголку, вдёрнула перед окном в иголку белую нитку, села на баушкину кровать. Пальцы не повинуются – песку полно набито под ногтями – иглу, и ту даже не держат – так занемели. Опустив безвольно руки на колени и посмотрев на икону над мерцающей лампадкой, Катерина сказала:
– Прости меня, Господи, – закрыла глаза, посидела так, после добавила:
– И ты, баушка.
Упала ниц, лицом в подушку вмялась и заплакала в неё тихонько, как запела.
– О-и-о-и-о-и-о-и.
Было это двадцать с небольшим лет назад от нынешнего – так давно и так недавно.
* * *
Суббота. Близится к полуночи. Как кошка, мерно и на цыпочках. Неслышно – Земля бесшумно так вращается.
Сочельник.
«Благословенно Царство…».
«Иже в вертепе родивыйся и во яслех возлегай нашего ради спасения…».
А завтра:
Бог стал человеком, чтобы… рвения не имея, робко и помыслить, хоть и бремя вроде лёгкое, и иго будто благо… и чтобы стать им, человеком, в полной мере, после Он, на кресте уже, нами, кого унизился спасать от жала смерти, распятый и оставленный Отцом Небесным, надежду потеряв, отчается и горестно возопиет: «Или, Или! лама савахфани?» Господь страдал. Возможно ли такое? Но это после. А пока вот:
Он родивыйся и возлегий.
«Из чрева прежде денницы родих Тя, клятся Господь и не раскается: Ты иерей во век по чину Мелхиседекову».
В действующих, пока ещё немногочисленных, как было до великого разору, заново открытых православных храмах старинного, острожного когда-то, в злобных и шебутных тонгусах изначально рубленного, от воровства их смутного и неспокойного, а теперь тихого, смирного и чуть пришибленного будто Елисейска идут праздничные службы. В иных же бывших монастырях, часовенках и церквях города – скверна запустения: склады всякой всячины, от овощей до гвоздодёров, гаражи, завод ли пивоваренный, пожарная ли часть – что в какой храм, который почему-то не разрушили безбожники воинствующие, определили при советской власти, так то там до сей поры и размещается. Но над теми и над этими сияют одинаково сейчас луна и звёзды. Звёзды ясные, лучистые. Луна белая, как известь, и с ущербом – с кромки чуть волчица выкусила острозубая; подгрызёт, повыв, и нынче ночью; и так, всю пока не сгложет.
По улицам бревенчатого в основном, одноэтажно-двухэтажного, купеческо-мещанского, уездного когда-то, а теперь районного Елисейска прокатываются неторопно, словно внимательно осматриваясь в незнакомом месте, редкие автомобили и, подстилаясь под колёса, встречь им, в бок или вдогонку, как ей заблагорассудится в своей снежно-сыпучей стихии, пресмыкается многоязыкая, не обращающая, в отличие от законопослушных автомобилей, никакого внимания на распоряжения занудных светофоров, хиузная, расторопная позёмка. Тут ей, в городе, среди домов, особо-то не разгуляться – тесно; рядом вот зато просторно, на Ислени, – лёд на реке дымится от неё как будто, от позёмки, так что и днём не различить другого берега – одно лишь марево.
Лучи машинных близоруко-дальнозорких фар, дублетно продырявив и с сизифовым упорством разрезая тут же срастающийся, стылый полумрак, то вскидываясь и слепо теряясь в олуненном и редкозвёздном небе, то опускаясь и скребя перед собой дорогу с полузаснеженным, разбитым лесовозами асфальтом, тут вдруг, на повороте, упруго упрутся в розовый кирпичный зубчатый забор, будто свалить его вдруг вознамерившись, проползут медленно по соединившим его, забор, как пряжка, чёрным металлическим воротам, отразятся мельком в стёклах окон небольшенького, кирпичного же, особняка с белеющей, как луна, над ним спутниковой, бельмом уставившейся в космос, как чьим-то ухом ли к нему направленным, антенной и соскользнут беспомощно на пустырёк; позёмка ж мимо – как крадётся.
Только в одной из шести комнат особняка горит свет, не считая тусклых ночников в прихожей и на кухне, – в спальне – из-за плотной бархатной бордовой шторы на окне, что это так, не видно с улицы: все окна в доме выглядят снаружи тёмными.
Слева и справа от широкой, составленной из двух двуспальных, кровати, в изголовье, рядом с низенькими, в уровень кровати, тумбочками, стоит по торшеру – они-то вот и светят.
В постели, под разными одеялами в одинаковых лиловых пододеяльниках, лежат муж и жена – супруги Чеславлевы.
Ирина Михайловна, крещёная татарка, с большими голубыми, под цвет наволочки, глазами и светло-русыми, густыми волосами, красивая женщина, нотариус в недавнем прошлом, ныне владелица трёх продуктовых магазинов, без очков, читает очередной детектив Марининой. Особняк построен на её, Ирины Михайловны, деньги.
Сергей Захарович заведует кадрами в Елисейской тюрьме, подполковник, в очках, читает первый том русской истории Карамзина.
Двадцать с небольшим лет назад закончил Сергей Захарович филологический факультет Елисейского педагогического института, призвался после в армию, отслужил два года младшим лейтенантом во внутренних войсках возле Норильска, демобилизовался, вернувшись в Елисейск, устроился в районо, с год поработал, отличился, заметили его из более высоких инстанций, оценили и пригласили в райком партии на идеологическую работу – вроде как массовиком-затейником – общаться с туговатым на доверие народом и убеждать его в преимуществах советской системы. А когда та, несмотря на старание агитатора, благодаря ли ему, рухнула благополучно, переместился Сергей Захарович в Елисейскую тюрьму, стал заместителем начальника, своего родного младшего брата Владимира Захаровича, отвечая за кадры, заведуя ли ими. Тюрьмы-то при любом режиме существуют, так что до пенсии, и не плохой, тут можно будет дослужиться.
Работая ещё в районо, среди образованного, преимущественно женского, коллектива, застеснялся вдруг своего, как он говорил, деревенского имени Семён – будто бы имена, как жители, есть деревенские, есть городские, но не вселенские – и поменял его, оформив всё по правилам и по закону, на Сергея. А когда узнал об этой измене, перевоплощении ли таком, его отец, Чеславлев Захар Иванович, сказал при первой же встрече сыну, сразу его и не узнав, возможно: «Ну, заодно-то уж и отчество поправил бы, а то потом опять, поди, морока… Ты ж от Семёна Столпника Летопроводца отступился. А тот ради тебя, чужеумого, маленько не полета лет на столбе выстоял в молитве к Богу», – и в город к нему, к Сергею Захаровичу, ни разу до самой смерти не съездил, даже на внука, когда тот родился, посмотреть не пожаловал – так рассердился он, Захар Иванович, или обиделся, – но у себя-то принимал – то ли как сына, то ли как знакомого.
В доме больше никого. Тихо. Работает телевизор, но с выключенными динамиками. Идёт какой-то чикотильно-мордобойный фильм, американского, конечно, производства: беззвучно, но высокохудожественно складываются один на другой или накалываются на всяческие штыри окровавленные, как фартук резника, трупы на заброшенном как будто, но, вместе с тем, не остановленном почему-то сталелитейном заводе, и резво бегают, прыгают или акробатически висят до очередного ловкого манёвра на разных цепях или механизмах ещё живые, и где среди них положительный парень, понять можно по лицу – на нём проставлено: изготовлено здесь, в USA – на зависть городу и миру. Чудно смотреть на это в Елисейске.
Сергей Захарович, запомнив страницу и номер главы, на которых приостановил временно, до следующего свободного вечера, своё мысленное путешествие по непростой древней русской истории, закрыл книгу, отложил её на тумбочку, снял очки, устроил их на книгу. Взял с тумбочки пульт и выключил телевизор. Полежал сколько-то, раздумывая о своём, а после:
– Зашёл сегодня утром к Женьке в комнату… неряха… штаны как снял, так на полу прямо и бросил… устроил там бомжатник настоящий… поднял, стал их на спинку стула весить, – говорит Сергей Захарович, убрав на тумбочку пульт и массируя указательными пальцами уставшие глаза, – что из кармана, знаешь, выпало?
Ирина Михайловна дочитывает страницу. Дочитала, перелистнула, но ничего мужу не отвечает.
– Презерватив, – говорит Сергей Захарович.
Молчит Ирина Михайловна.
– Слышишь? – спрашивает Сергей Захарович; смотрит он, широко раскрыв глаза, на потолок, как будто трещину на нём увидел.
– Я думала, бомбу… Парню, слава Богу, восемнадцать лет, – говорит, не отвлекаясь от чтения, Ирина Михайловна. – Ты к этому возрасту минимум года два уже, наверное, как кобел провал. И не наверное, а точно.
– И где он, кстати, ещё шляется?.. Скоро уж час.
– А ты всё дома и сидел?
– Ты на меня не перекидывай. Тогда другое дело было, и в деревне… Зря ты его отмазала от армии.
– Ты бы хотел, чтобы туда-а-а его забрали.
– Ну не всех же туда отправляют… Чё ты несёшь.
– Всех не всех. А нашего бы точно.
– И порошок ещё какой-то.
Молчит Ирина Михайловна. Молчит и Сергей Захарович.
– Какой порошок? – через какое-то время спрашивает жена.
– В пакетике… в кармане, в его джинсах, – отвечает муж ей, но не сразу.
Повернулся Сергей Захарович набок, лицом к стене, на которой висит выжженная им, увлекался пылко ещё в юности, по кедровой доске работа «Венера и Адонис», Адонис походит на актёра Василия Ланового, а Венера – на Голублеву Катерину, выключил торшер, стал пробовать уснуть.
Отложила книгу и Ирина Михайловна, повернулась набок, лицом к другой стене, на которой висит картина местного примитивиста Животова с видом зимнего, украшенного разноцветными храмами Елисейска, приобретённая ею, Ириной Михайловной, незадолго до смерти художника.
Щёлкнул мягко выключатель, и в спальне стало темно, как в могиле.
* * *
Зима. И месяца ещё, студёная, не догуляла, если по старому примериться к ней стилю. Только что началась, считай, или, как говорят в Ялани, стала. Но это – календарно. Ну а по стуже-то – уже и надоела – с октября тянется, чуть ли не с самого Покрова, когда лешие скрозь землю провалились, – так бы могла сказать Фиста Егоровна Усольцева, давно, больше двадцати лет уже, как покойная, бабушка Катерины, так вот она и говорила: мол, за день – за два до Покрова лешие сквозь землю проваливаются, туда им, дескать, и дорога, ишшо подальше бы куда их заметнуло, окаянных, и не жалко, да для людей нужна острастка. Так вот. Без оттепелей. Крепко. Гулко. И сколько так ещё продлится – бывает тут, что и до мая не расстанешься с тулупом, разве на телогрейку его сменишь, ну а уж в той – до самого июля. Сибирь, на то она и каторжанская.
Усень топор нашёл, сосну срубил и мосток уже для трёх братьев намостил, так и пора бы:
Навечерие Рождества Христова.
Палестина. Вифлеем. Долина пастухов. Камни, масличные деревья. На другой планете словно. Там сейчас тепло, наверное.
А здесь:
Мороз – по местным меркам, правда, небольшой – градусов двадцать пять – всего-то. Но вот – хиуз-северяка. Задержись где на улице да на сквозном ещё, открытом месте, хоть и одет будешь не легкомысленно, проберёт тебя до косточек, до самого хребта просвищет, кожу сдерёт с лица, как тёркой, если шарфом-то не укроешься. Хиуз – не шутка, что тут ещё скажешь.
Ельник вокруг Ялани. Рослый. Вековелый. Чесноком острожным будто, огорожена она им. От чего ли, от кого ли. От мира, может быть, а может – от Пространства. Не от злобных же и шебутных тонгусов – те давно уже смирились.
Освещён луной ельник. В вершинах инеем искрится, будто блёстками обсыпан новогодними. Тихий, загадочный. И манит, и пугает. Больше, наверное, того, кто русских сказок в детстве начитался или наслушался. Бабой Ягой и Серым Волком. Медведь, тот, слава Богу, спит сейчас в берлоге, лапу свою лохматую посасывая, и сны про лето, наверное, видит.
Весь снег с елей, ветви им, словно хвосты кобылам, растрепав, сдул ветер – будут стоять теперь, до следующего снегопада, чистые – как звёзды.
Простригший ельник, словно лист древесный гусеница, Старо-Елисейский тракт, тщательно наглаженный доротделовскими грейдерами и накатанный до блеска лесовозами, от луны как будто маслянится; пустынный – если до утра пройдут тут по нему, через Ялань, ещё две-три машины, это много.
Под снежными, освещёнными луной, шапками темнеют стенами редко теперь – в отличие от недалёкого ещё прошлого, при МТС, когда место, чтобы поставить на нём новую избу, в селе найти было непросто, – стоящие дома. Мало в каком светится оконце и из трубы печной курится дымок. Многие из них давно уже осиротели, догнивают. А некоторые совсем недавно обезлюдели, даже бичи ещё в них поселиться не успели; один дом загадят, в другой переберутся, как воробьи в чужие гнёзда, пообитают сколько-то, а после и спалят, по пьянке беспробудной, а заодно сгорят и сами – дело худое, но обычное, помилуй, Господи.
То тут, то там торчат прямо или косо из сугробов столбы – от развалившихся дворов, вереи ли без полотенец и надвратиц – от крепких когда-то, на века ставленных, ворот.
Сохранившиеся от церкви стены только на фоне неба звёздного и ельника и различимы – как привидение на белом. Престол находится там и поныне – вечен. Хоть и поруган.
Мечется по Ялани вертлявая, как ласка, и кусачая, как горностай, позёмка. Вылизывает старательно лога и косогоры. В огороды, ловко юркнув под нижние жерди изгородей, проникает, там выползками разгуливает. Помешать ей сунуть везде свой нос теперь тут, без ранешних глухих заплотов, нечему особо. И собаки от неё, куда смогли, попрятались. Что-то не видно ни одной нигде, не слышно. Обычно же всю ночь напролёт из угла в угол пробрешут, налаются до хрипоты, после уж, днём, и отсыпаются, если бежать с утра какой куда не надо за своим хозяином.
На угоре, на самой его маковке округлой – сейчас трубой печной луны чуть не касается – стоит на отшибе большой листвяжный пятистенник. Под тёсовой четырёхскатной крышей. С резными, расчудесными, наличниками и карнизом. Если днём его увидеть – буро-коричневый от возраста. Голублевой Катерины. Одиноко она управляется с ним теперь, после того, как сына в армию призвали, как-то обходится. Крепкий дом от времени немного скособочило. Просел на заднюю, глухую, северную стену – будто от лога отшатнулся, как скакавшая галопом и остановившаяся перед обрывом резко лошадь. Так вот и кажется, что в небо, запрокинувшись, уставился он, словно углядел что-то удивительное.
Катерина на кухне. Опару заводит. Собралась завтра, раным-рано утречком, на праздник булочек с вареньями – малиновым, черничным и брусничным – постряпать. Давно уж сдобы ей хотелось. В пост пока и чёрным хлебом, оржаным, довольствовалась.
Крытый синей клетчатой клеёнкой стол, он же и курятник. Сидят в нём на шесте, одна к другой плотно, как чётки на шнурке, будто нарочно кем-то сдвинутые, куры рябы. Нахохлились. Притихли. Дремлют. Среди них, с левого краю – там ему особо, значит, нравится – устроился белый петух с большим, вислым гребнем и малиновой бородкой. В корытце перед курятником желтеют редко зёрна проса – днём ещё, наверное, не доклевали.
Склонилась Катерина, приподняв клеёнку, поглядела на сонных птиц.
– Спите, клуши? Ну и спите, – говорит им. – Утром сбегаю к Осеихе, пшеницею маленько, может, выручусь. Есть-то, дак даст… А молоком с ней рассчитаюсь. Буду в день давать по литре, ей и хватит… Опять насрали-то… только и дела… Даст, поди, а чё не даст-то?
Налила кружкой в корытце воды. Отошла от стола-курятника. Поставила на русскую печь дежу, шалью там, на печи уже, её укутала – так теплее будет тесту, а иначе не поднимется.
– Ну, девка, с Богом… Пусть уж вкусными бы получились… как у баушки раньше… пышными, – сама с собой разговаривает Катерина. – Ох, Господи, – говорит. И вздыхает – вспомнилось-то.
Заглянула, приоткрыв дверцу, в печку. Подбросила в неё два берёзовых, суковатых – для жару – полена. Проточили мыши завалинку осенью, не досмотрела – выстужает в доме из подполья. Тянет в щели между плахами и из углов. Из-за чего везде половиков, дорожек, как их называют здесь, в Ялани, настелила. Ещё ж и к празднику – цветасто. У двери и у кровати по коврику самотканому бросила – в избах сразу и завеселело.
Как в музее этом, в Армитаже – как она, кума, только не скажет.
Сняла с себя фартук Катерина, повесила его на крюк, прочно привинченный шурупами к боковой стенке посудного шкафа. Ещё дед Игнат, Царство Небесное, прикручивал когда-то этот крюк. Двенадцать лет уже как упокоился. Трёх дней не дожил до своего столетия. И умер просто: попил вечером простого кипятку, чтобы только мороз прогнать из вязкокровных нутренностей, вынул трубку из кармана, туго табаком её набил привычно, раскурить было собрался, но передумал вдруг почему-то, лёг на кровать, уснул – и больше не проснулся – будто уехал, себя мёртвого, себе уже ненужного, оставив Катерине. И шкаф-то он, Игнат Иванович, когда-то смастерил. Солидный. Пол под ним со временем прогнулся – тяжёлый – как сердце.
Вышла в прихожую, подступила к окну. Шторки раздвинула руками. Запорошено окно с улицы – стёкла от приставших к ним снежинок дробно золотятся, – но разглядеть в него всё можно. Глаза от бликов заслонив ладонью, вглядывается. Нигде ни огонька. Ни человека. Только за последние двадцать лет сколько людей из Ялани, побросав дома здесь, переселилось в город, став при этом сразу городчанами. Страшно смотреть. Тоска стесняет душу. И Луна ещё. Тревожит. Всё везде осеребрила – так к Земле неравнодушна – ну ещё бы: походи-ка вокруг вечность. Фиста Егоровна сказала бы: рассветилась-то – хоть в пролуби её топи… ага, как ланпа, и у сии тут – скрозь и веки.
Прошла Катерина в баушкину комнату. И тут она опять, луна – раму оконную на полу отпечатала косо – крестом отметилась восьмиконечным. Лампадка светит жертвой Богу – огонёк в ней тонко и жёлто, как загнётная травина, вытянулся, покачивается плавно, убаюкивая тени, не давая им вздремнуть ли. Святые – тихие. Господь – страдает.
– Вот, баушка, – говорит Катерина, – и Рождество. Время-то, время… вроде бы и незаметно. Уж и любила этот праздник ты… и Пасху. Ну дак а как их не любить-то, если заглавные, – сама так говорил а… В белый платочек завтра нарядилась бы. Как будто вижу. Царство Небесное тебе, родная, упокой, Господи, твою душу.
Поправила на кровати подушки, разгладила на ней покрывало. Вышла из бабушкиной комнаты. Стоит посреди прихожей, как застыла, в пол смотрит рассеянно; хотела сделать что-то, взять ли, и не вспомнит.
В дверь постучали.
– Входите, – говорит, повысив голос, Катерина. – Не заперто.
Вступил в избу Ваня Чуруксаев, пропустив вперёд себя околевшую и заскучавшую в сенях, а потому, пожалуй, и нетерпеливую такую, изморозь. Клубом ворвавшись, кинулась та в ноги Катерине, улеглась, укутав их собой, и тотчас же исчезла – будто и не было – такое вот фиглярство.
– У-у, – на неё, поёжившись, сказала Катерина.
Калека Ваня. Несколько лет назад, встретив радушно Новый год с денатуратом и с тройным одеколоном, уснул без памяти в сугробе и отморозил себе руки – отняли их ему по запястья. Вот и живёт теперь безруко. И двери так, культями, открывает. А где калитка с ремешком, так и зубами управляется. Многое ими, обрубками, делать уже приловчился. Летом, на рыбалке, сам как-то, без посторонней помощи, и червяка на крючок наживляет, и рыбу с крючка снимает. «Рисовать ими, – грозится, – научусь, тогда и пить брошу… Всех вас перерисую». – «Не за большим делом, Ваня», – говорят ему на это его слушатели. А иные из них добавляют: «Ну, скорее бы уж, чё ли, научился… посмотреть бы на тебя, на трезвого-то… так охота».
Ровесники они с Катериной. И одноклассники бывшие. Десять лет вместе проучились.
Курить и выпивать Ваня, под робкий ропот печальной, будто подавленной всегда какой-то кручиной, хворью ли, матери и благосклонное отношение к этому начинанию его весёлого вечно отца, оба родителя теперь уже на кладбище, взялся с молоду, ещё и школы не закончив, с тех пор и не перестаёт. Устал, нет ли, не признаётся.
Тихий, медлительный, спокойный, как бы и какой поганью ни напотчевался, внешне не безумствует, бесчинств не устраивает, ни к кому не пристаёт, мимо людей, как тень, проходит, и его никто, как тень, не трогает. Говорит Ваня только чуть больше, когда пьяный. По природе-то молчун он – как дерево – ветру только отвечает то да топору – и он вот – смирный.
Были ли у него когда женщины, не было ли, неизвестно, но женат он не был и никогда ни с какой в Ялани не сожительствовал, это уж доподлинно все знают.
– Здорово, – говорит Ваня. Чёрные валенки на нём позёмкой снизу убелёны – не обметал он их при входе, так только, обколотил немного, попинав ногами крылечко, – как заплесневели. Шапка на нём серая, кроличья. Пообтрепалась, до плешин обшоркалась местами. «С барской башки», – говорит Ваня: подарок зятя, в семье которого перебивается теперь он иждивенцем. Не снимает её Ваня: долго гостить не собирается, похоже. Телогрейка стёганая ватная застёгнута на одну нижнюю пуговицу и висит на нём, на Ване, как на вешалке, свободно; под телогрейкой только майка: закалённый. «Кость не стынет, – говорит он, вязко улыбаясь. И говорит: – И содержимое во мне не заморозить… спирт-то». «Упитанный», – называют его молодые в шутку, ровня: «Ваня», а старухи: «Доходяга».
– Здравствуй, Ваня, – говорит Катерина. – Проходи, присаживайся. Хоть на стул вон, хоть на табуретку. Я и не слышала, как ты воротами там стукнул.
– Не-a, некогда, – говорит Ваня.
– Чем ты так занят? – спрашивает его Катерина.
– Кино пойду смотреть по телевизору.
– А тут к кому ты… в этом околотке?
– К бичихе… к Вале.
– И давно у Вали телевизор?
– Да нет… Обнова: Миша Бармин переезжал, отнёс ей свой старый, по соседству, так, просто выбросить-то, жалко… В городе новый себе купит. А у тебя-то нет?
– Есть, да сломался, – говорит Катерина, кивая головой на дверь в горницу. – Убрала, чтобы бельмом-то тут не пялился. Включишь, засветится полоской. Мастера вызвать – денег много стоит, а везти туда – просить кого-то надо – по пустякам-то к людям приставать не хочется.
– Смотрю, что тихо, – говорит Ваня. – Не бубнит… Восьмая серия, последняя… Так, мимо брёл, дак… Ты меня не опохмелишь? – спрашивает Ваня. Глядит он на Катерину равнодушно, не заискивая, глаза у него жёлто-зелёные, как махорка, и, как махорка же, в крошку-так кажется, когда встречаешься с ним, с Ваней, взглядом. Губы его, когда он говорит, почти немые, и рот при этом, кажется, не раскрывает, слова из него, как из медного быка, глухо доносятся, но кто привык-то, разбирает.
– Нечем, – говорит Катерина, со спокойной душой сегодня, до праздника, утаивая от Вани о созревшем на русской печи и переставленном уже на прохладный пол на кухне кануне в лагушке, рябиновой бражке. – Была поллитра, отдала – фермер вчерась зашёл, аванс потребовал: сено, зарод, мне обещался вывезти. Не знаю, сдержит слово, нет ли?.. Ну а не дать – откажется и не поедет. Чаем могу вот напоить.
– Да не-е-а, – говорит, слова растягивая, как резиновые лямки, Ваня. – Чаю я и у себя наглотаюсь. Воды хватат – река-то недалёко. Нынче… бродил уже по снегу… шипнягу набрал капроново ведёрко… с моими-то цапками неподатно… Подмороженный… Ничё, подсох вроде… Шипо-овный. Вкусный… Чё-то распробовал, дак нравится. Одно худо, чифирь с него не получатся.
– Да и полезнее, чем покупной-то, – говорит Катерина. – Чего там только не насыпят, то и опилки… чуть подкрасят. Ну, молока тогда налью… А может, будешь простокишу?.. Той у меня полно уж накопилось, ставить негде. Телёнок всю не выпиват, куда девать, уже не знаю. Да и с собой тебе могу дать литру. Банку потом вернёшь мне только.
– Не-е-а, – говорит Ваня. – Мне молосное не по желудку. Пробегат наскрозь, будто по шлангу. Ну, может, курево где завалялось?
– Да курево-то у меня, Ваня, откуда? – говорит Катерина. – Не курящая.
– Да так, оставил, может, кто… Предположил… А хлеба мне не одолжишь?
– Кому тут оставлять?.. Хлеба вот одолжу, – как будто радуется Катерина. – Сама стряпала, не магазинный.
– Дак ещё лучше, – говорит Ваня. И говорит: – День полежит тот, магазинный, и зачерствит… хоть гвозди им после, станет, заколачивай.
Пошла Катерина на кухню, достала из шкафа буханку оржаного хлеба, отрушила ножом половину, вернулась в прихожую, сунула хлеб Ване под мышку.
– Спасибо, – говорит Ваня. – Пойду я.
– С Богом, – говорит Катерина. – И ангела тебе в хранители.
– Да от кого тут?.. От собак-то.
– Так говорится. Приходи завтра, я утром сдобы напеку… Муки маленько оставалось белой, ну и надумала… чё ей храниться.
– Не шибко пьяный буду, дак зайду, – говорит Ваня. Помолчал сколько-то, в раздумье будто, продолжает: – Зайду, наверное. Похоже, не с чего и негде… случайно разве. Твой телевизор погляжу. Может, и починю, если получится. Там, может, лампа… раз полоска-то… отошла. До свиданья, – говорит. – До завтра, может, – сказал, плечом на дверь навалился, от притолоки с хрустом оторвал её, открыл и вышел, впустив в избу опять клуб расторопной, пронырливой изморози – ждать той терпения хватает.
– До свиданья, до свиданья, – сама с собой уже, стоя на том же месте, разговаривает Катерина. – Помилуй, Господи, нас, грешных… Ваня сочувственный такой… А потому и пьёт-то, может… Хотела сделать чё-то, и не помню.
Села было выстиранный, вымороженный и днём отглаженный уже, в едва заметный теперь, когда-то синий, скорее всего, горошек пододеяльник ситцевый заштопать – обветшал тот, проносился, – как опять в дверь постучали.
На этот раз – Татьяна Земляных. Женщина лет пятидесяти – пятидесяти пяти. Полная, круглолицая. Не чалдонка. Родители её по столыпинской из Белоруссии приехали. Она-то здесь уж родилась, уже – чевошница. Тепло одета – в серую пуховую шаль и в белый дублёный бараний полушубок. Тяжело, шумно дышит – как в возмущении.
За порог переступила, дверь только за собой прихлопнула и говорит:
– Ох, тошно мне… Пока дошла, и запыхалась… Еле-еле душа в теле… К тебе можно?
– Чё нельзя-то? Можно, можно, – говорит Катерина, вставая со стула и откладывая на стол рукоделье. – Думаю, Ваня там воротами-то брякнул, уходил. Тыс ним не встретилась?
– Да как не встретилась… В воротах прямо и столкнулись лбами. Чё, заходил опохмелиться?
– Ну дак а чё ещё.
– Ну, девка, здравствуй.
– Здравствуй, здравствуй. Проходи, располагайся.
– Ох, ты, лихо одноглазое! Гудит на улице – поземицу-то гонит, – говорит Татьяна. – Схожу, думаю, навещу Катерину, а то давненько не была уж. И мой, до праздника не дотерпел, напился, дрыхнет, едва тёплый. Светло на улице, идти-то ладно. Жива ты тут, здорова, нет ли?
– Ну, – говорит Катерина. – И хорошо, что пришла. Жива-здорова, чё мне будет, кума… молитвами твоими. С кем он, Егор-то твой, напился?
– Да с кем, с кем, с тёзкой со своим, с кем же ещё-то… с Готей Белошапкиным, – всё ещё не отдышавшись, говорит Татьяна. – Друг-то у нас один ведь закадычный. Не дружим с путними, не интересно. Как где сомкнулись, так и понеслось… с кручи на санках. Вихры обоим бы и накрутила… Пришёл. Слышу, что в сенях шарится. А я уж знаю, что хороший: трезвый-то сразу дверь находит, а тут… «ау» лишь не кричит. В избу ввалился, зенки свои, как окунь, растопырил, шапку снял и говорит мне: здравствуйте, тётенька, а кто, мол, ты такая?!. И смех и грех. Здорово, говорю. Чуть поддала, намяла ему кости – удоволилась… когда опомнится, с ним уж не сладишь. Спьяну-то ни меня, ни дом свой не признал – дверь-то, блудил, искал пока, дак и забыл всё. Вот до чего понаберутся. Ты, девка, слышала, письмо от Ваньки получила?
– Получила, получила, – глазами сразу, будто вспыхнули, зарадовалась Катерина. – Перед Новым ещё годом.
– Вот оно чё!.. И не пришла и не сказала, – сетует гостья.
– Да я к себе тебя всё поджидала, – оправдывается хозяйка. Смущённая. – На Рождество-то, думаю, зайдёшь, дак я… и бражки выпьем по стаканчику… и почитаю.
– Горе моё, хоть рюмку бы осилила, – смеётся Татьяна. Щёки у неё, с улицы-то, розовые, глаза обычно серые, а тут, на розовом, заголубели. – А то ещё и по стаканчику.
– Завтра, – говорит Катерина. – Сёдни уж не будем.
– Удивила. По стаканчику-то, дак тебе Егора с Готей надо приглашать… или вон Ваню. Им – и по десять – много не покажется. Подмогут. Пока не свалятся, и не отступят… Ну и чё он, крестничек мой, пишет? – спрашивает Татьяна, расстёгивая пуговицы полушубка и распахивая полы. – Жарко уже – в избе-то… натопила. Прочитай-ка.
Сходила Катерина в баушкину комнату, достала там из ящика комода письмо. Возле стола в прихожей села, письмо из конверта вынула, лист – в линейку, из школьной тетради – развернула аккуратно и, отстранив его от глаз подальше и сощурившись, читает:
– Здравствуй, моя дорогая и любимая мама. Пишет тебе сын твой Иван. Сначала поздравляю тебя с Новым годом и Рождеством Христовым и желаю тебе много счастья, радости и долгих лет жизни, и чтоб в Новом году сбылись все твои мечты и было всё путём. Служить я попал в Бурятскую республику, в город Кяхта, в десантные войска. Служба идёт, как и должна идти. Сейчас нахожусь в наряде по роте, все спят, уже ночь, а мне не положено, так что времени свободного много, вот сижу и пишу тебе письмо. Ну, чего о себе сообщить, пока вроде и нечего, не так уж много прослужил, а то, что долго не писал, так то времени не хватало, то было не до писем, за что, конечно, извиняюсь. Ну ладно, о себе в другой раз напишу поподробней. А как у тебя дела идут, как в Ялани, всё, наверное, по-прежнему? Какая стоит погода? Здесь так себе, потеплей, чем у нас, немножко, снега почти нет, по сравнению с Яланью, можно сказать, и совсем его нет. Не замечу, как и весна придёт, а за нею и лето. Трудно представить, что летом буду не дома, как это так, понять не могу. Но ничего, на это лето не получится, получится на другое, и картошку с тобой посадим, и сено поставим, как всегда. И на рыбалку похожу, покормлю тебя рыбой. Как дядя Володя, как мой братан Витька? Привет им большой от меня. И Васске и Анютке. Привет крёсне. Как она там? Как дядя Егор? Есть ли кто новые в деревне, или так всё ещё никто к нам и не едет, так старики одни лишь и остались? Пиши обо всём и подробнее, я буду ждать твои письма. Фотографии пока нет, а так бы выслал, но как будет, обязательно отправлю. Ну вот и всё, до встречи. Люблю. Целую. Твой сын Иван. Пиши по новому теперь адресу, не на учебку: Бурятская респ., г. Кяхта-3, в/ч 54433 «Я», Голублеву Ивану. Да, чуть не забыл. Привет тебе от Васьки Усольцева. Из наших мы тут только с ним. Койки наши стоят рядом, через тумбочку. По «гражданке» Васька скучает, а по Ялани не очень. А чё там делать, говорит. Ну, до свиданья. Жду ответа.
Прочитала.
Молчат обе – будто где-то происходит что-то, и – прислушиваются.
– Вот, – произносит после Катерина. – С ним там и Васька. Не один. Вдвоём всё же. Еде друг за дружку и заступятся. То эта… как её там… дедовщина. – Лист на стол, не складывая и в конверт его пока не засовывая, положила; руку сверху – как на сердце. И говорит: – Кума, а Кяхта далеко?.. Теперь воюют-то везде, с ума как будто посходили… Помилуй, Господи, спаси и сохрани, – перекрестилась.
– Ну, далеко, в Бурятии-то если… Бог даст, дотуда не докатится, – тоже перекрестившись, говорит Татьяна. – Около дома разве служба… Дом и собака сторожит… А тут-то долг идь, чё поделашь…
– Он и про горе-то ещё не знает наше – привет-то им передаёт. Писать ему, не писать ли пока? – плечами пожимает Катерина. – Там и без этого, поди, ему не сладко… разогорчится.
– Не знаю, чё и посоветовать?
– А я, забыла тебе рассказать, сон же тут видела, перед письмом-то. Сижу я дома будто, и – стучатся. Заходите – тебе вот будто – отвечаю. Входят Володя и племянник. И будто рада им, не удивляюсь. В руках у обоих по венику берёзовому и по ушату. Бельё в ушатах, всё в крови – вроде и ладно. И будто спрашивает у меня Володя: где, мол, твой Ванька, Катерина? – стро-ого – как будто Ваня в чём-то провинился. Спит, говорю. Буди, мол, в баню мы с ним собирались, вчера ещё договорились. Дак не суббота же, какая, дескать, баня!.. Ну, мол, и чё, что не суббота, помыться никогда, дескать, не грех. Я им, ступайте, говорю, а Ваня после подойдёт, мол. Ушли, а я сижу будто и думаю, их же медведица, мол, задрала, куда же Ваню к ним отправлю?
– Ну дак и чё, ты к ним Ивана-то туда послала? – обеспокоилась Татьяна. – Пошёл он, нет ли?
– А я к кровати-то его как будто подошла, – говорит Катерина, – смотрю, под одеялом никого – в ней только вмятина, в его постели… пусто. Ага. И вроде чё там – сон, а места вот себе не нахожу… не знаю, чё… из рук всё валится пошто-то.
– Ну, девка, баня – это плохо, сама знашь, звали-то за собой покойники – совсем худо, а вот то, что не отправился он туда, к ним, за ними ли, Иван-то, и не знаю, – говорит Татьяна. И говорит: – Светка-то вроде, видели, с Андрюхой Сотниковым уж гулят… Сон-то не к этому ли, девка?
– Да ну, болтают, поди, люди, – говорит Катерина.
– Да чё болтают, – возражает ей Татьяна. – Зря-то такое разве скажут.
Обе поплакали – как подышали.
Молчат.
– Дак ты бы, может, как похлопотала, – говорит после гостья. – Кормилец-то единственный, а, может, и отпустят?
– Да чё поеду я, людей-то стану беспокоить. Путём-то если всё, Бог сохранит, дак и вернётся.
– Бог-то Бог, да сам будь не плох… И тебе самой похлопотать бы не мешало. Отпустят, может? Отпускают… Ага. А чё пришла-то я, ты соли мне не дашь… хоть с ложку. На завтра суп варю, бульон поставила, а соли, сунулась, и нет. И в магазине завтра выходной. Куплю, откроется, отдам. Да мне щепотку. Господи, помог бы крестничку… время такое… Господи, помилуй.
Дала Катерина Татьяне соли, ушла та – беспокоится: её, мужик-то, спит, проследить некому, бульон бы не уплыл там.
Подалась Катерина в баушкину комнату. На коврик опустилась, стоит на коленях.
Молиться стала:
– Завтра Ты родишься, Милостивый Судия. С сокрушением и умилением сердца молю Тя, спаси и сохрани раба Твоего, сына моего Ивана, воина, молитв ради Пречистыя Богородицы и всех святых.
Помолилась, в горницу вернулась. Села под лампочку, чтобы заплаканным глазам видеть легче было.
Пододеяльник починила.
– Весь уж, как ветошь… обтрепался.
Бельё выглаженное разложила по ящикам комода.
Спать пошла.
Вслух прочитала «Отче наш».
Постель расправила, легла.
Не засыпала долго-долго.
* * *
Отче наш, Иже еси на небесех!.. – мать сейчас, наверное, об этом. Не – наверное, а – точно. Пояс часовой – если учесть, перевести – и получается. Встаёт ни свет ни заря, пяти нет, а она уже на ногах, и спать рано укладывается. Как дневная птица – напевшись и налетавшись. Легла уже, отправится ли скоро в кровать, помолившись. Перед праздником – так, может быть, и запозднится. Обычно. Когда не выспится – давление – болеет. Под большим секретом будто – шёпотом: чтобы меня не разбудить – привычка. Сколько себя помню. Не всегда же спишь, и притворяешься нередко – чтобы не помешать… Царствие Твоё… Громко и ни к чему: в душе – зычно. Как в тайге, в распадке, гулким предрассветным утром: белка по кедру прошуршит – и оглушительно… Или по насту горностай – далеко, гулко разносится… Ходит по дому – места себе не находит, ну и: из рук всё сё дни валится пошто-то, – сидит с задельем ли каким? Ближе к лампочке, где светлее, – под ней прямо; сетует: тускло. Совсем слепая сделалась… нитку никак в ушко не вдену. Ну, так и возраст: старая – сорок уж… с лишним. Вернусь когда… если вернусь… Господи, сделай так, чтобы вернулся… вовсе состарится… тоскливо. Взвар и кутья – готовы. Накануне. Взвар-то вряд ли – денег нынче на него не хватит. Бражка. Рябиновка – её, рябины, в сентябре ещё писала, много нынче уродилось – к лютой зиме ли, путаю, к глубокому ли снегу?.. Зайдёт кто если – угостить. Сама: ну, рюмки три за всю-то жизнь разве и выпила, не боле; её и на дух мне не надо — дескать… как её, горечь эту, люди только пьют?.. Там. Далеко. Как в недоступном. Рыба так берег видит, пялясь из воды, как я Ялань отсюда вижу, – может быть, так… Тогда возложат на олтарь Твой тельцы… – об этом тоже. И о живых, и о покойных… как там она… всех сродников от веку. И обо мне – как он, земляк и одноклассник мой, ещё и родственник дальний, Усольцев Васька, говорит – конкретно. Дальше уж некуда. Конкретнее куда уж. С утра до вечера. И – сон прервётся – среди ночи. Ночью не шёпотом – уж молча. Как ни о чём – так, чтобы злые не проведали… Поверье?.. И занавески в доме поменяла: праздник большой – со старыми-то стыдно. К нему же, к празднику, дорожки настелила – у полыньи, на льду уже перестирала, в иордани, к Кеми на санках их возила. Скрипят те там, а тут вон… отдаётся. Толсто и матово куржак на окнах – бельма на них морозом будто настрогало – будут незрячи, пока не оттёплит; водой потом наполнятся корытца… Дым над трубой – подпёр орясиной ночное небо – неподвижен, а убери – и небо покосится – зимнее, тёмное, тяжёлое – поэтому. Ельник поддержит. Если не снегопад на улице, то густо над Яланью звёзды. И Млечный путь – почти над домом… Еуляет кто-то, но не разобрать – Отпых мешает… Как нетопырь, перед глазами помелькало и исчезло, смёл будто кто-то всё, как крошки со стола, одним движением руки – и чисто стало – фокус; от глаз, как муху, отмахнул ли – отлетело… Сердце вот только каждый раз занозит – как ёж-игольница, топорщится – тычет от копчика до горла – колко… Водки бы выпить, или медовухи – с той-то скорее унялось бы – уже забыл, когда и пробовал… И если есть Он, Тот, Иже еси на небесех, как иногда в Ялани мне казалось, как уверяет часто мать, если Он в курсе, что тут происходит, тогда – тоска неимоверная: зачем так с нами?.. А если нет Его, как кажется отсюда, тогда и вовсе: звери мы просто-напросто, не люди… Может, поэтому как раз, что – люди?.. Зверь защищается и нападает, но ненавидеть так не может: ребята там, на площади, с отрезанными головами… как грибник – шляпки у грибов… теперь уж кажется: приснилось… Сейчас упал бы и заснул.
Мы тут недавно, в этом доме. Или так кажется. Не знаю. И что давно, а что недавно? – не разобрать – перемешалось. Лото-бочоночки перетряхнёшь в мешке – те так же. Сутки?.. Часы стоят – не заводил: стекло на них – как в паутине – в мелких трещинах и запотело изнутри – стрелок не различить – зачем и заводить?.. Пока пусть будут – материн подарок – как оберег. Взгляну на них – и будто помолился – словно само собой: помилуй, Господи… – но только материным голосом – как въяве.
И от своей пальбы оглох: справа, под самым ухом – мочка онемела – мой тарахтит, а слева – Васькин… Через простенок, меньше метра. Задница к заднице: Васька – левша… Серёга-с кухни – тот из пулемёта. Там и подавно – часто-часто – чаще, чем швейная машинка, – вижу, как мать сидит за ней… напоминает… Но и у нас: не в час по чайной ложке – по десять выстрелов в секунду. И секунд этих – из очумевшего от боя настоящего в новорождающееся, безъязыкое пока, без эха, прошлое, будто через плечо, протиснулось, пробилось – прорва, которая от ужаса, как от мутовки, за эти дни и ночи светопреставления в одну кромешную бессонницу, похожую на сон кошмарный, спахталась…
Будь защитой их во всякой опасности, да не подвергнутся внезапной погибели… – опять её как будто голос, матери… до интонации, до нотки.
Тут уж и вовсе: ухнуло, дом содрогнулся, словно кашлянул и разом весь копотный воздух из себя вместе с потрохами выперхнул, а после тихо вроде сделалось – как на рыбалке, когда в конце августа или в начале сентября, в бабье лето, удишь на плёсе окуней на оловянную мормышку. Чопики в уши будто вколотили – давят на перепонки – больно… Ночь наступила среди дня – солнце – маячило за мороком, заметно, а тут – упало с неба будто, сорвалось: душа, наверное, отлетела, побыла без меня где-то и сколько-то, теперь вернулась – как пришибленная: и снова день, и вроде тот же – возник так, как на фотобумаге в проявителе скрытое превращается в видимое: стою там же, коленками в пол у подоконника, засыпанного штукатуркой и кирпичной крошкой, где и стоял, глазами упираюсь в батарею отопления с проломанной секцией, с засунутым почему-то в пролом парящим дулом автомата, и – чтобы подло не скулить: мама-мама, – вслух, про себя ли подвываю: вы-у, вы-y. И язык узким и тонким, как у змеи, так же, как у неё, как будто и раздвоенным, вдруг почему-то сделался – таким его чувствую, и посторонним, не моим, – в незнакомом прогале между передними верхними зубами остро, но осторожно, как по чужой ограде ночью, шарит – сам себя никак не вспомнит, место ли жительства не может опознать. И нос – влажным и холодным – как у собаки… кирзовым. И привкус крови – будто до одури взасос нацеловался… Сам весь в испарине, и тельник мокрый – при полной выкладке как будто маршем – и только, только что вот добежал, как будто так ещё – в противогазе. Ладони липкие – как от конфет. И кто-то под меня пописал будто – спичка горелая по лужице плывёт… И почему так худо-то, так худо – так не бывало… И начинает доходить – как издалёка, – что это не тишина заодно с моей головой раскалывается с треском, как огромная лиственница от вонзившейся в неё молнии, а он, взводный, нам командует:
– Ноги в руки, и во двор! Живо! К дому, наискосок! К панельной десятиэтажке! – Кричит, осип за это время. Нас лет на пять всего лишь старше. Молодой. Из Тобольска. То ли родом, то ли там учился. Оброс – несколько суток не брился – как в маске. Ещё и в саже. – Щель по стене… мать!.. Рухнет скоро!.. Через подвал! Ребятки, залпом!
Не сам – сорвало будто, понесло.
И в жизни так ещё не бегал – запомнил бы, если бы бегал, – на сухожилиях, как на магнитной проволоке, записалось бы… Быстро – это про другое. Есть подходящее слово, увёртывается от памяти, хоть там и тесно, негде вроде развернуться… Как угорелый – ухватил вот… Легко жить, когда всё хорошо, умей жить, когда худо… Но как суметь, мать, как суметь, и тут – не жить, а лишь бы выжить… Память и ум во мне как будто обособились: она своим делом занимается, он – своим, и я сам по себе, от них отдельно – сучу ногами, сердце обгоняю, чтобы от страха убежать, но – как от тени… Я, – говорит, – люблю тебя, дождусь… Посмотрим… И всё время с кем-то будто разговариваешь – то вроде с матерью, то как со Светкой. С кем-то ещё: спаси, дескать, помилуй – ну это так уже, на всякий случай… И как худо, ох, как худо… Как граната из подствольника, кто-то её отправил будто только что, так же и я вот – из подвала: если задену что-то, стукнусь вдруг обо что-то, разорвусь тут же на осколки, распрыскаюсь на брызги, но на пятках как по глазу – все препятствия впритирочку миную – не взрываюсь… Выезжаю, выезжаю, никого не задеваю – так это я, откуда-то ли это – ветром в голову надуло?.. Бежишь, как по трясине, по батуту ли… будто земля стряхнуть с себя пытается нас – так надоели мы ей, терпеливой; петляешь, как мимо коровьих лепёшек, а всё по прямой, в разных только направлениях: кто-то от смерти, кто-то к ней – будто гоняет нас недобрый. И ребята со мной тоже – не отстают, висками чувствую, не отрываются… Спиной не вижу только взводного: все ли выскочили, проверяет?.. Наши, что ли, саданули?.. Из танка жахнули, из пушки ли с «коробочки». Может, и духи… из чего-то. Грязь во рту-и как попала?.. Не грыз вроде. Из воздуха пылью выглотал?.. Скрипит. С песком… с цементом ли. И это?.. Зубы… Думаю, что такое… Тьфу… Не проглотил… Вроде зима, а столько грязи. У нас такого не бывает, у нас – зима-а… Вот и рябина… Рот был, наверное, открыт. И – слава Богу… Самая маленькая птичка, вспомнил, не колибри – пуля: когда летит, не видно её даже. И: расторопная. Только вот-дура. Как пчёл над пасекой, их во дворе-то… разлетались… в поисках мёда бы… а то, бегу, калибры их затылком представляю – кожу на шее холодит – как от ментола…
А – быстро – это про другое. Тут – угорело…
Но в голове ясно – будто профильтровано. Как на экзамене, сдать который необходимо только на отлично. Ну и сдаёшь – решаешь моментально и самостоятельно, без подсказки лейтенанта: три подъезда – до какого из них ближе? – как-то вычислилось, с точностью до миллиметра, проверять не надо – верно – потому что ещё бежишь, не споткнулся, и потому что кровь ещё в тебе, не выплеснулась, – а ошибёшься, тогда «неуд» – никак то есть… то есть как-то совсем уже по-другому: когда вопрос, может, и слышишь, а ответить никому уже не можешь – про такого говорят: мёртвый… И у ребят, похоже, так же: мчимся, будто нас из одного патрона выпустили – дробью – ровно, кучно – к одной цели – к чему-то. Мысли – как вспышки – озаряют: обогнать!., успеть!., и спрятаться куда-нибудь, куда не залетают эти «птички», или за что-нибудь, в чём они вязнут. И вижу всё вокруг сразу как будто, одновременно, будто глаза ещё и на макушке… как у какого-то… у насекомого… на «сфере» – так точнее. Запоминаю всё – как для ответа.
Площадка детская – между домами – ими, домами, будто огорожена – от кого-то, от чего-то ли. Опрокинутая лавка. Ножки чугунные, фигурные – под лапы сфинкса… Или: волка-ну конечно… Волк тут везде, Аллах акбар… На одну из них, из ножек, скорее всего ветром, налепило белый полиэтиленовый пакет с рекламой сигарет и зажигалок «Мальборо». Башня от танка. Сам танк в сторонке. С развязавшимися шнурками, как говорит Серёга, – гусеницы расцепились. Носом уткнулся в угол дома, молчит, как дед, скорбно. Обгорелый – как банный камень. Жалко так, будто живой недавно был и… скончался. Танкистов ни на броне, ни возле танка. Внутри… остались. Качеля жёлтая – кто-то невидимый на ней качается как будто – пулей, осколком ли её задело – чья-то душа, подумать можно… Скрып-скрап, скрып-скрап – печально, по-чужому, на другом как будто языке. В Ялани так качели не скрипят…
И снег в лицо. Как неожиданный привет из дома. Рывком откуда-то – как лошадь. Густо. То ли просыпался из тучи, то ли с крыши его сдуло. Глотаю машинально – как знакомое, родное – не наглотаться, не насытиться. Место, где зубы были, остужает… В сугроб бы сплюнул – розово бы отпятналось… тут снег не белый – не заметишь. И вечереет. Не как у нас, бархатно-сине, а – серо-буро – по-чужому. Может, и из-за гари – не продохнуть от той и не откашляться. Как будто дети поиграли и оставили игрушки раскуроченные – танк так и выглядит. «Грибок» детский башней – ею, наверное, если представить траекторию её полёта, – снесло, и щепы красные валяются в песочнице – как указательные стрелки – если им следовать, останешься на месте. Раскрашен был под божью коровку. И стена трансформаторной будки, что справа, в красных мелких всполохах – из кирпичей пыль пули выбивают. Как в кино. Только смотрю его, кино это, спиной как будто – не глазами. Не всей спиной, а – позвоночником. С пулемёта кто-то лупит. Чуть выше наших голов – скорей всего, что из подвала. Может, пригнулись-то, и высит…
Из крайнего, левого от нас, подъезда вынырнул дух, похожий на мурену, бородатый, в чёрной ветровке, в камуфляжных брюках и в кроссовках, послал на бегу в нашу сторону очередь из «калаша», будто «чао», и скрылся за углом дома-как в прошлое – канул. Задел кого, не задел ли? Никто из наших ему не ответил, как будто он тут посторонний… И не хочу, и не хочу… Стрелять в людей – такое наказание… Ну а не ты, тогда-в тебя… И выбирай вот.
В подъезд дома – как воробьи от ястреба под стреху – только заскочили, и слышу за спиной сиплый голос взводного: «На двери, на пороги и на большие куски штукатурки не наступать!», – всем телом осознаю смысл приказа – острее всего ступнями, кажется, и копчиком – и подчиняюсь. Пятки – как точные приборы – не подводят… пока… и дальше бы не подвели… И: кто-то там… спаси, помилуй – не я как будто, кто-то за меня.
Шесть квартир в подъезде. Бывших: от них осталось – лишь коробки. Три налево, три направо – симметрично. И где-то видел я уже такое – точно так же расположены. Не помню. На полу подъезда плитка. Прямо – лифт… Был когда-то, теперь от него – дыра сквозная – танком проломано или снарядом. Куст за дырой – как на картине. Листья ещё на нём – редкие. С осени не опали. Бурые – как будто… В офицерском доме, может, в части?.. А-а. У тётки Светкиной, в Исленьске… Ночь. Тайком… Фаланги тонких, длинных пальцев – будто без косточек, а с фитилём внутри, как свечка восковая, – мнутся… На спусковом крючке когда-иначе… на указательном даже мозоль набило – как от литовки – с непривычки. Как сенокосить раньше не любил, сейчас бы – с радостью…
Дверей в косяках нигде нет – взрывами с петель их посрывало – как и где попало, на площадке валяются – пятнисто: голубые, в кожах, и одна из них – зелёная. Изнутри… или снаружи?
Только свернуть нам в первый дверной проём, как тут – будто за нами прямо – и шарахнуло. Не ожидаешь, и не страшно. Страшно становится потом, когда представишь… Лучше не представлять, а то свихнёшься – это же каждое мгновение – мозгов не хватит. Трава не думает – ей проще…
Ваську первым – первым он и вбегал, всех обогнав уже в подъезде, – взрывной волной внесло в квартиру, в самый угол, как бильярдный шар в лузу, меня – за ним. За мной – Серёгу. А у Серёги пулемёт… Даже из рук его не выпустил – вцепился. А там не ложка – девять килограммов. И когда его, Серёгу, с ним швырнуло, меня прикладом по хребту ударило им, пулемётом, – после уж понял – больно, рёбра хоть, ладно, не сломало… Среди всего-то это мелочь.
Стукнуло Серёгу – будто сырой ком глины шмякнулся об стену – так показалось сразу, вспомнилось ли после. Живой. И я живой – если смотрю и вижу: вскочил Серёга на ноги – и вроде как всегда, как человек обычно поднимается, – а левая под ним, смотрю, подмялась. Упал он на пол, на спину, опёрся на локти, лежит, как на пляже, глядит на свою сломанную ногу – глаза округлились. Рот у него открылся – зубы сверкают на грязном лице. Как негр. Чему-то сильно будто удивился. И кость торчит из прорванной штанины. Белая, белая сначала, и розоветь как будто стала… На ум мне всполохом пришло такое:
Был я тогда совсем ещё маленьким, ещё и в школе не учился, осенью, по первому морозу, к ноябрьским, пришёл к нам, по просьбе матери, забить бычка старый Фанчик, со скошенным пулемётной пулей во время финской войны подбородком. Мать, помню, подготавливала бычка: успокаивала его, встревоженного, тёплым подсолёным пойлом, гладила его по холке, что-то ему шептала на ухо и кратче плакала – но я-то видел; дедушка Игнат сидел в ограде на лавке, наблюдал, хотя был совсем уже незрячим. И я – во всём, там где-то рядом. И высоко над всеми нами Кто-то… Вывела мать в ограду бычка. Ушла в дом. Зарезал Фанчик – прежде и он на ухо что-то пошептал бычку – ловко вынутым из-за голенища хромового сапога ножиком скотину, подставил под струю хлещущей крови медный ковшик, наполнил его до краёв и выпил содержимое до дна, запрокинув к розовому морозному небу голову и проливая на ущербный подбородок и на вылинявшую до белёсости телогрейку ярко-красную струю. После, слушая или не слушая советы следящего за происходящим только ноздрями глухого и слепого дедушки Игната, чтобы ей, матери, легче было управиться с мясом, разрубил Фанчик тушу на мелкие, сподручные, куски… Там тоже кости были белые сначала.
«Отвернись. Не смотри, – тогда сказала, помню, мать мне. – Умирать тяжело ему будет».
Ну а без этого не тяжело как будто?
Васька смеётся, как придурошный, – крепко башкой-то, видно, долбанулся. Каска на нём, и та расплющилась как будто – кажется – свет ли какой сюда проникает, на ней так отражается, бликует. Васька маленько ненормальный. Все они, Федосовские, маленько… Был в родове у них, по матери, Федос какой-то…
Мне легче всех – свалило меня на диван – уселся прямо, как положено, – в воздухе так ещё, руками чьими-то как будто, развернуло и направило.
Тут, у дивана, и стошнило. Одного меня. Ни Ваську, ни Серёгу. Как настойкой на махорке. Прикрыл после каким-то, развернув его, журналом; не по-русски весь написан – закорючками…
* * *
Самый центр России. Территориально, следует уточнить, а то, не приведи Господь, возникнут вдруг недоразумения. Сибирь таёжная, суровая – самая-самая резкоконтинентальная. Намакова землица, как значится она в грамотах семнадцатого века, приграничная с тонгусами. Рядом с одной из величайших в мире рек, скованной сейчас, в глухозимье, крепко-накрепко льдом. Что до Москвы, что до Тихого океана отсюда – одинаково. До Большой Медведицы, пожалуй, ближе – она-то всё же на виду – спокойней. Южней – Саяны, севернее – тундра. Пространство, пространство, пространство. Так что даже и не представляется – как о Вселенной… И кричать, так только в небо, до кого же дозовёшься. Но чувства оставленности нет – у чужака, у постороннего, быть может, и появится: и тут чья-то родина.
Ялань.
Поздняя ночь. Предутрие. На Рождество. Уже, наверное, родился…
Безоблачно и студёно: полюс медведем белым дышит – отпыхивается. Где горит на электрическом столбе, в чьей-то ограде ли какая лампочка, и видно, как сверкает в воздухе изморозь – цветными блёстками – не до чего им, разноцветным: между собой переговариваются – как о сокровенном.
Вокруг Ялани, словно обод на колесе, заснеженный ельник. Стоит – Господь его будто поставил, – смирный. Господь, конечно, и поставил.
Тихо в Ялани. Безлюдно. Только собаки изредка в разных краях села побрешут. Да просеменит, когтями стуча по промёрзлой дороге, какая-нибудь из них по улице – куда-то, и сама, поди, куда, не знает.
Посреди Ялани, почти неразличимо на фоне снега, матово мутнеют стены церкви бывшей – Сретенья Господня. Без куполов, без колокольни – будто прицельно по ним били. Пусто в ней, давно разорена. Раскурочена, как говорят здесь. И восстановить её некому. Летом, спасаясь от зноя и от овода, забредают в неё лошади, коровы и овцы – мирно все там пребывают. Сейчас скрываются в ней от лютого мороза воробьи и вороны. Как им там, на намоленном когда-то людьми месте?.. Душа робеет, как подумаешь.
Со стороны Вельска въехала в Ялань машина. ГАЗ-66, с нарощенными бортами. Остановилась – как думающая. Постояла с выключенным светом минут пять. Тронулась, не включая ни фар, ни габаритных огней. Свернув с тракта и прорезая в глубоком снегу узкие колеи, приблизилась на первой передаче к дому-пятистеннику с тёмными окнами и с жидким, едва заметным, дымком над трубой, задом спятилась к сложенной впритык к забору поленнице берёзовых дров. Из машины, не заглушая мотор и не хлопая дверцами, вышли двое. Потоптались, молча и оглядываясь. Только снег поскрипывает у них под ногами. После один забрался в кузов, другой, сгребя с поленницы снежную шапку, стал подавать товарищу поленья, тот – их в кузове укладывать бесшумно. Закончив работу, они сели опять в кабину. Вырулив гружёно на тракт, осветив перед собой дорогу и обозначив себя подфарниками, машина направилась в сторону Елисейска. Дорога ровная – доедут.
Где-то, в чьём-то хлеву, наверное, может, и в доме чьём-то, с улицы еле слышно прокукарекал первый петух.
Располосовал небо чуть ли не пополам, как стеклорез алмазный, метеорит, ни с одной звездой при этом не столкнувшись. Небо не развалилось.
Катерина подышала на стекло. Поцарапала по быстро обрастающей наледью круглой проталине. Проводила взглядом скрывшуюся за ельником – там, у Копыловской полины, где когда-то стояла часовенка и где в декабре прошлого года медведица задрала её, Катерины, брата и племянника, – машину. Отступила от окна. Задержалась среди горенки. Положила ладонь на озябший от холодного оконного стекла сосок левой груди и сказала в темноту:
– Ну и ничё, переживу. Изгородь буду рубить… Потом – заплотишко. До лета хватит. Лишь бы Ваня вернулся живым и здоровым… А у людей, раз взяли-то, топить совсем, поди, уж нечем.
Зашла в баушкину комнату, подтянув рукой ночную рубаху, опустилась больно коленями в коврик, горячим лбом приткнулась к стылому полу и, проткнув зрачками землю, молча прокричала:
– Господи, Господи, Господи, Господи…
* * *
Снарядом, взрывной волной которого – ну хоть в окно-то никого не выплеснуло, слава Богу, – сильно подторопило нас в эту недавно ещё однокомнатную квартиру, теперь – просто, как говорит взводный, «гнездо» на разных посетителей, то ли стенной бетонный блок вышибло, то ли перекрытие потолочное обрушило – проём дверной загородило наглухо за нами. Как в ловушке – за щеглами. И чирикай: назад ходу нет, стенку только долбить, и вперёд – в окна не сунешься: тут же, как в тире, расстреляют, а после: или вмёрзнешь, если доползёшь, плевком где-нибудь в угол, или на гусенице, как солома гороховая, поедешь… как там вчера… позавчера ли?., день ото дня не отличить – слиплись, будто раскисшие в тепле пельмени, и ночи эти дни не разделяют, а ещё больше вроде смешивают… И уж совсем не по себе… Одно – как издали, но – утешает: могло быть и хуже – то есть, скорей всего, уже никак, ворвись он, этот снаряд, в дом чуть левее, чуть правее, чуть ли раньше; слава Богу, пока живы; только вот в голове гудит ещё, как в дымоходе при хорошей тяге…
Пройдёт до свадьбы.
Торчит из-под нижнего края бетонного блока, притиснутый к полу, приклад автомата, и, как платочек из кармана, высовывается из-под него же, из-под блока, запылённый уголок полы бушлата камуфляжного. Подоспел кто-то, вбегал за нами следом… Вот и оно – уже никак-то?.. К ней-то уж, точно, что не опоздаешь… Вроде бы Костя Перелыгин из нашего взвода, нашего призыва… Нау-сразу, там ещё, в учебке, так его прозвали – из всей музыки слушал только Бутусова, торчал по-чёрному… Что лишь бушлат – так лучше думать… вынесло самого… как нас сюда вот… может, туда, в дыру от лифта – дескать… Неживым Нау не представляется – добродушный…
Васька толкал плечом её, эту плиту, – не подаётся: завалило там, снаружи?.. И сама-то – сколько ж весит – такую не сдвинешь – только краном или трактором. Попинал ногой Васька и приклад под ней – и тот зажат, конечно, намертво.
С улицы, перед самыми окнами, метрах в двух от них, не дальше, громоздится перевёрнутая на бок БМП, загораживает весь вид – сумрачно от неё в комнате. С одной стороны, вроде и не плохо – от пуль защита; с другой: а если подожгут её, сама ли загорится, нас тут, как рябчиков, на сале собственном зажарит. Топливо пролилось – ну а запалы-то, как мухи над помойкой…
По всему полу комнаты валяются открытки, фотографии, окурки, шелуха от семечек, битая посуда, ложки, вилки и стреляные гильзы. Разные калибры.
На качающейся беспрестанно жёлтой люстре с четырьмя разбитыми плафонами и без лампочек в патронах висят белые колготки.
– Парламентёром с ними выходить… Сдаваться… Придётся, может, – говорит Васька. – Выкуривать-то если нас отсюда станут. – Чиркнул зажигалкой, поднёс к колготкам огонёк – загорелись и расплавились те медленно, но верно, капая при этом шумно на пол дымно-огненными каплями. – Русские умирают, но не сдаются.
– Вони, Рыжий, тебе мало, – говорю я ему. – И так дышать нечем. Дурной, что ли?
– Это не вонь, а подогретый запах барышни… Возбуждает… Как соломка, – отвечает Васька. И смеётся. Сейчас – под каской, но вообще он – рыжий. Не как старый кирпич. Как жухлая трава. И весь в веснушках – будто осыпали его мокрого с ног до головы семенами конского щавеля – те и пристали, присохли, как рыбья чешуя, – не отковырять. И вихор у него чуть выше левого виска – всегда стоял, помню, дыбом – как нацистское приветствие, ничем не мог его Васька укротить, только налысо когда сбривал свою, похожую на моток спутанной медной проволоки, шевелюру, теперь смирился: хрен с ним, с вихром, мне, мол, он не мешат. Ирокез, называет Ваську Серёга. И на это тот смеётся. Никогда унылым я не видел Ваську. Ни разу в жизни. Федосовский. На кол его посадят, отмороженного, закурить, наверное, попросит только – вот уж где человече, так уж человече. «А ему, залупаю крапчатому, что шло, что ехало, – говорит про Ваську отец его, дядя Коля. – Он и родился-то не как все люди – задом наперёд… раком».
– Ну и висели бы, – говорю я. – Раз возбуждает…
– В шкафу пороюсь вон, может, ещё одни найду, повешу, – говорит Васька. – Для тебя специально. Не переживай. Смотри, не кончи только… Ё-моё, а семечек-то тут нащёлкали.
– Курева нам, смотрю, надолго хватит, – оглядываясь вокруг себя, говорит Серёга. – Во, повезло…
Чем-то похож Серёга на Гагарина, на космонавта. Ямочки на щеках. Улыбчивый такой же. Лежит он, Серёга, на сложенном вдвое персидском ковре. Когда немного опомнились, Васька вправил ему, как смог, кость, из лакированных подлокотников разломанного им кресла смастерил шину и скрепил её смотанным с приклада своего автомата резиновым жгутом. Я достал из шкафа дублёнку и накрыл ею Серёгу – трясло того, как от похмелья.
– А там-то полный, – добавляет, – был голяк… Хоть штукатурку заворачивай.
Учился он, Серёга, на третьем курсе Иркутского университета и захотел вдруг послужить – отдать долг Родине. На философа. Или на филолога… Филфак какой-то, на котором он учился. Не выгнали – по собственной дури: сам пришёл в военкомат и напросился. Вот, служит – отдаёт. Сейчас бы пиво пил и с девками гулял там – где-то… Васька по имени его не называет, а так: «Умный».
– Ну, ты и… У-умный, – говорит Васька, наверное, вспомнив. – Надо же умудриться так об стену… Не Джеки Чан, ядрёна мама… Как лепёха коровья с лопаты – плюхнулся… Вон, от тебя обои все заляпаны.
– Ты тоже не Ингебаров, – говорит Серёга.
– Чё? – спрашивает Васька, приподнимая над глазами каску.
– Через плечо, – отвечает ему Серёга, – и между щёчек.
У Васьки привычка: скажет что-нибудь и подмигнёт. И присказка у него такая: «сказано – сделано».
– Сказано – сделано, – говорит, подмигивая мне, Васька. Ничего это не значит, просто сказал, подмигнул – и всё тут. Я-то знаю. Чуть ли не с яслей… И есть, что с яслей.
– Ты не мелькай перед окном, – говорит ему Серёга. – Как манекенша, разгулялся.
– А чё? – говорит Васька, оглядев со всех сторон и опалив над огоньком зажигалки прежде, затем только прикуривая подобранный им с полу хабарик. – Хороший, жирный… Ой, а вкусный-то… И чё за сигарета?
– А ничего, – говорит Серёга. – Кому-нибудь понравишься… там, за оптическим прицелом.
– Да всё равно ничё не видно, – говорит Васька, опять приподнимая пальцем съехавшую на глаза каску и выпуская изо рта в нос себе дым. Присел он посреди комнаты на корточки – как остяк.
– Почему, Васька, у тебя глаза красные?.. Как у ведьмы. И я, наверное, в них кверх ногами… Подойди-ка ближе, посмотрю, – говорит Серёга. И говорит: – Сейчас бы выпить.
– Умный, – говорит Васька. – Только там, из унитаза. И тот раздолбанный, наверное?.. Дрисня там. Будешь?
Серёга улыбается. Говорит:
– И пожрать бы… Водочки-селёдочки. Как это всё же замечательно: селёдка, водка…
– Ага, – говорит Васька. – Пожри вон…
В углу, на жестяном цветном подносе, лежит дерьмо – человеческое.
– Вынеси, – говорит Серёга. – В сортир. Или на кухню.
– Выноси сам, – говорит Васька. – Не я же это сделал. – Поднялся с корточек. Взял поднос в руки, унёс его на кухню, в окно, наверное, выбросил. Вернулся.
– Есть там, на кухне, что съестное? – спрашивает у него Серёга.
– Ага, оставили там для тебя… с запиской поздравительной, – отвечает ему Васька. – Шашлык и помидоры. Полный холодильник. Битком. Принести?.. Поднос-то зря я только выкинул, а то на нём бы…
– Да мало ли. Знали же ведь наверняка, что сюда кто-нибудь заскочит… Могли бы и оставить, – говорит Серёга. И говорит вдруг ни с того и ни с сего: – Василиск утоляет голод, Васька, полизав камень.
– Ну, этого-то тут… – говорит Васька. Не договорил. Курит. Говорит после: – Лижи вон, сколько хочешь.
Лежат под столом какие-то камни. С кулак размером и штук десять.
– А что это за камни? – говорит Серёга. – Кто и зачем сюда их приволок?.. Интере-есно.
– А хрен их знат, – говорит Васька. И говорит: – У нас с такими капусту солят.
– Капусту?
– Чё, глухой?
– Капусту солят вроде солью.
– Умный… Чтобы не портилась, придурок. Тебе не больно, что ли, растрепался… И черемшу.
– Любопытство – страсть – сильнее боли.
– Мудил-ло.
– По-русски так не говорят.
– А по-какому?
– По-итальянски.
– А всё равно, хоть по-какому.
Правое плечо, чувствую, горит – пулей чиркнуло, когда бежали через двор, бушлат прорвало под погончиком. А когда ещё входили только в город, снайпер – кость, слава Богу, не задело – процарапал левое плечо. Кровь по руке сбежала, запеклась – кожа чешется, как от чесотки, – помыть бы. Труба отопления вырвана из батареи – сочится из неё вода каплями. Помою после… Может, и помою… Об угол шкафа можно почесать, пока и хватит.
Обои на стенах исписаны и нашими, и духами – кто тут только не перебывал за это время… Прошла неделя, ну а кажется – лет сто. По-русски, по-английски и, наверное… no-ихнему. Мы с Васькой учили в школе немецкий. Васька, кроме дер фатер унд ди мугпер поехали на хутор, ничего больше и не помнит. Но по-немецки ничего тут не написано.
– Чё тут начирикано? – отмахивая рукой от лица табачный дым и внимательно, как дембельский приказ,, разглядывая надписи, спрашивает Васька у Серёги. – Ты же умный.
– А зачем тебе? – говорит Серёга. – Поздно учиться – мозги отморозил.
– Так и скажи, если не знашь.
– Да чё тут знать… На этом, правда, не читаю, – говорит Серёга. – А по-английски так, примерно: Русские свиньи, место ваше – в свинарнике или на бойне… Только безграмотно… Ещё про девок наших русских… Успокоился? То же самое, скорей всего, и на… какой тут… Фантазия от языка не зависит. А что на русском, сам, надеюсь, прочитаешь.
– А чё про девок?
– Обойдёшься… Тебе ещё рано. Узнаешь – спать не будешь, не уснёшь.
– Ага, – говорит Васька. Поднялся с корточек. Содрал обои с надписями, исполненными красной краской из баллончика, и штыком, высунув от усердия язык, по штукатурке крупно процарапал: «Пидарасы». – Без девок как, без них не обойдёшься.
Мы проследили, как он это сделал.
Отошёл Васька от стены, сел в углу опять на корточки. Молчит – как будто думает.
– Через о пишется, – говорит Серёга.
– А? – говорит Васька. – A-а. Какая разница. – Выбросил щелчком окурок – из своего угла в противоположный; упав, окурок разыскрился. И продолжает после Васька: – Кому положено, разберётся… А пидар, он и в Африке… такой же.
Крошка кирпичная, кусочки штукатурки ли – холодят колко за шиворотом бушлата, прилипли к коже, шевелишься, но не отстают – сапожными гвоздями вбились будто – как в подошву. Штаны… – сыро и холодно. Переодеться бы. Сейчас бы в баню… Шею нарезала – горит – верёвочка с личным номером… натёр шнурок ещё от крестика… когда вспотеешь-то… теперь вот зябко… как кошке, выбравшейся из воды… Да почему так худо-то, так худо…
Совсем стемняло.
Сидим. Помалкиваем.
Автомат у меня на коленях. Не стреляем. Куда стрелять?.. В БМП. В самих себя. Рядом с Серёгой лежит его пулемёт, но коробка с патронами от него осталась там, в подъезде. Друг друга уже почти не различаем – блестят иногда в потёмках только глаза и зубы – то у Серёги, то у Васьки… свои – не вижу. Мышь их унесла…
На стене висит зеркало, но так, одна рама… осколки замёл кто-то ещё до нас в угол – высятся, поблёскивая иногда, горкой.
Прошёл где-то танк – слышишь его не ушами, а всем телом – земля сотрясается, пол то есть.
В огне где-то «стреляют» рассыпанные, наверное, кем-то патроны – вяло, понятно, что не из ствола.
Пулемётные и автоматные очереди, залпы орудий и разрывы мин и снарядов – не стихают, то где-то далеко, то тут, рядом.
Угарно от проникающих сюда выхлопных газов – город ими переполнен… если это город, а не… ад, ад-то – понятно… точно, что не Рай. В лёгких уже – как в баньке по-чёрному или как в переполненной курилке.
Три дня назад видел на столбике кусок хлеба, теперь жалею, что не положил его, этот кусок, в карман бушлата… аж слюни, вспомнил, потекли, зараза… злюсь на себя, на дурака.
И пить… В ладошку под трубой. Серёге – баночку подставили – накапало.
То и дело ненадолго засыпаю. Клюю носом. Как ворон. Может быть, и с открытыми даже глазами. Снится одно и то же: амбар наш возле дома, и я там, разгребая какое-то барахло, что-то испуганно ищу, дверь открывается – и мать в проёме – за нею солнце-мать не разглядеть… Просыпаюсь – не сразу, но осознаю, где нахожусь, – тут же становится хреново, стискивает сердце. А когда тихо – не уснуть…
Опять, под грохот, засыпаю. Вижу сон: прилетает моя душа домой, смотрит, как мать моя сидит за прялкой, и она, душа моя, начинает ссучиваться вместе с нитью на веретено – больно, больно, безысходно. Душа, во сне, когда летит, похожа на сороку. А когда ссучивается – на скрученную в жгут простынь. Во сне. Не знаю, как на самом деле. Но то, что есть она, душа, спросонок верится… Ну не одно же только тело… Чего б ему тогда бояться? Мучиться – ладно. Но бояться?..
Во время тишины – шлепки отдельные: снайпер этажом, двумя ли выше. Работает. Наш или не наш?.. А если лупанёт кто по нему? А если там боезапас – это ж как раз вроде над нами.
Серёга не спит.
– Сейчас укольчик-промедольчик бы, – говорит он. И говорит мне:
– Ваня, нащупай там, возле себя, хабарик… Тут, рядом, все уж искурил, – и спрашивает: – А ты что, девственник табачный, и никогда, что ли, не пробовал?
– Нет, почему, – говорю. – Пробовал. В детстве. Пыхал только, не взатяжку.
– Ага, – встревает Васька. – Конский щавель и крапиву.
– Молодец, – говорит Серёга. – И не кури – вредно.
– Пошёл ты…
Смеётся.
Ваське не сидится – шило в одном месте, и всегда так, помню, с ним было – тянет, слышно, из-под завала в двери полу бушлата.
– Карман, – говорит.
Скрипнул кремнем зажигалки. Вспыхнул огонёк – лицо его, Васьки, видно: разглядывает что-то. И говорит, читая по слогам:
– Фе-но-бар-бутал… О, ёлки-палки.
Погасил зажигалку. Шагает Васька – ходит всегда шумно – как ёжик. К Серёге подступил, подал ему таблетки, наклонившись.
– Спасибо, – говорит Серёга.
– Не все сразу, – говорит Васька. – Аптеки рядом нет.
– Не заботься, милый.
– Хочешь, – говорит Васька, – прикладом получить по морде?.. Тогда ещё и челюсть надо будет склеивать.
– Всё бы прикладом и по морде, – смеётся Серёга. – Нет, доброе что-нибудь…
– Сказано – сделано… Получишь. Ты «милый» взводному скажи.
Считаю про себя в услышанной очереди выпущенные пули – ушли куда-то… до кого-то.
Холодно – как собаке – был бы один, так и повыл бы. Сдерживаюсь как-то. Но зуб на зуб не сходится.
Напротив в доме стрелок с пулемётом Калашникова и гранатомётчик. Молотит. Представляю его – сидит, бородатый… или – мальчишка.
Сижу и я. Только не у окна. Возле шкафа.
Работает кто-то по окнам в нашем доме трассерами, и у нас светло становится.
Визжат рикошеты – с души от них воротит.
Залетела и к нам шальная пуля, раза два, облетая комнату, задела что-то и успокоилась… подозрительно мягко.
– Э-э? – говорю я.
– Э-э, – говорит Серёга.
– Васька? – говорю я.
– Ну? – отзывается Васька. – У-y, ё-моё, мозоль на пятке, – разулся, ещё и носком его пахнет.
– Совсем Освенцим, – говорит Серёга.
Не высовываемся.
Оглоушило от выстрела из РПГ. В ушах тепло – сера как будто вытекла. Рук не хочется поднимать – так худо. Постель в казарме вспоминается… И – Светка… Лучше, лучше не об этом. Тогда о чём? Оно само на ум приходит, со мной не советуется.
Тихо. Снайпер пуляет из бесшумки – фыкает.
Смотрю в потёмках на Ваську – тень на тени. Уже – ему хоть грохотно, хоть тихо – дрыхнет на диване, угомонился, не ходит мимо, не трясёт штанами – и забываю его имя, всплывает почему-то только это: «груз двести»… не дай Бог… наверное, сквозь дрёму – так-то живой он, слава Богу, вспоминаю. Васька, начиная с первого класса, изгрызал все свои пишущие ручки, и в восьмом ещё этим занимался. Рот всегда, помню, и на занятиях и после них, был у него в синей пасте – как у чернильного вампира. И пластмассовые – те изжулькивал. И деревянные – эти уж до железного зажима, куда пёрышко вставлялось. Ручка его с верхнего конца становилась похожей на кисточку, хоть стенгазету ею было оформляй.
– Хорошо тебе, Умный, – проснувшись, вдруг говорит с дивана Васька. – Теперь в санчасти будешь прохлаждаться.
Молчит Серёга, не отвечает.
На стене около шкафа висит фотография – отсвечивает, – на ней, помню, мужик какой-то с собакой… вроде на русского похожий.
– Беспородный человек имеет породистую собаку, – говорит вдруг, вряд ли ведь он успел заметить эту фотографию, Серёга. – А дворянин – дворнягу… Интере-есно.
– А чё тут интересного? – спрашивает его Васька. – Уже бредишь, – поднял, когда ещё видно было, с полу плейер, держал его в кармане – сейчас швырнул его, наверное, об стену – упал тот, слышно, на пол, разлетевшись.
– Подумать надо, – говорит Серёга. И говорит: – Солёные помидоры могу есть быстро, а грецкие орехи – нет.
– Ты – Умный, – говорит ему Васька. – А чё же здесь тогда, не в этом… как его там… университете… баб не тискашь?
– Киты по речке не плавают, – говорит Серёга. – Киту нужен Океан.
– А-а, – говорит Васька. И говорит: – Сказано – сделано… конечно. А дураку-то… хоть и в Океане.
То и дело освещается наше «гнездо»: трассеры – туда-сюда – простёгивают город и небо над ним – как телогрейку.
Дискотека, да и только.
Возле окна валяется горшок с кактусом. Васька – как на отдельных будто, вижу, фотографиях – поднял с полу горшок; поставил его на стол; украсил кактус, пришпилив её на колючку, золотинкой от шоколадки.
– Хоть шоколадку бы оставили, сожрали. Рождество, – говорит. Опять смеётся. – С праздником вас, архаровцы… Сказано – сделано… солдаты… Если, конечно, в Бога верите. Я-то не верю. Ну а выпил бы…
– Никак нельзя сейчас коньки отбросить, – говорит Серёга, поскрипев прежде зубами – ногу, что ли, попытался передвинуть.
– Почему это? – спрашивает его Васька. – Чем не время? Лучше и не выберешь. Все тут тебе услуги… и бесплатно.
– А потому что и сейчас, наверное, – говорит Серёга, – по случаю праздника, возле ворот Рая нет Святого Петра, отлучился по начальству, и в Рай можно пройти на халяву… Не интересно.
– Придурок, – говорит Васька. – Чё бы хоть путнее… Рай-то и так тебе – перебегай вон к духам – обеспечен… Ушей нарежешь после наших.
– Холодно, – говорит Серёга. – Как на катке с голой задницей. – И говорит: – А всё же любопытно…
– Чё тебе любопытно? – спрашивает Васька.
– Вот… Спал я, допустим, со своей тётей троюродной.
– Как это спал? – спрашивает Васька. – Так просто… как ребёнок?
– Да нет, – говорит Серёга, – в двадцать-то лет… какой ребёнок. На два года она меня младше.
– Ну, ты даёшь…
– Кто-то с неба, – говорит Серёга, – из наших с ней родственников, интересно, наблюдал за нами? Нет, наверное… Бог бы не допустил подсматривания… Это же недостойно, развращает. А всё равно вот совесть что-то меня мучает.
– Мало поспал?
– Да нет. Что было.
– Ага. Маньяк, – говорит Васька. Растирает ногой на полу что-то – кусок штукатурки, может, или окурок? – Близко и подходить к тебе опасно… то подомнёшь ещё, как курицу.
– Бог терпел, – говорит Серёга, – и нам велел. – А после: – Искуситель и Искупитель… Разница только в букве… Если слова эти перекрестить в буквах эс и пэ, то Сатана и Пантократор получается…
Васька уже спит: сопит – слышно. Он так всегда: говорит, и тут же засыпает, просыпается, и тут же может в разговор вступить, хоть и храпел ещё только что.
Серёга простонал, затих после. Теперь напевает:
– Пьяный доктор сказал, что тебя больше нет, – и говорит, прекратив петь: – Кассету кто-то скоммуниздил… Васька, не ты?.. Таскался с плейером тут.
Провыли «грады».
Сквозняк – и из-за шкафа, и из-под него – никуда не спрячешься – кости от холода лопаются, как перемёрзшие водопроводные трубы, немеют мышцы. Вроде и тряпками уж обложился. Теперь уснёшь, только когда совсем замёрзнешь.
– Умирают люди, умирают, – говорит Серёга, тоже там, в темноте-то, шороборится – дублёнку под себя подтыкает, наверное, – и всё никак не вымрут… Больше и больше на планете их. Как плесень.
Молчим. Чуть позже Васька:
– Ну, так рождаются же… Умный. Домой бы счас, и в баньку бы с отцом.
Молчим сколько-то.
Брякает Васька автоматом – разбирает его, что ли. И говорит:
– Супу бы сейчас, Ванька, полную тарелку, хороший бы кусок сохатины с деручей горчицей и медо-у-ухи бы литруху… Или ты спишь?
– Заткнись, – говорю.
– Да ладно. Не переживай. Сказано – сделано… Ну и пропела.
Пролетела со свистом мина, пущенная, похоже, из стодвадцатки, бухнула где-то недалеко.
И тут же, следом: будто не дом уже вздохнул, а – город.
Ослепило.
И потолок на нас стал падать…
Господи, Господи!.. Мамочка-мама!
* * *
14 апреля.
Пасха.
Полночь.
Сергей Захарович и Ирина Михайловна в постели. Под разными одеялами в белоснежных пододеяльниках. Читают книги. Сергей Захарович – второй том русской истории Карамзина. Ирина Михайловна – детектив Марининой.
Ирина Михайловна, перелистывая, но не отводя от книги глаз – будто дочитывая вслух страницу:
– Сходи завтра к Хромову, поговори с ним…
Сергей Захарович, тоже не отрывая от книги взгляда:
– О чём?
– О ком, а не о чём… О Женьке.
– Никуда и ни к кому я не пойду.
Какое-то время тихо в спальне. Тикают напольные, в рост человеческий, часы. Порыгивает в батареях отопления вода.
– Надо было отдать его, засранца, в армию, – говорит после Сергей Захарович. – Ещё и к Хромову ходи тут… Обойдётся.
– Ага, и где бы был сейчас он?.. Скажешь, – реагирует на это сразу Ирина Михайловна.
– В заднице.
Сергей Захарович откладывает на тумбочку книгу, снимает очки, берёт с тумбочки пульт и выключает работавший беззвучно телевизор.
– Мутню какую-то развозят… Как будто смотрит это кто-то.
Выключает свою лампу. Отворачивается к стене, с висящими на ней «Венерой и Адонисом», и смыкает утомлённо веки.
Ирина Михайловна ещё сколько-то продолжает читать. Скоро и она закрывает детектив, разделив его закладкой – бумажной иконкой и, с обратной стороны, на ней молитвой «О счастии брака апостолу Симону Зилоту». Выключает и она свою лампу.
Через плотные шторы пробивается в спальню слабый свет северной пасхальной ночи.
На ковре в прихожей чешется кобель – китайский чау-чау.
На улице люди – расходятся с крестного хода.
К чёрным металлическим воротам особняка подсеменила дворняжка, улеглась на подстывший уже после дневной оттепели снег и, свернувшись в клубок, уткнулась носом себе в тёплый пах. Не шевелится.
* * *
Тридцатого марта, звонким не от робкой, а от дружной уже капели, остро прочириканным женихающимися воробьями, насквозь прокарканным горластыми, налетевшими в Ялань из ельника, воронами, прострекоченным сороками и людскими душами прорадованным ярким, солнечным весенним днём, вернулся с армии Усольцев Васька. Комиссовался. После госпиталя.
И прежде чем направиться с автобуса домой, зашёл он к Голублевой Катерине.
Увидела она Ваську ещё в окно – постоянно, без этого и мимо не пройдёт, в него поглядывает, – и ноги у неё подкосились. На стул, попятившись, присела. Перекрестилась бессознательно.
Зашёл Васька, постучавшись.
– Драсте, – сказал, – тётя Катя.
Голубой берет с крабом – по-летнему, а не по форме: шапку и шинель тут уже, в Елисейске, снял с себя и в дембельский свой чемодан засунул – чуть не на затылке – рыжим вихром туда его, берет, будто спихнуло, на одном честном слове там, на затылке, только и держится; при медали и при аксельбанте.
По дороге Васька уже выпил – на ногах твёрд, но лицо бордовое, веснушки оттенились – дети его портрет легко нарисовали бы – как солнышко.
– Драствуй, родной, – чуть не шёпотом проговорила Катерина. И смотрит на него – как на опасность.
Поднялась со стула, как опомнилась, засуетилась.
На стол стала собирать. Забыла ложки на кухне – побежала, чашки забыла – и опять туда. Ну, вроде всё. Вот и варенье. Вот и печенюжки.
За коротким чаепитием и рассказал он, Васька, Катерине.
Вытащили их троих из-под завала, отбившись, на следующий же день, поближе к вечеру – взводный был у них такой, заботливый, погиб вскоре, загородив собой от автоматной очереди рядового, – ему-то, Ваське, подвезло: только три пальца на руке в плющатки отдавило, так, как тряпочки, болтались, их ему и там отчикали, почти на месте, да ухо, каску снял с башки невовремя, отодрало – приштопали, а Ивана на вертушке повезли куда-то – у него в груди хрипело что-то.
Вертолёт сбили, и все вроде погибли. Ничего больше Васька не слышал про Ивана. Ничего и рассказать больше не может.
Прибежала вскоре Васькина мать и, охая да ахая, хлопая ладонями то себя по бёдрам, то Ваську по спине, то заглядывая с причитанием на ракитую руку сына, увела его, больше ещё забагровевшего, домой.
– Да ладно, мамка, ладно, мамка, – говорил на это Васька.
– Пойдём, пойдём, милый, пойдём… Там отец уже… Не знаю.
Спросить успела, помнит, Катерина:
– Когда это?..
– Седьмого января, – придержав берет рукой увечной – другая занята была руками матери – и в дверях уже обернувшись, ответил Васька.
Солнце за окном светило – и померкло, и с тех пор не просветлело – для неё, для Катерины.
Но только теперь вот почему-то, в Четверг Великий, приехали за ней из Елисейска на машине какие-то люди и увезли её в Елисейский райвоенкомат. Привезли туда и ещё двух женщин из разных деревень района. Сказали им что-то. Посадили в автобус и повезли в аллею Героев – есть такая в Елисейске. Оркестр громко играет невесёлую музыку. На тумбах каких-то, покрытых красным сукном, стоят гробы железные, нерусские какие-то. Женщины падают – каждая на свой гроб – и ревут взахлёст над ними.
А Катерина стоит, как идол остяцкий, веком не дрогнет. На третий гроб глядит рассеянно.
Это не он, не Ваню я тут хороню.
И там, за тополем, прячется какой-то мужчина в военной форме – зачем-то.
Похож на Сеню, постарел лишь.
Сказал ещё кто-то что-то. Сказал ещё что-то другой кто-то. Ещё и женщина какая-то – та долго. Опустили гробы в могилы. Комья глины бросили на них – стукнулись те гулко. Закопали.
В небо постреляли. Три раза. Громко.
Мать я… поэтому… Не Ваня это.
Скотину управлять дома надо.
Отвезли Катерину в Ялань на той же машине.
Вошла она в дом. Села напротив окна. Сидит.
После уже, как засмеркалось, переоделась она в хозяйское, пошла управляться. Управилась. Не помнит.
В апреле уже, перед самой Пасхой, ночью, прямо во дворе у Катерины, зарезали «охотники» её бычка двухгодовалого. Шкуру оставили, а мясо увезли. Кто это сделал, так и не нашли. Никто и искать не пытался. Теперь такое сплошь и рядом – на все случаи искателей не наберёшься. Ни ростить, ни кормить, а самим быть постоянно с мясом – легко и сытно; можно и продать сворованное мясо – будешь с лёгкими деньгами. Со всех сторон выгодно и удобно. Но Бог – Судья-то.
Какие-то из города, – это и так ясно – не свои же – свои на это так же горбятся, как достаётся оно, знают.
И сегодня, в Духов день, с самого утра всё не заладилось.
Пошла поить корову, видит, тёлочка заваливается. Возилась с ней больше часа. Рыбка. Еле-еле отводилась. Сама. Ветеринара звать – зря беспокоить только человека. А в обед направилась во двор её проведать – лежит та, тёлочка, бездвижная уже, сдохла. На тележке вывезла кое-как трупец на назмище, яму кое-как – земля-то толком ещё не оттаяла – выкопала. Закопала. С холмиком.
Не отрыли бы собаки… Растаскают.
Домой вернулась.
Вошла. Села возле двери – в пол смотрит, мимо ли.
Сидит.
Заявляется к ней глава сельской администрации. Выделил он, оказывается, елисейской – и не крупной пусть, но всё же – шишке, шишечке, земельный участок и нечаянно урезал от её, от Катерининого, огорода.
Пришёл предупредить хоть.
Смолчала Катерина.
Вышли они из дому, пошли вместе к огороду – обрешиться.
– У тебя же изгороди нет, – сказал ей глава администрации, поводя рукою. – А мне откуда было знать, где тут твоё, а не твоё где… Людям пахать уж надо со дня на день и садить картошку. А как он тут, когда тут не размечено… Теперь уж поздно. Зачем ты изгородь спалила? – сердится. – Я же не ясновидящий, не знаю.
– Ты бы ей дров привёз, она б и не спалила, – сказала ему подошедшая Татьяна Земляных, крёстная Ивана. – А у тебя язык, чё ли, отнялся? – Катерине.
– Человеку, может, надо, – ответила ей Катерина. – Может, ему картошку негде посадить.
– А тебе не надо? – сказала ей Татьяна. – Негде. Ему и на дом принесут, ты не заботься.
– Да мне одной-то и такого хватит.
Сказала так Катерина и пошла в дом.
Опять скоро вышла.
Стоит в ограде.
Тепло.
В логу перед домом ручей журчит – с весны ещё не истощился – спешит к Куртюмке.
Бродят по косогорам вороны – большеголовые – везде всё видят.
Галки прилетели – галдят.
Скворцы скворчут, в хлопотах-уже с потомством.
Пошла Катерина во двор, открыла на пригоне ворота и выпустила на улицу корову. Стоит сама на пригоне, не смотрит на корову – в никуда как-то.
Пошла в амбар, взяла там верёвку, на которой корову обычно водит, – коровой та, верёвка, пахнет; зелёная кое-где – в навозе.
Вышла Катерина из амбара. И из ограды после.
Смотрит в улицу.
На просохшей уже дороге пыльный вихрь – несётся в сторону кладбища – как живой, и понимает. Чего только с дороги-то не пособирал – как малый.
Проводив равнодушно его взглядом, спустилась Катерина под гору. Направилась, сапогами чавкая по сырой ещё в низине земле, к ельнику.
Перебралась по доске через узкую в этом месте Куртюмку.
Вошла в ельник – тот на пригорке. Пригорок боком своим – к солнцу.
Села на просохшую валёжинку под от других поодаль стоящей толстой и высокой елью, с которой в детстве ещё серу колупала. Верёвку на колени положила. Руками её держит – не уползла бы.
Оглядела ель от комля до вершины, сколько ей отсюда видно, нижние сучья – те особенно.
Смотрит теперь на муравейник – кипит тот – снуют по нему и вокруг него муравьи. Самозабвенно. И по сапогам у Катерины. И на платье. По рукам уже. И по верёвке. Любопытные.
Не знает, сколько и сидела: «За муравьями наблюдать – время транжирить, – так бы сказала её, Катерины, бабушка, Фиста Егоровна Усольцева. – За огнём – тоже… Хотя подсказ, урок всё Божий».
Посидела ещё сколько-то.
Поднялась с валёжинки. Закинула верёвку на плечо. Идёт, рукой теперь её не держит.
Домой направилась.
Выбралась на дорогу.
С коровой своей поравнялась. Загнала, ругаясь на неё, во двор корову. И верёвкой её ещё отстегала. Не сильно. Ошалела та – как ничего не понимает будто – вид у неё такой, очень уж бестолковый. И не мыкнула при этом – бескарахтерная.
Стала в гору к дому подниматься Катерина.
Поднялась. Гора-то будто не высокая и не крутая, но – как в небо.
Одышка одолела.
Возле амбара задержалась. Рукой в стену. Тепло от стены – прогрелась, делится – волной по воздуху, теплом-то. Ласково.
Пошла к воротам.
Остановилась.
Смотрит в улицу – зачем-то – всё и так знакомо, всё наскучило.
Ветер – задирает курам перья, мусор им в глаза заносит – как играется.
С ним играют, с ветром, ласточки. Проворные.
Смотрит в улицу Катерина – как в прошлое – только памятью.
Мужчина какой-то идёт… Военный.
Стоит Катерина. Вглядывается – как в ушко теперь игольное, с ниткой.
Через кого-то будто чувствует, что:
Подкосились у неё ноги, сдавило грудь – не задохнуться бы.
Ои-ои-ои-ои… – изнутри так кто-то будто, в сердце стиснутый.
И земля – в неё коленями – прочнее так.
Собрались тучи – давно уже. Набухли – как спелые.
Пошёл дождь. Редкий сначала – будто проверил, испытал – закапал.
Припустил после. Ливень. Лупит – по всему, чему достанется, – не щадит.
Пузырится.
Ждала, ждала трава – дождалась – терпит.
Прошли тучи, скатились – туда, за Камень, к Ислени – там усердствуют.
Солнце высунулось, высветлило – засияло.
Ялань обмякла, успокоилась.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу…
2003Солноворот
Отпахнув лоскутчатое одеяло, спускаю ноги с кровати, ставлю их на тёплый, уже едва ли не горячий от давно заглядывающего в окна солнца, пол и сижу так сколько-то, как онемелый, свесив безвольно голову и руки.
Это – ещё и не проснулся.
Поднимает меня надобность, а двигаюсь я по привычке; шевелюсь, как механический куклёнок.
С вялым усилием приподнимая брови, пробую разодрать яркими бликами озолочённые снаружи веки, но не могу – как будто склеились.
Так оно и есть, пожалуй, – мёд вчера свежий ел, они и слиплись.
В полусне слышу, как громко ростится в ограде курица – снеслась где-то, зараза, а где, искать после придётся, время зря тратить. Квохчет парунья, эта – редко. Часто и вразнобой – цыпушки её пикают. Гогочут серьёзные всегда, как булгалтера, гуси. Воробьи чирикают беспечно. Охально стрекочет сорока досужая – ничего ещё пока, значит, не украла, но собирается.
Всех их передразнивают скворцы со скворешни.
И истошно кричит, словно его схватили и пытаются прикончить, с вечера ещё, наверное, запертый в стайке поросёнок.
Это у соседей наших, у Чеславлевых.
Он у них – «паршивец этакой, вездесушшым своим лемехом, и идь как-то, шныра, умудритса же, спроворничат, шут и знат яво, каким макаром» – раздвигает загородку, «пробиратса в вертоградишко и вспахиват» там гряды и парник. Его поэтому и заключают.
«Тюремшык» – так его и называют хозяева. Ну и ещё: «Колодник проклятушшый».
Скоро его отпустят из узилища. Вынудит. Всех проймёт, невольник, своим душераздирающим противным визгом, постановит на своём, горластый. Хитрец отъявленный, «изведал, сволочь, слабину».
С телеграфного столба на площади, что в центре, «на деревне», возле конторы МТС, из громкоговорителя-колокола разливается по всей округе – до самой окаёмочки – до ельника, пожалуй, – музыка. Жарче станет, так приглушится: в зной и крик не крик, а шепоток – уже замечено.
«Сифония».
Так говорит бабушка моего шабёра и приятеля, Рыжего, Чеславлева Марфа Измайловна, баба Марфа.
Внук так в глаза к ней обращается: или «ба-а», или «баушка», – а заочно называет её, в зависимости от своего и, больше, «баушкиного» настроения, то Маршалом Рокоссовским, то Фельдмаршалом Паулюсом. А иногда: «Раздрона шамашедшая» – повторяет дедушку.
«Опять сифонию, язви яё, и запустили, – ворчит порой Марфа Измайловна, насыпая на серую утрамбованную плешинку земляную среди тёмно-зелёной муравки в своей ограде курам корм, иным ли делом занимаясь там. – Как заведут, так заведут уж… Бесперест, однако, но, и безуёму. В гробу-то в городе кого на кладбишшэ с которой провожают, и та, мне думатса, веселыиэ этой будет… Всё брым да брым, и кто там бренькат?.. Нет, чтобы путнее-то чё… Ходи и слушай».
«А ты не слушай, старая, ага… в ухи-то вклинь себе по чижику… в кажно по чопику-и ладно будет», – учит её тогда, когда поблизости где окажется, Иван Захарович, муж её и дедушка Рыжего.
Марфа Измайловна в ответ ему, если услышит, не преминет:
«А сам себе куды-нибудь и всунь их, ворон бздявый… хошь штобы здря да попусту не ротить… Нос вон с локоть, аума-то тока с ноготь».
Иван Захарович лишь посмеётся, обронит изредка ли:
«Дура».
Звуки обычные – мир, значит, в мире не нарушен. Как снег на голову, война за ночь, слава Богу, не разразилась. То ведь американцы – те такие – залетят ночью, бомбу опустят с самолёта – после беги куда не знамо. Папка всегда так говорит:
«Ну, с этих станет, эти могут, этим как пальцы обмочить. Я их, пришлось, на Эльбе повидал – прыткие, что ты, как барбосы… руку подставь – и зубы всадят… Безудержные».
Он же, папка, к этому и добавляет:
«Только кишка у них тонка – кто их пропустит!.. До рубежа ещё, полезут-то, собьют. Им косоглазых и пугать лишь. И то… не знаю. Китай – вон сунься-ка туда – одним народишком задавят – масса такая, скотский род. Им не Японию дубасить. Да упредят, конечно, наши… не позволят. В правительстве у нас тоже не дураки, наверное, сидят… поди, мозгами-то маленечко шавелют».
Упредить-то, ясное дело, упредят, кто спорит, но всё равно страшно.
Нужда не терпит, подгоняет – и в полусне не очень-то помешкаешь. Так же всё ещё, с закрытыми глазами, будто лунатик, поднимаюсь, выхожу незряче – путь этот мной маленько не с рождения натоптанный, за грех и сбиться – из избы, привычно миную тёмные, прохладные, пахнущие прошлогодними черемшой и капустой, с чуть покатым от кладовки к дому и щелястым полом, сенцы, теменем упираюсь в заднюю сенную дверь и им же, теменем, её, незапертую, подтолкнув вперёд легонько, через шаг оказываюсь на пригоне.
Пока не жарко, но безветренно. И оно, солнышко, уже – ого, как! – припекает. Скоро и воздух накалится.
Пушистый кот сибирский, Дымка – дома с неделю его не было, блудил где-то, «килди-милди учинял», как говорит про это дедушка Иван Захарович, – только этого будто и ждал, возле двери сидел и караулил словно, тут же, гулявый, то одним своим косматым боком, то другим точно таким же колко мне о голени стал потираться.
Весь в репьях он, чувствую, и где его мотало.
Замурлыкал, слышу, сипло; следом за мной бредёт, снуёт между ногами – не упасть бы, за него запнувшись.
Босой я, и без того ступаю осторожно, как бы на что-нибудь не наколоться, опасаюсь, на щепу, на жёсткую ли волоть.
Подошвы у меня не задубелые. Не как у Рыжего. У того они – как у коня саврасого копыта: что по отаве проскакать, что по камням – ему без горя. А нам, мальчишкам, всем на зависть: прочность такая – ну ещё бы!
«У тебя, Володька, кожа на ногах, на плюснах-то, – как-то сказал Иван Захарович, глядя, прищурившись, сквозь выпущенный с кашлем изо рта сизый табачный дым на грязные пятки своего меньшого внука, – чёрна-то чё, как враг, дак это-сь ладно, у мавров вон она и от рождения, слыхал, чумазая – живут, однако-сь, и с такою, хошь, говорят, и зверонравны… Ею, твоёй, полозья можно обшивать на нартах остякам вон – во веки вечные, поди, не стёрлась бы. Тока, беда, скользить вот худо станут… думаю, шибко уж она шершава, парень… Имя, подошвами твоими, казан вон драить… об их топор ли, ножик ли поправить… Дай-ка, дысь, пошшупать их хошь, чё ли, то так, помру, и не потрогаю… Тебе к зиме и чуни, благо, не понадобятся, ты для семьи-то аканомный».
Рыжий ему:
«Деда, отстань, чё привязался?!»
Нос у него, у Ивана Захаровича, крупный, баклушей, как собака на берегу. Так говорит про его нос Марфа Измайловна. Красный, опять же как собака, по выражению моего папки.
Посмеётся Иван Захарович после слов, брошенных им внуку, кому другому ли и по совсем иному поводу, дымом из трубки затянется до «самой опояски», внутри себя его зачем-то поморит с минуту, потом в пространство выпустит со свистом и, кверху вздыбив, подопрёт им, своим носом, небо, как орясиной, – про всё забудет – так кажется; часто бывает отрешённый – как «идолишшэ остяцкое».
От ворот, с улицы, услышав меня и переметнувшись одним махом через высокий заплот, в щель неширокую протиснувшись под стрехой – воробьи оттуда звучно, перепуганные, как сок из раздавленной спелой клюквины, брызнули, от жары, наверное, там прятались, – примчался Буска. Наш кобель двухгодовалый. Тёмно-серой рубашки, оттого и Буска. И уже ластится ко мне, тычась холодным и сырым, «кирзовым», как говорит Рыжий, носом в мои голые коленки.
Я его не отгоняю – ещё как будто не проснулся.
Дымка, сквозь дрёму предполагаю, уже где-нибудь на крыше, в другом ли каком недосягаемом для Буски месте, и пах себе, лежит, наверное, вылизывает.
Не ладят они-Дымка и Буска-между собой, мир никак их почему-то не берёт, только сойдутся где, так тотчас и поцапаются; кошка с собакой словно – так вот и живут.
Направо, к уборной, не иду – дорожка к ней ведёт возле картофельного поля, на котором ещё лежит от дома тень, и ботва пока в росе поэтому; там не обыгало ещё. Даже и в полусне про это помню. Представишь лишь – и передёрнешься: ботва вытянулась, нынче её и «помхой, слава Богу, не побило», мне она уже едва ли не по пояс – трусы намокнут.
Иду налево.
Останавливаюсь – не углядев, а по наитию – перед распахнутой на всю пяту калиткой и начинаю, выпустив из лёгких облегчённо воздух, пйсать внутрь гудящего, как музыкальный ящичек, от мух двора.
Во дворе, в самом проходе, вывалившись мордой из-за вереи, распласталась свинья. «Супоросая». И я, пока её не видя, струёй ей не нарочно попадаю прямо в ухо, та им трясёт, похрюкивая, – дрыхнет.
Осознаю я эту незадачу, представляю вдруг отца, который, застань он меня в таком злодеянии, хоть и нечаянном, ремня мне всыпал обязательно бы, и просыпаюсь окончательно. Но свету столько, что я тут же жмурюсь.
Кроме нас, меня и Буски, да не считая скрывшейся заблаговременно от предстоящего полуденного зноя во дворе свиньи, на пригоне никого.
Отец давным-давно уже находится в командировке. В какой-то из дней между майскими праздниками ещё из дома отбыл. Туда куда-то, на какую-то низовку. И когда теперь прибудет, неизвестно.
Марфа Измайловна – ладно бы раз ещё, а то всегда почти как ни увидит, а видит она меня «повсядни» – и говорит мне:
«Волки, поди што, на родителе твоём на свадьбу, батюшка, уехали – так долго нет-то».
Ну а сама и голову в своём, «старушичьем», платочке вбок наклонит, как будто сверху, с неба, или снизу, от земли, к чему-то вдруг прислушиваться станет, сощурится, как сослепу, ладонь навесит над глазами горбиком и хитро смотрит на меня из-под неё – и что ей весело?
«Да бро-осил тятька их, чё уж неясного, как пить дать, бросил, – вторит ей и он, Иван Захарович, если где около присутствует. – Да на другой уже жа-анился! Мужик в прыску, как хрен сентяберьской. Оне яму на што тяперь сдались тут, оглоеды?! Но, – говорит, – а молода жана вкусня сплошная – кусай яё от головы до пяточек, любезнячай… Там, на низовке-то, бывал, дак знаю, бабы – не бабоньки, а – шанюжки съядобные», – и похохочет, как покашляет, рукой придерживая трубку, но изо рта её не вынимая, а похохочет, и уснёт, плечом притулившись к чему-нибудь, или уставится, оцепенев, в себе на что-то, как на страницу; глаза у него тусклые, как стёклышки старинные, но не сухие, а слезятся – всё будто, вспомнив что-то, по чему-то плачет.
Понимаю я, что они шутят, и ничего на это им не отвечаю – уже не маленький – поэтому, да и он, Рыжий, внук-то их, но друг-то мой, мне растолковывает:
«А ты их, парень, больше слушай! Они тебе наговорят. Из умишка-то уже повыживали!.. Рыба откуда тлет?.. С башки. Ну, и у них там всё уже изгнило».
Помню, что день Победы дома он, отец, уже не отмечал, и это точно, не забылось бы такое скоро.
Был бы в гостях у нас тогда и «тятя» Рыжего – он, Рыжий, не отцом отца зовёт, не папкой, а тятенькой, у них так водится, – Захар Иванович Чеславлев, кто бы уж кто, но он-то непременно: папкин приятель закадычный, так поэтому, были бы и другие – полная изба.
И до утра велись бы разговоры, до ссоры, может быть, не без того, к утру, конечно, помирились бы, но уж без драк, до драки дело не дошло бы, не распускают рук обычно, пелись бы песни, были бы и слёзы, ну а когда не женщины, а мужики заплачут, водка ли, в помрачённых, в них, запоминается такое обстоятельство надолго: мороз по коже потому что – скоро бы это не забылось.
И к той поре в самой Ялани, где не в низине и без застины, все поляны уже оголились, только трава на них ещё не зашелковилась, ручьи журчали по логам – весна в этом году случилась ранняя, – но в лесу, а в ельниках и в пихтачах, в тех и особенно, снегу ещё полным-полно лежало, не по насту в тайгу и не сунуться было, и реки только-только начали тогда вскрываться.
Кемь, помню, тронулась, пошла – разбудила среди ночи многих грохотом и гулом.
Уже и солнце, помню, закатилось. Мы – брат, поколотив меня на сон грядущий, сестра и я, обиженный, но не заплаканный, – уже и спать ложиться собирались. Слышим и узнаём.
Встреченный радостным лаем Буски, подвёл он, отец, Гнедка к воротам, привязал его к столбу, в избу вошёл, в горнице пистолет и планшетку достал из комода-там, под бельём, они всегда хранились, в нижнем ящике, – переоделся в форму и, пристраивая на фуражку сетку-накомарник, сказал:
«Елена, поехал я. В дорогу чё-нибудь мне собери… немного тока – хлеба ломоть и… луку, может… соли?»
«Да ты куда? – спросила его мама, та тоже в избу только что вступила – была в ограде, управлялась. – На ночь-то глядя!»
«A-а, позвонили, – сказал отец. – Там, в Ворожейке, мужика какого-то зарезали… Не знаю, беглые, свои ли?.. Свои-то – вряд ли… По телефону-то по этому, зараза… дак еле слышно».
«И чё, так к спеху?.. Уж до утра-то обождал бы… Его, убитого, уже не воскресишь», – сказала ему, разболокаясь, мама.
«А чё мне – утро или вечер – какая разница?.. Доеду», – сказал отец.
«Ну а медведь… с берлог-то поднялись уже… и так чё, мало ли… не день… Скоро совсем уж отемнят вон», – повесив на костыль возле двери фуфайку и кивнув на окна, сказала ему мама.
«Ну дак и чё, что отемнят? – сказал отец, раскрыв зачем-то планшетку и проверяя что-то в ней. – И чё медведь мне?., невидаль какая… когда и сам я, как медведь…»
Медведь и есть он – так тогда подумал я.
«Зови с собой хоть Буску вон, ли чё ли, – предложила ему мама. – Всё не один».
«Ага, зови! – сказал отец. – А кто его кормить там станет?.. Сам-то по людям всё… как гость-татарин… да кобеля ещё навязывай… Удобно, думать?!»
«Ну, смотри, – сказала мама. – Я не знаю».
Взял отец со стола приготовленные ему в дорогу и завёрнутые в газету продукты, сунул свёрток в карман галифе – поместился тот, карман немного оттопырив, – вышел из избы, после – из ограды, сел на Гнедка и уехал. Но вернулся минут через десять – мы ещё и задремать-то не успели, – в дом заходить уже не стал, в окно негромко крикнул маме:
«Елена, я отпустил Гнедка, а то намучаюсь с ним по такой дороге. Пока уброд, к утру-то вдруг да зачиреет. Бабки натрёт, и чё потом я с ним, со сляченным-то, буду делать!.. Пешком пойду».
«Ну, с Богом, – прошептала мама. – Не ближний свет, под восемьдесят километров… Потёмки в дверь, а он направился».
И уже там она, на кухне, сама с собой уже, конечно:
«Конь – аж лоснится вон – жирует; лето, как ошалелый, по деревне носится; а мы, хозяева, всё пеши. Так и к чему он, конь, тогда нам этот?.. Лишнего сена сколь вон только ставить».
Конь у нас хоть и казённый, но поесть не дурак, за двух коров управится, пожалуй. Ему ж и сена дай, дай и овса. Да и уход за ним немалый. Одних лишь шевяков из-под него сколько кузовов за зиму вывезешь на назмище – целую гору там от октября до мая-то навалишь. Не забава конь в хозяйстве.
Чуть ли не до лопаток запрокинув голову, одним глазом, приоткрытым еле-еле, через радугу, разбитую в ресницах, пристально, но бесцельно оглядев высокое, без облачка до самого озора, с плавно и пока молча кружащими по нему в разных направлениях двумя коршунами и стаей шумно, но как будто понарошке атакующих их галок, небо, а затем и то, что окрест, уже мельком, я возвращаюсь снова в сенцы, пересекаю их насквозь и появляюсь на крыльце.
Крыльцо широкое и некрутое – в четыре низкие ступени; хоть и без кровли, но с перильцами. Одна балясина в них новая – отец недавно её встроил, вместо прежней, перегнившей, – ещё и пахнет свежим деревом – осиной. Старые – все до одной – точёные, фигурные, а новая – та просто столбик, околёное полено; те уже серые, а эта жёлтая, как репа. Сидит, замечаю боковым зрением, на ней, на новой, чёрный, как семячко подсолнуха, только раз в пять того крупнее, продолговатый жук с огромными сяжками – «волосогрызица»; сиди ты, думаю.
ИБуска – тотужетут, пострел, возле меня – успел, своей наторенной тропою, вокруг поместья обежал, резко упал под ноги мне, на залитую солнцем плаху, чесаться начал – донимают, бедолагу, блохи: в дохе такой, в такую-то жару.
И я вдруг вспомнил. Когда он, папка, заменил негодную балясину, мама – не в магазине ли была, вернулась? – сначала долго на неё, на новую, смотрела, ну а потом и говорит:
«Ну, Коля, ты и смастери-ил, и сла-адил… Сердце, как от войны, аж защемило… Ох, ты и пло-отник же, кудесник».
«А чё тако? – ответил папка ей, рукой на дюжесть проверяя сделанное. – Стоит? Стоит. Не завалилось? Нет. И не завалится. А чё ещё и надо, баба?.. Её и веком не источит».
И мне так кажется: не падает – и ладно.
Передо мной теперь ограда наша, как и у всех почти в Ялани, обнесённая, словно острог, глухим бревенчатым заплотом, метра в три, если не больше, высотою, разделённым, с улицы, крепкими двухполотными воротами с обвершкою, на которой тёс уже зелёным мхом порос от древности – как на клюквенном болотце, да калиткой, с тылу, выходящей в огородник, сверху открытая наполовину, а на другую – спрятанная от дождей, снегов и солнца под пологим, односкатным желобниковым навесом, и знакомая мне до последнего узга, конечно. Как родился, с той минуты, кажется, её и помню.
И смотрю я уже в оба глаза – с трудом продрал их наконец-то, чуть уже пообвыкли они и к ослепительному свету, – вижу:
Разведён в ограде – в старом, негодном цинковом тазу без ручек – дымокур. С навозу. Курится – порывисто не валит клубами – размеренно. Ветра нет, и не гуляют по ограде сквозняки, а потому и он, дым, не болтается по ней из угла в угол, как загнанный. Отыскал себе вольготное пристанище – накопился под навесом непроглядно, роющимся там в мусоре курицам глаза, наверное, разъедает.
И – наверное – из одного лишь любопытства просачивается он, дым, на улицу, но там его, поди, и не заметишь – тут же под небо, ловкий, и окрасится.
А задымлённый тут, в ограде, воздух без задержки и стремительно, словно состязаясь между собою в расторопности, звонко пронзают пауты и слепни – то продольно, то пикируя; без дымокура не было б от них покою – страх как назойливы, но тем они и живы.
Один из них, «конский», сумел как-то, меня в стегно, подкравшись, уже тяпнул – так, что я охнул и проснулся окончательно, – стою теперь, чешусь, как Буска, но тот – от блох, а я от – боли.
Мама стирает. На ней коричневый передник, юбка зелёная и голубая кофточка с закатанными рукавами. На голове косынка – от напёку.
На листвяжной крековастой чурке стоит корыто деревянное, а из него торчит стиральная доска. Рядом с корытом, на табуретке, сложены горкой уже постиранные и свёрнутые в жгут отжатые тряпицы разноцветные, а прямо на земле, вернее на муравке, возле табуретки, кучится ворох грязного белья, пока ещё сухого.
Припав боком, но морду не опуская, лежит на этом ворохе Дымка, в полуприщур глядит на Буску. Одна лапа, передняя, у него, у Дымки, вздёрнута кверху – так и застыла – умывался кот, наверное, вылизывался, пока кобель в ограду не ворвался?
Всё это вижу я и говорю:
– Ма-ама, пое-есть.
Не отрываясь от работы, но обратив ко мне лицо, мама шутливо отвечает:
– А чё ты рано так поднялся? Ещё и солнце вон с избы не своротило. Ещё маленечко поспал бы.
– Не-а, – говорю. – Выспался.
– Там, на столе, на кухне, сахар, хлеб и молоко… от мух прикрыто полотенцем. В печи томлёная картошка.
– Угу, – говорю и спрашиваю: – А где Колька с Нинкой?
– Полоскать бельё на речку повезли, – отвечает мама, на меня уже не глядя.
– На тележке? – спрашиваю.
– Да, – отвечает мама.
– А-а, – говорю.
Разворачиваюсь и иду в избу.
Прохожу на кухню и не умываясь, потому что не люблю уж очень эту процедуру и потому что некому сейчас меня заставить, и не одеваясь, потому что путём ещё не «разломался», сажусь есть.
Ем домашний, спозаранку выпеченный мамой, оржаной хлеб, с не остывшим ещё мякишем и хрустящей корочкой, вприкуску, не размачивая, хрумкаю комковой сахар и запиваю свежим пенным молоком.
Приходит мама. Слышит, как я управляюсь с сахаром, и морщится.
– Зубы-то вот себе испортишь, – говорит.
– Не-а, – говорю, – не испортю.
Убрав заслонку, мама вытаскивает из печи сковороду с толчёной и тушёной со сметаною картошкой, сверху покрытой золотисто-бурой плёнкой, оставляет на шестке её пока и спрашивает:
– Ну а картошку?
– Не-а, – бубню я – оттого что рот-то полный.
– К тебе уж друг твой прибегал, – говорит мама, прикрывая сковороду с картошкой большой алюминиевой миской.
– Да знаю, слышал, – говорю, но не уверен, слышал ли на самом деле, или это мне приснилось только?
Вовка, Рыжий, поднимается всегда с петухами, чуть ли не раньше своей бабушки. А та его за это, помимо прочего, величает иногда ещё и Вохристым Петелом. Похож, наверное, не знаю. Пока я не проснусь и не встану, он уже раза два или три успеет прибежать под наши окна и покричать меня, живём-то мы через дорогу только, не окна в окна, правда, наискось. А я – и слышу если иной раз, но – никогда ему не отвечаю: я пробудиться рано не могу. Сорвать с кровати меня можно, поставить рядом – устою, но разбудить – это задача. Папка – тот так: поднимет меня голосом, а в чувство тумаком приводит только. Теперь уже я машинально: сквозь сон голос отцовский как услышу, тут же и вскакиваю и глаза распахиваю сразу, но – что проснулся я – не значит это, – это меня инстинкт от подзатыльника спасает. По ходу дела пробужусь уж.
В ограде хлопает калитка. Я смотрю в окно и вижу: Рыжий – лёгок на помине. Язык у него высунут изо рта и зажат губами: мало ли, совсем не выпал чтобы, – привычка у него, у Рыжего, такая – что-то уже придумал, значит, и теперь будет сомушшать меня на это. Баушка Марфа так порой и выражается: «У-ух, Сомушшатель… Велиарово отродье!» – это она к нему так, к внуку.
Выпрыгиваю из-за стола, хочу бежать навстречу гостю.
– Да ты куда это?! – говорит мама. – А ну-ка, сядь. Поешь толком, тогда и отправляйся.
– Не-а, – отвечаю. – Уже наелся.
– А чё в трусах одних?.. Совсем сыми их.
Я залезаю, торопясь и путаясь, в когда-то чёрные, а ныне выгоревшие до белёсости сатиновые шаровары, накидываю голубую, тоже уже изрядно полинявшую, в полоску белую, с коротким рукавом рубашку, не обуваю, а вбегаю в них, в сандали и, думая, что Рыжий там, наверное, занялся, как обычно, с Буской, покидаю быстро избу.
* * *
И только на ногтях, наверное, нет у него, у Рыжего, веснушек. Но и ногтей-то там – до беляков почти обгрызены, до мяса ли, как говорит Марфа Измайловна, и допытайся-ка попробуй, чуть отрасти он их, так, может, и на них проявятся, кто знает. Ещё и вот, поди: на пятках-на тех они, веснушки-то, и есть, возможно, да только их не разглядишь – под коркой чёрной потому что, зимой надо будет проверять, когда отпарит он их, пятки, хорошенько в бане, но вряд ли раньше Нового-то года.
Обкарнал его отец, дядя Захар, на лето, как бяшку, под лиспу, так и там, на темени, веснушек у него, словно песку на берегу кемском или исленьском, – столько, пожалуй; что сосчитаешь-то – сомнительно; в августе ночью тёмной звёзд на ясном небе меньше выявляется; ещё бы чуть стеснить на нём, маленько сдвинуть их, веснушки-то, и получилась бы сплошная – и был бы он, Рыжий, тогда одно родимое пятно.
Другого, такого же веснушчатого, в Ялани нет. Имелся бы, известно было бы. Пожалуй, нет такого и в округе.
Как – где стоит, потом – сорвётся резко с места вдруг, стремглав куда-нибудь помчится, ну и посыпались они с него, как искры от точила, – со стороны-то смотришь, так и кажется. Когда на солнце – и особенно. И в ливень сильный – тогда тоже: крупные капли хрящ с настила или с тротуара, на ногах людьми туда натасканный, так выбивают.
Волосы у него, у Рыжего, хоть и короткие, но толстые и красные – и голова его от этого сейчас похожа на кирпич, формой-то нет, по цвету только, а так – как мячик.
«У тебя башка, Володька, – говорит ему дедушка его, Иван Захарович, – как у сиротки у казанского – округлая… так почесать её и хочется пошто-то… чем бы потвёрже-то… граблями. Ага. А задницу – крапивой».
«Отстань, деда», – говорит ему на это Рыжий.
Смеётся «деда».
И он, Рыжий, в таких же, как и на мне, шароварах, только заплат на евоных побольше, чем на моих, – одна сплошная скоро будет.
«На ём, как бытто на огне, сгорат одёжка вся, на мухоморишке… Не напасёшься, на мамая», – так говорит о нём Марфа Измайловна.
В точно такой же, как и у меня, рубашке он, лишь на ногах вот у него, у Рыжего, как у меня, сандалий нет – босой он.
«Яму обутка не потребна, – так говорит о нём Иван Захарович. И добавляет: – Он как окованный, засранец».
И на ресницах у него – как кажется – веснушки; он и моргает часто так, будто от них освободиться хочет, от веснушек, чтобы глаза не застилали.
А глаза у него, у Рыжего, как у кота, у Дымки нашего, жёлто-зелёные. Только у Дымки зенки круглые, как пятаки, а у него, у Рыжего, они – как прорези – словно окоском, ранит ими окружающее.
– Я приходил уже к тебе. Ну, ты и дры-ыхнуть! – говорит Рыжий, наступая босой ногой в податливое и ворсистое брюхо распластанному кверху лапами на крыльце Буске.
Буска рычит, ощерившись, но так: по-доброму – ко всем он, Буска, хорошо относится, даже и к Рыжему, миролюбивый.
А Рыжий продолжает:
– Я вчерась корову гнал с Кеми, из-за Бобровки, проклятый Паулюс отправил, дак там, в плёсе, перед кривуном, ниже склада-то горючего, такой тайме-е-енишшэ сплеснулся, я ажно вздрогнул, испугался, думал, кто с яра не упал ли… а тот хвостом-то лупанул, дак я и понял… хвост, как пехло, там – что ты! – лопасть. И сам весь красный… как язык. Я и червей уж накопал… жирну-ушшых всё. Как яшшэрки – такие. Пойдём. А может, и возьмётся? На червяка не клюнет, пескаря ему подбросим. Но, – говорит Рыжий. И говорит: – Ага.
Я и верю и не верю, но уговаривать себя не заставляю. Сомушшать Рыжий великий искусник – там не поддайся! – воли никакой не хватит, живой – не камень, льнёшь – как к липкому. Если и обманывает, то и себя же сам не меньше, чем других, но это честно ведь – в равном все положении при этом, получается, – и он, и ты, ты даже в более удобном – не согласился и ушёл, ну а ему-то от себя куда деваться. А сам себе верит – и нас, товарищей своих, к этому вынуждает – врёт-то уж очень заразительно он, редко кто правду так доносит. Не врёт, конечно, а выдумывает.
«Варнак! Врахотка, язви бы тебя!» – говорит ему его дедушка, Иван Захарович, когда в досаде шибкой на него, на внука, в чём-то его «нешшадно омманувшего». Бывает. Но это дедушка родной. А нам-то ладно, нам-то что, и у самих в пушку маленько рыльца.
– Чё, точно, чё ли!? – спрашиваю я – так, для проформы. Сам-то, в душе, уже и согласился. – А не свистишь? – спрашиваю.
– Хе! – полоснул он, Рыжий, меня глазами-щелками, чуть не порезал. – Свистишь! – И говорит: – Не точно было бы, не клялся б смертью баушки, а то клянусь вот!.. Клянусь смертью баушки! – приложив руку к груди и щурясь на солнце, как на третейского судью, торжественно поклялся.
Как не поверить.
Взяли мы червей и удочки. Пошли на Кемь.
– Тока не здесь, парень, давай-ка не по улице, а по задам, – говорит Рыжий. – В заогороды. А то Делюевы тут, по деревне-то, и – Клава! В окошко выпялится – сглазит.
Тут же, от дома Чеславлевых, вернее от их амбара, свернули мы в тихий заулок, на зады им, заулком этим, скоро выбрались, пошли задами.
Не пыльно – замечательно: идём – впереди Буска, Рыжий за ним, я замыкающим – по тропке мягкой, травянистой – не комары б ещё – близко от ельника и ветра нет, так и полно их, – и вовсе было бы всё здорово, то с головы до ног нас облепили – на шароварах тёмных, так особенно – за ночь-то как оголодали – пуще крапивы, гады, жалят. Но в сетки-накомарники ещё не наряжаемся – и душно в них, и хуже видно, – пока без них, без сеток, терпим.
– Заплата новая – на ней их сиксильон, – говорит Рыжий, хлопая себя по коленке. И говорит: – Теперь ни одного вот… но надолго ли!
Возле Куртюмки встретили нас чибисы, атаковать взялись с налёту, кричат тревожно – о гнёздах своих обеспокоились, конечно, – нужны они нам, гнёзда эти! – когда таймень в Кеми нас дожидается.
Рыжий, замахиваясь на птиц удилищем, грозится всех их, если они не угомонятся, в силки переловить, с кого-кого, с него-то станет – дело известное.
«Изувер, – говорит про него его бабушка. – В кого такой и уродился… Убил сороку тут и не поморшылса… Во всей родове такого не было… Чеслав л евский – ихий».
Буска – и тот на них, на чибисов, разлаялся, гавкает зарно – как на глухарей – толковый будет.
Отец Рыжего, Захар Иванович, страстный собачник и охотник – «на язычишке тока, – по словам Марфы Измайловны, – как по воде бредёт, он языком-то чешет» – тот, как где Буску ни увидит – не только Буску, а и любого пса приблудного, – так и к себе его подманит, пасть раздерёт ему, внимательно в неё посмотрит, зубы потрогает его, после и скажет: «Хвост вон калачиком, ухи вот вилами, и зубы шильцами, щипец вон чуручком – пойдёт за зверем, но, и на губах внутри грибы, будто опята на гнилушке… лапы… вот лапы, чё-то… и не знаю… Хлеб еслив чует, значит – добрый».
Идём-бредём. И обомлели.
В своём огороде, возле самой изгороди, облокотившись на неё обеими руками, стоит Кривая Клава. Голову вытянула, как журавль долговыйный. Давно, наверное, нас видит да и слышит – идём мы смело, не таимся, – а дождалась, когда приблизились, и говорит:
– Не на рыбалку ли отправились?.. Луна-то полная – какая ж вам рыбалка!.. Ну и удумали.
– Да не-ет, – говорит Рыжий, и мгновения не медлил. – У них свинья вон потерялась, искать пошли.
– А удочки-то?
– Да это так… закинем, может, пока ишшэм.
– А потерялась-то давно?
– С неделю, может… но, с неделю.
– А чё-то я и не слыхала… Ну а в трубу-то кликать её пробовали? – уже у меня спрашивает Клава.
– Нет, – отвечаю. – А как в трубу-то? И в какую?
– Как, как, да просто… Как, – говорит, не улыбаясь, Клава. – Залез на крышу, подошёл к трубе и туда, в дымник-то, зови… Как её звали?
– Как?.. Как… Свинья.
– Свинья… Ну тогда так вот и зовите: «Свинья, Свинья, куда ты подевалась? Рыло помыла, пятак поскоблила, друзей посетила, хвостик стрелой – подавайся домой!» – и к вечеру объявится… обязательно… ждите.
– Ладно, – говорит Рыжий. – Пока мы так её поишшэм. Найдём, может. А не найдём, дак и в трубу покричим после, – и говорит ей, Клаве: – До свиданья.
– До свиданья, – говорю ей и я.
– Ни пуха, ни пера, удачи вам, сердешные, – желает вслед нам Клава. – Много поймаете, дак, может, угостите… Давно ушицы не хлебала.
Пошли мы дальше. Идём. Молчим. Мурашки по спине. Отошли сколько-то, Рыжий и говорит, на Клаву не оглядываясь:
– Вот, ты смотри-ка, а!.. Лиса-а. Она как с нюхом будто бы, ли чё ли! Ушлая. И мы, придурки, как назло, в зубы не взяли по травине, с травинами-то сглаз не получился бы… как пить дать… хрен бы ей! Ну, ёлки-палки, а!.. Вот уж где вредная карга, дак уж и вредная. Вреднее на всём белом свете, наверное, нету. Но. И нас с тобой тоже, – говорит Рыжий, – угораздило – и не раньше и не позже – точка в точку подгадали. Колдовка, будь она неладна. Пошли по улице бы, а она-у палисада… Тут тока так – с травиной тока. Еслив не знашь какого против заклинанья. Её ведь, ведьму, не минуешь – она не спереди, дак сбоку… В городе одного такая же паршивка изурочила – ходить-то вроде бы ходил, но весь рот ему перекособенило – ни поесть, ни попить нормально мужику – всё изо рта на вошкур льётся… Не посмеяться, бедолаге. Но. Не слышал, помер, ишшо нет ли?
«Ну, может», – думаю.
Сорвали мы по тимофеевке, комельками в зубы сунули их. Хоть и с опозданием, но, мол, на будущее – вдруг да ещё какой где случай непредвиденный.
– Посмотрим, – говорит Рыжий, жуя травину и мотая ею перед носом. – Может, и обойдётся, может, и ничё?.. Плохо, конечно. Ишшо и кузницу никак не обойдёшь тут.
Работает в кузнице, в ней же, по разговорам взрослых, и живёт, ночует то есть, Александров. По имени его никто в Ялани и не называет. Кузнец, или Александров, или кузнец Александров – так за глаза и поминают только. Он как не местный будто. Может, и нездешний. Из ссыльных, может, но из давних. Или уж свой такой – как отщепенец – все и забыли, что он тутошний, – и так быть может. Но то, что не из военнопленных, это точно: и до войны ещё он тут кузнечил – люди вспоминают. Жильё-то у него есть – квартира в щитовом бараке, – но он как будто там и не показывается. Сам он, Александров, мужик, по виду, невесёлый, низкорослый, сухощавый, «жилистой», с совершенно лысым, словно стёсанным и отшлифованным, в чём-то чёрном всегда испачканным, то ли в дёгте, то ли в саже, большим, будто распёртым изнутри какой-то нудой потаённой черепом. Около кузницы в крапиве под мшалым поточным жёлобом, рядом с куриной слепотой, стоит огромная деревянная, окованная в три ряда толстыми и широкими обручами бадья, позеленевшая от тины. Выходит он, Александров, иногда на свет Божий, из бадьи водой зацветшей лысину свою окачивает, смотрит угрюмо на ельник, потом – на небо, чуть ли не в зенит, и произносит в него грубым голосом: «Ую-ютно». Слово-то, ясно, не простое, а знахарское – как заколдует им! – мы и боимся. И, мимо кузницы когда проходим, пальцы на руках обычно скрещиваем, а пройдя её, три раза сплёвываем – помогает.
На этот раз никто из кузницы не вышел, слава Богу, не соскучились.
Миновали мы её, кузницу, благополучно. В темноту двери распахнутой с опаской позаглядывали – мрак внутри там полный, тихо-тихо. По всему почти порогу кот огромный развалился – рыжий, грязный. Голову с порога свесил – спит, как пьяный, крепко – так, глядя на него, кажется.
Чуть я было не обмолвился: «А какой рыжий, какой грязный-то!» – но спохватился вовремя и промолчал.
– Э-э, постой-ка… обожди-ка, – говорит мне Рыжий. – Подержи-ка удилишшэ.
Взял я его удилище, стою с двумя.
Высунув и прикусив язык, полез Рыжий к себе под рубаху, вытащил из-за пазухи рогатку, к земле пригнулся, рукой стал по дороге шарить – камушек подходящий для выстрела ищет.
А кота – того и не бывало на пороге будто, ширкнул только красной строчкой – и в крапиве уже где-то. Знает Рыжего, пожалуй, и сквозь сон почувствовал угрозу.
– Вот ты, сволочь жёлтопузая! – огорчился Рыжий – и естественно. Спрятал рогатку обратно, взял у меня удилище. И говорит: – А залепил бы счас ему, ишшо не так бы сиганул-то… если от страха бы не сдох на месте прямо…
Это точно.
Стрелять Рыжий мастер – не перехвалишь. Как снайпер. Не промазал бы, конечно. Мало ему, коту, тогда не показалось бы – если опасность-то проспал бы.
Пошли мы дальше. Идём.
Пальцы-то, проходили, хоть и кузнеца не видели, но всё равно скрестили – расцепили их теперь. И сплюнули.
Идём.
Пыль под ногами у нас плюхает, в сандалях у меня её полно – залетает, вылетает – как из мехов горячий воздух.
Рыжий босой – ему и ладно.
– А как он курит-то? – спрашиваю.
– Кто? – переспрашивает Рыжий.
– Да тот – мужик-то, – говорю.
– Какой? – не понимает Рыжий.
– Рот которому перекосило.
– А-а, – говорит Рыжий. И говорит: – А он не курит… тока пьёт… водку… как кипяточек, мелкими глоточками.
– А-а, – говорю.
Уже и Кемь вон на виду, как слюдой разбросанной, сверкает перекатом; будто, встряхиваясь, брызгается – бликами-то.
За Кемью – Камень в сизой дымке – высится он над рекой увалисто; листвяг с него – броско-зелёно – лавиной в Кемь стекает словно, а где темнее, там – сосновый старый лес и смешанный, а где совсем уж тёмно – иссиня-зелёно – в распадках – ельники да пихтачи – сейчас угарно от смолистой хвои в них, но тенисто.
Кукушка, слышно еле-еле, где-то там кукует. Полно и здесь их – бесперечь перекликаются.
И хорошо соседствовать Ялани с Камнем – под охраной: ветер с востока редко пусть, но налетает, тут и предел ему, у Камня, – и возвращается туда, откуда прибыл. А там, за Камнем, и Ислень; на Север падает как будто.
Солнышко нынче, летом-то, с утра выныривает из Ислени на один, на правый, её берег, а к белой ночи под неё подныривает с левого – если смотреть вниз по течению; вода тогда в Ислени жёлто-алая, и с небом слита неразрывно, на горизонте тонко-тоненько – о нитку словно – переломлено, как в исполинском зеркале, и вот ещё: и видно – круглая земля – от кораблей сначала мачты появляются, потом уж сами-то они – когда дождёшься.
Недалеко от того места, где – вешней водой подмытый, кедр, пока не рушится, но круто наклонился, из-под него – шумно и пенисто втекает в Кемь Бобровка, родниковая, с камешниковым дном и харюзиная речушка, чуть ли не сплошь заваленная буреломом, на Половинке, между Яланью и Балахниной, стоит избёнка некорыстная, тесницей крытая, с простым, как соха, охлупом, с тремя крохотными оконцами на дорогу, из которых два плотно заставлены петуньями с белыми, красными и розовыми венчиками, да одним, слепым вовсе, в ограду с развалившимся двором и с покосившимся заборишком.
Среднее, от цветов свободное, оконце полое, и занавесочка отдёрнута в нём.
Сидит в избе возле оконца на чём-то высоком – на табуретке, может, но с подкладкой – Машенька, хозяйка, держит на сомкнутых коленях муравленный горшок-кашник, что-то мутовкой в нём – не воздух же – мешает. И напевает переливчато и звонко, как скворец сызрану:
– Сметанка, сметанка, сбивайся, сбивайся. Не станешь сбиваться, выброшу в окошко, в коровье говёшко!
– Эй! А говёшки-то и нет нигде тут, Машенька! – кричит ей Рыжий. – А где вон есть, туда ты не докинешь!
– А тебя я, конопатый, не спросила, – прекратив петь и высунувшись из избы на улицу зажмуренно, отвечает ему Машенька.
– Да я так просто… предупредил… чтобы знала, – говорит Рыжий. – А то здря-то…
– Ну да ясно, что несложно. Ты не Чеславлев ли?.. У них всё рыжие-то… но, как немцы.
– Сама ты немец! – говорит, серчая, Рыжий.
– Значит, Чеславлев, угадала, – смеётся Машенька. – Что ни рыжий, то и норов.
– Ну, и Чеславлев, дак и чё?
– Да ничё, ничё, – говорит Машенька. – Так уж спросила. Мне идь всё, старухе, интересно.
– Ей интересно… Чё, первый раз, ли чё ли, видишь?
– Да нет, не первый – примелькался… А ты-то чей? – спрашивает Машенька меня.
– Ничейный, – отвечаю.
– Оно и видно, что ничейный, – говорит Машенька. – Трубочист, поди, такой-то чёрный, – сказала так Машенька и спрашивает: – А со снастями-то – не на рыбалку ли отправились?
– Нет, – отвечает Рыжий ей. – Так, покупаться.
– Ну, покупайтесь, покупайтесь. Вода-то нынче тёплая, как щёлок. В такой сидел бы цельный день и не вылазил… Как из-под дойки молоко.
– А ты-то это знашь откуда? – спрашивает Рыжий. – Чё ли, уж сбегала и искупалась?
– А чё купаться, парень, обязательно?.. И без того оно понятно – парные ночи-то, и днём как жарит. Тока же там, ребята, комаров-то – уйма. До Ивана Купалы – комара убил, как говорят, а леший сито их добавит, ну а после уж Ивана – одного убьёшь – убавит сито. Так что, не знаю, я бы не отчаялась – идь эти злыдни до кондрашки замордуют. Лонись их было бытто бы поменьше.
– Ага!.. Лонись… Всегда их одинаково, – говорит Рыжий. – Наскажешь тоже. Лето с зимой, наверно, спутала…
– Сметанка, сметанка, сбивайся, сбивайся, – забыв про нас и унырнув обратно в избу, запела снова она, Машенька.
Машенька – деутка. Хоть ей и возрасту, если не сто, то пятьдесят-то лет уж верных будет. Усатая – как земляника. Но усики у неё белые, словно опока, и – бархоткой. Глазки улыбчивые, карие, как у коровы, и небольшие, как у ласточки. А в самой в ней, в деутке, ни росту, ни дородству – как синичка-невеличка.
Марфа Измайловна так, речь где когда про Машеньку зайдёт вдруг, о ней, об однолетице своей, рассказывает:
«Машенька лёгкая, как пурыш. Я – за брусникой как-то нас с ней обеих в Волчий бор, леший подбил, мотало, ненормальных, и – на хребте её через Бобровку перетаскивала. Дак оно чё – как ничего… ведро порожнее тяжельшэ показалось. Из трёх лучин она, сиренькая, составленная. Ага, кого там – шшепка шшепкой. Благодатью скрозь, в девицах-то, как тоегодую карамору меж окон, иссушило. В Бобровку сбросила её бы, милую, с загорбку-то – и быстриною б унесло… На поплавок для удочки, поди, сгодится, ну дак!.. коли изробилась в колхозишке, как пчёлка».
А она, Марфа Измайловна, – ого! – бабушка крупная, большая – кого хочешь на себе, наверное, утащит. «Бела, высока – красива», – говорит о ней мой папка. Что «бела» – да, «высока» – верно, но что «красива»-то – мне так не кажется.
Говорить с ней, с Машенькой, охоты у нас тоже мало, как и ей с нами. Нет у нас на то и времени свободного – конь погоняется бичом, а мы мечтою: рыбалка – хуже ведь неволи, а тут ещё… такой таймень нас дожидается – мысли наши буйные о нём довёл до изнурения – скорее бы уже его не мнимо выловить.
Идём мы дальше. Поспешаем.
– Хе, – говорит Рыжий. – Машенька.
– Машенька, – говорю я. – Хе.
– Тоже мне, – говорит Рыжий.
– Да, – говорю я.
– Я ей когда-нибудь устрою ишшо чё-нибудь, – говорит Рыжий.
– А чё? – спрашиваю.
– Да чё!.. Пока ишшо не знаю. Не придумал. Может, к окну картошку привяжу, – говорит Рыжий.
– А-а, – говорю. – Это можно… А так-то пусть.
– Да пусть, – соглашается Рыжий.
Там, где все у нас купаются обычно, где дно почище, без коряг, без карш ли, и не сбивает с ног стремниной, ребятни яланской уже столько накопилось – как в добром городе и в самом людном его месте – на базаре, на толкучке ли.
С толстой, широкой и длинной – с боков и сверху, чтобы не занозило, обструганной маненько свихнутым татарином Гурамом – доски, одним концом вкопанной и забученной им же, Гурамом, крепко-накрепко в голубо-глинистый ярок, другим концом пружинящей, словно рессора, – с трамплина нашего – кому как нравится, кто как горазд ли – один солдатиком, другой щучкой, третий с подскоками и кувырками, кто-то, неловкий, и плашмя, об воду-то, иной раз угадает, отшибёт себе живот или спину, – плюхаются друг за дружкой, как с нависшей ветки гусеницы, в омут – сплошь мальчишки – ну, естественно, – там до воды метра четыре.
Из девчонок нет рисковых – те чуть повыше по течению, на косе бело-песчаной, вместе с пузатой мелюзгой на отмелине булькаются, как лягушки в бочажные, они и плавают-то – как лягушки, редко из них какая по-людски – сажёнками – сумеет, у них и визгу – у девчонок-то, как будто кто крапивой жалит их или дохлятиной какой пугает, крысой, – противно с ними рядом и купаться.
А ещё, излучиной, повыше, на мостках, там, где во льду зимою прорубают иордань, бельё полощут женщины – кто на коленках стоя, кто на корточках, а кто согнувшись, как в поклоне. Какая-то что мочи есть вальком колотит по мосткам – половики, наверное, стирает – видно: ударит, а услышишь погодя чуть – когда рука с вальком ещё в замахе. И Колька с Нинкой там, наверное. И хорошо – и пусть работают, хоть задаваться меньше будут.
– Смотри-ка – сборишшэ-то, а! – говорит Рыжий, совсем сузив глаза, будто закрыв их, так он осердился, и указывая на купающихся удилищем. – Во-о, понапёрло-то!.. Кто, как гусей, согнал сюда со всей деревни будто палкой их… Какая тут тебе рыбалка… Звук по воде, знашь, как разносится!.. Таймень ушёл уже, наверное?
– Да-а, – говорю. – Знаю… В воде сидишь когда, далёко слышно.
– А то, – говорит Рыжий. – Это тебе ишшо, ты – челдобрек, а каково тогда ему там!.. Ты ушами тока слышишь, а он всем туловишшэм, брюхом, а до брюха – по камням – один момент, и долетело. Как телефон… по проводам вон. Таймень – такая, парень, рыба: где сильный шум, там жить не будет… Куражливый. Ему спокой тока нужён – задумчивый. От шума вздрагиват – и утомлятса. Девкам-то можно было бы и грядки пополоть, – говорит Рыжий, – пока не жарко… все здесь. Был бы я их отец… дак оно так, наверное, и было бы – сидели дома бы, заразы. Ишшо и всыпал ладно кажной бы, ага… И вон Цоканиху уж кто-то выпустил…
Бегает вдоль берега по самой кромке воды, поднимая, высекая будто, брызги искристые, Настя-Кобыла, Цоканиха. Простоволосая – коса у неё седая, длинная, как шелепуга, – растрепалась; от локтя к локтю под затылком болтается. В мокром платье – можно различить, – в воду свалилась, окатил ли кто её нарочно. В кедах китайских. Ноги у неё – издалека видно – не как на самом деле, толстые – кто-то песку в чулки, поди, насыпал ей, сама себе ли. Кричит что-то девчонкам, будто за них испуганная почему-то, – плавают те себе, вспенивают и мутят ступнями, как утки ластами, воду в прогретом приплёске, вцепившись руками в большие пёстрые матерчатые пузыри – наволочки от подушек, воздухом надутые, – и дуры же.
Настя Цоканова – старуха. Было у неё когда-то три сына, как рассказывают. Двое, близнецы, матросами служили где-то там, на Чёрном море. Недели две до демобилизации им оставалось, неделю ли. В Ялани их к ноябрьским уж поджидали. Погибли оба в одну ночь, и «домой вернулись, бедненькие, с ветерком попутным – душами навьими». Года три назад это случилось. Третьего, младшенького, тут, в Ялани, следующим летом, на песке кемском зарезали – с кем-то не тем, «с ненашенским, дурным», на Троицу «связался гулеванить». А у неё, у Цоканихи, с головой после гибели сыновей плохо сделалось, так до сих пор и не исправилось вот. Дочь – дочь у неё одна ещё осталась, – на работу уходя, в рыбкоопе на складах она работает, закрывает дома мать, а та, и как-то уловчается, в окно на улицу вылазит и играет с нами то в казаков-разбойников, то в прятки, то в лапту, то в шило или в чижика, больше мешает, чем играет-то: мяч или чижик попадёт ей только в руки, и упал кает с ним куда ей взбрендит, после и догоняй её, мосластую, – радости мало; прятаться с ней – беда и только, – не сидит в укрытии спокойно, высовывается, хоть ты её поколоти тут – колотить-то её можно – безответная, как глина, только никто её, конечно, и не трогает – грех это делать. Когда сама она из дома выберется, а иной раз кто-нибудь из нас её выпустит – просится, просится, стучит в окно измученно, маячит, так и разжалобит кого-нибудь.
Жгут покрышку резиновую – от комбайна или от машины – дым столбом чёрный-пречёрный валит в небо, даже солнце затемняя, – от овода на берегу одно лишь и спасение – такой вот чад-то: ни одна тварь и близко не подлетает. Как искупался кто, так сразу и бежит к костру поближе, не то – всего, как лошадь потную, облепят, закусают.
Мы с Рыжим накрываемся сетками-накомарниками, сворачиваем с тракта, идём напрямую, продираясь сначала через чапыжник, смородинник и отцветающий черёмушник, глухо затянувший сухую уже старицу, после – через тальник, чтобы попасть скорее к тому плёсу, где «вчерась тайменишшэ сплеснулся». Не до купания пока нам – и понятно.
* * *
Поднялось над Камнем солнце. Забелело – как раскалилось-то на взлёте. От самой рослой лиственницы на его хребте оторвалось уже. Сияет так, что и на воду не посмотришь – для глаз нестерпимо; через личину сетки – ещё ладно – и то ладонью надо заслоняться. Мы в тенёчке жидком – под покляпой и раскидистой берёзой; жмётся неподатливо из-под корней её корявых ключик – струя в нём неворкотливая, мешкотная, студёная – мы припадали к ней уже да и не раз – дёсны немеют от неё и зубы ломит, зато уж вкусно-то – отменно.
«Водица славная, не надо и крем-соды», – как к ней приложится, так и похвалит её Рыжий. «Царская», – говорит он.
Я соглашаюсь.
Марфа Измайловна так говорит о нём, о Рыжем:
«Наш водохлёб-то полон ковшик может выцедить, потом и пысатса, холера. Мимо кадушки в сенях ходом не проскочет, а зачерпнёт да и полачет».
Если она при нём, при Рыжем, это скажет, тот ей ответит:
«Тебе воды, ли чё ли, жалко?»
«Пошто воды-то!? – скажет ему бабушка. – Тебя, ослушник, агарянин… Крантик-то быстро свой износишь».
Просачиваются сквозь неподвижную, обвислую листву берёзы солнечные лучи – в воду пятна света с веток словно капают, стекают – и вода от этого как будто веселится – пожалуй, так оно и есть – а что ей, скучно – тут не стрежень – неподвижность.
В отблесках зимородок прошмыгнул стремительно. С синей спиной и оранжевым брюшком. По-над водой, чуть не вплотную к своему же отражению. Туда-обратно. Промышляет – мальков ловит.
Бабочки кружатся. Беспечные. Каких здесь только не порхает, разные. Однако чаще-то – капустницы, где-то их – грязь где, сыро – прямо тучи.
Буска их любит разгонять. В гущу где самую запрыгнет и придавить их лапами старается. Вздымутся те – и Буски там не видно. Выбежит после, грязный, но довольный. По жизни он кобель весёлый, только немножко разве простоватый – к людям, чужим, доверчивый – плохо.
Мелькают резкие, похожие на вертолёты, долготелые стрекозы. На удилищах наших остановки делают. Садятся и на поплавки – замрут на них, как неживые. Поймать их трудно – вёрткие, заразы.
Птички, как шмели, маленькие молча – только от крыльев шелест еле слышный – в тальнике охотятся на мушек – рой тех бесчисленный, все листья чёрно облепили.
И вот опять мне вдруг почудилось, будто присутствует Тот – Кто-то – Любящий. И сразу вспомнилось давнишнее. Лежу на чём-то я, спелёнутый, возможно – в зыбке. Веки, проснувшись, размыкаю. Изба залита, словно склянка, или зимним, или летним, теперь не помню уже, солнцем. А надо мной склонился седовласый, бородатый старец, смотрит он на меня ласково – а как, не выскажешь, не по-земному как-то – голубыми, лучезарными глазами и молчит. Молчу и я. И будто думаю: Бох, это – Бох, такое ощущение. После расскажет мама мне, что был это не Бог, наверное, а, скорее всего, мой родной дедушка, возвращавшийся в то время с поселения и, по пути к себе в Новую Мангазею, прогостивший у нас в Ялани всего лишь один день – домой, на родину, скорей попасть стремился, или оказия тогда так выпала, не дожидалась. Но вот – как врезалось, впаялось: Бог это, Бог – Он меня любит.
Рыжий, свернувшись по-собачьи калачиком и от комаров засунув в шаровары, под резинку, руки – пятки у него голые, но комары на них и не садятся даже, принимая их, возможно, за булыжники, – лежит на камешнике, посапывает – рано встал, так и сморило.
Я вроде выспался, так мне и ничего.
На противоположном берегу Кеми, на небольшом галечниковом мысочке, собралось в кучу несколько голенастых куликов, из стороны в сторону бестолково носятся, забегая то и дело для чего-то в воду. Куликают наперебой – как будто ссорятся.
Среди них и плишка чёрнозобая – на коряжинке пристроилась – трясёт хвостишком, будто краску стряхивая с кисточки, растерялась словно, – почиликивает.
Коршуны в небе колёса вычерчивают. Галки в них, в колёсах этих, спицы будто дорисовывают. От них, от галок-то, и грай не долетает до земли – в такой выси там – забрались же.
Над рекою воспарения – плотные – даль искажают сизую – сливается та в мареве.
Поплавки наши покачиваются мирно и мерно, но неинтересно на ослепительной водной глади – уж и смотреть на них не хочется. Поклевало поначалу чуть, и после – как отрезало.
Поймали мы с Рыжим трёх пескарей – одного из нихон, Рыжий, наживив его, трепещущего, сразу же на крючок своей удочки, забросил на тайменя, – трёх ельчиков, сорожку среднюю да небольшого окушка – и всё на этом, но и то – уху сварить, так и достаточно. А коту если отдать, тому и вовсе будет сыто.
Рыжий кемарит. Что-то ему, наверное, и снится даже: подёргивается – Буска наш спит когда, тот – точно так же. Уж не тайменя ли во сне выуживает – без меня – товарищ мой?
Поднялся я. Пошёл к кустам. Выломал там из краснопрутника кукан, очистил его от побегов мелких и от листьев и назад вернулся. Насадил добычу на кукан – вся разместилась. В берег илистый его, кукан, втыкаю – слышу: всплеснулся кто-то, и огромный. Гляжу на поплавок своей удочки – а тот аж скачет, и от него круги расходятся, как от ныряльщика. Метнулся к удочке я. Рыжий, слышу, засмеялся – и так, что воздух раскололся: тайком швырнул он в поплавок мой камнем. А у меня уж ноги затряслись – таймень-де клюнул. Взял и я камень, кинул им в поплавок его, Рыжего, удочки. И понеслось у нас, поехало – плесцо до дна всё взбаламутили. Но надоело нам и этим заниматься. И говорит тогда он, Рыжий:
– Айда-ка, парень, искупнёмся… Пора, однако… А то сопрел… как мышь вон, но.
– Айда, – говорю.
– Еслив он не удрал ишшо, тайменишшэ-то этот, – говорит Рыжий, – может, без нас возьмётся лучше… Наверняка.
Сказал так Рыжий, после полоснул по небу щелками-глазами и продолжает:
– Тока, чё-то мне кажется, что он от нас уже далё-о-око – в Ислени где-нибудь уж, в устье. Оставим удочки – никто их не возьмёт тут.
– А кто проверит?..
– Не проверит!
– А рыбу?.. – спрашиваю. – Дымку хоть, чё ли, накормить… Буска-то станет есть её, не станет?
– Пусть будет тут пока, чё с ней таскаться… Так, по жаре-то, измусолим… После зайдём и заберём, – распоряжается Рыжий.
Ну, значит, ладно – не перечу.
Проверил Рыжий, прочно ли удилище в берегу сидит – пошатал его, подёргал, придавил его ещё и камнем в комле. И говорит, язык во рту запрятав после дела:
– А ни хрена… поди, не выдерет.
Поплевали мы – от худого случая и злого человека – в сторону удочек и пошли.
* * *
С доски Гурамовской попрыгали вволю. С утеху, как говорит Марфа Измайловна, когда она на кухне или в огороде до смерти уходится. «Ой, уходилась-то, ох, доля – Божья воля, опять с утеху сёдни и наробилась». До чёрных мушек нанырялись. Здорово! Даже земля в глазах от неба побежала, а то за нею погналось. Как на качелях будто наболтались, кратче ли кисленькой отведали – кануну. Вот с медовухи – с той не так, с той только ноги собственные превращаются в чужие. Маленько знаем – не младенцы.
Ещё по разу – напоследок, с подскоком и с перевёртом, – сиганули мы с трамплина. На берег выбрались. К доске теперь уж не пошли. Свернули к яру, где одежду оставляли.
– Вы, чё ли, всё уже?! Эй, луговские! – кричат нам из быстро и криво, как червяк по лопате, ползущей к доске очереди.
– Всё-о! – откликаемся мы.
– А чё вы?! – спрашивают.
– Хватит! – отвечаем.
– Ну, и придурки! – говорят.
– У придурков есть ответ: вы придурки, а мы нет! Сами такие! – говорит им Рыжий. – У вас дел никаких еслив нет, дак и до вечера тут пропадайте!
– Ну и проваливайте! – кричат нам.
– Ну и оставайтесь! – отвечаем.
Захватив с собой одежду, а я ещё и сандали, по крутой и сплошь усыпанной колкой хвоей и шишками сосновыми тропинке, цепляясь где за куст, а где за корень обнажённый, на яр вскарабкались. Стоим. Что, мол, и толку, сетуем, что из воды-то только что мы, – сопрели снова, как и не купались.
Рыжий скорее прячется в рубаху, путается в ней, мокрый, бурчит что-то неразборчиво сквозь зубы, торопится – «моментом шкварится» на солнце он – поэтому. На плечах вон у него и так уже облупины – алые – смотреть на них и то больно – обдирать его как будто начали, да он вот вырвался и убежал. Нос у него, у Рыжего, с весны уже облезлый, к зиме поправится; сейчас – как ягода-малина. «Ты, дысь, как выползень, Володька, как змеёныш ли, – говорит ему его дедушка, Иван Захарович. – Кажно летишко и скидывать, засранец, свою кожу. Пошто вот тока?.. И вздумал тоже. Тушкан, ядрёна вошь, опрятаный… А еслив точно-то: залупа!.. Тебя касатса-то противно». – «Но! А тебя как будто кто-то просит! – огрызается он, Рыжий. – Отстал бы, деда… то ишшо касатса. Баушка вон – к ей и касайся. Схлопочешь быстро», – дерзит Рыжий. Отстаёт обычно «деда» – к иному в мыслях отлетает.
В ворот рубахи головой пробрался Рыжий. На меня смотрит – давно меня не видел будто.
– Или ворот тесный, – говорит. – Или башка большая.
Не знаю, как ему ответить.
– У-у, – говорю.
Смеётся Рыжий. Говорит:
– Башка, пожалуй.
Язык наружу вывалил и закусил его – с рукавами теперь разбирается. Язык убрал. И говорит:
– Опять, как мыши, ё-моё!.. Елки-моталки, – продолжает, – чуток бы хошь со временем-то было посвободней, весь день с Кеми бы не вылазил. Точно.
– Но-о, – соглашаюсь. – Хорошо.
Оделись скоро мы – Рыжий от солнца больше, я от комаров – те, паразиты, не робеют: на тело потное – как мухи на варенье; ещё не сел, а место уже выбрал и хобот свой уже вонзает.
Рыжий рогатку под рубаху спрятал.
– Не потерять бы, – говорит.
То на одной, то на другой ноге по яру поскакали – воду из ушей, что набралась в них, вылили. После туда – к костру – направились мы.
Идём. Глядим по сторонам. И видим издали:
Ниже стремнины, в заводи – девчонки. Полно их там – как головастиков в прогретой солнцем лыве. Пищат, визжат, как пилы по железу. «Как шшуки, плешшутса-трепешшутса», – мог бы сказать о них так Рыжий. Мог бы сказать ещё и так: как поросята, верешшат, мол. Сейчас – идёт – ни слова от него – о чём-то, может быть, задумался – с ним так, хоть редко, но бывает. То налево, то направо слюной презрительно циркает. Плюснами они, девчонки, как бобры хвостами, по воде колотят шибко – уже весь ил на дне перемешали – и как охота им?! – мель-то такая – ни нырнуть, ни кувыркнуться. Глупые. Проходим мимо мы, внимания на них не обращаем. Пусть бултыхаются, трусихи. Им же и прозвище такое: «кривошшэлки» – так их Иван Захарович и называет. Оно и верно. Жизнь прожил – не скажет дедушка напрасно.
Идём. Смотрим.
Покрышка не горит уже и не дымит, а дотлевает. Шает, как говорит она, Марфа Измайловна, обычно, так же за ней и Рыжий повторяет. Осталась от неё, от покрышки, только лишь проволока каркасная – лежит, раскалённая, на белом песке розовыми кольцами среди жёлто-зелёного, как сера горючая, пепла; уже темнеет – бордовеет.
Частоколом плотным вокруг стоя, уставились все на неё, на проволоку эту, как завороженные; даже, кажется, и не моргают; молчат. То сам себя кто по голому животу, то соседа по спине или по ляжке вдруг ладонью шлёпнет звонко – паутов и слепней севших убивают. Кто и нарочно посильней кого ударит – в шутку. «Ох, промахнулся, – скажет. – Улетел!» – и вся беседа.
Тут и Андрюха Есаулов. Сам с собой скрипит зубами и гогочет – вечно такой он: неунывный. Упал, говорят про него, в детстве с полатей на пол прямо темячком, так вот с тех пор и веселится. Но не дурак он, а нормальный: считать до ста уже умеет – атикетки со спичечных коробков собирает, копит – счёт тем нужен, ну и научился. Долго он у костра уже, наверное, толчётся – чашки коленные себе уже поджарил – ободрал, упав ли, где их? – та и другая у него в больших сплошных коростах – как у коня – в мозолинах как будто. Он, Андрюха, не купается – и никогда, а не сегодня только – воды боится, потому вот. Так просто здесь, на берегу, он. Чтобы побыть со всеми вместе. Компанейский Андрюха – одиночества не терпит.
Здесь же, глядим, и Витька Гаузер, которого зовём мы все не Гаузер, а Маузер. Тут и понятно. Кто ж виноват, сама фамилия велела. Витька привык, не обижается. Мы ему: «Маузер!» Он: «А?» До лихорадки докупался – дрожит всем телом, будто не на песке стоит он, а на веялке, не остановится никак. И уши у него – таких в Ялани из людей ни у кого нет, без спору – большие, как у марсиянина, огромные, трясётся он – трясутся и они – смешно и видеть – как в мультфильме. И трусы у него, у Маузера, добрые – ниже колен, семейные, чуть бы ещё их удлинить, и за исподние сошли бы. Сам Витька тощий, будто лагерник. Доходяга, говорит про него Рыжий. Рёбра у него, у Витьки, все на виду, как на пральнике, – горох на них шелушить можно, шишки ли кедровые. И волосы у него, у Витьки, по всей голове, как на ерше, которым стёкла ламповые и бутылки внутри чистят, всегда дыбом, хоть не чеши их, хоть расчёсывай; ещё и белые, как вон у Рыжего ресницы.
Подошли мы. Встали возле.
– Здорово, парни, – говорим.
– Здорово, – вяло отвечают – перекупались все, наверное.
Стоим. Молчим. И мы уставились на проволоку – лежит себе та, угасает потихоньку. А после сколько-то, немного:
Сзади чуть отстоял – и щёлкнул Рыжий пальцем Маузера по уху. Вечно они, ещё с яслей, так – пуще, чем наши Дымка с Буской: ладу меж ними нет никакого, хоть и друзьями называются. Бывает.
Разгневался Маузер – по лицу его заметно: ноздри у него зашевелились, – но говорит он, Маузер, обычное:
– Рыжий!
– Ушастик! – говорит ему Рыжий. Тоже обычное.
– Рыжий, рыжий, конопатый! Убил дедушку лопатой! – добавляет Маузер.
– Ушастик! – повторяет Рыжий.
– А ты курвёнка залупастая! – говорит внезапно Маузер. И трусы на нём – как будто ветром их колышет.
– У-у, – говорит Рыжий. И молчит. Помедлил чуть. И говорит: – Ну, ты тогда – фашист проклятый!
А Маузер – тот и трястись вдруг перестал – спрыгнул с веялки как будто, – побледнел, как обморочный, а был весь такой до этого – как свёкла; отошёл от костра, покрутился в стороне медленно – обронил там что-то словно, так и ищет, – поднял, глядим, с песка палку суковатую, направился с ней к Рыжему. Тот тоже в цвете изменился – не стало видно и веснушек – зарделся так он. Метра два до нас не доходя, замахнулся Маузер ею, палкой этой, на него, на Рыжего, потом вдруг резко повернулся к выскори – лиственницу с корнем в половодье где-то вырвало и принесло сюда – и стал ею, палкой, колотить по ней, по этой выскори. Всю палку – так дубасил – размочалил – как плётка, та сделалась. Ох уж и выдержка – фашистская.
А я стою – сначала-то мне тоже вроде интересно было, а тут ни до чего сразу вдруг сделалось – гляжу в небо и вижу: летит по нему, по ясному, ворона чёрная, как головёшка, и несёт в своём поганом клюве тяжёлое что-то, а получше-то присмотрелся, и разобрал: кукан с нашей, что мы поймали с Рыжим, рыбой. Ну, думаю, и сволочь же носатая! Прямо хоть плачь. Но не занюнишь же так – принародно. Только:
– Смотрите! – говорю, рукой указывая в небо.
Задрали все головы вверх, ладошками загородились – смотрят. Но не ворону ищут там глазами – что им ворона? – невидаль какая! – всем уж глаза твари эти намозолили, – решили, самолёт летит какой-то, или спутник. Я и не думаю, что мимо они пялятся. А та – объект – уже над Камнем. Так ничего никто и не заметил. Ещё и солнце, правда, помешало – зашла та, кривоныра, под него, как вражий истребитель.
– А чё – смотрите-то?! – от неба отвернулись все и спрашивают.
– Да чё – ничё, – им отвечаю. – Пролетело.
– Чё пролетело-то? – не унимаются.
– Чтобы разнять, наверное, он для того, – говорит Шурка Сапожников. И говорит: – Обманщик.
Молчу я – вязнут в глотке слова от обиды.
После, как в щепы палку Маузер расколотил и успокоился немного, а остальные все зря в небо поглядели, Рыжий и говорит:
– Парни, айда-те на Бобровку. Тагунков половим – поедим, то чё-то в брюхе заурчало, – опять на нём веснушки проявились – просветлился.
Ну и пошли мы на Бобровку. И Андрюха Есаулов с нами, и Маузер, и Сашка Пуса, и Шурка Сапожников, и Вовка Устюжанин, и Володька Прутовых, и так за нами – мелкота разная последовала – пока не гоним.
Пришли мы на Бобровку, где она не тихая и не глубокая, а мелкая и перекатистая. В ней, в Бобровке, только пьяные, когда куражатся, да сумасшедшие, которым всё равно, купаются – вода в ней и в июле ледяная – кони не пьют её – холодная такая. Но тоже вкусная. «В Кеми вода, конешно, добрая, ничё не скажешь, – говорит Иван Захарович. – А уж в Бобровке – как царко-овная; в ей, зуболомной, с головою окунёшься – все грехи с себя разом смоешь… В яё поссал Егорий Храбрый, когда с Анчутой Лапчатым разделался… Яй-Богу, так в Писаные и прописано».
Снял Рыжий с себя майку, завязал её со стороны лямок узлом – тебе и вентель.
Шаровары, чтобы их не намочить, мы подвернули и рыбачить взялись: двое ведут, а остальные загоняют. Почти полную банку литровую наловили цветных тагунков и гольянов. А есть их не с чем.
– Вы тут пока костёрчик разводите, – говорит ребятам Рыжий. – А мы до Машеньки спалкам, на Половинку.
Ребята разжигать костёр остались. А мы с ним, с Рыжим, к Машеньке отправились.
Как подошли, остановились перед окнами, позвали.
Высунулась из окна Машенька, на свет уличный зажмурилась и говорит:
– А это вы опять – немец и мурин. Давно, однако, не видались.
– Пойдём отсюдова, – говорит Рыжий. – Она ещё и обзыватса вздумала.
Пошли мы было.
– Да ладно, ладно, неча обижаться, – говорит Машенька. И улыбается. И говорит: – Воду черти возят на обиженных-то. Сказывайте, – говорит, – зачем пожаловали, облазы.
– Хлеба нам, Христа ради, не дашь немного? – спрашиваю я. Рыжий молчит – обиделся по-настоящему, похоже.
– Да дам, конечно, как не дам-то. А радив Христа – дак и особенно.
Дала нам Машенька по целому ломтю, каждый намазав прежде толсто маргарином; дала и соли. Это нам на двоих. Дала ещё и полковриги – на остальных. Протянула она нам всё это в окно и говорит:
– Хлеб да вода – мудрых еда. В рот ломоть – давай молоть. Ешьте, ешьте, не стесняйтесь. Кто мало ест, тот не растёт.
– Спасибо, – говорим мы. И Рыжий отошёл уже – отходчивый.
– На здоровье, милые, – говорит Машенька. Сказала так и скрылась там – в потёмках горенки.
Пошли мы обратно. Идём. За обе щеки уплетаем хлеб, намазанный маргарином и посыпанный солью.
– Вкусно, – говорит Рыжий.
– Вкусно, – соглашаюсь. И говорю: – А мужика-то того жалко.
– Какого? – спрашивает Рыжий.
– А рот которому перекосило, – говорю.
– А-а, – говорит Рыжий.
Я говорю:
– Тому и не попробовать.
Вернулись мы к ребятам.
Поели тагунков – сырком – макая в соль, закусывая хлебом. У костра сидим – костёр-то так, от комаров только. Подбрасываем в него старые еловые шишки. И без огня, конечно, жарко. Рыжий и говорит:
– Баста, орлы! Пора к Пшеничкину Игнату.
Мы: мол, а чё, просил опять он?
– Да-а, я ему, дурак, пообешшался, – говорит Рыжий, отвалясь на взлокоточки и глядя куда-то поверх ёлок. – Заплатит – курева накупим – посмолим маленько, может, – сказал так и циркнул слюной себе через плечо.
Затушили мы костёрчик, дружно пописав на него. Тушить начал Рыжий – он и говорит:
– Одна кобыла всех заманила.
Шкетам идти за нами строго запретив, к деду Игнату мы направились.
* * *
Есть у нас такой в Ялани – Игнат Иванович Пшеничкин. Есть и ещё один такой же – полный тёзка этого, но тот не этот, тот другой, тот родной дедушка Андрюхи Есаулова, и тот двухногий, с тем мы в пристенок часто зудимся на деньги. И с тем сейчас нам лучше не встречаться – задолжал кое-кто из нас ему, да и не мало, а прилично, – ещё поймает и отлупит.
Домишко у Пшеничкина Игната стоит на одали, старенький, пихтового лесу, с маленькими оконцами мутного, зелёного стекла, врос наполовину в землю. Крыша желобниковая. Наличники простые, не окрашены.
Сидит уже Игнат у себя на завалинке, что в деревянной, бревенчатой, опалубке, под левым окном. Ждёт.
Под правым – на соломенной постели лежит кобель старый, с бельмом на одном глазу. Плачет. Шарик.
– Чё ты всё скулишь там. А, гамнюк? Уж надоело, – говорит ему дед Игнат.
Одна нога в сером, латаном валенке с завёрнутым голенищем, другая – на деревяшке с круглой резиновой подмёткой – пристроена на чурке – выставил её дед Игнат – торчит та, как пушка. Из прорехи штанов глядят исподние – зелёные, фланелевые. На голове шапка-ушанка – сидит задом наперёд. Тесёмочки болтаются.
– Здорово, дед Игнат, – приветствуем мы старика.
– Вам наше, варнаки, коли не дразните нарошно, – говорит дед Игнат. – На заработок припёрлись? Или так, куда проскоком?
– На заработок, – говорим мы.
Опять заплакал Шарик.
– Володька, – говорит дед Игнат Рыжему, – пойди-ка, почеши ему за ухом, тока не шибко – болячка у него там – развередишь.
– Чё, так, ли чё ли? – говорит Рыжий. – Даром, дед Игнат, и чиряк даже не вскакиват.
– Вот выродок, язви тебя… рыжий мерин, – говорит дед Игнат. – Один, наверное, такой на всём белом свете. Ладно уж, сверху полтинничек тебе накину.
– За полтинничек сам пусть чешется, не инвалид войны, – говорит Рыжий.
– Ну и не чеши, плакать будем будто. И, вправду што, сам прочешется, – говорит дед Игнат. – Вот уж пёстрый, дак уж пёстрый.
– Не обзывайся, дед Игнат, – обижается Рыжий. И говорит: – А то уйдём счас от тебя, и будешь…
– Дак доведёшь идь… и зловредный ж.
Подался Рыжий к Шарику.
– Начинайте! – командует старик.
Привалился спиной к оконному наличнику.
Зажмурился.
– Приступайте, мать вашу в болоте через кочку!
Подняли мы его целую ногу на чурку. Сняли с неё валенок. Носок с неё стянули.
– В пим яво, носок-то, пожалуй, не суйте. Пусь на ветру малёхонько обыгат… отопрел-то, – скрючил пальцы на ноге старик. Ногти жёлтые. Потрескавшиеся. Как глина в зной – так же. – Жарко-то так, и сам, как люша.
– Дед Игнат, тебе щепочкой? – спрашиваем мы.
– Пятку шшэпочкой – конешно, а подошву – когтями, дак чё, – отвечает дед Игнат.
– А проволокой?
– Проволокой нельзя!.. Как можно, – встрепенулся дед, открыл глаза. Ощупал ими наши руки. Закрыл глаза снова. – Я же идь плотяной, а не жалезный… Поехали. Володька! Остань от кобеля – полтинника не увидишь. А и её ещё не дам тебе, зарплату основную.
Скребём мы по очереди старику пятку щепками, щекочем пальцами пятку.
– О-о-ой, ой, ой! Мать вашу в болоте!.. О-о-о-оах, хорошо, дак как ещё хорошо-то, просто: ра-а-адась… А пошибче-ка пяточку, пошибче-ка её, древнюю. Так, так её. О-о-о-о. Занозу тока не вгоните… Вот так, вот так её, исхоженную. Ой-е-йёо-ох, деньги зарабатывают. Ой-е-ёах, конхет-пряников накупят. В кино военное сбегают, ох-ой, труженики, шпиёнское поглядят, махоркой вкусно обдымятся.
– Хватит, может, деда, а?
– Дак пошто это?! – приоткрыл – слезятся – глаза. – По рублю ещё не заработали. Чё мамки ваши скажут, грабит, дескать, Игнат наших рабятишек, подзаработать не даёт им, мол…
– Прошлый раз мы и то меньше тебе чесали.
– Прошлый раз я вам деньги раньше работы вашей выдал. И дурак был, говорил уже. Печалюсь – глупый. Не жалаете – дело, конешно, ваше. Других сышшу, ведь тока свистни… Мальцов безденежных в Ялани – как вон воробьёв… О-о-о-о-ой, ой, ой, мило-любо… другой пятки нет, дак жаль вот, то бы и вовсе оно благось… Ну, ту я мысленно… О-о-а-а. По два рубли уже – так считаю. Шибче, шибче. Ну и рабятишки, ну и старальшыки. Не здря сосали титьки мамкины – толк добрый вышел. Ещё копейки по две… Ох, и разорите вы старика – на поминки не оставите и грошика. Через три дни у меня – «За боевые заслуги». За день до Ильи потом – «Орден Красной Звезды». Дожжа не окажется, дак в это же время милости просим. Шашнадцатого, запомните, июля – «За отвагу» – тоже подходите. О-о-ой, хорошо как, замечательно. Денег на вас не напасёшься. Чё дальше – после, доживу ежлив, дак скажу… Там, глядишь, и Спас… Жаль, что царский-то когда, не помню… Знаю, что осенью, а вот когды?..
– Хватит, дед Игнат. Руки уж пристали.
– Ну а ещё-то на копеечку, то вдруг где не достанет… А там и с Богом. В магазин. Чё в магазине этом тока нету… Живой воды? И та, поди, найдётса. А из-за копеечки – нет её – и слатости иной раз какой не приобретёшь – досадно.
– Всё-о-о, не можем больше, руки вон уж занемели.
– Да всё ли? Это на полкопеечки. Ну да будет, уж и вправду, приневоливать не стану, не мучитель, не терзатель какой-нибудь злобный. И то потрудились. На славу. Обувайте. О-о-о-х, жизь – гамно, а деньги – семючки – карман худой, дак всё и высыпаются… С австрийцами, учил Суворов, не водитесь… дак я с ём, с полководцем-то, согласен полностью – дурной народишко, ох и дурной же… эти австрияки.
Обули мы деда. Достал дед из кармана монеты. Долго то с той, то с другой стороны каждую разглядывал – не передать бы лишнего. Расплатился. Рыжему на ладонь – отдельно положил бумажный рубль. Присвистнул Рыжий, сжал кулак свой конопатый.
– Хапуга, – говорит ему дед Игнат. – Козлишшэ алчный… Надо других уже подыскивать… таких – без наглостев.
– Хм, – говорит Рыжий.
– О-о-ой, – говорит дед Игнат. – Душа у меня, рабятишки, шибко пакостная – до того уж тело моё доброе и безответное измучила… Хошь заскулись, ага, как Шарик вон. Што он, што я – паршивцы оба. Вы попросите Бога, поумаливайте, чтобы прибрал меня скорее – то невтерпёж уж. Но. Чё-то всё дёржит, а пошто, не сообшат. Бог рабятишек слушат, как свирельки. Тока ты, Рыжий, не проси – попортишь дело. Прибери, мол, его, Осподи… Ага!.. Эх, жизь – лапша, а смерть – тарелка…
Пустились мы от деда взапуски. Пыль за нами по дороге – как за волокушей – не продохнуть тому, кто сзади нас останется.
* * *
Подошли мы к магазину. Мужики гурьбятся около – гоготливые. МТС нашаяланская так называется: «Полярная» – выходной сегодня в мэтээсе, перерыв коротенький в работе. После посевной в колхозишках раздолбанную технику на Станции подладили маленько, теперь к сенокосу и к уборочной её готовить будут. Но это завтра, с понедельника, хоть и день-то, мужики в шутку журятся, не начинный, а – чижолый.
И мы на корточки присели тут же – любопытно.
Дядя Ваня Патюков – тот, если выпивши чуток, то по деревне с табуреткой разгуливает – фокус всем желающим и нежелающим показывает: пристроит табуретку сиденьем на землю, сухими, жилистыми руками в её ножки упрётся и стойку на руках сделает – стоит с минуту, с две ли, вниз кудлатой головой, размахивая при этом ногами в начищенных до блеска полуботинках, как сигнальщик. В морской пехоте воевал он.
Сегодня дядя Ваня под хмельком – и с табуреткой. Нас увидел, во весь рот заулыбался – многозубый. Табуретку опрокинул, совершил фокус. Майка сползла ему под мышки – живот и спину оголила. Изранен весь он, дядя Ваня, – в синих и розовых рубцах у него и спина вся, и живот – шрапнелью. Парнишкой он ушёл на фронт, вернулся старцем седовласым. Три похоронки во время войны на него приносили родителям – оплакали они его три раза. Воскрес. Живой вот. И хороший – не шишига и не жмотик – конфетки нам обычно преподносит.
Угостил нас и теперь, с упражнением закончил только.
Вынул он, дядя Ваня, молча и улыбаясь, из огромного кармана – расстегнул его сначала, на застёжке у него тот, чтобы при фокусе-то из него не высыпались медяки да паперёсы, – вынул он из кармана своих широченных шкер пригоршню подушечек – обнесены конфетки, как сыпью, табачными крошками, – предложил нам слатось эту – мы не отказались – чем уж чем, но табаком-то мы не брандуем – нормально.
– Ребяти-и-ишки, – говорит нам дядя Ваня. И смотрит на нас на всех по очереди. – Родные вы мои.
И мы ему:
– Спасибо, дядя Ваня.
– Да на здоровье, милые вы мои, на здоровьице, – говорит дядя Ваня и от счастья чуть не плачет, кажется.
И Фанчик здесь же. Прозвище у него такое – Фанчик, а так-то, если по-настоящему: Иван Тимофеевич Верещагин. И он тоже ветеран. Половину нижней челюсти, а заодно и зубы передние, верхние, снесло ему из пулемёта белофинского на фронте, поэтому и говорит он так, что мало кто у него, увечного, что может разобрать. Но кто привык, тот понимает.
С мужиками, слышим, он, Фанчик, такой уговор сейчас держит – если они, мужики, пойдут и принесут ему белоголовку, выльет он водку в какую-нибудь посудину, накрошит туда хлеба и всё это выхлебает, а если выхлебает и не поперхнётся, то они, мужики, купят ему за это и другую поллитровку, а если не ссилит, не управится, тогда он выставляет им две сразу.
Уговорились. По рукам ударили. Сходил дядя Петя Есаулов, отец Андрюхи Есаулова, в магазин, принёс белоголовку и буханку чёрного ржаного хлеба. А Фанчик ждёт его уже, собрался с духом – стоит с деревянной самодельной ложкой – из-за голенища своего ялового сапога только что её вытянул и облизал – в одной руке, а в другой – с пустой консервной банкой из-под какого-то компота – под скамейкой тут же и валялась та, только травой протёр внутри её. Накрошил он, Фанчик, в банку хлеба, бутылку распечатал, в банку вылил содержимое, бутылку в сторону отбросил – в кювет дорожный укатилась та, – хлебать начал. Не давится. Глаза закрыл – сосредоточился – как перед боем. Бежит белое струйкой сверкающей по подбородку повреждённому – под ворот гимнастёрки утекает. Стошнило дядю Петю, отбежал тот к забору, согнулся – в траве как будто, под ногами у себя, выглядывает что-то. И одного из нас стошнило – Маузера – близко уж слишком к сердцу принял всё.
– Тогда пойдём пока отсюдова, – говорит нам Рыжий. – Курево и пряников потом, наверное, купим… А то слабак вон вислоухий…
Смолчал Маузер на этот раз, не огрызнулся – виноватый.
И пошли мы.
Возле клуба остановились. Речь со столба по площади разносится. О Кубе что-то и – о Кастро. Молодец этот Кастро – даёт прикурить американцам. Фидель, одним словом.
Стрельнул в громкоговоритель Рыжий из рогатки. Попал. Но ничего с ним, с громкоговорителем, не случилось – бумкнул только и болтает себе дальше.
– Айда на берег, парни, сходим, – предлагает Рыжий.
Но отказались все – вдруг по домам идти засобирались.
– А чё там делать? – спрашиваю я. – Мы же уж были…
– Надо, – отвечает мне Рыжий. И говорит всем остальным:
– Ну, тогда ладно. Сбор через час… примерно, так. На нашем месте – возле Дышшыхи. Я, может, курева где раздобуду – и покурим. Ну а на деньги пряников с крем-содой после купим… Счас, и не знаю, чё-то расхотелось.
– Не об мухлюешь? – спрашивает его Шурка Сапожников. – Честно слово?
– Вот вам крест… – начинает было, размашисто крестясь, Рыжий.
– Нет, нет, не так! – перебивает его Вовка Устюжанин. – Ты по-советски.
– Честное ленинское и сталинское, – торжественно произносит Рыжий, выкинув перед лицом по-пионерски руку. – И смертью баушки клянусь.
Деньги он там ещё, у магазина, забрал себе все, под рубаху их упрятав, – наш казнохран он полномочный, и дед Игнат его товариш и дальний-дальний его родственник, к тому же, так что понятно, мы не прекословим.
И разошлись мы кто куда.
* * *
Я стоял, не зная толком, что мне делать. А он, Рыжий, долго ходил по галечнику, разгребая его босыми ногами, не кудахтал только, как курица, при этом; присматривался. Бродил, бродил, остановился вдруг и говорит:
– Во-о, отыскал!.. Должны же, знаю, быть такие здесь… раньше-то часто попадались.
Что-то поднял и держит на ладони.
Подступил я к нему ближе, смотрю: обыкновенный камешек; белый, на пуговицу маленькую похожий.
Рыжий и говорит:
– Такие, парень, вот ищи.
– Зачем? – спрашиваю.
– Сказал же, надо, – говорит Рыжий.
Ещё штук пять нашли подобных – и по размеру, и по цвету.
– Теперь айда, – говорит Рыжий. – Хватит.
– Куда? – спрашиваю.
– К нам, – говорит Рыжий.
– Не-а! – говорю. – Мамка увидит, работать заставит.
– Не увидит – мы задами, – говорит Рыжий. И говорит: – Хочу маленько отомстить.
– Кому?
– Паулюсу.
– А ей-то чё?
– Она меня вчерась ремнём по жопе секанула… как чужого… ишшо и счас, зараза, зудится… И увернуться не успел… И ни за что – вот чё обидно!
По дороге, возле общежития, где живут курсанты-механизаторы, подобрали мы окурки, на старой, пустой и безоконной молоканке спрятались и ладно ими накурились: по три добрых бычка высмолили. Пошли – нас даже закачало.
– Ядрёные, – говорит Рыжий. – Крепости от матушки-земли в себя втянули – полежали-то.
– Но, – соглашаюсь.
– Ты аж зелёный вон… как плесень, – говорит Рыжий.
Я молчу.
Пробрались мы огородами. Вступили в ограду к ним, к Чеславлевым. Дедушка Иван Захарович сидит на крыльце, трубку громко, как младенец пустышку, посасывает. Увидел нас и говорит:
– Ну, чё, засранцы, накупались? – сказал так и говорит: – Вижу, вижу кунку рыжу.
Мы ему не отвечаем. И ему до нашего ответа дела нет, похоже, никакого: забыл про нас тут же, как про воздух, подпёр небо носом – старый.
Юркнули мы в дом. Родителей дома нет – пошли покосы смотреть и, где надо, так их, покосы-то, почистить. В избе одна Марфа Измайловна. Не на огороде сегодня – пока жарко. Сидит возле окна, носок – натянула его на электрическую лампочку – штопает. В очках, те – у неё на самом конце носа.
– Ба-а, – зовёт её Рыжий.
– Чаво тебе, – откликается та, не отрываясь от заделья.
– А ты лекарство сёдня принимала?
Молчит сразу бабушка, а после и отвечает:
– А чё тебе-то за забота?
– Да нет, я просто, – говорит Рыжий. – А то подал бы.
– Ну дак подай, – говорит бабушка Марфа. И говорит: – Пора уж, правда.
– Счас, – говорит Рыжий.
Подступил к шкафчику, открыл его, достал оттуда баночку коричневого тёмного стекла. Таблетки из неё в горшок цветочный тихо вытряхнул, вдавил их, словно семена, пальцем в землю, а вместо них, таблеток-то, в баночку камешки, что отыскали мы на берегу кемском, засунул.
Подошёл после к бабушке, подал ей баночку. И говорит:
– Ба-а, возьми.
Повернулась бабушка к внуку, потянула носом, как собака на гону, воздух и говорит:
– Ох, Асмадей-то энтот проклятушшый! – наскрозь всего уж прокурил, гад, парнишшонку – пропах, как потник, – это она, бабушка Марфа, про дедушку Ивана, про мужа своего. И бормочет тут же, следом: – Святый Архангеле Селафииле, молитвенниче, моли Бога о мне, о грешной… и так за мной плохого-то чё много и уж на язычишко шибко невоздержна… Уд мой – враг мой, энто – правда, – помолилась так она и говорит Рыжему: – Ты уж и кумку мне подай с водою – запить-то чтобы. Давай сюды тогда и ложки.
Принёс Рыжий бабушке кружку с водой и две ложки алюминиевые. Отложила Марфа Измайловна штопанье, вынула таблетку из баночки, положила её в ложку, принялась другой давить её, раскрошить чтобы. Давит, давит. Зубов-то нет, так десной об десну – от усердия – шамкает. Выскочил, выскользнув, камешек из ложки – улетел куда-то под кровать. Искал Рыжий, искал – не нашёл. Из-под кровати вылез и говорит:
– Ты бы, ба-а, осторожней, а то и лекарства так тебе не хватит.
– Учи, учи, меня, коло-о-одник.
Сказала так Марфа Измайловна, но таблетку давить теперь не стала. В рот взяла её и, проглотив, водой запила. Сидит, опять штопает.
Сидим и мы на скамейке, смотрим на Марфу Измайловну.
А после Рыжий, ткнув меня локтём в бочину, и спрашивает:
– Ну дак и чё, ба-а, полегчало?
– Полигча-ало, полигча-ало, – говорит Марфа Измайловна. – Как не полигчало – одно и спасенье, что – лекарсво. Как без него жила бы, и не знаю… А чё тебе-то? – спрашивает.
– Да так я, просто, – отвечает Рыжий, едва сдерживая смех и чуть не прыгая от счастья.
– А чё ты ёрзашь?.. не сидишь-то. Всё, как опарыш, батюшка, и шевелишься. Побыть спокойно – за беду… Колодник, каторжник, помилуй меня, Осподи, – говорит Марфа Измайловна. И говорит: – У людей вон ребятишки всё как ребятишки, а у нас… не знаю прямо… бытто в крапиве всех насобирали.
– Ну, ладно, ба-а, мы пошли, – говорит Рыжий.
– Тупайте с Богом, с Богом, милые, – говорит Марфа Измайловна. – А то, гляжу, и так уж шибко чё-то задержались.
– Я тока баночку назад поставлю, – говорит Рыжий.
– Поставь, поставь, еслив не лень… чтоб мне-то, старой, не вставать, не лазить, – говорит, не глядя на него, бабушка.
Взял Рыжий с подоконника баночку с таблетками, понёс её к шкафчику, а пока устраивал её на место, другой рукой успел – запихнул себе под рубаху три пачки папирос отцовских – «Северу».
* * *
Пошли мы на Дыщихин угор, где через час-другой с друзьями встретиться условились. Идём пока за огородами. За изгородь, словно канунной бражки тяпнули и захмелели, придерживаемся, то чуть не падаем – от смеха.
Буска – всё вроде не было его, а тут откуда-то примчался – нос у него в трухе какой-то – не то полёвок промышлял, не то где в мусоре копался, – уставился на нас бестолково, поводя ушами и наклоняя морду то влево, то вправо, будто шуруп ею, мордой, как отвёрткой, в воздух вкручивая, – что за беда такая с нами приключилась вдруг, не понимает.
– А она… – начнёт было Рыжий, но досказать никак не может, только пополам сгибается, как в корчах, отрываясь руками от изгороди и хватаясь ими за живот себе, хохочет. – А я… – и запинается на этом. – Ой, сил уж нет, аж брюхо разболелось… Ой!.. «Полигча-ало, полигча-ало»!.. – и глаза свои – то сузит, то расширит их – как будто точит.
– А я смотрю… – говорю я и в захохотки тут же, тоже хватаюсь за живот – смех заразительная штука.
– Ну и Маршал Рокоссовский, ну и Паулюс… «Коло-о-одник»!
И Буска лает, к земле припадая, – решил, что с ним мы забавляемся.
Идём. Маленько успокоились.
Уже и знойно. Темя напекает. Сетки-то, накомарники, мы дома, в сенцах, у него, у Рыжего, оставили, чтобы не потерять их ненароком где-нибудь, а то бывает, и получай потом за это – за потерю-то. «Всыпят как следует, по первое число». Так говорит об этом Рыжий. Головы голые у нас – не перегреться бы.
Курицы клювы поразинули, больные будто, занеможили, по изжелта-зелёной, выгорающей уже, муравке бродят, квёлые, только на небо изредка скосятся – коршуны там, в белёсом и безмолвном поднебесье, сами с собой тоскливо и протяжно вскликивают – «пить у Ильи-пророка просят»; курицы коршунов не жалуют.
Собаки дрыхнут – развалились под телегами, заслонили морды себе лапами – от мух пронырливых – от них, от мух же, и лениво отбиваются, себя по морде колотя, когда те в ноздри им уже полезут.
Телята малые, селетки, в тени попрятались – возле забора, у стены, а кое-где и за поленницей – машут хвостами и лягаются – тоже от мух, от них, назойливых. А овод – жарко – так чуть убыл.
Рыжий, как от жары будто, может быть, и от жары, язык высунул, закусил его зубами: достал он, Рыжий, из-под рубахи рогатку, в руке несёт её теперь – вдруг да понадобится, мало ли: или какой где воробьишко зазевается – того угробить, или сорока полетит над нами – влёт сшибить ту, стрельнуть ли просто где – по банке, по бутылке.
Идём.
Магазин проходим, видим: спор у мужиков он, Фанчик, выиграл – лежит уже в кювете без чувств. Сидит рядом с ним на обочине пасынок его, Сын Фанчика, – угрюмый. Мы с ним не водимся, не дружим – потому что он бирюк и бука. Жены у Фанчика нет, нет и матери у Сына Фанчика – прошлой осенью ещё исчезла, как морозы только наступили, а куда, и неизвестно. Вдвоём живут они теперь, справляются – он, Фанчик, и сын его, Фанчика, так и зовут в Ялани все которого: Сын, дескать, Фанчика. А имени его не знаем мы.
Из мужиков у магазина никого уже – в клуб подались, наверное, – в бильярд там зудятся, на стадион ли – играют, может, в городки. Или в прохладе пребывают – бочку портвейна завезли вчера в чайную.
Рогатку Рыжий снова спрятал; вернул на место и язык.
На теневой стороне улицы, на скамеечке и на чурочках возле Дыщихиной избы сидят кучно старики и старухи – пёстрые.
Напротив них, на полянке, стоит ведро цинковое – в нём – дымокуришко: редких уже, в жару-то, комаров и слепней отгоняет.
Время у нас есть – пока приятели не подоспели.
Поздоровались мы. Сели после прямо на траву около разговаривающих. Слушаем.
Про Ефросинью Делюеву, слышим, толкуют. Дочь её, Гликерия, рассказывает:
– Она мне счас и говорит: кросна-то, девка, убирай, мол, а мы дорожки взялись ткать с ней, кросна-то, дескать, убирай – в два часа по дню я помирать, мол, буду. Да ты пошто така-то, я ей, ты чё заладила-то сёдня, чё ты с утра-то затростила? Да я ничё, мол, говорит. Убирай, дескать, убирай, чтобы потом-то не сумятничать. Сон, дескать, видела – объявил во сне ей будто кто-то: на летний солноворот, мол, Ефросинья, помирай, не мешкай, дольше-то, дескать, не задёрживайся. Срок, мол, твой вышел, пострадала. А я не знаю, чё и делать мне?
Чаще её, Гликерию, в Ялани Лушей Толстопятой называют – ноги у неё полные, икрястые. А Марфа Измайловна ещё и так: девица, дескать. А уж какая там девица-то – старухам ровня.
– Дак чё, – говорят старухи. – Послушайся, велит-то еслив. Раз приказыват, готовься, значит. – И завздыхали, закрестились: – Пожила, помучилась. Ох, все там будем, Осподи, прости нас.
А на чурке возле них, возле старух, ногу на ногу устроив и сцепив руки в пальцах под коленкой, сидит, ссутулившись, как над могилой, отец Патюкова дяди Вани – дедушка Серафим. В длинной серой он косоворотке с голубой, плетёной опояской. В сизых плисовых, поношенных штанах и в броднях, от которых дёгтем крепко пахнет. Тик нервный у дедушки Серафима – дёргает он щекой непрестанно, словно от комара ею, щекою, отбивается, и мигает часто левым, единственным, глазом – будто сшивает себе веко, чтобы хоть этот-то не выпал. Другого нет – верхом он, дедушка Серафим, куда-то ехал на коне, рассказывали, на сук обломанный еловый напоролся глазом – вот тот и вытек у него. Молчал всё, вроде слушал, а потом и говорит он, дедушка Серафим, такое – и ни к селу ни к городу как будто:
– Мы не живём, не сушшэствуем, а Бог во сне своём нас тока видит. Он как пробудется – и мы все до единого поисчезам, всех нас корова языком как будто слижет. Это мне ясно. А потому, пустые люди добрые, и вытворять всё можно, чё ни вздумал: Бог-то – Он есть, дак нас-то нету. Делашь ты чё, не делать ли – оно лишь кажется… ей-Богу… А еслив нет тебя, дак как тебя накажешь? Всё остальное-то – извитие словес.
Выслушали все его, высказаться ли ему, дедушке Серафиму, просто позволили, и опять о Ефросинье засудачили: уж и не диво – пожила, мол, и будет жить ещё, дак тоже, дескать, ладно: чужой чей век не заедает – смирная.
А он, дедушка Серафим, «при царе ишшо, при Миколае Олександровиче, повоевал с японцами, потешился – с иконой Богородишной да с колуном ходил на них, на одинаковых, – винтовок не было, не подвезли», – как он сам лично про себя рассказывал когда-то нам. «Под взрыв попал – его немножко и контузило» – так на него старухи наговаривают. Но видеть стал он после этого далёко, через ельник, через горы, и «рассуждать чудно маленько» начал. Кому чудно, а нам вот нравится.
Чей-то кобель чёрный пробежал мимо, не обращая на добрых людей никакого внимания. Столб Дыщихиного палисадника бегло окропил по ходу – и правильно сделал. Марфа Измайловна рассказывает про неё, про Дыщиху, такое: «После войны как раз… Скуда шибкая. Нужда такая, попустил Осподь. А мужичонка у неё, у Дышшыхи-то, кладовшыком в сельпе работал – продуктишки у них, конешно же, имелись. Ну, там какие-никакие… в рот чё положить было, одним словом. Жили-то так оне – невенчанно, внебрачно… без оформленья, сошлись – и жили. Утонул в Кеми он после, в самое раскалье. А тут, в Волчий-то Бор, военнопленных навезли – лес валили да сплавляли. Голо-о-одные. Холодные. Одеты плохонько. Придут в Ялань, побираются. А у людей-то чё – кто бы и дал – картоха тока. И к ней, к Дышшыхе, как-то направились – кто насоветовал, или уж так – Осподь повёл их туда зачем-то – как на испытание. Дай нам Христа, мол, ради, хошь картофельных очистков – попросили. Баба здоровая она – как одного наотмашь да другого – те так в сенишках-то, изморенные, завалились. Она их за ноги да за ворота. Так за версту её потом и обходили. Тянутся, видишь после, к Сушихе гуськом все – та подавала, привечала их… У нас всё в бане вон и грелись. Теперь уж мало кто живой-то».
– Собака, – сказал про убежавшего уже прочь кобеля Гурам, татарин нехрешшёный. Все в Ялани зовут его Гурамом, только Аркашка, яланский пекарь, тоже татарин, тоже нехристь, называет его Гумаром. Сидит он, Гурам, или Гумар, тут же, промеж старух. В аракчине – в тюбетейке. Борода у него редкая – четыре волосины. Молодой. В рубашке вышитой и в брюках отутюженных: к Насте-Кобыле свататься никак собрался. Сказал так Гурам и говорит после, загибая у себя на пальцах: – Ислентьевых сожгу, Сапожниковых сожгу, Поротниковых сожгу, Толкушкиных сожгу, тебя, Дыщиха, сожгу, а Сушиху сжигать не стану.
– Ну и на том спасибо, милый, – говорит ему Марья Митривна Белошапкина – острословая – ей на язык попасть, как «сесть на жало».
– А ты мне дашь аршин ситцу, – говорит ей Гурам.
– Дам, дам, как не дам, родимый, – отвечает ему Марья Митривна.
Молчат все после – петух Дыщихин из ограды в подворотню на улицу выбрался, будто яйцо снесла ограда – его выдавила, стоит, лупоглазый, – на петуха теперь все смотрят.
– Петух, – говорит Гурам.
Молчат все. Только петух закукарекал – придурошный.
Время прошло какое-то, и говорит он, дедушка Серафим:
– Вижу, Медосий Ферапонтович Делюев, пасешник, своёва конишку в оглоблишки вводит, запрягать, наверно, будет – сюда, в Ялань, поди, собрался. Трава на ней, на тележонке-то… для мягкости.
Молчат все – то ли про то, что Серафим сказал, думают, то ли – про петуха, какой красавец тот. А тот, и правда, видный – как индеец.
Медосий Ферапонтович Делюев – родной брат Гликерии и сын собравшейся, как сообщила только что сестра его Гликерия, помирать сегодня, в солноворот, Ефросиньи. Из кержаков они. Старообрядцы. Зимует и летует Медосий Ферапонтович на пасечном угодье, километров за тридцать от Ялани, в верховьях глухой, таёжной речки Суятки, почти безвылазно, в Ялани объявляется он очень редко – в магазин за провиантом или продуктами лишь иногда пешком придёт или приедет на коне да в день родительский на могилку к отцу наведается – похоронен тот у них не на общем для всех яланцев кладбище, а прямо в ельнике, отдельно от никониан, от наших то есть. Тихой. Неразговорчивый. Борода у него зелёно-белая, словно лишайник, по пояс – знатная, в которой, как старухи утверждают, «могута таится ведовская». Если бы он, Медосий Ферапонтович, уснул когда-нибудь и где-нибудь на воле, пьяный, мы бы её ему спалили, постарались бы. Но не валяется Медосий пьяный, жалко. Зато вот брат его Власий Ферапонтович – тот напивается частенько. Плотник-то знатный он – нужды в копейке не имеет, так и позволить себе может, и угощают его люди – то под начин, то в завершение – баньку кому поставит, крышу ли где перекроет. А как напьётся Власий Ферапонтович – близнецы они с Медосием-то, – так и шуму по Ялани – как от стихии. Набравшись, спать, «как путний», плотник не ложится, а «с рыком грозным, аки зверь», вываливается на улицу – из своего ли дома, из гостей ли – и, «сдрешной и заполошный», кидается на первого попавшегося без разбору, а потому уж и зубов лишился многих – шепелявит, ведь на какого где нарвёшься, но, несмотря на это, он не унимается. «Таких и ветер мимо облетат», – говорит про него Марфа Измайловна. Женился Власий Ферапонтович на калмычке, привёз которую из Елисейска, где отбывал пятнадцать суток, «честно заработанных, – в клубе, во время выборов каких-то и куда-то, поколотил он стулом изнутри все стёкла в окнах. Байчха её, жену его, зовут, а у старух так получается: Бахча. Никто её, Байчху, нигде не видит – из дому он её не выпускает, сама ли она не выходит, – лишь иногда издалека, в их, делюевском-то, огороде. Две дочери у них народились – тихие, не в дядю ли? – те нас постарше – и два парня, двойняшки, наши ровесники – Сергей и Алан – свирепые – мимо их дома все опасливо проходят, даже и Рыжий – ордою вылетят и отмутузят – один, Сергей, на русского похож, другой, Алан – тот вылитый ханёнок. Прячемся мы и от их родителя мастерового, Власия Ферапонтовича, когда он выпимши, конечно, – если ему тогда под руку – обробеешь где и – попадёшься, то за чупры или за уши точно оттаскает.
А тут и наши показались. Идут ватажкою. И подступили.
– Драсте, – здороваются со всеми дружно.
– Драсте, драсте, если не шутите, – отвечают им все присутствующие, кроме нас, конечно, с Рыжим, – виделись.
Поднялись мы с ним с полянки.
– Сибирь – тайга, – говорит Гурам. – Сапоги дорогу знают.
– Не жилец на этом свете, – говорит дедушка Серафим, глядя своим единственным, строчащим часто, глазом сначала на петуха, потом на Гурама, а после на нас. И говорит: – Курить отправились, орлы, – теперь за Камень будто смотрит.
– Кто пьёт да курит сызмальства, – напустились на нас, как сорвались с цепи, старухи, – тот и не вырастет!.. Такими все, запёрдышами, и останетесь.
– Не останемся, – за всех нас отвечает им Рыжий. И говорит: – А с чего вы это взяли, что курить-то?.. Дед Серафим-дак это так он… он про кого-то, про других – кого-то видит за землёю, – сказал так Рыжий и говорит уже нам: – Айда, ребята.
И пошли мы.
* * *
Вот и снова почти все мы в сборе, вся наша ватага. И атаман наш никуда пока не делся – Рыжий: уряд среди нас держит – миримся: без головы ватаги не бывает – понимаем. Нет сейчас с нами только Маузера, одного из казаков-разбойников. Ждём. Пока ещё не появился. Витьку родители вместе с Валеркой Крошем, сродным его братом, на кладбище зачем-то отослали – там, на окраине, за кедрачом, в «немецком углу», общий их дедушка закопан, Крош Август Ешкович, – туда вот. Чуть ли не год уже назад, прошлым летом – и подгадало-то – он, Август, в августе как раз и помер. И зарубилось будто в моей памяти, так мне запомнилось всё это. Дождик сеял мелкий – ситный. Не первый день уже – неделю уже, может. То разойдётся, то утихнет. Начался ливнем – с Ильина – как оно часто и случается. Ильин сухим у нас тут не бывает – как порубежный – лето от осени отъединяет; лето у нас – только июль. Мутно мерещился ельник за моросью. Тучи сквозь ельник продирались, за столбы, скворечники и за печные трубы изб цеплялись, галок, ворон и воробьёв на проводах, как будто ватой, обволакивая, – те будто зябли. Листья обвисли у крапивы. Отяжелела лебеда – вся сплошь окаплена прозрачно – будто нарочно кем была унизана. Над полянами низинными туман – то исчезал, а то сгущался. Лошади с мокрыми спинами бродили по Ялани – службы не было для них в такую непогодь – наверное: кто же куда в такую смурь поедет – без нужды-то. Сонно слонялись мимо нас понурые собаки, нам в глаза заглядывая – от тоски-то. Было уныло тут, на улице. И – тихо. А в ограде у Гаузеров, под навесом – в избу-то все не поместились бы, – поминали шумно умершего. Мы сидели на заборе, возле дома, через прясло, а Витька Гаузер и Крош Валерка, внуки покойного, то и дело бегали в ограду и таскали нам от поминального стола то ломти хлеба и куски домашней, самодельной, колбасы, то печенюжки – задавались: у них покойник был, а не у нас. А после мокро как-то, слышим, брякнула калитка – вышел, видим, из ограды отец Маузера, дядя Карл, и сказал громко появившемуся следом за ним отцу Валерки Кроша, дяде Густаву: «Комт-цейт-комт-рат-комт-гуркен-салат», – часто так он приговаривает, и без поминок, что это значит, я не знаю, но помнить помню вот. У Витьки спрашивали мы – и тот не знает, или и знает, да не объясняет; может – что матерное по-немецки. Хороший был у них, у Витьки и Валерки, дедушка. Водовозом в МТС работал – воду на смирном старом жеребце Серке с Кеми возил в общественную, эмтээсовскую, баню, в клуб, в конторы, в ясли да и людям, кто его попросит, – никому он не отказывал. «Пожил – и помер человече, – Марфа Измайловна так про него обмолвилась, про Августа, когда скончался он. – Царство Небёсное ему, хошь он и немец».
«Вроде цветок какой-то посадить, ли чё ли, на могилку, их отправили, – сказал нам, как пришёл, Шурка Сапожников. Живёт он там же, в Линьковском краю, в том околотке, рядом с Крошами и с Гаузерами, так и знает. – Видел в окно, что чё-то понесли они в корзине… яркое. Хотел им крикнуть – мамка заругалась». Шурка маленько подкартавливает – и говорит он не «корзина», а – «колзина», и не «ворона», а – «волона»; «у нас вчелась волона мыло из оглады своловала». Редко смеёмся мы над ним – привыкли. А когда Рыжий скажет так: «ворона» – то буквы «р» в этом слове оказывается больше, чем всех остальных. И у меня не всё, правда, нормально: я выговариваю «вошадь», а не «лошадь», и не «волона», а – «вовона».
Есть у нас в Ялани, кроме Городского, самого большого – там и сельпо, и школа, и больница, и контора там рыбкооповская, по которому и тракт Екатерининский проходит, и чайная там, и магазин, и училище механизаторское, – и ещё два края – те поменьше – наш, Луговой, и их, Линьковский, – не считая улиц разных и заулков. Мы вот с Рыжим с Лугового, с самого, как мы считаем, так оно и есть, пожалуй, лучшего – много полян у нас и всяких забегаловок, и все колодцы – журавли – поют-курлыкают, когда с них воду набираешь. А в других краях – там воротковые – те скрипят однообразно – как уключины: всё как плывёт куда-то кто-то. Недалеко от нас с Рыжим ещё и Сашка Пуса проживает. Дом их, пусовский, стоит напротив Сушихиного и палисадник к палисаднику Чеславлевых; у Сушихи не дом, конечно, а – избёнка. А потому и тот угор, где их дома стоят, то Сушихиным называют, то Пусовским. Наш и Чеславлевых – те чуть поодаль от угора.
Андрюха Есаулов и Володька Прутовых – оба с Линьковского. Как и мы с Рыжим, между собой они соседи. От нас это далековато, конечно. Но познакомились мы с ними давным-давно уже, в ясли ещё когда ходили – там.
Только вот Вовка Устюжанин – тот из-за Куртюмки – с Балахниной. Там всё Усольцевы, Балахнины даУстюжанины. Мы называем их деревней.
Сидим мы около Куртюмки, между Яланью и Балахниной – от той до той полкилометра, – в пустой, заброшенной, силосной яме. Курим – и небу, наверное, плохо от этого – будто в семь труб, в семь папиросок-то.
– Вот бы сейчас во Франции, или в Италии хотя бы, революция советская свершилась, тогда-то бы не так вольготно стало им, американцам, – говорит Володька Прутовых. И дыму лишнего, поди, втянул – закашлялся.
Постучал я его по спине и говорю:
– Да-а, это здорово бы было… Нахальства бы маленько поубавили, а то совсем уж… распоясались.
– Но, – говорит Вовка Устюжанин. – Или бы в Англии. Тоже – железно.
– Или бы в Африке, – говорит Рыжий. – Ещё бы лучше было – негров-то сколько – сиксильон.
Андрюха Есаулов – тот молчит, зубами только скрычегает: привычка у него такая, с ясельного ещё возраста, – мало его политика волнует – нисколько. Дымом затянется, изо рта протяжно его выпустит, к кому-нибудь из нас после повернётся и зубами попугает – не страшно, конечно, но противно; не отучить никак его от этого, но шут с ним – зубы его – и пусть себе их крошит. «Дурцев» – называет его, Андрюху Есаулова, отец Володьки Прутовых, Василий Васильоныч. Зато весёлый он, Андрюха, с ним не соскучишься.
– Да ничё, – говорит Рыжий. – И без них, без негров разных, справимся… Наши умеют воевать.
Мы-то всё больше так – впустую пыхаем. «Балуемся», как говорит, нас осуждая презрительно, Рыжий. Боимся, что стошнит и голова закружится. А он, Рыжий, смолит по-настоящему – всегда взатяжку, как мужик, папиросы зря не переводит: чужие были бы, а то отцовские – жалеет. И уж давно так – лет с пяти.
– Конечно, справимся, – говорит Володька Прутовых. – У нас ракеты вон!.. Да и Китай, поди, поможет.
– Да справимся-то справимся, – говорит Вовка Устюжанин. – Как не справимся: мы – русские. Но поспокойней как-то было бы, если бы и у них-то был социализм.
– Ну, это ясно, чё тут рассусоливать и здря-то вякать, да… – начал было Рыжий, но не закончил.
Еолос вдруг раздался сверху. Кто там – мешает солнце – нам не разглядеть, но чей он, голос этот, сразу догадались мы.
– Вот оно чё! – с прутом в руке – гусей своих, наверное, гоняла на Куртюмку, – стоя на самом краю ямы и заглядывая на нас сверху вниз, заверещала Рашпиль Панночка. – А я уж думала, кто не поджёг ли чё тут сдуру… Дым-то вон валит, как из преисподни. А это вы-ы, а это вон чё!..
Вот уж и влипли-то, так влипли. Как пить дать, донесёт теперь на нас родителям нашим Панночка, тут уж и к бабке не ходи – не раз проверено на опыте и кое-где ремнём закреплено. Что ей, Панночке, стало вдруг известно, то скоро всем будет ведомо. Иван Захарович, дедушка Рыжего, так её, Панночку, величает: «Булька» – что это значит, мы не знаем, но предполагаем, что – обидное: не добрячок Иван Захарович, а «грязнословец остарелый», как говорит о нём Марфа Измайловна, – не по делу тот не скажет. А о ней, о Панночке, Марфа Измайловна сказала как-то так: «Она, убогая, собак и кошек любит шибче, чем людей, и жить ей трудно».
Вмяли мы – оробели-то – окурки в землю. Сидим, растерянные, словно оглоушенные. Наш атаман лишь – тот и не подумал. Пустил он, Рыжий, вверх, метя в неё как будто, в Панночку, тугую струю дыма, как стрелу, помолчал сколько-то ещё, недолго, и говорит после, циркнув – как у него, у нас не получается так, и втае мы ему завидуем – сплюнув через плечо себе сквозь дырку-щель между передними зубами:
– Тебя везде, зараза, носит.
– А-а?! – говорит Панночка.
– На, – говорит Рыжий.
– Чё?! – говорит Панночка.
– Через плечо, – говорит Рыжий.
– Ишь ты шустрый… недокунок!.. Чеславлев – рыжий-то… Чеславлев!.. Стручок гороховый, а не парнишка!.. – принялась ругаться Панночка. Поругалась, поругалась, а потом и угрожает: – Выметайтесь живо все оттудова, не то прутом вас счас повыгоняю… Знаю, не думайте, наперечёт всех! Не укроетесь!.. Ишь, осы!
– Ага! – говорит Рыжий. – Испугала. Ты как сюда спустишься?! На парашюте?.. И выгонялка у тебя уж – тьпу ты! – озаржавела.
– Я покажу тебе, охальник!..
Покричала, покричала ещё Панночка и говорит:
– Ладно, паршивцы, оставайтесь тут, сидите, я побежала за Истоминым.
За отцом моим это.
– Беги, беги! – говорит ей Рыжий, курить так и не прекращая, а пуще того ещё затягиваться да выдыхать принявшись, – знает, что нет его, Истомина, дома. И говорит: – Смотри тока, не закопыться там об чё-нибудь, рябая, – нос-то себе расквасишь – как ты его потом сувать-то везде будешь?!
Зафыркала там, наверху, Панночка, как лампа от плохого керосина, и пропала вскорости из виду. Ещё послушали мы – тихо. На деревню побежала – так решили.
Выбрались мы из ямы, пошли от неё прочь.
Идём шеренгой поначалу – кулижкой следуем – та позволяет, после в рядок – по тропке – выстроились. Рыжий ведёт, я замыкаю. И настроение у нас не то уже, какое было, хоть и бодримся, но понятно.
На разлившейся бакалдицей Куртюмке, перед плотиной, которую и мы старшим ребятам помогали строить – кто из нас дёрн, кто палки им подтаскивал – дней пять, наверное, не меньше, провозились с ней, с плотиной этой, с утра до вечера там пропадали, – плавают плотно, словно ряска на зацветшей мочажине, гуси. А те, что водой вдоволь уже, видно, насытились, досыта в ней наплескались, места пока ли не хватает на запруде им, по берегам – одни сидят, другие бродят, травку щиплют. Бело от них, и издали-то – как будто пух кипрейный ветром нанесло туда с горельника, ещё и шумно – гогочут бесперечь, как будто есть о чём, может, и есть о чём, пойми их. Нам-то оно: «гага» – и только. Один какой-то, ненормальный, долго сначала разбегаясь, словно кого-то догоняя, сорвался кое-как с поляны и полетел; летит надсадно, тяжело, как жеребец на воробьиных крыльях, – до Балахнины дотянет, нет ли? – вроде туда, в ту сторону направился. А остальные на него, как на придурка, шеи вытянув, посматривают снизу.
Обошли мы их – на всякий случай – есть и такие гусаки там, знаем, – отпятнают «плоскогубцами» своими да так ловко и так скоро, что и удрать-то не успеешь; есть и гусыни – как собаки.
«У Вовки нашего от них в таврах всё гузно, от гусей-то, и шенкеля, как от жегала бытто, но», – говорит про Рыжего и про гусей Марфа Измайловна.
И про меня сказать так можно – как будто банки ставили вчера мне, но не на спину, а пониже поясницы. Плохо, когда пасти их заставляют; домой поэтому ещё и не иду я.
Мы для себя старались, делали запруду, гуси у нас её отняли – где справедливость?
Перед самой горой, не заходя пока в Ялань, остановились мы. Упали на траву, на небо смотрим – то голубое и высокое; подевались с него куда-то, как будто тряпкой кто-то стёр их, коршуны и галки, – чистое. Ни одного на нём и облачка. А когда долго на него, на небо, смотришь, начинают расходиться по нему круги – сначала белые, а после чёрные.
– Ох, ё-моё, – говорит Рыжий. Лежит он на спине, ногу на ногу закинув, а руки сунув под затылок.
– Чё? – спрашиваю я.
– Да чё-то… хрен его и знат, – говорит Рыжий. И говорит: – И как там спутники летают?.. Они жжалезные, зараза.
– Да-а, – говорит Вовка Устюжанин.
Молчат все остальные.
– Нордет рассказывал, – говорит Рыжий, – что туда, в космос, свинью к полёту наши подготавливают… Под её рыло, говорит, уже и шлём придумали и смастерили. Как тока научится сидеть нормально в кресле, так и запустят. Но. А он, Нордет, по радиу, ли чё ли, это слышал.
– Да, – говорит Вовка Устюжанин.
– Да, – говорю я.
– Не знаю тока, матка или боров? – говорит Рыжий.
– Да-а, – говорит Володька Прутовых.
– Да-а, – говорю я.
– Ну а теперь-то чё? – спрашивает Шурка Сапожников. И говорит: – А то домой уже мне скоро.
– А я подумал, про свинью ты, – говорит Рыжий. – А чё домой-то? – спрашивает.
– С Катькой нянчиться, – отвечает Шурка.
– А-а, – говорит Рыжий. И говорит: – На конюховку, может, а?.. – помедлил чуть и добавляет: – На Кемь опять ли, покупаться?
– А, может, к Бибиковым? – предлагает Вовка Устюжанин. – Позаглядывам к ним в окна.
Бибиков Дмитрий Дмитриевич, директор школы, на днях женился на учительнице – пока из дому не выходят – «цалуются там» – говорит про них Рыжий. Ещё совсем недавно бегали мы за ними и кричали: «Жених с невестой поехали по кесто! Кесто упало – невеста пропала!» Теперь женились вот – охота им.
– Нет, – говорит Рыжий. – Чё там увидишь – позакрывали всё, позанавесили.
Мы уже побывали там вчера с ним, с Рыжим, позаглядывать пытались, бесполезно.
– Лучше айда на конюховку, – говорит Рыжий.
– А на какую, – спрашиваю я, – на мэтээсовскую или на колхозную?
– На рыбкоповскую, – говорит Рыжий. – Посидим там – там прохладно.
И пошли мы, но не сразу – в кувырдышки ещё поиграли.
* * *
Пришли. Вошли.
– Здрасте, – говорим.
– И вам того же, – отвечают.
Накурено на конюховке – хоть топор вешай. Сумрачно – оконце маленькое, низкое – одно: в завалинку, скосившись, пялится, как курица на червяка. Стекло в нём, в оконце, закоптелое – не протирал его никто и никогда, наверное. Скипидаром пахнет, упряжью и солидолом. Развешаны по стенам, на штырях, хомуты, чересседельники, вожжи и сбруи – приглядишься, так увидишь.
Фроловых дядя Иван, старший рыбкооповский конюх, возле стола сидит, строгает что-то ножиком – валятся стружки на пол и ему, дяде Ивану, на колени. Зубы для граблей готовит, что ли? Несколько колышков уже сделал – на чёрном столе рядком лежат те – светлые.
Лавров дядя Егор, его помощник, – лежит, подперев рукой голову, на топчане, лицом – к входу.
Около буржуйки незатопленной, на корточках, пристроился остяк яланский Гриша – семьи у Гриши нет, нет и забот особых у него – так, поболтать пришёл о разном, но, в основном-то, об охоте.
Обо всём уже, похоже, мужики переговорили – об охоте скрадом, гоном и «ногой собачьей» и, конечно, о медведях – опоздали мы маленько – жалко, – ради нас не станут повторяться.
Поздоровались, расселись мы – кто на пороге, кто на лавке.
– На улице жарко? – спрашивает у нас дядя Егор.
– Жарко, – хором отвечаем.
– Жарко, жа-арко, – соглашается дядя Егор. – Он оно чё. Скоро прибор, поди, термоментор, уж треснет… Как у кобылы в жопе, – говорит.
Сказал так дядя Егор и смолк – курит. И все молчат, и мы тоже. Помолчали. И спрашивает чуть погодя он, дядя Егор, у нас опять же:
– А чё, купались уже, нет ли?
– Купа-ались, – дружно отвечаем.
– Тогда ладно, – говорит дядя Егор, вроде как успокоившись. И предлагает: – А не закурите ли, а?
– Не-а, – отказываемся мы. – Не курим, – говорим.
– Ну, смотрите, – говорит дядя Егор. – Махорка есть… полон кисет вон. Может, вам паперёсы или сигареты?.. Дак этих нету… Разве на полке там… кто не оставил ли?
Молчим – насытились по горло, даже не хочется и вспоминать.
Комары, слепни, осы, пауты и мухи жужжат – скопились – на стекле оконном, – от дыма одурели, от неволи ли.
И говорит – а то безмолвствовал всё – Гриша – забыли мы уж про него – оттуда, от буржуйки:
– А хоросо, Иван Гавриловись, зимой около нодьи.
– Да-а, – говорит дядя Егор с топчана нараспев: представил будто – ему нравится.
– Хорошо-то хорошо, – не сразу отвечает дядя Иван: палочку в зубах держал, когда уж её вынул. – Но возле Валентины Сергеевны, – говорит, – в посте л е лутшэ.
Валентина Сергеевна – его жена. В яслях работает. Нам она нравится – у нас когда-то нянечкой была – хорошая.
И снова все мы помолчали.
– А ты, Иван Гавриловись, этих… вальдснепов не стреляс? – опять, время какое-то мимо себя проводив, интересуется у дядя Ивана Гриша.
– А я ведь, парень, не Тургенев! – отвечает резко тот – Иван Гаврилович.
И снова все молчим – молчим и мы, молчат и взрослые. Лишь на окне звенят крылатые.
Посидели. Помолчали. После нам Рыжий говорит:
– Ну, чё, айда, наверное, купаться.
– Айда, – говорим мы.
– Девок-то там, в воде, на речке, шшупаете? – спрашивает нас дядя Егор. Докурил он самокрутку, в пальцах смял ее и запихивает теперь её, смятую и потушенную, за голенище кирзового сапога.
– Нужны они нам! – отвечает ему Рыжий.
– И верно, – говорит дядя Егор. – Свяжись с ними тока… и рад потом не будешь. Лучше уж вы морковку ешьте.
Мы попрощались с мужиками и пошли.
* * *
Идём.
О том о сём толкуем – о разном.
– Война бы счас вдруг, сдуру-то, не началась, – говорит озабоченно Рыжий. – Со дня-то на день. Летом. Но. То чё-то порохом попахиват, чую я, зрет. Давно уж в мире-то, во всех углах, пошаеват, – вовсе сощурился – стало и глаз его совсем не видно, сквозят только из-под сивых, прямых и коротких, подстриженных как будто или опалённых, ресниц зрачки двумя, пробитыми с затылка будто бы, гвоздями – царапает он ими, словно по стеклу, по небу – оглядывает его, небо, как дозорный, не летит ли где с востока или с запада бомбить Ялань американский самолётишко?
Без самолёта небо. И без облачка. Пустое – будто опрокинулось. Нет нигде на нём давно уже и коршунов – за горизонт, в Ислень, наверное, упали; просили пить, просили – и не допросились. Одно лишь солнце – то уж жарит.
Босоножьем среди нас они лишь – Рыжий да Андрюха Есаулов – эти только к осени обуются, в школу бы не идти, они бы и до снегу без обутки добродили, как медведи, а остальные все – в сандалях; так, по дорожной пыли прямо, хлюпаем и не сворачиваем на обочину – нормально. Дождик хлынет – грязи будет: трактора – и те тут вязнут. А пока шагаем, как по пуху, мы.
Зато все мы сплошь гологоловые. Кого бы солнцем не ударило. А то бывает.
– Да-а, – соглашаемся мы с ним, с Рыжим.
– Счас бы не надо, не ко времени… Зимой пускай уж нападают, – говорит Рыжий. И говорит: – Ну а зимой, я думаю, они сюда не шибко сунутся – мороз-то!
Соглашаемся и с этим.
Идём. Молчим сколько-то. А после:
– И сенокос уже не за горами, – опять он, Рыжий, говорит. – Снова придётся днями домовничать, Фельдмаршалу подсоблять, а у неё не посидишь без поручений: Володька то, Володька это – всё и гонят, как… но, контуженая. И на покос ходить заставят – подскребать там да ворочать. Ох, чё-то сильно это не люблю я: тоскливо шибко. На коне к зароду копны подвозить ишшо, дак вроде ладно, – говорит Рыжий. И говорит: – А разразилась бы война, мы подались бы сразу в партизаны с тятенькой. Может, и дедушку бы взяли – он у нас суп варить умет, когда не ленится. – Там, в партизанах, есть-то надо поплотней – для дюжбы.
– И мы бы тоже, – говорим. – Дома-то пусть девчонки остаются.
– А у нас ещё и фузея стоит в кладовке, – говорит Шурка Сапожников. – Годна была вроде, не знаю.
– Давно бы уж, дурак, проверил! – говорит Рыжий. – А чё молчал-то?!
– А ты не спрашивал. И разговору как-то не было, – говорит Шурка. Чуб у него – как хохолок у чибиса – торчком и маленький.
– Ох, фузея!.. Ишшо скажи, что лук и стрелы, – говорит Рыжий. – Оттуда – издали – ракетой засобачат… А с фузеёй-то счас куда ты?.. Или вон бомбой сверху хряпнут!..
– Не дай и Бог, оно, конечно, – говорит Вовка Устюжанин.
– Богомол, – говорит Рыжий. – А Бог-то чё тебе?
– Да так я, просто, – говорит Вовка.
– Так! – говорит Рыжий. – Бог бы твой был, войны-то с немцами бы не было – не допустил бы, то всё воюем да воюем. Ты, как наш Паулюс – у той всё Осподи да Боже… Бог с неба камушком убьёт – ага, дак как же! – сказки… Давно бы всех в живых уже нас не осталось.
Чуть в сторонке от дороги, недалёко, на поляне, среди бараньей травы и цалебной ромашки, воробьёв ватажка – больше нашего – сидят, не скачут, не чирикают – собирают молчком что-то с зелени – семена или букариц? Среди взрослых есть и желторотые. Может, урок у них какой-нибудь? Может быть, младших старшие чему-то обучают? Живые – мало ли – вполне. «У них, у малых, благосердию и набираться тока… да уму», – сказала как-то, помню, Марфа Измайловна, насыпая курицам зерно в ограде и не отгоняя при этом налетевших тут же воробьёв. «Это у этих, у жидов-то?! – спросил её тогда Иван Захарович. – Ага, – сказал, – эти тебя наставят многому. Уж ляпнешь, старая, дак ляпнешь. У петуха, ишшо и соглашусь, чему-то можно подучиться… Всё и мелькат, смотрю, всё-то верхами и кататса, – курчонок всех, подлец, измызгал. Откуда, дысь, и прыть берётся?» – «Уж помолчал бы, волк облезлый», – Марфа Измайловна ему так. «Дура», – ответил ей Иван Захарович.
Грязный, рыжий кот, вылупив блеклые жёлтые зенки, присматривается к воробьям из зарослей крапивы, как из засады, но ловить, похоже, их не собирается – сытый, по морде его видно; уж кузнеца-то нашего не он ли слопал?
Полез было Рыжий рукой себе под рубаху, но передумал почему-то – руку вызволил, язык запрятал, – кышкнул лишь на воробьёв – те сорвались с земли и залпом улетели; упали где-то там, за кузницей, картечью.
– Жаль, – говорит Рыжий, – рогатка под деньгами… вынать-то начал бы, ишшо и обронил бы, не заметил.
Подобрал он с дороги земляной ком, кинул им в крапиву – не стало видно и кота – того, как пламя в лампе, сдуло.
Впереди, за Половинкой, пыль с дороги выше ельника взмывает.
– Полуторка наша, яланская, – говорит Рыжий. – Нордет дрова везёт в больницу.
Сошли мы в сторону с дороги, на бревне – кто-то до дому вёз и не довёз его зимой – рядком, как ласточки на проводе, устроились – обождать, когда пройдёт машина и за нею пыль усядется.
Сидим.
– А ты откуда это знашь? – спрашивает у Рыжего Вовка Устюжанин. Вовка – тот тоже, как и Рыжий, подстрижен был недавно наголо, волосы у него уже немного отросли, и голова у него теперь уже снова такая, какой была до стрижки, – белая – как сахарная глыза.
Знает Рыжий – у него мать уборщицей и родная сестра санитаркой в больнице работают.
– Слышал, дома говорили, – отвечает ему Рыжий.
– А-а, – говорит Вовка.
Прогремела мимо нас полуторка. Точно – с дровами – полон ими кузов. Сидит в кабине, нос навесив над рулём, Нордет, из военнопленных. Шофёром в МТС работает. В суконной чёрной кепке. Потный – блестит щетина на его лице. На нас он, Нордет, и не взглянул даже, вперёд уставился, перед машиной, будто дорога заминирована. Ехал бы сейчас его напарник, Витя Сотников, с тем бы и прокатиться можно было, тот-то радушный – посадил бы. Его, Витю, вся Ялань женит, женит и женить никак не может, а старухи – те уж особенно стараются. «Как двадцать пять вот только стукнет, – отвечает всем его сватающим Витя, – тогда и надевайте мне хомут на шею, тогда женюсь, хоть на верблюде». А в двадцать пять – какая там женитьба – уж остареет-то.
– Осиновые, – говорит про дрова Рыжий. – Свежие, сырые.
– Ну-у, – говорим мы.
– Гореть плохо будут, – заботится Рыжий.
– Да-а, – печалимся и мы.
Поднялись мы с бревна, ещё и пыль не улеглась, и не дождёшься – долго оседает, ветер был бы, так скоро разнесло бы, а то затишье. «Всё как в котле вон и стоит, – ворчит на жару и на духоту теперь часто она, Марфа Измайловна. – Дожжык, ли чё ли, бы чуток пробрызнул – маленько хошь бы освежило… Дак он опять зарядит на неделю. На нас идь как – не угодишь». – «А на тебя, дак и особливо», – говорит ей Иван Захарович, когда услышит.
Идём.
В кузнице, слава Богу, так и никого. И дверь всё так же не закрыта. И куда он мог, Александров, запропаститься? – не понимаем и гадаем мы – редко ж когда от кузницы куда он отлучается. С одной стороны, и ладно вроде – нам страху меньше, но с другой вот – подозрительно: а не шпион ли он американский и не на связь ли где, в лесу, выходит? Не диво. Надо будет последить. Одного уж тут у нас, в Ялани, взяли: непонятно, с кем сотрудничал.
Идём.
– А я жениться, вырасту, не буду, – говорит Рыжий.
– Я тоже, – говорит Шурка Сапожников.
– А почему? – спрашивает их Володька Прутовых.
– Чё-то, не знаю, и не хочется, – говорит Рыжий. – Так-то я сам себе хозяин… Хочу-туда, хочу – сюда… Одному-то оно лучше.
– Но, – говорит Шурка Сапожников.
– Да-а, – говорим все.
Оно – конечно.
Идём. Толкуем.
– Вчерась в кино-то, – говорит Рыжий. И смеётся. – Этот как тресь его!.. А тот-то!.. – и смеётся.
– А-а, – вспоминает Вовка Устюжанин. И говорит: – Ага! А тот его как в рыло тырснет…
– А тот-то! – говорит Сашка Пуса. И тоже смеётся. – Чпок этому скамейкой по башке.
– Но, – говорит Володька Прутовых. – Железно!
Хохочем все. И он, Андрюха Есаулов, – вчера в кино он не ходил – мать ему денег не дала, но всё равно – и он хохочет, скрипит зубами и хохочет.
– Ну и умора, – говорит Рыжий. – Я чуть живот не надорвал.
– Ага, – соглашаемся с ним все.
– Но, – говорит и он, Андрюха.
– Сёдня кина, парни, не будет, – говорит Рыжий.
– А почему? – спрашиваю я.
– Которые ленты в клубе были, дальше, в деревни, увезли, – говорит Рыжий. – А новых из проката не доставили – попутки не было.
Он, Рыжий, точно это знает – сестра его, Зинка, медсестра-то, по вечерам гуляет с Витей Сотниковым, «дружит», а тот, кроме как на полуторке-то в МТС, ещё и киномехаником в клубе работает – поэтому.
– А тот-то этому как хрясь!.. – про какой-то другой фильм, наверное, говорит Андрюха.
– Да, – говорит Рыжий. – А еслив женишься, в кино-то так уж и не сходишь.
Идём.
Подходим к Половинке.
Видим, стоят возле Машенькиной избёнки дяденька и тётенька – не наши, не яланские – чужие. К железному кольцу на покосившейся верее привязана верёвкой за рога корова чёрно-пёстрая – её, скорее всего, Машенькина; мычит корова коротко, но тихо и печально, смирная. И не мычит, а взмыкивает как-то.
Вышла из ограды Машенька с куском хлеба, подаёт его корове на ладони.
– Пожуй, родимая, поешь-ка… с солью… идь любишь же.
Не ест корова, морду отворачивает.
– Ну, – говорит Машенька. – Ты уж прости меня, родимая, – и говорит, крестя корову: – Бла-ослови, Осподи, на обе руки, – и плачет почему-то.
И Машенька маленькая, и корова некорыстная – глазами вровень и корова и хозяйка.
– А чё, два раза тока и отёлая-то, правда? – спрашивает у Машеньки тётенька, щупая, нагнувшись, вымя у коровы.
– Правда, правда, как не правда, – отвечает ей и пуще того плачет Машенька. – Совсем молоденька: двумя телками… Я чё омманывать вас стану? Мне ж ишшо надо как-то доживать, а омману-то я, мила моя, кто же меня помянет добрым словом?.. И чё отвечу на том свете?.. И подержала бы, да больше не могу уж – силушки нет, откуда ей и взяться: старый-то пень не тянет в себя соку. Я омману, дак люди правду скажут. Стыд-то мне после кто с лица умоет?!
– Ну а пошто уж лето-то не дотянула? – спрашивает у Машеньки сомнительный дяденька, поднимая у коровы хвост и заглядывая под него зачем-то.
– А кто потом-то её купит?! – отвечает ему Машенька. – В зиму-то кто её возьмёт!
– Дойки-то мягки? – спрашивает женщина.
– Да мягки, мягки, – отвечает Машенька. – Как бабьи титечки, податливы. Дак ты попробуй, – говорит.
– Да ладно, дома уж, Осподь даст, доведём, дак и попробую, – говорит тётенька.
– Ну, – говорит мужик. – Благословите нас, Модест и Власий, – двумя пальцами перекрестился, поклонился на солнце, потом – на верею, после верёвку развязал. Повёл корову – косолапый. За ними женщина засеменила. В сторону города направились. Жарко одеты – не по дню, и оба в сетках-накомарниках.
Смотрит Машенька им вслед из-под руки, закусила себе губы – так что и усиков её пока не видно. Стоит так, скорбная.
Чья-то собака подбежала, повалилась на траву, чесаться стала. Мелкая.
– Его, Нордета, – говорит, кивая на собаку, Прутовых Володька. И про неё же добавляет: – Шавка.
А я стою и думаю: «А где же Буска?» – и ещё думаю: «Предатель».
– Не плачь, Машенька, – говорит Рыжий Машеньке. – Не быват беды без утешенья. Сена-то тебе зато косить не надо будет нынче. Мои продали бы, дак я бы тока радовался.
– Чё бы ты, конопатый, понимал! – говорит Машенька. Руку от лица отстранила, к груди своей её прижала и на него, на Рыжего, теперь уставилась и смотрит так – как не узнала его будто. И говорит: – Она ж – корми-и-илица, – и засмеялась. – Ты, китоврас, меня таперича сметанкой станешь угошшать, ли чё ли?
– А ты бы всё и обзывалась! – говорит Рыжий. И говорит: – Я ей, как путней, а она… Айда, ребята!
И пошли мы.
* * *
Мы уже окунулись. И не раз. Пять заходов сделали, наверное, не меньше. Может, и больше, кто подсчитывал. Так – приблизительно, примерно – столько. Искупаемся – позагораем, искупаемся – позагораем. Перегрелся – бултыхнулся, перегрелся – бултыхнулся. Здорово. «Как на курорте, – говорит Рыжий. Будто бывал он там когда-то. – Как в Крыму, – говорит он. И добавляет: – Так бы не жарило ишшо, дак прямо прелесь… и комаров-то пока нет – шикарно». И мы поддакиваем: но, мол. И на другую сторону Кеми, где Камень близко к ней, к реке, спускается, а кое-где над ней и нависает, успели сплавать. Сплавали только и вернулись – долго мы там не задержались. Но уж устали, так устали – руки и ноги затряслись, как у припадочных, только сейчас немного успокоились, сердце маленько унялось, то рёбра было не сломало – так колотилось – как у птичек: стрежень-то тут такой – напористый уж шибко, вниз по течению, как пену, далеко тебя относит, за поворот-то – это точно, так что потом, чтобы попасть назад к тому же месту, с какого ты туда отчаливал, берегом вверх по реке чуть ли не с километр заходить тебе придётся. И мы вот так же – берег-то больше всё обрывистый, стремнинный там – и покарабкались, пообдирались – и солнце лупит прямиком нещадно – в пустыне будто. Никто туда не гнал нас, правда, сами захотели. Рыжий поплыл, за ним и мы. Там переростки – парни с девками – на узкой галечной косе играют в волейбол футбольным мячиком – парни-то нас оттуда и прогнали – у них там «пля-я-аж наш», дескать, убирайтесь! – перед девчонками старались – что ты! – выбражули. «Больша Федора-то, да дура» – о них вернее и не скажешь. Были там, нет ли Колька с Нинкой, жаль, не заметил, то молвил что-нибудь бы им хорошенькое – обязательно.
Устроились мы сразу, как пришли, особняком от всех под старой, дуплистой, с надломленной когда-то бураном или ураганом, но живой ещё рассохой – «нашей» – вербой, расположились под ней на песке табором. Так уже тот, песок-то, раскалился, что прикоснуться к нему или лечь на него, если ты голый, можно теперь только мокрому, сухой-то будешь – обожжёшься. И обсыхаешь на такой жаре моментом – как гусь или утка, как сковородка на огне ли.
– Сварить яички, парни, можно, – говорит Рыжий, переворачиваясь с живота на спину и заслоняя ладонями лицо себе от солнца.
– Запросто можно, – соглашаемся.
Больше, чем надо, нынче на реке народу – скопишшэ целое, как говорит Рыжий, – всех сюда жара пригнала – в глазах рябит, от шуму в голове звенит и перепонки в ушах чуть не лопаются – столько. Перекат перекричать пытаются – и вовсе. Кто не в воде сидит, тот тут, на берегу, по-разному с ума сходит: девчонки в трубочиста вон играют – смех да и только.
Настя-Кобыла среди них – как каланча, над всеми высится – никто не хочет чистить с ней трубу; держится за руку с каким-то чахлым шкетом – в воздухе тот маленько не болтается; не стоит Настя ровно – всё её вбок как будто, как скворешню ветром, клонит – из-за неё трубу всю изгибает. Изгибалась, изгибалась – и на кирпичи как будто развалилась – рассчитались шкеты и девчонки и в догоняжки играть принялись. Настю, хоть и на неё иной раз жребий выпадет, голить не заставляют – толку не будет никакого – так поэтому: вместо того, чтобы кого-нибудь догнать да и засалить – а ей, кого, скакнула раз, как кенгуру, и ухватила, – она от всех возьмётся улепётывать – ей и с ума сойти не страшно – глупая.
Шпана из Городского края ещё одну покрышку откуда-то прикатили – большая, выше самой шпаны – вшестером её толкали – от комбайна – поджигать её сейчас начнут – уже костёрчик под неё, видим, разводят – разгорится скоро, зачадит. Придёт с Половинки Иван Лукич Меньшиков – непременно – ругаться станет: дым его пчёлам «мёд с осоту собирать мешат – пугат их», дескать. Может. Он-то, Иван Лукич, и угощал вчера нас мёдом в сотах. Вкусно. Но съели лишнего мы – и меня стошнило. Больше я есть его не стану. Рыжий – тот разом ковш парного мёду может выпить – не пронесёт его, не вырвет. А он, Иван Лукич, всегда так пахнет – пасекой. Но иногда и – медовухой. Когда ругается, то – ею, медоухой.
– Хорошо-о, – говорит Вовка Устюжанин. Лежит он на животе, руки глубоко, по самые плечи, в песок всовывает – там, в глубине, песок прохладный. Подбородок у него, у Вовки, в бело-золотых песчинках – как в бородке. А руки у него – как палочки – худые: он маненечко ракитный.
– Хорошо-о, – говорю я, проделывая то же самое. И у меня бородка, чувствую, и ладно, думаю, пусть она будет – не мешает.
Между ним и мной сидит Андрюха Есаулов. То ко мне повернётся, то к Вовке – то на меня зубами поскрипит, а то на Вовку – доволен – как у Бога будто не забыт. Не купался он, Андрюха, и не раздевался – как был в майке и в штанах, так и сидит в них, словно арестант. А когда мы все, кроме него, конечно, на другой берег плавали, он одежду нашу караулил, чтобы не подшутил над нами кто-нибудь – не спрятал бы её где-нибудь, в песок ли её не закопал, а то бывает – и ищи её потом. Ещё найдёшь ли?
Рыжий уже в рубахе и купается и загорает – «крыльца огнём пылают» у него – поэтому. Долго на берегу он, Рыжий, быть не может – раскисает. Приподнялся на локтях он, вокруг себя сначала огляделся, сел после; вытащил из-под рубахи какое-то тёмно-синее стеколышко, на солнце стал смотреть через него, затем – на Камень; насмотрелся, убрал стеколышко на место и говорит:
– Солнце, по радиву недавно сообщали, скоро на землю упадёт… Оно и так вон чё-то ближе всё, смотрю, да ближе.
– Тогда в ляпёшку нас раздавит, – говорит Шурка Сапожников.
– Ага – раздавит! – говорит Рыжий. – Спалит, дурак… Один лишь пепел и останется.
Сказал так Рыжий и говорит:
– В Линьковский край айда, ли чё ли… Может, в лапту с линьковскими сыграм там. Чё-то я тут не всех их вижу…
– Зимой упало бы, дак не спалило бы, – говорит Вовка Устюжанин.
– Но, – говорю я.
– Ага! – говорит Рыжий. – Вы полоумные, ли чё ли!
Скоро – кто был раздет, оделся – и пошли мы.
Идём.
Песок нам щиколотки обжигает – так и спешим сбежать с песка скорей на травку – бежим, прискакиваем, как ягнята.
И по траве уже идём теперь к дороге.
Рыжему и Андрюхе всё одно – тем хоть по углям раскалённым. Чуть приотстали – не торопятся.
Цоканиха – не то с девчонками играть ей надоело, не то так что в голову её втемяшилось – убегала, убегала, хоть и никто за ней не гнался, – далеко от всех оторвалась – и за нами, видим, увязалась. Несётся – аж земля под ней трясётся, – из-под ног песок вышвыривая, – косой своей сама себя стегает. Рот у неё от уха и до уха – как нарисованный – так непонятно чему радуется. Поравнялась с нами – пошла шагом – блажная.
– А я с вами, – говорит. – То скоро вечер.
– Холера, – ворчит, её глазами полосуя, Рыжий. – Ишшо до вечера-то… тьпу ты!
Как от неё избавиться, идём и рассуждаем. Теперь уж трудно – от неё не убежишь. Так только, если как-то обхитрить её, но как вот? – идём и думаем мы вслух.
Вперёд Настя не лезет, сзади в кедах своих шлёпает. Молчит – серьёзной сделалась – как учительница. Из шароваров у неё, как из кулей дырявых, песок на дорогу высыпается – ноги её, оглянешься, тончают и тончают – нормальными скоро станут.
– Ей бы, – говорит Рыжий, – ишшо и в платье бы песку нафуговать побольше, тогда бы, может, и удрали мы.
Проходим мы Авдотьиною еланью. Почему Авдотьина, никто из нас не знает. И старики не помнят даже. Но все в Ялани так её и называют: дескать, Авдотьина да и Авдотьина. Может, какой казак Авдотьин настилал. Или – какая-то Авдотья? И слева и справа от елани зыбун пузырится – тонут тут телята часто: озарятся на ярко-зелёную травку, соблазнятся, со елани в сторону сойдут и увязают – редко которого спасти успеют. Сколько их там, в пучине этой? Много – один на одном, наверное, – штабелем. Скоро, поди, самый из них нижний на той стороне земли покажется?
Выскакивают на елань с болотины лягушки – по трясине палкой только шлёпни – вылетают.
– Как чиреи созревшие, – говорит об этом Рыжий.
– Ага, – говорит Сашка Пуса.
– Но, – говорю я.
– Вы туда тока не лезьте, – показывая пальцем на топь, говорит нам тихо, как упрашивая будто, Настя. – А то утонете, мне будет жалко.
– Жалко у пчёлки, а пчёлка на ёлке, – говорит ей Рыжий.
Он, Рыжий, называет Настю Настей, а она его – Захаром – с его отцом его, Рыжего, путает, с Захаром Ивановичем.
– Не лезь туда, Захар, – говорит Настя.
– Отстань, – говорит ей Рыжий.
Поймали мы каждый по лягушке. Только Цоканиха ловить не стала – брезгует: глаза зажмурив, головой мотает резко во все стороны, как собака, когда нос у той засорится, комар ли на него сядет. Отошла от нас подальше, отвернулась, но – ушки, видно, на макушке – слушает, а слух-то у неё – как у кобылы – чуткий – не воспользуешься этим – чтобы избавиться-то от неё.
На тракт с ними, с лягушками, вышли. Сорвали по травине на обочине. Надувать лягушек принялись. Надули – пугать ими, надутыми, Настю стали было – не боится – только морщится. Лягушек на дорогу положили – лежат те, беспомощные, пошевелиться не могут, лапками лишь мало-мало двигают, – ждём, когда пойдёт машина какая-нибудь и наедет на лягушек, – знаем, как те при этом грохают, – не раз уже проделывали это.
Ждали, ждали – нет машин, не едет никакая – воскресенье. И Нордет одной, пожалуй, ходкой обошёлся. Может, и так: полуторка сломалась?
Выкинули мы лягушек в кювет – валяются они там – как брюквы.
Пошли мы.
– В Америке, или в Африке, забыл уж точно-то… где эти, негры-то, живут… лягушки, Зинка вычитала где-то, с корову водятся размером, – говорит Рыжий. И говорит: – Те уж не ходят, а лежат всё. Язык у них четыре метра – птиц на лету они им ловят. Им и ходить – зачем? – не надо.
– Да-а, – говорим мы.
– Х-хе! – говорит Рыжий.
– Вот бы такую-то надуть, – говорит Андрюха Есаулов. Но поскрипел зубами прежде.
– Ага, какую там соломину-то надо! – говорит Рыжий. – Там уж насосом еслив только, канпрессором ли.
– Но, – говорим мы.
– Хе! – говорит Рыжий.
Идём. За нами следом и Цоканиха.
Вступили мы в Линьковский край. Шагаем дружно. Как в строю. Только Настя в ногу не угадывает. Но и не подстраивается, шлёпает громко кедами своими, как ей Бог на душу положит, – опять чему-то улыбается. И пусть как хочет.
Собаки от ворот, где тень, на нас лениво смотрят, но не лают – жарко. Лежат, вывалив на поляну языки блестящие, животами, как мехами, работают – шумно дышат, как больные. А где вот солнечно, там ни одной.
Нигде не видно и гусей – на Куртюмке все, наверное, – и слава Богу-уж по кому-кому, но по гусям мы не соскучились.
Проходим щитовой барак, в одной половине которого живёт учительница, наша будущая классная руководительница, Флора Николаевна, красивая очень, но пока ещё вот холостячка, на такой и Рыжий бы, наверное, женился, в другой – считается – кузнец. В учительской половине все окна со стёклами и с занавесками, у кузнеца-одни проёмы: рамы-то есть, но он на лето выставляет их. «К природе ближе, – говорит. – Уютно», – и ещё одно он слово добавляет – нехорошее. Всегда пустая эта половина, а тут гуляют в ней, слышим, и шумно. Узнаём по голосам сразу-не трудно: сам Александров, хозяин, и гость его – плотник – Делюев Власий Ферапонтович. Поют они – и стёкла в окнах у соседки чуть не крошатся: «Бе-е-еднинькой мальчишка-а вясёленькой был, военную службу-у-у до страсти любил! Сюртук, ап-полеты скраша-али яво, прекра-асны мамзели ласка-али яво!»
Кузнец в одном оконном проёме, плотник – в другом – за столом пребывают, наверное, – пожалуй. Оба лысые и потные. Глаза у них как маслом будто смазаны – слезятся – нельзя иначе: песня-то в конце жалестная.
На козлах возле барака сидят Алан и Сергей – как два коршуна – отца своего караулят. Исподлобья на нас смотрят.
Мы их обходим – опасаемся.
Обошлось благополучно вроде. Нет, не совсем: только мы от них немного удалились, соскочил Алан с козел, поднял с земли обломок кирпича и запустил нам вслед – ладно, промазал; по плечу лишь Насте скользом чиркнуло, но та не обернулась даже.
Отвечать на эту выходку мы им не стали – знойно.
Идём дальше.
– Зинка – дура, – говорит Рыжий.
Молчим мы.
– Сеструха-то, – говорит Рыжий.
– Почему? – спрашиваем.
– А бросит Витя Сотников её, на Флоре женится. Ей-богу.
Сидит на лавочке Афанасий Гаврилович Есаулов, другой дедушка Андрюхи Есаулова. Лобастый – как Ленин. На затылке порыжевшая от времени кубанка. В штанах с лампасами. В шинелке – то ли в казацкой, то ли в колчаковской. В пимах. Руки на батоге – какой батог, такие же и руки – корявые. Пальцы на них – как корни, только двигаются – ещё живые. Батог и руки – как единая коряга – неотличимы. Боимся мы его, Афанасия Гавриловича, но мыто ладно, его и внук его родной, Андрюха, боится: «Тише», – нам говорит. Проходим мимо и дышать не смеем – не разбудить бы старика. Только Цоканихе – той нипочём всё. Почти вплотную к деду подступила, взяла за нос его и говорит:
– Проснись, дядя Большеголовая Бусарка! Спать так будешь, сороки глазыньки тебе повыклюют – ослепнешь.
Открыл дедушка Афанасий «глазыньки», а те – как взболтанная брага – не прозрачные – и что за ними – не увидишь. Уставился он ими на Настю, скоро узнал её и говорит:
– Сгинь, полоумная, пока не зашибил… Ещё, зараза, и касатса.
Смотрим мы издали – Настя нас догоняет – пока целёхонька-здорова вроде. Смирная.
Идём дальше – край-то длинный – больше километра.
Сидит на лавочке возле своего дома Секлетинья Клепикова – вековелая. «Древняя, как Православие честное, – говорят про неё старухи. – Четырёх царей пережила, родимая». Это же надо! «Она ишшо, пергамен мшалый, ажно у самого антихриста-напольеёна полюбовницею числилась», – говорит о ней Иван Захарович, а тот-то знает.
Мы и тут проходим тихо – как мимо улья – саму старуху не боимся, лишь – её ветхости – пуще всего та нас пугает: четыре царя и Напольеён за ней стоят – мерещатся – страшно.
Настя и к ней пристала, только без толку: не откликается Секлетинья – и ни на свет и ни на звук уже не реагирует – мы проверяли – как колода: выносят её из избы родственники, чтобы на солнышке обсохла чуть, обыгала, после уносят – словно доху.
– Очнись, тётя Секлетинья, – говорит ей Настя. – А то простудишься и в смерть-то с насморком…
Старуха недвижима – как ясное небо.
Подходим мы к дому Гаузеров – Витьку с собой созвать хотели.
Стоит около дома мать его, тётя Эмма, всхлипывает; в руке платочек носовой держит; и нос у неё красный – как редиска. Простоволосая. Волосы чёрные – ещё черней, чем у меня, наверное. И – как цыганка – тётя Эмма.
А дядя Карл, отец Витькин, – и тот тут же – похлопывает её, жену свою, ладошкой по спине легонько – утешительно – и опять своё, нам непонятное, толкует:
– Комт-цейт-комт-рат-комт-гуркен-салат.
– О-майн-гот-о-майн-гот, – та, тётя Эмма, только-то и приговаривает. И говорит после, на нас глядя: – Пожалей, Господи, пожалей.
– А Витьку бык забол – в больнице друг-то ваш лежит, – говорит нам из окна своей избы соседка Гаузеров, тётка Таисья Почекутова. Сразу мы её и не заметили – между геранями лицо-то.
Развернулись мы на сто восемьдесят градусов и пошли в Городской край-где больница. И Настя с нами. Что-то приплясывать вдруг начала-может быть, в кед ей что попало. Гармошка ли в голове у неё заиграла.
Идём.
– Сядь, Настя, переобуйся, – говорит Насте Рыжий.
– Не-а, – говорит Настя. – Хитрый.
Идём.
К дому-крестовику Ефросиньи Делюевой приближаемся – стоит он на нашем маршруте. Там, в доме-то, и не дошли ещё, а уже слышим, бабий рёв, пронзительный и шибкий, – дочь её голосит, Гликерия, не голосит, а взаплачь причитает: бабушка Ефросинья – понимаем – умерла. Собака на цепи у них в ограде – воет.
– Померла, – говорит Рыжий. – Как и обешшала.
– Но, – говорим мы.
– Жалко, – говорит Шурка Сапожников.
– А чё жалеть-то, – говорит Рыжий, – ей уж и время. Баушка про неё говорит: поспела, спелые долго не лежат – их смерть сгрызает.
– Но, – говорим мы. – Раз старая.
– Ну дак, – говорит Рыжий.
Уже и старухи, смотрим, к дому начали подтягиваться – с разных узгов плетутся, видим, – как в церковь. И все в платочках чёрных – нарядились. Всё их, платочков-то, концами рот себе и вытирают почему-то – пар ими, что ли, на губах своих промакивают? Может. Старух в Ялани больше, чем дедов, чуть ли не втрое: те – старухи-то – не воевали. «Старуха идь – што та же шшука, – говорит Иван Захарович Чеславлев. – Век её жаден и протяжен. В нутрях у ей – толкнёшь – уж ил один вроде побулькиват, снаружи тиной сплошь возьмётса вся, а всё, глядишь, ишшо шавелитса да кого слопать норовит… Дюжие, супротив нас, мужиков-то. Зубы-то, слава Богу, к старосте оне теряют. Дак не случайно, дысь, а промыслимо… то всех бы поедом и съели».
Подошли мы к дому. Стоим. Слушаем. В избу не заходим – никто нас туда, правда, и не приглашает. В окна-то, жалко, не увидишь ничего – все ставнями уже закрыты: умершему свет вредит, мрак кромешный ему вместо света.
– Настя, сходи туда, – Рыжий пытается её отправить в дом. – Посмотришь, чё там с Ефросиньей, а потом и нам расскажешь… Мы подождём тут.
– Не-ет, – говорит Настя. – Она покойник – я боюсь их.
– Э-эй, тоже мне, трусиха! – говорит Рыжий. – Чё их бояться? Не укусит.
– Я не трусиха, – говорит Настя. Глаза у неё светлые – как вода в Бобровке. Большие – как заплаты на штанах у Рыжего. Но она их и на солнце никогда не щурит. А вечером, когда горит заря, они у неё – красные, – как у собаки иной раз бывают, когда фонариком на ту посветишь.
– А кто ты? – спрашивает её Рыжий.
– Настя-Кобыла, – отвечает ему Настя.
– Настя-Кобыла, – повторяет за ней Рыжий. И говорит: – Она лягушек не боится, а тут покойницу вдруг испугалась. Тогда айда отсюдова… Кобыла, – и говорит: – Хотел отделаться… Пошли!
* * *
Подходим мы к больнице. Видим. Сидит на крашеном крыльце больничном дяденька в пижаме. Курит. Не наш какой-то, не яланский. На нас не смотрит, смотрит себе на ноги. Из тапок вынул их и шевелит на них большими пальцами. На голове пилотка из газеты. А сам – тоскливый-претоскливый – как дряхлая собака.
– Лагерник, – шепчет нам Рыжий. – С Холового. С подозрением на… это… чё-то там с лёгкими, не помню.
– У-у, – тихо отвечаем мы: дескать, понятно.
Берёмся за штакетник палисадника. Глядим на окна.
– Э-эй! – кричит Рыжий.
Никто другой, а он, Маузер, в раскрытое окно выглядывает сразу – как будто ждал нас – так оно, наверное, и было.
Свесился он, Витька, с подоконника, отогнул книзу мешающую ему видеть нас лучше ветку кедра, смотрит во все глаза – счастли-и-ивый. Уши как были у него большими-пребольшими, так такими и остались.
– Живой? – спрашивает Рыжий.
– Живой, – отвечает Маузер.
– А мы уж думали, бык тебе уши оттоптал, – говорит Рыжий.
– Не оттоптал, – говорит Маузер. И головой мотнул – потряс ушами: целые.
– Маленько надо было, может, – говорит Рыжий.
Смеётся Маузер, за бок при этом взялся – видно.
– Больно, ли чё ли? – спрашивает Рыжий.
– Да так, не очень, – отвечает Маузер. И говорит: – Да больно малость.
– А чё с тобой опять случилось-то? – спрашивает у Маузера Шурка Сапожников. – Ты как с быком-то с этим встретился?
– Я не встречался с ним, – говорит Маузер.
– А как тебя он забодал? – спрашивает Шурка.
– Да как, – говорит Маузер, – да так вот, просто…
– Как?
– Да так…
Ну, вот, короче:
Шёл он, Витька, себе с кладбища, шёл, по дороге задом пятился, а следом за ним, чуть ли не впритирку, откуда-то шагал понуро племенной колхозный бык – стадо своё, быть может, потерял – случается, так, по своим делам каким ли, бычьим, – ему бродить где не заказано; вроде и был всегда тот добронравный. У него и кличка-то такая: Тихий – теперь-то, может, поменяют. Брат его, Витьки, сродный, Крош Валерка, убежал домой пораньше с кладбища: в город с отцом на мотоцикле ехать торопился. Купили они, Кроши, у Илмаря Пусы, Сашкиного отца, ИЖ-49 – так вот и обновить его решили, прокатиться, пока время есть и сухо. Шёл Витька, шёл, вернее – пятился, и постёгивал бредущего за ним быка по морде прутиком. А тот как будто и не чувствовал, тому как будто даже нравилось. Но как в Ялань вступили только, бык почему-то вдруг рассвирепел: сбил с ног хилого Маузера и давай катать его рогами по земле, словно чурбашку. Ладно, что кровь, если и есть она какая в Маузере, малахольном, из него не посочилась, а то бы бык, её почуяв, его до смерти закатал. Ладно ещё, и рядом кто-то оказался. Отогнали кое-как вскипевшего и озверевшего быка от Витьки, а его, Маузера, онемевшего от перепугу, унесли сюда, в больницу. Теперь лежит вот. Вроде оклемался.
– Ну, – говорит Рыжий, – ты и придурок… – сколько-то помолчал и добавляет: – Таким и в детстве, помню, был.
Смеётся Маузер – живой остался.
– Ну, ладно, Маузер, – говорит Рыжий, – ты поправляйся тут, лежи, сил набирайся на харчах казённых, только, смотри, режим не нарушай, то – вредно, – и говорит: – А деньги мы пока не будем, значит, тратить… Когда уж выйдешь, дак тогда… – сказал так Рыжий, повернулся к нам, полоснул по всем, как скальпелем, глазными щелками и спрашивает: – Ага идь, парни?
– Ага-а, – мы, парни, вяло как-то соглашаемся.
– Ладно, – говорит Маузер. – Как хотите. Я, может, скоро… Дня через два, может, и выпишут… Так-то – нормально.
– Давай, – говорит Рыжий. – И хорошо, что уши сохранились, а то тебя и не узнать бы было… Марсиянин.
Дядька, больной, ушёл с крыльца куда-то – то ли в палату, то ли в туалет. А на крыльце стоит теперь ворона – одним глазом на нас, другим – в открытую дверь больницы пялится. И рот распахнут у неё – как у придурочной.
У палисадника больничного ещё стоим. Смотрим – кто на ворону, кто на Маузера. Полез он, Рыжий, было под рубаху за рогаткой, но…
Бежит во всю прыть – в больницу, думали, однако мимо – Панночка – про нас, как кажется, забыла – чем-то иным, похоже, очень озабочена – кричит что мочи есть, ну а кому кричит, и непонятно, – улица вся насквозь безлюдная, пустая, – ведь не собакам и не нам же: мол, мужики возле чайной дерутся.
– Ой, Боже мой, дубасятся – убьются! Ой, чё творится, порешатся, зашибутся!
Она – оттуда, мы – туда.
Бежим – один другого обгоняем. Настя всех впереди – в глаза кому из нас от кед её что не попало бы – из-под копыт-то её может залететь песок, а то и камушек. Самое время бы чуть приотстать, свернуть куда-нибудь в заулочек – и пусть бежит себе хоть до Москвы – так от неё бы и отделались, – но интересно посмотреть, как мужики возле чайной дубасятся, – не каждый день такое увидать доводится – не пропустить бы.
Смотрим, и Маузер нас догоняет – в длинных трусах своих, семейных, и без майки – чуть отдохнул в больнице-то, так – как савраска.
Бежим мы все.
И я – сандали бы не спали.
А тут Валерка Крош и дядя Густав, отец его, Валерки Кроша, – в город они ещё уехать не успели: камуру возле клуба прокололи – на гвоздь какой-то вроде напоролись, – так и вернулись, клеили в ограде – спешат навстречу нам по улице, кричат: пожар, пожар, мол, – Дыщиха горит-де.
Мы развернулись – и туда.
Бежим.
Опять нас Настя обгоняет.
Кто-то уже и с вёдрами торопится, с лопатами, с баграми – кому что по яланскому уставу, если пожар случится вдруг, прописано – с тем и бежит тот. Нам не прописано – мы налегке.
А добежали мы, и видим:
Дрова раскиданы по всей поляне перед Дыщихиным домом, а на поляне прямо, среди дров, сидит сама хозяйка дров и дома-Дыщиха. Как девчонка ясельная, малолетняя, только огромная и толстая. Расплылась по земле, как квашня, её задница; юбка-то пёстрая – красиво. Руки опущены вдоль тела. Волосы растрепались у неё, у погорелицы. Ведьма и ведьма. Бледная. И ничего сказать не может – только охает. Слева, может быть, в метре от неё, не дальше, стоит ножками вверх табуретка – узнаём её мы – дяди Вани Патюкова небелы Просто так поставлена, пожалуй: Дыщиха на ней не разместилась бы. И одной ножки нет уже – отломана, понять по слому можно – свеже. Справа от Дыщихи, как слева табуретка, сидит на осиновом полене половой кобель, сидит смирно – как в кино – на людей так смотрит: равнодушно. А Буски нет нигде, куда запропастился?
Шпана гурьбой бежит с Кеми – дым-то оттуда, с берега, конечно, видно было – кто же утерпит, там останется. Пыль по дороге за шпаной – как за дивизией.
Подходит к нам дядя Ваня Патюков – глаз у него подбитый, и из носа юшка подтекает – после драки. Улыбается.
– Ребятишки, – говорит он нам, – соколики, банки ищите, заливайте вон поленья. Где дымит ещё какое, на него и лейте больше – до тех пор, пока дымить оно не перестанет, то, не дай Бог, разгорится. Ребяти-и-ишки, – говорит он, дядя Ваня, нам. И улыбается – зуб у него один, передний, верхний, выбит – непривычно – рот через щель сквозит тёмным.
Стали искать мы разную посуду. Нашли кто что. Носим спешно воду в разных банках да склянках из Дыщихиного огорода – «Бог её, Дышшыху, как бытто надоумил» – к вечеру на поливку ещё утром ею запаслася – поленья тлеющие заливаем.
– А вы и на яё, пожарницу, плесните, на старуху-то, – говорит нам Фанчик. И он уж выспался – явился. – А то как вспыхнет, – и смеётся.
Держит его, Фанчика, сзади за вылинявшую гимнастёрку его пасынок – Сын Фанчика – сердитый.
Люди толпятся, кто собрался, и толкуют: подпалил-де Гурам с поленницы – дрова, успели, раскидали, а так бы – зной такой – изба бы вспыхнула, как порох, и вся бы улица сгорела, мало того – и вся Ялань… Где жить всем после, мол, – под небом?
– Спаси и сохрани, Осподи, – говорит кто-то. И кто-то тут же добавляет:
– Боже, пронеси. Пусть уж три раза лучше обворуют, чем одиножды сгореть: вор-то – хоть стены да оставит.
– И правда, правда! Это верно.
– Помилуй, Осподи, помилуй.
Бродят курицы между валяющимися на поляне дровами, поклёвывают что-то – безмозглые. А петуха, красавца, в спешке затоптали как-то – лежит теперь тот цветно и ярко на поляне; курицы на него не смотрят даже; мёртвый.
А мужики возле чайной – те то ли сами почему-то перестали драться, то ли уж очурал их да разнял кто, неизвестно, – одной командой «Дышшыху тушить помчались», а другой – отправились ловить поджигателя Гурама. Гнались за ним до самой, говорят, сушилки и кое-как его поймали. Повалили, говорят, его на землю, руки ему связали за спиной. Связали, говорят, ему и ноги проволокой. Там и лежать его оставили. Сами бегом обратно – на пожар. А тут и делать-то уж больше нечего – Дыщиху только – ту поднять да в тень её перенести, ополоумевшую. Все уж поленья затушили мы – и не дымятся.
Стоим. Смотрим, бежит опрометью по улице к нам кто-то в белом.
– Зинка, – говорит Рыжий. Помолчал. После кивнул на Дыщиху и говорит: – К этой рыхле, может, вызвали.
Подбежала Зинка к нам. Остановилась. Тяжело дышит – как Дыщиха – запыхалась. Только на Маузера и глядит – влюбилась в него вдруг будто – но это вряд ли: уши Маузера шибко портят, и для неё он маленький ещё, конечно. Белые босоножки – держала в руке, ей в них бежать неловко, поди, было, так и сняла их – на землю поставила, обулась, к Маузеру после подступила, за руку взяла его и говорит:
– Ох, вот ты где. Нашёлся, слава Богу, – и говорит: – Ну-ка, пойдём, беглец, обратно.
– Не-ет, – говорит ей Маузер. – Не пойду.
– Пойдём, пойдём, – говорит ему Зинка и тянет его за руку.
– Ну я ж живой! – кричит ей Маузер и упирается. И говорит: – Зачем идти-то?
– Ну так и чё, что ты живой. И слава Богу, что живой, – говорит Зинка. – Завтра из города вернётся Пётр Емельянович и хорошенечко тебя осмотрит.
– Ну я же вот, совсем живой, зачем меня ещё осматривать?! – кричит ей Маузер. И упирается.
– Пойдём, пойдём, – говорит Зинка и тянет его за руку. – Ты же послушный мальчик.
– Нет, не послушный, – кричит Маузер. – Я вредный!
– Ну я сейчас отправлю за отцом твоим кого-нибудь, – говорит Зинка. – Может, тогда ты согласишься.
Зинка такая же, как Рыжий, рыжая, но не такая веснушчатая, как он. И глаза у неё, у Зинки, не такие, как у Дымки и у Рыжего, жёлто-зелёные, как начинающая выгорать на солнце травка, а совсем-совсем зелёные, как молодые листья у берёзы. В белом халате Зинка, так и видная. «Артистка, – говорит о ней дедушка её, Иван Захарович. – Фуфыра».
– Не надо за отцом, – говорит Маузер.
– Тогда пошли, – говорит Зинка.
– Отпусти его, – говорит ей Рыжий. – То посарапаю.
– Тебе царапать, зяблик, нечем, – говорит ему Зинка. – Ногти вон все пообкусал.
– Ну, укушу – ишшо и хуже, – говорит Рыжий.
– Ты не встревай! Какое твоё дело! – говорит Зинка брату. – И почему ты тут, сопляк, не дома?
– По кочану, – отвечает ей Рыжий. – За сопляка потом ответишь.
– Ступай домой, – говорит ему Зинка. И Маузера при этом не отпускает, крепко его держит. – Помог бы бабушке, а то слоняешься повсюду, как приблуда.
– Ага, сичас, – говорит Рыжий. – Но, разбежался, – и говорит: – Вот, видела! – показывая Зинке кукиш.
– Лодырь! – говорит брату Зинка.
– Медичка драная! – отвечает тот сестре.
Утянула всё же Зинка Маузера. Видно: и сейчас ещё вон тянет его за собой по дороге. Тот не кричит уже – смирился. А упирается – из гонора: нравится ему, наверное, Зинка. Мне – тоже. Может, и всем нам, кроме Рыжего.
Стоим, молчим. Говорит спустя маленько Рыжий:
– Девятнадцать лет уже жеребухе, а бестолковая… Не укусил-то – это жаль, – и предлагает после нам: – Может, смотаемся до Ефросиньи…
Мы соглашаемся.
И побежали.
Бежим.
А Насти с нами, видим, нет – и не заметили, когда куда она и подевалась, – и слава Богу, от сердца камень будто отвалился.
Бежим. Видим, снова несётся нам навстречу Панночка. Слышим, кричит:
– Лежит Гурам, вопит, как бес гадаринский!
Мы и бежать куда, теперь не знаем – так растерялись. Смотрим друг на друга.
– Давайте к сушилке! – командует Рыжий. – Успем, наверно, к Ефросинье-то… Идь никуда она пока не денется!
Бежим.
Минуем дом Цокановых. Слышим, в стекло колотит кто-то шибко. На стук, ни на секунду не задерживаясь, оборачиваемся и видим: Настя. Маячит она, всклокоченная, как кошка, упавшая с крыши, нам знаками, о стекло свой нос расплющила, как пластилиновый, лицом по-всякому кривит – сигналит, чтобы мы ей окно открыли – её выпустили – окна у них ещё и, как в тюрьме какой-нибудь, снаружи закрываются, помимо ставен, на защёлки. Нет уж. Дальше бежим, как будто ничего и не заметили, не поняли как будто ничего.
Догоняет Панночка нас и обходит – ох и легка же она на ногу, как заяц, хоть и старуха – лет уже сорок-то ей есть, наверное, не меньше. Обгоняя нас, кричит кому-то благим матом:
– Люди, сушилка-то горит! Чё же за напасть за такая сёдня?! День Страшного Суда настал, ли чё ли?!
Бежим.
Не видно нам пока – горит где, не горит ли что – мешает ельник.
Пробежали сколько-то и видим – точно: там, где находится сушилка, дым выворачивает, небо подтесняет – ух ты!
Обогнули мы ельник, подбегаем к сушилке – близко-то к той и не подступишься – пылает. Стоим наодали. Глядим.
Летят от неё, от сушилки, вверх и падают после в Кемь чёрные, рыхлые ошмётки – как тряпки, вскинутые смерчем. На самом яру давным-давно уже была построена сушилка эта. Старая. Зерно не сушат в ней уже, а сушат на току – тот новый, тоже за Яланью, только в обратной стороне – мы голубей в силки обычно ловим в нём.
Панночки нет – куда-то где-то, видимо, свернула.
Стоят под ёлкой две девчонки с Линьковского края – рожи у них от комаров в дегтю измазанные – Светка Шеффер и Сапожникова Райка, Шуркина сестра-близняшка, – держат в руках по маленькому туесочку, глядят, обалделые, на вздымающееся к небу выше ёлок чёрно-розовое пламя, ревут навзрыд обе – как будто отлупил их кто-то ни за что. После, чуть успокоились, рассказывают, заикаясь:
– Мы землянику тут смотрели… – говорит Светка. Всхлипывает.
– А не поспела ещё… однобочка, – говорит Райка. – И не поели, – тоже плачет.
– Дяденьки плибежали и связали ему, дяде Гуламу, плоловокой луки и ноги, – говорит Светка.
– Не плоловокой, а пловолокой, – поправляет её, перебивая, Шурка Сапожников.
– Пловолокой, – поправляется Светка.
– Дядя Гурам сначала прибежал, – говорит Райка.
– Сами облатно убежали, – говорит Светка. И говорит: – И тётя Пана плибежала…
– И чё? – спрашивает Рыжий.
– И убежала, – отвечает Райка.
– А дядя Гулам к сушилке подкатился, – говорит Светка. – Стал ой тлавы сухой надлал, к самой стене сушилки положил её, спички из сапога достал и подпалил её, тлаву-то эту…
– И чё? – спрашивает Рыжий.
– Ничё, – отвечает Светка.
– Чё, так, со связанными-то руками? – спрашивает Рыжий.
– Ага, со связанными, – отвечает Светка.
– А когда стало разгораться, сам покатился от огня, – говорит Райка. – Катился, катился и в речку с яра укатился.
– Да-а, – говорит Рыжий.
– Да-а, – говорим мы.
– А не вы ли сами подожгли-то? – спрашивает у девчонок Рыжий, глаза закрыв, как кот, когда тому бок чешут.
– Не мы-ы, – говорят девчонки. – Дядя Гурам.
– А почему в кармане спички? – спрашивает Рыжий.
– Нет у нас спичек никаких, – обе разом ему отвечают.
– Смотрите мне!.. Идь всё равно я допытаюсь, – говорит им строго Рыжий. И говорит, глаза открыв: – Ну, а не Панночка тогда ли?
– Не-а, – говорит Светка. – Та – тётя Пана – слазу убежала.
– Я ишшо после допрошу вас, – говорит Рыжий. – Ишь, подозрительно – разнюнились. Ну а ту, Панночку, Истомин пусть пытает.
Народу уже много подтянулось – и ребятни со всех краёв, и взрослых. Стоят. Смотрят.
Сушилку, ясно всем, конечно, не потушишь, да и кому она нужна.
О Гураме больше рассуждают: дескать, давно уже огнём грозился.
Потоптались мужики, потоптались и пошли искать его, Гурама. Ныряли, ныряли – не нашли. И мы по берегу побегали – нигде и следа его не видать. Где под плиту, быть может, занесло течением, кто знает.
Назад, к пожарищу, вернулись. Стоим. Смотрим.
Сгорела сушилка – дотла и скоро. Жалко, что скоро, а дотла-то – ладно. Ладно ещё и то, как говорят, слышим, взрослые, что здесь она одна стояла, нет никаких других построек рядом, а то бы было тут делов – переметнулось пламя бы, конечно.
Пихта – поблизости росла – от жара вспыхнула и обгорела.
Стоим мы.
Смотрим.
Слушаем.
Расходиться народ начал.
– Ну, чё, пойдём, – говорит Рыжий.
– Пошли, – говорим мы.
Пошли мы.
* * *
Солнце уже почти над самым кладбищем – над ним нависло раскалённо – как лампада – скоро закатываться будет – большое, красное – лучится – невзаправдашнее будто.
Освещён им, солнцем, Камень ярко, но багрово – выпятился, стал ещё как будто выше Камень – из Ялани так вот кажется.
По всей Ялани тени стелются – то прямо, то ломаясь – длинные – и ещё куда-то тянутся – до жидких сумерек – в них и рассеются до завтра, если погода солнечная сохранится, а не нагонит ночью мороку сплошного.
Трещит сорока где-то громко – что утром своровать, наверное, наметила – запоминает.
В ельник вороны полетели ночевать – каркают.
Ельник озолочён лучами – как в короне.
И воробьёв уже не видно – в застрехи спрятались и за наличники.
Скворцы выглядывают из скворечников – словно старухи из окон – миром любуются.
Мы возле клуба. Нас много. Как муравьёв около муравейника. И воздух крошится от клика нашего. В клубе кино идёт, сеанс для взрослых. Кино неинтересное, плохое – про любовь – мы и пробраться на такое даже не пытались – про чепуху такую шибко нужно нам.
В лапту с линьковскими уже поиграли. Надоело. И в шило с ними поиграли – наскучило и это. Делимся теперь на казаков-разбойников. Только делиться начали, и видим, перемахивает, как скакун, через заборчик и мчится к нам, косой своей себя подстёгивая, подгоняя, Настя. К нам подбежала – лыбится – сама вся в саже, как печник, – и руки, и лицо; и кеды грязные, и платье – где и была, что только делала? А мы – мы ещё раньше сговорились, загодя, чтобы всей ватагой нашей после жеребьёвки попасть в одну команду и чтобы Настя, если появится вдруг, досталась другим.
Разделились – нам убегать, разбойникам, и прятаться.
Понеслась Настя, хоть и казак, сразу в Городской край – никого и ничего ждать не стала – подошвы кед её мелькают только.
А нам-то – ладно. И пусть бежит хоть до Ислени. Но далеко не убежит, вернётся скоро – там комары её начистят в хвост и в гриву.
Побежали мы сначала врассыпную, но за колхозной конюховкой опять собрались. Рыжий и говорит, чуть отдышавшись:
– Давайте, парни, по домам – пушшай поишшут нас линьковские.
– Боюсь домой идти, – говорит Шурка Сапожников. От заката он не белый весь, а – розовый.
– А чё ты? – спрашивает его Рыжий. И он, Рыжий, розовый, но только потемнее.
– Да я же с Катькой должен был водиться, – уныло Шурка отвечает.
– А-а, – говорит Рыжий. И говорит: – Ты не ходи. Айда ко мне, на сеновале у меня переночуем. Мне, может, тоже попадёт – сразу-то сунусь… это – как пить дать, чё и сомлеваться… К утру остынут.
– Не-а, – говорит Шурка. – Мамка меня тогда и вовсе отмутузит.
– Смотри, – говорит Рыжий. – Хозяин – барин. А я бы, точно, не пошёл… и на твоём бы месте, – добавляет, – и на своём, а на своём-то – и подавно. – И говорит: – Ну, ладно, парни, чё, до завтра, чё ли.
– До завтра, – отвечают парни.
Разбрелись мы.
Идём с Рыжим.
Единственная звёздочка мерцает слабо на востоке – брусонец.
Там и там, возле домов, сидят на скамеечках старухи – беседуют. Завидя нас, ругать нас начинают, что поздно так разгуливаем, дескать. Самостоятельные, мол, слишком.
Молчим, не отвечаем.
Марфа Измайловна так поздно в огороде. Сеет что-то или садит, склонившись над грядкой, и приговаривает, слышим:
– Зароди, Боже, на всякую душу… – выпрямилась, видим через изгородь, взялась рукой за поясницу и говорит, лицом к закату обратившись: – Опять, смотри-ка ты, и уходилась… – вздохнула глубоко. И говорит: – Ажить-то, Осподи, охота.
– Она чё, чокнулась, ли чё ли? – говорит Рыжий. – Ничё, полезно Паулюсу малость… то вон рехнулась.
– У-у, – говорю я.
– Ну, – говорит Рыжий. – Давай до завтра. Я к тебе утром прибегу.
– Давай, – говорю.
– Мне ишшо счас на сеновал пробраться надо, – говорит Рыжий, – чтобы Фельдмаршал не заметил. Сало и хлеб там у меня замыканы – есть что пожрать, от голоду не сдохну… и в партизаны еслив уходить, дак приготовлено-то сколько.
Свернул Рыжий к себе, пролез в ограду где-то, и калиткою не брякнул – как ласка.
Бегу домой.
Заря на севере алеет. Небо жёлтое над головой. И солнца нет уже – упало. Травка влажнеет – щиколоткам ясно.
Тянется, возвращаясь, из зарыжевшего от зари ельника запоздавший, бродивший без пастуха и охраняемый Святым Николой только, скот.
Мошкара мак толчёт под карнизами – к погоде.
Гремит по улице телега. Поскрипывает. Облепили сплошь – и масти-то не видно – коня пауты и слепни, и над ним ещё рой вьётся – гудят они, как самолёт. И ко мне сейчас пристанут.
Сидит в телеге на траве мужик. Откинул от лица сетку. Медосий. Борода у него до колен – как из мешка как будто пакля вывалилась.
– Здрасте, – говорю.
– Здорово, – говорит Медосий.
Бегу и думаю:
«Папка приедет – Панночка обязательно ему расскажет, что мы курили там, в силосной старой яме. Хорошо, что Дыщиха горела, хоть и не сгорела, и сушилка – та-то уж так-до основания, хорошо, что мужики подрались, – думаю, – и Гурам утонул – папке-то и не до меня, может, будет – разбираться со всем станет».
«Хоть и жалко, – думаю, – Гурама – к нам, к ребятишкам, он был добрым: автоматы и пистолеты нам выстругивал из досок – как всамделишные были. Может, он и не утонул, – думаю, – а на другой берег где-нибудь, может, выбрался? Хотя и вряд ли. Девчонки ж видели, как он, Гурам, скатился с яра и из воды не показался больше. У них ума-то, правда, у девчонок…»
Плетётся в другом конце улицы кто-то, петляет по дороге и поёт. Власий. К матери умершей направился – вслед за братом подоспеет.
Возле ворот меня встречает Буска – ластится. Из-за дома прибежал – услышал.
Обижен я на него – отталкиваю – бросил меня он на весь день – иудушка.
Вбегаю я в нашу ограду. Вижу маму, строгость в лице её определяю и «ухожу резко в штопор», как говорит Патюков дядя Ваня, но он про то, что добре выпил, а я про то, что – начинаю плакать.
– Чё такое? – спрашивает меня мама.
– Есть хочу, – отвечаю, еле ворочая при этом языком – как утомился-то, и это правда, а не притворяюсь.
– Да, ну и надо же так наиграться, – говорит мама. – Тебя ремнём сейчас бы, а не есть тебе… А чё ты будешь? – спрашивает.
Чувствую, что вроде обошлось, и отвечаю:
– Молока, сахару, хлеба, – говорю я и, придерживаясь за перила с новой, папкиной, балясиной, вползаю на крыльцо. Волосогрызицы уже на ней, вижу, нет – или улетела, или склевал её кто-то.
С крыльца, не оборачиваясь, спрашиваю:
– Мама, а Колька с Нинкой дома или где?
– Не знаю, – отвечает мне мама. – Ты бы не появился, и про тебя бы ничего не знала.
Прохожу в избу, сажусь на кухне за стол. Начинаю есть. Жую, жую и за столом же засыпаю. Колька и Нинка, думаю уже сквозь сон, наверное, на танцах – там совсем взрослым танцевать мешают, репьями в них, наверное, кидаются – и зазнавалы же, ей-Богу.
И чувствую, несёт меня кто-то на руках и кладёт в постель – как в бездну.
И одеялом накрывает – как небом.
«Папка приехал, – думаю сквозь сон, – папка приехал», – и не знаю, радуюсь этому или нет.
И слышу будто голос Панночки – или мне это только снится. И после – Рыжего – но это вряд ли. А потом слышу, как читает в комнате – папка, наверное, в ограду вышел – мама:
«Отче наш, Иже еси на небесех!..»
И будто вижу:
Наклоняется надо мной Кто-то добрый-добрый, глядит на меня лучистыми глазами – и мне становится от этого так радостно, спокойно, и…
И засыпаю мёртвым сном я.
Господи, Господи, дай мне проснуться.
Декабрь 2000 – февраль 2001Taxa (зарисовка в полутонах)
Памяти Виктора Карманова
Аспожинки.
Унылая пора! очей очарованье. Приятна мне твоя прощальная краса.
Увы, увы! и мы пристрастны. Привязан к миру я, словно язычник, на пуповине у него верчусь, болтаюсь, так что и голова иной раз даже кружится, как сильно. Но, по Григорию-то Богослову, «я – земля и потому привязан к земной жизни…». А что там у него дальше следует, пока, пожалуй, и не доскажу. Сейчас не вспомню.
Печаль небесная, сквозная, проникающая. Её, как бабочку, сачком, ладошкою ли не поймаешь, щепоткой из воздуху не выхватишь, как паутину, в горсть не возьмёшь, в карман её не спрячешь. Сердце снуёт в ней, словно ласточка перед отлётом над деревней; душа, как лист осиновый, трепещет, будто зовёт, зовёт её подспудно кто-то, она, сиротская, и откликается.
Или вот из другой уже, что называется, оперы. Концерт № 3 из «Времён года» Антонио Вивальди. Тот тоже, разумеется, концерт – глянешь ли на притихший, будто очарованный кетской богиней Бангсель, лес, на изнемогшую, припавшую на изгородь траву или на высоко-высоко развёрнутое над Сретенском голубое, с поволокой белой, небо, забредёшь рассеянно ли в огород, в котором, до треску размордев и оттопырив зелёные, хрусткие уши, в ожидании своей очереди, осталась сиротеть уже одна только капуста, или, зачем-то выйдя за ворота, встретишься вдруг с отчуждённым, как у утопленника, взглядом шляющейся без дела и без цели угрюмой собаки с неизвестной тебе и ею, может быть, самой уже забытой кличкой, – всё-то нынче и припоминается; будто звучит, звучит, но без аллегро, лишь адажио, и не назойливо, не пристаёт, как иногда прилипнет к языку какой-нибудь худой мотивчик, никак не отплеваться от которого, а, совпадая ладно с состоянием, в котором ты находишься и пребывает окружающее, – так же уместно, как и стихА. С. Пушкина; часто на ум теперь – и не зову, сама как будто по себе – наведывается из прошлого и девушка в венке из красно-жёлтых листьев, Артемида, зелёноглазая, в веснушках, стройная, как корабельный кедр, тихо придёт, побудет, плавная, как водоросль, и молчаливая – почти немая, и удалится своевольно, не удержишь; да только к теме данной это не относится; хоть и пощипывает сердце, как от скрипки; ну, значит, к теме; имя её на небе звёздном каждой ночью выявляется: Арина – колко – хоть головы не поднимай; когда за тучами не видно звёзд, тогда как будто кто-то произносит… но тоже больно.
Осень уже нагрянула. С низовки явилась. Как всегда, подкралась незаметно – всё ещё лето будто было, хотя уж небо ею и дышало, – но свою пегую кобылу оставила она, стреножив, в ельнике до сроку. Пусть пока там, ненастная, и постоит. И чем дольше, тем лучше. Мало кто по ней соскучился. Земля разве да скворечники.
Сухо пока – и замечательно. Сверху сутки круглые не льёт, под ногами не чавкает вязко. А промозгл о-то когда да грязь кругом, так скоро всем надоедает. Собакам даже. День такой, другой, и все уже насытились, о вёдро заскучали.
Сейчас вот ладно, любо-дорого. Помощь, ниспосланная свыше. Гулко. Дали ясны и проглядны – манят, влекут. Хоть бросай всё, собирайся и беги в них, дали эти, без оглядки. Дым их ничуть не заслоняет – курится столбами прямо в небо, там, в синеве, и пропадает, растворяясь.
В огородах уже выкопавшие и убравшие в погреба или подполья картошку хозяева жгут ботву, успевают, пока дождём не намочило или слякотью, а то и снегом до весны её не завалило, чтобы потом ещё с ней не возиться, перед пахотой.
Ожидательно-тревожно: душа, как стрекоза-егоза из басни, лето красное пропрыгала беспечно, теперь всё чаще к небу обращается, чтобы печаль на Господа возверзить – Господь всемилостив, сам бы ты только подоспел к одиннадцатому часу, где не замешкался бы.
По ночам уже и подстывает. Иной раз к рассвету и до минус трёх столбик термометра снизится. В лужах низинных и в бочках поточная вода замерзает. Ощутимо, чуть не до звона, ядренеет воздух. Выйдешь на улицу, вдохнёшь его в себя из полумрака глубоко, будто взволнован чем-то или озабочен, выдохнешь, взглядом читая что-то в звёздах, – густо отпыхнется, прочитанное затуманя паром.
Не протопи печь в избе к ночи, поленись да понадейся на авось, то к утру она, изба, так выстынет, если ещё и ветер крепкий взъерится да дух жилой, мамины слова, из неё, из избы, выдует, что околеешь и под одеялом.
Но к полудню отпускает и стоит до вечера ещё чудно и ласково. Почти по-летнему.
Солнце, как может, ещё греет, хоть и низкое уже, конечно, – почти скользом Сретенск опекает. А любит оно, солнце, Сретенск, иной день от восхода да заката глаз с него не сводит, что ему, Сретенску, нравится.
Ни утки, ни гуси с севера пока что не летели. Значит, тепло ещё подержится, подождут морозы лютые – колотуны, как говорят тут.
Лиственный лес вокруг Сретенска оголился, стал прозористым, мало его здесь, поблизости, всё больше хвойный, а тот что летом, что зимой – одним цветом – подпирает небо над селом тёмно-зелёным чесноком острожным – бережёт Сретенск от сквозняков полуночных – устройно.
Только и вздохнёшь, только и произнесёшь: Господи.
Я жду – томлюсь, как каша гречневая в горшке за заслонкой, – поджидаю из Елисейска своих брата Николая и сына Ивана, обыдёнкой у него, у дяди, отгостившего, которые давно уже, как мы заранее договаривались, должны были приехать на «ниве» с Кармановым Виктором, старым приятелем моим и бывшим нашим односельчанином, имеющим теперь квартиру в городе, а живущим больше всё-таки в лесу, на пасеке, но что-то вот задерживаются.
Не нравится мне это, нетерпелив я по натуре.
Мы вчетвером намереваемся отправиться на Таху. А ждать и догонять хуже всего, как говорится. Оно и правда. Слоняюсь я по ограде неприкаянно, заглядываю то и дело, как наблюдающий, за ворота: не подъехали, не едут ли?
Мама – в калошах, испачканных говном коровьим, в джинсах синих, в модном, коротеньком сиреневом пуховике, отношенном, наверное, в своё время и оставленном здесь одной из её внучек, моих племянниц, в шерстяном платке коричневом, завязанном под морщинистым подбородком, глаза живые, молодые, – подоив во дворе корову, процедив в подсобке молоко, выходит оттуда в обнимку с полной трёхлитровой банкой, прикрытой марлей. Видит это – что я маюсь – и спрашивает:
– А ты червей-то накопал? Ещё нет ли?
– Накопал, – отвечаю.
– То-то. А хватит?
– Да как клевать будет… Поди, что хватит.
– Надо уж так, чтобы надёжно. Нехват – не брат, а злой прохожий… Всё к своей рыбалке подготовил? – интересуется.
– Да вроде, – говорю.
– А то опять, как прошлый раз, уедете без вёсел… Грести-то палками придётся.
– Нет, не уедем. Вон… возле лодки… положил уже их.
– Тогда сходи, я чё надумала, пока за мохом, – говорит мама, снимая около крыльца калоши. – То после, мало ли, и не удастся… Тут далеко ли… Скоро обернёшься… Бычок пришёл, а тёлки чё-то ещё нет. Вот уж где блудня, так уж блудня, – беспокоится.
– Придёт, – успокаиваю её. – Вся, – говорю, – в свою мамашу. И как так утелилась?
– Мамаша гольная, ещё и чище… Не загоняй её – и одичат… Сёдни ещё сама вот как-то заявилась… Придё-ё-от, – говорит мама. – Придёт, конечно… Жива-то-здорова, кто если не задрал, куда денется, гулёна.
Мох ей нужен, чтобы положить его на зиму между оконными рамами. Мох туда лучше класть, чем вату или поролон. Естественно. Те впитывают в себя, как губка, влагу, сохраняя её долго, и подоконники от мокрети сгнивают быстро, коробится и шелушится на них краска, а мох – тот сушит: живёт долго, хоть и от земли вроде оторванный, отнятый, есть не ест, так только пьёт – и осушает всё возле себя до хаянки он.
Да и «с мохом-то оно красивше».
Не поспоришь, и вправду красиво. А если на мох ещё и гроздья рябины, спелые ягоды клюквы, шишки кедровые, еловые или сосновые пристроишь – так и вовсе одно загляденье.
«Как-то к душе оно, когда с ним, с мохом-то», – говорит мама.
«Это уж точно», – соглашаюсь.
– Ладно, – говорю. – Без меня не уедут. – И продолжаю, зная, что оставаться, пусть и ненадолго, ей тут одной совсем не хочется – «в таком дому, без никого-то, так тоскли-иво… как забытому»: – Ох, мама, мама, не пошёл бы я на эту Таху, честное слово, ни за что бы, ни за какие деньги не пошёл бы, да ведь Витька соблазнил, злодей такой он.
– Конечно, – говорит мама. – Знамо дело, кто из вас кого сомустил, кто закопёрщик-то, известно.
Смеёмся оба.
Маме восемьдесят пять лет. Исполнилось в августе. Она ещё «в могуте» – «дёржит коровёнку». Сама с ней управляется. Возделывает свой «огородишко». На покос ещё со мной ходила этим летом – гребла, ворочала, «давая форы» своим внучкам, и помогала мне метать – «кака уж помощь тут, ну, на зароде, как кокушка, посидела, и делов-то» – серёдку топтала и вершила. Не прольёт зародишко, надеюсь, – получился. Мы здесь, в отчем гнезде, – помилуй, Господи, – гости. И к прискорбию. Тянет огромный дом она, после смерти отца, в одиночку. Отважная женщина, если ещё и вспомнить, что зима тут почти девять месяцев, а морозы в декабре и в январе и ниже шестидесяти градусов по Цельсию случаются. Ни к кому из нас – ни к сыновьям, ни к дочерям – даже пожить она не едет, на зиму хоть. И не уговорить. Тут, дескать, буду помирать – так, мол, дети, полагаю, если, конечно, Бог – Тот как иначе не распорядится, но уж на то Его Святая воля. И на кого корову-то оставлю, мол!? А куриц?! Вот и гостим по очереди у неё, то кто-то из её детей, а то из внуков или внучек её кто-то. Но гость есть гость – дом не на гостях стоит, а до тех пор, пока хозяин его подпирает… и пока Бог, естественно, созыждет.
Подался я.
Солнце садится – красное, припухшее – не лопнуло бы, напоровшись на верхушки ёлок, чего доброго. Сочно обохрились поляны – словно обсыпаны кирпичной крошкой. Нежно вечереет. Подались вороны в ельник на ночёвку – молчком нынче что-то, в тугих раздумьях будто, – подозрительно.
Монахи, не управились ещё, мирно, безмолвно хлопочут на своём поле с картошкой – уже немного не у края – докапывают.
Высокий деревянный крест в их, монастырском, огороде освещён со спины золотисто лучами закатными – к востоку смотрит. Крест из осины, свежий, лишь едва околенный, но не обструганный – и не бликует – вовнутрь себе как будто золотится.
Монахи молодые, алоликие, как на подбор, все крупные, медлительные. Мешкотные – так говорят в Сретенске.
Я им, монахам, через изгородь:
– Бог в помощь, – говорю.
– Спаси Бог, – откликаются они разноголосо.
От земли разогнулись. Стоят. Одеты кто во что горазд. Кто в кроссовках, кто в сапогах резиновых, кто в перчатках грязных, кто без них. Лбы и шеи в красных крапинах – мошка наела, вовсе уж к вечеру-то злая. Воловые и волоокие. И бороды у них, у монахов, на солнце рыжевеют – но не от зарева как будто, а от вечности – тысячелетие какое, забываешь.
Помолились бы, думаю, обо мне суетном. Пожалуй, помолились. Устроен мир Твой, Господи, устроен: есть кому о ком попечься; а обо мне когда – уж вовсе радостно.
Болото рядом, чуть – через пихтач – не на виду у Сретенска. Клюквенное. Карликовые на нём берёзки, лиственнки и сосенки – впроредь. Как в тундре. Корявые. Несколько кедров, тоже не шибко стройных, не могучих. Слетают, меня заслышав, громко рябчики – черёмуху на рёлке обклёвывали. Далеко не уносятся, садятся тут же, смотрят в мою сторону со сковывающим их любопытством; большой табунок – курочек сорок; слепнут они в сумерки – на звук пялятся. Ружьё с собой теперь я не ношу, убивать жалко стало. В прошлом году двух подстрелил, домой принёс, отдал их маме. Села та их теребить возле печки. «Это последний раз, охотиться не буду больше. Жалко», – сказал я ей. «Кого жалко?» – спросила она. «Да их, хоть этих рябчиков», – ответил я. «Ну и нашёл, кого жалеть, – сказала, вздохнув, мама. – Так Бог судил. Для чего вот и плодятся. Не ты, другой убьёт. Не человек, так птица хищная или зверок какой задавит. Мир стоит, милый, на этом. Чё их жалеть, зло разве в этом?» Да, может быть, подумал я, но пусть другой убьёт, только не я. И вот, на днях тут, вычитал я у Блаженного Августина: «Некоторые стараются распространить эту заповедь (“не убий”) даже на животных, считая непозволительным убивать никого из них. Но в таком случае почему не распространять её и на травы, и на всё, что только питается и произрастает из земли?.. Неужели же, слыша заповедь “не убий”, мы станем считать преступлением выкорчёвывание куста и согласимся с заблуждениями манихеев?» И Бог ведь Ною завещал: «Всё движущееся, что живёт, будет вам в пищу; как зелень травную даю вам всё». И Моисею это подтвердил. Уж не впадаю ли я в ересь? А долго ли, помилуй, Господи. Мирская мудрость – буйство перед Богом.
Надрал я мху – зелёно-бело-жёлто-розовый – легко с землёй тот расстаётся, будто с опостылевшей чужбиной, и та, земля, о нём как будто не жалеет, от себя спокойно отпускает, – наполнил им, мокрым, плотно холщовый мешок, домой направился – влажнит мешок мне спину стыло – не застудить бы, думаю, то вдруг прихватит на рыбалке поясницу.
Из пихтача ещё не вышел, слышу, машина сигналит – громко и протяжно – звук разбегается по околотку беспрепятственно, единолично – село притихло в предвечерии.
Уже смеркается, но вижу, стоит возле нашего дома оранжевая, как мандарин, «нива».
Меня из леса вызывают.
Тут я. Хоть и нагруженный, но скоро добежал – ещё бы.
* * *
Лодку мою, двухместную, резинку – весь день, туго накачанная, на сквозняке она в ограде просыхала – сдули, скрутили, в рюкзак её упаковали. Положили к ней короткие вёселки, самодельные, удобные для сплава по быстринам, котелки – один под суп, другой под чай – поставили в машину. Банки с червями проверили, все снасти просмотрели – что основное – ничего как будто не забыли. Собрались.
На крыльце рядком уселись – помолчать-то на дорожку – так у нас водится извеку. Мы – я, Николай, брат мой родной, и Виктор, общий наш приятель, – возбуждены заметно – как собаки промысловые перед охотой. Сын мой Иван, в отличие от нас, восторгов особых не проявляет, вряд ли их и испытывает – не очень-то ему, понимаю, хочется тащиться на какую-то там Таху, речку таёжную, глухую, он не рыбак, совсем уж питерский – ему тут дико – без асфальту; к бабушке только прикипел. Просто моей, отцовской, воле покоряется: сказал ему: пойдём – он и послушался. Не пристрастить – о чём и не мечтаю даже, – хоть показать ему природу нашу, ещё, слава Богу, пока дикую, намерен, когда ещё он побывает тут, и побывает ли? Кому и нет, а мне печально.
– Ну, чё, ребята, трогать надо, – встав и отряхнув рукой сзади штаны машинально, говорит Виктор. – Ночь не поезд – не задержится. А дорога там – не карта.
– Ну, с Богом, – говорит, с крыльца спускаясь, Николай и осеняет скоренько крестом наш дом. Он недавно только покрестился и теперь знаменует, как новообращённый, каждый угол и всякую тень. – Благослови, – просит он маму.
– С Богом, – говорит нам мама. – Осподи, бла-ослови. И как вы там на пустоплесье быть-то будете?..
– До свиданья, тётка Васса, – говорит Виктор.
– До свиданья, Виктор Васильевич, – отвечает ему мама. – Храни вас Ангел и Никола Чудотворец. Ты, Ваня, там приглядывай, на всякий случай-то, за ними, – просит она внука, – следи, чтобы они не баловались шибко… И не Ислень, но речка всё же… Чё и за Taxa за такая?.. Чем там таким вкусным только и намазано? Тянет вас туда… магнитом будто.
– Ладно, бабушка, – обещает ей, улыбаясь во весь рот, Ваня. – Присмотрю.
– Уж присмотри ты, ради Бога. А вы ему там повинуйтесь… Ну и доброго вам, рыбаки, улову, – желает нам она.
– Соли, пожалуй, взяли маловато, – смеётся Виктор.
– Теперь не жарко – не испортится, – улыбается и мама. И говорит: – Ну, поезжайте. – Курица к ней подошла, клюёт её в калошу. Калоша с прозеленью от навоза, курица глупая – а как же.
Уселись мы в машину – и припала та сразу, будто вдруг чего-то испугавшись, на рессорах: мы-то с Иваном, ладно, килограммов сто пятьдесят всего лишь, может, и потянем вместе, ну а вот в Викторе и Николае – в тех на двоих пудов шестнадцать-то, пожалуй, будет?.. Будет. Не выболели, как говорится.
– Так. Всё взяли? – спрашиваю.
Такого не было, чтобы мы что-нибудь да не забыли.
Я на переднем, рядом с Виктором, а Николай и Иван на заднем сиденье устроились. За ними дыбом – рюкзаки.
– Пока что рано, мы ещё тут. Чё если и оставили, дак там, на Taxe, и спохватимся, – говорит Виктор. – А жизневажное-то вроде с нами.
Мы с Николаем понимаем, что имеет он в виду выпивку, и смеёмся – дух наш бодрый, на подъёме – впереди четыре дня рыбалки. Николай купил, как и условливались, два литра водки. Одну литровую бутылку «Петровича», две других, пол-литровых, «Для храбрости». Есть и такая, оказывается. Виктор взял литровую бутылку самогонки собственного производства. А вот о том, что в моём рюкзаке таится капроновая канистрочка с тремя литрами ливизовского спирту, по моему заказу привезённого Иваном мне из Петербурга, Николай и Виктор и не подозревают даже, я это скрыл от них коварно. Пьём мы все трое редко, но, как выражаются в Сретенске, метко, после долго и не пробуем.
Taxa, прорезав поперёк хребётик безымянный, перекатисто впадает в Тыю, уловом вымыв в самом устье яму глубоченную – ох и таймени в ней когда-то зимовали! – Тыя, круто извернувшись, чуть ли не встречь, втекает в Кемь, а та – в Ислень, ну а Ислень – куда – да в Океан – куда же ей ещё и впасть-то, в нём только места для неё и хватит. Нет на Taxe по всему её течению ни деревни, ни посёлочка, никогда, наверное, и не было, были лишь стойбища остяцкие да охотничьи зимовья, а сейчас и этих совсем мало – остяки вывелись, а охотникам далеко и сложно туда добираться – пешком-то нынче редко кто куда отправится. Рыба в Taxe водится только четырёх видов – хариус, таймень, гольян и щука. Щук крупных нет – до пяти-шести килограммов, не больше, а таймени всякие бывают – килограммов до пятидесяти-то, это точно. Вода в Taxe и в июле, в самый жар, студёная, прозрачная, а после первых зазимков, к ледоставу, и вообще её как будто в русле нет – такая ясная… как чьё-то имя. Дно в ней, в Taxe, в основном камешниковое, а глубина-обманчива, как мара. Пробудешь на Taxe трое или четверо суток и ни одного человека не увидишь. Но не соскучишься; того, скучаешь по кому смертельно, тут не встретишь. Только самолёты пролетают высоко над Тахой. Таху оттуда, сверху, может быть, и видно. Бежит, петляет, отражая небо, а с небом, может быть, и самолёт. «Как бык пописал», – говорит про её извороты Виктор. Уж так вихляет. До самого ближнего населённого пункта от Тахи не меньше сорока вёрст. Сейчас нам нужно по тракту проехать двадцать километров до сворота, там ещё двадцать до Подгоренской бригады, то есть до Лиственничного, а после ещё пять километров от Лиственничного до пасеки, на которой большее время года живёт и работает Карманов Василий, родной брат Виктора и мой друг детства. Переночуем на пасеке, а рано утром, пока ещё не рассветёт, Василий нас на «ниве» довезёт до устья Тахи, угонит машину назад, на пасеку, а мы, перейдя по бревну Тыю, станем заходить до места на Taxe, откуда и будем спускаться обратно. Вечером через четыре дня там, в устье Тахи, если Бог даст и всё пройдёт так, как нами суетно замышлено, Василий встретит нас, и мы отправимся домой. Какое счастье для меня побывать перед отъездом в Петербург на Taxe – всю зиму после будет мне она блазниться. Буду идти, сидеть, читать или работать, а перед внутренним взором, независимо уже будто и от моей памяти, отчётливо, как наяву, станут вдруг вспыхивать, чередуясь с чьими-то глазами и веснушками, но из другого уже вроде фильма, виды и сценки: какой-то омут или шивера, ночной костёр или поклёвка. Мы там, на Taxe, этим летом уже были с Виктором и с Николаем, один раз в июле и один раз в августе. В июле донимает гнус, конечно, – сил нет, нет никакого от него спасения ни днём, ни северной короткой ночью – в кровь изъедают комары и слепни. В августе хорошо – нет ни слепцов, ни паутов, ни комаров – мошка, мокрец, но тех уж терпим, – и ночи тёплые ещё – сравнительно – тащить с собой туда не надо ватники, по крайней мере.
Из Сретенска скоро выехали – не Москва, даже не Киев. Едем. Совсем уж отемняло – не июнь месяц. Фары выключи, и глаз тогда колй хоть. Совки проворные срываются с дороги, порхают невесомо сколько-то, как мотыли, перед машиной в лучах света – забавляются, – исчезают после, в сторону свернув, в потёмки; мышками-житничками промышляют – с поля на поле перешмыгивают те через дорогу.
Машин нет ни встречных, ни обгоняющих – бензин нынче дорогой – мало теперь, не то что раньше, ездят: не экономят, может, но жалеют; это раньше – в магазин за водкой или паперёсами – и то на тракторе, на самосвале ли катались. Худа-то без добра – и тут вот – не бывает.
– А чё вы, – спрашиваю, – запозднились так?
Молчат – чалдоны тугодумые – не отвечают сразу, кумекают; Иван безмолвствует – в разговор встревать тому раньше старших вроде как не по статье – нравы в Сибири не столичные – он понимает это; а к нему пока не обращаются.
– Хе-ге-хе, – произносит погодя сколько-то Виктор. И улыбается. От уха и до уха, будто вспоротый. Как очеловеченное солнце на детских рисунках. При этом будто и лучится. Щёки его под самые глаза в густой, пегой щетине, а та – как тёрка, и гладко выбритым я никогда его не видел. Голубоокий. Круглолицый. Широкомордый – так говорят в Сретенске, но в похвалу, а не в обиду. Прозвище в детстве у него, у Виктора, было: Варвара – теперь никто его уже так не называет, кроме его родного брата разве, тот иногда ещё и вспомнит: ну, Витюха, скажет, ну, Варвара, – любовно.
Молчим – приятно ехать нам всем вместе; да и куда ещё – на Таху.
Урчит мотор, машина мягко катится.
Закурил Виктор. Курит он с мундштуком – тянуть вкуснее, в шутку объясняет, сладко, через мундштук-то; до сиденья и втягивает – так, когда слышишь это, кажется; шумит в нём, в Викторе, при затяжке – как в скважине. Канская «Прима» – вот его избранница. Если и изменяет ей, так только в крайних случаях. Мундштук сам выстругал. Из куричьей слепоты – говорит – из бузины значит. Всё-то он в лесу его, мундштук свой, и теряет, всё-то он его, вокруг себя руками шаря, и ищет – делать-то нечего когда, так и занятие, а когда ждёшь чего-то, так и время скоротаешь – вещица нужная, выходит. А почему из бузины-то вот и только, мол? – Да почему, да потому, что дырку в бузине проделать легче, дескать, нутро-то у неё, что у старой, что у молодой, не как у деутки, не тугое, а трухлявое, по природе, мол, такое, шилишко, проволоку, гвоздь, а то и прутик крепкий сунул, вынул, дунул – и готово; если один посеял безвозвратно вдруг, другой – минута-две – и смастерил; где слепота бы только рядом оказалась, мол, но, слава Богу, не диковинка. Понятно.
– Чё запозднились, – продолжает наконец-то Виктор. – Чё запозднились, хе-ге-хе… Да то и запозднились, что твоего вон брата выручал… И запозднились.
– А чё такое там стряслось?
Молчим. Едем. В свете фар нетопыри ушатые мелькают – вроде как искры, только – чёрные.
– Баба вон мужика не отпускала ни в какую, на подмогу пришлось ехать.
– У-у, – говорю. – Дело обычное. Тогда всё ясно.
– Кому ясно, – говорит Виктор, – а кому и пасмурно… Продай корову да купи бабе обнову.
Включает Виктор магнитолу. Поёт Кадышева – от сердца, – поёт про то, как напилася она пьяной, не дойдёт она до дому – мы её понимаем, живо ей сочувствуем, – после поёт она и про другое. Слушаем. Проникаемся.
Моя душа машину обгоняет. Жаль вот, что время-то не подторопишь – я бы уже стоял сейчас на берегу со спиннингом, рыбачил бы.
Миновали деревеньку, но уже бывшую, Черкассы, черкесскими казаками на берегу Кеми в семнадцатом столетии основаннную. Теперь пустырь тут, днём кое-где только вереи от ворот увидеть ещё можно – торчат среди бурьяна прямо – для жисти ставились, навечно – не так легко их покосить; такие толстые – руками не обхватишь. Девушки в Черкассах были рослые, статные, с густыми, чёрными бровями – это я помню, – в одну из них, Шуру Черкашину, даже влюблён был горько в одно время; училась она у нас, в Сретенской средней школе, на класс меня старше. И пострадал же я тогда – от безвзаимности. Встретил её недавно в Елисейске – красивая; поговорили с ней – несуетливая. Рядом с такой и постоять – радостно – как в церкви.
– Жалко, нет уже Черкассов, – говорит Виктор, пялясь слепо в темноту оконца бокового. И в который раз уже, слышу, жалеет. Как проезжаем, так и вспоминает. – Веселее с нею было.
Может, и он, Виктор, тайно был влюблён в какую-нибудь из черкасских девушек? Может, и в Шуру же Черкашину? Не знаю. Его дела амурные – потёмки; не афишировал, тихушник.
– Да-а, хорошая была деревня, – и Николай вздыхает по Черкассам. – У реки и на сухом, высоком месте… Умели место люди выбирать.
Кемь внизу, под яром, в темноте – сейчас её не видно.
– Да-а, – говорит Виктор, – управились с деревней коммуняки – как Мамай прошёл – поразорили.
– Ну и эти… демократы – как шакалы, – заключает Николай.
– Ну а эти уж и вовсе, – соглашается с ним Виктор. – Восстанавливать не станут.
Проехали ещё три километра. Проскочили по мосту через Тыю – флуоресцентно мимо нас промчались с двух сторон его перила. Достигли сворота – но не тут же, а минут через десять, – вырулили с тракта на просёлок.
Останавливает машину Виктор, мотор глушит. Тихо становится. В ушах шумит лишь – словно после взрыва.
– Гул… Как в космосе, – говорит Николай.
– Ага, – говорит Виктор. – А ты там был?
– Пока не доводилось, – говорит Николай.
– Ну а хотелось бы?
– Конечно.
– Какой ты, парень, любопытный, сладу на тебя никакого… Плохо будешь себя вести, отправим с Тахи, – говорит Виктор. – Правда, Иван?
– Не знаю, – говорит Иван.
– А кто тебе дрова станет на ночь заготавливать? – спрашивает Николай.
– Иван вон… Сами натаскаем, – отвечает Виктор. – Нас этим не испугаешь… Обойдёмся.
Иван тут встрял без разрешения:
– А мы и так ведь в космосе… Земля же в космосе вращается.
Мы промолчали.
Молчим и после. Слушаем. В машине полумрак, за окнами черно.
Включил Виктор в салоне лампочку и говорит:
– Стресс с Николая надо снять, однако.
– Не было у меня никакого стресса. Поехали, – говорит Николай.
– У тебя не было, так у меня из-за тебя был, – говорит Виктор. И говорит: – Бабу твою уговорить не просто оказалось… Как будто с танком побеседовал… через заряженное дуло… Ноги вон до сих пор ещё трясутся… как у продрогшего телёнка.
– Поехали, – говорит Николай. – Трясутся.
– Да, на педали вон не попадают, расплясались, – говорит Виктор. – Пошто такой-то ты… нетерпеливый? Куда торопишься?.. Как к полюбовнице. Беду догнать всегда успеешь.
– Заводи давай! Поехали!
– Поехали… Сёдня же, в ночь-то, заходить ведь всё равно не станем. Хотя тебе-то чё, ты запросто, конечно… Тебе что ночь, что день, что шло, что ехало… Ночью на мышь тайменя, может, вытащишь и брату нос хоть раз утрёшь. Ступай… Только без нас, пешком, а мы – на пасеку, – говорит Виктор. И, оборачиваясь, говорит: – Иван, достань-ка там… тебе ловчее… в кармане рюкзака… бутылочку… а из другого – кружку… В моём. Ну у тебя и дядька, парень… Суровый, как дратва. Боюсь его я. Только глянет – душа вянет. Девки черкасские когда-то тоже, поди, подрожали… Глянь на такого.
Достал Иван бутылку и кружку, передал их Виктору.
– Николай пить не будет, – говорит Виктор, между колен зажав бутылку и протирая указательным, толстым, как толкушка, пальцем внутри кружку. – Чё-то там чёрное… Эмаль, поди, отбилась.
– Ага! – говорит Николай. – Не буду… Наливай!
– Смотри-ка, – говорит Виктор, с бутылки свинчивая пробку. – Какой несдержанный ты… Как парная медовуха.
Выпили мы самогонки по очереди из одной кружки – Николай, я и Виктор. Иван не пьёт – он выбрал пепси. Отдаёт самогонка немного творогом. Салом с хлебом закусили. Закурил опять Виктор. В открытое окно дверцы дым деликатно выпускает.
– Крепкая, – говорит Николай.
– Ну так. Как солдат, – говорит Виктор. – Томна не гоним.
– Коровой только пахнет, – говорит Николай. И говорит: – Но хорошо. Внутри как сразу затеплело.
– Да, – говорит Виктор. – Как у грешника от пламени пещного.
Постояли ещё немного. Поехали.
– Николай, – говорит Виктор.
– Чего тебе? – отзывается тот с заднего сиденья, судя по интонации, подвоха ожидая.
– Сколько у тебя женщин было?
– Нисколько, – говорит Николай. – Рули давай, а то куда-нибудь заедешь.
– Какой ты строгий, – говорит Виктор. – Поаккуратней мне, однако, надо с ним, Серёга, а то ещё утопит – плыть-то будем.
– Тебе с ним плыть, ты и решай, – говорю. – Я бы поостерёгся.
– Да уж решил… остерегусь, жизнь-то, наверное, дороже. Жизнь не бабочка – другую не поймаешь.
На Лиственничном, среди бескрайней темноты и тишины таёжной, гудит нутром огромный ток, светится, как замок, как дворец ли, трудятся на току люди – зерно, какое подвезли уже, веют и сушат. Повсюду техника разбросана, полуразобранная, нерабочая. Трактора, комбайны, сеялки, автомобили. Там и здесь стоят на тракторных санях болки, цистерны или бочки. Троса валяются, колёса, ступицы. Трава вокруг измазана мазутом, но не сплошь, а пятнами. Собака на обочине. Живая. Лежит на боку. Спиной к дороге. Мордой к нам лениво повернулась – и глаза её по-людоедски как-то загорелись.
– Ух, ты… Переключилась бы на ближний, – говорит про неё Виктор. – Меня-то чуть не ослепила.
– Угу, – говорит Николай. – Как лазером.
– Ага, Лазером Моисеичем, – говорит Виктор.
Сзади оставили мы и бригаду. Скрылись огни её за перелеском. Едем по выпуклому, как тарелка опрокинутая, полю. Клевер на нём. Густой. Полёг и перепутался. Вылетают из него, машиной вспугнутые, птички – крохотные – как моль.
– Много им ещё убирать, – говорит Виктор, имея в виду рожь, овёс и подгоренских колхозников. – До снега не успеют. Явно. А уже сеют-то… с кунчонку козью – малость. Заяц с маху перепрыгнет. Нет, – говорит, – у них ни техники, ни денег. Обнищали, как горькие пьяницы. Бедному вору у них нечем поживиться.
– И не пойдёшь сейчас по миру, – говорит Николай. – Кто где подаст-то?
– Ага, подаст… догонит и поддаст. Отберут ещё последнее… Не государство, так бандиты, – говорит Виктор. – Только и выручки у них теперь, что продавать налево и направо со своих земель, где уцелел ещё какой, лесишко.
– Да, – говорю.
– Весь скоро спустят дядям из далёка, – говорит Виктор. – А тем там чё, у тех взгляд мутный – через доллар на всё смотрят, как девчонки через стёклышко на солнце, нас они тут в упор не различают…
– С травой сливаемся, – говорю.
– Была бы прибыль… Есть, наверное, раз так нещадно сплошь всё валят, – говорит Николай. – А чё им мы?..
– Мы – блохи на собаке… В лесу-то… плакать уже хочется… Ольху пилят, это надо же. Раньше такое и во сне бы страшном не приснилось.
– Да уж.
– Скоро, – говорит Виктор, – если и дальше так пойдёт, а оно на то похоже очень, и за мою куричью слепоту возьмутся. Без мундштуков останусь, ё-ка-лэ-мэ-нэ… Запастись, пожалуй, надо. Нынче за деньги всё – и задницу свою подставят, и чужую расцелуют… Будто бы и детей ни у кого, зараза, нет. Ага. За бусы маму с папой проторгуют.
– Да-а, – говорю. – Ситуация.
– Ещё какая. Ситуация… Раньше по берегам, вплотную к речкам, не валили хоть, – говорит Николай.
– Но, – говорит Виктор. – Было запрещено, маленько всё же соблюдали. Теперь без удержу, как колорадские жуки, везде сгрызают подчистую всё. Теперь дозволено… Пустыня скоро будет.
– Гоби.
– Рос бы лес на небе, добрались бы и туда. На трелёвочнике на небо прямо бы и въехали, а там спросили бы: Эй, Бог, где тут лесишко у Тебя находится, желательно кедрач? – говорит Виктор. И спрашивает: – А чё тут сделаешь? – И отвечает: – Дачё, ничё… Шальное время.
– Сами мы шальные, – говорит Николай. – Перед концом всё…
– Это понятно. Только перед чьим?
Грустно становится. Молчим. В уме отчаянье, как желваки, бессмысленно переминаем.
Едем.
Дорога здесь пошла совсем худая, лесовозами разбитая. Не на «ниве» бы, и не проехать. Машина хорошая. Да и водитель неплохой – со стажем, ловко с баранкой управляется – как с ложкой.
– Николай, – говорит Виктор. – Может, на Лиственничное вернёмся, далеко-то пока не отъехали, да повариху заберём с собой?.. Есть там такая, в твоём вкусе: обширная – как по горам, по ней охотиться с собакой можно…
– Ага, рули давай… Забрал он! Места в лодке ей не хватит, – отвечает ему Николай.
– Какой ты нравственный… мораль блядёшь, однако. По берегу бежать будет, – говорит Виктор. – Тоже мне, выдумал проблему. Сергей по левому, она по правому, по одному-то их пускать нельзя, конечно, – за первым же кривуном снюхаются, а нам с тобой потом чё делать?.. Зубами с голоду скрипеть. Суп-то она варить ему, Серёге, только станет. – И говорит: – Ох, у тебя и брат, Сергей… сердитый.
– Гроза, а не мужик, – говорю.
– Гро-озный, – говорит Виктор. – Как наместник.
– Два зубоскала, – говорит Николай.
Иван помалкивает.
Тепло в машине, табаком пахнет – вроде и вкусно. Кадышева ещё поёт – теперь про терем – задушевно и об этом.
Слышно: залаяли собаки – дружно, но не задорно. Видно: с разных сторон, из мрака выявляясь, сбегаются они неторопно к дороге – встречают. Приветливые. Ушки у них на макушке – как фанерные, хвосты качаются у них на спинах калачами, глаза – как угли раскалённые, – но не от злобы, а от света. По сторонам держатся, под колёса бестолково не лезут – не курицы – те от машины убегают под машину же.
Лучи фар, скользом, темноту как будто соскребая, выхватили из гущи соснового и берёзового леса стену избы бревенчатой, листвяжной, с небольшой дверью и одним на эту стену тоже небольшим окошком, а после – баню и сараишко.
Развернулись, под навес спятились, остановились. Пока сидим, не двигаемся.
– Приехали, – говорит Виктор.
– Да-а, – говорю я. – Приехали.
– Слава Богу, – говорит Николай.
– Сим-сим, откройся, – говорит Виктор.
Дверь в избушке отпахнулась – хозяин вышел.
Стоит в дверном проёме. В свете фар, рукой глаза не закрывая, в нашу сторону жмурится. Босиком, в чёрном трико и в белой майке, та навыпуск.
– Красавец мужчина. Как петух перед атакой… брат-то, – говорит про Василия Виктор. – Панк… Явление народу.
Волосы на голове у Василия гребешком вздыблены. Борода всклокочена. Заспанный.
Выбрались мы из машины, разминаемся – полтора часа в дороге были, не меньше – ноги занемели. Иван стоит, собаку по загривку гладит, та только веками – ими жонглирует как будто.
– Здорово, брат, – приветствует Василия Виктор.
Здороваемся с ним, с Василием, и мы.
– А ты опять, однако, чуть не трезвый? – говорит ему Виктор. – Не просыхаешь, как ондатра.
Молчит сколько-то Василий. Вглядывается в нашу сторону, как в пустое. После того уже, как узнаёт нас, произносит:
– A-а, это вон кто… вы, – и улыбается. И продолжает:-Да как всегда… совсем немножко… только для живости, а так-то оно на хрен бы… Гости вот перед вами лишь уехали. А не попались вам навстречу? Их угощал, дак и… маленько.
– Нет, – говорит Виктор. – Никого нигде не видели. Разве по воздуху они, как утки, пролетели?.. На чём?
– На тракторе.
– Нет, не видали… След вроде есть, а трактора не видели.
– Да?.. Странно чё-то, – говорит Василий. – Недавно вроде и уехали… А я прилёг только и думаю, кого опять холера принесла – собаки брешут?.. Может, они, сломался трактор, дак вернулись?.. Ну, заходите, – приглашает.
* * *
Все мы уже – кроме собак, конечно, тем не дозволено бывать тут, даже заглядывать сюда заказано – в избушке. Кто сидит, а кто прохаживается.
В глазах у нас ещё дорога не угасла – виртуально набегает.
Засветил Василий лампу – фитиль укручен был в ней только – выкрутил, а дым пошёл – чуть-чуть убавил. Стекло у лампы сверху задымлённое, словно тонированное.
На столе полно посуды, беспорядочно приткнутой: вместительная деревянная кумка с зелёным не засахарившимся ещё мёдом, алюминиевая чашка с крупными кусками варёной лосятины, ножи различные, от охотничьего до кухонного, ложки, вилки с нормальными и изогнутыми то чуть, а то и до крючка зубцами – что же ими ковыряли? – эмалированные кружки, внутри рыжие от медовухи. Хлеб домашний на разделочной доске, толсто нарезанный – ломтями, блюдце с солью крупного помола – каменкой, бочонок-перечница, лук, чеснок и огурцы солёные в тарелке. Тут же и несколько наполненных окурками до кромок пепельниц – жестяных консервных банок с напрочь вырезанными в них крышками. Падают от всего на столешницу тени – зыбкие, как тина, – даже от спичечного коробка.
Запах знакомый, ничего нового. В запечье стоит небольшой ларь с вощиной, на подоконнике лежит скатанный в шарик прополис – ещё и ими пахнет благовонно.
В углу, на маленькой косыне, икона закоптелая, средних размеров, старая – Святые воины Георгий и Димитрий. Тонкоколенные. Кудрявые. Стоят – вооружённые. С ними не страшно – под защитой. Против них – только попробуй.
Висят на стенах большие, цветные репродукции с фотографий – актрис, Алфёровой и Яковлевой, одна против другой, в пристойном обе виде, и девицы безымянной в узких трусиках, но с голой грудью – на нас, на всех одновременно, и на гостей, и на хозяина, лукаво щурится она, девица эта, но – не Саломея.
– Василий, – говорит Виктор.
– А? – откликается тот.
– Артистки пусть красуются – на добрые наводят мысли, а эту, девку-голотитьку, снять пока, наверное, придётся, – говорит Виктор. – Завтра – не будет нас, тогда – повесишь.
– А чё такое? – удивляется Василий. – Чем она тебе не угодила?.. Кровь с молоком, в прыску… Участки тела и… фигура вон… И глаза – согласие сплошное.
– А вот в этом и причина… Да и мне-то ладно, мне-то чё, – говорит Виктор, – я не греховодник, в похотях не тлею. По мне-то пусть она хоть и трусишки свои скинет. Бесполезно. Не откликаюсь на такое. Николая, парень, жалко.
– А-а, – говорит Василий. – Тогда понятно, – улыбается.
Молчит Николай, на икону смотрит.
– Да пусть, – говорит Василий.
– Не знаю, – говорит Виктор.
– Трепло, – говорит Николай.
– Ага, конечно… Я вот и трепло. Я ж о тебе пекусь, забочусь о твоём благоспокойствии… Смотри, тебе во вред же, – говорит Виктор, доставая из нагрудного кармана энцефалитки сигарету и мундштук. Размял. Неспешно зарядил. Прикуривает. Затянулся. Дым после в матицу протяжно выпахнул. И продолжает: – Спать надо будет лечь подальше от тебя, на всякий случай, то ещё приснится чё-нибудь тебе такое… пакость какая-нибудь… да и поколотишь.
– Ложись на улице.
– Придётся.
Тихо бормочет с тумбочки, заваленной ружейными патронами, журналами и пачками «Беломора», переносной приёмник – он никогда здесь и не выключается – батареи под ним, в тумбочке, огромные – надолго их хватает – на пол год а, то и на год. Трещит в нём больше что-то, щёлкает таинственно.
– Подслушивают, – говорит Василий.
– Но!.. Майор Пронин? – спрашивает Виктор.
– Инопланетяне.
– Кого, тебя?
– Меня.
– А-а, – вскинул брови Виктор. Говорит: – Это-то может быть, конечно. У них забот, наверное, тебя только подслушивать… Чё и летают тут, как галки. – Брови опустил. Окурок из мундштука в пепельницу спичкой выковырял молча. Продолжает: – И подслушивают, и подглядывают. Нос суют везде свой, шныры. Наказание, и только. Ещё на камеру, поди, снимают, одинокого-то, как ты с собаками да с петухом тут разговариваешь, им, любопытным, интересно: венец природы наставляет подопечных. – Мундштук продул, в карман его убрал. – А после про тебя кино там, на тарелке, смотрят, как порнуху ребятишки, уссываются. – К двери прошёл, к столу вернулся. И говорит: – Путнего много из тебя, наверное, извлечь надеются, раз наблюдают-то. Ты для них, брат, отличная находка – месяца два проквасить можешь, не закусывая, и ходить за пасекой при этом, как нормальный. Ты для них, для нас как – трезвенник… как чудо.
– Но, чудо-юдо, – соглашается Василий.
– Они, беспупые, на связь с тобой, трещат, пытаются всё выйти, а ты то пьяный, то весёлый – ни бе, ни ме им и не здрасте. Вот и добейся от тебя… И почему тебя-то они выбрали? – Не садится Виктор, пол ногами будто мерит. – Ну, жди теперь, брат, приземлятся тут на блюдце со сметаной… Ульи-то, жалко, посшибают, потом ходи их расставляй, забота… Перевезут тебя с собой куда-нибудь, где у них логово-то или база… А там ни водки и ни медовухи, и чем ты, парень, опохмелишься?..
Озадачился Василий.
– Да-а, – говорит. – Не знаю даже.
– Ну ачё, – увлёкся, видно, Виктор, – может, они, бродяжки злостные, как раз такой вот опыт несусветный и хотят проделать над тобой: выживешь ты или нет там, в невесомости, без алкоголя-то?.. От них, мутненьких, всего ожидать можно. Как от масонов.
– Да уж. А я и тут как в невесомости… мне чё масоны?
– Это понятно. Тебе сейчас все черти по боку…
– Ага. А чё мне?
– Ребята с рожками тебе ещё тут не являются?
– Да вроде нет ещё… тьпу-тьпу, – говорит Василий. – Хотя, кто знает, может, и являлись, да я их, может, не узнал… рожки-то если под фуражками у них скрывались… или под касками… не знаю.
– Это-то вот, поди, скорее… А кто тут был? – спрашивает Виктор.
– Я им, пришельцам-то, на кой, такой-то, сдался?.. Ни на пельмени, ни на студень, – говорит Василий, сам себя как будто успокаивая. – Шибко уж тощий – не обстрожешь… Только что на бульон… и то на постный. Едят они такое, нет ли?
– В порошок тебя помелят.
– Ага, как перец, – говорит Василий. – На приправу… А так-то чё, пусть приземляются, чем их попотчевать, найду уж.
– Без вопроса, – говорит Виктор.
– А увезут… Да пусть увозят. Может, со пчёлами чё надо делать, посоветуют… как ихлечить-то… Они же вумные – всё знают. – И отвечает: – Да эти – Вебер с Бледнолицым.
– Кто всё знает, тот дома сидит, по пространству не мотается, – говорит Виктор. И говорит: – А-а, постоянные клиенты. Ну а они тебе не примерещились?
– Да это вряд ли, – говорит Василий. – Я ж ощущал их, не казались… Кружками часто, помню, чокались… болтали.
– Столько попей, не только кружкой чокнешься… так полагаю.
Володя Вебер – просто – потому что Вебер. Фамилия у него такая. Был бы он русским, назывался бы Ткачом или Ткачёвым. Из поволжских немцев, ссыльных. Сам-то не ссыльный он, конечно, здесь уже родился. Так обрусел и осибирился, так тут прижился и прирос к этим неласковым местам, что никуда его отсюда, ни в какой хвалёный-расхвалёный зазывалами-сиренами сладкоголосыми обетованный Фатерлянд не выманишь. «А я ничё не потерял там», – так отвечает он, Володя Вебер, на вопрос: а ты-то почему туда не съездишь, дескать, не скатаешься? Ваня Перунин – тут сложнее – он Бледнолицый потому, что лицо у него, как «советский флаг», постоянно красное, принял он, Ваня, уже сколько-то, не принял ли ещё ни капли – всегда как будто «остограммившись». «Тебе, Ванька, хорошо, – как-то сказал ему в шутку при мне, помню, Вебер, – на тебя машина не наедет, по спецразрешению только – у тебя морда как “кирпич” запретный… Или шофёр уж в сиську разве пьяный». Ваня ему тогда ответил смехом: «На тебя зато наедет – ты гестаповец. Ферштейн?» Ваня Перунин и Вебер Володя друзья с детсадовского возраста и, к тому же, закадычные: где один, ищи там и другого – пьют они, как близнецы, всегда на равных.
Улыбается Василий. Продолжает:
– Бледнолицый тока что вот из больницы… Вчерась или позавчерась, на днях тут, вышел… Дак, что выписался, обмывает.
– Ну и чё опять с ним приключилось? – Не стоит он, Виктор, не садится, по избушке, половицами скрипя, прохаживается. – Грибов поганых обожрался?
– Есть-то чё будете? – спрашивает Василий. – Суп, может, разогреть?.. Сварено у меня… Не суп, правда… Шарба с налима… Утром мордушку бегал проверял… Залез, паршивец… Не люблю я их пошто-то?.. Оттого, что склизкие, как пропастины, может… Одноглазый почему-то?.. Кто ему его в воде-то там и выткнул? С крутым ершом подрался, может? – улыбается.
Нет, отвечаем, дескать, сыты, не успели, мол, ещё проголодаться. Чаю с мёдом выпить соглашаемся.
– Мёд на столе… А чай, недолго, подогрею… Да чё, чё, – говорит Василий. Подхватил с полу, поставил на буржуйку примус, им занялся. – «Шмель» чё-то начал барахлить, зараза, хоть уж к зиме, к сезону-то, совсем бы не сломался… Ясно, чё. А ты не слышал?
– Нет, не слышал. Я – от кого?
– Дело обычное. – Запалил примус. Зашипел тот. Устроил на него чайник. – Сидели они втроём у Миши Орлова на пасеке – он, сам Миша, Бледнолицый и Володя Вебер; троица; Вебер спал уже, убайкался, концерт весь этот пропустил; ну и – естественно чё – выпивали: пчёлы последние у Миши сдохли – поминали. – Стоит Василий около буржуйки. Тень его над ним нависла. Пах почесал себе, и тень заколыхалась. – Ночь лунная. Светло, как днём. В окно-то чё-то кто-то из них глядь – ну, ё-моё – медведь возле избушки. Явился, но, не запылился. И за столом их будто не было. Вылетели они, как понос, из избушки на улицу и на него, на зверя, как на мужика… Ружьё с собой взять позабыли. Ну, конечно. Его, медведя, тапочком по морде. А он не любит – ать на дыбы и поломал маленько кости им… Посостязались, поборолись. – Снял Василий с чайника крышку, попялился сквозь пар в чайник. – Ничё не видно чё-то… Кипячёный, подогреть лишь… Ване-то ещё как-то повезло – легко – ушибами отделался, счастливый. А у Миши и рука, говорит, погрызена, прокушена, однако, и несколько рёбер опять сломано. Долго тому лежать ещё в больнице. Вебер ему туда и самогонки отвозил уже… Анестезия.
– Костоправ медведь, да самоучка… Мише всё мало почему-то, – говорит Виктор. – Его же раз уже помял один, и вроде сильно… И тоже так же, в пьяной драке… Где неуёмный-то Есенин… Ну а собаки-то где были?
– Мало, наверное, ещё-то если лезет, – говорит Василий. – Дёрзкий.
– Что ты, – говорит Виктор. – Как Чапаев.
– Ничё, когда-нибудь нарвётся. Шею свернёт ему какой-нибудь, тогда угомонится… может. А медовухи-то вы будете?.. Собаки были на бригаде – летом же Миша их не кормит – сами себе, как волки, промышляют.
– Наскребёт кошка на свой хребёт, это уж неминуемо, конечно. Дурную голову и хмель-то не берёт… По кружке если, но не больше, – говорит Виктор. – А то заходить тяжело завтра будет. Ты-то пойдёшь с нами?.. Или ты тут себе наловишь… Николай вон разве – тот тебя поддержит.
– Ага! – говорит Николай. – Только попробую… а то поддержит.
– Нет, – говорит Василий. – Некогда.
– A-а, медовуху всю ещё не выпил?
– Да вроде есть ещё маленько, – улыбается Василий. – Мне на неделю, может, хватит… если кто только не заявится, а то тут… как на дискотеке… то рыбаки, а то колхозники… то леший так кого притащит.
– Как нас?
– Как вас таких вот… но, – и улыбается.
Совсем друг на друга не походят братья – будто и не родные они вовсе, а сводные. Как, впрочем, и мы с Николаем: он, Николай, светлый, как говорят в Сретенске чаще, – белый, а я смуглый, подкопчённый, – разные мы полярно с ним и по характеру. Ну и у них вот, у Кармановых. Виктор русоволосый, крупный, полный. Лицо у него русское – курносое и круглое. Жить долго без человеческого общения он не умеет – сутки-двое сам с собой в лесу побыл и надо ему к людям на минутку – побеседовать. Василий слегка рыжеватый, невысокого роста, сухой, горбоносый, узколицый – как германец. Может в лесу находиться один месяцами – и даже если пить не будет водки или медовухи – не соскучится. Василий с бородой, редко когда её снимает, а Виктор хоть и не ежедневно, но бреется. Оба пасечники и охотники хорошие, чем до этого и жили. И небедно. Туго теперь, конечно, им приходится – пчёлы больные, мёду собирают мало, и продать его нынче непросто: завались на базаре узбекского, хоть и ненастоящего, но дешёвого, заготовители пушнину принимают за бесценок, а народ её теперь не покупает вовсе – нет потому что денег у народа. Правда, кому сейчас не туго?.. Вопрос такой знакомый, риторический.
– Барыгам, – говорит Николай.
– И тем легко ли? – говорит Виктор. – Крутятся… Шибче, чем шарики в подшипниках. Так повращайся, парень, повертись-ка, и под теменем-то мало чё останется – всё до коробки голой выдует.
– Чиновникам, – говорит Василий. – Этим всегда у нас – когда не страшно им, дак, значит, хорошо… А побоятся если изредка, понервничают где маленечко, потрусят, то недолго – ко всему, как крысы, приспосабливаются… Не для себя, так для детей своих оставят, что натащут… Хоть и толку с этого не будет. Не добром нажито, не в добро и обернётся – так оно водится, не я придумал.
– И чё за гуси за такие – эти и чиновники? – говорит, посмеиваясь, Виктор. – Хочу, однако, быть чиновником, хочу и шибко, аж трясусь вот… Определи меня в них срочно, Николай.
– А что чиновники? – говорит Николай. – Никакие чиновники, хоть самые расчестные и расхорошие, никакие самые разумные реформы делу не помогут, пока Промысел Божий не увидит, что нам это, жизнь-то сытая и сладкая, пойдёт на пользу… Спаси, Господи, люди Твоя… Да и бывает ли она на пользу?
– Это-то так, конечно, чё там, – говорит Виктор. И говорит: – А всё равно хочу я стать чиновником. Хочу и всё тут, подайте эту должность мне. Перед бабой стыдно хоть не будет. Запиши меня в них, Николай, в чиновники.
– Сам записывайся, – говорит Николай. – И сядь!.. То мельтешишь… туда-сюда… как камерник, тут расходился.
– Какой ты строгий, – говорит Виктор. – Как царь… Я насиделся, – говорит. И продолжает: – А нам оно – хоть мы и не чиновники, да – лучше: иметь-то хлопотно, а не иметь легко. Да, Николай?
– Отстань!
– Ладно, шут с ним, не буду я чиновником. Кем есть теперь, останусь пчеловодом – спокойней как-то… Только вот баба?.. Э-э, да и пусть маленечко попилит, беда-то, раз у неё обязанность такая, на то она ведь и пила-то поперечная… Ещё бы пчёлы вот не гибли. Иван… Ива-ан!
– Что?
– Не женись.
– Не буду, – говорит Иван. Расположился он на койке, листает потрёпанный журнал «Охота».
– Сядь ближе к лампе, – ему говорю.
– Да ничего, мне видно, – отвечает.
– Глаза испортишь.
– Не испорчу.
И потолкуй с ним.
Вышел Василий из избушки, вернулся вскоре с трёхлитровым алюминиевым бидончиком, на стол его поставил, улыбается.
– Эту, – говорит, – и я ещё не пробовал… Проверим, – и сияет – не то что лампа его – ярче.
Попробовали. Вкусная, парная. По кружке. Больше-то, хоть и хотелось, но не стали – идти завтра тяжело будет – испытано. Чаю попили с мёдом – удоволились. Мёд замечательный – «с осоту и с шишкарника». А медовухи, пепси изменив, и он, Иван, с пол кружечки отведал. Заулыбался после. Как от радости.
– Это не водка, пей… полезно, – так сказал ему Василий. – На отца-то не поглядывай. Здесь не он, а я распоряжаюсь.
– Как не полезно-то, полезно, – отозвался тут же Виктор. – Из ушей бы не полезло… По тебе, парень, заметно – как спортсмен вон… лось поджарый.
– Но. Бегун на дальние дистанции, – сказал Василий. Улыбается.
– Ага, бегун!.. Ползун… до фляги и обратно. Равного нет тут. Чемпиён.
В избушке натоплено.
– Как в Африке, – говорит Николай.
– Ага, – говорит Виктор. – К утру будет, как в Оймяконе.
Хозяин лёг на одну кровать, я – на другую, две их всего тут; обе с панцирными сетками; лежать неловко на такой мне без привычки – прогибается, у себя я сплю всегда на жёстком. Николай, Виктор и Иван, постелив матрасы, устроились прямо на полу. Пока ничем не накрываемся – жарко. Беседуем. О разном. Больше о внутренней политике, конечно, – нетуже никаких у нас благих надежд на будущее, жизнь всё худеет вроде и худеет, народ нищает и спивается, зато чиновники «мордеют и борзеют»; Москву легонечко покляли, дескать, устроилась удобно, на счёт всей страны «с жиру бесится», да, мол, добром-то это ведь не кончится, – везде её, столицу нашу «дорогую», клянут вполголоса, по всей России, и мы вот тоже. За президента, дескать, стыдно – пропил великую державу, отдал её жулью на откуп. Но жить-то надо – заключили.
– На всё воля Божья, – сказал Николай.
– Ну, это-то понятно, – ответил ему Виктор.
Мыши за печкой шебуршат сухим горохом.
– Вон, как чиновники, – говорит про них Виктор. Лежит он на боку, на взлокоточке, курит, пепел сбивает в пустую консервную банку, стоит та около его матраса. – Несуны.
– Ещё какие, – говорит Василий. Развалился он на спине, широко раскинув ноги, пускает дым от папиросы в потолок, туда же и смотрит неотрывно, потолок как будто подпирает. – Мне под постель тут натаскали… под подушку… Конфисковал я раз, другой, они по новой…
– Запасливые.
– А то.
Фитиль в лампе убавлен. Бормочет, потрескивая, как костёрчик, транзистор – что-то про томских фермеров сначала, про их бесчисленные нужды, после про русских и украинских девчушек, скопом бегущих за границу на «тяжёлые» работы.
– Бедняжки, – говорит про них Виктор.
– Но, – соглашается Василий.
– Страдают, – говорит Николай.
– Что ты, – говорит Виктор. – Жалко?
– За Родину обидно.
– А Родина-то чё тебе?.. Наоборот, – говорит Виктор. И говорит: – Всяк хлопочет, добра себе хочет… Вам хорошо, а нам подавно. У них профессия такая – очень, говорят, древняя… Там, парень, жалость исключается… там, парень, бизнес. Сюда, на пасеку бы, лучше прибежали.
– Ага. На кой они мне тут сдались, – говорит Василий. – Без них тошно.
– Развеселили бы тебя.
– Да уж куда там… Моё веселье вон, в бидончике.
– Это мы знаем, понимаем.
За окном тьма кромешная – пульсирует, на стёкла окон давит. Собаки изредка залают – то у избы, поблизости, а то далёко – туда, во мрак, совсем сейчас не хочется.
– На медведя, – говорит Василий. – Ходит тут… пришлый… шатается. Тайга горит там, на востоке, все сюда и перекочевали… Муравьедишко, некрупный. Пока не пакостит, и не стреляю… Пусть шарится – собак в форме держит… а то расслабятся и обленятся.
– Может, и не медведь? – предполагает, забавляясь, Виктор.
– Медведь, а кто же? – простодушно реагирует Василий. – По лаю слышно.
– А может, эти, энэло-то? – говорит Виктор и смеётся.
– A-а, – улыбается Василий. – Может, и эти… Наблюдают. Мёдом им тут намазано…
Скоро все затихают. Братья Кармановы начинают вразнобой похрапывать. Тут же вдруг и очнутся, перекинутся словом-другим о пчёлах, о пасеке, о чём ином ли, снова, слышишь, засопят – охотники.
Мне не уснуть – на новом месте у меня не получается, буду лежать – и ни в одном глазу – до самого подъёма, взбудораженный: скорей бы там, на Taxe, оказаться! – я не в ладах ещё со временем. Но:
Отче наш, Иже еси на небесех!..
* * *
Скоро в избушке выстыло – уже ветхая да и к зиме совсем ещё не подготовлена – в окнах не вставлены вторые рамы, дверь, хоть и толстая, но не обита пока войлоком. «Стены уже как решето… Столетняя, дак чё там… Проконопатить надо будет как-то, как бы вот только время выбрать, то никак всё», – говорит о избушке Василий. «Ага, всё бросишь и займёшься конопаткой, – говорит ему на это Виктор. – Как же… А медовуху-то кто будет пить?! Если отступишься, прокиснет». Улыбается Василий: в том-то вот и беда, дескать, что некогда, так-то давно уже бы и занялся. Ну, мол, конечно.
Лежат все, как зародыши, свернувшись; кто во что сумел, укутались, как куколки, не шевелятся; ни рук, ни ног, ни головы ни от кого не видно.
Никто не встал ночью, не подбросил дров в буржуйку, все поленились.
Шипит на тумбочке приёмник – не пробивается сквозь шип ни музыки, ни речи – эфир как в рот воды будто набрал – пора такая для эфира: мёртвая.
Предутрие – по времени, по темноте – так ночь ещё глухая.
Слышу я, а приоткрыл глаза, и вижу, Василий поднялся – спал он не разболокаясь, то есть как был вечером в трико и в майке, так в них и лёг, впрочем, и мы не раздевались, – минуя спящих на полу, проследовал к столу, чуть добавил свету в лампе, затопил буржуйку – загудела та, отзывчивая, сразу, заиграла в щели бликами – уютно. Вышел Василий с фонариком на улицу, к собакам. Побранил их там за что-то, слышно. Побыл сколько-то. Вернулся. К столу подсел, плеснул из бидончика в кружку медовухи, выпил, а после закурил. «Беломор» курит. Сидит на лавке нога на ногу, в себя понуро смотрит – в уме забот, пожалуй, неизбывно.
Я и Виктор тоже на ногах уже. Под рукомойником, за печкою, умылись. К столу, к Василию, подсели.
А Николай и Ваня ещё дрыхнут.
– Ты бы, брат, сильно-то не налегал, – говорит Василию Виктор. – Всю всё равно её не выпьешь… Как поведёшь машину-то обратно?
– Да я маленечко…
– Но, знаю я твоё маленечко.
– Кого тут… Капля.
– Две… И к ним ещё четыре фляги.
– Чтобы во рту только поправить… Минтос, – говорит Василий. Улыбается. – А то как в заднице у негра…
– Ну так.
– А чё, да так и поведу, впервые, чё ли… Так даже лучше: больше скорость – меньше ям… А ты-то будешь? – спрашивает у меня Василий, щёлкнув пальцем по бидончику, – глухо откликнулся бидончик: не опростался ещё, значит.
– Нет, – отвечаю. – Я же не с похмелья.
– А чё, с похмелья только пьют?.. Его, похмелье, надо ещё заработать.
– Не заработал ещё, значит.
– Разводи примус, ставь чайник, – велит Василию Виктор.
– А примус-то зачем, – говорит Василий. – На печке чайник… скоро закипит.
– Николай!.. Ваня! – командую я. – Хватит валяться. Поднимайтесь.
– Пусть спят, – говорит Виктор. – Без них поедем. Вернётся брат через часок, разбудит, и Николай ему поможет разобраться с медовухой тут… То в одиночку-то когда он справится… Иван им будет подносить… И мило дело. Так я думаю.
Зашевелились Николай и Иван – просыпаются.
– Поспать не дадут, – ворчит Николай.
– Привыкай, – говорит ему Виктор. – Тебе три ночи там ещё сушиться.
– Вредные.
Чаю попили крепкого. Сидим. Молчим. В окно то и дело поглядываем – там, за окном, ещё густые, как собачья шерсть, потёмки.
Хлопнул ладонями, как выстрелил, по коленям себя Виктор вдруг и говорит:
– Ну, ребята, хватит кунку гладить, пора телегу ладить… Пока доедем.
Встали мы из-за стола. Вышли на улицу.
– Серенькое утро – красненький денёк, – говорит Виктор.
– Чё-то мне оно не нравится, – говорит Николай. – Правда, пока ещё не угадаешь.
– Ты, как колдун, всё и гадаешь, – говорит ему Виктор.
– Да, – говорит Николай. – Гадаю… только на погоду.
– Какой ты… прямо и не знаю. Шаман, ли чё ли, в кочке ноги.
Иван зевает, ёжась и утягивая, как пугливая улитка в свою раковину, голову в чёрной вязаной спортивной шапочке, скрывшей и брови у него, и уши, в поднятый меховой воротник «пилотской» куртки, спрятал и руки он в её карманы – продрог парнишка, непривычный.
Василий в своих выходных, как он их называет, то есть охотничьих, светло-табачных, хэбэшных штанах, с ножом на поясе; в домашних тапочках; в одной фланелевой рубашке клетчатой, тёмно-зелёной; в сдвинутом на затылок выцветшем берете камуфляжном. И улыбается, как дембель. Хоть на портрет его, на дембельский, фотографируй – выразительный. Душман таёжный.
Виктор в вылинявшей, старенькой, потрёпанной энцефалитке. И тесна она ему, великому, и коротка – так, что и пуп не прикрывает даже. Между широким, офицерским, ремнём, который висит у него, как у ковбоя пояс с кобурой, чуть ли не на мошонке, и поясной резинкой энцефалитен пялится на улицу голое брюхо – тугое, словно чересчур надутое, круглое, как пузырь, и волосатое, «как у абрека».
Крутятся возле нас собаки, хвостами помахивают – в азартном ожидании, всё лайки – умные. Ворчит на них Василий – для порядку.
– Приеду, кашу вам сварю, – сообщает он им безразлично. – Пока тут стерегите. – Сказал так собакам и спрашивает у нас после: – А вы ружьё-то брать не будете, ли чё ли?.. Мало ли… Зверь попадётся, может… с мясом бы сидели.
– Да ну его, – говорит Виктор, – с ружьём ещё морочиться… Рыбу бы донести, – смеётся он, – то ещё мясо… Силы не хватит.
– А вон… вручить его Ивану, – настаивает Василий. – Парень здоровый – потаскает.
– Да я бы взял, не отказался, – вдруг оживившись, говорит Иван. При этом чуть не весь из куртки вылез, даже в потёмках заблестев глазами из-под шапки.
Сходил Василий в избушку, вынес оттуда ружьё – шестнадцатый, двухстволку тульскую – и полный патронташ, подал их Ивану. Тот рад-радёшенек – патронташем перепоясался, ружьё вверх стволом повесил на плечо, Тургеневым перед нами прошёлся, смачно поскрипывая прихваченной заморозком травой, и говорит:
– Нормально.
– Э, мужики, вам же ещё и мою лодку?.. – спрашивает Василий.
– Лодку, конечно… Тоже вон Ивану, – говорю. – Ему в ней плыть, ему с ней и идти… Пусть тренируется.
Принёс из бани Василий резиновую лодку, упакованную в вещмешок, с торчащими из него дюралевыми вёслами, запихал её сразу в багажник «нивы» – кое-как туда и втиснулась.
Размещаемся и мы все в машине. Завёл Виктор мотор. Прогревает. Он и Василий курят.
– Как паровозы, – говорит им Николай. – Дышать вон нечем.
– Не ругайся, – говорит ему Виктор.
– Когда встречать вас, рыбаки? – спрашивает Василий, всё почему-то больше веселеющий.
– Вечером на четвёртый день. Сегодня пятница… так… значит, в понедельник, – отвечает ему Виктор. – Как прошлый раз-то, не проспи, а то налижешься опять тут…
– Да постараюсь, – говорит Василий, улыбаясь.
– Чувствует моё сердце, постараешься, – говорит Виктор. – Снова пешком плестись придётся… Раз уж устроил нам по-свойски.
– Кто старое помянет, тому глаз вон. Тогда так получилось… гости одолели. Не беспокойся, – говорит Василий. – Я запишу… А тут и – добежите – недалёко.
– Но, – говорит Виктор, – по карте носом миллиметр… А по земле потопаешь ногами.
Поехали – колеи здесь глубокие, на своём «Трумене», сто пятьдесят седьмом, Василий их нарезал, вода и летом жарким в колеях не просыхает – медленно, обочиной, стараясь не сползти и не подсесть на грунт мостами. Блестит на траве иней. Деревья в опоке – искрятся. В свете фар бело всё – как от снега.
Василий открывает на ходу дверцу, кричит, высунувшись и обернувшись, на собак, чтобы те оставались тут, на пасеке, а не бежали за машиной.
– Шить! – приказывает им Василий.
Послушались его собаки, смотрят нам вслед, но не бегут, остановились.
– Не выпади, – говорит Василию Виктор.
– Да чё я выпаду-то? – говорит Василий, закрывая дверку. – Не выпаду.
– Кто тебя знает?.. В борике надо будет, не забыть бы, тормознуться, – говорит Виктор.
– Зачем? – спрашивает Василий.
– А как зачем!.. А удилище-то для Николая…
Мы смеёмся. У меня спиннинг, у Виктора и у Ивана удилища пластиковые, телескопические. Николай не признаёт такие – для него такое «хрупкое», только ершей тягать, мол, на такое, путняя рыба враз его сломает, дескать. Вырубает он себе обычно сосновое, сырое – день, не рыбачить уж, а просто потаскать такое – и без рук остаться.
– A-а, это надо, – говорит Василий. – Прошлогоднее-то пересохло, легковато, однако, будет.
Проехали мы полями, засеянными овсом и изрезанными вдоль и поперёк по ниве медвежьими тропами – любят медведи полакомиться овсом молочным – можно их скараулить тут и завалить, пока овёс ещё не сжали. Спустились в длинный, больше чем километровый, косогор, год назад ещё покрытый густо вековелыми лиственницами, а нынче пнями лишь утыканный, – в долину Тыи. Миновали, слава Богу, проскочили мочажину топкую. Вкатились в борик, Щетининский называется, в сороковых годах ещё, послевоенных, вырубленный, мало-помалу только-только отрастающий. Тогда ещё пилили бережнее – брёвна к речкам для сплава на конях возили, сучья в кучи собирали и сжигали – легче лесу и восстановиться. Это сейчас – как вороги на оккупированной территории – на деляну после них не сунешься, а если попадёшь туда случайно, так и без ног останешься, пожалуй.
Едем мы теперь хорошей, твёрдой, боровой дорогой, ныряя в ямы и из них выныривая.
– Останови! – командует вдруг Николай.
– Чё такое?! – спрашивает Виктор, тормозя машину резко.
– А удилище-то, – говорит Николай.
– Ах ты язва!.. Я уж и забыл, – говорит Виктор. – Аж испугался… заорал-то… Не медведя ли, подумал, задавили?
Уже отбеливает тонко по востоку – чуть лишь брезжит. Линией зубристой отличился горизонт от неба. Лес из мрака слабо выявился – нависает. Ветерок полосовой напористо по лесу пролетает – потерял что вечером ещё, играл-шалил, так вроде ищет. Поверху сопки обозначились едва – громоздкие.
День неминуем, приближается.
Переночевав благополучно, с края на край в тайге перекликаться начинают световые птицы, живы все, здоровы ли, справляются, славят ли Творца, проснувшись; а ночных нигде уже не видно и не слышно – наохотились, насытились и угнездились; днём-то им какой, поди, и отдых – шуму столько – как на ярманке.
Все мы, кроме вдавленного в угол его дядей и дремлющего там, как байбак, Ивана, выходим из машины и принимаемся искать по борику сосёнку подходящую. Те, на которые указываем ему мы, даже не глядя на них, Николай бракует сразу – то, дескать, жидкое, а то сухое слишком, мол, и, значит, ломкое, – находит себе сам. Взятым у Виктора ножом – своего у него нет, какие когда и были, так все переломал он, растерял ли – срезает Николай сосёночку почти под корень, отсекает у неё вершинку и сучки, ошкуривает, основание заостривает – удилище и готово.
Виктор, примериваясь, берёт инстру-умент этот в руку, приподнимает чуть и тут же его опускает. И говорит:
– Это хорошее, это пойдёт…
– Да, это доброе, – говорит и Василий. Тоже примерился. – Сломать такое… да-а, дурак-то клюнуть должен… о-о… не меньше, чем на центер.
– Где и как вагой, как багром им можно будет поработать – не подведёт, поди, не треснет… Какой заторишко где растолкать, дак и искать ничё не надо, – говорит Виктор. – Любые брёвна этим распихаем.
– Да-а, – говорит Василий. – Сна-асть.
– Э-э, – говорит Виктор. – И косолапому, если тот где на речке в лодку к нам полезет вдруг, хряпнешь таким, дак мало не покажется, морду расквасишь всмятку махом, перешибёшь ли пополам ему хребтину… Чуть разве в комле только тонковасто – ага, кого вон! – пальцы в обхват маленечко не сходятся… Чё-то ты нынче, парень, подкачал… Прошлый раз потолще вроде было.
– Молчи! – говорит Николай. – Тебе им не рыбачить.
– Слава Богу, – отвечает Виктор. – Нож не сломал?
– А хочешь, чтоб сломал?
– Давай сюда, то потеряешь.
Снова залазим все в машину. Едем. Николай теперь сидит рядом с Виктором, высунув в дверцу с опущенным стеклом руку, держит ею удилище. Окно открыто – холодно нам, сидящим сзади, – задувает, но уж терпим.
– Смотри, орясиной своей не зацепи какое дерево где, а то ещё повалишь поперёк дороги, – говорит Николаю Виктор, – и не проедем.
– Рули путём – не повалю, – отвечает Николай.
– Какой ты дерзкий.
Ну вот и Тыя. Правый её берег. Проезжаем по нему вверх по течению реки ещё метров двести и останавливаемся – дальше нет уже дороги. Почти напротив устье Тахи. Она впадает в Тыю слева.
Выгружаемся. Проверяем, не оставили ли что в машине или там ещё, на пасеке, случайно. Рюкзаки у нас и каны – грузу у каждого не больше двадцати килограммов, но заходить-то далеко, так и натянет.
Щуро нам, как детям малым будто, улыбаясь, вынимает Василий из-под рубахи и из-под ремня, от впалого, как у выбегавшегося в охоте или за сучками кобеля, живота своего – и как он с ней ходил, когда и взял, когда её туда пристроил, никто из нас и не заметил даже – тёмно-коричневую пластмассовую полуторалитровую бутылку из-под пива «Купеческое». Стоит, сам себе, как змей, хитрый. Пробку откручивает осторожно, на нас глазами, счастья полными, уставившись. Шипит под пробкой медовуха, пенится.
– Вся бы не вырвалась из заточенья-то, то она может… Пыш один раз – и пусто, сгазовала. Шибче шампанского играет, – говорит Василий. И говорит: – Ну, чё, немного надо на заход-то… чтоб вам фартило, то ведь это… лесных маленько духов чтобы сдобрить.
– Ты уже сдобрил их и, вижу, ладно, нам теперь нет нужды заботиться об этом… От самых яростных обезопасил на неделю, – говорит Виктор.
– Ну дак… я для кого, для вас стараюсь.
– Оно и видно – нос уже сизый.
– Он у меня такой от веку, отморозил его в детстве.
– Кому другому расскажи, нам-то не надо… отморозил.
Отпиваем мы по глотку – по два. Василий к бутылке прикладывается основательно.
– Смотрите, чадо как оголодало, – говорит Виктор. И говорит, косясь на брата: – Однако, да… пешком идти придётся нам обратно… Так чё-то мне, ребята, кажется. Ага. Могу поспорить с кем-нибудь на рубль.
– Давай со мной, – говорит Василий.
– С тебя получишь! – говорит Виктор.
– Да всё нормально будет, мужики, вы успокойтесь, – говорит Василий. – Не забуду. Ну а забуду, уж не обессудьте.
– Молодец, – говорит ему Виктор. – Правильно рассуждаешь.
– Ну дак…
– Тебя, как птичку, слушал бы и слушал.
Виктор ворчит. Василий улыбается.
Теперь нам надо перебраться через Тыю по бревну. Непросто это.
Подмыло, рухнул когда-то, повалив за собой ещё несколько лесин поменьше, но не на том, на котором стоял, а на другом берегу, куда упал, мощный кедр, с комля его давно уже заилило, корни лишь частью на виду торчать остались, а с вершины упирается он в толстую, живую еще, пихту – потому его и в половодье не уносит, льдом только хрупкие сучья с него обломало, так и служит он теперь, пока не сгнил и не переломился, для таёжников мостиком. Всё будто ладно, но одно вот неудобство – лежит оно, бревно это, высоко над речкой и не прямо, а под углом – в подъём – градусов в двадцать. Тратим мы тут, на этом переходе, много времени. Я и Виктор каждый раз вроде и с горем пополам, но переходим, а Николай – вот с ним-то и загвоздка. Мандражирует. И долго. Мозжечок совсем, говорит, что-то испортился – вертикаль, мол, плохо держит. Ну, бывает.
Зная это, провожает нас Василий до бревна – нам поболезновать.
Кое-как, друг другу помогая, прорвались мы, навьюченные, как дромадеры, через густой, но облетевший уже благо, а то и вовсе, задохнуться в нём, но без топорика через него бы не продраться, терпко пахнущий в простылом воздухе черёмушник, каждое лето прячущий настырно от людей тропинку; и предстали.
От воды, снизу, тёмное оно, бревно, – отмякло, – сверху сверкает, как хрустальное, – обындевело рясно – скользкое, как налим, если не пуще, что уже было нами прошлой осенью испытано и пережито в полной мере. Только при виде этого бревна глаза у Николая округлились – так уж его теперь пугается, бедняга.
Мы – я, Иван и Виктор – в болотных, а он в кирзовых, леспромхозовских, сапогах, с носками-набалдашниками. И по ровной-то земле ступать в таких скороходах, наверное, сложно – как в веригах. «Зато для ног, – говорит Николай, – здоровее. Кожа всё же, не резина». Хотя там кожи-то – одна полоска. У него тромбофлебит – мучается. Хотя какое там здоровье. У нас хоть в сапогах вода не хлюпает, пока нечаянно не зачерпнёшь где, а у него ноги всегда в сырости и сапоги – чуть что – и полные. Летом-то ладно, ну а осенью… Вот уж упрямый, так упрямый: так «здоровее», мол, и всё тут. Такую твёрдость духа проявлял с женой бы, да, а то… ну, словом, ясно – подкаблучник.
Переступая лесенкой сторожко, перешёл я по бревну на левый берег Тын и на правый берег Тахи, на стрелку то есть, оставил там свои рюкзак и кан, перенёс туда после и остальные рюкзаки и каны. Стою. Дышу полной грудью. То вроде зяб всё, зяб, как из избушки только вышли, и в машине, а тут согрелся разом, даже и в пот меня прошибло от такого напряжения – искупаться-то сейчас совсем не хочется – не знойно. Иней на бревне от ног моих чуть-чуть подплавился – бревно и сверху потемнело.
Перешёл за мной следом и Ваня, с вещмешком, в котором вёселки и лодка, и двухстволкой за спиною.
Встал на бревно, смотрю, и Николай. Сошёл, вижу, с него тут же, бормочет себе, в русую бороду что-то; глаза у него голубые, большие – и вовсе с блюдца стали от расстройства-то. Нос у него – как у Льва Николаевича Толстого в старости – баклушей.
Окончательно уж рассветало.
– Ну? – говорит ему озабоченно Виктор: и самому ещё ведь перелазить. – Чё ты?
– Чё, чё!.. Дане могу, – говорит Николай. – Только ступил, и голова сразу кругом… Раньше по брёвнам бегал, как по гаревой дорожке.
– Ну, вспомнил тоже… Раньше и все мы были рысаками… А ты бы взял да помолился, – предлагает ему Виктор. – Перенесло бы тебя, может?.. Как блаженного.
– Да?! – говорит Николай, глаза на Виктора тараща. – Помолился!.. Умный какой… А я чё делал!.. Интернационал, что ли, пел? – и заикаться даже начал от волнения.
– Вам вдоль бревна тут надо тросик натянуть бы, вот от корней-то этих и до пихты, чтобы маленько хоть придерживаться, и нормально… Можно и проволоку просто. Ходите часто, следует устроить, – советует, улыбаясь, Василий. Ему-то что переживать, ему сегодня не карабкаться, а то понервничал бы тоже. – Как в горах через ущелье… Вертолёт ли нанимать, а лучше свой уже, конечно, заиметь… Пора бы вроде, мужики-то уже взрослые, а не засранцы. Пять минут лёту – и на Масловской, и по бревну бы не корячились, – сказал это Василий и к бутылке ненадолго приложился, так в руке которую и держит. – Или вот выпить – и тогда, ребята, как на амбразуру… Вихри враждебные веют над нами…
– Уже запел… муж этой… как её там?.. Аллы Пугачёвой, – глянув на Василия, говорит Виктор и предлагает Николаю: – Ты говнодавы-то свои сыми и босиком, как этот… Маугли… попробуй.
– На самом деле, – говорю и я ему с другого берега. – В твоих же только… ламбаду вытанцовывать.
– А чё, и правда, – говорит Николай. – Можно и лодку, правда, накачать… и переплавиться.
Сорвалась с кедра, упала, шлёпнувшись об воду, в Тыю шишка – поплыла, течением подхваченная; тычутся в неё, видно, мордами мальки, её поклёвывают.
– Ну, это долго… на полдня, – говорит Виктор.
– А так скорее?
– Так скорее.
– А сковырнусь?..
– Тогда и вовсе заторопишься.
– Ладно, – говорит Николай.
– Давай, – говорю я.
– Приступай, – говорит Василий. – С Богом… Бог не выдаст, свинья не съест.
Иван сидит на колоде, рукой ружьё гладит. Сочувствует дяде.
Метнул, как копьё, своё удилище на мой берег – а то хотел им было балансировать при переходе – воткнулось оно возле меня в дёрн – качается. Сел он, Николай, после на бревно, разулся; глядит на небо, как смертник.
– Брата-то чуть, индеец, было не убил, – говорит Виктор.
– Молчи, – говорит Николай.
– Слушаюсь, – говорит Виктор.
Поднялся Николай с бревна, стоит на песчаном мыске, босой.
– Бурлак на Волге, – говорит Виктор.
– Ага, – говорит Василий. – Репин.
– Да, – говорит Николай. – Бурлак, – и мне кричит: – Сергей, лови-ка!
Бросил он один сапог – попал тот прямо под ноги мне. Швырнул он другой – ударился тот – гулко в зычной, только что очнувшейся тайге – о ствол пихты и плюхнулся в Тыю – рыба крупная как будто сплавилась.
– Таймень, – сказал Виктор. – Блеснить, Сергей, тебе придётся, так, однако.
Чудом не утонул, такой тяжёлый-то. Спустился я вниз, почти скатился, успел, подцепил его, едва дотягиваясь, за голенище вырванным из земли удилищем, причалил к берегу, достал сапог, воду из него вылил, наверх поднялся, пристроил его вверх подошвой к пихте – пусть пока обтекает.
Молча все за этим наблюдали, после все вздохнули облегчённо.
– И тут оно вот, удилишко, пригодилось, – говорит Виктор. – Хорошее, – и говорит: – Пихту-то чуть, вредитель, не сломал своим обутком смертоносным… Нет на тебя зелёных рядом тут… экологов, а то бы плешь тебе проели. И нам – за соучастие.
Ворчит Николай – я вроде у него виноватый, поперечный ветер ли, ворона ли пролётная.
– Плохой бы из тебя, парень, вратарь, однако, получился, – говорит мне, улыбаясь, Василий. – Неважно ловишь.
– Я не матрос Кошка, – говорю.
– Да-а, – говорит Виктор. – Маленько смазал оба раза, а то уж брату-то бы не рыбачить.
Иван молчит – на нас любуется.
Встал Николай на четвереньки, пошёл по бревну. Пошёл ли?.. Как зверь. Картина – древним чем-то от неё повеяло вдруг.
– На заре человечества, – говорит Василий.
– На закате, – говорит Виктор. – Ты, Николай, когтями на ногах, как бурундук, в бревно поцепче уж впивайся-ка, – рекомендует Николаю он. – А то ведь… не сапог-и таким даже знатным удилищем тебя сразу не выловишь… Ладно, что плавать хоть умеешь… Ну, и плыть босому-то удобней.
Безмолвствует Николай, передвигается. Бледный. Теперь и все мы языки как будто проглотили, истерично наблюдаем. Перебрался. Достал портянки из кармана телогрейки, на бревне сидит, ни на кого не смотрит, обувается.
– Ловко. Почти что взапуски, – кричит ему с другого берега обрадованный Виктор. – Как на бревне будто родился. Орден-то, может, нет, а на стакан-то заработал… Плеснём, Сергей, ему на Масловской?!
– Придётся, – говорю.
Не отвечает Николай, насупился, как дождевая туча. Обулся. Встал. Прохаживаться начал – нервы успокаивает.
Благополучно – хоть и не разуваясь, но тоже, как бабуин, на четвереньках – перебрался к нам и Виктор. Стоит, шумно втягивает и выталкивает из себя, как из цилиндра поршнем будто, воздух – одышка.
– Рысак, – говорит ему успокоившийся уже Николай.
– Ага, – говорит Виктор. – Есть маленько.
Тепло с нами прощается с другого берега Василий, всего нам доброго желает, как с любимой будто расстаётся, только что не рыдает. Поставил на землю себе под ноги опорожнённую уже бутылку из-под пива «Купеческое». Распростился с нами, будто с новобранцами. Пошёл к машине. Запел своё, весёлое какое-то. Хлопнул дверцей. Поехал, слышим.
– Пожалуй, встретит, – говорит Виктор. – Так чё-то мне кажется… Шаляпин.
– Может, и встретит? – говорю.
– Ага, как в прошлый раз, – говорит Николай. – Опять напьётся и забудет.
– А он уже забыл, наверное… Ходил за лодкой, за ружьём-то… там же везде заначки у него… как у верблюда.
Иван молчит, ружьё вскинул, в ворону целится, играясь. Одну убил, другую взял на мушку.
– Побереги патроны… так транжиришь-то, – шутит, переводя дыхание, Виктор. – А то медведь вдруг где… тебе и стрелить будет нечем.
– А на медведя пули я оставлю, – говорит Иван. – Этих я дробью.
– Не дай и Бог, – говорит Виктор. – Лучше бы с ним и не встречаться, с косолапым… Ходи он мимо, по своим делам… как поезд.
Покурил Виктор. Посидели мы, пока он курил, а заодно и отдышался. Встали. Рюкзаки и каны на себя надели, лямки от них поправили друг другу за плечами – несподручно самому-то.
Ну, с Богом – с Богом, мол. И подались.
И так у нас заведено: час ходу – десять минут отдыха. Ну а идти часа четыре – приблизительно – как угадаем. Последний, четвёртый, привал устраиваем мы уже на Масловском ручье, около Масловской избушки, если, конечно, выйдем к ней, а не промажем, недалеко уже от пункта назначения, откуда после и сплавляемся. Вода в этом ручье удивительная, чай с неё заваривается славный, и он, ручей этот, по ходу тут единственный, где можно чай-то вскипятить; зимой не замерзает. Какие и бегут в распадках ещё в июне, к июлю напрочь уж пересыхают. Taxa из сопок соки все вытягивает.
* * *
Солнце взошло. Наверное. Пора уже ему. Взо шло, конечно. Не показалось нам оно ещё пока только из-за тумана плотного – болтается тот, шаткий, никак не определится – припасть ему к земле или подняться к небу – туда-сюда бросается, как непутёвая собака на прохожих, – и на лице он оседает свежей мокретью. Бодрит. Приятно.
Тропинка тут натоптанная, больше всего, конечно, рыбаками, что и понятно, всё же у речки, также охотниками, в меньшей степени, и шишкарями, то листвой, то хвоей палой выстланная толсто, – шагать по ней мягко, пружинисто, одно удовольствие, – то она жёлтая, то она бурая, то она чуть ли не малиновая – облетел уже весь краснотал – так от его, конечно, листьев; то она в горку, то под горку, где петляет вслед за Тахой, по её ярам высоким, где прямит в её излучинах по хорде, пропуская в кривунах места неклёвые. То и сами мы срезаем, но не наобум, не на дурака, как говорит Виктор, а только там, где нами было уже хожено, разузнано и точно помнится. Прямить далёко тут рискованно – по тропинке, какой бы она ни была, идти всё же легче, не выигрываешь и по времени особо-то, спрямляя, – проверено: или залезешь в буреломную чащу – а с рюкзаками-то да с канами по ней ломиться! – или в старицу непроходимую уткнёшься – вот и делай после обходного крюка – проиграешь и по времени, и в силах потеряешь. А тут иди себе да и иди. Ну, не терпится, конечно, хочется скорее.
Шишки кедровой в этом году урожай небывалый, давно уже такого не было, полно нынче в тайге и разного зверья поэтому – текут на корм сюда одни, тянутся за ними другие и тоже не ради компании весёлой, а ради пропитания – мир так устроен.
– Белка есть – появится и соболь, – говорит Виктор. – Проходная, вся-то не останется… таборная только.
– Да, – соглашаюсь я.
– А?! – спрашивает Николай.
Но никто ему не отвечает. Дальше и он молчит, идёт, шумит, не ждёт ответа.
Задрав хвосты, как скорпионы, то по тропинке, то её пересекая, а где валёжина, по ней проскачет непременно, а если пень, через него уж обязательно переметнётся, носятся туда-сюда озабоченно – со стороны-то кажется, что бестолково – полосатенькие, как вепрята-поросята, бурундуки, одни порожние – сердито на нас циркают, ещё бы: в самое жаркое для них, заготовительное, время, мы под ногами у них путаемся, а другие – с туго раздутыми от орехов щеками – без звука – с мордой, набитой до отказа, не поциркаешь.
– Смешные, – говорит про них Иван.
– Страшные, – говорит о них же Виктор.
– Чё?! – говорит Николай.
Белки, мелькая, словно искры, по стволам и шурша при этом по коре сноровисто когтями, цокают на нас с деревьев – дразнятся, знают, что вот сейчас, невыходных-то, их никто не тронет, это потом побегай-ка за ними, поищи-ка.
– Додразнишься, – бросил одной из них на ходу Виктор. – Иван вон дробью-то залепит.
– А можно? – сразу ухватился тот.
– Да ну, зачем же… Я это ей, чтоб не дразнилась.
Кучно и рябчиков, но эти не орехами лакомятся, а ягодой, в той тоже нынче недостатку нет – и костяники, и рябины, и черёмухи – полно вон.
Рябчиков Иван пока не стреляет: убьёшь – нести их далеко будет – это уж мы ему, конечно, запретили, сам-то он и рад бы поразвлечься. Попадутся, так подстрелит ближе к месту.
И идти нам всё пока на юго-запад.
Я шагаю первым – нет росы, так и сухой я – замечательно; от инея сильно не намокнешь, разве что штаны отволгнут на коленях, солнце глянет лишь, они и высохнут. Сразу за мной Иван идёт, старается, «горожанин в первом поколении», раскраснелся, разогрелся – голову в воротник уже не прячет он, а то – как курица на сед ал е – так был скукожен.
– Тяжело? – оглядываясь, его спрашиваю.
– Да ничего, нормально, – отвечает.
– Держись подальше от меня… метра на три или на четыре, – учу его. – Стереги глаза от прутьев. То стегну ещё нечаянно… Со спины же я не вижу.
За Иваном, на должном от него расстоянии, следует Виктор, давно уже наученный – таёжник.
– Дядя Коля вон дотащит, если кто идти не сможет, – говорит он, Виктор. Сипло дышит. – На ноги-то ему ещё по гире прицепить бы надо было, сапогов-то его мало… Но. Как лось… Меня не затоптал бы… Идёт, шумит – бульдозер будто догоняет. Всё и боюсь, не задавил бы.
Николай, гремя, как боталом, прицепленными к рюкзаку с лодкой котелками, нашу цепочку замыкает. Слышит он только на одно ухо, на другое глух, как тетерев, и в разговоре, хоть и хочет, но пока не участвует. Вперёд мы его теперь не пускаем – натерпелись – бежит он, длинноногий, быстро, нас не щадя, и левит обычно, что ему ни говори, круто, когда с тропинки уже сходим, – так что мы сильно удаляемся от Тахи к югу, чуть не к Тые, а потом, как угорелые, и чешем далеко и строго к северу. «Правую ногу бы ему маленько подпилить, то прёт по кругу… как мельничный мерин», – говорит Виктор. Когда он, Николай, водил нас поначалу, на месте мы, взмыленные и злые, оказывались часов через восемь. Теперь за четыре, а в лучшем случае, не заберёмся если где, поторопившись, в болотину, то и за три с половиной часа добираемся. С тропинки сходим и идём затем по компасу. А Николай – тот компасу не доверяет, как противнику, и указания его не признаёт. «Да-а, прибор – стекляшка с железячкой. Всякая аномалия его обманет. А их тут сколько… В мозгу, – говорит, – у меня компас, как у зверя, этот-то точно уж не подведёт». – «Ага, точно такой же, как и мозжечок твой, – отвечает ему Виктор. – То-то мы с тобой и заходили чуть не по дню». – «И всё равно лучше было, – упорствует Николай. – По крайней мере, интересней». – «Один и бегал бы, раз интересно», – говорит ему Виктор. «Тебя ничем не перемелешь», – говорю ему я. «Да, – отвечает. – Не перемелешь».
Идти пока не жарко – вовремя мы нынче в путь тронулись, ни за похмелкой, ни за чаем утренним на пасеке не задержались. Сейчас ни мошки нет пока, ни мокреца, не мельтешат роем перед глазами, свет белый не застилают, и лицо от них не надо прятать в сетки, хотя от этих-то и в сетках спрячешься не шибко, проникают во все щелки, чуть где в одежде дырка маленькая, и проберутся, накусают, – а то и дышать в сетках, еще и находу-то, тяжелее, и смотреть через них утомительно. Сейчас вот ладно.
Воздух здесь всегда с озоном почему-то, из-за леса, может, хвойного, из-за чего другого ли, резок и вдыхается так: во всё тело сразу будто – словно в губку.
Крапива и пырей от зазимков уже увяли – идти стало свободнее, прогляднее сделался обзор. Заденешь их, пырей или крапиву, иней с них посыпется, сверкая.
Нет-нет да и появится от нас справа Taxa, блеснёт внизу плёсом ровно или дробно перекатом. Радостно. Вода не мутная – дно сверху просматривается – камешниковое. Таймень где не стоит ли, не сыграет ли, глазами ищем.
Идём, переговариваемся.
– Добрый, поди, дурак живёт в том омуте, под перекатом-то вон, – предполагаю я с задором.
– Не говори. Живёт, наверное, холера. Дождаться нас никак не может, – откликается на это Виктор.
– Хвостом – стоит на дне, поди, и – взбыгрыват, зараза, – совсем уж по-сибирски, по-чалдонски, подражая нашим старикам, говорю я.
– А как же, взбыгрыват, конечно, лихорадка, – отвечает так же Виктор.
Ивану всё равно, живёт там, в омуте каком-то, кто-то, не живёт ли, хвостом играет, не играет ли, – разговор наш он не поддерживает. Вот из ружья бы попалить ему в кого-нибудь или во что-нибудь, другое б дело, так я полагаю.
– Пострелял бы?
– Пострелял бы.
– Постреляешь.
Отстал где-то Николай: котелки его не бухают, не слышно. Идём медленнее. Оглядываемся. Видим вскоре: догоняет. Насобирал он с земли в котелки кедровых шишек. Одну в руках держит, орешки из неё на ходу щёлкает. Довольный. Удилище несёт, зажав его под мышкой, как оглоблю.
Подобрал и я паданку, кедровка которую выронила, ею же уже и начатую. Щёлкать принялся, и ни одного в ней, в этой шишке, полного ореха не нашёл, а всё пустые. Добрую шишку та, кедровка, не выбросила бы – живёт этим – разбирается.
И у Ивана вижу в руке шишку.
Виктор орехами не занимается. «Грызть мне их нечем, – говорит. – Кто б их пощёлкал для меня, я бы уж ядрышки пожамкал… Хоть нанимай кого-нибудь, ли чё ли… Хоть Николая».
Где нависли над Тахой толстые, в два обхвата, высоченные кедры, там в заводи под ними тоже много шишек накопилось, тесно, одна к одной, прибитых к берегу; полным-полно их и по ерикам, будто в какой-нибудь китайской гавани джонок. Ни одной скоро не останется – звери и птицы приберут все до единой, в закромах своих схоронят – зима-то тут такая долгая – снежная вечность – не все её и переживут.
Тропинка всё худеет и худеет. Вскоре и вовсе пропадает, как исток ручья, будто скрывается под землю. Дальше обычно рыбаки уже не забираются. Мы вот только. Мы да ещё, может, один человек – Саня Ларин – есть такой рыбак заядлый; живёт он в Елисейске, но дома бывает мало, всё больше по озёрам да по речкам, «как варнак заблудный, шастат», безработный нынче, как и многие, слободный, и сюда вот наповадился. Ну и Бог с ним, с Саней Лариным, нашу рыбу он не выловит, ему свою бы как поймать да вынести, а дров, воды и воздуху на Taxe всем хватит. Далеко, как мы, от гари не заходит он, тут, поблизости, всё крутится. Иногда, когда до этих мест мы уже спустимся, видим следы его на косах. Но рыбачить тут нам уже скучно – ходом проносимся до устья.
Сворачиваем мы, удаляясь от Тахи, круто влево, выбираемся из пихтача в гарь и останавливаемся на перекур.
В шестидесятых годах прошёл тут широкой полосой шелкопряд и погубил весь хвойный лес на сотни километров, сожрав с него наголо всю хвою. Высятся теперь здесь только крековастые сухостоины, не подъел ещё пока которые снизу весенний пал и они пока не завалились. Рухнут скоро и последние. Передвигаться по гари трудно – малинник, чапыжник, кипрей да пучки-зонтики, выше человеческого роста, а к этому ж ещё и пни и кочки да колода на колоде, сразу и не разглядишь в траве которые, – всё-то идёшь да спотыкаешься. А загреметь при полной амуниции приятного, конечно, мало, потом ещё и подниматься же. Ещё бы раз, а то ведь… всё проклянёшь. Местами зарастает гарь осинниками и березняками, но те пока ещё мелкие да густые, обходить и их приходится, через них-то не продраться. Тут мы немного скашиваем к полудню и направляемся туда, где сама Taxa к югу отклоняется своим изгибом. Но это после перекура.
Рюкзаки и каны сняли. Сидим на полусгнившей мягкой, холодной валёжине. Спины у нас под рюкзаками взмокли – парят, как иордани. Десять минут наш отдых – так условлено. Виктор курит – ему ладно. Николай с Иваном шишки разбирают. А мне сидеть никак не терпится. Минуты три-четыре протянулись.
– Ну что, пошли, – говорю. И поднимаюсь.
– Да у тебя чё, шило в заднице-то, чё ли?.. Ещё успеешь, накидаешься, – говорит мне Виктор. И продолжает: – Кто спешит, тому глаз вон…
– Ага, – говорит Николай. – Придумал тоже.
– Ну, или ногу, – добывает Виктор тонким сучком из мундштука окурок, прячет мундштук в нагрудный карман энцефалитки. Говорит:-Ну, чё, сидят-сидят да и, на самом деле, ходят.
И пошли мы.
Верхушки сухостоин долговязых как в потали – солнцем тронуты, на нас оно пока ещё не светит – так всё ещё туман ему не позволяет. То там, то тут встречаются до основания разваленные медведем муравейники, развороченные им же трухлявые коряги – муравьёв, личинки ли муравьиные тоже искал в них – любит. Везде они, медведи-муравьятники, троп тут наделали. Иногда и мы пользуемся этими дорогами, пока попутно, идти по ним куда ловчее, чем в целик. Попадается заячий и лосиный помёт. Тропы лосей прямее, чем медвежьи.
– Зверишко держится, смотри-ка ты, – говорит Виктор. – С вертолётов-то не всех ещё чиновники пощёлкали… Пришли, не местные… тайга горела там… из-за Нс лени… На зиму вряд ли здесь останутся… хотя осиннику-то вон хватает. Корм есть. Спокою тут ему не будет только.
– Да, – говорю. – В прошлом году, ходили мы, так меньше вроде было.
– Матка тут с тогушем… понатоптали, – говорит Виктор. – Лежанки две вон… Ночевали. Ушли вот только что – парит ещё говно-то… Медведь за ними же пролаптил. Нас они, его ли испугались.
– Да, я заметил, – говорю. – На телёночка озарился.
– Чё?! – чуть не кричит, спрашивает Николай, голову разворачивая к нам способным ухом.
– Ничё. Иди… Какой ты любопытный… Не отдави мне только пятки, – говорит, не оглядываясь к нему, Виктор. – А то потащишь на себе, как волк лисицу… Или под мышкой, как свою оглоблю… Может, пока рюкзак возьмёшь мой?
– А?! – говорит Николай.
– Ага, яга и кочерга, – говорит Виктор.
Иду, успокаиваю сам себя мысленно: ну, уже скоро, дескать, скоро – так я мечтаю о рыбалке. И тут же думаю: и это ведь пройдёт, мол, – ох, прямо как по Проповеднику.
– Устал? – оборачиваясь, спрашиваю у Ивана.
– Да нет, – отвечает тот. – Пока нормально.
Вижу, что устал.
– Надо вон дядьку пропустить вперёд, пускай маленечко поводит, – говорит Виктор, задыхаясь. – Тогда уж точно все устанем, язык-то на плечо скоро вывалим.
– А?! Чё вы там?! – спрашивает Николай.
– Ничё, ничё, – отвечает ему Виктор. – Не про тебя мы… про рыбалку.
– Да знаю вас я, трепачей, – говорит Николай. – Грязноязыкие просмешники.
Сидит на самой вершине мёртвой лиственницы ворона – на всю округу каркает, как громкоговоритель, о нас всех жителей тайги оповещая, – сама по себе, дозорная ли.
– Снять бы её сейчас, – говорит Иван.
– Зачем?.. – говорит ему Виктор. – Пусть поёт, засранка музыкальная… С ней немножко вроде веселее… Зверя не скрадываем… Нам пока не от кого тут таиться.
Гарь тянется от Тахи километров на сорок, до села Маковского, острожка в далёком прошлом, тоже нынче уже вымирающего, и дальше, к Томской области. Но нам туда не надо. Сворачиваем мы к северу, в ельник, языками тут ещё какой остался, шелкопрядом почему-то обойдённый. Шагать им, ельником, гораздо легче.
Натоптан в нём, видим, целый тракт Владимирский – мох медведь на двух ногах, как человек, носил в охапке тут – обустраивает где-то здесь себе берлогу. Скоро заляжет, если ничто или никто ему не помешает. Большой, похоже, бурый. Шишек кедровых под елью, видим, немалая горка насыпана – тоже он, Топтыгин, заготовил. Шишки не трогаем – зверя не хочется сердить. И обижать – а то таскал, таскал откуда-то, пожалуй, издалёка – близко-то тут нигде не видно кедров, – старался, а мы возьмём да и своруем – некрасиво.
Начинаются распадки. Спускаться в них куда ещё ни шло, но вот взбираться – попотеешь. Нам-то и ладно, но для Виктора беда – задыхается, куряга. Идём тут медленнее.
Перемежается кое-где ельник мшалыми осинниками и негустыми соснягами. Вышли мы в один из таких сосняжков, на перекур остановились. Вспорхнули с земли рябчики – костянку, похоже, клевали, – тут же и расселись на сосёнке.
Азарт охотничий Ивана охватил – глаза, как у собаки, загорелись.
– Ну, иди, – говорит ему понимающе Виктор. – Да только двух, больше не надо. На двоих на нас по рябчику, и хватит.
Отошёл Иван. Стрелил два раза. Несёт в руках убитых курочек. Держит за лапки их. Аж будто светится – ещё бы – не промазал, не потратил зря патроны.
– Меткий, как Эрос, – говорит Николай – подтрунивает над племянником.
– Сунь их себе куда-нибудь… в карманы, – говорит Ивану Виктор. – Мы-то, парень, не потащим.
– Конечно, – говорит Иван. – Может, ещё?.. Чтобы по рябчику.
– Нет уж, не надо, пощади… оно ж шевелится… живое…
Посидели, отдохнули. Пошли дальше.
И в гарь стараемся не выйти, и к Taxe опасаемся приблизиться – ещё по старицам там гибнуть.
Так и идём ровным и чистым ельником.
Тумана нет уже, поднялся, сделал-таки выбор. В лесу прояснило, видать теперь далёко. Небо радует сквозь ельник – по краям оно густое, синее, а ближе к солнцу жиже – голубое. Мало-помалу, но теплеет – руки стали согреваться. Иней на солнце сразу в капли радужные обращается, и те пылают многоцветно. Светлые облака пятнают ярко мироколицу – наскоро, как попало, бывший туман в них смяло ветром верховым, – несёт их встречь нам; рыхлые, сонные, ещё как будто не одумались.
Движемся мы, не так быстро, может, как бы мне хотелось, движется и время: пора пришла и третьему привалу. Выбрались мы на ялань, где солнышка больше. От ноши освободились. Пар от нас, как от бежавших долго лошадей, исходит. На вывороченной с корнями когда-то бураном или ураганом старой толстой берёзе расположились, отдохнули; я, как школьник, непоседливо; шагать мне легче, чем сидеть, хоть на ходу и плечи рюкзаком и каном натянуло уже крепко – ноют; отдыхать я не умею. Поворчал на меня за суетливость мою Виктор и говорит, кряхтя, с берёзы поднимаясь:
– Дурная голова ногам покою не даёт… ещё своим бы только, ладно бы.
А Николай и Ваня – те на меня лишь поглядели, но так, будто один из них, старший, рублём меня одарил, а другой, младший, – полтинником.
Пошли мы дальше.
В мочажину чуть не углубились было – Taxa, значит, где-то рядом; перекат шумит, и тот, остановились, замерли, так слышно – недалёко. Выходить нам к речке ещё рано. Двинулись левее. Идём в этом направлении уже больше часа. Гарь впереди – широко просвечивает через ельник – слевили лишнего мы всё же. Не надо в гарь нам. Прямо на запад повернули. Вышли вскоре в верховье ручья. Могли бы и промазать, тогда до Тахи и до вечера бы не дошли мы. Вниз по ручью спускаться стали. Старый охотничий тёсик заметили. Драл кто-то тут же бересту когда-то. Ну, значит, где-то совсем близко. Видим – избушка. Наконец-то. Поставил её, полуизбу-полуземлянку, когда-то промысловик-охотник Маслов – тёсик его, и бересту драл он же, – ездил зимой тут на «Буране». Сам он, Маслов, давно уже умер. А избушка завалилась – и не войдёшь в неё – так скособочилась. В сенцах матрас висит на жердочке. Валяются кругом худые чайники, банки консервные и щелочные батареи. В стену воткнут топор с истлевшим уже, серым, топорищем. У стены стоит канистра из-под керосина – негодная – проржавела. На низкой, провалившейся кровле лежат скрюченные черёмуховые удилища с леской и с обманками, без грузил и без поплавков. Место тут хоть и тёмное, за солнцем, и от ручья сильно тянет сыростью, но для привала краткосрочного достаточно удобное: и сучьев для костра полно, и есть где посидеть, на чурках, вместо стола буржуйка с прогоревшими боками, когда-то выброшенная из избушки. Тут наш табор, наш таган. На подоконнике выдавленного покосившимся срубом оконца красуются бутылки из-под водки – наши – никто их тут так с прошлого захода нашего и не коснулся – разве что бабочки – манили яркие их этикетки. В бутылках дохлые муравьи. И чего они туда набились?
Глянул бегло на бутылки Виктор, пробурчал, снимая кан с себя, а после и рюкзак, и опуская их на землю:
– Всяка слава человеча, яко цвет травный… Осподи, – и добавляет: – Здесь был Вася, – и говорит: – Напил ты сколько, Николай. – И позже чуть, вынув из нагрудного кармана энцефалитен ручные часы на шнурочке и изучив их не спеша и щурясь: – Ну вот, ребяты-акробаты, четыре часа и пятнадцать минут… Бревно, конечно, задержало нас, так-то бы раньше…
– Ага, бревно! – говорит Николай, кивая на меня. – Это вот он, говнюк, перед концом уже тут, упорол так к югу… Давно бы чай уже сидели пили.
– С тобой бы были мы сейчас на Суетке, на ней, поди, и чай сейчас бы пили, а то и вовсе бы на Тые, – отвечаю ему я.
Суетка тоже приток Тын, как и Taxa, тоже левый, только верхний.
– Ага. Это уж точно. Или назад по кругу бы вернулись, – говорит Виктор. – Минут пятнадцать тут, конечно, потеряли.
– Вы ж болотины испугались, я и слевил там, – оправдываюсь.
– Точно никак не можем выйти, крючочек маленький да сделаем, – говорит Виктор. – Ну, всё нормально, слава Богу.
Мы не ругаемся, а шутим. Настроение у нас прекрасное – почти у самой цели. А тут ещё… и выпьем скоро.
Вытряхнул я из одного из котелков на землю кедровые шишки, спустился с ним к ручью и, сполоснув его от налетевшего в него лесного мусора, набрал воды, вернулся после к табору. Николай принёс хворосту и берестину. Виктор развёл костёрчик, повесил над ним котелок с водой и занялся продуктами. Так вот распределены между нами обязанности, сложилось так вот. Иван сидит на чурке, с ружьём на коленях, – совсем уморился. Из карманов его куртки торчат хвосты убитых им рябчиков.
Вода скоро закипела. Заварил Виктор чай. Подстелив, вместо скатерти, большой целлофановый пакет, разложил на буржуйке помидоры, яйца варёные, сало солёное, хлеб, лук репчатый, огурцы, чеснок, домашний сыр и зелень разную.
– Ну, чё стоите?.. Как в гостях. Доставайте свою тару, – предлагает он нам после.
Вынули мы из рюкзаков кружки. Поставили их на буржуйку.
– Прошу к столу… то как не дома, – говорит Виктор. – Плоть утучним свою маленечко, а то ослабла.
Присели мы на чурки вокруг стола.
– Ну, чё… Господи, благослови… надо, наверное, «Для храбрости» немного тяпнуть… то без неё, без храбрости-то, как-то плохо, всё то чего-то, то кого-то и боишься, то беззакония, то зверя, то просто тень от птицы промелькнёт, а у тебя и сердце уже в пятки, – говорит Виктор. И говорит: – А Николай, поди, не будет, и так отважный, как Аника.
– Ага, не буду!.. Буду! – говорит Николай.
– Какой ты всё же неуёмный, – говорит Виктор.
– А ты как думал, – отвечает Николай.
Разлил Виктор по кружкам.
– Ну, – говорит, – вздрогнем. Пусть нам бабай помехи не устраивает.
– Да, – говорит Николай. – Пусть нас пока он сторонится.
– Какой ты дёрзкий.
– Да, такой вот.
Чокнулись мы. Выпили. Закусываем. Аппетитно.
– Холодная, – говорит Николай.
– Не пей, – говорит ему Виктор. – Нам больше достанется.
– Ага!
– А чё куражишься тогда?
Снял Иван шапку, поставил в неё кружку с чаем, так, через шапку, и придерживает кружку – горячая; на нас поглядывает, на кружку дует, отпивает помаленечку – чай ему нравится. Ещё бы.
– Сразу тепло пошло по телу, – говорит Николай и улыбается – хмелеет быстро.
– То ему холодно, а то тепло, – говорит Виктор. Виктору много надо выпить, чтобы запьянеть-то. – Пошло, пошло… однако вроде недостаточно.
– Хватит! – говорит Николай.
– А мы с Сергеем, – говорит Виктор. – Тебе никто не предлагает.
Свинтил Виктор с другой поллитровки «Для храбрости» крышку, налил себе и мне, глядит на Николая.
– Наливай! – говорит Николай.
– Тебе же хватит, – говорит Виктор.
– Наливай, кому сказано! – велит Николай.
– Страшно. Боюсьещё, – говорит Виктор. – Придётся подчиниться. Храбрость во мне пока ещё не поднялась, не подоспела.
Выпили мы и по второй. Теперь чаёвничаем.
Благолепно. Птицы вовсю распелись что-то, расчирикались – перед ненастьем затяжным как будто, вроде не похоже, – воздух колется от шума – так звонко. Глухарь проследовал куда-то – прохлопал крыльями, – Иван и стрельнуть не успел в него – так неожиданно и быстро прогремел тот мимо.
– Старый, – говорит про глухаря Виктор.
– Наверное, – говорит Николай.
– Как фуфайка пролетела, – говорит Иван.
– Похоже, – говорит Виктор. – Чё не стрелял-то?
– Растерялся.
– Ну вот, так и медведя проморгаешь.
Шебуршат в траве непоседливые мыши – трудятся, бурундуки совсем близко, чуть ли не под ноги нам, к нашему табору подскакивают – разузнывают: кто да что и что тут делают?
– Храбрые, – говорит про них Николай.
– Что ты, – говорит Виктор. – Как мы теперь, такие же… Хорошую купил ты, парень, водку.
Дятел гулко стучит по сушине.
– Долбит, – говорит Виктор. И говорит: – А небо синее-то… как собака.
Солнце сквозит через сосняк – ласковое.
– Тебе, Иван, чё бабушка наказывала? – спрашивает Виктор у Ивана.
– Следить за вами, – отвечает тот.
– Следишь?
– Слежу.
– И молодец. Нельзя бабушку ослушаться. Но мы пока не балуемся вроде?
– Да вроде нет.
– Следи, следи, а то накуролесим… Мы-то с отцом твоим, может, и нет, мы смирные, ну а вот дядька твой на всё способен…
– Поговори мне тут!
– Какой ты невоспитанный.
Отобедали мы. Чаю только кружки по три выпили – так разохотились. Покурил Виктор, сладко затягиваясь, чуть ли не до чурки, повыдыхал вверх голубой и густой дым со свистом и протяжно. Посидели с ним, с курильщиком, мы за компанию. Собираться после стали. Не поместились наши новые, пустые-то уже, бутылки с красочными этикетками «Для храбрости» на подоконнике, поставил их Николай прямо на землю под оконцем, отступил шага на два, полюбовался сделанным и говорит затем сбивчиво:
– Ну, теперь до следующего, Бог дозволит если, раза, – как одинокую лесину на ветру, его мотает. – Чтобы сюда ещё когда-нибудь вернуться…
– Штормит, что ли? – спрашивает Виктор.
– Да! – отвечает Николай. – Штормит маленько.
– Да чё-то, вижу, не маленько… Поаккуратней бы топтался, а то кого-нибудь задавишь.
– Не задавлю, не беспокойся.
– И не почувствуешь… в своих бахилах-то…
Собрались. Проверили, что не забыли ли. Ну, дескать, с Богом. С Богом, мол. И тронулись.
Перебрели, поскрипев донной галькой, журчащий и сверкающий ручей. Поднялись на взгорок. И мы идём живее, чем до перекура, и деревья мимо нас теперь проворнее мелькают, а то совсем едва уже передвигались. Только вот сучьев, кочек да колодин под ногами стало больше попадаться, что ли: нет-нет, да и завалится кто-то из нас троих, запнувшись. Иван – тот более устойчив – тот, только с чаю-то, не падает. «Нашёл что-то?» – спрашиваем упавшего. «Нашёл!» – отвечает упавший. «Держи крепче, не вырони», – говорим. И нам весело, и Ивану забавно. И день – ни облака нигде не видно.
Taxa здесь совсем рядом, напрямик до неё от избушки метров двести, вряд ли больше, но на прямом пути тут старица глубокая имеется, в которую ручей этот и втекает, и мы её обходим редколесьем минут десять, а после до этого же места сплавляемся почти целый день, сегодня-то уже не доплывём, конечно, такие речка тут колена делает.
Выходим, радостные, гоготливые, как гуси, на высокий и обрывистый рыжий яр, в который уже раз по-приятельски приветствуем голубеющую небом и пылающую солнцем внизу Таху, нашу скромную любимицу, ищем, где к ней удобней было бы спуститься и где есть возле воды хоть небольшая каменистая или песчаная косица, на которой можно было бы расположиться временно, чтобы накачать лодки и приготовиться к отплытию.
Находим место подходящее. Спускаемся, стараясь не сорваться в речку, – и потому что яр крутой, и потому что ноги… ну, понятно.
Душа ликует. У воды мы.
Николай и Иван начинают хлопотать над лодками и над манатками, распределяя по мешкам их. Виктор раскладывает телескопическую удочку и, закурив, принимается тут же рыбачить на хариусов – не терпится, похоже, и ему. Я оставляю всё лишнее, что не понадобится для ужения мне, возле лодки, на которой поплывёт Иван, засовываю незаметно для Николая и Виктора в опроставшийся вещмешок Ивана канистрочку со спиртом, беру с собой свои пустые кан и рюкзак, кладу в рюкзак удочку, разбираю спиннинг и приступаю с трепетом к блеснению.
И полетело время. Будто в пропасть.
* * *
Перепробовал я почти все имеющиеся в моём походном арсенале приманки, от всевозможных, покрупнее и помельче, тёмно-серых, светло-серебристых – на зелёные, на синие или на красные, словом, на экзотически-тропические, кислотные, здесь и пытаться бесполезно, потому что живности такой окраски в Taxe не встречается, какой дурак тут на такое клюнет, разве цвета не различающий, но на такого с ходу-то и не наткнёшься, – и прозрачных, как медуза, твистеров и виброхвостов до различных блёсен, как колеблющихся, так и вращающихся, и как жёлтых, так и белых. У тайменя жору нет. Это не только явно, но и к сожалению, да ничего однако не поделаешь.
Безрезультатно покидал я и сделанную из медвежьей шкурки мышь – и за ней никто пока не вышел. Ближе к сумеркам какой-нибудь и соблазнится, может. С берега в светлой, как слюда, воде видно, как он, таймень, преследуя приманку, близко ко дну проносится за ней до самой отмели, но не хватает. Не было б видно их, подумал бы, что нет тут никого, решил бы, что пустая речка. Зато уж щука – как акула. Той сейчас гайку предложи, и ту проглотит. Но лучше всего подгодилась блесна «чёрноспинка». Убрал я остальные все в рюкзак, её только оставил. Ох, и уловистая оказалась.
Поймал я уже несколько щук – как злые псы из-под воротен, на блесну-то, как на кошку, вылетают – штук семь или восемь. Особо крупных не попалось. Средние, по таховским меркам. Самая из них большая килограмма на четыре, может, так, примерно. Безмена мы с собой не носим – не пижоны. На глазок всё, приблизительно. Где немножко, может, и прибавишь, сам себя обманывая, теша, – да ведь дело-то рыбацкое – простительно. Зато уж жирные. И цветом – светло-золотистые – красивые, хоть отпускай обратно в реку их, да не хватает духу, руки прилипают. Самая вкусная щука в нашем околодке – это таховская – от воды, от корма ли, не знаю. И в ухе, и засолённая. Сошло три или четыре – жалею. Но: «Не наша, значит, – говорит обычно Виктор в таких случаях, – а Саньки Ларина, его». И ладно, можно и с Санькой поделиться. А сходят если, якорь надо подострить, и подточил его алмазным надфилем я. После проверил на ногте – как язва.
Иду я, протискиваясь – ладно трава уже поникла, всё же легче – сквозь тальниковые, ольховые или черёмушные заросли, по берегу, а то по отмели вдоль берега, но мелких мест у берега на Taxe мало, к неудобству. А берега почти везде крутые и высокие, только козлу по ним и лазить бы. Но вот иду я и ругаюсь, порой и матом, грешным делом – всё зол глагол и вырывается невольно, – но тотчас каюсь, правда, толку-то, коль тут же, через шаг-другой, и повторяюсь, помилуй, Господи, меня, такого слабовольного. Мал уд, язык, как говорится, да немалый пакостник.
Омута и перекаты я прокидываю быстро – заброса по три, по четыре делаю, не больше. Если жор, таймень, и та же щука, где стоит, сразу, на первый же шлепок, и вылетит, а жору нет, так уж ничем, хоть закидайся, их не выманишь, так что подолгу и блеснить на одном месте – время только тратить. Это когда уж его, время, надо скоротать, так и кидаешь, но только так, ради шлепка, а на поклёвку не надеясь.
Моих товарищей не видно и не слышно. Приотстали. Дольше, чем я, они все закуточки прорыбачивают – что и понятно – хариуса на плёсе, когда он не играет и не плавится, надо ещё найти да и наживку подобрать – не так-то просто. А далеко нельзя нам отрываться друг от друга: тайга всё-таки – случиться может всякое, со мной ли, с ними ли. Сел на бревно я – вынесло весной его на берег. Сижу. Лицом к солнцу. Глаза закрыл. Дожидаюсь. Ох и чуден мир Твой, Господи, и чуден же. В нём, в этом мире, будто растворяюсь.
Долго ждать приходится. Не терпится мне. Достаю я из рюкзака удочку, разбираю её и пробую поймать хариуса, насадив червя на оловянную мормышку. Плёс широкий – весь не обкидаешь. Выдернул двух, друг за другом сразу взялись, граммов по пятьсот оба, ровесники. Кан уже полный, положил в рюкзак их. Берёт хариус красиво, одно удовольствие на него охотиться. Чуть прозевал, и упустил уж. И клевать на этом перестало. Собрал я удочку, спрятал её в рюкзак. Сел на бревно опять. Жду. Но до чего же это утомительно.
Едва – извёлся я уже – всё же дождался.
В глубоком створе между берегами, густо поросшими тут кедрами и пихтами, просвистели мимо меня, отражаясь в воде и повторяя на лету безошибочно все изгибы реки, четыре утки, кряквы, как предвестницы, спугнутые со старицы, что кривуном только повыше, никем другим, а, явно, рыбаками, пронеслись, как будто примерещились, – почти как пули. Минуты через две-три после вижу, катит волна вниз по реке, веточки, хвою лиственничную и листья, всё, что само нападало, ветром ли нанесло в неё, толкает.
Слышу, бормочут – звук над водой разносится, как по туннелю.
Ну, наконец-то, думаю, плывут ребята.
Появляются из-за поворота сначала удилища, одно чёрное, телескопическое и – как антенна, а другое – светло-жёлтое и – как грот-мачта; затем – и сами рыбаки.
Виктор с Николаем, вытесняя из берегов Таху, дрейфуют первыми, по-флагмански. Иван – почти впритык – за ними. Виктор сидит в носовой части, успевает, удочку забрасывает да вытаскивает, вдруг где да клюнет, а Николай – в кормовой, оба лицами по ходу. Под Иваном лодка по воде скользит легко, как пёрышко, а под ними – будто баржа перегруженная, чуть не под самый краешек потоплена – тяжеловесы. Улыбаются. Иван серьёзный.
– Мужик, ты кто?! – заметив на бревне меня, кричит мне Виктор.
– Дед Пихто! – отвечаю.
– Оно и видно… Дед Пихто… Не уходи! – говорит Виктор. – Клёв чё-то, когда начали, был вроде и ничё, а тут испортился, поправить надо!
– Чё так отстали? – спрашиваю. – Ждал вас столько.
– Рыбу ловили!.. Чё отстали… Мы не гулять сюда приехали, – говорит Виктор. – Да, Николай?
– Да! – подтверждает Николай.
– Лодку опять, наверное, порвали – клеили? – предполагаю.
– Да нет, парень, пока ещё не успели… Успокойся.
– Я не волнуюсь… Не знал бы вас, переживал бы, может. Всё впереди ещё… успеете.
– Вот это верно, – говорит Виктор. – Это правильно. Душу-то чё терзать заранее. Повода нет пока… но будет, обещаем… Все рифы наши будут, с нашим капитаном.
– Молчи.
– Молчу.
Причаливают они к галечному мысочку, на котором комлем и бревно моё находится, выбираются из лодки грузно, как тюлени, прохаживаются по мыску, как кулики, ноги, хрустя камнями, разминают.
– Затекли.
– Ага. Не разогнуться.
Кряхтят оба, старики будто.
Лодка их выправилась – отдыхает.
– Привяжи, – говорит, закуривая, Николаю Виктор. – Не унесло бы, – выдохнул дым. И говорит: – Я ведь за ней не побегу, – и подбоченился, – её ловить-то.
– Не унесёт, – говорит Николай.
– А если?..
Вытянул Николай лодку боком на мысок.
– Доволен? – спрашивает.
– Так-то лучше… Надо маленько, поди, выпить, – говорит Виктор. – Чё-то клевать вдруг перестало… А Николай не будет, он не заработал.
– Ага, не буду!.. Заработал!.. Один мой харюз всех твоих заменит.
– Какой ты, парень… и не знаю… самонадеянный, однако. Плывём, Сергей, он всё и огрызается… да так, со злобой… Как не зашиб бы, опасаюсь. Сижу, терплю, уж не перечу. Сзади-то угостит по голове своей орясиной и за борт… как Стенька бабу. Народился молодец – Стенька Разин удалец.
– Раз плюнуть.
– Во, анычар… Сергей, ты слышишь? Ну, у тебя и брат, однако, – говорит Виктор. Окурок из мундштука вытащил, мундштук в карман убрал. И говорит: – Ведомо Томке, что у нас в котомке. – Достал из мешка бутылку с самогонкой, нарезал на вёселках – на одном – хлеба, на другом – сала. Выложил на них же лук и помидоры. – Ну, не во вред бы, а во здравие… А то клевать, на самом деле, плохо стало.
Выпили мы по очереди из одной, дежурной, кружки, чтобы другие не искать, не мешкать. Закусили.
Вроде и солнышко слепить ярче сразу стало. В Taxe вода иначе вроде заструилась. И кровь в ушах на перепонках заиграла – как на барабанах.
Иван из лодки так и не выбирается, сидит в ней, за свисающий над речкой куст ольховый ухватившись. На нас весело смотрит. Тепло – без куртки и без шапочки он.
– Следишь? – спрашивает у него Виктор.
– Слежу, – отвечает.
– И правильно, – говорит Виктор. – Родина поощрит, а бабушка похвалит. Доложим.
Николай молчит, лишь ухмыляется – уже хороший.
– Он меня из лодки удилищем чуть своим не выпихнул, Сергей, как щепку, – жалуется Виктор. – Харюзишко у него там клюнул… крохотный… с мизинец.
– Ну да! – говорит Николай, языком заплетая, – с мизинец… «Дядя» был – ого! – приличный.
– Ага, приличный… с поплавок. Не с твой, твой-то ничё ещё… убить им можно… с мой вон.
– Молчи!
– Молчу… И как тебя жена-то не боится?
– Не помешал бы, я б его поймал.
– Нашёл виновного… Руками ширить меньше надо было… Он поймал бы.
Возлежим мы прямо на гальке, на осеннем солнце млеем, от воды в глаза осколочно сверкающей жмуримся, как воркует она, слушаем. Хмель на носу у нас сидит и ножки свесил – так у меня по крайней мере – не стряхнёшь его, не сгонишь. По чаще-то с ним полажу, сам слезет.
Закурил опять Виктор, на локоточек отвалился; пускает дым в безоблачное небо, его, как птицу, взглядом провожает.
– Душа, – говорит, – растопырилась.
– Да, – говорит Николай. – Как коршун в небе.
– Красотиш-ша… Всю жизнь на Taxe бы и прорыбачил, – говорит Виктор. – Тут бы и помер. Птички бы отпели.
– Вороны.
– Пусть бы и вороны… тоже певчие.
– Пойду, – говорю.
– Ага. Иди, иди, – говорит Виктор, – то не успеешь. А мы не будем торопиться. Да, Николай?
– Да! Нам не к спеху… Клёв не исправился ещё.
– Сообразительный какой ты.
Оставил я им пойманную мною рыбу, чтобы не бить её на ходу в рюкзаке и в кане и чтобы с нею не таскаться, посмотрел, сколько они уже поймали.
– О-о, – говорю.
– А ты как думал.
Показал им свою.
– О-о, – говорят.
– А вы как думали.
Пошёл.
– Догоните?
– Кто знает? – говорит Виктор. – Может, и нет, а может, и догоним… Если до устья не учапаешь… Не убегай далёко-то, клёв вдруг опять поправить надо будет.
– Ладно.
Пошёл я. Рыбачу. Слышу вскоре, насос сзади захрюкал: лодка у них, наверное, чуть подспустила, так подкачивают.
А клевать вот и на самом деле лучше сразу стало. И всегда так, давно нами уже замечено: не клюёт, не клюёт, остановимся, «горькой радости, – как Виктор выражается, – на грудь маленько примем», и, как бы кому ни показалось это странно, клёв почему-то тут же улучшается. Такое дело вот, а в чём оно, не знаю. Субъективная тому причина, объективная ли, непонятно… Так вот, и всё, и ничего тут не попишешь. Таймень браться начал, пусть и вяло, но всё же: ожидания азартного добавилось – а вдруг да вылетит, а вдруг да схватит! – каких ни разу не ловил ещё – дурак замшелый… Выдернул я двух, не крупных, правда, килограмма, может, по два. И то дай сюда, как говорит Виктор, не Саньки Ларина, значит, а наш, мол, обойдётся Санька Ларин. А уж тянуть его, тайменя, когда схватит, восторг и только, покуда вытащишь, поводишь, и слабины чуть только дашь, он тут же твою блесну с якорем-тройником выплюнет – как так умеет?
Иду по берегу я, как чумной щенок, вихляю – косо подо мной земля повёртываться что-то стала, – а то и падаю, да хоть не в воду, тихо радуюсь, и то, мол, ладно, но и туда, в речку, один раз чуть было не угодил, успел зацепиться за пихточку, не то бы махом остудился. А тут ещё и бобры, горячо мною проклинаемые, тальник нагрызли, оставив от него повсюду острые, невысокие колышки, – и за них, за колышки, в траве-то жухлой, запинаюсь, сапоги об них порвать боюсь, не одну пару уже из-за них, из-за грызунов, пришлось выбросить. На бобров ворчу, иду, ругаюсь.
И произошло тут со мной вдруг что-то незаурядное и непостижимое.
Стал я облазить глубокую курью по крутому, чуть ли не отвесно подмытому в разлив берегу, почти уж на него вскарабкался, за один из обнажённых, свисающих по откосу и похожих на верёвки узловатые корней ольховых ухватился, начал на нём подтягиваться было, но он возьми да и сломайся, ну а вернее-то, порвись – и полетел я вниз спиной, держа крепко в одной руке спиннинг, в другой – обрывок корня злополучного; и молча. Лечу, стремительно удаляющуюся от меня вверх, напуганную будто, мшистую, кривую кромку охристого яра и словно вонзающиеся вершинами в погнавшееся тут же за мной как будто небо голубое пихты вижу, ещё и думаю при этом моментально, хоть бы в курью-то не свалиться, и чувствую, как остановило меня вдруг что-то прямо в воздухе, встречной струёй как будто сильной задержало, и отшвырнуло в сторону от траектории падения. Мягко шлёпнулся на глину. Поднялся. Смотрю, торчит рядом из глины – как раз там, куда я должен был упасть – остро состроганный бобром пенёк таловый. Мгновенно в пот меня прошибло. Наживился бы я на него, на кол этот, как на пику. Не по себе мне сразу стало; протрезвел. Но что спасло меня, и до сих пор в ум не возьму, не знаю. Что или Кто-то? Удивительно.
Мир для меня вдруг по-другому зазвучал, иначе засветился – чётче, словно только что его ополоснули и протёрли. Стою. Прислушиваюсь, озираюсь – и слух и зрение как будто разом обострились. Детство вдруг вспомнилось – те ощущения и впечатления, уже, казалось, и забытые, – ясно, пронзительно – как повторились. Чувствую острый холодок спиной: люта смерть грешника – представилось – что даже нервно передёрнулся. Но что же всё-таки со мной случилось только что? Не знаю. Не знаю, что, но вот что мне открылось: жить-то как хочется – так хочется, как иногда, в какие-то моменты, помереть – примерно, так же – до захлёбу.
Дальше я не пошёл – быть одному мне сделалось тоскливо вдруг, так что и сердце даже защемило, как от утраты горькой, от дурного ли приобретения. На длинный, шумный перекат, что под курьёй, косой её пониже, выбрался. Хожу по нему, по перекату, где позволяет глубина и где течением не сносит, рыбачу без всякого интереса на хариуса, оставив на берегу кан, рюкзак и спиннинг. Ловится мелкий, белячок, крупный уже в плеса спустился, стал на ямы. Какого вытащу, и отпускаю его тут же, не умиляясь самому себе, а – равнодушно. Ноги в коленях у меня трясутся – после падения ещё не очурался, ну а точнее, оттого, что при падении со мной произошло, чем ли могло оно закончиться – от этого, быть может. Дожидаюсь я своих товарищей, теперь уж терпеливо.
Грустно, что день тут, на рыбалке, пролетает как мгновение. Быстро на Taxe вечереет. На глазах прямо меркнет. Видно, присмотришься, как тени лавой расползаются, густеют; как редеют и тускнеют блики на воде и в хвойных кронах елей, пихт и кедров, на их стволах, к реке наклоненных, на них же, на стволах, но отражённых. Смолкают птахи в ягодных кустах, перепархивают в них почти беззвучно – ветки выбирают поудобнее для отдыха, место подыскивают поукромнее. Небо, с косым, андреевским, крестом на нём от самолётных выхлопов, пока, хоть и немного забледневшее, но ещё светлое, там, наверху, на сопках, бронзовых от солнца, пусть и к исходу он, но ещё день, а здесь, в глубоком, узком створе, уже смеркается. Самое время останавливаться на ночёвку, а то совсем, глядишь, стемнеет.
Тем же, чем и я, похоже, озабоченные, скоро и те, кого я поджидал, в речной излуке показались – рыболовная флотилия, и только, флага, правда, не хватает, один флагшток – сосновое удилище.
На перекат не стали выплывать, поближе к берегу курс держат. Громко меж собою разговаривают – только что встретились как будто, день минувший обсуждают – так про них подумать можно вчуже. Взбудораженные. От рыбалки, от чего другого ли.
– Эй, на фарватере! Мужик! – улыбаясь во всю ширь своего трое или четверо суток небритого, издали-то, будто углём натёртого, намазанного дёгтем ли, лица, кричит мне в шуме переката Виктор. – Мы, грешным делом, думали, что ты уже на пасеке и медовуху с братом попиваешь там! Еле тебя догнали, парень! – и уже тише что-то Николаю.
– Не успел! – кричу и я им с переката. – Ну а вот вы, по брату вижу, не зевали!
– А как же! – отвечает Виктор. – Клёв-то маленько надо было поддержать! Не плыть же, парень, вхолостую! Да, Николай?! А ты удрал куда-то и с концами! Звали, звали, звали, звали… Как сквозь землю провалился! Пришлось вдвоём уж дело исправлять! Но, не волнуйся, – продолжает, – око да око тут: Иван за нами строго наблюдает! Так или нет, Иван!?
Тот головой в ответ кивает: так, мол.
– А Николай сказал: больше не буду! Его уже любой клёв, совсем хоть никакой, устраивает! Дак чё! Ты помаши таким-то стягом…
– Молчи!
– Есть! Слушаюсь!
– Лодку порвали всё же – клеили? – спрашиваю я, когда они подплыли ко мне ближе.
– Было. Маленечко порвали, – отвечает Виктор.
– Молодцы.
– Стараемся… Как же иначе?.. У нас иначе, парень, невозможно. Если у рулевого одна зенка на чужую Ленку, а другая на свою коленку.
– Ага, а сам-то! – возражает Николай. Кепка, как у рэпера бейсболка, козырьком у него на затылке. – Сам-то трезвый?!
– Мне-то ладно – я не правлю.
– Скоро совсем дорвёте лодку. Как мне, по берегу и вам скакать придётся, – говорю. – Вряд ли понравится.
– Ну, до этого дожить ещё надо… Место нашёл? – спрашивает меня Виктор.
– А чё его искать, – говорю. – Вон в пихтаче и заночуем.
– А дров там хватит?
– Наберём.
Вышел, бурля водой, я с переката. Поставил, не складывая её, тут же, к кустам, свою удочку: завтра с утра и порыбачу.
Уже и все на берегу. Топчутся. Прохаживаются: долго, наверное, не покидали лодок.
– Не сломай, – говорю я специально для Николая, указывая ему на свою удочку.
– Это мы можем, – говорит Виктор.
– Не сломаю! – говорит, покачиваясь, Николай.
– Какой ты резкий.
Улыбаются.
– Ну, как рыбалка?
– Замечательно. А как у вас?
– У нас нормально… Поправляли ж.
Шурша галькой и подмяв прибрежную осоку, выволокли Николай и Иван лодки на камешник, вытащили из них всё наше походное имущество, какое находилось в них, и каны с рыбой, составили всё это кучно в одном месте, перевернули после лодки. Лежат те вверх днищами – как небывалые тут черепахи будто выползли на нерест. На моей, гляжу, заплата новая, большая, среди старых, многочисленных; скоро уже и ставить будет негде, вот печаль-то.
– Ну, вы даёте, – говорю.
– Уж как можем. Стараемся, – говорит Виктор. Стоит он, как франт перед фотографом, отставив одну ногу в развёрнутом болотном сапоге и подбоченившись, уже и курит. Энцефалитка у него спереди вся мокрая, сверкает рыбьей чешуёй, как блёстками на новогодней ёлке.
– Хоть уж не так бы, – говорю, – старались-то.
– Иначе совесть нам не позволяет.
Николай, Иван и Виктор, захватив с собой ружьё, топор, провизию и тёплую одежду, упакованную в прорезиненные, непромокаемые мешки, а также котелки с водой, переговариваясь и подсобляя друг другу, взобрались на веретию.
Я остался возле лодок потрошить и засаливать рыбу.
Дымком оттуда, сверху, скоро потянуло, к речке стремится тот, дымок, как жаждущий, над нею, лентой извиваясь, стелется – Виктор костром уже занялся, значит, временным, для варки. Трещат там, грохаясь, одна за другой лесины-сухостоины, стук топора доносится сквозь монотонное роктанье переката – дядя с племянником дровишки заготавливают. Много их, дров-то, нынче надо – ночь не парная да и долгая – не лето.
Вода студёная, едва не ледяная. Пока потрошил и подсаливал рыбу, задеревенели у меня руки, красными сделались, как лапы у гуся, а стал споласкивать их, ничего уже почти не чувствуют, пальцы не гнутся, будут болеть, когда начнут отогреваться, ну да ладно.
Наполнилось рыбой четыре кана – килограммов тридцать, тридцать пять, не больше, но и на том мы несказанно благодарны, слава Богу, и спасибо Taxe – кормит.
Поставил я каны, закрыв их плотно крышками, рядком на приплёсок – никто их тут, поди, не тронет. Печень щучью и икру хариусинную, пробросив солью – после сюда ещё добавим чесноку и перцу, – перемешал ножом в специально для этого и приготовленном капроновом ведёрочке, подался к табору.
К костру приблизился, стою возле него, отогреваюсь. Продрог, вспотевший-то и мокрый; треплет меня, как в малярийной лихоманке.
– Озяб, – и не спрашивает, а отмечает просто Виктор – варкой занят.
– Да есть маленько, – подтверждаю.
Он, Виктор, уже и суп с рябчиками пробует, пряности в него опускает.
– Почти готово. Чуть ещё попреет.
Слюнки текут.
– Скорее бы.
Николай с Иваном дровами ещё занимаются. Натаскали уже гору целую. Уйдёт всё за ночь. Ещё и хватит ли?
– Санитары, – говорит про них Виктор. – Скоро по берегам-то тут на лисопеде ездить можно будет – хлам весь спалим.
Совсем уже стемнело.
– Ну, вот, – говорит Виктор, снимая с палки котелок. – День и пролаял, как собака.
* * *
Меркло пламенеет, кое-как, как лапами густой кисель черничный угодившая в него оса настырная, едва и временно справляясь, наш костерок расталкивает темень плотную, тугую, да той так много, космос целый, не помоги ему, скоро она его осилит; ну, помогаем помаленьку, подбрасываем в него понемногу, чтобы совсем-то не угас, но чтобы очень и не разгорался; пощёлкивает он, костерок, негромко и однообразно, как будто давит рядом кто-то, слабоумный или одержимый, озабоченный ли чем-то, упаковочную пупырчатку, пупырьки её расплющивая пальцами, – похоже. Но уютно. Тут, под древними и толстыми, как столп Александрийский, кедрами, словно в курной избе, с распахнутыми будто бы на всю пяту для лучшей тяги окнами и дверью, дым в которые и выволакивает к Taxe. Согрелся я, уже не треплет меня лихорадка, отступила, и зуб на зуб попал – сомкнулись наконец-то, барыню не отплясывают, джигу не играют, ещё вот только резь в руках не унялась, ежа как будто в них поймал, сжимаю, пройдёт и это. Сижу, на огонь бездумно пялясь, под одним из кедров, притулился к нему спиной, мощь его и возраст чувствую затылком и хребтом, к небесной тверди будто прислонился. И самолёт гудит, над нами пролетая, слышно. Там, в беспросветной мгле, не врезался бы в кедр сослепу, а то тут будет… Это про то, какой он, кедр, высокий: в кроне его уже не птицы прячутся, а звёзды, лучи под хвою маскируя. И Бог им в помощь.
Большой костёр, в целях экономии дров, мы пока не разводим. Ближе уж к ночи. Хотя у Николая руки уже, видим, чешутся. Впадает в детство: нагромоздить – он архитектор по профессии – и запалить собрался пионерский, а тут за справками уж только к Фрейду; с либидо что-то, сокровенное, плюс или минус. Любитель Николай устраивать в тайге иллюминации, хоть хлебом не корми его, дай только спички. Сколько у нас и у себя уже попортил он одежды, фейерверкер, всю не упомнишь, похода не было, чтоб что-нибудь да не сгорело, ну, на худой конец, не прогорело ли, не телогрейка, так штаны, а то носки или портянки.
Были мы тут же вот, на Taxe, года три тому назад, четыре ли, сжёг он, пока сушил, у своего резинового сапога подошву, ну и ходил после по лесу, словно француз, Березину в обратном направлении перескочивший, даже домой вернулся так, с леской подвязанной вместо подошвы берестиной; теперь и носит леспромхозовские, чем и доволен несказанно, чтобы прожечь, прямо в огонь их ставить надо.
Дрова-то, в основном, пихтовые тут да еловые – стреляют углями, словно шрапнелью, искры пускают во все стороны, словно бенгальские ракеты, – где же и уследишь, глаз если только не смыкать всю ночь, но где же выдюжишь, ещё под хмелем-то, уберегись-ка. Экстрим, и только. Боже, сохрани нас.
– Мужик, уймись. Разгорячился, – говорит Виктор Николаю, наклоняясь над парящим котелком и опуская в него из горсти репчатый лук, прямо в ладони у себя только что им и нарезанный мелко. – Всё… три минуты – и снимаю… До утра-то тут ещё натешишь свою душу… Дров на тебя и на огонь не напасёшься. Вот где беда-то. Тебе бы в поджигатели куда устроиться, ли чё ли, много бы денег получал, однако… как чиновник. Ты, Николай, как эти… на огонь-то молятся… не помню.
– Не отказался бы! Устрой, – говорит Николай. Выявился он у костра. – Место, где будем спать, чтобы прогрелось, – возражает. Исчез, опять его не видно. Вроде и протрезвел уже немного, сушняк-то повалил да потаскал коряжнику сырого, хмель из него чуть-чуть и улетучился.
– А чё тебе-то за забота?.. Интересно. Нет работы, вот забота. Кружки бы сполоснул вон… хлеб нарезал, что ли, – говорит Виктор. И говорит: – Спать всё равно тебе ведь не ложиться – будешь всю ночь бельё своё сушить… и сапоги вон… Земля и так сухая тут, под кедрами-то. Тепло сегодня, не замёрзнем.
– Тепло!.. Пока, – говорит Николай. Возник. Опять пропал куда-то. – Ну а под утро как ударит… – уже оттуда, где его не видно, доносится от него.
– Под утро, – говорит Виктор. – Дак до утра-то, парень, ещё долго. Испугался. Пусть ударяет. Впервые, что ли… Ударит если – в догоняжки поиграем – разогреемся. Уймись, уймись, неугомонный… Сядь… Пушкин зять… только таган не свороти, а то покушаем, пожалуй.
– На самом деле, Николай, – и я его пытаюсь убедить, – пока не надо. Потерпи. Потом уж. Дай хоть поужинать спокойно. То запалишь, а нам куда прикажешь расползаться?
– Куда… А в Таху… От огня-то, – говорит Виктор.
– Только что, – говорю. – После, поужинаем, и займёшься.
Так, чтоб чуть зримо было – костерок-то. Большой зачем сейчас? Совсем не нужен.
Унялся вроде – затих-то что-то. В кепке с пубовкой он, Николай, и в телогрейке стёганой, прямо на тело голое надетой, ходит он по мху и по кедровой палой хвое босиком, как дома по паласу. Борода у него всклокочена, глаза, как у лемура, круглые, мимо костра когда протопчется, так видно – страсть, а не зрелище – встретился кто-нибудь бы с ним сейчас случайно, посторонний, чувств бы лишился.
– Как снежный человек, – говорю я про него, про Николая.
– Ага, – говорит Виктор, – как этот… как его… учитель-то… Порфирий.
Молчит Николай, ответом нас не удостаивает – или не слышит, или не считает нужным отвечать нам.
Чудо-сапоги его, как крынки в Малороссии, сохнут на воткнутых им в землю кольях. На нижних, мёртвых сучьях кедра, как на поминальном дереве узлы-завязочки, висят его носки, портянки, майка и рубаха. Только что вот добавил Николай к ним и кальсоны.
– Теперь мы с флагом… как добропорядочные американцы, – говорит Виктор. – И за державу не обидно.
– Да! – говорит, промелькнув возле нас, Николай.
– Красота… Как в прачечной, – говорит Виктор. – Хоть от стола-то всё развесил бы подальше. Нам тут любуйся на твои… секретные.
– А дальше – как они тогда просохнут?! – отзывается откуда-то.
– Просохнут за ночь-то… дождя если не будет. А дождь пойдёт, то толку-то, что ты сушился. Один хрен, мокрый будешь с ног до головы, как зюзя. А чёботы твои, парень, не сушить надо, а обжаривать, – говорит Виктор. И говорит: – Ну, доставайте чашки-ложки. Воду на чай как, сразу будем ставить… или после?
– Да поедим, наверное, потом уж чай-то, – говорю. – А то, глядишь, и не понадобится.
– Нам, может, нет, дак вон Ивану-то…
– Чай пить на ночь детям вредно.
– Всё вредно, а жить особенно, но надо. Он уж не ребёнок.
– А ты повесь, пусть закипает…
– Давайте есть!., а то не терпится.
– Нетерпеливый ты какой-то… Наруби-ка, Иван, веток… пихточка вон, с неё маленько… чтоб не на голой-то земле… хоть тут и сухо.
Нарубил Иван веток. Принёс их к табору в охапке.
– Топор, где брал, туда и положи… Пусть будет на виду, чтоб не искать, когда понадобится.
Разместились мы на мягком лапнике возле костра, чашки и ложки приготовили.
– Вы как зэки на привале, – говорит Виктор.
– Наливай! – приказывает ему Николай.
– Есть, гражданин начальник, слушаюсь. Какой ты повелительный, однако.
Мыши летучие снуют над нами – видят нас впервые будто.
– В котелок какая не свалилась бы, – говорит Виктор. И говорит:-А пусть… наваристее будет. – Определил всем супу по тарелкам поварёшкой, положил каждому по куску дичины. – Не глухарь, конечно, мяса-то… кого тут… но зато как в ресторане… Господи, благослови… деликатес-то… Ну, чё, чалдоны, – говорит, – первый день обмыть бы надо. – Сидит он, Виктор, подогнув под себя ноги. Голенища сапогов пока не заворачивает. – Вроде прошёл, уж как, не знаю. Нормально вроде. Как вам кажется?
– Хватит. Достаточно наобмывались – уже блестит, как… чё… как поварёшка вон, – говорит Николай. Держит он в одной руке ложку, в другой – ломоть хлеба. – И кушать хочется… Живот уж подтянуло.
– Какой голодный… Так для аппетиту… Ну а тебе никто не предлагает. Мы вон с Серёгой.
– Наливай!
– А я налил тебе уже.
– И водки!
– Слушаюсь! Храбрости той во мне уже как не бывало – испарилась, – говорит Виктор. – Может, от этой восстановится? Восстановилась бы маленько, что ли, а то трусливому-то плохо.
Разлил Виктор по кружкам остатки самогонки, бутылку из-под неё пустую в сторону, в окно избушки нашей, выбросил.
– О, хорошо, смотрю, вы славно порыбачили.
– Да уж кого там… Больше пролилось, – подмигивая Ивану и улыбаясь всей компании, говорит Виктор. – Иван не даст соврать.
– А я не видел.
– Ну, тоже мне… А как следил-то?
– Верю, что пролилось, вовнутрь только, – говорю.
– Ну и туда немного тоже. Надо, – говорит Виктор. – А чё поделаешь, раз не клевало… Без клёва скучно… плыть-то просто. Если бы с барышней, куда б ещё ни шло… Это тебе бежать по берегу свободно, упал – полаялся – и отлегло, а нам на судне, парень, тесно… Не разодраться только чтобы… Напарник-то у меня, и глазом моргнуть не успеешь, как за бортом окажешься… Свирепый… Уж наливал ему, чтоб сдобрился маленько.
– Ага!
– А чё?
– Свистишь, как сивый мерин.
– Какой ты грубый… Ну, чтобы храбрости добавилось, то плохо…
Выпили мы. Икрой и печенью свежесолёной, поперчённой закусили.
– Во рту тает, – говорит Николай.
– А как же, – отвечает ему Виктор.
Суп из дичины теперь хлебаем – пока молча – только швыркаем. Дуем на ложку-то – горячий. Мясо белое вкушаем. И вкуснее ничего и никогда ещё не ели, кажется, – ну разве тут же вот когда, на Taxe.
Костёрчик прогорает. Положил в него Виктор сухих сучков пихтовых и еловых. Затрещали сразу, вспыхнули те, заискрили. За столом у нас светлее тут же сделалось. А темнота вокруг ещё как будто больше уплотнилась – опереться на неё как будто можно теперь стало или воткнуть в неё, как в землю, что-то.
– Точно, как в ресторане, – говорит Николай, откладывая ложку. – Передохнуть немного надо.
– Звучал булат, картечь визжала, рука бойца махать устала, – говорит Виктор.
– Хлебать неловко на боку.
– Ему неловко…
– Да, неловко!
– Ложись на спину, а тарелку ставь себе на брюхо… удобней будет… или – как собака.
– Сам так и делай!
– Какой ты, парень, нетерпимый… Ты в ресторане-то бывал?
– Раньше заглядывал.
– В окно?
– Молчи, несчастный.
– На берегу-то ты меня не испугаешь. Сейчас я храбрый.
– Письмо придёт, – говорит Иван. – Лист лавровый мне попался.
– Придёт, придёт, если напишут… Где там «Петрович»? – спрашивает Виктор. – Эй, ты, «Петрович», – говорит. Повернулся, не вставая, вытащил из мешка литровую бутылку. Этикеткой к свету обратил её, полюбовался. – Наш человек… А зелье злое, будь оно неладно. Медведь бы пил её, заразу. – Свинтил крышку. Разлил водку по кружкам. – Хошь не хошь, а выпить надо. Ты-то не будешь, Николай?
– Буду!
– Какой ты алчный.
Выпили мы. Помолчали сколько-то. Заговорили.
– Экран-то… от реки… будем делать?
– Время покажет.
– А ещё лапнику-то на подстилку?..
– А чё?
– А этого не хватит.
– Иван нарубит, надо будет.
– Тепло сегодня.
– Да, тепло.
– И без экрана, поди, не замёрзнем.
– Тут бы и помереть… как здорово.
– Давай… А зверь найдёт какой и похоронит.
– Да я… И чё мы в этом городе забыли?!
– Баба там у тебя.
– Ну, только что… да ещё дети, что и держит.
– Своя баба – жаба, а чужая – баунти.
Разлил опять по кружкам Виктор. Выпили мы. Супу наелись, захвалив его и повара. Полулежим.
– Иван, спой-ка нам чё-нибудь такое, питерское, – говорит Виктор, вытаскивая из кармана мундштук и сигарету.
– Если Иван запоёт, – предупреждаю я, – мы все заплачем.
– А чё такое? – спрашивает Виктор. – Песни жалестные, что ли?.. Петербург-то ваш – столица уголовная, бандитская. А ты про эти… про Кресты-то.
– Слон по ушам его прошёлся.
– А нам неважно, э, беда-то, мотив любой пускай, какой получится, слова главнее, – говорит Виктор. – Ты, Николай, тогда давай… нашу затягивай, казацкую.
– Ага, – говорит Николай. – А по моим ушам тогда уж вся саванна проскакала.
– На водопой.
– На водопой… Вовсе, как запою-то, изрыдаетесь, – говорит Николай. Он не сидит уже и не лежит. Встал от костра, кругами бродит. Мотает его, как шест скворечный в бурю. Трогает, щупает, просохла ли его одежда – а кажется – будто цепляется он за неё, чтоб не упасть-то.
– Сядь, парень, а!., а то кого-нибудь затопчешь… Дай отдохнуть по-человечески нам.
– Не затопчу. Костёр вам разжигать?
– Вам… Нам не надо, успокойся. Замёрз?
– Темно.
– А ты читать, что ли, собрался?
– Читать!
– Во, дьяк учёный…
– Да!.. Учёный.
– В говне толчёный… Через пятки от земли набрался… учитель, Иванов, – говорит Виктор. – Кепку сними, ещё от космоса пойдёт подпитка… Скажи мне лучше, Николай, почему, – спрашивает Виктор, – корова чёрная, а конь – вороной?.. Собака тоже почему-то чёрная… и кошка тоже. Почему вот?
– Да потому, что конь – это конь, – говорит Николай, – а корова…
– Это корова, – договаривает за него Виктор. – Это мудро.
– Эх, ё-моё!
– Да, замечательно… ни демократов, ни чиновников… Вот только водки взяли маловато.
Одолели мы «Петровича».
Иван и чаю даже не дождался. Натянув шапочку на уши, свернулся в клубок на лапнике под кедром. Ужал голову в воротник куртки – как черепаха в панцирь. Руки в карманы спрятал. Спит теперь уже. Убайкался, бедняга.
– Не следит, – говорит Виктор. – Что и бабушке-то говорить придётся? Какой отчёт будет давать?
Вышел Николай, точнее, выпал из избушки, место подыскивать для пионерского костра подался – его либидо его гонит, шумно там падать заставляет.
Виктор, с мундштуком в руке, с погасшим в нём огарком сигареты, лежит на взлокоточке, то, на секунду задремав, уронит голову на грудь, то, очнувшись тут же, её вскинет.
– Эх, – говорит, глаза открыв, – матрас-то зря на Масловской не взяли, как сейчас бы завалился… Николай, – говорит, – сходи-ка за матрасом, напрямую тут, пожалуй, недалёко.
Или не слышит Николай его, или уж занят очень, так не откликается.
– Где он? – спрашивает меня Виктор.
– Тут, за кедрами, трещит-то вон, по яру вроде ходит, – отвечаю.
– В речку не сбрякай!.. Динозавр… Телогрейку-то нескоро – не подштанники – просушишь…
Захрапел, слышу, Виктор.
Отхожу я от костра. Как пуля в плоть, во мрак вминаюсь, как в гудрон ли, форму тела своего от столкновения меняя, – так мне кажется. И меня, как Николая же, смотрю, мотает – словно ветер дует переменчивый, то, шаля, надавит резко, крепко, то опустит будто вдруг. Но продвигаюсь. Мелкие кедрики и пихточки чуть не заваливаю – очень-то на них не обопрёшься – хлипкие – не вижу их, руками только ощущаю – мягкие. Гулливером себя чувствую. У лилипутов. В темноте лицом на что-нибудь не напороться бы, боюсь, – и жмурюсь, словно от метели. Запинаюсь за колоду. Ниц заваливаюсь, как сражённый, перевёртываюсь на спину – продолжительно. Лежу. Проваливаюсь ли. Мох под затылком, под ладонями – живой и влажный – как в родное, в него втискиваюсь. Небо в звёздах – как в заколках, без которых бы оно скрутилось, – кедров нет тут, так не заслоняют. Слышу: река журчит – мелодия струится – меж деревьями и между рёбрами моими – обволакивает и пронизывает, из дудука словно вытекает. И десятки тысяч лет назад, а может быть, и сотни – точно так же. Только русло, петли, поменяла и ещё вот: без меня – сама с собою. Звёзды в ней, конечно, отражаются, мигают – хоть и не вижу я, но представляю.
Состояние такое – превосходит мысль и слово. Я – как дерево, вернее – как трава: мох тесня, лопатками врастаю в глину, утверждаюсь в ней корнями, как в родителях, – кто меня выдерет?.. Или легко возьмёт, положит между окнами?.. Так я лежу уже – я утепляю.
Где был я, Господи, когда Ты полагал – кричу в себе я – основание земли? Нигде. Может, лишь в Промысле? И был ли?.. Я не помню.
Звягают далеко где-то лисята – из-под земли будто доносится – мать выживать, охотиться их учит. Птица ночная редко гыркает, косноязыко – её же эхо ей, такое же, и отзывается – нескоро. Сплеснулся в омуте таймень, бобёр ли – громко.
Земля вращается – всем телом это чувствую – меня баюкает – немеют веки.
Если бы я был писателем, периферийно думаю, как будто пятками, осознаю окрайно, словно пальцами, я бы не как фантаст описывал их – звёзды. Но как тогда?.. Как верующий. Ну, и безмолвствовал бы, значит, на них глядя, сердцем молился бы – как на творение, на образ ли, – душой туда, к ним, устремившись. Это как будто кто-то мне перечит, а я покорно соглашаюсь, и так согласие мне это сладостно.
Что между мной, пятном распластанным, и звёздным небом – не тишина – молчание – пугает. Нужен посредник – Слово. Где Ты? Почему меня оставил?
И будто музыка звучит, да не пойму пока, откуда?.. Сверху. Страсти по Иоанну. Бах. Ах, майн синн. Ее ист фольбрахт.
Я ад вкушаю день и ночь – я про оставленность, – воплю ко Господу, а Он, Господь, меня не слышит: то скорби сердце сокрушают, то долги – забыл, забыл, как мать дитя своё забыла.
Раскинул руки я – и будто падаю. Земля ушла из-под меня. И вдруг: задерживает меня что-то. А может: Кто-то. Как на руках – меня качает – благостно.
Вроде уснул, проснулся, думаю:
Сретенск так далеко – там, за пределами. А Петербург и вовсе – кажется, что – на Луне; и я от прошлого будто отрезан; и мне тут ладно – прилежался.
И будто шепчет прямо в ухо тот, который мне всегда перечит: Душа! – есть же сокровища бессмертные – и утешайся ими. Нет! ищешь смертного и тленного желаешь.
И я опять с ним соглашаюсь: сводят с ума меня глаза, что со зрачками, увлекающими в бездну, едва прикрытую с обратной стороны сосками, глухонемой почти – Арины, сердце к ней рвётся, как к сокровищу. Смотрю на звёзды, но и там я вижу это имя – сердце мне стречет-как тут и молиться!.. Дай, Боже, мудрости и целомудрия. Первого хоть сейчас, второго позже чуть…
Помилуй, Господи, помилуй.
Запылал костёр возле нашего табора, но не под кедрами, чтобы и их не запалить, а ближе к яру. Понеслись столбом искры в небо. Затрещало, загудело. Ликует что-то – может быть – либидо.
Я задремал.
Замёрз.
Поднялся.
Всё то же небо. Та же Taxa. Та же темнота.
И то же одиночество – не тела, а души. Не внешне. Внутренне. Емкость такая – не заполнить – нужна она, наверное, чтоб отзывалась.
Вспомнился чей-то стих – как будто прочитал мне его тот, который мне всегда перечит: «Если всё живое лишь помарка за короткий выморочный день, на подвижной лестнице Ламарка я займу последнюю ступень».
Пошёл к костру.
Иду.
Думаю: Василий Васильевич Розанов намеревался и был согласен только с тем, что явится на Тот свет с носовым платком, мол, а я?., выходит – с удочкой…
Подступил к костру.
Иван спит, всё в том же положении.
Николай там, возле своего пионерского костра, – работает в угоду сокровенному.
Виктор кемарит сидя. Услышал, как я подошёл, голову приподнял, глаза открыл.
– А чё, мы всё уже допили?
– Всё, – говорю.
– Плохо, – и задремал опять, устроив голову на грудь. Мундштука в руке его не видно.
Выбрал я между выступающими из земли корнями кедра местечко, лёг. Удобно. Словно в зыбке. Мягко. Задремал.
Прошёл мимо меня Николай. Наступил мне на ногу.
– Ну, ты… медведь. Ходи осторожней.
Молчит тот. Бродит. Ищет что-то. Наступил Виктору на ногу. Вскинул тот голову.
– Задавишь… Слава Богу, босиком хоть.
Задремал опять я. И опять проснулся.
Виктор ползает вокруг меня, по земле руками шарит.
– Чё потерял?
– Дачё, мундштук.
Ползал, ползал. Не нашёл. Сидит, без мундштука курит.
За окнами пожар – озарено у нас в избушке.
– Работает, – говорит Виктор.
– Да, – говорю.
Николая не видно. Нет сапогов его на кольях, нет и одежды. Всё перенёс к костру большому – там обжился.
– Переселился… Чё-нибудь высушит опять, наверное, – говорит Виктор. Сказал и засопел. Проснулся. – Худо, что выпить не осталось. И почему всегда так – не хватает-то. Ну, как обычно.
Ваня – как камень – и не шевелится. Подступил к нему я, наклонился – дышит.
Луна было показалась, тайгу осеребрила, речку осияла. Но небо скоро затянуло тучами. Закрапал дождик мелкий. Прекратился скоро.
Светать начало. Ветер подул. Дым от реки теперь погнало – к сопкам.
Виктор уже на ногах. Поставил на костёр чайник. Вода вскипела, заварил.
– Иван, вставай, – говорю.
Иван не двинулся.
Николая не видно. Пригляделись:
Сидит он за избушкой возле пепелища своего пионерского на бревне, как-то не сжёг ещё которое, не мог, наверное, один к костру его придвинуть. Лицо у него, у Николая, в саже – чёрное.
– Как погорелец, – говорит Виктор.
Рядом с ним, с Николаем, на бревне же, мреют остатки от его исподних.
– Без флага теперь будем… Нас, слава Богу, не спалил, – говорит Виктор.
– Чай надо пить. Иван, вставай-ка.
Сел Иван. Спит сидя. Глаз разодрать пока не может.
Пришёл Николай, уже одетый и обутый.
– Поздравляю, – говорит ему Виктор. – Мы в тебе не обманулись. Ночевать-то как теперь без знамени будем?
– Молчи.
– Слушаюсь.
Попили мы чаю крепкого. Хлебом с маслом и домашним сыром, своедельским, перекусили. Очень вкусный.
– Пошёл я, – говорю.
– Иди, иди, – говорит Виктор, – то не успеешь.
– Сейчас таймень на мышь хвататься должен. И вы тут долго не рассиживайтесь.
– Какое долго!.. С места не сойти, прямо тут бы вот и закопаться, – говорит Виктор.
– Головушка болит, что ли? – спрашиваю.
– Не то слово, – отвечает. – Болит!.. Болела бы. Не голова, а колокол гудящий… Сволочь какая-то в него как будто лупит чем попало… Чё, неужели всё вчера мы вылакали?.. Душа свербит, в ногах ломота… чё-то там… и чё-то там охота.
– Всё, – говорю.
– Вот, ё-моё-то. Ну и жадность.
– Где твой вещмешок? – спрашиваю я у Ивана.
– Там где-то, – отвечает.
– Понятно, – говорю.
Нашёл вещмешок, вытащил оттуда канистрочку со спиртом. Побултыхал ею.
– А это чё?! – спрашивает Виктор. Стоит. Лицо его окаменело, будто вдруг проявилась перед ним Медуза или косматая Лилит.
– Да так, – говорю. – Жидкость.
– Самогонка? – говорит Виктор. С придыхом. Будто нацелился и цель спугнуть боится. Кто бы глаза его при этом видел.
– Ливизовский.
– Спирт?!
– Газировка.
– У-ух, – говорит Виктор, будто все свои прожитые годы разом выдохнул. И говорит: – A-а, это хорошо. Ну, Николай-то вряд ли будет. А ты? – спрашивает он у меня.
– Нет, не могу пока, к обеду, может, разохочусь. Но как клевать, конечно, будет.
– К обеду может не остаться… У нас-то клёв неважный, явно, будет.
– Ага, не буду. Наливай!
– Тебе кальсоны надо помянуть.
– Молчи.
– Молчу. Пока мне ещё страшно. Иди, бутылочку найди-ка… вроде туда бросал куда-то. И набери, сходи, воды.
Принёс Николай бутылку из-под водки и в ней воды. Разбавил Виктор спирт. Выпили они. Закусили. А я за них лишь поперхнулся.
Мундштук Виктор всё-таки разыскал, в зубах уж, вижу, у него торчит тот. Курит Виктор. Ясноглазый. Просветлённый.
– Пошёл я, – говорю.
– Иди-иди, – мне отвечают. – Не держим.
И день второй «залаял, как собака».
* * *
Иду. Рыбачу. И у меня в голове не всё так уж ладно – загостился в ней «Петрович». Как у себя дома, расположились беспардонно, лясы точат с самогонкой. Надоели, утомили, хоть и званые, татарина не хуже. Утро, пора и честь бы вроде знать. Ну уж куда там, ждут, не приглашу ли к ним ещё кого-нибудь, мало того, но даже требуют – то по вискам, а то по темени стучать возьмутся – морщусь. Чай им, похоже, не товарищ. Тяжело с такой-то ношей. Где по дороге ровной бы, так ещё ладно. А то скачи тут да карабкайся… Но, как говорит мама, у тебя одна воля, а у водки четыре, так и терпи уж.
Перед восходом солнца резко вдруг понизилась температура – с плюс десяти до минус десяти примерно, редко так бывает – и не понизилась, а обвалилась. Для нас нарочно – так, наверное. На речке забереги появились. Только что от костра, после тепла-то сразу, так и мёрзну. Куржак с кустов, когда задену их, за шиворот мне сыплется – ёжусь. Руки стынут. Дышу на пальцы, грею их, чтобы хоть чуть повиновались, то – как чужие. Кольца на удилище льдом от мокрой лески быстро забиваются, так что и леску не протянешь, – их то и дело прочищаю.
Снял я «черноспинку», прицепил вместо неё блесну-мышь. Не ту, что из медвежьего-то, поминал уж, меха, самодельную, а заводскую, металлическую. Не один раз уже испытанную. Тоже удачная. Кидаю. Под водой идёт – как настоящая. Виктор обычно говорит, когда из лодки её видит: «Хоть сам ныряй за ней охоться… Хвостом-то чё она выделыват. Но. Как живая. Охты-мохты». Дорожу ей. В первом же омуте поймал я на неё двух тайменей. Невеликих. Хорошо с утра выходят – радуюсь, как только голова больная, непоправленная, позволяет. И блесну хватают жорко – не играют с ней и, нападая, не промахиваются. Тот и другой взялись сразу – не травил их, не выманивал – с первой проводки. Тут же выловил и щуку. Добрую. Одна за этих двух тайменей. Повоевал я с ней в утеху. С яра блеснил, едва её туда и вытащил. На берегу уже перекусила леску, точнее-то – перепилила. Золотистая. С брюха светлее, со спины темнее. Чистое туловище – без каёмки и без крапинки. Бок только в свежей рваной ране – выдра или большой таймень её пытался сцапать – там ей, однако, повезло. Заметил я, как из засады она вырвалась – из травы такой же, как она, окраски, – и пронеслась ракетой к моей мышке, пасть распахнув уже заранее. Точно, собака и собака.
Спустился я ниже. Миновал, не останавливаясь, мелкий, но стремительный перекат: рыбы на нём и летом почему-то не бывает, а теперь-то уж и вовсе – зря и время тратить на нём нечего.
Сразу под перекатом омут неширокий, крутит в котором, словно звёзды во Вселенной, клочья пены, листья палые и шишки от еловой до кедровой, а за ним должно быть плёсо, помню, длинное, прямое – метров двести – так, примерно. Тёмное, как зрачок, – даже и дна не видно в нём – глубокое такое. Берега высокие, крутые – неловкие для рыбалки, с лодки только тут и удить.
Выбрал я всё же место между двумя пихтами, плечом к одной из них пристроился, начал прокидывать. Раз, другой забросил. Пусто. Третий. Опустил блесну пониже. Тормознулась как-то тупо. Зацепил, думаю, за каршу. Зацепил, но, чувствую, не намертво – чуть подаётся. Полутопляк-коряжину где иногда нечаянно прихватишь якорем, так же с ней тянется обычно. Хвост, вижу, большой, красный из воды показался. Таймень. Очень крупный. Килограммов двадцать пять – тридцать – жадным глазом его смерил. И дышать забыл и думать перестал о чём-то, только: вроде поймал уже и лавры пожинаю. Протащил его сколько-то. Шёл сначала, не сопротивлялся – не понял ещё, наверное, что с ним случилось. И вдруг – на тебе! – упёрся резко. Вырвалась у меня из онемевших от холода пальцев ручка катушки, леска раскрутилась – тут же и выплюнул таймень блесну – вылетела она ко мне на берег, на пихте повисла. Кое-как её достал оттуда после. Сошёл, зараза. Руки и ноги у меня трясутся – от отчаяния. Блеснить на него дальше уже бесполезно – больше не выйдет, не покажется. Но нет, кидаю и кидаю. И всё равно ведь, думаю, не вытащил бы я его тут, ждать бы пришлось товарищей мне на подмогу, и… голова болеть, как будто, перестала.
Сел я на яру. Сижу, свесив вниз ноги.
В полном расстройстве пребываю – будто только что к другому от меня ушла любимая – с чем-то иным сравнить, и не придумаю. Небо в копеечку и свет не в радость. Как в ознобе – так меня колотит. Плохо, что спирту нет с собой. Вижу, плывёт под водой бобёр, не взрослый, а ярец-бобрёнок. Глазами на меня, как налим, из-под воды прозрачной пялится. Лапами-ластами работает усердно. Сердит на них я. Да и есть за что, конечно. Мало того, что из-за острых, как шилья, нагрызенных ими, бобрами, по всему берегу колышков таловых и ольховых я часто рву свои резиновые сапоги, но ещё и падаю нередко в старые их, полуобвалившиеся хатки, а из-за этого язык сквернить приходится – что уж совсем вроде негоже. «Вот на блесну-то я тебя сейчас поймаю, – думаю, – якорем зацеплю за задницу… вместо тайменя. Ладно уж, шут с тобой, живи, паршивец… Ну, ё-моё, ну как так получилось?!. Не повезло, так уж не повезло!.. И как рука-то сорвалась, ну как так вышло?!»
– Сволочь, – говорю бобрёнку. Жаль, что не слышит, а и слышит, так не понимает. Взял в горсть песку, бросил им в его сторону. Развернулся резко под водой ярец, поплыл назад проворно, скрылся под берегом – у них там лабиринты. – Ну, хорошо, хоть планы-то твои нарушил.
Поругал бобра, и вроде легче мне немного сделалось – дыхание начало выравниваться, стало хоть с перерывами трясти меня, а то – как Каина – бесперебойно. Подлость собственная только угнетает.
Морок сначала разредило, а потом и вовсе разогнало – к горизонту его сдвинуло. День вперёд себя выпихивая, солнце вынырнуло из-за кромки. Где оно сейчас, красное, могу только догадываться. От меня его не видно. Кроны кедров обагряет, веселит в них белок и кедровок – шелуха летит оттуда, сверху, в речку – завтракают птицы и зверушки аппетитно. Бурундуки артельно – не вышли, а – выскочили, кажется, на промысел, шмыгают туда-сюда, челночат, вентилируют хвостами и без того стылый воздух. Где-то сороки, сбившись в банду, тараторят – сами с собой, сопровождают зверя ли какого – ох и досужие же белобокие. Ветер с западного стал на северный меняться. От его порывов крепких иней, как вотря, осыпается с деревьев – если на солнце, радужно – в калейдоскопе будто. Совсем похолодало – зазимело. Небо снегом заотпыхивало. Низко над сопками проносит облака – розово-белые, кудлатые. Трава – ночью-то дождиком её ещё обрызгало – хрустит, как чир, когда наступишь.
Долго не усидишь – лопатки мёрзнут.
Прошёл я два поворота – согрелся. Блесну бросаю. Выскочил в плёсе небольшой таймень, но не взялся – разглядел подвох, наверное, меня заметил ли на освещённом уже солнцем берегу – не удивительно. Вытащил я из рюкзака удочку, разложил её, наживил крупного червя, начал рыбачить.
Тут же и рыбаки подплыли – не замешкались. Когда нужны они, их не дождёшься. Уже с улыбками – как Буратины.
– Здорово, мужик. Ты кто?
– Конь в пальто.
– Это мы видим… А кто тут у тебя?! Таймень? – спрашивает Виктор. – Таймень, наверное… по отпечатку вижу… на лице-то. Нас не обманешь… мы такие.
– Да, некорыстный, – отвечаю. – Таймешонок.
– Неважно, – говорит Виктор. – Хоть круглый нуль, да в наш куль – на дне бы чё шуршало-брякало, а в ваш мешок от репы вершок. Какой ни есть, наш, значит, будет, – говорит Виктор и шире лодки улыбается. – Сейчас мы, парень, его выдернем! Ты не волнуйся. А не выдернем, так оглоушим… Беда бы, не было чем, а то имеется… За ночь-то вудилишшэ наше как ещё отяжелело… В воду ведь прямо было, парень, воткнуто – набрякло.
– Молчи, несчастный!
– Слушаюсь.
– Специалисты, – говорю.
– А как же, – говорит Виктор. – Проф-фи… Речку-то, парень, через сито будто, процедили. Саньке Ларину тут после нас делать уже нечего… А он сюда поэтому, пожалуй, и не ходит, не дурак – в такую даль впустую-то таскаться… Уцелел ли где какой малёк, не знаю… Есть чем… гаубица, парень, наготове.
Спирт пошёл, как кажется, на пользу.
– Ну-ка! – говорит Николай, расслышав про тайменя и тыча рукой сзади в спину напарника.
– Чё тебе «ну-ка»? – не оборачиваясь к Николаю, говорит Виктор. – Не запряг ещё – не нукай.
– Дай мне большого червяка.
– Возьми.
– Банку подай.
– Меня не выпихни из лодки.
– Молчи!
– Молчу… Какой ты, парень, всё-таки азартный… Я ж говорю, наш сейчас будет, мы ему, мокрому, покажем, как на оглобле-то у нас болтаться… А ты теперь, Сергей, свободен. Можешь идти. Тебе теперь тут вряд ли что обломится.
– Вижу.
– А где он вышел? – спрашивает Виктор.
– Да тут вот прямо, – говорю.
– Ага, так он тебе и скажет правду, – говорит Николай.
– Ну, где бы он ни вышел, – говорит, улыбаясь, Виктор, – всё равно своё уже отбулькал. Так мне, ребята, чё-то кажется… И прибежит, почует червяка-то, хоть откуда. Он там живёт – приноровился.
Иван подплыл.
В четыре удочки рыбачим на тайменя. На червяка берут некрупные, килограмма на два или на три, ну и меньше, лучше берут ещё, чем на блесну. Жора-то нет, и на червя не выйдет. Ну а вот крупного-то червяком не соблазнишь уж.
– Ты меня, точно, выпихнешь из лодки.
– Не мешай, тогда не выпихну.
– Не мешай… Какой… азартный. Парамоша.
– Да!.. Такой вот… Дай закинуть!
– Ну а мне?.. Ты ведь стволом-то этим, правда, меня вытолкнешь.
Клюёт таймень просто, но красиво – что это он берёт, не усомнишься. Плыл белый пенопластовый поплавок моей удочки, плыл ровно по течению и заприплясывал вдруг, утонуть будто собрался. Дал я заглотить крючок тайменю. Подсёк, водить начал. Удилище дугой, леска – хоть играй на ней блюз из «Дзеппелин» – не звенит только, приопускаю чуть, чтобы не лопнула. Выпрыгивает таймень из воды едва ли не на метр, свечи делает – пытается освободиться. Не тяну сразу-леску порвёт или крючок сломает. Но и устаёт он, таймень, скоро, выдыхается. Измучил я его, подвёл, безвольного уже, к берегу. Красавец. Хоть выпускай его обратно.
– Засранец, – говорит мне Николай.
Смеюсь я.
– Из-под носа прямо, парень, вытащил, – говорит Виктор. – Это при нашей-то при снасти… Ну-ка, огрей-ка ею брата… да поубавь-ка в нём нахальства.
– Гнать его отсюда сразу надо было, – говорит Николай.
– Теперь уж поздно, – говорит Виктор. – После драки кулаками не машут… А вот клёв поправить следует, однако. Время. Сэр, не откажетесь? – спрашивает у меня Виктор.
– Не откажусь, – отвечаю.
– А тут на берег нам не выйти, – говорит Николай.
– А мы не будем выходить… мы прямо в лодке, – говорит Виктор. – Держись за куст вон.
– Ага, держись!.. А как я выпью?!
– Ну а тебе не обязательно… Ты тайменя проворонил…
– А ты?!
– Я своего ещё добуду… И я поймал уже, а ты ещё всё клювом только щёлкаешь. Снасть-то вон положи свою пока, и выпьешь… а то прирос к ней… как прививок.
– Молчи! Поймал… Не я бы, не поймал бы.
– Ну, это баба надвое сказала.
Выпили мы, помидорами солёными и салом закусили.
– Крепко развёл, – ворчит Николай.
– А ты не пей, – говорит ему Виктор. – Раз тебе крепко.
– Не пил бы… холодно.
– Тогда и не ругайся.
Пока мы выпивали и закусывали, Иван спустился ниже. Слышим, выстрелил два раза.
– Ну, ё-моё… Кого это он там?
– Не знаю… Смотри-ка, эхо-то… к морозу.
– И так не жарко.
– И гало вон… к непогоде.
– Колдун… не каркал бы хоть, что ли.
Пришёл Иван скоро. Несёт в руках двух уток.
– А лодка где?
– Да там её оставил.
– И оба селезни… А я уж думал, ты тайменя, – говорит Виктор. – Там, у себя, бы их и положил.
– Я показать.
– A-а, молодец… Ужин, в отличие от дяди, заработал, – говорит Виктор. И говорит: – Ну, чё, давай теперь за уток.
За уток выпили. И закусили.
– Пошёл я, – говорю.
– Иди, – говорит Виктор.
– Засранец, – говорит мне Николай. – Не дал мне вытащить тайменя.
Виктор смеётся. Говорит:
– А у тебя червяк, наверное, невкусный.
– Молчи.
– Молчу.
– Ну, догоняйте.
Недалеко я отошёл. Стал рыбачить на плесце. Зацепил близко к другому берегу. Дёргал, дёргал. Никак не отцепляется. Ждать их, товарищей, значит, придётся. Развёл я костёрчик. Греюсь. Плывут, слышу.
– Таймень?! – спрашивают в голос.
– Да, – говорю.
– Отжил, наверное… Сейчас мы его выбагрим… Наш, парень, будет, кто бы сомневался… Может, его не отцеплять?
– Да пусть сидит.
Подплыли. Отцепили.
– Есть чем, слава Богу.
Время обедать подступило.
– Ищи, где будем полдничать… Пора уж, – велят мне.
– А что искать, – говорю. – Найдено. Сопка вон, под ней косица.
– А-а, – вспоминает Виктор. – Точно. Как-то мы там уже обедали.
Упирается здесь Taxa прямиком в сопку, поросшую соснами, – торчат те на ней, как волосы у какого-нибудь мальчишки на вихоре, во все стороны, одна из них и вниз даже свисает, чуть не до речки, – вымывает из неё песок и гальку. Ниже сопки коса небольшая, камешниковая. Места на ней, чтоб чай попить, достаточно.
– Тебя перевозить?
– Я перейду на перекате… мелкий.
Пока вскипает вода и Виктор заваривает чай, Иван приплясывает, согреваясь, у костра, Николай взбирается на сопку, рассматривает дали – большой любитель географии, а я за это время вытаскиваю в плёсе трёх щук, и все они, как на подбор, килограмма по четыре – одного как будто икромёта.
Подхожу к табору, бросаю щук в лодку. С сопки спускается и Николай.
– Ну, и кого ты там увидел? – спрашивает его Виктор.
– Никого, – говорит Николай.
– Так а по чё тогда залазил?
– Интересно… Посмотреть на Таху сверху.
– Какой ты всё же… любознательный.
– Да! Любознательный.
– Ещё и грубый, – говорит Виктор. Сидит он, подогнув под себя ноги, хлеб, прижав к груди буханку, нарезает. Хлеб нарезал, положил его и нож на целлофановый пакет. И говорит: – Ох, чё-то руки стали зябнуть, не пора ли нам дерябнуть.
Выпили мы спирту. Чаем попотчевались. Тепло нам сделалось. У костерка расслабились и млеем. Мы так сидим, а Виктор – курит.
Рассказал я про тайменя, что сорвался. Пожалели, что так вышло.
– Не наш, – говорит Виктор, глядя в небо. – Саньки Ларина… Ох, и везунчик этот Санька.
– Да уж, – говорю.
– Тоже мне, – говорит Николай, в костёр подкидывая веточки. – Не мог уж вытащить.
– Так получилось, – говорю.
– Прибор-то у него, – говорит Виктор, – не как у нас вон… жидковатый, – кивнул головой в сторону берега. Торчит там, в гальку воткнутое, удилище Николая. – С нашим-то можно и акулу…
– Пошёл я, – говорю.
– Ступай, – говорит Виктор. – И так минуту уж пересидел… не наверстаешь. – И спрашивает: – Ну а на ход ноги, на посошок-то?
– Нет, не буду.
– Да?.. Ну а вот мы, пожалуй, выпьем.
– Ваше дело.
– Николай-то вряд ли будет…
– Наливай!
– Какой ты наглый.
Пошёл я.
За кривун повернул, по отмели иду, рыбачу. И они, слышу, собираться к отплытию начали – лодки, лягушками дуэтом квакая, подкачивают, разговаривают громко – будто ссорятся.
Затрещал на берегу кто-то. Виктор, что ли, думаю, пройтись решил немного, пока Николай с Иваном продукты в мешок убирают, посуду споласкивают и лодками занимаются, – меня там, поверху, обходит. Смотрю, вырывается из чащи сохатый, прыгает с берега в речку, пересекает её в несколько прыжков и исчезает в пихтаче на другом берегу. Брызги чуть до меня не долетели. Следом за ним проделал то же самое медведь. Большой, бурый. И нас не испугался. Лось, может, раненый? Размяться ли медведь надумал? Скоро затихли: лось ушёл, медведь отстал, наверное. Ну, думаю.
Иду. Рыбачу.
Время тут, на Taxe, за рыбалкой, как во сне, проходит незаметно – то ли мимо, как собака, то ли через тебя – как чьё-то слово. Только что вот вроде пообедали, и день уже угасает. Как и силы мои, впрочем, – тоже тают: налазился, напрыгался, нападался и наругался.
Затянуло небо сплошь тучами. Волочит их, низкие, тяжёлые, прямо по сопкам, на лиственницы наматывает. Снег стал пробрасывать – совсем зимой запахло.
Пробрёл я краем переката, ломая у берега хрупкий ледок, вышел на галечный мысок, чтобы ноги в воде не мёрзли, стою, рыбачу в омуте на хариуса.
Подплывают скоро Николай и Виктор.
– Здорово, мужик!
– Здорово.
– Чё ловится?
– Да чё-то ловится.
– Значит, отловится… Свободен, можешь идти… Спецы сейчас возьмутся.
Виктор выбирается на берег выше. Пробует забрасывать на перекате. Николай спускается под перекат. Останавливается на ямке, не доплывая до меня. Встаёт в лодке, лицом вниз по течению, и тоже начинает рыбачить. Говорит нам с Виктором:
– Первый раз за всё время ночевать сухим буду – сегодня! Ни разу ещё не начерпал! – говорит громко, чтобы мы слышали, шиверу перекричать старается. – И добавляет: – Тьпу, тьпу, тьпу!.. Удиви, Господи, на меня милость Твою…
Невероятно.
Молчим мы с Виктором. Рыбачим. Хариус берётся, и хороший.
Выплывает из-за поворота и Иван. Разогнался, флагмана-то догоняя. Идёт фарватером.
Подхватило его лодку на перекате течением, справиться с которым на резинке не так просто. Грёбся, грёбся – бесполезно. Опустил Иван в отчаянии вёсла, глядит испуганно вперёд и кричит сдавленно: «Э-э! Дядя Коля, дядя Коля!»
Но не слышит его дядя Коля: и перекат шумит, и глуховат он, дядя Коля, на то ухо, которым обращён к плывущему племяннику, и увлечён к тому же сильно: «харюзище» у него «как раз как, ёлки-палки, долбанул» там – тут хоть кричи, хоть закричись.
Онемев, наблюдаем мы с Виктором за происходящим.
Но всех делов-то две секунды.
Носом в бок таранит лодка лодку. Опрокидывается Николай в воду солдатиком и на некоторое время пропадает из виду. Вылетает из воды скоро. Плывёт к берегу, не выпуская из рук удилища. Глаза у него круглые – во всё лицо: ничего ещё, наверное, не понял.
Мы с Виктором: я смотрю вниз по течению, Виктор – вверх, будто, опасаясь пропустить поклёвку, внимательно и неотрывно следим за поплавками своих удочек, и того, что произошло, словно поэтому не замечаем. Внешне мы с Виктором серьёзные, как часовые, а внутри – изо всех сил сдерживаемся, чтобы не покатиться с хохоту, – ох, нелегко же.
Выбрался Николай на берег, благо он тут пологий. Ртом воздух хватает, словно выкусывает его, воздух, а не вдыхает. Кругом оглядывается – хочет узнать как будто, где находится, на Иване в лодке взглядом тормозится.
Ну всё, убьёт, думаю, сейчас он своего племянника родного, прямо в лодке захлестнёт его – достанет своей снастью. Нет, стоит, бормочет только:
– Ну, ты… ну, ты… ну, ё-моё… Ну, только харюз как раз клюнул…
С кепки и с телогрейки у него вода стекает. В руках у него – удилище – как трезубец у Нептуна.
– Ночевать, однако, надо, – говорит Виктор. – Так мне чё-то сёдня кажется.
– Наверное, – говорю я, ловя плывущую вниз лодку, потерпевшую крушение.
– Я думаю, – говорит, стуча зубами, Николай, – он мне кричит, что харюз у меня клюёт… Я без него не вижу, что ли… – веками хлопает при этом, воду из глаз как будто выжимая.
Молчим мы и – нам как-то удаётся – не смеёмся. После, конечно, душу отведём уж.
* * *
Темняться начало: плотнеют быстро сумерки – так, как будто студенеют. Резко ветер прекратился – словно по чьёму-то сигналу. Стихло в тайге. Теплее вроде стало. Но повалил снег, такой густой, что в двух шагах не видно ничего сразу же сделалось.
А через час навалило его уже по щиколотку. Лёгкий, мягкий, но не липкий. Как некстати-то – переживаем.
– Ох ты мама, моя мама, – говорит Виктор. – Первый нынче.
– Ещё стает, – говорит Николай.
– Не знаю, – говорит Виктор. – Всяко бывает. Помню, в десятом классе я учился… Как второго сентября упал, так и до лета пролежал, не стаял.
– Я это тоже помню, – говорит Николай. – Бывало. Ну а климат-то меняется…
– И чё?
– А потепление глобальное…
– Может, и глобальное, – говорит Виктор. – Да вот, по нашим-то местам, чё-то не шибко это и заметно… Зимой особенно… не жарко.
– Ещё заметишь.
– Боже упаси.
Затаборили мы в первом попавшемся по ходу пихтаче. Унесли туда всё, кроме рыбы, удочек и лодок, чтобы под снегом утром что-нибудь случайно не забыть тут. Место не очень-то удобное нам подвернулось, но искать более подходящее времени у нас уже не оставалось, да и Николая срочно надо было сушить и переодевать, чтобы не простудился.
Дал я ему свой свитер.
– Не прожги, – говорю.
– Посмотрим.
Иван – трико, а Виктор – курточку болоньевую.
– Не порви, – говорит Николаю Виктор.
– Не порву! – отвечает Николай.
– Ага, надейся на тебя… Новую купишь.
– Обойдёшься.
– Какой ты, парень, невоспитанный.
– Куртке-то сколько лет?
– Тем и ценнее.
Чудо-сапоги обул он, Николай, пока на босу ногу.
Развёл Виктор костёр, суп с тушёнкой соображать начал. Подстреленных Иваном уток он отеребил, выпотрошил, опалил, чуть подсолил – до завтра, дескать, сохранятся; а, мол, с тушёнкой сварится скорее. Оно и верно.
Николай с Иваном дрова взялись заготавливать, а я опять занялся рыбой.
Совсем стемнело, снег бы не отбеливал, ни зги не было бы видно. Чернее чёрного чернеет речка.
Зовёт всех к костру Виктор:
– Орлы! Готово!
Набил я почти полный прорезиненный мешок рыбой, солью её прокинул, поставил мешок под перевёрнутую лодку. Пошёл к табору, растирая на ходу онемевшие от холода руки.
Разгребли мы ногами снег – тут, под пихтами, не так ещё которого и много, – навалили лапнику. Устроились к костру ближе.
Ужинаем. Сначала молча. Ложками лишь брякаем. Да на суп в них шумно дуем – остужаем. После разговариваем.
– Это, конечно, не из рябчиков, – говорит Николай. – Не дичь.
– Такому радуйся, – говорю.
– Конечно… Вкусно.
– Эта тушёнка – как из каучука, – говорит Виктор. – Или уж жир в неё один набухают… Раньше была тушёнка, так тушёнка. Откроешь – запах… мило дело.
– Соя, – говорит Николай.
– Какая соя, – говорит Виктор. – Соя – продукт, а это чё, я и не знаю.
– Да-а, – говорю.
– Ну-у, – говорит Николай. – Так это раньше.
– Раньше и сапоги резиновые были, а?.. Чета ли этим-то… Как… не скажу… Ивана постесняюсь, – говорит Виктор.
– Лучше моих всё равно не было, – говорит Николай.
– Это-то точно, с этим не поспоришь.
Поведал я, как видел лося и медведя.
– А мы слышали, – говорит Виктор. – Подумали, что ты шумишь или опять куда свалился… А где же ты-то был с ружьём, охотник?
– Лодку подкачивал.
– Ну вот, на притчу… Добавку кто будет, – говорит Виктор, – сами наливайте.
– Нальём, – говорю.
– Да я про суп.
– А я про спирт.
Тихо. Костёр только потрескивает.
Если отсюда следовать на северо-запад, не сворачивая на северо-восток к Ислени, до полярного круга и дальше ни души, наверное, не встретишь. Когда молчим, на ум приходит это.
– Ё-моё, – говорит Виктор. – И расстояния.
– Да-а, – говорит Николай. – Пространства. Впечатляет.
– Какой ты, парень, впечатлительный, – говорит Виктор. И говорит: – Вот ты смотри, какая Taxa речка. Как ни отправимся сюда, так тут же что-нибудь да и случится. И обязательно. Кто бы подумать мог, что снег повалит. А?.. Не предвещало вроде.
– Предвещало.
– Ну, ты колдун, дак ты-то знаешь… Коварно как-то… Это духи. Чем-то мы шибко перед ними провинились.
– Спирту на пень плеснуть им, может?
– Знать только надо, на какой… Если на все-то, парень… жалко.
– В прошлом году пошли – когда уже! – в июле, и как заморозок хряпнул – уши в трубочку свернулись, – говорю.
– Да, – говорит Николай. – Шестого июля, и заморозок минус шесть, я хорошо это запомнил… А то дожди начнутся проливные.
– Дожди… Тебе-то чё они, дожди, тебе не страшно, – говорит Виктор. – Дождь, не дождь, а ночью всё равно сушиться.
– Молчи! – говорит Николай.
– Какой ты злобный.
Поужинали. Выпиваем. О чём только не беседуем.
– В ладонь тебе вмонтируют такую штучку-дрючку… и имя тебе будет 666… Все будут тёзки, – говорит Виктор. – В лоб ли владят индикатор… Без него и водки-то не купишь.
– На всё воля Божья, – говорит Николай. – И волос с головы твоей не упадёт… А для тебя свобода выбора – ты можешь на эту печать соглашаться, а можешь и не принимать её… Кто имеет ум, тот сочти число зверя…
– Ну, это так, конечно, чё там, – говорит Виктор. – Только ведь его ещё иметь надо, не за большим делом… ум-то.
– Господи, – говорит Николай. – Времена для нас послал тяжёлые.
– Они всегда, наверное, такие, – говорит Виктор. – И уж какие есть – не выбираем. Никто не спрашивал тебя, хочешь ли, нет ли ты родиться… Мне дак так чё-то думается. Ко мне никто не обращался.
– Речку бы льдом вот не сковало.
– Рыбу глушить у заберегов тогда будем.
И о разном, и сумбурно, и о чём не толковали только, мало что осталось в памяти.
Пока как попало не уснули, поднялись, зыбкие, как молочные щенята, на ногах, убрали костерок, размели во все стороны угли. На его место лапнику набросали. Лежим мы на лапнике – Иван, я и Виктор – тепло в бока из прогретой огнём земли впитываем. Николай большой костёр разводит. Развесил он вокруг нас свои промокшие шмотки – зрелище привычное – нас оно нисколько не смущает.
– Ну, ты, Иван, устроил дяде, – говорит Виктор. Смеётся. Смеюсь и я. Смеётся и Иван – испуг-то у него прошёл уже. Катаемся от смеха.
– Зубоскалы! – говорит, не отрываясь от своего занятия, Николай.
– Не затопчи меня! – говорит ему Виктор.
– А ты тут ноги не раскидывай.
– Ну вот… и как с ним разговаривать.
Спирт у меня в голове, пары его ли, вращается в одну сторону, а лес и костёр – в другую. Но замечаю:
Опять разъяснило. Звёзды просвечивают через пихты – иглисто. Снег валить перестал. Морозно. Сова летает – в свете костра иной раз промелькнёт бесшумно возле нас. Где-то за лесом низкая луна – мягко тайга заголубела.
Слышно:
Далеко завыли волки.
– Давно их не было в наших местах, – говорит Виктор. – Появились.
– Мы тут с Иваном, – говорю, – видели двух возле Ялани… в поле стояли, мышковали.
– Голод, значит, будет, – говорит Виктор. – Примета такая.
– Голод… давно уже начался, – говорит Николай. Появился перед нами он, как привидение, тут же опять пропал из виду.
Самая близкая к нам душа живая человеческая – Василий Карманов, но и до него не меньше двадцати километров. То и дело вспоминается его избушка, навязчиво думается, как в ней тепло сейчас, уютно. На ночь-то там бы оказаться.
Виктор в одной энцефалитке. Дремлет он на боку, оперев голову на согнутую в локте руку, голым животом касаясь снега. Поднялся тут же, сидит, как медведь, шарит вокруг себя руками – мундштук опять посеял. Бормочет – молится Иоанну Воину и Феодору Тирону, чтобы помогли ему найти пропажу. Говорит после:
– Ну, ты, Иван, устроил дяде.
Иван свернулся калачом, дремлет. Не видно ни лица, ни рук его – валяется, как куча тряпок.
– Уходился, – говорит Виктор.
– Ну, – говорю.
Лежишь спиной к костру, живот мёрзнет, повернёшься к огню грудью, спина колеет. Особо не поспишь. Хорошо, что Николай на посту, а заодно следит и за костром – своим любимым делом занимается – вовремя дров в него подбрасывает, и тех тут, слава Богу, предостаточно, хоть и сырые, в основном, но жар большой в костре – всё в нём сгорает.
– Пихты б не вспыхнули, и нас бы не поджарил, помилуй, Господи, аж страшно, – говорит Виктор. Сидит он. Курит. Без мундштука. Потянул носом и говорит: – Палёным пахнет. Горит там чё-то у тебя, пожарник… Эй! Где ты там?! Чума лесная.
– Ничё у меня не горит! – отзывается из-за костра Николай.
– Утром посмотрим, – говорит Виктор. И захрапел уже, на лапник отвалившись, подтаивает голым брюхом снег. Проснулся, мундштук искать взялся.
Я без свитера, кутаюсь в телогрейку – не могу никак согреться.
Утра дождались кое-как – дни за рыбалкой так бы длились.
Портянку Николай свою всё же спалил – палёным-то и пахло.
Не торопимся. Сидим. Опохмелиться только уже нечем вот – канистрочка пустая. Переживаем. Чаем обходимся. Время тянем – от костра удаляться на холод не хочется. Но надо: идти и плыть нам далеко ещё.
– Пошёл я, – говорю. – И вы не празднуйте тут, собирайтесь.
– Давай, давай, – говорит Виктор. – То засиделся. – И говорит: – Какое празднуйте… Живём мы в юдоли плачевной, и несть мира в костех наших. Помилуй мя, Господи, яко немощен есмь, – и улыбается, как под уколом. И говорит: – А чё, на самом деле, спирту не осталось?.. Вот это плохо. То в голове-то жеребец как будто – не стоит, а-скачет… кто бы взнуздал его да вывел, неуёмного… а то ещё кобыл к себе заманит. Помру, как меня к бабе-то доставите? – смеётся.
– Вчера пить меньше надо было, – говорит Николай. – А то налёг уж, как… на пиво.
– Какой ты всё-таки недобрый… Я же старался ради клёва.
– Ага!., а вечером и ночью?
– А это чтобы не замёрзнуть.
– Ну, так сиди тогда, не жалуйся.
– Вот уж где злыдень, так уж злыдень… Иван, – говорит, улыбаясь и одновременно морщась, Виктор, – а повтори-ка абордаж сегодня. Чё-то красиво было, так мне кажется. Дядя твой пересох – ворчит… А пиво, кстати, не люблю. От пива сикашь, парень, криво.
Пошёл я.
Снег на всём. Даже на леске удочек, на паутине. И на воде он тоже – чичером зелёным. Вода из-за него глядится тёмно – помутнела.
Прошёл немного, и весь уже промок – штаны и куртка на мне задубели. Иду, скукоженный. Блесню. Руки у меня – словно флажки сигнальные – маячат красным. Но ни таймень, ни щука не выходят. Жалко.
Небо опять всё сплошь заволокло тучами, беспросветно, но влечёт их, низкие и косматые, уже не с севера, а с запада. То и дело просыпается из них снег. Сырой теперь уже он – рянда – ко всему липнет. На пнях – так шапками сидит боярскими. За развёрнутые голенища сапог с травы мне набирается он – всё и вытряхиваю, выгребаю.
Часто останавливаемся, кипятим чай, греемся и сушимся. Мне хоть и сыро, но я на ходу, а вот товарищам моим неважно в лодке, неуютно – терпят: хуже неволи ведь рыбалка.
Клёв испортился, да вот поправить его нечем.
Ещё не вечер, но и плыть впустую смысла нет.
Находим хорошее место в кедраче. Снега под кедрами нет, только ковёр от палой хвои – бурый.
Мы втроём – я, Иван и Николай – запасаем дрова. Виктор на маленьком пока костерке варит суп из уток. Когда готовит, он серьёзный.
Дров натаскали. Суп сготовился.
На хвое сухой и мягкой устроились. Ужинаем. Суп хлебаем и нахваливаем повара, не забываем и охотника, тот аж сияет – ну ещё бы. Повар на лесть не поддаётся – ему бы выпить, голову, как клёв, поправить – на лице его забота.
Поужинали. Чаю попили.
Делаем из пихточек экран. Разводим большой костёр. Ложимся между костром и экраном. Тепло. Разулись даже – ноги в сапогах резиновых устали.
Не ложится весь вечер и всю долгую ночь только Николай – поддерживает костёр и сушится. Возле костра протаяло – ходит Николай босиком.
– Медведь, – говорит про него Виктор.
– Ну, – соглашаюсь я.
Нынче, слава Богу, обошлось – ничего не спалил и не прожёг ни у себя и ни у нас он. Удивительно и непривычно.
Утром пьём чай – новый не завариваем, подогреваем вчерашний – тот настоялся.
– Как чифирь, – говорит Виктор.
– Да уж, – ворчит Николай. Крепкий он не пьёт, не любит он и горячий – разбавляет для себя в кружке сырой водой.
– Вот это правильно, – смеётся над ним Виктор. – А пронесёт-то, не боишься.
– Молчи.
– Молчу.
Теплеет.
По правому берегу просвечивает через тёмно-зелёные ельник и пихтач жёлто-белая от снега и увядшей травы гарь – высятся там на голых сопках сухостойные лиственницы – чёрные.
Здесь начинается уже тропинка, по которой мы и заходили.
Рыбачим теперь, что называется, проскоком – на одном плёсе недолго задержишься, покидаешь, а два так, мимо, пробежишь – досюда уже и другие рыбаки добираются, тот же Саня Ларин, например, – и нам поэтому тут удить уже скучно: подавай нам только девственное.
Я часто теперь прямлю по тропинке, а то и там, где речку вижу, в петлях её срезаю – силы экономлю.
Перерезает Taxa тут хребёт, и к Тые катится под заметным наклоном. Идут сплошные перекаты. Шумные. Лодки несёт по ним быстро, знай только выруливай, чтобы не перевернуло. Заторов на реке в этом месте мало – все в водополицу разносит.
С тропинки я уже не сворачиваю и, поднявшись и спустившись с перевала, едва-едва лишь успеваю за плывущими.
Выходим к устью раньше назначенного быть тут Василию времени. Его и нет ещё на месте.
– А я вам чё и говорил, – говорит Виктор.
– Ещё не вечер, – говорю. – Ещё рано.
Я перехожу Тыю по бревну. Рыбаки, радостно поглядывая на меня, её переплывают.
– Тебя спасать?
– Не говорите мне под ногу.
Скручиваем лодки. Оставляем рыбу и манатки на берегу и отправляемся пешком на пасеку. Идти пять километров.
Золотое солнце. Небо синее. Земля белым-бела. Мир чуден, прекрасен, но основание ли это для того, думаю, чтобы в нём останавливаться, а не идти дальше… или выше?.. Но я – земля и потому привязан к земной жизни… А дальше-то у Богослова, вспомнил:…но я также и Божественная частица, и потому ношу в сердце желание будущей жизни… Блаженны, вспоминаю, не видевшие и уверовавшие.
Скользко – идти трудно – разговариваем поэтому мало.
– Вот и зима.
– Зима.
– Да ещё стает.
Приходим на пасеку.
Василий, хоть и пьяненький, но про нас не забыл и собирался уже выезжать за нами – так утверждает. Нам он не удивился, но обрадовался.
– Э-э, – говорит.
– Здорово, – говорим мы.
– Как, с медовухой-то уже управился? – спрашивает брата Виктор.
– Да есть ещё… маленечко для вас оставил, – говорит Василий. Улыбается. – Управлюсь скоро.
– Не сомневаюсь, – говорит Виктор.
Виктор и я едем на «ниве» за оставленными на Тые рыбой и манатками.
Возвращаемся.
Выпиваем по кружке медовухи, заедаем варёной лосятиной с горчицей. Пьём после чай с мёдом.
Выходим из избушки.
День блистает – будто только что вот сотворённый.
Садимся в машину.
Уезжаем.
Василий, освещённый ярким солнцем и в окружении помахивающих хвостами мокрых, прибежавших из тайги собак, долго нас провожает взглядом. В руках у него рыжая полиэтиленовая бутылка из-под какого-то сиропа – полупустая, полуполная ли.
– Управится, это уж точно, – говорит Виктор, поглядывая на брата в зеркальце. – Красавец.
Едем. Пока медленно – дорога тут плохая. Поёт в машине Кадышева. Мы молчим.
Грустно.
Солнце слепит глаза, слепит с дороги, на которой слякоть.
* * *
Едем.
Смотреть на чудный и прекрасный мир из машины больно – глаза от яркого страдают. Жмуримся.
Печалюсь, что закончилась рыбалка. Душа осталась там, на Taxe. Глазами цепляюсь за каждый кусток – как утопающий за соломинку.
Тыю по мосту проехали. Проехали пустырь – то, что осталось от Черкассов. Повздыхали, пожалели.
Едем. Николай и Иван, свесив голову на грудь, кемарят.
Показывается из-за поворота Сретенск. Сначала часть его, потом и весь. На холмах – как Рим или Москва.
– Что это за город? – шутит Виктор.
– Родина, – говорю.
– Родина, – с грустью в голосе говорит Виктор.
Розово-белая она, наша родина. Солнцем швыряется из окон. Только столбы, заборы, скворечники, стены домов и проталины в огородах – чёрные, как уголь.
Собаки бегают по ней – те разномастные.
И:
В монастырском огороде видятся согбенные фигуры – монахи картошку докапывают, добывают её из-под снега. Бог им в помощь.
И будто:
Звучит «Зима» Антонио Вивальди.
И вот ещё:
Зима. Крестьянин, торжествуя…
На самом деле по деревне ездят мужики уже на конях, запряжённых в сани, полозьями которых исчерчен снег кругом, а косогоры все исполосованы полозьями детских салазок.
Там и там стоят большие снежные бабы, с вёдрами на макушках, с мётлами в обнимку, с морковками-носами и с глазами-картошинами.
Подъезжаем к дому. Останавливаемся. Николай и Иван поднимают головы.
– Приехали?
– Приехали.
Сидим минуту. После выходим из машины.
Открываются тяжёлые, потемневшие от сырости ворота. Появляется из-за них мама. С пехлом в руке – разгребала в ограде от снега дорожку. Глядя на нас, закрывает ладонью глаза от яркого света, щурится.
– Рыбаки, – говорит. – Раньше времени удрали… А я ждала вас только к ночи. И уже вся испереживалась.
– Пришлось, тётка Васса, – смеётся Виктор.
– И слава Богу, – говорит мама. – В такую-то вон непогодь на пустоплесье… Не помирать же там, на речке. И чем вас Taxa эта манит?.. Чем там сладким и намазано?.. Ну, проходите, – приглашает.
Входим в ограду. Под навесом, под тряпками гора – мама вырубила и вытаскала уже капусту.
– Успела, – ворчим мы.
– Успела, – говорит. – А то бы заморозила… Мороз-то грянул.
– Зачем таскала? – говорит Николай. – Вырубила бы да там бы чем-нибудь бы и укрыла.
– Да ну… уж чё тут… помаленьку.
В окнах вставлены вторые рамы, а между ними уложен валиками мох и украшен кедровыми шишками и гроздьями рябины.
– Красиво, – говорит мама.
– Красиво, – соглашаемся мы.
Корова с телятами стоит растерянно в огороде – ярко-бордовые на белом – как брусника на сахарной пудре. Мычат громко, обиженно – в неволе им сидеть не хочется. Морды развернули, на дом пялятся с надеждой, что их впустят.
– Сидите, нечего трубить… Загнала… чтобы не бегать-то за ней по лесу… Весь день орёт, как… оголтелая, – говорит мама.
Делим рыбу на три части. Одну из них я оставляю себе. Килограммов по сорок получилось – маме на зиму, может, и хватит.
– Хватит, – говорит она. – Жива-здорова если буду, а уж нет, так на поминки.
– Ну, перестань ты.
Николай и Виктор прощаются и садятся в машину. Мы их провожаем.
– С Богом, – говорит мама.
– До свидания, тётка Васса, – говорит Виктор в открытую дверцу.
– До свидания, Виктор Васильевич, – говорит мама. – Теперь на Таху-то уже не скоро.
– Наверное, не скоро, – говорит Виктор.
– А вон Сергей, вижу… ему хоть завтра, – говорит мама.
Смеёмся.
Николай крестит из машины нас и дом наш, бормочет что-то – по губам его видно, глаза его окрасились – под небо.
Машина разворачивается и уезжает.
Мы – я, мама и Иван – уходим в дом.
– Есть-то чё будете? – спрашивает мама.
– Будем, – говорю, хоть и не очень вроде хочется. Говорю я и чувствую, как остро и подло пощипывает мои веки.
– А я ждала вас… наготовила, – говорит мама. Глядит она на нас пристально. Мелко подрагивает у неё подбородок – так она плачет: через три дня нам с Иваном уезжать в Петербург. Впереди – в Петербурге разное, а в Сретенске одно – долгая, долгая и лютая зима.
У Ивана вряд ли, но у меня сердце обливается кровью.
– А мы как раз проголодались.
– И хорошо, – говорит мама. Идёт на кухню, добавляет: – Слава Отцу и Сыну и Святому Духу… Ну, хоть вернулись.
Аминь.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Не пришлось больше Виктору Васильевичу Карманову побывать на чудной речке Taxe – умер он. Царство Небесное ему.
Петербург10.01–02.02Одиночество (пьеса в трёх актах, почти без действий; события вялотекущие и маловажные)
Нам не дано избавиться от одиночества.
И. А. Ильин Книга раздумий, ОдиночествоПока человек живёт на земле, он остаётся одиноким; и ему не предоставлена свобода вырваться из этого одиночества или устранить его совсем.
И. А. Ильин Книга тихих созерцаний, Об искренностиДень, ближе к вечеру, погожий
Спас. Третий. Хлебный.
В числе. Не сдвинулось, не сбилось.
В среде течения событий. Одно другому соответствует.
Земля стоит – устав не сломан.
Ельник, деревня, небо – всё на месте.
Тоже и солнце – никуда не подевалось. Хоть и случалось, что подолгу нынче не показывалось, по неделям.
И мы здесь же, и не вверхтормашки.
Ласточки вот – эти улетели. Далеко уже где-то – не здесь; стремительные – не уследишь. Вчера ещё были, сегодня уже нет. Разом. Без них пространство онемело. Опустело. Как улей, пчёлами покинутый, или их вытряхнули из него когда-то – равно. Теперь, в отрыве-то, пронзительно по родине тоскуют. Коснись любого. Знаем и мы, как горько с нею расставаться. Одно их лишь, летят сейчас, и утешает – то, что вернутся. Из года в год так. Неизменно. Здесь они вывелись, им тут раздольно. Гнёзда остались – будут ждать владельцев. Никто другой их не захватит. Они, пустые-то, и кошкам безразличны; только когда с птенцами – соблазнительны, да – хорошо, что – недоступны: око и видит, зуб неймёт. Одна из них, косматая, дымчатая, поджав под себя лапы, сидит в эту минуту на коньке старой, заброшенной избы, щурится – размечталась. Ястреб вокруг неё сорок гоняет. Те, белобокие, расстрекотались.
Вот-вот, гляди, появятся синички. Срок им. Тихие. Как первые снежинки. Возникнут. Чуть туже на ухо кто, не услышит. Хоть и певчие. Как будто звон в ушах от них – глухому-то. Между собой по (или на) Морзе разговаривают. Не такие общительные, как косатки. На проводах шумно стаями не виснут, со щебетом в небо дружно не взмывают. К земле жмутся, в промысле; даже и в играх. После, спохватишься, исчезнут так же – не заметишь. Может, и в ельнике уже, на подступах; пока таятся; заночевать решили там – возможно. Не наша печаль. Любая ель их, невеличек, приютит. Кедр или пихта им пристанище. Господь уладил.
Ветер за ласточками увязался – лист шевелится только на осинах, дрожит, Иуду вспоминая. Проводит только, скоро и вернётся. Да не один, наверное, а с тучами – на юге морок уплотняется.
Ученики уже – хочешь, не хочешь, но – одной ногой в школе. Не все. Кто-то ещё обеими увяз в каникулах; эти два-три занятия ещё и прогуляют: воля, рыбалка им дороже школы – после придумают, как оправдаться, – навыкли в этом. Мы им не судьи. Без укора. Кое-кто и – имя пропущено или затёрто – из возмужавших был таким же в свою пору – непутёвым, не образцом для подражания. Но ни сам себе, ни кто другой ему нынче за это не пеняет. Забылось. Кануло ли в вечность.
Церковь. Так до сих пор ещё и называется: там, возле церквы, мол, в самой ли, загляни. Ориентир теперь. Топографический. Корову кто-то потерял, так где искать её, ему подскажут. Двери открыты – зверь любой входи, или скотина. Как на Голгофе – на пригорке. Со всех въездов в Ялань – будто на ладони. Но только стены – это нынче. С глухими – тоже нынче – и слепыми окнами; в прошлом – со знатными оконницами. Кладка прочная: не на два-три года ставилась, не абы как, лишь бы приткнуть, а, Божия-то Богови, на веки вечные – не поддалась напору богоборцев. И ни следа и ни помину, активные и неуёмные, как опарыши, хотели не оставить: весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем… Мир-то какой предполагался, ясно. Церковь им не мать, Бог – не отец. Другим кем-то насеянные ночью. Асебия. Без двух лет семьдесят уже как обезглавлена – ни колокольни нет, ни купола; высятся, может быть, ещё в чьей-то памяти, и в той уж зыбко; ну, во вселенской только – там неколебимо. Не переносят в ней, в церковице яланской, вот и сегодня, а должно бы, Нерукотворный Образ. Незримо разве. Для прихожан, безвозвратно отбывших в разное время из деревни на глиняные заимки, живых у Бога. Мы тут мертвее, чем они. Мы – их, поморов, в основном, да казаков, потомки – выветрились.
Среди усопших нет неверующих.
Это не здесь.
А тут:
Христианство – в прошлом.
Бог будто и не приходил на землю, не умалялся ради нас.
Так порой кажется, вплоть до уныния. Аседия. Будто одно только созвучие. Но так всё рядом.
Уж не пора ли ждать и жателей?
Таинства по телевизору. Или – теперь уже и – Интернету. И антихрист для нас распнётся и воскреснет там, в Сети всемирной, сладострастно. Вывалится оттуда в реальность, дух льстивый. И мы, любве истины не прията и отступив, подчинимся ему, показующему себе, яко бог есть. Примем его, другого, пришедшего в свое имя, не боящегося Бога, не стыдящегося людей, и он успеет хорошо.
Но не открылась ещё тайна беззакония. Во всяком случае – для нас.
Предупреждены были, но вооружились ли? От Зверя.
Речь о Ялани, о яланцах и о нас с ними. Других тут и отсюда мы, из-за ельника, не видим. Только по телевизору. Но те для нас – как с того света: о них никак или только хорошо. Поэтому – никак. Они сами по себе. И мы так же.
Не любо, не слушай, но лгать не мешай. Как раз о нём, о телевидении. Ну, с исключением, конечно. Везде люди. А люди не бывают только плохие. И только – плохими.
Лужи. Где только могут накопиться, там и есть. В каждой колдобине, низинке – сверкают небом отражённым. Ветер отсутствует – изображения не мнёт. Оригинал от копии не отличишь. Ну, только в рамах копии и чуть, быть может, ярче. Земля яланская от луж – оконистая.
Лужи в Ялани называют лывами.
Лили дожди. Слово не то: не лили – заливали. Прорвало будто. Почти всё лето. Гнилое выдалось. На редкость. Никто такого не припомнит. Любого старика спроси, и тот ответит: нет-де, не помню… такой патопы не бывало, мол. Когда-то разве – при царе Горохе. Всё кругом, что не под крышей, волгло, раскисло и разбухло. Грязь не черствеет – свежая всегда, кому-то, может, и на радость. Земля, идёшь, хлюпает, словно взасос целуется с подошвами. Захлёбывается. Картошка портится в ней, разлагаясь. Народ переживает: как без неё-то – основной продукт. Еще ж и напасть – фета с фторой. И лук дрябнет. Горе. Сорняку-тому ладно, того – как чёртом насадило. Вода в Кеми большая. Словно спятила, свихнулась. До уровня летнего, обычного, ни разу за всё это время не падала. Весной взбаламутилась, до сей поры никак не отстоится. То как слеза к этой поре – гальку на дне можно пересчитать. Черви наверх вылазят – подышать. Беда им, почвообразователям неутомимым, – работа стопорится. Рыбакам – кстати: с лопатой бегать и копать не надо, ходи неторопно, как на прогулке, да собирай их, очумевших, в банку. Кто-то и ходит, собирает. Триста рублей за килограмм – так нынче хариуса продают. Таймень – и цену называть не хочется. Но это в городе. В Ялани и за сто никто не купит – не за што: деньги в Ялани быть не любят, хоть тут и тихо. Дня три-четыре погостят, пенсионные или случайно перепавшие, и полетели. Может, на родину – в Москву. Маши им ручкой.
Глобальное потепление – вину сваливаем на него. Ещё – на «гэсы». Есть о чём при встрече или за столом потолковать: куда, мол, катимся, к чему? Толкуем. Чуть не до драки, кто горячий.
Два дня сухими выдались – ни капли с неба. С редкими, одинокими облаками к вечеру на горизонте. Пока на западе и юге. Север молчит, будто отсутствует. Вот-вот заявит о себе. Восток всегда – словно не наш. Может, и установится – кто-то надеется, гадая на погоду. И об этом много разговоров. А о синоптиках – особенно. Язык натёрли. Им не икается ли, предсказателям, за микрофоном-то? Уж достаётся.
Но нет ведь худа без добра: зато без пыли – не стоит столбом после проехавших машины или мотоцикла.
Солнце скоро станет закататься. В ельник. Краснеет – напрягается, готовясь, – островерхий. Ялань пройти ему – задача: не наколоться бы, не лопнуть. Заныривает лучами в пустой, тёмный, без врат, проём бывшего храма во славу Сретенья Господня – мерзости запустения не знает – на всё светит. Его бы воля, многое испепелило бы. А на иное бы и не взглянуло. Как и дождю, ему повелено, однако.
Где небольшим гуртом, но больше порознь, под присмотром милостивого до крестьян и не брезгующего замарать своих риз Николы Угодника, по пожелтевшим уже склонам бродит разномастный скот – малочисленный, не ранешние времена, – дощипывает оставшуюся, им же не вытоптанную и не съеденную, сытную траву. Зима скоро, долгая, лютая, упитываться надо, утепляться. От веку так. Задано. И то отрадно: нет нарушения хоть в этом. Скотом-то, может быть, и оправдаемся – нас ещё терпит, не восстал.
Медведей нынче полно. Чрезмерно. Со всех сторон света сдвигаются сюда, косолапые. Как будто мёдом им намазано тут. В тайге бескормица. Орех не уродился. Ягод мало. Леса выпиливают беспощадно, будто не у себя на родине, а во владениях врага наизлейшего пилами и топорами орудуют, чтобы тому лесники целой не осталось; метеорит Тунгусский меньше натворил, чем лесорубы. Поля не засевают, отступились – на хлеб, от пенсии, хватает, и продают пока тот в магазине. К человеческому жилью зверь жмётся. Скотину драть станет – и ему жиру в зимовку подкопить необходимо, а то не выживет. Залез тут в огород к Винокурову, все кабачки, пестун, стрескал. Убрёл, капусту обдристав, – и ту испортил. Людей пока ещё не трогают, только пугают, но своим братом, больным или слабым, не гнушаются. Большинство в берлоги не устроится, шататься будут. Редкий из них дотянет до весны, до черемши, до первой травки. Выбьют их охотники. Частью, оголодав вконец, и сами околеют. Такова она, правда жизни. Человеку – тому пока сносно, да и таков он: ко всему привыкает, приспосабливается – великий запас прочности в себе имеет; чалдон – особенно живучий.
И вот ещё что следует отметить:
Никто из коренных яланцев, старожилов, не скажет: хариус. А скажет: харюз. И нам, конечно, так привычней. И мы – чалдоны.
Неходко спускается кто-то с Балахнинской горы, шагом редким, нешироким. Сошёл с дороги, чтобы не оскользнуться, не упасть – так это можно рассудить – на не просохшей ещё глине. И по обочине, заметно, не торопится – так осторожен. В вылинявшем брезентовом плаще гражданского покроя, скрывающем колени. В старой ондатровой шапке. Понурый. С ружьём и с вещмешком – пустым, похоже, – за плечами. Белозёров Григорий Павлович. Старик. Левая рука у него бездвижна – висит. От чрева матери. Таким родился. Одной управляется, как кто иной двумя не сможет. Живёт давно и тщательно из-за ущерба – приловчился. Чаще его поэтому и называют: Сухорукий. Но не в лицо, а за глаза. Скажи в упор, он не обидится – смирный; к тому же – правда. Прозвище с детства приросло к нему, так до сих пор и не отпало. Кто это, мол? Да Гриша Сухорукий. Что Белозёров, мало кто и помнит.
Знают в Ялани все друг друга. И его, Григория Павловича, – как облупленного. Всякий издалека определит его – так примелькался.
Выгоняет из огорода забредшую туда, сломав заворы, гнедую кобылу лесника Нестерова Владимира Николаевича. Женщина выгоняет. Расторопная. Рослая, длинноногая, и сама как кобылица. Одна другой стоит. Ругает незло животное, пугая её почему-то Флором и Лавром, в Ялани нет уже людей с такими именами; и леснику перепадает – за то, что выпустил: гуляй, дескать, где хочешь, – вот и гуляет. Кобылу зовут – Ёра. Женщина – Досифеева Катерина. Социальный работник. Под её опекой все преклонные летами и немощные яланцы. Всех-то – раз, два – и обчёлся, так что работой сильно Катерина не загружена. Дров наколет старикам, воды принесёт, в магазин за продуктами сходит да зимой снег от двери и от ворот отгребёт, дорожку к ним прочистит. Молодая, крепкая, ей то не в тягость, в удовольствие – разминка. Лет двадцати пяти, наверное, не старше. Волосы у неё пышные, золотисто-пшеничного цвета. Солнце закатное себя ещё добавило к окрасу – чуть не искрятся. Бежит – растрепались. Заправляет их под платок. Платок штапельный, зелёный. По-спецназовски повязан. У тех – по-бабьи ли, для маскировки, не разобраться. Как от волос платок не загорелся бы – такая видится опасность.
Вышла кобыла из огорода – как из своего собственного – гордой поступью, невозмутимо. Направилась куда-то – в деревню. По её виду – не обиделась. Мордой задумчиво качает – ею земли едва не достаёт – дорога в горку. Ворона на столбе, верее бывшей, покосившейся, сидит, чуть ли не полчаса уже как подвизалась; каркнула звучно на кобылу. Не обращает та внимания на столпницу, не повела даже и ухом – пренебрегает. Ну и ворона от кобылы отвернулась: мол, очень надо; кто-то пойдёт ещё, того, дескать, привечу. Клюв стала чистить вдруг, о столб им шоркая размашисто, – иного нет занятия, так это. По виду – тоже что-то думает – как будто мыслит; глупой назвать её – язык не повернётся.
Подъехала к дому, стоящему на самом краю поросшего муравой угора, красная, как ягода калины в палисаднике, что возле дома, «нива». Остановилась. Машине лет под тридцать, первого ещё выпуска, но смотрится как новая. В добрых руках была, работала ли мало. Ещё резина бы не лысая, то – как колено. Заменить – денег у хозяина, похоже, не хватает – не стал бы с такими покрышками ездить на внедорожнике, по тракту только, в лес на таких не сунешься, конечно. Заглушив двигатель, вышел из машины водитель, дверцей негромко хлопнул. В костюме, с галстуком. В руках портфель кожаный, коричневый, набитый чем-то – книгами, пожалуй. Иван Сергеевич Полуалтынных. Учитель. Физику преподаёт. В Ялани нет школы – давно уже кончилась. Когда Ялань неперспективной объявили, чуть ли не сразу и лишили её школы. Катается Иван Сергеевич в Полоусно, что в двенадцати километрах отсюда, в сторону Елисейска. Туда-обратно. Обудёнкой. А когда-то и в Ялани была десятилетка, и учеников в ней набиралось чуть не до тысячи. В Полоусно тогда же – до двухсот. Теперь – сорок. Первого класса вовсе нет – чудно – как без него-то?! А в десятом классе-два ученика. Года через два, с такими темпами, и вовсе закроют. Такое дело. Демография. Господь управляет, сами ли себя до этого доводим? Сами доводим, а Господь, всего скорее, попускает. В суть нам не вникнуть – глубоко – не погрузиться, легковесным; ветру лишь по земле нас перекатывать.
Пользуясь хорошей погодой – не мочит сверху-то, что важно, и ураганом с ног не сносит, – выколачивает около дома, перед самым косогором, палкой пыль из персидского ковра, накинутого на приспособленную специально для этого, для просушки ли сетей и бредня, жердь, жена Ивана Сергеевича. Спала в ковре, разбуженная, пыль вылетает из него – как с перепугу. В резиновых сапогах, с завёрнутыми и смятыми чуть не до щиколоток голенищами. Икры толстые – их, голенища, выше не пускают. Сапоги – чёрные, заплаты на них-светло-зелёные; словно с глазами – сапоги-то, ещё им рот нарисовать. С речки, наверное, не так давно вернулась – бельё в ограде на верёвке тихо сохнет; ветра-то нет – не хлопает, висит бездвижно. Пришла с речки, и не переобулась – можно подумать. В спортивной куртке поверх платья, не застёгнутой – молния сломана; и не сошлась бы на груди, что очевидно. Платье синее, в горошек мелкий, белый. Волосы русые, завязанные в узел на затылке; узел большой, наверное – тяжёлый. Рот широко открыт – как будто нос совсем не дышит. На верхней губе капли пота. Словно обозлилась на ковёр за что-то женщина – яростно бьёт, из-за плеча, наотмашь; ну, заслужил тот, значит, не иначе. Нина Денисовна Полуалтынных. А в обиходе просто Нина, кому и – Нинка. Бывшая его, Ивана Сергеевича, одноклассница. С первых дней замужества домохозяйка. Лет ей сорок. Полная. Как говорят в Ялани: в теле. Сейчас, трудясь, колышется им, телом.
Взглядами супруги обменялись. Коротко. Как выстрелами – будто и прозвучали. Но не достигли пули цели, на полпути встретились и одна об другую расплющились, и плюха в воздухе повисла. Так представляется, с досужим-то воображением.
Стоит в избе своей возле окна старуха. Глядит в улицу. Как будто. И как будто же – внимательно. Видит что, не видит ли? – ветхая, от зрения отвыкла. Как и от родственников – были когда-то те, теперь уж не осталось; всех их пережила, хоть и их век не заедала. Не помнит точно, кто куда и задевался. По привычке в окно пялится, как в давным-давно минувшее. Много чего в том наслоилось. В нём, что увидеть, выбирает, в прошлом, само ли то себя навязывает; до улицы – бесстрастна – та для неё в другом как будто измерении – избы своей давно уже не покидала. Просто привычней у окна: к нему натоптано – за век-то. Окно не в улицу, а в прошлое – так получается. Что избе, то и старухе-лет одинаково – немало. Изба елового бревна. Желобник крыши – пихтовый, покрылся мхом, порос травой, но и такой, скорей всего, не протекает – привык упорствовать против дождя и снега. Наличник у окна резной, в затеях, не окрашен. И на остальных окнах такие же. Одного мастера рук творение – похоже, и росли руки эти из положенного места – явно. Старуха – Бродникова Прасковья Егоровна. Родом из Полоусно. В Ялань когда-то замуж выходила. Давно дело было – уже как никогда. Слово знат, говорят про неё в деревне. Испортить может, может и исправить – кто что попросит, по заказу. Но не теперь – когда-то, – одряхлела. И то, что знала, слово-то, забыла. Произнести ли ей его никак – язык и губы очерствели. Сглаз наводила, дескать, и снимала. Оговорили, может быть, старуху. Руки у неё за спиной – срослись пальцами. Как теперь будет разрывать их? Стоит – прямая, как жердь, не сутулится. Носом клюёт свой подбородок – весь источила, как желна – дерево-сушину. А нос от этого – тот только заострился.
Сидит на лавочке под берёзой с жёлто-зелёной ещё листвой, пока ничуть не поредевшей. Закинул ногу на ногу. В блестящих на солнце галошах. Без носок. В штанах защитных, камуфляжных. В голубом берете десантника, сдвинутом на коротко стриженный белобрысый затылок. На лбу чёлка – как клок соломы. В одной руке папиросу держит, погасшую, другой – щенка бережно за ухо треплет. Кто-то. Досифеев Стёпа, а не кто-то. По отчеству Петрович. Серый пиджак на нём, двубортный. Пеньжак, по-ялански. По шву на спине распоролся – от ворота до поясницы. Видна атласная подкладка. Муж Катерины и её ровесник. В Чечне воевал. Во второй приём. А по истории – так уж в который. Потом долго лежал в госпитале. В Краснодаре. В Ялань вернулся. Сначала был как не Степан, а тень его – таким явился доходяшшым, еле-еле душа в теле. Ожил, поправился. Мать его оживила, откормила – ни молока, ни сливок на яво не жалела. Всё же до прежнего себя не дотянул – остался сухошшавым. Женился на Катерине, с которой они дружили с девятого класса. Не ждала она его, по разговорам. «Контуженый» – его называют. Не сердится он на это, будто не слышит. Да и те, кто называют, – не со злобой произносят, а с сочувствием – безвредный он, Стёпа, мужик. Кричит, говорят, по ночам, во сне в клубок сворачивается – как от обиды или боли. И сегодня, видно, выпил, нашёл где-то – со щенком-то бы не забавлялся, что-то бы делал по хозяйству – работяшшый. А то расслабился, отвлёкся. С ним, со щенком, сейчас и, по-ялански, разговариват. Тот рядом с ним сидит, на лавочке. Толстенький, как бочонок, неуклюжий; щенок не суки будто, а – тюленя. Упал с лавки. Скулит. Поднял его Степан. Что-то сказал ему. Наверное: «Не падай». Коробок спичек вынул из кармана – прикуривать, поди, собрался.
Пятистенок в Линьковском краю. В левом, от площади, ряду, в центре. Добротный. До большевиков строился – для жизни, не для пребывания, жизни своей и дальше – внуков. Листвяжный. Ни на один бок не покосился, хоть и с какой только стороны – здесь чаще с северной и западной – и сколько ветров ни дуло на него и снежных вьюг ни напирало – устоял, не подчинился. Такой – при добром-то присмотре – чуть не вечный. Хватит на пять, а то и на шесть человеческих поколений – точно. Под крутой четырёхскатной кровлей, сверху по тёсу крытой шифером; уже и шифер остарел – с чернью и прозеленью, как от пороха. Обстрелов тут вроде и не было. Поместье завидное – на ровном месте, с колодцем-журавлём в огороде; журавль — бревно, когда-то – дерево, и голова его – обрубленный когда-то корень; вытянув шею, на кладбище смотрит – то на горё, чуть не на самой её маковке. Из трубы подсобки, что во дворе, дымок игриво вьётся, на фоне неба пропадает. В доме новопреставленный. Печь в нём, в доме, пока не топят, и окна приоткрыты в нём – чтобы покойнику не разомлеть перед дорогой – к селеньям праведным, надеемся мы.
Собака воет где-то – на покойника – оповещает, запоздав.
Завёлся трактор где-то и заглох.
Далеко в лесу лиса звягает.
Сороки всё ещё трещат – так возбудились, растревожились.
Вороны неорганизованно, редко где парами, чаще поодиночке, в ельник потянулись – на ночёвку; спят они чутко – мышь, в траве пискнув, может разбудить их, – когтями лап вцепившись в сучья; во сне не падают на землю – приноровились; внизу не спят – в вершинах ёлок.
Заря – опять на непогоду.
Полосуя небо пополам, с востока на запад, как будто раня – и рана будто кровоточит, – пролетает над Яланью турбореактивный самолёт. Звук отстаёт – не поспевает, и не следит за ним никто – так может где-нибудь и потеряться.
Самолёт, заполненный, как семенами спелый огурец, людьми, сам по себе; Ялань, со своими уже малочисленными жителями, сама по себе – так это выглядит. Со стороны, по крайней мере.
Самолёт силится натужно, сопротивляясь путающей его с птицей и манящей к себе угнездиться земле. Ялань разнежилась в лучах закатных – лететь не надо никуда ей – млеет.
Если их и роднит что, только – небо.
I
ВЕЧЕР
1
Иван Полуалтынных
Уже не в костюме, а в голубой клетчатой рубахе и спортивных, адидасовских, штанах, обыденно, сидит Иван Сергеевич, поджав под стул ноги в домашних войлочных тапочках, за письменным столом, с аккуратно прибранными на нём книгами, тетрадями и журналами, перед компьютером – сосредоточен.
Стоит на столе ещё и глазурованная небольшая крынка, старинного яланского промысла, с торчащим из неё пучком увядших полевых ромашек. Нет на столе опавших лепестков. Стол полированный – бликует.
В комнате мягкий полумрак.
Часы настенные показывают ранний вечер. Пробили только что: семь тридцать.
Внял их гулко-нутряному предупреждению Иван Сергеевич, несмотря на занятость, взглянул мельком на циферблат и убедился с беспокойством: ещё всего лишь половина. Достал тут же из канцелярского стакана простой карандаш, остро заточенный, раскрыл блокнот карманного формата с названием «Для заметок» и помечтал в нём не на шутку, пофилософствовал ли:
«Как часовые стрелки пальцем, умом бы можно было время двигать – вперёд на час бы перевёл… а после бы остановил. Но время – тварь неукротимая».
– Отстают, правда, – произнёс вслух. – На три минуты-то, кого там.
Над домом и далеко вокруг него тишина, какая слух обычно режет, разразилась. Внутри – шум только от часов да от процессора – будто и нет его – привычный. Свет – от дисплея и луны – взошла уже, и не зашторено окно – сквозит сквозь стёкла одинарной рамы. Пола ещё не касается, низкая, но на стене изобразила переплёт оконный, куда попал и куст калиновый, частично – не заслоняет перекрестие.
Отложив блокнот и карандаш, не далеко на всякий случай, прихлебнув из толстой, обливной, яланского старинного же производства, глиняной кружки разбавленного молоком кипрейного, остывшего уже, похоже, чаю, поставив кружку на подставку под горячее – школьный, доперестроечный ещё, учебник физики за седьмой класс, двумя пальцами, подолгу выискивая глазами на клавиатуре нужные буквы и внимательно сверяя их после с возникающими на экране, набивает Иван Сергеевич текст:
«Открытое письмо Президенту РФ.
Господин Президент, я, сельский учитель, не могу пригласить Вас на крейсер «Пётр Великий», а также полетать на стратегическом ракетоносце ТУ-160. На образцово-показательное предприятие, на какой-нибудь передовой завод или в институт, с разрабатываемыми на нём нанотехнологиями. Так как, хоть и испытываю в связи с этим гордость за державу как гражданин, да не имею к этому прямого отношения. Зато готов принять, и с радостью бы это сделал, у себя дома, угостить тем, что найдётся, и провести после Вас на одну из лесосек, что около Ялани. И на это антигосударственное, как мне, сибиряку, потомку осваивавших когда-то это суровое пространство государевых людей, поморов, пашенных крестьян и казаков-первопроходцев, представляется отсюда, из Ялани, изуверство, сиюминутно, может быть, но не понятно для кого, и выгодное, необходимо было бы взглянуть Вам, нами, и мной в том числе, избранному Главе государства. Это при зарастающих полях и воинствующей, смущающей человеческие души и умы, безнравственности…»
В дом входит Нина. Громко, как всегда, хлопнув дверью, – дом будто охнул – пробудился. Пока в прихожей Нина. Топчется – половицы сообщают – их, половицы, будто уплотняет, утрамбовывает. Слышно теперь, как разувается. Разулась. «Толстопятая» – так называл её покойный свёкор, Сергей Иванович Полуалтынных, ею, невесткой, восторгаясь добродушно: мол, не какая-то там пигалица – баба: сама ходит, не сквозняком её мотает. «В зайце прыть и бегучесь, – любил он, Сергей Иванович, повторять, – в кошке пакоснось да вёрткось, в мужике сила, ум и дёрзось, а в жэншыне, сообшу я вам, мягось и дебелось. А той без тела не быват. Одна лишь видимось и пшик».
Направляется Нина, босо шлёпая по крытому светло-коричневым линолеумом полу, на кухню. Чем-то там гремит – не то ведром, не то кастрюлей – переставляет.
Вступает в комнату, включает свет.
Через дверной проём видит мужа в бывшей детской.
– Ты тут, – сказала, как отметила. – А я уж думала, ушёл.
– Куда?
– Да мало ли, куда. Куда ты ходишь…
– Опять?
– Опять. А чё тако-то?.. Куда-то ходишь же… Опять.
В распахнутом красно-белом, полосатом, махровом халате, накинутом на розовую ситцевую ночную рубашку, с болтающимся на шлёвке поясом. Рубашка мокрая – прилипнув, тело облегает выразительно.
Задёрнув окно шторой – по обычаю, наверное, а не по надобности: кроме воздушного пространства, луны да равнодушных к земле туч, а уж тем более – к Ялани, до той и вовсе нет им, отрешённым, никакого дела, в окна заглядывать тут некому – дом на отшибе, на конце не существующей уже улицы Александровской, – Нина включает телевизор и садится на диван, потеснив на нём трёхцветную, безмятежно вылизывающую себе палевый пах кошку, напротив. Берёт с тумбочки, беспорядочно заваленной коробочками, флакончиками и баночками с косметикой, частозубый деревянный гребень и начинает расчёсывать им свои влажные длинные волосы, резким ловким взмахом головы перевалив себе их, тяжёлые, прежде со спины на грудь.
В телевизоре, за бегло сменяющимся кадром, мужским монотонным голосом, словно жителям столицы о затянувшейся плохой погоде на Таймыре или Земле Франца-Иосифа, рассказывается о том, что было в предыдущей серии, которую, как и большинство яланских женщин, Нина не пропустила, а потому к краткому повествованию сейчас и не прислушивается – сама всё помнит, слава Богу.
Не оборачивается на жену Иван Сергеевич. Знает: лицо сейчас у неё розовое, словно с изнанки или, как чаще сравнивает он, тайменье мясо, брови жёлтые, как окуниная икра, халат нараспашку, видны ноги – смотреть ему на них давно уже не нравится. Не смотрит он и телесериал – не пристрастился; время зря только тратить, объясняет.
– Еле отмыла… Жидким мылом, – говорит Нина.
– У? – реагирует Иван Сергеевич.
– Что из Исленьска ты привёз… А той – шампунью – бесполезно. Может, ей срок давно уж вышел?.. С крапивой их прополоскала… Волосы. Обрезать, что ли… Пойдёшь в баню? – спрашивает жена. – Вода там есть. Ещё тепло. Уже устала – с длинными-то плохо… да и секутся.
– Нет, – отвечает ей муж, не отрываясь от монитора.
– Нет – что?.. Не обрезать?
– Нет – не пойду.
– Хоть сполоснулся бы… После поездки. Дорога всё же. Денег отправить надо Ксюше, – говорит Нина, снимая с гребня напутавшиеся на него волосы, скатывает их на колене в шарик и кладёт шарик на валик дивана – в печь после бросит: волосы где попало оставлять нельзя – примета – кто-нибудь на дурное может их использовать.
– Слово шампунь мужского рода, – говорит Иван Сергеевич. – Английское.
– Какая разница, – говорит Нина. – Ксюшкин ещё там оставался… Мужское, женское… если не промывает, пусть хоть английское, хоть разанглийское.
Перестав временно лизаться, но позы не меняя, проследила кошка за движениями своей хозяйки и, не найдя в них ничего для себя интересного, принялась тут же за своё. Человеку – человеческое, кошке – кошачье.
– Получу вот, и отправим, – говорит Иван Сергеевич.
– Много получишь ты! – говорит Нина.
– Ну, сколько получу. Мы проживём…
– Смешно… Когда?
– После десятого.
– Скоро зима… Ходить девчонке не в чем… Сапоги какие-то купить бы. Не в деревне… Тут-то и в валенках… А в городе?.. Вот-вот, гляди, и снег повалит.
– Купим. Может, картошку будут принимать… сдадим.
– Завтра к ней съезжу. На автобусе. Надо узнать, как там устроилась… Кошка-то снова вон брюхатая… Ага, надейся на картошку – гниёт у всех вон… и у нас… на суп не выбрать. И за учёбу заплатить Андрюшке.
– Заплатим.
– Если не завтра – послезавтра, пока не начали… Картошки в зиму накопать бы… И комбикорму… поросятам.
– Спрошу завтра у Чуруксаева, завуча. У него зять муку, зерно и комбикорм продаёт по деревням. Дешевле, может… по знакомству. С юга откуда-то привозят, из-за Исленьска.
– Ага, давно уж обещаешь.
– Его же не было… был где-то… в отпуске. На днях вернулся.
– С травы – худушшые – не сильно растолстеешь.
– Ну, не одной травой, и хлебом кормишь.
– Потом продай таких вот тошшых-то – кто их возьмёт?.. Хлебом-то много не накормишь – тот нынче стоит… Это не ранешные времена… по двадцать булок покупали.
Выключает компьютер Иван Сергеевич, встаёт из-за стола и говорит:
– Ел аза устали, – поморгал, пощурился, помял веки пальцами. И продолжает: – Спина болит. Схожу к Володе.
– Нестерову? – раздвинув руками перед лицом своим волосы и глядя испытующе на мужа, спрашивает Нина. – Чё у него забыл?
– Поговорить надо.
– Ну-ну.
– Да почему такая ты?..
– Какая?
– Спрошу: будут выпиливать тут ельник или нет?
– А если спросишь, и не выпилят?
– Да почему не выпилят-то, выпилят.
– И чё?
– И сеть проверю.
– На Кеми?
– А где же?
– Ну. Давно пора. А то уж рыбы там немерено – прокиснет.
– Ты почему такая-то?..
– Какая?
– Быстро же забивает: муть такая… И лист несёт – тем уж и вовсе.
– Ждать я не буду, лягу спать.
– Да я недолго… Интересно.
Расчесала Нина волосы, убрала их за спину. Гладит теперь кошку и говорит:
– Интересно, как не интересно… Когда только и успеваешь?.. Вроде и старая уже, не молодуха… Совсем недавно же котилась.
Мурлычет кошка – всё ей ладно, было бы тепло, сухо, сытно и не били бы ни за что и ни про что.
– Уж хоть бы ельник-то не трогали. Бора – под корень. Листвяги…
– Ага, не тронут.
– Возле уж самой-то деревни. И березняк весь уже вывезли.
– Кому-то жалко… Снова котят твоих топить мне? Наказанье…
– Где есть подъезд да можно подобраться… И так уже кругом пустыня.
– Ты им скажи, может – послушают. Ты же для них авторитет…
– Опять?
– А чё?.. Учитель. В первом поколении. Они и с мамой бы своей не посчитались, и мама – женщина. Им бы урвать. И не упустят. Это тебе он – лес, а им… везут-то этот… как его… – кругляк.
– Им – не кругляк уже, им сразу – мани.
– Маня… С каким котом-то нагуляла?.. Этот уж, рыжий, надоел. Как у себя, разгуливает по ограде. Да шустрый – палку только в руку… вроде был тут, и уже смылся.
– Смотрят на дерево, а видят доллар… Чуть не до Маковска голо, а там – от Маковска до Томска… Поймать в капкан.
– Его поймаешь.
– Ну застрелить.
– Дак застрели.
– Зато ветрам какое вон раздолье… гуляй где хочешь.
– Да не с одним, наверное, тут много их орало. Прошлый-то раз всё пёстренькие были… И Полуэктовых – откуда прётся вон, с конца деревни!.. Ничё не держит их-ни дождь, ни ветер… И гряды все мне порешили… Кроты и эти…
Накинул Иван Сергеевич куртку, обулся в сапоги и дом покинул. С непокрытой головой, как говорят в Ялани – голоушим.
С крыльца спустился. Вышел из ограды.
– Раньше сезон им был, теперь… Сегодня только вот не дует.
За воротами уже легче.
Втянул в себя чуть влажный воздух, после протяжно его выдохнул.
– Как-то угомонился. Ненадолго.
Тут уж никто не остановит, не задержит-ни дождь, ни ветер. Случись вдруг – и ни землетрясение.
И время легче скоротать, а то так тянется – невыносимо.
– Тучки по югу-то вон, морок.
Тепло.
Светло – не мгла кромешная.
Тихо. Только кузнечики звенят. Но это – музыка – не шум.
Ельник голубой – олуненный. Ни звука из него. Вовсе уж сказочный, таинственный. И не пугает. Бабой Ягой и Серым волком. Как было в детстве. И ни медведем, бывшим мельником, из-под моста когда-то и Христа пугавшим.
Над Кемью, Бобровкой и Куртюмкой туман неплотный поднимается; за берега не выползает. Болотце Мыкало – собрался и над ним, его – как блюдечко – отметил, планщик. А сам – мерцает от луны. Болотце с водьями – окончатое.
В деревне кто-то где-то разговаривает. О чём-то. Далеко отсюда – не разобрать. Покойник есть – быть может, и о нём. Скорей всего. Ещё вчера его, мол, видели; и не такой уж, дескать, старый – был-то. Скрипит колодезный журавль – и тот участвует в беседе, то головой в небо, призывая его в свидетели, упрётся, то хвост к нему бесстыдно задерёт; только всегда ко всем с одним и тем же – с тоскливой жалобой на жизнь: когда же, мол, его в покое-то оставят? И отвечает сам себе: когда людей уж тут не будет. Похоже – скоро. Тогда и сам помрёт – завалится. Что в мире вечно?
– Яланцев не будет, пекинцы поселятся – свято место пусто не бывает. В этом и вечность.
Из Култыка, растянувшись, как партизанский отряд, длинной цепью, бредёт запоздавший скот, телята и взрослые. Всё шли молчком, и замычала вдруг вожатая корова – недоёная; хозяйка ждёт – её предупреждает: всё, мол, бросай, доить меня готовься. Все уж глаза хозяйка проглядела – несомненно.
Мелькают в воздухе нетопыри, бесшумные – как водомерки.
Жуки гудят. Нехрущи. Пихта молодая в полисаднике – за ней настойчиво ухаживают – как обезумели. Растанцевались.
Едва ли не бегом спустившись и так же, шаг не замедляя, поднявшись в крутой, но не глубокий лог, по которому только весной, от дружно тающего снега, да летом, после сильных ливней, ручей к Куртюмке устремляется, сейчас безводный, прошёл Иван Сергеевич пустырём – когда-то длинной, чуть ли не в километр, Лотовой улице, затем короткой – бывшей Забегаловкой. И в ней когда-то три избы стояло. Две рядом, а одна наискосок, через дорогу. И населяли эти три избы однофамильцы-родственники – Есауловы. Чтобы их в разговоре различать, к фамилии приставка добавлялась – прозвище. Афанасьевские, Федосовские и Коноеды. Как добавлялась, так и добавляется: в деревне нет уже ни одного носителя такой фамилии и с таким прозвищем, но в людской памяти они остались.
– А чья заимка тут стояла? Есауловская. Это которых? Афанасьевских. А чья – на Кекуре? Федосовских. А Коноедов-то? У этих земли были на Сосновом… Спросил бы я, так и отец бы мой ответил.
Драчливый был, их вспоминают, корень. Нос, говорили, или кулаки зачесались, выпей для смелости, хмельным в одушевись, и направляйся в Забегаловку – почешут. Самыми лютыми считались Коноеды. Комар обидит их, тому не спустят – из всех трёх изб сразу, как мураши, выбегут, мол, и отлупят. Всегда, когда проходишь тут, дружно на ум являются, грозятся – дерзкие.
В Ялани три их было, Забегаловки, но две другие были тихими.
– Ни от одной уже и следу.
Миновал большой, под жестяной зелёной крышей, с балконом и с глазастыми верандами, дом Истоминых. Свет в окнах не горит. Луна в них лишь – как будто внутрь её не пропускают – отражается; сама, в пустой, не хочет ли входить. В субботу, как на дачу, приедет хозяин – печь в нём протопит. Обычно. Переночует и уедет в город, где живёт, семейный, до следующей субботы, до праздника ли какого – до нерабочего-то дня. К себе на родину, не на чужбину возвращается – побыть. Ведь не одной же печки ради. Сейчас в нём, в доме этом, никого. Отлучились из него дядя Николай и тётка Елена Истомины – навечно. Он им тут больше не понадобится; но дом-то помнит их – как будто поджидает; и к нему вот, к Ивану Сергеевичу, зорко с надеждой поприглядывался – обознался. Ну а как только распознал, так интерес к нему утратил сразу – на ельник окнами уставился, не заслоняясь от луны.
– Тоскливо как… Уж никого не остаётся. Из коренных-то.
Вышел Иван Сергеевич в Линьковский край. Кромкой дороги следует теперь – обходит лужи. Теперь в Ялани-как в сыром всегда осиннике. Так трактора дорогу размесили. Раньше, ещё при старой власти и при МТС, разъезжать на тракторе по улицам села строго-настрого запрещалось, им предназначена была одна дорога: из гаража – и сразу за околицу. Теперь гараж – по всей Ялани. И лесовозы, и трелёвочники. Нет только танков. Было село, теперь – деревня, и та – как Прохоровка после боя. Скоро и с карты уберут. Душа от этого немеет.
– Так к нам, к дерёвне, и относятся. И относились. Как к слабоумному паршивому. Только шпынять да поучать. С пренебрежением. С презрением. Со знанием – как будто тут они и родились, тут они выросли. Тут они будто и живут, а не глядят на нас из пролетающего самолёта. Ну, в лучшем случае – как дачники. Ни почитать кого. И ни послушать… Как сговорились… Били одни, другие добивают. Да и не сами ли себя… злые-то мы… как Коноеды. То кровь, то сопли… По колено. Включи вон только телевизор, сразу насытишься по горло. Как упыри. Уже в Ялани-то – и то… Ну, тут-то, ладно… Между собою поругаются, за рубль душу не погубят, жизни другого не лишат. По пьянке разве… Да и такого пока не было… Дождёмся. Скоро естественно все, как пещерные медведи, вымрем. И будущие археологи нашего кладбища даже случайно не найдут – на нём китайцы будут лук выращивать. А предки наши бы не допустили… Так, что ли, выродились мы?
Ещё жилой Линьковский край: то там, то тут ворота стукнут глухо; собаки лают; в чьём-то хлеву, наверное, овца как будто ясли, слышно, гложет – судя по звуку, можно так решить; не мудрено и ошибиться.
И фонари кто-то зажёг. Светят, неоновые, по-мертвяцки. Как-то нелепо – при луне-то. Входит та в силу – вестью благой от солнца рассиялась.
– Включил же кто-то, надоумился.
Обычно он, Плетиков Василий Серафимович, с началом темноты включал и на рассвете выключал их, фонари, – в Ялани к этому привыкли. На столбе, напротив его дома – пока его ещё, наверное, после, как вынесут, уж очужает, – висит общий рубильник. А потому он, дядя Вася, и заведывал. Ну не ходить же каждый раз сюда, утром и вечером, кому-то издалёка, на край света не таш-шытса. И делал это дядя Вася добросовестно – днём не маячили светильники, зря не горели. Нынче-то вряд ли стал бы подниматься – сразу ко многому вдруг интерес утратил. И к фонарям, пожалуй, тоже. Может, про них и помнит он, Василий Серафимович. Душой, возможно, озаботился. Да встать никто ему не позволяет. А сам собой не в воле уж распорядиться: узнал вдруг, что раб, теперь – послушен.
Лесник, Нестеров Владимир Николаевич, бывший одноклассник Ивана Сергеевича, около дома. Лежит под колёсником, ремонтирует. Ноги видны его и голос слышен из-под трактора. Подстелил под себя что-то. Шкуру, наверное, овечью?.. Нет, полушубок.
Младшая дочь его, Валя, стоит рядом. Юница. В девятый класс нынче пойдёт. Ключи отцу, по его команде, подаёт да гайки, шайбы и болты от него принимает, в банку их складывая, – чтобы не растерялись ненароком и после долго не искать их. Помощница. Знает, какой ключ торцовый, какой – рожковый, накидной. На девятнадцать, на семнадцать. И учится Валя в школе на одни пятёрки. Отличница. Как и две старшие сестры её в своё время-уже студентки. Счастливые они, Нестеровы, в дочерях-красавицах. За отцом всегда – как лоскутки. Так говорят про них в Ялани. Куда бы он, отец, на какую работу ни отправился – сено косить, дрова пилить, копать картошку ли, – с ним и они. Могут и с лошадью управиться – запрячь, распрячь и даже спутать. Ну, это ли не радость? Так рассуждает он, Иван Сергеевич. В его семье история иная. Жена виной – избаловала, дескать. Но что поделаешь, как уж сложилось. Прожить заново, набело ли, не получится. Если могло бы повторяться… Тогда б и старость не пугала. Так рассуждает он – Иван Сергеевич. И в том, что прав, не сомневается.
Тут же и Винокуров. Дядя Миша. В камуфляжных, бледных уже от частых стирок, шароварах, заправленных в длинные шерстяные серые носки. В калошах грязных. В камуфляжной же панамке. В не застёгнутой ни на одну пуговицу телогрейке, как говорят в Ялани – нарастопашку. Из кармана телогрейки торчит пластиковая полторалитровая пивная бутылка – в ней что-то булькает. Грудь в тельняшке. Не держится спокойно дядя Миша. Не потому что под крутым градусом. Всегда так. Ходуном ходит. Как на шарнирах. Жена его, Марья Карповна, говорит про него, про мужа: он с матюком на языке и с шилом в заднице родился, и дать пинка нельзя ему – ещё наколешься, мол; смеётся при этом Марья Карповна, добродушная. Лежит она – так про неё говорят, – на один бок парализованная. И он такой же, дядя Миша, то есть беззлобный. Во лбу у него, поверх панамы, торчит фонарик на ремешке с молчащими пока светодиодами – вдруг да понадобится, мало ли. И днём с ним ходит – вдруг померкнет.
Все – как на сцене – под прожектором; подвешен тот, яркий, под стрехой и включён намеренно – целенаправлен в сторону Белоруса; кучно вьются вокруг прожектора мотыли и мошки, слепые будто, тычутся в стекло.
– Добрый вечер, – приветствует Иван Сергеевич бывшего одноклассника, его дочь, свою ученицу, и дядю Мишу Винокурова, односельчанина.
– Здрасте, Иван Сергеич, – потупив почтительно глаза, отвечает Валя тихо. Играет с ней бусая, на барсука похожая расцветкой, лайка. Прыгает, звонко и весело повизгивая, перед девочкой и норовит в лицо её лизнуть. Отворачивается Валя нерешительно и говорит ей, собаке, словно стыдясь за неё перед посторонними, вовсе уж шёпотом: – Мешаешь, Найда, отойди.
Найда не унимается – ещё не взрослая, в отличие от Вали, – с утра до вечера забавы требует.
– Привет, – говорит Винокуров. – Виделись уже. Цирлих-манирлих. Утречком. Я в магазин за пивом шёл, а ты поехал в Полоусно. Я помахал тебе. Не видел?
– Видел, – говорит Иван Сергеевич.
– Ну дык… не горе – не беда, – говорит дядя Миша. – Я тоже видел, что ты видел… что ты внимание-то обратил, Сергеич.
– Тебя, такого, трудно не заметить, дядя Миша, – говорит Сергеич. Ты – как спецназовец в горячей точке, в таком наряде. А в магазин-то – рано вроде было? Он же в двенадцать открывается.
– Кому и рано, а не мне… Купил-то я яё вчерась, бутыль-то эту. Спрятал в крапиве, у забора. Есть у меня там тайничок. Старуха бы моя, – говорит дядя Миша, – один идь хрен выпить яё мне не позволила, из рук бы вышибила батогом, если с кровати-то бы дотянулась. Чуть зазеваюсь, достаёт. С водки, мне говорит, ты, мол, дурак, а с пива – просто сшамашедшый… Вчерась чё выпить было и без пива. Я и оставил на похмелку, яё домой-то не понёс.
– Предусмотрительный.
– Дык жизь… научит – не дурак-то.
– Здорово, – узнав по голосу Ивана Сергеевича, из-под трактора отзывается лесник. – Куда направился?.. Найда, а ну-ка!.. Ишь, разбесилась тут она.
Уходит Найда, ложится в сторонке, около тележки тракторной, привалившись боком к её колесу, – совсем, похоже, не обиделась; там будет ждать, пока не позовут. Глядит притворно сиротой на Валю, сигналя веками, – запрашивает. Валя, стесняясь за неё, глаз от земли не отрывает.
– Сначала до тебя, – говорит Иван Сергеевич. – Потом до речки.
– Угомоню – на цепь-то сядешь… То расказокалась… Трактор сломался вот… Когда теперь налажу.
– Что с ним?
– Больше лежу под ним, чем езжу… Кардан… Менять, наверное, придётся. Пока снимаю – надо посмотреть.
– Да мне не трактор…
– Старьё же всё – поизносилось… Воздухом вышел подышать?
– Да вроде этого.
– Чуть не ровесник… Если не наш, то Валин-то-уж точно… Дело хорошее, погода-для прогулки.
– Не знаешь, – спрашивает Иван Сергеевич, – ельник пилить будут?
– Где только взять его, другой-то, в наше время… на передний привод? Покупать новый – без штанов останешься, никаких денег не хватит… Ельник?.. Какой?.. Валя, подай-ка на семнадцать. Тут мастерил уже я – понавесил всякого… Да хоть до дома-то добрался своим ходом, его оттуда не тащил… Рожковый.
Показалась из-под трактора чёрная от грязи и мазута рука, вложила Валя в неё ключ. Рука исчезла.
– Раньше в любой гараж пришёл и – за бутылку…
– Пивка кто будет?
– Нет. Да наш… вокруг-то. Пиво бы было, то – моча…
– A-а, этот… Выделили…
– Сколько?
– С пива, дядя Миша, – говорит лесник из-под трактора, – ссат криво… Валя, не слушай… Два гектара. Тут, у Пятой-горы, по летнику… Отвёртку… Гравер присох-не отодрать… Так прикипел ли?., нагревалось.
– К деревне?
– К вышке.
– A-а. Туда… Ну, всё равно, – говорит Иван Сергеевич. – Почти что на виду.
– Цирлих-манирлих, – говорит дядя Миша.
– Да, уж впритык, – говорит Владимир Николаевич.
– Скоро к нам в палисадники залезут, – говорит Иван Сергеевич. – И в них всё выпилят под корень.
– Ну дык, – говорит Винокуров.
– Вполне… А я подумал, – говорит Владимир Николаевич, – ты на рыбалку хочешь съездить в выходные. Идёшь зазвать… Но не могу вот… Угораздило. И тракторишко, Бог даст, если налажу, сено метать надо… Копны гниют… по Боровой дороге. Уж после как-нибудь. Там же разделали… по пням-то наскакался… и где-то ладно угодил вот… согнуть такое, надо умудриться.
– Значит, весь выпилят, если возьмутся… Да на рыбалку ещё рано, – говорит Иван Сергеевич. – Харюз не катится, вверху стоит, на перекатах.
– Не кувыркнулся ещё как-то… Да как так весь… Кто им позволит?.. Если отведено конкретно два гектара. Вряд ли. Рано, конечно. Заморозков путних не было, и лист особенно ещё не валит… Пока не катится. На перекатах ещё, точно, – говорит Владимир Николаевич. – Где-то уж с середины сентября.
– Не горе – не беда, – говорит Винокуров. – Тогда я сам… маленько надо.
– Ты не смотри на нас, опохмеляйся.
– Опохмеляются с утра… Тут уж от горя… Я – предложил, вы – отказались.
Вытянул из кармана телогрейки бутылку, открутил крышку Винокуров, глотка два, столько же выплеснув при этом на тельняшку, из горлышка шумно произвёл и сунул бутылку обратно в карман, там на неё и крышку навинтил уж.
– Чуть не закроешь – выдыхается.
Запахло солодом и спиртом.
– Пиво как пиво… чё с яво – не водка, – говорит дядя Миша. – Кто еслив стал бы, я бы сбегал…
– Сами хозяева – никто нам не указ: что хочу, то и ворочу, – говорит Иван Сергеевич. – Нужно им чьё-то позволение… А как они Мордовский бор и Волчий тут же, следом, выпилили заодно?.. Кто позволял?
– Ну, доберутся и до Мокрого, – говорит Владимир Николаевич.
– Кто б сомневался… И лес был первой категории. Рядом с рекой, вплотную к берегу. Раньше не трогали, и при советской даже власти, даже в войну… Там только санитарная ж должна была быть вырубка, – запальчиво говорит Иван Сергеевич, наболело. – Так обещали. Было и в газете. Только, мол, проредят. И проредили… Нет, дядя Миша, я не буду – мне завтра в школу. Да и пиво…
– Ну, дык а водки-то?.. Отправьте… Наталья даст, – спешит заверить дядя Миша. – Ей идь, один хрен, кам-мирсанке… там лишь бы выручка… ты к ей хошь ночью заявись, в дверь тока шибко не ломись, пальцем в окошко тока тюкни – и начеку уж, ушки на макушке… Если не набралась, конечно, в титьку и не лежит воронкой кверху… Вроде уж вышла из запоя-то. То и корову ж не доила. Та по деревне с рёвом бегала, как заполошная, из края в край металась по Ялане… Дык засушила – больно ж коровёнке. Так с самуёй бы – и узнала б… Три недели, как отмерила, – говорит дядя Миша, раззадорился, – с Ильина дня отгуляла… со своего-то дня рождения. Она ж – второго… Как Конституцию – наотмечалась. Незыблемо. На пару с Гошкой, с мужиком-то – какой-то новый на яё батрачит. С Ильина дня, сама смеётся над собой, дожжы обычно затяжные начинаются, а у меня – на водку жадось неуёмая, мол… Чё-то там в ей, в её-то организьме, сильно уж связано с природой – круговорот прямо какой-то… Вот где здоровье, не чета нам… Попей-ка столько да без отдыху. Видел вчерась яё – на смерть похожа. Чума – стоит там – за прилавком. Но вроде трезвая была, хошь и, по роже, никакая. Зенки – наскрозь затылок видно… Ну, дык и я… не стану прибедняться. А то спалкал бы, далеко ли…
– И мне нельзя – работы много, – говорит Владимир Николаевич. – Один пей… Ну, там-то да… там-то – конечно… В наглую. Запустили козла в огород капусту охранять… Наохранял. Смели. Как крошки тряпкой со стола… Тут запретили им, они – в Исленьск, там разрешили. Если в Исленьске не получится, в Москву поедут, там добьются – с мешком-то денег…
– Ну да, с мешком-то – убедительно. Даже и с нашими.
– Ещё бы.
– У них расчёты не в рублях.
– Да чё рубли им?.. Не валюта. Так только, чтобы обменять… А на плеса, в Глубокое, теперь не сунешься – туда дорогу раздерьбанили – листвяг оттуда вывозили. На своих двоих только – надёжнее… Или на вертолёте. А на моём-то – лишь до Вязмино, сразу за ним – там месиво сплошное… Или уж на летающей тарелке.
– На той-то – ладно бы…
– Не горе – не беда… Или на танке.
– Да там и танк… На брюхо сядет-то… Другим танком его после только вытаскивать?
– Ну, хоть до Вязмино, и то… Дальше уж можно и пешком. Пораньше выйти и с ночёвкой… И народ, главное-то, – говорит Иван Сергеевич.
– А чё народ?
– Когда не надо, машет кулаками – горазд. Даже не пикнул, не возник.
– А как тут пикнешь? – говорит, так целиком и не показываясь из-под трактора, Владимир Николаевич, всегда, о чём бы речь не шла, спокойный. – Тут хоть запикайся, кто-то услышит. А и услышут, толку-то для нас… Народ как народ, – говорит Владимир Николаевич. – Вечно. Решают всё, сам знаешь, деньги. В Москве, им там до нашего бора и ельника, как мне тут до дохлого карася в Монастырском озере… Да и в Исленьске. Кое-кому и в Елисейске… Лишь бы карман набить зелёненькими, а там трава хоть не расти. Чё им наш ельник? Они его в глаза не видели. До нас им так же – никакого дела. Да и вобще-то… до людей. Мы для них нелюди, подсобный матерьял… и сам всё знаешь, видишь, что творится.
– Вижу, – говорит Иван Сергеевич. И говорит: – Глаза бы не смотрели.
– Да уж.
Молчит дядя Миша – размышляет.
– Так, языками потрепали, повыступали чуть и успокоились. Сопротивленцы. Все же вокруг – и Елисейск, и Милюково, и деревни – пользовались, – говорит Иван Сергеевич, – чернику, бруснику, голубику и грибы брали. И так приехать отдохнуть – такой тут воздух… И охотились. А в Айдаре вон люди не позволили. Там тоже бор хотели выпластать. Живут им, бором. Отстояли.
– То в Айдаре – там кержаки.
– А мы чем хуже?
– Значит – хуже.
– Что, измельчали, выродились, что ли?
– Хребёт-то, точно, нам сломали… долго гнули.
– А кержакам?
– У тех он крепче, значит, оказался.
– Ну уж. Хотя… Сейчас сюда бы Че Гевару…
– А Че Гевару-то зачем?
– Ну, раз мы сами уж не можем…
– Что?
– Постоять-то за себя… Надо валить, никто ж не спорит. Стране лес нужен. И на экспорт. Не запретишь. Было и будет, – говорит Иван Сергеевич. – Сосна закончится, начнут пилить осину.
– Давно уж начали… везут.
– Ольху – и ту китайцы купят.
– Купят, – говорит Владимир Николаевич. – На палочки… Им тоже надо чем-то кушать.
– А пусть на вилки и ложки переходят, как все люди.
– Их не заставишь.
– Лес изведут наш, и заставишь…
– Привыкли к палочкам.
– Отвыкнут… Или из пластика пусть делают, пора уж… Ладно, валили бы нормально, – говорит Иван Сергееивч, – а то же… Ноги сломаешь – не пролезешь. Лесину свалят, десять рядом вывернут и стопчут. Бревно возьмут, а пень в два метра и вершину с сучьями оставят. И всё изъездят, исковеркают. Ну, что рассказывать, все знают… И возле самой-то деревни.
– Им так обходится дешевле, – говорит Владимир Николаевич. – И на дорогу тратиться не надо. Тут же: подъехал – и бери. И близко – тоже экономия.
– Мало ли, что… Им – экономия… Но не они же эти-то торили, а предки наши… После себя-то хоть бы восстанавливали, – говорит Иван Сергеевич.
– Цирлих-манирлих.
– От них дождёшься…
– Ну, а мы сами-то?
– Грудью вставать?
– А хоть и грудью.
– На той неделе технику уж будут завозить.
– Сжечь бы её.
– Сожги – тебя же и посадят.
– Где-то ж палят. Вот, в Новгороде, слышал…
– И что, теперь там лес не пилят?
– Пилят, наверное… Дело не в этом.
– А в чём? – спрашивает Владимир Николаевич.
– В народе нашем, – отвечает Иван Сергеевич. – Дайте, я сам верёвочку намылю…
– Да так ли уж?.. Стране же надо как-то выживать… после такого.
– Много страна от этого имеет… Если б стране, а то ведь жуликам… Нефть пусть качают, – говорит Иван Сергеевич.
– Ну, раз проворнее они, чем остальные, с них пусть начнётся… И нефть качают, – говорит Владимир Николаевич. – Газ продают… Конечно, надо как-то контролировать. Но как?
– Да как!.. Многие кормятся от этого. Как контролировать… Ну, как-то. Надо, чтобы не только жуликам давали жить.
– Ты отличи его, на лбу же не написано…
– А, это только разговоры.
– Ну так а чё мы ещё можем? Поговорить…
– Народ безмолвствует. Обычно. А это так лишь – потрепаться.
– Ты сам-то чё, Сергеич, не воюешь?
– А я один…
– И все мы – так же…
– Ага. Не горе – не беда… Оно – конечно. Я, пареньком ещё, в расцвете сил, в конце сороковых и в начале пятидесятых, горбатился и наживал себе килу в Средне-Кёмском леспромхозе. Яво уж нет давно, закрылся. И школа даже там была, четырёхлетка. Ну, вы слыхали… По Кеме тут, – говорит дядя Миша, ещё бойчее заприплясывав, как будто выпитое пиво в нём вдруг заиграло сербиянку, как говорят в Ялани – серберьянку, или задорную камаринскую. – Дык мы, с мая месяца, а то, бывало, и с апреля, как тока снег когда сойдёт, грабельками все сучья, вплоть до малой веточки, сгребали в кучи. А как октябирь месяц наступает, и до Седьмого чтоб поспеть, идём, сжигаем эти кучи. Уже по снегу… А чтоб пожара не устроить, то идь и сядешь. Вот был порядок. Ну, дык тогда – ещё при Сталине. А тот-то – ох уж… При ём бы так не распоясались, как эти… нынче. Уже уран бы добывали… В борах-то было – на боку катись, и после вырубки, там хошь на чём, и на машине ездий. Можно иголку было отыскать.
– Иголку – хвойную?
– Да нет, такую…
– Вот ведь могли же.
К дому Плетиковых, что напротив, чуть наискосок, брезгливо объезжая лужи, с выключенными фарами, только с глазастыми подфарниками, почти бесшумно, как будто с заглушённым двигателем, подкралась машина. Иномарка. Остановилась. Из неё, захлопнув мягко двери, вышли люди и, тихо между собой переговариваясь, скрылись в ограде. Двое мужчин, без головных уборов, и три женщины, в чёрных платочках. Зашли – ворота не закрыли – как для кого-то.
– Дочка младшая. Тамарка. С мужиком… С имя ещё какие-то. Этих не знаю, – говорит дядя Миша, на время перестав приплясывать.
– Друг твой умер, – говорит Иван Сергеевич.
– Царство Небесное. Скоропостижно. Предупредил бы хошь. А то – как оглоушил, – опять приплясывает дядя Миша, словно он босиком стоит на раскалённом, плечами двигает, руками дёргает, как урка перед фраерами. И говорит: – И сам, наверное, не собирался. Мне-то бы мог шепнуть уж, по секрету… Был сёдни у яво, – говорит дядя Миша. – Попроведал. То всё «гы-гы» идь да «га-га» – не унывал-то, и – просмешник. Лежит, молчит теперь… будто немтырь. Никто таким яво ещё не видел тут. Ну, чё… не горе – не беда. И все там будем. Может, я это… Помянуть-то.
– После помянем.
– Чё б не сёдни?.. Пока совсем-то не остыл.
– От тебя, говорят, шёл.
– Теперь теплее уж не станет… Да от меня, ребяты, от меня. Чё уж правда, то уж правда. Живым яво последним видел я – так получается. Хошь попрош-шались, обнялись… Да мы и выпили – маленько. Кого там – литру на двоих… за целый вечер… Недоосилили, осталось с полстакана. Но. Как нарочно – на помин-то… чтобы с утра не шариться мне, не искать. Случайно, чё ли?.. Проводил. За ворота. Разошлись. Я – в ограду, он – к себе. Подался. Бодрый. До дому много ль не дошёл, упал и умер. Вон – у столба. Умер – и упал, – гадает дядя Миша, – или упал, а потом умер?.. Ночью-то было минус два – передавали… Утре-то и ледок на лужах был, растаял быстро… Когда Таисья уж хватилась… Когда проснулась, среди ночи: нет Серафимыча и нет… Пошла… Ну дык… знатьё бы, то – конечно. Вошёл, сказал яму: здорово, – а он как будто и не слышит… я аж заплакал… так никогда ко мне не относился… как не товариш-ш. Хошь просмеял бы, что болею… что голова-то нездорова.
– Вы же ругались с ним частенько.
– Ну, не без этого… Дык и мирились.
– Когда будут хоронить? – спрашивает Иван Сергеевич.
– Пятница, помер-то, ну, значит, в воскресенье.
– A-а, в школе буду. Не смогу.
– В субботу тут ещё – чтоб попрош-шаться… А в школе чё?
– Так тридцать первое…
– А воскресенье-то?
– И что?.. Ладно, на Кемь схожу. Сетушка там – проверю.
– Ночью-то?.. Валя, молоток.
– Вечер ещё. Не ночь. Да и светло вон… Она у берега, в курье… Одно название – сетушка. С портянку, – говорит Иван Сергеевич, – не больше… Из старой сделал – место целое в ней выбрал… Ставлю-то так уж, ради баловства… Палкой достану да встряхну. Вряд ли попало что – вода большая.
– Рыба не ходит… это точно, – говорит Владимир Николаевич. – И у меня мордушки, проверял, пустые.
– Цирли-манирли, – говорит Винокуров. – Она воды боится, чё ли? Она же – рыба.
– Корму полно несёт – не ищет.
– Ищет, где глубже, говорят. Сергеич, будешь?
– Нет, дядя Миша.
– Ядакэто…
Запахло солодом и спиртом. Даже и воздух будто сморщился, чуть не чихнул, – с таким настоем и так терпко.
В ограде у Нестеровых загремели цепями собаки – вынесли им поесть, понять не трудно. Не лают, не дерутся. Говорит там кто-то что-то – с улицы не разобрать. Жена Владимира Николаевича, наверное, Татьяна. Больше и некому. Она, конечно. Две старших дочери – так те уже в Исленьске. Конец каникулам – уехали учиться.
Туда же, в ограду, легко сорвавшись со своей лежанки временной и, словно барсук в нору, скользнув ловко в лаз возле ворот в заборе, и Найда устремилась, сразу забыв, как кажется, про Валю.
Попрощался Иван Сергеевич:
– Ну, до свидания.
– Давай.
Пошёл.
Слышит:
– Не горе – не беда…
– Валя, подай-ка монтировку.
Собаки лают.
Гул из поднебесья.
Прямо под ним Ялань. Под поднебесьем.
Лишь в доме Плетиковых тихо, как будто нет в нём никого. Может, и нет: там, изнутри, в другом дом измерении, и все слова там в цифры переводятся – считать их только, а не слушать. Один. И… не сколько…
– Нет. Ноль и два. Нет, ноль-два-два… Скучно тут будет без него-то… Весёлый был Василий Серафимович.
Свернул с улицы Иван Сергеевич.
Прошёл вдоль изгороди. Тут тоже улица была когда-то.
Идёт теперь краем угора, с него не спускается. Когда-то были здесь задворки.
Трава, мерцая, серебрится.
Роса не пала на траву – шуршит, сухая, – семенит.
Куют кузнечики – стрекочут. Один замолчит, другой примется. Но общий хор не умолкает. Когда настанут холода – забьются в кузницы, их не услышишь. Скоро. Долго морозов лютых ждать здесь не приходится – Сибирь. Ещё и – Север. Уж не кузнечики, а кузнецы – они, морозы. И не стрекочут, а трещат. Представить жутко. Как выживали люди тут?.. Но выживаем же.
Туман сгущается в низине, готовясь к ночи, – ему теплее так, наверное, – стеснившись. Не расползаясь широко и высоко не отрываясь, – такой он плотный. Как деревенская сметана. Ложку поставь в него – не упадёт та. Так и представляется. Столбы ж торчат – пока не падают, хоть и накренились немного – один туда, другой сюда. Под ним, туманом-то, асфальт сверкает матово, свет не умея отражать, – тракт пробегает. Екатерининский. Он же и Старо-Гачинский. Кому как нравится, тот так его и называет. Немало видел он кандальников. С тяжёлой думкой в головах. От Елисейска был до Гачинска пробит. Трудов-то сколько было вложено. Теперь забыл уже, куда и вёл когда-то. Здесь ещё действует, до ближних деревень, а там, от Гачинска, давным-давно уже затянут лесом. Словно поссорились однажды эти города и перестали сообщаться. Вполне возможно. История. Чего в ней только не случалось. Место могло иметь и это.
– Должно же что-то там остаться… Какой же смысл?.. Всё – как в трясину. Может быть, и сейчас бредут там каторжники – виртуально?
Едет по нему, по тракту, в данную минуту мирно легковушка, вряд ли в историю-то посвящённая. Сама в себе сосредоточившись. Урчит – как сытая кошка. Не далеко уже ей до моста через Бобровку. Но не спешит – плохая видимость. Вязнет свет фар её в тумане. Коль – как сметана, было же отмечено.
Катится за машиной мотоцикл, не обгоняет: словно слепой с поводырём – фара не светится у мотоцикла. Оглушает рёвом мотоцикл всю округу – без глушителя.
– Придурок… Не Шарипов ли Андрюха?
Как в немом, дозвуковом ещё, кино, летает птица. Бесшумная – как мизгирь. Хоть и крупная, но будто – невесомая. Из одних перьев словно. Или, вернее-то, – из пуха. Так можно её себе представить. Можно и с привидением сравнить. Без внутренностей – как чучело. Не уследить за ней: мельком застит крылом луну, перед лицом порхнёт и потеряется, из ничего возникнет снова вдруг, опять исчезнет – играет будто, не охотится – досужая. Но знамо – хищник.
– Глаза, иду, не выклюнет, надеюсь.
Луна.
Светит.
Бывают вечера такие – лунные.
И этот.
Чтобы заметить в ней ущерб, надо быть зорким, как бинокль. Или – подзорная труба. Будто в руках её, луну, сняв с небосклона, кто-то повертел и с краю пальцем чуть примял нечаянно, неосторожно-даже не выкусил, не выел. Метеоритом, мало ли, чуть чиркнуло. Нож начинают так затачивать – легко касаясь.
Крадутся мимо неё – хоть и чёрные, но – полупрозрачные, как капроновые колготки, тучки. С золотыми окаёмками – как от неё, луны, будто испачкались – будто осыпало их кромки.
Редко из них какая её скроет. И не надолго. Может, и нет в этом случайности, а-уговор такой у них – возможно. Если и скроет, то угадать её тогда за тучкой всё же просто. Проглядывает. Словно девица сквозь кисейную фату. Есть в ней, на самом деле, что-то от девицы. Если подумать, можно догадаться. Или – от Девы.
Плывут они, тучки, откуда-то куда-то, будто пустые лодки в океане, – куда их ветром надоумит. Ко всему они, путницы, или беспутницы, кажется, безразличные, даже друг к дружке.
Чуть ли не ко всему – одно есть исключение:
Только не к бьющемуся в груди, как загнанный в клетку свободолюбивый зверь, сердцу Ивана Сергеевича – в таком смятении оно сейчас. И всё сильней колотится, чем ближе встреча. И так всегда – никак с ним, с сердцем, самочинным, не управиться – уж и не юноша неопытный, а муж бывалый.
Осведомлены – так ощущается, глядя на них, на эти тучки, – хотя бы к этому не равнодушны.
Или – увёдомлены кем-то.
– Здесь вырубки, – говорит Иван Сергеевич. – В городах – застройки бесконтрольные, в старых районах, исторических. Как называется там?.. Новострой. Кому-то прибыль. Но там и тут – лишают людей памяти. Кому-то выгодно, наверное, и это. Только кому вот, непонятно?.. Была Красавица – отсюда видно вон, над Вязминым ручьём… На горизонте. Теперь туда хоть не ходи… Место осталось вроде, но уж не Красавица. И само место не узнаешь. Был там недавно – растерялся. Как дядя Миша вон, хоть плачь аж. Чуть и на самом деле нюни не пустил – печаль такая одолела. Встань из могил сейчас покойные яланцы, что бы сказали? Тут же от горя умерли бы снова. Хотя бы дед мой – был охотником. К примеру. Вроде не сам всё это натворил, а стыдно. Ну, хорошо, что Елисейск пока не трогают, – безденежный – не оправдаются в нём небоскрёбы. И тут: нет худа без добра. Гремел когда-то. Нынче – нищий… Всё в этом мире так изменчиво. Нет постоянства. Ни вверху, ни внизу. Ни спереди, ни сзади. А в человеке – и особенно. Всю жизнь – как разный.
Сам с собой разговаривает Иван Сергеевич – от времени отвлекается – как бы ему хотелось, то не поторопится.
– Как кто-то где-то говорил: «Путь вверх и вниз один и тот же». Верно. То есть вся Вечность – это перемены. А постоянное в ней – лишь несовершенство. И зло оно же. Наука даже – та устаревает. Подумать страшно.
Спустился под гору. Прошёл Песочницей – тропинка так называется. И по ней весь листвяг, какой был, лет десять уже назад вырубили – тут-то совсем уже в деревне, – не постеснялись.
Вышел на яр.
Кемь далеко внизу, на шивере луну разбило на осколки, раздробило – те золотятся, никуда не уплывая, хоть и – стремнина; в плёсе вода – как будто неподвижна. В нём, в плёсе, небо ясно отражается; и звёзды редкие в нём даже не дрожат – так безмятежно оно, плёсо; круги пошли – сплеснулась тихо…
– Рыба… Или бобёр с луной играет… Вот и круги – расширились, и скоро их не будет… Никто не вспомнит.
На другом, противоположном, берегу, коса песчаная, искрясь, белеет. Темнеет на ней одиноко, возле самой воды, перевёрнутый вверх дном обласок, чёрный от старости, долблёнка по-ялански; лежит на обласке, поперёк него, как стрелка-указатель, двухлопастное деревянное весло; высохло – не блестит. Кто-то на Камне, может быть, бруснику собирает, с ночёвкой, видимо, остался там – так поступают. То и – охотник за ондатрами. Капканы ставит или проверяет – в старице. Может, и так: бобра в ней караулит – тех расплодилось чересчур, и те теперь как наказание: деревья валят, как промышленники, хоть и без пил, без топоров. Кого-кого, но рыбаков-то допекают они крепко – рыбу отпугивают, пусть и не едят.
Над Кемью Камень возвышается – сосновым гребнем в небо врезался. Вчесался. Освещены луной его бока. Как декорации – софитом. Манит, к себе влечёт – летишь туда душой щемящей, часто она бывает там, иной раз в теле. Можно сейчас и сосны разглядеть, отдельно каждую. Даже отсюда. Как-то до них ещё не добрались – стоят. Какая-то – прямо наверху, какая-то – косо на откосе. Но доберутся, ненасытные. Есть на то краны и лебёдки – всё, что способствует наживе, употребят, применят, лихоимцы, вплоть до «Сибирского цирюльника». Как новобранца, Камень остригут. Как каторжанина ли. Пока в красе, не жалкий он, не оскорблённый. Но за него и наперёд уже переживаешь.
А может – больше за себя.
Глядишь вокруг – захватывает дух.
– Какой толк от всей этой красоты, – говорит Иван Сергеевич, – если на душе у меня дурно, если она, душа моя, страдает? Тогда бессмысленно всё это. Сколько сейчас… до половины?.. Что ж я часы-то не ношу…
Кедр. Огромный. В два обхвата. Вершиной в небе. Кто-то в нём зашумел – зашелестел, зацокал. Белка, наверное, проснулась.
Кто же гнездится там – в его вершине?
Ждёт – не дождётся он, Иван Сергеевич. До дрожи в теле.
– Как мальчишка.
Спустился к реке. Хрустя галькой, прошёл берегом до курьи. Отыскал в траве им же там спрятанную сухую и длинную палку. Дотянулся ею до сети, потряс её, сеть, чтобы от мусора очистить. Рыбы не видно в ней – пустая.
– Хоть бы одна… для подтверждения… A-а, ладно.
Помыл руки. Отметил: тёплая вода. Набрал в ладони – всю выпил. Вкусная.
– Для Маньки даже не попалась. Хоть бы сорожка или окушок.
Побыл ещё на берегу, послушал речку: с кем-то беседует она – с дном, может быть, своим, а может – с берегами. А то и – с небом. Скроется скоро подо льдом, под толщей снежной – и надолго. Лишь перекат – как-то увёртывается он от мороза, не может тот его сковать – всю зиму полый, насмехается.
– У каждой речки свой язык, свой говорок… своё наречие. И у Кеми вот – хоть и непонятный.
После:
На яр взобрался. Осмотрелся.
Припал плечом к кедру. Стоит. Сердце колотится, не унимаясь. И оттого ещё, что – запыхался: яр метров двадцать да крутой – в него взбеги-ка.
Опустился на выпирающий из земли толстым змеем корень кедра. Или – не змеем, а – драконом. Сидит на нём. Не может успокоиться.
Видит:
Идёт.
– Ну, наконец-то.
Поднялся резко и пошёл навстречу.
Обнял. Целует. Воздуху не хватает в волосах её – те были собранные на затылке – распустились.
– Ты что так долго, Катенька?.. Еле дождался.
– Как договаривались – в половине.
– Ну а пораньше-то?
– Да не могла… Чё-то Васюшка рассопливился.
– Что с ним?
– Не знаю. Может быть – надуло.
Бурая хвоя под ногами – мягко ступать по ней – ковром упругим накопился.
Подступили, не выпуская друг дружку из объятий, к кедру. Катя – спиной к стволу. Тугая. Крепкая. Сюда-то чуть ли не бежала – потом её так сладко пахнет из-под мышек; на лбу – испарина – нектар.
Обнимает её Иван Сергеевич. Целует. В губы – долго, до головокружения. После – и шею и лицо. Будто сквозь землю он, Иван Сергеевич, проваливается – так ему радостно, так счастлив.
Пьянеет.
– Как я люблю тебя, родная.
– Ой, дёрнул волосы, мне больно.
– Прости, нечаянно. Пойдём на наше место.
– Нет, мне нельзя…
– Ну почему?
– Ещё и завтра…
– Почему?
– Ну почему – ну потому, – шепчет она, Катенька.
– Ну, по-че-му? – в самое ухо спрашивает он, Иван Сергеевич.
– Не знаешь будто, не догадываешься… И Стёпка, – говорит Катерина, увёртываясь от целующего её Ивана Сергеевича, – сегодня он не очень пьяный.
– Я же купил ему бутылку.
– Они с Флаконом её выпили. С утра ещё… Что им бутылка?
– Катенька, милая… ещё и завтра?
– Ваня, не надо.
– Только – грудь.
Отстранив почти золотые, как лунный бой на перекате, в серебряном лунном свете, словно в окладе, волосы Катерины, расстегнул Иван Сергеевич рубашку на её груди. Разомкнул лифчик.
Цедит лунный свет сквозь хвою кедра, обозначает смуглые соски. Вокруг сосков – будто гало. Как к непогоде.
Целует их Иван Сергеевич. Как младенец.
– Мне нравится, – шепчет он сбивчиво. – Мне очень нравится… Из них ещё сочится молоко.
Вздохнул при этом глубоко.
Опять целует.
– Только не так… так, Ваня, больно.
– Прости, прости. Я не хотел…
Мечется белка в кроне кедра – беспокоится: её тут дом, пока не вылиняла – после уйдёт, от человека дальше. Человек – сосед опасный.
– Мы и на том свете будем вместе? – и не спрашивает, а утверждает Иван Сергеевич. – Да, моя милая?
– Не знаю, – говорит Катерина.
– Да того света нет… только сегодня… Только – сейчас… Скоро зима, и часто видеться нам будет невозможно. Пошли…
– Нет, мне нельзя.
– Ну, Катенька.
– Я же сказала.
Луна светит. Ей в глаза. Ему – в затылок.
Утки где-то крякают.
Прокричал кто-то где-то:
«У-у-у».
Эхо сказало то же самое. Или – об одном и том же.
– Пойду, – говорит Катенька.
– Катенька, милая, ну как же можно… Теперь когда?
– Дождя не будет если – в воскресенье.
– До воскресенья не дожить мне.
– Пойду.
– Я провожу тебя.
– Не надо.
– Ну, на прощанье.
Крепко, крепко.
Не оторваться – как срослись.
– Пойду.
– Ещё чуть-чуть.
– Нет, всё, пора мне.
– Катя, во сколько – в воскресенье?
– Также.
– А если дождь?
– Тогда – не знаю.
– Ты не своди меня с ума.
– Ну, ладно, Ваня.
– Ладно, милая.
Ушла. Не оглядываясь – как обычно. За кустами краснотала скрылась. Не проглядывает.
Ну хоть следы её целуй – так сразу в мире стало пусто.
– Горько.
Как это скоро всё кончается – молниеносно. Ждать новой встречи – словно век.
Всё тело помнит. Взгляд. И голос. Такого нет больше нигде на белом свете. И пальцы – мягкие – как воск.
Ещё про голос – из груди.
Ещё про волосы – красивые.
– Если дождя не будет – в воскресенье, – вслух повторяет. И опять:
– Если дождя не будет – в воскресенье.
И говорит:
– А как дождаться?
Упёрся лбом в кедр. Стоит. Он – Иван Сергеевич. На себя не походит. Обычно – не такой. Повернулся.
Самолёт летит. На светлом небе чётко различим. Мигает красным огоньком – не сам же себе – кому-то. Для кого-то. А звук пока ещё не слышен. Тому, возможно, звуку и мигает – чтобы, отстав, не заблудился.
– Как в догоняжки.
Уже доносится.
– Как эхо… Или – как гром – раскатисто, издалека.
Лесина в старице упала, ухнув. И выстрел тут же прозвучал.
– Так оно всё… И смысл в этом?
Отстранился Иван Сергеевич от кедра резко.
Пошёл.
Не торопится.
И сердце так уже не бьётся, поуспокоилось.
Переживает:
– И она, Катенька, скоро начнёт стареть – кошмар какой-то. Скоро и у неё на шее и лице появятся морщины. И грудь станет не такой упругой, и свою форму поменяет, станет такой – не привлекательной, как… Подумать страшно. Почему?.. И кожа… Кожа – гладкая… как… Губы… Не отрывался бы – всё целовал.
Веткой талины по щеке его стегнуло – не заметил.
– И даже запах… Но так люблю её я, так люблю.
Идёт.
– И к Нинке не было такого…
Будто на что-то обозлился – шагает твёрдо – как на смерть.
– И было ли, если сравнить?.. Как день и ночь. Как небо и земля…
Оступился на ямке. Не упал. Осмотрел, насколько можно, впереди дорогу – в тумане еле проступает та.
– И ни к какой другой…
Дальше идёт.
– И ни к Наташке – та просто первая была. Только вздыхал, ни разу к ней не прикоснулся… Долго жалел, теперь – и хорошо.
Попало что-то в сапог. Остановился. Вытряхнул. Пошёл.
Идёт.
Щека горит – рукой её потрогал.
– Бог, если Он есть, если Он всё это сотворил, – говорит Иван Сергеевич, – то суетливо это сделал. Сам не меняется, вечен, а наша плоть – как издевательство… Не суетливо, так – нарочно, Своей забавы Божьей ради. Какая мне польза от этой кратковременной силы и красоты, если я знаю, во что всё это скоро превратится? Свежий пример вон-дядя Вася… Свежий – пример. А дядя Вася?.. Сила и красота. Которой не было когда-то и скоро вовсе не останется. Моей и… чьей-то, дорогой мне. Чуть расцвела, и увядает. С чужой что будет – всё равно мне. Ну, если бы она такой до смерти сохранялась, тогда бы проще было жить… Ты мне, создав меня, не сделал этим чести! Ты – если Ты есть… Но это невозможно. Если б Ты был – всё было бы иначе. Если Ты есть – то нас не любишь. Нет, не осознан этот мир, не сотворён сознательно… случаен.
Кричит птица где-то.
На Камне.
Одинокая.
Боится кого-то. Чего-то.
Или так.
– А если сотворён он, этот мир, то или в спешке, или – как насмешка. Был просто Взрыв первоначальный – всё от него.
Умолкла птица.
– Всё вспыхивает и гаснет, и мы вот… Но мы не искры же от дров. Значит, недобрый Кто-то сделал человека. Или, вернее, безразличный.
Морось – лицо свежит. Через туман – как продираешься.
– Эк-спе…
Поднявшись в гору, вышел из него.
– … ри-мен…
Идёт.
– … та-тор.
Не оглядывается. Ни на туман, ни на луну. Ни на высокий горизонт. Ни на то место, где была Красавица.
– Теперь Уродина.
Прошёл вдоль изгороди.
– Кто отомстит за это беззаконие? Кто обуздает?
Вышел на улицу.
– Власть и не думает пока. Не видно что-то, чтобы беспокоилась.
Фонари. Живые будто – от мошки.
– Рука, конечно, руку моет.
Возле дома Плетикова Василия Серафимовича-три машины, одна к одной, одного цвета, серые, и с одинаковым фирменным знаком на багажнике в виде немецкой буквы W.
– Три «дабл вэ». Как интересно.
Свет в окнах горит. На кухне. Но в доме тихо.
– Галька и Светка, с мужьями, приехали… Двойняшки. Живут в Исленьске. А их фамилии теперь?.. Не знаю. И их могу уже, увижу-то, так не узнать… Время не красит. Им уж под сорок… как и мне. Как это всё несовершенно. Сердце сжимает от тоски. И что, Он благий?.. Всё враньё. И с лесом-то… не допустил бы.
Минуя лужи, обочиной, под дружный собачий лай, прошёл Иван Сергеевич Линьковский край.
– Меня возьми, я их, машины эти, перепутал бы.
Прошёл Забегаловкой. Мысленно повздорил с Есауловыми – и те его как будто поджидали: дерзкой оравой высыпали из своих домов, из виртуальных… дабэл вэ, дабэл вэ, дабел вэ, – подался дальше победителем.
– Уж не осталось и кола. Вот это – правда.
Затем – пустырём.
Спустился и поднялся в лог.
Подходит к дому.
Как на каторгу.
И жить совсем уже не в радость.
– Мать её, тётя Клава, тёща, рано умерла. Что-то там с почками… И у неё больные почки… Нет, нет, нельзя так думать… И дети взрослые уже… И почему такие мысли лезут в голову?.. Нельзя так думать… Я ж не хочу, чтобы случилось это… Конечно – люди умирают… Нет, надо думать о другом… о чём-то.
Открыл ворота.
– Надо поленницу перетаскать в ограду… пока нет снега. Зимой так редко мы встречаемся… Ох, Катя, Катенька. Скоро и у тебя… И ты… И даже волосы твои поблекнут. Как называют все тебя?.. Гривастая. Катенька. Милая. Люблю.
Нет в окнах света. В одном луна лишь отражается – где спальня.
– И дядя Вася… Ну, там возраст…
Оглянулся. Первый раз за день. На луну.
Отвернулся.
Входит в дом.
Светло. И пол ещё сияет – изобразить луну не в состоянии, всё же пытаясь.
Видит Иван Сергеевич туфли жены. Стоят те возле порога – к поездке в город приготовлены. Пожалуй.
Лакированные – брезжат.
– Как раздражают, – шепчет под нос себе Иван Сергеевич, снимая сапоги. – Как раздражают-то они меня. И почему так?.. У них и форма-то… какая-то… как говноступы… И так нельзя… Но почему вот?.. Я не хочу так жить. Я не хочу так думать… Вот если б с Катенькой… И та начнёт стареть…
Чуть отодвинул их – как будто пахнут плохо – туфли.
– А то поставила тут – не пройти… И губы у неё, – бормочет Иван Сергеевич, снимая куртку, – как у её отца, дяди Володи. Лицом в него. Вылитая. А телом – в мать, покойницу… Толстопятая. И толсто… всякая. Раньше – целуешь её в губы, и думаешь, что не её целуешь, а его… дядю Володю.
На кухне мышь – упала со стола.
– Противно. Правда, давно уже не целовал… Ну, хоть бы, хоть бы не проснулась. Если не спит… Да хоть бы уж спала.
Заходит в свою комнату-кабинет, бывшую детскую. Перед компьютером стоит. Но не включает.
Идёт на цыпочках в спальню.
Раздевается.
Ложится в постель – как в ледяную.
Кошка на подоконнике сидит, в окно на тучи смотрит.
Где-то собака воет заунывно.
Лежит.
Лежат.
Как неживые.
– Я ей, кобыле рыжей, все глаза повыцарапываю, – не поворачиваясь к мужу, произносит жена.
– Опять?..
– Опять… Нашла записочку… Штаны твои стирала. Ветер на улице поднялся. Качать пихту за окном принялся. Тень от неё исчезла со стены – туча луну, наверное, закрыла – и в этом, временном, как будто вечность отразилась.
II
2
Нина Полуалтынных
Досмотрев очередную серию до конца, Нина, не проявляющая интереса к политическим, экономическим и культурно-спортивным событиям, а также, в целом, к только что начавшейся программе «Время», зная, что точного прогноза на погоду в Ялани там не скажут, выключила телевизор и, с пустым сердцем и с двумя красными бигудями на висках, отправилась на кухню. Не испытывая на этот раз никаких чувств и переживаний за героев сериала.
«Одно и то же всё мусолят… Можно давно уже родить… Треплют всем нервы. И себе-то. Муть голубая… не кино».
Достала из холодильника бутылёк с корвалолом. Накапала в стакан с кипячёной водой. Выпила.
«Ему и новости смотреть теперь не надо».
Поставила бутылёк на место, заглянула в холодильник.
«Есть на ночь не буду».
Дверцу захлопнула.
«Хоть и хочу… И почки целый день болят. Съездить к врачу бы записаться… Потом уж. Завтра не получится. Как же там Ксюша-то устроилась?»
Стала готовить завтрак и обед. Мужу на завтра. Суп со свиной костью, уже проваренной, и котлеты из свинины, достав их, уже слепленные, из морозилки.
Картошку чистит.
Вкусно пахнет.
«Я ей, гривастой…»
В углу, под столом, мышь чем-то шуршит, скребётся.
«И кошка в доме… Сейчас, к зиме-то, их полезет. Придёт, скажу – пусть ставит плашки… а то удумал».
Бульон кипит. Суп зарядила овощами. Котлеты поджарила.
«Ну, вроде всё. Дня на два хватит».
Накинув поверх халата куртку, пошла на улицу, чтобы собрать бельё, развешенное на верёвке.
Светло на улице.
Тепло.
И на угоре ельник – словно светится.
Звезда над ним – яркая.
Кузнечики стрекочут.
Туман над Куртюмкой. И там дальше – над Бобровкой. Есть и над Кемью, но не видно из ограды.
«В детстве так было хорошо».
Высоко в небе тучи редкие, над Красавицей – сгустились.
«И мама, жалко, умерла. Папка совсем уже состарился. А после мамки – так особенно. Сгорбленный. Завтра – не смогу, схожу к нему послезавтра. Возьму, что надо постирать – там накопилось. И не голодный ли?.. Хоть я ему и наготовила. Но он же это…»
Собрала в охапку всё бельё.
К крыльцу направилась.
«Голова болит – дождь, наверное, к утру начнётся. Да не наверное, а точно. Это давление ещё… измучило».
Вошла в дом. Бельё грудой на стол в передней положила.
«Гладить буду завтра вечером… когда кино буду смотреть».
Повесила куртку на крюк. Кастрюлю с супом на край плиты сдвинула – пусть напревает. Котлеты со сковороды убрала в чашку, другой чашкой, поменьше, их накрыла. Поставила на подоконник.
«Завтра найдёт… Пока горячие, не сунешь в холодильник… А не найдёт – ему же будет хуже».
Выключила на кухне и в прихожей свет.
Направилась в спальню.
Скрипит пол под ногами.
Вошла.
Включила свет в спальне. Сняла халат. Встала перед зеркалом. Приподняла рубашку, взглянула на ноги. Спереди оглядела их и сзади.
«Ну и ничё».
Выше не стала поднимать рубашку.
«На ночь не буду есть, может, и это…»
Свет выключила.
Откинула одеяло. Легла в кровать.
Луна. Пихта за окном. Молодая, небольшая. Островерхая. Подглядывает.
И на стене тень от неё – чётко отпечаталась, до иголочки. И тоже – смотрит.
«Плохо – когда луна… Уснуть трудно. Штора высохнет – повешу».
Достала с тумбочки флакончик с лаком. Ногти решила накрасить. Передумала.
«Накрашу утром».
Поставила флакончик обратно.
Торшер зажгла. Взяла с тумбочки альбом с фотографиями.
Раскрыла.
Фотография. Уже поблекла, пожелтела. На фотографии молоденький матрос в бескозырке. Улыбается. Во весь рот.
С обратной стороны надпись:
«Нине. На память. Радостный июнь».
Олег Истомин.
Не забывается.
Вернулся он тогда с флота. Отгулял с друзьями встретины.
А тут и День молодёжи.
Солнце. Хвоя. Кедр. Все на реке, кто в город не уехал. На яру. Вниз не спускаются. Большая вода в Кеми, после половодья ещё не схлынула, не в берегах, холодная – никто ещё не купается.
«А я тогда только закончила девятый класс. Идти или не идти в педучилище, думала. Пошла в десятый».
Он её помнил маленькой девчонкой. Так говорил, по крайней мере.
Часто взглядами встречаются, словно цепляются.
Он – только в брюках. Загорелый. Она в платье – без рукавов. Приталенное.
Его, Олега, девушка не дождалась.
«Да Танька, кто её не знает».
За другого вышла.
«Уж разошлись давно… Давно уже не замужем».
Все девчонки говорят об этом, шушукаются. А он, Олег, и виду не подаёт – будто весёлый. Он и весёлый.
«Интересный».
Вечером встретились возле клуба. Взял Олег у кого-то из друзей своих мотоцикл. И поехали они сначала за Ялань, на Лиственничную гору – вид оттуда классный, и она ни разу не была там. И на Красавицу. И на Ялань.
На Камень.
Полил тёплый дождь. Промокли.
Вернулись в Ялань. На яру кемском остановились.
Целовались до угара.
«Как ты мне глянешься».
«И ты мне».
Как ураган влетел он в её жизнь.
«Влетел и вылетел».
Уехал учиться. Не обещал.
«Но мне казалось…»
Приезжал сюда, к родителям, пока они живы были.
Больше, наверное, уже и не приедет.
«Тётка Елена. Дядя Коля».
И до сих пор, когда видит она его здесь, в Ялани, уже седеющего, сердце у неё заходится.
А внешне:
«Здравствуй».
«Здравствуй».
Всё на этом.
Спрятались они тогда от дождя на кемском яру под кедром. От его губ и рук голова кругом – впервые. А она ему сказала:
«Люблю. Но только после свадьбы».
Он не настаивал.
Не у него «впервые». У неё.
«Дура была. Сейчас бы по-другому поступила». Закрыла альбом, положила его на тумбочку. Погасила торшер.
Уснуть и не пытается.
На пихту смотрит – на ту, что на стене, – тень её скоро будет на ковре.
Слышит:
Пришёл Иван.
«Крадётся всегда, как кошка».
К компьютеру подался.
Не задержался там. Теперь уж в спальне. Разделся.
Лёг. И сразу – как уснул.
– Вчера штаны твои стирала…
– Ну?
– Нашла записочку…
– Какую?
– Я ей все волосы повыдеру, лахудре.
– Рано вставать… мне завтра в школу.
– Мне тоже рано – ехать в город… и поросят ещё кормить.
Спрыгнула кошка с подоконника – как лошадь. Пошла на кухню – не слышно.
Ветер начался за окном.
«Ну, хорошо, бельё-то убрала хоть».
– Я сдохну скоро.
– Не болтай.
– Сначала детям расскажу всё.
– Что это – всё?
– Молчи, кобель.
– Опять ты…
– Ладно.
– Нина.
– Ваня.
Качается в палисаднике пихта. Достаёт веткой до окна. В стекло скребётся.
Что-то тревожное есть в этом звуке.
Лежат люди в постели, под одним одеялом, бездвижные, молчат – как будто умерли.
Кто-то живой, похоже, – мёртвые не плачут.
3
Белозёров Григорий Павлович
Не раздеваясь и не разуваясь, в броднях, с загнутыми вверх носками – от многолетия, в дождевике, с куколем, полным листьев и хвои – нападало, когда шёл, не снимая вещмешка, только ружьё – старенькое, тридцать второго калибра, с отполированным от долгого служения прикладом – поставив в угол, вступил Григорий Павлович в свою избу, впервые в жизни – как в чужую, сел на скамейку около двери.
Сидит.
Давно уже. В пол, головой поникнув, смотрит. В руках шапку ондатровую держит – та из руки не выпадает.
Глядеть на него тошно – как в воду опущенный.
Тикают в избе ходики – им будто скучно: одним и тем же делом заниматься – лет, может, сорок или пятьдесят – не заскучай тут. Гири у них – подобие еловых шишек. На них, на ходиках, медведи нарисованы. Ещё и лес непроходимый – дебри.
Светит в три небольшие, у лишние, оконца опускающееся в ельник – в ельник пока ещё, а не в пустыню – солнце. Обагряет лысеющее темя Григория Павловича, золотит и без того его соломенного цвета волосы, хоть и редкие, но не седые.
Смотрят, без нашей тошноты, сосредоточенно и строго с божницы тёмные лики Святых – пытают взглядами хозяина: что же такое с ним могло случиться вдруг? – на Них и взгляда не метнул – будто и нет Их – кто будто вынес.
Может быть. Утратил.
Весь в своё детство обратился он, Григорий Павлович, и пол не видит.
Вот, рано-рано утром, на Покров, будит отец его и говорит:
– Вставай, Гриша. Пойдём с тобой сегодня на охоту.
– Праздник же, – говорит мать. – Какая вам ещё охота? Не на добро.
– Ну а мы так, – говорит отец, – как на прогулку. А после – в церкву.
Вскакивает Гриша с постели. Одевается скоро, умывается.
– Надо позавтракать, не на голодный же жалуток.
Завтракает Гриша.
– Не торопись, не гневи Боженьку, – говорит Грише мать, гладя его по голове, кивая на божницу. – А то ещё вдруг поперхнёшься.
Пошёл отец в кладовку – так только дверь туда скрипит – как стонет. Возвращается из кладовки, улыбаясь. А в руках у него ружьишко. Тридцать второго калибру. Почти как новое.
– Вот тебе, сынок, подарок… Ко дню рождения. К именинам. Ты наш старшенький.
Сам не свой от радости Гриша: не ожидал такого он подарка.
Мать стоит рядом. Подбородок рукой прикрыла. На глазах у неё слёзы. Уголком платка их смахивает.
– Ну а рука-то?
– Приловчится.
Вышли из дома. Ни свет ни заря. Ночи больше, чем утра. А ещё больше – звёзд на небе – то чёрное.
– Звёзды, – сказал отец.
– Звёзды, – повторил Гриша. Повторять за отцом – нравится. Не говорит он, отец, глупостей.
– Безлунье, – говорит отец.
– Безлунье, – повторяет Гриша.
Проводила их мать, благословив и перекрестив в дорогу.
– Тупайте. С Богом.
– С Богом оставайтесь.
Пошли, чтобы никто их не увидел, задами, – от сглазу.
Собака с ними – Соболь.
– Тятя, куда пойдём?
– Да тут вот, близко… На Красавицу.
Убежал вперёд Соболь – чтобы не мешать: толковый. Проведать только прибегает. Шерсть у него на загривке – всегда дыбом. И тогда – когда играет. Но старый – устал. Лежит больше в ограде. Бежит теперь вот только – на охоту.
Сразу в ельнике попались рябчики. Выводок. Штук сорок. Клевали костянику. Шумно разлетелись, расселись кто где. Фьюрикают. Соболь на них не лает – знает дело.
– Ну, – говорит отец. А сам стоит, не шевелится.
Разомкнул ружьё Гриша, вставил патрон. Пальцы не повинуются. Но всё же справился.
Взвёл курок. Собачку чувствует, та – его палец.
Ружьё вскинул, стал, выглядев на берёзке одного рябчика, в него целиться.
– Долго не меться. Но не торопись, – шепчет ему отец. – И прижимай приклад к плечу плотнее.
Выстрелил Гриша. Сильно ударило его. Оглох – не слышит. Смотрит и ничего не видит – дымом вокруг всё затянуло.
В нос – крепкий запах: порох дымный.
И тятя – тот вроде слева был, а тут вдруг оказался справа и смотрит, кажется, в другую сторону – так его, Гришу, развернуло.
– Ого, – говорит.
– Ну так, – говорит отец. – Выстрел.
Опомнился Гриша. Побежал.
Отыскал в траве убитую им птицу. Тёплая ещё. И радостно, и жалко. Стал было снова заряжать ружьё.
– Пока не надо. Добыл одного, сынок, других не стреляй. Нам хватит.
В вещмешке птица, за спиной, – довлеет.
– Был раньше большим рябчик. Из птиц-то – самым, поди, крупным. Шёл наш Господь однажды по Раю, – говорит отец. – Вспорхнул рябчик и испугал Его. Разгневался Бог и сказал: «Не повторялось это чтобы, будешь отныне маленьким». И разделил мясо рябчика по всем птицам. Теперь в любой есть белого маленечко – оно от рябчика.
– От ря-ябчика.
Дошли они тогда до Красавицы. Красавица.
– А почему, тятя, Красавица?
– А ты смотри, – ответил тятя. – Какая красота тут.
– Да лес и сопки – чё особенного? Везде так.
– Да всё особенное – каждый кустик. Бог насадил и так украсил. Ты посмотри, деревья-то какие, вглядись-ка в каждое, и как по склонам-то ютятся. И место складное какое – как на картине. Живое только. Божий огород. На чё и нам бы, человеку, равняться – на природу.
Подстрелили они тогда ещё двух глухарей – одного на гальке, другого на сосне. Больше охотиться не стали.
– Гости придут, найдём теперь, чем их попотчевать. А то идь…
– А копалуху – чё её не стрелил, тятя? Сидела близко, – уже на обратном пути спросил Гриша.
– А копалуху лучше уж не бить… как-то стараться надо, себя сдёрживать, – ответил ему отец. – Она потом на яйца сядет, потомство даст…
Сорвалась с лиственнки копалуха – громко полетела.
– На то она, родной, и – самка, почти мамка. И деревцо, сынок, без надобности не заламывай, если уж что приметить только. Но. А то, идёшь, смотрю, ломаешь.
– Да я на прутик… постегать.
– Хоть и на прутик. Лучше уж сук вон палый подбери, и им тогда уж… постегать-то.
– Ладно.
– Да и стегать к чему?
– Не буду больше, тятя.
Вернулись домой.
Мать и нарадоваться не может – всё улыбается. Дичь-то, уселась у печи, теребит: ну и охотники, мол, ну, добытчики.
Пьют за столом чаёк они, добытчики, уже поели.
Гордость.
В церковь пошли потом. На службу.
Какое-то время спустя ушёл отец, почти уже сорокалетним, на фронт, от брони отказавшись. Принесли вскоре на него похоронку – лучше бы сразу всех их, Белозёровых, и застрелили. Убит в бою, дескать, под Мценском.
Где этот Мценск-то?
Большей печали в жизни Гриша не испытывал – до онемения: несколько лет потом не разговаривал – как будто не с кем было. Да и не о чем. Не возникали в нём слова.
Мать, оставшись солдаткой, а потом и овдовев, чтобы спасти их, пятерых детей, от голодной кончины, сама себя лишала куска хлеба, высохла, как лучина, и померла от истощения.
Больше, наверное – от горя.
Уже и плакать не могла. Глаза закрыли ей сухими. Он закрывал – рукой здоровой.
Столпились все возле неё.
– Будь им отцом.
И был отцом им.
Теперь кто где – разъехались по свету.
Каждый год осенью собирался Гриша, сначала с отцом, а потом уже и один, потом уже и не Гриша, а Григорий Павлович, по прозвищу Сухорукий, когда-то учитель труда в яланской средней школе, на охоту. Шёл на Красавицу – излюбленное место – не куда-то: мог в темноте туда дойти, а также и вернуться.
Намерился он, Григорий Павлович, и нынче. Всю зиму готовился. Ждал – отрывал листки у численника – легче. Дождался сезона. Пошёл промышлять. Рябчиков. Самцов. Зоб у них чёрный. Разглядеть-то. Да заодно и на Бобровку заглянуть – начал уже спускаться хариус ещё не начал ли? – проверить.
Дошёл.
И сердцем обомлел:
Её, Красавицы, не стало, её как ветром всю снесло. Землю-то там – раздели будто.
– Поизгалялись и снасильничали.
Вернулся домой.
Сел на скамейку.
Сидит.
Дома ли?
Себя не узнаёт – так никогда себя не чувствовал.
Вылетела из часов кукушка. Назвала время:
Вечер.
– Уже?.. Или какушка очумела?
Встал с табуретки Григорий Павлович. Прошёл к кровати, аккуратно застеленной суконным серым одеялом. Лёг на неё, не раздеваясь.
В потолок смотрит. На матицу. В которую кольцо вбито. На кольце этом зыбка когда-то висела. Все они, дети Павла Ивановича и Лукерьи Игнатьевны Белозёровых, из казаков, в ней полежали. Многих из них на фронте вышибло – мужиков-то. У одного из них медаль была – за взятие Праги. Где-то.
И к нему, Григорию Павловичу, пришла недавно. «За отвагу». Но не ему, конечно.
– Тяте.
Тот её где-то заслужил. Ну, раз погиб-то. Так всё.
Кольцо есть. А люльку никто теперь уже не повесит – кого укачивать в ней? Память?
Так укачалась уж – что и подташнивает.
– Лучше бы я до этого не дожил, – вдруг произнёс Григорий Павлович. – Как Вася вон, ровесник мой – тот уж не дышит – молодчина.
Перестал видеть матицу Григорий Павлович – слеза мешает, накатившись. Трудно глядеть через слезу.
В груди болит, щемит в ней, давит.
– Я в копалуху, тятя, так и не стрелял, – сказал Григорий Павлович. – Хотя и много раньше видел их… Теперь уж нет их… нет Красавицы.
– Хоть, Григорий, Римское царство и пало, – ответил ему тятя, – но много ещё веры и добра в роде человеческом. И ходит по земле ещё Слово Божие – убеждает.
– Да уж, – впервые возразил отцу Григорий.
Птица какая-то ударилась в окно.
Ушиблась.
Её уже не слышал Сухорукий.
4
Бродникова Прасковья Егоровна
– Ой-ой-ой-ой.
Так у неё болят ноги. Так их разламыват. В голенях.
И так ещё:
– Тошнёхоньки мои… И почему такие мне мучения? На самой старосте-то лет. Давно пора уж помереть… всё ещё ползаю пошто-то. Осподи, Осподи… ох, милосердый.
Не может сидеть Прасковья Егоровна. Не может лежать. И на одном месте стоять не может долго.
И жить ей тяжко – разучилась.
Взявшись за дужку, поднялась с кровати. Пошла по избе. Возле окошка снова оказалась.
Прямая. Как отвес. Когда ляжет – как уровень.
– Идёт, ли чё ли, кто ко мне?.. Маячит… Девка-то эта… Нюрина-то дочь… Как её, всё и забываю… Катерина. Дак поздно ей. Завтра должна же заявиться. Да показалось. Воды и дров в избу натаскат. Хлеба, скажу, чтоб много не брала. Буханки хватит. Чё-то так стали печь – черствет-то скоро. День полежал – уж заскорузлый.
Пошла к кровати.
– Ой-ой-ой-ой.
На кровать села. Носок с ноги сняла. Взяла с табуретки лопух. Обернула им ногу. Кость сплошную, а не ногу. Перевязала шнурком, чтобы не свалился. Сверху носок опять надела.
Посидела. Повздыхала. Привыкла. Как по-другому жить, уж и забыла.
– Ой-ой-ой-ой. За что мне это? Да боль-то – тычет прямо в сердце. Помилуй, Осподи, дай помереть… А то забыл уж… отдалился. Я ж идь на месте остаюсь.
Поднялась. Пошла.
Опять возле окошка. И как к нему всё попадает?
– Не Александра ли идёт?.. Его походка-то, однако.
Пришёл муж её Александр с фронта в сорок третьем, летом. Без левой руки. А зимой, в декабре того же года, простудился в ямщине, слёг и помер в мае. Похоронили. В избе лежать не оставили. В избе-то пусто стало без него, вдовой – переживала.
– И чё с войны-то возвращался?.. Раз ненадолго сюда прибыл… Да нет, не он… Опять, однако, помереш-шилось.
Пошла от окна. Добралась до кровати. Села.
Сняла носок с другой ноги, обернула её лопухом, шнурком обвязала, носок обратно натянула.
– О-ой-ой-ой. А эта, левая-то, пуш-шэ. Как кто иголками её там будто колет, вредный.
Посидела.
Полежала.
Поднялась.
В окно-то носом чуть не ткнулась. Так и стекло бы не разбить.
– Не Коськантин ли?.. Показалось. А он всегда так рысью к дому подбегал, всё как куда-то торопился. Поспел, милый, не опоздал.
Был у неё сын. Константин. Утонул в Кеми в половодье, семнадцати летним пареньком, – спасал девчонок малолетних. Двух из воды вытащил и в лодку как-то затолкал, за третьей стал нырять, так и не вынырнул.
– Всё иш-шо иш-шэт.
Направилась на кухню.
Достала из стола корочку хлеба. Сосёт её. Вкусная.
К окошку подалась.
– Не Лиза ли?
Дочь у неё была. Вышла в пятьдесят третьем году замуж за пролётного офицера, уехала с ним на Украину. И с концами. Но поначалу письма хоть писала.
– После писать, ли чё ли, разучилась… Да нет, какая же там Лиза… Собака, может?.. Или – лошадь?.. Не Катерина ли – куда направилась?
Пошла в горенку. Опустилась на колени перед божницей. Помнит на ней все иконы. Глаза направила – один на Богоматерь, другой – на Параскеву. Сердцем – к обеим.
Шёпотом – не для кого-то.
Обо всех помолилась. И о Плетикове – как о живом – ей он племянником доводится. Ещё не знает, что тот помер.
Сердце разгладилось – конечно – от молитвы.
Кое-как поднялась.
– Ой-ой-ой-ой. Тошнёхоньки мои. Сколько же лет-то мне?.. Да уж как много… Как дереву. И спиливать пора… Ну, раз не падаю сама-то.
Опять в окне. Стекло чуть носом не проткнула. Беды бы было.
Вглядывается – как будто видит.
Видит, наверное, коль смотрит.
– Не смерть ли вон ко мне идёт? Она, однако.
Пошла к кровати.
– Или опять почудилось, старухе.
Легла. Ноги вытянула.
– Да та такая – трудно обознаться.
Шумно дышит – чтобы себя узнавать.
Или – войдёт кто – чтоб услышал.
Открыла глаза.
– Не померла ещё. Помилуй, Осподи.
Поднялась. К окошку подалась.
– Ну, чё, живой в могилу не ляжешь.
Задела носом стекло. Холодное – чувствует.
– Доживать надо… уж как-то.
Смотрит. Пристально.
– Кто это в светлом-то там, Осподи?
Пошла к кровати.
На кровать села. В стену уставилась. Стена – знакомая до точки.
Помнит, что там висят портреты. Её детей. И её мужа. В памяти – как на дереве – вырезаны.
Слушает:
Кто-то войти к ней в избу будто должен.
– Боже, превыше сил моих такое одиночество.
Вздохнула сердцем – помолилась.
Ещё к живой, пришёл к ней вечер.
5
Василий Серафимович Плетиков
На позапрошлую ночь, плотно и сытно поужинав и просмотрев по телевизору с начала до конца концерт какой-то заунывный, сифонию, лёг спать Василий Серафимович. Утром рано, в пять часов, ещё и петух не прокукарекал, проснулся. Встал, как штык, помылся скоро, по-суворовски, попил аппетитно чаю шиповного с бруснишными шаньгами, только что настряпанными специально для яво женой его Ляксеевной, спать так ещё и не ложившейся. И хлопотал после весь день по хозяйству расторопно – как заведённый. А вечерком, изрядно потрудившись, направился, со спокойной, толковой, совесью, к другу своему закадычному, как все зовут его в Ялани, Винокуру – отметить праздник наступаюш-шый.
Так это было.
Теперь иначе:
Сутки уже доходят, не просыпается никак Василий Серафимович – не хочет. Хоть и заголосит вдруг рядом женщина, запричитает – даже на это несмотря. Не поднимается, как Лазарь.
Так не похоже на него.
6
Катерина Досифеева
Стремительно пробившись сквозь мелкий и густой, хоть и прорежаемый каждое лето ненасытными и непоседливыми бобрами, молодой тальник, прямками – так, заслышав человека или собак, пробегает по лесной чаще лось или лосиха – к устью Бобровки вышла Катерина. Близко отсюда – по тропинке – до моста. Туда торопится. Сама не знает – почему. Кто-то несёт её – как будто. Тут и без спешки ходу минут десять. А она ног не чует под собой.
Быстро прошла тропинкой вдоль Бобровки, но на дорогу не выходит. Под большой старой елью, наклонившейся к речке, встала. Смотрит, отодвигая ветвь колючую рукой.
Кто-то бельё полощет на Бобровке. Двое. Войдя по колено в воду, полощет женщина. Мужчина стоит на берегу, на самой кромке. Примет он от неё выполосканную тряпицу, положит её в ванну, устроенную на тележке, возьмёт с травы другую и подаст её женщине – так это происходит.
«Скорей всего, что кержаки… Мерзляковы… дядя Артамон с тёткой Устиньей… Всегда на речку чуть не ночью ездят почему-то».
Шелестит речка шиверой. Камешник на дне различим – вода такая в ней прозрачная. Луна насквозь её просвечивает, словно воздух. Гольяны, в приплёске сбившись плотно в руну, из мелкой ямки на луну пялятся. Больших рыбин, хариуса, не видать – на глубине да под коряжинами дремлют.
«У тех глаза какие-то… кружочек с треугольником – такие. Как будто стрелка – куда плыть. Стёпка показывал – глядела. Ловко он ловит их… умеет… Или-умел: забросил и рыбалку. Уже и рыбу – ту жалеет… Как его сильно, значит, садануло там. Раньше же не был он таким… какой-то… это… кто бы знал».
Волосы завязала на затылке, чтобы – идёт-то быстро… – «…Не трепались… А то – как ведьма – раскосматилась… бегу тут».
И где за сук-то вдруг не зацепиться б ими.
«После распутывайся… мучься».
Лифчик и кофту застегнула.
«И правда, пахнет молоком… Ох и дурная».
Выполоскали бельё. На берегу ещё посуетились. Ухватившись за оглобли, впрягся мужчина в тележку. Согнулся. Потянул. Как коренная. Заскрежетали по гальке колёса тележки – кому-то звук такой противен. Идёт женщина сзади. Молчат. За жизнь совместную наговорились.
Как гробик – ванна на тележке, – прикрытый белым.
«Точно – они: Артамон Варфоломеич и Устинья Елиферьевна. Больше и некому. Они обычно. Чтобы никто не видел их, наверное. Идёт – согнулся. И – она… такая круглая – как шарик… Ещё одёжки наздевала».
Блестят в лунном свете железные колёса – не двигаются будто; мигают спицы. Луна на них, мелькающих, не может закрепиться, и им от этого веселье.
На асфальт выкатил мужчина тележку. Чуть вроде выровнялся – стал прямее. Дальше поехали, без передышки.
Шуршат колёса по асфальту – кого-то, может быть, и этот звук коробит.
Скрылись за поворотом. Чуть слыхать.
Нагнулась к речке Катерина. Зачерпнула в горсть воды. Вода студёная – как лёд. Ею себе в лицо плеснула.
«Ох и дурная, Катька, ты… ох и дурная».
Не пошла сразу домой. Завернула к матери.
Полы хотела у неё помыть. И обещала.
Вошла. Сказалась.
Но та, мать, Марина Николаевна, полуслепая, замахав на дочь руками, ей запретила строго-настрого: девка, какие, мол, полы – в такой-то праздник!.. Дескать, уж завтра приходи.
– Завтра, так завтра. Ладно, мама.
Расспросила Марина Николаевна о Степане и о внуке. О том, когда картошку думают начать копать. Нынче же все, мол, как с ума вдруг посходили: раным-рано ещё, уж и копают. А раньше – всё после десятого. Теперь, мол, так – всё кверхтормашками. А кто-то будто уж и выкопал, совсем рехнулись.
– Числа с десятого, – ответила.
– Дак и нормально.
Взяла у матери булку хлеба в долг – дома кончился.
Из избы вышла.
С крыльца смотрит:
Луна вползает на надвратицу.
С крыльца спустилась Катерина. Помедлив, вышла из ограды.
Сразу к себе теперь направилась. На Колесниковскую улицу, что за Бобровкой. Гора-на ней и улица расположилась – там уж совсем под самым небом.
Всё здесь знакомо и на сто рядов исхожено.
И не хотела бы, но вспоминается.
Как бегала она по этим стёжкам-дорожкам из Ялани в Колесникову – к Стёпке. Ноги несли.
«Шальная, и шальная».
Как он навстречу выходил. Как провожал после до дома.
И как расстаться было трудно.
«Глянулся».
Какой он был всегда хороший и весёлый. И как гонял на мотоцикле.
«Сдрешной».
Как дрался он из-за неё с ребятами.
«А приставали потому что».
Как никого и ничего он не боялся. Пошла бы с ним тогда и на край света.
«Он и теперь такой, конечно… только что это-то… после ранения… Как бы Васюшка-тот не напугался».
Как в последнюю ночь перед тем, как уйти ему в армию, они всю ночь просидели на кемском яру, около кедра.
Как утром плакала она. И как потом в Ялани стало пусто.
Как пришёл он, Стёпка, с армии. И зашёл сразу не домой, а к её матери. Заплакала та, его увидев, но не сказала ничего, только: «Живой. Вернулся, слава Богу». И не хотел с ней после долго разговаривать.
«Со мною».
А потом пришёл и предложил ей выйти за него замуж. А у неё уже и пузо на нос смотрит, и кто-то ножками уже колотится.
«Васюша».
И мать сказала: «Выходи».
Как они после поженились.
Не сразу спать в одной постели стали.
«Спали на разницу… Потом уж… как-то получилось».
Не долго и в одной они теснились.
«Так по ночам вдруг закричит… как сумашэдшый».
Подошла Катерина к дому. Постояла возле.
«Ещё и это-то… не может… но он такой… отзывчивый какой-то».
Берёза в палисаднике. Тихая – как будто ждёт кого-то – ветра.
На мураве уже лист палый лежит – пока реденько. Не втоптан.
Открыла ворота – не скрипят: петли Степан недавно смазал, – вступила в ограду.
Побыла около крыльца. Сколько-то. Мягко стоится на мураве.
Тело её – а как чужое.
«И сердце чё-то…». То – своё.
Щенок скулит в будке – что-то ему, наверное, приснилось.
«Или по Стёпке стосковался».
Кругом дома скворечники, которые он, Стёпка, когда они перебрались сюда жить, в Иванихинскую избу, наделал и наставил. Намастерил. Ладные. Как игрушки. Каждый год кедровые ветки на них обновляет. Одна из них луну сейчас закрыла. Высоко та поднялась – в ограду смотрит, тень от ворот на землю положив: то, что в тени, луна не видит; в лучах её мурава нежится.
Во всём доме горит свет – как вспыхнул.
Вошла в сени Катерина – как омертвела.
Темно. И пахнет крепко затхлым.
«Стёпа сказал, что сени будет переделывать… Полы тут сгнили».
Взялась за дверную скобу – холодная.
А дверь открыть – и духу не хватает – ладонь немеет.
Что говорится в доме, слышит.
И слышит то:
Как сердце в груди бьётся – места себе там не находит.
III
7
Степан Досифеев
Прихватив тряпкой, Степан снял крышку с кастрюли, ткнул вилкой в картошину.
– Ага. Ну, скоро сварится, Васюха. Тебе-то ладно, ты уж сытый. Вон сколько смеси этой съел. С ложки и я попробовал – вкуснятина. Тебе-то – ладно, ты накормленный. И Борьзя – тоже не обижен… носил ему, наелся каши… А ты ещё и титьку пососёшь… проснёшься ночью.
Кот вокруг ног у него вышагивает. Трётся. Рыжий. Подхалимый.
– Хвост тебе дал селёдочный… Не хочешь? Зажрался, значит. Промышляй… Мышей в ограде вон – как на току.
Закрыл кастрюлю, положил вилку на стол.
Из кухни вышел.
– А сколько время?.. Скоро девять.
Часы на стене – ходики. Ходят.
Сидит на кровати среди подушек ребёнок, колотит пластмассовым разноцветным попугаем себе по коленям. Улыбается.
– Гу-гу, гы-гы, – говорит. И: – Ма-ма, па-па, – продолжает.
Сел Степан рядом, погладил ребёнка по голове и говорит:
– Папа твой здесь, никуда, слава Богу, не запропастился, никуда, Васька, не делся. А мама-придёт скоро. Она – у бабушки. Полы помоет в избах… и вернётся.
– Гы-гы, гу-гу, – говорит ребёнок.
– А ты как думал, – говорит Степан. И говорит: – Где-то сетушка, на амбаре, у твоей бабушки, валялась. В Ялани. Надо достать её и починить. Потом – поставим. Ты ж рыбу любишь… Сеть-то не бабушкина – дедова. Тот всё рыбачил. Брал и меня с собой частенько. Хороший был у тебя дедушка… какой уж дедушка… прадедушка. До ста немного не дожил.
– Ма-ма, па-па.
– Ты по подушке бей – не по ногам, ногам-то больно.
– Ды-ды.
– Чё так смеёшься, казачонок?.. Мама у нас хорошая, Васюха. Красивая. Добрая. Постарет, будет нужна только нам с тобой, а больше… никому. Кому же?.. Жить-то со старыми – попробуй-ка.
– Па-па, па-па.
– Да, Васюха. Кто же другой-то… Кто?.. Это – и ты-то если старый… И то – не знаю… От их и пахнет… и капризные… Это уж так… любить их шибко надо. А про себя забыть немного следует… тогда-уж как-то.
Встал Степан с кровати. Пошёл на кухню.
– Себя-то меньше подмечаешь. В себе-то всё вроде нормально…
Картошку проверил на готовность. Слил воду. Несёт кастрюлю, замотанную в белое вафельное полотенце, к кровати. Поставил её в угол постели, накрыл подушкой.
– Мама придёт – чтобы горячая ещё была… картошка. Селёдка есть у нас – мы и поужинам. Ты-то вон… сытый. Сытый, Васька?
– Гы-гы, гу-гу.
– Ну дак конечно. Столько вон стрескать… Вырастешь, милый, пойдём с тобой на рыбалку, ш-шуку поймам – ого какую. Или – тайменя… ещё лучше. Тот-то уж, парень… это – рыба.
Взял с дужки кровати розовое махровое полотенце, вытер им рот ребёнку.
– Я и не вижу, что испачкался. Вишь, вон иконы-то… ещё от Иванихи… А мы сидим тут, с грязной рожей.
Колотит Васюха попугаем по подушке.
– Вот так-то правильно… не по ногам.
– Гы-гы, га-га.
Пошёл к двери. Покурил, в приоткрытую. Закрыл дверь.
– Зимой нам холодно – дверь обошью. Войлок… у матери был где-то припасён. Моль, может, только источила.
Пришёл, сел снова на кровать.
– У твоёй бабушки, короче… Гы-гы, га-га… И я о том же. Брат бы приехал – матери помог бы, мне одному там с крышей не управиться – шифер подать да придержать… Ну, там жена – всему хозяин. Скажет ему: мол, не поедешь – и не ослушатса, и не поедет. Ну… это как там… все мы разные. Я – без обиды. Просто… как-то…
Бросил Васюха попугая, трёт глаза себе обеими руками.
– Сразу и спать вон, вижу, захотел – поел-то плотно. Давай-ка спать. Давай-ка, милый.
Положил Степан ребёнка себе на колени. Тот не противится, не плачет.
– Па-па, па-па.
– Да, да, сынок, давай-ка спать. Бежит серенький волчок, тебя хватит за бочок… И самому бы не уснуть… То раньше мама… Ещё тебя вдруг испугаю. В башке моей теперь другая колыбельная… Тебе б её вовек не слышать.
– Ма-ма, ма-ма.
– Да, Васюха, да. Кто тебе скажет, ты не верь… Правда – не в слове, правда – в сердце. Спроси у баушки, та тебе скажет… А она, мама, у тебя красавица. Мама у тебя хорошая. Бесценная. Это ведь так пока… А после-то… Тело ведь не роднит… и не сближат. Душа роднит, душою льнут-то. С таким телом, как у мамы, изжить нескоро – то, что требует… Как растопить дрова сырые. Если растопишь уж – надолго жару.
– Папа, папа, – говорит ребёнок.
– Да, да, Васюха, – говорит Степан. – Да, да, сыночек.
– Мама, мама, – говорит ребёнок.
– Да, да… и мама.
– Гу-гу.
– Мама твоя вернётся скоро. Полы помоет, и назад. Она хорошая у нас. Это вот я… я такой трудный…
– У-у.
– Я как к ней лягу, парень, спать, так почему-то всё и вижу… Он, Витя Чесноков, из Боготола… шибко сшибал на нашего учителя… этот – по физике который… ну дак – высовыватса Витя в выбитое взрывом, без рам, без косяков, окно, а ему выстрелом из пулемёта разносит голову, как тыкву, и мне глаза его мозгами забиват… Во сне-то всё и протираю – так залепило… до сих пор… Ты понимашь?
Молчит Васюха – понимает.
– А мама наша – молодая и красивая… какой ж понравится такое… Скажи, Васюха? Себя поставь-ка в это положение, на её месте-то побудь… В мире таких – раз и обчёлся… Это с такой-то красотой…
Спит Васюха.
– Ну, так оно… Да и Флакон вон… Лес вырубают?.. Вырубают… Человека не будет, и лес нарастёт. Природа-то – она своё возьмёт. Бох поругаем не быват… как баб Дуся говорит. Кто-то пришёл?.. В сенях-то шорох.
Глядит на дверь – та сильно привлекает. Как что-то… Как киноэкран.
Открылась дверь – не распахнулась.
Она вошла.
В руке её буханка.
В глазах её…
Глядит на мужа.
На сына взгляд перевела.
Портрет так смотрит со стены.
Как лунатик – поворачивается и уходит на кухню – в прихожей будто опустело.
Возвращается. Без хлеба.
Стоит. Смотрит. Не моргает.
Руки вдоль тела – словно приросли.
– Ты, Катя, чё?.. Чё там стоишь-то?
Подходит Катя к кровати – как к пропасти, к обрыву.
Стоит. Рослая. Не по избёнке. Потолок низкий – как небо в ненастье.
– Катя, ты чё?.. Чё-то случилось?
Падает в ноги Степану Катерина и, глухо зарыдав, целует ему ноги.
– Катенька, Катя, да ты чё? Сына разбудишь. Катя, чё ты?
Молчит Катя, трясётся телом. Как земля. Содрогается.
– Я Ваську отнесу в его кроватку, – говорит Степан. – Дай мне подняться. Отнимись.
Не отпускает его ноги Катерина – играет будто. Но по глазам её – так не подумаешь. Как заболела. Или – умерла.
Переложил Степан Ваську с колен на кровать. Гладит жену по голове.
Волосы у той разметались – как от ветра.
Взял Степан жену за плечи.
– Ну, поднимайся.
Встала Катерина.
Смотрит.
На мужа.
– Я схожу в баню, сполоснусь, – сказала так – как никому.
Ушла.
Долго нет её – заждался.
Спит Васюха – в кроватке. Луна – по носу его гладит.
И тут – на улице – луна.
Вышла Катерина из бани.
Вошла в избу. Иначе, чем раньше – как в свою. Снаружи можно увидать:
Погасли окна.
Сразу на одном из них луна разместилась – её как будто не впускают, – но она стёкол не ломает.
Со стороны можно услышать:
Не кричал этой ночью в доме никто, никто не плакал.
Была такая тишина – как на Красавице когда-то. Так замирает полнота. Пустое так не затихает.
Ни слов, ни циферь.
Бог нам в помощь.
Ночь, ближе к утру, пасмурная – дождь намечается, и лил до этого всё лето
Только в одном доме пылают окна.
Лежит в нём Василий Серафимович. Вчера ещё – яланский. Теперь – ветхий. Уничижённый. Бездыханный. Сущий уже во гробу, но не на глиняной пока ещё заимке – не добрался, никто его не подторопит. В доме, в котором родился и прожил. Прибирать будут завтра – скоро портится. Лежит – приобретает. Внимательный – познаёт. Никто к нему не обратился, не воззвал: «Старик, встань». И не встаёт. Тлеет, чтобы когда-нибудь в нетление облечься. Когда кости его взойдут, как трава, возведётся на них плоть и прострётся по ней кожа. После придёт от четырёх ветров дух и одушевит – обещано. Как древо жизни, станут дни его. Пока лежит. Свидетельствует. Зовёт нас, живых ещё, чтобы пришли взглянуть, как красота его телесная чернеет. Придут многие. Да не все. Кто-то по уважительной причине. Учитель физики, Иван Сергеевич, поедет в школу, в Полоусно. Хоть и не очень он там завтра будет нужен – так, может, кто-то полагает. Линейка в школе – дело важное. Не то что смерть. Та – лишь тогда, когда приходит за тобой. Или за кем-то очень тебе близким.
Сидит на стуле около гроба овдовевшая. Имя её Таисья Алексеевна Плетикова, в девках Белозёрова. Яланская. Чалдонка.
Теперь:
В чёрном. Грузная. Скорбит. Никак узнать не может мужа. Замуж-то выходила вроде за другого.
По дому смерть-хозяйка ходит – значительная, ко всем присматривается – как к своим.
Ноль: два. Два: ноль. Два, или – несколько…
* * *
Пьеса заканчивается. Но все остаются на своих местах. Зрители вяло, приличия ради, требуют автора – вроде положено – или поаплодировать ему, или освистать.
Автор выходит, неловкий, неуклюжий, с любовью низко кланяется актёрам, давно ему, похоже, знакомым, отдельно и ещё более почтительно – исполнителю главной роли, лежащему в домовине. Затем поворачивается застенчиво к публике и произносит в зал косноязыко:
– Помолитесь за нас, немощных и грешных, за живых ещё и отошедших.
– Господи! Господи! Господи! Господи! – кто-то из зрителей, наверное, так помолился.
Санкт-Петербург Рождественский пост, 2008Золотой век (Стража первая)
Ялани, родине моей, на глазах моих умирающей, и друзьям детства, живым и усопшим, с любовью
Кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы к вам и успокоился бы.
(Пс. 54, 7)Мороз. Для наших мест не исключительный: градусов сорок.
В Ялани точно никогда и ни о чём тебе не скажут. Ни на один вопрос со словом «сколько». Ответят: вроде или около.
Около, значит, сорока.
Могут сказать ещё: примерно. Не с целью правду скрыть – не утаишь. Всё относительно – поэтому. Не скажешь же: примерно, умер. Или про то, что у тебя родился кто-то, сын или дочь, не скажешь: вроде. А потому что тут – предметно. Родился. Умер. Не сколько сена накосил. Не сколько денег заработал.
Примерно: сорок.
Бывали и ядрёнее морозы: под шестьдесят и даже крепче. На своей шкуре испытал. Забыть трудно. Да и теперь ещё случаются, не согласуясь с пресловутым глобальным потеплением, странно с ним как-то сочетаясь ли. Так иногда прижмут, что ни воробьёв, ни сорок и ни ворон, обычно вездесущих, не увидишь, сколько в заиндевевшее окно их ни высматривай. Ни на столбах, ни на заборах, ни на натоптанных в снегу дорожках – важно порой, в более мягкую погоду, по ним расхаживают – как по собственным, словно они их проторили, а не люди. Прячутся где-то. По чердакам, дворам, сараям и пустым, оставленным переехавшими в город сельчанами домам, ещё не развалившимся. Сидят там, клюв не разевая и нахохлившись, – так, наверное. Пережидают. Чтобы в коротком перелёте с места на место, из укрытия в укрытие, кровь в теле в лёд у них не затвердела, а им самим не превратиться в твёрдую, как камень, глызку; вымерзнет, полетев, какая в непроглядном от густой изморози воздухе, после, уже бесчувственная, ударится обо что-нибудь и раскрошится, как хрустальный флакончик, вдребезги. Бывало.
Люди здесь сибиряки – терпят, с упёртым смирением и чалдонской ухмылкой называя такие морозы кто кляшшыми, а кто собачьими – едино по значению.
На исходе последнее воскресенье января. Через несколько минут наступит полночь. Я и родился.
Событие для меня значительное. Спустя двести девяносто один год после того, как побывал в Ялани проездом ярословый и непокоривый протопоп Аввакум с верной женой своей Анастасией Марковной. И за месяц с небольшим до оглушительной для страны смерти в Москве Иосифа Виссарионовича Джугашвили, который отбывал некогда безбедно и нехлопотно в нашем уезде ссылку. За счёт казны. Своеобразный отпуск. С активным, как говорят теперь, отдыхом от пылкой революционной деятельности. Передышкой. Как в альпийском Куршавеле. Катаясь на лыжах. Охотясь в тайге за дичью, а в деревне – за молоденькими девицами. И после, будучи уже не заурядным государевым преступником, а известным на весь мир государственным и политическим деятелем, в классовом или этническом неприятии, разметал, как ветер ворох жухлых листьев, наше казацко-крестьянское население. Одних на родине оставил – выживать в страхе и в ожидании своей очереди, других отослал за полярный круг – строить там впроголодь новый портовый город, третьих совсем уж далеко – в могилу преждевременно. Надо же так вот ненавидеть. Или любить. Идею. Не людей. А на Февральскую, буржуазно-демократическую, революцию, кстати, вместе с Каменевым-Розенфельдом, революционером с 1901 года и зятем Льва Давидовича Троцкого-Бронштейна, и Мурановым-Мурановым Матвеем Константиновичем, если кто забыл или не знает, членом РСДРП с 1904 года и членом же редколлегии большевистской газеты «Правда», Сталин поехал из Ялани.
Тех, кто вдруг в этом усомнится, вежливо отсылаю по такому адресу: «Интернет; Биография. Ру \К\ Каменев Лев Борисович». Удостоверьтесь.
Я не придумщик, не подложник и чей-то политический заказ не выполняю – не способен.
(Скорых на выводы хочу предупредить. Честных и «объективных» критиков особенно прошу не волноваться. Несмотря на некоторые совпадения и повествование от первого лица, главный герой и автор – не одно лицо. Взгляды на исторические процессы и исторические личности у автора и главного героя, от имени которого ведётся рассказ, не всегда совпадают; а у автора и остальных героев – уж и тем более – те и сами с усами.)
Родился не на смену уходящему со сцены коноводу мирового пролетариата. Слава Богу. Жизнь это подтвердила. На скромную, рядовую роль – обычного смертного. Как-то вот с ней пока справляюсь; родительскими молитвами – не прекращаются, не утихают. Но право полное имею заявить: я, дескать, жил ещё при Сталине. Как со своей родной бабушкой Настасьей, умершей от цинги за полярным кругом, там же и похороненной, во времени не разминулись. Хоть и краем, но коснулся. Великого, как некоторые считают, и славного; грандиозного ли, как полагают иные, но кошмарного и бесчеловечного – здесь без оценки, о другом.
Не в больнице. Дома. Мама управилась сама. Без повитухи. Я не первенец. Последний. Пятый. И ей, маме, было уже не восемнадцать лет, а тридцать с лишним. Навыкла.
Старшие братья и сёстры мои уже спали. Крепко, наверное, не притворялись. И обнаружили меня уж только утром. В силу своего разума, удивились, а незлобивости – порадовались. Младшая из сестёр назвала меня «кыхой», то есть кысой. Может, и перепутала, а может, и сравнила. Так, до крещения, совершённого надо мной позже месяцем, двумя ли и крадче от уехавшего на то время в затяжную командировку отца, убеждённого – хоть и не марксиста, но – социалиста-коммуниста, я для всех и оставался Кыхой.
Отца мама отправила к соседям, «чтобы обоим не смущаться». Тот не заставил уговаривать себя – подался, прихватив с собой из шкапу-судника пол-литровую бутылку питьевову спирту – на всякий случай там хранился – случай представился, куда уж бол ее-то подходящий. Друг моего отца – скорей, отзывчивый приятель – обретался в соседях, Чеславлев Захар Иванович. Подняв с постели и послав к роженице для поддержания душевного помощниц – жену, Матрёну Николаевну, будущую мою хрёсну, и мать Захара Ивановича, Марфу Измайловну, – бдели приятели, беседовали, а после, вскоре как проведали о появлении моём на свет, до следующей уже ночи «ножки обмывали»; по сей вот день хожу на них, а то и бегаю – обмыли добросовестно. И у приятеля имелось кое-что, конечно. На лекарство и па тот же всякий случай. Тоже, наверное, в шкапу, где потаённо ли, не на виду, держалось. Не обойтись без этого в Сибири, по причине сурового климата и ошеломляющей порой – для того, кто вдруг проникнется, – оторванности от многошумного цивилизованного мира. Так что нужды с моющим средством у них, предполагаю, не возникло.
И я, думаю, будь я на месте моего отца, сразу бы покорился – к другу, живи поблизости он от меня, убрался бы. Или, на худой конец, невзирая на погоду, вокруг бы дома потоптался. Не для моего слабого духа подобное зрелище, не по моим шатким нервам. Тех из мужчин – исключая акушеров и ветеринаров, обязанных к этому служебным долгом, – кто горит желанием присутствовать при родах чьих-то, даже кошки, понять мне трудно. Но не сужу их. Им дано. Во мне отсутствует. Нужда прижмёт, так, может… Не об этом.
В разорённой и осквернённой заводилами новой, по духу века, светлой жизни в сороковом, предвоенном, году двадцатого столетия яланской церкви, каменной, возведённой когда-то нашими, тёмными умом, предками, чалдонами-казаками, во имя Сретенья Господня, теперь стоял громоздкий дизель, снабжающий Ялань светом, но электрическим уже, а не духовным. Работал дизель, в первую очередь, на МТС, а на людей уж – во вторую. Свет – давали его только с пяти до девяти утра и с шести до одиннадцати вечера – погас. При лампе керосиновой. И первый свет физический, который в жизни меня встретил, был от неё, от этой лампы, значит. Как я к нему отнёсся – как очень яркому, как очень тусклому ли, – если тогда ещё или уже и видел что-то я, не представляю. Был там не только свет, были и тени. Как повлияло это на меня, не повлияло ли никак, вряд ли когда теперь уже и выясню.
За час до этого «вернулся из гостей». С вечеринки, устроенной в складчину. Было тогда в обычае такое. Нынче не водится – отжило. «Скинуться на троих» – лишь жалкий отголосок. Мама рассказывала так: «Мы с отцом гуляли у Коротких. У Саги с Александрой. Складчиной. Их черёд был принимать гостей. Царство им Небесное. Оба уж померли. Не старыми. Болезнь-то эта – нехорошая, помилуй Господи… уж как привяжется… Отец гулял, а я сопровождала. Домой пришли. Ты вскоре и родился». – «Я запросился, вас заторопил?» – спрашивал я у мамы. «Нет, – отвечала она. – До последнего сидел тихонечко, как в засаде… Там был смирнее, чем теперь». Ей было лучше знать, я не оспаривал. Сейчас, тем более, ни в чём ей не перечу, и в самом малом даже, незначительном. Все разногласия уладили. Разве в одном бы укорил: дом по вине её пустует – так, насовсем-то, никогда не отлучалась. Вступишь теперь в него, как гость, осмотришься сначала и, со стеснённым горлом, сердцем позовёшь: «Мама, ты где?» – Будто откликнется, но издалёка. Пусть бы и это не вменилось мне в противоречие. Отец, так тот давно уж, в доме-то, не отвечает, хоть зазовись.
С двумя макушками – не с рожками, оговорюсь для подозрительных.
В «рубашке».
Не по своей, похоже, воле. Была ли она, воля моя, уже тогда при мне, нет ли, сказать определённо не могу, не знаю. Да и сейчас-то не всегда её доищешься и дозовёшься. Разве что на худое – ближнего осудить, глянуть налево вожделенно, лишнего выпить ли, – тут она рядом, словно не отходила ни на шаг, готова мной, будто рабом презренным, помыкать, распоряжаться. А на что доброе – пуд соли съешь, пока с ней сговоришься. Уже – не воля, а – неволя.
То есть никто не спрашивал меня, хочу я, такой-сякой немазаный, пока что безымянный, может, и с именем, извечно мне уже прописанным, родиться, не хочу ли. Возможно, спрашивал. Возможно, что-то я и отвечал, да вот не помню. Но мне-то видится всё это так: я просто был поставлен перед фактом: вот это ты, а это мир, мол, – сосуществуйте, как получится. Но кто такой я и откуда, мне не сказали. Нет, не жалею – не об этом. Я благодарен Богу, что:
Родился.
Вызван откуда-то – как ниоткуда.
Как гриб – от сырости ли только?
И ниоткуда… Ниоткуда ли?
Я так не думаю. В минуты мрачные – даже тогда.
И гриб не сам по себе, не по своей прихоти, думаю, засеялся, и нарастает не от сырости лишь, а изначальным попечением Господним о всей вселенной и о человеке. И я не исключение – и я, как мир, как часть его живая, что-то, пусть мало-мало, но осознающая, с начала мира Им промыслен. Имже вся. Значит, и я Тем. Не сотворил бы Бог меня – не создавал бы Он и мира. Какой бы смысл был в этом мире, если бы не было меня в нём? Никакого. Гриб в мире есть, а я отсутствую и никогда не появлялся здесь – разве представить? Значит, и я из Промысла – не ниоткуда. Как для кого, не знаю, для меня – логично.
Познах тя, – прежде неже изыти тебе из ложесн.
И непременность моего существования – так очевидна, ощутима, что заставляет ликовать: Бог меня любит! Чем я могу воздать Ему за эту милость незаслуженную и как мне, не имеющему ничего своего, кроме немощи и скверны, ответить на это?
Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей; исцели мою мятущуюся душу! – так только.
Так и отвечаю.
А отвечаю, значит, есть. А если есть, значит, когда-то я:
Родился.
Не чудо ли? Да чудо из чудес. Ведь никакой закон мне это не предписывал, а я:
Родился.
Непостижимое же – не исследую. Может, и не вредит душе, но и не пользует ей; живым бы только сделаться из мёртвого. Непросто.
Девицы, студентки сельскохозяйственного училища механизаторов при МТС, из общежития, расположенного в новом щитовом бараке поблизости от нашего столетнего, листвяжного дома – знания эти я приобрёл гораздо позже, разумеется, когда, встав на ноги, исследовать свой дом снаружи и окрестность понемногу начал, – в глухом, муравчатом заулке, спустя какое-то время, карантинное, несколько раз прибегали посмотреть на новорожденного. На меня, значит. Как на заморское чудовище.
Одна сначала появилась. За молоком – брала у нас. Ушла. Других направила, подружек. Так впечатлилась. Не мудрено. Волосы на голове у меня были редкие, толстые и красные, как медная проволока, – будто под многовольтным напряжением, торчали дыбом, только что не искрили. Словно, родившись, я чего-то испугался сильно. Было чего, после уютной-то утробы. Там бы, наверное, в утробе, где обвык, освоился уже, и оставался, да не дано мне было выбора – явился. Глаза чёрные, как сажа, или, по выражению Ивана Захаровича Чеславлева, дедушки моего будущего друга Рыжего, как у мурина косматого, как у страшилы агарянского, выражению, много раз позже незлобно отпущенному в мой адрес. Только глаза глазами он не называл, всегда – шарами. Шары, мол, выкатил. Или – залил. Шары у Рыжего, шары и у меня. И у соседа нашего, Арынина. Шары у кошки, у собаки. Шары у лешего и у кикиморы. Лишь у жены его, Марфы Измайловны, у той – бельмы. Либо просто бельмы, либо ещё и наглые к тому же. Марфу Измайловну он выделял во всём и изо всех, из всего свету. Когда умрёт она лет через десять, Иван Захарович, резко вдруг сгорбившийся и осунувшийся, положит в ящик комода свои трубку и кисет, сшитый давным-давно ему Марфой Измайловной, и скажет: «Всё, однако, напыхтелся. До горести, до отвороту. Поживу ишшо недельку, дён ли девять, и за ей… за толстопятой. Чё там она, беспомошная, без меня-то?.. Шагу ступить одна не сможет». Спустя неделю, правда, умер. До трубки так и не коснулся. Он же, Иван Захарович, однажды, бесцеремонно нависнув надо мной, играющим прямо на полу у них в избе с Рыжим в шашки, то есть в Чапаева, и долго, как карту незнакомой ему местности, сверху вниз разглядывая мою стриженую голову, сказал задумчиво: «Ну, две макушки – будет двоеженец. И к ворожее не ходи». Находящаяся тогда рядом Марфа Измайловна ему ответила на это: «Не наговаривай на человека. Две-то жаны пошто? Он – не татарин». – «Дак ну и чё, что не татарин?.. Чем русский хуже?.. И мурин, девка, рази русский?.. Ты тока взглянь, – сказал Иван Захарович, – эвон, у нашего, совсем иное дело, дивно, тут жа ядро алтерерийское, а не башка. По всей ни выемки, ни взбугорочку… Пото – ложкой-то шмякнешь – всё соскальзыват, оно, как надо-то, не получатса… так, чтобыч дзенькнуло… в пустой-то, – отступил от нас Иван Захарович, сел на свою койку, в потолок щуро уставился, глубоко, как в отчаянии, из трубки затянулся, дым вслед за взглядом выпустил протяжно, после продолжил: – Вольно казак прокатится по жизне, наш-то, слободным лыцарем по ей промчится. Примета верная, уж не омманет. Бабы-то будут так яму… попутно… тока для слатости, для услаждения. Он жа поганец… в этих… тьфу ты».
Не сбылось пророчество, примета не исполнилась. Женат ни разу ещё не был я. Как уж продолжится, посмотрим. Зато Рыжий – тот как женился, отслужив в армии, не поступив ещё в училище, на бывшей нашей однокласснице, Сладких Тамаре, так по сей день в её вассалах верных пребывает, слободный лыцарь. В школе он, на потеху нам, носил портфель её, теперь – хозяйственные сумки. Когда вижу их иногда в городе, идущими под ручку, ставшими за время их совместной жизни даже похожими друг на дружку, сердце ликует у меня.
После девицы из того же общежития, но, скорей всего, уже другие – я их тогда ещё не различал: все они были для меня чужими тётями, – проходя мимо нашего дома на занятия в училище или с занятий и увидев меня возле ворот, мои глаза отмыть грозились мылом мне, но я им в руки не давался – юркал от них в ограду, как щенок.
А так же всё непокорно торчащие, словно верхний плавник у атакующего жертву морского окуня, волосы на моей голове красными оставались лет до семи, до самой школы, потом смирились чуть, пригладились и потемнели.
Шары, напротив, посветлели. Бывает так, и я пример вот.
Момент рождения, убей, не помню. Как ни пытаюсь вызволить его из бездны своей памяти, со дна её ли, есть если дно-то у неё, – не получается. Да и не пробую давно уже – отчаялся. В детстве, бывало, любопытствовал. Словно в кромешный мрак зрачками упираешься – как сквозь сверхплотное – не просочиться. Хоть бы просвет какой-нибудь, какое ли изображение, пусть бы и блеклое – непроницаемо. Вроде как не в себя заглядываешь, а в чужую душу – сплошная темь. До первых, уже или ещё смутных, воспоминаний зряче добираешься, дальше наощупь – разве что пустоту – ощупывать там нечего. Будто его, момента этого, и вовсе не было. Но был ведь. И у ручья любого есть исток, который он до устья, думаю, не забывает; как уж потом, когда с рекой сольётся, с морем ли, не знаю. В документе, в метрике, ещё сохранной и сейчас, здравомыслящими, честными и вменяемыми должностными людьми тут же вслед за событием и было в сельсовете зафиксировано: такой тогда-то, мол, и там-то, дескать, народился – был же я им, как факт, представлен, не записали же со слов. Марфа Измайловна, Матрёна Николаевна Чеславлевы – и те-то чем же не свидетели. И сам я, тут вот – чем не доказательство.
Говорят, что закричал, как и положено, когда родился. Но что от радости-то – вряд ли. Хотя кто знает.
Как-то мы с Рыжим, помню, рассудили, когда уже учились в школе, в классе восьмом или в девятом. Не на занятиях, а на рыбалке – Кемь разлилась, налим клевал на ямах, – сидя на брёвнах. У костра. А рассудили так, примерно:
Мол, потому момент рождения не помнит человек, что, обладай он уже тогда, то есть сразу, как родился, полным и ясным сознанием, тотчас бы с ним и распрощался, и всё равно, от счастья или горя, – так вот поэтому. После уж получаешь дозами сознание. Как голодавший долго – пищу, чтобы, перенасытившись, не умереть. И память тоже обретаешь постепенно – и тоже – чтобы не свихнуться. Дескать, представь себе такое:
Идёшь ты, счастливый и беспечный, весенним погожим днём по улице мирного, спокойного города на свидание к любимой девушке, несёшь в подарок букет цветов и переполненное нежностью к ней сердце, поворачиваешь за угол, и тут на тебе: оказываешься вдруг в окопе, по пояс в ледяной воде, и по тебе, голому и беззащитному, молотят без передышки из орудий всех видов и калибров – что с тобой стало бы?
Так же и тут.
Прежняя память, мол, если имелась у тебя такая, предварительная, словно с магнитной ленты, стёртая в момент рождения, к тебе уже не возвращается – в жизни не пригодится, то и помешает – может, поэтому. И, вместо прежней, получаешь новую. Без фона. Но, мол, и новая включается не тотчас. Когда настроятся параметры – тогда лишь.
Так, сидя тёмной, не белой ещё пока, майской ночью на крутолобом кемском яру, спиной к уснувшей уже Ялани, а лицом к шумной от половодья Кеми, шевеля палками в костре пекущуюся в нём картошку, мы рассудили.
Однако вот что интересно.
Услышишь порой что-нибудь, песню старинную или дудук армянский, например, увидишь памятник архитектуры, скажем, Георгиевскую церковь в Старой Ладоге, прочитаешь ли что-нибудь из древней мировой истории, и как волной обдаст тебя внезапно – что-то почувствуешь знакомое настолько – что-то с тобой, подспудно как-то, связанное.
Прочитал я однажды такое: «Ахия-ликин, сын Набу-алу, и Хашдия, сын Терик-шаррутсу, добровольно продали свою рабыню Нана-силим, девочку 6 лет, на запястье которой записаны имена Ахия-ликина и Хашдии, за 17 сиклей серебра, за согласованную цену, Мардук-шум-иддину, сыну Зерия, потомка жреца Гула».
Прочитал я это, и сердце моё захолонуло: будто когда-то я присутствовал при этой сделке, и будто воздух жаркий ощутил и освещение, какое было, различил вдруг – так показалось мне, но на одно мгновение, тут же и улетучилось, как пар, оставив привкус, как привидение, исчезло.
И, как приметил ось мне, случается такое только тогда, когда я имею дело с письменными или материальными документами из истории народов Европы, особенно славянских, Северной Африки, Малой и Средней Азии, очень уж древних, но не тогда, когда сталкиваюсь с источниками из истории народов Азии, Центральной и Южной Африки или Америки. Не навевается, как ветерок, не наплывает наваждением. Не знаю, как и объяснить. И в чём причина, не догадываюсь. И друга рядом теперь нет – не рассудить, не посоветоваться.
Всё, что, хоть мало-мальски значительное и выпадающее из ряда вон, происходило со мной с момента рождения до включения в дело моего сознания, когда я был ещё беспамятным, как овощ или, уж в лучшем случае, как курица, я знаю от других, конечно. Из рассказов старших. Больше – от мамы. У той нынешнее было как век назад минувшее, а век назад минувшее – как нынешнее. «Чё со мной давным-давно творилось, с малого возраста, помню до мелочи, – говорила она. – А чё вчера было, уж и забыла. Ума совсем уже не стало. Спроси меня, куда я ножницы, на днях же чё-то стригла ими, сунула, не знаю, хоть обыщись… лежат же где-то».
Отец – тот если и рассказывал что-то, так больше о своих многочисленных родственниках. Коробейниковых, по женской линии, и Истоминых, по мужской. Историй, как и родственников, было не счесть, на любую ситуацию и на всякое событие. Одна из хроник начиналась так, к примеру: «Дядя мой по матери, Игнат Иванович Коробейников, по прозвищу Шанюжка, роста был неболшенького, сухой, поджарый, дёрзкий же, парень, как барсук… мало кто с ним соперничать решался…», или: «Тётка по отцу, Глафира Григорьевна Истомина, замужем Селиванова, женщина была крупная, бела, высока – красива, молчком всё больше, слова лишнего зря не обронит… Дак она как-то…» – сама же история следовала после эпитетов пространных, но приведена была, отметить надо, всегда к месту.
Как я родился, вряд ли он, отец, запомнил. Ни слова от него не слышал об этом. И понятно. Было отцу тогда уже за сорок, и за спиной у него была Великая война, которую он отсолдатил с начала до конца, завершив службу младшим лейтенантом в Берлине и демобилизовавшись в сентябре сорок пятого года. Та занимала много места в его памяти, хоть и о ней он мало что рассказывал, только лишь: выпив на День Победы водки и захмелев, вытирал, как медведь лапой, заслезившиеся глаза тыльной стороной тяжёлой ладони, всхлипывал, как ребёнок, и приговаривал: «Сколько же мужиков оттуда не вернулось, сколько их полегло – кто подсчитает?.. Земельку сдобрили чужую – теперь она там урожайная… А вот Захар… Захар – тот струсил как-то, испугался, немцы окружат, в плен возьмут, и закопал билет партийный… Сказал потом, что где-то выронил… Пьяный-то, как-то мне признался. Ну, это, ладно, дело прошлое… Сколько ребят там головы сложило… и всё же больше-то мальчишки. Прибудут новенькие, шумные, молоденькие, во всём чистеньком, не обстрелянные, глядишь на них и думаешь: покойнички… Живы пока, до первого-то боя… А ты всё: Бог, – это уж маме. – Какой там Бог! Был бы Он, Бог, такого бы вот не было… Может, и есть, раз есть такое?» – «Есть Он, нет ли Его, Коля, – отвечала ему, осторожно по случаю праздника, мама. – От нас с тобой, слава Богу, не зависит. То бы и небо всё меняй, звёзды на нём переставляй по собственному изволению». И он, отец, на это соглашался.
Да и что особенного, из ряда вон выходящего, тогда могло со мной случиться? С таким-то количеством попечителей – сестёр и братьев. Как и во сколько месяцев ходить начал. Под чьим умелым руководством. Какое слово первым выговорил. Еде как упал. Залез туда, куда не следовало лазить. Потянул и уронил со стола что-нибудь, что пролилось или разбилось. Съел ли что-нибудь не то, засунул в рот какую-нибудь бяку. Как и у всех в этом возрасте. На то он и младенец, и телом, и умом. Два раза, как говорят, в жизни глуп – когда млад и когда стар. Что там и помнить.
А вот то первое, что удержала моя собственная память, со стороны не позаимствовала, чужое своим не сделала.
Залитая солнечным светом комната. Не знаю, летним или зимним днём, верно отсюда мне уже не различить. Зимним, скорее, к этому склоняюсь. По ощущению. Как будто печь гудит – буржуйка. Летом её у нас не топят. С июня по сентябрь пользуются печкой-плитой в подсобке, или на улице, под специально сделанным навесом. И будто окна разрисованы. А чем же, кроме как морозом? Склонившись надо мной, мама туго пеленает меня на столе во что-то светлое. В пелёнку, может. Может – в покрывало: нести меня куда-то надо было, может быть – в больницу. Ох, как не нравится мне это. Кричу что есть мочи и силюсь отчаянно освободиться. Но безуспешно. Ноги и руки уже скутаны. Осталось только горько плакать, что я и делаю. На стеснение по рукам и ногам есть недовольство, на маму – нет, словно кто-кто, но уж она-то не причастна к этому насилию, это я помню. И помню, как в тот день была обставлена та комната – передняя, как выяснилось после. А когда однажды сказал про это старшим, те не поверили. Я описал: и где стоял сундук, и как он выглядел, где – этажерка, и сколько окон было в комнате, какого цвета были занавески, и где висело радио-тарелка. Услышав от меня такую правду, старшие поразились. Сколько тогда мне было? Полгода? Год? Или чуть больше? Мне не узнать уже. Тут, на земле, по крайней мере. Вопрос, конечно, не существенный, и жизнь моя от ответа на него мало, наверное, зависит. Но – любопытно.
Помню ещё крыльцо и мягкую, высокую траву в ограде, среди которой стоит мама не то с ведром в руке, не то с корзиной, смотрит на меня. Я сижу на широкой плахе крыльца, нагретой солнцем. Под тёмным навесом, за заворами в три тонких жерди, – конные сани с заломленными вверх и связанными оглоблями, упёртыми в заплот. Крыльцо старшие помнят, сани кто-то помнит, кто-то нет, маму в ограде представить могут, а траву – никак. Говорят, что она, трава эта, только в голове у меня наросла, но в действительности её якобы не было. А я уверен вот: была.
После мы, когда мне не исполнилось ещё и трёх лет, осенью, переехали в другой дом, менее просторный, но уже свой – родители купили его у родственников жившего в нём и умершего хозяина, сымского кержака Селивёрста, бездетного. Недалеко от прежнего, через два дома, на той же улице. До этого снимали половину пятистенника, с разными входами и оградами. Другую половину тоже снимали две молодые латышки. Я их не помню. Хотя они со мной даже и нянчились, как говорят у нас – водились, когда, при таком-то обилии нянек, по каким-то причинам было некому. Все наши могли уйти в лес – и такое случалось – за ягодой или за грибами, чтобы запастись на долгую зиму. Потом, когда им, латышкам, было разрешено, они уехали на родину. Одна из них, Люся – так её по-русски величали, какое у неё было родное имя, не знаю, – вернулась. К жениху. Феде Верещагину. Поженились они и жили уже не в Ялани, а в Елисейске. Федя, закончив где-то далеко, может быть, в Омске, может быть, в Иркутске, авиационное училище, был вертолётчиком. Пролетая над Исленью, машина их из-за какой-то неполадки упала в реку. Вроде искали, но не нашли ни вертолёт, ни экипаж. Оставшись на первом году замужества вдовой, Люся опять уехала в Прибалтику. Больше уже не возвращалась. Года через четыре – дата стоит на обратной стороне снимка: «Рига. Шестьдесят первый г.» – прислала маме фотокарточку. Подписана: «Дорогой и замечательной Елене, в память о нашем незабываемом соседстве. Привет семейству и особенно Олежке». Красивая женщина. В берете, из-под которого выбиваются светлые пряди волос. Когда я, этот самый Олежка, родился, Люсе было лет двадцать. Жива ещё, нет ли, мне не известно. Я – ни сейчас и ни тогда, наверное, не понимая, зачем – выколол шилом на этом фотопортрете глаза, за что отец меня и выпорол, и правильно поступил – больше такого я уже не делал – сработал метод воспитательный. Сохранилась эта фотография. Приезжая домой и открывая иногда семейный альбом, смотрю и на неё, на эту фотографию, но женщина с неё не отвечает мне обычным взглядом – глаза у женщины незрячие, пустые.
Из настоящего, набрав в лёгкие воздуху и сосредоточившись, погружаюсь в своё дошкольное детство. Цельной картины я не вижу. Лишь фрагменты. Фрагменты эти я скомпоновал, собрал в одно место и берегу их, как мама когда-то хранила в трёхлитровой стеклянной банке пуговицы. Когда ей надо было пришить к чему-нибудь на смену оторвавшейся и потерявшейся, она вытряхивала пуговицы из банки на стол и выбирала подходящую. Так вот и я, как мама с пуговицами, поступаю с фрагментами моего далёкого прошлого – вытряхиваю их на стол моей памяти, только не выбираю подходящий, как она, а беру первый по времени и будто пришиваю его к тексту.
И вот один из них, пришитых только что.
Мне года три или четыре. Босой, одет только в трусы, с поддерживающими их двумя лямками крест-накрест. Мурава мокрая, мягкая и яркая – после грозы. В логу, под угором, на котором стоит наш дом, бежит, возникнув после ливня, мутный, шумный, бурлящий ручей. Пускаю кораблик – щепку. Спешу вдоль ручья следом. Не замечаю, как оказываюсь возле незнакомой мне речки, в которую впадает дождевой ручей. Слышал, что есть такая, но вижу её впервые – Куртюмка. На поляне, густо поросшей жёлто-белыми ромашками, лежат разномастные коровы, жуют и смотрят безразлично на меня. На пологом берегу речки стоят рядком чёрные и покосившиеся бани, с закинутыми на их желобниковые крыши старыми вениками и тазами. Оглядываюсь назад, но не обнаруживаю своего дома. Ужаснувшись, начинаю громко плакать. Скоро, не скоро ли, надо мной в воздухе возникает Женщина в ярко-красном платье. Я Ей ничуть не удивляюсь. Молча, Она выводит меня на тропинку, в конце которой я замечаю и узнаю свой дом. Вбегаю в открытые настежь ворота. Мама развешивает на проволоке, натянутой между двумя столбами, бельё. Я, всё ещё хныча и путаясь, рассказываю ей про Тётю и про то, что со мной случилось. Мама бледнеет. Крестится. И прижимает меня к своему животу. Я успокаиваюсь. От маминой юбки пахнет сырой, тёплой тканью и мылом.
Другой фрагмент – первый, являющий отца в моём сознании.
Он откуда-то вернулся, из какой-нибудь очередной командировки. Не из гостей и не с курорта, куда и в жизни он не ездил. Привёз огромную серебристую рыбину. Сейчас я полагаю, что это была нельма. Рыбина лежит на сундуке, застеленном красной тряпицей, весь его занимая. Чешуя на рыбине крупная – чуть ли не с моё ухо каждая. Отец подхватывает меня на руки и легко подкидывает над собой до самого потолка. Душа моя, или душонка, обмирает в страхе, но я молчу – пусть ещё маленький, но чалдон.
А после, в тот же, наверное, день, но уже вечером, так как окна были, помню, занавешены и на столе стояла керосиновая лампа…
За столом. Сижу у отца на коленях. Кормит он меня варёной рыбой. Недалеко от стола, на полу, облокотившись одной рукой на сундук, в другой держа папиросу, на корточках, по-татарски, расположился Захар Иванович. По приглашению отца Захар Иванович поднимался, подходил к столу, выпивал, чокнувшись с хозяином, стопочку и возвращался на место – так ему удобней было. Так он у нас всегда гостил. Беседуют. Возле стола стоит мама, смотрит на нас с тревогой – могу я подавиться рыбной костью. Так и случилось. Но это уже не в моей памяти, а по рассказам. Из горла кость вытаскивал мне врач – Хаджи Расулич, из военнопленных. Хороший был специалист – так отзывались о нём в Ялани. И человек был неплохой – так о нём тоже говорили. Но в моей памяти не сохранился он, Хаджи Расулич. Знаю, что был, но вот как выглядел, не помню.
И ещё…
Отец, будто наждачным камнем, трёт моё лицо своим щетинистым подбородком – мне это очень неприятно, как могу, уворачиваюсь – и спрашивает, кого я больше люблю – его или мамку? Я, не раздумывая долго, отвечаю: Ленина и Сталина. Отец и Захар Иванович, радуясь, наверное, моей не по летам совершенной политической грамотности и изворотливости, весело смеются.
Ну и ещё один фрагмент. И тоже из самого-самого раннего возраста. Выбрав его, вдруг понимаю, что во всех фрагментах, извлекаемых из этого периода моей только что начавшей осознавать себя жизни, пора присутствует всегда такая – либо зима, либо лето. Сознание моё ещё не выделяет из годового цикла ни весны, ни осени. Наверное. Не отличает. Весна и осень, как времена года, возникнут в моей памяти тогда, когда пойду в школу. Первое сентября. Как же забыть. Школьный парк, и в нём, среди кедров, пихт и лиственниц, ещё зелёных, берёзы жёлтые и красные, с пригнувшими ветви гроздьями оранжевой ягоды, рябины. Запечатлелось – в добром здоровье нахожусь пока, не вытравится. И потом уже, в течение всей последней четверти, считая дни в апреле и в мае, пребывая в нетерпеливом ожидании: скорей бы уж закончились занятия. Когда сидишь в классе, вполуха слышишь, как говорит учительница или отвечает кто-то из учеников. И чаще смотришь в окно, чем в букварь, в учебник арифметики, в тетрадь или на классную доску. А душой, уже крепко привязавшейся к окружающему миру, витаешь вожделенно на улице, отмечая там каждый признак наступающего преображения – капель апрельская и прочее, и огорчаясь каждому возвращению уже слабеющей зимы – в виде метели, снега и мороза.
Вот он, этот фрагмент.
Лето. Жаркий, солнечный день. И небо видится отсюда мне безоблачным – таким оно на тот момент, наверное, и было. Звучит музыка. Откуда, не задумываюсь. Как будто с неба. После уж узнаю – со столба около клуба. Хожу я по невысокой, пыльной и мягкой завалинке нашего дома, а за руку меня придерживает стриженный налысо, веснушчатый, в коростах, густо замазанных зелёнкой, серьёзный мальчик, старше меня. Ходит он не по завалинке, а вдоль неё, по поляне. Мальчик этот – Рыжий, мой будущий друг. В окно на нас гневно смотрит девочка. Сестра моя, назвавшая меня когда-то Кыхой. За мной приглядывать её заставили, а потому она так и сердита – так теперь думаю про это. На мураве рядом лежит, распластавшись, чуть ли не красная собака, прикрыв одной лапой глаза – от мух навязчивых, наверное, от комаров ли.
Позже вижу его, Рыжего, уже без корост, но ещё более, кажется, веснушчатым и таким же всё ещё серьёзным.
Фрагменты-пуговицы на столе лежат вразброс, не упорядочены, беру любой теперь, какой под руку попадётся.
Пришиваю.
Мне лет пять, Рыжему, соответственно, семь, или уже исполнилось, или исполнится вот-вот – он летний. Оба мы ещё дошкольники. Конец мая или начало июня. Копаем в их, чеславлевском, огороде червей, разваливая ради этого прошлогодний парник-огуречник. Собрались идти на Кемь порыбачить. Мечтаем выловить огромного тайменя. Рыжий на днях, когда гонял на Кемь гусей, будто видел, как таймень сыграл в омуте, и по страстному, но вразумительному описанию его, Рыжего, таймень этот оказывался не меньше кита – как не захочешь на такого поохотиться. А не поверить другу невозможно – глаза у него, когда он мне или кому другому что-то рассказывает, не моргают и на сторону не бегут – не врёт, значит. Да и клянётся он всегда не чем-то и не кем-то, а смертью своей родной бабушки: чистая правда, дескать, клянусь смертью баушки. Жива бабушка – ни разу ещё, значит, до того дня не соврал он, Рыжий.
Недалеко от нас, шагах в пяти, она, его бабушка, Марфа Измайловна, с торчащим из-под белого платка зелёным лопухом – протпи напеку и удару солнечнова, Боже упаси, не завалиться бы, не окочуриться, – широкая, как русская печь, склонившись над грядкой, только что сделанной ею и старательно охлопанной с боков деревянной лопатой, плюёт морковное семя и приговаривает: «Зароди, Осподи, на всяку душу… – молчит какое-то время, добавляет после: – Ладно уж, Осподи, и на Арынина… Не по моему хотению, не по моим хлопотам, а по милости Твоей, Боже».
Арынин, дядя Саша, наш общий сосед. Забайкальский казак – так про него говорят взрослые. И говорят ещё они же, взрослые: Гуран. И жена его – тётя Луша, та – чаще всех. Он для неё то Саня, то Гуран. Гуран – не знаю, что такое. Может быть, прозвище, а может быть, и звание – он же из ссыльных. А мы про него – хоть я, хоть Рыжий – говорим: дядя Саша. Хороший дядька: до нас обычно не касается, даже тогда, когда – под мухой – молча проходит, нас для него тогда – как будто нет, как будто в воздухе растворены мы. Детей у него много. С его сыном Васькой, по годам нашим ровней, мы дружим – не ябеда, нормальный. Да и, имеет если что, всегда поделится – не жидит. Несколько дней назад, подгуляв на Вознесение, пахал дядя Саша на коне свой огород и завалил как-то – нечаянно, конечно, как мы с Васькой и с Рыжим решили, не нарочно – общую с чеславлевским огородом изгородь. Сам же после – назавтре, как проспался – и восстановил порушенное, но Марфа Измайловна на него временно осерчала. Да и сейчас ещё с ём, по её словам, в сердцах – не здороваются. Хоть и корит она себя за это: мол, ничего с собой поделать не могу, с грешницей. Грешница – это, как говорит бабушка Марфа, когда людям в глаза смотреть стыдно, в свою душу – муторно, а на Бога – нельзя-а-а. Бог – это иконы. Много их у них, у Чеславлевых, в доме. На божницах. У нас ни одной – папка мой коммунист. Есть, правда, одна, в комоде, под бельём, но мама её прячет, и я её не выдаю. А дядя Саша, выпив с Захаром Ивановичем, отцом Рыжего, на нейтральной территории – на берегу Куртюмки, мировую и извинительную, то есть на свои деньги, уже сдобрился – на весь мир смело смотрит. И в свою душу. И на шабров – своих соседей-то. Сегодня видел я его – такой же. С уздой на плече раным-рано направился куда-то – коня ищет.
Возле Марфы Измайловны суетятся плишки, дрозды и галки – букариц собирают. Марфа Измайловна, что-то негромко бормоча и взмахивая рукой, их то и дело отгоняет. Птицы не очень-то её боятся – гряды топчут ей, бяссовясные.
Накопали мы червей. Полную банку. Чтобы знать наверное, что хватит, и об этом после не заботиться, а думать только о рыбалке. В ограде уже, под навесом, на чурке рубим при помощи ножа и молотка свинец на запасные грузила. Мало ли, таймень такой огромный, оторвёт, так и понадобятся. Запас кармана не дерёт, как говорит Рыжий. Рубит он, высунув и прикусив язык, – когда что делает, манера у него такая. Я у нарубленных уже кусков края лишь закругляю – зря только аккуратничаю, как выражается Рыжий. Рыба-то, мол, фартовых любит, а не аккуратных.
На некрытом, ярко освещённом солнцем двухступенчатом крылечке древнего амбара, на верхней крыленке, сидит Иван Захарович, муж Марфы Измайловны, дедушка Рыжего. Несмотря на теплый и погожий день, в овчинной, скроенной наружу мехом, наглухо застёгнутой, безрукавке, в бурой, вылинявшей, папахе, нахлобученной от яркого света на узко прищуренные, как на врага, глаза, и в густо латанных чёрными кожаными заплатами валенках. Курит трубку, с которой никогда, как кажется, не расстаётся. В баню только с ней не ходит. Хотя доподлинно не знаю. Может, и ходит. Как вот с ней во рту окачиваться только, не представлю. Как-то разве приловчился. «Она в ём, – говорит про трубку и про своего дедушку Рыжий, – как сучок в гнилой колоде… торчит, как кукиш, из дупла». Не сам, скорей всего, придумал, а за бабушкой повторяет. Ей на язык, как говорит Иван Захарович, не попадайся – он у яё заместо, мол, пилы и стеклорезу.
Из огородника появляется охающая и горько причитающая Марфа Измайловна, часто трясёт приподнятой к лицу правой рукой, на испачканных в земле пальцах которой болтается капкан железный звероловный; левая у неё к груди прижата. Глаза у Марфы Измайловны, бельмы, и без того круглые, а тут и вовсе – как блюдечки. Синие – как чистое полуденное небо.
Иван Захарович глядит на Марфу Измайловну так же безразлично, как только что следил вприщур из-под папахи за скакавшим по ограде воробьём, после неторопливо вынимает изо рта трубку, обтирает об штаны мундштук и, воткнув обратно трубку в рот, безгневно произносит:
– Попалась, старая крыса, – сказав так, отворачивается от Марфы Измайловны и косится теперь на скворечник, на котором чирикает заливисто скворец в кедровой ветке. – Ишшо и этот там… как подкладная стелька, расскрипелся.
– Отчапи! – подступив к амбарному крыльцу и обращаясь к Ивану Захаровичу, просит Марфа Измайловна.
– Х-хэ!.. Я на тебя яво не ставил. Чяво кляшнёй своей залезла? – не отрываясь взглядом от скворечника, говорит Иван Захарович. – И отчапляй сама таперича… Вовка, Опарыш, пусь ослобождат – не шибко занят… Пальцы-то, жалко, не оттяпало. Куксой-то стала бы, дак ладно… Ага, сувать куда попало больше было б неча. Язык-то есть ишшо, пошто жа неча, я чё-то глупось сгородил. Лутче бы языком уж, то рукой-то… и мне беды бы меньше стало.
Рыжий мне после объяснил:
Дедушка, по просьбе бабушки, поставил между грядками капкан против кротов, в него-то бабушка, мол, и попалась.
Иван Захарович, задрав круто голову, в небо уже смотрит, куда клуб дыма из себя зачем-то выпустил – тот слился с небом – голубой-то. Часто он, Иван Захарович, туда, в небо, поглядывает. Шея у него болит, наверное, так разминает.
Марфа Измайловна болтает перед Иваном Захаровичем, перед самым его лицом, рукой в капкане и приговаривает:
– Так мне, эфиопу, и надо.
– Мало тебе, бестолковой, – роняет Иван Захарович. – В нос-то мне чё пихашь, я не слепой идь.
– Досадитель, – ворчит бабушка Марфа. – Адамантовое сердце. Не с той ноги, ли чё ли, встал?.. В семом часу уже поднялся.
– Ну дык, – говорит Иван Захарович. – Оно идь… это.
– Дрых бы ишшо, чё соскочил?
– Дрых бы – бока б не заболели.
– Выстар.
– Ага. Молоденька ты наша.
Сжалился Иван Захарович, ослободил Марфу Измайловну, сидит себе опять, курит – ко всему на свете равнодушен – так кажется. Баба, как говорит он, Иван Захарович, должна быть расторопной, а мужик – невозмутимым – соответствует.
Ходит Марфа Измайловна по ограде, дует на ушибленную ладонь, вздыхает и себя ругает за беспамятство, то и дело повторяя:
– Чё уж… совсем ума-то не осталось… и как забыла?
– Ну дык, – говорит Иван Захарович. – И вовсе не было, с рождения, а то – оста-а-алось. Чему там было оставаться? В шашнадцать лет уже весь растранжирила, если и был-то. Там что у бабы, что у курицы. У кошки больше. Та-то хошь это… Капкан-то сразу распознат. – В небо опять смотрит: коршун там круги рисует, кричит оттуда: «Пи-и-ить!» И про него уже, про коршуна: – Бердану взять бы да шарахнуть… хошь бы и солью крупной, дак достало бы… то распиш-шалса там, летат.
– А чё он тебе, – говорит Марфа Захаровна, – и пусть летат. В папаху твою не метит.
– Тебя это никаким боком, – отвечает ей Иван Захарович, – никаким задом, подруга, не касатса.
– Не сопрел ещё?.. Так разоделся.
– Жар, девка, костей не ломит… А и сопрел, тебе-то чё?
– Да мне-то чё, хошь скисни тут да… это…
Не договаривает Марфа Измайловна, уходит в огородник.
– Зато, но, эвон… пяткам-то в валенках, как сахару в бухфете… Пава, ядрёна вошь!.. Пошла, пошл а-то… как бытто баржа по Ислени, – говорит Иван Захарович. И вдруг кричит:
– Вовка-а!
– Ну? – нехотя отзывается Рыжий.
– У баушки твоёй чё руки, чё язык – всегда суёт куда ни попадя их. И мне тут в рот с капканом было не залезла, – сказал так Иван Захарович, после и спрашивает:
– А вы куда, не на рыбалку?
– Деда, тебе-то чё?.. Сидишь, греешься – и грейся.
– Вот, тоже… чопик острожопый… весь в эту, в ихюю породу, и рожей в баушку родиму. Ближе б сиди, ох как бы хряснул по твоёй башке латунной.
– Ну на рыбалку, на рыбалку.
– Ножик-то затупил, поди, Окурок. Не один уже попортил. Сёдни жа доложу отцу, тот тебе влупит и не вздрогнет, тоже норовистой, как эти… Рыбы в Кеме уж людям-то оставьте. Да на расплод ишшо… мальков хошь… пожалейте, – сказал так Иван Захарович и забыл про нас – на валенки свои смотрит, дым в их сторону пускает, как будто им, дымом, комаров с них сгоняет.
А когда мы с Рыжим, достав с крыши амбара лежавшие там с прошлого ещё года лёгкие сосновые удилища, выходили из ограды, он, Иван Захарович, поблескивая коричневым лысеющим теменем, опустив голову на грудь, с погасшей трубкой во рту, уже похрапывал. Его папаха на земле валялась. Пёстрая курица, надолго замерев над ней, что-то внутри её выглядывала.
– Подпереть бы, – сказал Рыжий, – а то завалится и нос себе расквасит… Зубов-то, ладно, нет, хошь те не вышибет.
Там, за воротами, уже добавил:
– Сам упадёт, а виновата будет баушка… Может, и виновата – всё ворчит-то. Старые они, – заключает Рыжий, – глупые… Ох, нелегко мне, парень, с ими.
Вернулись мы уже под вечер. Тайменя не поймали. Даже не видели его. Ночью мышей да уток наглотался, залёг на дно – так мы решили. Зато наудили полный трёхлитровый бидончик пескарей, сорожек, окуньков да ельчиков – тоже рыба.
Иван Захарович сидит на крыльце, но уже не амбарном, а избном – переместился вслед за солнцем. В том же, в чём был – в безрукавке, папахе и валенках.
Марфа Измайловна стоит среди ограды, насыпает горстью из фартука, приподняв за край и смастерив из него кошель, в две старые, грязные чугунные сковороды зерно и кличет:
– Куть-куть-куть!
Со всех щелей вбегают в ограду курицы – и с улицы, и с пригона. Петух тут же – важный, хлопотливый. Они разноцветные, он, без единого пятнышка, белый. Курицы начинают жадно клевать, а он топчется рядом, квохчет – будто потерял какую-то, не досчитался – подзывает.
– Опять пролупает, протопчется, – говорит про него Рыжий. – Всё склюют, до зёрнышка, ему не достанется. Дурной какой-то.
– Ты когда будешь кормить коня?! – пристально глядя на Марфу Измайловну, спрашивает у неё строго Иван Захарович. – Изголодался.
– Потерпит конь твой, не помрёт.
– Да кто яво знат, – обиженно говорит Иван Захарович. – Так-то вот ее л ив, но, без корму-то совсем держать, то и помрёт. Так к арестантам не относятся. Уж про собак не поминаю… Когда у добрых-то хозяев.
– Какой у него конь? – спрашиваю я шёпотом у Рыжего. – Конь разве есть?.. Не видел чё-то.
– Да так он брюхо своё называт, мамону, – мне отвечает громко Рыжий.
– Ш-шеня, – сам себе будто говорит Иван Захарович. – И тот туда жа.
Закинули мы удилища на крышу амбара. Сели плотно на амбарное крыльцо. Сидим – как срослись будто – не разорвать.
Метнул Иван Захарович на нас взгляд, отвернулся тут же и молвил:
– Один рыжий, как ворюга, другой чёрный, как мурин… Каких тока на свет белый не народится. И как Господь-то терпит эту разноликость?.. В шарах рябит аж… тока поглядел.
Не отвечает ему внук – устал, наверное. Я уж и вовсе – права не имею.
– Тьфу ты, зараза, – это уж не про нас Иван Захарович, про муху. – Привязалась, – кулаком её пугает. Улетела – испугалась.
Марфа Измайловна почистила и выпотрошила нашу рыбу, стала на буржуйке, что на летней кухне, поджаривать её с луком и в сметане. Вкусно пахнет. Слюнки у нас текут – промялись.
Сил у нас нет разговаривать – молчим.
Рыжий лишь изредка и вяло спросит:
– Ба-а, скоро?
– Скоро, скоро, – отвечает ему от печки бабушка.
Дождались как-то, не умерли.
Сготовилось кушание.
Пригласила нас Марфа Измайловна отужинать.
Тут же, на летней кухне, под навесом, и стол стоит, без клеёнки, с песком натёртый дожелта.
Наскоро, для виду только, под контролирующий прищур из-под папахи Ивана Захаровича, сполоснули мы с Рыжим руки под ослепительно сияющим на вечернем солнце, утром ещё Марфой Измайловной начищенным с кирпичной крошкой, медным умывальником, прибитым тут же, в ограде, к столбу. Устроились за столом на чурках. Принялись аппетитно наворачивать. Своя добыча – вовсе вкусно.
– Ешьте с хлебом. Не спешите. В спину никто вас не подталкиват, не гонит. Хорошенечко прожёвывайте. За столом не разговаривайте, ногами под столом не болтайте, – говорит нам Марфа Измайловна. – А тебе, чё ли, особое приглашение требуется, выстар? – спрашивает Марфа Измайловна у мужа, отвернувшегося от нас к стенке. – Иди. Ступай да ешь, пока горячее. Прилип к крыльцу-то там, ли чё ли? Дак отдирайся.
Помедлил ещё сколько-то Иван Захарович, форс выдержал, снялся легко с крыльца, как селезень с воды, мягко и беззвучно просеменил валенками по мураве и, молчком спихнув со своей чурки спавшего там косматого, очень похожего на нашего Дымку, кота, присоединился к нам. Смурной, как туча. В безрукавке. Папаху только снял, на край стола её устроил. Помолился. Сам перекрестился и чашку свою перекрестил. При этом взглядом нас не удостоил. Но нам и дела нет до этого.
От нашей рыбы наотрез он отказался: в ней, мол, костей не оберёшься – нет у него охоты, дескать, подавиться. Ишшо стерлядки б – той отведал бы. Ну, не стерлядки, мол, хошь нельмы. Да и тайменя – хошь того бы, да тока некому поймать, всё брехуны-то – не умельцы. Поел гречневой каши. И даже ложку облизал. Добавки не просит. По животу себя гладит.
– Ну вот, – говорит. – Таперича мой конь не сдохнет. Хошь и без мяса.
– Слава Богу, – говорит Марфа Измайловна Ивану Захаровичу, но глядя на нас с Рыжим по очереди – улыбается. – Постный же день, какое тебе мясо!
– У коня вся жизь постная.
– Детей бы малых постыдился.
– А чё тако-то я сказал?.. Ага, и – малые. Уж нагородишь. Я в ихим возрасте уже пахал… ну боронил-то, дак уж точно.
– Да уж… Из зыбки выпал и за плуг.
– Ты, баба, это… чё перечишь?.. Кашу опять пересолила.
– Тебе никак не угодишь.
– Меру-то знать, однако, надо… Солишь-боишься, что прокисну.
– Зря языком не молоти.
И мы насытились.
– Спасибо, – дружно говорим.
– Не за чё, – отвечает нам Марфа Измайловна. – На здоровье. Бога благодарите за такое изобилие, щадит нас грешных. Осподи, помилуй. Войны бы не было. Молитесь, детки. Вас-то скорее Он услышит – молитовки у вас звонкие, сердечки у вас настойчивые – достучатся. До вас-то Бог и вовсе чуток… Это уж мы ему нытьём своим понадоели.
Заклонило меня в сон резко, носом, сижу, чуть за стол ом-то не клюю. На падающее в ельник солнце едва щурюсь.
Договорились с другом, где и во сколько завтра встретиться нам да чем заняться – забот-то мало ли у нас.
Попрощался я со всеми и подался домой, в котором год уже, как кажется мне, не был. Да так оно и есть: «День-то нонче – год, – говорит Марфа Измайловна. – Так уже прибыл. С утра находишься, намаешься, назавтре, думашь, и не встанешь».
Другой фрагмент, другая пуговица.
Отец Рыжего, дядя Захар, Захар Иванович Чеславлев, в ночную смену слесарничат в матаесовском гараже. Уж насовсем там будто поселился, безурочно – так говорит про него, вздыхая, мать его, Захара Ивановича, бабушка Марфа. Технику, после уборочной согнанную в Ялань на нашу «Полярную» МТС со всех ближайших деревень, со всей округи, готовят к посевной. Поэтому и поселился.
Мать Рыжего, тётя Мотя, Матрёна Николаевна, моя крёстная, в больнице на дежурстве. «Жалязяки там кипятит да спирт, не спит-то еслив, ишшо нюхат – любому б так-то», – говорит о ней и об её работе свёкор-грош Иван Захарович.
Старшие братья и сёстры Рыжего тоже кто где – кто на работе, кто в отъезде.
Электричество подают только на гараж, Ялани в этом отказывают. «Солярку экономят», – со знанием дела объясняет друг мне. Так оно и есть, значит.
Я, отпросившись дома, ночую у Чеславлевых. Мы с Рыжим – на высокой, просторной русской печи. Убраны временно с неё в куть да в сени большая пустая корчага щаная, бочонок канунный да кадка для опары и постелена там Марфой Измайловной специально для нас собачья, кисло, но уже привычно пахнущая, доха; даже и ворс её сухой, колючий помнится – будто вчера всё это было – вроде бы и лицо ещё покалывает остью. Точно, так вот, вспомнил лишь, это и чувствую – небольно. Лежим ничком и, приподняв цветной полог, прикрывающий прогал между потолком и напечьем, глядим в бархатно-сумеречное избное пространство. Печь утром была протоплена – нам и уютно и тепло – ничем пока не укрываемся. Трещит и бликует через свои щелястые бока внизу буржуйка – оживляют стены розовые всполохи.
У Ивана Захаровича ножаньки, за жизь безжаласно исхоженные и поля германца потоптавшие, хоть и в валенках, но стынут – рематизьма; ишшо и крыльца, хоть и под хфуфайкой, шибко седин чё-то зябнут. Потому он и буржуйку зарядил хотя бы одноразово.
Марфа Измайловна, накинув на плечи суконную клетчатую шаль с кистями и штопая что-то, туго натянутое на электрическую лампочку, сидит в передней избе, возле стола, ближе к керосиновой лампе, карасинке, рассказывает сказки. Громче, чем она обычно говорит. Мы с Рыжим, затаившие дыхание, и так бы всё расслышали. Для Ивана Захаровича, может, – тот малёхо туговатый на ухо. Но вряд ли. Скорей всего, из-за буржуйки – трещит, гудит та шумно – заглушает.
В другой, задней, избе, сквозь голубые ситцевые занавески да сквозь толстый на стёклах куржак цедит в окна с улицы морозной лунный свет, мягко стелется по самотканым коврикам и половицам. В красном углу лампадка теплится. Тускло мерцают медными и серебряными окладами наряженные в браные полотенца иконы, строго с них следят за всем Святые. В настежь распахнутую дверь казёнки нам всё это видно.
Не знаю, как у Рыжего, но в моём воображении возникает поразительный мир – то смешной, то страшный, то таинственный. Лежу в мурашках. Так же, похоже, и у Рыжего: вихор на макушке у него порой и вовсе дыбом становится – по тени вижу.
Иван Захарович, дедушка Рыжего, смачно посасывая трубку, лежит на боку в полумраке на своей скрыпучей, арестанской койке, помалкиват — тоже ли внемлет, о чём ли тихо размышляет – о стародавнем. Потом только, когда Марфа Измайловна отложет заделье, поднимется, охая, и, прочитав вместе с нами Отче наш, скажет нам, чтобы мы укладывались камушками и спокойно спали, резко стукнет Иван Захарович трубкой о стоящую в изголовье его кровати табуретку, выбитый из трубки пепел соберёт в ладонь, в глиняный сосудец его ссыплет и пробурчит: «Вот уж где навыдумыват, дак навыдумыват… Как этот… Лермонтов-то-Пушкин. Тебе бы этим-то работать… да как ж яво?.. да агитатором, будь не ко сну он, леший, упомянут».
А дальше ночь, а после утро. Я бы и спал ещё, да друг мой рано пробуждался и, уж воистину, соскакивал с печи калачиком.
Не один раз в детстве так у нас бывало – часто: то я у Рыжего ночую, то он, бывало, у меня.
Фрагменты. Пуговицы. Глупость какая-то, нелепость. Да нет, не глупость, не нелепость. Пришиваю. Ту же, на другую, похожую, не меняю. Но вот не к тексту только. К сердцу. Давным-давно к нему пришиты, крепко – не отрываются. А потому и бьётся так оно порой – неровно. Тогда особенно, когда – нахлынет: там, где пришито, заболит. Марфа Измайловна всегда так говорила: «Опять нахлынуло, хошь плачь». – «Чё на тебя, скала, опять нахлынуло?» – спрашивал у неё Иван Захарович. «Да чё, про маму опять вспомнила. Как нас кулачили – про это… как нас сплавляли… как мои сёстрыньки там сгинули… и мама». – «Язви тебя. Нашла, о чём… Припомни лутче, как за мной когда-то бегала». – «Но, кто за кем… уж не бреши-ка». – «Ну дык, ага, тока коса мелькала сзади-то… Как кобылица». – «Глаза с утра на мокром месте». – «То-то, смотрю, наулице-то сырось». Замрёт Марфа Измайловна на месте, задумается будто, а после скажет: «Как умирать кому там, перед самой-то уж смертью, делалось хорошо тому… светились прямо, как лампадочки. Так хорошо нам, – говорили».
Конец июня. Может, июль, но самое его начало. Что до Петрова дня, так это точно. Тихо, безветренно и знойно. Надо всем, даже над заборами, кучерявится густое испарение. Парйт – так выражаются яланцы. Маракосит, как говорит Марфа Измайловна, грозой грозится. Листья на берёзе в нашем палисаднике сникли – не пошевелятся. Все – люди, животные и птицы – прячутся от солнца – так оно, яснолобое, едва оторвавшись от Камня, принялось Ялань жарить и заодно весь околоток. Кроме коршунов – те в небе – как-то вот их не напекает, хоть и к нему, к солнцу, гораздо ближе.
Наш старый сибирский кот Дымка, весь, как в медалях, в прошлогоднем репье, а хвост его – особенно. Лежит Дымка скомканной и драной тряпицей под телегой. Прогулял ночь – теперь дрыхнет. Враг его наизлейший, молодой ещё кобель Буска, вывалив язык на поляну, распластался за поленницей. Я его зазывал, он не поднялся, глаз только в сторону мою скосил.
Сенокос ещё не начался, но все уже, наверное, за редким исключением, к нему подготовились: и в нашей ограде под навесом – в тени, чтобы не рассыхались, – стоят кучно в углу грабли и деревянные двоерогие и троерогие вилы, а на поперечной балке висят вниз еловыми окосищами срезанные и подремонтированные литовки. Моей там нет – косить мне ещё рано, но ходить на покос нынче, как было мне уже заявлено, буду – ворочать, подскребать да за костром на таборе следить, тратя на это драгоценное летнее время, вместо того чтобы рыбачить да купаться. Но никуда не денешься – придётся. У папки слово зря не выпадет. Может, и мне, как Рыжему, доверят копны на коне верхом к зароду подвозить – другое дело.
Дома у нас никого. Старшие мои братья и сёстры ушли за земляникой на Вязминские полины или на Ендовище – и там, на солнечных боках и макушках сопок, много, говорят, ягоды бывает – как земляники, так и костяники, но та созреет только к осени. Может – в Межник, может – в Култык, не знаю точно. Ладно, меня с собой не потащили – следить оставили за домом.
Мама в яланской больнице. С воспалением среднего уха. Утром её мы навещали. Скоро выпишут – почти поправилась – так, по её словам, выходит. К сенокосу, говорит, если не выпустят, то убегу, мол. Так и поступит, не улежит она в больнице. Ну и напрасно. Получит осложнение, и осенью того же года, к великому огорчению всей нашей семьи, включая и отца – тот сразу будто постареет, увезут её в Исленьск на операцию. И домой она, исхудавшая и подстриженная, вернётся лишь через два месяца. Вернётся – главное. Но это после. А тогда:
Отца нет – в командировке. Ждём его со дня на день, но не сегодня.
В кладовке у нас хранится винтовка ТОЗ-16. В углу, за ларем. Я о ней давно уже проведал. Глаза у меня, как говорит мама, сорочьи – ничего от меня не утаишь, дескать. Возможно, и сейчас это оспаривать не стану.
Мы с Рыжим по-хозяйски достаём тозовку, находим в ящике комода к ней пачку мелкокалиберных патронов и, забравшись на крышу амбара, начинаем стрелять по Ялани – куда придётся. Огорода через два, на другой улице, на задней стене бани висит, видим, сверкая на солнце, цинковый таз – мишень для нас, куда уж более-то подходящая. То я пальну, то Рыжий. Честно – по очереди.
Стрелков скоро вычислили и сообщили моему отцу, только что приехавшему с попуткой из города. Подходит, поздно замечаем, к дому, сапогами, не таясь, похрустывает. Рыжего с амбара, как лист ветром, тут же сдуло – ловко, как кот, спрыгнул он на огуречный парник и убежал от нас задами. Не убежал, а улетучился. Правильно сделал. Я его за это не виню и не ругаю. И я бы мог удрать, да гордость помешала. Попытался было спрятаться, но безуспешно.
Вызволил отец меня из-под опрокинутой – тоже, кстати, цинковой – ванны, как телёнка, за ухо завёл в избу, выпорол, зажав крепко меня между ног, но штаны, за что ему и сразу был я благодарен, с нужного места не спуская, широким офицерским ремнём и поставил после в угол. Всё это молча учинил отец, и я при этом звука не издал – как пообедали в семье патриархальной, – отцу спасибо после не сказал я только.
Ещё одно, к тому вдобавок, следом вспомнилось.
Учит меня чему-то – чему, тогда ещё догадываюсь смутно лишь – таким простым, обычным способом отец, внушает что-то мне. А я, стиснув зубы и припоминая стойкость русских разведчиков, завис у него между ног на четвереньках невесомо, смотрю пристально в пол и вижу: в узкой щели между плахами монетка медная застряла, две копейки, судя по размеру, – думаю напряжённо: шилом её потом достану, спицей ли вязальной. Потом достал, наверное, не помню.
И уже вечером того же дня. Все, управившись по хозяйству, перебрав землянику и сварив на летней кухне из неё варенье – сырой и мне оставили в тарелке, чтобы поел я после с молоком и хлебом, – ложатся спать. Смотрят на меня все с безмолвным сочувствием, я всем в ответ язык показываю, рожу корчу, тайком, конечно, от отца. Солнце только что упало в ельник – тот в оранжевой короне. Вороны в нём уже угомонились. За окном, под карнизом, клуб мошки болтается – мак толкут. Там же, снаружи, по стеклу карамора танцует голенастая и тычется в стекло мотыль. Кот Дымка трётся о мои ноги, репейными липучками щиколотки мне щекочет – терплю как-то. Дать пинка ему хочу, но не решаюсь. Отступил, слава Богу. Волоча по полу тяжёлый от разного мусора хвост, на кухню подался. Юркнет там через свой лаз в подполье, оттуда, через отдушину, на улицу и исчезнет на неделю – не соскучусь. Отец уже в горнице, слушает радиоприёмник. Был у нас такой: «Родина». Про Кубу что-то и Фиделя Кастро; про другую сторону Луны – в другой бы раз мне было интересно, сейчас, навред всем и всему, нисколько. Николай, средний мой брат, в трусах и в майке, с открытым вечно, как у голодного птенца, ртом, топчется около меня и умоляет: «Поплоси у папки плоссэния». Он долго букву «эр» не выговаривал. Куда там – умру стоя, как краснодонец, но прощения просить не стану. В избе душно. Отец вышел из горенки, открыл входную дверь настежь, сенную закрытой оставил. Ушёл обратно. Уснул вскоре – задышал так, характерно. Радио поёт индийские песни. Братья и сёстры мои спят. Стою. Ноги подгибаются. Белая ночь. Внизу, над Куртюмкой, туман сгущается – малиновый. На берегу её пасётся буланая, с короткой чёрной гривой лошадь, спутанная, слышно, как изредка скакнёт да боталом побрякает, – отдастся эхом. Смотрю на дом Чеславлевых, со слепыми от севера окнами. Выходит, вижу, из ворот Марфа Измайловна. Опускается грузно на колени. И кланяется лбом в сторону нашего дома, на восход, до самой земли. «Правильно, – думаю, – говорит про неё Рыжий: совсем из ума уже выжила. Ей можно спать, а она это… дур кует, как говорит Иван Захарович». И сам вскоре опускаюсь на колени, кладу здоровым, не нажатым отцом и от этого припухшим, ухом голову на подоконник. Шепчу: «Мама, мама… мама, мама… была бы дома ты, я б тут не мучился. Господи, сделай так, чтобы скорей она вернулась». Не замечаю, как и засыпаю. Кто-то сильный подхватывает, меня, чувствую сквозь сон, на руки и уносит в кровать. Кто же ещё – отец, конечно.
Сердце содрогается от этой пуговицы. Кровянит там, где пришита. Чуть коснёшься, и заноет. Но и её не потерять, не оторвать, не выбросить – как будто лишнюю. Бог нас с Рыжим тогда миловал, других от нас ли уберёг: никого не подстрелили беспричинно – ни гуся, ни курицы, ни дикой птицы, ни животного, тоже благословенных, и им ведь сказано: раститеся и множишеся, ни – и помыслить жутко – человека. Было б делов. И как нам жить пришлось бы после этого? И как родители бы наши пережили, стань мы по глупости убийцами?
Ну а природная гроза, кстати, в тот день, в отличие от той, которая обрушилась лишь на меня, не разразилась. Именно в тот. Но позже грянула – конечно. И не одна, а много их случалось после – грозовое лето выдалось, дождливое, август – особенно. И даже сено кое-как поставили – гноило. Уже по снегу добирали. Школа спасла меня от сенокоса, поневоле затянувшегося: в том сентябре пошёл я в первый класс. А друг мой – в третий. Третий понравится ему – ещё на год в нём засидится. После понравится ему и пятый. И мы с ним станем одноклассниками. И школу вместе с ним закончим.
А радиоприёмник «Родина» мы однажды – в отсутствие отца – раскидаем с Николаем на детали. Обратно соберём, но неудачно – на всю жизнь онемеет, но пребывать в избе останется ещё надолго – мама на нём держать горшок с геранью станет. И после неделю будем жить в ближайшем сосняжке, в устроенном там нами, ребятнёй с нашего края Лугового, партизанском штабе, с двумя дощатыми топчанами и столом, пока внезапно прибывший из командировки отец куда-то не уедет снова. Когда опять домой прибудет, про «Родину» он уже и не помянет, не подойдёт к приёмнику, не попытается его включить. Был он, отец, отходчивый. Как порох, вспыхивал – тут уж поберегись, не то спалит – и скоро сдобривался, унимался. Больше, чем надень, его не хватало – на оборот один, как говорила мама. И главной задачей для нас было, если что напроказим, провинимся как-то, – не попасться отцу под горячую руку. Остынет – смело приближайся. «Родина» для отца значила много, просиживал он возле неё, внимательно прислушиваясь к тревожившему его в те годы миру, вечерними часами, а потому неделю дома нас и не было – на всякий случай. Война ж была – без выстрелов, холодная. Знаю теперь, тогда о ней не думал, но общий страх и мне передавался. Люди в большом количестве то соль, то спички закупали – помню.
В моём собрании есть, среди прочих, и такая пуговица, в перечень занесённая как милицейская. Лямка у моих летних коротких коричневых штанишек спереди застёгивалась на подобную. Родная, пластмассовая, оторвалась и потерялась. Мама ей на замену и пришила эту, форменную, срезав со старого отцовского мундира. Так и ходил я с ней на животе, может быть, лето, может, два – пока не вырос из штанишек. Гордился, нет ли ею, этого не помню. Отгрыз её после Рыжий. Перекусил зубами нитки. На грузило. Забыли дома запасные.
Отец был участковым. После войны, в сентябре сорок пятого года, демобилизовался он из Берлина под такое вот условие: стать в мирной жизни участковым. Почему так и чем было вызвано такое обязательство, вряд ли я уж и узнаю. Может быть, потому, что по тайге окрестной после войны ещё скрывалось много дезертиров? Может. Участок его, с центром-резиденцией в Ялани, по территории не уступал какому-нибудь не самому большому, конечно, но и не самому маленькому европейскому государству. К примеру, Люксембургу. Да Люксембургу мало – Нидерландам. Фамилия у нас Истомины. Из давным-давно осевших тут, в Приисленье, казаков и поморов, чалдонов то есть. И в те далёкие, дошкольные ещё, годы я считал, что Истомин и участковый – это одно и то же. Когда в Ялани говорили: участковый – это значило: Истомин, когда говорили: Истомин – это значило: участковый. Также, как с Лениным и созданной им партией. Когда называли вождя, подразумевали партию, когда называли её, подразумевали его. Это уж не из нашей, правда, тихой, скромной жизни, а из иных каких-то сфер.
И ещё:
Жил-был в нашем селе Фанчик, чалдон же. Что его полностью, по метрике – паспорт-то мало кто тогда имел в Ялани – величают Верещагин Иван Тимофеевич, узнал я гораздо позже, когда нашёл его заслуженный им во время боевых действий орден Красной Звезды и об этом написали в районной газете. Фанчик – так все его в Ялани называли, очно и заочно. Почему Фанчик и что это слово обозначает, мне не известно. Вроде бы потому, что соседка его, то ли эстонка, то ли немка, Эльза, умершая ещё до колхозу, то есть до расказачивания и коллективизации, обращаясь к нему, тогда ещё мальчишке, произносила его имя не Ванечка, а Фанчка. Что это так, я не уверен. Были у нас Иваны, один – Пудик, другой – Пуцарь, Ваня-Пудик, Ваня-Пуцарь, был ещё и Полтора-Ивана, ну а этот – Фанчик. Во время финской войны пулемётной пулей снесло у Ивана Тимофеевича вместе с зубами и нижней губой подбородок. И я раньше полагал, что Фанчик – это когда у человека такой вот, скошенный, подбородок. А если у человека такой вот подбородок, значит – Фанчик. Ходил Фанчик осенью, когда выпадал снег и наступали морозы, с ножом за голенищем скрипучего ялового сапога, по селу и по просьбе хозяев резал предназначенную на забой скотину. Зарезав свинью или бычка, он подставлял к ране медный ковш, наполнял до краёв кровью и, пачкая свою ущербную нижнюю челюсть, выпивал его до дна. Мальчишки местные боялись Фанчика, и я его боялся. Хотя у нас он никого ни разу и не резал, отец и сам неплохо управлялся.
И такое ещё было, из ряда прошлых заблуждений.
Рыжему верил я тогда, как никому другому. Что бы он мне ни говорил – каждому слову. А говорил он мне о многом. Утверждал мой друг, например, клянясь при этом, как обычно, смертью своей бабушки, что Земля плоская, как сковородка, к спине кита где-то прилипла, на нём и плавает по морю, и я ничуть не сомневался в этом, и я так думал. А в доказательство он приводил Ялань – хоть и в логах, в угорах вся, но ведь не выпуклая. И добавлял совсем уж убедительное: ты как на шарике-то удержался бы, своей башкой только подумай, мол; все уж давно бы, дескать, соскользнули. И когда меня, пусть и с трудом, на примере принесённого им ради такого случая из школы глобуса, всё же переубедил мой брат Николай, по-пионерски озаботившийся моей несоветской дремучестью, в космическую-то эру, в эпоху спутников, я стал считать, что этот шар Ялань венчает, что, как бы Земля-глобус ни вращалась вокруг Солнца и вокруг своей оси, Ялань всегда находится на самой верхней точке – как кто-то там другой, вниз, вкось ли головой мы ведь не ходим. Но как все остальные, кроме нас, яланцев, не обрываются при этом в космос, мне и сейчас не больно-то понятно. Но вот и здесь же я, хоть и живу теперь не в Ялани, а за несколько тысяч километров от неё, в буквальном смысле, не соскальзываю, лишь в переносном. Но опасаюсь, что вдруг Земля притягивать нас перестанет, от нас устав, и мы посыплемся все в Космос. Кроме яланцев. Со сковородки не упасть, разве за край её перевалиться. Это уж так тут, между прочим.
Всплыл в памяти из давнего моего прошлого, пятилетнего или шестилетнего возраста, фрагмент, который пуговицей и назвать-то неловко. А с чем иным и сравнивать не стану – не ради этого стараюсь.
Вспомнилось мне это прилучье, в трудных теперь раздумьях пребываю: обнародовать его или уж схоронить под грудой остальных? Выложу сейчас его на всеобщее обозрение и, не желая совсем этого, оскорблю в благородных чувствах интеллигентных и высоконравственных людей, где вдруг нечаянно, по любопытству ли наткнувшихся на эти строчки. А готов ли я, думаю, выслушать от них резкую, но справедливую и поучительную отповедь? Не знаю. Ну, как случится, так случится. Обнародую. Повторю только перед этим вслед за бабушкой друга моего Рыжего, Марфой Измайловной, Царство ей Небесное: так мне, эфиопу, коли уж отругают-то, и надо будет. Кто я такой, чтобы угодничать и возмущаться? Кто он, откуда, что ещё и оскорбляется? Никто. И звать меня никак. С таким со мной такое и произошло. Но не со мной одним, чем и утешусь.
Осень поздняя. Или зима. Мало чем они здесь различаются. Да и для нас тогда ещё определялось так лишь: снег лежит, значит – зима, снега нет, значит – лето, всё остальное прилагается. А в календарь тогда ещё мы не заглядывали, нужды в том не было, ещё от вечности не оторвались – по ней, по вечности, и исчислялось. Праздник, наверное, какой-то – приурочено. Если к Седьмому ноября, дню Революции, или Советской армии и флота, то дату праздновали явно. А если к Рождеству, Крещенью или Сретенью, яланскому престольному, то так уж – как бы подгадало, чтобы Неверов не смущать. Гулянка в складчину – обычно. Не проводины, точно, не встречины. Ну и не свадьба – тоже точно. Вряд ли такое бы забылось. Просто, похоже, вечеринка. На этот раз у Есауловых. Не в нашем, Луговом, краю – в Линьковском. И мы там же – я, Лндрюха Есаулов, сын хозяев, Рыжий, Фоминых Саша и Володя Вторых, – у Есауловых. Есауловы в Ялани не одни. У этих прозвище ещё – Коноеды. Играем на печи. В лото, насколько память мне не изменяет, – и впятером можно играть – не шашки. В карты, в «пьяницу», уже натешились. В «дурака» ещё не научились. Родители наши, звонко чокнувшись гранёными стеклянными стаканами, выпили, поговорили, поют – мороз по коже от их песни. Многоголосие, какого никогда, нигде больше не доводилось мне услышать. Споют песню, пригубят бражки, поговорят, другую затянут. Быстрых и весёлых мало пели, заводили они чаще грустные, как говорят у нас в Ялани – жалестные. Многое бы я сейчас отдал за то, чтобы хоть раз ещё послушать их, наших родителей, как они пели, да невозможно, всему своё время. Записывалось только на нашу память, магнитофонов ещё не было. Где-то записано, сдаётся мне. Когда-нибудь, надеюсь, и послушаю – уж очень хочется. Чекунов Костя, молодой мужик, лет тридцати, а тогда казавшийся нам, хоть и не таким, как наши родители, но тоже уже старым, двоюродный племянник хозяина дома, Есаулова Петра Алексеича, по прозвищу Жердь, носит то и дело с кухни в переднюю избу, где сидят за составленными в ряд столами гуляющие, в кофейнике бражку, нацеживая её из канунного пузатого бочонка, прикрытого расшитым полотенцем. Проходя мимо печки, предлагает Костя, весело посмеиваясь, и нам выпить сладенькой. Ну, раз уж сладенькая – не отказываемся. По одному полному стакану отведали, да, погодя чуть, по другому. Ну а потом только и помню:
Небо – без луны – густо-синее. Из-за изморози – с поволокой. Звёзд на нём бесчисленное множество – сиксильён, как говорит Рыжий. И над гудящим во вторую смену гаражом МТС, бывшей церковью, висит большая, ярко-красная, матерчатая, звезда – не вифлеемская. Морозно – шарф на лице – дышать мне трудно. Скрипят, слышу, по снегу санки. Впереди за длинную бичеву тянет их за собой, угадываю смутно, мой отец. Мама идёт сбоку, с санками рядом, сокрушается, судя по голосу, о чём-то. Заснеженная, с многочисленными, как звёзды же, светящимися окнами, Ялань в моих глазах выделывает фокусы – то взмоет вверх, то опрокинется, то завращается, как на оси. Упал я с санок. Встать не в силах. Поднял меня отец, стряхнул с моей дошки снег, посадил опять на санки. Смеётся: хоть, мол, привязывай парнишку – не зря в гостях-то побывал. Мама вздыхает, слышу, горько, Костю Чекунова осуждает: споил детишек малолетних. Костя-то, мол, при чём, говорит ей отец, ведь не вливал же в них насильно – сами. Ничего, добавляет тут же, спать сегодня крепче, дескать, будет; во вред, надеюсь, не пойдёт. Понимаю, о чём они толкуют, но – так мне кажется – не обо мне. А вот как домой прибыли, как меня раздели и в кровать уложили – как будто этого и не было – ни вспышки в памяти, ни проблеска.
Угрызений совести по этому поводу у меня не возникало – ни тогда сразу, когда вёз меня отец от Есауловых на санках, ни наутро – и намека не припомню. Но после этого события алкоголь я попробовал уже через пятнадцать только лет, через шестнадцать ли. Пришёл с тайги, сильно обморозился да под лёд ещё, переходя Кемь к шивере близко, провалился. Ладно, что не на глубоком месте. До дому добрался. Скинув возле ворот кое-как лыжи и никуда пока не убирая их, в избу вступил, но сам уже и в этот раз не мог раздеться – мама помогала. Штаны на мне сидели колом – не так-то просто было их стянуть, ещё ж и к валенкам они примёрзли. Отец молча достал тогда из буфета бутылку водки, налил полный стакан и предложил мне выпить. Я отказываться начал. Настоял он. Мама – и та не стала отговаривать. Выпил водку я – как воду – так тогда мне ощутилось.
Теперь выпью – горькая. Как омег, мама бы сказала. Водка и водка – не компот же – так иногда говаривал отец.
И опять лето.
У Виктора, не самого старшего из братьев Рыжего, работавшего в клубе мотористом – движком заведовал, – был велосипед, взрослый, с фонариком-фарой и пронзительным для тихой-то Ялани звонком. Купил он этот велосипед на свои, честно заработанные, деньги и берёг его, как драгоценность. Словно за невестой, за ним ухаживал, как, подражая бабушке, подсмеивался над братом за глаза Рыжий. Даже сдувал с него пылинки, дескать. Иногда он, Рыжий, когда старших, и Виктора в том числе, дома не было, а дедушка и бабушка были заняты на огороде или отдыхали после обеда в избе, катался, распугивая живность, по ограде на велосипеде под рамой. Пока всё как-то обходилось. Поставит, натешившись, велосипед на место и следы, что называется, заметет. А в этот злополучный день, попросив меня открыть и придержать ворота, вывел, осмелев от безнаказанности, велосипед на улицу. Поехал. Но не, как обычно, под рамой, а забрался с чурки на сиденье. От чурки оттолкнулся, под гору разогнался, но затормозить не смог, так как не доставал ногами до педалей. Как-то бы смог, наверное, но растерялся. Налетел громко под угором на угол Иванихинской избы – жила старуха там такая, Иваниха – и поставил на переднем колесе «восьмёрку». Уже «пирог», а не «восьмёрку». Из-за почти вдвое сложенного обода вести велосипед было невозможно. Заволокли мы его, ухватившись за руль, кое-как в угор, после – в ограду. Приткнул его Рыжий за поленницу, чтобы на глаза кому-то из родных сразу не попался и чтобы оттянуть этим хоть на какое-то время неизбежное возмездие. Сели, уставшие, в тенёчке под навесом. Сидим. Помалкиваем. Друг мой, как власяница, по частому выражению Марфы Измайловны, мрачный. Кожа на коленках у него содрана, кровоточит. И я, на друга искоса поглядывая, изо всех сил стараюсь не рассмеяться, хоть и смешно очень выглядит шишка на лбу у Рыжего – как фонарик на велосипеде. Но только вспомню, как он в избу Иванихинскую врезался, тут уж и вовсе удержаться нелегко мне – кашлять притворно начинаю и сгибаюсь, чтобы лицо-то своё спрятать.
Выходит из огородника Марфа Измайловна и становится среди ограды. Держит она под мышкой чёрную курицу.
– Нестись, холера, вздумала на парнике. И для няё сложили бытто. В лунке устроилась, смотрю. Да разглядела ишшо как-то – чуть не в одно под чернозём-то. Сидит, притихла. Не первый раз уж там несётся – и говорит тут же, сама с собой как будто разговаривая: – Бесстыжие плевелы – морковь намедни тока наплевала – они всю грядку затянули… Густо мокрицу враг насеял.
Отпустила курицу на землю. Стала та, встряхнулась.
– Иди, где надо, и несись, – велит курице Марфа Измайловна. Посеменила та во двор. Шмыгнула шустро под калитку.
Смотрит после на нас Марфа Измайловна и спрашивает:
– Есть будете, архаровцы, али нет? Воздухом сыты?.. То запекла толчёную картошку. И со сметаной можно – воскресенье.
– Нет! – сердито отвечает Рыжий.
– Чё ты такой унылый, как Амалик? – спрашивает его Марфа Измайловна.
– Да ничё, ба-а, ничё!.. Давай иди, куда намерилась.
– Ох, умовредный парнишшонка. Тока в кого такой и уродился?.. Горшок ночной, а не рабёнок.
– От такой слышу.
– Не человечишко – заноза.
Сказала так Марфа Измайловна. И говорит: – Куда ж, на самом деле, направлялась-то?.. Сделать хотела чё-то – чё вот?.. Ума совсем уж не осталось…
– Можно подумать, был когда-то.
– Ишшо Опарыш с толку сбил. Медноголовый. Тока что, но… на это сдать… на вторсырьё-то. Чтоб хошь копейкой оправдаться. Всё и пырят рогами под бока, бытто отяпа поперешный. Боже, помилуй меня окаянную, – тяжело вздыхает и, мелькнув глазами в сторону скворечника, крестится Марфа Измайловна. – Язык-то мой – верста коломенская. Укороти, Осподи… совсем ли вырви. То размахалась, как пастух пьяной бичом, безудержно им… Ах, да, яички-то собрать. Пока сороки не склевали… Ну, грязнопятые, надумаете еслив, когда промнётесь, в печи картошка, за заслонкой, – сказала Марфа Измайловна и ушла обратно в огородник, глянув прежде, как на часы, на солнце из-под приставленной к глазам ладони.
– Паулюс, – бурчит ей вслед Рыжий. Когда они в хороших отношениях, Рыжий величает бабушку Маршалом Рокоссовским, а когда они с ней не в ладах – Фельдмаршалом Паулюсом или просто Паулюсом. Если совсем уж разобижен он на бабушку, то называет её не иначе как Эсэсовкой или Гестаповкой. Рыжий сейчас не в добром духе. – Ишшо пришла тут, расшумелась… Шибко нужна твоя картошка.
Картошку всё же мы поели.
За испорченное колесо и за то, что он, Рыжий, самовольно – кто-то ему как будто, и спроси он, разрешил бы – взял без ведому велосипед, досталось крепко, бедокуру, от отца. Да и от брата. Отец, Захар Иванович, его, своего младшего любимца, гужищем – тем, что под руку подвернулось, – старательно, чтобы пошло впрок, в ограде прямо отмутузил. А Виктор оттаскал брата за чуб, но уже в доме. Ещё и дедушка, Иван Захарович – тот, выстар, сделал всех обиднее. внука родного обозвал отпетым вором и лихоимцем Ванькой Каином, а под конец ишшо добавил, что будто по яво крапчатому загривку топор палача шибко стосковался, ждёт не дождётся, дескать, когда встретятся, казённый дом яму, в итоге, обеспечен, мол, власти без крыши не оставят – сгниёт по тюрьмам, хваткорукий.
Как напророчит. После школы и службы в армии поступит Рыжий во Владимирское училище МВД, успешно его закончит и станет впоследствии начальником небольшенькой пересыльной тюрьмы в Елисейске.
Призовут брата его Виктора вскорости, чуть ли не осенью того же года, в армию. Отслужит он три года и останется на сверхсрочную. Приезжал, помню, как-то в отпуск. Летом. До сенокоса. В военной форме пограничника. Несколько дней Рыжий, исполненный превосходства, разгуливал в его фуражке, нам и примерить не давал. Как будто к будущей своей приноровлялся – только уже с малиновым околышем, а не зелёным. После погибнет Виктор на Даманском. Не привезут тело его в Ялань. Где-то там и похоронят, если что было хоронить. Мать его, Матрёна Николаевна, моя крёстная, все глаза по нему выплачет: мёртвым не видела – и будет ждать до гроба. А в ту пору, когда младший брат искарёжил его транспорт, ухаживал Виктор за старшей сестрой Володи Вторых – Маней. В белой, с засученными до локтей рукавами, сорочке, завернув чуть ли не до колена правую штанину, чтобы, под цепь попав, не намоталась та на звёздочку, то и дело встряхивая своей длинной русой чёлкой, катал Виктор белокурую и зелёноглазую, с закинутой на грудь толстой русой косой, а за спину – гитарой семиструнной, Маню, посадив её на раму, на том самом, отремонтированном уже им, Виктором, велосипеде по Ялани. Увезёт Маню после какой-то недолго работавший в МТС главным инженером Иван Рафаилович Лиенко на Украину. Там и живёт она теперь, в Днепропетровске – за рубежом. Родину вроде и не покидала, а пребывает за границей. Как-то при встрече мне Володя Вторых скажет: «Скучает Маня по Ялани. Возможность будет, пишет, так вернётся. Не жить уже, хоть умереть… Пусть приезжает». Жить-то уж негде здесь – дома все сгнили, а умереть – достаточно земли.
Вся Ялань – три её края, это как в городе проспекты, наш Луговой, Городской и Линьковский, с прилегающими к ним безымянными улочками, заулками и забегаловками, – кроме пригонов, огородов, палисадников да пересекающего это первопроходческое, острожное когда-то, позже волостное, казацко-чалдонское село с северо-востока на юго-запад старинного Екатерининского тракта, соединявшего когда-то Елисейск и Гачинск, давно уже заросшего по большей части, была застелена муравой, словно ковром с коротким ворсом. Нынче она, Ялань, души отрада, вдоль и поперёк на чём только возможно, вплоть до танкеток и трелёвочников, как неприятелем, изъезжена, изрыта. Будто и не село, а полигон для иноземцев. Правда, и не село уже – деревня. Муравник чудом сохранился островками малыми лишь. Увидишь, сердце кровью обольётся. Учит Господь меня через Святых Своих, чтоб за земное не цеплялся, но верой слаб – переживаю.
Скот раньше яланцы, как частный, так и колхозный, пасли на специально отведённых для этого пастбищах, в лесу. Теперь он-хоть и малочисленный уже, конечно, – где вздумает, там и гуляет, в основном-то – по деревне, в лес не идёт – боится овода и гнуса; в бывшую церковь и в дома пустые плотно набивается – зрелище грустное: вместо людей, быки, коровы или лошади выглядывают в окна.
Строго-настрого запрещено было раньше и на технике на улицы показываться, вплоть до штрафа. Разрешено было ездить только по тракту и по дороге от гаража машинно-тракторной станции в сторону бригад и полевых заимок и, соответственно, обратно.
В погожую, сухую погоду на мураве, как на мягкой подстилке, можно было и поспать. Что мы и делали нередко, утомившись от долгого бегания или на солнце разомлев. В тёплое лето. Не полежишь в холодное – простудишься.
И босиком мы, ребятишки, бегали по всей Ялани, составляя конкуренцию гусям, курицам, кошкам да собакам, которым, как и нам, тоже не возбранялось мять её, муравушку.
Овец держали во дворах, если пасли, то только за поскотиной.
Что этот мир муравчатый исчезнет скоро, мало о том тогда ещё из нас кто беспокоился. Никто, пожалуй. Провидцы, разве. Вечным нам всё тогда ещё казалось, неизменным.
С огородами управлено, сенокос ещё не начинался. Время свободное, что летом редко выдаётся. Но не для нас, естественно, – для взрослых. Нам-то закон ещё не писан – живём пока под благодатью – домой не звали бы да рано спать ложиться бы ещё не заставляли – и вовсе б рай нам. Светлые и тихие, долгие северные вечера, переходящие не в ночь, а сразу в утро. Ночь от нас на юг, как птица, в эту пору улетает. Вернётся к августу, когда кукушка, прокуковав всем здесь насквозь уши, умолкнет и в Кемь пописает Илья-пророк. Мы это знаем. Если кино и танцев в клубе нет, если погода не дождливая, девушки в нарядных платьях, взявшись под руки, разгуливают шеренгами по улицам; в каждом краю свои компании. Сходятся то на кемском яру, то на мосту через Бобровку или у клуба. Поют. Помню, они такую исполняли песню: «Плыла, качалась лодочка по Яузе-реке». Но мне слышалось: «а я уже в реке» – и долго жил я с этой путаницей, пока как-то, уже взрослым, не прочитал в песеннике текст этой популярной в те годы песни из не менее популярного тогда фильма «Верные друзья» – изрядно удивился. Нелегко мне было распрощаться с этим искажением, а язык мой, неуклюжий и нерасторопный, и по сей день с ним остаётся, чуть только где подцепит эту песенку и повторит себе привычное: «а я уже – дескать – в реке». За девушками вразброд ходят чубатые парни. Затылки у них стриженые. Чубы свисают чуть ли не до уха; кто-то среди них с гармошкой, кто-то с гитарой. Рубашки светлые. Штаны широкие. Когда стиляги в дудочках ещё появятся – нескоро. Люди среднего возраста, родители наши, по домам да по оградам – чем-то заняты, как правило, и времени свободного у них как будто не бывает – нас это мало беспокоит. Старики и старухи с нашего околотка собираются возле чьей-нибудь избы с удобной завалинкой, разводят дымокур от комаров и до позднего в эту пору заката солнца, а то и дольше, ведут беседы. Мы тут же – играем то в бабки, то в чику, или во что-нибудь ещё, не очень шумное. Лежим ли просто на мураве и прислушиваемся к разговору. Мало, правда, что понимаем, но запоминаем всё, в надежде, что суть дела, какое нас заинтересует, разъяснят нам после старшие и более опытные друзья-товарищи. Я – по прозвищу Истома. Вовка Чеславлев – Рыжий – как прилипло, не оторвать, забываем, как зовут его на самом деле. Васька Арынин – Чапаев. Володя Вторых – Ленин – по имени и потому, что букву «р» тогда не выговаривал, картавил. Андрюха Есаулов – Сталин. Никого из ребят у нас по имени Иосиф не имелось, но у Андрюхи был двоюродный дедушка по матери, погибший на Первой германской, которого звали Виссарионом, – поэтому и был Андрюха у нас Сталиным. Саша Фоминых-Пархоменко, в честь героя Гражданской войны – кино тогда прошло такое: «Александр Пархоменко». Саша Сапожников – Сапог. Шурка Пуса – Белобрысый. Витька Гаузер – Маузер. Валерка Крош-Гаврош. Все мы тогда ещё друзья – водой, что называется, нас было не разлить. Всё у нас пока ещё общее – небо, обжитый нами ельник за огородами, наш околоток, Луговой край, угор, поляна, и старики у нас общие – что и сближает. Жизнь после разведёт – по месту жительства, а с кем-то и по дружбе. Кто ещё жив. Кого-то уже нет. Андрюха из-за семейных неурядиц выпивать начнёт, во время сухого закона перейдёт на денатурат, технический спирт и прочие подобные напитки. Вырежут ему часть желудка. Но выпивать он не перестанет. Уйдёт от него жена. Умрёт Андрюха одиноко. В Ялани похоронят. Сашу Фоминых, добродушного, миролюбивого, с длинными, как у девчонки, ресницами и глазами, как у теленка новорожденного, в девятнадцатилетнем возрасте, когда он был студентом Елисейского педагогического института, зарежет во время первомайской демонстрации какой-то урка, из нерусских. Только за то, что не найдётся закурить у Саши для него. А Саша просто не курил. Нанесёт ему уголовник, оскорблённый отказом, девятнадцать ран ножом – в живот и в сердце. Когда на суде спросят убийцу: «Как входил нож?» – «Как в масло», – гордо тот ответит. Саша Сапожников попадёт на машине в буран, уснёт, не выключив мотор, и угорит в машине. Тоже в Ялани похоронен. Витя Гаузер в Германию уедет. Поживёт там сколько-то. Вернётся. Дом построил в Елисейске. Захожу изредка к нему в гости – приветливый. Крош Валера переберётся из Ялани в Милюково, где до сих пор и проживает. Но это после. А тогда:
Троица. Не ошибаюсь. Потому что:
Возле ворот и в наружных углах изб стоят срубленные и принесённые из леса молодые берёзки. Село и вовсе уж украсилось.
Солнце – на закат, припухло – от марева.
Тихо – будто иного мира нет, кроме Ялани.
Сидит старушня: старики – вразнобой, старухи – те кучно и пёстро: в праздничных кофтах и платочках. Кто на завалинке, кто на скамеечке, кто на принесённых от поленницы чурках – кто на чём. Рядом, в старом, отслужившем своё эмалированном тазу, разведён от комаров дымокур – только одно от них, назойливых, спасение. Много их, дымокуров, по Ялани – там-там, видно, к небу с поздравительной весточкой от неё тянутся.
На перевёрнутом вверх дном цинковом ведре устроился дедушка Серафим. Патюков. Седой. С проплешиной на темени. Всегда опрятный и старательно причёсан – следит за нём яво старуха, Патючиха, тока, мол, тряпочкой не обтират, как статуетку; дыхнуть боится на яво. И та тут же – глухая – в разговоре не участвует, но постоянно улыбается – будто искрится.
Сидит дедушка Серафим, спиной притулившись к берёзе. Ногу на ногу закинул. В длинной косоворотке с голубой, плетёной опояской. В сизых плисовых штанах. В броднях, от которых и до нас доходит запах дёгтя. Щека у дедушки Серафима постоянно дёргается, словно комар в неё кусает, и глаз единственный мигает – как засорился. С японцами ещё он, дедушка Серафим, воевал. Там его и контузило – шибко ишшо ударило лафетом. После чего он стал далёко видеть – через ельник, через горы – и рассуждать чудно маленько начал. Но нам, мальчишкам, кажется – нормально.
– У Бога, – вперясь глазом в обагрённый солнцем ельник, говорит дедушка Серафим, – два Сына. Один – наш Спаситель, другой – Денница. Денница – старший. Спаситель – младший, любимец. Бог Денницу согнал за непомерную наглость с неба на землю, а после, чтобы утихомирить его, то этот нёслух распоясался чрезмерно, послал на землю и Спасителя. Тот его и усмирил маленько. Тут, по Тунгуске, взрыв-то был, частенько поминают, лес-то повален – дак поэтому: Братья отчаянно сражались. Сидит теперь Денница, в Аду запертый, по рукам и ногам связан, но миром всё же управлят оттуда – пока позволено срамцу. Отец-то очень недоволен им, беспутным.
Все, и мы в том числе, выслушали дедушку Серафима молча. Даже Марья Митривна Белошапкина, злая и острая, как говорят про неё, на язычок, не перебила, косо взглянула только на рассказчика. Нам это даже удивительно. Зря ожидали. Любим послушать мы и Марью Митривну – та языком тебя обчешет, как копну граблями. Не обчесала. Может, её давление мучит.
Притих дедушка Серафим, глазом своим пришпилил себя к ельнику, как кнопкой.
Садятся на его смазанные дёгтем бродни, одуревшие от запаха, редкие комары-самоубийцы – прилипают.
Чуть в сторонке, на выпирающем из земли корне старой берёзы, сидит ссыльный поп. В ермолке. В кирзовых сапогах. В бледно-коричневой, вылинявшей, с чужого плеча, вельветовой куртке с двумя нагрудными карманами, молнии на которых не застёгнуты. Карманы полные – чем – неизвестно. В брюках, выпущенных из сапог и раздутых как-то странно, – будто ряса в них заправлена. Из Закарпатья. Батюшка. Про которого в Ялани утверждают: он между строк читает, мол, газеты и журналы. Как это, мы не понимаем. Всегда рассказывает он собравшимся свежие международные новости, переиначивая их нешшадно. Там про Фому написано, а он толкует, дескать, – про Ерёму. Фидель Кастро, оказывается, по междустрочечному сообщению, приёмный сын Мао Дзэдуна, и на своё совершеннолетие получил в подарок от названого отца термос в драконах, тазик эмалированный в блудницах-китаянках и жёлтое махровое полотенце с зашифрованным под иероглифы на нём портретом тайного руководителя и вдохновителя бунтовщиков всех времён и народов – антихриста. И Луна – не шар, а миска, обращённая к Земле то дном, то боком и до краёв заполненная бесами – людям они оттуда, свешиваясь через край, кажут шиши и рожи корчат в полнолуние. Как бы и нам читать так, между строк-то, научиться – только мечтаем. В школе такому, жаль, наверное, не учат. Антоний Воздвиженский. К нам, ребятишкам, приветливый. Борода и волосы у него длинные и спутанные, зелёноватого, как еловый лишайник, цвета. Старухи странным называют его именем: «Уньят, душею повреждённый». Он на старух не обижается. Не обижается ни на кого. Но вот – осердится – бывает.
Сидел Батюшка, помалкивал, а потом и говорит вдруг:
– Ну как же! Видех сатану яко молнию с небесе спадша. Ересь. Чушь несусветная. Язык бы вырвать твой поганый. Иконы в доме от себя закрой, кощун, тряпицей. Год тебе, Серафим, мяса не есть, табак не курить и ближе десяти шагов к церкви не подходить. В тайне Пресвятой Троицы положено было от веку второму Лицу Пресвятой Троицы, Богу Сыну, воплотиться в своё время от Приснодевы и, умерши на кресте, разодрать Им рукописание грехов наших и, удовлетворив тем вечной правде Божией, примирить нас с Богом; положено было также, чтобы к примирённым таким образом низошёл Дух Святой, третье Лице Пресвятой Троицы, и оправданных кроплением крове Иисус Христовы делал праведными и святыми, обновляя их внутреннюю жизнь благодатию Своею.
Дедушка Серафим – тот как смотрел на ельник, так и смотрит.
– Слышишь? – спрашивает его Батюшка.
– Не мешай глядеть, – отвечает ему не сразу дедушка Серафим.
– То-то же, – говорит Батюшка. – Куда уставился? Не в Преисподню ли?.. Червь есмь, а не человек. Рукописание твоё трещит по швам от беззаконий. Денница – не Сын, единородный и равнозначный Отцу, а возгордившаяся тварь. Запомни, немощь нерадивая. А то туда же.
Как-то, в жаркое лето перед этим, зашли мы, ватагой шумной шествуя с Кеми, где купались, к Батюшке воды попить. Его в доме не было – ушёл он, как после мы узнали, на Бобровку мордушки проверить – любил гольянов, жаренных с яйцом – всё лето ими и питался.
В избе порядок. Пол помыт. На голом – не застеленном ни скатертью, ни клеёнкой – столе стоит крынка с ромашками. Лепестки засыпали столешницу. Рядом с крынкой лежит открытая на первой странице школьная тетрадка в клеточку. На ней что-то от руки написано. Прочитал Рыжий по слогам:
«Пламя, перед тем как совсем угаснуть, иной раз ярко вспыхивает.
Игнатий Некийский».
И ниже:
«Брат мой единодушный! Охладела во мне любовь. Молись о мне Господа ради, Ему слава во веки, аминь. Раб Божий и брат твой в скорби Антоний».
Прочитал Рыжий и сказал:
– Во богомол, дак богомол. Не богомол, а богомолишше. Я у него и пить не стану… Ишшо отравит, чур-чур-чур.
Пришлось нам побывать в том доме года через два. Дом этот пустовал временно – Батюшку тогда уже похоронили. А та тетрадка на столе так и лежала. Только страница вылиняла сильно. И ничего к написанному не было добавлено.
Тут же, среди прочих, на корявой, комлевой, торцом поставленной берёзовой чурбашке, вырос на ней как будто, одно целое, и родной дедушка Саши Фоминых. По матери. Арсений Павлович Антонов, для нас дедушка Арсентий. В тесном и коротком ему пиджаке, без пуговиц и с распоровшимися рукавами. Задумчивый. Словно потерял на днях что-то важное, а где потерял, ума не может приложить, но вспомнить и найти надо обязательно, как будто жизнь его, а то и всей страны от этого зависит, а то и мира – такой задумчивый обычно. Говорит мало. А когда говорит, далеко одно от другого расставляя своим зычным голосом чёткие и выразительные от их разъединённости слова, то густой и сплошь седой ёжик волос на его большой и крепколобой голове, словно проснувшись, начинает шевелиться – сползти, как кажется, пытается; будто опять уснёт, когда умолкнет дедушка Арсентий. Нос и уши у него мясистые, увесистые – нельзя смотреть на них без боязни: так не случилось бы, что, оторвавшись, упадут вдруг – как капли падают, отяжелев, с карниза. Вёз он, дедушка Арсентий, в царскую ишшо пору, тайболой, тайгой то есть, санным зимником то ли из Ялани в Туруханск, то ли из Туруханска в Ялань Иосифа Сталина, одного из самых знаменитых в будущем коммунистических вождей, тогда ещё просто политического, в узких кругах лишь и известного, преступника. А после шибко сокрушался, что не удавил его, плюгавого каторжника, в санях. Никто бы, дескать, и искать не стал: сбежал, замёрз в тайге, и звери его съели. Если б знатьё, так и управился бы, мол, не дрогнул. В церковь зашёл бы после, дескать, повинился. Пусть бы и наказание понёс – и то стерпел бы.
Дедушка Арсентий был крупным и плотным, как будто вырубленным из голомени листвяжной. Мы, мальчишки, видели в нём тогда бессмертного, но состарившегося борца Ивана Максимовича Поддубного, не проигравшего в своей жизни ни одного поединка. В молодости, как рассказывают, могутою обладал он, дедушка Арсентий, непомерной и слыл самым сильным во всей яланской волости парнем, после – таким же мужиком. Сильнее его, и это знали мы лишь из рассказов, был только Дымов Дмитрий Анкудинович, перед людьми, как говорили, смирный – даже детей, блажной, стеснялся, – зато осиливший однажды в рукопашной схватке сзади напавшего внезапно на него в тайге медведя-шатуна. Но тот, Дымов, умер ещё до нашего рождения. Сорвал поясницу, когда переносил с баржи на причал в Елисейске на себе мельничный жернов – мостки тогда под ним сломались. Еод после этого пожил и умер. Что задавить шшупленького да ушшэрбного в прошлом семинариста Джугашвили было бы Арсению Павловичу раз тока плюнуть, одной лишь тенью бы зашиб, из стариков никто не сомневался, и споров не было об этом. Но нам, яланской ребятне, казалось это невозможным – Иосиф Сталин был генералиссимусом, справившимся с Еитлером, – и тогда он, в санях, на занесённом снегом зимнике, несмотря на наше нешуточное уважение к дедушке Арсентию, вышел бы победителем – и не могло быть по-другому, всё-таки Ста-алин.
Ну а, предвидя, скажем, не очень радостное для себя ближайшее будущее и вызнав ту роль, которую сыграет в предстоящих ему бедствиях и лишениях его седок, сотвори он, Арсений Павлович Антонов, матёрый яланский чалдон, после и раскулаченный, и расказаченный, тогда такое, и мировая история в двадцатом веке развернулась бы, возможно, по-иному. Нашей страны-то – так уж точно. Не круто, может быть, но по-иному. Был же ещё в запасе Лев Давидович, были ж ещё и Каменев с Зиновьевым и иже с ними на подхвате. Но Бог творит историю, и нам, мелким пакостникам, справно работающим под заказ, лишь переврать её дозволено. Да ведь и я тогда бы не родился. Это уж вовсе невозможно. А потому и Сталин жив – было попущено – остался, не сгинул тут у нас, в сибирской тайболе. Что Бог поставил, не переменяется. По Его вечному предначертанию всё происходит в нашем мире, когда тому приходит время. Несть пременения у Бога. И кто советник Ему бысть? Чему случиться уж, того не избежать. Так вот и то – что я родился – было неминуемо.
Якоже избра нас в Нём прежде сложения мира…
А то, взирая на дела, не познаём Виновника при этом.
В добре стоять бы.
Про кого-то говорят, слышим, старухи:
– Полон подол серебра принесла, совесь девичью вином залила.
О ком это и что это значит, мы не понимаем, но ушки держим на макушке, запоминаем – после у ребят, что старше нас, выясним; подозреваем интересное.
– Мужнин грех на улице остаётся, – говорит на это Марфа Измайловна, – а жёнин в дом приходит. Она, мать-то её, Клавдия, – добавляет Марфа Измайловна, – правда Божия. Мухи за жизь не убила, наверное, и никому худого слова не сказала. Как ей стерпеть теперь всё это?
– Старая уж совсем стала, – говорит Иван Захарович. – Одной ногой уже в могиле. Терпеть недолго ей осталось.
– Да какая ж она старая, – возражает ему Марья Митривна. – Придумал тоже. Меня моложе, и на много, на восемь месяцев-то, точно.
Смешно нам: на восемь месяцев – намного, в их-то возрасте и десять лет, дескать, немного, что шестьдесят, что семьдесят – всё запредельно. Смешно – поэтому мы и смеёмся.
Сашку Фоминых, Сашку Сапожникова и Вовку Вторых домой родители позвали – младших сестрёнок спать укладывать. Рыжему и мне не с кем, к счастью, нянчиться: и он, и я – в семьях поскрёбыши, или заскрёбыши, как говорят в Ялани. Дома наши на виду, идти за нами далеко не надо, если понадобимся – кликнут. Нас не покинули пока ещё Андрюха Есаулов, Сашка Антонов и Арынин Васька. Васька уснул уже – лицом в мураву, будто в подушку, лежит, как мёртвый. С ним так случается нередко. И не заметишь, как притихнет. Вроде сидит, глазами лупает, и – повалился. Только вот разбудить потом его непросто – долго придётся тормошить. Пока не будим его, соню. Шурка Пуса, Валерка Крош и Витька Гаузер – тоже ушли уже, чуть только раньше – за ними братья приходили. Договорились завтра встретиться. Место и время встречи не назначаем: весь день наш, с утра до вечера, в июне ночи у нас нет, и околоток наш – не потеряемся. Дороже денег договор – если и дождь пойдёт – не отменяется, есть где укрыться от дождя, и в дождь занятие найдётся.
Дымка над Камнем загустела – сизая. Сопки его обагрены – если следить, заметить можно, как тускнеют. Закат огнём пылает алым – медленно вянет. Небо – как будто кто его раскрасил – разных цветов; зелёное над нами; не потемнеет до утра.
Полетели к ельнику вороны. Их, как и Ваську, в сон сморило. За день устали – не кричат. Сорока только не уймётся – стрекочет где-то.
С низин прохладой потянуло. Но комаров пока не стало меньше.
Слышно нам, как шумит на перекате Кемь и гулко брякают ботолами пасущиеся по угорам спутанные лошади. Где-то поют – доносится откуда-то.
Просто лежим уже мы, не играем.
Иван Захарович рассказывает взаправдашнюю быль про какого-то шибко уж неспокойного до женского подразделения мушшыну, ажно как зверя, которого содержала-де на казённые деньги, как самую необнаковенно-диковинную вешшицу, императрица Катерина. Нос у него, мол, был такого калибру, какого во всей Европе и отродясь не видывали. Нигде, не тока что в Европе. И в той же Азии, к примеру, в той уж и вовсе – там всё мелкие. А нос в те времена среди цариц цанился больше, чем богатство, дескать. Он жа – солидность. Да как и нонче, у баб ничё не изменилось, мол. В банке, в спирту, таперича находится… как настояшшый, бесподобный. За деньги люди яво смотрят…
Марфа Измайловна, перебивая на полуслове, говорит ему, своему мужу-старику:
– Ох, помолчал бы, греховодник… Где-то, успел, уже отведал – у самого вон нос-то уж… как свёкла.
Я тогда был уверен в том, что «греховодник» – это по поводу его, дедушки Ивана, постоянного курения Марфой Измайловной твердилось – трубку-то изо рта не вынимал он. И думал: точно, греховодник.
– Ага, да это от заката… Во, разглядела! То всё прикидыватса, что слепая, притворятся, – отвечает ей Иван Захарович. И говорит: – А у самой-то… бытто белый. Ей хорошо – сидит от зори. А мне глаза уж ею прослезило.
– Сказал бы: бражкой, а то – ею.
– Да ею, ею, а не той. Чё ты городишь?.. От той-то чё, от той – не слёзы…
Не отрываясь глазом от ельника, говорит дедушка Серафим, как будто сам себе, а не кому-то:
– Гришу Бурцева жеребец на Вязмином затоптал. Тока что. Насмерть. Грузит его Арынин на телегу.
– Ох, Осподи, – начинают креститься и причитать дружно старухи. – Напился нонче и хулил Святого Духа, дак поэтому.
– Стрешный возник и жеребца-то испугал?.. Тот оттого, может, и вскинулся?
– И это, бабы, может быть. Еслив, поехал без молитвы… в такой-то День ишшо… ох, горе.
– Ну, нас там не было – не знам.
– Сидел бы дома – отмечал.
– Ага, ты дома нас удержишь… Покос, наверное, поехал чистить.
– Траву-то мять?.. Не поздно ль чистить?
– Там бересто он драл – за берестом. На Ендовище.
– И конь зауросит, на притчу… любая напасть свалится на человека, кому не жить уж.
– Царство Небесное… ох, еслив так-то.
– Да как не так, поди… Раз он узрел.
– Да поблазнилось, мало ль, чё там.
– А как ему?.. Всегда блазнится. Глаз жа один – и тем он близко тока шшупат. И Патючиха подтвердит. Не ём он видит-то – не глазом.
– Чутьём каким-то.
– Да и давно уж так не каркал.
– Ты докричись до Патючихи.
– Ага, глухая, как тетеря.
– Что глаз худой, дак это точно. И деньги плохо различат.
– Это от невров… невры эти.
– Да уж по старосте, а то от невров.
– Раньше и нервов никаких не знали.
– Раньше и не было такого. Кто ж раньше в праздник-то чё делал?
– Может, и так, чё показалось.
– Да дай-то Бог, чтоб тока так.
– Раз уж накаркал, это вряд ли.
– Чтобы не сбыл ось-то, и не бывало. Он жа как этот… прорыцатель.
– А каково теперь Клавдее будет, ей-то?
– Да и Наталье…
– И та от ветру на сносях.
– Ишшо ничё жа не известно.
– Ты это верно разглядел?.. Э-э, Серафим, ты отвлекись-ка.
Притих дедушка Серафим, не отвечает. Только щека у него подёргивается. И глаз мигает. Кому-то в ельнике как будто. Или за ельником кому-то. Не сам себе же.
Молчит давно уже и дедушка Арсентий – на день вперёд наговорился. На неделю. И седой ёжик на его тяжёлой голове не оживает. И только уши лишь трясутся.
– Ох, лихорадка!.. – Поперхнулся Иван Захарович дымом. Освободив рот, взял в руку трубку, громко прокашлялся и говорит:
– Ну вот, устроил жеребец Ялани праздник… Он на каком там – на Нектаре?
– Уж не болтал бы чё попало! – зашумели на него старухи.
– А чё тако-то?.. Расшипелись… В жизь, девки, – говорит Иван Захарович, с трубкой во рту уже опять сидит, невозмутимый, нога на ногу, рукой её, трубку, придерживает, руку локтём поставив на колено, – выходишь через ворота, и сами знаете, какие, уж не срамник, дак не скажу, после – за дверь избы на хилых ишшо ножках, после – за настояшшые ворота, потом отселе уж вратами смерти – туды изыдут… в небесные селения, как поп Семён наш выражался… Дак и Григорий подоспел вот. Постучался. Духа-то как он мог хулить – смиренный? Время пришло ему, и сковырнулся… А как уж – тут как у кого… Смерть на тебя и жеребца направит. А то и шершня – тот укусит… В спину кого с обрыва подтолкнёт… Или Нордет, что младший-то… ружьё само в яво пульнуло…
Вначале дедушка Иван был вроде трезвым, теперь и мы, а не только Марфа Измайловна, замечаем, что он – маленько. Всё за поленницу-то бегал. Старый, мы думали, так по нужде – не держит. Припрятал где-то там, в дровах, бутылочку. Обычно. Рыжий все тайники его проведал, как называет их Иван Захарович, загашники. Об этом: «новый» – говорит. И добавляет: рыпаться станет на меня, мол, разорю, или и этот выдам баушке… еслив ругаться та не будет.
– Да уж, как наберётесь-то, вы и смиренные, – говорит Марья Митривна. – Смирнее мёртвого. Хошь в гроб с бутылочкой клади, не заартачитесь.
– Надежда – Свет, Господь – Бог наш! Праведен суд Твой, Владыко, – говорит Батюшка. – Вам только, блудоумым и хищноязыким, не будет уйму и смирения! В тартаре огнь и студень лютая вас поджидает! – Сказал так, резко поднялся и домой к себе направился – не в клуб же. Никто ещё не видывал его таким-то вот сердитым, почти разгневанным.
Все проводили его взглядом.
Туман собрался над Куртюмкой. И над Бобровкой. И над Кемью. От рек пока не отрывается – висит над ними, все их изгибы повторяя.
В полойном месте за Куртюмкой заскрипел всем нам уже знакомый коростель – живёт он там, в густой осоке; к этой траве привык – она его не режет. Солнце зайдёт, жди, скоро и объявится. Сам ли для себя заводит он каждую ночь эту песню, для кого-то ли другого, по этой песне не понять – однообразная. Может, и так: для нас нарочно: как он запел – пора домой нам, значит, подаваться, чтобы ремня не получить. До утра теперь не умолкнет, чуть не до самого восхода. Выхожу иногда ночью на улицу по надобности – слышу. Столько скрипеть – и как он не устанет?
Удод заухал где-то, как в пустую бочку. И этот всю ночь напролёт будет кликать кого-то, о себе ли сообщать: тут, мол, я – кому понадоблюсь вдруг.
Птички пиликают. По имени я их не знаю. Пикают грустно и протяжно – как при последнем издыхании – уж так-то вяло.
Из огорода в огород начали перекличку перепёлки. Мы с Рыжим хоть одну поймать всё собираемся. Пытались как-то, но не получилось. Заслышав нас, затихнет тут же. Не так-то просто к ней подкрасться, догнать её и вовсе невозможно – очень уж шустро убегает. Поймать и выпустить – чтоб только посмотреть. Очень похожа, говорят, на курочку. Да, интересно было бы сравнить.
Дымокур прогорел. Едва лишь тлеет, по-ялански – шаит. Дым ещё прячется в листве берёзы и под крутым карнизом дома – там накопился. Побудет сколько-то почти бездвижно, пока его оттуда ветерком предутренним не вытеснит. Но и отпугивать им, дымом, уже некого: близко нигде ни комара, ни мошки – то ли их, ненасытных, прогнала прохлада, то ли и им предписан отдых – удалились. Есть им, наверное, где ночевать, дождаться солнца – где-то же скрылись – навсегда бы.
И люди стали расходиться. Кому-то вставать ни свет ни заря, а у кого-то голова от дыма разболелась, мол. И не от дыма, может, – от давления. Старось не радось – говорят. Дож завтре будет, дескать, может, соберётся – кости-то вертит и разламыват вон. Кто, мол, последним будет уходить, пусть дымокур водой зальёт, чтобы не шаял, то ветер взымется – раздует; такая сушь стоит – опасно.
Остались сидеть только дедушки Иван и Серафим. Оба безмолвствуют, как воды в рот набрали. Дедушка Серафим глядит на ельник неотрывно, а дедушка Иван – на поленницу. На нас внимания не обращают.
Одеты мы в расчёте на жару. Не на вечернюю прохладу. В одних трусах. В трусах и в майке только Рыжий – солнца боится он – облазит. Нос и плечи у него в розовых облупинах – смотреть на них больно. Бабушка Марфа их ему гусиным жиром смазывает на ночь – чтобы спокойней спал, во сне не дёрьгался, как вшивая собака. И в майке сильно не согреешься. Переодеться нам было некогда: как с утра, легко позавтракав, из дома вышли, так там и не были ещё – там появись, заставят делать что-нибудь – не дураки мы. Стало нам зябко. До мурашек. К тому же – скучно – слушать стало некого.
Разбудили кое-как Ваську Арынина. Не до конца. Наполовину: в ответ на имя своё мыкнул – так хоть. Взяли под руки, ведём. Глаза раскрыть никак не может. Зыбкий. Подвели к воротам его дома. Стоит, в верею теменем упёрся. Со стороны подумать можно: пьяный. Вышел из ограды Петька, старший брат Васьки, слова не говоря, взял Ваську за руку и за ногу, махом поднял себе на загорбки и унёс его во двор – там они летом спят, на сеновале, чуть не до снега.
Пошли мы с Рыжим восвояси. Избы-то наши тут же, рядом – не в Киеве.
Иду. Шатко – ноги мои как будто задремали – весь долгий день покоя не давал им – уморились.
Глаза – открыты – ищут Буску. Куда-то тот запропастился. За кем-то, может, увязался – глупый.
Думаю: «Брови у Рыжего – и те как обгорели… ресниц и вовсе уже нет – спалило солнцем». Ещё о чём-то-уже сбивчиво. Может, о том, как дома меня встретят. Важно, не как, а кто, конечно…
Давно уже слышу этот звук – скрежет колёс тележных по дорожной гальке. Ещё тогда из прочих его выделил, когда Ваську будили, а Ваську долго надо дёргать, чтобы хоть как-то он зашевелился. Давно, и значит. Сразу же и узнал – с каким другим его не спутать. Гулко – доносится издалека. Стихал на время – лошадь в Кеми, наверное, поили. В Бобровке – вряд ли: вода в Бобровке ключевая – кони такую пить боятся, с пылу-и вовсе. Там её устье – она, Бобровка, в Кемь впадает. После – чуть громче – по мосту. Стал вскоре мягче: телега с тракта съехала на травянистый путь – поэтому. И направляется в наш околоток – здесь к нам одна только дорога. Отметил мельком.
Есть же, теперь так думаю, у родины и звуки. И к ним, как к месту, с детства привыкаешь. Летом – одни, зимой – иные. Весной и осенью – отличные. Во сне их тоже после… слышишь. То – как тревога смутная прислышится, а то – как счастье.
Подступил к воротам. Оглядываюсь. Вижу, как возникает около Куртюмки из разлившегося теперь уже по всей низине плотного тумана, словно рождаясь из него, рослый, богатырский, вороной конь и, замахав в такт ходу резче мордой, начинает подниматься к нам в угор. Слез с телеги, идёт рядом, не выпуская из рук вожжи, быстрым шагом дядя Саша Арынин. В откинутой с лица сетке-накомарнике. Лицо тёмное – от дёгтя. Лежит в телеге что-то длинное, накрытое брезентом. Может – таймень – большой такой? А может…
И Рыжий – тот, вижу, тоже задержался около своих ворот – глядит внимательно под гору.
Вступил я в ограду, тихо, как вор, ворота за собой закрыл и опустил заложку осторожно. Слышу, как бухнул у себя и Рыжий воротами – тот не таится.
Вроде никак не связанное с предыдущим вспомнилось. Само по себе. Не вызывал. Как пузырёк со дна реки воздушный, всплыло. Не выбирал. Или:
Такая пуговица подвернулась. К месту, ни к месту ли? Уж как пришьётся.
Утро. Масленица. Или обычное из воскресений. Мама стряпает блины. Сплю вполусон, улавливаю запах. Мы, дети, все ещё в постелях, и даже старшие – поздно легли, и те ещё не выспались. Значит, не страдная пора. Иначе не было бы нам позволено такое. Отец с улицы, шумно хлопая дверью, входит в дом и говорит громко: «А их-то чё не поднимаешь?.. Ещё валяются! Всё и жалеешь». – «Пусть спят, – говорит от печи мама. – За день находятся, успеют. В детстве-то только и поспать». – «Ты много в детстве наспалась?!» – «Тогда другое время было». – «Ну, балуй, балуй. Мало из них чё путнего-то выйдет… Время тут ни при чём… Оно всегда бежит, а человеку жить приходится», – говорит отец, но нас не будит. Вкушать блины садится в одиночестве. Ел их, ничем не запивая – ни чаем и ни молоком. В масло горячее макая. Спустя сколько-то – может быть, полчаса – и мы, заправив постели – сестра с моей обычно управлялась, я делал вид, что не умею, после, на службе, научусь – и побрякав по очереди умывальником, собираемся за столом. Я – уже каждому навредничав и получив почти от всех заслуженные подзатыльники. Сижу – не всхлипываю – по-геройски. Если отец в избе – читает, например, газету, – глянет он на нас с усмешкой и спросит: «Когда остыли-то… разве уж вкусно?» – «Вкусно», – кто-то из нас ему ответит. «Ну, если вкусно, – скажет, – ешьте на здоровье».
Будто и голоса услышал их – отца и матери. И сердце остро защемило. Словно проник в него, расширив чуть не до разрыва, из прошлого меня догнавший свет, тот тихий, радостный, каким так часто дом наш наполнялся… когда родители в нём были. И все мы – вместе. Лишь чья-то смерть теперь… Но не об этом.
И невесёлое пришло на память.
Весь октябрь простоял сухим, безветренным, но под конец особенно, по-зимнему холодным. Земля, насквозь пропитанная влагой после сентябрьских ещё дождей, застыла. Люди её жалеют почему-то: худо ей, дескать, непокрытой – как о живой, о ней переживают. Заходила к нам вчера вечером – за ложкой соды: сдобы испечь решила на Казанскую и поминальную субботу;хватилась, нет, мол, – Марфа Измайловна, сказала: «Вон и охтябирь уж к исходу. Чё тут, уж кончился почти что – день-то. Время бежит, как мужика, яво за гачу не уцепишь. После Покрову две недели. Был вроде эвот… Земля в мерзлушках. Скотишко бедный – тот-то исстрадался… избил копытья все о глызы. Худо». И мама ей: «Да как не худо, тётка Марфа, худо. Но и зима-то надоест». Тоже – нашли о чём заботиться. Реки в плёсах льдом сковало – не приближаясь к перекатам, можно побегать на коньках. Кто-то уже и покатался – рисковых много. Колька вон наш – он уж испробовал – тот не упустит. Но снега не было ещё, что для Ялани необычно, а для яланцев – удивительно: ну, мол, и осень – затяжная! Минувшей ночью выпал первый. Рянда – так его мама назвала. Сырой – поэтому, мол. Валит ещё. Густой. Большими хлопьями, похожими на парашюты. Неба не видно – заслонили. Вокруг всё сразу изменилось – сделалось белым. Глаза режет – ослепительно – за лето, хоть и короткое оно у нас, отвыкли. Стены домов, столбы, ворота и заборы сплошь ею, ряндой, облепило – так что теперь непросто различить их – разве что вспомнить. Тёмного мало где осталось. Только вороны – те уж ещё чернее будто стали; и на снегу – как головёшки; грузные – тонут глубоко в нём. Гулять и им по первоснежью нравится – заметно, – гам ребятни их не пугает; и ребятне до них нет никакого дела.
А для уха:
Ещё вчера в пространстве звонко было, как под куполом, сегодня – глухо, как под спудом. Вижу, что в забегаловке колодезный журавль кланяется – кто-то там воду набирает, – но как скрипит при этом он, не слышу. А то ведь – чётко. И то, что вставлены вторые рамы, не мешало. Скотину первый день пастись не выпустили со двора – мычит тоскливо и обиженно та, – что хоть и слышу я, но словно через вату.
Как воробьи чирикают – ещё и это. Расшумелись. Скачут снаружи по наличнику. Сержусь на них я – досаждают.
У меня воспаление лёгких. В натопленной избе, укутанный, как девчонка, в шерстяную шаль, в валенках, сижу на стуле около окна – хоть это мама разрешила мне. Сквозь таящие на стекле снежинки смотрю на улицу с печалью.
На нашем, Истоминском, угоре, прямо напротив нашего дома, лепят ребятишки снежную бабу. Почти в свой рост катают комья. Соорудят огромную, воткнут морковку вместо носа ей, вместо глаз вставят угли, прут вместо рта, или щепу, ведро дырявое на голову наденут, метлу пристроят – на полоумную похожа. С криками разобьют её артельно вдребезги, сразу же мастерить другую примутся – не устают. Скоро мураву оголили – зеленеет. Тут же с горы спускаются на санках. Тащат после в гору санки на спине – довольные. Весь склон изъездили до стерни.
Мне так, до слёз, туда, на улицу, к ним хочется, до злости. Не отпускает меня мама. Велит пить, пока горячее, молоко с топлёным, нутряным, салом. Пью с отвращением. И ною: кипяток, мол.
Настя Цоканова, старуха, там же. Зовут её Настя-Кобыла. Всех громче кричит. Нет от неё помощи, только помеха. Ненормальная. Не от рождения такая. Два сына у неё, где-то по морю плавали на корабле, погибли. И третьего, младшего, годом позже, тут, на песке кемском, зарезали. Она и чокнулась. Без платка. Коса у неё седая, длинная. Растрепалась, из стороны в сторону болтается. Настя с нами дружит, а мы с ней не ругаемся. Из-под замка, наверное, из дому сбежала. В одном-то платье да босая.
Поехал Рыжий с горы на санках, Настя за ним бегом помчалась. Вслед ему голосит: «Захарка, расшибёшься!» Путает она Рыжего с отцом его, Захаром Ивановичем.
Вместе со всеми и собаки. Весёлые. Раззадорились. Снеговика не лепят только. Но на него азартно лают.
А у нас на днях погиб Пират. Друг мой, чуть ли не наравне с Рыжим. Размером был уже кобель, умом – щенок ещё игривый.
Так получилось.
Забил папка бычка, тушу, не разрубая, целиком положил в сенях на стол – помог ему Захар Иванович, его приятель. Зашли они, управившись, в избу со свежениной пообедать, а дверь в сени по оплошности оставили открытой. Вбежал Пират в сени, потянул забами тушу за ногу, соскользнула туша с заиндевевшего стола и задавила кобеля сразу насмерть. В тот же день, под вечер, похоронил папка Пирата в ельнике, в мёрзлую землю кое-как пробившись. Привезёт он мне, безутешному, месяцем позже с низовки от кержаков-охотников молочного ещё щенка-лайку, которого сам же и назовёт Буской. И тот мне станет после другом. Но это после. А тогда.
Сижу я у окна, смотрю в отчаянии на друзей и снующих рядом с ними собак и горько причитаю:
– Все ребятишечки играют, а я сижу тут. Все собачечки бегают, а мой дружок Пиратик в ельнике лежит, не шевелится.
Что никогда теперь ко мне он не вернётся, я понимал уже. Уже не так, как надо, понимал ли.
Маму разжалобить не получается – меня на улицу не отпускает, а заставляет лечь в постель. Ох, неохотно как, но подчиняюсь.
Было мне тогда шесть лет.
А меньше чем через год произошло событие, может, и заурядное – скажи кому, лишь рассмеётся: ну, мол, и невидаль, беды-то, дескать, сколько, – но повлиявшее на мою душу сильней, чем выпитая мной когда-то бражка. Там-то – проспался – скоро и забыл. А тут: стало мне что скрывать, чего стыдиться, – бремя.
Претыкаются в жизни все, как говаривала Марфа Измайловна, Царство ей Небесное, но не все об один камень.
Моим был этот. Первым, нарушившим покой, засевшим в памяти, но не последним. Камней-то мало ли разбросано, и мы на месте не сидим, но всё куда-то и торопимся. Куда вот только?
Первое сентября. Мой первый школьный день. Впечатлений хоть отбавляй. После занятий пришёл я домой, восторженный, только переоделся, ещё не пообедал даже, слышу, меня высвистывает Рыжий с улицы. Свистел он громко, словно соловей-разбойник, – и не захочешь, да услышишь.
Схватил я со стола корку хлеба, посыпал солью, жуя её, и вышел за ворота.
Устроились мы с другом на скамеечке под весело шумящей от ветерка желтеющими листьями берёзой и стали совещаться, чем бы до вечера заняться. Ничто на ум нам не приходит.
Стали про школу разговаривать. Первый и третий классы в одном классе, и учительница у нас одна на оба класса, общая – Катерина Васильевна. Родная тётка Вовки Вторых.
Учиться Вовке будет трудно.
Ага, как раз наоборот.
Всё обсудили.
Опять задумались о том, чем бы заняться.
Подбежал Буска, потыкался нам в колени и убежал опять куда-то.
Ласточки на проводах – как прищепки. Щебечут. На днях покинут нас – на юг отправятся.
Галки в небе гвалт устроили – скоро и этих не увидишь; и так задержались.
С Яланью шумно так прощаются.
Вороны по поляне ходят – к хорошей погоде. Воробьи тут же – скачут.
Покурить бы, предлагает вдруг Рыжий.
Ну, покурить, так покурить, и я с ним, с другом, соглашаюсь.
Только вот где достать, чтоб покурить-то?
Да не задача.
Уговорил меня, сразу и струсившего, Рыжий своровать у моего отца хранившиеся на шкафу папиросы «Север» и подсказал, как это сделать безопаснее: вытянуть из каждой пачки, не распечатывая её, иголкой по папироске – всех и делов. Испытано. Можно было стырить целую пачку махорки из яшшыка под кроватью и у Ивана Захаровича, греховодника, но Рыжий пробовал уже махорку, и она ему не очень-то пришлась по вкусу – вонькая. Да и, мол, баушка узнает сразу – если махорки-то накуримся – та её чует за версту: махоркой дедушка насквозь уж прокоптился.
И покорил ещё меня за нерешительность – уж не отступишь.
Отца дома нет – в командировке. Мама в огороде – отаву косит. Старшие брат с сестрой в Исленьске, в институтах уже учатся. Средние брат и сестра ещё в школе.
Пошли мы с Рыжим в дом, таясь.
Снял я, трусливо оглядываясь на дверь, со шкафа коробку с папиросами «Север». Другу подал её, тот принял.
Ловко пользуясь иголкой, вытянул Рыжий из разных пачек, по одной из каждой, десять папиросок, спрятал их в карман своей куртки.
Пачки сложили обратно в коробку. Поставил я коробку на шкаф. Лишь после этого вздохнул свободно.
Из дома вышли уже смело.
К Кеми направились.
Есть у нас на берегу укромное местечко, где нам никто не помешает. Там, в тальнике густом, и удочки мы прячем; и соль и спички там у нас хранятся. Никто пока не обнаружил.
Дошли до места в предвкушении.
И накурились: он, друг, до следующего раза, а я – на всю оставшуюся жизнь.
Домой я, помню, шёл, шатаясь.
Вечером уже, как обычно, вышел я перед сном на улицу, за ворота.
Стою. Оглядываюсь.
Тихо. Ясно. Звёздный дождь. Почти что ливень. На тёмный Камень проливается, на ельник.
Мыши летучие порхают – мелькнут, бесшумные, и канут.
Сова – возникнет вдруг из темноты и в темноте же растворится – и та без звука.
Играют в прятки. Или охотятся – кто на кого?
Поют где-то – люди. Не по радио. В деревне.
Молча радуюсь: как только загудит утром гудок в МТС, подамся в школу. Легко, наверное, мне будет в школе: читать, считать уже умею.
И тут меня как будто смяло – вспомнилось воровство дневное и курение – в себя ужался. Между деревьями вдруг захотелось скрыться; будто узнал, что наг, и убоялся.
Ещё вчера, таким же вот вроде вечером, беспечно задрав голову и рассматривая украшенное звёздами небо, меня манящее к себе, словно моя другая Родина, я себя чувствовал блаженно, тут же вдруг испытал такое потрясение и ужаснулся, как будто я разрушил всю Вселенную – тем воровством и пагубным желанием.
Пронзило душу одиночеством. Тогда впервые. Сдружимся потом.
До того случая, глядя на ночное звёздное небо, не сознавал, а чувствовал я непременность моего существования, не сомневаясь в том, что, раз возникший, буду бесконечно, что Бог промыслил в вечности меня и любит; с нежностью смотрит на меня Он этим оком – небом – из Своей Божьей глубины. Ведь уже то, что получаешь бытие, есть знак великой Божьей милости, и до поры живёшь ты с этим чувством, пока его не растеряешь.
Это уже после, пылким и мечтательным вьюношей, жадно впитывающим мудрость властей века сего преходящих, обращённую Богом в юродство, отвернусь я от Него. И до времени мне это будет безразлично. И даже более того: я буду думать, что я есть, а Он – придуман. От лица Его я скроюсь. Пока не завоплю однажды в угнетающем упадке духа от непридуманной тоски по той иной моей Родине, и каждое грехопадение не станет мне внушать до острой боли, что я сделал что-то неподходящее, противное ей, этой Родине незримой, знаком которой в детстве для меня была Ялань, и от неё до Той была прямая линия.
И тогда же, чуть ли не сразу после этого события, может, как отклик на него, начал меня, помню, впервые терзать необоримый страх смерти. Не так своей – я всё ещё себе бессмертным представлялся безотчётно, – как смерти близких. Я-то жить буду вечно, дескать, а они умрут, и это мне внушало ужас. Долго так было, года два. А после – будто притупилось.
Тогда, желая покурить, мы захотели стать как… взрослые.
Возможно, стали.
Опустил голову. Развернулся.
Вступил в ограду. Не таким, каким вышел.
Закрыл ворота.
Поднялся по крыльцу. Не таким, каким с него спустился.
Вошёл в дом, ошеломлённый, лёг спать.
Уснул в тревоге.
Век золотой закончился. Не для кого-то. Для меня.
Смутное время наступило.
Помилуй, Господи. В каком теперь я?
Великий пост, 2008День Святого Владимира. Именины
Памяти Мунина Владимира Захаровича
В синем, без единого белёсого мазка-потёка, высоко, глубоко, широко и заботливо, как над младенцем, над старушкой ли, что более подходит к случаю, распростёртом над Яланью небе, плавно выделывая ровные круги, два матёрых коршуна дежурят. Без отлучки.
Словно присягнули, – сказал бы мастер удачно подобрать, к месту и ко времени, словцо Иван Захарович.
Кому вот только, какому знамени? – кто вдруг спросил бы.
Жалутку, – ответила бы Марфа Измайловна по-простому. – Своей утробе ненасытной.
Что уж.
Утром, до полудня, ещё два-три таких же вот охотника маячили в зените, куда-то смылись – искать удачи на других палестинах – косах речных, полях, покосах, мочажинах. Тут же, поблизости. Не за границу.
Родственники, просто товарищи ли по разбою.
– Бандиты, – говорит о них Марфа Измайловна. – Настояшшые. – Не ругаясь, не ворча, так лишь, давая знать, что видит их, следит за ними. Пусть на добычу, мол, по крайней мере тут, где всем заведует она, и не рассчитывают.
Обыденно.
– Высматривают, – вскинув голову и глянув на них вприщур из-под ладони, говорит. – Выискивают.
Конечно же – чем поживиться. Не секрет.
– Прицеливаются, – дополняет.
Око у них алчное, зоркое. И полно в деревне, во дворах да на завознях, вызывающей упитанности пернатой и иной соблазнительной живности беспечно копошится – велик выбор. Цыплята, те же – любого цапай.
У Чеславлевых вон тоже. Ещё желтые, не распятнались. Как костяные шары по зелёному сукну бильярдного стола в яланском клубе, по мураве за воротами катаются – будто подталкивает кто-то их незримым кием – расторопные.
И кроме Марфы Измайловны есть кому за ними приглядеть, конечно, – парунье. Внушительная – распушилась. И от хищника на их защиту броситься кому найдётся – петуху. Воинственный.
– Вепирь чистый, – говорит про него Захар Иванович. – В башке, заткнутой чопиком, одна картечина да две дробины брякают, и тем там тесно. Лупоглазый.
Ну, мол.
Оно и точно. Умным никак его, индейца краснопёрого, не назовёшь. Не выглядит. Ни спереди, ни с боку. Ни издали, ни изблизи. Никому проходу не даёт. Любого, быстро или медленно ступающего мимо, исподтишка готов стремительно атаковать и больно клюнуть. Кота, собаку, человека. Скотину рогатую не трогает. До той безразличен, словно той и вовсе нет на свете – ни коровы, ни бычка, ни нетели, – пройдут рядом, шпорой в их сторону не дрогнет.
Почему-то.
Станет иной раз под коровой, в дождь, допустим, стоит под ней – как под надвратицей, под деревом ли – не чуткий.
И на свинью не нападёт – та на него внимания не обращает, как на воздух. У той и кожа толстая – не повредишь, в прочном панцире ещё – после купаний грязевых; как с сундуком, бревном ли, воевать с той – бесполезно. Ну, хорошо, ума хватает хоть на это – не безнадёжный.
– И пусь дикует, хрен бы с ём, – говорит Иван Захарович. – Сам не плошай: он – на тебя, а ты яму пинка хорошего успей поддать, чтоб постыл-то. Главно, что долг свой исполнят. Исправно. Не тока землю топчет, но и куриц. Так бы давно уже горшком всё дело кончилось. И как зовут, давно забыли бы.
Дак чё, мол, правда.
Ещё кое-кто, сухо облизываясь и густо, как сварка, искря зенками, неотрывно следит за жёлтыми «шарами», словно большие деньги на одного из них поставил. Дымчатый, косматый кот. По кличке Вехотка. Этот – из-под куста смородины, что в палисаднике, – засадчик. Какой у него интерес, понятно. Не петух бы тут да не парунья, сыграл бы партию, шар-другой загнал бы в лузу – явно.
Сиди, облизывайся, зенками сверкай – не поживишься. Для петуха ты вражина первостепенный.
Паря́т коршуны, не падают. С такой-то выси. Хоть и крыльями не машут – как планёры. Воздух упругий – раскалённый-то, – поэтому.
Упругий-то, конечно, упругий, но если вдуматься и представить… Притяжение всё же. Не отменяли.
Да, чудес на свете много. А в Ялани уж особенно. На каждом шагу. Перед Первой мировой, рассказывают старики – сами, дескать, были очевидцами, – жалезная каска с золотым шишаком и австрийским одноглавым орлом-кокардой с противным свистом над селом средь бела дня мелькала, и та не падала. Скрылась потом, скользнув за горизонт, за ельником, на стороне закатной.
Вскоре и случилось…
Послушать только этих стариков – умора.
– Старый да малый, – говорит Марфа Измайловна, – дважды в жизни человек бывает глупым.
Ну – про малых-то – напрасно.
Глухо доносится от коршунов протяжный и тоскливый крик.
Пить просят – ожаждали.
Так хоть Марфа Измайловна, хоть Иван Захарович, да и любой в Ялани сказать может. И говорят. Привычно.
Вроде и воды внизу в избытке – и в Кеми, и в Бобровке, и в Куртюмке, в старицах, ну и – немного отклонись, на взмах крыла – в Ислени. Хоть запейся. И лужи не высохли ещё после недавнего ливня. А им всё: «пить» да «пить» – пои их кто-то.
– Из рогатки не достанешь, – примерился Рыжий одним зелёным, как у кота Вехотки, глазом, зажмурив другой, наполовину коричневый. – Из ружья по ним пальнуть бы, – мечтает. – Да от тятеньки потом, – как о естественном и неминуемом, – получишь пряников, – говорит Рыжий. – Жаль, зенитки нет, шарахнул бы…
Не шутит.
Хоть и не то что зенитки, пушки какой-нибудь завалящей, пулемёта-миномёта никудышного, но и рогатки нет пока у Рыжего. Была. Ещё позавчера. Один из его старших братьев, Виктор, отобрал у Рыжего и сжёг её тут вот, на летней кухне, в печке. Изрезал Рыжий на рогатку целую, запасную, камуру от велосипеда «ЗИФ», на котором Виктор ездит на работу в МТС, а вечером невест, жаних, по деревне катает. Отодрал старший брат младшего за ухо вдобавок, чтобы было тому неповадно и чтобы окна в яланских домах сохранными, а не выбитыми оставались да воробьёв в Ялани не уменьшилось. Олег участвовал – придерживал камеру, когда Вовка, высунув и закусив язык, ножницами ленты из неё нарезал. И ему, Олегу, от Виктора досталось – получил щелбан по лбу. Ощутимый.
– С самолёта бы их сбить, – говорит Рыжий.
Олег уважительно слушает да головой кивает только согласительно – гость. Да и младше друга на полтора года – значительно.
Субординасия, – Иван Захарович сказал бы. И опять бы слово кстати оказалось. Несмотря на то, что букву «ц» Иван Захарович не выговаривает, от буквы «с» её не различат.
Что та, дескать, что эта – обе, мол, сэ.
Ну что тут делать. Переучивать Ивана Захаровича поздно – ум затвердел.
По столбам, шестам и кольям вокруг рассредоточились молчаливые нынче вороны. Нахохленные. Клювы растопырены. Как прищепки.
От удушья.
Вид у них, у ворон, бестолковый. Да и у сорок – у тех тоже. Те больше прячутся – в листве берёз, черёмух, бузины – осторожные. Как с людьми, так и с погодой.
Пекло.
Не редкость в июле. Выпади снег сейчас, так удивило бы. И то не очень – Сибирь.
Воробьи от солнечных прямых лучей за оконные наличники и под стрехи забились – не чирикают. А то ведь нет от них спокою, вездесушших. Постоянно вокруг Марфы Измайловны стайкой порхают, чуть ей на плечи и на голову не садятся. Та им то хлебушка накрошит, то проса насыплет.
– Жидов привадила, – ворчит Иван Захарович. – Досаждают. Куриц кормить нечем, она расшэдрилась… транжирит. Есь ум у бабы, нет ли?
Вбежал в открытые ворота с улицы кобель. Соболь. Покрутился возле стола, вяло помахал вислым хвостом перед Марфой Измайловной, потыкался под столом в коленки Вовки и Олега, в пустое, помоешное, ведро мельком сунулся и покинул ограду, как в неё вбежал. Что к чему? Под навес не завернул, к Ивану Захаровичу не приблизился, в его сторону не глянул даже. Странно.
– Чумной, – проводив кобеля взглядом, сказал Иван Захарович. – Увечный.
Кратковременный конфликт с петухом у Соболя за воротами случился – слышно. Кто кого там победил – не известно. Оба в живых остались – ясно: Соболь вскоре залаял, может – на ворону; петух прокукарекал.
– Проснулся, – сказал Иван Захарович. – Заполошный.
– По ранишному-то, старик, ишшо четырнадцатое число сёдни, – говорит Марфа Измайловна. – По-старинному.
– Это по-ра-анишному, – говорит Иван Захарович. – Вспомнила. Уже давно по ранишному не живём.
– Дак это так.
– К чему тогда и поминать?
– Я это к слову.
– Она – к слову. Ишшо бы к умному, дак ладно.
– Ну, поперешная пила, – говорит Марфа Измайл овна. – И ни на чём, но поперёк бы. Ты ветру встречь-то тоже дуешь?
– Ага, – говорит Иван Захарович. – Так и есь. Найди такого человека, чтобы смог сказать тебе чё поперёк, чё сделать. Дуешь… Дую. И встречь, и вдогонку. Землю всю исколеси на десять раз туды-обратно, не сышшешь нигде… Мне не встречался, это точно. В Ворожейке жила, поговаривали, в позапрошлом веке, при cape Горохе, схожая старуха… Тебе-то не родня?.. Мне же попалась вот, живи с ей. Как на фронте. Фронт! Сравнил. Там легше было. Там ты хошь знал, за чё страдал. А тут-то… это…
– Растрешшался. Но. Как грухаль на току, – говорит Марфа Измайловна. – Сидел бы уж, зря не болтал, не распускал бы язычишко, а то завянет – жар такой вон.
– Не завянет. За своим следи, а об моём не беспокойся, – говорит Иван Захарович. И говорит: – Умная необнаковенно.
– Кое-кого уж не глупее.
– Потолкуй с ей.
– Не толкуй.
– Ей слово проти, она – десять. Пулемёт-то.
– Дож, наверно, будет… Чё-то мне плохо, – говорит Марфа Измайловна. – Да и парйт. Уж обязательно.
Марфа Измайловна в ограде, на летней кухне, огороженной только от неба, от дождей и солнца лёгкой тесовой крышей, подпёртой по углам четырьмя нетолстыми столбиками, возле сложенной из кирпича и побелённой печки хлопочет. В ситцевом цветастом фартуке, в белом платке, из-под которого выглядывает лист репейный.
От зною.
– Чтобы голову не напекло.
Канешна.
Отец Олега, Николай Павлович Истомин, живущий по соседству, друг Захара Ивановича, отца Рыжего и сына Ивана Захаровича, говорит о Марфе Измайловне: «Бела, высока, красива». Другие в Ялани говорят о ней: «Крупная женщина».
Всё это правда. Ну а добавить если что, так то, что: добрая, – и мало кто не согласится с этим.
Слывёт.
– Ей чё-то, видите ли, плохо… Когда-то было будто хорошо. Извеку. Всё тока стонет. Саму кувалдой не убьёшь. Трактором не свалишь.
Иван Захарович сидит на объёмной, метра два в обхвате, не облупившейся от коры листвяжной чурке, в тенёчке. Ремонтирует сломанные литовки и грабли. Повесит их после на слегу тут же, под навесом, чтобы не размокали от дождей и на солнце не рассыхались. Нынче ещё понадобятся, следующего ли уже сезона ждать будут.
Про Ивана Захаровича Николай Павлович Истомин, как о покойнике, ничего не говорит. А другие в Ялани говорят о нём: «Раньше, по молодости, буйный был, шабутной, теперь маленько успокоился, угомонился».
Дак и пора бы.
Натерпелась, – говорят о Марфе Измайловне, намекая на такого, шабутного, мужа.
Как-то прожили.
Вовка, самый младший внук Ивана Захаровича и Марфы Измайловны, в новой синей в белую полоску рубахе и вылинявших от частых стирок когда-то чёрных сатиновых шароварах, и Олег, одетый точно так же, расположились смирно за столом, что стоит на мураве рядом с летней кухней. Вовка, он же Рыжий. Потому что рыжий от природы. Ещё и Чеса. Потому что Чеславлев. Но так его, Чесой, редко называют друзья и товарищи. Отец Олега, Николай Павлович, говорит о Рыжем: «Красный, как собака». Всё, что красное, у Николая Павловича красное, как собака. Олег, он же Чёрный. Потому что смуглый, и загорает ещё как голенишше. Ещё и Истома. Потому что Истомин. Вредные на язык односельчане дразнят его Цыганёнком, а уж совсем отвязанные — Чернопопым. Ну, хоть как называй, в печку только не суй – так говорится. Олегу от этого ни жарко и ни холодно, знает, что – русский, и зимой чуть и отбеливается.
Сидят они, Олег и Вовка, рядком на деревянной скамейке, застеленной ярким самотканым половиком, дорожкой, болтая ногами, обутыми в одинаковые и равно изношенные сандали. Ждут, когда бабушка Рыжего, Марфа Измайловна, достряпает оладьи из пшанишной муки и поставит их на стол, на котором уже стоит крынка с томлёным в русской печи молоком и тарелка с выкаченным на днях мёдом с шишкарника и жёлтого цветка.
– Дак он, шельмец, когда, какова, баба, дни рождения?
– Двадцать второго. В ночь. В первом часу. А именины, день ангела, тока сёдни. Двадцать восьмого.
– Ох, ёлки-палки, время-то бежит. Как от кого-то… Вчерась как будто тока вылупился, какушонок.
– Какушонок-то пошто? Нормальный… Владимир. Святой.
– Он же в честь Ленина!
– Какого Ленина… Опомнись. Ленин же не святой, а красный депутат. Ишшо и главный. Мы же яво, месячного, с матерью твоёй возили в город, там крестили. У Лукерьи.
– Делать вам больше было неча… Нашли кого возить. Они возили. Гамно такое – и возить. Лукерье тоже делать было неча.
Недалеко от Ивана Захаровича, в вырытой ею в сухой земле лежанке-яме, распласталась грузная свинья, от земли почти не отличимая. Ресницы белые лишь выделяются. Глаза закрыты. Рябая курица, то запрыгивая на свинью, то соскакивая с неё, клюёт на ней мух. Свинья её не прогоняет. Свободным ухом помахивает, хвостом кручёным пошевеливает. От удовольствия, наверное. Чтобы от горя – не похоже.
Мечутся по ограде слепни, слепцы, по-ялански, и пауты – овод. Залетают и под навес, свинье и Ивану Захаровичу докучают. Мошкй и комаров пока нет – жарко, для них не климат, в траве спасаются, дожидаясь вечерней прохлады.
– Сарь, ли чё ли? – спрашивает Иван Захарович, не отрываясь глазами от заделья. – Владимир твой?
– Бытто не знашь.
– Знал бы, не спрашивал.
– Мой – мнук, а этот – князь, – отвечает Марфа Захаровна. – Великий.
– Одна язва: что сарь, что князь, великий, не великий… угнетатели.
– Красно Солнышко. И он как солнце красное родился, Вовка-то.
– Ага. Как солнце… Сказал бы я как чё, да уж не стану – свинья проснётся.
Сердитый со вчерашнего дня Иван Захарович, не в духе. И есть с чего, ну, то есть было. Молчал всё, мрачным, как власяница, пребывал. Заговорил недавно, с час, может, назад. Оттаял, сдобрился.
Глянул мельком на свинью и говорит Иван Захарович:
– От идь.
Что означает это «вот ведь», не известно, что-то значительное, это ясно.
– А сколь яму, огрызку морковному, исполнилось-то нонче? – спрашивает дед Иван.
– Десять, – отвечает бабушка Марфа. – В третий класс отправится… опять.
– Я бы и близь не допускал яво до школы.
– Во втором два года проучился. Отличник.
– К тридцати годам закончит семилетку.
Внук молчит, на слова деда внешне не реагирует, тайком деду кукишку не ставит, язык ему не показывает, а дед к нему и не обращается.
Вчера утром, пока Иван Захарович торчал с нечаянной и злобной нуждой в уборной, Вовка отрезал с перемёта, приготовленного дедом на налима, все крючки. И отдал их Соболеву Лёньке, шестикласснику, в обмен на бутылку газировки и пачку сигарет «Звёздочка». Иван Захарович, чё-то вдруг, как на притчу, вспомнив, сунулся на полати, снасть проверить, и обнаружил утрату. Терпеливо дождался, когда Вовка в сопровождении Олега забежал домой горло пересохшее промочить – попить холодненького квасу.
– Вовка, – хитро, коварно, как ни в чём и не бывало, увлечённо набивая при этом трубку махоркой, говорит дед Иван, тут же вот, на чурке, и сидевший, – вынеси-ка мне газету из избы, или гумагу ли какую, лист из книжки, чё подвернётся. В бродни, чтобы скорей просохли, запихать, то отопрели. Разуваться – баушка там твоя полы намыла – не охота. А в обутке – наслендю.
И никогда, сроду, об этом не заботился – мыто, не мыто, прибрано, не прибрано, голый пол, настелены ли коврики-дорожки, в том, во что обут, через все комнаты пропрётся, грязи пуд наташшыт за собой и не поморшытса.
Вовка, ушлый-ушлый, но и тут подвоха не почувствовал. И то, что дед в кои-то веки обратился к нему, назвав по имени, а не другим каким ругательным прозвишшем, запас которых – чего бы доброго, как сказала бы Марфа Измайловна, – в памяти его неисчерпаем, Вовку не насторожило.
Попив вдоволь квасу и угостив им друга, принёс он деду газету.
– Читанная? – спрашивает Иван Захарович.
– А я почём знаю, – отвечает Вовка, подавая ему газету.
– А, не важно, – говорит Иван Захарович. – Придёт другая – прочитают. Я то, как ты, их тоже не просматриваю – пустое.
Отложив рядом с собой на чурку трубку и кисет, сметя неторопно с казацких, слободных, штанов с вылинявшими, когда-то красными, лампасами махорочные крошки, сцапал Иван Захарович неожиданно и ловко мнука за запястье, тут же перехватил за шиворот рубахи расторопно. Поднялся с чурки, встал во весь рост. Довольно покряхтывает – добыл. Нагнув, зажал съёжившегося Вовку, словно молодого барашка, между ног и, освободив руки, начал расстёгивать на себе ремень, чтобы с его врачебной помощью проучить на всю жизь и отвадить навсегда от воровства – неисправимого! – каторжника.
– Куды крючки, колодник, подевал?
Вовка, вьюном извиваясь, вывернулся и, уловчившись, укусил деда за ляжку. Тот, тяжко охнув, готовый уже к применению ремень из рук выпустил и, в коленях подломившись, ноги разжал.
Вовка и был таков. За воротами уже вместе с Олегом. И тому в ограде оставаться стало незачем. По делам неотложным подальше от дома направились. Дед за ворота – поглядеть на них – не вышел.
Так дело обстояло.
А теперь.
Поднявшись с чурки, повесил Иван Захарович на два вбитых в слегу крюка отремонтированные грабли. Красную резиновую грелку из-за поленницы достал и, сев снова на чурку, прижал грелку к щеке. На жену, состроив скорбное лицо, смотрит. Та своим занята и на него внимания не обращает.
– Ох, ох, – громко завздыхал Иван Захарович.
Результата никакого.
– Ох! Ох!.. Ох! Ох!
– Чё квохчешь? – спрашивает, шлёпая на сковородку из ложки тестом, Марфа Измайловна, наконец-то услышав.
– Я не курица, чтобы квохтать…
– Ну, чё разохался тогда?
– Зуб разболелся, – говорит Иван Захарович. – Разохался… А ей хошь чё, хошь тут помри. Вот бессердешная-то где… не знаю, прямо.
– У тебя же нет ни одного, чему там разболеться?
– Корень, баба, корень, будь он неладен.
– Корень?
– Шкворень… вот глушня-то.
Марфа Измайловна и не подозревает, но Вовка и Олег знают, что в грелке у Ивана Захаровича бражка чарёмуховая. Вовка, хоть и очень сердит на деда, но не выдаёт его пока – на более подходящий момент приберегает разоблачение.
– С Германской. С Первой, с той ишшо. Нет-нет, зараза, и заноет. В десну-то шилом бытто вдруг затычет, наскрозь, подлюга, прошибат, до мозгу, даже и скрозь тот, – говорит Иван Захарович, скривившись вовсе, сморщившись, как старый гриб, для убедительности. И говорит: – Но. Так. Как-то раз куды-то, а куды, таперича и не припомню, к реке какой-то, всей нашей сотней пеше направлямся, а австрияк уж тут как тут, и началось…
Что началось, не договаривает. Но Вовка и Олег слышали не раз уже, знают:
Победоносное сражение.
Отхлёбывает Иван Захарович, отвинтив крышку-затычку, из грелки бражки. Не впервые – капли не пролив – приноровился. Завинтил пробку, положил грелку на землю около себя, далеко её не убирая, – ещё понадобится. Лицо расправилось. Будто зуб-корень разом перестал болеть.
Вынул Иван Захарович из нагрудного кармана пеньжака двубортного трубку, прикурил её – зацавкал.
– Чёрту рыжему, – говорит, глядя в небо поверх надвратицы голубыми – такого цвета голубого нет в природе, приблизительно, – слегка затуманенными от бражки, глазами, – ишшо и день какой-то андела какова-то. Удумали. Яво бы выпороть, швырчка, как следует – весь праздник. Окусил, пёс зубастый. За сухожилие. Как не перегрыз. Обезножил бы совсем. Пока-то, слава Богу, тока храмлю. И то беда не малая, канешна. Быть бы с такой поры мне инвалидом, иждивенцем… Нестерпимо. Обошлось. Не отравился ишшо как-то – слюна-то ядовитая у этого шшанка, ничуть не сумлеваюсь… шибчей, чем у гадюки… Может, уже и отравляюсь постепенно – нутро, как в пламени, горит… уже обуглилось, поди, всё, обгорело. Ох, горе, горе, вот идь дожил.
Отвёл взгляд от неба, на Марфу Измайловну теперь рассеянно глядит, будто – задумавшись – в окошко. Трубку посасывая, продолжает:
– У нас намечена манёвра, приказ из штаба, польцо, десятин в пять-шесь, пересекам неспешно, слева нас колок – прикрыват. А оне справа тут как тут, вояки эти, австрияки… ух, жутко – строем… и молчат, как мертвецы. А мы: ура, ура! – и оттеснили… Не без потерь, канешна. Были.
С минуту помолчал и в заключение:
– Кхе!..Нудык.
– У Владимира Красно Солнышко было пять жён, – говорит Марфа Измайловна, накалывая и снимая вилкой со сковороды готовые оладьи, складывая их в большую деревянную миску. – Когда он жил ишшо, как бусурманин.
– Дак чё-то мало. Красно Солнышко. А не Луна?.. Пять. Маловато. Был бы я сарём, – говорит Иван Захарович, – или, как там яво, великим этим князем, у меня бы было десять. Не мене.
– Ага, с одной со мной не можешь справиться, уладить.
– Чё мелочиться… А самой младшей лет шашнадцать, в самом-то прыску, не зачерсвевшая… Уладить. Ну не таких бы идь набрал – покладистых. Вобше-то, да… Одной хватило за глаза и выше крыши. Эту бы как вот дотерпеть, греха бы в старосте-то не наделать.
– Терпеливец.
– Да, терпеливец. И ишшо какой, – говорит Иван Захарович. – Медали – слабо, орден заслужил.
– Шашнадцать лет. Уж не смешил бы, – говорит Марфа Измайловна. – Слюнявь вон трубку, и утешься.
– Я идь к примеру. С тобой, баба, как с подраненной вороной, разговаривать. Горазда гыркать по любому поводу. Глазишши патюковские свои вытарашшит и закаркат! Тьпу ты.
– А кто велит? Не разговаривай.
– Дак вынуждать. И мёртвого заставишь…
– Где уж.
– Пять жён, пять жён… Ну две, ну три… Ишшо куда бы. Ну идь не пять же… Ни в какие ворота не лезет. Мурин, – говорит Иван Захарович.
– Чё, дедушка Иван? – откликается Олег.
К внуку не обращается дед нарочито.
– Кино-то сёдни в клубе крутить будут?
– Будут, – говорит Олег.
– Како?
– «Александр Невский».
– О-о. Ну, это хорошо. Знатная фильма.
– Тебе-то чё? – говорит Рыжий. – Всё равно ведь не пойдёшь.
– Собаку не слышу, – говорит дед Иван.
– Оглох, – говорит Рыжий.
– Яд начал действовать.
– Ишшо ослепнешь.
– Лает где кто… или мне чудится?
– Душа с утра чё-то болит, теснится, – говорит Марфа Измайловна, протяжно вздыхая, будто утратила что драгоценное и безвозвратно. Перекрестилась. Поклон в сторону бывшей церкви сделала. В ней теперь гараж МТС. Устроили, поганцы. Ни купола, ни колокольни – снесли в сороковом году активисты. Да и остов-то её не только отсюда, из чеславлевской ограды, но и ниоткуда не виден из-за построенных вокруг неё цехов.
Во имя Сретенья Господня.
Симеон Богоприимец встретил Святое Семейство.
Ну дак канешна.
– Вижу её по памяти, стоит перед глазами наша церковушка-красавица, – иной раз с грустью и тоской в голосе скажет Марфа Измайловна. – И звон по праздникам великим будто слышу. Всю аж внутри перебират.
Захар Иванович, если рядом находится, когда об этом говорит Марфа Измайловна, ответит непременно что-нибудь на это ей. Но тут не к месту. Самое мягкое: «Земля трясётса аж… Её перебират».
– Чё она у тебя такая больная? – спрашивает, тягуче поцавкав трубкой, Иван Захарович. – Такая хворая-то почему? Твоя душа-то.
– А кто же знат, болит, и всё тут, – отвечает Марфа Измайловна. – К Богу просится.
– Зовёт, ли чё ли?.. Всё и ноешь, – говорит Иван Захарович. – У меня она вот почему-то не болит.
– Тебе хорошо, – говорит Марфа Измайловна.
– Хорошо. Не жалуюсь. Зуб – да, – говорит Иван Захарович, потянувшись за грелкой. – Он вот никак не униматса.
– И когда зуб болит, плохо… А у тебя есть она, душа-то?
Задумался Иван Захарович, беззубым ртом зашевелил, задвигал челюстью. А потом, себе или кому-то, здесь не присутствующему:
– Когда-то вроде и была, – говорит.
– Чё-то и смолоду в тебе её не замечала. В младенчестве, значит, упал где, может, вывалилась, – говорит Марфа Измайловна.
– Может, и так, – говорит Иван Захарович.
Отвинтил крышку – приложился.
– На фронте где-то потерялась, – говорит. – Но. Не иначе. Тока так. Из гаубицы-то лупанут враги, рядом разорвётся, ухнет, баба, и не то потеряшь, не то что душа, но и кишки вывалятся.
Словно вплыла – входит в ограду, пошумев на петуха возле ворот, Татьяна Дмитриевна Билибина. В калошах, испачканных чем-то зелёным на носках, травой или навозом, в сатиновых шароварах, в коричневой юбке, в цветастой жёлтой кофте, заправленной в юбку, в отпахнутой сетке-накомарнике на голове.
– Доброго здоровья, хозяева, – говорит. Голос грудной, низкий.
– Здравствуй, здравствуй, – говорит Марфа Измайловна. – Проходи, хвастай.
– И тебе не кашлять, – говорит Иван Захарович, склоняясь и не теряя при этом равновесия, за грелкой.
Высокого роста Татьяна Дмитриевна. Шест. По-ялански – Митревна и не Билибина, а Билибиха. Прямая, не сутулая. Хоть и изробилась, в трудах с малолетства. Сухая. Как лучина. Узколицая. Нос, как с торца линейка школьная, тонкий и длинный. Рот широкой, кривой полосой, будто без губ – в печалях съедены. Глаза большие, серые. Моргает ими часто – как сигналит.
– Полола гряды – в сетке-то, мошка в траве, замучила, жгёт, как крапива. Да нечем, девка, нам хвастать, – говорит Татьяна Дмитриевна. И тут же: – Мои как уехали с утра в Межник за жердями, так их и нет… Медведь задрал.
– Да очурайся ты, Татьяна, – испугавшись будто, говорит Марфа Измайловна. Хоть и давно уже привыкла к такой чудинке Татьяны Дмитриевны, своей подружке с детства. – Побойся Бога.
Марфа Измайловна называет это чудинкой, Иван Захарович – запукой. Молчит пока он. Грелкой – трясёт её зачем-то возле уха – занят.
– Да тока так, а чё ещё-то?.. Чё им там долго было делать? – Говорит Татьяна Дмитриевна. – Нарубили – и обратно.
– Мало ли…
– На три остожья, не на десять же.
– Ягоду где, может, смотрят. Вроде малина нонче уродилась.
– Накаркать когда-нибудь, – говорит Иван Захарович, завинчивая пробку в грелку.
– Да кака там, девка, ягода… Медведь напал и, чует моё сердце, порешил… Дыщиху-то пойдёте проводить? – спрашивает Татьяна Дмитриевна.
– Пойдём, – говорит Марфа Измайловна. – А на поминки не останемся уж. Наши с покоса возвратятся – надо кормить.
– Ты за себя решай, – говорит Иван Захарович, – не надо за меня.
– Да ты как хочешь, твоё дело.
– То-то, – говорит Иван Захарович. – Без меня меня женила.
– Успокойся, выстар.
– Не командуй, деушка.
– Крылушко от рябчика, от косача, полюшки ли, Марфа, не одолжишь? Было, где-то затерялось, – говорит Татьяна Дмтириевна. – Противень и сковороду нечем смазать. Если, конечно, есть.
– Это возьми, я уж отстряпалась, – говорит Марфа Измайловна, взяв со столика и протягивая подружке крылышко. – Не возврашшай. Полно их у меня.
– Ну, побежала, – взяв крылышко, говорит Татьяна Дмитриевна. – То вдруг мои заявятся, голодные.
– Как же заявятся, еслив медведь-то… – начал было Иван Захарович.
– Ты-то уж чё, тьпу на тебя, – перебивает его Марфа Измайловна.
– Дак я-то чё, сама она с запукой…
Ушла Татьяна Дмитриевна, не побежала, как обещала, а так, как и пришла, – степенно, плавно. С петухом опять схватилась ненадолго за оградой. Разошлись. И она молча, и он на этот раз не кукарекал.
Мужа Татьяны Дмитриевны, Билибина Степана Григорьевича, дальнего родственника и младшего товаришша по охотницкому промыслу и по хмельным забавам Ивана Захаровича, призвали на фронт в июне сорок второго, а в июле того же года погиб он под Ленинградом. Там где-то и лежит в сырой чужой земельке под валуном. Двух сыновей и дочь одна вырастила, не доедала. Взрослые уже. Сыновья живут в Ялани. Выучились. Механизаторами в МТС работают. В почёте. А дочь замуж вышла и уехала на Украину. Пишет оттуда: хорошо всё, тепло, сытно, и комаров нет. Рассказывают про Татьяну Дмитриевну, на покос рано утром примчится, край сетки или конец платка закусит и, не выпуская его изо рта, косит до вечера без отдыха, прервавшись только на минутный обед. Обед – бутылка молока, головка лука, огурец, солёный или свежий, да ломоть ржаного хлеба.
Губы-то, не поэтому ли их изжевала?
– Беги, беги, мила моя, – уже не Татьяне Дмитриевне, та её не слышит, а сама себе говорит Марфа Измайловна, но всё же к той, конечно, обращаясь. И говорит: – Кого мы провожам до кладбишша, тот нас будет встречать на том свете.
– Ага, – говорит Иван Захарович. – Обязательно. Встретят, чтобы до котла или сковороды проводить да в костёр под котлом или под сковородой дровишек подбросить. Встретят, встретят, не заботься.
– Зерно не боится лечь в землю, – говорит Марфа Измайловна, не слыша будто мужа. – И мы не должны бояться – взойдём.
Взяла с небольшого столика, что на летней кухне, деревянную глубокую чашку, полную, с горкой, горячих оладий, идёт к столу, за которым сидят именинник Вовка и его друг Олег, ожидающие. Чашку поставила на стол, налила в глиняные, коричнево-зелёные, обливные, местного производства, кружки томлёного молока, с золотисто-коричневой пенкой. И говорит:
– Угошшайтесь, голуби мои. С мёдом. Досыта. Не аканомьте. С именинами, родимый. С днём ангела тебя, Владимир Красно моё Солнышко. Дуйте на них, ишшо горячие, не обожгитесь.
Пошла в амбар, вынесла оттуда литровую стеклянную банку со сметаной, на стол её поставила.
– Хотите – с мёдом, а хотите – со сметаной, – зацепив чистой ложкой из банки сметаны, положила её вместе с ложкой на белое блюдце с синим ободком – не растекается, густая.
Села сама за стол, напротив, на другую скамейку, смотрит ласково на Вовку и Олега. И говорит, подолом фартука вытирая набежавшие на глаза слёзы:
– Счастливые. А вот у Ад ама и Евы не было детства.
– И мёду, баушка, они не ели? – спрашивает Вовка.
– Ну, мёд-то, – отвечает бабушка, – они, может, и ели. Ели, наверно, раз в Раю. Мёд да амброзия – еда-то. Питались. Голодом Бог их Отец не морил – Создатель.
Оглядывается Марфа Измайловна на мужа и спрашивает:
– А ты-то будешь есть оладьи? Пока не остыли. Или чурку сторожить останешься?
– Нет, – говорит Иван Захарович, уставившись на свинью. – Не заслужил, не удостоился. Лутше свинье вон предложи, она тебе дороже.
– Ну, покуражься, покуражься. Как малый.
– Какая разница, с чего мне помереть, – стуча трубкой по чурке, чтобы пепел из неё, из трубки, выбить, с отчаянием в голосе говорит Иван Захарович, – от своёва бывшего зуба, от яда бешеного или… оно от голоду, канешна, прошше и вернее… Не рай мне тут, а ад кромешный. Одни кусают старика, как огурец какой, как репу ли пареную, другие… да-а-а… или обидеть норовят, или пеняют чем, или вобше не замечают. Горе. В приюте лутше.
Слышно, поёт за воротами кто-то красиво.
Знамо, кто.
В Ялани всякому известен этот голос, ни с каким другим никто его не спутает.
Печку письмами топила, Не подбрасывая дров. Всё смотрела, как сгорала Моя первая любовь.– Во-о, – говорит Марфа Измайловна, – зазноба твоя пожаловала, репа пареная. Давно не было. Вставай, иди, встречай и посалуйся.
Появляется в открытых воротцах, как на картине в деревянной рамке, на фоне улицы и муравы, Минодора Сергеевна Безызвестных. Кланяется низко, чуть не до земли, одну руку прижав к сердцу, другой махнув возле своих ног, обутых в новые, недавно сшитые черки, словно их от пыли обметая, и говорит:
– Мир вашему дому, Господь с вами, кого вижу.
– Ограде, – смеётся Иван Захарович, с обмякшей, совсем уже плоской грелкой на голове – как в кепке. Затычка-пробка возле глаза правого его болтается.
– Что ограде? – спрашивает, весело улыбаясь, Минодора Сергеевна. – Какой ограде?
– Мир ограде, говорю, – отодвигая трубкой мешающую ему смотреть пробку, поясняет Иван Захарович. – Не дома, не в избе. Где мы находимся? В ограде. А ты – дому…
– Мир и ограде, – говорит Минодора Сергеевна. И говорит: – Нечем дохнуть, жарища вон какая, а ты плешину, темя своё греешь. Замёрзло?
– Наоборот, остужаю – разгорячилось.
– Мозги околеют, – говорит Минодора Сергеевна. – Побереги.
– Были бы они, – говорит Марфа Измайловна.
Иван Захарович хихикает. Положил ногу на ногу – укушенную на здоровую. Сидит. Здоровой покачивает.
То ли он, Иван Захарович, в парнях, за Минодорой Сергеевной ухлястывал настырно, то ли, потеряв совсем голову, бегала за ём, как угорелая, она, в девках. До сих пор говорят об этом люди. Несогласованно. Кому как на память взбредёт. Та же Марфа Измайловна – то так припомнит, то иначе – по настроению-расположению. Но Вовке и Олегу это не интересно – кто там, при царском-то ещё режиме, за кем ухлястывал и бегал. Да и как есть сейчас, они такими были и тогда, наверное, – не молодыми. Смешно глядеть на них, их слушать, старорежимных.
Да уж.
– Они нам теперь и ни к чему, – говорит Минодора Сергеевна. – Мозги-то. Помеха. Было бы здоровье.
– Не за большим, – говорит Марфа Измайловна. – Где его прикупить, здоровье это? Где бы продавалось.
– У меня, – говорит Иван Захарович. – Отдам тебе за чё-нибудь, чё булькат. Обменяюсь.
– Сиди уж, – говорит Марфа Измайловна. – Распетушился.
Скорчил Иван Захарович Марфе Измайловне физиономию.
– Господи, – говорит Марфа Измайловна, – избавь меня от видения злых духов, рож их злых. Помилуй, Господи. От этого… и при мытарствах. Таким вот и останешься – кривишься.
Прошла Минодора Сергеевна к столу. Будто сложный танец, как пчела, исполнила. Черками, дёгтем смазанными, по мураве прожужжала. Стоит теперь, на мальчишек умиленно смотрит – как соскучилась. То к одному плечу голову склонит, то к другому – не налюбуется.
– Приятного, казаки, завтрака, – говорит.
– Спасибо, – отвечают одновременно и тут же, хоть и с набитым ртом, казаки.
– Сил набирайтесь, – говорит Минодора Сергеевна. – Пригодятся – день-то носиться по деревне – не шутка.
– Присаживайся, – говорит Марфа Измайловна, вставая со скамейки.
– А ты-то чё вдруг соскочила?
– Суп на печи вон, не уплыл бы. Чай будешь или…
– Или, – говорит Минодора Сергеевна. – Есть если чё, маленько где припасено, да и не жалко.
– Было, – говорит Марфа Измайловна. – Разве кто высосал… у нас имеется кому, хошь закопай, где спрячь, везде отышшут.
Капли, наверное, за жизнь не выпила, сама-то она, Марфа Измайловна, язык вином не окропила.
– К Духову дню, – говорит, – канун ставила, к Пятидесятнице. Чё-то ишшо там оставалось.
Пошла опять в амбар. Вышла вскоре оттуда с небольшой, запотевшей крынкой. Несёт её бережно, стараясь не расплескать. Смотрит на Ивана Захаровича отчего-то с подозрением, но ничего ему не говорит.
Захар Иванович свинью глазами изучает – не оторвётся.
Свинья хвостом шевелит, как приманкой. Довольно хрюкает. Курица по ней топчется, в ухо ей теперь косо уставилась – заметила там что-то, скорей всего, кого-то – муху, запутавшуюся в ушной щетине. Клюнула.
– Склевала, – говорит Иван Захарович. – Поганка.
– Может, и не стала бы, да в горле пересохло, – говорит Минодора Сергеевна – как правду.
– Сушь такая, – говорит Марфа Измайловна.
– Не откажусь, – говорит Минодора Сергеевна. – Отведаю.
– Кхе-кхе, – говорит Иван Захарович. И этим ограничился.
– Мой, покойный, царство ему небесное, земля ему пухом, невинно убиенный, – говорит Минодора Сергеевна, – бутылочку, бывало, беленького или красенького, или кружечку с такой вот сладостью увидит, сразу и чести, и ума, и совести лишался – будто и не было их у него.
– А будто были, – пожав плечами, говорит Иван Захарович. Сам себе. Или свинье, или поленнице, на которой взгляд уже задумчиво рассеял.
– Язычишко-то попридержи, – говорит Марфа Измайловна.
– Она не слышит. Он – тем боле, с того света, – будто не произносит вслух, а рассуждает мысленно Иван Захарович.
– Откуда знашь?
– Оттуда, баба. Знаю.
– До хмельного был охочий. Как уж зарядит, так зарядит, неделю мог не есть, лишь пить, умом не проясняться. Но дело делал, дело не бросал, как умудрялся, – словно всем, здесь присутствующим, сообщает Минодора Сергеевна, а спрашивает только у Марфы Измайловны: – Чё ты?.. Мне, не мне… или послышалось?
– Старику вон, – говорит Марфа Измайловна.
– А он не мне? – Спрашивает Минодора Сергеевна.
– Да чё-то там, сидит, под нос себе бормочет.
– Надо мной, наверно, надсмехатса.
– Сутки, вторые, всё ему неладно. Не выспался, выстар.
– С кем не бывает, – говорит Минодора Сергеевна. – Всему мера. Я вот тоже сама не своя, как не досплю-то. Куда деваться, жизнь такая. Не деревья. Те стоя бодрствуют и спят, на всё им времени хватает.
Овдовела недавно Минодора Сергеевна. Теперь вот безостановочно горюет. Бывшего её мужа Алексея Павловича Безызвестных убили в тайге. Из-за золота, может. Мыл, поговаривают. В Смолокуренном ручье, на котором раньше заимка его располагалась, пока семейство их не раскулачили. Может, за давний долг картёжный. Так ли чем перед кем встречным провинился внезапно. Мало ли. Взрывной был Алексей Павлович, вспыхчивый, как порох, горячий. Обнаружил его колхозный пчеловод Арынин Александр, дядя Саша, отец Васьки Арынина, соседа и приятеля Олега и Вовки. Лежал в Сухом логу с проломленной головой, по свидетельству пчеловода, уже остывший. Погрузил на телегу, доставил убитого в Ялань, подвёз его к дому, где жил до этого Алексей Павлович, к дому, который стал уже ненадобен убитому, излишен.
Поставила Марфа Измайловна перед гостьей крынку и пустую кружку, сама отправилась на летнюю кухню. Сняла с кастрюли крышку, пробует суп, зачерпнув деревянным черпаком – поварёнкой.
– Ишшо картошка твердовата.
– На черёмухе. Превкусная, – говорит Минодора Сергеевна, отхлебнув из кружки и причмокивая. – Отменная. Прохладненькая, как лягуша. Ангелом прокатилась. В жару такую – одна радость.
На скамейке – как приплясывает. Узел платка поправила под подбородком, затянула.
– Как пропущу, потом добавлю, – говорит, – так незнакомый кто-то во мне лаяться матерно начинает. Сызмала.
– Ты уж повоздержись… тут рабятишки, – говорит Марфа Измайловна.
– Дак это у меня внутри, снаружи не слыхать. Под сердцем.
– Лихорадка, – говорит Иван Захарович, стряхнув с головы на землю грелку. Шлёпнулась та глухо. Будто жаба – спрыгнула и приземлилась.
Марфа Измайловна подошла, подсела, руки о фартук вытирая, к Минодоре Сергеевне. Опустилась и устроилась так, чтобы скамейка вместе с Минодорой Сергеевной вверх другим концом не подлетела и не опрокинулась. Минодора Сергеевна маленькая, с птичку, лёгкая, каклепясток. Сказала бы она, Минодора Сергеевна, не будь тут Вовки и Олега: «Я, Марфа, с одну твою титьку». Не один раз говорила, при случае. Но случай сейчас не тот – она ещё не шибко распоясалась.
– Чёу вас там, в Линьковом краю, нового? – спрашивает Марфа Измайловна. – Давно там не бывала. Как Вовку в ясли не стали водить. С тех пор.
– А чё у нас там нового? Всё старенькое, – отвечает Минодора Сергеевна. И говорит: – Дыщиха вот нашу жизнь покинула, поди, уж знаете.
– Знаем, – говорит Марфа Измайловна. – Долго болела.
– Сегодня покинет и край… Отмучилась, – говорит Минодора Сергеевна. Перехватив кружку в левую руку, перекрестилась. – Осподи.
– Отмучилась, – соглашается Марфа Измайловна, осенив себя крестом. – Скоро воздаст Владыке поклонение.
– Высохла, – говорит Минодора Сергеевна. – Как долгоножка. Одни мощи.
– Болезь не красит, – говорит Марфа Измайловна.
– Смерть – уж подавно.
– Раскудахтались, – говорит Иван Захарович.
– Пойду, к поминкам помогать готовиться, – говорит Минодора Сергеевна, ненадолго приложившись к кружке и обмахнув скоро концом платка губы. – Просили. Там молодые всё, кутью не знают, как сварить. До четырёх часов успею.
– Лет-то сколь ей было? – спрашивает Иван Захарович.
– Моя одногодка, – говорит Минодора Сергеевна. – Я февральская, она апрельская. И замуж выпорхнули одним летом, на Купалу.
– Ишшо не старая, – говорит Иван Захарович.
– Кака же старая, – соглашаются Марфа Измайловна и Минодора Сергеевна.
Ага, не старая.
Олег и Вовка только пальцем у виска не покрутили – ушки на макушке, во все мелочи вникают.
Допила Минодора Сергеевна, всё больше и решительнее нахваливая бражку, в пустую крынку заглянула, кружку, опрокинув, на блюдце поставила.
– Ну, пора. Пойду, – говорит. – Одолела.
– Да посиди, – говорит Марфа Измайловна. – Куда торопиться, успешь, – ещё немного одолеть не предлагает.
– Да нет уж. Спасибо. Сколько ни сиди, идти когда-то надо. И так побыла. Ждут, – говорит Минодора Сергеевна. – А то подведу. Раз обещала.
Поднялась со скамейки.
– Ну, до свиданья, – говорит, – ребятишки.
Улыбается. Слегка мотается – как водоросль в плёсе.
– До свиданья, баушка Минодора, – отвечают ребятишки.
Смеются.
– Смейтесь, смейтесь… Вон подгорелая оладья – съешьте, – говорит баушка Минодора. – Медведя не будете бояться.
– А ты? – говорит Рыжий.
– Мне его и так не страшно, – говорит Минодора Сергеевна. – Сейчас – так вовсе. Ну а вообще-то, ходи он, топтолапый, своей дорогой, я пойду своей.
Пошла. И опять будто танцуя. Но на этот раз как будто ветер сильный ей мешает танцевать, то с одного боку её подтолкнёт, то с другого, то в грудь упрётся – не пускает, то в спину ткнёт её, игривый.
– Ну дык, – говорит Иван Захарович. – Ясно.
– С Богом, – говорит Марфа Измайловна.
Запела Минодора Сергеевна. Там, за воротами уже:
Я по городу гуляла, Песни распевала. А что кунку потеряла, После уж узнала.Захар Иванович молча слушает, бездвижно – как стихию. Марфа Измайловна головой покачала – что осудила-то, так вряд ли, посочувствовала, помолилась. Вовка с Олегом понимающе преглянулись – осведомлены.
Не маленькие.
– Сидят, сидят, да и ходят, – говорит Марфа Измайловна. – Курица где-то ростится, снеслась, проверить надо, яйца собрать, а то сороки, пакости, расташшут.
Только, охая да ойкая – стар ось, не радось, – и упираясь рукой в скамейку, поднялась, пошла было. Врывается в ограду с улицы Татьяна Дмитриевна, кого-то ругая.
Коробок спичек, занимала, принесла.
– И чё ты думать, моих всё так, девка, и нет… Взбрендило им, – с разбегу говорит, – лесину свалить, на столбы, на поперечину ли, она упала и обоих задавила.
– Тьпу ты, – говорит Иван Захарович. Трубку сердито засосал.
– Окстись, Татьяна, чё городишь, – говорит Марфа Измайловна.
– Назад поехали ли, – говорит Татьяна Дмитриевна, – Серко понёс, сдрешной, зашиб их насмерть.
– Чё уж попало-то не сочиняй, к чему такое, – очурывает её Марфа Измайловна. – Не кликай худо.
– Уже не знаю, чё гадать, – говорит Татьяна Дмитриевна.
– Не гадай, – говорит Марфа Измайловна. – Не гневи Бога.
– В Пяту-гору стали подниматься, там крутизна, в Поповом ли логу…
– Угомонись.
– Ну, побежала, – говорит Татьяна Дмитриевна. – Может, уж дома. Хватятся, матери нет. Где по заулку проскочили, на глаза мне не попались, я к вам прямком тут, сократила, по забегаловке…
– Время ишшо кого, – говорит Марфа Измайловна. – Полдень. К обеду-то вернутся.
– Вот вам спички, – говорит Татьяна Дмитриевна. – Задолжала, – положила коробок на стол. – Ну, побежалая.
– Беги, – говорит Марфа Измайловна.
– Не быстро тока, не спеши. Последнего ума, запнёшься-то, лишишься, – говорит Иван Захарович. Встал с чурки. Грелку за поленницу сунул, пока жена на гостью отвлеклась. Присел на место. Как и не вставал.
Сидит. Думат. О многом.
Гостья, не прощаясь, убежала.
А через минуту, может, через две влетел в ограду петух, замахал крыльями, закукарекал – чего-то будто испугался, от кого-то будто получил пряников. Не удивительно. Ноги у Татьяны Дмитриевны длинные – достигнут далеко.
– Ишшо один, – говорит Иван Захарович. – Петя.
Насытились Олег и Вовка. Сидят, болтают ногами и языками – о разном, в том числе и о рогатке, которая так необходима, о воробьях, которые надоели, о рыбалке, о Кубе, о Гагарине и о Космосе.
Ну и конечно – о войне.
С теми, кто сунется. Но, пусть попробуют. Пусть только рыпнутся. Ага.С американцами, понятно, первым делом.
Обнаглели.
Дед Иван, притулившись к поленнице, дремлет. Подрагивает. Встрепенулся вдруг, кругом оглядываясь, говорит:
– Вылежатся, гамнюки, солнце уже на полдне, а в их избе тока дым из трубы потянулся, тока лошадь ишшо запрягают. Потом во власть все – мать честная!
Приснилось, наверное, что-то.
– Тьпуты.
Свинья поднялась, встряхнулась. Тоже осмотрелась. Направилась вразвалочку вон из ограды.
– Давай, давай, – говорит ей вслед Иван Захарович. – Надоела, воздух портит.
Скрылась свинья за воротами, а в воротах возникла Настя.
– Здрасте!
Настя Цоканова. Цоканиха. Настя-Кобыла.
В китайских тапочках. В платье голубом, в белый цветочек. Чулки, перетянутые белой, ослабевшей, наверное, резинкой, сползли гармошкой на тапочки. Простоволосая. Коса у Насти толстая, седая, длинная, как шелепу га.
– Здравствуй, здравствуй, – говорит Марфа Измайловна, низко склонившись и вороша клюкой в печке. Выпрямилась. Смотрит приветливо на гостью. – Проходи к столу, поешь оладий с мёдом. От именин Володькиных остались.
Прошла Настя к столу, села на скамейку, вплотную к Олегу и Вовке.
– Здорово, – говорит, глядя на Олега. – Забываю, как тебя зовут. Здорово, Захар, – говорит, переведя взгляд на Вовку.
Всегда путает Вовку с его отцом Захаром Ивановичем, своим ровесником. Вовка её уже не поправляет – надоело.
– Ешь, – ей только говорит.
Берёт Настя оладью в руку, на ладони её рассматривает – как невидаль. Поднесла к глазам, смотрит через неё на солнце. Надкусила, положила под блюдце.
– Зима, – говорит. – Солнце потускнело.
– Ага, – говорит Рыжий. – Нос не отморозь.
Больше никто на это ничего ей не ответил.
Ткнула Настя под бок Вовку локтем.
Вовка тем же ей ответил.
Заурядно.
Было у Насти три сына. Двое, двойняшки, на флоте служили. Где-то на Чёрном море. В одну ночь погибли. Третьего тут, на песке кемском, зарезали – с дурным народишком связался. Водку пили и в карты играли. И у неё, у Цоканихи, с головой после этого что-то неладное сделалось, так до сих пор и не поправилось. Дочь у неё есть. На складах в яланском рыбкоопе работает. Когда уходит на работу, закрывает мать дома на замок. Та как-то умудряется открыть окно и выбраться на улицу. Играет с мальчишками, с девчонками водиться не любит, в казаков-разбойников, в прятки, лапту, в другое ли что, даже в футбол – только мешает. Ещё и вредная бывает, хоть колоти её. Схватит мяч и понесётся, как кобыла, с ним куда глаза глядят. Догнать её непросто. Но никто из мальчишек и пальцем её не трогает. А вот убежать, скрыться от неё пытаются. Иной раз получается. Мечется тогда по всей Ялани и окрест Настя, ищет их. Пока дочь не отловит и не уведёт её домой – уговорами.
– Играть, Захар, пойдём? – говорит Настя. – Или купаться?
– Мы пойдём, – говорит Рыжий. – А тебе-то чё.
– И я пойду, – говорит Настя. – У меня десять копеек есть, – хлопает себя ладонью по груди. – Новые.
Пореформенные.
– Попей чаю, – предлагает ей Марфа Измайловна. – Может, молока тебе налить?
– Я досыта воды в Куртюмке напилась, – отказывается Настя. – Где гуси плавают, в запруде.
– Настя, – обращается к ней Иван Захарович.
Оборачивается та к нему.
– Какая погода завтра будет?
– Будет, – отвечает Настя.
– Ну дак, – говорит Иван Захарович. Раскурил трубку. В яму, в которой свинья лежала, стал смотреть.
– Душа чё-то не на месте, – говорит Марфа Измайловна.
– Когда она у тебя была на месте? – не отрываясь взглядом от ямы-лежанки, говорит сквозь трубку Иван Захарович. – Всё и ноет.
– Пойдём, – говорит Вовка, подмигивая Олегу. – В уборную сходим.
– Пойдём, – говорит Олег.
Встали. Пошли.
– Спасибо, баба.
– Спасибо, бабушка Марфа.
– На здоровье, милые. Направились куда-то?
– В уборную.
– Руки потом помойте, – говорит Марфа Измайловна. – С мылом.
– Помоем.
Пошли.
Не тут-то было – Настя увязалась.
Рванули Вовка и Олег. Через огородник с мелочью, в большой огород, в котором растёт зацветающая уже картошка. Перемахнули через изгородь. Побежали на Сушихин угор. На поляну навзничь упали. Дух переводят. Настя тут же, повалилась рядом. На живот. Сучит ногами.
На небо белых облаков уже нагнало, пока редких, – неслышно наползли. Одно облако похоже на собаку.
– Я его в прошлом годе уже видел, – говорит Рыжий. – Оно уже тут было.
– Было, – соглашается Олег. – Я его тоже видел.
– И я видела, – не глядя на небо, говорит Настя.
Хоть облако уже и перестало походить на собаку, просто на облако теперь походит – не важно.
– Чёрный, может, к Вовке Балахнину сходим, – предлагает Рыжий.
– Он с Юркой и Любкой нянчится, – говорит Олег.
Брат и сестра у друга их Вовки Балахнина в один день родились, в апреле, когда Гагарин летал в космос.
– Порванную камуру надо раздобыть, – говорит Вовка, сомкнув под головой в замок руки и глядя на коршунов. – Рогатки сделать. От полуторки – тугая – не растянешь.
– Надо, – говорит Олег.
– Не надо, – говорит Настя.
– Никто тебе и не предлагает, – говорит Рыжий.
– Из рогатки глаз можно корове выбить, – говорит Настя. – И всем.
– Умолкни, – говорит Рыжий. И говорит: – В школу скоро. Неохота.
– Ещё не скоро, – говорит Чёрный. – А мне охота.
– Я тоже в школу пойду, с тобой, Захар, – говорит Настя. – А с тобой, – говорит Олегу, – не пойду.
– И не ходи, – говорит Олег.
– Кто тебя туда пустит! – говорит Рыжий. – Ты же старая.
– Не старая.
– Старуха. Да ишшо какая!
Повернула Настя голову, плюнула в Рыжего. Рыжий повернул голову, плюнул в Настю.
– Хорошо, что у нас советская власть, – говорит Вовка.
– Хорошо, – говорит Олег.
– Хорошо, – говорит Настя.
– И на Кубе тоже, – говорит Рыжий.
– Там Фидель Кастро, – говорит Олег.
Настя отмолчалась. Радио она не слушает, газет не читает.
– Во Франции бы ишшо Советскую власть установили, – говорит Вовка.
– И у немцев, – говорит Олег.
– У американцев вряд ли, – говорит Вовка. И говорит: – На деревню, чё ли, сходим?
– Пойдём, – говорит Олег.
– Пойдём, – говорит Настя.
Поднялись с поляны, пошли. Запел Рыжий. Олег и Настя подхватили:
Близится эра светлых миров, Мы пионеры – всегда будь готов!На деревне никого. Все на Кеми или Бобровке – купаются. Направились к Кеми.
Народу на песке – ступить негде. Мальчишки – на глубине, с доски в реку ныряют. Девчонки ниже чуть, в приплёске плещутся, с раздутыми, как шары, наволочками от подушек там плавают – чтобы не утонуть.
На мели-то. Раз девчонки.
Вовка и Олег разделись до трусов, ринулись с разбегу в омут. Настя, не раздеваясь, кинулась за ними.
Накупались. На берег выбрались. К костру пробились – греются. Настя – то передом к костру, то спиной к нему повернётся – платье сушит. Шкет какой-то мимо пробегал – дёрнул Настю за косу. Помчалась та за ним. Долго отсутствовала. Появилась. Как раз в тот момент, когда Вовка и Рыжий собрались от неё смыться.
– Пора мне, – Настя вдруг говорит. – Дыщиха пойдёт на кладбище.
– Понесут, а не пойдёт, – говорит Рыжий.
– Передать с ней кое-что надо, – не слушает Рыжего Настя.
– С кем? С Дышшыхой? Она же мёртвая, – говорит Рыжий. – Ты совсем, ли чё ли, глупая?
– Ты, Захар, глупый, – говорит Настя. Плюнула в Рыжего.
Рыжий ей тем же ответил.
– Скажу отцу твоёму, дяде Ване, пожалуюсь, что плюёшься.
– А тебе можно? И дядя Ваня мне не дядя Ваня, а дедушка Иван.
– И тётушке пожалуюсь, – говорит Настя.
– Да хоть зажалуйся, – говорит Вовка. – Напугала.
Настя унеслась, размахивая косой-шелепугой, швыряясь из-под тапочек песком.
Вовка и Олег вместе с другими друзьями и товарищами, собравшимися тут со всей Ялани, со всех её краёв, улиц, заулков и забегаловок, ещё раз искупались. Поиграли после на песке в футбол. Чуть не подрались с линьковскими. Городской и Линьков края – против Лугового. Помирились.
Ещё раз искупались. В глазах уж от купания рябит.
Пошли на деревню.
По пути, на Половинке, забравшись в заросли конёвника и пучки, покурили сигареты «Звёздочка». Рыжему хоть бы что, Олег – до тошноты.
Кино в клубе. Детский сеанс. В шесть часов начало. «Александр Невский». Видели. Но идти надо. Бесплатно – проберутся, путь знают.
После кино, подразнив невестами и женихами взрослых парней и девиц, собравшихся возле клуба, в ожидании взрослого сеанса и танцев, и получив от них тумаков, в прятки поиграли. В лапту. В пятнашки-догоняжки. Опять чуть не подрались. Нос кому-то и разбили. Мелочь.
Кого-то откуда-то домой покричали – протяжно, зычно.
И им, Олегу и Вовке, пора домой направляться.
Кому куда, а им в одну сторону. Дома их рядом.
Пошли.
Бредут едва-едва – ноги их не несут, уставшие.
– Хорошая у меня баушка, – говорит Рыжий.
– А дедушка? – спрашивает Олег.
– Он вредный, – говорит Рыжий. – Так-то ничё. Когда спит зубами к стенке. Зубов у него, правда, нет.
У Олега ни бабушки, ни дедушки нет. В Игарке, в ссылке, умерли.
Дымокуры там и там – от комаров. Ялань в дымке – как в тумане. В низинах – и туман. Редкий. На лавочках и на завалинках возле палисадников сидят разноцветные старухи и одноцветные старики. Ведут беседы. Бесконечные. Провожают мальчишек пытливым взглядом – знают их, глаза они им намозолили.
Проходят мальчишки мимо них – здороваются.
Возле дома Чеславлевых остановились. Договариваются о планах на завтра. День будет долгий.
В огороднике, между гряд, стоит Марфа Измайловна на коленях, сложив на груди руки, произносит:
– Господи, сохрани нам ясное разумение и бодрость сердца в старосте, укрепи телесные члены наши, да поработаем Тебе до дней последних в покаянии и вере, радости и любви, и помяни нас, когда приидешь во Царствие Твоё… Спаси и сохрани детей моих и мнуков неразумных, и младшенького моего Владимира…
– Спятила, – говорит Рыжий, еле языком своим владея. – Ну, я пошёл.
Стукнул воротами, исчез за ними.
Скоро и Олег зашёл в свою ограду.
Проснётся завтра чуть свет, поест наскоро Вовка, прибежит к дому Олега, станет в окно его кричать.
Ничего Олегу не останется делать – встанет.
Проснулась, как обычно и испокон, до рассвета ещё Ялань, потрудилась день.
Похоронила свою старожилку – Дыщихину Клавдию Анкудиновну. Помянула.
Повечеряла.
Готовится, вслед за мальчишками, ко сну отойти.
Уснёт тихо, но не так мгновенно, как мальчишки – те только голову опустят на подушку.
Никто после сон её не потревожит. Даже собаки – привыкла к их, отпугивающему зло и диких зверей, лаю.
И Ты помилуй Ялань, Господи.
Октябрь-ноябрь 2015, ПетербургБрошка, буска, ружьё, винтовка и пистолет
Памяти А. И. СИВКОВА, родившегося в Сибири, на Оби, упокоившегося в Санкт-Петербурге, на Неве; свидетельствую – замечательный был человек
Прихватить то, что плохо лежит, намертво не прибито или крепко не прикручено, труда для памяти не составляет, как ветерку – с земли увлечь пушинку, как мне моргнуть ли. Цап – и готово. Ловка на руку. Неимоверно. Я про собственную. Ваша память для меня потёмки. Присвоит легкомысленно чужое, после разбирайся. Ладно, с поличным не поймали. А если после уличат? Позор. Греха не оберёшься. Так что память моя тот ещё товарищ. Давно изведал. Дружить с ней можно? Можно. И необходимо. Надо быть только начеку всегда да тщательно отбирать и фильтровать то, что она подсовывает, предъявляет, извлекая из своих сусеков-фондов.
Например.
Еду я, навзничь развалившись в телеге на мягкой свежескошенной, пахнущей молоком и коровой, траве, по Маковскому волоку. Мальчишкой малолетним. С кем-то из взрослых, который и правит. Кто он, этот взрослый, не могу определить. Память моя его не видит, что понятно. Еду. То ли из Ялани в Маковское, то ли из Маковского в Ялань. Слева и справа еловый и пихтовый лес стоит сплошной, непроницаемой стеной. Вверху лишь узкая полоска неба – бархатно, глубоко синеет. И так от одного села как будто до другого, не редея и не прерываясь, лес вздымается. Дремучий.
Едешь и едешь, мол, видишь и видишь. Память подсунула – смотри.
Но не ездил я по Маковскому волоку, когда был мальчишкой. Заходил на него, да и то не один, а с друзьями, и недалеко, а так, чтобы село на виду оставалось. Поесть спелую, не вяжущую во рту черёмуху, мягкую ли и сладкую боярку, прихваченную осенним утренником. Ни из Ялани, ни в Ялань. Не ездил. Не ходил пешком. Старик какой-то рассказал при мне про своё детство, скорей всего, я, впечатлительный, запомнил, сжился с этим, сросся, как с прививком. Вот оно будто и моё. Теперь, куда уж денешься, моё. Не избавиться. Как пустой спичечный ненужный коробок, в котором жука или слепня зачем-то хранил, из кармана не выкинуть. Да и того яланского или маковского старика, поделившегося впечатлением, чтобы вернуть ему украденное, в живых уже, конечно, нет, – кто с меня спросит?
Всё ли, что мы имеем, наше?
Праздный вопрос.
Недавно ходил я этой, разбитой вусмерть танкетками, трелёвочниками и лесовозами, когда-то «уютной», дорогой, с пихтачами и ельниками, полными грибами, рябчиками, бурундуками и иной живностью, пушной и пернатой. Не дорога – полоса препятствий, полигон. Экстремальным автомобилистам-путешественникам такое развлечение не снилось, не мечталось. И никаких «стен». Обзор налево и направо беспрепятственный. И неба много – не «полоска». Далеко вокруг всё видно, как в степи, – до мироколицы, как старики сказали бы, как скажем мы – до горизонта. Затянет скоро вырубки осинником – быстро растущим лесным сорняком. Если и тот, пока молодой, со здоровой ещё, не трухлявой сердцевиной, не начнут валить и отправлять кругляком в соседний Китай – на столовые палочки. Много им, китайцам, надо палочек – живут нынче, по разным сообщениям, сытно. На вилки или ложки пластиковые перешли бы уже, что ли. Мы же вот – обходились как-то и обходимся без палочек, хоть и лес у нас был постоянно под рукой, под носом ли, не как в Китае. Милое дело – ложка, вилка. Есть, на худой конец, и пальцы.
А это точно моё, а не чьё-то.
Настенные часы, поскрипев внутренним механизмом и ударив один раз, «половина третьего», уныло тикают. Что им предложишь мысленно, то они послушно, сверкая своим золотистым языком-маятником, и повторяют: «тик-так», «тень – пень», «сень – день», «бьень – дзьень». Кто скучал когда-нибудь, тот, я уверен, этим занимался. Игра наша закончилась, когда я предложил часам слово «металлолом», а они два раза передразнили меня: «ме-тав-во-вом, ме-тав-во-вом». Но отсчитывать время они, думаю, продолжили исправно, несмотря на то, что я на них рассердился. «За сутки на минуту только отстают», – отец гордится. Часы когда-то он купил и привёз из города. Роскошь. Сижу я за столом, убранным после обеда, с чисто вытертой бело-голубой в клеточку клеёнкой, кое-где мною только что испачканной чернилами. Пальцем потёр – только размазал. Прикрыл пятно тетрадью. Сейчас никто не обнаружит. Когда заметят и подозревать первым делом станут меня, свалю на старших, пусть те тупо отпираются. Ни мамы – в огороде или во дворе; ни брата, ни сестры – в школе, конечно, во вторую смену. Напротив меня – отец, с очками на крупном, как у Льва Николаевича, писателя, такой же формы, носу. Читает «Известия». Газету держит в руках, зачем-то встряхивает её то и дело, будто от лишних или прочитанных уже слов освобождая, – откликается на это всякий раз газета – сухо шелестит, пугая осеннюю муху – та, сидя на стекле окна, подёргивает нервно крылышками. Глаза у отца серо-голубые – увеличены линзами очков; брови нахмурены – в мире неспокойно (из-за американцев, разумеется, и их пособников по всей планете; да и китайцы портят кровь, что-то мудрят, воду мутят, неблагодарные: «мы помогали им, построили социализм; без нашей помощи-то, где бы они были, жёлтопятые»). Очки у отца и матери одни на двоих, вместо дужек у них резинка. Читает отец, не отвлекаясь ни на что, губами при этом, как мама, не шевелит, вполголоса читаемое не проговаривает. Я, раскрыв учебник по арифметике, через основную мысль – «вот бы сейчас в руках отца газету снизу подпалить» – пытаюсь вдуматься в условия задачи: «Школьники собрали… макулатуры. Из 1 кг макулатуры на бумажной фабрике получают 700 г чистой белой бумаги, а из 30 г чистой бумаги получается одна тетрадь. Сколько тетрадей можно сделать из собранной макулатуры?» За окном, звонко шлёпая о дно перевёрнутого цинкового таза, в котором летом разводили дымокур от комаров, с карниза падают редкие, но грузные капли. Пасмурно. Ситный дождик моросит из низко плетущихся над Яланью туч. С запада, «гнилого угла», на восток – как обычно. Назад, на запад, редко возвращаются. Журавли курлычут – куда-то летят. Куда же, в тёплые края, конечно. Как раз по радио, с убавленным звуком – отец глуховат, ему радио не докучает, не мешает оно и мне, хоть и слух у меня острый, – поют песню «Летят перелётные птицы» – тихонько подпеваю: «А я остаюся с тобою, родная навеки страна!» Противно, как всегда, кричит с электрического столба ворона – околоточная. Всем уже здесь надоела. Не только мне. Сделаю уроки, выйду на улицу, возьму из тайника рогатку – успокоится; не первый год меня знает. Середина сентября. Наверное. Учимся – значит – уже не лето; снега нет – значит – ещё не зима; берёза в палисаднике не совсем ещё голая – значит – не октябрь.
День из моей жизни. По всем признакам.
А вот.
Стою я возле нашего дома, смотрю перед собой и вижу уходящую вдаль нашу улицу Луговую. Резко поворачиваюсь, надеясь, что захвачу пустоту, которая ещё не успеет заполниться другой частью улицы, голубым небом сверху и ярко-зелёной муравой по ней. Улица меня опережает – тут как будто и была, и скворечники даже не раскачиваются. Какая, удивляюсь, расторопная. Всё равно однажды, думаю, опережу. О, ну конечно, – с зеркалом. Перехитрю её. Придумал. Сам отвернусь, а в зеркало тайком стану подглядывать. Умно.
Подозреваю, случай этот не из моей жизни, не из мною прожитого дня. Уворовано где-то моим сознанием и присвоено мне моей памятью. Из какой-то, может, книжки. Или, опять же, из рассказанного при мне кем-то. Говорил же, что ловка она, моя память, на руку. Неимоверно.
Ну а это точно из моей, а не из чьей-то жизни.
Брошка
Тут вот октябрь. Первая декада. И та в начале. В это время белят в избах, после копоти и пыли, накопившейся за лето. Приближаясь к празднику, к Покрову. И к зиме. И та не за кряжем. Глядит пристально, приглядывается, мигая северным сиянием, из Заполярья в нашу сторону-уже нацелилась, грозит.
Угрозы не пустые. Но ведь и мы не лыком шиты. Сибиряки. Как без особого вреда пережить её, лютую, научились. Иногда она и в радость.
«Зима!.. Крестьянин, торжествуя…»
Иногда, конечно… Всякое бывает. Насмерть замёрзнет кто-нибудь – расслабившись. Нельзя.
Деревья лиственные оголились. Наряда нет на них – шуметь им нечем. Веткой о ветку изредка лишь брякнут при порыве ветра, в корнях своих мышей-полёвок потревожив, и затаятся, словно уснут или задумаются. В чувство когда ещё весна их приведёт. Когда-то будет. Птицам местным в кронах их уже от ястреба-тетеревятника не спрятаться. И для совы добыча лёгкая – смахнёт, когтями уцепив, как ветром сдует, сонную, загубит. А что поделаешь – цепочка пищевая. Кто-то сковал – не мы, не мы и раскуём. В пихтаче густом и ночевать теперь приходится им, птицам, – в чаще, не как на сцене, всё же. Кое-где ещё желтеют бледно лиственницы-великаны, глухари пока, кормясь на них, не обклевали; краснотал сиреневыми пятнами обозначился по берегам Бобровки и Кеми. Зеленеет хвойный лес да на покосах сочная отава. Всех и красок. Отгремела пора золотая.
«Отговорила милым языком».
Как где, не знаю, а у нас – предзимье.
Снег реденько с утра пробрасывал. Но жил он, хилый первенец, только в полёте между не остывшей ещё после бабьего лета землёй и мрачной тёмно-синей тучей, клоком сорвавшейся с кемского плёса, тут же и напоровшейся на островерхий, как чеснок острожный, ельник. Стерни едва коснувшись, тотчас же и таял. И жил и нЕ жил, что о нём сказать. И в сентябре наваливал, сутки лежал – сошёл. Недолго ждать осталось – скоро обильно наметёт и всё вокруг законопатит. На восемь месяцев, не меньше. Зимой не сходит. Не бывало. Растай зимой он, сильно удивил бы.
Пока сухо – ни дождя, ни снега. Ни слякоти. Тепло. Старики такое «распоряжение небесной канцелярии» одобряют. Дети стосковались по санкам и лыжам, а тут для них – ни то ни сё – ждут – не дождутся.
Прихватив с собой винтовку, «тозовку», и по пути стреляя из неё влёт по сорокам и воронам, ни одной, слава Богу, не уничтожив, отправились мы с братом в ближнее болото. Чтобы нарвать там скоренько травы на кисти для побелки – мама, уже извёстку с синькой разведя, послала нас – и назад вернуться вовремя: в шесть часов вечера кино для ребятни обычно в клубе начиналось. В восемь или в девять, то есть в двадцать или в двадцать один – «младше шестнадцати не допускаются». Да очень надо. А если надо было нам – кино «военное» или «шпионское», – хватало способов, и пробирались. Смотрели, радуясь, пока директор школы с двумя или тремя дружинниками, в перерыве между частями, с рейдом по залу не нагрянет – за удовольствие считал нам настроение испортить. В зале и свет включали специально. Ну, понятно.
Даже припоминаю:
«Часы остановились в полночь» – это кино в тот день крутили в клубе. Не пропустишь.
Только по сограм, среди ерника да кочкарника, и растёт трава такая, годная на кисти. Используется она ещё и на вехотки, а это то, на что в России говорят: мочало. Как называется, не помню. Не то волосец, не то ещё как-то, придумывать не стану, то есть врать. Трава и трава. Растёт на болотах, как скажем мы, как скажут старики – на мочажинах.
Пришли. Покричали болоту-мочажине непристойное. То тем же нам, как малое дитя, поотзывалось. Ну не смешно ли, не забавно? Как живое. Но не разумное, а глупое. Повеселились. Я и про брата покричал, тот мне ладонью шлёпнул по затылку. Эхо ему за меня отомстило.
Патроны, что россыпью ещё оставались у нас по карманам, метя по шишкам карликовых сосен, разрядили, после и делом занялись. Мешок травой набили под завязку – вдвоём-то, долго ли. И меньше бы хватило, – про запас. Позволяет время, терпит, принялись клюквой угощаться. Вкусная та после зазимков, чуть ли не сахарная, нёбо и дёсны от неё не немеют, и глаза на лоб, как от омега, не выскакивают.
Уминаем ягоду в охотку – и слышим: будто мяучит кто-то жалобно поблизости – не показалось же обоим, не почудилось.
Искали, искали – и нашли.
Мелко трепещет на бордовой от клюквы кочке – а тут ещё и солнце из-за той тучи, что снег, брюхо вспоров себе об ельник, на Ялань просыпала, косо выглянуло, болото огненно-рыже высветило, даже нам, беспечным, души всколыхнув тоской извечной предвечерия, – зябко волнуется на кочке крохотный, серо-голубой, обагрённый закатом, длинношёрстый комочек и плачет надсадно и сипло. Давно уже, похоже, плачет. Голосу совсем уже нет, поистратил. Скрип из горлышка лишь слабенький исходит – как из тростинки, из соломинки ли. А нас увидел – и запричитал неумело и немощно, вздёрнув шильцем кверху хвостик. Жалость меня и брата проняла.
Подивились мы на несчастного, погадали, чей, откуда и как тут оказался. А затем:
Повесил брат за спину себе винтовку – когда патронов уже не было, мой интерес к ней пропадал, теперь таскай её, брат, сколько хочешь, – на плечо взвалил мешок с травой, а я снял с головы своей шапку, как в гнезде, устроил в ней дар, странным образом нам явленный, и направились мы обратно.
Пришли домой, показали. Всем понравился. Даже отцу, который, порывшись своим толстым пальцем в нежном паху котёнка, наперёд всему пол его распознал и, распознанным удовлетворённый, тут же кличку объявил найдёнышу:
– Дымка.
Дымка так Дымка, все и согласились. Как с отцом-то – не поспоришь.
По всем статьям пригожим до поры до времени был Дымка. И мышей ловил исправно – поубавилось сначала тех заметно, днём, на глазах, по крайней мере, по ограде нагло не прогуливались. И где ни попадя не гадил. И ел умеренно, как говорил отец, не жорко, по столам подло не рыскал, в ногах, кусок канюча, бесперечь не путался. Не кот, а робот, умно сконструированный.
Да и наружностью выдался больно уж бравый, хоть на выставку вези его – не опозоришься.
Но как только заматерел, вымахав в огромного, косматого зверя, с подружками погулял весну-другую, и подменили его будто. Настолько обленился, что мышам, опять безмерно расплодившимся и распоясавшимся, стал позволять с одной с ним миски молоко лакать.
Нам-то и ладно, вроде ничего, не убивались мы особенно, а вот отца перерождение своего крестника выводило из равновесия.
Видеть однажды довелось мне вот какое действо.
Из дому вышел отец на крылечко – я в ограде, под навесом, делал что-то, может быть, удочки для себя и для брата готовил, может быть, камеру велосипедную клеил, не помню точно, – а там, на крылечке, солнцем ласкаемый, после ночных бдений Дымка блаженно отдыхает.
Спихнул его отец ногой с крылечка. Как калошу – безразлично. Шлёпнулся Дымка на мураву – будто подушка волглая упала, – и спит себе дальше.
Вскипел отец моментально, так всегда с ним и бывало, – ухватил кота за шкирку и закинул его на крышу сенцев.
Дымка и там – как плюхнулся на тёс, так и обмяк, и даже веком, гад такой, не дрогнул.
Кружил, кружил отец по ограде, как коршун в поднебесье, только проворнее гораздо, сквернословил сквозь зубы, что очень редко с ним случалось, а на кота как взгляд метнёт, так и того чрезвычайное выразится.
После за граблями к омшанику, не поленился, сбегал. Сгрёб ими, вернувшись, Дымку с крыши, за хвост, как дохлого, подцепил, за ворота с ним, верею как-то не снеся, вырвался и запустил с ходу спящего кота, как будто камень из пращи, в овраг, что вешними ручьями напротив нашего дома вымыло.
А там уж и сам я – дело, которым занимался, относительно происходящего пустячное, оставил, тихонько, словно тень, бочком-бочком – и в огород, а то ведь… мало ли, подальше от греха-то, от руки «горячей». Испытано.
Неоднократно после ещё подобное происходило. Только сюжетная линия действа раз от разу сокращалась, сокращалась – и сократилась: едва не наступив, споткнувшись ли об отдыхающего и проход собой загородившего – а тому, коту, будто и места лучше нигде больше не было, как только на крылечке, – на сенцы он, отец, теперь Дымку не зашвыривал, граблями оттуда не добывал и из ограды с ним на улицу затем опрометью не выскакивал, а прямиком с крылечка, через высокую надвратицу, отправлял его в овраг сразу, «без церемоний».
Летел кот красиво, отрицать этого не приходится, не каждый день такое увидишь, и приземлялся, разметав крапиву, привлекательно для глаза. Метеорит тунгусский. Кстати, не далеко от нас тот ухнул. По прямой-то.
Отоспится, отлежав бока и осопатев, в овраге Дымка, сутки на третьи, брюхом оскудев заметно, в дом вернётся и всем ноги оботрёт собой, подлизываясь. «Ушлый», – скажет, глядя на него, отец. Отходчивый. «Покормите его», – скажет.
К нему только, к своему «хрёсному», ни разу кот не пришвартуется – знал, чем могло закончиться такое подхалимство, – имел уроки.
Всё удавить отец Дымку собирался, но так, слава Богу, и не выбрал для этого времени. А на расправу был горазд, чуть что не так, не по нему что, тут же охотникам отдаст, чтоб те на соболя пустили в качестве приманки обречённого, если сезон, а межсезонье если, то и сам порешит, глазом не моргнёт, – мало ли их, котят и щенят, упокоил. Ясное дело – всех же не прокормишь.
Может быть, пожалел – как старика старик; может, подумал, что и сам он, кот, без его помощи, скоро подохнет – к той поре уж шибко одряхлел Дымка. Кто знает? Да ведь и пестовал, лелеял – когда ещё такое с ним случалось! Даже бумажку к ниточке привязывал – играл с котёнком, в его-то возрасте, отца. Картина.
Куда потом задевался Дымка, мне не известно. Умер, наверное. Проник в укромное место – где, может, под амбар заполз, между брёвен ли каких протиснулся, в заросли крапивы ли забрался – и околел там без помех, ничьим взглядом любопытным не смущаемый? Может быть. Или в тайгу переселился, как в пустынку? А пусть и так, да всё одно: теперь-то уже помер – не щучий век назначен им и не вороний, даже и не людской, хотя и так пожил Дымка дивно, кому и обижаться, только не ему.
И вот ещё:
Зима в том году, когда нашли мы с братом в болоте Дымку, наступила поздно, но заморозила резко и злобствовала так, что на всю жизнь мне в память будто вмёрзла. На Филиппов пост, в самый канун его, скончался в Ялани фельдшер, алкоголик, из ссыльных, от водки сгорел, как говорили, а похоронить его смогли лишь к Новому году: с могилой никак было не управиться; землю, как строганину, топорами тесали, топоры от стужи крошились, как чёрствый хлеб. А я в ту зиму обморозил уши, нос и пальцы на ногах. Когда – уже в натопленной избе – приходил в себя, то катался, помню, по полу от боли и, чтобы не выть, тискал зубами тряпичный коврик. Двумя, тремя ли днями позже: сижу, помню, возле слепого из-за толстого куржака на нём окошка, скоблю ногтем на стекле податливую наледь, дышу на неё, чтобы подтаивала и чтобы в дырочку увидеть улицу, и чувствую, как уши мои, чуть шевельнусь, трясутся студнем.
И вот ещё что чувствую:
Нежность тихую, переполняющую сердце, и к той избе, и к той зиме, и… к невозвратной той поре… душа моя там – там моё сокровище – помилуй, Господи, помилуй меня грешного – к земному крепко я привязан. То того стоит?
Буска
Был у нас как-то кобелёк. Не кобелёк, а чудо гороховое, кобелишко.
Всех кобелей, которых мы когда-либо заводили – сучек старались не держать, так как хлопот с ними из-за щенят было не обобраться, – нарекал отец Борьзями. А тут вдруг он изменил почему-то своей прихоти – пьяный остяк какой, быть может, надоумил, кличку «удачливую» по великому секрету ему выдал – и привезённого им с низовки щенка от знатной, по его заверению, лайки, «зарной» как до зверя, так и до дичи, «мастерицы» на все сто, мол, решил назвать Буской.
Вряд ли по масти. Бусым Буска и в слепеньких не был; был Буска рыжим, как лиса.
Назвать – назвал, нам – согласиться лишь и оставалось. Мама только, помню, пошутила, что, мол, теперь под мясо лёдник специально надо будет строить – так обеспечит, дескать, и не проедим.
Ума у Буски и в щенках-то на щепотку бы не набралось, пожалуй, а перед зрелостью переболел он чумкой, так и вовсе глупым сделался, что уж не только нам, но и отцу, души в нём не чаявшему, заметно стало.
Выйдет, бывало, он, отец, из дому, обнаружит возле крыльца азартно оскаленного в ожидании добычи – ломтя хлеба или сахарной косточки – кобеля и замрёт в исступлении. Уставятся друг на друга пристально: отец – бездвижно, желваками только тиская, Буска – тот мордой примется вращать, будто шуруп хозяину в межбровье вкручивая.
Первым, как правило, не выдержит отец: сплюнет раздражённо, обзовёт крестника своего чумным остолопом, похуже ли как, и выскочит за ворота, чтобы не видеть увечного.
Оба родителя Буски, как уверял отец, может, и на самом деле были чистопородными лайками. Но сам он, Буска, в лайку почему-то не удался. Ну, может, гены так сыграли. Дело такое.
«Хвост поленом, морда рылом» – это тоже говорил отец про Буску. Какой-то очень, мол, простецкий. «Выродок».
«Век по тюрьмам, бедный, будто да по каторгам», – жалела его всякий раз, увидев где-нибудь в деревне, одна из жительниц яланских, Рашпиль Панна, собак и кошек любившая больше, чем людей, чего и не скрывала, чем и гордилась даже, хвасталась.
Однажды, увязавшись за первым поманившим его на улице – рыбаком, ягодником или грибником, но не охотником, конечно, до открытия охотничьего сезона было пол месяца ещё, не меньше, а идти в лес с собакой всё же веселей, чем одному, пусть и с чужой, коль та согласна, – убрёл Буска в тайгу, от увлекшего его за собой человека отстал, наверное, и заблудился. Скорей всего, что так оно и было.
Неделю нет его, другую. К исходу третья – Буски нет.
На крыльцо утром выйдешь – не торчит там, шевеля едва хвостом-поленом, в алчном предвкушении; прислушаешься – нигде поблизости не взлает. А то любил погавкать на столбы, на птиц, на кошек, на прохожих сельчан да на пролетающие над Яланью самолёты, вертолёты, дельтапланы. На облака – на те не лаял вроде. На ветер лаял – тот его сердил, взъерошивая на нём шерсть.
Мы уже и с мыслью, грешным делом, начали свыкаться: удавил Буску, дескать, тот, за кем он, соблазнённый сухариком хлебным, утащился простодушно, да и ободрал его в лесу. На что другое-то и нет, а на унты или на шапку сгодился бы Буска, лучше и искать не надо, мех на себе имел отменный, мало бы кто такой забраковал. Зверь ли где его задрал, мол, – рысь в окрестности объявилась, поговаривали, встретился с ней возле Ялани, возвращаясь откуда-то, кто-то. Слух такой был, скорей всего, правдивый.
Но пошёл я как-то в ельник за пихтовиками да подъеловиками, на осень ими запаслись уже, на зиму засолить, год на них урожайный выдался, и натакался на убогого.
Лежит возле колоды: горе! – сдыхать, видно, собрался, место в урмане подыскал сухое и, телом тощим в мох вжимаясь, предсмертные напутствия инстинкта или какого там незримого собачьего наставника, наверное, слушает – очень уж на то похоже было.
Не узнал меня сначала – зарычал едва-едва, еле ощерившись, враждебно. После, разнюхав или вспомнив, под ноги ко мне под скрёбся и заскулил – в елях ветер верховой гулял как раз тем часом, так из-за шума этого и вовсе уж – чуть слышно. Сердце моё зашлось от сочувствия.
Смотреть было не на что: скелет да шкура – кости из неё вытряхнул, и шей себе шапку, – в чём только дух-то ещё теплился.
Домой, вместо грибов, доставил на загорбке, под сени положил, чтобы никто его, несчастного, там не тревожил.
Через месяц оклемался мало-мало, стал на солнышке погреться выползать в ограду.
Выберется, бывало, морду на лапы бессильно опустит и заплачет потихонечку, роняя слёзы крупные в мураву. Смотришь на него, как на старика, сердце разрывается. Ну а как?
Все, кто тогда жил у нас во дворе одновременно с Буской и не лень кому, конечно, было, всякий по-своему, его старались притеснить.
Корова разве – только та не трогала, и то когда рогами было не достать. А попади он под рога ей, и боднула бы. Рога-то есть, как не боднуть?
Петух – воинственный на редкость вывелся, нам-то и то проходу не давал, атаковал без разбору всё, что трепыхалось поблизости или мимо него двигалось, овце соседской так и глаз шпорой высадил, после чего сразу и в суп попал, едва успев заматереть, но про него не тут, мельком, а впору было бы отдельно рассказать, может, Бог даст, когда-нибудь расскажется, – запрыгнет тот, бывало, Буске на загривок и ну его, бедолагу, по темени крушить, как дятел – шишку. Порешить не порешил, но плешь с пятак на макушке-таки выдолбил.
Баран нет-нет да и припрёт его – и ни с того и ни с сего вроде – к заплоту и держит так, пока кто палкой его не отгонит. Ему-то, не болевшему ничем, пожалуй, кроме похоти, хоть бы что, и сутки бы, наверное, подперши этак, простоял, а у Буски и глаза на лоб уже готовы выскочить. Или разгонится, дурной, и с ног сшибёт не ожидающего от него такой грубости пса. То ли в башке его что под рогами клинило, то ли после основного дела сила лишняя ещё оставалась – не знал, куда её потратить, то ли какое родоплеменное зло выплескивал, паршивец, на собаку, по болезни безответную, так на ней отыгрывался. Может.
Свинья от миски хамски отпихнёт и всё за него, будто вечно голодного, слопает, если ей кто-нибудь не помешает. Миску – и ту зубами всю изжулькает, не металлическая бы, и раскрошила. А то и вот ещё что вытворит: когда пёс, всеми обижаемый, в тенёчке под навесом, улучив минуту мирную, задремлет, она его подцепит своим «лемехом» да и подкинет. Проснётся Буска, ошалелый, в воздухе, тут и любой бы ошалел, на землю шлёпнется уж как придётся и шарахнется прочь бестолково, налетая, словно незрячий, на пустые вёдра, на сани натыкаясь ли или на что другое, что может встретиться в ограде деревенского двора. А свинья – та тут же и займёт его обжитую лежанку, прежде взрыхлив её ещё «сохой» своей под свою тушу, защищённую грязевым панцирем; лежит после, от мух ушами отмахиваясь, хрюкает себе, бессовестная, сладострастно. Свинья, одним словом.
Кот в стужу, загулявшись и не попав к сроку в дом, на Буске отсыпался, словно на подстилке, – не вытерев и не помыв лапы, располагался и не спрашивал.
А про собак яланских нечего и поминать. Самая никудышная, паршивая, самая доходящая из доходящих, не сунув нос к нам в подворотню и не рыкнув, мимо не протащится, бывало. А то и, дерзости набравшись свыше всякой меры, в ограду даже забежит и удалится безнаказанно. На Буску только, задрав лапу, не помочится.
Пуще всего отца бесило как раз это. Ох и погневил ся же, помню, он, поогорчался. Такой удар по самолюбию, такой позор на всю деревню.
Как-то, натужно раздумывая, смотрю в окно – возле сидел, на подоконнике пристроив лист бумаги, письмо к брату Николаю сочинял, учился брат тогда в Исленьске на архитектора, – и вижу:
Разжился Буска где-то костью – падаль, наверное, собаки где-то раскопали, – на полянке перед домом нашим распластался и гложет его, мосол неладный этот, глаза от наслаждения закатывая.
А вокруг Буски ворона колченогая – лапу по молодости, наверное, лет двести или триста назад, ещё при казаках-первопроходцах, куда не следовало, впопыхах поставила – шляется, но не праздно, вижу, не бесцельно, как шпана: дразнила, дразнила кобеля, отвлекала, как могла, его от лакомства, изощрялась, как за триста лет-то научилась, юлой только на клюве не вертелась да по-собачьи с ним, с Буской не беседовала, хотя кто знает, костью завладеть так всё же и не изловчилась.
И улетела.
С концом, думаю, да и не думаю, а так, в мыслях краешком мелькнуло, над письмом страдал усиленно, труд для меня тяжкий – накропать послание, как и подарок выбрать для кого-нибудь на праздник или день рождения – тоже мучение сплошное.
Не тут-то было.
С письмом расправился я всё же, лист, вчетверо сложив его, в конверт спрятал, клей на конверте увлажняю языком и, в окно скосившись, замечаю:
Возвращается.
Да не одна, а, к удивлению моему, с подругой. Та ей под стать. Разве что – села когда, и подтвердилось – не хромает. Ну а по виду-то такая же: халда халдой, – как отозвался бы о ней отец. Я соглашусь. Ворона всякая не промах, но подобных этой парочке в Ялани раз-два, и обчёлся, а то и вовсе не отыщешь. Может, залётные какие, гастролёрши, из Елисейска, «городчанки», явились и не запылились.
И думаю:
Да это же почти по Пришвину. Но там сороки, кажется, а не вороны. Что-то такое же вот вытворяли.
И как только они, чёрно-блестящие красавицы, с разных сторон от Буски приземлились на полянку, так хромолапая мгновенно и притихла, онемела, не выдавая себя ни звуком, ни движением – нет и не было её здесь никогда как будто.
А другая – скок-поскок, и не шагом, как они, если степенные-то, ходят по земле, но вприпрыжку, словно никчемный воробьишка, – подступает всё ближе и ближе к занятому без памяти лакомством и утратившему последнюю бдительность, если вообще когда-то был он к ней способен, Буске да каркает во всё своё воистину воронье горло – противно так, что и глухому аппетит испортит; у меня, не изнеженного, и то мурашки по спине забегали, засеменили.
Терпел мужественно Буска, стойко сносил такое издевательство, но не удержался, и до любого бы коснись, редкий бы кто тут удержался, на хамку бросился, кость ветерку на сохранение оставив, да постоял ещё, на солнце слепо жмурясь, взлетевшей вслед заливисто поругался, чтобы той неповадно на чужое зариться впредь было.
А криволапая тем временем, вприскочку подплясав, кость клювом цепко, как пинцетом, за обрывок жилы ухватила и кое-как, будто за хвост её придерживает кто-то, часто, как курица, когда забор перелетает, размахивая крыльями, оторвалась с добычей от земли и курс взяла на сопку, что за Кемью в дымке высится.
Где-то над речкой и подруга к ней, догнав её, пристроилась.
Зачем им эта кость понадобилась?.. Вот уж. Только из вредности – так полагаю. Про Буску вызнали – унизить.
Услышал Буска взлёт – взлёт нагруженной, а не порожней птицы, – львом рыкнув, кинулся к ворухе, но, увы, в пустое только клацнул челюстями.
Долго ещё потом взахлёб на небо лаял. Изредка лишь прерывался – грыз отчаянно, словно повинную в его оплошности, полянку, чихал, чтобы прочистить засорившийся нос, колотил по нему лапой и заходился снова в брёхе; забыл в конце концов, казалось, почему и осерчал.
Буска лаял, а отец, весь этот потешный балаган с ним, с Буской, с воронами и с костью от начала и до завершения, как выяснилось, наблюдавший молча со скамеечки, что возле палисадника, давно уже не тлеющий окурок обронил себе под ноги, поднялся тихо со скамеечки и удалился в ограду. Вышел чуть погодя опять на улицу, уже с верёвкой и с ружьём, заарканил всё ещё бранящегося с небом Буску и повёл его, покорного, в ельник; а за Куртюмкой, повод натянув, даже вперёд хозяина, несчастный, вырвался – решил, наверное, что в кои-то веки взял его тот на охоту.
Домой отец вернулся под вечер.
Несколько дней после метался он по ограде мрачный, по словам мамы, как власяница, потерял что будто дорогое. Смурным и дома пребывал, ни с кем не заговаривал, на всех лишь взглядывал сурово. А мы – уж ни о чём его и не расспрашивали, где находился он, на улице или в избе, там мы на цыпочках ходить старались, чтобы вниманием за нас не зацепился.
Немного смягчился, чуть-чуть вроде оттаял, когда Захар Иванович Чеславлев, приятель его старинный, сосед наш, принёс в кепке молочного щенка – сучка у них намедни ощенилась, и сучка-то будто «толковая»: белку с ней Захар Иванович, по крайней мере, «ладно бил», – а вместе со щенком, но уже в кармане, а не в кепке, и белой бутылочку, чтобы не отказались от подарка с ходу, – так, засмеявшись, и сказал: а то ещё, мол, вон попрёте; после добавил: для нас нарочно, дескать, сохранил, самого шустрого выбрал – проверял его на табуретке – пустил по краю – не упал тот, других Володька, младший его сын, а мой товарищ, Рыжий, ещё вчера всех утопил в Куртюмке – тому раз плюнуть, это точно, он и с нашими, бывало, расправлялся.
Выпили они тогда бутылочку. Магарыч. Выпили и ещё одну, уже хозяином ответно выставленную. Посидели.
Чудно, помню, Захар Иванович в гостях у нас сиживал: чокался, стопочку круто опрокидывал на обычно плохо выбритый подбородок, выпивал за один глоток и скоренько закусывал – всё это совершал он за столом, бочком пристроившись на табуретке, а после возвращался на пол, возле стены, рядом с буржуйкой. Там и сидел, с поджатыми под себя ногами, словно турок. Там и курил, вводя меня в соблазн невольно, душистую махорку в самокрутке из газетной бумаги, сбивая пепел в голенище своего обутка, а непотушенный, искрящийся окурок, если зима, запихивая за разрезанный сзади отворот валенка, а если лето, кирзового сапога. Оттуда, где турком располагался, и разговор поддерживал.
О разном потолковали. Но больше вечером тем, помню, о собаках. О самых «безмозглых», каких и где только им встречать ни доводилось, и о самых, о каких только ни слыхивали, «мастеровых» и «даровитых». С них, с собак, незаметно начали беседу, ими её и закончили.
После чего откланялся Захар Иванович сердечно и ушёл шатко, но ещё могутно в белую ночь.
Я спать отправился. Мама – на кухню – мыть посуду или заводить опару.
Ну а отец – тот ещё долго оставался там, в прихожей, в бледных летних сумерках, и, нависнув пьяненько со стула, забавлялся со щенком – валил его со слабых совсем ещё лап своим толстым, как добрая колотушка, указательным пальцем и катал, попискивающего, по полу, словно валик, затем поднимал его за шкирку поближе к своим близоруким от возраста и от выпитого глазам, совал ему, ещё незрячему, в морду, вместо соски, палец и, не давая щенку покоя, а мне – уснуть, без сюсюкания приговаривал:
– Ну, Борьзя, ну, холера… Ага… Ох ты, пузан, смотрю… А ну-ка, Борьзя, ну-ка… Пойдёшь на зверя, птицу будешь знать… Чужую собаку и близко к подворотне не подпустишь, за версту дом наш стороной станут обходить, – и без конца, без перерыва так, как будто сказочку-отмазочку кому рассказывал.
Вот какой кобель был у нас однажды – Буска.
А мне – а мне так до сих пор нет-нет да и представится во сне такое вот:
Будто погожим летним днём стою я, маленький, тычком на угоре, на самой его маковке, вижу внизу, под угором, отца: перебрёл тот только что Куртюмку, направляется теперь к густому, тёмному ельнику, – я пытаюсь броситься за ним вдогонку, но подламываются в коленях мои ноги, на мураве мягкой подминаются немощно, вязко пурхаюсь, как будто запелёнутый, с места сдвинуться не в силах, и тогда кричу я – громко в сердце – чуть не разрывается то, а сквозь горло больно – сиплым выдохом:
«Папка, папка, подожди, возьми меня с собою!» – но:
Не откликнется отец, не обернётся. Удаляется, согбенный. А когда скрывается он в ельнике, с неба снег лавиной вдруг обрушивается – покрывает всё, меня притискивает к стерне крепко-накрепко, – просыпаюсь, обезумев от сиротства, я.
Винтовка и ружьё
С огнестрельным, как гладкоствольным, так и нарезным, оружием в Ялани, да и в других соседних старожильских деревнях Сибири, в пятидесятых и шестидесятых годах прошлого столетия, чему и я свидетель полноправный, было просто.
Ну и в нашем доме с этим было не сложнее.
Ружьё и две винтовки, ТОЗ-8 и ТОЗ-16, не считая валяющихся за ларем древней фузеи со сломанным прикладом и гладкоствольной берданки с утерянным затвором, висели на гвоздях в кладовке. Около двери. Дверь в кладовку никогда не запиралась; вход в кладовку из сеней. Сени тёмные, кладовка без оконца. Но это не мешало нам, мне и брату, и без фонарика отыскать то, за чем с определённой целью посещали мы кладовку, – на ощупь. Как на голове поправить шапку. Так изучено-заучено. Наведываться в кладовку с лучиной или со спичками, кстати, запрещалось строго-настрого. Чтобы «не заронить». С лампой или с фонарём «летучая мышь» – без опасения. Со свечкой – в самом крайнем случае. «Сухое, старое – достаточно искры». Боялись. Родители. Не мы. Нам было велено, мы подчинялись, не ведая при этом страха.
Когда отец находился в отъезде, мы с братом, если не получали обязательный «заказ» на работу по дому или по хозяйству, не спрашивая у мамы – она этим «не распоряжалась», у неё было и без того «забот полон рот», – могли взять ружьё или одну из винтовок, а то и ружьё и винтовку, и отправиться спокойно на охоту. ТОЗ-8 брали редко – велика, тяжела, находишься с ней по лесу, наскачешься по колоднику, вверх-вниз по сопкам наползаешься, без рук задень останешься, без поясницы. ТОЗ-16 – как на нас будто рассчитана, словно по нашему заказу изготовлена. Компактная, лёгкая. Игрушка. Пристреляны были и та, и другая.
В Ялани так велось. «Извеку». Теперь, конечно, поменялось. Больше чиновников – меньше свободы. Нынче без охотничьего билета и картечи на грузила не купишь, разве что в рыболовном магазине. А раньше кто у тебя охотничий билет спрашивал? И у кого он был? Ну, кто-то, может, и имел. Не знаю. Но ведь не мы же, не мальчишки. И без билетов как-то обходились. Один билет тогда мы знали – в кино, как старики сказали бы – «на фильму». И там старались без билета прошмыгнуть.
Исполнялось тебе – мальчишке, не девчонке, хотя были и такие девчонки, боевые, «дёрзкие», которые такой чести тоже удостаивались, – десять-двенадцать лет, отец или дед дарил тебе надень рождения старенькое ружьишко 32-го или 24-го калибра, и ты распоряжался им, как хозяин, следил за ним, чистил, смазывал, только разве не облизывал. К ружью и патронташ, конечно, прилагался. Провиант, после того как ты истрачивал запас, надо было каждый раз «выклянчивать» отдельно. Клянчили, куда денешься. Выдавали, если ты беспечно, «неуёмно» за один поход в тайгу всё не расходовал. А приходил в первый же день пустым и имел «наглась» просить пустые патроны поменять на заряженные, могли и отказать – самим, отцам или дедам, дорого доставалось. И «аканомия» – конечно. И не «привадить» к бережливости иначе – только вот так: не «потакать».
Раным-рано, задолго до света, поднявшись и легко позавтракав, собирались мы в условленном месте стайками человек по восемь или десять и шли до восхода ещё солнца, чтобы никто «не увидел и не сглазил», на промысел. Патронов имели ограниченное количество, и палить по ронжам да по дятлам было жалко. Жалко не ронж и не дятлов, а патронов. Два патрона в патронташе, на всякий случай, были с пулями. Так нас к этому и приучали – в тайгу, мол, идёшь, не в клуб на танцы. Добывали рябчиков, чирков или, кому повезёт, подстреливали крякву, косача, полюшку, глухаря или капалуху. Больше меры не убивали – родители бы стали ругаться. На суп-два хватит, и довольно. Голову не терять, не «жадовать» – так нам наказывали. И птицу оставлять в «сохранносте» разумной – важно. «Чтобы кому потом плодиться было» – ясно. «По за глаза-то – ни к чему».
Был в Ялани паренёк – Паша Поротников. Так вот он, когда ему не исполнилось ещё и тринадцати лет, завалил лося. Не скрадом, не загоном, конечно. Собака в нужное время и в удобном углу остановила. Но всё равно, удача, что тут скажешь. Завидовали ему ребята? Может быть. Я нет. Мечтал убить медведя, что мне лось? Убью, но позже. После демобилизации со срочной службы. Когда мне исполнится уже двадцать пять лет. И до сих пор жалею об этом убийстве. Теперь, как далеко бы ни отправился в тайгу, ружья с собой не беру. «Размягчился», – сказала бы мама. Отец бы сказал по-другому.
Согласен с ними, и с отцом и с матерью, но изменить себя теперь уже не хочу. И нет желания возобновить это занятие – охоту. Друзья охотятся – и Бог им в помощь. В тайге сибирской нелегко прожить без промысла – подспорье.
С ружьём за спиной или на плече – не сторожа и не пастуха, речь не о них – в те благословенные времена можно было встретить человека не только в лесу, но и на яланской улице, и в магазине, в колхозной, рыбкооповской или в «мэтээсовской» конторе, где угодно. На новогодней ёлке в клубе или в школе – даже там. Не исключаю. Никто на него, вооружённого, и внимания особого не обратил бы: это куда ты, мол, с ружьём-то? За «паперёсами», за спичками. По делу. Мимо вот шёл, и завернул. Ступай, мол, с Богом. Весь и разговор, если бы разговор такой случился. Ничего необычного не было в этом. Разве что гостю, к нам издалека приехавшему, немного странным показалось бы – заволновался б.
На старый Новый год в ночное небо всё село стреляло чуть не до рассвета – традиция была такая. И никаких несчастных случаев. С детства все сельчане умели с ружьём обращаться. И на кого-то навести ствол ружья – считалось крайним безрассудством. Не только на человека, но и на собаку, на домашнюю скотину. У крепко выпивших, безумных и неуравновешенных ружья отнимали. Бывало, что и навсегда. Жили среди тайги, закон тайга нам диктовала. Строгий. Не станешь соблюдать его, сполна получишь.
Иной раз, в тёмном кинозале, впереди тебя сидит кто-то, и слева или справа от его головы торчит ствол ружья, выделяющийся на фоне экрана. Смотреть кино мешает, но, чтобы хозяин ружья убрал его себе на колени, не просишь; шапку, шляпу или кепку снял, и то ладно – приличия соблюдены.
Возвращается человек из тайги – зимовье своё проверял, корову или телёнка искал, да мало ли, куда он, свободный, и зачем наведывался, – подходит к клубу, а там кино интересное начинается, вдруг потом уже и не увидишь, не привезут в Ялань повторно ленту, – не бежать же домой, чтобы переодеться и оставить дома ружьё. Никто не останавливал его на контроле, сдать ружьё в сейф или киномеханику на временное хранение не требовал. Спросят разве, не заряжено ли? Не дурак – с заряженным-то – по деревне. Верно?
И не было такого, чтобы кто-то в драке убивал кого-то из ружья. Не помню. За сотни лет, может, и было. Не на моей памяти. На кулаках – да. Палка, штакетина ли подвернётся под руку – палкой, штакетиной могли и приложить. А что хотели вы – в горячке. Кирпич – тот тоже попадался под руку. Бывало. И мне вот как-то прилетал, а после «голову сшивали», скобки какие-то там ставили. Живу же.
Сами себя губили из ружья – примеры имелись. Самоубийцы. Но к тем, руки на себя наложившим, и отношение было особое – хоронили их за кладбищенской оградой. Раньше. Теперь хоронят вместе со всеми. Толерантность.
Одно вот, правда, вспомнилось.
Жили у нас Каменец-Подольские. Семья. Жена местная, яланская, из соседней ли какой деревни? – не скажу. Может, и «привезённая». Издалека. Клавдия Ивановна. Нянечкой в яслях трудилась. Муж, Степан Трофимович, из «военнопленных», после лагеря, с 1947 года, работал инженером в МТС. Было у них четверо детей. Сын Юрка учился с братом моим Николаем. Я учился с младшей их дочкой – Юлькой. Средняя была, знаю, но имя её и как она выглядела, почему-то забыл. Самую старшую дочь звали Анной, и была она замужем за неким Рубанэ. Тоже работал в МТС, не помню только, кем, и знать это от меня не требовалось. Был у него мотоцикл ИЖ-49, на котором он вытворял лихие фокусы. Перелетал, например, разогнавшись, через положенное мужиками поперёк дороги бревно на спор, катался на заднем колесе, задрав переднее. Заезжал на высокое, крутое крыльцо магазина или клуба, с подскоком разворачивался и спускался.
Для нас, яланских ребятишек, удаль такая и ловкость в управлении мотоциклом были в радость и в диковину – словно цирк посетили, о котором только слышали, но никогда в нём не бывали. Взрослым казалось это «несусветной» глупостью и хулиганством. Малому – пряник, старому – табак. Не согласуется.
Так вот.
В один из долгих летних дней 1958 года этот самый Рубанэ застрелил в своей ограде жену свою Анну. Рубанэ арестовали и увезли в город. Убегал куда и прятался он, нет ли, я не помню. Помню лишь, как его, спеленатого за спиной наручниками, заталкивали в прибывшую из города машину. В Ялань он уже не вернулся. После говорили, что оказался он американским шпионом. Анна случайно как-то выведала это (вроде стирала его рубаху или гладила пиджак и обнаружила маленький фотоаппарат, то ли в виде коробка спичечного, то ли в виде пуговицы), изначально ли обо всём знала, и, после очередной семейной ссоры, пригрозила мужу, что расскажет всё яланскому участковому. Вот он с ней и разобрался. Так оно было, не так ли, кто теперь сможет разъяснить. Вокруг Ялани, в тайге, тогда строились военные объекты, которые после предательства Пеньковского даже не законсервировали, а совсем забросили, прикрыли. Этим шпионство, как и приезд Рубанэ в Ялань, и объясняли. А Каменец-Подольский, посвящённый в подноготную, прикрывал зятя, а то и помогал ему в его разведывательной деятельности – ещё и так об этом говорили. Но зятя с тестем молва увязала уже после другого события.
Отец Анны, когда бывшим «военнопленным» разрешили вернуться, просто ли посетить родину, в 1964 году поехал на Украину. Там его кто-то опознал как офицера СС, карателя. В Ялани этого человека, как и Рубанэ, никто больше не видел.
А потом, помню, какое-то время спустя, мой отец читал маме вслух заметку из газеты, в которой говорилось об опознанном в Днепропетровской области бывшем изменнике, которого суд приговорил к расстрелу. Много смертных грехов и «жертв было на его совести». Этим опознанным и оказался, что поразило нас немало, бывший инженер яланской МТС «Полярная».
Семья Каменец-Подольских из Ялани перебралась сначала в наш районный город, потом – дальше. Куда, мне не известно. Ничего о них не слышал больше. Кто знает Юльку, кто знаком с ней, передавайте ей привет. От меня и от всех наших с ней одноклассников. Поздравительные открытки к Седьмому ноября и Новому году от неё к оставшимся в Ялани подружкам, ещё года три или четыре после, приходили из Львовской области. Сразу, вместе со всей семьёй, или, замуж выйдя, туда без них уже уехала, не знаю.
И вот, ружьё.
Двустволка. Шестнадцатый калибр.
Как стал помнить себя, с той самой поры помню и эту «Тулку». Висела когда-то она у отца над кроватью, потом лежала под кроватью, стояла за комодом, а затем перебралась в кладовку.
Так уж мне мечталось исполнить из этой двустволки хотя бы один залп, не за большим, уж не дуплетом. Сил никаких сдерживаться не было. Обстоятельства не позволяли.
Но выбрал время.
Родители и Николай ушли на покос, сестра с подругами – за земляникой на Вязминские сопки. Один в доме хозяин остался. Достал я из патронташа, который всегда хранился на полатях, патрон. Потряс его – с дробью. Решил, сгодится. Там же, на полатях, хранились бумажные пачки с дымным порохом, дробь разных номеров, картечь, пули в холщовых мешочках и картонная коробочка с капсюлями. Ревизию этих запасов мы с братом сделали давно. Картечь подворовывали для грузил на удочки. Порох – проверить на взрывчатость. Капсюли – шли для самодельных пугачей. Меру знали – чтобы отец, сунувшись в ящик, воровства не обнаружил и нас в этом не заподозрил. Не на жену же думать ему было, не на дочь. Сразу выявились бы грабители – шапки на них бы загорелись.
Вышел в огород. Зарядил ружьё. Стал присматриваться, куда бы залепить. Лучше, чем баня, цели ближе, на мой взгляд, не оказалось.
Нацелился, стрельнул.
Дым вокруг – ни зги не вижу.
Когда дым рассеялся, смотрю:
А бани нет!
Вот тут я чуть от страха и не умер. Ужас обуял меня нешуточный. Отец с покоса вернётся, думаю, со мной покончит, ремня-то, точно, всыплет доброго.
Потом доходит до меня, после того как вокруг огляделся, что отдачей ружья развернуло меня в другую сторону – от бани. Счастью моему конца, как говорится, не было.
Года два после исполнения заветной мечты не брал я в руки ружья. Годам к тринадцати от пережитого испуга излечился.
Винтовка.
«Тозовочные» патрончики достать труда не составляло. Мне, может, и нет, а брату, он старше меня на пять лет, в магазине «поштучно» отпускали, как ещё более старшим – папиросы или сигареты. Стоили патрончики относительно недорого, горсть купит брат – на какое-то время нам и хватало.
Приходил ко мне мой сосед и друг Рыжий, Вовка Чеславлев, и, когда не было дома взрослых, чуть ли не требовал принести из кладовки «тозовку». Я ему повиновался. И сам, конечно, был не против. Что уж.
Стреляли мы в спичечный коробок, поставленный на ручку банной двери. Как-то надоело стрелять в коробок, выбрали мы другую мишень. В смежном, «скурихинском», огороде на калитке висел алюминиевый таз. Рыжий, по старшинству, стрелял первым. Стрельнул. Судя по звуку, попал. И, через секунду, видим, как открывается калитка и из ограды в огород выходит Скурихина Меланья Ивановна, хозяйка. Унёс я тозовку на место, и мы с Рыжим подались на Кемь купаться. Было нам тогда: мне – лет восемь, а Рыжему, соответственно – десять. На столько было и ума, что ещё скажешь.
А тут начать надо с другого.
Брали мы на ветеринарном пункте выброшенные почему-то какие-то стеклянные ампулы. Клали их в костёр. Взрывалось, мама не горюй. Как-то, с моими друзьями и с друзьями брата, положили эти ампулы у нас во дворе в летнюю печку. Взорвались ампулы, печку развалило и крышу на дворе разметало. По улице мимо нашего дома в это время шла со своей маленькой собачкой Панна Рашпиль. Все в Ялани её называли Панночкой. После говорила, что «Белка её чуть не обдристалась». Когда вернулся отец из командировки, Панночка пришла к нам и донесла о наших «боевых действиях». Друзьям нашим ничего – чужие детки, чужие бедки, – а мы с братом после трое суток провели в «партизанском» штабе, что располагался в молодом тогда ещё сосняжке, за Яланью. Ждали, когда отец уедет в очередную командировку. На четвёртый день он, к нашему счастью, и уехал. Был отец отходчивым и, вернувшись, нам ничего уже не поминал.
И ещё.
Достали мы однажды из-за ларя фузею. Залили свинцом дырочку в магазине. Брату в голову пришла эта идея. В то время из брата идеи сыпались, как горох из дырявого лукошка.
Наливаешь в ствол воды, забиваешь дуло сырой картошкой, ставишь в костёр или в летнюю печку. Вода вскипает, картофельная пробка со свистом вылетает и с треском лопается об стену. Впечатляло.
Однажды. Дело это и на сей раз происходило в нашей ограде. Зарядили мы фузею. Поставили в короткую трубу печки. Стали ждать. Фузея повалилась на бок, и в это самое время выстрелила. Картофельный заряд пролетел над забором ограды и раскрошился об стену между двумя окнами соседского дома; стекло в окне хоть не разбило. А там, на завалинке сидели рядком старухи. Ряд их после выстрела смялся. И тут, как на зло, присутствовала Панна Рашпиль.
Как водится, дождавшись отца, она заявилась к нам. Не с доброй вестью. Убежать удалось не всем. Я успел в дверь просочиться, а Николай – тот считал ниже своего достоинства сбегать. Я стал дни и ночи коротать в «партизанском» отряде. А брат, получивший своё, приносил мне тайком приготовленный мамой обед.
А потом.
Панночка корову не держала, но молоко пить любила и поила им дорогих её сердцу кошечек. Молоко покупала у Кривой Веры. Ходила Панночка, преодолев ложок, через наш угор.
Увидели мы с братом как-то, что подалась Панночка к Вере. Взяли винтовку, забрались на чердак. Стали наблюдать в слуховое оконце.
Идёт Панночка. Трёхлитровая банка молока в сетке белеет. Только стала спускаться в ложок, Николай, хорошо прицелившись, нажал на спусковой крючок.
Банка раскололась, молоко пролилось, а Панночка упала на поляну…
Что было дальше, мы не видели – чердак покинули стремглав, ретировались.
До «штаба» на этот раз мы с братом добраться не смогли. Так сложилось. И долго потом приседали на стул, на табуретку ли, с большой осторожностью.
Пистолет
Тульский Токарева.
Тэ-Тэ.
Ствол, рукоять – перед глазами будто. Врезалось. У брата как-то спрашивал – и у него.
Когда отец «гостил», мама про это говорила так, дома, пистолет всегда лежал, спрятанный в кобуру, под подушкой, на которой спал отец. То есть всегда, когда отец был дома, спал, не спал ли – где-нибудь ходил, хозяйством занимался, – не с пистолетом же.
«На фронте натаскался».
Пистолет мы с братом из кобуры, конечно, извлекали, внимательно разглядывали, обойму вынимали, патроны пересчитывали, но выстрелить – так и не удосужились.
И слава Богу.
На то, что мы пользовались винтовкой и ружьём, отец смотрел спокойно, через пальцы. Так, по крайней мере, нам казалось. Как было на самом деле, знал лишь он сам.
А за пистолет отец «оторвал бы головы нам». Точно. Как говорится, к бабке не ходи.
Не довели мы с братом родного отца до такого расположения духа, чтобы он сказал в отчаянии: «Я вас породил, я вас и убью».
И повторить придётся:
Слава Богу!
2017, февраль-март





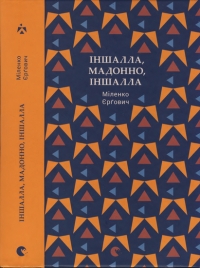





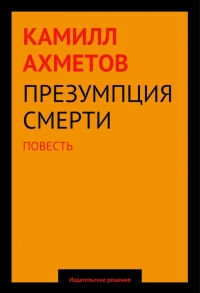
Комментарии к книге «Золотой век», Василий Иванович Аксёнов
Всего 0 комментариев