Лайош Мештерхази Великолепная рыбалка
21 августа. Я благодарен паническим слухам. Коллеги сделали все от них зависящее, чтобы испортить нам настроение. «Южная котловина — сущий ад! Каждый день проливные дожди при абсолютном безветрии, вокруг горы и джунгли. Жара, москиты, вещи покрываются плесенью, сигареты раскисают, к утру белье становится мокрым, хоть выжимай...» После таких разговоров действительность показалась нам даже приятной, а молодежь так и сияла. Четыре года назад мы работали в лагере за Полярным кругом. Легенды об адском пламени были, конечно, выдуманы жителями тропиков. Нам же Южная котловина показалась настоящим раем. Что касается меня лично, то независимо ни от чего здесь должно было мне с первого взгляда понравиться. Причудливые дубовые рощи с непроходимым кустарником между деревьями, папоротники и хвощи, напоминающие каменноугольную эру, вдоль водных потоков заросли камыша и осоки, невероятное множество болотных цветов и вдруг редкий буковый лес, царапающий вершинами небо, а все вместе создает впечатление почти гротесковое своими размерами, звуками, запахами, резко отличающимися от наших прилизанных цивилизованных лесов. Древний мир.
И наконец, но в первую очередь — озеро!
Я бы заметил его и в том случае, если б не завяз поблизости один из наших грузовиков. Много часов мы не видели над нами так широко распахнувшегося неба. Не то чтоб узкие полоски или просветы, лес расступился, открыв пространство в четыре или пять сотен гектаров. Низина, где застрял наш караван, вся заросла камышом, кустами, клубками лиан, колеса вдавливались в землю, оставляя колеи, тут же наполняющиеся водой, но это не болото, а чистая живая вода, свидетельствующая о существовании поблизости большого лесного озера.
До чего же я умно поступил, привезя с собой все нужное для рыбалки. Времени, свободного от работы, будет достаточно, а в дни ожидания и от скуки умереть можно. Какие возможности заниматься рыбалкой могут быть у горожанина, любителя природы? Вот уже двадцать семь лет я выплачиваю астрономические взносы в «клуб рыбаков» лишь для того, чтобы каждый год на отчетном собрании услышать, как профессионально объясняет наш председатель, почему в отчетном году не было рыбы или почему она не клевала. После того как я стал персоной значительной или, во всяком случае, по своей работе соприкасаюсь с важными лицами, меня пару раз приглашали поудить в так называемых протокольных водах, иначе говоря, в рыбопитомниках, где хорошо причесанные карпы в матросках, а в озерах еще более высокого разряда даже форели попадаются на удочку высокопоставленных гостей. Но я, по крайней мере, хоть несколько раз в своей жизни испытал, что значит «вываживать рыбу». Узнал я, для чего существуют дорогие пластиковые удилища, забавные катушки (которые мне дарили ко дню рождения члены моей семьи и друзья), как пользоваться блеснами разного цвета и размеров, мормышками и мухами, деревянными с пером, металлическими и пластмассовыми — в скучные зимние дни я иногда извлекаю их, протираю, навожу блеск и снова укладываю. Сколько раз размышлял я о том, что уж лучше было мне заняться коллекционированием насекомых, игрой в карты, ухаживанием за женщинами или еще чем–либо для удовлетворения дремлющей во мне с детских лет, а может быть, и не дремлющей, амбиции. Четыре года назад там, на севере, когда до смерти надоели сухие овощи и консервы, наши ребята сделали для меня прорубь, и мне удалось поймать с дюжину костистых рыбешек. Это был хороший предлог для пиршества, рыбешек поджарили на пропитанном спиртом мху и запили остатками рома, который все равно надо было допить до отъезда. Вся компания чествовала меня как виновника пиршества. Самый большой боевой подвиг моей жизни. И ведь подумать только, что мой прадедушка участвовал в африканских сафари еще в те времена, когда это могло считаться настоящим подвигом.
Но теперь и я смогу кое–что показать всему свету! Останови свою колесницу, Аполлон: вот оно передо мной — настоящее, девственное, спрятанное в джунглях озеро!
Семисоткилометровый путь от ближайшей автострады мы проделали за двадцать девять часов, три раза останавливаясь на отдых и увязнув не более восьми раз. Дорогие мои, что вам известно о «пересеченной местности»? Перед нами, конечно, продвигались солдаты сопровождения, но ведь так было и на севере. И там они были не более чем в двухстах метрах перед нами, но, бывало, связь с ними мы могли поддерживать лишь световыми сигналами или с помощью коротковолнового передатчика, так как следы их тут же заметались снегом. Бывало и так, что за двадцать часов мы продвигались вперед не более чем на двадцать один километр...
Поместили меня в небольшом флигеле при главном здании с отдельным садиком, бассейном для плавания и спортивной площадкой. Убранство помещений... Мне уже давно пора было бы знать, что наша организация заботливо относится даже к мелочам. Лишь в сумерки кончил я распаковывать чемоданы. Потушил свет, вышел на террасу. Вокруг одно за другим гасли окна домиков поселка, уставшие люди ложились спать. Меня охватило очарование тропической ночи в джунглях. Зоолог лучше разобрался бы в ночных голосах: мышиный писк, уханье филина, испуганный крик еще какой–то птицы. А может быть, это любовные призывы? Слышу впервые, но чудится мне в них что–то давно знакомое. Юг. Люблю его. Все же есть во мне что–то от прадедушки, поклонника сафари. Четыре года взаперти, четыре года труднейшей работы в лаборатории, и вот после четырехлетнего отшельничества я почувствовал вокруг себя и в себе бурление воскресшей жизни.
Вошел слуга, спросил, можно ли закрыть окно или дверь — уж не знаю как назвать эту двойную стеклянную стену шириной в восемь метров, — и не включить ли кондиционер. Я отослал его, пусть остается все как есть. Перед альковом занавес из синтетических ленточек, над кроватью полог от москитов. У моего прадедушки ничего этого не было, а о кондиционировании воздуха он и понятия не имел. Холодный чай, лед кусочками, ром я принял с благодарностью, велел поставить на тумбочку у кровати, а кондиционированный воздух мне не понадобится. Я здесь как у себя дома!
22 августа. Сигареты в открытой лачке действительно расклеиваются, и я вытащил трубку. Набил в нее табак из двух сигарет. До полудня выкурил две трубки, а за то же время обычно выкуриваю с десяток сигарет.
Попросил командира военной части дать мне на часок вертолет, чтобы сверху осмотреть озеро. Начальник оказался милым и услужливым, предложил сам слетать со мной после обеда.
Утром я обошел лагерь. Он был построен четыре года назад, одновременно с нашим северным поселком. С его чертежами я был уже знаком. Теперь я велел пристроить к клиническому отделению две лаборатории для гистологических и микробиологических исследований и расширить ферму подопытных животных. Приемный лагерь — Санаторий — представляет собой круг радиусом в пятьдесят шесть с половиной метров, в полутора километрах на запад от нашего лагеря, в джунглях. Вокруг частокол, деревья и кустарники выкорчеваны, тут дюжины полторы маленьких построек: камышовые хижины, крестьянские избушки под черепичной крышей, крытая жестью ферма, современная вилла, каменный свод, деревянные балки, бетонный блиндаж, словом, на одном лишь гектаре — настоящий маленький этнографический музей. Всего этого мне, конечно, не нужно, но раз уж построили, пусть будет. Я велел принести все необходимое, утрамбовать и устроить волейбольную площадку. Отметил места для установки камер — четыре для черно-белых съемок и четыре для цветных, распылитель я оставил там, где он был, на проволоке над центром площадки: звукооператоры установили микрофоны, с главным осветителем договорились о размещении прожекторов для ночных съемок. Рабочие делали все ловко и умело без моего вмешательства. Лишь для порядка я напоминал им, чтоб осторожно обращались с материалом, не забывали о запасном оборудовании, предохранительных устройствах, ведь съемки продлятся не каких–нибудь десять дней, а по меньшей мере шесть недель.
Там, на севере, Тихий Коридор был нами отмечен с большей точностью, тут в этом не было необходимости — к Санаторию вел лишь один путь через джунгли. По эту сторону дороги расположены полукругом жилые помещения военной охраны, склады, коттеджи научных работников, клиника, лаборатории, мастерские, гаражи, ангары. Кстати сказать, в использовании места и материала была проявлена чрезмерная расточительность. Выстроено семьдесят зданий или около того, каждое на отдельной поляне и с особым садиком, ресторан, кинозал, музыкальный салон, клуб, библиотека для солдат, библиотека для научных работников и еще одна для самого узкого круга специалистов, с коврами и с большими удобными креслами, обтянутыми синтетической кожей. Такая роскошь казалась чрезмерной и даже смешной здесь в джунглях. На севере у нас тоже было все необходимое для работы и обеспечения жизненных удобств, но трудность перевозки и климатические особенности не позволили создать подобный комфорт. Да и к чему? Разве это может повысить ученую степень?.. К чему, например, в здании фотолаборатории два помещения для сушилки, величиной каждое с теннисный корт? Ведь и одного было бы за глаза достаточно. Во втором помещении развешена одежда, словно в магазине готового платья. Отмечаю, что наши парни совсем не дураки, и велю слуге тоже принести сюда мою одежду и белье. Хоть это и сильно преувеличено, что из белья приходится выжимать воду, но на ощупь оно всегда влажное... Манипуляторы нам, конечно, нужны, но не двенадцать же штук! А заведующий лабораторией с гордостью показал, что их можно включать параллельно! Кто может уследить за работой сразу двадцати четырех рук? Но я заметил, что манипуляторы служат для забавы. Ну дураки. Словно и не профессионалы!
Майор сдержал обещание и зашел за мной вскоре после обеда. Перед ангаром нас уже ждал с разогретым мотором маленький вертолет. Мы поднялись на две тысячи метров. Под нами раскрылась Южная Котловина — темно-зеленое пятно, окруженное коричневыми склонами гор. Озеро среди темной массы растительности выглядело как нежная мякоть плода в грубой кожуре. В озеро впадало несколько устремлявшихся с гор ручьев.
А само оно имело форму груши, расширяющейся к востоку. Озеро оказалось гораздо больше, чем я предполагал, и занимало около тысячи гектаров. Но открытая водная гладь составляла не больше десятой части, да и на ней, словно причудливые иероглифы, виднелись камышовые островки. Я попытался запомнить, запечатлеть в уме карту озера, определить, можно ли по нему проплыть на лодке. Самое большое пространство открытой воды виднелось в верхней части, у впадения ручья. Впрочем, уже из формы и расположения озера было видно, что образовано оно в кратере вулкана и в свободных от камыша частях должно быть глубоким.
Мы медленно снизились. Ветра не было — здесь вообще никогда не бывает ветра, но на воде в разных местах возникала неожиданная рябь: много в озере живности, очень много.
Пилот включил скорость, вертолет подпрыгнул, и озеро целиком покрылось рябью от движения множества рыбешек.
— Они, бедняжки, и не подозревали, какое чудилище закружит над ними. Денька два вряд ли удастся тут что–нибудь поймать.
Посмеялись.
— Хотите рыбалкой заняться? — спросил майор,
— Хотелось бы.
— А как проберетесь к воде? Впрочем, подождите.
Мы снова медленно облетели вокруг озера.
— Смотрите внимательно, доктор, где тут можно найти лаз.
Я увидел целых два лаза в верхней части озера, вблизи протоки. Низкие, топкие берега — людей тут никогда не бывало, но с другой стороны большой участок земли с пожелтевшей травой.
— Тут будет удобно.
— Но рыба, очевидно, водится там, где глубже.
— Доставим сюда лодку.
Словно в подтверждение в тот же момент от протоки правее камышей взметнулась огромная волна.
— Вот это да!
— Что это может быть?
— Хищник, скорей всего щука. Они везде водятся.
— Огромная рыбина, уж это точно.
— Увидим. Если она такая жадная, что и вертолет ее аппетита не лишает, попадется она мне на крючок... А вы, майор, увлекаетесь рыбалкой?
Он отрицательно затряс головой. Но я уже видел, что ему нравится перспектива поудить на озере.
— Завтра приедем сюда вездеходом.
Очень приятный человек. Ему тридцать семь лет, а уже пятый раз назначен начальником экспедиции.
В баре мы выпили по рюмочке для закрепления дружбы. Показали друг другу фотографии детей, а я и внуков. Было уже совсем темно, на лагерь спустилась бархатная ночь, полная таинственных звуков и шумов джунглей, когда майор проводил меня домой.
23 августа. Прибыли первые пациенты.
Два брата, азиаты. Что касается их национальной принадлежности, определить трудно, похожи на китайцев, но в Китае живет множество племен. Свидетельства о рождении у них нет, говорят, что родились в Сингапуре, отец китаец, мать малайка. Называют себя старшим и младшим братом, но мне кажутся близнецами. Я сказал им об этом, но они продолжают утверждать, что один старше другого. А какая между ними разница в возрасте, не знают. Роста они небольшого, юркие, кажутся смышлеными, но слова из них и клещами не вытянешь. Абсолютно здоровые.
Гигант голландец. Был когда–то боксером тяжелого веса, но уже лет десять, как спился. От боксерских времен остался расплющенный нос, за годы пьянства ожирели мускулы, увеличилась печень. Сердце болезненно расширилось. Интересный материал для исследования. Острых заболеваний нет.
Красавец аргентинец. Тридцать два года, настоящий латинский сутенер, на шее золотой крестик. Дважды проходил курс лечения сальварсаном, но организм еще в приличном состоянии.
Разместили их в Санатории, предоставили полную свободу выбора — жить вместе или поодиночке в любом из домиков. Обеды пока будут получать из нашей кухни, но скоро переведем их на самообслуживание, пусть сами себе готовят. На складе для них запасены продукты, свежие и в консервах, есть и птичья ферма, свежие яйца, могут резать кур кому и сколько угодно.
Сведения о «тропических ливнях», как и обо всем остальном в Южной Котловине, оказались сильно преувеличенными. Правда, в этот сезон дождь идет почти каждый день, начинается он обычно в половине третьего и длится двадцать пять — тридцать минут. Самый настоящий ливень, но через час все выглядит так, словно дождя и не было. Конечно, в лесу, в самой чаще, с листьев капает вода, но капает она постоянно: и днем и ночью. За полчаса до ливня самочувствие ухудшается, чувствуется внезапное изменение в ионизации атмосферы. Особенно ощущают это ревматики и страдающие сосудистыми заболеваниями.
Проф нынче заявил, что начинает чтение лекций. Мало приятного! Но я мог это предвидеть! Да еще «по программе». По его программе. И что самое подходящее для этого время — когда идет дождь, все равно никуда не выйдешь. Мне так кажется, что любое время для его лекций самое неподходящее. «Посещение лекций не обязательно, но руководящий персонал сам должен быть заинтересован...» «Возможно, что превосходная молодежь с «Внутренних планет»... Всем известно, что окружение «Плутона» получает большие дотации и вознаграждения, но никто не подвергает сомнению уровень и дух группы «Сатурна». Замечательно! В аудитории на семьсот человек собралось не более семидесяти. Проф прежде всего позабавлялся с экраном величиной шесть метров на девять, нажимая кнопки, вызывал на туманной поверхности цветные рисунки и все их отверг (один из техников рассмешил всех, заявив, что для следующей лекции приготовит диафильм о Белоснежке), наконец остановился на карте мира. Можно было легко предвидеть, что лекция начнется с яиц Леды, то есть с международного политического положения.
— Прежде всего я хочу разъяснить, что такое атомный пат.
Внимание, наконец–то мы узнаем, что это такое!
Как бы не так! Он начал с разъяснения понятия «геноцид» и, как обычно, с древней истории человечества.
Всем известно, что геноцид — понятие очень древнее, по и абсолютно современное. Древнее потому, что геноцид был древнейшей формой войны: одно племя побеждало другое и тут же его съедало. Но когда человечество перешло к обработке земли, а вместе с тем и к рабству, оно убедилось, что людской труд стоит больше, чем мясо человека, и геноцид на какое–то время перестал существовать. Войны велись для завоевания территории и за владение рабочей силой ради обработки этой территории. То же самое происходило и при феодализме. Правители награждали своих вассалов землей вместе с «душами». Эти войны можно назвать войнами поголовного обращения населения всей территории в веру завоевателя и верность ему. Победитель уничтожает лишь ту часть населения, которая сопротивляется с оружием в руках, но уничтожает из необходимости обеспечить победу. (Это, конечно, не означает, что в те века вовсе не было «эпизодов геноцида». В любой войне случается, что разъяренный солдат убивает до тех пор, пока не набушуется до отвала.) С возникновением индустриального общества положение коренным образом изменилось. На цивилизованных пространствах земного шара население увеличилось настолько, что переросло возможности как производительности, так и потребления. Увеличившаяся потребность в топливе и сырье опять превратила земные пространства в самостоятельную ценность. Колониальные войны велись под прикрытием внедрения религии, а в действительности для завоевания территорий, на которых туземное население было лишь придатком к геологическим ценностям, к тому же придатком неудобным. Победитель не истреблял народов занятых территорий, это могло вызвать протест цивилизованного общественного мнения. Основной же причиной было отсутствие необходимых для этого средств. Но где было возможно, туземцев истребляли, в противном случае использовались другие приемы. Так было истреблено почти целиком древнее население Америки и Австралии. (Кроме того, во всех колониях наблюдается абсолютное или по крайней мере относительное уменьшение местного населения.) Картина неодинакова. Существуют еще войны, преследующие цель обращения населения в свою веру. Такими были войны Наполеона, а в последнее время революционные войны. Но основной тип теперь — война на уничтожение. Только об этом открыто не говорят, так как еще нет средств для этого.
Вот наконец он и подошел к атомной бомбе!
— Во время второй мировой войны геноцид проявился открыто. И не только у Гитлера. У англичан существовал план политического и этнического уничтожения немцев. Открытому провозглашению характера современных войн сопутствовало изобретение средств осуществления геноцида. Ядерное оружие по своей природе чревато им, любые околичности здесь исключены. Применяя такое оружие, убивают друг друга не бойцы сражающихся армий, истребляется население целых континентов. Но пораженные территории становятся непригодными для жизни. Отметьте себе это, так как здесь и находится суть вопроса! Что же такое атомный пат? Некоторые видят в нем мудрость или мораль инстинкта самосохранения человечества. Они глубоко ошибаются, речь идет совсем о другом! Расчет на жизненный инстинкт человечества, на его мудрость ничуть не реальнее расчета на жажду истребления, самоуничтожения и безумия. Атомный пат не в этом. Другие объясняют его страхом. Все великие державы, имеющие в запасе ядерное оружие в количестве, достаточном для истребления жизни на континентах, отлично знают, что их противник имеет такие же запасы этого оружия. Поэтому никто и не смеет применить его первым. Такое рассуждение наивно! Если бы речь шла только об этом, ядерная война давно бы уже началась и давно закончилась. Будь так, апостолы, одержимые идеей первого удара, уже давно осуществили бы свои теории. Чем же вызвано такое удивительное явление — самое мощное в истории человечества оружие существует, но с момента своего рождения лежит на складе или является музейным экспонатом, применению не подлежит, и мы все больше убеждаемся, что его никогда не применят? Причина проста и кроется в самой природе геноцидной войны. Напомним еще раз: воюющие хотят завоевать для себя территории, к тому же — необитаемые территории. Годится ли для этого ядерное оружие? Отчасти годится, ведь оно истребляет население, но, с другой стороны, делает жизнь в этих местах невозможной! Иначе говоря: я могу истребить противника, но ничего этим не добьюсь, так как не могу занять опустошенные территории, не смогу в течение десятков лет пользоваться ими. Оказывается, это дорогое, странное оружие бесполезно и неприменимо. Поэтому даже самые консервативные его сторонники говорят, что от стратегического ядерного оружия пора перейти к производству так называемого тактического, торопят с его созданием и применением. Но ведь тактическое ядерное оружие — чепуха! Эти люди просто не осмеливаются признаться, что громадное количество расщепляющегося вещества, накопленное за многие годы ценой огромных затрат и усилий, ни на что не нужно. Они ищут лазейку, чтобы спасти хотя бы видимость. Я вам сейчас докажу...
Мне он, однако, ничего не доказал. Мы вместе с майором сидели в последнем ряду, поближе к выходу. Достаточно было переглянуться, и мы, как напроказившие мальчишки, согнувшись, прокрались к двери.
— Как вы думаете, почему тактическое атомное оружие привело к атомному пату?
— Потому что это чепуха! Если хотите, можем вернуться.
Смеясь, мы спустились в подвальный этаж. На складе получили высокие резиновые сапоги, пару тюбиков против комаров. Майор вел вездеход на такой скорости, что мне пришлось пристегнуться ремнем, чтобы не вылететь из открытой маленькой машины. Мы достигли места на берегу ручья, где завяз наш грузовик, отсюда в направлении озера передвигались медленнее, хотя по следам было видно, что перед нами здесь проходил гусеничный трактор.
— Сегодня утром я отправил лодку.
Километрах в полутора от озера взрытая земля и разбрызганная грязь показывали место, где развернулся трактор, там же лежала перевернутая вверх дном лодка.
— Я же велел спустить ее на воду, — выругался майор. — Что тут произошло?
Камыш высотой не менее трех метров закрывал нам вид на озеро, но по запаху чувствовалась близость воды. Я шел впереди, торопился к берегу, из–под ног при каждом шаге выпрыгивали лягушки.
— Стойте! — крикнул майор, показывая на что–то передо мной.
Метров на десять в ширину простиралась желтоватая грязь, вся перекопанная, влажная.
— Что это?
— Грязевые ванны диких кабанов.
— Я думал, это пословица такая, что свинья в грязи валяется потому, что она свинья.
— А у нее есть на то основательная причина. Грязью она вычищает из щетины насекомых.
Грязевые ванны, ну и пусть. Но ведь к озеру только через это место и подойдешь. А сапоги на что? Сделав шаг, я поскользнулся на кочке и в то же мгновение погрузился почти до колен в грязь и упал. Майор потом утверждал, что мне здорово повезло. Поднять меня он сумел, только вытащив из сапог. И тут же меня радостно атаковали тысячи комаров.
— Ничего, доктор, мы сумеем помочь беде. Бревна и доски у нас есть, пришлю сюда саперов, их под моим началом целый отряд, будет вам спуск к озеру, что надо.
— А дикие кабаны?
— Другое место себе найдут. Они людей боятся.
Майор повернул машину вспять, но мы успели добраться лишь до ручья, откуда начиналась наша «дорога», как на землю спустилась тропическая ночь.
— Откуда вам известно о грязевых ваннах диких свиней?
— Я хотел стать лесником, все детские годы готовился к этой профессии. Хотел корчевать джунгли, сажать новый лес, жить в деревянной избушке, подальше от шумного мира. Тешился я этой мыслью лет до семнадцати-восемнадцати. Напрасно убеждал меня отец, что не для меня эта романтика, я ведь всю жизнь жил в городе, не выдержу я один в лесу. Постепенно я и сам начал колебаться, но из гордости продолжал твердить свое. Потом познакомился с моей теперешней женой. Обожаю ее и надеюсь, она меня тоже. Хорошая хозяйка, прекрасная жена, примерная мать троих детей, но, если предложить ей поселиться со мной в лесу, она тут же подаст заявление о разводе. — Майор рассмеялся. — Езжу раз в год вот в такую экспедицию, и все. Да и то жду не дождусь, когда смогу вернуться в город. Домой. От прежней мечты осталась любовь к деревьям, камышам, плавням.
— Каждый из нас таит в себе какую–то детскую мечту. Я хотел быть врачом.
— А разве вы не врач?
— Не таким. Хотел стать настоящим врачом, который лечит людей.
— Я думаю, мы часто сами не знаем, чего хотим. И, в конце концов, разве не лучше так, как оно есть? — Голос его стал мягче: — Видите ли, моя жена в нашей действительности прекраснее мечты о лесе. Мне всегда так кажется, когда я ее несколько недель не вижу.
26 августа. Два дня я не садился за дневник. Обслуживающий персонал праздновал день святого Варфоломея: именины нашего коменданта. Причина для выпивки достаточная. Я ведь знал, что мне будет нехорошо, не умею я пить и не выношу спиртного, но нельзя мне, научному сотруднику, отказываться от участия в пиршестве, нанося тем самым обиду нижестоящим.
Стол для ужина был накрыт в большом зале офицерского клуба. Вначале все было благопристойно, произносили тосты, чокались, но к концу ужина веселье стало всеобщим. Майор приказал убрать со стола. Освободили молодежи место для танцев. А мы, человек двадцать, удалились в гостиную, продолжали там пить и беседовать.
Разговор зашел о Варфоломеевской ночи. Кто–то сказал, что название это неправильное — истребление протестантов по всей стране продолжалось целый месяц. Точных данных нет, но, очевидно, число убитых превышало сто тысяч.
В наступившем молчании заговорил Толстяк. Он удивительно быстро считает, обожает статистику и лучше всех знает все и обо всех. Толстяк уже успел подсчитать, что в нашем маленьком коллективе, если б мы жили во тьме полного суеверий века, приверженцы религии большинства могли истребить до ста человек. А эта сотня, продолжал он развивать свою мысль, даже если взять только ценность, представляемую их знаниями, соответствует по своей стоимости одной тонне чистого золота. И это не считая тысячелетней культуры, наследниками которой мы являемся. Какая потеря с точки зрения экономического, а еще больше научного развития страны!
Тем временем я погрузился в туманные бездны почти полной потери сознания, со мной чокались, и я пил вместе со всеми рюмку за рюмкой, может быть, даже считая, что мне от этого станет лучше. Помнится, мы перешли в большой зал, где танцевала молодежь, кто–то взял меня за локоть. Я, кажется, даже улыбался, раскланивался, пожалуй, никто и не заметил, в каком я состоянии. Но зато, когда я вернулся к себе... А ведь мои коллеги, как бездонные бочки, пили всю ночь напролет до середины следующего дня, солдаты же, во всяком случае, самые упорные и настойчивые, продолжали пить до сегодняшнего утра. Что касается меня, то весь следующий день я провел в комнате и только под вечер несколько пришел в себя и вышел на террасу. Курить я не мог, очевидно, накануне еще и никотином отравился, когда курил не переставая.
Сегодня утром ко мне в лабораторию пришел майор, позвал полюбоваться, какое чудо совершили его саперы. И действительно, они вбили восемьдесят свай, наложили на них более трехсот метров сосновых досок. По зову сердца я тут же поспешил бы к озеру, но до обеда оставалось не больше часа, а после обеда Проф собирался прочитать нам вторую лекцию.
Пришли мы его слушать без всякого энтузиазма, и только научный персонал. Военные были заняты приемкой каких–то грузов, хороший предлог для офицеров не идти на лекцию. Таким образом, Проф «отклонился от темы», выступив «специально для нас» с сообщением, за которым должна была последовать дискуссия. Его тезис: естественнонаучное и техническое развитие скоро сядет на мель; расцветают общественные науки, особенно философия. Крах точных наук отчасти объясняется имманентными причинами. Сами науки настолько раздробились и специализировались, что невозможно охватить, переварить нами уже познанное. Но есть еще и очень серьезная экономическая причина: расходы на каждый дальнейший эксперимент безмерно увеличиваются. «Совокупная стоимость всего, что производит общество, и предполагаемая выгода от воспроизводства теперь уже не адекватны тому, на что естественнонаучные и технические исследования в дальнейшем претендуют и что они могут нам дать». С другой стороны, философия — если пришло ее время — может расцвести и без всяких затрат. И в этом ее расцвете общество нуждается — подразумевается особо каста ученых, — чтобы иметь возможность всеобъемлюще понять все новое, нами познаваемое. Итак: десятилетия нового тысячелетия непредвиденно идут под знаком общественных наук. Quod era demonstrandum [1].
Эти красиво изложенные глупости рассердили бы меня, даже если бы я не знал, что за ними кроется. Меня удивило, что мои коллеги, среди которых было много людей разумных, приняли сообщение Профа всерьез и приступили к его обсуждению. Как всегда, первым взял слово Толстяк, обрушив на нас груду статистических данных. Он сказал, что наша родина на десятки лет вперед обеспечила себе техническое превосходство, а в области философии располагает огромными неиспользованными запасами. И наконец: в новом тысячелетии мы выполним нашу высокую миссию, выведя человечество из анархии и научив его жить по-человечески.
Меня попросили выступить, и я сказал:
— Возьмем комплекс исследований, над которыми я работаю более четырех лет. Никто не может отрицать, что тема принадлежит к естественным наукам. И что она совершенно новая. Если мы добьемся успеха, это будет значительный шаг вперёд. Решение мною найдено, по существу, без всяких затрат, путем умозаключений. Можно сказать и иначе: прежде всего я философски обосновал все исследование. Первым вопросом было: «Что такое жизнь и ее распад, можно ли четко разделить эти процессы?» В чем разница в функциональности между живым и мертвым человеческим телом, всем известно. Но откуда берется эта разница? Может, она в том, что, пока мы живы, в нас есть душа, а когда умираем, душа из нас уходит? С точки зрения наших исследований, это диспаратное понятие или, говоря проще, глупость. Будем придерживаться материальных понятий — количественных и качественных соотношений, движения, иначе говоря, химических, биологических, физических процессов. Тогда мы должны сказать: в нас есть все, что составляет жизнь, и все, что составляет смерть.
Видя интерес присутствующих и их нетерпение узнать больше, я пустился в подробности.
— Долго пришлось мне ломать голову над проблемой воды. Как абсорбирует воду живое существо? Какое отношение имеет химически чистая вода к жизни? Я шел по пути раздумий, мне понадобилось лишь несколько книг, не больше того. Следующей была проблема эмульсии. Может показаться смешным, но в исследованиях сыграл роль анекдотический эпизод. Я вспомнил, что в бытность мою студентом в Париже у меня как–то собрались мои товарищи, студенты и студентки, разговоры затянулись до позднего вечера, мы проголодались и отправились в кухню. Я отварил крутые яйца, был у меня зеленый салат, сыр, а одна из девушек с юга Франции затеяла приготовить майонез, но у нее ничего не получилось, составные части не амальгамировались, «отсекались». Она хотела еще раз попробовать, но один из товарищей остановил ее: «И не пытайся, у тебя, должно быть, менструация!» — существует такая примета. Девушка смутилась, расплакалась, направилась к двери, едва удалось удержать ее, а она твердила одно: «Какие глупости! Какие глупости!» Ее подруга позже сказала, что расстроилась она потому, что ей действительно в это время нездоровилось. В чем же здесь дело? Что это, глупость, суеверие или основанная на наблюдениях народная мудрость? Однажды я прочитал сообщение об археологических раскопках. В саркофаге лежал совершенно целый труп человека, похороненного две тысячи лет тому назад. Но это была лишь видимость. Его успели сфотографировать, но не прошло и двух минут, как он рассыпался в прах. В сообщении упоминалось и о других подобных случаях, такие же «чудеса» приводились в доказательство святости при канонизации святых. И мне пришла идея, была ли она плодом размышлений или это случайность, только я впервые обратился за помощью — до сих пор я ее искал в собственных мозговых извилинах и в собственной библиотеке — к учреждению дорогостоящему: в библиографический центр. (Отмечу, что это учреждение существует и помимо меня, с тем же персоналом и тем же бюджетом.) Оказалось, что подобные «чудеса» происходили с женщинами, и только с молодыми. Надо ли продолжать? Я пошел по следу. Я должен был воспроизвести с помощью химии биологический процесс, чтобы потом в ставшем химическим процессе найти самое малое и самое важное количество — окончательный катализатор.
— Вы забываете, коллега, — перебил меня Толстяк, — что, производя эти анализы, ваши сотрудники произвели вскрытие десяти тысяч животных.
— Их мясо не выбрасывалось, оно пошло в продажу, нам были нужны только их железы.
— А сколько сотен человек работало на вас, сколько безумно дорогих счетных машин куплено для института?..
— Не спорю, моя работа требовала расходов, но эти расходы не были безмерны. Мои опыты проводились не даром, но стоили они не больше той серии, которая была осуществлена четырьмя годами раньше. Я хочу еще кое–что сказать! Могу вот так сразу назвать дюжину болезней, нарушений сердечной и лимфатической деятельности, лечения которых мы до сих пор не знали или лечили их симптоматически. Вычтем из расходов на мои опыты те результаты, которые очень дешево могут достаться терапии и фармакологии, и окажется, что полученное добыто почти даром.
Снова взял слово Проф. Говорил он медленно, членораздельно, вперив в одну точку взгляд, улыбаясь и ритмически, словно певец на эстраде, покачивая головой. Люди, часто общающиеся с ним, знают, что это в нем признак ужасающей ярости, в такие минуты он способен убить или, рыдая, броситься на землю.
— Прежде всего, с вашего разрешения, я оставлю в стороне фармакологию и терапию! Практический смысл этих наук здесь был бы тем же самым, как если бы мы пытались перечислить, скажем, расходы по космическим исследованиям на счет оспариваемого многими принципа человеческого прогресса, утверждая, что они вовсе не так высоки. Добавлю еще, мой глубокоуважаемый коллега забывает, что в наши дни исследования идут по определенной линии. Мы живем уже не в веке случайных великих открытий. Логика такой линейности необязательно совпадает с логикой познания, мы должны строго придерживаться заданной программы, которая в отношении науки носит, я бы сказал, трансцендентный характер. Если мы будем рассматривать отдельные этапы в пределах этой линейности, то для всех станет очевидным...
Проф говорил долго, Толстяк усердно вторил ему. Мне стало жалко Профа, и я сам не знал, за что больше его жалею — за тщеславие или за то, что его защищает Толстяк? Дискуссию закончил я, как того хотел Проф, и с полным к нему уважением. Да, я пожалел его.
— Сознаюсь, что искал противоречий, как это делали софисты, а в действительности я полностью согласен с господином профессором. Мой случай лишь отдельный эпизод, не изменяющий сути дела. Закон безмерного повышения стоимости исследований правильный, и это могут подтвердить исключения, даже не одно, а целая дюжина.
Меня удивило не то, что он даже взглядом не поблагодарил меня за постланный у его ног ковер почета, удивили меня коллеги. На его стороне оказались и те, о ком я точно знаю, что не любят Профа. И никто не уловил в моих словах иронию. Великий человек, каким бы он ни был, остается великим. Так уж оно есть! Проф непоколебимо верит в свое величие и умеет внушить ту же веру другим. Хотелось бы мне узнать, в чем его секрет!
Саперы действительно выполнили работу мастерски. На бревенчатом накате в четыре ряда положены доски — мостик над заболоченным берегом в полметра вышины, протянувшийся далеко над водой от твердой суши, на которой может развернуться машина. С двух сторон мостика перила, а в самом конце расширенная площадка, в углу будка.
— Для рыболовной снасти, — гордо показал на нее майор, — и от дождя можно укрыться.
У кромки причала на воде большая саперная лодка со свернутым канатом и якорем на носу.
— Обо всем позаботились!
— Специалисты. Их сержант и сам заядлый рыболов.
К стенке будки прислонены два коротких весла и багор длиной в четыре метра. На стене висит выкрашенный в красный цвет огнетушитель и спасательный круг под ним.
— И правила безопасности соблюдены, — засмеялся майор. — Капитальная работа, доктор, не кое–как!
Мы молча постояли у причала, поддаваясь очарованию окружающей природы. Трудно передать словами это чувство тем, кто не знает и не любит общения с природой: теплый, сладковатый запах камышей щекочет обоняние, вокруг простирается таинственная глубь озера. Словно ветерок пронесся по поверхности воды — проплыла, спасаясь бегством, стайка мелких рыбешек, со дна от гниющих в иле остатков веток и травы всплывает пузырь и лопается с запахом газа, из–под камышей сверкают глаза лягушек. Но вот из камыша выплывает лысуха, лягушки мгновенно скрываются под водой, за матерью четыре птенца, маленькое семейство пересекает открытую воду и исчезает с противоположной стороны в зарослях. Камыш переливается всеми цветами радуги, красным от охры до кирпичного, зеленым от светлого весеннего до густого предосеннего, и рядом покрытые мхом гниющие черные корни. Но сейчас даже черный цвет кажется красным и лиловым, сумерки ложатся на горы, небо горит пожаром.
В глазах рябит от ярких красок заката и их отражения в воде, а с гор все ниже спускается лиловатый туман, протягиваясь к воде похожими на мрамор полосами.
Я трогаю майора за локоть, но и он улыбается; зачарованный зрелищем. Словно в дополнение к буйству красок мы замечаем, как в дальнем углу озера охотится выдра, а может быть, играет, или то и другое вместе? Из воды появляется умная собачья морда, животное делает несколько прыжков в разные стороны, и каждый из них непохож на прежний, как в трели соловья. Я мог бы любоваться часами, но не проходит и трех минут, как выдра скрывается. Откуда–то возникает стайка болотных куличков и исчезает в никуда, даже камыши не шелохнулись. Но их появление словно послужило сигналом к началу вечернего концерта: залились лягушки, птицы засвистели, затрещали, защелкали, запищали, гомон напомнил камыши. Но не прошло и минуты, замолкли все, одни лягушки продолжали свой концерт.
Я взял с собой кольцовку и приваду, опустил снасть в воду, даже не ждал долго, вытащил восемь подлещиков. Как раз что надо, лучшая приманка. Одной заботой меньше. Спускаюсь в лодку, ступаю мягко в резиновых сапогах, но лягушки тут же замолкают, напрасно снова и снова опускаю кивок — он пуст.
— Видите, майор, всегда так с металлическими лодками.
— Сержант это предвидел и завтра захватит с собой коврик из пенопласта по размеру лодки.
— А что, если я вас попрошу прикомандировать ко мне сержанта?
— Я сам хотел вас об этом просить. Но с одним условием.
— ?
— Чтоб вы и меня с собой брали.
Сумерки густеют, ночь опускается, окутывая нас черным занавесом темноты.
Продолжаю раздумывать о Профе. Он ученый, нет сомнения, но и в этой категории не выше среднего. Все это чувствуют, предполагают, но держат про себя. А когда старик чванливо разглагольствует, никто даже краешком рта не улыбнется. А если кто–то хочет польстить ему, сознательно польстить, то не проходит и полминуты, как льстец и сам убеждается в действенности своей лести. Старик воспринимает хвалебные гимны как нечто само собой разумеющееся.
Почему так получается, что один человек всегда страшно волнуется и переживает, когда ему надо что–нибудь предпринять, и каждый раз вынужден доказывать, что и он кое–что знает; а другой даже во сне чувствует себя конной статуей на пьедестале? Пытаюсь ответить на этот вопрос.
Во-первых, Проф ведь из провинции. Ну, конечно! Вся его юность прошла в провинциальном интернате, где он был лучшим из лучших. Потом университет, старинный, но маленький. Можно легко себе представить, что был он самым выдающимся студентом на своем курсе, а может быть, и все шесть лет учебы самым выдающимся на факультете. Сколько студентов учится на шести курсах медицинского факультета в этом университете? Не более двухсот. И был он первым среди двухсот... Но он видел лишь: он первый! До двадцати четырех лет не видел ничего другого.
Во-вторых, его жена пятью годами старше его. Никогда не была красивой. И конечно, у него три дочери. Единственный мужчина среди четырех женщин, идол семьи...
И я вспоминаю свою гимназию, двухсотлетние стены которой увешаны портретами ее прославленных питомцев, восемь лет я мог идти только по их следам. Потом университет. Я был на четвертом курсе, когда профессор запомнил мою фамилию. Среди моих сокурсников один нобелевский лауреат, уже тогда было видно, что он того добьется.
Моя жена — самая очаровательная женщина во всем мире, все мы — я и сыновья — не перестаем ее обожать. Знаю, что самодовольство — ограниченность, через него не переступишь, но видно оно лишь со стороны. Но я знаю еще, что близнец самодовольства — безграничная самоуверенность, а это такая сила, перед которой вынужден склониться даже посторонний.
Закрывая глаза, вижу причал и озеро. Свежеструганые доски, кусок цивилизации, грубо ворвавшейся в древний мир природы. Я спросил у майора, каким он себе представляет Эдем. Он никогда об этом не задумывался. А потом сказал, что видит рай таким, как и большинство других, — чистеньким, красиво подстриженным господским садом. Нет! Древняя колыбель человечества была похожа на эти камыши!
27 августа. Сегодня прибыли еще три пациента. Норвежский матрос, нескладный, с лошадиным лицом, рыжий, тридцать пять лет. Странный маленький крестьянин, откуда–то из Восточной Европы: поляк, венгр, югослав?
О себе ничего не говорит. По глазам вижу, что далеко не все понимает. На все вопросы ответ один: «Жалею, жалею, жалею», в сопровождении смущенного жеста. Морщинистое лицо, судорожные движения, согнутая спина: покорный и хитрый, ко всему готовый и лукавый. Третьей была женщина. Я подумал, что она креолка, оказалось — цыганка. Когда–то она была, очевидно, красива. Когда–то? С удивлением в материалах следствия читаю, что ей всего двадцать пять лет, а выглядит по меньшей мере на десять лет старше, но если б мне сказали, что ей сорок пять, я, не усомнившись, поверил бы. Интересное лицо: покорная усталость, испытующий, проникновенный взгляд. Что–то в ней спит или умерло, может быть, вкус к жизни.
Материалы следствия я просмотрел лишь вечером. Меня ждал сержант, да и мною все больше овладевало нетерпение.
Сержант, сразу видно, врожденный рыбак. Мягкие волосы над широким лбом почти белые. Другие в его возрасте тяжелеют, он строен, как юноша. Руки жилистые и сильные. Все в нем — речь, движения, взгляд — полно ясности и высокомерного спокойствия.
За четыре приема вытаскиваю тридцать подлещиков, более чем достаточно для наживки. Мы спускаемся на воду. Сержант прихватил с собой острый нож для резки камыша и мотки красных желтых синтетических ленточек. Мы обошли на веслах вокруг зеркала воды у причала. Тут мелко, вода илистая, если чуть глубже захватываю веслом, со дна поднимается муть. Надо выбраться на открытую воду. В двух местах нам показалось, что можно пройти сквозь камыш, попробовали, но очень скоро убедились в своей ошибке. Вышли на небольшое пространство воды, которая показалась нам чистой, а вокруг, как черная стена, торф. Да и вода полна водорослями, мы с трудом очистили от них багор. Больше получаса понадобилось нам, чтоб снова выбраться на открытую воду. На месте, где мы так неудачно пытались пройти, сержант завязал несколько стеблей камыша красной лентой.
— Чтоб еще раз не залезть нам в этот кисель!
Попробовали в другом месте. Сержант стоял на носу лодки, резал камыш, я отталкивался багром. Прошли так метра четыре и вышли в природную лагуну. Довольно легко прошли по ней метров пятьдесят, но потом она разделилась на два рукава, и, конечно, выбранное нами направление оказалось неправильным, а ведь нам показалось, что именно этот рукав выведет нас в глубокую воду. Еще через пятьдесят метров наткнулись на препятствие, преодолели его, сержант прилежно резал камыш, а минут через десять мы оказались в начале лагуны. Выругались, как положено, пометили красными ленточками вход в коварный рукав и направили лодку в левую протоку. Продвигаться становилось все труднее, рукав сузился, воды почти не было, одна грязь, наша лодка скользила по поверхности, почти не погружаясь, а проход изгибался подковой, и мы уже заранее ругались, что опять угодили в поворотную петлю. Но нет, слева увидели просвет, метра два пришлось резать камыш, и вот мы вышли на широкое водное пространство в форме эллипса с круглым камышовым островком посредине, словно глаз с зрачком. Очевидно, мы выбрались на самую середину озера. Я хотел сразу идти дальше, но сержант воспротивился: надо сначала отметить ленточками — нужное направление для выхода — желтыми, неправильное — красными. Водное пространство в форме глаза оказалось гораздо глубже, я еле доставал до дна четырехметровым багром. Редкий камыш слева показал нам, в какую сторону идти дальше.
Продвигаясь вперед, мы вспугнули огромное количество птиц. Они вылетали со всех сторон и так низко над нами, что я смог бы, пожалуй, сбить некоторых из них веслом: дикие утки, карликовые цапли, бакланы, целые тучи мелких птиц, гнездящихся в камышах. Резкими криками давали они сигнал опасности, но, как только мы пробились сквозь камыши, птицы исчезли.
Мы шли сквозь редкий камыш по крохотным озерцам, нанизанным, как бусы, на одну линию, справа и слева намечались проходы, но мы оба прилежно отмечали их красными ленточками. Цель была близка, еще метров сто, последние препятствия, взмахи ножа, и перед нами открылось зеркало воды в форме воронки, которое мы видели с вертолета.
— Можем начинать военные действия!
Привязали лодку к камышам. В тени нас в одно мгновение облепили комары, пришлось раздеться до трусов и покрыть кожу мазью от комаров. Я посмотрел на часы, время приближалось к пяти, а спустились мы на воду в два.
— Обратный путь мы проделаем за полчаса.
— Пусть лучше будет в запасе час!
Пластиковое удилище было у меня длиной в три с половиной метра, леска в сорок метров. Прицепил поплавок, измерил глубину, поплавок лежал на семи метрах, передвинул его на шесть, выбрал самого большого подлещика, величиной с пол-ладони. Сержант закинул донку. Мы решили, что добыча появится минут через десять, как только утихнет тревога, вызванная нашим появлением. Но ждать нам пришлось дольше, за полчаса только и случилось, что мне пришлось несколько раз отводить удочку, наживка все время устремлялась к зарослям водяного ореха, и через две минуты поплавок оказывался сверху. Значит, глубокая вода здесь в одном каком–то узком месте, а там не клюет. Метр за метром я укорачивал леску и подводил ее к зарослям водяного ореха. На расстоянии трех метров поплавок дрогнул, метнулся пару раз и исчез, но неглубоко, его было видно под водой, снова взметнулся и погрузился, и так несколько раз подряд. Напрасно ждал я появления хищной рыбы. Наконец вытащил удочку с объеденным лещиком. Сержант тоже сменил донку на поплавковую. Нацепив на крючок самую маленькую наживку, он через две минуты вытащил первого черного окуня с полкилограмма весом. Снова нацепил наживку, вытащил второго, потом третьего, всех одинаковой величины. А я продолжал выбирать больших подлещиков и старался подвести поближе к зарослям водяного ореха. Сержант удил с другой стороны лодки, не хотел даже ненароком поймать «мою большую рыбину». А у меня продолжалось все то же: когда я опускал удочку чуть подальше от зарослей, поплавок начинал плясать минуты две-три, потом останавливался, и я вытаскивал объеденного подлещика, а у самых зарослей даже черный окунь не клевал. Вообще я не поймал ни одного окуня, один из них прельстился на наживку, но огромный тройник не вмещался в его пасть, и он ушел.
— Переходите и вы, доктор, на мелкоту! Нет здесь больших рыбин, или аппетита у них нет...
— Должна быть! Либо пан, либо пропал!
Пан из меня не получился.
Без четверти семь мы решили собираться обратно. Я так ничего и не поймал, у сержанта уже было с дюжину окуней, некоторые довольно крупные, как вдруг удилище у него взметнулось, он его едва удержал.
Началась борьба. Леска была достаточно крепкая, но удилище короткое, трудно удерживать рыбину подальше от камыша. Мы еще не знали, что попалось, но что–то большое. Сержант стал вываживать, и минут через десять показались спинные плавники черного окуня, это был редкий экземпляр. Еще через пять минут он был в сачке. Безмен показал около четырех килограммов.
— Боюсь, что вашу рыбу поймал я, доктор. Простите!
— Не поймали, сержант. Я другую хочу взять, раза в три больше этой.
— Легко ошибиться, если вот такой хищник охотится у поверхности. Скандальная рыба окунь, даже если в нем не больше пятисот граммов, а о таком, как этот, и говорить нечего!
— А я все же не сдаюсь!
Из окуней поменьше мы оставили лишь пару, весивших с килограмм, остальных бросили в воду: не стоит трудиться, чистить их.
Пока отчалили, пробрались через камыши до маленьких озерок-бусинок, стало темнеть, а выбравшись на озеро в форме глаза, мы уже не могли отличить красных ленточек от желтых, два раза обогнули воду вдоль камыша, пока с помощью фонарика не нашли желтую ленту. В лагуне нас объяла такая темнота, что мы уже бродили вслепую, батарея фонарика была на исходе, и мы включали его лишь на мгновение, чтоб рассмотреть цвет ленточек. Мы не боялись заблудиться, но проход был такой узкий и извилистый, что нос лодки постоянно втыкался в камыши, чему способствовала и жидкая грязь, по которой мы скользили. С берега донесся резкий свист, потом громкое ауканье. Мы ответили, но идти быстрее не могли, каждые четыре-пять метров втыкались в камыш, пятились, ругались, устали, вспотели, комары снова обрушились на нас целыми полчищами, так как мазь уже не отпугивала их. Полчаса, еще полчаса, которые казались нам часами, и мы у причала, где нас ждал майор. По-отечески выговаривая нам, он обтер нас смоченной в уксусе тряпкой. Но и без его порицаний мы были уверены, что не рискнем еще раз ввязаться в ночное приключение. Домой мы вернулись после десяти. У меня поднялась температура, я отослал обратно ужин. Пришел наш врач невропатолог, дал мне что–то против аллергии, и я очень быстро и крепко уснул.
28 августа. Будь я этнологом, была бы у меня прекрасная тема для диссертации: возникновение географических названий. Мифология географических названий в древнем обществе; гуманитарная функция названия; культовая роль названий в отношениях между человеком и природой. Я заметил, какое значение в нашей рыбалке приобрели данные нами названия: Первый прорыв, Кисель, Рожок, Божье Око, Четки, Воронка. Нам было бы гораздо тяжелее вспоминать наше ночное приключение, если б в памяти у нас не осталось ничего иного, кроме темноты, сопротивляющихся нашим усилиям камышей, грязи и комаров. А я даже от всего этого заболел. Но нас, как заклинанья, спасли названия — они были нашими, продолжением наших существ, обозначением нашего пути. В тайну этих названий мы посвятили майора, нового члена нашего общества. Да, общества. Сержант и я — герои вчерашнего похождения. Первобытное общество: два человека против природы. Два человека против неизвестного. И к тому же два человека, связанные общим хобби. Не пристрастием, а именно хобби, своеобразной формой существования. Пристрастие, как говорят психологи, активный отдых, отключение или переключение энергии. Хобби — напряженнейшая концентрация энергии. Хобби — ностальгия, тоска по человечности людей до потопа, желание создать из грязи жизнь!
Наше первобытное общество, сержант и я, а с нами и новичок, которого мы должны во многое посвятить, майор, вспоминало о пройденном вчера пути, и не было следа вчерашних страхов и терзаний. Их не было, потому что мы назвали места волшебными словами, не сговариваясь, обозначали вчера возникшим названием. Мы говорили Божье Око, и это был наш глаз, это были мы. Простите за сравнение: кобель отмечает, подняв ножку, места, куда он хочет вернуться, которые он считает немножко своими; человек дает этим местам названия. Очевидно, это и есть особенность человека, его индивидуальная и общественная особенность — клеймить места словом. Я наблюдал за майором, который признался мне, что не умеет плавать, может быть, даже страдает водобоязнью, я наблюдал: когда мы произносили название какого–то места, его лицо прояснялось, словно он думал: «Ах вот как, ну это совсем другое дело». Раз есть название, значит, это не вода, не камыш, не первобытный лес, и мне не страшно.
Хочу затронуть, хотя бы схематически, еще одну тему: философия в качестве второй сферы интеллектуальной деятельности, если сравнить ее с мифологией, почти обесчеловечивает. Философия как бы снова приподнимает вуаль над таинственным, непознаваемым туманом. Именно так, это не путаница в формулировках: приподнимается вуаль, на которой мифология колдовски нарисовала чудесный очеловеченный пейзаж, а за вуалью таится бездонная темнота. Философия ссылается на вещь в себе, познать которую мы никогда не можем. А в сфере мифологии мы лишь даем названия тому, чего мы не можем познать...
Если я проживу до ста двадцати лет, то, может, у меня когда–нибудь найдется время прочитать этот мой дневник и даже написать на его материале диссертацию. Проф утверждает, что я создан в манере «человека Ренессанса», как раз сегодня он говорил об этом.
Но давайте по порядку. В первой половине дня полуторачасовая репетиция с камерой. Первое впечатление, что цыганка действительно красивая женщина. Второе, что она не принадлежит рыжему моряку, она, видно, любит хоженые и легко проходимые дорожки. Они мгновенно столковались с латиноамериканским красавчиком. Маленькое общество из семи человек в Санатории, не говоря ни слова, приняло это к сведению. А может быть, просто уступило силе. К парочке третьим примкнул бывший боксер. По-видимому, речь вовсе не идет о menage en rois [2], кажется, бывший боксер человек семейственный и любит домашнюю кухню. Цыганка занимается хозяйством. (Интересно, что из всех построек они выбрали крестьянский дом.) Ну а рыжий моряк, о котором я подумал сначала, что во время долгого пути он вступил в связь с цыганкой (моряк вошел в контору с видом покровителя женщины), оказался человеком ветхозаветного склада. Он достал одеяло и спит на нем в полном одиночестве на террасе виллы, под открытым небом. Сидит на одеяле и читает Библию. Ест он и пьет только то, что приносит ему цыганка. Отдельно от других живут близнецы из Восточной Азии. Целый день они готовят себе чай на костре перед большим камышовым шалашом, сидят и молчат. А может быть, это их манера общения: оба молчат об одном и том же. Своеобразный тип — крестьянин. Он, пожалуй, одинок, ведь ему даже поговорить не с кем, но и в своем одиночестве он существо общественное. И это постольку, поскольку он ходит туда-сюда, словно занимается целенаправленной деятельностью, за всем наблюдает, ко всему присматривается, все хочет основательно узнать — для себя.
Знаменательно: эгоизм и себялюбие, по существу, категории общественные в самом узком смысле слова. Я готов был прийти к заключению, что рыжий матрос с его Библией и близнецы с их чаепитием существуют вне общества, а тем самым и вне жизни. Но ведь это результат моих совершенно частных наблюдений. Съемки вел невропатолог, он же диктовал запись всех данных и считает, что поведение пациентов нормальное. Лишь деятельность цыганки он нашел маниакальной. Невропатолог побывал в Санатории и сообщил, что пациенты просят извещать их звонком о начале съемок. Если они этого хотят, то имеют на то право. Мне все равно.
Проф! Сегодня мы с ним публично повиляли друг перед другом хвостом для назидания ближним. Инициативу он взял на себя. Как я уже сказал, Проф заявил, что я человек Ренессанса. Это вытекает из моих методов исследования, или, говоря его словами, из моего «ассоциативного механизма». «Склонность полигистора». Он сам в любом случае предлагает «многоуважаемому коллеге» — то есть мне — обратить внимание, что Ренессанс в широком смысле слова, иначе говоря, период с XIV до XVIII века, имел в Европе чрезвычайное значение с точки зрения познания, которое было, однако, лишь побочным продуктом планомерного и бесплодного исследования. Сами же планомерные изыскания, которые финансировались единственными возможными в ту эпоху меценатами — магнатами, остались безрезультатными. Все созданное в эту эпоху и ставшее впоследствии фундаментом развития в последующие эпохи естественных наук возникло в поисках философского камня, чтобы делать золото магнатам. Всем известно, что этого не добились. Но меценаты нашего времени не настолько невежественны, а можно даже сказать, не настолько доверчивы или либеральны, как это было в эпоху Ренессанса. Мы обязаны найти золото! Наша работа с точки зрения исследования должна быть успешной, и нам безразлично, что даст она с точки зрения познания. Проф доказал, что стоимость исследований непомерно растет, а я — что расход на приобретение познаний альтернативен.
Я сдался. Он же благородно заявил, что всегда питал бесконечное уважение к людям Ренессанса. На это я ответил, что синтез будущего времени, безусловно, найдет в типе Профа прообраз философа и что я сам этого горячо желаю. Казалось, подобным обменом любезностей спор должен был закончиться, но внезапно на пирамиде излияний появился никому не нужный дичок, и дискуссия затянулась. Толстяк тоже пожелал сказать несколько слов о Ренессансе, и одним из этих слов оказалось «гуманизм». Тут уж Проф сел на своего любимого конька.
— То, что мы, уважаемые коллеги, понимаем под гуманизмом, не имеет ничего общего ни с эпохой Ренессанса, ни с этимологическим значением слова. И прежде всего: чтобы гуманизм обозначал философию и мораль, равняющиеся на природу человека, мы должны основательнее знать самого человека. В эпоху Ренессанса понятие «гуманизм» противопоставлялось средневековой философии, центром которой был бог. Макиавелли был гуманист, Борджиа были гуманисты, участники Тридцатилетней войны — герцоги, короли, крестьянские вожди — были гуманистами, а их в XVIII—XIX веках никогда гуманистами не назвали бы. Они первыми употребили слово «гуманизм», противопоставляя его божественному. XVIII—XIX века снова извлекли бога — существо сверхчеловеческое — из–под шляпы гуманизма. Гуманизм стал синонимом таких понятий, как «не убий», «возлюби ближнего своего, как самого себя», им наделили существо в белых одеждах, истекающее елеем благотворительности, хотя никто никогда не доказал, что это существо имеет хоть какое–то отношение к чему–то человеческому. Утверждают, например, что убийство себе подобных — черта не гуманистическая, а между тем во всем живом мире только человек так поступает. Гуманисты хотят, чтоб не было войн. Но ведь войны специфика человечества, его отличительная черта. Войны существуют. В чем же кроется действительное содержание гуманизма? В том, чтобы войны не было или чтобы война стала возможно более совершенной и велась на основе самых современных человеческих познаний?.. Поймите меня правильно, я вовсе не желаю войны! Только я не считаю противоречивыми понятия войны и гуманизма, в некотором смысле они даже аналогичны. Антивоенную философию я назвал бы не гуманизмом, а наивной верой в бога, существовавшей в XVIII—XIX веках. Гуманизм нашего века, взятый в своем настоящем, первичном смысле слова, стремится к тому, чтобы средства войны стали по возможности самыми совершенными, а отсюда недалеко и до вывода, что силы противников имеют право в совершенстве уничтожать друг друга. Для философии и морали это, по-видимому, безразлично. Что же касается истории, то она наука прагматическая и имеет мало общего как с философией, так и с моралью.
Я тут лишь кратко привел суть выступления старика. С изложением своих тезисов выступил и Толстяк. Он сказал, что цивилизация и увеличение количества людей на Земле — взаимоисключающие явления; современное оружие требует высокой развитости цивилизации; таким образом, война обеспечивает равновесие цивилизации перед лицом демографического взрыва, утверждение качества за счет количества. Значит, войны — евгеника человечества.
Только этого еще не хватало! Сидевший рядом невропатолог, собираясь устроить со мной вдвоем отдельную конференцию, спросил: «Что вы скажете об этом гибриде свинства и глупости?» Но я быстро заткнул ему рот: «Я тоже прагматист. Если войны — зло, почему же человечество так активно ведет их, тратит на них деньги, терпит их? Теперь уже не скажешь, что лица привилегированные — владельцы военных заводов, генералы и другие — не подвергаются опасности!..» Собрание наше длилось около трех часов, и я тысячу раз пожалел, что назвал Профа философом будущих синтезов. (А как спокойно принял он мои слова! Ничего нового я, очевидно, ему не сказал, но тогда зачем ему понадобилось так длинно это доказывать?)
Был уже шестой час, сержант с двух часов ждал меня, свидетельством этому были многочисленные окурки на синтетическом полу. Ругань, к счастью, не оставляет за собой следов. На рыбалку оставалось не больше часа. Мы даже посовещались, стоит ли ехать на озеро.
Оказалось, что стоило, да еще как!
Поймать мы ничего не поймали, даже подлещики попались лишь самые маленькие. Случилось иное, но лучше расскажу по порядку.
Сержант по пути снова стал мне доказывать, что большой хищник, которого я увидел с вертолета, и был пойманный им вчера окунь. (Стоит ли говорить, что его рыба имела огромный успех в кухне и в столовой для рядовых.) Сегодня нет смысла рыбачить в Воронке, попробуем поудить в Четках, так мы назвали озерца-бусинки, и Божьем Оке. Я чуть было с ним не согласился. Через полчаса я отказался от блесен и закинул обычную поплавковую удочку, пусть хоть какой–нибудь окунь попадется. Было уже четверть седьмого, и мы, помня вчерашние мучения, решили выкурить по последней сигарете, как вдруг...
Случилось то, что и назвать не знаю как... Вообще–то это называется хищничеством: внезапный плеск, рыбешки устремляются во все стороны, одна из них становится жертвой хищника. Волнение продолжается несколько секунд, потом стихает. А что произошло сегодня в Воронке в четверть седьмого вечера около зарослей водяного ореха?
Вода гейзером взметнулась вверх, поднялись огромные волны, нас чуть не опрокинуло, майор испуганно вцепился в край лодки, побледнел и беспомощно, как испорченная пластинка, шептал:
— Что это, доктор? Боже мой, что это, доктор?
А я в ответ, гордый своей правотой, но дрожащим голосом:
— Теперь–то мы уж не пойдем ни в Четки, ни в Божье Око.
В одно мгновение я опять взялся за спиннинг. Сержант вытащил свою удочку, черные окуни его больше не интересовали. А когда сумерки сгустились, понадобилась вся сила убеждения майора и атаки комаров, чтобы мы пришли в себя и вернулись к причалу.
29 августа. Я вертелся с боку на бок, до рассвета не мог заснуть. Стоило закрыть глаза, как передо мной возникали кипящая пена, набегающие волны, кровать качалась подо мной будто лодка, мне казалось, что я слышу шелест камышей. Очнувшись от короткого забытья, я продолжал думать все о том же.
В девять часов я пошел вместе с невропатологом и со штабом в Санаторий. Распылитель висел на предназначенном ему месте, на проволоке, протянутой между деревьями. Ко мне подошла цыганка, спросила, что им делать. (Почему у меня спросила, а не у невропатолога, который уже был тут и записывал данные? Телепатия? Родство душ?) Остальные полукругом стояли дальше, но так, чтоб им был слышен наш разговор, тут были и близнецы и крестьянин. Очевидно, женщина говорила от имени их всех.
Что им делать? Собственно говоря, ничего. Пусть ведут себя как обычно, делают, что всегда делали, вчера или в любой другой день. Женщина покраснела, на глазах слезы, как у начинающей актрисы, в первый раз выходящей на сцену. Мне стало жалко бедняжку.
— Что вам делать?.. Лучше всего оставайтесь тут, на воздухе. И двигайтесь, придумайте что–нибудь... Знаете что, играйте в волейбол! Это лучше всего. Когда услышите звонок, выходите сюда, разбейтесь на две команды, разговаривайте, у вас еще есть время. Словно вы действительно участвуете в матче.
По глазам ее вижу, что верит мне и благодарит. Мне показалось, что она хочет еще что–то сказать. Подождал немного, прежде чем повернуться и уйти, но она опустила голову и отошла в сторону. В кладовой мы убедились, что спиртные напитки потребляются ими что надо. Но запах алкоголя я почувствовал только у боксера. Остальные, возможно, спрятали по бутылке на завтра для храбрости.
Сержант на кухне заказал для нас провизию, в одиннадцать часов мы были уже на месте, причалили к камышу, закинули удочки.
Я взял с собой четырехметровое удилище и пятидесятиметровую крепкую леску для больших щук. Верхняя треть удилища мягкая и гибкая, леска от нее не оторвется, а нижние две трети твердые и длинные, чтобы можно было вываживать добычу твердой рукой. Глубина у водяного ореха три метра, грузила я установил на два с половиной, на крючки надел подлещиков величиной с ладонь. (По совету сержанта плавники я срезал. Хотя мы оба уже говорили и пришли к заключению, что это суеверие. Если озерный хищник не сожрет наживку, напрасно мы и плавники отрезали, а если схватит, то и маленького сома сможет проглотить, а глотает щука с головы, никакие плавники ей не помешают.)
До первых часов пополудни ничего не случилось, поверхность воды оставалась гладкой. Я несколько раз менял наживу, рыбешки в теплой воде долго не выдерживали на крючке, да и окуни объедали их. Около половины четвертого наживка вдруг как взбесилась, выбрасывала поплавок, сносила его, моталась по кругу, насколько позволял груз. Продолжалось это с полминуты, а потом началась вчерашняя кутерьма. Я испугался, что хищница и меня за собой утащит. Но нет. Волны улеглись, и поплавок перестал метаться. Что случилось? Сожрала незаметно наживку? Я вытащил лесу, рыбешка на крючке цела.
— Подлюга прячется у самого водяного ореха, а нападает поверху. Подтяните грузило, доктор!
Я послушался, переставил грузило на полтора метра, а потом еще приподнял до одного метра. В пять часов вода была такой гладкой и спокойной, словно в ней все умерло. Лишь у самых камышей выглядывала голова огромной лягушки. Большие глаза сверкали, и была она совсем неподвижной. Но вот что–то привлекло ее внимание, медленно, осторожно лягушка сделала лишь одно движение и исчезла под водой. Снова высунула голову метра на два ближе, опять остановилась, чем–то заинтересованная. Лягушку привлек красный цвет поплавка, и она пыталась приблизиться. Рыбешка на крючке снова ожила, поплавок то погружался в воду, то выскакивал наверх, лягушкой овладел охотничий азарт. Она была уже совсем близко от поплавка, когда раздался всплеск, наше внимание было отвлечено маневрами лягушки, и мы лишь на мгновение увидели огромную рыбью голову.
— Как у крокодила, клянусь, доктор, как у крокодила. Вам приходилось видеть что–либо подобное?
Насчет крокодила — это, конечно, преувеличение, но с головой матерого волка сравнить можно, и зубы волчьи. В этой пасти и исчезла лягушка.
— Да она, оказывается, лакомка, доктор. Но мы найдем, что ей придется по вкусу!
Сержант открыл ящик с инструментами, прикрепил к леске маленький тройник, привязав к нему красную ленточку.
— Внимание! — Сержант медленно вел тройник с ленточкой вдоль камыша, заставляя ее плясать на воде. — А вам я предлагаю прикрепить к леске пробку, груз, все, что найдется, только наживку и тройник не трогайте.
Поймать лягушку оказалось легко, но вот вытащить из всех ее четырех лапок впившиеся в них крючки гораздо труднее, а нацепить ее скользкую шкуру на один из концов тройника и вовсе трудно, так как ей это очень не нравилось. Откровенно говоря, я ее понимаю, мне бы тоже это не понравилось.
Удить рыбу на лягушку в качестве наживки — развлечение небольшое. Без поплавка и груза лягушка делает все, что ей хочется, и все время старается спрятаться в камыши, мне надоело вытаскивать ее из камышей и беспрестанно направлять в другую сторону, я боялся замутить воду и разогнать рыбу. Наконец лягушка устала. А четверть седьмого, как по расписанию, взметнулась вверх волна из озера, страшная сила чуть не вырвала удилище у меня из рук, даже руку мне чуть не оторвала. Не успел я прийти в себя, как все вокруг так же внезапно успокоилось — крепчайшая леса оборвалась, как тонкая нитка.
— К этому зверю другой подход нужен, — вздохнул сержант.
Мне трудно теперь вспомнить, кто из нас двоих кого утешал, так как оба мы были в отчаянии.
Сержант надеялся на новое чудесное средство. В продовольственном складе водились мыши. Комендант рассыпал перед ними отравленную пшеницу, расставлял старинного фасона мышеловки с опускной дверцей. Щука непременно обрадуется таким жирным брюхатым тварям, черт побери.
На этом мы и порешили. А что нам еще было делать?
30 августа. Я подозревал, что не удастся быстро освободиться, поэтому с раннего утра приготовил все нужное. Есть у меня толстое пластиковое удилище, употребляю я его редко — для ужения карпов в камышах. К нему я прикрепил катушку с самым крепким шнуром. Уже много лет я не пользуюсь такой грубой снастью, но теперь это как раз то, что мне надо, — разорвать шнур просто невозможно, последнее время я употреблял его, чтоб привязать лодку или на что–либо подобное, его даже ножом не перережешь, обычно я пережигаю его зажигалкой. Осталось его у меня метров сорок, хватит с избытком, да я и не отпущу так далеко рыбу, она может уйти в камыши или спрятаться среди стеблей водяного ореха, тогда прощай добыча! Уж если я поймаю чудовище, надо удержать. В дело пошел самый большой мой, норвежский тройник.
Едва закончив приготовления, я услышал через мегафон свое имя, проглотил чашку кофе и пошел в студию. Мониторы уже были включены. За столом управления сидели Проф, Толстяк и невропатолог. Я молча подсел к ним. Проф вопросительно посмотрел на меня, я утвердительно кивнул. Он нажал на кнопку звонка.
— Сколько будем ждать?
— Посмотрим... Минуты две.
Из дома выбежала женщина, бледная и серьезная. За ней красавчик и боксер. Волоча ноги и спотыкаясь, появился моряк с неизменной Библией под мышкой. Близнецы присоединились к ним на площадке. На женщине было легкое платье, в котором она сюда прибыла. Она тут же схватила мяч и бросила. Близнецы играли плохо, одновременно кидались к мячу, вырывали его друг у друга из рук. Боксер тоже не проявлял особой ловкости. Мы тут же убедились, что только женщина и красавчик умеют играть в волейбол, остальные делают вид, что играют.
Так красивы и легки были движения женщины, что я содрогнулся. Словно подчиняясь неслышной музыке, она плавала в воздухе. (Не знаю, сколько прошло времени, пришел я в себя от прикосновения Профа и торопливо, утвердительно кивнул головой. Камерой орудовал Толстяк, у аппарата «Рекорд» возилась группа техников.)
Юбка на цыганке развевалась, и я видел, какие у нее красивые и стройные ноги, и вся она казалась совсем молоденькой девушкой. Она без всякого напряжения подпрыгивала с места; меньше всех ростом, она первой перехватывала мяч. По сравнению с ней все остальные, в том числе и красавчик, выглядели неуклюжими. И все–таки не она первая подверглась действию смертельного препарата, а боксер. Его точно обухом по голове ударили, свалился на землю без движения. Содержимое распылителя в одно мгновение изверглось наружу. Удивляться нечему, один грамм У-18, две десятых грамма раствора ДН под давлением в четыре атмосферы, рассеянные мельчайшими брызгами, за пять-шесть секунд достигли земли. Я тут же подумал, что смерть боксера связана с состоянием его сердца, он много пил, сердце износилось, а приступ удушья вызвал тахикардию и паралич коронарной артерии. Женщина замерла на месте, сгорбилась. Красавчик прислонился к стояку волейбольной сетки и медленно соскользнул на землю. Близнецы упали друг на друга у края площадки, изумленно смотрели вокруг, и оба сразу начали в такт кивать головами. Матрос, словно подчиняясь непроизвольному рефлексу, откинул в сторону Библию. Последней упала женщина, сначала на колени, потом оперлась на правую руку и повалилась на спину. Конвульсии у нее начались одновременно с красавчиком. Все ее тело сотрясали судороги, она билась, как вытащенная на берег рыба, и нельзя было понять, что это — мука или восторг от потери сознания, а может быть, и то и другое, когда уже не имеет значения, как это назвать. Продолжительность последней фазы была не более 20—25 секунд. А когда секундомер отметил конец второй минуты, они были неподвижны. Близнецы тоже корчились, яростно бился в судорогах матрос. Еще полминуты, и все было кончено. Телеобъективы цветных камер переключились на увеличенное изображение, мы увидели их лица — фиолетово-красные, с вытаращенными глазами; с удивленным выражением, которое я хорошо знал по опытам, проводившимся за четыре года до этого. Но лицо боксера осталось бледным, в углах глаз слезы. Я правильно понял, что смерть вызвана сердечной недостаточностью. Мы запечатлели их лица аппаратом «Рекорд», составили протокол, как вдруг невропатолог спросил:
— А крестьянин?
О нем мы забыли.
— До семи считать не умеем?!
Техники начали взволнованно водить по лагерю объективами телекамер. Проф орал на них:
— Медленнее и по одному! Начинайте снова!
Мы были возбуждены и расстроены, отвратительная ситуация, но что мы можем поделать, ведь найдем же его позже, когда будем снимать лагерь, где–то он тут затаился... И вдруг мы увидели: железная дверь, ведущая в подвал виллы, открылась, и на пороге показался крестьянин. Он стоял там, держась обеими руками за дверь, широко раскрыв рот и глаза, грудь его вздымалась, он дышал испуганно, прерывисто, но дышал.
— Что случилось? Заснул он, что ли, или спрятался?
— Я всем им сказал, чтоб вышли на площадку!
— Что ему понадобилось в подвале?
— Схитрить решил!
Крестьянин перевел взгляд на площадку, искал остальных, но не мог их увидеть за кустами. Он вдруг прижал к груди сжатые в кулаки руки, судорожно, с усилием бросился бежать.
— А теперь что он делает?
— Я велел им бегать, двигаться, играть в волейбол, они это и делали.
— А этот только теперь решил пробежаться? Как раз вовремя!
— Может быть, он напился?
— Не то! Не поверил он, захотел нас перехитрить!
Крестьянин выбежал на площадку, остановился, увидел лежащие на земле трупы, захотел спастись, убежать оттуда, но ему это не удалось. Он споткнулся, чуть не упал, выпрямился, снова попытался бежать, но движения его замедлились, и он пошел неспешно, словно гуляючи.
— Непрямое заражение. Бедняга! А теперь...
— Он никому не верит, считает себя умнее всех!
— Так оно и есть. Решил, что врачи его обманывают, и сделал все по-своему.
— Этого человека, очевидно, много раз в жизни обманывали, — тихо сказал невропатолог.
— Просто крестьяне все великие обманщики, поэтому и считают, что каждый их хочет обмануть.
— Кто–то его, к сожалению, действительно обманул. В министерстве юстиции сколько угодно дураков!
— Вот и в прошлый раз так было! Теперь снова им всем было сказано, что оставшихся после эксперимента живыми помилуют.
— Но ведь мы здесь им честно сказали: шансов у них не больше, чем на виселице.
— Ну и что? Существует закон: если кто–то соглашается подвергнуться опыту, такая возможность существует.
Казалось, крестьянин чувствовал себя лучше. При непрямом заражении такое случается, улучшение наступает иногда даже минут на пятнадцать. Он спокойно поднялся на крыльцо крестьянского дома, прошел внутрь, очевидно что–то искал, поскольку зажег свет.
— Когда он снова выйдет, позовите меня, — сказал, вставая с места, невропатолог. — Пойду выкурю сигаретку.
Остальные последовали его примеру. Я обернулся, в открытой двери стоял сержант, показывал мне коробку и усмехался.
— Мыши!
Я кивнул ему. Теперь не до мышей! Дверь закрылась. Я бы тоже охотно закурил, но Проф ушел, и я не имел права прекращать съемку. Неприятная история. Вот ведь бедняга! Что бы там ни было, такая цена слишком велика. Остальные умерли в течение двух — двух с половиной минут, веревка не покончила бы с ними так быстро. И умерли они, не испытав боли, без всех этих унизительных процедур. Крестьянин был в подвале, на него не попало непосредственно разбрызганное вещество, но и к нему через отдушину проникли мельчайшие частицы, носители смерти, может быть, даже не в легкие, а на кожу, и будет он теперь мучиться часа два. В таком случае в сто раз лучше смерть на виселице. Он действительно хотел нас перехитрить, не поверил мне, врачу, чужому, решил, что сам умней. Поэтому и бродил все время по Санаторию, обследовал постройки, среди которых самой крепкой, на бетонном фундаменте, показалась ему вилла, и он забрался в подвал, пока приступ удушья не выгнал его наружу.
Медленно текло время. Прошел час. Штаб снова был вместе.
— Может быть, он уже готов?
— Нет, — ответил невропатолог, — он еще выйдет. Удушье заставит его выйти на воздух.
— Что он там делает?
Прошло еще минут пятнадцать, дверь отворилась. Может быть, крестьянин пил вино или лежал, ожидая, что ему станет лучше. Рубашку он снял и прижимал к груди мокрое полотенце, судорожно глотая воздух.
— Это, пожалуй, конец.
Крестьянин вернулся в дом, потушил свет, снова вышел и закрыл дверь.
— Он ведет себя совершенно нормально, — заметил один из техников.
— Вы ошибаетесь, — ответил невропатолог, — это конец.
— Он вернулся потушить свет!
— Вот именно! Типичный псевдосознательный рефлекс... Мы все с этим сталкиваемся, даже на себе испытываем, например, в полусне или в состоянии опьянения. Вам всем приходилось наблюдать, с каким комическим педантизмом ведут себя иногда пьяные... Когда начинают что–то подробно объяснять или любезничают... Этот человек на границе потери сознания почувствовал, что ему надо что–то сделать. Ему не хватало воздуха, но в полубессознательном состоянии это чувство объективируется в воспоминании о непотушенном свете.
— Крестьянин... они всегда свет жалеют.
— Экономия могла для него стать бессознательным рефлексом. Суть в том, что его поступки не имеют никакого отношения к сознанию. А еще точнее: это и есть признаки потери сознания.
Он был прав. Крестьянин спустился с крыльца, сделал несколько шагов и упал, сначала ничком, потом перевернулся на спину, начались последние конвульсии, судорога смерти. И все. Камера показала его лицо, такое же, как у остальных. Только в углу рта тоненькая струйка крови, в последних муках прикусил язык. Я взглянул на секундомер: один час сорок девять с половиной минут.
Еще раз проверяли телеобъективом территорию. Сзади в свинарнике осталась свинья, в клетке четыре курицы. Погибших птиц я нигде не заметил; может, звонок спугнул их, и они разлетелись.
Проф отдал распоряжение техникам, и мы перешли в другое помещение. Подали кофе, я закурил трубку.
Четверть двенадцатого. Выкурю трубку, чтоб немного расслабить нервы, а потом...
Проф сказал:
— Раз уж мы все вместе, воспользуемся оставшимся до обеда временем и продолжим обмен мнениями...
Возражать не полагается, и мы поплелись в аудиторию. Еще хорошо, что он решил задобрить нас, предложив выпить по рюмке коньяка.
Что ж, продолжим! Почему не может быть атомной войны и какое преимущество представляет собой химическое оружие по сравнению с ядерным, которое не только уничтожает все вокруг, но и на долгое время делает невозможной оккупацию местности? Из химикалий достаточно назвать ряды V, X и У, 18-й член этого ряда мы видели сегодня в действии. Его влияние на теплокровные существа подобно действию дихлордифенилтрихлорметилметана на членистоногих. Но разница между ДДТ и газами У, точнее их надо назвать эмульсиями, огромна: ДДТ не разлагается, поэтому употребление его во всем мире запрещено, а У-18 менее чем за двое суток теряет свою эффективность. А это значит, что даже насквозь зараженную территорию можно оккупировать уже на третий день.
Хотелось бы мне знать, почему нам приходится все это выслушивать? Найдется ли среди нас хоть один, не считая вспомогательного персонала, кто бы давным-давно этого не знал? Неужели старик хочет покрасоваться перед нами?
— Итак! Прежде всего У-18 дешевый препарат, при одинаковой эффективности он стоит почти в двадцать тысяч раз меньше ядерного оружия. Во-вторых, все его составные части получаются из материалов, имеющихся в большом количестве, метод их синтеза очень прост. В соответствующей упаковке он может храниться долгое время. Даже микроскопические частицы его смертельны, по сравнению с обладающим большой массой ядерным оружием он легко транспортабелен. Для наглядного представления скажу лишь, что уничтожение всех теплокровных существ в Париже потребовало бы одного килограмма У-18. Приведу еще более поразительный пример — можно не сомневаться, что это оружие будет применяться не в пределах одного города, — для уничтожения всего населения переднеиндийского субконтинента было бы достаточно трехсот тонн, то есть такого количества, во много раз больше которого во вторую мировую войну в форме классической бомбы ТНТ падало ежедневно на Лондон.
Да мы и не пересчитываем У-18 на ТНТ, их величины несоизмеримы.
— Но самое главное в том, что эффект У-18 целенаправлен. Он уничтожает врага, но оставляет в неприкосновенности его земли, города, шоссейные и железные дороги, шахты, заводы, все средства производства. Всем этим, как я уже говорил, мы можем завладеть без малейшего риска уже на третий день после проведенной акции! — Проф так и сиял от удовольствия. — И пусть кто–нибудь после этого заикнется о ядерной войне.
Сделав небольшую паузу, Проф помолчал, размышляя, и понизил голос:
— Но это замечательное средство имеет и свою отрицательную сторону. Прежде всего это относится к средствам производства. Представим себе, что одним килограммом У-18 с помощью маленькой бомбы, взрывающейся безмолвно и незаметно, мы опрыскаем Париж. А это значит, что большая часть населения подпадет под непосредственное действие препарата, тут же теряет сознание и минуты через две умирает. И это вызывает целый ряд неизбежных и неприятных последствий. Городской транспорт остается без управления, машины сталкиваются, поезда пробивают стены, автобусы разбивают витрины, рушатся дома, будут единичные случаи взрывов домен и мартенов, могут возникнуть пожары или наоборот — может застыть расплавленный металл, из–за отсутствия контроля нарушается коммунальное обслуживание, выходят из строя котлы, станки и т. д. Специалисты довольно точно высчитали, какие могут быть от этого убытки. В процентах это не так уж много, но, учитывая количество объектов, заставляет призадуматься. Большой вред могут оказать разлагающиеся органические материи, на их уборку потребуется много времени, а последствия трудно заранее предвидеть. Я уже говорил, что речь пойдет не только о городах, это значило бы принижать значение химического оружия. Возьмем опять для примера переднеиндийский субконтинент, ведь на нем сразу начнут разлагаться трупы семиста миллионов человек и много миллиардов трупов теплокровных животных! Какой же аппарат надо иметь хотя бы для частичного уничтожения этих трупов?! И какие беды еще могут причинить продукты разложения, трупные вирусы в воздухе и воде?! Совершенно очевидно, что не пройдет и нескольких дней, как на пораженную территорию нагрянут всякие пожиратели трупов, птицы, четвероногие, насекомые. Могут возникнуть заболевания, эпидемии, которые мы знаем лишь из истории и которых мы вообще не знаем. И какие кордоны должны быть, чтобы пожиратели мертвых не растащили падаль во все стороны. Исходя из этих соображений, некоторые поговаривают об ограниченном применении химического оружия, чисто тактическом, не считаясь с тем, что это просто смешно. Однако остается фактом существование не поддающегося учету фактора, достаточно угрожающего, чтобы вынуждать нас к крайней осторожности...
Ну что ж, вынуждайте кого хотите, только не меня! Как и в прошлый раз, мы с сержантом выбрали удобный момент и улизнули. В офицерской кухне наскоро пообедали стоя, блюда были слишком горячими и немного сыроватыми, но нас это не расстроило! Облегченно вздохнув, мы пустились в путь, думая о наступивших для нас каникулах.
Мы и не подозревали, что даже сегодняшние неприятности еще не подошли к концу.
Начался дождь. Его два дня не было, и мы о нем забыли. Но сегодня он возместил потерянное. Захватил он нас на полпути, минут сорок мы даже из машины вылезти не могли. Потом дождь приутих, падали лишь редкие капли, и мы решили не обращать на них внимания. Мы уже достигли на лодке Подковы, когда дождь, слова припустив, выдал нам вторую порцию. Пришлось вернуться и пережидать в деревянной будке не меньше получаса. Снова спустились в лодку, но это было только начало.
Последовала возня с мышами. Сержант — мастер на все руки, мышей он посадил в ящичек с опускающейся дверкой, а перед ней поместил волосяной мешочек, куда могла войти лишь одна мышь: перед самым носом у второй дверца задвигалась. Преимущество мешочка еще и в том, что в нем легче держать мышь, насаживая ее за спину на крючок. Все это прекрасно, но мыши посредственные пловцы, особенно с проткнутой крючком спиной и с тяжелым шнуром в придачу. Через пятнадцать-двадцать минут мышь теряет силы, совершенно неожиданно глотает воду и погружается, когда снимаешь ее с крючка, она похожа на мокрую тряпку. Невольно я сам помог ее гибели, все время дергая ее назад: мышь хочет удрать, спастись и, конечно, плывет к зарослям водяного ореха, принимая их за берег. Я бросаю в воду вторую мышь, но и она отчаянно плывет к зеленой массе. Пока она мечется вдоль зарослей, еще не беда, это как раз хорошо, но, если она заплывет между стеблей, шнур мгновенно запутается в листьях и стеблях, и вряд ли найдется в этих водах щука, которая не воспользуется моим замешательством, не появится из зарослей, и я, не успевший освободить леску, окажусь в тяжелом положении. Поэтому я и был вынужден все время держать леску в натянутом состоянии. Я положил удилище поперек лодки и укоротил шнур так, чтобы мышь не могла приблизиться к зарослям ближе чем на двадцать пять — тридцать сантиметров. А что из этого получается? Мышь устремляется к зелени, которая ей кажется берегом, шнур натягивается и дергает ее назад, бедняжка глотает воду, но тут натяжение шнура ослабевает, мышь снова бросается вперед, снова рывок. Это выглядело бы комично, если б не было так печально и досадно. Прошел час, настала очередь четвертой мыши, сержанту пришлось убедиться, что не такое уж огромное богатство в качестве приманки пять мышей, как это ему казалось. На мышей хорошо удить с высокого берега, когда рыбак удилищем и леской помогает мыши, как тренер начинающему пловцу, а не затрудняет ей движения. Но сержант не сдавался, а изготовил из круглой резинки и нарезанной пластинками пробки спасательный пояс для мыши, и четвертую мышь прикрепили к крючку этим поясом. Таким образом мы избежали необходимости протыкать кожу, мучить животное, а резинка хорошо держала мышь на тройнике.
Тем временем небо очистилось от облаков, влажная жара охватила нас, ни малейшего дуновения ветра. Я был полностью одет, так как уехал на рыбалку прямо с совещания, только ботинки сменил на резиновые сапоги. Мои спутники уже разделись, остались в одних трусиках, они и меня убеждали снять костюм. Я начал раздеваться — снял сапоги, пиджак, рубашку, встал на ноги, чтобы снять брюки, и только успел бросить через плечо майору: «Следите за удочкой!», как услышал звон колокольчика. В этот момент я стоял на одной ноге, стягивая с другой штанину, в той самой позе, которая не дает возможности даже дипломату сохранить свое достоинство.
Все свершилось мгновенно: я получил удар по ноге концом удилища, лодка покачнулась, и только в воде я пришел в себя. Хорошо еще, что под водой я инстинктивно освободился от брюк. Всплыв и судорожно глотая воздух, я увидел рядом с собой майора с сержантом, второй держал под мышки первого.
— Что случилось?
— Унесла негодяйка удочку! — плачущим голосом ответил сержант, по его лицу капли воды катились, как слезы.
Напрасно ищу взглядом хоть какие–то следы снасти — тяжелый пластиковый прут вместе с большой ловушкой покоятся на глубине в семь метров, на самом дне кратера. Но как очутились в воде мои спутники?
— Майор хотел схватить удочку и упал в воду. Я знаю, что он не умеет плавать, и бросился его спасать.
Превосходно! Теперь мы все трое в воде. Больше всех казался огорченным майор. Я поддержал его, чтобы помочь сержанту, подтолкнул к борту лодки.
— Я виноват.
— Не вы, а я. Зачем мне надо было вставать на ноги, мог бы снять брюки сидя... А я складку не хотел мять!
— Вы же мне велели следить за удочкой, я ее должен был в руки взять.
— Я ее тоже не держал в руках, со мной то же самое случилось бы... Ну да что там разговаривать, лезьте в лодку!
— После вас, доктор.
— Я–то плавать умею, лезьте вы!
— Вы знаете, что я отвечаю за вас. Прошу вас сесть в лодку!
— Никуда я не полезу, пока не увижу, что вы вне опасности.
— Я во всем виноват, и вы хотите, чтобы я первым вылез из воды?
— Ну что мы спорим? Если б кто–нибудь на нас посмотрел, со смеху умер бы! Залезайте оба побыстрее, и мне будет легче забраться в лодку, когда вы оба будете в ней сидеть.
Наконец–то! Мы сидели в лодке, отдуваясь, мокрые и расстроенные.
— А со щукой что будет?
— У нее на некоторое время пропал аппетит, это уж точно.
— Я в этом не уверен, — сказал сержант. — Тут возможны разные варианты. Если она проглотила крючок, то в течение нескольких дней он растворится у нее в желудке, для этого желудочная кислота у нее достаточно крепка. Но если крючок застрял у нее в горле, дела ее хуже, она может погибнуть. А если ей удастся выплюнуть крючок, то она очень быстро забудет о нем. Самое же вероятное, крючок воткнулся ей в край пасти, в этом случае рана расширится, и она рано или поздно избавится от него.
— Хорошо бы так!
— Мы напрасно расстраиваемся, все равно делу не поможем.
— Удастся ли нам ее когда–нибудь поймать?
— Мы можем ее поймать через несколько минут... То есть могли бы, было б чем.
Я попросил сержанта нацепить на крючок последнюю мышку. Правда, у нас осталась лишь удочка для ловли окуней, но попытка не пытка, ведь может же быть, что щука жива и здорова! Итак, мы опустили в воду последнюю мышь, но щука на нее не польстилась. Майор принялся оплакивать потерянное снаряжение. Я успокоил его, что самое дорогое катушка, а она далеко не новая. Так как и я и сержант восприняли всю эту историю с юмором висельника, то и майор перестал терзаться.
На причале мы оделись, и тут только я вспомнил о потерянных в воде брюках! Ничего не поделаешь, я надел рубашку, повязал галстук, надел пиджак. Мои спутники посмеялись бы надо мной, но их удержало от смеха уважение и сочувствие.
— Не печальтесь, доктор, — утешил меня сержант, — в машине никто и не заметит, а мы вас подвезем к самой двери дома.
В машине действительно ничего не было заметно, да и пока мы доехали до лагеря, стало уже почти совсем темно. Беда в том, что мой пропуск остался вместе с брюками на дне озера! Майор и сержант предъявили свои пропуска, часовой протянул уже руку за моим, но, когда я сказал, что утопил его в озере, он отказался впустить меня в лагерь. Но как же так, ведь он меня знает в лицо, да и майор с сержантом могут удостоверить мою личность! Часовой сожалеет, но правило есть правило. Сколько ни кричал и ни ругался майор, ничего не помогло. Часовой был солдатом дисциплинированным, подчинялся приказам, без пропуска он не имеет права никого впускать на территорию лагеря, а о потере пропуска надо составить протокол. Явился начальник караула, но и он не мог мне помочь, сказал, что надо обратиться к Толстяку, единственному лицу, имеющему право выдавать пропуска. Только этого не хватало. Несколько телефонных звонков, и минут через пятнадцать пришел Толстяк.
— Что случилось с вашим пропуском?
— Упал в воду на рыбалке.
— Свидетели?
— Целых два, майор и сержант.
— Номер?
К счастью, я помнил номер. Назвал его.
— Ничего страшного, коллега, мы сейчас занесем все это в протокол, выпишем вам другой пропуск, и все. Пройдите со мной.
— Это необходимо?
— Само собой. Вы должны будете подписать протокол, а на пропуске, как вам известно, поставить отпечатки пальцев.
Ничего не поделаешь, я вылез из машины. Трудно определить выражение лица Толстяка, чего в нем было больше — удивления, возмущения или еле сдерживаемого желания рассмеяться, а может быть, все это вместе взятое.
— На вас, коллега, нет брюк?
— Вы совершенно правы, коллега, я без брюк.
31 августа. Когда ты охвачен азартом, ничего с собой не поделать. Я просидел в лодке целый день и, когда пошел дождь, не вылез на берег, а укрылся куском брезента. Со мной на этот раз был совсем еще юный младший сержант, очень почтительный и очень скучный, бедняга.
Слухи о нашем приключении расползлись по всему лагерю, толковали и о потерянных брюках, смолкая при моем появлении. А о гигантской щуке рассказывали просто чудеса. Неудача взвинтила и майора, и он выпросил у сержанта одну из его удочек. Сегодня мы спустили на воду уже три лодки. В первой находились Проф, главный инженер по электронике и младший чин на веслах, во вторую сели майор, два его приятеля и невропатолог, в третью — я с младшим сержантом. Майор бросил якорь в Божьем Оке, сержант осуществил наконец свое желание пройти через все Заливчики Четок. Я караулил щуку. Майор наловил рыбы, даже превосходную щуку весом в шесть с половиной килограммов, хватит ему теперь о чем рассказывать лет на десять, а то и на пятнадцать. Сержанту тоже повезло, он вытащил двух окуней, килограмма на полтора каждый, и две щуки тоже приличного размера, килограмма по два. Я не поймал ничего, чудовище даже наживку не брало, как ни привлекал я его мышами в изобретенных сержантом пробковых поясах. Чтобы утешить меня, главный повар приготовил прекрасный ужин из рыбных блюд, которые мы запивали ароматным вином, усевшись все вместе за большим столом.
День, проведенный со скучным младшим сержантом, все–таки оказался не совсем потерянным. Я имел возможность узнать, как преломляется в мозгу такого вот юного выходца из народа работа, которую мы ведем. Хочу записать его монолог, иначе и не назовешь, так как я отвечал на его высказывания короткими «да», хмыканьем, покачиванием головы. Единственное, чего я не могу воспроизвести, это получасовые паузы, ведь я уже сказал, что молодой человек был очень почтительный и не хотел ни за что на свете докучать мне вопросами, хотя бы уже потому, что хорошо усвоил правило: спрашивать ничего нельзя.
— Говорят, что крестьянин два часа мучился... В таких случаях невольно задумаешься, что все–таки существует высшая справедливость... Он ведь поджег хозяйский дом, а у хозяина были два сына, зять, внуки, всего четырнадцать человек, говорят... На хуторе они жили, окна зарешеченные, а дверь он снаружи запер, потом уж поджег... Все они там и сгорели... Четырнадцать человек... И дети... Так ему и полагалось, хоть два часа за них пострадать... Ведь и они там не меньше двух часов мучились, дом–то, должно быть, большой был, каменный, не сразу сгорел... Да, конечно, не меньше двух часов прошло, пока все сгорели... Может, он и не от хорошей жизни это сделал, все равно, не должен человек так поступать... Вот теперь он и сам узнал, что это такое... Может, и грех свой искупил, если это возможно. Разное, конечно, говорят, можно даже поверить, но ведь с того света никто никогда не возвращался...
Пауза на этот раз была особо длинная.
— А все–таки что–то в этом обязательно должно быть... Вот ведь боксер тотчас скончался. Говорят, у него смерть была самая легкая, одно мгновение, и все...
И я это справедливым считаю... Да и все наши ребята так думают. Жалеют его. И это не потому, что некоторые, кто постарше, помнят его, когда он еще знаменитым был, а просто не таким уж виновным его считают. Скорее невезучим... Все остальные из их шайки сколько получили? Пустяками отделались, их предводитель шесть лет получил, а его за что? Он ведь на стреме стоял, и только... И банду не он организовал, и все это не он выдумал. Ну дали бы ему небольшой кус, если б у них вышло... А ведь их окружили, и ему, как он на страже стоял, и пришлось стрелять. Ночь была, темно, со всех сторон стреляют... Его и самого ранило, говорят, в плечо, так его и поймали. И такое ему невезение, что один из полицейских в больнице умер... И все–таки кто–то там ему воздал по справедливости. Разве не так? Думаю, что за это ему и легкая смерть послана. И у цыганки смерть была легкая, мало помучилась. Говорят, что ее даже оправдать могли, если б присяжные были мужчины, а там и женщины оказались... Вы ведь знаете, какие они, женщины... Наговорили, что из–за денег она его... А я считаю, что вовсе не из–за денег, и все наши ребята так думают: она к деньгам равнодушная. Мучил ее старик, издевался над ней. А она другого любила, хотела избавиться от старого. Да и что это за дело?! Удочерил он ее, вместе с матерью к себе взял, когда ей всего двенадцать лет было, присмотрел для себя, старый козел... А как только мать умерла, он и вынудил ее с ним жить, ее, совсем еще девчонку... Из дома не выпускал, говорят, даже бил... Десять лет она провела там с ним, несчастная! Мужчины поняли бы это... Говорю вам, доктор, мужчины в таких делах справедливее. Женщины сразу накидываются, шлюхой обзывают, за своих мужей боятся. Повесить ее, повесить!..
В сопроводительных документах были выписки из судебных решений (та самая формула, которую зачитывают перед исполнением приговора), не думаю, чтобы кто–нибудь из нас внимательно изучал их. Для нас они все были подопытными животными, а для этих простых парней их наказали за совершенные преступления. Откуда узнали они столько подробностей? Может быть, от тюремщиков, которые привезли в лагерь пациентов, или помнят, что писали газеты. Мне уже надоели рассуждения младшего сержанта. А еще действовало мне на нервы мое устойчивое невезение. До меня доносились радостные выкрики: «Вот он, попался!», плеск воды, когда сержант выкидывал обратно рыбу менее килограмма весом, а я уже третью мышь утопил, и все ничего.
— Вижу, младший сержант, что вы считаете смерть чем–то вроде наказания?
— А разве не так? — удивленно спросил он.
— Тогда в наказание за что вы сами должны будете умереть?
— Так ведь все умирают... В конце концов все умрут.
— В конце? А когда придет этот конец?.. Для этих вот конец пришел теперь. Для младенца, который и трех месяцев не прожил, тоже конец. А для восьмилетнего ребенка, попавшего под автомобиль, тоже конец. В авиационной катастрофе гибнет сто сорок пассажиров, есть среди них и двухлетние дети, и семидесятилетние старики. Смерть для каждого — конец. Если мы будем считать смерть наказанием, значит, сама жизнь преступление.
Я видел по выражению его лица, что он удивляется, какие глупости я говорю.
— Но для этих–то смерть была наказанием!
— Правильнее назвать ее общественной гигиеной. Вам понятно, что это такое? Общество хочет очиститься от некоторых видов людей, как от носителей инфекции. Ничего иного общество не может сделать. Решение о том, от кого надо освободить общество, принимается с учетом различных точек зрения и в достаточной мере произвольно. Но общество имеет на это право. У него власть, а значит, и право.
— Значит, это все–таки наказание! Ведь говорят же: смертная казнь!
— Действительно, так говорят. Но почему это наказание? На всем свете приговоренных умертвляют надежно и быстро. Так же надежно и быстро умирают, например, от разрыва сердца. А ведь от инсульта кончается не более двадцати пяти процентов людей, а гораздо более того гибнет от рака в страшных мучениях и безнадежности. Вы никогда не видели, как умирают от нарушения кровообращения в конечностях? Такие больные мучаются месяцами, кровь почти не циркулирует, все тело в пролежнях... Статистика подтверждает, что в среднем на долю каждого человека приходится две-три недели страданий перед смертью. А для приговоренных это всего лишь две минуты. И вы называете это наказанием?
— Но... Не сердитесь, доктор! Они знают заранее! И боятся...
— Но ведь страх испытывают не только они, разве не так?
Младший сержант помолчал немного.
— Интересно...
Было видно, что он боится с моей стороны подвоха. Все сказанное мною казалось логичным, но что–то я, вероятно, опустил, о чем–то умолчал, слишком уж мои рассуждения противоречат общепринятому мнению.
Рыболовные снасти — удивительная штука, человеком овладевает азарт до такой степени, что он с удилищем в руках как рыба на крючке. Вечером я наблюдал за майором, он без конца рассказывал, как ему удалось поймать щуку, весь раскраснелся и машинально взмахивал рукой, как бы подсекал попавшуюся щуку.
Цивилизация лишает человека инстинктивных радостей. Можно даже сказать, что для него остаются лишь радости свершения, готовым получает он вкусный обед, вечером в постели его ждет жена. Что касается других радостей, то ему достается лишь кое–что от инстинкта завоевания того, чего у него еще нет. Но этого мало. А ведь когда–то инстинкты играли большую роль в жизни человека, как ее понимали раньше. Какие радости борьбы и победы может испытать человек нашего времени? Мы как–то говорили об этом с невропатологом, по его мнению, это и есть первопричина массового невроза, истерии, самоубийств. Поэтому нам все реже нравится еда и — чего уж там скрывать — цивилизованного человека все реже удовлетворяют объятия женщины. Человеку незнакома животная радость существования, он начинает искать успокоения в суррогатах.
Подошел Проф, скучающий и снисходительный. Он–то ищет инстинктивные впечатления в особом транспонированном мире.
— Поехал я с вами на рыбалку, хотел сам убедиться, но, честно говоря, не вижу, что вы находите в этом привлекательного.
— То, что человек чувствует себя животным.
Он засмеялся, поднял бокал.
— Тогда да здравствуют поросята Эпикура! — Он спросил меня, не волнует ли меня исход поставленного опыта.
— Мне не везет, опыты у меня всегда получаются.
— Вы блещете остроумием. Очевидно, рыбалка вас бодрит. Значит, в ней все же есть смысл.
6 сентября. Почти неделю я не писал ничего в дневнике.
Отчасти у меня пропал к нему интерес. 1 сентября вечером зашел ко мне Толстяк. Я как раз просматривал записи. Он спросил, что я делаю. Сами видите: пишу дневник. Он так и взвился. Мне известны здешние правила: вести дневник имеет право лишь он сам. Я успокоил его, сказав, что в моем дневнике нет ни одной химической формулы, ни одного технологического описания, из которых враг смог бы узнать более того, что он уже знает. И географических названий нет, всего лишь Южная Котловина, озеро. Нет и имен, Проф до конца остается Профом, а его самого я везде называю не иначе, как Толстяк... Но он остался верен себе: я должен принять к сведению, что не имею право вынести из лагеря ни строчки, которую бы он лично не проверил. Ну что ж. Пусть читает, что здесь о нем самом написано. Он корректно заверил меня, что согласно присяге никому не разболтает мои личные тайны, а цензура касается лишь данных, имеющих отношение к военной промышленности.
Поэтому мне и не хотелось браться за перо, когда я вспомнил, что все мною написанное должно быть подвергнуто цензуре, многоуважаемому суждению Толстяка.
Но, по правде сказать, за истекшую неделю мало что произошло.
На третий день мы впустили в Санаторий через зарешеченный туннель голодных гиен. Они рыскали, искали пищи, порой, словно почувствовав запах, бросались все вместе то в одну сторону, то в другую, натыкались на падаль кролика или курицы, но не трогали их, продолжали рыскать. Гиены обнюхивали и трупы, испуганно отскакивали в сторону, может быть, видели глаза умерших или как–то иначе чувствовали, что это люди? Одно несомненно: они не воспринимали мертвецов как трупы. Мы оставили там гиен на всю ночь, но они не прикоснулись к мертвым. Опыт был повторен на четвертый, пятый и шестой дни с тем же результатом. Начиная с третьего дня мы установили через монитор наблюдение за особенностями обезвоживания трупов: цвет кожи из свинцового стал темно-синим, потом начал постепенно коричневеть. Мне трудно описать выражение их лиц, широко открытые глаза казались по-прежнему удивленными, губы растянулись и напоминали улыбку античных греческих статуй, эпидерма приобрела восковой блеск. Я спросил техников; они сказали, что с пятого или шестого дня они перестали воспринимать трупы как мертвецов, скорей как статуи. Так же, как относились к ним гиены.
Изменилась и растительность. Я так и думал, что У-18 окажет на растения некоторое влияние в качестве гербицида. Трава высохла, деревья потеряли часть листвы. После гиен мы впустили на территорию Санатория овец, но они не стали щипать траву. На восьмой день среди сухой травы появились пятнышки свежей зелени, а на ветвях деревьев начали быстро развиваться почки, признак восстановления поглощения влаги и осмоса. Цвет трупов сделался темно-коричневым, а блеск эпидермы из воскового стал скорее стеклянным. Полную уверенность даст лабораторный анализ, но, по-видимому, эпидерма отделилась от подкожной клетчатки.
Я сблизился с невропатологом. Инстинктивная симпатия? Однажды, словно не желая прерывать начатый разговор, он сел в мою лодку, потом всегда рыбачил со мной. Мне его компания нравилась куда больше, чем разговоры младшего сержанта. Невропатолог был тихим, скромным, ясным человеком, чуть-чуть психопатом, но и это в нем не отталкивало. Очевидно, психопатия — принадлежность его профессии. Да и кроме того... он новичок здесь.
Проф, конечно, узнал о моей стычке с Толстяком, но воспринял ее даже с некоторым юмором и не стал поднимать истории.
— Видите, коллега, это и есть та возможность «распределения расходов», на которую вы ссылались с таким превосходным экономическим чутьем!.. Может ли знать обычный терапевт или фармаколог то, что известно нам о калиево-натриевом насосе, или что знает группа «Сатурна» о проводимости раздражения? Это уже было бы не «распределением расходов», а пустой тратой денег. Кажется парадоксальным, но это так.
Толстяк был с ним, конечно, согласен, только ему хотелось еще большего.
— Коллеги считают, что я важничаю, что я бюрократ, воображаю о себе слишком много. А ведь мне тоже хотелось бы, чтоб наука служила всем. Поэтому я фанатически привержен теории первого удара. И чем раньше, тем лучше! Вот я и принимаю близко к сердцу все смертельно серьезное! Интересы государства превыше всего!
Невропатолог промолчал, но по его глазам я видел, что хотелось бы ему ответить. Проф тоже, очевидно, что–то понял и обратился к нему:
— Будущая война будет тотальной, нравится вам это или нет. Наша цель — немедленное и полное обезврежение противника. Не дать ему нанести ответный удар. Мы обладаем такими средствами, что если война не кончится в течение нескольких дней, то будет длиться годами, десятилетиями, можно даже сказать, вечно. Вы видели когда–нибудь завзятых драчунов, питающих друг к другу смертельную ненависть? Ни один из них не считает полученных ударов, оба покрыты кровью, может быть, оба уже искалечены, но продолжают драку. Они не думают о своей жизни, каждый из них хочет убить другого. Если их не разнять силой, они убьют друг друга, и оба умрут. Такова теперь и обстановка в мире. Что может сделать имеющий на то возможность? Прежде всего получить абсолютное превосходство. Надо понимать герцога, если он требователен и строг к своим алхимикам.
— Простите, Проф, — прервал я его, — аналогия немного хромает.
— Чем же?
— Например, когда вы отвоевываете бюджет для нашей группы, вроде бы заказчиком является не «герцог», а «алхимик».
Проф рассмеялся.
— А что вы думаете, коллега, алхимик не обирал систематически герцога?
— Я теперь думаю о другом. Например, о том, что атомную бомбу изобрели не политики и военные. В ее необходимости алхимик убедил герцога.
— Неужели вы считаете, коллега, что мысль о возможности делать золото возникла у герцога? Как бы не так! Герцог и в те времена сумел додуматься лишь до государственного долга.
Мы расхохотались, поборов смехом таящиеся в нас нехорошие чувства.
Два дня я предлагал щуке мышей. На третий день я вытащил с полдюжины крупных подлещиков, прикрепил к леске поплавок. Невропатолог с интересом наблюдал за мной.
— Сдаетесь?
— Ни в коем случае!
— А пожалуй, следовало бы.
— Видите ли, коллега, откровенно говоря, я не так уж люблю рыбу. И еще: с первого дня я бываю тут лишь для того, чтобы поймать щуку. На этом и стою.
— Так почему же сейчас вы переменили наживку?
— Думаю, что щука не так уж сильно поранилась. Но крючок все же какой–то вред ей причинил. Теперь она в глубине и пережидает, пока заживет рана. Попробуем предложить ей завтрак в глубокой воде. А мышат я зря убиваю вот уже несколько дней.
— Вам их жаль?
— Странная вещь — рыбачий гуманизм, если можно его так назвать. Ты чувствуешь, как больно несчастной зверушке, когда ты ее насаживаешь на крючок, жалеешь бедняжку и даже стыдишься своей жестокости. Но ведь это все легко объяснить. Щука, которую я поймаю, если поймаю, весит килограммов пятнадцать. За день она съедает штук тридцать карасей, упавших в воду мышей, птенцов из низко свитых гнезд, с дюжину лягушек. Значит, когда я насаживаю наживку на крючок, то делаю из нее героиню, мученицу, жертвующую своей жизнью, чтобы спасти тысячи, десятки тысяч себе подобных от верной гибели. Поэтому, хотите верьте, хотите нет, мне жаль зверушки, приговоренной к бессмысленной смерти. Да к тому же — этому вам будет легче поверить — не вижу в этом ничего забавного.
Мой собеседник переменил тему разговора:
— Ваш спор с Профом меня заинтересовал.
— Жаль, что вы сами ничего не сказали. Я видел, что вам этого хотелось.
Невропатолог задумался.
— Я с недавних пор здесь работаю. И все–таки я уже много узнал о функциях различных медиаторов, о действиях синапсов, о технике электричества в нервной системе. Я приблизился к устрашающему количеству проблем, на решение которых в медицине пока еще даже надежды нет.
— Совершенно правильно.
— Проф видит только политическую сторону вопроса: первыми применить оружие, не дающее «отдачи», мгновенно и тотально все уничтожающее. Опасаюсь, что это близорукость.
— Положение Профа вынуждает его делать вид, будто речь идет только о политике. В действительности же, я думаю, он мыслит логически.
— Логически?.. Человечество размножается, «ужасающе» размножается, нам это представляется ужасным, потому что тем самым увеличивается в мире нищета. Другая же часть человечества, которая могла бы увеличивать богатство, мягко говоря, производит нечто тайное...
— А вы считаете, что ужасающее размножение вовсе не ужасно?
— Я думаю о том, что увеличивается не только количество голодных ртов, но и количество рук...
— Значит, вас тоже занимает политическая сторона вопроса?
— Нет. Я пытаюсь, как вы сказали о Профе, думать логически.
— Я вас не собирался обвинять в политике, когда это сказал.
— А вы как считаете?
— Я действительно далек от политики. Страстно влюблен в биохимию и счастлив. Принадлежу к немногим, зарабатывающим на жизнь, занимаясь любимым делом.
— Вы никогда не думали, что человеческие знания едины и нераздельны. Ведь орган мышления у всех один и тот же. То, что исследуем и знаем мы, знает и другой, занимающийся теми же исследованиями.
— Сказать откровенно? Я вообще не считаю, что мои открытия — оружие. Все это такая же абстракция, как та самая Индия. Кому может прийти в голову опустошить Индию?
— Интересно.
— Возможно, что это оппортунизм. Но не думаю. Если б я знал ответ на ваш вопрос, то, конечно, как это принято говорить, с честностью ученого я бы этот ответ вам дал.
— Но вы должны согласиться с тем, что смерть не единственная альтернатива? Что мы могли бы жить умнее и лучше!
— Вы можете остановить стремящихся к океану леммингов? А если бы даже смогли это сделать, то вы уверены, что тем самым помогли бы им? С точки зрения, с которой мы смотрим на вещи, коллега, я совершенно не уверен, что человечество хочет жить. А вдруг оно, как драчуны Профа, хочет не жить, а убивать.
— Возможно. И все–таки мне кажется, когда люди потеряют веру в то, что жизнь наивысшее благо, даже не веру, а естественное впечатление, вот это мгновение станет окончательным падением цивилизации. Вы так не думаете?
— Не знаю. Во всяком случае, сказанное вами звучит очень гуманистично. Только я... как сказал Проф, не знаю, действительно ли гуманизм человечен или просто служит убежищем и объяснением для данного человека данной эпохи.
— А странно, что мы не можем верить в закон, которому, когда он относится к мышам и прочим живым приманкам, верят все рыбаки.
Тем временем я опустил леску до десятиметровой глубины и, переставляя каждые полметра стопор, прочесал до конца весь кратер и все вокруг вдоль зарослей водяного ореха. Напрасно. На большой глубине мои наживки быстренько дохли, на средней глубине их объели жадные окуни. Но когда мы уже собирались сматывать удочки, точно в четверть седьмого, быстрая и ловкая, как в первые дни, появилась щука.
Какое это на нас произвело впечатление? Невропатолог по дороге домой старался мне доказать, что вполне меня понимает, он бы тоже на моем месте продолжал поджидать щуку именно там, а не пробавляться какими–то килограммовыми черными окунями.
8 сентября. С утра материал для анализа доставляют в лабораторию. Неприятная работа для вспомогательного персонала, а меня все это раздражает. Мертвецы под коричневым слоем сохраняют форму тела и выражение лица, более или менее свой объем, но внешность их обманчива. «Целлофановое покрытие» лопается как мыльный пузырь, почти то же самое можно сказать и о подкожной клетчатке. (Я уже установил, что именно она дает коричневый цвет.) Мышцы — пучки сухих волокон; печени, селезенка, почки, сердце больше всего похожи на трут.
Все тело напоминает матрас, набитый неплотно заполняющей его оболочку сухой и очень тонкой травой. И так же, как трава, при каждом прикосновении шевелится и шуршит. А если надавить сильнее, все это ломается, становится пылью, обнажает кости. Но и консистенция костей не такая, как у скелетов из давних захоронений, они более хрупкие и легкие.
Людей, перетаскивавших трупы, это удивило, они взяли первым труп боксера, как это делают обычно, один за плечи, другой за ноги — мертвец казался совершенно целым, — едва не потеряли тут же равновесие, таким легким он оказался. Но еще больше удивило их, что труп тут же рассыпался, превратился внутри одежды в кучу ржаво-коричневой пыли и костей. Со следующим они обращались осторожнее, но, когда клали его на носилки, он тоже с треском сломался. Первый они совсем загубили. (А может быть, и нет, может быть, это тоже можно считать показанием?) Один из санитаров сказал:
— Знаете, доктор, на что они похожи? На безе.
Это его замечание в нашей маленькой колонии стало поговоркой. Под остальные пять трупов подсунули алюминиевые листы, и их удалось перенести без повреждений. В лаборатории мы приступили к анализам, занялись подготовкой к транспортировке. Я изготовил препараты из некоторых органов, сделал срезы, микрофотографии, все это мне нужно для контроля. Материал в упаковке, соответствующей предписаниям, мы отправляем в центральную лабораторию. Странный вид у полностью обезвоженного человеческого глаза: пленки, прожилки, опаловое преломление лучей. К сожалению, долго его изучать нельзя — одно неосторожное движение, и он рассыпается в прах. Но пока этого не произойдет, он больше всего похож на мыльный пузырь, очень красивый мыльный пузырь.
Все утро я был занят работой, но во второй половине дня мне пришлось поволноваться. Должен сказать, после потери тяжелого пластикового удилища и лески семидесятого размера теперешние мои снасти были не весьма надежны для поимки такой большой рыбины. Я снова захватил с собой четырехметровое удилище, хотя оно и невезучее. Каждый рыболов знает, что это значит. Но я пользуюсь им чаще других, оно раздвижное и легко умещается в любой сумке. Это не только суеверие, что длинное пластиковое удилище невезучее. Просто его нижняя часть неподатлива, а верхняя слишком гибкая, словно этим желали возместить неподатливость нижней части. При подсечке удилище кивает, а сама подсечка запаздывает, плохо удается. Но ничего лучшего у меня не было, и я взял четырехметровку. Леска тоже была неважнецкая. Был у меня в запасе моток японского шнура, подарок одного знакомого, привезенный из Японии. Если верить этикетке, то прочность на разрыв у него хорошая, но, с одной стороны, он уже много лет лежит у меня без употребления, а с другой — я никогда не пользовался таким шнуром и совсем его не знаю. Я ощупал его руками, потянул, вроде ничего. Ну что же, посмотрим.
Все уже знали, что огромная щука ожила и снова хищничает. За обедом Проф заявил, что у меня сегодня счастливый день, и на рыбалке мне тоже должно повезти. Таким образом, то ли из действительного интереса, то ли из показного желающих поехать на озеро оказалось много. Но как обычно бывает, когда собирается слишком большая компания, сразу после обеда тронуться не удалось, потом решили переждать дождь, стоит ли продолжать? Было уже около половины пятого, когда я наконец оказался в облюбованном месте, можно и крючок опускать, будь у меня наживка. Мышиный яд коменданта сделал свое дело, сержант вот уже несколько дней не поставляет мне мышей. Он обещал наловить лягушек, это, пожалуй, даже лучше, с мышами у меня до сих пор ничего не получалось. В лодке мы оказались впятером: майор, сержант, невропатолог, солдат на веслах и я. В двух других лодках народу уселось еще больше, они взяли курс на Четки. С лягушками дело обстояло так: когда они не нужны, их полно, а как понадобились, нигде ни одной. Сколько раз злили они меня, когда я вел леску вдоль камышей, по меньшей мере, при каждом третьем забросе на мигание фонарика выпрыгивала лягушка! Сейчас ни одной, словно в воду канули! Сержант попытался ловить их, предлагал то одно, то другое, старался делать все осторожно, но приходилось то вытаскивать из камыша зацепившийся крючок, то слишком раскачивали лодку. Наконец минут через сорок этаких мук нам удалось поймать одну лягушку.
Я уже говорил, что заставить плавать лягушку гораздо труднее, чем мышь, которая ведет себя всегда одинаково, старается доплыть до зарослей водяного ореха и держится на поверхности воды. А лягушка то плывет к лодке, то уходит под воду. Эти ее фокусы, утомительные для меня, казались скучными зрителям. Происходило все это так: бросаю ее, минута покоя, лягушка пытается спастись, плывет то в одну сторону, то в другую, уходит вглубь, я сматываю леску, вытаскиваю из воды, снова бросаю... Уж не говоря о том, что бросками я баламучу воду, но из каждых пяти минут остается не более тридцати секунд для приманки щуки,
И вот лягушка снова погружается, леска ослабевает, приближается ко мне, хватаю удилище, левой рукой берусь за ручку катушки и вдруг вижу — леска останавливается. Что случилось? Или лягушка передумала, или спешит обратно? Может быть, сообразила, что и для нее в этой игре нет ничего занимательного? Но нет. Леска подается чуть вбок, снова останавливается. Автоматически наматываю ее на катушку, но лягушка упрямо остается под водой. Решила отдохнуть на дне? У лягушек нет такой привычки. Но ведь вода здесь очень глубокая. Надеюсь, что не застряла между камнями... В этот момент шнур напрягся и молниеносно подался вправо. Это произошло так неожиданно, что я не успел подсечь. Еще счастье, что я сжимал изо всех сил четырехметровку. Удилище дрожало, со стихийной силой рвалось из рук, я даже застонал, а сержант: торжествующе крикнул:
— Поймали!
Поймали? Ну это еще видно будет.
Я не знал, что может выдержать неизвестный мне японский шнур. Протянул руку к тормозу, чтобы ослабить натяжение и тут же раскаялся — с треском шнур вытянулся из катушки еще метров на пятнадцать. Ничего другого не остается, как только тормозить, втягивать шнур обратно и по мере возможности вываживать удилищем. Щука повернула обратно и устремилась в глубину. Ну и силища у нее! Я знал, что удилище не сломается, скорей порвется шнур, и все–таки было страшно смотреть, как оно гнется, как жалка эта снасть перед таким хищникам, как вибрирует напряженная леска? Наконец щука пошла обратно, и мне удалось укоротить шнур метров на пять-шесть. Чудовище начала кружить по краю кратера. Хорошо, кружи, милая, как можно дальше, это тебя не спасет. Но щука сделала семь-восемь кругов и рванула влево, снова чуть не вырвав удилище у меня из рук. Леска пугающе звенела, пришлось несколько отпустить ее, чтобы не случилось беды. Щука на более длинной леске тотчас повела в другую сторону, приходилось опасаться, что она нырнет под лодку. Я высунулся далеко, продолжая и в этом положении держать удилище; сержант, как тигр, бросился мне на ноги, прижал их ко дну лодки, чтобы щука не выдернула меня в воду. Нельзя сказать, чтоб мне было очень удобно. Болели плечи, руки, поясница, но зато круг сузился, и я смог втянуть обратно метра два шнура.
Чтобы вытащить щуку на поверхность, и речи быть не могло. Я попытался, но это было все едино, как сдвинуть с места скалу. А щука снова помчалась, но теперь в мою сторону, прямо под лодку. Я быстро вобрал шнур, втянул удилище, но его конец погрузился в воду, и я сам по пояс висел над водой, почти касаясь лицом водной поверхности. Сержант лежал на моих ногах, игра шла ничейная. Одна, две, три минуты, показавшиеся мне вечностью. Сержант спросил тихо:
— Запуталась? Ушла в камыши?
Я отрицательно затряс годовой. Чувствовал, как движется щука, тянет, хотя и медленно.
— Надеюсь, что пока еще нет.
Щука с крючком в пасти была от камышей в нескольких сантиметрах. Но я не имел ни малейшего представления, куда впился крючок, как глубоко она его заглотнула, лишь подозревал, что и рыбе не очень–то удобно. Она двинулась вдоль камышей, вышла из–под лодки. Тянула она теперь, казалось бы, еще сильнее, упрямо, как тянет обычно сом, но медленнее, чем до сих пор. Щука тянула направо, в сторону Четок. Мне удалось задержать ее. Снова большие круги, лотом малые круги и рывок «домой», в заросли водяного ореха. Удержать ее мне помогла не ловкость, а удача. С напряженными нервами, в борьбе с таким сильным хищником я уже не мог трезво судить, когда надо отпускать ее, когда притягивать. Не я утомил щуку, а она меня. И не я ее, а она сама себя подсекла. Только теперь, когда она кружила в глубине, я подумал, что надо несколькими рывками засадить ей крючок поглубже в глотку, в каком бы месте он там ни впился.
— Внимание, доктор! — крикнул сержант. — Она пытается сорваться!.. Устали?
— Пожалуй.
Новый рывок, отчаянные, быстрые круги, снова рывки, и все в глубине, не приближаясь к поверхности. Щука снова устремилась под лодку, и мне снова пришлось висеть над водой, чтоб удержать ее подальше от камышей. Рывок вправо в сторону Четок, попытка скрыться в растительности и снова кружение... Наконец, она вроде бы стала тянуть слабее, подошла ближе к поверхности.
— Утомилась!
Сержант, оказывается, отмечал время.
— Тринадцать с половиной минут.
Еще через три минуты щука всплыла так, что из воды показался хвостовой плавник. Со стороны Четок донесся такой взрыв оваций, как в цирке после потрясающего номера. Сержант отпустил мои ноги, сел на свое место.
— Теперь она от нас не уйдет!
Но настоящая борьба только еще начиналась, во всяком случае, самая показательная часть — щука, продолжая кружить, выскакивала из воды. Несколько раз она выпрыгивала в нашу сторону, я разглядел ее устрашающую пасть, а мои спутники в лодке невольно приняли защитные позы. Раскраска рыбы была необычной, мраморной, под цвет камышам, красноватой и черной, плавники желтовато-красные. Прыгая, она накрутила на себя леску, я боялся, что шнур попадет ей под зубы. С большим трудом мне удалось отвоевать у нее еще несколько метров, а петлю на теле затянуть крепче. Новые броски, новые попытки уйти вглубь; и вот внезапно она сдалась. Шнур ослабел, рыба лежала на поверхности воды, словно падаль. Кто–то сказал:
— Так ведь это акула.
Длиной не менее полутора метров, но не стройная, а плотная. Сержант прочитал мои мысли.
— Ближе к двадцати килограммам, чем к пятнадцати.
В руке у него я увидел самодельный намордник. Рыба лежала неподвижно на расстоянии семи-восьми метров от нашей лодки. Я начал осторожно подтягивать ее, сначала она повиновалась, как неживая, потом немного пришла в себя, начала биться. Пусть себе поиграет концом удилища, пока может. Щука снова легла, я еще подтянул ее и увидел, что два конца тройника торчат снаружи, а третий засел в лучшем месте, в углу пасти под нижней челюстью, оттуда его и вынуть трудно, не то что сам может выскочить.
И вот она лежит во всю длину рядом с лодкой. Сержант, держа в правой руке открытый намордник, потянулся левой к щуке, погладить, успокоить ее, чтоб не взбесилась, когда будут ей надевать намордник, чтоб не откусила ему руку — такое тоже случается. Она давала себя гладить, но пасть не открывала. Сержант попробовал испытанный рыбацкий прием: средним и большим пальцами он нажал на глаза щуки: обычно самые упрямые тут же открывают рот; но наша и на это никак не среагировала, а внезапно ударила головой и хвостом с такой силой, что мы испугались — вот-вот перевернет лодку. Шнур на конце удилища сорвался и щелкнул за моей спиной, словно из рогатки выстрелили.
Я не верил своим глазам, ведь только что щука лежала рядом, не далее полуметра от лодки, я мог дотянуться до нее, но не прошло и мгновения, как она перевернулась на живот и медленно, устало, словно больная, исчезла с наших глаз.
— Что случилось? Сорвалась?
Я подтянул шнур, взглянул на крючок.
— Сломался.
У кованого толстого норвежского тройника один зуб был отломан. Секундомер сержанта показал двадцать девять с половиной минут.
В таких случаях рыбак с полчаса молчит. Ему кажется, что и жить не стоит, что он уже не живет, уже умер. Но остальные говорят без умолку, подробно рассказывают, кто, что и как видел. Они не знают, какую боль доставляют их слова, звуки их голосов, как треплют они нервы неудачливого рыболова.
Стемнело, зажгли захваченные с собой электрические фонарики, заспешили домой. Я начал приходить в себя только на причале.
Первые полчаса рыбак молчит, а говорят остальные. Потом начинает говорить рыбак. Объясняет, что на рыбалку ходят не для того, чтобы потом есть рыбу. По существу, щуку он поймал, но даже не это важно, а сам процесс борьбы с большой рыбой, в этом случае борьба длилась полчаса, все тому свидетели. Его начинают утешать, но ему утешения не нужны.
За праздничный стол мы все–таки сели. Черт с ней, со щукой, а за окончание опыта, за успешную экспедицию выпить следовало. Повар оказался на высоте, выложил остатки запасов, везти их обратно не имело смысла. После стольких волнений все были веселы и навеселе.
Субординация не соблюдалась, все уселись вокруг сдвинутых столов, кому где нравилось. Военные, гражданские лица, ученые, вспомогательный персонал. Празднество организовали в самом большом помещении — столовой офицерского клуба. Внизу в холле танцевала молодежь.
После ужина в маленькой гостиной собралась тесная компания, принесли кофе и ликеры, Проф произнес прощальную речь: вылив немного вина из бокала на пол, он торжественно окрестил мой препарат, впервые назвав его У-19. Язык у него заплетался, он что–то болтал, я не совсем понимал что, уши у меня были словно ватой заткнуты, все вокруг виделось как сквозь туман. Проф сел и продолжал говорить, как произносят тост:
— «Сатурну» мы окончательно утерли нос, а он только одних нас и опасался, никогда не принимал всерьез работу групп «Меркурий», «Венера», «Земля» и «Марс». Удушливым газам они не доверяют, они слишком известны, действие их сомнительное, применять их можно разве что в тактических целях. Бактерии? Транспортировать их трудно, да и кроме того, если весь континент будет охвачен, скажем, вирусным менингитом, никому не дано знать, где остановится эпидемия. Что же касается гербицидов и животных ядов, надо признать, что критический обрыв биологической цепи может принести огромный вред, да и применять их можно только в случае продолжительной воины, а нанесенный вред может обернуться против победителя. Эксперименты «Юпитера», «Нептуна» и «Плутона» никогда не принимались всерьез. Какая нам, например, выгода, если мы сумеем ослепить врага на три часа? Для обеспечения победы этого недостаточно. Что же касается галлюциногенов, их влияние не на всех одинаковое, и во многих случаях может быть даже парадоксальным, а длительного эффекта в размерах континента они не дают...
Иначе говоря, дорогие коллеги, мы не только первыми можем доложить о выполненном задании, но именно мы, и только мы, даем в руки правительства окончательное, верное и решающее оружие! Думаю, не стоит вам объяснять, что это даст нашей группе при обсуждении бюджета для дальнейшей работы.
Именно тогда и произошел неприятный инцидент. Я уже некоторое время прислушивался к бормотанию невропатолога, но думал, что он разговаривает с соседом. А он вдруг принялся орать;
— Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. А потом еще Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы! Ведь они все тоже есть. Да здравствует Водолей, единственный давший нам эффективное и окончательное оружие! А еще есть Анте, Апуд, Ад, Адверсус, Циркум, Цирка, Цитра, Цис! Может быть, как раз и они сейчас что–то там празднуют. Да здравствует Контра, поставившая единственное эффективное, верное и окончательное оружие! Да здравствует несравненное достижение человеческого интеллекта и творческого порыва! И я уверен, что есть еще...
Невропатолог уже забрался на стул и кричал во всю глотку. Только теперь все заметили, что он пьян в стельку, быстро схватили его и увели, но мы продолжали слышать его вопли. Не понимаю, что с ним случилось, весь день был в хорошем настроении. Может быть, и его немного взволновала эта история со щукой, я видел, как он побледнел. Говорят, что он и не пил особенно, а мы и не знали, что он плохо переносит алкоголь.
По правде сказать, мы легко обошлись бы без этой сцены.
Потом мы пели. Старые студенческие и солдатские песни, настроение стало лучше, все расчувствовались, как это бывает в конце каждой экспедиции. В полночь я перестал пить, под утро, когда все были в стельку пьяные, я уже протрезвел. За мной зашел сержант, проводил меня домой.
— Скажите, доктор, какие крючки у вас еще есть?
— Есть еще такие, норвежские тройники.
Сержант кивнул.
— А еще покрепче?
— Тройников крепче нет.
— А одинарных?
Было у меня несколько крючков, покрытых черной эмалью, тяжелых, для ловли сома. Я показал ему. Он выбрал три одинаковых.
— Положитесь на меня, сооружу из них тройник. Поймаем эту разбойницу.
13 сентября. Два дня не попадал на рыбалку, надо было упаковывать и отправлять материал. Начинался разъезд. Сегодня в полдень отбыл Проф с научным персоналом. Я попросил, чтоб мне разрешили остаться еще на день, потом догоню их. Проф сияет. (Я бы тоже сиял, если б не был так уверен в успехе. В конце концов, я же знал — и надеюсь, всегда буду знать, — что делаю.) А сегодня перед отъездом он был опьянен славой: по радиотелефону ему звонил министр иностранных дел.
— Как вы думаете, коллега, почему он мне позвонил?
— Почему?
— Он едет на совещание, а перед тем хотел узнать, как обстоят у нас дела.
— Надеюсь, вы сказали ему: если через три дня он высадится в Индии, то найдет там семьсот миллионов безе.
Проф расхохотался.
— Пошлите их к черту, этих несчастных индусов.
— Разговор о них не я начал.
— В общем, я так и ответил, по смыслу, конечно... Значит, хотите еще на день остаться? Из–за щуки?
— Попытаюсь еще разок. Доброго пути вам.
Снаряжение то же самое. А крючок!
Не крючок, чудо!
Сержант сварил вместе три крючка, место сварки отшлифовал. Концы загнул. С таким тройником хоть акул лови.
Со мной отправились сержант и майор, мои первые и последние друзья в экспедиции. Меня приписали к военной части, завтра уеду с ними вместе. Мы быстро поймали несколько лягушек. До дождя не произошло ничего, от ливня нам удалось спастись на причале, переждали его в будке. Потом снова ушли на то же место в засаду. Клева нам пришлось подождать с полчаса, до без четверти пять. Вываживание проходило примерно так же, как и в первый раз, но теперь я уже наловчился, да и щука сдалась немного раньше. А главное — крючок не сломался.
Мы измерили ее: вес восемнадцать с половиной килограммов, длина сто шестьдесят сантиметров, в окружности почти восемьдесят. Сержант привязал ее к лодке цепью. Майор заснял.
(Жаль, что Проф и остальные не увидели! При прощании он пожелал мне успеха, но я почувствовал в нем уверенность, что щука у меня опять сорвется... Потом он взял с меня слово, что и во время рыбалки я буду думать о заявке с планом будущих опытов: теперь нам дадут все — лаборатории, оборудование, какое только нам ни понадобится, поэтому и просить надо как можно больше! «Приступим к серии опытов с адреналином!»)
Не лежит у меня сердце к адреналину. В теперешней моей работе еще многое не доделано. Крепко засело у меня в голове, что говорил Проф о сталкивающихся поездах, взрывающихся котлах, рушащихся домнах. И еще я вспоминаю крестьянина, возвращающегося в дом, чтоб потушить электричество. «Псевдосознательный рефлекс».
Можно было бы замедлить эффект, но не разбавлением препарата, это увеличило бы его вес, лучше делать это добавкой атропина. Надо попробовать. И поискать алкалоид, стимулирующий псевдосознательность.
Нет, дорогой профессор, я не буду заниматься адреналиновой серией, сначала я создам У-20!
Уговорить его будет нетрудно, я могу доказать, что идею дал он мне сам.
Мы еще один раз, последний, проходим по Четкам, Божьему Оку, Подкове...
Совсем другое дело, когда возвращаешься с привязанной к лодке огромной, восемнадцатисполовинойкилограммовой щукой. Не только психологически, но и практически все выглядело иначе. Щука несколько раз пыталась освободиться в самых опасных местах и удрать в камыши. Стемнело, пока мы добрались до причала, усталые и потные.
Какой по-домашнему уютной показалась мне эта маленькая деревянная пристань, мостик над заболоченным берегом. Теперь и здесь мы должны уложить все, что можно захватить с собой: багры, спасательный пояс, канаты. Остальное оставим на волю судьбы, возиться не стоит.
Ну а щука? Когда дело дошло до нее, мы не знали, плакать нам или смеяться.
— Что нам делать со щукой?
Лагерь опустел. Постоянный персонал ждал конца опыта, чтобы взять полагающийся им в этом году отпуск. Пока они не вернутся, останется Толстяк с небольшим отрядом.
— Отдать им щуку?
— О боже! Неужели мы для этого столько мучились, трудились, резали камыш, караулили под тучей комаров? Только для этого? Чтоб подарить щуку Толстяку и его подручным? Нет, друзья, ни за что! Да и я не знаю, любят ли они щуку.
— У такой старой щуки не очень вкусное мясо.
— Да их и мало остается. Не станут же они несколько дней подряд питаться рыбой. Выбросят.
— Так что же нам делать?
Выла борьба, была и победа, фотография сделана, свидетели есть. Я расстегнул на щуке намордник.
— Ступай, старина! Живи, раз уж ты так борешься за свою жизнь!
Сначала она словно бы и не поверила. Но это длилось какое–то мгновение. Щука ушла под воду, а мы смотрели ей вслед, пока ее было видно в мелкой воде, потом она бесследно исчезла в камышах.
На сердце у меня стало легче. Такая чудесная рыбина!
В караулке, где всегда толпился народ, болтали, бездельничали, играли в карты, теперь мы застали одного часового, ожидающего смены. Лагерь опустел. И здесь, в славящейся нестерпимой жарой Южной Котловине, словно похолодало. К ночи погода начала портиться.
Послезавтра в полдень я буду в городе, увижу асфальтированные тротуары, гладкие стены домов, знаки, регулирующие уличное движение, лица прохожих. Это будет через тридцать шесть часов. А через неделю буду дома, увижу своих.
Да, своих! А я, о котором через пять, десять, пятнадцать, а самое большее через двадцать пять лет напишут в некрологе, что был я лучшим на свете мужем, отцом, дедом, ведь я целую неделю не писал им: свертывание лагеря, охота за щукой — все было для меня важнее. Все–таки удалось мне уговорить Толстяка, чтоб разрешил мне продиктовать по радиотелефону телеграмму: «Дорогие, в будущую пятницу вечером буду дома, чувствую себя хорошо, рыбалка была великолепная, потом расскажу, тысяча поцелуев».
Сноски
1
Что и требовалось доказать (латин.)
(обратно)2
Любовь втроем (франц.)
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
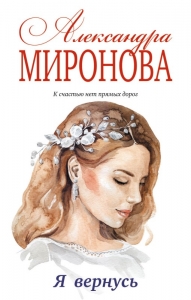
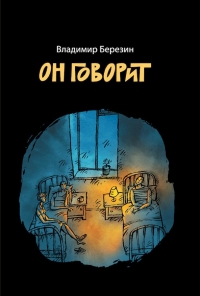







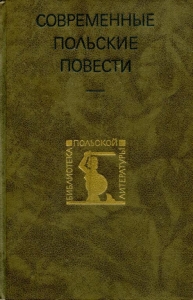


Комментарии к книге «Великолепная рыбалка», Лайош Мештерхази
Всего 0 комментариев