Анатолий Луцков ОДНАЖДЫ В АФРИКЕ… Роман ПАСЫНКИ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ Рассказ
ОДНАЖДЫ В АФРИКЕ…
Дует ветер, новый ветер — Где-то в этой Африке, Но не ласковый, не с моря, Завывают на рассвете Вихри горечи и горя — Где-то в этой Африке. Адду Агво (Нигерия), пер. А. Эппеля1
Леса по берегам реки с какой-то подавленной обреченностью стояли, уже сменив свой беззаботный летний наряд на несколько печальный желто-багряный. Только остроконечные ели с хмурым равнодушием к сменам времен года с вызывающей заметностью темнели среди всей этой недолговечной и уже обреченной желтизны и багрянца. Своей неподверженностью переменам в природе они словно бросали вызов ходу времени. Но это был всего лишь мнимый вызов, а их игра в неизменность и это их вечнозеленое великолепие выглядело все же неубедительно. Осень была уже во всем: в низком и неярком солнце, в облаках со свинцовым подбоем, в сумрачно-холодной синеве реки.
Все эти осенние прелести, с суровой торжественностью проплывавшие мимо, Вадим Комлев какое-то время довольно отрешенно наблюдал из окна своей каюты, над дверью которой сияла медная табличка с надписью «старший помощник капитана», прежде чем бухнуться, сняв только туфли, на свою узкую койку, чтобы немного вздремнуть до вахты, которая начиналась ровно в четыре дня. Его старая и верная «Спидола» на столике у окна передавала новости и Комлев в ее работу не вмешивался. Он давно уже привык спать при любом звуковом сопровождении, а на движущемся судне всегда стоит какой-то шум и гул. В этом случае звук голосов из эфира не только помогал нейтрализовать или уравновесить этот гул, но еще и должен был помочь Комлеву проснуться до того, как посланный с мостика матрос грубо постучит в окно или в дверь, напоминая ему о вахте. Когда он уже готовился провалиться в соблазнительно мягкую и упругую внутри, словно наполненную еловым лапником, яму сна, он еще успел услышать, как диктор с равнодушной деловитостью в этот момент вещал: «В африканском государстве Бонгу прошли президентские выборы. Действующий президент, выставивший свою кандидатуру повторно, не сумел набрать нужное число голосов, дающее возможность сохранить за собой пост на новый срок. В настоящее время его местопребывание неизвестно, предположительно, он скрывается в одном из иностранных посольств. В столице Бонгу, городе Лилонгве, неспокойно, повсюду слышится стрельба. Идут поиски и арест членов правительства и чиновников аппарата президента.»
Потом приемник заговорил о погоде. Со стороны Атлантики ожидался обширный циклон. «Ну и нравы в этом государстве Бонгу», — успел еще неодобрительно подумать Комлев засыпая.
Он проснулся через сорок минут под назойливо-развязную рекламу какого-то чудодейственного медицинского препарата: «Верните себе радость бытия — покупайте наше лекарство! Наш фантазипин возьмет вашу боль на себя!»
Пока Комлев надевал форменную тужурку с потускневшими шевронами на рукавах, в которой ему полагалось выходить на вахту и затягивал узел галстука, он думал о быстро улетучивающемся, как утренний туман, сне, который он только что видел. «Что мнится, то и снится», — вспомнилась ему старая присказка, как бы начисто отметающая идею вещих снов и толкующая природу сновидений со строго материалистических позиций. А сон Комлева как раз был на тему того, что он успел услышать тогда по радио, и видел он перистые кроны кокосовых пальм над крышами невысоких обшарпанных домов, черный дым и пламя горящего прямо посреди улицы автомобиля, солдат в пятнистой униформе со скорострельными винтовками в руках, он даже запомнил сверкающие белки глаз на темных, блестящих от пота лицах. И он, Комлев, в легкой рубашке и шортах, с тревожным любопытством смотрит на улицу, слегка отвернув штору на окне. Дверь у него надежно заперта, и в нее никто не стучит прикладами. Но за спиной он вдруг именно почувствовал, а не услышал, какое-то легкое, но пугающее движение. Он обернулся и окаменел, увидев, что дверь на лестничную площадку широко распахнута, и там уже зловеще темнеют две или три фигуры. «Как они сумели бесшумно открыть дверь?» — мелькает у него в голове запоздалая и ненужная теперь мысль. Комлев понимает, что пришли за ним и теперь ему конец. Он с отчаянной радостью ринулся навстречу спасительному пробуждению, словно выныривая из опасной водной глубины на поверхность, где светит солнце, и заметил, что сердце его учащенно билось. «Ерунда какая», — с растерянным неудовольствием думал он, шагая по длинному коридору верхней палубы. Остановился на миг перед высоким зеркалом в круглом зальчике, где с двух сторон двери вели на прогулочную палубу. Он поправил темный галстук, чтобы тот строго по вертикали рассекал белую гладь рубашки, и проследил за застегнутостью всех пуговиц тужурки. Капитан был строг в отношении форменной одежды, тем более, что на борту были пассажиры. Вероятно, последние в эту навигацию; сейчас они возвращались из рейса, короткого туристского, — на родину известного поэта.
На мостике было свежо, хоть и солнечно, но в рулевой рубке царило электрическое тепло. Рулевые только что сменились и теперь за штурвалом высился сутуловатый Синяков, от которого неистово несло только что выкуренной перед вахтой сигаретой из плохого табака. Еще он был до неприличия любопытен, поэтому капитан этого старого теплохода (и кажется, даже его ровесник) Сивковский поманил Комлева из рубки и вывел на мостик, отчасти лишая его этим возможности указывать рулевому и участвовать в судовождении.
— Идите пока по створу, Синяков, — сказал, выходя, капитан, — а там дальше будет перевальный столб на правом.
Синяков хотел сказать: «Знаю», но решил не нарываться на замечание и буркнул: «Есть, по створу». Фарватер он знал неплохо.
— Я вас долго не задержу, Вадим Алексеевич, — суховато сказал капитан.
Всех своих помощников он педантично называл по имени-отчеству, воспитывая и держа дистанцию.
На палубе виднелись лишь отдельные фигуры или небольшие кучки пассажиров. Видимо, все собрались в носовой части, в музыкальном салоне, где был отличный обзор и к тому же тепло. «Крупская» с будничной неторопливостью двигалась против течения, и навстречу ей плыли осенние леса, а у берегов вода уже была усеяна плывущими по течению желтыми и бурыми листьями.
— Для вас у меня две новости, — сказал капитан. — Как в анекдоте: хорошая и не очень. С какой начинать?
— С той, что не очень, Владимир Андреич. Тогда вторая пойдет на то, чтобы подсластить горечь первой.
— Что ж, не лишено логики. Итак, «Крупскую» ставят после этого рейса в затон, и ее дальнейшая судьба неизвестна. Могут отдать кому-нибудь в аренду или даже продать, в том числе и на металлолом. Сейчас, кажется, все можно. Оставят же пока на ней капитана, механика с парой мотористов и троих матросов, чтобы вахту стояли у трапа. Уяснили?
— Так точно. От вопросов пока воздержусь.
— Перехожу ко второй новости. Я, как вы, возможно, догадываетесь, ухожу на так называемый заслуженный отдых. Все, отплавал свое. Вас я рекомендовал на должность капитана. Завтра должен быть приказ. Не вижу, однако, радости на вашем мужественном, хотя и озябшем лице.
— Она будет, — пообещал Комлев. — После выхода приказа.
— Благополучной вахты, — скупо сказал капитан и со сдержанной заботливостью добавил: — Двигайтесь осторожно. Судоходную обстановку на реке кое-где уже сняли, да за ней путейцы, кажется, особенно и не следят. Перестроечная расхлябанность и все такое. Я пошел.
Комлев следил, как черный верх капитанской фуражки медленно исчезает в районе левого трапа, ведущего вниз с мостика. Конечно же он был рад назначению. В самом слове «капитан», а это от латинского «капитус», то есть «голова», было что-то веское, в нем звучала властность и неуступчивая непреклонность. Комлев смущенно поймал себя на том, что самолюбие его было вполне польщено. Стать капитаном всего лишь на пороге своего тридцатилетия было совсем неплохо. Но в этом назначении таилась и некая издевательская двусмысленность. Ему теперь придется командовать дряхлеющим судном в затхлом грязном затоне, и почти без команды. Судном, звездный час которого миновал еще почти полвека назад, и теперь ему только оставалось вспоминать славную молодость, поскрипывая якорной цепью и швартовыми тросами. А для того, чтобы взойти в этой должности на капитанский мостик какого-нибудь нового, белоснежного четырехпалубного красавца, который швартуется перед самым речным вокзалом, ему пришлось бы ждать еще лет пятнадцать — двадцать. И это если еще повезет.
Старый капитан Сивковский был немногословен и часто обходился взглядом, скупым жестом или мимикой. Временами же он бывал еще и едкоироничен. Слух о том, что он уходит на пенсию ходил по судну с начала осени. Когда же он вдруг сказал о своем уходе, Комлев сделал вид, что слышит об этом впервые и изобразил на физиономии неискреннее удивление. Но капитана он уважал. Он не опускался до жалоб, когда в девяностых недопустимо долго задерживали зарплату, тогда как механик Трушкин, несменяемый годами парторг «Крупской», то и дело с безжалостной громогласностью повторял на палубе и у себя в машине, и в столовой комсостава во время скудной трапезы:
— Доорались на своих сборищах и в народных шествиях — вот и получайте, что заслужили! Домахались белогвардейскими флагами! Где это видано, чтобы плавсоставу не платить месяцами?
Его гневно-укоряющий взгляд, словно лазерный луч, упирался в тех, кто, по мнению Трушкина, участвовал в упомянутых митингах и шествиях. Комлев ловил себя на том, что взгляд механика останавливается на нем чаще, видимо, чутье старого партийца его не подводило. Комлев действительно хаживал на митинги, не столько по убеждению, сколько от безделья, когда «Крупская» целыми днями, а то и неделями пребывала у причала в унылой неподвижности, ибо топливная база не отпускала соляр для машины, требуя от кого-то предоплаты, и было даже неизвестно, кто кому подчинялся. То было время, когда популярная экономистка призывала к «обвальной приватизации» всего, что еще оставалось в руках государства. А внук известного писателя-героя склонял к тому, чтобы отбросив остатки сомнений, всецело довериться спасительному рынку, который якобы все расставит по своим местам, накормит и напоит, оденет и обует. Комлеву это напоминало призыв начать навигацию на реке, где не сделаны промеры глубин, не стоят бакены и вехи и вообще никак не обозначен судовой ход.
Капитан тогда хмуро отмалчивался. Лишь в октябре девяносто третьего (год, напоминавший название известного романа Виктора Гюго) он с удрученностью сказал:
— Хотелось бы дожить до того дня, когда собственную страну можно будет не только любить, но и уважать.
Такие длинные фразы у него встречались не часто.
Несколько лет назад, когда Комлев плавал вторым помощником на гидрографическом судне «Путеец-2», его однажды вызвали в отдел кадров и сделали заманчивое предложение. Была возможность отправиться на год и даже больше поработать на дноуглубительном судне в одной далекой южной стране, бывшей ранее британской колонией или протекторатом. Для работы требовалось рабочее знание английского языка, и Комлеву даже обещали оплатить его занятия на кратких городских курсах. Комлев раздумывал недолго, ибо соблазн был велик. Экзотичная страна, инвалютный счет в банке, в дальнейшем доступ в магазины «Березка»… Ничто человеческое Комлеву не было чуждо. Только что закончилась навигация, судно его стало на зимний ремонт, и он с воодушевлением стал заниматься на курсах, с приятным удивлением отмечая, как к нему возвращаются полузабытые школьные познания в языке британцев. Со справкой об окончании курсов, с заполненной обширной анкетой и, главное, с характеристикой, подписанной капитаном, парторгом и профоргом судна, где стояла сакраментальная фраза «политически грамотен, морально устойчив», Комлев помчался в кадры. Шла зима, «Путеец» стоял в судоремонтном заводе, в стране вяло набирала обороты горбачевская перестройка. Она, видимо, нисколько не коснулась компетентных органов, а если и коснулась, они ей не поддались: не на тех напали. Короче говоря, Комлеву в зарубежной командировке отказали и не было даже известно, от кого исходил отказ и чем он вызван. Было что-то обидное в самой анонимности этого отказа, а возможности для догадок о причинах были почти безграничны: от предположения об участии в каком-нибудь крамольном разговоре до непохвальных фактов биографии самого Комлева и его близких родственников, хотя с некоторыми из них он виделся только в раннем детстве. Так, старший брат отца, дядя Коля, был во время войны в немецком плену, кое-кто был на оккупированной неприятелем территории, а один из двоюродных братьев имел судимость. Все эти порочащие его факты Комлев, заполняя анкету, злодейски утаил, наивно надеясь на то, что ястребиная зоркость взгляда Органов может быть теперь несколько притуплена под порочным воздействием перестройки. Осознав тот факт, что отказ окончателен и обжалованию не подлежит, Комлев напился в своей каюте в обществе механика и при этом допустил ряд нехороших высказываний в адрес этих самых славных органов, руководящей партии и родного правительства. Тем самым он усугубил тяжесть своего положения, сделав себя еще более невыездным, учитывая тот факт, что даже стены имеют уши. Этот малопочетный статус оставался за ним до того самого рокового августа девяносто первого года.
Рейс заканчивался, и к речному вокзалу «Крупская» подходила утром, когда заканчивалась вахта Комлева. Было ясно, сухо и свежо, при небольшом отжимном ветре. Капитан почему-то на мостик не поднимался, и тогда Комлев понял, что он дает ему возможность почувствовать всю прелесть единоначалия. Мнимого, потому что Сивковский, несомненно, таился где-то внизу под левым крылом мостика, откуда и наблюдал за судоводительскими деяниями своего старпома.
Комлев старался показать себя и подвести судно к бетонному причалу с ювелирной точностью, а боцман с двумя матросами уже следили, чтобы мягкие кранцы были в местах соприкосновения борта с бетоном. Второй помощник уже был на корме, где следил за швартовкой. В машину Комлев дал команду «самый малый», когда до причала было метров пять, но ветер делал свое дело и исправно тормозил движение.
— Стоп, — скомандовал он в машину на всякий случай голосом, хотя и передвинул ручку телеграфа на нужное деление.
Нос теперь шел вдоль причала по инерции, приближаясь к нему. И вот мягкий толчок и команда на бак: «Подать носовой». Боцман с профессиональной лихостью перебросил на причал широкий огон толстого швартового троса, на причале его накинули на тумбу, а на теплоходе два матроса мигом выбрали слабину и закрепили на кнехте. С кормы второй сообщил, что ее подтягивают к стенке работой шпиля. Швартовка подходила к концу, и Комлев уже начинал себя чувствовать капитаном.
2
Комлев знал Вьюнова давно, еще когда оба были в училище на первом курсе. Никакой дружбы они не водили, но и не враждовали тоже. Вьюнов вообще ни с кем не дружил, он был из тех, для кого важна не дружба, а хорошие отношения. Он и не враждовал ни с кем, считая это глупым и недальновидным. С юных лет он был активистом, а в те времена это качество могло реализоваться в общественной деятельности, прежде всего связанной с молодежным помощником единственной политической партии в стране — комсомольской организацией. Талант Вьюнова был сразу же замечен. Вскоре было предложено избрать его комсоргом курса, а к концу учебы он уже возглавлял комсомольское бюро училища и готовился вступать в партию. В учебе, несмотря на все старания, он не блистал, так как прискорбно сказывалось отсутствие заметных способностей, хотя тупицей он не был. Однако после второго курса его явно стали проталкивать в отличники. А окончить с отличием означало поступить без экзаменов в Институт инженеров водного транспорта, что давало еще и освобождение от военной службы. В то время, когда Комлев носил бескозырку с надписью на ленте «Тихоокеанский флот» и крутил штурвал на старом минном заградителе, Вьюнов успел окончить институт и получить какой-то начальственный пост в пароходстве. Изредка и вполне случайно они встречались, Вьюнов с доброжелательной предупредительностью бросал ему пару дежурных фраз, избавляющих от разговора и как бы подтверждающих историческую ненужность воспоминаний об их юных годах в училище. Поэтому Комлев был немало удивлен, когда получил от Вьюнова письмо в официальном конверте на второй день, когда «Крупская» заняла свое малопочетное место в затоне, рядом с каким-то дебаркадером, который давно облюбовали бомжи, и старым колесным пароходом «Дмитрий Ульянов».
— Мы на свалке истории, — небрежно прокомментировал этот факт матрос с незаконченным высшим образованием Веточкин.
— При механике воздержись от своих оценок, — сдержанно посоветовал ему Комлев. — Дискуссионный клуб здесь устраивать не будем.
Письмо от Вьюнова было небрежно-коротким, но в то же время туманно-интригующим: «Вадим, зайди ко мне в понедельник, начиная с 10. Есть дело. Пропуск будет выписан».
Комлев отправился к Вьюнову, ведомый указанным на конверте названием учреждения, где тот трудился, с подробностями его расположения. Название было непростое, в окружении разных таинственных сокращений, но, кажется, имело отношение к водному транспорту. Подъезд здания был внушителен, празднично сияла медь ручек, охрана была сурово-непроницаема и одета в форму цвета осенних сумерек.
Следующие полчаса Комлев провел в кабинете Вьюнова, монументально полнеющего и одетого в обманчиво-скромный костюм хорошего покроя.
— Ну вот, сейчас принесут чай и мы поговорим, — с развязным жизнелюбием начал Вьюнов, нажимая какую-то кнопку.
Все, что Комлев затем услышал, привело его в состояние какой-то пленительной нереальности, ибо сам-то он рассчитывал в лучшем случае на то, что Вьюн поможет ему перейти на плавающее судно в прежней и привычной ему должности старпома. Это лучше, чем быть капитаном-сторожем на полупустом судне в затоне. А ему сейчас вместо этого предложили работу в Африке! Это даже было похоже на дешевый розыгрыш, но Вьюнов в своем кабинете, уставленном новейшей оргтехникой, настороженности не вызывал. И подробности затеваемого в одной африканской стране дела убеждали в серьезности замысла. Во всяком случае не вызывали подозрений. Водный транспорт там нуждался в развитии, и его эксплуатация сулила прибыли. Создавалась компания, ведающая не только судоходством, но и строительством малотоннажного флота. Будет организована доставка дизельных двигателей, возможно, с Брянского завода, и части корпусов, которые будут собираться на месте, так как там имеется судосборочное предприятие. Комлев, сам профессиональный судоводитель да еще с капитанским дипломом, будет первым представителем создаваемой компании. Видное место в ней ему будет обеспечено.
— Диплом тебе выдадут без проволочек, — с веской убедительностью заявил Вьюнов. — Подготовим и надежно заверенную копию на английском. Ну что тебя сейчас здесь ждет? Повсюду идет сокращение кадров. Капитанов теперь больше, чем плавсредств. Пассажирский флот переживает тяжелые времена. Перевозить некого, кроме разве что туристов и отпускников, да и то в разгар летнего сезона, а это значит, что весна и осень проходят впустую. Цены на билеты растут и будут расти, и обычный пассажир едет теперь поездом или автобусом. Сейчас осень, навигация идет к концу. А в Африке, как известно, навигация круглый год, и ты знаешь английский. Я твое дело смотрел.
— А что это хоть за страна? — нетерпеливо спросил Комлев, заранее зная, что название ему мало что скажет, потому что политическая карта Африки была для него все еще пугающе загадочной: он и десятка стран на ней бы не показал.
— Страна, судя по всему, очень интересная и перспективная во многих отношениях, — с жизнерадостной убежденностью заявил Вьюнов, пытаясь найти какой-то рекламный листок среди бумаг на столе. — Климат, говорят, отличный, благодаря высоте над уровнем моря.
— Называется-то она как?
Вьюнов выудил наконец из кипы бумаг красочный проспект с жирафами, зебрами и диковатого вида воином с копьем на обложке.
— Вот! Бонгу! — с радостной торопливостью объявил он, будто в самом названии заключалась высота оценки обозначаемой им страны.
Комлев чуть не вздрогнул от грозной неожиданности, и давнишнее его дневное сновидение вдруг предстало перед ним с пугающей наглядностью.
— Это там, где кровавые события были недавно? — с жестковатой прямотой несговорчивого клиента спросил он.
— Не знаю. Ничего не слышал, — опешил Вьюнов или же просто сделал вид, что страшно удивлен. И попытался отшутиться: — Ну, это ведь Африка, а там такие вещи всерьез не принимают.
Вьюнов видел, что Комлев заколебался, вот-вот «отработает» назад. А Комлеву было уже ясно, что тому не хочется его упустить. Зная бывшего училищного комсорга, он понимал, что у того своя игра и что он на него, Комлева, уже сделал ставку. «Пожалуй, он уже акционер в этой новой компании», — с вялой подозрительностью подумал Комлев. Отказываться ему теперь не хотелось. Внутри в нем сладко заныло в ожидании чего-то несбыточного, или тоска по приключениям, таившаяся в нем, теперь оживилась в ожидании событий. В своей жизни Комлев не предвидел для себя в ближайшие годы ничего заманчивого или необычного. «Разве что по ошибке получу пулю у себя в подъезде, предназначенную для какого-нибудь дельца, которого уже кто-то „заказал“», — с мрачной иронией подумалось ему.
А Вьюнов с надрывным беспокойством в глазах убеждал его в том, что Бонгу стоит в первой десятке самых безопасных стран Африки.
— Это же не Конго, в конце концов, или Либерия, не говоря уже о Руанде. В общем, приноси свое фото побыстрее, и паспорт тебе оформят без твоего участия, со всеми нужными визами. Билет и аванс в валюте — за два дня до вылета. Лады?
Вечером Комлев записал себе на листке бумаги задание на текущую неделю: «Фото на загранпаспорт; пройти медосмотр в поликлинике; сообщить (или не сообщать пока?) старикам; жилищно-коммунальный вопрос». У него была просторная комната в доме гостиничного типа для водников. Надо было подумать, как сохранить ее за собой во время своего длительного отсутствия, чтобы из-за чьих-то коварных действий она не уплыла от него навек. Он опасливо старался не изнурять себя размышлениями о том, что именно будет его, опаленного африканским солнцем блудного сына, ждать на родимой земле, когда он вернется. Но правовая обоснованность желания иметь крышу над головой заставляла с собой считаться.
3
В самолете у Комлева место оказалось у самого иллюминатора, и это его как-то утешило. Ощущать в пути достоверность окружающего мира за бортом, пусть даже ограниченного овалом из прочного стекла, означало сохранять с ним связь. А пока он несколько подавленно смотрел на мокрый от дождя бетон с желтыми пятнами отражений аэродромных фонарей. Было ему очень не по себе. Вся эта поездка казалась ему глупой авантюрой, а сам он, кажется, стал пешкой в чужой непонятной игре. Возможно, Вьюнов тоже пешка, но он хоть надеется сорвать хороший куш. На то он и Вьюнов. А для него, Комлева, еще неизвестно, чем все это вообще кончится. Но, с другой стороны, такая поездка, разве она не ценна сама по себе? Увидеть и, главное, прочувствовать то, что дается немногим? Ведь ему удастся побывать в самом центре Африки («Сердце тьмы» — некстати припомнилось ему название африканского романа Конрада). Комлев почему-то чувствовал внутри какое-то странное, немного пугающее сжатие, оно появилось с того времени, когда он прошел паспортный и таможенный контроль, и потом вышел на мокрое летное поле, будто на ничейную землю. Так еще чувствуют перед прыжком с большой высоты или решаясь перебежать через рельсы перед мчащимся поездом.
Салон самолета между тем заполнялся. Много темнокожих, и это понятно: кому как не им лететь в первую очередь в Африку? Комлев представил себе карту. Самолет полетит строго на юг, почти по меридиану или, точнее, между двумя: тридцатым и сороковым. Если ничего не случится, завтра примерно в это время он может быть уже на месте. Зависит от того, как получится с пересадкой в Хартуме. Хартум! От одного названия веяло Нубийской пустыней и африканской саванной. Место слияния Белого и Голубого Нила. Это уже было что-то запредельное. Лучше вообще пока об этом не думать. Ему рассказывали, что в прежние и совсем не отдаленные времена «органы» иногда, спохватившись, пресекали чей-либо выезд из страны в самый последний момент. Даже, говорят, высаживали из самолета. Ему это, видимо, не грозит, все-таки другая эпоха. Комлеву вдруг с какой-то постыдной жалостью и самоупреком подумалось о старом, оставленном им судне. Сорные воды затона, где оно сейчас стоит, ожидая своей участи, покрывает мелкая рябь от порывов осеннего ветра. На черной воде — колеблющиеся пятна света от редких береговых фонарей. У сходней на берег сидит сейчас, нахохлившись, на ящике с пожарными причиндалами вахтенный матрос и дымит дешевой сигаретой. А он, его капитан без года неделя, почему-то переместился в салон международного лайнера и теперь похож на самого банального беглеца, заурядного дезертира. И поглядывает с виноватым смущением в круглое самолетное оконце, за которым в полутьме скрывается покидаемое им прошлое.
Когда Комлев намечал для себя некое количество дел, которыми ему надлежало заняться перед отъездом, он не включил в этот ряд одно, которое не давало ему покоя, пожалуй, больше других. Возвращаясь после рейса домой в свое одинокое жилище в доме водников, он давно уже не слышал от соседа-пенсионера, отставного багроволицего шкипера, хриплое: «Вадим! Тут твоя на днях заходила. Сказала, что будет еще звонить». Никаких звонков от Вики не было уже много дней.
Знакомство с ней произошло за пару месяцев до этого, на той же «Крупской» долгим летним вечером. После одного короткого рейса, когда уже началась стоянка у причала и на судне остались только те, кому полагалось оставаться здесь по службе, к Комлеву, которого утром должен был сменить второй помощник, подошел вахтенный матрос Зыкин. Этот молодой еще парнишка был в нервной растерянности и в то же время с дурацкой улыбкой на лице. Он сбивчиво доложил Комлеву:
— Там пассажирка одна еще не сошла на берег. Стоит у борта и плачет чего-то. На шлюпочной палубе.
— Она уже не пассажирка, если рейс закончился, — наставительно напомнил ему Комлев. — Она теперь для нас просто постороннее лицо на борту судна. Пойду посмотрю. Не отходи от трапа.
Посторонней на борту оказалась довольно привлекательная особа, несмотря на безнадежную заплаканность лица и покрасневшие глаза. Комлев же не выносил женских слез и, оказываясь их свидетелем, чувствовал себя в глупейшем положении, так как утешитель из него был плохой.
— Девушка, — с наигранной беспечностью начал Комлев. — Уже поздний вечер и всем, кроме вахтенных на судне, пора баиньки. Где вы живете?
— Мне некуда идти, — с выражением сумрачного неприятия окружающего мира ответила она, пристально вглядываясь в мерцающий просвет между бортом и причалом, как бы намекая на то, что это и есть то место, куда ей надлежит отправиться.
Комлеву пришлось оставить ее до утра в своей каюте, а самому перейти на ночь в штурвальную рубку, где имелся вполне удобный диванчик. Правда, почти до самой ночи он выслушивал от девушки долгие ламентации по поводу ее несчастливой судьбы, гнусности нынешней жизни, усугубляемой еще и непростительным коварством мужчин.
Рано утром, отказавшись от чая, все еще довольно безутешная девушка по имени Вика, покинула борт судна, имея при себе номер комлевского телефона. Данных о своем местонахождении она предпочла не оставлять. В дальнейшем, правда, Комлев получил чей-то телефон для связи, но им ни разу не воспользовался.
Потом она изредка появлялась в доме, где жил Комлев и не переставала его поражать непредсказуемостью своих действий и поведения. Так, она могла во время разговора, как бы жестоко обиженная чем-то, повернуться и молча уйти с намеком на то, что расстается с ним навек. Потом, через несколько дней, она могла так же молча появиться и броситься Комлеву на шею с какой-то водевильной картинностью. Так как она ничего о своей жизни не говорила, то Комлев допускал, что она замужем или же просто живет с кем-то и не решается его бросить. Сам же он удрученно чувствовал, что попадает в какую-то вяжущую и досадную зависимость от нее. Теперь у него был только ее адрес «до востребования», и он не знал еще, что он будет с ним делать. Своему соседу-шкиперу он, впрочем, оставил для нее немногословную записку.
Соседом Комлева в самолете оказался некто очень высокий, худой и очень темнокожий, с седеющими курчавыми висками. Проверяя свое знание английского, Комлев спросил его, далеко ли он направляется.
— Хартум, — с готовностью ответил он. — А вы, сэр?
Комлев ответил, немного польщенный обращением «сэр», это было внове.
— О, Бонгу! Я там бывал не раз. В Лилонгве у нас свое представительство.
Комлев не стал уточнять, что означает это «у нас». Сосед представился, его звали Нгор, Тим Нгор. Он напомнил, что страна, где он живет (он даже привел ее арабское название: аль-Гумхурия эс-Судан) — мусульманская, но сам он христианин. И как бы в доказательство его черная рука проворно нырнула куда-то под галстук и извлекла белый нательный крестик на цепочке, видимо, католический. Хотя Комлев не был большим сторонником ношения крестов, амулетов и талисманов, но на этот раз почему-то надел старый, медный, давно бывший в их семье крестик. Он его и предъявил своему черному соседу и вызвал у единоверца широкую белозубую улыбку понимания.
Завязавшаяся беседа немного отвлекла Комлева от самого факта взлета, а по радио заученным тоном объявлялись слова о высоте и скорости полета и еще о том, что утром они прибывают в Каир, где у них будет часовая стоянка.
— Птица не садится на незнакомое дерево, — сказал Нгор, давая своей пословицей понять, что у него будет к Комлеву одна просьба, и он теперь готов ее высказать, убедившись, что Комлев тот человек, которому можно довериться. И еще он сказал, что лучше отдавать свое, чем просить что-то у другого, но иногда приходится это делать.
Дело же было в следующем. Нгор возвращался домой откуда-то из Западной Европы и вез с собой изданную там небольшую скромного вида книжку, которая называлась в переводе с английского как-то неопределенно: «Голос саванны». Пробежав предисловие, Комлев понял, что издали ее те, кто сочувствовал оппозиции в стране Нгора. И еще в ней была масса фотоснимков; можно сказать, что книжка из них и состояла. На этих снимках было больше мужчин, меньше женщин, все они были весьма темнокожи, как Нгор. Под ними стояли годы их жизни, и с суровой очевидностью все указывало на то, что умирали они далеко не в преклонном возрасте, а скорее, в самом расцвете жизни.
Пока Комлев листал книжку, Нгор смотрел на него просящим, почти собачьим взглядом. Точнее, взглядом большой, черной и доброй собаки.
— У меня ее отберут. Да и меня самого могут задержать, но уже по другому поводу, — с горестной уверенностью и тихим голосом поведал он Комлеву. — У белых же досмотр не делают, это уже давно замечено. А потом я вас от нее избавлю. Незаметно, конечно.
Несмотря на просящее выражение глаз, Нгор говорил уже как о деле решенном.
— А если меня уведут, вы передадите книгу моему товарищу.
Комлев даже и не заметил, как у их кресел появился некто, такой же высокий и черный, но гораздо моложе Нгора. Его звали Обоке. Нгор, между тем, написал записку на каком-то незнакомом языке, подписал ее и даже приложил внизу небольшую печать, достав ее из внутреннего кармана. Это было изображение скорпиона с изогнутым хвостом. Нгор веско сказал, что если у Комлева будут какие-либо трудности в Лолингве, он может с этой запиской зайти по адресу, указанному вместе с номером телефона на обороте.
— Там для вас сделают все, — сказал он с торжественной убежденностью и многозначительно добавил:
— Теперь лучше, чтобы нас не видели вместе. Правда, многие уже спят. В другом конце самолета находятся мои товарищи, и я сейчас отправлюсь к ним. А на мое место придет пассажир оттуда. Я с ним договорился. Заранее огромное вам спасибо, сэр!
Комлев невесело усмехнулся и спрятал записку, сунув ее в кипу документов, полученных от Вьюнова, которые он должен предъявить в ряд учреждений, в том числе и в «Стэндард Бэнк», где потом откроют счет на его имя. Вся эта история вдруг напомнила ему волшебную и страшную сказку, где герой, долго колеблясь и очень неохотно, делает кому-то доброе дело, но потом все это окупается сторицей. И именно в тот момент, когда он находится в отчаянном положении, он вдруг вспоминает, что произнеся загадочное, хотя и бессмысленное на первый взгляд слово или же плюнув направо и налево и при этом подпрыгнув на месте, можно открыть дорогу к спасению.
В салоне огни светились теперь совсем тускло, за бортом была черная мгла, так как, видимо, летели в облачности или еще не вышли из нее, поднимаясь повыше. Внизу спала злосчастная родина Комлева, готовясь к новому дню испытаний экономическими реформами и социальными экспериментами. «Хорош же я, — с некоторой удрученностью размышлял Комлев, — еще над Россией летим, а для меня уже начинаются африканские приключения».
Гул самолета проникал даже сквозь плотную обшивку, и слегка закладывало уши. Видимо, самолет продолжал набирать высоту. Спать и даже дремать не хотелось, и Комлев был недоволен собой из-за этой ненужной вовлеченности в чужие дела, поэтому он без особой любезности покосился на пассажира, который уселся рядом с ним на место Нгора. Внешний вид нового соседа, его костюм и даже общее выражение лица с неоспоримой ясностью свидетельствовали в пользу того, что кресло занял соотечественник Комлева. Склонности к беседе Комлев не испытывал, ему просто хотелось помолчать, хотя по инициативе соседа вялое подобие разговора все же состоялось. Тот о чем-то Комлева спросил, он суховато ответил, но новому соседу, видимо, хотелось кое-что поведать о себе, а также выразить свое отношение к положению вещей в мире. Комлев подобные разговоры не выносил, считая, что их ведут только пенсионеры и лица без определенного места жительства. Сосед тем временем со скромной гордостью заявил, что он сын небольшого народа со славным прошлым, который героически борется с угнетателями за свою независимость.
— У меня есть высшее образование, — небрежно, но как бы повышая свой статус в глазах Комлева, сказал сосед. — Окончил лет десять назад университет в Ростове.
— Несмотря на угнетение, — едко вставил Комлев. — Что касается меня, то я довольствуюсь среднетехническим.
— Но все это мне теперь не нужно, — невозмутимо продолжал сосед, как бы не слыша Комлева. — Я еду в Каир и там наконец я начну получать духовное образование, а потом (иншаллах!) попробую попасть на учебу в Саудовскую Аравию, на родину Пророка.
Он стал обосновывать свое желание углубленно изучать исламскую науку, потом резко повернул руль в сторону текущей политики. «Светало бы скорее, — вдруг с тоской подумал Комлев, — уже на землю взглянуть хочется». В это время внизу, в черноте долгой осенней ночи проплывали далекие огоньки каких-то, скорее всего, уже турецких городов. А облака, которые все заслоняли, остались далеко на севере.
Кавказский же сосед все говорил и говорил, и Комлеву, наконец, надоело выслушивать докучливые упреки в великодержавности. Он грубовато буркнул:
— Не забывайте, однако, что вы въезжаете в другую страну как гражданин России, а не вашей родной Ичкерии. Без российского паспорта ни в какую другую страну вас просто не впустят.
Сосед ненадолго обиженно замолчал, но потом с каким-то жертвенным самоотречением заговорил о священной борьбе за свободу, которая оправдывает любые действия. Он даже не оборачивался к собеседнику, словно уже представлял слушающие его массы, поэтому Комлев, глядя искоса, мог видеть только четко очерченный кавказский профиль. Прекратить разговор он решил, задав соседу один банальный вопрос, надеясь, что сама примитивность его постановки и просто оскорбительная для слушающего упрощенность, приведет собеседника к мысли о бессмысленности разговора на столь низком интеллектуальном уровне.
— Если ваш народ, из всех прочих народов бывшего Союза, — начал Комлев подчеркнуто спокойно, почти лениво, — затеял не политическую, а вооруженную борьбу за независимость, значит ему хуже всех жилось в этой стране? Или же он самый свободолюбивый народ на земле?
В ответ, все так же являя Комлеву свой суховатый и гордый профиль, немного помолчав, сосед угрюмо заговорил об имперском мышлении, которое мешает многим русским смотреть на вещи объективно. Все-таки чувствовалось, что рядом с Комлевым сидел человек с вузовским образованием.
Уже заметно светлело и самолет теперь летел на более низкой высоте. Внизу было нечто похожее на горы. А потом Комлев неожиданно для себя погрузился в короткий сон, и когда открыл глаза, было уже совсем светло, внизу синело море и приближался желтоватый берег с белыми прямоугольниками домов и чем-то странным, похожим на множество грибов на тонкой, длинной ножке. А это были пальмы, целые рощи финиковых пальм. Сосед держал перед собой книжку в черном переплете и, кажется, шевелил губами. Уже была команда пристегнуть ремни. Подлетали к Каиру — воротам в Африку.
Когда говорят о Каире, представляют себе Нил и пирамиды. Сверху не было видно ни того, ни другого. Вокруг был только желтый песок пустыни и сразу же бетонное посадочное поле. Всех пассажиров отвели в аэровокзал. Было еще утро и почти прохладно. Нгор держался поодаль с двумя своими соплеменниками и украдкой послал Комлеву едва уловимый, доброжелательный взгляд единомышленника. В просторном зале звучала тягучая и одновременно ритмичная восточная музыка, и Комлев наконец освоился с тем, что он уже на самом деле находится за границей, да еще и в Африке, хотя пока и не в «черной», а только на северной ее оконечности.
Потом полет на юг продолжился. Сразу после взлета зажелтели внизу ставшие уже знакомыми пески пустыни, потом наконец появился Нил, широкий и мутно-коричневый, была даже видна лодка с косым парусом на высокой мачте. А самолет все набирал высоту, и вскоре Нил превратился в петляющую нить в долине зеленоватого цвета. Ее с двух сторон ограничивала желтизна пустыни, видимо, холмистой, иссеченной следами русел давно высохших рек и речек. И хотя в последний раз вода по ним бежала тысячи лет назад, они, эти русла-вади, казалось, так и сохранили свою свежую первозданность.
Полет над нильской долиной все продолжался. Комлев временами задремывал, ел самолетную еду, которую ему подавали на подносе, а внизу была все та же картина: вади, сбегающие в синевато-зеленую долину справа и слева, и узкая, извилистая ниточка реки посредине. Примерно за час до намеченного прилета в Хартум картина стала меняться. Пустыня заканчивалась и уже пошла сухая саванна с редкими закорючками ее колючих деревьев. И вот снижение, мелькнул широкий коричневый простор той же самой реки, плоские кровли домов, минареты, финиковые пальмы. Еще в пути пассажиров предупредили, что в городе жара: свыше сорока градусов. Комлев, благоразумно захвативший с собой летнюю одежду, теперь сидел переодетый во все светлое и легкое, что сумел найти у себя дома.
Зной сразу же свирепо ударил в дверь самолета, словно она открылась в огромную духовку. И в здании аэровокзала большой прохлады не чувствовалось, хотя на потолке вращались огромные лопасти вентиляторов. «Drink Camel beer!» — призывала пить местное пиво «Верблюд» изрядных размеров реклама с бутылкой, на которой действительно был изображен этот одногорбый корабль пустыни.
Комлев быстро прошел все формальности, так как рейс у него был транзитный, и ему даже повезло с пересадкой: нужный самолет внутриафриканской авиалинии отправлялся всего через пару часов. Усатый чиновник в мундире цвета хаки и с продольными шрамами-полосами на темно-бурых щеках не попросил его открыть чемодан и не пожелал заглянуть в дорожную сумку Комлева, где лежала книжка Нгора, а просто кивнул ему в сторону выхода.
Комлев слонялся по залу, выпил холодного «верблюжьего» пива, и оно оказалось никак не хуже других известных ему марок, хотя большим знатоком пива он себя не считал. Он вышел наружу и с интересом приглядывался к окружающей жизни, ограниченной аэропортом и прилегающим пространством. Конечно, чтобы хоть как-то судить о стране, этого было явно недостаточно. Слабый горячий ветер шуршал в редкой и жесткой на вид листве деревьев и колыхал ветви пальм. В знойном небе с ленивой грацией парили птицы, похожие на коршунов. Впрочем, они и были местными коршунами. Мужчины были одеты в длинные светлые рубахи с круглым вырезом у шеи и с высокими тюрбанами на голове, другие обходились обыкновенной рубашкой и шортами. А вот костюм здешних женщин описать было сложнее. Они, похоже, обматывали себя длинной белой тканью, которая охватывала все тело от самых щиколоток и была затем накинута на голову.
У высокого полицейского с таким же темным лицом, как у Нгора и его спутников, была куртка и шорты бежевого цвета, черные башмаки и обмотки на ногах, а голову венчала широкополая черная шляпа с заломленным левым краем. На отвороте был красный ромб, а на нем большой медный слон.
Подъезжали и отъезжали желтые такси с зеленой полосой, их водители, словно униформу, носили традиционные рубахи и тюрбаны. Здесь уже начиналась Черная Африка.
Комлеву предстоял еще один перелет. Самолет был местной, внутриафриканской, линии и большими удобствами не отличался. Почти все пассажиры теперь были темнокожими. Считанные белые лица заметно выделялись в салоне, и их владельцы смущенно переглядывались с несколько оторопелым видом людей, отмеченных какими-то не украшающими их физическими особенностями, почти недостатками. Все бортпроводницы были африканки, их коричневые лица слегка блестели, как поверхность каштана, только что вынутого из кожуры. Комлев с рассеянной озадаченностью подумал, что теперь такие лица он будет видеть постоянно, и не будет ли он ощущать какую-то свою чужеродность и даже неуместность в этом необычном для него мире?
4
Самолет прибыл в Лилонгве с опозданием и уже ночью, из-за долгой стоянки в Китури. Это было где-то в соседней с Бонгу страной. По самолетной трансляции шли какие-то маловразумительные объяснения на странно звучащем английском. Обращаться же с вопросами к своим новым соседям Комлев не решился. Это говорило бы о том, что он, белый, неодобрительно относится к африканскому произношению и даже как бы отказывается понимать его. Всем роздали по несколько бананов и апельсинов и еще по пачке сухого печенья с сыром. Авиакомпания сочла себя виновной в задержке рейса и поэтому за ее счет пассажиров устроили в городской гостинице. Автобус быстро промчался по слабо освещенным улицам, а за окном мелькали вывески магазинов, рекламные щиты, ряды пальм вдоль улиц и памятники неизвестно кому на небольших площадях. Эта ночная поездка по чужому городу была похожа на быстрое перелистывание незнакомой книги с картинками в полутьме — занятие, которое иногда усиливает интерес к прочтению книги.
Через полчаса Комлев уже стоял на балконе своего номера и с немного опасливой вопросительностью глядел на ночные огни города, где ему теперь предстояло находиться долгое время. А узнал он о его существовании не так уж давно, случайно услышав по радио сообщение о том, что в этом городе происходило нечто, уж никак не создающее ему рекламы. С улицы тянуло тепловатой сыростью, разогретым камнем и целым букетом незнакомых запахов. Даже запах выхлопных газов здесь чем-то отличался.
Гостиница его называлась «Стэнли» в честь того самого Генри Мортона Стэнли, которого одни называют знаменитым путешественником, другие, особенно на родине Комлева, пособником колонизаторов. Комлев считал, что в нем, видимо, было и от того, и от другого. Эта гостиница была построена еще в колониальные времена, в ней, как он узнал, останавливались гости в основном из неафриканских стран, и порядки в гостинице до сих пор сохранялись английские. В семь тридцать, например, в номер вносили поднос с крепким чаем и горячим молоком, а в девять всем обязательно подавали английский завтрак: яичницу с ветчиной, овсянку и апельсиновое варенье к гренкам и кофе в конце. Позавтракав таким образом по-английски, Комлев сразу же отправился по делам. Было еще не жарко, уличные подметальщики лениво шаркали метлами из каких-то странных колючих прутьев, а с ними вяло переругивались лежащие на циновках прокаженные, на которых не хотелось, но почему-то тянуло смотреть. Они, видимо, еще с ночи занимали наиболее выгодные места для сбора подаяний. Пахло чем-то сладковато-пряным, странные голоса птиц с безмятежной старательностью выпевали свои утренние обязательные номера. Шум машин на улицах их пока не заглушал.
К вечеру Комлев закончил намеченные на этот день дела и в сибаритском бездействии валялся, после принятия душа, на гостиничной кровати с москитной сеткой, которая поднималась на день и укладывалась на верх деревянного каркаса. Ноги Комлева гудели от долгого хождения. Он нашел, что Лилонгве довольно велик и что общественного транспорта здесь недостает. Сам город вызывающе подчеркивал, что создан для тех, кто пользуется автомобилями, и ясно давал понять, что пешеходы в нем неуместны. Впрочем, плата за такси была не так уж велика, к тому же можно было и поторговаться, чего Комлев никогда не умел делать.
Он узнал, что название местной денежной единицы «пондо» происходит от английского «паунд», то есть фунт, и один американский доллар сейчас равен двадцати этих самых пондо, на которых красовались представители здешней фауны, а на самых крупных бумажках — страшноватые портреты традиционных вождей.
Сначала он посетил «Стэндард Бэнк» и имел короткую беседу с самим господином Маньози, черным управляющим, который быстро его спровадил к своему заместителю Фергюссону, видимо, ведавшему здесь всеми делами. Комлев представил ему все свои документы, а также бумаги, которыми снабдил его Вьюнов и первоначальная, почти враждебная, недоверчивость англичанина была как-то преодолена. Комлев выслушал его речь, нашпигованную малопонятной терминологией, но заключительные слова финансиста были для него как разрешительный сигнал у входа в узкость на реке, дающий капитану знать, что вход свободен.
— На счет компании Интертранс, — стараясь теперь казаться любезным, сказал мистер Фергюссон, — переведена из вашей страны весьма значительная сумма, которую мы не имеем права называть. Вам, мистер Комлев, будет открыт отдельный счет, на который будет вам ежемесячно переводиться пятнадцать тысяч пондо. Завтра вы получите чековую книжку и можете уже снимать деньги со счета.
Комлев о чековых книжках читал только в литературе и никогда не помышлял, что когда-нибудь с ними соприкоснется в своей жизни.
Но Фергюссон вдруг холодно блеснул на Комлева стеклами очков и некоторым неудовольствием добавил:
— Нам сообщили, что должна приехать группа специалистов из вашей страны, чтобы сразу приступить к работе. Все нужные бумаги уже подписаны. А пока мы видим вас только в единственном числе. Это, конечно, лучше, чем никто, но…
— Неожиданно заболел старший в группе, и пока не нашли ему замену, — нашелся Комлев и, вывернувшись таким образом, внутренне поморщился от необходимости врать в первый день приезда в чужую страну. А сам подумал с хмурым неудовольствием: «Вьюнов, мерзавец, не назвал мне ни одной фамилии из этой группы. Сколько хоть в ней человек, если спросят?»
Визит в Министерство транспорта прошел менее официально и без неприятных неясностей, к тому же Комлев с какой-то нереальной легкостью сразу же попал на прием к самому министру. «У нас такое абсолютно невозможно», — отметил он про себя.
— Добро пожаловат в Бонгу, дорогой товарышь! — сказал, с детской старательностью выговаривая полузабытые слова, улыбчивый господин министр, который еще во времена Советского Союза учился в двухгодичной профсоюзной школе для представителей стран третьего мира. Преподавание в этой школе велось на английском, поэтому ее слушатели в русском языке преуспеть не могли.
Джозеф Китинги стал министром благодаря недавней смене власти. Его назначению способствовало то, что он перед этим возглавлял профсоюз работников транспорта, принадлежал к партии нынешнего президента и еще был одного с ним племени. Идею развития речного транспорта в Бонгу он принял с большим одобрением. Поэтому он сразу же заявил, что возлагает большие надежды на представляемый сейчас Комлевым Интертранс, который обещал наладить сборку мелкосидящих судов для транспортного освоения небольших, но вполне судоходных рек, по которым можно добраться до самых дальних районов страны. Он сам родился в деревне на берегу такой реки, одного из притоков Мфолонго, но по ней плавали только на долбленых челноках и лишь немногие на моторках.
— Когда в стране мало дорог, — министр значительно поднял указательный палец и выразительно повращал белками глаз на лице цвета мореного дуба. — Реки — это наши главные транспортные артерии, а используются они совсем мало.
Девушка-секретарь, высокая, с выпрямленными волосами, и немного похожая на модель Наоми Кемпбелл, внесла графинчик с виски и вазу с кубиками льда. Во время дальнейшего разговора, в который затем включился и заместитель министра, Комлеву последний пообещал незамедлительно подыскать квартиру и для начала направить в гостиницу к Комлеву человека, который ему в этом поможет.
— Этот человек — журналист, но сейчас у него нет постоянной работы. В нашем министерстве иногда находится для него дело, и мы держим с ним связь. Мне жаль, что он невостребован профессионально.
Томас Мутеми собственной персоной предстал перед Комлевым буквально на следующее утро. Был он одет весьма затрапезно, но лицо его светло-кофейного цвета было очень неглупым и с налетом наигранной простоватости, а взгляд был отчетливо-ироничен. В его коротких волосах с подчеркнутой наглядностью торчала шариковая ручка, что, видимо, являлось частью образа, который он себе создал. Этим он как бы говорил о том, что нося одежду белого человека, он может себе позволить держать себя так, как будто на нем не было ничего, кроме разве что набедренной повязки.
У африканцев принято долго и подробно справляться о здоровье, о положении дел собеседника, о его семье и близких, а также о положении дел у них. Но Мутеми окончил в свое время университетский колледж и мог пренебрегать многими местными условностями. Разумеется, общаясь с людьми из народной гущи, он вел бы себя так, как от него ожидали. Но сейчас ему предстояло говорить с человеком, приехавшим из Европы. А там, он слышал и знал из литературы, отношения между людьми суше, да и время там экономят больше, чем в Африке.
— Меня зовут Томас Мутеми, но чаще зовут меня Мфумо, — начал он с любезной торопливостью, чтобы не злоупотреблять вниманием и терпением другого. — Под этим именем меня все знают, хотя в документах оно не значится. Я сразу же перейду к делу, сэр. Вопрос квартиры для вас.
— Обойдемся без слова «сэр», — сделал демократичный жест Комлев, которого смущали некоторые особенности речевого этикета языка, на котором они сейчас разговаривали. Они казались ему устаревшими и даже книжными. В тот момент он еще не предполагал, что и ему придется говорить кому-то «сэр».
— Хорошо, мистер Комлев, — охотно согласился Мфумо. — Отбросим «сэр». Я ведь родился и вырос уже после независимости, но кое-что, видимо, успел всосать с молоком матери. А она, моя мама, принадлежала колониальному прошлому. Отсюда определенное отношение к белому человеку и прочее. Итак, я опускаю «сэр», для вас же я теперь Мфумо.
— Тогда я для вас просто Вадим, — пошел в своем демократизме еще дальше Комлев.
— Не все сразу, мистер Комлев. Всему свое время. Я ведь сын Черной Африки и за ее пределами не был. Я навел справки о квартире для вас, которая только что освободилась, и я не очень советую ее брать. Извините, сколько примерно вам здесь собираются платить?
— Мне сказали, что пятнадцать тысяч пондо.
Комлев еще толком не знал, много это или мало.
— Это не очень много, извините, для белого человека в Лилонгве. Вместе со счетами за все, включая электричество и воду, квартира из комнаты и спальни обойдется вам более чем в треть всего заработка.
Они сидели за низким столиком в номере Комлева и допивали кофе, оставшийся от завтрака. Вороны, галдевшие за открытым окном с самого рассвета, вдруг выжидательно притихли. На крышу дома рядом с деревом, где они расселись, приземлился стервятник и загремел своими когтями по железу.
Мфумо на листке бумаги между тем подсчитывал грядущие издержки Комлева, обосновывая выгоду своего нового предложения. План его был таков. Проживать в гостинице оказывалось дешевле, если платить по тарифу постоянного жильца. А потом, уже не спеша, можно подыскать хорошую и недорогую квартиру.
— Только из этого дорогого отеля «Стэнли», который в самом центре, нужно перейти в другой, менее престижный. У меня есть один на примете. Вполне приличный и тоже с завтраком, но там все раза в два дешевле. Я даже предлагаю вместе туда и поехать.
Странным образом Комлев был рад такому повороту. Во-первых, его немного страшила хозяйственная сторона дела. Бытовое обустройство было всегда его слабым местом. Во-вторых, было еще одно странное соображение, от которого он досадливо отмахивался, но не мог от него избавиться. Время от времени ему вдруг с пугающей очевидностью припоминалось виденное им в том давнишнем сне на его старом теплоходе перед вахтой. И ему казалось, что он узнает в квартире, в которой ему придется жить, ту, привидевшуюся ему во сне, в тот момент, когда в этом тихом сейчас городе шла стрельба и лилась кровь. И тогда тот сон превратился бы в пророческий, и ему надо было бы готовиться ко всяким неприятным случайностям.
У Мфумо сейчас был период жестокого безденежья. Из двух газет последовательно ему пришлось уйти, из третьей его просто выгнали за одну обычную для него статью обличительного характера. Писал он такие и раньше, и все сходило с рук. Дело же было самым обычным. Одного белого фермера, кстати, родившегося в Бонгу, обвинили в расизме, заставили продать ферму и выдворили из страны. Мфумо не был уверен, что это обвинение было справедливым. По заниженной цене да еще и в рассрочку ферму продали одному крупному чиновнику-африканцу. Предполагалось, что новый черный фермер заменит белого и продолжит поставлять на рынок товарное зерно, которого в стране никогда не было в избытке. Но чиновник любви к земледелию не питал. Он продал все трактора и комбайны на торгах через подставных лиц, а всю землю в виде небольших участков отдал в выгодную для себя аренду местному населению, которое стало обрабатывать ее вручную, то есть дедовскими мотыгами и сеяло ровно столько, чтобы хватило на жизнь до следующего урожая. Об излишках зерна для продажи не могло идти и речи. Статья Мфумо вызвала неожиданный скандал, и вопрос обсуждался в местном «паламенди» — парламенте. Землевладельца выгородили друзья, а Мфумо вылетел из газеты, где работал. Было это незадолго до новых выборов. Власть переменилась, но Мфумо на работу не приглашали.
Так он и жил, перебиваясь случайными заработками. За последнюю неделю он не мог пристроить ни строчки. Скоро ему придется сочинять рекламные объявления, если, конечно, получит заказ. Мфумо снимал теперь комнату в дальнем пригороде, и его старинный «фольксваген» давно уже стоял без движения во дворе под старым деревом манго. У Мфумо давно не было денег на бензин, и он ездил теперь на велосипеде, который одолжил у соседа, благо тот был у него лишним. В этот день рано утром он успел побывать в старой гостинице «Сангам», где имел беседу с ее хозяином Чандрой Кумаром. Он сам в тот момент был за стойкой, отпустив всех на ранний завтрак.
— О, сам мистер Мутеми, чье острое разящее перо заставляет трепетать всех нехороших людей! — иронично прокомментировал появление Мфумо хозяин «Сангама».
— Кумар, ты лучше скажи, сколько я тебе должен? — с суровой деловитостью спросил Мфумо.
— Ты что, проверяешь мою память, Мутеми? Пятьсот пондо. Ты возвращаешь деньги? В условиях инфляции в долг без процента дают только дураки. Один с тобой сейчас разговаривает.
— Если ты простишь мне долг, Кумар, да еще дашь мне взаймы двести пондо, я тебе приведу долговременного жильца, к тому же белого.
Со стороны Мфумо это была наглость, и Кумар тут же изобразил на своем толстом усатом лице горестную обиду, хотя уже знал, что долг простит и деньги придется дать. Дело в том, что он втайне побаивался острого языка Мфумо, так как газеты он читал и знал, на что способно перо его должника. И кто знает, долго ли продержится нынешний президент? А если снова разрешат прежнюю оппозиционную газету «День страны», этот Мфумо Мутеми как и прежде будет в ней на первом месте, и тогда только держись!
Так, с помощью Мфумо, Комлев еще задолго до полудня перебрался в «Сангам», и Кумар его вселил в лучший из свободных номеров на теневой стороне, с балконом и под сенью молодых и поэтому невысоких кокосовых пальм. Правда, по утрам белогрудые африканские вороны, а их было много в этом городе, поднимали под их кронами дикий галдеж, безобразно выясняя отношения, но это ему предстояло узнать позднее. Зато здесь почти не было слышно уличного шума.
Завтрак по утрам был почти такой же, как в «Стэнли», да еще с добавлением пары бананов.
Комлев еще с училищных лет помнил слова адмирала Нахимова: «Праздность недопустима». Правда, это изречение касалось флота, но и в обычной жизни оно своей актуальности не теряло. Вся его работа пока заключалась в ожидании, и это ему не нравилось. Ведь деморализующее ничегонеделание грозило затянуться. Комлев не привык находиться в долгой и какой-то растерянной неопределенности. Это все равно, что чувствовать себя капитаном на судне, на которое еще не прислали команду, и оно пребывает в унылой неподвижности у причала, в то время как по его палубе бродят и с безнаказанной наглостью гадят где попало чайки.
Комлев успел побывать на судоремонтном заводе, и ему показали простаивающие без дела участки для строительства и сборки небольших судов. Не было заказов и дело стояло. Во многом это напомнило ему то, что происходило и в его далеком отечестве. Возможно, даже и причины были те же. Еще он побывал на ветеране и флагмане пассажирского флота на реке Мфолонго, старом пароходе «Лоала», который только что вернулся из рейса. Капитан Форбс, седой и очень представительный в своем белом мундире с золочеными пуговицами, провел его на мостик и показал просторную рулевую рубку со старомодным большим штурвалом и компасом на высокой тумбе. Компас на речном судне вызывал удивление, но капитан его тут же развеял.
— Когда мы идем по озеру, — тоном усталого, но доброжелательного экскурсовода объяснял Форбс, — особенно при плохой видимости или в темноте, мы пользуемся проверенными курсами.
Он посмотрел на Комлева, словно ждал от него вопроса, и не дождавшись продолжил объяснение:
— Надо только следить, чтобы скорость была постоянной. Тогда по этому курсу следует идти ровно час, а потом сразу переходить на другой, пока на берегу не покажется знакомый ориентир. Они все у нас отмечены на карте озера Китве, и они не меняются годами.
Комлев понял, что никаких береговых навигационных знаков, не говоря о плавучих, на этом озере нет, но удивление свое скрыл. А старик капитан будто читал его мысли.
— Хотите спросить о знаках ограждения, о маяках и прочем? Их практически нет. «Сердце тьмы» Джозефа Конрада читали? Там изображена африканская река, почти такая, как наша Мфолонго.
— Читал я эту книгу, — безрадостно подтвердил Комлев, так как она вызвала у него когда-то гнетущее впечатление. — В русском переводе. Конрад у нас весь давно переведен. Но все это происходило в начале колонизации Африки. А Бонгу была английской колонией почти шестьдесят лет.
— Один ноль в вашу пользу, молодой русский друг, — почему-то обрадовался Форбс. — Все верно. Раньше стояли навигационные знаки на реке и кое-где на озере в местах возможной опасности: бакены, вехи, береговые створы. Но тридцать лет независимости тоже сделали свое дело: смена правительств, случайные люди в роли министров.
Капитан Форбс решил сократить деловую часть комлевского визита в пользу более непринужденной и пригласил его в свою просторную каюту, куда стюард тотчас же принес холодные напитки и стаканы. Расспросив Комлева о его предыдущей жизни, он посмотрел на него более внимательно своими стареющими, но еще достаточно зоркими глазами. Ведь этот молодой русский был дипломированным речным судоводителем, тогда как все они здесь на этой реке были, в сущности, только практики, учившиеся у тех, кто был здесь до них. Ну, еще учились на судоводительских курсах, которые иногда открывались в соседней стране. Сдавали экзамены разным комиссиям, и у каждой была своя программа и требования. Сам Форбс, например, был из военных моряков. Теперь же он был уже достаточно стар, и ему надо было подумывать о том, что скоро придется покинуть капитанский мостик, на котором он и состарился. В этой неумолимости времени ему чудилось даже что-то оскорбительное, в этом было безличное, как бы даже подчеркнуто равнодушное отношение к человеку и лично к нему, Форбсу.
А еще он не забывал, что в этой стране шла очередная волна национализации, а на самом деле африканизации. Ему уже почти открыто говорили о необходимости продажи «Лоалы» государству. При этом чиновники неискренне, как ему казалось, предлагали ему остаться на ней капитаном, если он этого пожелает.
Ничего этого он Комлеву не сказал. Высокое дерево навлекает на себя ярость ветра, говорят в этих краях. Форбс зазнайством не отличался, но понимал, что стал частью здешней истории, тем более что в Бонгу ее документированная часть насчитывала от силы сотню лет. А до этого история жила в сказаниях, преданиях, мифах и легендах многочисленных племен, населявших эту страну.
— «Лоала» хоть и заметно поскрипывает, но ходит еще исправно. На смену ей еще пока ничего не построено. Есть на реке несколько небольших теплоходов, частных и государственных. Скорость у них, конечно, выше, но зато «Лоала» берет на борт кроме двух сотен пассажиров еще и пару десятков автомашин, из которых половина — грузовики с полным кузовом.
Два окна каюты Форбса выходили на бак, и капитан не без гордости сделал жест в сторону носовой части парохода, где наличие мачты со стрелой над самой крышкой трюма указывало еще и на грузовые возможности речного ветерана.
Комлев ничего не сказал о планах своего Интертранса, о которых он и сам толком не знал. Она, эта почти виртуальная организация, не была конкурентом пароходу Форбса, в чем он его и поспешил заверить. Компания намеревалась строить и эксплуатировать суда для плавания по всем судоходным притокам Мфолонго.
Окна каюты были открыты. День был жаркий, но от воды тянуло сырой прохладой, пахло мокрым илом и где-то гниющей на берегу рыбой.
Бенджамин Форбс (или, как его называли туземцы, Форбиси) по праву считался частью истории Бонгу. Он оказался здесь, когда страна называлась еще Британской Бонгамбией, а до этого четыре года служил в королевском военном флоте на Средиземном море. Он был участником знаменитого прорыва конвоя с боеприпасами и продовольствием для осажденной немцами Мальты, и превосходящие силы итальянского флота не сумели его остановить. К концу войны он попал в Южную Африку на военно-морскую базу в Саймонстаун, а после демобилизации приехал в Лилонгве. Он по-хозяйски оглядел широкую Мфолонго, вытекающую, прорываясь через пороги, из полноводного озера. Затем она сама впадала в еще более обширное озеро Китве, а из него вытекала уже под другим названием и являлась пограничной с другим колониальным владением рекой. Форбс осмотрелся, ему удалось получить щедрую ссуду в банке как участнику войны, и он тут же купил и тогда уже не новый пароход, стоявший на приколе, так как у его владельцев не было денег на небольшой ремонт. Лейтенант запаса Форбс рискнул всеми своими средствами, ремонт на местном заводе произвел и сделал пробный рейс с пассажирами и грузом. Затея себя оправдала. Замечено, что англичанам свойственна склонность к нестандартному поведению, поэтому некоторая эксцентричность даже считается чуть ли не чертой характера. Молодой Форбс оправдал ожидания тех, кто разделял подобные взгляды, женившись вскоре на дочери вождя местного и довольно заметного в те времена племени, и ее имя Лоала вскоре и стало названием парохода. Впрочем, ее отец не был каким-нибудь экзотичного вида дикарем в леопардовой шкуре через плечо и с длинными перьями в волосах. Он в свое время окончил миссионерскую школу и разъезжал в сравнительно новом «моррисе». У него был неплохой дом, роща масличных пальм да еще и кокосовых, а на ферме — стадо из сотни коров-зебу. А сама Лоала, по словам тех, кто ее помнил в молодости, могла считаться красивой даже по европейским понятиям и работала учительницей в школе при миссии. Говорили, что Форбс прошел церемонию «усыновления» племенем тестя и даже получил дополнительное имя Умензи. К сожалению, это племя потеряло свое былое значение, и ко времени независимости его оттерли от власти два наиболее влиятельных и соперничающих племени, одно из которых подарило стране нынешнего президента Питера Бусилизи.
Комлев не без удовольствия отметил, что уже почти привык говорить, хоть и не без ошибок, целыми днями на другом языке. И справлялся он с этой задачей, как ему казалось, все лучше. Но к концу дня он досадливо стал ощущать странную усталость от пользования чужой речью. Это выражалось в том, что нужные слова куда-то улетучивались, образные речевые обороты забывались и заменялись избитыми штампами. Первоначальное довольство собой заменилось чувством языковой неполноценности. Вечером ему уже хотелось просто помолчать и отдохнуть от всех видов общения. В Лилонгве, как он знал, было одно место, где можно было поговорить на родном языке, и адрес его он получил еще от Вьюнова. Правда, дал он его с безучастной небрежностью, как бы намекая на то, что делать Комлеву там особенно нечего. Кое в чем он оказался прав.
И вот Комлев собрался наконец побывать в российском посольстве. Он не знал, в каком виде туда следует являться, но понял, что не в шортах, рассудив, что ради необходимой внешней респектабельности можно и пожертвовать стремлением не стеснять себя в одежде. Правда, галстук Комлев решительно отверг, поскольку он ему порядком надоел еще во время работы на отечественных пассажирских судах. Впрочем, он слышал, что здесь без галстука, а иногда и без пиджака не пускают в приличные рестораны в центре. Но сам он туда не собирался.
Такси доставило его на тенистую улочку и остановилось у двухэтажного особняка, где у ворот стоял темнокожий полицейский и балагурил со своей подружкой. Комлева как белого человека он спрашивать ни о чем не стал.
Комлев ровно ничего не знал о посольской жизни, но ему почему-то казалось, что в этом особнячке будут страшно рады видеть соотечественника, засыпят его вопросами, главным из которых будет «ну, как там у нас?» И возможно даже сам величественного вида посол выйдет, сдержанно улыбаясь, ему навстречу. Откуда ему было знать, что для работы в Бонгу, стране почти в самом центре Африки, направлялись люди, не имеющие к упомянутому континенту ни малейшего отношения ни в смысле своего образования, ни в смысле предыдущей жизни и работы. Новый посол здесь был, например, сыном какого-то высокопоставленного отца, но все посольские должности во всех «приличных» странах были давно и надолго заняты. Бедняге оставалось влачить чиновничье существование на родине, переживающей мучительную эпоху реформ, либо отправиться на Черный Континент. Он выбрал последнее, и ему пообещали, что через пару лет его вызволят из этого «сердца тьмы» (как тут снова не вспомнить роман Конрада?) и вознаградят маленькой, уютной страной в Европе, коих на этом старом континенте теперь значительно прибавилось.
Посол, разумеется, был занят, и Комлев общался с одним из секретарей. На нем была белая рубашка и темный галстук и он глянул на Комлева с почти враждебной настороженностью, поскольку в посольстве считали, что все компатриоты приходят сюда, чтобы что-то просить. В кабинете работал кондиционер, поддерживая в нем приятную, но коварную прохладу, пользоваться которой посетителю, как правило, долго не удавалось. Комлев сжато, ценя секретарское время, рассказал о цели своего появления в стране, ему все еще казалось, что в посольстве непременно все должны об этом знать. Секретарь был еще молод, но взгляд его выдавал знание жизни, только, скорее, ее задворков и проходных дворов, и он слушал Комлева с выражением скучающего терпения. Когда Комлев это заметил, то решил сыграть нехитрую и нетрудную для него роль простого работяги-водника, человека что называется с палубы.
— Слушай, друг, а где тут можно пивка хорошего попить?
Дипломат чуть заметно, но понимающе усмехнулся и глянул на него со снисходительной дружественностью. Потом глянул на часы и быстро сказал:
— Ты подожди меня на улице, только стой подальше от ворот, а я что-нибудь начальству совру, чтобы зря не искали.
Через двадцать минут, когда кончалась уже пятая бутылка ледяного пива с незнакомым Комлеву названием в приятной прохладе бара «Мсомбала», они уже были друзьями.
— Сергей, значит ты считаешь, что к послу соваться не стоит?
Комлев странным образом не хотел терять остатки веры в то, что в лице посла и была та самая родина-мать, которая заботится о каждом с колыбели.
— Вадим, ты меня продолжаешь удивлять своей наивностью: посол — пустое место. Ему что Африка, что Австралия. Без разницы. О том, что этот Тванга прокакал выборы и уже не президент, он узнал, когда по городу пошла стрельба. Поэтому не обольщайся: если у тебя в этой стране возникнут трудности, помощи от посольства не жди. Здесь спокойно переступают через упавшего и идут дальше. А свой домашний телефон я тебе дам.
Комлев чувствовал, что Мфумо прочно сидит на финансовой мели и предлагал помощь, но тот с какой-то пугливой поспешностью отказывался. А сегодня утром он зашел, когда Комлев допивал свой кофе и с победным довольством заявил, что получил заказ на статью в одной газете. И что теперь он дня два будет сидеть у себя дома за своей старой машинкой. Но глаза его большой радости не излучали и Комлев понял почему, когда спросил его, о чем статья.
— Африка остается Африкой, — издалека и загадочно начал Мфумо. — Когда в соседней стране шла междуусобная война, в рядах войск и с той, и с другой стороны проводили сеансы внушения штатные маги и колдуны. После этого солдаты, как стадо, шли прямо на пулеметы, уверенные, что пули не причинят им вреда. А когда результат получился обратный, колдуны объяснили, что духи предков прогневались. К чему это я?
— Да, к чему? — спросил и Комлев озадаченно. — Это имеет отношение к статье?
— Имеет. И прямое. Здесь, в Лилонгве, раскрыто одно преступление. Нашли по чьей-то наводке зарытые части тела ребенка на месте будущего строительства какой-то фабрики. Сейчас на подозрении фирма, которая ее строит. Такие случаи уже были. Ритуальное убийство с целью обеспечения кому-то успеха в делах. А ребенка просто украли или же его вынужден был отдать для жертвоприношения сам отец, особенно если он член тайного общества «Мтумфо» или какого-нибудь другого. Там у них нельзя отказываться, они все там связаны клятвой. Вот мне и предложили написать, зная, что я в стесненных обстоятельствах. В редакции есть кому написать, но разве коза ходит мимо логова леопарда? И я тоже немного боюсь, но мне нужны деньги и еще я хочу им доказать, что я выше их, хотя им кажется, что они уже втоптали меня в грязь.
Комлев не знал, что сказать Мфумо. Он только сейчас с каким-то виноватым удивлением подумал о том, что абсолютно ничего не знает о сложной запутанности жизни вокруг и о ее грозной таинственности, невидимой для непосвященного.
— Я ничего почти не знаю о вашей стране, — с угрюмой горечью признался Комлев. — Я ведь и попал сюда, можно сказать, случайно.
Он вспомнил рекламную брошюрку в кабинете Вьюнова — с ее обложки смотрели львы сонными и в то же время внимательными глазами профессиональных убийц. А глаза у травоядных были либо совсем глупо-бездумные, либо испуганные. Этот мир тоже был Комлеву неведом. У себя в гостинице он видел только ящериц-мухоловок, ворон и грифов на свалках, а по ночам там суетились полосатые мангусты. А тут, оказывается, еще и колдуны, и культ мертвых. Ему захотелось рассказать о сне, в котором он увидел себя в этой стране, но что-то его удержало. Комлеву казалось, что сны рассказывают друг другу только глупые старухи.
— Время близится к обеденному, и я предлагаю где-нибудь перекусить, — с некоторой нерешительностью предложил Комлев, опасаясь всегдашнего отказа Мфумо.
Но тот с критическим вниманием глянул на свою не очень свежую зеленоватую рубашку-распашонку, на пузырящиеся в области коленей штаны цвета старой ржавчины и изношенные сандалии на босу ногу.
— Тогда мы пойдем к Абдулхаку, и это недалеко. У него чисто, почти всегда одно только блюдо, но готовят там хорошо и совсем недорого.
На улице стоял уже для Комлева привычный и вполне терпимый зной, тянули свою бесконечную песню невидимые цикады на деревьях с осыпающейся от жары листвой, а над пустырем в квартале отсюда раздумчиво кружили в горячем небе стервятники.
У Абдулхака везде висели липкие ленты от мух, и в зале, казалось, просто царила прохлада, когда входили с улицы. Слуга в белой куртке и шортах принес им по большой тарелке вареного риса и по щедрой порции мясного соуса с овощами, а Мфумо приступил к рассказу. И Комлев услышал то, что ученые языковеды назвали бы обзором этнолингвистической ситуации в стране. Комлев теперь знал, что в Бонгу больше десятка племен, но борьба за власть идет между габони и лонгве. Так, нынешний президент из габони. Но говорит большинство населения, общаясь между собой, на лулими и на нем давно уже говорили народы, проживающие вдоль реки Мфолонго и на берегах озера Кигве. Этот язык еще до прихода в страну англичан был здесь главным средством общения.
— Кстати, мистер Комлев, — отвлекся от рассказа Мфумо, — я настоятельно вам советую его как-то подучить. Все европейцы и азиаты, живущие здесь, его знают. В основном на бытовом уровне. Я вам достану учебник и узнаю о курсах. Они здесь открываются периодически, и там учат, причем бесплатно, всех приезжающих в страну специалистов.
— Значит, английского здесь мало? — спросил Комлев, чувствуя, что это не самый умный вопрос с его стороны.
— Английский здесь знают, как правило, только образованные, а таковыми считаются все, окончившие хотя бы шесть-семь классов. И некоторые городские жители, которых жизнь заставила кое-как объясняться на этом языке. Водители такси или гостиничные слуги. Все остальные, кроме жителей глухих лесных деревень, знают только язык своего племени да еще лулими.
Мфумо доел все на своей тарелке и еще вытер ее аккуратно хлебной коркой, отправив ее затем в рот. Был принесен кофе, его тут пили повсюду, он не был привозным, и кофейные плантации занимали здесь немало места. А Мфумо еще кое-что добавил о том, что значит для каждого его родное племя.
— Здесь человек чувствует себя уверенно, только чувствуя себя членом своего племени. Бывает так, что в городе у него хорошая работа или даже важный пост, но в случае беды он защиту сначала ищет не у юристов, а у старейшин своего племени. Он бросает все и устремляется в свою родную деревню или дальний городишко за советом. Там ему всегда помогут. Здесь любят говорить, что если буйвол отбивается от стада, он становится мясом.
Позже, в конце дня, лежа под уже спущенной москитной сеткой, но не позволяя себе задремывать, чтобы ночью не нажить бессонницы, Комлев обдумывал услышанное, чтобы лучше узнать эту страну и людей ее населяющих. Он спросил Мфумо и о смешанных, разноплеменных браках. Оказывается, ребенок от такого брака не может принадлежать обоим племенам одновременно, он должен быть членом племени одного из родителей. У Мфумо родители были из разных племен, отец — тот вообще был беженцем из Конго, Мфумо ездил туда с ним пару раз. С племенем матери он почти не связан, и поэтому он на себе ощущает драму племенной неприкаянности. Мфумо также немного приоткрыл завесу и своей личной жизни. Он женился, когда они с женой только что окончили колледж. В ее родном племени строго придерживались традиций, и обязательная уплата брачного выкупа была одной из них. У Мфумо не было денег на весь выкуп, и он женился «в рассрочку». Оттягивание выплаты всей суммы родных жены весьма раздражало, и тогда они просто настояли, чтобы она уехала из Лилонгве, оставив Мфумо. Сейчас она работает в своих родных краях в начальной школе. Хорошо хоть изредка пишет.
И еще Комлев узнал от Мфумо о том, что живется всем в его стране очень по-разному. Недаром у них говорят: если хочешь переправиться через реку в дождливый сезон, надо дружить с лодочником в сухой. Тот, кто ближе к власти да еще занимает пост, который раньше занимал белый, получает и плату белого. А таких постов теперь стало еще больше. Если один из твоих родственников высоко на дереве, ты будешь есть спелые плоды. Тот, кто у власти, хочет, чтобы вокруг были верные ему люди. Это только иголка одевает других и остается голой. И еще говорят: корми курицу, а не дикую птицу, которая, поклевав, улетает, курица же остается дома.
— Все политики уже тридцать лет в Бонгу говорят о социальной справедливости и даже равенстве и еще столько же будут говорить. В языке лулими есть поговорка: то, что еда у тебя во рту, этого мало, надо, чтобы она дошла до желудка.
Мфумо замолчал, подумав, что обрушил на белого собеседника целый ворох не очень нужных ему сведений. Нельзя обогреться от дальнего огня.
— А что у вас все-таки произошло на последних выборах?
Комлеву давно уже не терпелось узнать больше того, что он успел когда-то услышать по радио за многие тысячи километров отсюда.
Мфумо заметно вздохнул, словно перед выполнением какой-то траурной повинности. С выражением терпеливой благожелательности по отношению к Комлеву, но как-то вяло, сообщил, что Питер Бусилизи победил на выборах с очень небольшим перевесом, говорили также, что не обошлось без махинаций и что в столице происходило кровопролитие. Бывшему президенту удалось бежать в соседнюю страну, и из политики он пока не ушел. По своим взглядам Бусилизи националист и ратует за сохранение «африканских ценностей». Демократия западного типа в их число явно не входит.
— Лично я от перемены власти ничего не получил, а вот работу потерял, — сумрачно, несмотря на улыбку, заключил Мфумо. — Газету, где у меня наконец появилась постоянная должность, сразу же закрыли. Сочли оппозиционной. Мед можно есть только тогда, когда рядом нет пчел.
Статью, о которой Мфумо говорил Комлеву на днях, он не только написал, она уже пойдет в следующий номер. Это его подбодрило, и сейчас он занимался новой оценкой своих возможностей газетчика в неблагоприятных для него условиях. Надо писать, несмотря ни на что. Он устал от безденежья и утраты уважения к себе как к профессионалу. Известно, что культура труда требует постоянного упражнения. У него уже были новые планы. Так, путнику, поднявшемуся на холм, открываются новые горизонты.
Гостиничный клерк, видимо племянник Кумара, с любезной улыбкой вручил записку, в которой он школьно-каллиграфическим почерком передал следующее телефонное послание постояльцу: «Мистер Комли, вас любезно просили прийти завтра к 10 часам в „Стэндард Бэнк“ по очень важному делу».
Хорошо это или плохо? Комлев смотрел на записку со смутной неприязнью. Он даже не обратил внимания на то, что его уже не раз называли «Комли». В конце концов, если им так удобнее, пусть называют. Он понимал, что его неприлично затягивающееся безделье в Лилонгве в качестве представителя этого загадочного Интертранса должно когда-то и чем-то кончиться. Комлев уже устал от неопределенности.
Утром, во всем празднично-белоснежном, но с кошками, скребущимися где-то глубоко внутри, он входил в самопроизвольно раздвигающиеся с неким коварным радушием двери банка.
После разговора, оставившего неприятный осадок в душе Комлева и происходившего в кабинете директора банка, ему захотелось взглянуть на ширь реки Мфолонго и стать спиной к равнодушному городу. На набережной росли тенистые деревья, названий которых он не знал, и стояли бетонные скамьи, еще не успевшие нагреться на солнце.
Итак, разговор состоялся. Самого директора не было. Возможно, директор-африканец был здесь просто декоративной фигурой, а все дела вершил мистер Фергюссон. В конце концов банк был английский. В кабинете сидел еще один европеец, невнятно назвавший свою фамилию, вполне возможно и не свою собственную. Комлев никогда не видел «тайных агентов», ни своих, ни чужих, но тут он почему-то решил: это он и есть! Комлев подумал, что как он ни маскируйся, прикидывайся или деревенским простаком с соломой в волосах, или самодовольным светским львом на роскошном приеме, его выдаст взгляд. Он всегда коварно-спокоен, как у опытного провокатора, и в то же время полон деловитой озабоченности происходящим. Глаз такого агента, думал Комлев, всегда останется предательски умным, даже если его владелец играет роль дурака. Британская разведка недаром называется «Интеллидженс сервис», буквально, служба ума, сообразительности, понятливости. Он, этот предполагаемый агент какой-то разведывательной службы, почти не задавал Комлеву вопросов, он его изучал, как ученый зоолог изучает незнакомое, но, возможно, опасное существо. Ему стало ясно, что в банке сомневаются в доброкачественности этого Интертранса, который Комлев здесь представляет. Всего лишь вчера из далекой Москвы пришло распоряжение о переводе почти половины всей суммы на его счету в какой-то малоизвестный банк в Европе. Раньше Комлев был убежден, что «отмывание денег» — это чисто русское выражение. Увы, и это оказалось западным импортом. Фергюссон раза три употребил это «money-laundering», буквально, «отстирывание денег» применительно, хотя и с оттенком предположения, к планам и задачам до сих пор таинственного Интертранса.
— Вы поймите нас правильно, мистер Комлев, лично вас мы ни в чем не подозреваем. Вовсе нет! (Far from it!) Мы делали о вас запрос, и полученные сведения нас удовлетворили. Но говоря откровенно, руководство пославшей вас организации нам не внушает большого доверия.
Все это Фергюссон высказал Комлеву чуть ли не с улыбкой. Английская любезность славится во всем мире. А потом он попросил его не отлучаться надолго из Лилонгве, так как события могут принять неожиданный оборот. На этой двусмысленной, а скорее, даже зловещей, ноте разговор прекратился.
Комлев, идя вдоль набережной, подошел наконец к пассажирскому причалу, где белел громоздкий корпус парохода «Лоала». Хорошо бы опять ощутить подрагивание палубы от работы машины, увидеть незнакомые речные берега, раскрывающиеся навстречу, как страницы нечитанной интересной книги. И что ему этот непонятный Интертранс, за действия которого он должен отвечать, и его, Комлева, непонятная в нем роль? Правда, здесь ему платят деньги, а другой, настоящей, работы у него нет.
«Лоала», видимо, готовилась к рейсу, к ней подъезжали автопогрузчики с ящиками и мешками. Автомашины въезжали на ее палубу прямо с причала.
Капитан Форбс, в белой рубашке, с лицом состарившегося крестоносца, стоял тут же и что-то кричал на туземном языке людям, уныло стоявшим рядом с целой грудой ящиков. К ним спешил со стороны судна немолодой европеец в белой форме, с длинным худым лицом, видимо помощник капитана. Форбс ждал его с явным нетерпением.
— Мистер Палмер, заканчивайте погрузку. Пора принимать пассажиров.
Он увидел Комлева, махнул ему приветственно рукой и следующим жестом позвал к себе. Его рукопожатие было не из слабых.
— Извините, не разобрал тогда ваше имя. И подводит старческая память.
Он подвел его к борту, где пахло теплой речной водой и поскрипывал манильский швартовый трос.
— Послушайте, мистер Комли, я не знаю, какие планы у этой вашей фирмы, но я бы вам предложил сделать пару рейсов на «Лоале» дублером старшего помощника. Ознакомитесь с условиями плавания и с самой работой. Мало ли что случится в вашей жизни? Жалованья не обещаю, но с полным содержанием. А выпивка после вахты — за мой счет.
Он хохотнул и хлопнул Комлева по плечу. На том берегу среди редких пальмовых рощ виднелась россыпь одноэтажных домиков, совсем уж далеко возвышался силуэт баобаба, похожий на огромный гриб боровик.
— В этой стране жизнь после независимости стала совсем непредсказуемой. Конечно, в колониальные времена таким, как я, было проще жить. Но время не остановишь, и я вовсе не хочу быть этаким обломком колониальной империи. Я вам уже говорил при первой встрече, что мне предлагают продать «Лоалу». А мне уже далеко, очень далеко за семьдесят.
Комлев вспомнил последний рейс на своем старом теплоходе, разговор со старым капитаном Сивковским и подумал о мнимой новизне жизненных ситуаций. Это напоминало какую-то игру: схема была все та же, а вся разница — только в деталях, но они-то и выходили на первый план.
— Спасибо, капитан Форбс. Я непременно воспользуюсь вашим предложением. Сейчас, правда, я должен оставаться в городе какое-то время, а потом смогу распоряжаться собой.
Почему Комлев был в этом уверен, он и сам не знал.
Мфумо являлся в гостиницу к Комлеву обычно без предупреждения. Звонить по телефону, если он оказывался поблизости, Мфумо не любил, чтобы лишний раз не вступать в разговор с Кумаром, если тот возьмет трубку. Приходил он всегда утром. На этот раз в глазах Мфумо проглядывало некое подобие ликования, так как статью его в газете приняли и заказали ему новую о появлении в городе известного мага и чародея из племени буала по имени Мтубира Нсига. Уже неделю шли разговоры о том, что в первую ночь полнолуния он появится перед народом, чтобы помочь ему избавиться от воздействия злых сил.
Ночь, по африканским понятиям, это приход темноты, а в этих местах она наступала около восьми часов. К этому времени Мфумо с Комлевым уже находились там, где должен был появиться Нсига. Большая площадь, больше напоминавшая пустырь, на границе современного Лилонгве с его многоэтажными зданиями и городом приземистых домиков, туземных хижин, а то и просто лачуг, была почти полностью заполнена народом. По периметру это место освещали редкие фонари, а также луна, которая еще стояла невысоко и светила вполсилы. Это место было предназначено для народных гуляний и проведения разного рода праздников самой природой, так как являло собой нечто, напоминающее какой-то неровный и слабо выраженный амфитеатр. В центре его была почти плоская площадка, равная трети футбольного поля. И то, что на ней происходило, зрители могли наблюдать, не заслоняя происходящего от тех, кто стоял за ними.
Комлев сразу заметил, что с Мфумо многие здоровались, видимо, он был известен во всех слоях населения. А публика вокруг была самая пестрая. Преобладали застиранные рубахи и длинные до щиколоток набедренные повязки; кое-где группками стояли представители многоэтажного центра, в европейском платье. Свои машины они оставили где-то далеко отсюда. Женщины были в сопровождении мужчин, и не было видно городских красоток в легкомысленно коротких юбках — здесь бы они были просто неуместны. Попадались сдержанно любопытствующие местные индийцы и арабы, виднелись отдельные белые лица, внешне непроницаемые, но с отпечатком некой неуместности своего присутствия здесь. Поодаль стояли два католических миссионера с бородами и в светлых сутанах, как бы заранее осуждавшие своим видом все беснования язычников, которые им предстоит увидеть, и готовые принять вызов нечестивых слуг князя тьмы.
На площадке посреди поля шел долгий и неторопливый танец, напоминавший Комлеву некий хоровод. По кругу, ритмично покачиваясь и подергиваясь, двигалась процессия мужчин. Потом несколько барабанщиков, стоявших внутри поля перед своими барабанами, которые достигали их пояса, начинали убыстрять темп своих ударов. Танцоры поворачивались к ним лицом и делали несколько судорожных шагов вперед, а потом резко и внезапно отступали назад. И вот этот странный хоровод мгновенно распался, и все его участники уселись на земле по краям центральной площадки. Теперь барабаны звучали глухо, непрерывно и тревожно.
Мтубира Нсига, голый по пояс и в юбке из связанного сверху тростника, возник, словно ниоткуда; приплясывая, он вошел в круг, сопровождаемый своей свитой. Все его люди были в подобии длинных юбок из каких-то белесых волокон. У Нсиги на лице была широкая белая полоса, она делила лицо пополам, проходя посреди лба, вдоль носа и кончалась на подбородке. Тело его мелко тряслось, раза два он пронзительно вскрикнул и высоко подпрыгнул. Потом он затянул какую-то странную песню, почти вопль, и его свита подхватывала последнее слово в виде припева. По обеим сторонам от барабанщиков вспыхнули два костра, и Нсига оказался ближе к тому, что был слева от него. Кто-то из его окружения вынул из широкогорлого тыквенного сосуда пучок сухой травы и, пританцовывая, направился к Нсиге.
Комлев краем глаза заметил, что в том месте, где горели костры, в толпе были заметны движущиеся темные фуражки полицейских. Это говорило о том, что все происходящее перестало быть бесконтрольным. А Нсига взял поданный ему сухой пучок, поднес к краю костра и тот мгновенно вспыхнул. Нсига, запрокинув голову, бросил этот сгусток желтого пламени в свой широко открытый рот и он стал похож на жерло маленького вулкана. Вокруг него громко закричали и среди публики тоже, скорее от страха и изумления. Мфумо приблизился к Комлеву, поглядывая по сторонам, словно пытаясь его защитить, если начнется что-то непредсказуемое. Пламя, между тем, продолжало вырываться изо рта колдуна. Потом Нсига внезапно выпрямился, рот его теперь был закрыт, а в высоко поднятой руке был снова тот же, якобы сгоревший пучок. «Фокус какой-то», — подумал Комлев, а в это время Нсига стал повторять свое представление с огнем. Снова било пламя изо рта, неистовствовали барабанщики и неслись крики из толпы. Комлев с неким огорчением чувствовал себя сторонним наблюдателем, которому не дано постичь тайную сущность этого действа. Интересно, как это все воспринимает Мфумо? Ведь во все этом кроется что-то символическое.
Но вот Нсига сказал какое-то слово, и крики прекратились. Барабаны зазвучали глуше, даже как-то проникновеннее, и Нсига пританцовывая пошел вдоль стоящих по кругу зрителей. За ним цепочкой двигалась его свита. Он пронзительным голосом запел, и идущие за ним подхватывали припев. Движения Нсиги убыстрялись, его босые ноги словно утаптывали землю.
Возле Мфумо оказалась молодая африканка в белой тенниске и коротких, не достающих до щиколотки, брючках, с ней был высокий парень в очках, похожий на студента. Они пробирались сквозь толпу, ища выход. Луна была высоко и светила теперь ярко, а в воздухе чувствовалась прохлада.
— Привет, Мфумо! Ты еще остаешься?
— О, привет! Это мистер Комли. А это Нанди и Бен. Возьмите его с собой и довезите до «Сангама», а то он сам может заблудиться.
Мфумо повернулся к Комлеву и тихо сказал:
— Мне надо досмотреть все до конца: я ведь буду писать об этом. Пока!
И Комлев двинулся за парочкой сквозь толпу под неумолчный рокот барабанов.
Маленькую и старую машину Бена нашли быстро. Какое-то время она отказывалась заводиться, потом двинулась рывком, и Комлев уткнулся лицом в пучок волос, перехваченный ленточкой на затылке Нанди. Несмотря на свою внешнюю пружинистость и даже жесткость, ее волосы оказались мягкими и пахли чем-то, похожим на полузабытый запах жасмина. Комлев боялся распросов об увиденном, так как его впечатления еще нуждались в каком-то осмыслении. Но Бен и Нанди молчали, возможно, под воздействием увиденного. В конце концов, они были африканцы, и все это для них было не просто причудливое зрелище. В нем таился смысл, который он, «нсунгу», белый, едва ли мог рассчитывать постичь сразу.
Когда у гостиницы Комлев вышел из машины, Нанди протянула ему в окно руку, и ее рукопожатие показалось ему неожиданно крепким. Он еще не научился по достоинству оценивать внешность туземных представительниц противоположного пола, но нашел Нанди привлекательной.
Комлев догадывался, что все увиденное им вчера — не просто какие-то фокусы и сеанс массового гипноза. Все эти подпрыгивания, песни-выкрики, танцы с судорожными подергиваниями, меняющийся ритм ударов ладонями по барабану, — все это часть магических действий, у которых есть своя цель и задача. Только какая? Мфумо не появлялся, видимо был занят своим отчетом об увиденном. Интересно бы это прочесть. Комлев уже несколько дней ходил на курсы языка лулими. Язык, конечно, странный и необычный, но научиться хотя бы немного им владеть можно. Тем более, что все местные европейцы говорить на нем как-то умеют. Неужели он хуже других?
Мфумо забежал ненадолго ближе к вечеру и сообщил, что все в ту ночь закончилось вмешательством полиции, и увезли целую машину арестованных. Миссионеры через громкоговоритель стали обращаться к собравшимся, чтобы все христиане немедленно покинули место бесовского сборища. В их мини-автобус, откуда звучал голос на лулими, полетели камни. Часть собравшихся стала на защиту миссионеров, и завязалась драка. А другая часть в центре площади осталась плясать по случаю полнолуния и для совершения определенных обрядов по этому случаю. Что означало выступление Мтубиры Нсиги? Это сложно объяснить. Многое вообще остается непонятным. Ведь только одно небо видит спину ястреба в полете. Пел он на языке своего племени буала, который понимают очень немногие. Говорят, что Нсига вступил в контакт с духами, чтобы восстановить справедливость и предостеречь тех, кто сейчас у власти. Они возомнили о себе, а это опасно. Ты смотришь на антилопу, на тебя же смотрит лев. А горящий пучок травы, который горит и не сгорает, это символ силы предков. Когда Нсига заталкивает в рот пламя, это и есть момент его общения с духами.
Слушая Мфумо, Комлев так и не понял, как он, на самом деле, относится ко всей этой магии. Для себя Комлев решил, что Африка полна тайн и не стоит настойчиво стремиться к их разгадке. Это в работе должно быть все ясно, а в жизни надо оставить место для некоторой загадочности. Она, как ни странно, бывает порой привлекательнее унылой прямолинейности голой истины.
А при следующей их встрече состоялся разговор об африканской литературе. Мфумо застраховался от неожиданностей и прислал к нему мальчишку с запиской, где указал время своего прихода. Он явился, держа под мышкой тощую папку и с заметным смущением выудил из нее пару машинописных страниц.
Комлев накануне купил недорогой приемник, но с большим числом диапазонов, и теперь пытался все их освоить. Ему давно уже не хватало верной старой «Спидолы», а жизнь без новостей из эфира казалась ему какой-то ущербной. Здесь ему придется слушать их на единственном доступном ему языке — английском. Кстати, на нем же сюда долетал и голос России. Его безотказная «Спидола» скучала теперь без хозяина на широком подоконнике его комнаты в доме водников, прикрытая пленкой от пыли. Комлев слышал от побывавших в Латвии, что никаких приемников там теперь, вроде, и не выпускают, как и привычных в прежние годы автобусов «РАФ». С промышленностью, созданной еще в советские времена, там, похоже, успешно распрощались. Мечтания некоторых политиков в этой стране стать аграрным придатком Европы, кажется, становятся былью. Но это уже их дело.
Комлев подумал, что Мфумо принес показать ему свою статью, но это оказался рассказ на английском.
— Название еще не придумал, — с неуклюжей нежностью разглаживая листки, объяснил, словно оправдываясь, Мфумо. Он сказал, что уже давно пишет рассказы на английском, и когда-нибудь их наберется на небольшой сборник. Тогда он будет искать издателя, а здесь это нелегко. «Как и у нас сейчас, — подумал Комлев. — Похоже, только одно криминальное чтиво издают». Мфумо бы хотелось, чтобы его читали во всех слоях общества знающие язык Британского содружества наций, членом которого и является Бонгу. Для простых людей хорошо бы писать на языке лулими. Но большинство населения Бонгу неграмотно, и тогда уж лучше писать для тех, кто какое-то время проучился в школе, где учат на английском.
— Я ведь прочел немало книг африканских писателей на этом языке, — заявил Мфумо, стараясь не выпячивать гордости. — Многое мне нравится, но с чем-то я не согласен. Вот, например, знаменитый кенийский писатель Нгуги. Мне кажется, что его, в основном, волнует жизнь его родного племени. И все его нравы и обычаи, даже самые дикие, он готов оправдать.
Комлев хотел сказать, что африканская литература у него одно из белых пятен на Черном континенте, но решил не мешать Мфумо и дать ему выговориться. Писатели, он слышал, самолюбивы.
— Так вот, в одном его рассказе прежних лет муж, у которого, согласно принятой у них полигамии три жены, злится оттого, что у самой последней жены никак не родится ребенок, тогда как все остальные жены уже давно с детьми. Он ее бьет без пощады, и тогда она решает наконец уйти от мужа-изверга и вообще покинуть родные места. Уходит она тайно, перед рассветом, и по пути останавливается у их священного дерева — дикой смоковницы. И в этот момент она почувствовала, что у нее будет ребенок. Она радостно направилась домой, ибо теперь она может не прятать глаза от мужа и остальных его жен, презирающих ее за бесплодие. Вот, в сущности, и весь рассказ. А ведь Нгуги талантливый писатель, его издают в Англии.
— Мне тоже такой подход к вопросу не нравится, — неприкрыто сочувствуя расстроенному Мфумо, согласился Комлев. — Сам же я африканских авторов читал мало, хотя их у нас и переводят. Кроме «Тропою грома», когда учился на английских курсах, да еще «Покоя больше нет» какого-то, кажется, нигерийского, писателя («Очебе», — с радостной готовностью подсказал Мфумо), ничего больше не читал.
— И это уже немало, — великодушно заявил Мфумо, — учитывая то, что в европейской литературе я не очень силен, а о русской и говорить нечего. Но я очень бы хотел, чтобы вы когда-нибудь перевели мой рассказ на ваш язык. Рассказ ведь совсем небольшой. Вдруг его напечатают у вас в стране и тогда узнают, что есть такой газетчик, которому еще и хотелось бы стать писателем, и это некий Мфумо Томас Мутеми.
Комлев с осторожным любопытством взял машинописные листки, боясь, что у него сразу же возникнут неизбежные языковые трудности, но он ошибся. Мфумо в литературе явно не был новатором и уж никак не был модернистом, поэтому рассказ оказался до удивления понятным, и вот что он прочел:
«Кизембе попался как раз на второй день Рождества, и схватили его за руку в чужом кармане, в толпе возле нового католического собора в Махенге. Тихо перезванивали колокола, и собор был неоспоримо красив своей свежей белизной в густой роще кокосовых пальм. Их стволы не были обезображены вырезанными в них „ступеньками“, ибо никто не взбирался на них за орехами, и роща считалась как бы священной. Кизембе удалось как-то вырваться, и он мог бы убежать, но споткнулся о крупную, с массивным черенком, сухую ветвь, сбитую ветром с пальмы, и этим он был обязан подслеповатому сторожу Нзегере, которому платили также и за то, что он ежедневно должен был чистить весь церковный участок. Теперь же вокруг Кизембе со злобной веселостью теснилась толпа, как на рынке у грузовика с открытыми бортами, где разыгрывалась какая-нибудь частная, жульническая лотерея, его осыпали тумаками и нехорошими пожеланиями, а сам сторож Нзегере был тут же и вопил, будто его резали тупым ножом:
— Бейте его, нечестивца, вздумавшего воровать у божьего храма! Мало ему рынка или дома, куда подкатывают дымящие повозки!
Так, на местном языке здесь называли поезда.
Кизембе не очень страдал от ударов, так как по опыту знал, что в большой толпе люди только мешают друг другу ударить получше, но обрадовался, заметив выгоревшую на солнце фуражку полицейского, плывущую над головами толпы к нему, словно спасительная лодка к упавшему в реку, где, возможно, водятся крокодилы.
У младшего констебля Мпембе не было с собой наручников, так как он не любил их носить по причине их тяжести, и он просто выволок Кизембе из неохотно расступившейся толпы, поддев его своей ручищей под локоть, как слон в лесу поддевает бивнем древесный сук.
По горячему песку, расчерченному очень темными тенями от пальмовых стволов, они вышли к пышущему жаром асфальту, который являлся дорогой, называвшейся еще с времен власти белых Полис роуд. Переименовывать ее пока не стали, так как и сейчас она вела к полиции.
Теперь они сидели в душноватой комнате с решетками на окнах и странным запахом, похожим на запах зверинца, с конторкой в углу, и над ней портретом нынешнего президента в рубахе без воротника, которую все чиновники теперь считали национальной одеждой.
Дежурного офицера все не было, и Кизембе от нечего делать изучал широкое и лоснящееся, как горячий бок паровоза, лицо Мпембе с колючими длинными усами и в шрамах сложной конфигурации на щеках. У Кизембе самого были такие же шрамы, и это означало, что они соплеменники.
— Ты случайно не из Магомберо, брат мой? — осторожно осведомился Кизембе, словно путник, идущий через болотистое место и пробующий почву, прежде, чем сделать шаг.
— Это правда, а что тебе до этого? — хмуро вопросил Мпембе, который и сам уже догадывался о том, что у них может быть общая родина.
И тогда Кизембе заговорил на их родном языке, а слышать родную речь всегда приятно на чужбине, даже если слышишь ее от вора, и Мпембе ответил ему на этом же языке. Полицейский сержант с крупными дырками в мочках ушей, где в молодости у него болтались медные серьги, посмотрел на обоих мужчин, стоя за конторкой с тупым удивлением, и снова углубился в сочинение своего протокола. Крупные капли пота скатывались по его щекам не столько от жары, сколько от чрезмерных умственных усилий.
Теперь полицейский и арестант беседовали как соплеменники и земляки, и вспоминали родные места, а также людей, которых оба знали. И Кизембе уже лелеял тайную надежду на то, что полицейский не доложит начальству о поимке его, Кизембе, а поверит человеку из своего племени и отпустит его на свободу, с тем чтобы тот смог вернуться к зеленым взгорьям Магомберо и в дальнейшем вести нравственную жизнь. Но теперь Мпембе стал вспоминать то, что слышал о Кизембе раньше. Он с детства слыл вором и был изгнан сначала из своей большой семьи, а потом и вся община отреклась от него.
Они сидели и беседовали, не боясь, что кто-то поймет их разговор, но Кизембе незаметно торопил своего собеседника, так как время работало не на него. А говорили они иносказательно, как это принято в их племени перед принятием решения.
— Давший клятву не смеет ее нарушить, — с деланным вздохом сказал полицейский, закуривая и угощая вора. Этим он намекал на то, что дал присягу стоять на страже правопорядка.
— Но даже прирученные львы иногда уходят к своим, — не отставал от него Кизембе. — И разве обезьяна забывает о своем хвосте?
— Можно ли верить гиене, давшей обещание не есть падали?
— За доверие платят любовью, брат мой…
Сержанту наконец удалось закончить свой протокол, и он вышел, облегченно вздохнув, а Кизембе с горячей надеждой уставился на широкое лицо соплеменника, на котором, как на книжной странице, опытный человек прочел бы всю борьбу сомнений. Но Мпембе устоял и спустя некоторое время Кизембе уже с тоской смотрел на отутюженный мундир вошедшего в комнату инспектора, который и решил его дальнейшую судьбу.
Но Мпембе не оставил заботами своего заблудшего соплеменника. Он постарался поместить его в лучшую камеру, он даже принес ему свое одеяло и делал все, чтобы скрасить его дни в ожидании суда. У Кизембе теперь не переводились сигареты и свежие бананы с рынка, реквизированные у незаконных торговцев. И злость на полицейского стала постепенно исчезать, как исчезает черная от пожаров земля саванны под новым зеленым покровом, когда приходят долгожданные дожди. Хотя он был вором и слишком долго жил в городе, и знал все его грязные задворки, но теперь он все чаще вспоминал поля и банановые рощи Магомберо, и стадо коз, которое пас в раннем детстве. Впервые, к собственному удивлению, он думал об этом без презрительной насмешки, не как о своем диком, деревенском, прошлом, которого он привык стыдиться, а как о чем-то бездумно утраченном. Ведь это все связывало его с родом и всем племенем. Не зря у них говорят: отдельный человек исчезает, семья продолжает жить. И еще: единство в стаде заставляет льва ложиться спать голодным.
В тот день, когда его должны были отвезти в суд, он попросил Мпембе сообщить о нем домой, потому что сам он был неграмотен.
— Может быть, приедут меня проведать, — сказал Кизембе с неуверенной надеждой. — Тропа зарастает, если по ней не ходят».
— Мне кажется, что написано вполне профессионально. И психологически верно, — с некоторой раздумчивостью сказал Комлев, которому катастрофически не хватало слов, чтобы вести беседы на литературные темы. Впрочем, и по-русски выражать свои мысли о литературе ему приходилось только в крайне редких случаях, потому что в круг его общения любители изящной словесности, к сожалению, не входили. Была у него однажды знакомая с последнего курса филфака, которая пыталась руководить его чтением, как в известном романе Джека Лондона, но она явно не была Руфью, а Комлев был плохим Мартином Иденом. Она вскоре его покинула, видимо, не смирившись со своей педагогической неудачей.
— В общем, — нашелся Комлев, — это кусок реальной жизни в африканской стране. И не только в африканской, — спохватился он, — такая ситуация типична для любой страны, особенно полиэтнической.
Это слово он недавно взял на вооружение, выудив его, кажется, из газеты.
Мфумо смотрел на него с самоиронией во взгляде, которую явно вытесняла благодарность. Все-таки понимающий тебя читатель это большая находка.
5
Комлев почему-то всегда побаивался писем из учреждений, да еще в официальных конвертах. Они как бы несли в себе потенциальную угрозу, и даже нейтральность их содержания (что бывало редко) не настраивала на ослабление бдительности. Письмо, полученное Комлевым в конверте с уже пугающе лаконичным «Стэндард Бэнк», не способствовало поднятию жизненного тонуса получателя. Оно было неприязненно кратким. После обязательного набора слов вроде «имею честь уведомить» сообщалось уже без всякого политеса, что счет компании Интертранс в банке арестован по распоряжению властей из Москвы, и мистеру Комлеву в дальнейшем можно уже не утруждать себя явкой в банк на предмет получения ежемесячной зарплаты. Впрочем, на его счету еще остается чуть более трех тысяч пондо.
Он сидел на неубранной еще постели и непроизвольно оглянулся, словно боялся, что кто-то заглянет в письмо из банка. Хотя какая разница? Из гостиницы надо съезжать. Теперь надежда на Мфумо: он здесь всех знает и может подобрать ему дешевое жилье. И надо сразу думать о работе. Он читал где-то, что в английских колониях было понятие «бедный белый». Такому колониальные власти находили деньги на проезд до метрополии, чтобы он не подрывал принцип превосходства белой расы над прочими. Но сейчас здесь уже давно не колония и каждый предоставлен самому себе, в том числе и белый. То, что нечто подобное может с ним произойти, он неохотно допускал еще в кабинете Вьюнова. Но отбросил сомнения, потому что взяли верх авантюрные позывы. Захотелось разбить некоторую монотонность существования, покинуть затон со стареющим судном, переломив таким образом судьбу, наконец, оказаться в этой самой загадочной Африке. Даже несмотря на предупреждающий (а вдруг вещий?) сон. Нужно ли ему снова идти в посольство? Он вспомнил слова Сергея о том, что там спокойно переступают через упавшего. Помощи они, конечно, не окажут и будут по-своему правы. Сюда они его, Комлева, не звали, и он явился сюда не по направлению государственной организации.
Мфумо все еще добавлял к его фамилии «мистер», хотя Комлев давно предлагал называть его просто по имени. И только теперь, когда их общественный статус отчасти уравнялся, Мфумо согласился сократить официальную часть обращения в пользу более непринужденной. Оба они теперь не имели постоянного дохода, хотя Комлев все еще был материально богаче. С другой стороны, его положение было хуже, из-за того что он был иностранец. В письме из банка говорилось также о том, что он может, если желает, получить все необходимые разъяснения. Комлев хотел бы кое-что выяснить, но встречаться с этим Фергюссоном, видеть фальшивую мину сочувствия и, возможно, открытое злорадство в глазах, было ему не под силу.
Мфумо с некоторых пор стал чувствовать, что в городе, да и, пожалуй, по всей стране что-то происходит. Это напоминало ожидание какой-то катастрофы. У него, газетчика, уже выработалось чутье, почти как у животного, на всякие готовящиеся изменения в порядке мироздания. Мфумо пытался успокоить себя тем, что слишком уж мало времени прошло с тех пор, как на улицах слышалась стрельба и грозно рыкали моторы бронемашин. Новая власть утвердилась, кровь на улице смыли дожди и даже следы от пуль на стенах домов заделали раствором бетона, алебастром, а кое-где просто залепили глиной. Но тревожное чувство не уходило прочь. Глядя на улице в глаза прохожим, он видел, что многие что-то прячут во взглядах, как прячут в кармане нож. Идя домой, в свое жалкое жилище из одной маленькой комнаты и с общей кухней отдельно во дворе, он нарочно замедлял шаг, стараясь быстро оглядеть двор и тех, кто в нем находился. Он снимал жилье за полтораста пондо в месяц у толстой торговки овощами, которая брала с него явно заниженную плату. Ей хорошо был слышен стук пишущей машинки, и она знала, что в этой уже не новой выдумке белых людей может скрываться великая сила. Особенно, если по ее клавишам, похожим на пуговицы, бегают проворные пальцы такого, как этот Мфумо. Он может кого-то возвеличить, а может осмеять и втоптать в грязь, поэтому хозяйка относилась к нему с осторожной любезностью, смешанной со скрытой опаской. В ее родном племени говорили, что лишь та змея живет долго, которая не выползает на дорогу.
Разговор с Мфумо состоялся через два дня после извещения из банка.
— Ничего, мы что-нибудь придумаем, — обнадеживающе заявил Мфумо, с внешней отрешенностью глядя на потолок, где терпеливо поджидала муху большеголовая ящерица. Комлев к ней привык и уже почти не обращал внимания на бледнорозовую тварь. Иногда к ней приходила подружка из коридора, и тогда они гонялись за насекомыми вместе.
— Сейчас главное — найти дешевое жилье, — озабоченно напомнил Комлев. — Ну, и достаточно приличное.
— Там, где я живу, есть рядом свободная комната. Но это такой район, где белого человека никогда не увидишь, и снимать там жилье просто немыслимо (он сказал: «Out of the question» — даже вопрос не стоит). Это вызвало бы просто нездоровое любопытство и всякие пересуды.
Когда-то Мфумо казалось, что у всех белых людей, поскольку все они всегда в меньшинстве, должна быть большая сплоченность, даже круговая порука, и они уж не дадут друг дружке пропасть среди черного большинства. Теперь он уже знал, что у них несогласий во всем и различий не меньше, чем у их темнокожих братьев, принадлежащих к разным племенам. Как говорится, рука сгибается в локте, а нога в колене. Ничего необычного.
Мфумо предложил поселиться у знакомого индийца, который иногда сдает меблированные комнаты на втором этаже прямо над своей лавкой. Можно даже со столом, где подают чапати вместо хлеба, и если запах карри, чеснока и маринованных зеленых манго не вызывает аллергии. Некоторые белые джентльмены, например, возражают. У этого Дхармчанда даже с двухразовой едой — утром и ближе к вечеру — будет все равно в два раза дешевле, чем здесь, в «Сангаме».
— Пойдем к этому Дхармчанду, — решительно настроился Комлев. — «Лоала» придет через неделю, я узнавал. Если капитан Форбс возьмет меня на стажировку, как обещал, я перехожу на пароход. Там и буду жить.
— А потом? Если мой вопрос уместен, конечно.
— Я бы хотел, чтобы меня взяли помощником капитана. Я уже соскучился по работе. К тому же постепенно заработал бы на билет домой.
Комлев говорил об этом с суховатой сдержанностью, словно боялся вспугнуть саму возможность такого варианта. В сущности, это была единственная возможность остаться на плаву как в фигуральном, так и в прямом смысле.
Дхармчанд весьма любезно сказал Мфумо, что подготовит комнату для белого постояльца через три — четыре дня, и Комлеву ничего не оставалось как ждать. В «Сангаме» он пока не говорил о своем скором уходе. Сам хозяин счел своим долгом сообщить Комлеву, что ему звонили с утра, и звонивший называл какое-то странное, возможно русское, имя, которое просто невозможно было запомнить и еще труднее воспроизвести. Сказали только, что к нему придут ближе к вечеру, когда немного спадет жара. Комлев принял это устное послание с некоторой настороженностью, так как теперь он ничего хорошего не ждал ни от телефонных сообщений, ни от посетителей. Ему самому звонить было некому, кроме как Сергею из посольства, но того ни разу не оказывалось на месте, а иметь дело с автоответчиком Комлев не любил. Ему казалось, что это просто коварная уловка, когда не хочется с кем-то разговаривать. Лишь однажды этот неуловимый Сергей оказался на месте, но тут же поспешно сказал: «Извини, старик, дел сейчас по горло, поговорим в другой раз». Комлев не страдал мнительностью, но допустил, что его нынешний, не внушающий доверия статус, уже не тайна и что знакомство с таким человеком никого не украсит.
И вот в номер к Комлеву, отдуваясь, ввалился детина в темных очках и в матерчатой шляпе с узкими полями, сняв которую, оказался стриженым «под ноль», как арестант или новобранец. «Типичный браток», — неодобрительно подумал Комлев. Пришелец был в пестрых шортах, в полурасстегнутой рубашке с короткими рукавами и в пляжных шлепанцах, хотя никакого пляжа в Лилонгве не было. В руке он держал сумку, которую он поставил на пол, и на это она отозвалась стеклянным звяканьем.
— Вадим, как я понимаю, — с полувопросом по-свойски обратился к нему стриженый. — Случайно узнал, что земляк тут живет. Ну и захотелось пообщаться. Меня Алексеем звать. Для друзей просто Леха.
Он с компанейской выразительностью посмотрел на Комлева, давая последнему понять, что тот уже включен в упомянутую категорию, так что вопрос выбора формы обращения уже не стоит. Из объемистой сумки Леха со сноровистой деловитостью вынул и поставил на низкий столик бутылку джина и воды «швепс», потом рядом появились еще бутылки: американская «смирновка» и пиво.
«М-да, визит со своим угощением. Мне минус как принимающей стороне, — самокритично подумал Комлев. — Значит, предстоит разговор. О чем?»
— Все прямо из холодильника. Я как знал, что у тебя таких благ нету.
Он сноровисто откупорил бутылки.
— Ну, давай за знакомство сначала выпьем, а потом поговорим.
Становиться в позу и отказываться Комлев счел глупым. К тому же немного выпить хотелось, чтобы заглушить как-то неприятный осадок последних дней. «Кто все-таки ему сказал, где я живу? — с хмурым любопытством размышлял Комлев. — Впрочем неважно, при желании все можно выведать».
Комлев выпил джина, разбавив его шипучей водой, а Леха хватанул сразу полстакана водки, запив все пивом.
— Водка без пива — деньги на ветер, — прокомментировал он этот факт известным изречением российских выпивох. — Давняя привычка. Трудно менять.
Он вдруг вполголоса ругнулся, нырнул рукой в сумку под столом, бормоча: «Совсем забыл, балда», — и вытащил пару пакетов с нарезанным хлебом и массой разных мясных изделий в виде ломтей, ломтиков и кружков. Комлев с некоторым смущением вспомнил, что сегодня он так и не обедал.
— Там у нас в гостинице этот, как его, шведский стол круглосуточно открыт. Вот я и нагреб с него.
Толстые руки Лехи были щедро украшены наколками. Правую обвивал огромный змей с треугольной головой и выпученными глазами, на левой значилось: «помни Сиблаг» и «что нас губит». Из символов, изображенных ниже было ясно, что таких, как Леха, губят карты, вино и женщины. Из расстегнутого ворота рубашки выглядывал синий контур церковного купола. Комлев знал, что число таких вот куполов указывало на количество «ходок на зону», но то, что оставалось укрытым, не позволяло узнать другие подробности уголовной биографии Лехи. «Кто только теперь не ездит по свету, — с неодобряющим удивлением думал Комлев. — Раньше такого, как этот Леха, и на пушечный выстрел не подпустили бы к пограничному столбу, но теперь совершенно обратная картина. Среднего ведь у нас не бывает. Либо сплошной запрет, либо вседозволенность. Умом Россию, как известно, не понять. Прав, видимо, был Тютчев, хотя и проживший больше времени в Германии, чем в России, и женатый дважды, и оба раза на немках».
Комлев ни о чем не спрашивал гостя, давая эти понять, что большого интереса к нему не питает. Но так как в этот момент он жевал хлеб с холодной еще «шведской» ветчиной, он испытывал некоторую неловкость по поводу своей неучтивости. Но вести разговор ни о чем он никогда не умел. Леха же пытливо вглядывался в Комлева своими острыми глазками цвета жухлой осенней листвы, ничуть не скрывая своего интереса. О себе он только сказал, что приехал со своим «шефом» (Комлев про себя поправил: «Хозяином»), у которого юридическое образование и по-английски он «шпарит будь здоров». А сюда, в эту самую Бонгу, шеф приехал прощупать «инвестиционный климат». При этом Леха усмехнулся углом губастого рта, не без труда выговорив первое их этих двух слов, как бы слегка подтрунивая над патроном и его пристрастием к газетно-экономическим штампам. «Кто он такой при своем „юристе“? — с вялым любопытством подумал Комлев. — Телохранитель, скорее всего».
Выпили по второй, потом по третьей. Комлев прихлебывал свой разведенный джин под насмешливо-неодобрительным взглядом Лехи, отводя его попытки увеличить принимаемую дозу.
— Ты, Вадик, совсем как-то не по-русски пьешь, — с дружественным осуждением заметил Леха. — Совсем иностранцем стал.
— Здесь все так пьют, — миролюбиво пояснил Комлев. — Вот и я привыкаю. Мне отсюда еще не скоро удастся выбраться.
Леха на эти слова внимания не обратил, а быстро обежал взглядом комнату и не без самодовольства поведал:
— Мы с шефом в «Нью-Африке» живем. Клевый отель. Чуть ли не десять полотенец в ванной висит. А на фига мне столько? Мне и одного хватает, я человек простой. А у тебя, как видать, тут не шик-модерн. Вот такого у нас бы не потерпели.
Он мотнул головой вверх, указывая на распластанную, неподвижную ящерицу на потолке в самом углу.
— Ты надолго здесь?
— Скоро съезжаю, — сдержанно сообщил Комлев. — Теперь мне даже здесь не по карману.
«Что он, интересно, обо мне знает? — думал он при этом. — Похоже, что знает немало. Прямых вопросов пока не задавал».
Комлев подумал, что скоро надо будет опускать над кроватью москитную сетку, так как за окном начинались сумерки. Вороны уже возвращались на ночлег. По улице прошла какая-то шумная компания, да еще с включенным транзистором. Ему не советовали ходить одному по вечерам. По городу бродят шайки хулиганов. Полиции же почти не видно на улицах. «Значит, все, как у нас», — невесело отметил он.
Лехе, видимо, хотелось выведать кое-что о планах Комлева, так как нынешнее его положение было ему яснее ясного. Но и напиться тоже хотелось, что при своем шефе он явно не мог себе позволить. Комлев сдержанно сказал, что хотя он сейчас основательно на мели, он надеется найти работу. Домой пока не собирается. Во-первых, нет денег на авиабилет, а во-вторых, не привык отступать и возвращаться побежденным.
— Это ты верно сказал, — одобрил его Леха, но чувствовалось, что его пьянеющий мозг производил какую-то свою сложную работу.
Так они сидели и продолжали пить, но Комлев пьянел мало, как бывало с ним всегда, когда тому, с кем он пил, в чем-то не доверял или он ему мало импонировал. А сейчас было и то, и другое. Леха же достиг желаемой степени опьянения или просто старался казаться пьянее, чем он был. Он начал развивать свои взгляды на тему, видимо, его волнующую и пытался дать оценку пенитенциарной системе в родном отечестве:
— Вот вышку у нас теперь не применяют, — затронул Леха тему моратория на смертную казнь. — Это хорошо. Пока жив, всегда есть надежда. Мало ли что может случиться. Ну, кореша на воле постараются: подкупят кого надо или побег устроят.
Он стал загибать свои толстые пальцы, отмечая варианты благоприятных событий, способных изменить судьбу отбывающего пожизненный срок:
— Стихийное бедствие. Ну, там землю основательно тряхнет или сокрушительный ураган пронесется. Дальше. Главного пахана в Кремле сменят, а новый возьмет и помиловку всем объявит. Война мировая — это тоже плюс. Тут уж кому война, кому мать родна.
Все его пальцы собрались в кулак, и он посмотрел на него, как на важный аргумент. А у Комлева насчет «вышки» мнение было твердое: он за ее сохранение. Оставить жизнь кому-то за умышленное убийство можно было только в том случае, если один злодей убивает такого же или еще похуже. Позволить жить, например, серийному убийце, это просто неуважение к памяти его жертв. «Гуманисты» возразят: «Всех убийц не искоренишь. Появятся новые». Но ведь и крыс всех извести нельзя, но их все равно травят. Глядя на этого Леху, который сейчас его поит и кормит, он думал о том, что если ему велят его, Комлева, «замочить», будет ли тот колебаться? Но желания проверить на себе степень такой вероятности у него, однако, не было.
Леха докурил сигарету и щелчком пальца отправил ее в открытое окно, хотя пепельница стояла рядом. Окурок описал розовую траекторию и исчез.
Комлева уже начинал тяготить затянувшийся визит, за окном заметно темнело и вороны, хрипло переругиваясь, устраивались на ночлег в своих гнездовьях под самыми кронами пальм, там, где сходились черенки их листьев-ветвей над выпуклыми рядами плодов.
А Леху потянуло на воспоминания. В них особенно заметно фигурировал некий дядя Жора, опекавший его в детстве и, видимо, игравший важную педагогическую роль в становлении Лехиной личности. Леха даже с сентиментальной задумчивостью пропел вполголоса любимую песню наставника, которая родилась, судя по всему, еще в совсем уж далекие тридцатые годы, и от нее заметно тянуло дымков лесоповальных костров. Вороны на пальмах прекратили возню и с тревожным любопытством глядели в окно, откуда неслись странные для них звуки. Мелодия песни, которая у таких, как Леха, называлась просто «мотивчик», была незамысловатой и общей для многих песенных баллад такого рода. Звучала она примерно так: та-та-та, та-та-та, та-та-та-та (здесь предпоследний слог был ударным), та-та-та, та-та-та, та-та-та-а-а-а (здесь тянулся последний слог).
Итак, первый куплет Лехиной песни был лирически жизнеутверждающим:
Далеко у Охотского моря, Где кончается Дальний Восток, Я живу без нужды и без горя — Строю новый стране городок.Оптимистический настрой песни нарастал, но Леха пел ее как бы в забытьи и уже как человек нового времени, живущий в иной реальности и не скрывающий этого:
А окончится срок приговора, Я с горами, тайгою прощусь И на поезде в мягком вагоне Я к тебе, дорогая, вернусь.В последнем куплете лиризм вернулся, и певец оживился, словно переживал свое, выстраданное:
Воровство я на время заброшу, Чтоб с тобой, моя крошка, побыть. Любоваться твоей красотою, Про колымскую жизнь позабыть.Африканская ущербная луна выпуталась из гущи ветвей высокого хлопкового дерева на соседней улице и все больше наливалась светом, когда Комлеву с помощью племянника хозяина и черного слуги удалось свести Леху вниз и вывести из дверей на относительную прохладу улицы. Леха настаивал на том, что он ничуть не пьян и готов продолжать общение до утра.
— Леха, не забывай, что тебя ждет шеф, — сказал Комлев с небрежной дружественностью, хотевший вначале сказать, что он его ждет с докладом. Он мало сомневался в том, что визит был запланирован. Но для чего?
Сигнальное и весьма значимое слово «шеф» возымело свое действие в Лехином затуманенном мозгу, и было заметно, что он весь внутренне подобрался, насколько это было возможно в его состоянии.
Остановить такси в Лилонгве труда не составляло. Племянник хозяина проинструктировал водителя на лулими, Леху успешно запихнули внутрь, и машина понеслась в центр города к высокому пятизвездочному отелю «Нью-Африка».
Комлев почему-то надеялся услышать от пьяного Лехи нечто сочувственное, вроде: «Братан, тебя кинули, как последнего фраера», — но ничего подобного он от него не слыхал. Но и своей истории он ему не рассказал.
Комлев явился в банк, чувствуя себя лазутчиком на неприятельской территории. Ему надо было снять немного денег с тающего, как свечной огарок, счета, но не закрывать его совсем. Комлев надеялся, что он ему еще понадобится. Черноусый клерк-азиат в рубашке такой белизны, что она слепила глаза, и в черном галстуке, взглянул на него внимательно, когда прочел его фамилию на чеке, и Комлеву показалось, что он незаметно нажал на какую-то сигнальную кнопку. Иначе как было объяснить, что у кассы через минуту оказался Фергюссон.
На этот раз смотрел на Комлева почти сочувственно, как смотрят на поверженного в поединке противника.
— Я вас надолго не задержу. Дело в том, что у нас побывал некто из этого самого Интертранса со своим, судя по виду и манерам, телохранителем. Такой, знаете, верзила с татуированными руками. По-английски не говорит. Вы их, вероятно, знаете.
— Не имею представления, кто они, — сухо ответил Комлев.
Он чувствовал, что Фергюссон ему не поверит, а ему не хотелось делиться с ним своими соображениями.
— Нас пытались склонить к снятию ареста с их счета, намекая на то, что это будет небескорыстно. Пока шла беседа, обоих визитеров проверили, но в списках Интерпола они не значились. Я надеюсь, что вы, мистер Комлев, попали в эту компанию случайно. Мы такие случаи знаем.
Комлеву говорить не хотелось, да и сказать было нечего. Он только подумал о том, знал обо всем этом Вьюнов с самого начала или нет? Можно даже допустить, что и не знал. За хорошую сумму пообещал найти подходящую кандидатуру для поездки и нашел. Продал, одним словом, на вывоз в дальние края. И, возможно, без возвращения домой.
— Лично против вас у меня ничего нет, — настаивал заместитель управляющего банком.
«Да, они любят повторять это nothing personal, „ничего личного“, — думал в это время Комлев. — Набьют морду, а потом скажут это с любезной улыбкой. Западная культура, нам пока еще недоступная». Но он не удержался и спросил:
— А эти двое, они здесь надолго?
Фергюссон взглянул на него понимающе.
— Мы уже запрашивали соответствующее ведомство, и нам пошли навстречу. Срок пребывания им сократили до трех дней, а потом они отбывают в соседнюю страну.
«Это хуже, — подумал Комлев. — Чем дальше они будут отсюда, тем для меня спокойнее». Он наскоро попрощался и вышел на улицу, где горячий ветер шевелил жесткие листья молодых пальм, посаженных вдоль фасада банка.
Когда Комлев вернулся в гостиницу, хозяйский племянник протянул ему бумажку с телефонным номером.
— Просили позвонить, сэр. Это из «Нью-Африки». По номеру видно.
«Что им теперь от меня нужно?» — с какой-то усталой настороженностью размышлял Комлев, стоя под тепловатым душем в углу своего номера, задернутого занавеской из пленки. Вода здесь, видимо, всегда была одной температуры: не холодная и не горячая. «Лучший для меня вариант при встрече с этой парочкой — могут дать мне денег на возвращение домой. Худший — можно только догадываться. Но бандиты денег не дают, они только отбирают. А потом, зачем я им нужен в России? Чтобы свидетельствовать против них и Вьюнова тоже? Да им же лучше, чтобы я здесь остался надолго, а то и навсегда. И чтобы был нем как могила. А еще лучше, чтобы в ней же и оказался».
Утром, когда он выходил из гостиницы, ему сказали, что к нему хотел зайти какой-то африканец.
— Мфумо? — обрадовался Комлев. — Так в чем же дело?
— Мфумо мы хорошо знаем, — с готовностью отозвался молодой черный клерк с пробором в коротких волосах, стоявший за конторкой. Он, видимо, вернулся из отпуска, и Комлев уже его пару раз видел. — Тот, кто хотел к вам зайти, нам совершенно неизвестен, но хозяину и мне он показался подозрительным.
Он посмотрел на Комлева с алчным интересом. Рядом с журналом регистрации гостей лежал детективный роман, который клерк с пробором читал на дежурстве. Он явно предвкушал развитие какой-то криминальной истории. Комлев вспомнил, что он тоже участвовал тогда в отправке Лехи в его гостиницу на такси.
А на следующий день Комлева на улице чуть не сбила машина, когда он шел по тенистому тротуару, направляясь к «Сангаму». Если бы она появилась сзади и ударила его бампером, ему был бы конец. Но Комлев шел по той стороне, где движение транспорта было встречным. Машина дала газ и резко рванулась ему навстречу, едва не сбив мусорную тумбу из бетона. Кто-то из редких прохожих крикнул что-то вроде: «Нсунгу, мутоко!» Он, видимо, заметил опасность для Комлева раньше, чем он сам, и его слова на лулими должны были означать предостережение: «Белый человек, автомобиль!». Комлев в юности занимался в секции бокса общества «Спартак» и, хотя силой удара он не отличался, уклоняться даже от самого резкого и неожиданного удара он научился хорошо. Удар горячего радиатора машины прошел мимо в паре сантиметров, так как Комлев успел с проворством белки метнуться к середине тротуара, ободрав себе лишь колено. Взвизгнули женщины, что-то крикнули мужчины и мелькнуло слово «полиси», а машина зверски скрежетнула тормозами, въехала в поток других машин и умчалась. Окна ее были тонированы, и была она цвета застоявшейся воды в луже, а в марках Комлев разбирался слабо. Прихрамывая, он дошел до своей гостиницы и уже ее не покидал. Обращаться в полицию ему в гостинице отсоветовали, так как улик у Комлева было мало, а доверия к полиции в этой стране, видимо, никогда не существовало. Беспорядки во время последних выборов были здесь у многих свежи в памяти.
К вечеру пришел Мфумо, с тревожной озабоченностью выслушал сообщение Комлева и сказал, что завтра ему можно будет переселяться. Свой новый адрес лучше никому не сообщать.
И вот через день утром, уже в своем новом жилье, своим низковатым потолком напоминавшем его комнату там, на далеком севере, Комлев медлил вставать, сгибая и разгибая ноющее колено, обильно смазанное йодом. Было слышно, как внизу, в своей лавке Дхармчанд отсчитывал кому-то сдачу, возможно, сотенными бумажками пондо, произнося монотонно: «Эк, до, тин, чар». Тут он сделал паузу, видимо, ища нужную купюру, и продолжал: «Сат, атх, но, дас». «Десять!» — сказал он кому-то уже по-английски, повысив голос.
А всего неделю спустя Комлев стоял на ходовом мостике парохода «Лоала» рядом с капитаном Форбсом, и навстречу плыли берега в кустах и редколесье, и еще кое-где с рыжими песчаными пляжами. И деревья издалека казались до обидного обычными, лиственными и никакой африканской экзотики в виде веерных, масличных или борассовых пальм не было пока и в помине. «Все почти как на наших реках летом», — думалось Комлеву. И палуба, и мостик так же подрагивали в такт работы машины, только вот темнокожий рулевой в синей робе и фуражечке с двумя скрещенными якорями над козырьком стоял за штурвалом. А на палубе сидели пассажиры туземцы, расстелив какие-то свои цветные тряпки. Все это напоминало живые картинки из старого этнографического сборника.
Его приход на «Лоалу» состоялся без всяких предисловий. В дом к Дхармчанду явился матрос и на словах передал Комлеву приглашение капитана Форбса отправиться в рейс. Видя, что Комлев не совсем освоился с языком лулими, матрос попытался повторить это на английском, значительно сократив само послание. Звучало оно теперь примерно так: «Капитан ждать сегодня мистер Комли, уходить Лолингве утром». Комлев тут же объявил хозяину о своем уходе. Но тот, видимо, дорожа постояльцем, упросил его не уходить совсем и согласился оставить комнату за ним, назначив лишь треть цены на все дальнейшее время. Судя по всему, комната у него все равно пустовала. Комлев взял с собой сумку с самым необходимым, сунул в нее приемник и отправился пешком к причалу, где обычно швартовалась «Лоала».
6
Комлев не знал, что предшествовало его поспешному вызову на «Лоалу», хотя капитан Форбс давно обещал ему стажировку на своем пароходе. А дело было в том, что неожиданно заболел старший помощник Палмер, кстати, единственный европеец из всех судовых офицеров, который плавал с Форбсом уже более десяти лет. Палмера прямо с причала увезли в больницу с подозрением на острый аппендицит или на что-то еще похуже. Именно то, что было похуже, потом и подтвердилось, и Палмер на судно больше не вернулся. У Форбса были свои планы, в которые он никого не посвящал, а он был не только капитаном, но и судовладельцем. Правда, в своем последнем качестве ему оставалось пребывать от силы два рейса, но никто, кроме самого Форбса, об этом на судне не знал.
«Лоала» была пароходом, к тому же еще и колесным. Более того, этот пароход все еще сжигал в своих топках уголь, а не мазут, впрыскиваемый туда форсунками, как на всех оставшихся в наше время его речных собратьях. Так что «Лоала» была дважды анахронизмом. То, что она работала на угле, объяснялось простым расчетом: уголь завозился из соседней страны, по своему качеству это был далеко не антрацит, но зато он был соблазнительно дешев. При полностью загруженном бункере «Лоала» делала полный рейс.
Когда-то, еще в старые добрые колониальные времена, в ряд соседствующих английских владений, где были судоходные реки, а они имелись везде, морем были доставлены в разобранном виде пароходные котлы и паровые машины. Затем по железной дороге их развезли по главным речным портам. Были также доставлены и движители, то есть гребные колеса, а также части корпуса и надстроек. Все это соединялось при помощи заклепок (тогда еще сварка здесь считалась завтрашним днем техники) на местных судосборочных заводах. «Лоала», которая тогда называлась «Виктория», видимо, в честь знаменитой королевы, начала регулярные рейсы по реке Мфолонго еще до начала второй мировой войны. Когда ее приобрел демобилизованный из королевских ВМС молодой лейтенант Форбс, это было еще совсем не старое судно и теперь можно было утверждать, что оно состарилось вместе со своим хозяином и капитаном. Форбс был, как известно, женат на туземной женщине, понимал язык туземцев и во многом думал и поступал, как они, при этом иногда сам с иронией это отмечал. Во многом он разделял и их взгляды на мир. Так, он был вполне согласен с их утверждением, что долгая жизнь живущего не утомляет. И с тем, что многие жалуются на жизнь, но умирать почему-то не хотят. А на жизнь они смотрели философски и без иллюзий, говоря, что само рождение это путь к смерти. Только в отношении одного народного изречения, которое он слышал пару раз от местных жителей, а именно: лучше быть молодой гиеной, чем старым львом, Форбс все еще колебался в своем желании его принять. Ему пока еще нравилось быть старым львом. А гиены ему всегда были противны.
К тому времени, когда на мостике «Лоалы» появился Комлев, это было уже весьма старое плавсредство с довольно, хотя и не предельно, изношенным корпусом. Но так как на всегда полноводной Мфолонго ему никакие подводные камни не грозили, а на глубоком озере Кигве оно ходило по надежному фарватеру, с таким корпусом можно было плавать еще долго. Если, конечно, в рулевой рубке и на мостике будет находиться осмотрительный судоводитель. Капитанский диплом Комлева, хотя и не подкрепленный солидным стажем плавания в этой должности, видимо, произвел определенное впечатление на Форбса. Но судоводительские навыки своего протеже ему не терпелось проверить на деле. Что он вскоре и сделал.
Вначале Комлев немного побаивался плавания на совершенно незнакомой, да еще и африканской реке, ожидая от нее какого-нибудь неожиданного коварства. Но капитан показал подробную карту реки, выполненную на двадцати отдельных листах, и Комлев с облегчением понял, что она из тех коротких рек, вытекающих из больших озер или водохранилищ, которые всегда обнадеживающе полноводны, убедительно глубоки и уровень воды в них почти всегда постоянен. Мфолонго вытекала из обширного озера Иколе, становилась судоходной только ниже порогов Макунзи и через много десятков километров впадала в еще более обширное озеро Кигве. А из него она, если это действительно была она, вытекала уже под именем Луалабы. Левый берег ее был теперь территорией другой страны — Булимби, в далеком прошлом французской колонии.
Словом, это была река в навигационном отношении напоминающая, как ни странно, Неву, только намного ее длиннее, но вполовину ее уже. Комлев понял, что здесь можно обходиться без бакенов и вех, а судно нужно вести в равной отдаленности от берегов. Если же один из берегов обрывист, то есть является «коренным», то нужно править ближе к этому берегу. Это была, конечно, элементарщина, которую Комлев постиг еще на первом курсе в училище.
Рулевые, по словам капитана, были все очень опытные, уже немолодые и плавали с ним много лет. Форбс определил им неплохое жалование, чтобы удержать на судне. Они являли собой небольшую привилегированную касту, бдительно охраняющую свои права. Они-то и вели судно и знали приметы на речных берегах лучше, чем свой двор с постройками, где они, кстати, бывали не так уж часто. Поэтому помощникам капитана на вахте надо было прежде всего следить за тем, чтобы расходиться с другими судами на безопасном расстоянии и, главное, грамотно подойти к пристани и отойти от нее. И, конечно, следить за порядком на судне.
Комлев стоял на мостике во время капитанской вахты и почти придирчиво оглядывал проплывающие мимо берега. Ему хотелось знать их не хуже рулевых. Изредка появлялась рыбацкая деревушка, где часть хижин стояла на кривых сваях на мелководье у пологого берега.
— Раньше мы вели на длинном буксире за собой пассажирскую баржу, — рассказывал Форбс, попыхивая сигарой. — Ну, вы, конечно, понимаете, мистер Комлев, почему на длинном буксире?
— Чтобы ослабить поток воды от буксировщика, замедляющий скорость буксируемого судна, — слегка задумавшись над отделкой фразы, но несколько скучающим тоном ответил Комлев, зная, что его проверяют.
— Так вот, когда мы шли обратным рейсом, к ней и днем, и ночью причаливали лодки-долбленки. И мы их тащили до Лилонгве.
— Значит, им нужен был бесплатный проезд, да еще против течения, сэр?
Комлеву было немного забавно произносить это «сэр», ему казалось, что он играет в какой-то пьесе, скажем, Оскара Уайлда. Но это было правилом: капитан называл всех судовых «офицеров» по фамилии с прибавлением «мистер», а они должны были соблюдать свой речевой этикет.
— Да, против течения выгрести здесь непросто, — подтвердил Форбс. — А тут есть шанс попасть в Лолингве бесплатно, купить там оптом товар и продавать его по пути в розницу, спускаясь по течению. Но другие занимались торговлей прямо на ходу. Они продавали пассажирам еду прямо из лодок: сушеную рыбу, копченое обезьянье мясо и еще копченых молодых крокодилов. И фрукты, конечно. Другие закупали ящиками в баре пиво, чтобы продавать его на берегу, а потом на лодках привозили сдавать пустую посуду. Я эту практику не пробовал запрещать, хотя власти пытались. И не только идя навстречу туземцам.
Комлев посмотрел на капитана вопросительно. Какие у него были еще причины?
— Элементарная осторожность, мистер Комлев, — сказал он с легкой назидательностью. — Не следует забывать, что это Африка. Из зарослей какого-нибудь острова или с близкого берега в темноте могут пустить несколько отравленных стрел. Здешние племена до сих пор ими пользуются. Ружье стоит дорого, нужно тратиться на заряды, а выстрел распугивает дичь и привлекает внимание егеря, что, впрочем, мало вероятно. А лук с отравленными стрелами — бесшумное, дешевое и надежное оружие.
Капитан посмотрел вперед, где в поредевших зарослях на правом берегу блеснула пара жестяных крыш.
— Впереди Нтембе — наша первая пристань вниз по течению. Предлагаю произвести подход к причалу и швартовку. Инерция у «Лоалы» большая, плюс течение. Небольшой ветер с берега. Если вы пока не сильны в языке лулими, мистер Комлев, рулевому можно давать команды на английском.
— Я понял, сэр, — стараясь, чтобы голос звучал со спокойной и даже преувеличенной уверенностью, сказал Комлев, отметая сомнения, как плывущий в сорной воде, раздвигает ладонями все, что попадается на пути.
— Так вот, я не договорил об этой самой барже, — с подчеркнутой обстоятельностью продолжал капитан. — После независимости новые власти решили, что перевозка на барже пассажиров, а там были, кстати, самые дешевые билеты, — унижает достоинство африканца и является наследием колониального прошлого. Баржа была продана, и я поставил на трубчатых стойках широкий крытый навес над частью палубы на корме, куда въезжают автомашины. Получилось дополнительное помещение для палубных пассажиров.
Комлеву приходилось швартоваться множество раз, но он давно уже убедился в откровенной неповторимости ситуации, когда это происходит. А сейчас для него был особый случай: незнакомые судно и река. Причальная стенка была невысокой и не очень длинной. Она составляла примерно полторы длины «Лоалы». В самом ее конце стояла большая моторная лодка без палубы, в нее грузили какие-то ящики. Она далеко, и мне не помешает, если рано остановить машину, решил Комлев. Краем глаза он заметил на левом крыле мостика второго помощника и поодаль третьего, единственного африканца из всех помощников капитана. «Итак, зрители уже на своих местах, — без удовольствия отметил Комлев. — Вполне здоровое любопытство». Он знал, что за его действиями будут наблюдать.
Комлев подводил громоздкую «Лоалу» без всякой лихости, а осторожно, следуя классическим образцам. Заранее сбавил ход до самого малого, зная, что течение и так тащит пароход вперед. Знал он также, что на малом ходу и идя по течению, судно плохо слушается руля.
Комлев указал направление рулевому, чтобы подойти к стенке под острым углом. Даже куда править, ему указал: на пестро разрисованный автобус, явно переделанный из грузовика. Ветер был отжимной, хотя и слабый. При подходе к стенке под таким углом нос судна должен к ней приблизиться, чтобы с него был подан швартов прямо так, без бросательного конца.
Капитан глянул на левое крыло мостика, оценил ситуацию и сразу зрителей превратил в участников действия.
— Мистер Оливейра и мистер Нкими, — негромко, но отчетливо окликнул их Форбс. — Не откажите в любезности проследить за швартовкой на носу и корме соответственно.
«Молодец, старик», — мысленно одобрил капитана Комлев. Он видел на баке коренастого матроса в линялой синей робе, который уже был готов подать швартов. Кажется, это был у них боцман. Комлев пока хорошо запомнил только рулевых. Два других матроса стояли там же и выжидательно смотрели на мостик.
— Немного левее, — Комлев напомнил рулевому, и тот сказал что-то в ответ на лулими, кажется подтверждая команду. Впрочем, рулевой и сам знал, что ему надлежит делать. — Руль прямо. Так держать.
Команду «стоп» в машину он дал еще до этого и знал, что хорошей управляемости теперь ждать не приходилось. Комлев почувствовал слабый удар, и судно прижалось к стенке скулой. Удар был смягчен старыми автомобильными покрышками, которые были щедро развешаны вдоль бортов «Лоалы». Они были предусмотрительно выкрашены в белый цвет, чтобы не оскорблять взгляд зрителя рядом черных нулей вдоль всего белого борта.
Швартов был подан на стенку с обезьяньей ловкостью и тотчас же наброшен на тумбу скалящими зубы пристанскими матросами. Видимо, они уже перебрасывались шутками с командой «Лоалы». Комлев глянул назад успокоенно увидел, что корма парохода была всего в двух метрах от причала, и на него уже полетел бросательный конец. Теперь дело осталось за швартовщиками. А он судно к причальной стенке подвел. Комлеву показалось, что капитан посмотрел на него вполне одобрительно.
Капитан Форбс, как бывший военный моряк, за все годы своего капитанства на «Лоале» не держал среди персонала ни одной женщины.
— На моем судне я предпочитаю видеть женщин только в качестве пассажиров, — заявлял он в ответ на все попытки внедрить в два корабельных бара девушек официанток из города. На «Лоале» был еще и ресторан, но там традиционно работали, как и во всех ресторанах в Бонгу, только мужчины. А вот в барах еще с колониальных времен было принято держать привлекательных подавальщиц напитков в качестве недвусмысленной эротической приманки для клиентов мужчин. Владельцы баров исправно платили свой процент в кассу судна и давно уже пытались прельстить Форбса соблазнительными возможностями увеличения доходов в том случае, если по залам баров начнут порхать верткие бестии в коротких юбчонках, разнося по столикам холодное пиво и кое-что покрепче с добавлением сока и кубиков льда.
— Не хочу, чтобы «Лоала» стала плавучим борделем, — нелюбезно заявлял капитан совратителям. — Вот когда меня здесь не будет, а этот час неумолимо приближается, делайте, что хотите.
Но однажды на судно явилась жена премьер-министра, которая была еще и председателем организации «Свободные женщины Бонгу». Она пустила в ход все свое обаяние с добавлением политической демагогии, прося Форбса содействовать трудоустройству городских девушек на его судне.
На капитана не действовало ни обаяние, ни демагогия, но перечить долго властям было неразумно: колониальная эпоха ушла в прошлое. Он плюнул и согласился принять первую смену официанток — кофейного цвета прелестниц с выпрямленными химическим способом волосами. А те, которые не покушались на естественную курчавость своих волос, носили входящие тогда в моду вычурной формы цветные тюрбаны.
Еще в первый день на идущем вниз по реке судне, когда солнце склонялось к западу и ушло за огромное облако, Комлев, стоя на мостике, обратил внимание на поющих и приплясывающих на баке судна пассажиров, одетых как деревенские жители. Их сменяли такие же певцы и танцоры из команды, кто-то стучал в небольшой тамтам. Эти вокально-танцевальные номера заинтересовали Комлева, и он выразил капитану сожаление, что он не только не знает, о чем они поют, но даже на каком языке.
— Они поют на речном диалекте лулими. Его знают все, живущие вдоль реки и на южном берегу озера Кигве, — охотно просветил его Форбс, когда они рядом стояли на мостике. — А поют они о том, как провели день в городе, что купили и как они с выгодой продадут это в отдаленных деревнях. И еще как ходили к какому-то начальнику, который толстый, как бегемот, но он их не принял.
— А матросы, видимо, поют о чем-то другом?
— Конечно. О том, как прошел день на судне. Они и вас упоминали, мистер Комлев.
Форбс усмехнулся и пыхнул ароматным дымом в его сторону.
— Не понимаю, чем я удостоился их внимания, — с досадливым недоумением отозвался Комлев. Он почему-то сразу решил, что команда будет нелестного мнения о его персоне.
— Они пели, что на судне появился новый белый человек, который плохо говорит на лулими, а это значит, что он в Бонгу недавно. Форбиси, то есть я, позволяет ему вести судно, но глаз с него не спускает. Ну, там еще всякая чушь обо мне: что у меня глаз, как у хамелеона и может смотреть даже назад. А о вас вот еще что: этот новый белый не курит, поэтому просить у него сигарету — пустая затея. Сегодня к нему, то есть к вам, мистер Комлев, заходила одна «нтокази» — так они называют девушек из бара, но быстро вышла. Значит, он ее у себя не оставил.
Комлева слегка бросило в жар, а Форбс смотрел на него с насмешливым прищуром, но без всякого осуждения.
Действительно, все это было. Одна из официанток заходила в его каюту, спрашивая спичек. Комлев уже два года не курил, но спички по привычке у себя держал. Ему подумалось, что спички был только предлог для прихода к нему этой нтокази. И что может за этим последовать?
— Она искала огня для сигареты, сэр. Я ее и не думал приглашать.
— Ладно, можете не оправдываться. Я здесь капитан, но не блюститель нравственности. В следующий раз не отпускайте ее слишком быстро, а то всех разочаруете. Некоторые даже подумают, что вы расист и отвергаете ее из-за цвета кожи.
Было непонятно, шутит капитан или действительно дает советы?
В том, что официантка заходила к нему с умыслом, сомнений было все меньше. Но с каким? Она назвалась Нолиной и тотчас же села подчеркнуто близко к Комлеву, выставив против него круглые и гладкие коленки цвета отполированного орехового дерева. Прикурив сигарету, она уходить явно не спешила. Было также заметно, что курит она неумело и на курильщицу совсем не похожа. От нее, впрочем, тянуло табачным дымом, но это, скорее, объяснялось долгим пребыванием в прокуренном баре. От нее еще попахивало спиртным и духами со странным резким запахом. Комлев вдруг с какой-то неловкой растерянностью нашел, что она привлекательна и, кажется, доступна, даже пугающе доступна, и это его не на шутку встревожило. «Ерунда какая-то получается, — сердился он на себя. — Придется быть начеку». Надо сказать, что работая в своем отечестве на пассажирских и других судах, Комлев принципиально не позволял себе шашней с официантками и буфетчицами. «Если они являются по отношению к тебе хотя бы косвенно подчиненными, — без тени ханжества рассуждал он, — старайся вести себя на работе безупречно. Иначе это будет похоже на использование своего служебного положения».
Капитан предложил ему отдохнуть, а с полуночи присоединиться к нему на время его вахты, чтобы ознакомиться с условиями ночного плавания по реке.
— Я застал еще времена, когда бегемоты переплывали реку и надо было смотреть в оба. Впрочем, делали они это редко. У каждой семьи есть своя территория, и они ее охраняют. Охота на бегемотов давно запрещена, но туземцы их все равно убивают. Так что встретиться с ними на реке удается теперь не часто из-за того, что их просто мало. Крокодилов тоже стало меньше, но мне их не очень жаль.
— А как на реке с плавающими бревнами? — поинтересовался Комлев. Он знал, что для колесного парохода это враг номер один.
— Случаются, хотя, к счастью, не часто. Когда не очень темно, а бревно или ствол дерева выступает над водой, удается отвернуть. Колесные плицы у нас из крепких досок, но и они ломаются. Заменой их занимается машинная команда и, конечно, без большого желания. Она считает, что по-ломка плиц происходит по виде судоводителей, и во многом это так. А мне приходится удлинять время стоянки, чтобы произвести ремонт колес, хотя никто не любит терять светлое время на стояние у причала, а потом двигаться в темноте. И рушится, конечно, расписание. Поэтому я не устаю напоминать своим помощникам: «Джентльмены, берегите гребные колеса. Благодаря им мы и передвигаемся по воде».
Комлев побывал в машинном отделении «Лоалы» сразу после ее выхода в рейс и тут же вспомнил свою первую летнюю практику в училище на пароходе «19-й партсъезд». Капитан, старый, как и сам пароход, держался с мрачноватым достоинством хранителя древних, но не ценимых современниками реликвий, который к тому же подозревает, что посетители смеются над ним за его спиной.
— Я думаю, что вы видите последний пароход на плаву, молодые люди, — говорил он в первый день прихода курсантов. — Предлагаю хорошо запомнить все, что вы на нем увидите. Своим молодым подчиненным вы тогда сможете хотя бы рассказать, как работает паровая машина.
Капитан был одет со старомодной флотской элегантностью и, кажется, ничуть не завидовал им, молодым, дерзким и раскованным, которым все еще казалось, что жизнь впереди такая длинная, что сама ее обнадеживающая протяженность во времени как бы зачеркивает пугающую возможность ее конца. Комлев помнил себя таким же молодым дураком, как и большинство его товарищей, но пароход тогда его заинтересовал своей уходящей в историю жизнью. Практикантам показывали работающую паровую машину и это было похоже на путешествие в эпоху Уатта и Ползунова. Мало что изменилось с восемнадцатого века: два огромных цилиндра, неспешное движение поршня, угрюмо-покорное вращение тяжелого маховика.
С тех пор Комлев плавал только на дизельных судах и, если это были пассажирские, не очень-то любил заходить в машинное отделение. Только если нужно было поговорить с механиком или с одним из его помощников. Там всегда стоял стук и даже иногда грохот, на верху блока цилиндров нервозно дергались клапаны со своими пружинами и все, связанное с этим блоком, сотрясалось, а прочее просто дрожало мелкой дрожью.
В машинном отделении «Лоалы» было не намного жарче, чем на палубе где-нибудь в тени. Шум от работы машины разговаривать не мешал. Толстый, маслянистый шток поршня двигался с суровой прямолинейностью из цилиндра и обратно. Эта торжественная размеренность его движений, дающих ход массивным шатуну и кривошипу, действовала на зрителя гипнотически. Механик Рамгулам Шастри, с седоватыми усами, слегка закрученными на кончиках, сидел в своем углу в чистой синей робе и что-то писал в машинном журнале на узком железном столике. Два темнокожих машиниста ходили вдоль работающей машины и то подливали что-то из масленки, то зажимали потуже сальник.
Комлеву во время его первой производственной практики рассказывал по секрету один из машинистов, как они на вахте разыгрывали не очень любимого механика. Кто-то из машинистов, затаившись за каким-нибудь механизмом, в такт работы поршня ударял большим разводным ключом по металлу. Получался подозрительный и даже зловещий сдвоенный звук, говоривший о том, что где-то ослабло крепление или отвалилась гайка и теперь какая-то деталь почти бесхозно болтается, не участвуя в общей работе.
Механик мысленно перебирал в голове все возможные варианты поломок, а определив место, откуда шел стук, начинал пробираться по машинному отделению в нужном направлении. Великовозрастный озорник машинист на время затихал, потом на карачках незаметно протискивался в другой угол и продолжал свою злодейскую практику. Механик, озадаченно матерясь, шел теперь к новому месту стука. Машинист прекращал свою деятельность только под угрозой полного разоблачения, а механик делал записи в журнал о странных стуках на своей вахте и собирался опросить по этому поводу всех своих помощников.
Комлев подумал о том, что будь он моложе и легкомысленнее, он бы посоветовал здешним машинистам разыграть подобным образом помощников механика — Хабиба или Лунгиро, а то и самого Шастри с его усами индийского раджи из заурядного кинофильма.
Еще за первым обедом в столовой офицеров судна (так было принято называть здесь весь командный состав) капитан Форбс представил Комлева всем присутствующим. Те, кто были на вахте, приходили, когда их кто-нибудь подменял. Форбс следил, чтобы все были одеты по форме, и Комлев сразу же вспомнил своего последнего капитана Сивковского. Днем это была белая рубашка-короткорукавка с черными погонами, белые шорты и гольфы, черные туфли и, разумеется, фуражка с эмблемой и белым чехлом. Полный комплект этого великолепия Комлев получил из кладовой судна по распоряжению капитана, который сопроводил его таким замечанием:
— Стоимость всей униформы будет вычитаться из жалования.
Поймав вопросительный взгляд Комлева, капитан многозначительно добавил, глядя на него оценивающе:
— Когда оно будет назначено и начнет выплачиваться.
Из чего Комлев с обнадеживающей ясностью заключил, что его стажировка на судне может иметь свое логическое завершение в виде зачисления его на штатную должность. Это его радовало и пугало одновременно. Справится ли?
Поселили его в каюту старпома, а это могло означать, что Палмер на судно не вернется. Но свободна ли теперь должность старпома?
Во время знакомства Комлева с судовыми офицерами он изо всех сил старался запомнить фамилии всех, кого называл капитан, хотя понимал, что это для него почти непосильная задача. Он и русские-то фамилии, услышанные при первом знакомстве, запоминал с большим трудом. Но первую названную фамилию он запомнил сразу.
— Это мистер Оливейра, — звучал чуть надтреснутый капитанский баритон, — а полностью Жуан де Оливейра, мой второй помощник.
Оливково-смуглый Оливейра, с кудрявыми и блестящими, словно масляными волосами, был из тех коренных жителей Гоа, покинувших ее, когда она перестала быть португальской колонией. Однажды ее просто захватили индийские войска. За четыреста пятьдесят лет португальского правления многие гоанцы, в том числе и Оливейра, оказались с некоторой примесью европейской крови, стали ревностными католиками, а дома говорили по-португальски. Сам Оливейра давал понять, что носил звучную фамилию не случайно, и она действительно принадлежала его далекому родоначальнику, следов которого в родословной второго помощника не смог бы отыскать и опытный историк-архивист.
В дальнейшем Комлев больше узнал о манерах и привычках капитана Форбса. Всем судовым офицерам он неукоснительно говорил «мистер такой-то» и в ответ ему говорили «сэр». Но когда Форбс был кем-то недоволен, это слово звучало у него не раз в разговоре с распекаемым подчиненным. Так, он мог сказать, совершенно не повышая голоса:
— Впредь старайтесь включать вовремя все ходовые огни на судне, сэр! И учтите, я последний раз об этом напоминаю, сэр.
А к Оливейре он обращался в некоторых случаях даже по-португальски. Так, если бывший гоанец упрямился и настаивал на своем, капитан ядовито спрашивал своего второго помощника:
— Комприэнде инглэш, синьор? (Вы понимаете по-английски?)
— Син, комприэнду муйту бэн, синьор капитан (Да, понимаю очень хорошо) — поспешно подтверждал Оливейра, чувствуя, что где-то перегнул палку и теперь надо «отработать» назад.
Но в минуты благодушия Форбс выказывал свое расположение к нему так:
— Кому эшта у синьор? (Как поживает сеньор?)
— Муйту обригаду (Большое спасибо), — отвечал Оливейра.
— Шама-мэ а сэйш ореш (Разбудите меня в шесть часов).
Так говорилось в том случае, когда капитан должен был сменить Оливейру на мостике, а сам собирался прилечь перед вахтой.
Третьим помощником капитана был черный мистер Нкими, а пассажирами ведал другой африканец — пожилой, лысоватый и, кажется, очень хитрый Масуку. В его руках находились все билеты, продаваемые во время рейса, так как некоторых пассажиров принимали почти на ходу прямо из лодок. Он работал с Форбсом уже давно и, видимо, ему вполне доверял.
Механик Шастри и его помощники пакистанец Хабиб и Лунгеро, откуда-то из Кении или Уганды, представляли собой «нижнюю» команду.
Комлев не знал многого о командном составе «Лоалы». А дело было в том, что единственным хорошим судоводителем после себя Форбс считал своего старпома Палмера. Именно они оба и стояли, в основном, все ночные ходовые вахты. Оливейра не отличался внимательностью и был рассеян. Нкими хоть и был старателен и честолюбив, мечтая сам о капитанской должности лет через семь — восемь (срок этот ему приходилось все время неохотно удлинять), но страдал неопытностью и слабо вырабатывал у себя судоводительскую интуицию. Форбс подозревал, что с рулевыми Нкими ладил плохо. И это было действительно так, потому что они знали себе цену и возражали против начальственного тона, которым злоупотреблял в разговоре с ними третий помощник. Однажды на стоянке они собрались все трое в каюте у Мбизи, старшего рулевого, кстати и старшего по возрасту. Он тогда и сказал:
— Белых людей мы знаем. Что у них хорошее и что плохое, нам известно давно. Но когда черный человек старается вести себя как белый, он во много раз его хуже. Потому что он берет от белого только плохое. А все знают, что вода и огонь в спор не вступают.
— От пальмового вина, которое пьют другие, не захмелеешь, — рассудительно, хотя и очень туманно, заметил Лугья, другой рулевой.
А Мбизи подвел итог беседе, приведя еще одну пословицу:
— Летучая мышь не птица, хоть и умеет летать.
Лишь третий рулевой Ньоси ничего тогда не сказал, хотя и знал, что молчание — это тоже речь, и за нее иногда приходится отвечать.
Форбс понимал, что Палмер уже на мостик не вернется, а его самого власти все равно вынудят продать пароход. Он даже слышал о том, что для «Лоалы» уже есть кандидатура на должность капитана. Конечно, он африканец, на меньшее власти бы не согласились. Форбс, зная всех здешних судоводителей, не припомнил ни одного, кто мог бы соответствовать этой должности. Для себя он уже все решил, и очень кстати подвернулся этот молодой русский с судоводительской жилкой. Значит, «Лоала» еще поплавает.
А в это время у Мфумо произошла встреча с теми, с кем ему ни за что не хотелось бы встречаться. Как известно, дерево не падает на того, кого в это время нет на месте его падения. Помня эту присказку, Мфумо даже старался подолгу не задерживаться в тех местах, о которых другие знали, что он там бывает. Домой же он старался приходить поздно, а уходить рано. Но однажды он утром задержался дома: ему хотелось дописать один газетный материал. Мфумо полагался на пословицу, согласно которой зверь и охотник ходят разными тропами, и еще на другую, которая гласит, что зверь не покидает свое логово в тот день, когда охотник уже наточил на него копье. Но на этот раз интуиция его подвела.
Мфумо не мог понять, почему все, с кем он работал в закрытой властями после президентских выборов газете, нашли себе место работы, а для него нигде не нашлось штатной должности. Он знал, что некоторые считали его «африканским Оводом». Мфумо когда-то читал знаменитый роман, но думал, что такого лестного мнения о себе, как о неустрашимом журналисте с острым жалом-пером, он явно не заслуживал. В последнее время он стал слишком, даже постыдно, осторожен. Местные люди говорят, что та коза, которая блеет громко, сама ищет встречи с леопардом. И еще они говорят, что птица может забыть о ловушке, но ловушка о ней не забыла.
Хотя его и не приглашала в штат ни одна редакция, работу ему иногда давали. Так как позвонить ему было невозможно, в район бедноты Мусомбе, где он жил, приезжал на казенном велосипеде редакционный рассыльный с письмом. Если Мфумо он дома не заставал, что чаще и случалось, письмо отдавал хозяйке или ее служанке для передачи постояльцу. Недавно у Мфумо даже была небольшая командировка в уезд Ндендва, куда он отправился на местном автобусе, а потом еще ехал на попутном грузовике. На окраине деревни, где он должен был побывать, его остановил полицейский патруль и долго, с хмурым вниманием, изучал документы и его редакционное удостоверение. Еще полицейских, видимо, очень интересовала его племенная принадлежность, и они вглядывались в него, желая высмотреть признаки враждующих в этих местах племен нвангела и мби. Ночевал он в глинобитном доме для приезжих чиновников, крытом белой жестью. Когда стемнело, в его комнату поскреблась, как кошка, и вошла местная горничная в коротком темном платье, с красной косынкой на голове, и не говоря ни слова, прижалась к нему, призывно заглядывая в глаза. Мфумо покачал головой с мягкой неуступчивостью, подвел ее к двери и выпроводил в узкий коридор, сунув ей в кармашек платья плитку шоколада, небольшой запас которого он всегда держал при себе, выезжая из города в провинцию.
И вот, вернувшись в Лилонгве, он теперь сидел дома за машинкой и думал до обеда закончить свой репортаж. Ему казалось, что все получается у него сухо и бесцветно, и все оттого, что он боялся написать лишнее. В то же время он считая, что должен написать обо всем, что узнал. Начиналось у него так: «Нападение на деревню Итете, где проживали представители племени нвангела, было совершено на рассвете группой „молодых воинов“, как они себя называли, из соседнего племени мби. Они были вооружены старыми ружьями, ножами-мачете и копьями. Стреляя из своих ружей в воздух, они ворвались в дом местного вождя, вывели его на улицу и тут же обезглавили. После того как деревня пробудилась в панике, молодые убийцы, среди которых узнали нескольких учеников-старшеклассников из соседней школы, устроили настоящую охоту за наиболее видными людьми этого большого селения. В одном доме было убито пять человек, включая двух детей; я видел их разбрызганную по стенам кровь. Начальник уезда подтвердил гибель 32-х человек. Эта кровавая акция была, видимо, местью за убийство две недели назад традиционного правителя племени мби в деревне, где в основном проживали представители этого племени. Среди более чем сотни убитых оказались и люди из других племен, убитые по ошибке. Все убийцы были из племени нвангела. Этот порочный круг насилия разорвать пока не удается, но в уезд стянуты крупные полицейские силы, ведутся поиски и аресты подозреваемых».
Мфумо убрал пальцы с клавишей машинки и посмотрел в окно, не зная, что писать дальше. За окном служанка домохозяйки развешивала на кустах выстиранную одежду. Мысли у Мфумо метались в голове, как летучие мыши в пещере, куда кто-то вошел с факелом. Известно, что у всего есть своя причина. Здесь иногда говорят: никто не бегает среди колючего кустарника просто так. Либо он гонится за змеей, либо змея за ним. Одна из причин кровавой драмы была очевидна, и пальцы Мфумо вновь проворно забегали по клавишам: «То, что вызвало кровавые столкновения в Ндендве, следует искать в давнишней борьбе между теми, кто считает себя коренными жителями, и теми, кого они считают пришлыми. Вот что мне сказал староста соседней с Итете деревни: „Мы уже не в силах выносить этих мби. Когда я был еще ребенком, в нашей деревне их не было ни одного. А теперь они говорят, что это их земля“».
Мфумо снова посмотрел в окно, словно ждал оттуда подсказки, которая позволила бы ему указать на способ разрешения всех этих разногласий. Он знал, что в Африке всегда жила межплеменная рознь, которая часто сопровождалась кровопролитием. В колониальное время побаивались сразу пускать в ход копья для выяснения межплеменных отношений, потому что обычно посылалась военная экспедиция, и нигерийские стрелки, которых здесь постоянно держали, огнем пулеметов рассеивали обе враждующие стороны, а иногда сжигали их деревни, уничтожали посевы, а вождей племен увозили в наручниках. Память о такой экспедиции жила иногда на протяжении целого поколения, и этого было достаточно для сохранения мира. После независимости все подобные распри вспыхнули с прежней силой. Новые правители сами иногда были связаны с враждующими племенами и не могли быть беспристрастными. А чаще они были больше заняты борьбой за власть в стране и ее последующим удержанием как можно дольше, чем наведением порядка в той или иной провинции, где снова лилась кровь.
То, о чем мировая печать писала как о «межэтнических конфликтах», Мфумо хорошо знал, как и о том, что эти самые конфликты далеко не редкость и в тех странах, где живут белые люди, принесшие в Африку цивилизацию и прогресс. Он не раз читал о том, что происходило в бывшей Югославии и в бывшем Советском Союзе, и, конечно, в библейской «земле обетованной». Некоторые факты даже напрашивались для сравнения с тем, о чем он теперь писал. Так, албанцы, выходцы из соседней страны, постепенно увеличивали свое присутствие в области Косово, вытесняя местное сербское население. Израильтяне на том основании, что они явились сюда востребовать свои земли после тысячелетнего отсутствия теснили палестинцев. Все это говорило о том, что белые люди не намного умнее черных, если ведут себя, как тутси и хуту в Руанде или эти самые нвангеле и мби, о которых он завтра он должен дать материал в газету.
Когда Мфумо в очередной раз глянул на окно, его сердце почему-то екнуло, хотя прямой угрозы себе он пока ни в чем не усмотрел. Он лишь увидел, что во дворе остановился ничем не приметный и запыленный автомобиль, и из него вышли двое. Они были одеты так, что ничто не бросалось в глаза, и сама одежда была, словно у братьев-близнецов. Почти одинаковые рубашки с короткими рукавами, брюки цвета сырого бетона и еще темные очки. Мфумо сразу с тревожным неудовольствием решил, что эта неприятная с самого начала парочка направится к нему. И не удивился, услышав вкрадчивый стук в дверь. Вместе с их темными очками этот стук говорил о том, что они не намерены были афишировать свое появление и присутствие.
— Мистер Мутеми, у нас мало времени, поэтому наш разговор пойдет только о главном.
Поздоровались они не по-африкански кратко, здесь же принято долго справляться о здоровье и положении дел. Видимо, они и в самом деле спешили. В доме они сняли очки, которые делали их еще более похожими друг на друга, и теперь этого сходства немного поубавилось. Говорил тот, кто был, кажется, постарше и у кого был блестящий шрам под глазом. У обоих были нездешние лица, более темная кожа, чем у тех, кто живет на правом берегу Мфолонго, и небольшие глубоко посаженные глаза. Мфумо отметил, что похожие на этих двоих живут на северном побережье озера Кигве. В прошлом воинственные племена, из числа которых англичане когда-то любили вербовать мужчин для службы в армии и полиции. Мфумо мало сомневался в том, что оба они армейские офицеры. Даже сержанты редко говорят по-английски.
— Наш разговор должен остаться тайной, — сказал другой, с подчеркнутой значительностью оглянувшись на дверь, блеснув при этом белками глаз.
— Молчание — тоже речь, — ответил на это Мфумо пословицей. — У меня, знаете, тоже мало времени, и ко мне должен явиться рассыльный за материалом для газеты.
Пришельцы чуть заметно переглянулись. Видимо, им не хотелось встречаться с кем бы то ни было.
— Ладно, — сказал тот, кто был со шрамом. — В жизни часто приходится за кем-то гнаться и от кого-то прятаться. Лев преследует зебру, а в это время его ждет в кустах охотник.
И перейдя на лулими, сказал с неуклюжей, даже грубоватой прямотой:
— Мфумо, мы все о тебе знаем, и нам нужно, чтобы ты нам помог в нашем деле. Кто мы, ты должен уже догадаться. Ты будешь писать для нас, и мы тебя сделаем большим человеком.
Второй сказал на английском и слегка усмехнувшись, что пост министра информации его уже ожидает. Они давно наблюдают за ним, знают, о чем и как он пишет, и также о том, что власти его не жалуют.
Мфумо теперь не сомневался, с кем имеет дело, и с насмешливой уклончивостью заметил:
— Я не слышал, чтобы министр информации собирался покинуть свой пост. А разве надевают шапку на колено, если есть для этого голова? Так у нас говорят в таких случаях.
— Будет создано новое правительство. Страну ждут неслыханные перемены.
— Почему я вам должен верить, джентльмены? — спросил по-английски Мфумо. — А вдруг вы из тайной полиции и просто проверяете мою лояльность?
Тот, который обещал Мфумо пост министра, быстро глянул на того, что со шрамом, и тот ему слегка кивнул. Тогда он вынул из кармана зеленую книжечку и раскрыл ее перед Мфумо. На фотографии владелец документа был уже в военной форме и с капитанскими отличиями. Его звали Ндокпе — имя явно нездешнее. Как звали другого, видимо, старшего из этой пары, Мфумо на этот раз не узнал.
Они обещали ему тайное место работы с жильем и хорошее содержание. От него требовалось только то, что он умел делать хорошо: писать. Конечно, на заданную тему. Листовки, воззвания для распространения и статьи для тех газет, где их людям удастся затем эти статьи пристроить. Мфумо вспомнилась поговорка, где мышь говорила: «Если уж умирать, так лучше в яме, где хранится зерно». Но хотя нынешний режим любви к себе у Мфумо никак не вызывал, таким, как этот Ндокпе, он нисколько не верил. И кому такие, как он и его сослуживец, расчистят путь к власти, не может сказать никто. Недаром здесь говорят: нору себе роет дикобраз, а живет в ней кабан-бородавочник.
— Мне надо подумать, — искусно имитируя трудность принятия решений, сказал Мфумо, давно для себя все решивший. — Разве продают слоновые бивни до того, как слон будет убит?
— Мы согласны дать тебе неделю, нет, пять дней, — жестко сказал тот, что со шрамом, которому не понравилось сказанное Мфумо о неубитом слоне.
На этом их разговор и окончился.
Мфумо снова сел к машинке, оставалось уже не так много работы. К появлению рассыльного ему хотелось все закончить. Но это оказалось непросто. Он печатал одно, а в голову лезли другие, непрошеные, мысли, словно назойливые мухи, которых хочется иногда выгнать их комнаты, размахивая полотенцем. Мир в этой стране кончается. Кажется, и двух месяцев не прошло с тех пор, как слышалась стрельба. Но тогда это происходило только в столице. А теперь, если в армии вспыхнет мятеж, пламя может охватить всю страну. Так в сухой сезон с грозным весельем пылает пожелтевшая высокая трава саванны, и из нее с безумными от страха глазами выскакивает все живое. Даже гепард, который лежал в ней, затаившись и наблюдая за антилопой, теперь мчится рядом с ней, спасаясь от неожиданной напасти. Мятеж в центре и безвластие по всей стране сразу развяжут руки всем, кто не до конца выяснил отношения с соседями из-за полевых угодий и пастбищ или о чем сейчас пишет Мфумо для газеты. Но тогда об этом уже никто и писать не будет. Если газеты и будут выходить, то все заслонят сообщения о продвижении войск и тех, кто препятствует этому продвижению. ООН выразит серьезную озабоченность, а Британское Содружество решит прислать в Лилонгве десантников из Англии, чтобы взять под свою защиту белое население столицы. И это будет далеко не худшим вариантом.
Что он будет делать сам, Мфумо решил, еще когда эти двое переступили порог его комнаты. Он просто исчезнет надолго из города и заберется в такую глушь, куда эти будущие вершители судеб Бонгу едва ли сумеют проникнуть. У него еще есть время. Дня через два должна вернуться «Лоала» из рейса, и он ее встретит, чтобы увидеться с Комлевым. Можно ли ему намекнуть на то, что скоро может произойти? В общих чертах можно. Мфумо скажет, как с ним связаться, если возникнет что-либо неотложное. Хорошо бы раздобыть мобильный телефон. А связь возможна только через Нанди. Она верный товарищ, да еще и подруга его жены. У себя в газете она, кажется, на хорошем счету.
Наконец он закончил печатать и вынул лист из машинки. Концовка получилась какая-то вялая, но менять уже ничего не хотелось. Визит тех двоих не прошел бесследно, и это отразилось на тексте. У него была там фраза о том, что некоторые правители в африканских странах для удержания своей власти не брезгуют использовать межплеменные столкновения. Скорее всего, эту фразу вычеркнут — ну и пусть. Иногда он нарочно вписывал такие, отчасти провокационные, фразы, чтобы редактор, увлеченный их вычеркиванием, пропускал другие его высказывания подобного рода, но лучше замаскированные и не так бросающиеся в глаза.
Как живет его страна? Ему казалось, что газетам нужны только сенсации, а серьезный анализ вызывает у них пугливое раздражение. Мфумо был уверен, что население, особенно вдали от всяких административных центров, живет так, как жило много десятилетий назад, то есть по старым законам традиционного общества. Народ не сопротивляется, он лишь приспосабливается ко всем переменам и особенности своего бытия даже и не пытается осознать. А осознают его только те, кто принадлежит к тонкой прослойке интеллектуалов Бонгу, но и они только созерцают происходящее, не пытаясь как-то повлиять печатным словом на жизнь страны. Впрочем, никто им и не даст этого сделать. Выражать свое мнение еще пока можно, но власть имущие им не интересуются. А все эти «мыслители» работают преимущественно мелкими чиновниками, учителями, кое-кто числится в редакции той или иной столичной газеты и еще провинциальных газет.
Мфумо как-то прочел в одном английском журнале, кажется в «Экономисте», что независимая Африка давно потеряла интерес к тому, как и почему развивается остальной мир. Она безнадежно утратила дух соревновательности и желание наверстать упущенное за годы и столетия. А что он, Мфумо, знал об этом самом внешнем мире? Он узнавал о нем кое-что из газет, радио и редких разговоров с приезжающими в Бонгу людьми с других континентов. И он получал самые противоречивые сведения. Однажды, совсем недавно, они с Комлевым шли по одной улице, где всегда наблюдалось большое скопление нищих. Среди них были не только безнадежные калеки-прокаженные, которые с расчетливым смирением предъявляли свои обезображенные части тела, словно удостоверения, подтверждающие их право на милосердие, — но и вполне работоспособные на вид люди. Это были те, которым не находилось работы, либо они уже устали ее искать. Мфумо бывал в разных уголках страны и знал, что таких вот людей собирает лишь большой город, где каждый отстаивает свое право на жизнь. В деревне для каждого, даже калеки, находится занятие, дающее пропитание. Если он не оторвался от своего племени, общины, ему не дадут пропасть. Крокодил в воде не захлебнется, так говорят о своей, привычной среде. Там, на этой улице, полной попрошаек, Комлев тогда глянул на него с усмешкой и сказал:
— Я сейчас попробую угадать, о чем бы ты хотел спросить, Мфумо. Ну, о том, есть ли в моей стране нищие, например. И я честно скажу, что есть, и порой кажется, что их могло бы быть и поменьше.
Мфумо тогда смущенно хохотнул, но признался, что белый нищий для большинства африканцев это так же странно, как папайя, на которой растут плоды, скажем, манго.
— Те, кто побывал в Европе или в Америке, об этом рассказывали, — с растерянной неловкостью признался Мфумо. — В Африке ведь привыкли видеть один тип белого, из примерно одного социального слоя. А о России я знаю сейчас только то, что там строй социализма заменили на что-то ему противоположное. Это, между прочим, отозвалось и в Африке. Те страны, которые получали помощь от вас в обмен на социалистическую ориентацию, теперь меняют свою внутреннюю политику. И за учебу у вас теперь африканским студентам приходится платить.
Они сидели на веранде небольшого бара, куда слуга у входа не пропускал попрошаек, чтобы они не бродили между столиками с протянутой рукой.
Комлев тогда кратко, словно с нелюбимой и надоевшей темой лекции, рассказал ему о том, как он понимает происходящее в своей стране. Он сравнил ее с кораблем, который давно нуждался в хорошем ремонте и в грамотном капитане, но мог бы еще плавать кое-как довольно долго. Ведь ремонт отдельных его частей, систем, механизмов, да еще поспешный и неумелый, мог бы ему не помочь, а даже и навредить. Замедлилась бы скорость, ухудшилась управляемость, открылись бы новые течи в трюме. Реформы в стране во многом напоминали такой вот ремонт. Для начала открыли границы для беспредельного ввоза товаров извне, благо сразу нашлись такие, кто с азартом картежника ринулся в это беспроигрышное дело. Товаров скоро в стране стало так много, что недостатка в них никто уже не ощущал, теперь ощущали только нехватку денег. Но только что открытая торговая дорога была только с односторонним движением. Товары шли свободно извне, для экспорта из России давно уже были установлены надежные барьеры. «Вы покупайте наше, — говорили те, кто стоял позади барьеров, — а вашего нам не нужно. У нас и так уже все есть». За эти пограничные и торговые барьеры можно было беспрепятственно вывозить только капитал, чем и начали увлеченно заниматься новоявленные деловые люди — настал их звездный час. А ввозимого в страну оказалось столько, что стали закрываться собственные заводы, и впервые зазвучало слово «безработица». А безработный, как известно, плохой покупатель. Государство раньше владело недрами земли, но теперь почему-то легко от них отказалось, уступив право владения за ничтожно малые суммы людям, которые оказались в нужное время в нужном месте. Преступные сообщества превратились в богатеев, началось «отмывание денег», и стали создаваться из воздуха фирмы и компании за границей, со звучными, но пустыми названиями, вроде этого Интертранса. Между прочим, все это и послужило причиной появления Комлева здесь, в Бонгу.
Мфумо, выслушав все это, только сказал, что многое из случившегося в России, напоминает то, что произошло в Бонгу после получения независимости. «Напрашивается интересная параллель, — сказал тогда Комлев. — У нас конец тоталитаризма, а у вас — колониализма. А результаты во многом похожи». Мфумо тогда высказал несколько своих, может быть, не до конца продуманных соображений. Независимость здесь ожидали, как праздника. А ведь понятно, что долгое, радостное, хоть и нетерпеливое ожидание этого события само уже является праздником. Тем более, что праздник, однажды наступив, быстро проходит. И вот долгожданный день пришел, британский флаг на площади перед губернаторским дворцом был спущен, заменен красно-черно-голубым. Власть белого человека кончилась, но бедность осталась. Но раньше хоть была надежда на то, что эта власть кончится и настанет счастливая жизнь. С тех пор прошло почти тридцать лет. В бывшем губернаторском дворце давно живут, не по своей воле сменяя друг друга, черные правители. Время от времени проходят выборы в Народное Собрание (так называется здешний парламент). Народ не устает надеяться на своих избранников, которые будут их ходатаями перед высокой властью. Но правильно говорится, что если ты посылаешь кого-либо приветствовать вождя от твоего имени, он это сделает, но только от своего. Все их избранники так и не вернулись в родные края, когда окончился срок их депутатства. Разбогатев, они остались в большом городе на правом берегу Мфолонго, купили дома и автомашины и навсегда забыли о тех, кто их когда-то направил в этот город. Чужая боль, как известно, спать не мешает.
Это был последний разговор Мфумо и Комлева перед тем, как тот ушел в рейс на «Лоале».
Отстояв свою первую ночную вахту с капитаном, Комлев понял, что вести судно по ночной реке особого труда не представляет. Река, подпитываемая притоками, становилась все шире при своем приближении к озеру Кигве. Береговые деревья затеняли только прибрежные воды реки, а середина ее была открыта и тускло блестела, даже когда небо бывало затянуто тучами.
Он уже почти забыл о том случае, когда его чуть не сбила машина на улице Лилонгве. Была ли это ошибка водителя или кто-то хотел лишить его жизни, Комлев до сих пор не мог сказать точно. Но ему не нравилось то, что он сам перестал придавать этому большое значение. Что это, бравада или глупость? Он вспомнил кадры одного фильма, снятого с натуры, видимо, при помощи камер с телеобъективами в каком-то африканском заповеднике. Там было показано неудачное нападение молодого, неопытного льва на антилопу. Льву тогда что-то помешало или антилопа оказалась быстрее его — Комлев точно уже не помнил. Запомнилось ему только, что, отбежав всего на сотню метров от льва, который, возможно, готовился к новому броску, она как ни в чем не бывало остановилась и с каким-то странным спокойствием принялась щипать траву. Как будто и не пережила она свое чудесное спасение и теперь опасность лишиться жизни ушла от нее навсегда. Такая бездумность или равнодушие к жизни и смерти — все это как-то мешало сочувствовать этому травоядному, которое не в состоянии было оценить тот счастливый случай, который оставил его в живых. И надолго ли? Комлев напомнил себе этот эпизод, потому что уже стал замечать в себе состояние некой расслабленной рассеянности, когда он отходил от рулевого, спускался с мостика и шел в свою каюту. Или толкался по палубе среди расступающихся перед ним пассажиров, или пил пиво в баре на верхней палубе, где об него, проходя мимо, терлась бедром Нолина. Его часто тянуло к блаженной беззаботности, и он забывал о том, что должен себя чувствовать, как боксер на ринге. Так продолжалось до одного случая, который чуть не кончился для Комлева трагически.
Комлев спустился с мостика около полуночи, а капитан остался там, видимо, до рассвета. Он все еще не очень доверял ночное судовождение своим двум помощникам, досадливо отгоняя мысль о том, что будет после его ухода с судна. Он понимал, что ведет себя глупо и что с «Лоалой» надо прощаться уже сейчас, чтобы это не стало долгим и мучительным прощанием, которое никому не нужно, а ему просто вредно. Комлеву было как-то неловко оставлять капитана одного, но он не мог предложить себя в качестве вахтенного штурмана. С его стороны, это была бы неслыханная самонадеянность.
Комлев решил сходить к себе в каюту, принять душ, переодеться в повседневную темно-синюю форму, так как белую носили только днем, и потом постоять на мостике еще пару часов, постигая особенности ночного движения по этой загадочной для него реке.
Колеса ритмично взбивали воду, скрытые от глаз боковыми надстройками, и слегка сотрясали корпус судна. На палубе было почти прохладно и не очень темно. Небо расчистилось, и луна, хотя и в последней четверти, светила еще довольно ярко. Комлев закрыл за собой дверь каюты и почувствовал, как слабый порыв ветра охолодил его мокрые волосы на затылке, будто чья-то рука коснулась их с пугающей бесцеремонностью. А когда он вышел из жилого коридора, рядом с ним возник, словно из ниоткуда, этот невысокий туземец в рубашке и шортах, кажется босой, и начал что-то глухо и сбивчиво говорить ему на лулими, показывая рукой в сторону кормы. Он также пытался объяснить это и на английском. Из всего, сказанного ему на двух языках, Комлев понял, что кто-то с ним хочет увидеться, но так, чтобы не знали другие. Он кивнул в знак того, что он туда пойдет, и человек этот тотчас же бесшумно исчез на слабо освещенной палубе, словно юркнул в какую-то щель, как ящерица.
На кормовой части «Лоалы» давно было оборудовано место для перевозимых пароходом автомашин, которые въезжали на борт с правой стороны, для чего там убиралось леерное ограждение. Его металлические стойки имели отверстия сверху и посредине, и в них был пропущен тонкий стальной тросик. Они не были глухо прикреплены к палубе. Комлев обратил на это внимание, еще когда впервые ступил на палубу парохода. Перед въездом на нее автомашин стойки заваливались путем поворота стопорного рычага на главной и неподвижной стойке, которая была ближе к кормовой надстройке.
Комлев прошел мимо застывших в дремотной неподвижности автомобилей, они уже успели остыть за долгий вечер, и от некоторых слегка потягивало бензином. Нигде не слышалось ничьих голосов — только звук работающих колес и шум проносящейся вдоль бортов воды. И тогда внезапно, как в каком-то страшном сне, кто-то, видимо, до этого сидевший на корточках, стал подниматься перед Комлевым, и в полутьме слабо блеснула сталь длинного широкого ножа, которым сельские туземцы рубят стебли кукурузы и проса и прорубают дорогу в зарослях. Внешне он тоже был похож на сельского жителя или просто рядился под него. На нем была (что тогда успел заметить Комлев) рубашка поверх длинной набедренной повязки, смахивающая на юбку, — обычная мужская одежда в деревне.
Взмах руки — и нож пронесся со свистом в сантиметре от шеи Комлева, когда тот мгновенно подался назад. Он даже не успел еще испугаться, ему почему-то казалось, что это какая-то местная забава, игра или же показательное состязание, вроде того, которое проводят мастера боевых искусств, демонстрируя свои приемы и при этом не касаясь друг друга. Да нет, здесь было все вполне серьезно, и надо было защищать свою жизнь. Лезли зачем-то запоздалые упреки в свой адрес: зачем он пошел в это место один и почему не вызвал вахтенного матроса? Комлев вдруг заметил метровый обломок деревянного бруска на палубе; видимо, его подкладывали под автомобильное колесо, а теперь он оказался для него просто подарком судьбы, и Комлев, быстро схватив его, успел отбить им новый удар противника. «А вот крикнуть и позвать на помощь самолюбие не позволяет», — успел со злостью на самого себя подумать Комлев. Значит, даже в минуту смертельной опасности хочется с какой-то болезненной безрассудностью играть героическую роль в этом жутком театре без зрителей. Играть для самого себя да и для того, кто жаждет тебя убить. Комлев к собственному удивлению научился парировать удары ножом своей деревяшкой, а сам в это время приблизился к той самой опорной стойке, которая позволила бы ему повалить все ограждение, если бы нападавший был к нему прижат. Но об этом он мог только мечтать. И вот его ночной противник, видимо, решил, что с белым пора кончать. Вдруг здесь появится кто-нибудь из команды и поднимет тревогу? И он накинулся на Комлева со злобной неуклонностью, как атакующий хищный зверь, чтобы завершить все побыстрее, а Комлев с леденящей душу ясностью представлял себе удар, который он пропустит, и это может стать его концом. Вцепившись левой рукой в стойку со стопором, правой он сделал отчаянный взмах своим обломком бруска в сторону головы нападающего. На его темном лице он только видел белки глаз и еще белизну оскаленных зубов. Этот неожиданный натиск Комлева заставил противника на миг озадаченно отступить на шаг, податься назад и слегка откинуться на ограждение за его спиной. И в этот момент с судорожной поспешностью, еще не веря в возможность удачи, Комлев повернул рычаг стопора, делая сам шаг вправо от борта. Все стойки ограждения с железным лязгом рухнули на палубу. А этот, с длинным ножом, уже падая за борт, все еще отчаянно пытался, изгибаясь всем телом, выпрямиться и удержаться на палубе. Он выкрикнул что-то на непонятном языке, и это было похоже на крик смертельно раненого зверя, и свалился со слабым плеском в пенистую, отбрасываемую колесом парохода, воду. Он исчез в ней, потом его черная голова возникла уже совсем далеко за кормой. А потом ее поглотил сумрак ночи. Комлев быстро огляделся, сердце его гулко стучало. Он опасался, что у нападавшего мог притаиться в засаде сообщник на случай неудачи. На корме было темновато. Гакобортный огонь светил где-то поверх жилого помещения с сетчатыми стенками, которое покрывало часть палубы, отведенную для автомобилей. «Надо уходить отсюда», — напомнил себе Комлев. Оглядываясь по сторонам, он снова восстановил леерное ограждение, чтобы кто-нибудь ночью случайно не оказался за бортом. Потом по трапу, чувствуя некоторую слабость в коленях, поднялся на верхнюю палубу. Ему было стыдно это сознавать, но зубы его временами выбивали вполне отчетливую дробь. Он решил не идти сейчас в свою каюту, а сразу подняться на мостик и все рассказать капитану. В конце концов, это даже его обязанность.
— Вот так история, — с мрачноватым сочувствием сказал капитан Форбс. — Такого, кажется, еще ни разу на пароходе не случалось, хотя здесь и всякое бывало. Полиции, если и будем об этом сообщать, то только уже в Лолингве.
— Я пока не связываю это с попыткой меня сбить машиной на улице, — со скрытой растерянностью сказал Комлев, — но готов это сделать.
— А эти джентльмены из вашего, как его, Интертранса, уже покинули Бонгу?
— Мне сказали, что они уехали в какую-то соседнюю страну.
— Это плохо. Границы здесь, как дырявая рыбачья сеть. Пересечь любую границу здесь можно на машине за десять долларов. Хотя вначале могут запросить и тысячу.
Капитан что-то сказал негромко рулевому на лулими, и тот стал крутить штурвал влево. Правый, в темных зарослях, берег вдруг оказался хоть и в не очень большой, но все же неприятной близости от борта. «Вздремнул рулевой, — определил для себя Комлев. — Человеческий фактор, одним словом».
Лунный свет холодно освещал гладь реки впереди по носу судна. «Плес, — подумал Комлев, обозревая как нечто очень знакомое эту тускло блестевшую гладь. — Как странно звучит это русское слово применительно к африканской реке». Капитан повернулся к Комлеву.
— Я думаю, что оба эти случая, простите за избитое выражение, — звенья одной цепи. А того, кто вас направил к тому месту, где ждал, к счастью, несостоявшийся убийца, могли заставить это сделать, подкупить или просто уговорить, если они из одного племени. Здесь это имеет огромное значение. Хотелось бы думать, что исполнитель был один.
Комлеву не хотелось думать о его судьбе. Его даже покалывало странное сожаление по поводу того, что он отправил за борт этого, скорее всего, наемного убийцу. Ненависти у него к нему не было, как не было бы у него ее и к скорпиону или ядовитой змее.
Капитан будто прочел его мысли.
— О дальнейшей судьбе того, кто хотел отправить вас, мистер Комлев, в мир духов, мы можем не сокрушаться.
Время от времени окутываясь ароматным дымом сигары, он удобно сидел в плетеном кресле, которое ставили для него на мостике во время ночных вахт.
— Я надеюсь, а больше должны надеяться вы, сэр, что добраться до берега ему помешает крокодил. А если он и окажется на берегу, то здесь кругом лесные, безлюдные края, где хищные звери охотятся всю ночь.
Капитан глянул на Комлева и с немного насмешливой заботливостью добавил:
— Если вы слишком впечатлительны, советую принять двойную порцию виски, а потом можно повторить. Если у вас в каюте нет, то шкафчик, где лежит карта озера и атлас реки, вы знаете? Бутылка — в самом нижнем отделении, в углу. Рулевые, думаю, об этом знают, но не трогают. Побаиваются меня, но, скорее, огненная вода белого человека им не по вкусу. Предпочитают пить пиво и местное пальмовое вино. Кстати, советую вам попробовать, оно неплохое.
— Мне что, теперь придется закрывать все время каюту, сэр? — неуверенно спросил Комлев. Начиналась какая-то другая, непонятная жизнь.
— Пожалуй, лучше закрывать. И не спешить открывать на любой стук. Я утром поговорю с матросами и с пассажирским помощником, чтобы они постарались выявить подозрительных людей на борту.
На этом разговор о странном и не украшающем «Лоалу» событии, а для Комлева чуть не ставшем трагическим, был закончен и больше не возобновлялся. Видимо, капитану Форбсу он был просто неприятен. Это бросало тень на репутацию его парохода, а ему хотелось, покидая его борт, навсегда уйти с гордо поднятой головой.
Комлев неукоснительно выходил на мостик во время подхода к пристаням, въедливо, шпионским взглядом присматриваясь к особенностям каждого причала, кое-что даже записывал, а больше запоминал. Пристаней было не так уж много: три на правом берегу и две на левом. Во время рейса вниз по реке много пассажиров выходило на каждой из них. Между пристанями за некоторыми пассажирами подплывали на лодках их друзья и родственники, и тогда на ходу происходила небезопасная высадка. Ход, правда, сбавлялся до малого. Выходили в основном те, кто возвращался из Лилонгве с товаром. Комлев уже знал, что когда они пойдут обратным рейсом, на каждой пристани будут садиться те, кому надо в столицу, ибо другого прямого пути туда не было. Будет немало и таких, которые отправятся вверх по реке в своих лодках, незаконно превратив пароход в буксирный. Впрочем, пассажирский помощник капитана, кажется, брал с таких небольшую плату.
Пару раз после подхода к первой пристани капитан поручал Комлеву подводить судно к причалу и нашел, что «этот русский» свое дело знает неплохо. И вот они миновали последнюю речную пристань Мдамбо и здесь река уже впадала в озеро Кигве. А рейс по озеру на мостике считали почти что отдыхом. Рулевые, стоя за штурвалом, сбрасывали с себя напряжение, как сбрасывает носильщик с плеч тяжелый груз перед началом долгого привала. Снималась медная крышка-колпак со старого морского компаса на высокой тумбе, Форбс купил его давным-давно в каком-то порту на списанном старом корабле и привез в кузове грузовика с морского побережья вместе с запасным якорем системы Холла и разной судовой всячиной.
Миновав Мдамбо, «Лоала» ложилась на проверенный годами курс и, пройдя с заранее замеренной и неизменной скоростью пять часов, причем, иногда делалась поправка на встречный или боковой ветер, ложилась на новый курс и шла по нему, пока не были хорошо видны берега и первый озерный порт Мабонго. А ко второму и последнему порту на озере она уже шла вдоль берега, не теряя его из вида. Расписание капитан Форбс составил так, что в этот последний порт прибывали вечером, ночевали у причала и утром пароход выходил в обратный рейс.
Когда перед «Лоалой» раскинулась кажущаяся здесь безбрежной гладь озера и первые его волны начали слегка обдавать брызгами нос парохода, капитан устраивал себе отдых. И на этот раз он обратился к помощникам с короткой речью, хотя большой надобности в этом не было, так как и без его слов они знали, что им надлежит делать.
— Мистер Нкими заступает на вахту сейчас, и его сменяет мистер Оливейра. Вы будете менять друг друга до последней пристани Кифуко. В момент поворота на новый курс вызвать меня на мостик.
Последняя фраза была излишней, так как капитан следил за временем из своей каюты и на мостик всегда выходил сам.
Нкими и Оливейра сказали почти в унисон «да, сэр», не задавая никаких вопросов. Капитан давал им возможность спать большую часть ночи, пока они шли по реке, здесь же им придется менять друг друга на мостике каждые четыре часа. Все было достаточно справедливо. Капитан предложил Комлеву побыть на мостике и ознакомиться с движением по озеру, а через полчаса спуститься к нему в каюту.
Комлев огляделся, стоя на мостике. Теперь все здесь во многом напоминало морское плавание. Обманчивая безграничность озерного простора объяснялась тем, что это была самая широкая часть Кигве. Были удары небольших, но все же волн о форштевень парохода, крики чаек за кормой и кое-где косой рыбачий парус вдали. За штурвалом стоял Мбизи, самый пожилой из всех троих рулевых. Комлев, как того требовал судовой этикет, попросил разрешения у вахтенного помощника Бена Нкими постоять на руле, объяснив это следующим соображением:
— Со времен службы в военном флоте ни разу не вел судно по компасу.
Нкими был польщен и блеснул зубами в благожелательной улыбке.
— Штурвал в вашем распоряжении, мистер Комлев.
И сказал на лулими рулевому:
— Можешь сходить кое-куда, Мсизи. Белому господину хочется вспомнить свою прежнюю работу.
Было немного непривычно крутить несуразно большой штурвал, но «Луала» слушалась руля, не капризничая, и шла по курсу с успокаивающей неуклонностью. Ветер был слабый и дул в правую скулу, а жара на большой воде почти не ощущалась.
Прошло полчаса, Комлев передал штурвал Мсизи и пошел к капитану.
Окна в капитанской каюте были раскрыты, поскольку мух на озере не наблюдалось, на реке же иногда даже залетала муха цеце и, конечно, комары после захода солнца. Был слышен плеск разбивающихся волн на носу.
На столе у капитана стояли бутылка, стаканы с толстым дном, сообщавшим им остойчивость, и лед в вазе. Еще был тонко нарезанный лимон.
Капитан сразу затронул тему озерной навигации.
— Почему, вы думаете, я выбрал этот курс, 52 градуса, когда мы выходим в озеро? Ведь я пользуюсь им — страшно подумать! — уже почти полвека!
Он сделал основательный глоток из стакана, и ледышки в нем нежно звякнули, когда он поставил его на стол.
— А справа от этого курса, на юге, находится целый, провались он в преисподнюю, архипелаг из небольших каменистых островов. Некоторые — это просто скалы, загаженные чайками. А много подводных скал таится еще за милю до подхода к островам. Тщательными промерами здесь никто не занимался, поэтому лучше придерживаться старой английской поговорки, и вы ее, мистер Комлев, наверняка знаете: «One never can be too careful».
«Не бойся быть слишком осторожным», — так перевел ее Комлев, хотя точный перевод ее, кажется, был невозможен.
— Корпус «Лоалы» от старости стал похож на яичную скорлупу. Что происходит с яйцом при столкновении с твердым предметом, понятно всем. Но этот пароход проплавает еще не один год, если его не ударить о подводный камень или не посадить на каменистую мель.
Капитану, видимо, хотелось поговорить. Комлев заметил, что он ни разу не закурил свою любимую сигару, но спрашивать об этом счел излишним.
— Во время войны я два года служил на легком крейсере «Ариадна», у них тогда у всех были эти женские греческие имена из мифологии. Главный калибр, а это, как понимаете, носовая и кормовая башни, шесть дюймов, стальная же обшивка на корпусе такая, что, как говорили знатоки, ее могла пробить винтовочная пуля при попадании под прямым углом. У меня с тех пор появилось и до сих пор не проходит болезненное ощущение сплошной уязвимости. Неумная конструкция. Тяжелые башни на палубе и проницаемые даже для пуль борта. Нас тогда выручала дымовая завеса. Противно было глотать вонючий мазутный дым, но пока мы были невидимы, мы были целы, и наш крейсер высовывался из дыма, чтобы дать залп и снова скрыться. Но штурман на мостике вел корабль в это время почти вслепую. Когда мы прорывались с конвоем транспортов к Мальте, произошел такой случай. Мы вышли из полосы дымовой завесы после долгого пребывания в ней и увидели, что совсем близко лагом к нам шел итальянский линкор во всей своей боевой красе и мощи. Потом уже говорили, что это был их флагман «Леньяно» с самим адмиралом Ночентини на мостике. Его девятидюймовые орудия разнесли бы нас в клочья за считанные минуты. Но с нами были эсминцы, и итальянцы сквозь дым завесы приняли «Ариадну» за один из них. А получить с близкого расстояния торпедный залп никому не хочется. И вот у нас рулевому была команда взять круто вправо, чтобы опять нырнуть в завесу, а на линкоре, видимо, скомандовали «лево на борт», чтобы подставить нам одну корму на случай торпедной атаки. А дать по нам залп из кормовой башни прямой наводкой они не успели. Слишком сложная там техника. Это только с дулом заряжающейся пушкой никаких проблем.
Капитан глянул в окно каюты, которая была этажом ниже мостика и остался доволен увиденным. Волнение на озере — от силы два балла, видимость пока отличная. До поворота вправо было еще много времени.
— Я стал забывать уже прежние военно-морские шутки и анекдоты, которые тогда все время были на слуху. Вот, например, молодой матрос из пополнения спрашивает ветерана: «Корабли, такие, как наш, часто тонут?». — «Да нет, — лениво отвечает тот, — всего один раз». Или вот еще: командир корабля глянул на карту, где молодой штурман только что проложил курс. «Снимите фуражку! — рявкнул на него командир. — Потому что если ваш расчет верен, мы сейчас должны быть в Вестминстерском Аббатстве!»
Капитан Форбс резко повернулся к Комлеву, и лицо у него было теперь мрачновато-серьезное и даже заметно постаревшее. И то, что он сейчас говорил, было лишь желанием оттянуть другой, главный разговор.
— Мистер Комлев, я полагаюсь на ваше умение молчать. Это мой последний рейс, так как мое судно уже фактически продано. Цена небольшая, но оно теперь больше и не стоит. О состоянии корпуса я уже говорил. С момента прихода в Лолингве вы уже занимаете штатную должность старшего помощника, и вам будет начисляться зарплата. Я рекомендовал вас на должность (только не пугайтесь!) капитана, но у судоходной компании Республики Бонгу, которая хочет скупить все суда на реке и озере, имеются свои планы. Идет очередная волна африканизации, и новый капитан должен соответствовать расовым требованиям, то есть быть африканцем в физическом смысле слова. Насколько я понял, должность капитана теперь будет чисто номинальной, так как тот, кто будет теперь им называться, совершенно непричастен к судовождению, он даже и к штурвалу едва ли прикасался. Был до этого где-то начальником пристани или что-то вроде этого, потом был здесь береговым чиновником. Но этот из тех, которые хотят занимать только начальственные должности, все равно какие. И у него родственные связи с главой компании, и, разумеется, он — его соплеменник, а это здесь главное. Надеюсь, вернее, хочу надеяться, что он не будет вам, его помощникам судоводителям, особенно мешать в работе. Все, как я понимаю, остаются на своих местах, только бедняге Масуку, пассажирскому помощнику, придется поискать другую работу. Должность эта связана с деньгами, и новому капитану понадобится свой, преданный ему человек. А с Масуку мы плавали много лет, и он меня устраивал. Кое-что он, несомненно, клал себе в карман, но это было совсем незаметно, а значит, несущественно. Кстати, новый пассажирский помощник теперь будет и выдавать зарплату. Вот, в сущности, и все, что я хотел вам сказать.
Комлев смотрел в окно мимо плеча капитана и видел, как две чайки пролетели над баком парохода, где почти у самого брашпиля разлеглись на своих подстилках палубные пассажиры. «Боцман не должен был их туда пускать, тем более, что там есть и ограждение», — неодобрительно по отношению к боцману подумал он.
— Капитан Форбс, я бы, конечно, хотел, чтобы ничего не менялось и на командном мостике оставались вы. Но если ничего уже изменить нельзя, я останусь здесь работать, тем более, что и другой работы у меня здесь нет. Даже вернуться в Россию я сейчас не могу: сначала я должен заработать денег на дорогу.
— Жаль, что мне не пришлось вам выдать даже аванса. Вся моя касса была закрыта еще в начале рейса согласно условиям продажи судна. А как у вас сейчас с деньгами? Я ведь вам мог бы помочь.
— Спасибо, капитан, пока мне хватит до моей первой здесь зарплаты.
Комлев с каким-то унизительным беспокойством, которое он старался подавить, думал о том, что можно пересечь экватор, переместившись в другое полушарие, но не обрести материальной независимости. Все почти то же, что и на Родине. Меняется лишь внешний вид денежных знаков, уныло философствовал он, но их количество примерно то же и реальная их стоимость почти не возрастает. Одно хорошо: здесь, в Бонгу, не надо заботиться о зимней одежде и обуви. И вирусного гриппа здесь, кажется, нет.
Комлев поблагодарил капитана за выпивку и несколько угнетенно покинул его каюту.
В баре, видимо, не было посетителей. Официантки сидели на скамье вдоль борта и болтали, некоторые заплетали друг дружке волосы в мелкие косички. Чтобы не встречаться с Нолиной, Комлев спустился по трапу вниз. Он немного злился на себя за то, что ее откровенно призывный взгляд вызывал у него конфузливое беспокойство, будто он был рекламным листком ее доступности. «Не хватало, чтобы я спутался с официанткой», — предостерегал себя Комлев, не очень веря в искренность своих предостережений.
Комлев отметил для себя, когда впереди раскинулось озеро, что вот он впервые прошел на пароходе всю реку и это заняло всего трое с небольшим суток. Это по течению, обратно они будут идти не менее пяти. Что он видел на этой африканской реке, которой вначале немного побаивался, если бы ему пришлось написать кому-нибудь подробное письмо? Широкая река с лесистыми берегами. Они далеко, а на воде что увидишь? Крокодила, например, не видел ни разу. Два раза у берега видел бегемотов, вернее, их головы, черневшие над водой, как нечто изготовленное из темно-лиловой резины. И только один раз видел на самом глухом и отдаленном от пристаней и рыбацких деревень участке небольшое стадо слонов, пришедшее на водопой. Вот это уже была Африка. Пассажиры на палубе оживились, кричали: «Ндзову! ндзову!» Значит, и для них слон тоже теперь в диковину. Что еще особенного случилось здесь? Его чуть не убили ночью, но об этом он не стал бы писать. Он ловил иногда на себе внимательные взгляды команды, и глядевшие тотчас же отводили глаза. Значит, им что-то известно об этом. Матросы перестали петь по вечерам на баке. Возможно, догадываются о скором уходе капитана.
О жизни самого капитана Форбса знали мало. Сам же он предпочитал не говорить о себе ничего. Слухи и домыслы передавались из рук в руки, словно сомнительные денежные знаки невысокого достоинства. Говорили, например, о том, что приехал навестить его один из двоих сыновей, преуспевающий лондонский юрист. Кое-кто видел в бинокль с мостика парохода дом капитана на берегу речного залива недалеко от Лилонгве. Там же у небольшого причала якобы стоит и белая яхта капитана, с дизельным двигателем, под названием «Лоала-2». Только кто на ней ходит, если капитан все дни и ночи проводит на своем пароходе? Когда с ним был Палмер, он, правда, брал себе отпуск.
Сам же капитан Форбс не верил тем пожилым людям, которые заявляют с нескрываемым самолюбованием о том, что ни в чем не могут упрекнуть себя в прошлом и готовы в точности повторить весь свой жизненный путь, получи они от Провидения такую соблазнительную возможность. Если это не лукавство и фальшь, думал Форбс, то это глупость. Для него жизнь человека виделась не гладкой, словно укатанной дорожкой, а каменистой тропой с глубокими рытвинами и промоинами. А еще ее можно сравнить с висячим мостом из лиан, которые до сих пор еще встречаются в глухих местах Бонгу, где не может проехать не только автомобиль, но и велосипед. Идти по такому мосту целое искусство. Соскальзывает нога и проваливается в пустоту, где далеко внизу урчит, как голодный зверь, поток. Держась за боковое ограждение из лиан, идущий вызволяет ногу из лиановой петли, затем такое же происходит с другой, а то и с двумя сразу. Форбс допускал, что даже у коронованных особ и их отпрысков и у самых крупных магнатов нет ощущения этакой восхитительной неуязвимости и беспечности, когда они шагают по этой жизненной стезе. А уберечь от падения не поможет и самая недремлющая осмотрительность и бдительное внимание целого сонма служителей.
Капитан Форбс жил жизнью, которую сам придумал для себя, и она ему долгое время нравилась. Но с годами он стал, например, сознавать, что давно стал рабом своего парохода и не мог его покинуть даже на время, если полностью не доверял умению управлять судном и всей судовой жизнью того, кого он оставлял вместо себя. Палмеру он доверял, но таких, как он, было всего два, ну от силы три человека за все время, когда он был владельцем и капитаном парохода. И теперь Форбс заботливо готовил себя к перемене всей своей жизни и даже выискивал причины необходимости этой перемены. Ночное нападение на Комлева на борту его судна наглядно указывало ему, что это было своего рода пугающее предупреждение о том, что прежняя жизнь кончена и что его пароход и все, кто на нем, ни от чего теперь не застрахованы.
Комлев как-то обратил внимание на то, что перестал видеть сны. На самом деле он просто потерял способность их запоминать. Но после того ночного случая на корме парохода ему вдруг приснился и, главное, запомнился странный сон, напрямую не связанный с тем кошмарным событием. В этом сне он оказался там, где жил и работал до приезда сюда. Он ехал домой на метро, и после выхода на поверхность ему предстояло еще пройти минут пятнадцать. Но еще в пути странная тревога охватила всех, кто с ним ехал. Сначала это была смутная тревога, потом на каждой станции стали входить в вагон люди в растрепанной, а то и разорванной одежде, были среди них и раненые. Они говорили о том, что наверху сейчас творится что-то невообразимое. Над городом проносится то ли ураган, то ли целая серия разрушительных смерчей, и теперь одно спасение — здесь, под землей. Остановка Комлева была последней. Он не очень верил услышанному, пока не поднялся наверх. И вся картина вокруг была сплошная и шокирующая нереальность. Ураган недавно прошел, и ветра почти не было. Сброшенные с домов крыши, поваленные деревья, столбы, киоски и автобусы. Лежащие под всем этим тела людей. Комлев с трудом пробирался среди завалов из обломков домов и древесных стволов и уже едва находил дорогу к дому. Он спешил, и ему казалось, что и его дом стоит без крыши, что выбиты все окна и что он вообще будет теперь лишен жилья. Вдруг он увидел Мфумо, который тоже куда-то пробирался с трудом. Он был совершенно неуместен здесь в своей рубашке с короткими рукавами и в сандалиях под холодным осенним небом. Комлев окликнул его, но тот смотрел на него, не узнавая. И тогда он догадался, что все белые, а их здесь много, кажутся ему на одно лицо. А подойти к нему он не мог, так как их разделяли завалы из огромных сучьев и покореженного железа. И тут Комлев проснулся. Это был его последний сон перед пробуждением, возможно, поэтому он его и запомнил. Но что это все могло означать, он понять не мог.
Комлев теперь каждый день, обычно утром и вечером, слушал радио, и приемник стоял на столике рядом с койкой, почти так, как и на его последнем судне. Лучший прием был, конечно, у местной радиостанции. Часть новостей шла на английском, часть на лулими. Кроме новостей был еще обзор газет и разного рода политические комментарии и беседы, вызывавшие у него скуку. Но слово «африканизация», а иногда еще и «бонгуизация» звучало часто и с какой-то жадной нацеленностью. А сама эта подчеркнутая многократность его употребления содержала в себе даже что-то магическое, словно служила могучим заклинанием. Все это напоминало сеанс массового гипноза тех, кто сейчас находился у приемников. Комлев, конечно, не знал того, что за три десятилетия независимости эта самая африканизация шла неровными волнами, иногда с промежутком в несколько лет, и напрямую зависела от того, кто тогда находился у власти.
Рейс вверх по Мфолонго длился дольше, но, как Комлев хорошо знал, управлять судном против течения было намного легче и даже удобнее подходить к пристаням. Правда, увеличилось число лодок, прилепившихся к борту «Лоалы» подальше от колес и ближе к корме, но об этом он слышал от капитана Форбса давно. В лодках спали, укрывшись ночью старыми цветными покрывалами, ели копченую рыбу и еще что-то, завернутое в банановые листья, пили из пластмассовых бутылок и даже из тыквенных сосудов, которые все еще не выходили из употребления. Видимо, большинство было мелкими торговцами, направлявшимися в город за товаром.
Когда после пяти суток пути по реке пришвартовались утром к бетонному причалу в Лилонгве, капитан Форбс обратился после второго завтрака ко всем в «офицерской» столовой, со своей всегдашней умеренной приветливостью. Сегодня, однако, добавилась еще и мрачноватая торжественность.
— Джентльмены, минуточку внимания, — сказал капитан со своего постоянного места за столом, когда уже начинал убирать посуду буфетчик Мотема. — Довожу до вашего сведения, что сегодня — мой последний день на судне в качестве его капитана. Старшим помощником, а следовательно, моим заместителем я назначил мистера Комлева…
Комлев чувствовал себя как-то неуютно под взглядами всех, кто сидел за столом, и теперь они смотрели на него со странным любопытством, словно пытались разгадать, что же в нем, Комлеве, открыл для себя «старик».
— А капитаном с завтрашнего дня назначен, — продолжал Форбс, оглядывая всех с хмурым весельем в глазах. И крикнул на лулими буфетчику:
— Мотема! Позови сюда господина Муго!
И тогда в столовую вошел этот самый господин Муго, слишком полный для своего еще далеко не среднего возраста, с ничего не выражающим круглым и толстым лицом цвета слабо обжаренных кофейных зерен, с выпуклыми, немного рачьими глазами и с короткой стрижкой. На нем была цветастая рубашка навыпуск и белые брюки. То, что он явился сюда не в костюме и без галстука (а для африканца это не только признак его цивилизованности, но и известного общественного положения), говорило лишь о том, что обоснованность своего назначения на «Лоалу» была для Муго неоспорима и своих будущих подчиненных он уже воспринимал с некоей самонадеянной снисходительностью.
— Добрый день, джентльмены, добрый день, капитан Форбс, надеюсь, вы все здоровы?
Голос у Муго был довольно низкий и хрипловатый от злоупотребления пивом, а его английский не хуже того, каким пользуется средний чиновник в Лилонгве.
На него смотрели, кто с выжидательным, кто с насмешливым любопытством, а механик Шастри смотрел со своей обычной индуистской и благожелательной нейтральностью, которую многие считали просто равнодушием. Для него этот Муго был лицом хоть и не самой низкой, но абсолютно чужой касты. А третий помощник капитана Нкими глядел с тайной надеждой распознать в нем соплеменника, что позволило бы ему укрепить свое положение на судне. Он получил от Муго в ответ откровенно прощупывающий взгляд. Они были два африканца среди всего командного состава, и уже изначально их отношения были обречены на то, чтобы стать особыми.
Комлев терпеливо выслушал вместе с другими набор малозначащих, от их частого употребления, и стандартных фраз о том, что каждый житель этой страны, независимо от расы и этнической принадлежности, должен вносить свой вклад в ее прогресс и процветание. Промышленность должна развиваться, сельское хозяйство — осваивать современные методы, транспорт, в том числе и водный, — работать эффективнее, перевозя пассажиров и нужные стране грузы. Чувствовалось, что Муго уже где-то получил необходимую речевую подготовку и у него уже была нескрываемая приверженность к этому нацеленному многословию, которое, как ему казалось, усиливало его значимость и поднимало в глазах других.
Никто здесь не знал, что у капитана Форбса была возможность не покидать пароход и оставаться на нем, но уже в качестве не капитана, а старшего помощника или некоего капитана-дублера. Капитаном же теперь мог быть только назначенный сверху «государственный попечитель», словом, тот, кому поручено управлять тем, что принадлежит частному лицу, причем неафриканцу. То, что Форбс давно был гражданином Бонгу, дела не меняло. Ему этот вариант даже и не предлагали, зная, что он его отвергнет и, возможно, в весьма грубой форме.
Комлев сидел и томился, выжидая момент, когда он сможет покинуть судно, так как на причале его сегодня встречал Мфумо и сказал, что будет его ждать у дома Дхармчанда. Он выглядел озабоченным и немного даже подавленным Комлев улизнул с судна сразу же, когда Форбс и Муго удалились в капитанскую каюту, возможно, для проверки и подписывания каких-нибудь актов сдачи и приемки. Не хотелось терять времени на переодевание, поэтому Комлев и отправился в город, сияя белизной своей формы, включая и чехол фуражки с эмблемой, придуманной, по словам Форбса, им самим еще в колониальные времена: между пальмовыми ветвями два скрещенных якоря, а над ними корона. После независимости корону пришлось убрать, и взамен там появилась летящая озерная крачка с черной головой и белым, раздвоенным хвостом. Комлев видел этих птиц, в полете напоминающих чаек, на озере Кигве.
— Мистер… — начал Мфумо при виде Комлева в его фуражке, но тот его бесцеремонно прервал, напомнив, что для него он просто Вадим. Или Комли, как многие его предпочитают называть.
— Да, Вадим, конечно, — поспешно согласился Мфумо, — но ты так сейчас импозантен, что это почти исключает всякую фамильярность. Так и хочется сказать: «Да, сэр».
— На судне мы только к капитану так обращались. А теперь, видимо, придется к этому государственному назначенцу Муго.
— Муго? Не он ли возглавлял в последнее время профсоюз работников водного транспорта? И его чуть не судили за какие-то финансовые махинации.
— В его биографию я как-то еще не вникал. Мфумо, ты говорил, что у тебя какое-то серьезное дело.
— Очень, к сожалению, серьезное, — хмуро сказал Мфумо, обычно любивший легкомысленный тон, когда говорил о серьезных вещах. — Я даже никому не могу сказать всей правды. Могут за это убить.
— Да кто они такие?
Ему вдруг вспомнилась попытка убить его самого.
— Вот этого я как раз и не имею права сказать. Дня через три они придут ко мне за ответом. Хотят, чтобы я с ними сотрудничал. К этому времени я должен быть далеко отсюда, и никто не должен знать, где я буду скрываться. Твоя «Лоала» уходит в рейс завтра утром? Постарайся выкроить сегодня часок для встречи вечером. Выпьем пива и встретимся с девушкой, которую ты, возможно, помнишь. Ее товарищ по работе подвозил тебя когда-то к гостинице. Ну, когда мы смотрели на все эти ритуальные пляски в полнолуние. Связь теперь будет только через нее.
— Я ее помню, ее зовут Найди. А что все-таки случилось?
— Тогда встречаема в баре «Три семерки», кстати, это недалеко от набережной и твоего причала. Что случилось? Пока еще ничего, но надо готовиться к крупным событиям. Больше ничего сказать не могу.
Они встали со скамьи под раскидистой бугенвилией, недалеко от дома, где снимал комнату Комлев, и расстались.
Комлев считал, что каждый россиянин за рубежом, как бы он ни относился к своему посольству, должен делиться с ним тем, что может представлять для него интерес. Он туда и отправился, ненадолго зайдя в свою полупустую комнату, где, казалось, застоялась недельная духота, несмотря на то, что половину окна занимала сетка от насекомых вместо стекла. В комнате царила удручающая пустынность, и она была лишь временным прибежищем с почти гостиничной безликостью. Дхармчанд вышел из своей лавки и встретил его со сдержанной почтительностью, его дети смотрели на фуражку Комлева с боязливым восхищением. Он потрепал их черные, нестриженые головы и через полчаса был уже у знакомого особняка с трехцветным флагом. Полицейский у входа, которого явно впечатлила форма Комлева, даже отдал ему на всякий случай честь. Сергей оказался на месте в своем кабинете. Какое-то время он с одобрением обозревал Комлева и подвел итог:
— Молодец. Значит, ты теперь при деле. А я думал, что придешь к нам за воспомоществованием. На предмет оплаты проезда на Родину.
— Мне только с сегодняшнего дня пойдет зарплата. Я был стажером на пароходе. Но это не главное. У меня есть информация к вашему посольскому размышлению. Здесь затевается что-то вроде переворота. Мне только намекнули, но думаю, что все похоже на это.
— Источник надежный?
— Думаю, что да. Но тот, кто сказал, должен скрываться.
Сергей потрогал золотистый шеврон на черном погоне Комлева.
— Что это за звание? Или это должность?
— У них это старший помощник капитана. Ну, в общем, мне надо идти. Есть еще дела, а завтра утром в рейс. А сюда я зашел так, из гражданского долга долга, можно сказать.
— Надо подумать, как это подать шефу. «Голословность, — фыркнет он, — никакой достоверности».
— Скажи другим, у кого голова лучше привинчена, если есть такие.
И Комлев из расслабляющей прохлады кабинета нырнул опять в океан разогретого послеполуденного воздуха Лилонгве.
Комлев зашел на почту, купил конвертов с марками, так как решил, наконец, начать писать письма. Растерянная неловкость, вызванная его неопределенным положением после падения Интертранса, проходила. А когда он получит свою первую зарплату, он ощутит свою полноценность в этом мире. Он даже вернет себе кое-какое самоуважение.
Солнце затянули облака, и их становилось все больше в последние дни. Теперь они плотно окутывали весь горизонт. Говорили, что это предвестник больших дождей. От недалекой отсюда реки временами тянуло неким подобием прохлады.
На улице он наткнулся на обычную для города сцену: полицейские остановили прохожего и что-то от него требовали. Комлев уже сносно понимал язык лулими, когда на нем обращались непосредственно к нему и говорилось об обыденных вещах. Но из быстрой речи этих троих он не понял ничего. Ему даже показалось, что задержанный полицейскими высокий, с круглыми плечами африканец в грязноватой тенниске и в шортах посмотрел на него с немым призывом о помощи. Лицо его, широкое, с двумя старыми шрамами на каждой щеке и крупными дырами в мочках ушей, где когда-то были массивные серьги, было ему знакомо. Ну, конечно! На «Лоале» он узнал бы его сразу. А видеть его в городской обстановке было непривычно. Еще когда механик Шастри показывал ему машинное отделение, он открыл и дверь в кочегарку, откуда их сразу обдало жаром с запахом угольного дыма. «Вот Муйико, наш лучший кочегар. Хорош, правда?» — спросил Шастри стайной гордостью, словно это был его приемный сын. А Муйико, с темным, мощным, блестящим от пота торсом, орудовал в этот момент длинным ломом. Оскалив зубы, он с веселой яростью вонзал его в топку под слой спекшегося шлака. Хищно пригнувшись и сразу выпрямляясь, он рывком взламывал этот слой. Вот таким Комлев его тогда и запомнил. Потом он его встречал не раз и после вахты, уже умытого и в одежде.
Комлев подошел к блюстителям порядка в Лилонгве, которые уже примеривались надеть наручники на свою жертву. Они хмуро уставились на белого незнакомца в форме ведомства водного транспорта.
— Мвами (господин), они хотят меня увести с собой, а мне нужно быть на судне к четырем часам, — сказал Муйико Комлеву на лулими, и тот его понял.
— У него нет документов, и мы должны его арестовать, — сказал на вполне сносном английском один из этих двоих, видимо, полицейский сержант. — В городе много бродяг и преступников. У нас приказ задерживать всех подозрительных и тех, кто без документов.
Комлев подумал, что их обоих вполне можно было бы по их физиономиям принять за преступников, не будь они в этой форме болотного цвета с портупеями и с темными фуражками на голове.
— Это Муйико с парохода «Лоала». А я старший помощник капитана.
«Еще у меня самого потребуют документы, — вдруг с опаской подумал Комлев. — Вот будет история».
Но полицейские не стали упорствовать. Они знали, что «Лоала» — это Форбс, которого все здесь знали, и он знал всех. Могут быть для них неприятности.
Муйико смотрел на Комлева как на спасителя. Попасть в кутузку было для него погибелью. Там, виноват ты или нет, держат несколько дней и отправляют на работы туда, где требуется временная рабочая сила. А деньги за это идут полицейским. Пароход в это время ушел бы в рейс без него. Вся нижняя команда знала, что теперь у них будет новый капитан. То, что он африканец, еще ни о чем не говорило. Механик сам его не выгонит, но и защищать его перед новым капитаном не будет. Побоится.
Было видно, что полицейские с явной неохотой готовились отпустить добычу, отдавать ее даром им не хотелось.
— Он должен еще заплатить штраф, — твердо сказал сержант.
— За что? — вяло поинтересовался Комлев. Он уже чувствовал, что придется заплатить отступного.
— За то, что у него нет удостоверения личности, — быстро нашелся сержант.
Муйико переводил взгляд с одного говорящего на другого, не понимая слов, но зная, что решается его судьба.
Комлев полез в карман, достал бумажку в пятьдесят пондо и протянул ее полицейскому. Тот неохотно взял ее, но продолжал держать в руке, как бы демонстрируя обиду по поводу недостаточности предложенной суммы, и Комлев прибавил еще двадцать. Полицейский хмуро кивнул Муйико в знак того, что он свободен.
— Иди теперь быстро на судно, — сказал, хоть и с запинкой, Комлев на лулими, — и не выходи пока на берег.
— Спасибо, мвами, ты меня спас сегодня, — сказал Муйико и приложил обе руки к груди.
Потом выкупленный из предстоящей неволи быстро зашагал знакомой короткой дорогой к причалу. В четыре начиналась его вахта, и он знал, что пароход должен был идти сразу к угольной базе на бункеровку.
Встреча с Мфумо в знакомом ему баре «Три семерки» длилась недолго, и Комлев ушел раньше всех. Мфумо сказал вполголоса, что завтра на рассвете он уезжает первым автобусом в Кисумо, а потом еще дальше на попутных машинах. Нанди выглядела нарядной и как-то даже угрожающе привлекательной, как подумалось Комлеву. Кажется, она даже изменила прическу, но он вообще плохо ее запомнил, когда увидел впервые, да и освещение тогда было далеко не яркое. Сейчас на ней была какая-то сверкающая и полупрозрачная блузка почти без рукавов и с глубоким вырезом, и еще, с плохо скрытым интересом, Комлев отметил, что она без лифчика. «Это она для тебя так оделась, клянусь», — шепнул ему Мфумо, когда Нанди обернулась на чей-то приветственный оклик. Комлев сделал вид, что начисто отвергает такое предположение, хотя в глубине души оно ему польстило. Он, тем не менее, пытался вспомнить изречение о слабости плоти, записывая номер ее телефона. Теперь Мфумо будет держать связь с ним только через нее. А ей будет иногда звонить, если удастся, по мобильному телефону. Комлев знал уже, что Нанди — подруга жены Мфумо и, возможно, помогает ему поддерживать с ней связь. «Надо будет попробовать у нее выведать, сколько Мфумо не доплатил в счет этого дурацкого брачного выкупа, — вдруг подумал Комлев. — Может быть, и сумма не так уж велика, и можно было бы ему помочь». Мфумо, между тем, протянул ему новенький номер журнала. «Здесь статья Нанди. Это должна быть целая серия». Нанди пожала своими светло-шоколадными плечами, как бы давая понять, что все это пустяки, но в ее глазах мерцал предательский огонек удовлетворения. «Я в кругу пишущих людей, — подумал Комлев с некоторой самоиронией. — А Нанди еще и обольстительница». В баре было довольно людно, но они сидели в укромной нише и далеко от стойки, где вечно толпился народ. В основном, все были африканцы, но мелькали изредка и белые лица. Выпив бутылку крепкого пива «гиннес», Комлев решил на этом остановиться. С ноля часов у него вахта, будет клонить в сон, а он решил не позволять себе расслабляться, тем более, что теперь он уже на законных основаниях старший помощник капитана. «Вам надо будет еще поговорить, а у меня есть дела на судне», — сказал он как можно более убедительно. До вахты ему еще оставалось часа два. Нанди плохо скрывала разочарование, а Мфумо смотрел на него с легким упреком. Видимо, для себя он уже решил, что Комлев пойдет провожать Нанди.
7
И вот «Лоала» впервые ушла в рейс без Форбса. Случалось, конечно, такое и раньше, когда Форбс устраивал себе короткий отпуск, но он все равно незримо присутствовал на судне, словно его ангел-хранитель или, по крайней мере, некий несменяемый куратор. Теперь же его не было совсем, а пароход продолжал безучастно и даже бодро бить по речной воде плицами колес, и рулевые в какой-то своей суровой отрешенности стояли за штурвалом. Комлев отметил, что и Оливейра, и Нкими, являясь на свою ходовую вахту, стали держаться заметно увереннее, не боясь уже капитанских замечаний или, чаще всего, молчаливого и насмешливого неодобрения своих действий (или бездействия) со стороны Форбса. Кто-нибудь колкий на язык, да еще знающий африканские присловья, язвительно бы сказал: «Когда лев уходит, гиены танцуют». Комлев не был ни тем, ни другим, поэтому он просто пришел к довольно, впрочем, банальной мысли, что чувство ответственности рождается от необходимости принимать решение, не полагаясь на чью-либо помощь и поддержку. Капитан Форбс и помогал, и поддерживал, но своей помощью как-то лишал смелости и даже ограничивал свободу действий. Даже когда его не было в тот момент на мостике, он, возможно, наблюдал, как ведут судно другие, стоя у окна своей каюты со стаканом виски в руке, позвякивая в нем ледяными кубиками. Теперь каждый знал, что уже не будет постоянного бдительного присутствия капитана на мостике во время ночных вахт. Теперь каждый из помощников капитана, не исключая и Комлева, поднимался ночью на мостик, подавляя внутри себя затаившуюся неуверенность и скрывая ее от других, прежде всего, от знающего свое дело рулевого. Так скрывают, например, неопасную болезнь, о которой не принято говорить вслух. А африканцы еще говорят: «Если старший охотник чего-то боится, он ничего не говорит тем, кто у него в подчинении».
По прошествии суток во время рейса ничего особенного не произошло. Во время подхода к пристаням Комлев поднимался на мостик на правах старшего по должности, чтобы попытаться спасти положение при неудачной швартовке. Но пока ничего серьезного не случалось. Были обычные небольшие накладки. То слишком рано сбавляли ход, то, наоборот, делали это слишком поздно. Последнее было хуже, потому что «Лоала» наваливалась на причал с ощутимым толчком, как пьяный на того, кто ближе в толпе людей, и пассажиры укоризненно, а те, кто был на причале, — насмешливо поглядывали на мостик.
То, что новый капитан Натаниэл Муго в дела управления судном вмешиваться не будет, было, кажется, известно уже даже палубному матросу. Он был предназначен для того, чтобы быть фигурой декоративной и существовать для представительства, сношений с береговыми властями, вроде начальников пристаней, разного рода снабженцами в порту Лолингве, а главное, чтобы наглядно свидетельствовать, что капитан самого крупного пассажирского судна в Бонгу наконец теперь африканец.
Муго не пожелал облачаться в заведенную Форбсом белую «дневную» форму, на нем в течение суток был всегда черный мундир с блестящими пуговицами, белая рубашка с галстуком и золотые капитанские шевроны на рукавах, причем, там была явно пара лишних. Голову его венчала фуражка с эмблемой, заведенной еще Форбсом и которая стала общепризнанной на всех речных судах.
Вначале Муго собирался разместиться в бывшей каюте Форбса, два широких передних окна которой смотрели на носовую часть судна, и из них было видно почти то же, что и из рулевой рубки. Но потом Муго отказался от нее. Возможно, на него повлияло мнение нового пассажирского помощника Кабоко, приземистого, с ранней лысиной и маленькими глазками. Взгляд их был до крайности быстрым и ускользающим. Поговаривали, что он был соплеменником капитана, во всяком случае, слышали, как они говорили между собой на непонятном языке. Было ясно, что этот Кабоко был призван играть роль «серого кардинала» или регента при малолетнем монархе и, конечно, быть правой рукой Муго. Не исключено, что этот хитроумный Кабоко посоветовал отдать каюту капитана старпому как лицу, отвечающему за фактическое управление пароходом в пути, которому нужно все время видеть этот водный путь. Чтобы в любой момент, заметив ошибку, подняться на мостик и исправить ее. Конечно, каюта эта занимала центральное положение во всей носовой надстройке, и получалось так, что в ней должен был жить не капитан, а его белый помощник. Это как бы бросало тень на саму идею африканизации в стране. Но в расположении каюты были и недостатки. Все подходы к ней были на виду, и даже отчасти можно было рассмотреть, что в ней происходило внутри при незадернутых шторах.
Зная некоторые привычки Муго, потреблявшего иногда в день целый ящик пива и любившего посетительниц женского пола, Кабоко посоветовал ему занять одну из вечно пустующих кают люкс и сделать ее отныне капитанской. Она была намного просторнее, разделена на две половины и расположена в той же надстройке, но она не была слишком уж на виду.
Комлев не знал, как относится команда к смене власти на судне. Несомненно, шли жаркие обсуждения этого вопроса в матросских и кочегарских кубриках, а также среди рулевых, этих аристократов «верхней» команды. Но лица у всех, когда люди выходили на палубу, были притворно-невозмутимые и непроницаемые, и лишь в глазах иногда мелькал огонек озабоченности происходящим. Им всем надо было не потерять работу, а значит, удержаться на судне. А потеряв, найти ее снова будет так же трудно, как падающему с баобаба удержаться, хватаясь за его листья. Каким бы ни был начальник, с ним надо считаться и опасаться его. Как бы ни слаба была гиена, но с козой она справится. Так говорят в народе.
А третий помощник, Нкими, тот даже, кажется, сожалел, что не услышит больше капитанских сдержанных разносов, вроде: «Мистер Нкими, соблаговолите вовремя включать стояночные огни. И не вынуждайте меня вам об этом напоминать, сэр». А Оливейра больше уже не услышит в свой адрес вопрос: «Кому эшта у синьор?».
Натаниэл Муго был в жизни гедонистом, хотя сам едва ли слышал это слово. Он был непоколебимо уверен, что человек рожден для получения удовольствий в этой жизни, и чем он умнее, тем большую долю их ему следует получить. Себя он, разумеется, относил к этой категории. Как христианин во втором уже поколении, он, конечно, не решался снова впасть в язычество и завести себе по африканским обычаям несколько жен. Да и брачный выкуп был бы ему не по карману. Поэтому Муго внешне и официально довольствовался одной женой. Она жила с четырьмя его детьми в родном селении, обрабатывала с помощью подрастающих детей и родственников поле, содержала пять коров и несколько коз. Муго наведывался в свои родные места раза три — четыре в году, привозил семье из города кое-какой провиант, одежду и обувь, оставлял денег и отбывал снова в город. А в деревне, в его огороженной усадьбе, стояла особая, как у главы семьи, хижина, где не было традиционного очага из трех камней, так как в такой хижине пищу не готовили, а горячую еду приносили оттуда, где жила жена с детьми и был очаг. У Муго лишь было было место для разведения огня в холодные ночи в июне и июле. Дым должен был подниматься вверх и выходить через крышу из сухой травы и банановых листьев. Но Муго избегал устраивать себе такой обогрев, не желая, чтобы его городская одежда и вещи пропитывалась запахом дыма. Он по опыту знал, что такой запах может не выветриться даже до того времени, когда он вернется в город и окажется в своей квартире в многоэтажном доме. Там его ждала уже другая, городская, жена, точнее, сожительница, которой не очень нравились его поездки в родные края. Но скандалов она предпочитала не устраивать и уходом от него не угрожала, довольствуясь тем, что Муго предоставлял ей кров со столом и деньги на наряды. В ее родных краях говорят, что лучше лежать на маленькой шкуре, чем на голой земле. И нельзя было требовать от жизни невозможного. Ведь клубень ямса никогда не превратится в банан, и даже сидя на дне озера, рыбой не станешь. Конечно, ей бы хотелось, чтобы Муго не ездил к своей жене, а жил бы только с ней. Но как африканка она очень уважала идею семьи и право сожителя помогать своим детям. Что ж, если нет мяса, довольствуются вареной маниокой. Поэтому пусть лучше будет такой, как Муго, чем никого. Одинокая женщина, как известно, подвергается насмешкам со стороны других женщин. Когда говорят «у меня есть, но мало», это лучше, чем «у меня было много». Но теперь ей, возможно, придется круто менять жизнь. Муго назначили капитаном большого парохода, дома бывать будет редко, а на каждой пристани у него будет женщина. Захочет ли он держать ее в своей квартире или брать с собой на пароход? Ей надо будет пересчитать все свои сбережения, из того, что она сэкономила на хозяйственных покупках, и решить, что делать дальше.
А что касается Муго, то он никогда не отказывался от возможности погулять на какой-нибудь веселой пирушке и вступить в связь с податливой женщиной. Конечно, нужны были деньги, но теперь должность капитана давала возможность их иметь в достаточном количестве.
Капитан Форбс ушел навсегда, и всем судовым «офицерам» надо было теперь обращаться к Муго по всей форме. Нкими втайне надеялся, что они как африканцы найдут какую-нибудь особую форму отношений, и даже допускал, что Муго окажется если не из его племени, то из какого-нибудь дружественного по отношению к его собственному. Но он был глубоко разочарован, выяснив, что оба они принадлежали к племенам, у которых в прошлом были не раз кровавые стычки из-за пастбищ и мест рыбной ловли. Потом за выяснение отношений, когда в ход пускаются копья, стали надолго сажать в тюрьму. Вооруженные стычки прекратились, но взаимная неприязнь и опасливое недоверие остались.
Муго в своем роскошном мундире иногда появлялся на мостике, окидывал хозяйским взглядом с его высоты весь пароход, брал в рубке бинокль и водил им по проплывающим мимо берегам, хотя как капитан он должен был, скорее, смотреть туда, куда направляется вверенное ему судно.
В первый его приход Комлев, бывший тогда на вахте, счел нужным разрушить тягостное молчание, воцарившееся на мостике с появлением Муго.
— Капитан, — обратился он к нему, — прикажите коку хоть два раза в неделю делать салат из свежих овощей.
Муго замирал в сладостной настороженности, ожидая услышать официально-почтительное «сэр». А Комлев продолжал:
— Я ему говорил не раз, но боюсь, что потребуется ваше вмешательство, сэр.
Услышав заветное и ожидаемое слово, Муго начальственно откашливался и отзывался густым, пивным голосом:
— Мистер Комли, я этим займусь. А вы без всяких колебаний докладывайте мне, если кто-то не выполняет ваших распоряжений.
И величественно спускался с мостика по поскрипывающему под весом его тела трапу.
У таких, как выдвиженец Муго, теперь в Бонгу была должность «государственных попечителей». В основном их назначали на предприятия, фермы, в магазины, где владельцем был не гражданин страны или же тот, кто был им, но по своему происхождению являлся европейцем или азиатом. Вначале предполагалось, что «Лоала» будет продолжать плавать с Форбсом в качестве фактического капитана, хотя он и будет формально подчиняться Муго. Но Форбс об этом и слышать не хотел и высказал свой отказ в виде ряда крепких выражений. А министру транспорта Китиги обо всем этом, конечно, докладывали, сама же идея этих «попечителей» родилась в недрах президентских кабинетов, и он был к ней непричастен. Он был неглуп и понимал, что вознесся лишь благодаря личному знакомству с президентом и тому, что в ранней юности они принадлежали к одной и той же возрастной группе и проходили обряд посвящения и даже подвергались обрезанию по законам их племени, хотя оба они были крещены при местной англиканской миссии. Китиги знал, что в Бонгу никому не удавалось особенно долго задержаться у власти на самом ее верху, следовательно, и его пост мог освободиться моментально. В президентском дворце могли только завидовать политическому долгожительству Ньерере в Танзании, Каунде в Замбии или Мобуту в Заире, который снова стал теперь Конго, когда самому Мобуту-Сесе-Секо пришел конец. Что на самом деле происходит в стране, никто никогда не знает. Ведь о крысах узнают, когда загорается житница, а камни на дне реки видны, когда она обмелеет. С капитаном Форбсом он был хорошо знаком и жалел о том, что его вынудили продать «Лоалу», но вступиться за него он не посмел. Хоть у обезьяны и длинный хвост, она боится, что прижмут его кончик. Никому не хочется терять свое. Разве слепой забудет о своей палке? Этот Муго, конечно, ничтожество и никакой не капитан. Китиги надеялся, что на пароходе остались умеющие им управлять, и они не позволят его посадить на мель или утопить. Например, этот молодой русский. Его зовут, кажется, Комлев. Надо бы побывать когда-нибудь на «Лоале» с министерским визитом.
Приятно было помыться в душе после тяжелой вахты к кочегарке. В этот раз Муйико с напарником два раза пришлось чистить топки. Много было шлака, видимо, плохой на этот раз загрузили в бункер уголь. Последним чистил Муйико. Раскаленный шлак со стуком падал на железный пол, когда Муйико длинным гребком вываливал его из топки. Его напарник Симанго поливал его в это время из шланга, он злобно шипел, и пахло тухлыми яйцами. После вахты Симанго помылся раньше, а потом в душ вошли Муйико и молодой угольщик Нсимби, который на тележке подвозил уголь из бункера, а на стоянках он вообще был свободен. Сейчас он наскоро помылся и убежал. Наверное, где-то опять играет в карты. Муйико себе этого не позволял. У него есть цель: собрать деньги, чтобы уплатить выкуп за Млинди, дочь деревенского кузнеца. Правда, он был согласен подождать с полной выплатой, но Муйико сам этого не захотел. Жениться в долг — это все равно, что жить в чужом доме и знать, что тебя там держат из милости. Тепловатая вода била тугими струями, и Муйико медлил покидать душ. Ему многое нравилось на пароходе. Он спит здесь на мягкой постели, а дома у них принято было спать на полу хижины, подстелив циновку из жесткой травы, и под голову клали деревянный брусок с углублением для затылка. В холодные ночи — а у них на горных склонах часто бывает холодно — в особом закутке держали маленьких козлят и ягнят, а очаг иногда горел всю ночь. Тот, кто просыпался, подкладывал в него припасенные с вечера сучья. Дым поднимался вверх и медленно выходил сквозь черную от копоти кровлю. А здесь на реке всегда, кажется, тепло, временами даже жарко. Кормят здесь три раза в день и всегда вовремя. Правда, иногда хочется того, что он любил есть дома. Там было одно большое лакомство: крупные древесные гусеницы. Их, еще шевелящихся, обрызгивали водой, обваливали в муке и жарили в пальмовом масле. Здесь похожих на тех, что у них, гусениц (они, правда, поменьше) продают на некоторых пристанях в железных мисках, но стоят они недешево. В этих краях вообще все дороже.
Муйико вытерся полотенцем, надел одни только шорты и пошел к своему кубрику. Хороший этот белый, который тогда спас его от полиции. Он выяснил: его зовут Комли, мвами Комли. В его племени говорят: если кто-то с тобой, будь и ты с ним. Может быть, и он когда-нибудь сможет помочь мвами Комли. Ведь когда у тебя рана на спине, сам ты ее не вылечишь, и нужен кто-то другой. Что у них изменилось с тех пор, как кончилась одна власть и началась другая? Вместо белого окружного начальника у них теперь черный. Раньше повсюду требовали пропуск, а теперь вместо него удостоверение с фотоснимком, и теперь его требуют показать только в городе. Но в полицейскую кутузку сажают так же исправно, как и прежде. В их племени говорят: что старая змея укусит, что молодая — разницы в этом мало.
Комлев, наконец, нашел время, чтобы раскрыть журнал со статьей Нанди. Он боялся, что она будет отличаться нелюбимой им наукообразной вычурностью слога и докторальным тоном, что отобьет у него охоту доискиваться смысла. Опыта, а тем более привычки читать научные тексты у него не было, да еще и на чужом языке. Но журнал, где работала Нанди, был не научный, а, скорее, общественно-политический и даже отчасти литературный, поэтому Комлев зря пугал себя надуманными трудностями. Сама Нанди работала в женском отделе журнала, и можно было догадаться, какие вопросы она ставит в своих работах и даже пытается разрешить. «Что нужно и является наиболее важным для женщины, особенно африканской, чтобы почувствовать себя свободной и даже счастливой?» — читал Комлев начало статьи, поглядывая при этом, уже по привычке, в окно, где можно было видеть всю ширь Мфолонго. Их только что обогнал, что было обычным делом, какой-то небольшой пассажирский теплоход. Сейчас наверху стоял вахту Оливейра. Комлев продолжал читать:
«Ей не нужно равенство с мужчиной, ей не нужно осваивать несвойственные ей мужские роли, она должна почувствовать себя всего лишь равноценной ему, но служить только своему предназначению. Между полами должно быть взаимодействие, сотрудничество, а не достижение одним из них превосходства над другим. Но в традиционных обществах Африки все взаимоотношения между мужчиной и женщиной были построены на противопоставлении друг другу и отчасти даже на противостоянии. И этот ненужный и вредный антагонизм охватывал все стороны жизни. Создавалось впечатление, что мужчины еще в древний период истории добились превосходства над противоположным полом, видимо, благодаря своему физическому преимуществу, и теперь у них не проходит беспокойство, переходящее в страх, как бы это превосходство у них не отняли».
Далее Нанди писала о том, что в африканских обществах поддерживалось мнение, что удел женщины — это семья, рождение и воспитание детей, а имущество, власть и закон должны были находиться в руках сильной половины человечества. Еще она писала: «Мировые религии тоже не были особенно милостивы к женщине. Так, одна из самых древних, иудейская, не позволяет ей даже молиться рядом с мужчиной. Того же придерживается и самая молодая — мусульманская».
Комлев нетерпеливо заглянул в конец статьи, решив, что всю ее он еще прочтет, когда закончится речная часть рейса и они войдут в озеро Кигве. А в конце статьи он прочел следующее:
«Африканская женщина является олицетворением плодовитости и еще стабильности во всем, потому что она является хранительницей дома и очага. Поэтому мир и гармония в обществе, не только африканском и традиционном, но и современном, зависит во многом от нее. Никто не будет отрицать, что изначальная агрессивность и наклонность к насилию, свойственная определенной и задающей тон части мужчин, вела к войне между племенами в прошлом и продолжает вести, в частности, к военным переворотам, вооруженным столкновениям и в современной Африке. Бескровная, но напряженная борьба женщин с мужчинами в африканском обществе (но и в других обществах тоже) вызывается, скорее, обстоятельствами и проявляется как протест против мужской агрессивности. В ней больше стремления со стороны женщин к самосохранению, чем просто противодействия друг другу. Здесь нет конфронтации ради самой конфронтации. И в заключение можно добавить, что среди известных африканских женщин последнего времени не было ни одной, которая бы напоминала до крайности воинственных Голду Меир в Израиле или Маргарет Тэтчер в Англии».
Ритуал приемов пищи, заведенный капитаном Форбсом, как-то незаметно сошел на нет. А заключался он, в частности, в следующем. Все усаживались вместе за стол, включая и механика Рамгулама Шастри, который, как известно, не ел ни мяса, ни рыбы. Входил капитан, все вставали и приступали к еде. Муго же в столовую не ходил, так как предпочитал, чтобы ему еду приносили в каюту. Кроме того, выяснились и его некоторые гастрономические пристрастия. Больше всего он, оказывается, любил весьма пряное блюдо из мяса, картофеля и фасоли, запивая его парой бутылок пива. К отсутствию за столом этого условного капитана быстро привыкли, и каждый стал приходить и садиться за стол в удобное для него время. Кок и буфетчик эту практику явно не одобряли, так как затягивалось их пребывание на рабочем месте. Комлев решил, что он, как старший по должности, отведет под прием пищи ровно час, и после этого камбуз должен был закрываться. Он надеялся, что механик Шастри его поддержит. А Муго он вообще не будет ставить в известность, как будто его и нет на судне.
«Лоала» продолжала двигаться вниз по реке, вспенивая ударами плиц желтоватую воду, и пока в пути, как про себя называл это Комлев, «нештатных» ситуаций не возникало.
Но с Муго стали происходить какие-то перемены. Вначале он был вполне доволен своим положением. Во время хода он уже не утруждал себя восхождением на капитанский мостик (трап был высок и довольно крут), он сидел в своей каюте люкс, официантки из бара приносили ему время от времени пиво, и он иногда их подолгу держал у себя. Но Нолина к нему, кажется, не носила пиво, видимо, она была не в его вкусе или же грубила ему, что на нее было похоже. Проходя случайно мимо Комлева, она бросала на него нелюбезно-обиженный взгляд, ибо он, как она считала, ее совершенно незаслуженно отверг. Комлев не замечал, собираются ли теперь по вечерам матросы на баке для своих песенных импровизаций и приплясывания под удары маленького барабана. О чем бы они сейчас пели?
Когда подходили к пристани, Муго все же поднимался на мостик, но не для того, чтобы проследить за швартовкой, как это делал Форбс, а чтобы просто покрасоваться на мостике, сияя пуговицами и золотом шевронов на рукавах. Потом он спускался на причал, здоровался за руку со знакомыми, и их было всегда много. Встречали его и накрашенные, ярко наряженные женщины, он их неизменно обнимал и иногда звучно шлепал ниже талии. Одну из них он провел к себе, и она прокатилась с ним пару пристаней и сошла утром на причале уже третьей пристани. Казалось, для Муго настала необременная ничем жизнь, и ему оставалось только ею наслаждаться. Но Комлев стал замечать следы недовольства на его пухлом лице, а в его выпуклых глазах мелькало нечто обиженное, как у ребенка, которого лишили обещанного подарка. Видимо, он с запоздалой уязвленностью стал осознавать свою ненужность на пароходе, понимая, что даже распоследний палубный матрос, босой, в синей рабочей рубахе и шортах, знает, что ему надо делать и что у него есть свои рабочие часы и часы отдыха. А вот у него, капитана Муго, оказывается, нет ни того, ни другого. Муго нуждался в самоутверждении, а такие, как он, подозревал Комлев, могут делать это только за счет других. «Вот скоро он начнет ко всем придираться и ко мне в первую очередь как к белому, — мрачно думал Комлев. — А мне надо доработать хотя бы до первой зарплаты. Я даже точно еще не знаю, какая она теперь у меня будет. И еще надо будет выяснить, сколько стоит самый недорогой билет на самолет».
Комлев никогда не стучался в каюту Муго и тем более не входил в нее, опасаясь наткнуться на какую-нибудь сцену, которая могла бы с наглядной отчетливостью высветить какие-нибудь пикантные подробности времяпрепровождения обитателя каюты люкс. Самыми невинными для обозрения были бы картины пивных кутежей (до более крепких напитков Муго еще не добрался) или игры в карты, тоже на пиво, с Кабоко. Комлев пока держался в отношениях с Муго в рамках натянутой учтивости, но не знал, насколько ее хватит. Первоначальная же приветливость Муго с некоторым оттенком виноватой угодливости («я вовсе не напрашивался к вам сюда капитаном, меня прислали») уже почти улетучилась.
Итак, обращаться к Муго Комлеву никак не хотелось, хотя он понимал, что это было неизбежно. Сейчас была его вахта, и на левом берегу уже была хорошо видна рыбачья деревушка, где несколько хижин стояли в мелкой воде на кривоватых ногах-сваях. Оттуда две лодки-долбленки шли наперерез «Лоале», и цель их приближения к пароходу была выражена с отчетливой предметностью, так как в обеих лодках рыбаки время от времени поднимали вверх крупные рыбины, молчаливо призывая этим корабельщиков к торговле. Комлев как старпом должен был следить за наличием продовольствия на судне, и ему непосредственно подчинялся и содержатель провизионки на пароходе. А свежей рыбы давно уже не было в рационе. Так что надо было сбавить ход до малого и дать возможность лодкам причалить. Но по правилам сбавлять ход можно было только с ведома капитана. Комлев перевел машинный телеграф на «средний» и скорым шагом направился к каюте Муго, а достигнув ее, громко постучал и не менее громко крикнул, не зная, насколько вменяем сейчас обитатель каюты:
— Капитан! Вас беспокоит старший помощник, сэр!
Муго сравнительно быстро отозвался на стук и голос, дверь открылась, и было видно, что пьян он был весьма умеренно. Хмель еще бережно качал его на своих пологих волнах. Муго был сейчас почти благодушен, тогда как в утренние, похмельные часы его одутловатое лицо бывало перекошено злобным отвращением к окружающей его действительности, которая, как утверждают философы, дается нам в ощущениях.
— На подходе лодки рыбаков, сэр, — скупо доложил Комлев. — У нас не было свежей рыбы еще с прошлого рейса.
— Разрешаю остановить судно, — милостиво прогудел Муго. — Известите пассажирского помощника. На тот случай, если у содержателя кончились наличные.
На этом разговор и закончился, но во взгляде Муго Комлев успел уловить помесь комической величавости и сознания своей ненужности на судне, где каждый знает свои обязанности. Такой взгляд внушал тревогу, ибо его владелец жил во власти своих комплексов, а это до добра не доводит.
На пароходе был читальный зал, а вернее, просто большая каюта на верхней палубе, там же, где и капитанская. Среди пассажиров «Лоалы» читатели были явно в меньшинстве. В этой каюте стояли порядком потрепанные книжки карманного формата на английском. В основном это были дешевые детективные романы, оставленные, скорее даже, брошенные пассажирами прежних времен. Еще лежала кипа старых журналов, тоже на английском, но были журналы и на лулими. Теперь главным читателем на пароходе стал Муго. Правда, читал он в своей каюте, но материал для чтения он брал с полки в этой читальне. Он даже стал запирать ее на ключ.
— Наш капитан просвещается, — заметил однажды Оливейра, которого Комлев сменял на мостике. — У бедняги, видимо, раньше было мало свободного времени.
Было непонятно, говорит он серьезно или с издевкой. Его смуглое лицо было по-восточному непроницаемо. Комлев уже заметил, что с Нкими он о капитане не говорил ни слова, видимо, они мало доверяли друг другу. Но Комлев не забывал, что он все-таки старпом и может позволить себе не играть в дипломата.
— Времени у капитана Муго меньше, чем у нас с вами, потому что у него есть пара интересных занятий. Но если прибавится еще и чтение, тем лучше для нас.
Оливейра тонко улыбнулся, молча сделал Комлеву поклон, какой возможен только у португальского сеньора, и направился к трапу.
Комлев уже не раз ловил себя на том, что его знания об Африке постыдно малы и их приходится пополнять на ходу. Своими рассказами страноведческого характера ему во многом помог Мфумо. Во-первых, Комлев понял, что между африканцами не меньше различий, чем между европейцами разных национальностей. Не знать об этих различиях — значит становиться на точку зрения необразованного, да еще и недалекого африканца, для которого и англичанин, и русский абсолютно одинаковы уже на том основании, что и тот и другой — нсунгу, то есть белый. Хотя каждый из двух сравниваемых может воспринимать другого чуть ли не инопланетянином.
Так же и для африканца представитель другого племени, несмотря близость по цвету кожи, курчавости волос и строению лица, абсолютный чужак. Слово «Африка» здесь услышали от европейцев не так уж давно и ощущать себя африканцами немного научились, только проучившись несколько лет в школе. Здесь каждый воспринимает другого как представителя какого-то племени, какой-то расы, носителя других признаков. Здесь не говорят: «К тебе кто-то приходил», — а скажут с уточнением, что приходил черный, белый или, скажем, индиец. А если это был мулат, то так об этом и скажут.
Как понял Комлев, при англичанах все межплеменные распри жестоко пресекались, и в колонии царил вынужденный мир. Можно было безбоязненно ездить по всей стране. Но многие вообще старались не покидать родных мест и мало что знали вокруг. Была даже поговорка: «Что есть в Китури, то есть и в Болонго». А те, которым приходилось совершать дальние переезды или переходы, порой готовы были даже голодать на земле чужого племени, чем есть чужую непривычную пищу. А когда пришла независимость, вновь вспомнили о границах между землями племен, и забираться в чужие края стало опасно. Здесь говорят, что пугают сами заросли, где прячется леопард, даже если его давно никто не видел. И еще: падающее дерево не придавит того, кого здесь нет.
Комлев жил в бывшей каюте капитана Форбса, и ему казалось, что за долгие годы и стены ее, и пол, и потолок пропитались его желаниями, симпатиями или неприязнью. Спал он в ней плохо. Правда, часть ночи он проводил на мостике во время ходовой вахты, поэтому весь его сон был разделен на части и не длился более четырех часов. И сама эта каюта была словно рулевая рубка, только расположенная ниже и без штурвала. И когда он не спал и даже не смотрел в окно, где был виден нос судна, он каждым нервом чувствовал его движение и все, что его нарушало. Так, однажды, сменившись с вахты на рассвете, он прилег и заснул, но не на кровати в небольшой спальне, а на диване рядом с передним окном. И вдруг проснулся и глянул в окно. Он увидел, что правый берег угрожающе приблизился. Так, что были видны упавшие в воду деревья, белый пеликан на одном из них и две длиннохвостые обезьяны, скакавшие по песчаному берегу. Но до того, как Комлев, быстро вскочив, кинулся к двери, пароход уже успел отвернуть влево и оказался почти на середине реки. «Что там у них произошло?» — думал Комлев, уже не в силах заснуть. Он хотел быстро подняться на мостик и узнать, почему судно оказалось так близко у берега, но представил себе Оливейру с уклончиво-виноватым взглядом и непроницаемое, как ритуальная маска, лицо рулевого Ньоси. «Может быть, они отвернули от плывущего бревна или бегемота, переплывающего реку? — строил догадки Комлев. — Или на их пути оказалась лодка с уснувшим рыбаком?» Что там случилось наверху, он так никогда и не узнал.
Нет, ему бы следовало оставаться в своей старпомовской каюте, где жил Палмер. А здесь словно продолжается незримое присутствие капитана Форбса, и вот сейчас он видит сквозь широкое окно, как «Лоала» с удручающей аккуратностью идет по самой середине широкой Мфолонго. Неужели Нкими научился таким безукоризненным приемам судовождения? Нет, здесь, скорее, чувствуется искусство старшего рулевого Мбизи. Комлев настоял, чтобы именно он стоял на руле, когда на вахту выходил Нкими, хотя он явно недолюбливал последнего.
А в каюте капитана Форбса не отдыхаешь и будто все еще находишься на вахте. Даже если в это время лежишь на капитанском диване. Комлев стал вспоминать разговоры с Форбсом, вернее, то, что он успел от него услышать. Когда-нибудь он возьмет и запишет все это, спасая от забвения услышанное. Ведь Форбс — это ушедшая эпоха. А у Комлева теперь среди африканских знакомых два пишущих человека: Мфумо и Нанди. Соревноваться с ними он едва ли сможет, но научиться выражать себя на бумаге ему не повредит. По крайней мере, в училище его сочинения по литературе были одни из лучших. И еще два раза в газете «Водный транспорт» было опубликовано нечто вроде очерков. Правда, потом он к этому делу почему-то охладел.
Как-то Форбс ему рассказывал об английском окружном начальнике, уже весьма пожилом, с которым он дней пять пил виски и вел разговоры, вернее, больше слушал его, как сам Комлев капитана. Начальник этот по фамилии Хьюз направлялся после отпуска на свою «станцию», если перевести это дословно с английского, и находилась она где-то за озером Кигве.
— Это было лет еще за десять с лишним до независимости Бонгу, — говорил Форбс и поглядывал в окно, так, что Комлев видел его четкий и бурый от не сходящего никогда загара профиль. — Британская империя еще сохраняла видимость своей мощи. Тогда на пароходе почти четверть пассажиров были белые: чиновники, плантаторы, разного рода авантюристы, охотники и миссионеры, конечно. Многие себя называли old colonials (Комлев перевел это для себя, как «белые жители колонии со стажем», короче не получалось). Этот мистер Хьюз был человеком старого закала, а в те годы черных практически не пускали в метрополию, и они в жизни не видели белых бедняков и тем более нищих! Они, возможно, не верили, что такое даже может существовать, хотя демобилизованные черные солдаты, побывавшие в Англии и в оккупированной Германии, кое в чем просветили местных жителей. Но в целом белые для большинства продолжали все еще оставаться расой господ. Хьюз, например, считал, что туземцев нельзя портить европейским образованием, и противился открытию средней школы в своем округе, где обучение велось бы на английском языке. Сам же он разговаривал с жителями только на их родном. Он считал, что вредно и даже опасно менять уклад жизни туземцев. Живя на земле своего племени, все они заняты делом, а их старейшины и вожди следят за соблюдением традиционных норм жизни и обычаев. А попадая в город, туземцы часто превращаются в деклассированных элементов. Живут случайными заработками, привыкают пить крепкие напитки (а дома они пили только туземное пиво), играть в азартные игры и ходить в низкопробные публичные дома. Хьюз даже сомневался в необходимости обращения туземцев в христианство. Конечно, у миссионеров своя политика. За каждого обращенного им, во-первых, сильно зачтется на том свете; во-вторых, на этом они тоже трудятся небескорыстно. В своем округе он их терпел с трудом и был порой с ними резковат. «Вы, святые отцы, — говорил он, — перестаньте морочить голову вашей черной пастве идеей равенства перед Богом. На том свете, может быть, так оно и есть, но здесь, в моем округе, я этого не потерплю. Я даже могу добиться высылки вас из колонии за подрыв власти». Миссионеры на него постоянно жаловались, Хьюзу выговаривали, но губернатор таких служак, видимо, ценил. Тогда ведь никто и не заикался об этом самом эзотеризме африканской души, отвергающей культуру рационального типа, как теперь пишут политизированные газетчики.
Комлев не сомневался, что капитан Форбс нуждался в слушателе. Он прожил долгую жизнь, и ему хотелось немного разгрузиться от увиденного и услышанного за долгие годы. И не Оливейре же, родившемуся в Бонгу, все это рассказывать. А Нкими в чем-то счел бы его даже расистом. Интересно, как он сам в душе относился к этому Хьюзу, обломку Британской империи?
А Форбс, заставляя позвякивать тающие ледяные кубики в своем стакане виски, к которому он не забывал прикладываться, продолжал:
— Не знаю, читали ли вы «Люди бездны» Джека Лондона…
— Читал. В русском переводе, конечно. Тогда в английском языке я был на уровне посредственного школьника.
— Зато теперь вы заметно преуспели, — сдержанно похвалил его капитан и глянул на него искоса. — Так вот, вы помните историю того, как он оказался тогда в Лондоне. Это было начало века, поездка корреспондентом на англо-бурскую войну сорвалась из-за того, что его лишили средств, но зато он изучил жизнь тогдашнего лондонского дна и написал книгу. В Англии она многим была не по душе, но пришлось проглотить эту горькую пилюлю. К чему я все это вспомнил? А к тому, что тогда было время расцвета Британской империи и время нищенского положения народных низов в самой метрополии, куда стекались огромные богатства со всего мира. Однако их распределение оставляло желать лучшего. И вот, мистер Комлев, я пришел к парадоксальному открытию. Богатейшая колониальная империя не обеспечивала благосостояния граждан даже метрополии. И только с ее крушением уровень жизни малообеспеченных слоев начал повышаться. Во всяком случае, Англию страной социальных контрастов теперь не назовешь. Хотя все говорят, что она самая дорогая страна в Европе.
Форбс критически посмотрел сквозь свой стакан на свет, словно проверял степень разбавленности виски, что легко было заметить по снижению интенсивности окраски того, что было в стакане. Капитан тут же устранил эту досадную диспропорцию, добавив еще виски из бутылки.
— Вот и я был свидетелем крушения этой империи. Я родился в год, когда Ирландия отмечала первую годовщину своей независимости от Англии. А в год независимости Индии, от которой тут же отделился Пакистан, я уже был владельцем «Лоалы».
Капитан Форбс замолчал, глядя в окно, где всегда была видна равнодушно текущая к озеру река и можно было видеть всегда зеленые деревья на ее берегах, создающие ложную уверенность в неизменности природы. Капитан и сам на своем пароходе создал некое подобие мирной империи, которой тоже пришел конец. Но его империя могла бы еще прожить долго, если бы не стала почему-то мешать некоторым политикам в этой черной республике, которых окружной начальник Хьюз не мог в свою бытность представить даже в наиболее фантастичном и даже страшном из своих снов.
После долгой паузы Форбс сказал, словно делал заключение:
— Во время моей последней поездки на родину года четыре назад я заметил, что в Лондоне чуть ли не каждый пятый из встреченных на улице — это выходец из Африки или Азии. Такое впечатление, что распад колониальной империи не очень и обрадовал освобожденные народы, если они потянулись в бывшую, угнетавшую их метрополию. И еще я заметил много попрошаек на улице, и все это люди белой расы. Например, подходит к тебе девушка, похожая на студентку, и говорит, что ей не на что кормить своего ребенка. Отца, разумеется, у него нет. Зачем тогда она его вообще родила? В Африке такое невозможно. Здесь нищий — это либо нетрудоспособный калека, либо отбившийся от своего племени старик.
Комлев подумал, что если Форбс спросит его, как обстоят дела в России, он не будет утаивать правды. Попрошайки теперь повсюду, а среди них немало и выходцев, судя по их внешности, из бывших азиатских республик, входивших в состав его страны, и все они граждане независимых ныне государств. Но капитан Форбс ни о чем его не спросил. Возможно, он просто устал, сказав сегодня так много.
Мфумо почти целый день ехал на изношенном скрипучем автобусе с залихватской надписью на бортах «Попробуй обгони!»; он стремился оставить за собой как можно больше пространства этой красноватой, прокаленной солнцем земли. Ему казалось, что его возможным преследователям придется, если у них хватит глупости его искать, ехать и ехать по этим пыльным, ухабистым дорогам, пока они не плюнут в красную дорожную пыль и не повернут назад. Мфумо сознательно отгонял от себя мысль, что если военным кто-то очень нужен, они могут за ним послать и вертолет. Но стоит ли думать о том, чего нет и, возможно, не будет? Мы ведь не назначаем цену за клубни маниоки, если их еще не выкопали. И не говорим, сколько стоит рыба, если сеть еще в воде. Мфумо также надеялся, что когда военные все-таки решатся на мятеж, у них появятся сразу же более неотложные дела. Когда в доме пожар, за мышами никто не гоняется.
Мфумо слез с автобуса еще задолго до захода солнца, и вскоре ему удалось сесть в кузов небольшого грузовика с немолодым водителем в старой английской военной рубашке. Возможно, он сам когда-то служил в колониальных войсках. Он вез пару десятков бычков куда-то на откорм и, в дальней перспективе, на бойню. У них были спутаны передние ноги, чтобы они не перепрыгнули через борт, но сейчас они все лежали на соломенной подстилке. У самой кабины было отгорожено место для молодого пастуха-сопроводителя с глупым лицом. Мфумо устроился рядом с ним на ящике, держась рукой за кабину. Она была еще горяча от дневных лучей солнца.
У водителей на здешних дорогах две напасти: в период дождей машина может соскользнуть с дороги, и ее будет трудно потом назад вернуть, а в сухой сезон она может серьезно забуксовать на песчаном участке дороги. Именно это и случилось с грузовиком, на котором ехал Мфумо. Водителю, который все время напропалую болтал в кабине со своим приятелем, видимо, не хватило внимательности, и он заметно снизил скорость в песчаной колее. Когда он понял, что застрял окончательно, он вышел с приятелем из кабины и обратился к пассажирам в кузове:
— Недаром говорят, что лучше иметь немного ума, чем много силы. Это я виноват. Помогите, братья, чтобы нам всем здесь не заночевать.
Каждый из четырех человек разгреб руками песок вокруг своего колеса и стал класть впереди и сзади сухую траву, ветки, камни, а еще втыкали прутья, оплетенные жесткой травой, и притаптывали их. Потом водитель разгреб песок впереди машины по двум будущим колеям, и там тоже втыкали прутья, оплетая их сухой травой. Все понимали, что здесь все надо делать на совесть, чтобы не начинать потом работу снова. После этого водитель с каким-то благоговейным смирением занял место в кабине, включил мотор, дал газ, а остальные подталкивали кузов сзади. И грузовичок сумел как-то выбраться из песчаной ловушки.
И снова понеслась навстречу красная дорога с чахлыми на вид и с пожухлой листвой редкими зарослями по обеим ее сторонам. Мфумо поглядывал вперед с опасливой надеждой на благополучную встречу с родственниками его матери. Он собирался пробыть там несколько дней и отправиться дальше. Когда долго не посещаешь места, где живут те, кого ты с детства знаешь, едешь туда всегда со скрытой тревогой. Время не остановишь, и оно не щадит никого. Как здесь говорят: «Идешь к дому, чтобы спросить о здоровье хозяина, а слышишь оттуда голоса плакальщиц».
Комлев уже знал, что таких, как Муго, признание их власти и внешняя безропотность только подстегивает к дальнейшему самоутверждению. Он, казалось бы, должен теперь успокоиться и наслаждаться жизнью. Внешне все оказывают причитающиеся ему как капитану знаки внимания. И от него никто ничего не требует, лишь бы он не мешал работать. Но Муго явно было мало всего этого. Из всех троих помощников капитана ему не давал покоя старший, к тому же еще и белый. Муго прекрасно знал, что ничего не понимает в судовождении, да и в работе судна в целом. Его отношение к флоту ограничивалось некоторым знанием деятельности обыкновенной речной пристани. И Муго знал, что старпом знает о том, что он, Муго, ничего не знает о функциях капитана на судне. Его злила собственная беспомощность. Если бы только Муго мог сам попробовать разобраться, почему он не в ладах с самим собой, но склонностью к самоанализу он никогда не отличался. Ему хотелось, чтобы Комлев по-настоящему признал в нем начальника, а не только делал вид, да еще и не очень убедительно. В то же время Муго почему-то считал, что ему должны делаться определенные скидки как африканцу и еще малообразованному человеку. Выходило так, что он хотел получить от Комлева сразу и подлинное уважение, и снисходительность к его невежеству, и даже определенное сочувствие к нему. Для Комлева это была сложная ситуация, тем более, что он вообще плохо знал психологию африканцев. Здесь, в Бонгу, ему почти не приходилось даже иметь дела с черными чиновниками. Об особенности их поведения он слышал кое-что от Форбса и кое-что от Мфумо. Чиновник здесь мог разыграть целый спектакль, изобразив своей игрой сложную гамму чувств, во многом похожих на те, которые теперь проявлял Муго. Но понять чиновника было проще, потому что он хотел получить за оказываемую просителю услугу как можно больше, в то же время стараясь уменьшить эту самую услугу. Муго же действовал бескорыстно, но и услуги никакой не оказывал.
Однажды днем, когда на мостике был Нкими, а Комлев уже по привычке следил, глядя в переднее окно, за продвижением судна по реке, к нему явился Оливейра. Сеньор бы явно нетрезв, что было на него непохоже.
— Когда-нибудь я стукну его ночью по голове чем-то тяжелым и выброшу за борт, — мрачно заявил он, усевшись на диван и вытянув ноги в форменных белых гольфах и черных туфлях.
Комлев знал, кого имеет в виду гоанец и потомок португальского конкистадора. Возможно, в нем только теперь, четыреста лет спустя, взыграла кровь его далекого предка, если действительно таковой имелся, а не существовал только в воображении второго помощника капитана.
— Жуан, не будь дураком, — с грубоватой участливостью посоветовал ему Комлев. — Ты подведешь всю команду и меня особенно, если попробуешь поднять на него руку.
И тут он вспомнил вычитанное где-то или услышанное от кого-то правило и решил поделиться им с Оливейрой.
— Если мы не можем изменить жизненную ситуацию, мы можем изменить свое отношение к ней.
На Оливейру это, как ни странно, подействовало.
— Ладно. Я обещаю держать себя в руках. Но ведь он хотел меня послать в бар за пивом!
— Надо было спокойно и вежливо сказать, что для этого есть судовые стюарды. А я-то думал, что официантки из бара по-прежнему носят ему пиво.
Комлеву никогда не нравилось, когда говорили: «Доверяй, но проверяй», и он считал это вредной и циничной лжепоговоркой. Ибо смысл ее был прост и ясен: «Не доверяй, но делай вид, что доверяешь». Доверие на то и доверие, что начисто исключает необходимость проверки. Комлев, хотя еще слабовато знал судовой ход реки Мфолонго, верил, однако, своей интуиции. Поэтому он предложил такое расписание вахт на мостике, где у него оказывалось две вахты в темное время суток с перерывом в четыре часа. В каком-то смысле он взял на себя функции капитана Форбса, не имея на это, впрочем, никаких моральных и профессиональных прав, кроме некоторого судоводительского опыта, который, как он считал, был у него выше, чем у Оливейры и Нкими.
Он даже полюбил ночные вахты. Ночью на мостике царила прохлада, а река была достаточно широка, чтобы избавить «Лоалу» от прилета комаров с берега. Почти посредине мостика, левее на метр от того места в рубке, где стоял штурвал и рулевой за ним, находился довольно мощный прожектор. Он включался вахтенным помощником, когда требовалось разглядеть то, что вызывало сомнения у последнего. Комлев теперь уже знал, что бегемоты переплывают реку крайне редко, да еще и ночью. У каждой их семьи есть ревниво охраняемая береговая территория, и покидать ее надолго бегемоты не любят. Люди же на лодке плыть по ночной реке решаются только в исключительном случае. Ему уже сказали о местной пословице: «Если твою лодку перевернул бегемот, радуйся, что тебя не схватил крокодил». Африканцы традиционно не любят темноты, считая, что ночь — это время, когда выходят на охоту хищные звери, выползают из своих нор змеи, а колдуны и разного рода чародеи вступают в свое неблаговидное и тайное общение с силами зла.
Всем судоводителям приходится часто видеть звездное небо над головой, а морским еще и нужно отыскивать при помощи небесных светил свое место в океане. На реке, впрочем, такая необходимость совершенно отпадает, так как судно идет по знакомому фарватеру.
Комлев еще не привык к виду незнакомых созвездий южного полушария, и они его интриговали, как трудный кроссворд. Когда-нибудь он, возможно, будет их ностальгически вспоминать, когда вернется в родное северное полушарие. Ему всегда казалось, что человечество мало уделяет внимания небесному своду, так щедро усыпанному мерцающими звездами. Он не имел в виду, конечно, тех, которые созерцают этот самый свод вполне профессионально, за что даже получают зарплату. На звездное небо, по его мнению, должны взглядывать время от времени все. Это же зрелище открытого космоса, черная, пугающая бездна, только расположенная не внизу, как положено всякой бездне, а вверху. И мысль о затерянности в космосе, мысль об этой ничтожно малой точке, которой является планета людей должна как-то смягчить нравы, умерить страсти, заставить быть скромнее в своих желаниях и притязаниях. Есть вещи, думал на своих ночных вахтах Комлев, которые просто призваны отрезвлять человека, и среди них одна, которую ему не дано постигнуть. Разве можно, например, представить бесконечность Вселенной? Как и вообще любую бесконечность? Если очень над этим задуматься, это способно вызвать лишь головокружение и даже физическое ощущение морской болезни.
Идя на ночную вахту или закончив ее, Комлев считал своим долгом пройти по судну, чтобы своим старпомовским глазом выявить какие-нибудь недочеты. Он знал, что вахтенные матросы должны находиться на своем месте. Пусть они даже в это время играют в карты или пытаются соблазнить пассажирок в цветастых покрывалах или же с изображением великих африканских деятелей, начиная с Кваме Нкрумы.
В этот раз он прошел почти до кормы, поравнявшись с автомобилями, застывшими в сонной неподвижности и с деревянными колодками, поставленными под колеса. Он посмотрел в сторону оконечности кормы, где два пенистых потока от пароходных колес сливались в один. Комлев не очень любил это место ночью, он все еще не забыл то, что произошло с ним менее двух недель назад. Он повернулся и пошел назад, а потом почему-то заставил себя обернуться. И вдруг увидел у самого ограждения на том же самом месте у правого борта человеческую фигуру. В неясном свете он не мог разглядеть подробностей, но ему вдруг показалось, одновременно с мурашками, пробежавшими вдоль спины, что это был он, тот самый, который в ту ночь оказался за бортом. «Ну вот, не хватало еще зрительных галлюцинаций», — неприязненно по отношению к самому себе подумал Комлев. И в это самое время ему показалось, что в затылок ему направлен чей-то пристальный взгляд, который он чувствовал просто физически. Он оглянулся так быстро, будто его шею повернули, как механизм на шарнирах. На палубе, опершись спиной о стенку кормовой надстройки, сидел старый туземец, постелив небольшую циновку. Был он закутан в грязно-серое покрывало, из-под него выглядывала часть его седой головы. «Почему я не заметил его, когда только что проходил здесь?» — подумал Комлев и решил, что старик, скорее всего, лежал, завернувшись в свою хламиду и поджав ноги, и поэтому остался незамеченным. Комлев машинально глянул на корму: там не было никого. И даже если бы там кто-то только что стоял, он должен был направиться только в ту сторону, где сейчас находился Комлев. А это можно было сделать, только обогнув место, отведенное для автомашин и огороженное железной сеткой с трех сторон.
Взгляд у старика был по-прежнему пристальный, но он все время отводил его: у африканцев не принято долго смотреть в глаза, это считается дурным тоном. Он высвободил руку из-под покрывала, чтобы почесать седую, спутанную бороду. По плечо обнажилась его худая рука со странными браслетами из полосок кожи с белесым волосом наружу. А на шее у него висело нанизанное на засаленный шнурок нечто, похожее на зубы каких-то крупных хищников.
«Колдун или знахарь-врачеватель, — с беспокойством и даже с непонятной опаской подумал Комлев. — Может быть, он и заставил меня видеть эту фигуру на корме». Он уже хотел пройти мимо, когда старик сказал на лулими скрипучим, как звук древесной лягушки, голосом:
— Нсунгу, я знаю, что с тобой было вон на том месте, когда луна шла на убыль. Но этого больше не будет. Твои враги теперь далеко. Но может быть новая беда. Господин! У тебя есть враг здесь. Это женщина. Больше я ничего не знаю.
Комлев вспомнил слово «мукото», которое с оттенком уважения употребляют, обращаясь к старым людям.
— Спасибо за твои слова, мукото, — сказал Комлев, выгреб из кармана несколько бумажек по пять и десять пондо и подал старику. Тот высвободил другую руку из-под покрывала и принял деньги обеими руками, выражая этим благодарность.
«Женщина, которая здесь», — думал Комлев над словами колдуна, идя к своей каюте. Ее передняя часть с широким окном была вровень с надстройкой, которая возвышалась на два с половиной метра над палубой. Два окна было по обе стороны каюты, и Комлев старался их держать зашторенными. Как он ни старался отмахнуться от слов старика, которые он не без труда еще и понял, они не давали ему покоя. Женщина, которая здесь. То есть на пароходе. Неужели Нолина? В последний раз они случайно встретились вчера поздним вечером на верхней палубе, когда Комлев шел посмотреть, как закреплены чехлы на спасательных шлюпках. По прогнозу погоды ожидалось усиление ветра. Он отдал распоряжение боцману, но проверить самому никогда не мешает. Нолина курила, стоя у поручней, хотя для курения на верхней палубе были отведены особые места. С берега дул упругими порывами тепловатый, пахнущий мокрым илом и песком ветер. Она бросила сигарету за борт, увидев Комлева, а он про себя отметил, что в случае сильного ветра горящая сигарета могла легко попасть в открытое окно каюты второго класса прямо на коврик на полу или на постель. Нолина прошлась вместе с ним до первой шлюпки и прижала Комлева грудью к шлюпбалке, дыша ему в лицо сложной смесью выпитого за вечер в баре. Там у них не возбранялось принимать угощение от клиентов. «Комли, — сказала она (скорее всего, она так и не знала, имя это у него или фамилия), — Комли, ты ведешь себя нехорошо. Ты просто свинья, Комли». Она сегодня, видимо, выпила лишнего и чувствовала себя весьма раскованно. На своем школьном английском она сказала ему откровенно, что еще ни разу не занималась любовью с белым человеком и давно хочет узнать, что это такое. Комлев был так ошарашен, что какое-то время пребывал в оцепенелой неловкости. Если бы он откровенно сказал, что у него точно такое же отсутствие опыта относительно темнокожей женщины, они оба пришли бы к взаимопониманию и могли бы легко удовлетворить свою любознательность. Комлева, однако, подвела его щепетильность. Для себя он давно уже отметил несомненную сексуальную привлекательность Нолины, но в его глазах в ней перевешивала вульгарность, а вульгарные женщины его отталкивали. То, что он ничего не сказал, значения не имело, к тому же, согласно местной поговорке, молчание — это тоже ответ. Нолина тогда фыркнула, как рассерженная кошка, и сказала что-то на лулими, видимо, весьма нелестное для Комлева, чего он, к счастью, не понял, и его самолюбие осталось неуязвленным. А Нолина ушла, сердито стуча по палубе каблучками.
Комлев не любил неприязненных отношений на работе, с него хватало и трудностей общения с Муго. «Надо будет как-то уладить с ней отношения», — с унылым беспокойством подумал он, не зная, как он это будет делать. При этом он старался не думать о предупреждении старого чародея на палубе и уже готов был считать это вздором. А Нолину он задобрит каким-нибудь подарком, когда они придут в Лолингве. Комлев, конечно, не знал об африканской поговорке «собираются строить загон, когда гиена уже утащила овцу».
До Лолингве оставалось меньше суток ходу. В Нтембе, предпоследней пристани, на пароход сел первый белый пассажир за весь обратный рейс. Это, как позднее узнал Комлев, был некий мистер Чейз, и на пристани его провожал местный окружной начальник. Он же и доставил его сюда на своей машине. Чейз занимался инспектированием чего-то, а чего точно, Комлев так и не понял. Он работал в какой-то международной организации, но дал только ее сокращенное название и избавил себя от его расшифровки, видимо, считая, что его должен знать каждый цивилизованный человек, если он хочет считать себя таковым. Комлев постеснялся выяснять полное название, да ему было, в сущности, все равно. Чрезмерным любопытством он не страдал.
Чейз был уже в летах, с загорелым морщинистым лицом, и было сразу видно, что он не новичок в Африке. На палубе, когда бывало очень солнечно, он появлялся в старом пробковом шлеме, который теперь никто, кажется, не носит, и это делало его похожим на карикатурного плантатора из плохого фильма об Африке. Комлеву он явно обрадовался как белому человеку, а с расово однородными людьми он, по его словам, не общался более месяца. К тому же ему хотелось выговориться. Он даже не спросил Комлева, из какой он страны, решив, что этот немногословный «мистер Комли», судя по акценту, какой-нибудь ирландец из Ольстера и настоящая его фамилия, конечно, О’Комли. Впрочем, он мог быть и шотландцем Мак-Комли. Какая разница? Немногословие же Комлева объяснялось его понятным нежеланием выставлять напоказ досадные промахи в речевом общении на языке, который по-прежнему для него оставался весьма чужим. А Чейз ни о чем его и не спрашивал, ему просто хотелось быть услышанным. Когда-то, очень давно, он был в Бонгу государственным чиновником до независимости, а еще ему приходилось бывать и в других английских владениях на Черном континенте. Так Комлев познакомился с мнением бывшего колониального служащего, и ему оставалось просто принять его к сведению, не давая ему оценки, ибо для этого следовало бы провести целую экспертизу, да еще выслушать какого-нибудь представителя образованной африканской элиты. Именно против нее были направлены филиппики Чейза.
— Я прожил в Африке не один и не два десятка, лет и до сих пор не могу понять психологию так называемых «образованных» в африканских странах. (Даже в его речи можно было ощутить эти кавычки.) Еще будучи студентами, они надеются на щедрую стипендию, которую им должно платить их нищее государство. А когда они закончат университет или колледж, они рассчитывают получить весьма необременительную и хорошо оплачиваемую работу с массой всяких больших и малых льгот. Например, при покупке машины, при оплате квартиры и всех коммунальных услуг. Я просто не понимаю, зачем нужно плодить этих образованных паразитов, которые думают только о собственном благополучии, ну еще о благе каждого из своих многочисленных родственников, вроде пятого сына четвертой жены его троюродного дяди со стороны отца?
Чейз саркастической улыбкой выразил свое брезгливое неприятие всей системы ценностей этих «образованных». И он с неослабевающей язвительностью продолжал:
— Им давно наплевать, что миллионы их сограждан прозябают в нищете и мрут от болезней. До независимости все выглядело куда проще: у белых есть все, у черных — ничего. Теперь белые давно не у власти, в африканских странах их становится все меньше и скоро даже в городах на них будут смотреть как на редкость. А те, кто занял их место, будут жить по принципу, для постижения которого нет необходимости в университетском образовании: кто сумел отхватить себе кусок пожирнее, тот и прав.
Комлев подумал, что последняя фраза Чейза весьма актуальна и для объяснения происходящего в его собственной стране, и это напомнило ему давнишний разговор с Мфумо. Действительно, можно в какой-то мере сравнить колониальную власть в странах Африки с властью партийной верхушки на родине Комлева. Только в первом случае это были пришельцы с иным цветом кожи, а во втором — свои же плоть от плоти, но носители истины в последней инстанции. И когда ее, верхушку, власти этой лишили, править страной взялись те, которые испытывали сильное желание заняться именно этим и ничем другим, а эти самые «жирные куски» стали доставаться их окружению и всем тем, кто сумел оказаться в нужное время в нужном месте. Заводы и фабрики, недра земли, богатства морей, а также морские и речные суда (а это уже касалось и самого Комлева) в одночасье обрели новых хозяев. «Россия, в сущности, тоже в некотором роде Африка, — неожиданно подумал Комлев, — и слова этого Чейза, к сожалению, применимы и к нам. Кроме, конечно, положения „образованных“ в стране. У нас уличный уборщик получает в несколько раз больше, чем профессор, а в Африке наоборот».
В первый день прихода в порт Комлев впервые получил зарплату за свой судоводительский труд. И она оказалась, к его приятному удивлению, на две тысячи пондо больше, чем ему платил этот призрачный Интертранс, организованный «братвой». На авиабилет до Москвы ему бы ее вполне хватило. Со сладостной вкрадчивостью явилась и на миг завладела им мысль о том, что теперь самое время заказывать билет на ближайший самолет. А не полететь ли ему домой через Лондон? Путь длиннее, но интереснее. Соблазн был так велик, что ему надо было отвлечься, начать какую-нибудь ненужную и прямо судорожную деятельность. Комлев вышел на палубу. Он уже заметил, что в бывшей каюте капитана Форбса его временами охватывало просто обморочное беспокойство. Что это, эманация сознания ее бывшего владельца? Еще его удивляло то, что он мало радуется тому, что теперь у него есть деньги, а значит, больше свободы. Думать все-таки ему об отъезде или нет?
Матросы убирали палубу, брезгливо сметая все следы пребывания на ней пассажиров. У них с ними все время велась малозаметная, но непримиримая война. Пассажиров третьего класса, а особенно палубных, матросы считали безнадежными дикарями и язычниками, в пользу чего говорили валяющиеся на палубе и полу кают многочисленные сухие ошметки копченого крокодилового мяса вместе с кожей, которым они лакомились в пути, жареные в масле крупные муравьи, рассыпанные повсюду. На пристанях их продавали в жестяных банках из-под кухонного жира «Фимбо».
Что его здесь ожидает? Комлев напомнил себе, что вначале он всерьез дорожил оказавшейся мнимой неуязвимостью своего положения, которой располагал в качестве сотрудника тогда еще не разоблаченного Интертранса. Теперь же, после всего, что с ним произошло здесь, он чувствовал себя как полусонный Гулливер, которого опутывают со всех сторон лилипуты, и он это слышит. Он, конечно, может еще оборвать их тонкие бечевки, но не делает этого то ли из лени, то ли из глупого любопытства, желая знать, чем это все кончится. Сейчас Комлеву меньше всего хотелось бы говорить с Муго, но он мог затеять с ним ненужный разговор просто для того, чтобы как-то подчеркнуть свою власть. Поэтому лучше всего покинуть судно. У него есть время до вахты, и надо им распорядиться. В течение этого времени ему надо сходить в банк и внести на свой, совсем уже отощавший, счет часть полученных денег. Мысль об отъезде на время перестала беспокоить его, но не покинула совсем. Еще ему надо было позвонить и встретиться с Нанди, чтобы узнать что-нибудь о Мфумо.
Потом от Оливейры он узнал, что в машине произошла небольшая поломка, но механик Шастри не обещал ее устранить к завтрашнему утру. Нужна была какая-то важная деталь, и он сам отправился на судоремонтный завод, так как только там она могла быть изготовлена. Задержка с выходом в рейс здесь практиковалась и раньше. На небольшом черном квадрате, укрепленном на столбе у входа на причал, мелом писали дату и часы отхода. Прежнюю надпись стер Муго и сделал другую, а потом остановил такси и уехал в город. Возможно, эта отсрочка рейса ему была даже на руку. Вахтенным помощником сейчас был Нкими, и Комлев, не переодеваясь, отправился по своим делам. Он заметил, что когда неафриканец здесь появляется в служебной форме, на него смотрят более благожелательно. Он как бы больше не является чужаком в этой стране, а даже подчеркнуто причастен к ее жизни и делам.
В банке он сразу же встретил Фергюссона. Он словно поджидал Комлева. Он, как показалось Комлеву, с ободрительным любопытством оглядел его белую униформу и остался доволен выправкой своего банковского клиента. Фергюссон был любезен и даже откровенен. Так, он признался, что вначале немного подозревал Комлева в принадлежности к тем, кто отмывал деньги посредством фиктивного Интертранса. Потом быстро переменил тему.
— Я разговаривал с капитаном Форбсом. Он, кстати, наш старый вкладчик. Он вас хвалил, мистер Комлев, а на похвалы старик скуповат. Жаль, что ему пришлось уйти с парохода. Вам никто не пытался за это время как-то навредить?
Вопрос был неожиданным, и Комлев даже немного растерялся. Говорить всю правду почему-то не хотелось, врать — тоже.
— Были две попытки меня устранить, — сдержанно и даже с намеком на улыбку сказал Комлев. — Вначале на улице, потом на пароходе. Но прямых подозрений у меня ни на кого нет.
Фергюссон понимающе кивнул. Он, видимо, не любил задавать лишних вопросов и тут же вскользь сказал:
— Кстати, эта пара ваших соотечественников, которая здесь была, уже покинула континент. Мы имеем достоверные сведения. А их деньги под арестом, и они их, надеюсь, никогда не получат.
Он неожиданно посоветовал Комлеву закрыть счет, так как открыть новый он всегда успеет, а большую часть наличности перевести в дорожные чеки.
— Половина всей суммы будет в английских фунтах, а половина в долларах. Вдруг вам срочно понадобятся деньги, а банк по каким-то причинам не будет работать.
В его словах была какая-то недоговоренность, и на длинном тощем лице Фергюссона была странноватая улыбка.
«Он что-то знает», — с неясным беспокойством подумал Комлев и вспомнил того, другого англичанина, молчаливого и со всепроникающим взглядом, который присутствовал однажды при их разговоре.
Через час он на почте уже отправлял родителям триста долларов. «Вот удивятся, — думал он. — Придется идти отцу в районное отделение банка». Отец Комлева почти всю жизнь проработал бакенщиком на реке, перед пенсией смог работать только пристанским матросом, а теперь с весны и до поздней осени ковырялся с матерью на огороде, который полого спускался к речному берегу. Их бревенчатый домик был в далеком пригороде. Сейчас у них уже земля скована морозом и летают белые мухи, а отец, наверное, сидит у печки, в очках с треснувшим стеклом, и читает все ту же «Советскую Россию» с ее призывами к борьбе с антинародным режимом в стране. «Для них теперь любой режим будет антинародным, раз упустили власть из рук», — машинально подумал Комлев и с какой-то мечтательной нежностью вдруг представил себе и этот старый дом, где он жил до того, как поступил в училище, и где он помнил каждую выщербину на трех ступеньках немного покосившегося крыльца. А входную дверь с осени надо было немного приподнимать, чтобы она плотно закрылась.
На улице шуршали, словно бумажные, жесткие листья молодых пальм. Жарко не было, так как облака на небе все уплотнялись, и солнце показывалось не часто. Но Комлеву говорили, что такая вот облачность еще не признак приближающихся дождей и эта погода может продлиться и месяц, и больше.
В четыре ему надо было заступать на вахту, и на встречу с Нанди у него было чуть больше двух часов. Лучше он ее отложит. Он хотел бы с ней встретиться, но его останавливала ее странная загадочность. Это не Нолина из бара с ее вульгарной живостью ухваток, привыкшая к обществу мужчин. И которая ничуть не скрывает своих намерений. А у Нанди Комлев ощущал явно обманчивую застенчивость, под которой таилась обольстительная податливость и ее-то он почему-то опасался больше всего.
«Лоала» словно находилась сейчас в легкой дреме у причала, и над ее высокой трубой курился небольшой темносерый дымок. Видимо, давление пара на ней поддерживалось на самом низком уровне. Комлеву сказали, что бункероваться пойдут завтра утром или днем, а сейчас в машине идет ремонт. В баре на верхней палубе были слышны крикливые голоса официанток. Хозяин бара решил использовать вынужденный простой, чтобы сделать основательную уборку, поэтому и не отпустил официанток домой. Зато завтра с самого утра они получали сутки отгула. Комлева это мало обрадовало. Значит, у него был еще шанс не раз встретиться с Нолиной. Он прошелся вдоль причала и проверил, как закреплены швартовы. Все вроде бы было в порядке. Вахтенный матрос сидел на причальной тумбе недалеко от трапа и болтал с дружком, пришедшим его проведать. Время от времени они хлопали друг друга по ладони и громко хохотали, видимо, отмечая удачное словцо. Касса на причале была открыта, но очереди у нее не было. Из машины слышалось звяканье металла, редкие удары молотом, и в промежутках доносилась сердитая скороговорка Шастри, который явно кого-то распекал. В его расположении было около полутора суток на ремонт, и он спешил.
В каюте было душно, так как Комлев закрыл окна перед уходом. Он открыл то окно, которое выходило на бак, опустил и закрепил москитную сетку. «Почему Фергюссон проявил такую необычную заботливость обо мне? — думал Комлев, разглядывая дорожные чеки на столе. — Похоже, он боится, что мне на что будет уехать. Сейчас они в каждом русском чувствуют потенциальную угрозу для миропорядка. И не пожалел даже валюты, хотя сам говорил, что банк расстается с ней неохотно». Комлев решил, что до выхода в рейс он не будет надевать свою белую форму, а эти чеки и паспорт тоже будет держать в кармане брюк с застежкой-молнией. Его уже предупреждали насчет воров на улицах Лолингве. В своей записной книжке, с которой не расставался, он наткнулся на сложенную вдвое записку Нгора. Ничего он в ней не понял, только увидел свою фамилию, и еще на печати со скорпионом в центре, внутри по кругу шла надпись, которую он прочел как «Анья-нья» и еще что-то, похожее на английское «Liberation Army». На обороте записки был и адрес: Лолингве, улица Лутули, 21.
8
Комлев проснулся, словно от толчка, когда еще только начинало светать, и в состоянии какой-то неприветливой нереальности всего окружающего. Например, с минуту он озабоченно соображал, что должен означать светлый вертикальный прямоугольник справа. А это была открытая дверь его маленькой спальни, где стояла капитанская кровать с накинутой на нее москитной сеткой. Где-то за пределами судна слышались слабые хлопки, будто слетали пробки с бутылок, в которых было забродившее в жару пиво.
Комлев откинул сетку и прошлепал босыми ногами к окну, перед которым стоял стол, а на нем приемник. Спать он уже почему-то не мог, хотя у него было еще добрых два часа до завтрака.
Сейчас было время первых новостей из столицы Бонгу на английском. Но сама станция, которая была от силы в двух километрах от его каюты, молчала, выдавая свое присутствие слабо обнадеживающим хрипом и шорохами. И вдруг раздался голос, но не знакомый, немного манерный голос диктора, который с несколько сонным равнодушием сообщал утреннюю порцию новостей и скучный своим однообразием прогноз погоды. На этот раз это был хрипловатый и довольно грубый, причем несомненно африканский голос которым обычно подают команды в строю, а не говорят в микрофон на всю страну с ее ближними пределами.
— Внимание! Внимание! Это голос революционной армии, которая пришла, чтобы освободить народ этой страны от тирании кучки продажных политиков, которые…
Дальше в эфире послышался невыносимый треск и какие-то звуки, которые можно было принять за выстрелы. Голос замолк, но микрофон выключен не был, и непонятные звуки вместе с отдаленными криками продолжались. Потом снова зазвучал голос, такой же армейский, но уже другой. А того, кто начал говорить первым, возможно, сейчас вытаскивали из студии, пачкая кровью пол.
— Внимание, сограждане! Это голос революционной народной армии! Тираническая клика, правившая страной свергнута и мы убили ее главарей. Сегодня мы празднуем победу! Славные освободительные силы теперь пронесут факел свободы по всем провинциям нашей страны. Внимание!
Голос опять прервался, и на этот раз микрофон выключили. Комлев не стал ждать продолжения передачи. Сердце его стучало с предательской и противной гулкостью. «Значит, Мфумо все-таки был прав, а я думал, что он преувеличивает», — озабоченно думал Комлев, поспешно одеваясь. На верхней палубе было пусто. Из-за надстройки выглянуло испуганное лицо вахтенного матроса и тут же скрылось. «На палубе уже знают», — отметил Комлев. Он понял теперь, что это за странные звуки, проникавшие к нему в каюту. В городе они раздавались где-то в районе центра. Вдалеке проплыл низко вертолет, а за ним второй. Комлев прикрыл дверь каюты и почти бегом отправился оповещать Оливейру. Нкими сейчас должен был находиться где-то наверху, это его вахта. Оливейра приоткрыл дверь ровно настолько, чтобы в щель поместился один его глаз цвета пережаренного кофе. Кажется, в каюте у него кто-то был, и ему не хотелось это афишировать, но Комлева это нисколько не интересовало.
— Доброе утро, Жуан! Хотя оно, кажется, как раз не очень доброе. В городе армейский мятеж. Муго на борту?
— Доброе утро, старпом. Муго нет. А что такое? Государственный переворот?
Но Комлев уже шел дальше. Ему все-таки хотелось найти Нкими. Может быть, он как африканец и сын своей страны лучше понимает, что творится и куда это все повернет. Мфумо же во время их последней встречи говорил очень туманно и скупо. Где-то он теперь обретается?
Комлев, выйдя на палубу, увидел, что к причалу поспешно шли, почти бежали люди, неся в руках кое-какие вещи и совсем без вещей, подъезжали переполненные машины. У сходен, ведущих на борт, уже выстраивалась шумная очередь, но Комлев заметил, как несколько мужчин уже перелезали через поручни на борт в средней части парохода. Их увидел один из матросов и направлялся к ним бегом, крича и жестикулируя. Пассажирский помощник Кабоко, уже в полной форме, появился у сходней, которые загораживали два матроса. До Комлева доносились возбужденные голоса, полные страха и растерянности. Кабоко начал продавать билеты, хотя рейс был отложен на сутки. Но касса была еще закрыта, а напирающую толпу все равно было бы не остановить. И те, кто теснился сейчас у борта, вожделенно смотрели сейчас на спасительную в их глазах палубу парохода, словно это была территория другого государства, охотно принимающего беженцев. Возможно, они думали, что судно тут же отдаст швартовы и отойдет в края, где царят мир и спокойствие и где даже не слышали о военном мятеже в столице.
Не найдя Нкими, Комлев решил вернуться в каюту и подготовиться к ее возможному осмотру и к обыску. В том, что мятежники оцепят причалы, сомневаться было нельзя. Выстрелы в городе стали слышаться чаще. Среди них преобладали одиночные, похожие на звук забиваемых заклепок на судостроительном заводе, но вдруг прорывались целые очереди, и найти им сравнение было непросто. Все это вызывало чувство тревоги, переходящее в страх, а у Комлева росло еще какое-то почти брезгливое неприятие всего этого, что происходило совсем рядом, да еще в чужой стране. Ему казалось, что вот он случайно оказался свидетелем безобразной сцены, разыгравшейся между чужими людьми, с которыми его временно свела судьба. Но при этом Комлев не мог не вспомнить то, что происходило у него на родине и что он сам видел в октябре девяносто третьего года. Он временно тогда оказался на небольшом путейском теплоходе, который перебрасывали на южный участок реки для проверки обстановки в районе Коломны. Они шли тогда к Южному порту, почти миновали Краснопресненскую набережную и уже подходили к Новоарбатскому мосту.
— Вот запомни это все, Комлев, — с подчеркнутой отстраненностью сказал ему старый уже капитан Шипунов. — Смотри, и расскажешь когда-нибудь своим будущим детям о том, что видел. Сегодня этот город стал похож на столицу какой-нибудь латино-американской или даже африканской страны.
И действительно, зрелище было просто оскорбительно шокирующим: по белым стенам огромного здания, похожего на гигантский корабль, вернее, на его главную надстройку, били орудия из танков и крупнокалиберные пулеметы. А из окон верхних этажей доносились выстрелы тех, кто засел внутри, и было хорошо видно, как белесые дымки после этих выстрелов относило в сторону слабым ветром. Несколько шальных пуль свистнуло высоко над рулевой рубкой.
— Самый полный! — крикнул в переговорную трубку капитан. Свободные от вахты стояли на палубе, и все, молча насупившись, смотрели в сторону обстреливаемого Белого дома, пока над головой не поплыли пролеты моста. Тогда, помнится, Комлев не был на стороне ни тех, ни других. Ему, конечно, казалось диким стрелять из танков в центре столицы огромной страны, но и те, которые стреляли из окон по правительственным войскам, то есть обыкновенные мятежники, были еще хуже тех, кто штурмовал здание. Героев в этом противостоянии тогда, скорее всего, не было.
И вот теперь ему предстояло пережить нечто более серьезное в далекой, чужой стране, в которой он оказался странным и даже роковым образом. Подходя к каюте, Комлев думал пока о том, что ему надлежит снять форму, делающую его очень заметным, и надеть что-то нейтральное и не привлекающее внимания. А когда он открыл незапертую дверь каюты, то не мог не вздрогнуть, так как в углу дивана, подальше от окна, сидел не кто иной, как сам господин министр транспорта Республики Бонгу, с заплывающим правым глазом. Криво улыбаясь разбитыми губами, он сказал:
— Прошу вашу помошь, товарышь.
И тут же перешел на более привычный ему английский, который тоже временами грозил ему выйти из повиновения в столь необычной обстановке, когда стоит вопрос о жизни и смерти. Комлев же готов был запоздало пожалеть о том, что оставил дверь открытой, когда пошел будить Оливейру. Теперь надо было срочно решать, что делать со скрывающимся от взбунтовавшихся военных мистером Китиги.
Кочегар Муйико и его старший напарник Симанго в это время находились на своем рабочем месте, и дел у них не было никаких. Стояночная вахта — это время отдыха для кочегара. Давление пара в котле поддерживали на самом низком уровне, с тем чтобы завтра утром можно было за пару часов поднять его до нужной отметки 15. Манометр был на видном месте, слева от котла, и такой же находился над рабочим столиком механика. Слух о том, что происходит сейчас в городе, без всякого радио промчался по пароходу с быстротой крысы, спасающейся от пожара, хотя выстрелы на улицах в железных недрах кочегарки были не слышны.
Муйико повернулся к своему рассудительному и уже лысеющему со лба напарнику, который и обучил его в свое время кочегарскому делу.
— Брат, — осторожно сказал он, — объясни мне то, что я слышал, выйдя ненадолго наверх.
— Это знак времени, и нам не уйти от того, что творится вокруг нас, — туманно ответил философски настроенный Симанго.
— Ты хочешь сказать: то, что я слышал, правда?
— Я сам в это сначала не поверил. Но это случилось. Разве не говорят у нас, что человек не уходит от реки, даже если в ней утонул его брат? Нам остается делать то, что мы делаем, будто ничего не произошло.
— Но что надо этим военным?
— Я старше тебя, Муйико, и я еще помню жизнь у нас до того, как кончилась власть белого человека. Она не намного изменилась. Вместо белых начальников появились черные, а на деньгах, где раньше мы видели только молодую белую королеву, теперь мы видим давнишних вождей чужих племен. И денег этих не хватает, как не хватало и прежних, с королевой. А военному, да еще из племени, которое живет на берегу озера с той стороны, где заходит солнце, всегда кажется, что если у него в руке ружье, как раньше было копье, то все ему теперь подвластны. Они всегда были такими. Разве гиена разучится выть, а леопард расстанется со своими пятнами?
Симанго собирался работать только до начала нового сухого сезона. К этому времени у него должна была закончиться выплата в пенсионный фонд работников транспорта. Потом он окончательно поселится в своем домишке на окраине Лолингве, где живет его семья, добавит пару новых грядок ямса и маниоки, несколько саженцев папайи, чтобы всегда были лишние плоды для продажи в городе. Он также считал, что надо увеличить и посадки бананов, если позволит его земельный участок. Банан — это ведь всего лишь большая трава, и растет он только два года. Поэтому, снимая урожай на второй год, надо уже закладывать новую посадку.
И вот тогда, во время этой содержательной беседы двух кочегаров, хотя и полной намеков и иносказаний, на решетке над самой кочегаркой, по обе стороны которой спускался железный трап, и появился «мвами Комли», как называл его Муйико. Стараясь скрыть, что он порядком расстроен, Комлев сделал знак упомянутому кочегару подняться наверх.
А минут пять спустя мистер Китиги, надвинув на нос старую шляпу и частично прикрыв подбитый глаз, с дорожной сумкой через плечо, быстро прошмыгнул по пустынному еще коридору нижней пассажирской палубы и в конце ее исчез, быстро оглянувшись, в полуоткрытой двери в кочегарку. Он неуверенно простучал по железным ступеням вниз, где Муйико, не имевший до этого дела с министрами, ввел его в темноватый угольный бункер. Там в углу за штабелем пустых ящиков, сидя на одном из них, бывший член правительства стал думать о превратностях судьбы и о том, что ему надо пока как-то прожить сегодняшний день, а уж завтрашний казался ему таким далеким, что об этом даже было смешно задумываться.
Муйико тихо сказал обеспокоенному Симанго:
— Этому мвами Комли я обязан кое-чем и он лучший из всех белых, которых я знал. А господин, который прячется в угольной яме, большой начальник, и он нас всех отблагодарит, когда мятежных военных убьют.
— Но что будет, если солдаты его найдут? — опасливо спросил Симанго, чье философское настроение не могло не подтолкнуть его к вопросу о бренности жизни, особенно если этот самый вопрос принимал слишком уж личный характер.
— Скажем, что он сам сюда зашел. Разве за всем уследишь? Надо дать ему укрыться до темноты, а тогда он и сам о себе позаботится. Ночью и слон пройдет незамеченным, как говорят у нас.
— Да, но еще говорят, что у ночи хоть и нет глаз, зато есть уши, — не сдавался Симанго, но он понимал, что выхода у них нет. Не выдавать же беглеца этим оборотням, этим отродьям павианов и гиен?
Комлев избавился от мистера Китиги, но не от неприятной и какой-то даже постыдной тяжести где-то в области солнечного сплетения, которая обосновалась в указанном месте, видимо, всерьез и надолго. Теперь его дальнейшая судьба могла зависеть от двух туземных кочегаров, из которых он и знал-то только одного. Ноги тоже стали немного ватными, и это совсем ему не понравилось. Он вошел в каюту и с нервным нетерпением заглянул в спальное ее отделение и в маленький санузел, который он по-флотски именовал гальюном. Теперь ему казалось, что там может оказаться еще кто-нибудь. События этого утра заставили его забыть даже странный сон, который он видел перед самым пробуждением. Он присел на диван и стал его с трудом вспоминать, словно развязывал туго затянутый узел. Ему снилось, что в сильный снегопад он прокладывал лопатой дорожку между двух снежных стен к родительскому дому, но сам дом не был виден из-за валившего снега и сумерек. Он работал лопатой с какой-то болезненной надрывностью, и ему все время казалось, что он взял неверное направление и никогда уже не пробьется к дому. Комлев так и проснулся с чувством изнуряющего беспокойства, которое так и не оставило его, хотя сон почти забылся. Кто знает, может, это было ему каким-то предупреждением из недоступных и непостижимых сфер, существование которых он смутно ощущал, но признавать это открыто боялся из нежелания назвать себя мистиком.
Комлев глянул на часы и напомнил себе о том, что теперь он старший на судне и что ему следует сделать нечто решительное. Разобраться хотя бы в этом нашествии пассажиров за сутки до отхода судна, дать какие-то указания двум другим помощникам и узнать от Шастри, как обстоят дела в машине.
Перед тем как покинуть каюту, он снова включил приемник на той же волне. Потом он должен послушать и другие станции, и что они говорят о происходящем в Бонгу. А из приемника вырвались такие слова:
— Продажный режим ставленников местной и иностранной буржуазии свергнут. Антинародное правительство уже в тюрьме и ждет скорого суда. Армия — самая неподкупная и честная сила в стране, и во главе ее стоит командование Особой Озерной дивизии. Оно сместило предателей из армейской верхушки, которые хотят развязать в стране гражданскую войну.
За дверью послышались незнакомые грубые голоса, Комлев выключил приемник, а в каюту без стука вошли два офицера в мятой камуфляжной форме, непривычно темнокожие для этих мест и с маленькими, угрюмыми глазами. По мнению Комлева, такие глаза можно было видеть разве что у горилл. Третий, видимо, сержант или капрал, остался стоять за порогом с автоматом наизготовку.
Комлев стер носовым платком пот со лба, стараясь делать это понезаметнее, чтобы мокрый лоб выглядел, как следствие духоты в каюте, а не как признак его переживаний по поводу собственной виновности.
— Мы должны осмотреть вашу каюту, — без всяких предисловий и на вполне приличном английском сказал один из них в суконном, темно-зеленом берете с медной эмблемой, изображавшей голову носорога в профиль. Капли пота скатывались из-под кромки берета и попадали в продольные шрамы на щеках, словно дождевая вода в заранее прорытые для нее канавки.
— Где он? — грозно спросил офицер, когда осмотрел каюту и даже заглянул под кровать в спальне. Он постарался придать своим маленьким глазкам примата как можно более устрашающее выражение.
— Кого вы имеете в виду, офицер? — осведомился Комлев обманчиво-равнодушным тоном. Это, правда, потребовало от него немало усилий, так как на самом деле ему было весьма не по себе.
Вошедшие в каюту перебросились быстрыми фразами на непонятном и странно звучащем языке. Тот, кто его понимал, узнал бы, что речь шла о какой-то «девке», даже, скорее, «шлюхе из бара». Именно она и сказала военным о подозрительном субъекте с заплывшим глазом, который юркнул в каюту этого белого помощника капитана.
— Вы сейчас пойдете с нами. Советую говорить правду. То, что вы иностранец, вам не поможет.
После этих далеко не обнадеживающих слов они вывели Комлева на палубу. Солдаты с автоматическими винтовками уже стояли на причале вдоль всего борта «Лоалы». Стихийная посадка на пароход прекратилась. Те, кто успел оказаться на борту, оглядывались с настороженным вниманием. Толпа же на берегу смотрела на недоступные теперь для нее сходни, ведущие на борт, с туповатой оцепенелостью, словно сравнивая положение тех, кто уже был на борту, со своим собственным и не зная, у кого положение лучше.
Комлева подвели к какому-то армейскому чину, видимо, с более высоким званием. На нем была фуражка и темные очки. Издалека теперь, но все так же доносились ставшие уж привычными хлопки выстрелов, короткие очереди и что-то похожее на взрывы гранат. Где-то летали и вертолеты. Было, правда, неизвестно, принадлежали они мятежникам или войскам, верным правительству.
Из-за темных очков армейского чина было неясно, на кого направлен его взгляд, но обращался он к двум приведшим Комлева офицерам и говорил он с ними по-английски. Видимо, воинское звание его было столь высоко, что не позволяло ему в разговоре с офицерами опускаться до туземного, пусть даже и родного, языка.
— Где эта официантка, которая видела, как он входил в каюту? — отрывисто спросил он.
«Значит, старый колдун был все-таки прав, — уныло подумал Комлев. — А я, дурак, в этом сомневался».
— Ее нигде на судне не нашли, сэр, — ответил тот, кто говорил в каюте с Комлевым. — Все эти девчонки из бара схватили свои вещи и покинули пароход, сэр. Мы допросили тех, кто стоит у трапа.
Чин в темных очках сказал что-то наконец на туземном языке, скорее всего, просто выругался. С Комлевым он говорить не пожелал. Он только сказал что-то коротко офицеру, тот отдал кому-то команду, и рядом с Комлевым оказалось с двух сторон по солдату с винтовками. Они подвели его к армейскому грузовику с кузовом, наполовину заполненным задержанными. Один из солдат показал Комлеву на кузов. Кто-то из арестантов подал ему руку, помогая перелезть через борт. Там уже сидели на корточках по углам четверо солдат с автоматами. Комлев оказался единственным белым среди задержанных, и на него посмотрели кто равнодушно, кто с вялым любопытством. Был здесь один явный мулат с рыжеватыми волосами и некто, похожий на местного индийца, с тонкими усиками и напоминавший некогда знаменитого актера Раджа Капура. Всем приказали сесть на горячий от солнца пол, а солдаты, наоборот, встали, и грузовик тронулся. Комлев глянул в последний раз на пароход, он надеялся, что кто-то видел, как его увозили. «Но Муго этот каков! — с бесполезным раздражением подумал Комлев. — Капитан хренов. Жирный бегемот». Но тут же себя осудил за поспешную оценку поведения Муго. На улицах, по которым они проезжали, не было прохожих, не проезжали такси. Улицы в этот день были отданы военным.
— Москиты тебе не мешали спать ночью? — спросил утром у Мфумо его дядя Амакво, старший брат матери, самый близкий из оставшихся в живых родственников и вождь здешней деревни. — Я всегда напоминаю детям, чтобы они закрывали все окна и двери, когда начинает темнеть, но говорить им так же бесполезно, как тому, кто бьет в самый большой барабан «нгомбо» на наших праздниках.
Амакво был одет в длинную и широкую рубаху без рукавов и с широкими прорезями для рук, а на его совершенно седой голове красовалась линялая пилотка бой-скаута, неизвестно какими путями попавшая сюда. Он пришел в хижину для гостей, где спал Мфумо, и сел на единственную самодельную табуретку.
— Пока женщины готовят завтрак и не мешают нам говорить, я хочу тебе сказать несколько слов. Вот ты, Мфумо, прочел книг больше, чем все люди в этом округе. Это без учителей из школы при миссии. А ведь знания похожи на баобаб: никто их не охватит. Тебе они не помогли даже заработать достаточно денег, чтобы выкупить свою жену у ее родителей. Известно, что того, кто идет утром по дорожке, оставленной слоном, роса не намочит. А ты, видно, любишь идти по траве первым. Что сказал сегодня твой говорящий черный ящик?
Он кивнул на маленький приемник, которым Мфумо очень дорожил и лишний раз не включал, сберегая батарейки. Слова дяди настроения его не улучшили, но других он от него и не ждал. К сожалению, старый Амакво был во многом прав.
Мфумо глянул на часы: сейчас было время утренних новостей. Он молча щелкнул включателем, а стрелка-указатель уже стояла на волне Лолингве. Но столичная станция издавала лишь громкие шорохи и потрескивания.
— Кажется, ты посылаешь меня на рынок торговать твоим молчанием. Ты что, не согласен с тем, что я сказал?
Амакво смотрел на племянника с насмешливым, хотя и мудрым, снисхождением, как на невезучего охотника, помня слова о том, что имеющий хорошее ружье не встречает дичи.
Мфумо уже собирался сказать что-то в ответ, когда хриповатый голос из приемника вдруг возвестил то, что в это утро Комлев услышал на борту своего парохода.
— Что он там кричит? — подозрительно спросил Амакво. — Я не понимаю языка белых людей, но сейчас на нем говорит черный, да еще и такой, с которым опасно пускаться в путь в безлюдном месте. Его выдает голос.
«Ну вот и настала пора испытаний», — подумал Мфумо и внутренне поморщился, так все это напоминало литературный штамп. Ему почему-то казалось, что военному мятежу что-нибудь помешает. Вдруг большие дожди начнутся раньше в этом году, и все их грузовики застрянут в непролазной грязи. Но сухой сезон все продолжался, переходя уже в засуху.
— Дядя Амакво, ты прав по поводу голоса говорившего. В столице власть пытаются захватить военные. Ну, те, которые с западного берега Большого озера. Воинственные в прошлом племена. А потом и другие потребуют свою долю власти.
Амакво враждебно посмотрел на замолчавший вдруг приемник, будто на этот раз оттуда могла выползти ядовитая змея, и сказал:
— Разве наши отцы не просили духов предков о том, чтобы горшок с пальмовым вином, которое вызовет раздор между нами, разбился еще на дороге к пиршеству?
Потом помолчал немного и заговорил о том, что он собирался сказать Мфумо вне зависимости от того, что сейчас происходит в городе на Большой Реке.
— Мфумо, я помню тебя с того времени, когда ты был так мал, что тебя еще не учили обвязывать кусок ткани вокруг поясницы. Теперь ты полон знаний белого человека, но толку от этого, кажется, мало. А я надеялся, что ты когда-нибудь станешь окружным начальником. Теперь же я думаю, что падать с низкого дерева лучше, чем с высокого. В нашей начальной школе скоро некому будет ею заведовать. Старый Винсент Иквенью уходит, он говорил об этом еще две луны назад, и видно, что он болен. Теперь начнется война в стране. Из города на Большой Реке нам вестей не дождаться. А в округе пока еще свои люди. Когда еды мало, она кажется вкуснее. Вот я советую тебе написать просьбу о работе в школе вместо Иквенью, а я, как вождь, нацарапаю на ней, хоть и с трудом, свое имя.
Мфумо молчал. Он старался представить себе то, что сейчас творится на улицах Лолингве. Мфумо не забыл еще событий последних выборов президента. Родители его жены живут далеко от столицы, но и туда может прийти война. Ему надо быстро решать, что он теперь должен делать. И надо быть осторожным. У леопарда, даже когда он спит, кончик хвоста всегда бодрствует — так, кажется, говорят в этих краях.
Комлев как-то однажды уже проезжал на такси мимо городской тюрьмы и удивился тому, что она была не так уж далеко от центра. Обычно подобные учреждения общество старается стыдливо упрятать куда-нибудь на окраины, как в иных семьях не выводят к гостям сына-дебила. Тюрьма в Лолингве так и называлась с простодушной прямолинейностью — «тюрьмой», о чем извещала английская надпись огромными буквами: Prison. Комлев отметил тогда, что в его стране такая прямолинейность считалась бы просто шокирующей и тюрьма там называлась бы бюрократически сложно и маловразумительно, что-то вроде исправительно-трудовой, пенитенциарно-воспитательной колонии такого-то режима.
Грузовик с арестованными резко остановился перед воротами, солдаты-охранники сразу же начали орать на лулими, торопя всех быстрее покинуть кузов. У ворот уже образовался коридор из других солдат, сквозь который, подталкивая прикладами, всех погнали внутрь. Комлев, еще когда их везли в тюрьму, не раз замечал на улице лежащие трупы в военной форме и в гражданском. И сейчас недалеко от ворот он успел заметить несколько тел на земле. Кто их убил? Прежняя охрана тюрьмы, стрелявшая вслед беглецам, или мятежники, взявшие ее этим утром?
Всю группу, кроме двоих, которых с заломленными руками сразу же куда-то увели, загнали в тесноватую камеру с одним окном без стекла и с частыми продольными прутьями. Мебель была представлена двухъярусными железными койками с грязными даже на первый взгляд матрацами. За низкой железной перегородкой в углу были унитаз и раковина умывальника с сорванным краном, из которого все время струилась вода. Все уселись на койки и, разбившись на группки, тихо переговаривались. Радж Капур, как Комлев для себя называл единственного здесь индийца, задирая голову, пытался что-то разглядеть сквозь решетку. Африканец лет сорока, с сединой в волосах, одетый в военную форму, но с сорванными погонами, о чем-то спрашивал через дверь у часового снаружи. Комлев подумал, что в африканской тюрьме жизни можно лишиться не только сразу, как, например, от пули, но и постепенно — от болезни. Сырая вода, льющаяся из крана, которую придется пить за неимением другой, малярийные комары, влетающие ночью в окно, и от которых не спастись. Он вспомнил флакон с антималярийными таблетками, который и сейчас так же стоит на столике в каюте. Их надо было принимать для профилактики еженедельно. Все это осталось позади, возможно, и сама уже жизнь. Но думать об этом не хотелось. «Инстинкт жизни», — подумал Комлев и, криво усмехнувшись, напомнил себе о том, что излишняя щепетильность в прошлом может сократить ему жизнь в настоящем. Не преувеличил ли он вульгарность этой Нолины, оттолкнув ее? Да, он не поддался ее грубоватым чарам, но зато спровоцировал ее на месть. Странно, но ненависти к ней он не чувствовал и думал о ней, скорее, с каким-то брезгливым недоумением. И подвел итог: «Дитя природы, что с нее возьмешь?»
Радж Капур оказался вне всяких компаний, он подошел к Комлеву и заговорил на английском:
— Вы ведь, если не ошибаюсь, с «Лоалы», помощник капитана?
Комлев признал этот факт, давая своим далеко не жизнерадостным тоном понять, что все это, увы, уже в невозвратном прошлом. О причине своего ареста он не знает. «Не хватало еще о Китиги, который сейчас, надеюсь, сидит в бункере, говорить направо и налево», — подумал он.
А индиец с осторожной доверительностью ему тихо сказал:
— Если нас не отправят на тот свет в течение дня, есть даже шанс уцелеть. В их руках находится только небольшая часть города. Я слышал, что создается временный Комитет Спасения или что-то вроде этого. Ему подчиняется армия, верная прежним властям, но она разбросана по разным провинциям.
Он украдкой посмотрел по сторонам. Здесь, видимо, мало доверяли друг другу. Потом он так же тихо продолжил:
— Президента они успели убить и еще несколько министров. А всего у этих дикарей в военной форме тысяч десять солдат. Они все из двух-трех родственных племен. Так что для остального населения страны они чужаки. Их здесь всегда не любили, и даже, кажется, больше, чем, извините, вас, европейцев.
Своими словами он, видимо, заглушал страх перед неизвестностью.
— Далеко ли отсюда улица Лутули? — вдруг неожиданно для самого себя спросил Комлев. Он вспомнил о записке Нгора, вложенной в паспорт, который сейчас был в кармане.
Индиец посмотрел на него с какой-то растерянной жалостью. У этого европейца просто сдали нервы. В любой момент их могут вывести в тюремный двор и расстрелять, а он спрашивает о какой-то улице. И он ответил ему вежливо, чему способствовало его собственное чувство превосходства:
— Улица зулуса Альберта Лутули, лауреата Нобелевской премии мира, совсем недалеко отсюда. Примерно в трех кварталах. Там ваши друзья?
— Там меня могут приютить, — неохотно пояснил Комлев. — Если, конечно, останусь в живых.
И вдруг все заглушил рокот вертолетных моторов, потом прогремели взрывы совсем рядом. Что-то сыпалось с потолка, в окно хлынул едко пахнущий дым от разрыва ракеты, пущенной с вертолета. И послышалась такая стрельба, что, ее бессильны были заглушить даже толстые стены тюрьмы. Возможно, там, на улице, перевес сил теперь от мятежников перешел к тем, кто им противостоял. Все в камере вскочили на ноги и с потаенной надеждой смотрели на того, который был в военной форме и походил на кадрового офицера. В это время он громко пытался что-то втолковать часовому за дверью и говорил, видимо, на его языке. Всем, кто был в камере, он рукой сделал знак молчать.
Наконец, дверь медленно, как бы с неохотой, приоткрылась, и показалось испуганное, потное лицо молодого солдата в съехавшей в сторону каске. Офицер-арестант держался рукой за винтовку часового и что-то терпеливо ему внушал, указывая на его место у двери. Солдат явно боялся отстать от своих в случае их отступления и попасть в руки врага. В этом случае как мятежника его бы ждала пуля. Офицер, который знал его язык, не доверял ему и обещал оставить у стены его оружие, когда все они покинут камеру и пройдут коридор. Стрельба снаружи немного стихла, и тогда солдат отдал винтовку, и они все вместе пробежали безлюдный коридор, миновали еще какой-то переход и в конце концов неожиданно оказались в тюремном дворе. Потом был сумасшедший бросок к раскрытым воротам, солдату вернули его винтовку, и он бросился туда, где, ему казалось, были свои. А все остальные, пригибаясь, кинулись врассыпную по улице, подозрительно пустой сейчас. Видимо, стычки происходили где-то рядом, судя по близкой стрельбе.
Комлев быстро прошел по улице до первого поворота и остался теперь один, затаившись в зарослях каких-то декоративных и умеренно колючих кустов выше его головы. Почти повсюду, но уже в отдалении, раздавались хлопки выстрелов, очень похожие на те, которые он тогда слышал у себя на родине в октябре девяносто третьего. А теперь он находится в африканском городе, не зная, какая его часть в чьих руках и не зная, где ему можно укрыться. Он не мог теперь попасть ни в свою комнату у Дхармчанда, ибо она была, кажется, безумно далеко отсюда, и неизвестно, что там сейчас происходит. Примерно по тем же причинам он не мог оказаться вблизи посольства или на причале, где все еще должна стоять «Лоала». Комлев надеялся, что мятежные военные, задержавшие его сегодня утром, отправились воевать куда-нибудь еще, но не исключал наличие охраны причала и самого парохода. Оставалась улица Лутули, двадцать один. Но у кого спросить, в каком направлении хотя бы идти?
Звук автомобильного мотора показался ему голосом надежды, и он высунул голову из своего зеленого укрытия. Серая легковая машина мчалась без всяких ограничений скорости. Комлев, ведомый прямо-таки надрывным желанием убраться отсюда, вышел чуть ли не на середину дороги и поднял руку. Скрежетнули тормоза. За рулем оказался краснолицый, рыхловатый и с белесой короткой бородой европеец.
— Прошу вашей помощи! Улица Лутули! — крикнул Комлев. — Иначе мне конец!
Водитель молча открыл дверь рядом с собой.
— Садитесь быстрее. Всем нам скоро будет конец в этом проклятом городе, если бывшая метрополия не пришлет десантников нас спасать.
Он обращался к Комлеву словно к давно знакомому соседу по столику в клубе. Здесь цвет кожи сразу делал союзником. Комлев не сомневался в том, что бородач не остановил бы машину, если бы здесь на улице стоял африканец. Впрочем, Комлев также не был уверен в том, что его бы согласился подвезти водитель-африканец. Происходящие события заставляли многое сейчас катиться по привычной расовой колее.
Спаситель Комлева гнал машину и говорил, не поворачивая головы.
— Сейчас я еду прямо и высажу вас там, где до улицы Лутули вам останется пройти меньше квартала. Что творится, а? Я всегда считал, что когда они впадают в прежнюю дикость, то не знают, где остановиться. Все! Вам выходить. Идите направо. Желаю удачи!
— Вам тоже. Большое спасибо!
Машина умчалась. Здесь тоже было пустынно, а выстрелы слышались намного слабее. Конечно, каждый предпочитал отсиживаться в своем жилье. Защита, разумеется, слабая, дом здесь никакая не крепость, но все же это какое-то укрытие, прибежище, создающее иллюзию безопасности. А он и этого сейчас лишен. Комлев быстро шагал по улице и был уверен, что из окон за ним с угрюмым любопытством наблюдают обыватели. Ведь белый человек здесь пешком практически не ходит, к тому же он вообще не показывается на улице во время подобных событий.
Он шел и подводил предварительный итог прожитой половины дня. За это время Комлев видел столько мертвых тел, что его вначале даже мутило, а потом он начал уже привыкать к увиденному. Хотя такое привыкание, по его мысли, похвальным назвать тоже нельзя. Сам он был еще достаточно молод и не видел собственными глазами смерть своих родных и близких. И ему еще не скоро предстояло пережить смерть родителей и сестры, и жизнь пока не казалась ему каким-то особым даром свыше, она проносится прямо-таки с оскорбительной быстротой. Быстроту это он пока еще не очень замечал в силу молодости и жизнь сама не была для него даром, а чем-то само собой разумеющимся. Он еще не знал, как не знает и большинство людей, погрязших в каждодневной суете, что эта пугающая временность жизни должна иметь в качестве противовеса какую-то серьезную цель или задачу, которую человеку надлежит выполнить. Кое-что об этом Комлев слышал, читал, а временами даже и задумывался. Эту жизненную задачу некоторые низвели до удручающей своей незамысловатостью формулы: «построить дом, посадить дерево, вырастить сына». А почему, спрашивается, непременно сына, а не дочь? И вот сегодня Комлев, видя такое количество бездыханных тел, слыша свист пуль над головой, кажется, немного приблизился к постижению таинства смерти. Если раньше жизнь ему казалась долгой дорогой, конец которой теряется в подернутой дымкой дали, то сегодня он понял, что дорога эта не так уж длинна сама по себе, но еще и может прерваться с шокирующей неожиданностью и к вящему неудовольствию самого двигающегося по этой дороге, если ему, конечно, будет отведено время, чтобы все это ощутить и даже дать случившемуся оценку.
Итак, Комлев быстро шел по горячим бетонным плитам мостовой, пока не увидел на угловом доме название искомой улицы, прошел несколько домов, и вот перед ним был небольшой двухэтажный особняк, окруженный высокой бетонной стеной, и у закрытой калитки со звонком он заметил цифру 21.
Уже в день приезда Мфумо взялся мотыжить кукурузу, но появился его дядя, отобрал у него орудие труда и строго сказал:
— Тебя, сын моей сестры, белые люди выучили работать головой, вот этим и занимайся. А для мотыги руки у нас найдутся. Пока ты здесь, проверь-ка лучше знания троих наших ребят. Они окончили деревенскую начальную школу, а теперь хотят учиться в средней школе при миссии. Через неделю у них будут там школьные испытания, и не хотелось бы, чтобы они осрамились. Война войной, а учиться надо.
Так Мфумо на время превратился в учителя. А по вечерам, сидя при керосиновой лампе за шатким столиком, он сочинил рассказ, который незамысловато назвал по имени его героини. Кстати, в нем она не произносит ни единого слова, что сам автор нашел даже оригинальным. «Чтобы написать что-нибудь, надо писать». Он не помнил, сам ли он придумал это простенькое на вид правило, которому очень трудно очень трудно следовать или кто-то другой. Это примерно то же, что и «дорогу осилит идущий». Итак, его новый рассказ «Номава». Ничего особенного, но он как-то отражает жизнь его страны, а он, Мфумо, пишет и не сдается. Этим он даже бросает вызов времени и разным неблагоприятным обстоятельствам, с творчеством несовместимым.
«Муганья был известным молочником в городке, и я с детства помнил, как по утрам на нашей улице раздавался звонок его велосипеда. Он знал, что без него трудно обойтись. Муганья представлял собой старую, надежную фирму, и обитатели Лукуледи-роуд — мелкие чиновники и немногочисленные теперь европейцы — предпочитали брать молоко у него, а не у случайных уличных разносчиков, с их бутылками из-под джина, заткнутыми кукурузными кочерыжками. Он был высокий и худой и обычно носил длинную рубаху и белую шапочку, как у правоверного. Но Муганья не был мусульманином, хотя кое-кто видел его по вечерам у местной мечети. В свое время он учился в школе при миссии „Белых отцов“, и его даже нарекли там Теофилом, но после того, как он взял себе по африканскому обычаю вторую жену, „отцам“ пришлось его изгнать из лона церкви, и он вновь принял свое прежнее языческое имя. А у мечети его видели, возможно, потому, что он присматривался к исламу, в котором многоженство не возбраняется. Однако Муганью истинная вера отпугивала многими ограничениями, а он любил и выпить, и повеселиться, особенно во время языческих плясок в ночь полнолуния. Жил он на далекой окраине, где сразу начинались поля и пастбища.
— Вот скоро я куплю лендровер, — как-то с осторожной надеждой поведал мне Муганья. — Не новый, правда, но тогда я половину города буду снабжать молоком. Мне обещал его продать мвами Ролинсон.
Англичанину пришлось готовиться к отъезду на родину, так как на его место уже был найден новый начальник отдела животноводства. Это называлось „африканизацией кадров“, и цвет кожи играл в этом решающее значение.
Потом молоко некоторое время возил старший сын Муганьи, хмурый юнец в застиранной тенниске, на которой еще проступало слово „ухуру“ над все еще узнаваемым портретом Джомо Кениаты, первого президента Кении. При этом стало известно, что Муганья взял себе уже третью жену и что она ему обошлась в восемь или даже девять его лучших коров и почти новый приемник „Сони“. Вскоре на улицах стал появляться и сам молодожен в пестрой рубашке, он весь внутренне сиял, но отмалчивался, словно человек, суеверно боящийся назвать ценное приобретение из боязни его потерять. Но к его радости примешивалась и озабоченность владельца чего-то такого, за чем еще и нужно присматривать.
Дожди окончились, и трава вокруг домов, которые были ближе к окраинам, выросла такая высокая и густая, что полосатые мангусты стали легко подбираться к дворам и активно воровать кур. Спрос рождает и предложение, поэтому в жаркой тишине полудня на улицах стали раздаваться голоса предлагавших свои услуги босоногих парней с длинными, изогнутыми на конце ножами для срезания травы. Это был здешний аналог европейских кос.
Когда прошел сезон дождей, стало вдруг известно, что новая жена Муганьи вступила в Молодежный союз и требует, чтобы ее отпустили на какие-то курсы. Так, неожиданно африканский брачный обычай вступил в глубокие противоречия с задачами построения нового общества, и все дело приняло политическую окраску. В этом случае на сцену должен был явиться уездный начальник, самой же сценой являлся двор Муганьи, окруженный невысокой оградой из кривых кольев, оплетенных сухими лианами. Итак, если есть сцена, на ней должно состояться представление, а какое же представление без зрителей? А в них недостатка не было, ибо о решении Номавы знали не только ближайшие соседи. Мух не оповещают, когда свежую кожу растягивают, чтобы она высохла. Стоило только прикатить автомобилю уездного начальника, который привез с собой и секретаря местного отделения Молодежного союза, как ограду с внешней стороны облепили зрители обоего пола: сторонники и противники поступка Номавы.
Начальник был уже немолод, он носил длинную, почти до колен, рубаху ярких цветов и с круглым вырезом взамен воротника, а на голове у него была шапочка пирожком из искусственного меха, кажется, немецкого производства. Его английские колониальные предшественники носили мундир, а теперь в одежде ориентировались на то, как одеваются высшие чины в столице. Было известно, что он любил рассказывать, как он, еще совсем молодым, воевал с немцами и итальянцами в Северной Африке. Вступлением к его рассказам служила фраза: „Нас учили всю жизнь бояться и уважать белых людей, но когда дела у наших господ были плохи, нам позволили убивать их белых врагов“.
Неяркое уже солнце собиралось опуститься за гряду невысоких темных холмов, а лендровер начальника потрескивал, остывая под сенью акации на краю открытого стадиона. Сам же начальник предпочел оставаться в тени в прямом и переносном смысле, а весь разговор направляла председатель Молодежного союза. Это была коренастая и очень серьезная девица в зеленоватой форме своего союза и в фуражке, под которую она с трудом упрятала свои маленькие жесткие косички.
— Мвами Муганья, ты согласен с тем, стране теперь нужны свои новые предприятия, а также грамотные люди, чтобы ими потом управлять?
— Кто с этим спорит? — осторожно отозвался Муганья. — Свежее мясо со старой маниокой не едят.
— И тебе известно, что Молодежный союз борется с отсталостью в нашем обществе и все имеют право в него вступать?
От смущения она надвинула фуражку на лоб. Ей еще никогда не приходилось в присутствии зрителей вмешиваться в чужую семейную жизнь. А эти самые зрители, вытянув шеи, чтобы получше слышать, видимо, примеряли ситуацию на себя. Многоженцы поеживались, представляя себя в положении Муганьи. Кто-то был на его стороне, многие жены были на стороне Номавы.
Все жены Муганьи были во дворе, Номава как виновница события стояла немного поодаль. Первая жена, Магого, которая была старше Муганьи на три года и теперь уже выглядела старухой, казалась воплощением прежней, уходящей Африки. Как все женщины ее племени, она была с бритой головой, на ее сухих темнокоричневых руках и на щиколотках ног красовались тяжелые медные браслеты. В доме Муганьи она в основном занималась стряпней. Магого вечно ворчала на упадок нравов в нынешние времена и всеобщее безделье. „Ленивый ест из пустой кокосовой скорлупы“, — любила говорить она.
Вторая жена, Лимби, была помоложе и в отличие от первой носила не черное традиционное покрывало, а городское простенькое платье с короткими рукавами. Номава, самая младшая жена, стояла поодаль, и на ней были тенниска с портретом первого президента страны и узкие брючки сиреневого цвета. Волосы ее были зачесаны кверху и там перевязаны блестящей ленточкой.
— Итак, уважаемый Муганья, мы считаем, что ты дал свое согласие, — избавившись от смущения, сказала молодежная руководительница. — А что скажут уважаемые Магого и Лимби?
Дело в том, что они с самого начала не возражали против третьей женитьбы Муганьи, ибо известно, что чем больше рабочих рук в хозяйстве, тем легче для всех. Правильно говорится, что только тот, кто не нес твою ношу, считает ее легкой. К тому же Лимби надоедала ее обязанность смотреть за курами, она же отвечала за обработку земли на огороде. Ей, правда, в этом помогал Муганья, когда поручал сыну пасти коров. И вот они, наконец, стали выступать по очереди, словно хор в греческой трагедии, часто противореча друг другу. Вот часть того, что они тогда сказали, вернее, выкрикнули:
— Мы думали, что нам будет меньше работы, но мы ошиблись! Номаву еще нужно многому учить!
— Мы уже стары и некрасивы, а с ней он теперь будет показываться на людях!
— Ему захотелось образованной жены! Она с книжкой не расстается!
Муганья чувствовал себя, как человек, неосторожно ступивший в поток красных муравьев. По местным обычаям жена в любой момент может пригрозить уходом к своим родным, забрав с собой детей. В этом случае надежды на возвращение брачного выкупа нет никакой. Муганья это хорошо знал. И вообще он чувствовал, что все в этом мире теперь непрочно. Завод, который возводился под руководством белых людей из далекой страны, названия которой он даже и не слышал, сокращал пастбища, где паслись и его коровы. И этот молочный завод, когда они его построят, собирается отнять у него и Номаву, потому что ей вздумалось работать там после курсов в белом халате и возиться с разными стекляшками.
— Пусть едет себе и учится, — неожиданно сказала Магого. — Нам теперь все равно. Курица хочет высиживать яйца, а сама не снесла ни одного.
Лимби согласно кивнула головой, повязанной зеленой косынкой. Так обе они, не сговариваясь, как бы встали на сторону Номавы.
Местный миссионер в своей повседневной рясе защитного цвета, подпоясанной бельевой веревкой, подъехал к дому Муганьи в разгар выступления старших жен. Он тоже выступил за отъезд Номавы на учебу на том основании, что она была христианкой и ей не пристало жить в языческой семье. Он вначале лелеял надежду на то, что Номава поможет миссии вернуть многоженца в ряды церковной паствы, но лучше всего было совсем исторгнуть ее из этой семьи.
— Помни, Муганья, что двери Божьего храма для тебя еще не закрыты. Господь может простить твои прегрешения. Даже вероотступничество.
Муганья понял, что помощи ему ни от кого не будет, и окончательно сдался. Молодежный союз боролся с полигамией, а уездный начальник, хоть у него, по слухам, и была еще одна жена в далекой родной деревне, должен был безоговорочно поддерживать союз. Когда Муганья на недавно купленной у англичанина автомашине отвозил Номаву на станцию, он долго смотрел вслед поезду, а потом нудно жаловался сочувствующим знакомым и не раз повторял слова о девяти коровах и о почти новом приемнике.
Шло время, сухой сезон снова сменился дождливым. Муганья перестал привозить нам молоко даже в ущерб своим финансовым интересам, считая, что такие, как мой отец, тоже причастны к тому, что жизнь в стране меняется в неприемлемую для него сторону. А Номава к нему после курсов не вернулась, хотя развода от него почему-то не требовала.»
Мфумо хотел написать о том, как мешают жить старые обычаи, и особенно чтобы досталось брачному выкупу. Но он подумал, что если рассказ напечатают, те, которые его знают, сочтут, что автора побудили к его написанию чисто личные мотивы. А идея борьбы нового со старым — это только прикрытие. Однако сейчас он думал только о том, что происходит в стране и что ее ожидает в будущем. Если установится власть командиров этой Озерной дивизии, это будет конец всем остаткам демократии и началом межплеменных войн. Мфумо сидел за своим приемником весь вечер и терпеливо обшаривал эфир, слушая все станции, передававшие хоть что-нибудь о событиях в Бонгу. И вот наконец одна заслуживающая доверия станция передала, что попытки мятежников полностью захватить столицу провалились и что в ней создан временный Совет спасения. Президент Питер Бусилизи убит в первый день мятежа вместе с несколькими министрами.
Мфумо решил рано утром пускаться в обратный путь.
Комлев стоял на улице Лутули, и его какое-то время изучали через глазок, прежде чем открылась железная дверь в стене. Высокий охранник в форме хаки, с очень темным и непроницаемым лицом, провел его в дежурную комнату. Там двое в белых рубашках и с такими же темными лицами, каких не встретишь у здешнего населения. Никто не сказал ему ни слова, и Комлев так же молча достал паспорт с вложенной в него запиской Нгора. Они внимательно прочли записку и сверили фамилию в паспорте. Их лица если и не просветлели при этом, что было бы физически невозможно, то перестали быть напряженно недоверчивыми. У одного из них появилось даже подобие улыбки. Он сказал на неплохом английском:
— Мы рады, что вы знаете Нгора и видели его сравнительно недавно. В последнее время у нас нет о нем вестей, и это нас уже тревожит.
Второй быстро глянул на напарника, и Комлев догадался, что это был старший из двоих, и теперь он давал ему понять, что в разговоре нельзя допускать личного отношения к чему бы то ни было.
Комлев кратко рассказал о себе и скромно заметил в качестве заключения:
— А всего полчаса назад я еще находился в городской тюрьме. Мы бежали из нее, когда правительственные войска пошли в наступление.
— Прежнего правительства в Бонгу уже нет, — поправил его тот, который до этого молчал. — Теперь власть у Совета спасения. Временного, чтобы быть точнее. И ему подчиняется армия.
Так Комлев узнал, кто теперь правит в Лолингве.
— Но весь город они пока еще не контролируют.
— А в чьих руках сейчас порт и причалы? — без особой надежды спросил Комлев. — Очень хочется вернуться на свой пароход.
— Мы вам предлагаем пройти сейчас в нашу столовую и поесть, — сказал тот, у которого появлялось иногда подобие улыбки, как в ненастный день может вдруг где-то в просвете между туч наметиться светлое солнечное пятно, чтобы тут же исчезнуть. — А в это время мы попытаемся навести справки.
И Комлев был тут же отведен в столовую, где перед ним поставили большую тарелку чего-то аппетитно-пахучего, состоящего из массы знакомых и совершенно неизвестных Комлеву трав и овощей, а еще из беловатого мяса. Блюдо было сдобрено перцем в разумных, по мнению Комлева, пределах, анонимность же мяса не служила препятствием к его потреблению. «Даже если это мясо крокодила, — рассудил Комлев, — или какого-нибудь здешнего удава, его вкусовые качества очевидны. И вообще кто-то правильно заметил, что не следует особенно задумываться над тем, что ешь и кого любишь».
На стенах красовались увеличенные фотографии людей с очень темными лицами, к чему Комлев уже привык, и в одежде, напоминавшей военную форму. Была еще там большая карта страны, которую Нил делил на две неравные части. Он слышал, как в соседней комнате говорили по телефону.
«У меня сегодня очень насыщенный день, — с невеселой иронией подумал Комлев. — И еще вопрос, как он закончится». Словно в ответ на его робкую попытку заглянуть в ближайшее будущее еще один обитатель дома на улице Лутули, которого Комлев еще не видел, из-за порога двери доложил ему обстановку в городе, а именно в той его части, которая интересовала Комлева:
— Сейчас идет перестрелка в районе порта и вдоль берега реки.
В его тоне звучало нечто похожее на скрытое извинение и, он пообещал:
— Мы будем держать вас в курсе событий. А когда можно будет, мы вас отвезем к причалам.
Потом к нему подошел один из тех, кто встретил его вначале в дежурной комнате. У него был вид человека, считающего своим долгом занять скучающего гостя, он поймал взгляд Комлева, брошенный на карту страны, и сказал многозначительно и даже со скорбной возвышенностью:
— Страна, которая одной из первых обрела независимость на африканском континенте, но где люди так и не обрели свободы. Нас называют мятежниками и сепаратистами только за то, что мы сопротивляемся ассимиляции, которую проводят те, кто сейчас у власти, те, у которых другой язык, религия, традиции и обычаи. Жаль, что ваша страна не проявляет интереса к нашей борьбе…
«Оружие им нужно», — догадался Комлев, думая о том, как избежать выслушивания упреков в адрес страны, паспорт которой у него сейчас в кармане. Ничего утешительного, что он мог бы сказать в ответ, в голову не приходило. Ясно, что их главное дело заключается в том, чтобы доставать это оружие и переправлять его в приграничные районы. А их самих, видимо, стараются выявить и уничтожить правительственные агенты. «Веселая у них жизнь», — мысленно посочувствовал им Комлев.
Из соседней комнаты снова появился тот, который сообщил ему о положении дел в городе. Он был такой же высокий, худой и черный, как и его товарищи и, возможно, даже соплеменники.
— Не надо ли вам куда-нибудь позвонить? — спросил он. — Можете воспользоваться нашим мобильным. Телефонная связь в городе не прерывалась с самого начала мятежа, но нас здесь подслушивают постоянно.
— Спасибо. Я этим охотно воспользуюсь, — с готовностью отозвался Комлев. «Как я сразу его об этом не попросил? — с досадой подумал Комлев. — Конечно же надо звонить в посольство». Он понимал, что надо было бы позвонить Нанди, но редакция ее журнала наверняка закрыта теперь.
Сергей оказался на месте, и это было главное. Другому бы пришлось долго объяснять, кто он такой, и выслушивать слова, полные обидной отстраненности, свойственной, как он уже заметил, посольским работникам.
— Хорошо, что позвонил, — отозвался Сергей. — А это значит, что не только жив, но и на свободе, если добрался до телефона. Я передал тогда твои туманные намеки на возможность мятежа шефу, но он, как я и ожидал, счел это вздором. Поэтому для всех это событие было досадной неожиданностью, кроме меня. Да и то благодаря тебе. Кстати, откуда ты звонишь? Место хоть надежное?
— Я звоню по мобильному телефону, но место назвать не могу, — с бдительной деловитостью тайного агента, в роль которого он входил, сказал Комлев. — И говорит долго тоже не могу.
Все это произвело определенное впечатление на собеседника, речь которого сразу же изменилась.
— Тогда слушай и запоминай. Сегодня в пять вечера из аэропорта отправляется самолет. Это наш спецрейс из одной африканской страны, где тоже какая-то заварушка. Везут домой женщин с детьми, мужчин, у которых кончается срок пребывания здесь, тех, которые не очень здоровы, гостей посольств и прочих. Если хочешь вырваться отсюда, да еще и на казенный счет, постарайся добраться до аэропорта к этому часу. Извини, старик, меня зовут. Удачи!
Хозяин телефона с видимым интересом слушал странную речь, сидя рядом на диване. Вероятно, он думал, что у этих белых столько же разных языков, как и у черных обитателей Африки. Поэтому они тоже не всегда могут договориться между собой.
Комлеву надо было срочно решать, что ему делать, хотя в глубине души решение он уже принял. Конечно, соблазн уехать был. Была возможность бежать из страны, охваченной войной, и, возможно, надолго. Надо было только добраться как-то до аэропорта, пусть даже без вещей, но с паспортом и деньгами. И через какое-то количество часов выйти из самолета в рубашке с короткими рукавами, с непокрытой головой и в сандалиях на аэродром в Шереметьеве-2, припорошенный снегом. Одним словом, «вернулся я на родину, шумят березки встречные…» Нет уж, сначала он должен попасть на «Лоалу» и посмотреть, что там творится. И что с министром транспорта, жив ли он? А сам он, мистер Комли, все еще старший по должности на пароходе в отсутствие этого Муго. Дезертирство его не привлекает. Придется повременить с возвращением в родное отечество. А Сергею все равно спасибо за предложение уехать. Очень, как говорится, мило с его стороны.
Дверь с палубы в кочегарку открылась, на решетке сверху появился матрос, и Муйико с Симанго, задрав головы, посмотрели на пришельца с мучительным беспокойством, поскольку хороших вестей сейчас никто не ждал. Внизу сейчас было темновато, так что на лицах кочегаров можно было разглядеть лишь белки глаз.
— Комли увезли эти «бакомбо», проклятые дети шакала и дикой свиньи, — с брезгливой неуважительностью в адрес мятежников сообщил матрос, понизив, однако, голос, когда произносил слово «бакомбо». К этому времени было уже известно, что войска в районе порта и вдоль всей береговой линии подчиняются полковнику Окомбо, поэтому употребленное матросом слово следовало понимать как «люди Окомбо» или «окомбовцы».
Министр транспорта расстрелянного почти полностью правительства, сидевший все так же за штабелем пустых ящиков в бункере, слышал это сообщение, догадался, кто такой Комли, и удрученно вздохнул. Стоил ли он сам того, чтобы другие из-за него подвергали себя риску? Уже один арестован, и эти двое тоже пострадают, если его в конце концов найдут.
— Мвами Комли был лучшим из белых, которых я видел — с сокрушенным вздохом пробормотал Муйико, покосившись на темный проем входа в бункер. Осветительная лампочка там, конечно, имелась, но он ее предусмотрительно вывернул и спрятал, чтобы там царила спасительная для Китиги темнота. Перед появлением матроса Симанго рассказывал о своем соседе, чей участок граничил с его землей. Сосед возлагал надежды на старшего сына, а тот оказался бездельником.
— И вот я ему говорю: «Для того, чтобы заросли стали грядками маниоки или посадками бананов, нужны руки. Разве у длинной змеи могут быть дети-коротышки? И если сын не похож ни на отца, ни на мать, его что, подбросили во двор через ограду?» А он мне и говорит: «Ты назвал дурную болезнь ее именем, и у меня теперь нет рта, чтобы говорить о ней».
— Редко у кого бывают дети, каких он желает, — с печальной рассудительностью ответил на это Муйико, хотя своих детей у него еще не было. Он как бы заранее готовил себя к возможному разочарованию.
Разговор их был прерван появлением матроса-горевестника, и Симанго решил оставить тему своего соседа. И правильно сделал, ибо на решетке сверху загремели солдатские ботинки, а четверо «бакомбо» с офицером во главе уже глядели в полуосвещенную преисподнюю с целью спуска вниз на предмет поиска того, кто мог бы там скрываться. И тогда оба кочегара быстро и почти незаметно переглянулись. Перед сдачей вахты их предстояло чистить топки. Одну из них они собирались освободить от шлака примерно через час. Но была ли нужда откладывать эту работу? Муйико с противным лязгом вытащил из кучи кочегарских орудий труда лом, его напарник ногой отворил дверцу топки, и работа закипела. Пласты раскаленного шлака были взломаны за пару минут, и Симанго тут же стал работать гребком с длиннющей рукояткой, вываливая их из топки так, чтобы они пошире разлетались по железному полу кочегарки. Муйико бросил лом и тут же стал их поливать водой из резинового шланга. Струя была вялой и он вовсе не стремился погасить пышущие жаром ломти шлака, а просто делал это, чтобы вызвать вонючий серо-водородный запах, поднимавшийся наверх, туда, где блестели на ступеньках трапа военные башмаки. Они замерли, остановив свое движение вниз по длинному и довольно крутому трапу. Собственно говоря, у солдат не было четко поставленной цели осмотреть именно кочегарку (о существовании угольного бункера рядом с ней они, скорее всего, и не знали), просто им было велено ходить по пароходу и осматривать все помещения подряд. И, возможно, они помнили поговорку о том, что искать надо там, где есть то, что ищешь. Уверенности в этом у них не было, и это, видимо, отбивало охоту усердствовать. А внизу, куда им предстояло спуститься, они видели теперь форменное безобразие. Кучи стреляющего искрами красного шлака повсюду, и еще этот омерзительный запах, который вместе с паром и с наглой безудержностью поднимался им навстречу. Офицер что-то резко сказал на понятном только всем четверым языке, и группа, стуча по ступенькам трапа, поднялась наверх и захлопнула за собой дверь.
Муйико хотел что-то сказать, но Симанго, на правах старшего по возрасту, остановил его царственным жестом.
— Сейчас не время для слов, Муйико. Мы еще будем говорить, когда все закончится.
— Не будем тогда спешить с уборкой. Пусть еще немного подымит и повоняет то, что разбросано на полу.
— Верно. Если эти бакомбо еще стоят со своими ружьями наверху, пусть нюхают, пока им не надоест.
Министру Джозефу Китиги из его темного угла в угольной яме все, происходившее в кочегарке, видно не было, и он чисто физически ощущал поток протекающего мимо времени, и ему все время хотелось как-то его затормозить. Он знал, что, пока он сидит на жестком ящике, сколоченном их занозистых досок, он живет и должен радоваться тому, что он еще жив. Ибо как только его выведут, подталкивая прикладами, наверх, пойдет уже обратный отсчет времени…
Не прошло и часа после этого, как даже в трюмные помещения проник грозно-пугающий и уже заранее победный рев вертолетных моторов, загремели взрывы где-то наверху, пошла беспорядочная стрельба, но в кочегарке и в машине еще не знали, что началась атака правительственных войск вдоль берега Мфолонго. В машине, впрочем, знали больше. Там по-прежнему, не прерываясь, шел ремонт, и помощники механика Шастри и все машинисты возились у шатунно-кривошипного механизма правого колеса. Их хмуро-сосредоточенные лица блестели от пота и от мазков машинного масла. Перед тем, как началась атака, к ним почти скатился по гулкому железному трапу офицер мятежников и приказал готовить машину к действию. Возможно, окомбовцы собирались погрузить на «Лоалу» две — три роты своих солдат и высадить десант где-нибудь в тылу наступающего вдоль реки противника. Но механик Шастри, хоть и трусил в душе, ответил ему достаточно твердо, хотя и с оттенком сожаления, что машина совершенно не готова к пуску. При этом он красноречиво указал масляными пальцами на разобранные части упомянутого уже механизма, которые даже у профана вызвали бы такое впечатление, будто он находится рядом с больным, у которого все еще не закончена операция, хотя и вовсе не опасная, но с которой надо считаться. Офицер тогда выругался, и рука его какое-то время ерзала по кобуре с пистолетом, но Шастри с оскорбительной быстротой свой разговор с ним прервал и повернулся к звякающим разводными ключами машинистам. Он отчасти напоминал в тот момент Архимеда после взятия Сиракуз, но только без фатального исхода встречи ученого с вошедшим в его дом вражеским воином.
А потом звуки боя придвинулись вплотную и ушли постепенно дальше, а потом задержались на каких-то рубежах, где окомбовцы закрепились на своих позициях. На палубе парохода зазвучали уверенные шаги победителей, и министр Китиги в испачканной углем одежде окончательно поверил в свое спасение. Теперь ему предстояло вернуться в здание, где находилась временная власть в стране, и узнать, на что может рассчитывать член прежнего кабинета. Ему, конечно, хотелось верить, что он сохранит за собой свой пост. Китиги обнял приютивших его с риском для себя кочегаров, пообещал не забыть их заслуги и в качестве задатка вручил им довольно толстую пачку пондо, которую он достал из своей дорожной сумки. Муйико молча прижал руки к груди, а Симанго прочувствованно сказал на прощанье:
— Господин, ты надолго запечатал наши губы своей щедростью. Это видно каждому, у кого есть глаза, чтобы видеть.
Потом, правда, когда министр ушел, Муйико пожалел о том, что они не попросили у Китиги чего-нибудь вроде письменного обещания иметь их в виду, потому что документ — это лучше, чем слова. На это Симанго веско сказал:
— Не будем вести себя, как тот прокаженный, которому протянули руку, чтобы он ее пожал, а ему захотелось еще и обнять того, кто ее протянул.
Еще он хотел сказать, что доброе слово ценится больше, чем то, что дают, но подумал, что чересчур прагматичный Муйико сочтет такое бескорыстие чем-то уж слишком чрезмерным.
Китиги уехал на военной машине, и они разминулись с Комлевым, которого немного спустя доставили на своем джипе приютившие его на несколько часов политические эмигранты с улицы Лутули. Когда он ступил на палубу парохода, он заметил, что члены команды смотрят на него странным взглядом, в котором явно проглядывал непонятный ему страх. Ему потом объяснил Нкими, что почти все на судне считали его уже покинувшим мир живых. А теперь им казалось, что он на время явился из мира духов. Нкими сознался, что и ему тоже сначала было как-то не по себе.
— Старпом, я ведь все-таки африканец, — сказал он ему с нервным смешком, — и от некоторых суеверий все еще не избавился.
Он еще сказал, что мятежники велели ему и Оливейре не покидать своих кают. Только механик Шастри и его помощники продолжали заниматься ремонтом, так как окомбовцы надеялись приспособить пароход для своих военных нужд, но, к счастью, их вовремя оттеснили от причалов.
Потом Комлев говорил с Оливейрой и понял, что на пароходе никто так и не знает, за что он был арестован и увезен мятежниками. А о том, что здесь несколько часов скрывался член правительства, знали только два кочегара. От Оливейры он еще узнал, что капитан Форбс якобы заявил, когда начался мятеж, что он уже слишком стар, чтобы воевать, и поэтому он уходит на своей «Лоале-2» туда, где его будет нелегко отыскать. И что он якобы взял на борт всех наличествующих в данный момент членов семьи, припасы и оружие и отправился в плавание по озеру Кигве, где было немало островов с удобными бухтами. Но, скорее всего, он пересек озеро, прошел вниз по Луалабе и стал на стоянку где-нибудь на ее левом берегу, то есть на территории уже другого государства. Что касается мятежников, они могли бы просто конфисковать его судно, как они поступили с пассажирскими теплоходами, которые не успели найти себе надежное укрытие.
— Значит, возможны военные действия на реке и на озере? — озабоченно поинтересовался Комлев.
— Не исключено, — хмуро отозвался Оливейра. — Утром мы уходим в рейс. Придется просить взвод солдат с пулеметом.
— Придется, — согласился Комлев. Он не знал, поможет ли это им. Теперь работа на реке и на озере обещала быть веселой и романтичной.
— Зато у мятежников нет вертолетов, — обнадежил его Оливейра. — Иначе нам бы пришлось всем срочно писать завещания.
— Это точно? — усомнился Комлев. Он вспомнил, как сегодня вертолетный гул часто заглушал все остальные звуки.
— Ни одного, — твердо заявил второй помощник. — Я специально узнавал. Кто-то оказался дальновиднее других, и в распоряжении этой Озерной дивизии, будь она проклята, не оказалось ни одной машины.
Далее он сообщил, что часть пассажиров, которые надеялись покинуть Лолингве еще утром, до сих пор находятся на судне, но отправлять их домой или просто заставить покинуть судно никто не захотел. Тем более что на причале хозяйничали мятежники. Капитан Муго не появлялся и о себе не давал знать. Да и нужен ли он здесь вообще?
Оливейра ушел позаботиться о том, чтобы нашлось помещение для солдат, которые будут сопровождать пароход. Он намекнул, что у него есть кое-какие знакомства среди военных чинов и что они получат первоклассную охрану. Комлев тем временем ловил себя на том, что порой поглядывает на часы. Еще было возможно успеть на этот спецрейс. Лишь бы только добраться до аэропорта, что было теперь непросто. Не думать о том, поймут ли его Оливейра и Нкими, а думать только о своем спасении. И будет это обыкновенное бегство, потому что должность старпома остается за ним. Должность — это от слова долг. А долг — это обязательство выполнять определенные функции. Он где-то читал, что адмирал Нельсон перед своей последней битвой у Трафальгара, обращаясь к морякам вверенной ему эскадры, не утомлял их патриотическими призывами. Он просто сказал, что каждый должен исполнить свой долг.
К вечеру на «Лоале» наконец появился Муго. Он был без своего капитанского мундира и, что было примечательно, не стал его надевать, а так и продолжал ходить в рубашке с короткими рукавами какого-то невыразительно-мышиного цвета и в серых брюках. Он, видимо, понимал, что появляться сейчас в своем черном мундире с золотистыми шевронами и в фуражке с эмблемой было просто неприлично. Муго пока еще не знал, что его ждет в ближайшем будущем и найдутся ли у него покровители во Временном правящем совете Бонгу. Известно, что туда, куда ты не ходишь, должны ходить твои уши. Но и этого он не мог себе теперь обеспечить. На судне теперь все по-другому. С видом хозяев расхаживают военные в своей пятнистой одежде. Теперь со всеми нужно вести себя осторожно. Недаром говорят, что язык может погубить человека, но может и спасти. А то, что не сказано, словом не является. Когда идешь к другим людям, оставь свои недостатки за своим порогом, хоть это и нелегко. Козел не бегает за козой, если где-то бродит леопард. А если у барабана меняется ритм, меняется и шаг танцующих. Муго уже не удивился, когда этот белый старший помощник сказал ему без всякой внешней уважительности и даже довольно небрежно:
— Капитан, в интересах безопасности в ночное время пароход лучше отвести от причала. Я предлагаю его поставить на якорь за островом чуть выше по течению и стоять там до рассвета.
Муго ответил мягко и даже дипломатично:
— Ну, если этого требует безопасность и не возражают военные.
В машине Комлева заверили, что ремонт будет закончен до наступления темноты, а пар в котлах будет на марке к двадцати двум часам. Потом он поговорил с командиром батальона, который занимал позицию вдоль всего берега на длину километра от причала. Тот ему сказал, что ночью возможны атаки противника и у него есть приказ отступить в случае сильного натиска. План Комлева отвести пароход от причала, чтобы не допустить его захвата, военные одобрили и пообещали, что на борту теперь будет находиться отделение солдат для охраны.
Весь день небо закрывали облака, и было совсем не жарко. А к вечеру, когда облачные нагромождения причудливой формы на западе окрасились темнооранжевые тона, от реки стало потягивать даже слабой прохладой. Навоевавшись за день, обе стороны теперь лениво постреливали в направлении друг друга (слово «друг» здесь едва ли можно считать уместным), решив, видимо, отложить более решительные действия на завтра. Было ясно, что и та, и другая сторона пока исчерпали свои возможности. Правительственные войска были еще явно малочисленны и не могли перейти в наступление. У мятежников же не хватило сил взять город, и их оттеснили на окраины. Комлев, однако, не очень рассчитывал на защиту от их возможного ночного натиска. Если отвести пароход от причала и стать на якорь метрах в двухстах от берега или даже дальше, его легко могут обстреливать окомбовцы (Комлев уже узнал, как называют противника, который закрепился у реки), а белый корпус судна служил бы хорошей мишенью даже в темноте. Поэтому он и решил подняться вверх по течению примерно на полкилометра и стать на якорь за небольшим островом, поросшим чахлыми от избытка влаги деревьями и кустарником. У этого острова были плоские, видимо, топкие берега, где обильно росла высокая камышевидная трава, среди которой проглядывал папирус. Это было уникальное обиталище водяных птиц почти в черте города и непригодное место для высадки десанта. И главное, это был хороший заслон от прицельного огня с берега.
Как только из машины сообщили о ее готовности, Комлев дал команду отдать швартовы. Пристанских матросов, конечно, на месте не было, и солдаты на причале сумели выполнить их несложную роль: сбросить огон швартовных тросов с причальных тумб. Пароход малым ходом и без огней пошел против течения, пока не поравнялся с островом, до которого от борта было метров полтораста. Матрос с мерным шестом стоял на баке с левого борта и докладывал о глубине. Беспокоиться было незачем, осадка у «Лоалы» была небольшой. Теперь берег за островом был немного виден лишь с мостика, а все судно теперь находилось за хорошим заслоном.
Оливейра избавил Комлева от напоминания в свой адрес, что его место во время отдачи якоря на баке. Усатый боцман Кабуби уже с готовностью стоял возле брашпиля, но в темноте Комлев почти не видел его лица, проглядывали только белки глаз. Он застопорил машину и выждал, когда погаснет инерция и судно начнет сносить течение.
— Отдать правый якорь, — негромко скомандовал он. В рубке высилась безликая в темноте фигура рулевого Мбизи.
Боцман у брашпиля отдал стопор якорной цепи, она грохотнула, проходя по клюзу, и якорь звучно шлепнулся в речную воду.
— Травить якорь-цепь понемногу, — сказал он тихо в микрофон, надеясь, что второй помощник проследит за выполнением команды. В темноте трудно было заметить провисание цепи, но именно в момент этого провисания и надо было снова отпускать стопор, чтобы она не ложилась на дно кучно. Потом он приказал закрепить стопор и какое-то время колебался относительно якорного огня. Не включать этот огонь — значит нарушать правила плавания. Но кто сейчас будет идти по реке, когда ведутся военные действия? К тому же белый корпус «Лоалы» хорошо виден на самой реке, и его легко заметить и без огней. А на борту «Лоалы» все время будут недремлющие, как на это рассчитывал Комлев, вахтенные и солдаты у пулемета. Он отпустил рулевого, надеясь, что в рубке никто не будет нужен до самого рассвета, то есть часов до шести, когда им нужно будет идти обратно к причалу. Если, конечно, позволит боевая обстановка. О том, что на причале утром их могут ждать окомбовцы, он старался не думать. Если это случится, им придется делать поворот на триста шестьдесят градусов и сразу идти в рейс, что бы их впереди ни ожидало. И никто теперь не взялся бы предсказать, что именно.
Комлев подошел к штурвалу и стал его решительно крутить, перекладывая руль право на борт. Он рассудил, что если судно стоит на правом якоре, а течение давит на перо руля, то пароход будет стоять не бортом к острову, а наискосок к нему, нацеливаясь своим носом на его берег. И тогда в случае обстрела уменьшится и площадь попадания. Его попытки упрятать «Лоалу» за остров вдруг стали казаться Комлеву чем-то не очень серьезным, и это даже напомнило ему игру в «морской бой». В ней ведь тоже «стреляют» по невидимой цели, надеясь при помощи «попаданий» выявить ее всю целиком.
Он решил остаться спать на узковатом топчане в рубке, поплотнее закрыв ее от комаров, зная их навязчивую приверженность к проникновению почти в любую щель. Нужно только, чтобы она позволяла обеспечить это проникновение в летящем состоянии, то есть не складывая крыльев, что нарушило бы незамысловатую нацеленность самого комариного полета.
От комаров Комлев сумел себя обезопасить, но спать, тем не менее, ему долго не пришлось, так как мятежные войска вдруг стали проявлять демонстративную прямолинейность в достижении своей цели, а именно — желая отвоевать всю береговую линию, откуда их так унизительно вытеснили днем. С обеих сторон теперь стреляло все, что могло стрелять, и Комлев не завидовал тем пассажирам, которые решили предпочесть сомнительную безопасность своего дома нервозному беспокойству пребывания на борту парохода, старые износившиеся борта которого можно было проткнуть шилом. Пусть это даже и небольшое преувеличение.
Командир батальона, который держал оборону вдоль берега, высокий капитан с синеватой татуировкой на лице в виде зигзагов и кругов, с которым вечером разговаривал Комлев, вовсе не старался ему внушить ложной уверенности относительно стойкости вверенных ему сил. И вот теперь, не желая нести ненужные потери, он благоразумно отвел свои войска назад заранее и так, чтобы его отступление никак не походило бы на бегство. Снова берег был в руках мятежников и, конечно, тот самый причал, где вечером стояла «Лоала». Но победа им, видимо, казалась далеко не полной без захвата упомянутого парохода, который им виделся чуть ли не государственным символом Бонгу. Однако скудость их военной мысли с плачевной ясностью проявилась именно в том, что они на трех или четырех бесхозных лодках, обнаруженных у берега, направились в обход острова, спускаясь по течению к пароходу с целью взять его на абордаж. Но поскольку солдатам на его палубе было не до сна в ту ночь, лодки с десантом были замечены еще на далеких подходах, по ним открыли огонь, и с лодок стали отвечать, поскольку эффект внезапности пошел насмарку. Тогда Комлев выскочил из рубки и, поеживаясь не столько от предутренней прохлады, сколько от пролетающих над головой и где-то сбоку пуль, включил прожектор на мостике. Его яркий огонь ослепил на время нападавших и безжалостно высветил их в качестве живой мишени для пулеметчиков, устроившихся на баке. Те, которых сразу не скосили пули, поднялись во весь рост в своих лодках и начали делать безоружными на этот момент руками крестообразные движения в знак их открытого стремления к миру. На пароходе решили пойти им навстречу и перестали стрелять, а Комлев выключил прожектор. Других попыток атаковать пароход с воды не было. А на суше в течение ближайшего часа перевес снова был на стороне центральной власти. Со стороны города подошли три танка, сильно напоминавшие советские образцы четвертьвековой давности, и несколько бронемашин разного происхождения. Вся эта техника устрашающе ревела двигателями без глушителей и изрыгала огонь из своих боевых средств, а вслед за ней, видимо, шла пехота, скрытая темнотой. Мятежники (на «Лоале» еще не знали, что они теперь себя называли войсками ОРФ (Объединенного Революционного Фронта) не рискнули искушать судьбу и с уже натренированной сообразительностью стали поспешно отступать, откладывая свои победные демарши на потом.
Мфумо получил временное удостоверение, где значилось, что Томас Мфумо Мутеми является начальником отдела пропаганды мотострелкового полка «Леопард». Впрочем, отдел этот пока состоял только из него самого. Мфумо также получил пятнистую и почти новую форму без знаков различия, и ему даже пообещали выдать на время боевых действий пистолет, когда в полку появится трофейное оружие. Полк остановился на окраине большого селения, оставленного противником вчера после небольшой перестрелки. Несколько хижин было сожжено, и Мфумо предстояло узнать, почему сожгли именно их и кому они принадлежали. Было подозрение, что в уцелевших домах жили те, кто поддерживал мятежников. Тогда получалось, что таких было большинство, и Мфумо с этим был не согласен. В селении слышались крики и перебранка, женщины голосили как по покойнику, как бы заранее оплакивая своих мужей и сыновей, которых мятежники насильно мобилизовали в качестве солдат или носильщиков. Было угнано и какое-то количество скота. Нужно было также точно установить, кому принадлежал скот и каково его количество, так как пострадавшим было обещано возмещение убытка.
Общая атмосфера немного напоминала ему ту, с которой он был уже знаком, когда ездил в деревню, где происходили межплеменные столкновения. Угрюмые, недоверчивые взгляды, запах гари и кучи еще дымящихся остатков человеческого жилья. Один из погорельцев, босой, голый по пояс и в старой набедренной повязке, отвел его в сторону.
— Слушай внимательно, мвами, и напиши обо всем правду.
Он недоверчиво покосился на записную книжку и ручку в руках Мфумо, словно определяя на глаз, насколько правдив будет рассказ об увиденном и услышанном.
— Не все радуются искренне вашему приходу. Ты посмотри на лица всех. Одни улыбаются только ртом, показывая зубы, а сердца их, как камень. Напиши же, господин, обо всем так, чтобы все увидели то, что сейчас видят наши глаза.
— А где живет вождь вашего селения? — спросил расстроенный Мфумо. Он чувствовал себя человеком, на которого смотрят, как на не оправдавшего себя предсказателя дождя в засуху. Его собеседник молча показал ему на хижину побольше других, стоящую на пригорке.
— Говорят, у него есть какое-то образование. Ты не знаешь?
— Образование! — презрительно усмехнулся погорелец. — Да он в жизни не слышал, как звенит школьный звонок. Иди и поговори с ним, но знай, что укушенный змеей убегает и от ящерицы.
Из этого Мфумо понял, что вождь этот его доверием не пользуется и, скорее всего, не является его соплеменником. Он дал этому человеку несколько скомканных пондо, и тот молча их принял обеими руками, что было знаком благодарности.
Вождь был благообразен, с седой бородкой, и одет в широкий балахон с глубоким вырезом на шее.
— Мятежники приходят и говорят, что мы поддерживаем правительство. Они увели часть наших мужчин, угоняли скот. У меня тоже забрали несколько коз. И вот приходят свои войска и говорят, что мы поддерживаем мятежников. Раз твой дом не сожгли, значит ты для них свой.
И снова Мфумо оказался на месте другого пожарища. Там стоял старик, похожий на отставного проповедника, в выгоревшем на солнце каком-то странном, долгополом сюртуке, и пытался утешать пострадавших.
— Что случилось, то случилось. На все воля Божья. Даже если мы наполним своими слезами вот эту железную бочку для воды, мы не сделаем из вчерашнего дня сегодняшний. И вдруг он запел довольно еще сильным голосом какой-то знакомый всем псалом на лулими. К нему присоединились другие голоса, в основном женские.
Вы чью работу делаете? Мы Божью делаем работу. Когда Господь придет за нами, Он утрет нам слезы с лица И вознесет нас на небеса, В Своих руках Он нас вознесет.Мфумо ушел, чувствуя свою бесполезность и бессилие. Конечно, он напишет обо всем, что он увидел и услышал, но много ли от этого будет пользы? И пение это он почему-то воспринимал, как укор. Мфумо сразу же рассказал, не жалея красок, обо всем увиденном, особенно о погорельцах, командиру полка. Тот подумал, почесал голову под своей пятнистой панамкой и приказал отрядить треть солдат от каждого подразделения на строительство жилищ в этом селении.
— Вдруг сезон дождей начнется в этом году раньше? — этим вопросом неизвестно к кому он оправдывал свои далеко не служебные действия.
Он, конечно, рисковал. На него могли донести недруги, что он не стал преследовать противника, а задержался и дал тому возможность укрепить свои позиции. Но на войне все время приходится рисковать: и в бою, и между боями. Тот, кто тебя не любит, понимает твои слова и дела по-своему. Истину всегда признают с некоторым опозданием. Ведь и банан только тогда приносит плоды, когда стебель его засыхает.
Вечером того же дня Мфумо сидел на расстеленном куске брезента со своими товарищами по офицерской палатке, перед керосиновым фонарем и большой посудиной из высушенной тыквы с пальмовым вином. А лучшей закуской к нему, как известно, служат клубни вареной маниоки, тонко нарезанные и в маслянистом, наперченном соусе, густом от толченого земляного ореха. И вино, и еду удалось купить у местного жителя, который с приближением военных действий погрузил провиант на тележку, запряженную ослом, взял семью и отогнал скот в густые заросли. Ему повезло еще и в том, что его жилище не сожгли.
Пили вино из больших пластиковых кружек и нашли, что оно не разбавлено. Капитан Мвуби считал себя знатоком туземных напитков и поэтому убежденно заявил:
— Это вино из сока масличной пальмы, и оно не слишком перебродило. А вот из пальмы рафии оно всегда какое-то водянистое.
Стали вспоминать пословицы, связанные с пальмовым вином. Кто приведет лучшую, решили все, получит лишнюю кружку. Мфумо привел целых две: «как делаешь надрезы на пальме, так и будешь пить вино» и «не ругай винодела, пока пальмовое вино не выпито». Но премия досталась Мвуби, который сказал:
— Когда говорят, что пальмовое вино кончилось, посуду от него не прячут.
При этом он торжественно потряс тыквенной бутылью, в которой красноречиво плеснулась влага.
Мфумо подумал, что о вине говорили, чтобы обойти тему войны, но эта тема была как единственная тропинка по гребню горы.
— Вот, кажется, все знают, кто эти мятежники и из кого состоит их дивизия. Это сплошь выходцы из тех племен, которые всегда раньше поставляли головорезов и угонщиков скота. А почему тогда некоторые их поддерживают?
Задавший вопрос Мвуби оглядел всех, как учеников в классе, переоценивающих свои знания. Глаза у него уже заметно покраснели от выпитого.
Мфумо счел этот вопрос глупым и сразу дал это Мвуби понять. Ему надоело молчать последние месяцы либо увиливать от ответа.
— А что, по-твоему, прежний режим стоил того, чтобы всем так уж хотелось его защищать? Вспомни, как проходили выборы и что было после них.
— Все-таки в стране был какой-то порядок, а это немаловажно, — с чувством сдержанного одобрения этого режима заявил Мвуби.
— Ты спроси простой народ, вот хотя бы жителей этой деревни. Много им дала власть, начиная с провозглашения независимости? Правильно говорят, что чужая боль спать не мешает.
Мфумо решил оставить эту нескончаемую тему. У него свой счет к прежнему режиму. Он закрыл газету и лишил его работы. А этому служаке Мвуби, видимо, все равно, кто у власти. Лишь бы был порядок.
— Ну и что ты теперь предвидишь? — с мнимым простодушием спросил Мвуби. — Ты ведь в колледже учился, а я нет.
Мфумо разговор стал надоедать. Голова отяжелела от вина, и хотелось спать. Но надо было сказать пару малозначащих фраз на прощанье.
— Начнется вялотекущая гражданская война. Будем ждать вмешательства ООН. Может быть, сам Кофи Анан к нам пожалует, этот профессиональный миротворец.
— Не дождемся, — сказал Мвуби, разливая остатки вина. — Кофи едет только туда, где надо мирить белых людей. Это его возвышает в собственных глазах. В Африку он ездить не любит.
— На правый берег Иордана он тоже не ездит, — колко заметил немногословный лейтенант Хабиби, сын африканской матери и йеменского торговца.
— Это уж точно, — не удержался Мфумо. — Там ему тоже делать нечего. Это запретная для ооновцев территория.
— Американцев не хочет раздражать, — уточнил Хабиби.
— Если разобраться, то нас эти дела касаться не должны, — вдруг с демонстративной прямолинейностью Заявил Мвуби, видимо, вспомнив, что он здесь старший по званию. Но так как выпитое вино на него все-таки действовало, он принялся рассказывать о своей недавней поездке вовремя отпуска в родные места и о том, что его отец совсем не хотел считаться с тем, что сын давно уже не только взрослый, но даже не такой уж молодой мужчина, не говоря о том, что он армейский офицер.
— Расстояние до ближайшего города жители до сих пор определяют так: «До него день ходу, если пуститься в путь с первым криком петуха». И еще они любят говорить: «Наши отцы не ходили в больницы, где пользуют лекарством белого человека, и жили столько, чтобы успеть увидеть своих внуков». А отец мне до сих пор говорит: «Ты не должен есть толченый ямс и пить банановое пиво в чужом доме, кроме того, какой я тебе укажу». Как будто я туда ради этого толченого ямса приехал.
К этому времени все уже постепенно переместились с пола на свои походные кровати. Было слышно, как поблизости ходил часовой и как похрустывала сухая трава под его ботинками.
А Мвуби, которого всерьез потянуло на воспоминания, все продолжал говорить о поездке на родину уже заметно уставшим языком.
— У нас ведь там еще процветает многоженство, и однажды разразился огромный скандал, когда один парень был обвинен в том, что от него беременна одна из молодых жен его отца. Он даже поклялся местным божеством, которое живет в озере, что не касался, как он сам сказал, спелого, но запретного плода. Он доказывал, что его обвинили ложно, когда увидели, что он поднял с земли покрывало, которое сорвал с этой женщины ветер. Меня же отец все время предупреждал насчет городских женщин, которые продали, по его словам, свой стыд на рынке. Я, видно, как-то не так себя вел, и однажды отец мне сказал: «Чем дольше я тебя вижу в этом доме, тем сильнее это огорчает мое сердце». И я уехал. Вот такой у меня старик.
Хабиби задул фонарь, и внутренность палатки обволокла тепловатая тьма. Мфумо знал, что перед утром будет весьма прохладно. Голова заметно шумела от выпитого вина. Перед тем, как заснуть, он с сожалением подумал, что так и не побывал на этот раз там, где живут земляки отца, когда-то бежавшие из своей страны, охваченной войной. Бедный отец. Его вдруг потянуло посетить родной городок, узнать, уцелел ли его дом, живы ли родственники. Он ушел и не вернулся. Когда Мфумо окончил свою учебу, у него нашлись деньги на дорогу, и он решил отправиться на поиски отца. Мать его тогда еще была жива. К тому времени он мог уже прилично объясняться на французском, а в стране, откуда был его отец, этот язык был государственным. У Мфумо были и попутчики, хоть и не протяжении всего пути. Ведь отправляться в такое путешествие опасно одному. Если погибнешь в пути, кто-то должен дать об этом знать родным. Мфумо наводил справки об отце на всем протяжении пути, но ничего узнать не смог. А в его родном городишке отца так и не видели. Что с ним случилось, так навсегда и осталось тайной.
Настоящее имя Нанди было Лилиан Мунгаи. Но однажды ей попала в руки книга Риттера «Чака Зулу», и ей понравилось имя матери зулусского вождя-завоевателя Чаки — Нанди. Оно было от слова «мнанди», то есть «приятная, милая», и теперь Лилиан стала подписывать этим именем свои статьи и заметки и называть себя так при знакомствах. Говорят, что иногда имя и его значение меняют характер и поведение его носителя. С тех пор, как она стала называть себя Нанди, ей казалось, что у нее появилось какая-то никого не утомляющая и ничуть не жеманная ласковость, что было незамедлительно отмечено всеми. Вниманием мужчин она и раньше не была обделена, но теперь оно усилилось, а женщины почему-то стали меньше чувствовать в ней соперницу. Возможно, это было оттого, что в ней начисто отсутствовала откровенная и хищная нацеленность действий и поступков. Казалось, она всегда была уверена в том, что будет замечена, и ей отдадут должное.
Когда пришло известие о мятеже в столице, в редакции журнала, где работала Нанди, объявили, что работа прекращается на неопределенный срок, и всем было предложено покинуть опасный теперь город. Ей тотчас же предложил уехать на его машине заместитель главного редактора, большой щеголь и эрудит, который давно уже пялил на нее глаза. Теперь он ей серьезно, как о решенном деле, говорил о том, что сначала они доедут до Кимбулу, а там, уже в предгорьях, живут его родные, у которых кофейная плантация и много посадок бананов.
— В Кимбулу мы оставим машину, где ее надежно спрячут, а там я найму носильщиков, и они донесут тебя с специальных носилках до самого места, куда не дойдет никакая война. А у родных для тебя даже найдется отдельный домик. Они очень гостеприимные люди.
Нанди давно уже научилась не сразу отказывать мужчинам, от которых зависишь по службе, тем более, отказывать в резкой форме. Ударишь льва, самому больно станет. Так у них говорят в подобных случаях. Поэтому она сказала, что должна немного подумать. Ответ, подернутый дымкой неопределенности, сквозь которую, как слабый луч солнца в ненастье, мелькает призрак надежды, смягчает удар по самолюбию и позволяет отвергнутому смириться с неудачей. Ведь охотник, от которого убежала антилопа, не впадает в глупую ярость, а сохраняет надежду на следующий, более счастливый случай. Итак, искусством отказа надо учиться владеть. Многим это известно, но не все помнят о том, что содержание сказанного часто менее важно того, как это сказано. Тон и даже выражение лица при этом иногда имеют решающее значение.
Эту поездку Нанди отвергла уже потому, что в ней таилась попытка навязать ненужную ей связь, но для отказа были и другие причины. Во-первых, она не хотела сейчас покидать город. Когда Тванга не прошел на последних президентских выборах и в Лолингве шли уличные бои, она оставалась дома, и с ней ничего не случилось. А вчера она звонила на речной вокзал, и ей ответили, что рейс «Лоалы» перенесли из-за ремонта на сутки. Во-вторых, ее товарищ по работе и подруга Камилла Мзамане настойчиво тянула ее в маленький поселок, откуда она была родом, километрах в десяти от города. По ее словам, он весь был скрыт густыми зарослями и туда вела узкая проселочная дорога с двумя деревянными мостами через ручьи. По этой дороге, говорила она, не могут проехать даже небольшие грузовики, а уж военной технике туда вход просто заказан. По ней ездят только на велосипедах, мотоциклах да на таких машинах, как ее небольшой «пежо» устаревшей модели.
— Дома у меня есть хороший приемник и мы будем следить за всем, что творится вокруг, — с успокаивающей уверенностью внушала ей Камилла.
— А ты отвезешь меня в город, если вдруг мятежников из него выбьют? — допытывалась Нанди.
— Никаких проблем, — заверила ее Камилла. — Я сама сразу же хочу вернуться в город.
Они без особых помех проехали по городским улицам, ведущим к окраинам, где на перекрестках уже стояли бронемашины и солдаты в касках дежурили у пулеметов. От центра города доносилась частая стрельба, слышались взрывы гранат и иногда трещали моторы вертолетов. Военные с хмурой настороженностью провожали взглядом каждую машину, и некоторые они останавливали для осмотра. Вид двух женщин в маленькой машине подозрения у них явно не вызывал, а Камилла к тому же вовсю им улыбалась ярко накрашенным ртом, выставляя напоказ всю свою жизнелюбивую приветливость, словно белый флаг нейтральности в качестве единственной, хотя и сомнительной, защиты от случайностей войны.
В дороге говорили мало. Камилла внимательно смотрела вперед, боясь пропустить нужный поворот. И это было объяснимо, так как вдоль главной дороги теперь тянулись пыльные заросли: кусты и низкорослые колючие деревья. И в месте поворота они создавали подобие низковатой арки, которая возникла неожиданно, и под ней открылась уходящая вниз узкая песчаная дорога. О происходящих событиях Камилла предпочитала не говорить. Один лишь раз она сказала, что политика — это дело мужчин, раз уж им нечем больше заняться, и что она не скрывает своего брезгливого неучастия в ней.
— Но если эти (тут она употребила неприлично-презрительную кличку племени, которое составляло основу мятежных сил) придут к власти, надо будет готовиться к худшему. Работы мы лишимся, это уж точно. У них женщины во всем стоят на втором месте, а на первом — мужчины вместе со своим скотом. Они женщин и близко не подпускают к своим коровам. Мужчины их пасут, доят, а своих покойников зашивают в бычью шкуру, подогнув им ноги, и хоронят в могиле недалеко от загона для скота. А потом прогоняют по ней все стадо, которое оставляет на могиле свои лепешки.
— Но их армейские офицеры все же чему-то учились, — решила сказать хоть что-нибудь в пользу мятежников Нанди.
Камилла, не отрывая глаз от вихляющей то вправо, то влево красноватой, пыльной дороги, упрямо отвергла эту попытку объективного подхода к участникам мятежа:
— Все равно я уверена, что от них попахивает коровьим навозом. И что их повсюду сопровождают мелкие надоедливые мухи, как и их горбатых коров.
Этими словами тема мятежников была закрыта, и больше к ней никто не пожелал возвращаться.
Машина въехала в незаметно начавшийся поселок, скрытый нависающими над ним деревьями, похожими на акации. Кое-где вздымались темно-зеленые кроны манго, а хижины стояли полускрытые с боков посадками бананов. Машина въехала во двор, где стояли отдельно друг от друга три круглые хижины, крытые банановыми листьями, и еще там был квадратный домик под крышей из белой жести. Здесь царила тишина. То, что происходило сейчас в столице, не имело здесь отголоска. Лишь однажды протарахтели в небе два вертолета, направляющиеся в сторону города. И тогда целая ватага маленьких детей выбежала на открытое место, и все стали смотреть в небо.
Нанди сначала не могла понять, почему в поселке такое откровенное и какое-то шальное буйство зелени даже в конце сухого сезона. Камилла ей объяснила, что дома и все посадки вокруг них расположены на слабом склоне, а выше находится большая запруда на ручье, текущем сверху. Поэтому вода из нее просачивается вниз и питает почву вокруг.
— У нас здесь жизнь, хоть мы и рядом со столицей, вполне патриархальная. По вечерам, например, моя бабушка Макья часто рассказывает детям сказку, как это делалось в прежние времена: в полутемной хижине и при свете тлеющих углей в очаге. Я попрошу ее сделать это сегодня. Она не откажет, тем более, что я ей и подарок из города привезла. У всех теперь так тревожно на душе, а дети слушают разговоры взрослых, и их живот полон страха, как здесь говорят в таких случаях. Я тебе тоже советую ее послушать. Макья еще немного и колдунья, и даже гадает на костях.
Потом они какое-то время сидели у приемника, выуживая из эфира то, что имело отношение к событиям в Бонгу. Из столицы изредка доносились дерзкие и довольно сумбурные высказывания мятежников. Би-Би-Си скупо и с какой-то неодобрительной отстраненностью сообщило только о мятеже в армии и частичном захвате Лолингве. А потом мятежные выкрики прекратились вовсе, и на прежней волне заговорила государственная радиостанция, которая с обнадеживающей обстоятельностью объявила о создании временного правящего органа Республики Бонгу. Теперь было ясно, что мятежников вытеснили из той части города, где был радиоцентр. Родители Камиллы накануне уехали навестить родственников. Теперь же и вернуться им будет непросто, если дороги перекроют войска.
Нанди получила от Камиллы маленькую комнатку в доме, крытом жестью, она была с одним узким окном, но зато с большим зеркалом в углу. Нанди с приятным облегчением сорвала с себя потную рубашку и не без труда стащила тесноватые ей, как теперь выяснилось, брюки. Сейчас она помоется и будет в дальнейшем ходить облаченная в традиционное покрывало «читамбала», которое она захватила с собой. Нанди с придирчивым вниманием оглядела себя в зеркале. Как-то на одном из приемов к ней подошел довольно развязный репортер из полубульварной газеты и предложил ей поработать фотомоделью. Он настойчиво совал ей в руку визитку своего приятеля, который, по его словам, помог бы Нанди сделать карьеру. Из вежливости она визитку взяла, но ни разу не позвонила. Ей казалось чем-то унизительным позировать перед фотокамерой, в то время как ее будут снимать, словно вещь или редкое животное. Вот если бы перед художником или скульптором — это уже что-то иное, и здесь бы она подумала. Она вспомнила, как года полтора назад знакомые посоветовали ей преподавать язык лулими жене одного английского горного инженера или геолога, который большей частью находился в отъезде. Нанди подумала, что его жене было просто скучно одной дома. А ей самой деньги тогда были нужны. Ее долго не брали в штат журнала, а материалы ей заказывали необъяснимо редко, хотя их и хвалили.
Жену инженера, которой было чуть больше тридцати, звали госпожой Кемпбелл, но она сразу же демократично предложила себя звать просто Дженифер. Она присматривалась к Нанди с каким-то почти профессиональным интересом, пока та описывала ей прелести языка лулими: красочность его выражений, мелодичность звучания и относительную простоту грамматики. Интерес к своей персоне в чисто физическом плане для Нанди объяснился просто. Дженифер рисовала, и это было сразу заметно по всему тому, что висело повсюду, стояло, прислоненное к стенам, лежало на стульях и даже на полу. Это были рисунки, эскизы, наброски всего того, что художницу окружало в стране, где у ее мужа теперь была работа. Нанди честно провела свой урок, была в меру требовательной, а Дженифер была в меру прилежной ученицей. Но Нанди чувствовала, что рано или поздно ее попросят позировать, и она не знала, как она к этому отнесется. После второго или третьего урока Дженифер, смущенно посмеиваясь, достала сверток, в котором оказалось довольно красивое и легкое платье.
— Видите ли, Нанди, — стала объяснять она, — я купила себе платье, а оно оказалось тесноватым. Вы не откажетесь его принять, если оно вам, конечно, подойдет?
Платье было, несомненно, очень привлекательным и в то время совершенно не по карману Нанди. Она колебалась, но не так уж долго, говоря при этом всякий вежливо-жеманный вздор.
— Хотелось бы, чтобы вы сразу его и примерили. Можете прямо здесь.
Нанди понимала, что Дженифер хочется, чтобы она разделась и можно было профессионально взглянуть на ее фигуру. «Что ж, пойдем белой даме в этом навстречу, — с жизнелюбивой неприхотливостью подумала она, — тем более, что дама — художница». Она деловито сняла с себя блузку и узковатую юбку, в которых пришла на урок, похвалив себя за то, что дома надела недавно купленные трусики и лифчик бежевого, ближе к ореховому, цвета. Странным образом оба эти предмета по своему оттенку были мало отличимы от цвета ее кожи. Обычно она редко в жаркую погоду надевала лифчик, но сейчас он был на ней, и ей не пришлось демонстрировать свои небольшие груди, похожие на половинки разрезанного поперек лимона. Впрочем, Дженифер как художница это бы только приветствовала.
— Знаешь, Нанди, ты ведь прекрасно сложена и сама, я думаю, об этом знаешь. Погоди надевать это платье, никуда оно не уйдет.
Нанди оставалось только купаться в лучах восхищенного любования собой, это было ново, приятно, хотя и вызывало несколько растерянную неловкость.
— Во-первых, у тебя идеальные ноги. Знаешь, как это определяют? Вот поставь их вместе поплотнее, и я тебе объясню. Меня вообще очень интересует женская фигура. Так вот, когда ноги вместе, они образуют четыре, назовем их так, зазора. Если считать сверху, первый будет в нижней части бедра, сразу под этим самым местом, следующий над коленями, потом под коленями и последний над ступнями. У тебя фигура, особенно ноги, жительницы саванны. Ты и в самом деле оттуда?
— Я плохо знаю историю своего племени, — отчего-то смущаясь сказала Нанди, — но я где-то читала, что раньше оно действительно обитало в саванне. А потом его оттеснили ближе к лесам кочевые племена скотоводов.
Дженифер это признание явно обрадовало, оно подтверждало ее теорию. Она знала давно, что африканцы — это раса с самыми длинными ногами. Так, ноги африканки одного роста с белой женщиной будут почти на три сантиметра длиннее. И бедра у них более длинные, колено же почти незаметно, у них длинные икры и стройные лодыжки. Правда, у северных европейцев тоже длинные ноги, но они не так изящны. А у восточных людей и азиатов, как и у многих южан вообще, ноги более короткие, и мышцы их заметно рельефнее.
В тот день языком они занимались мало, а Дженифер сделала первый карандашный набросок фигуры Нанди. Потом они долго пили чай с печеньем разного вида и конфигурации, а Нанди особенно понравилось то, что было с вареньем внутри в виде сердечка. Дженифер в процессе чаепития продолжала ее посвящать в таинства красоты, и местами ее объяснения отличались явной интеллектуальной избыточностью. Нанди тогда даже предложила ей написать статью в журнал и пообещала сама отнести ее в редакцию. Дженифер посмеивалась и кивала, что означало ее уклончивое одобрение возможности своего выступления в печати, но при этом сказала:
— Могут подумать, что я занимаюсь лестью в адрес африканцев, и кое-кто найдет в этом попытку покаяться от имени всех белых за прежние проявления расизма.
Еще в тот день Нанди узнала, что женщины с длинными ногами чаще всего бывают слишком чувствительны, романтичны и любят помечтать. Кроме того, они часто не могут справиться с повседневными трудностями, в отличие от женщин коротконогих. Зато у длинноногих есть твердые принципы, а женщины с короткими ногами легко меняют свои взгляды, если это им выгодно. Правда, они легко поддаются внушению со стороны других.
Дженифер сделала позднее несколько карандашных эскизов и потом пообещала Нанди, что сделает ее портрет маслом. Нанди успела ее обучить основам лулими, но вскоре мужа Дженифер перевели работать в другое место, и Кемпбеллы покинули Лолингве.
В круглой хижине было полутемно, и только слабо мерцали красноватые угли в очаге из трех камней в самом ее центре. Пол был выстлан циновками и на нем тесно сидели дети разных возрастов. Это были внуки Макьи, ее внучатые племянники, а больше дети соседей из окрестных хижин, которые всегда ходили слушать ее сказки. Макья сидела у противоположной стены, и Нанди даже не могла разглядеть ее лицо. Сама она выросла и воспитывалась в городе, деревенскую жизнь знала плохо, чувствуя себя какой-то неполноценной африканкой. Поэтому она и осознавала свое откровенное несовершенство в отношении знаний и народных традиций и всего этого устного творчества. А вот у этих детей, сидящих рядом с ней на циновках, уже чувствовалось требовательное пристрастие к такому вот слушанию сказок в этой таинственной полутьме с легким запахом дыма. Не заменяло ли им это телевизор и кино, словом, все то, чего они были лишены? Так ли бы они все собирались здесь, имей они возможности развлекаться, как многие, хотя и далеко не все, их городские сверстники? На это Нанди не могла найти ответа.
И вот Макья заговорила немного скрипучим, но приветливым голосом доброй волшебницы, в котором могла также зазвучать и пугающая демоничность, приводящая в трепет не только детей, в чем Нанди впоследствии и убедилась, дослушав ее до конца.
— Я, сказительница Макья, дочь Мкутунгу и Нгурумби, и все в нашем роду умеют рассказывать сказки о людях и зверях, о духах и оборотнях и о том, что было на нашей земле с самого начала. Я расскажу вам сейчас о леопарде, который попал в яму-ловушку и просидел там четыре дня и три ночи без пищи и воды. Так вот, у него не было друзей, а ведь известно, что друг иногда ближе брата. Родственников никто ведь не выбирает, а вот друзей каждый заводит сам. И еще: дружба — это след, который исчезнет, если его не обновлять. Леопарда никто не любил, поэтому звери пробегали мимо, смотрели в яму и смеялись. Но нашлась одна добрая, хоть и глупая, обезьяна, которая решила помочь ему, хотя и знала, что леопард — это враг обезьян. Она опустила в яму свой длинный хвост, леопард схватился за него своими передними лапами, а обезьяна в это время держалась за дерево, которое росло рядом с ямой. Леопард, держась за хвост обезьяны, выбрался наружу, а потом вонзил в нее когти и сказал: «Я тебя сейчас съем. Мне неприятно тебе это говорить, но ты должна меня понять, ведь я очень голоден. И еще я ослабел и не знаю еще, когда мне попадется добыча». Обезьяна упрекала его в неблагодарности, но все было напрасно. К счастью для обезьяны, в это время мимо проходила мудрая черепаха. Она выслушала обоих и сказала: «Если леопарду так уж хочется съесть обезьяну, пусть он ее хоть поблагодарит сначала за спасение. Для этого ему надо три раза похлопать ей своими лапами». Леопард отпустил обезьяну, чтобы последовать совету черепахи, а обезьяна освободилась от его когтей и умчалась прочь.
Потом Макья рассказала сказку о том, как сын бегемота стал вождем деревни, и еще о людоеде, которого звали Мбула Макекелеке. А в конце она сказала, словно подводила итог:
— В жизни было, есть и будет много страшного, но все имеет свой предел. Как ни старайся удав, а дикобраза он не проглотит. Но пусть никто не наступает по глупости змее на хвост и не спешит выбрасывать палку, даже если змея уползла.
Дети стали расходиться, а Макья посмотрела на Нанди с какой-то рассеянной ласковостью, как на козленка, которого вместе с другими пустили в холодную ночь греться в хижину к людям.
— Если хочешь, я погадаю тебе на костях, — предложила Макья и тут же добавила: — Но только один раз.
Нанди поблагодарила и отказалась, уклончиво признавая этим, что ей есть, что скрывать, и она не хочет облекать это скрываемое в слова. Таким образом, она не пожелала выслушать угадывание ее настоящего, а что касается будущего, Нанди считала, что не следует знать то, что тебя ожидает. Если тебя ожидает хорошее, ты не будешь потом ценить то, что получишь. А если впереди плохое, то это лишает не только радости жизни, но и самого желания жить. Говорят, правда, что судьба переменчива, и плохое может сменяться хорошим — и наоборот.
Поздно вечером Нанди снова слушала радио и узнала из сообщения новых властей Бонгу, что мятежников вытеснили на окраины столицы. Из этого она поняла, что порт и причалы свободны и что «Лоала» должна выйти, пусть даже с опозданием, в свой утренний рейс. Если с ней ничего за все это время не случилось. Камилла сказала, что утром она готова ехать в город.
Ночь на реке шла к концу, сопровождаемая хлопками выстрелов, отдельными голосами на берегу, и ее остаток Комлев проводил на мостике, накинув на плечи плащ для защиты от речной сырости. Ему нужен был хороший обзор, и отсюда можно было бы легко заметить движение по реке. Но ни он, ни вахтенные и солдаты на палубе ничего такого не заметили, а к судну явно подходили лодки. Иначе как можно было объяснить появление свежих листовок на палубе, причем некоторые были наклеены на стены надстройки? Комлев положил себе в карман несколько штук. Они были напечатаны типографским способом на двух языках и подписаны Силами Освобождения Бонгу — СОБ. Мятежники же называли себя по-другому. Все листовки начинались так:
«Прислушайтесь к голосам наших предков! Мы, бойцы Армии Освобождения, люди без образования, нас не учили в школах знанию белых людей и не обращали в свою веру заморские миссионеры. Но мы знаем истину и хотим, чтобы все люди в этой стране, к какому бы племени они ни принадлежали, познали самих себя и услышали голоса своих предков. Мы должны освободить страну не только от сил империализма, неоколониализма и заморских лже-религий, но и души людей от невежества…»
Комлев спустился на палубу и увидел там Оливейру, который тоже читал листовку.
— Старпом, я думаю, что кто-то из наших матросов принимал ночью лодку, — сказал он со сдержанным неодобрением. — Может быть, даже и расклеивали их повсюду. Но как узнаешь? Они все будут молчать, как рыбы. Да и нужно ли нам во все это вникать?
— А как насчет содержания? — почему хотел узнать его мнение Комлев.
Оливейра, позевывая, ответил кратко и уклончиво:
— Они говорят, что нигде не учились, но для написания такой листовки нужно немного поучиться в школе. Ну, дойти хотя бы до шестого класса.
— А чтобы понять то, что в ней написано, тоже требуется школьное образование, — добавил Комлев. — Я в лулими не силен. Интересно, как звучит параллельный текст?
Оливейра пожал плечами, покрытыми суконной тужуркой.
— Местами довольно смешно, к тому же он значительно короче. В языке лулими просто не хватает многих нужных слов.
— Они заодно с мятежниками или против них?
— Старпом, это уже политический вопрос. Как я могу на него ответить?
Это Комлева почему-то задело, и он сухо сказал:
— Проследите, чтобы все было готово к подъему якоря утром.
А потом он подумал, что вопрос, который он задал Оливейре, умным было назвать трудно. Ему не следовало забывать, что он все-таки иностранец.
Комлев снова поднялся на мостик, и тут в голову полезли разные непрошеные и не очень серьезные мысли. Судя по часам, время шло к рассвету, но небо никак не светлело. Видимо, мешали плотные облака.
Комлев почему-то вдруг стал думать о том, что причина его любовных неудач в прошлом объяснялась до банальности просто. Во всех случаях, которые он мог припомнить, чувства были удручающе односторонними. Взаимность прискорбно отсутствовала. Комлев, бывало, отчаянно влюблялся, мучительно страдал, но очередной предмет его любви, увы, лишь позволял себя любить, сам же он, Комлев, интереса к себе, в сущности, не вызывал и никакой особой ценности в глазах этого предмета не представлял. Тем не менее, матримониальный интерес он мог представлять, и за него могли выйти замуж те, кому надо было с этим торопиться. Хотя бы для того, чтобы не отстать от подруг и не стать потом объектом насмешливой жалости. Комлеву со временем даже стало казаться, что в любви существует некое разделение функций, а именно: мужчинам свойственно любить, женщинам же — стараться быть любимыми. Известно, что для мужчины самое тягостное — это быть предметом чьих-то чувств, а самому при этом оставаться равнодушным. Женщины же, как существа с более практичным умом, хотя и демонстрирующие романтическую настроенность, хорошо понимают, что взаимная любовь встречается крайне редко, а любить в одностороннем порядке не позволяет нормальная и здоровая осмотрительность. Тем более, что такая односторонняя любовь к браку никак не приведет. А отчетливую нацеленность на брачный союз обещает только любовь того, кто тебя заметил и создал ореол пусть даже преувеличенной возвышенности в собственных глазах. Конечно, риск есть и в этом. Ибо сегодня любят, а завтра любовь может угаснуть, как горящая спичка на ветру, но с возможностью таких случайностей следует смиряться, как смиряются со стихийными бедствиями.
Комлев даже однажды, недели две назад, сел и написал письмо Вике, хотя сам понимал, что ответа он никогда не получит и что сам он, скорее всего, вычеркнут отовсюду, где он мог числиться или храниться в ее существе. Он сам никогда так и не понял, чем он вообще вызвал интерес к своей персоне. Потому что ее неожиданные появления у него, а потом исчезновения с какой-то прямо-таки оскорбительной быстротой вели только к разным неприличным предположениям об особенностях ее личной жизни. Комлеву всегда казалось, что упомянутая жизнь у Вики была не только двойная, но даже и тройная.
Комлев был отчасти доволен, что с уходом капитана Форбса значительно упростилась форма обращения на пароходе в сторону большей демократичности. Слово «сэр» было предано забвению, и Муго, формально считающийся капитаном, теперь в качестве обращения уже не мог рассчитывать на то, чтобы услышать это слово в свой адрес. Даже осторожный и почтительный Нкими, по примеру Комлева, называл его просто «капитан», да и то в самом этом слове, имеющем мало отношения к самому Муго, содержалась изрядная ирония. Сам же Комлев по-английски именовался «чиф мэйт», то есть старший помощник, кем он на самом деле и являлся. Но он с самого начала позволил снисходительно называть себя просто «чиф», что вполне соответствовало русскому «старпом». Да, во времена Форбса отношения были несколько чопорны, в них сквозила даже избыточная корректность, но в них сквозила и какая-то романтическая привлекательность с неким даже литературным налетом. Но времена, как известно, меняются, ибо на то они и времена, чтобы неумолимо меняться.
Комлев решил идти к причалу не раньше, чем встанет солнце, вернее, бросит свой размытый и какой-то неискренний луч сквозь облака. Ему хотелось также подтверждений, что мятежники действительно оттеснены к верхнему течению Мфолонго и теперь держат оборону где-то рядом с первыми порогами на реке. Когда это подтвердил командир отделения солдат на пароходе, который держал мобильную связь со своим начальством, он вызвал на палубу боцмана и всех матросов, которым надлежало быть по авралу на баке. Готовить машину он приказал еще за полчаса до этого. Не выходил из головы случай с листовками на борту. «Если кто-то из матросов помогал тем, кто подплыл на лодке, — озабоченно размышлял Комлев, — что же делали в это время солдаты? Не спали же они все до одного. Или среди них тоже есть сочувствующие этим, как их, „Силам Освобождения“? И как с ними выходить в рейс? Надо доложить об этом случае тем, кто на причале».
Не выспавшийся и совсем не щеголеватый сегодня Оливейра, позевывая смотрел на мостик, где Комлев надоедливо щелкал по микрофону, проверяя связь. Нкими без всякого напоминания находился на корме, чтобы следить за швартовкой. Муго на мостик не поднимался, понимая свою ненужность там. Видимо, ему уже стало тяжело играть роль капитана. Муго все еще страдал от неведения относительно расстановки сил в этом временном правящем совете Бонгу. По его представлению, власть должна быть в руках того, чьи соплеменники будут занимать ключевые посты. Его сознание прискорбно закостенело в рамках племенных представлений, что бы там ни говорилось о преодолении трибализма и об освобождении африканца от узости этнических взглядов. Речная вода и песок не расстаются, так же как и огонь с пеплом. А лиана хоть и похожа на змею, но ползать не может. Так думал Муго, напрасно пытаясь в мудрости своего племени найти помощь в отыскании своего места в том трудном положении, в котором он оказался. Но ведь недаром говорится, что пока не убьешь змею, не измеришь ее длину, и если барабан звучит по-иному, меняется и шаг танцующих.
— Приготовиться к подъему якоря, — сказал Комлев сипловатым голосом человека, которому пришлось спать в эту ночь до смешного мало. — Шланг приготовить с правого борта. Двоих матросов — в цепной ящик.
Он поймал удивленный взгляд не только боцмана, но и Оливейры. Видимо, стали отвыкать от правильного выполнения некоторых работ. Капитан Форбс со своей придирчивой требовательностью ушел в их глазах в далекое прошлое, а якорные работы стали уже событиями прямо-таки историческими.
Комлев дал команду в микрофон и видел, как боцман, не замешкавшись, отдал стопор и открыл вентиль подачи пара на брашпиль. Даже шипение его было слышно на мостике. Цепь с глухим рокотом пошла в клюз.
— Мистер Оливейра! (Комлев на службе сохранял официальность из педагогических соображений.) Не разгоняйте брашпиль, делайте остановки!
Он видел теперь, как матрос перегнулся через борт и подавал воду из шланга на цепь, ползущую в клюз. Лучше смывать с нее речной ил сейчас, чем потом удалять грязь из цепного ящика. А делать остановки в подъеме якоря нужно для того — и это он запомнил еще с первой училищной летней практики — чтобы два матроса, сейчас скрюченные в цепном ящике, клянущие как жизнь в целом, так и его, нсунгу Комли в частности, успевали крючьями растаскивать цепь по сторонам. Иначе она будет сбиваться в жесткий, мокрый комок и остановит подъем якоря.
— Уменьшите скорость подъема, чтобы не ударить якорем о борт, — напомнил Комлев. Он не забыл рассказ Форбса о состоянии корабельной стали.
Хотя это было адресовано второму помощнику, Комлев надеялся, что тот растолкует боцману все команды с мостика на понятном ему языке, потому что лулими для Комлева был по-прежнему его слабым местом. И вот послышалось, как якорь с коротким ударом металла о металл вошел в клюз, о чем ему сразу и доложил Оливейра. Рулевой все это время держался обеими руками за штурвал и смотрел на Комлева с хмурым, но уважительным вниманием, ожидая команды «право руля». Опыт позволял ему предвидеть ход будущего маневра. Ожидаемая команда была, наконец, дана, пароход медленно развернулся и двигался теперь под острым углом к далекому еще причалу. С бака никто не уходил, теперь все стояли, демонстрируя свою готовность к швартовке.
Когда на мостик доложили, что швартовы закреплены и сходни поданы, Комлев с каким-то ободряющим облегчением увидел, что на причале, все еще охраняемом солдатами, уже выстроилась очередь пассажиров. Значит, жизнь входила в привычное русло, хотя в рейс они все равно пойдут в сопровождении взвода солдат на борту. Война еще не закончена.
Он уже собирался спускаться с мостика, когда увидел на причале стоящую отдельно от всех страшно знакомую женскую фигурку. Неужели Нанди? Комлеву на секунду стало жарко, хотя утро сегодня было вполне прохладным. Не его ли она пришла встретить? Он даже немного приосанился и поправил фуражку. Сомнения окончательно рассеял Оливейра, который сейчас стоял в самом низу трапа, и его толстоватые губы дравида, несмотря на португальскую примесь в крови, раздвигала донжуанская улыбка.
— Старпом, к вам одна исключительно привлекательная молодая особа, которая…
— Ладно, иду. Не трудитесь продолжать, — с обманчивой суровостью, скрывающей смущение, сказал вполголоса Комлев, сбегая по трапу вниз. Все-таки приятно, что тебя ждут. Пусть даже и в другой стране, и даже на другом континенте. Тем более, что в его собственной стране его давно уже не ждали на причале. По крайней мере, такой случай припомнить ему было трудно.
Полк, к которому был прикомандирован Мфумо, придвинулся теперь к реке Мфолонго намного ниже столицы. Река угадывалась по густым, ярко-зеленым зарослям в трех километрах от деревни, где стоял полк. Здесь же зелень была жухлая, как всегда в конце сухого сезона, многие деревья вообще стояли почти голые, а трава выгорела почти до белизны.
Мфумо уже много лет не видел во сне отца, и вот этой ночью ему приснилось, что какой-то человек с неясным, почти неразличимым лицом вызвался отвести его туда, где якобы все эти годы жил его отец. Они долго шли по какому-то мрачноватому лесу, время было похоже на сумерки, и в лесу не было слышно птиц, не мелькали насекомые, не резвились в вышине деревьев обезьяны, и даже листва не шелестела в полной и какой-то зловещей тишине.
Они подошли к холму, поросшему кустарником и корявыми деревцами; у его подножия виднелась вырытая в холме пещера с неровным квадратным входом. В ней было темно, и Мфумо вспомнил присловье, что ночь сначала наступает в доме (если эту пещеру можно было сравнить с ним). И вот из пещеры вышел его отец, с какой-то странной улыбкой на лице, и взглядом как бы приглашал его внутрь. А его провожатый к этому времени исчез, будто его и не было. Мфумо почему-то в пещеру входить не хотелось, но ему показалось, что там, в темном нутре ее, мелькнуло и лицо его матери. И вдруг Мфумо словно осенило: да это же вход в то место, где обитают духи мертвых! И как ему теперь выбраться самому из этого проклятого леса? Мфумо проснулся, когда было еще темно, и долго лежал в каком-то растерянном оцепенении, прежде чем собрался с силами встать.
Через пару часов, после незатейливого армейского завтрака, он сидел в отведенной ему хижине и в последний раз просматривал свою последнюю корреспонденцию. Он вчера сумел послать кое-что в ту самую газету, в которой он работал еще во времена Тванги и которая была закрыта как оппозиционная, когда он уступил президентское кресло после неудачных для себя выборов. Хорошо еще, что самому Тванге удалось тогда унести ноги. Теперь газета была открыта снова, и это был хороший знак, дающий кое-какие надежды.
Последний его материал в газету был сдержанно оптимистичным. Он считал, что если мятежникам не удалось взять столицу, им теперь придется с боями отступать, пока они не окажутся все в своей Озерной провинции, где смогут рассчитывать на поддержку местного населения. А центральной власти придется примириться с тем, что на какое-то время, если не навсегда, сепаратисты будут править в этой провинции. А в других провинциях Бонгу, скорее всего, будут происходить выступления отдельных племен как против правительства в Лолингве, так и против своих ближайших соседей, с целью передела спорных территорий и сведения старых, еще доколониальных счетов.
Война же для полка, в котором числился Мфумо, судя по всему, пока закончилась. Мятежные войска поспешно отступили, боясь быть отрезанными от своих основных сил, и полк ждал приказа о переброске на какой-то другой участок.
В небольшой хижине, доставшейся Мфумо, была низкая туземная кровать из переплетенных сыромятных ремней, грубо сколоченный столик у кривого оконца и две тяжелые табуретки на трех ножках. На одной из них в данный момент сидел Мфумо, засовывая в коричневый конверт свой материал в газету, а на другой лежал его широкий армейский пояс с пистолетом в кобуре, которая с пугающей многозначительностью открывала его рукоятку, намекая этим на ту легкость, с которой он мог быть пущен в ход в случае надобности. Как у некоторых сугубо штатских людей, у него была небольшая тяга к внешним признакам воинственности. Но поносив тяжелый болтающийся на поясе предмет несколько часов, ему сразу же захотелось его снять, что он с облегчением и сделал, войдя в отведенное ему жилье.
А в полку только что произошел случай, подчеркивающий пугающее своеобразие политической и военной обстановки в Бонгу. Был задержан некто, раздававший листовки солдатам, он же, по словам некоторых, склонял воинов к дезертирству с оружием и переходу их в ряды СОБ — Сил Освобождения Бонгу. Мфумо не знал, что на пароходе «Лоала», который находился не в одном десятке километров отсюда, об этих самых «силах» узнали сегодня еще до наступления рассвета. Задержанный молчал, большинство солдат, с кем он успел вступить в разговоры, ходили с каменными лицами и отрицали все на свете.
Мфумо вдруг попросил, чтобы ему дали поговорить хотя бы несколько минут с агитатором. Он питал в тот момент необъяснимую надежду на то, что ему удастся успешно выудить из задержанного кое-какие сведения относительно движений, действующих сейчас в стране, чтобы внести изменения и дополнения в свой материал для газеты, лежащий в большом буром конверте.
Дверь на улицу была полуоткрыта, и оттуда доносилось пение женщин, которые с вязанками хвороста на голове возвращались из близлежащих зарослей, где они его собирали для своих очагов.
Он прислушался к словам, и они были ему понятны. Вот о чем они пели:
Он зашел в чужую деревню попросить воды. Милеле йе!(Это непонятное «милеле йе» они затем повторяли после каждой строки.)
Она была пуста, будто в ней все умерли. Между домов пробежал бабуин и глянул на него. А это плохой знак, это место нечисто! Голос из кустов ему сказал: «Уходи, уходи! Проси у антилопы ноги, чтобы бежать быстрее».Дальше поющие повернули в сторону, и Мфумо так и не узнал, чем все в этой песне с ее явно зловещим смыслом кончилось.
Два солдата привели задержанного и хотели остаться в хижине, но Мфумо велел им стоять снаружи: ему казалось, что их присутствие будет мешать откровенному разговору. Солдаты неохотно подчинились, видимо, они считали Мфумо недостаточно военным, чтобы знать, как вести себя с врагом.
Тому, кого они привели, было около сорока лет, и внешне он мало отличался от местных сельских жителей. По крайней мере, внешним видом. Короткие штаны, рубаха до колен и без воротника — и все это какого-то пепельного цвета. Но глаза могли бы насторожить. В них сквозила услужливая сообразительность и еще нагловатая нацеленность на выход из любого положения.
Все это Мфумо оценил, хотя и не сразу. «Его голыми руками не возьмешь», — только и подумал он, глядя на это пугающе-подвижное, давно не бритое лицо. Мфумо даже засомневался, будет ли вообще толк от этой беседы.
— Расскажи подробнее, что хотят эти твои СОБ — «Силы Освобождения» и кого они хотят видеть в своих рядах?
Мфумо чувствовал, что вопрос поставлен неудачно, и уже злился на себя за то, что он, кажется, взялся не за свое дело.
— Господин, у нас говорят так: «где были танцы, меня там не было». Мне просто пообещали деньги, если я раздам эти листовки. Что там написано, я не знаю, я неграмотный.
— Но ты вел разговоры с солдатами, — напомнил Мфумо.
— А кто это слышал? Пусть солдаты скажут. Только они молчат.
— Но молчание — это тоже речь. Разве не так говорится? — возразил ему Мфумо. — А что вылетело изо рта, туда уже не вернется.
— Я бедный человек, — угрюмо твердил задержанный. — Никто просто так не забавляется игрой с леопардом, За деньги на многое можно пойти.
Дверь в хижине открывалась наружу, и сейчас она стояла полуоткрытой. Стояли ли за ней сейчас оба солдата или один, Мфумо не знал. Не знал этого и распространитель листовок. Мфумо сидел, опираясь локтями о дощатый стол, а его гость стоял в двух шагах от табуретки, где лежал пояс с пистолетом в кобуре. Мфумо сам запоздало заметил, что оружие лежит в соблазнительной близости от допрашиваемого, но счел зазорным для себя устранить эту оплошность. Ему казалось это признаком трусости. И вот все произошло, как в заурядном фильме-боевике или в страшном сне. Человек с какой-то звериной быстротой и ловкостью нагнулся вперед, выхватил пистолет из его вместилища, сноровисто сдвинул предохранитель и выстрелил, не целясь и почти в упор. Потом, не глядя на оседающего на пол Мфумо, он тут же повернулся к двери и выстрелил в нее на тот случай, если за ней стоял часовой, а затем с силой бросился на дверь и выскочил наружу. Но солдатам охраны опыт подсказал стоять не за дверью, а за стеной хижины. Зная, что за выстрелы в беглеца и за его смерть их не похвалят, они только оглушили прикладом, обезоружили и надежно скрутили руки.
Явились санитары с носилками, и Мфумо быстро отнесли в такую же хижину неподалеку, где находился полковой медпункт.
— Сквозное ранение в грудь. Кажется, пробито правое легкое, — сказал без большой уверенности врач, похожий немного на Патриса Лумумбу своей бородкой африканского интеллигента и очками. Командир полка пришел быстро и смотрел на него тревожно-вопросительно.
— Если вовремя доставят в столичный госпиталь, жить он, я думаю, будет, — осторожно, будто отмеривал лекарство, сказал врач.
И занялся перевязкой. А небольшой автобус для отправки нескольких раненых в Лолингве был готов с самого утра. Пока шла перевязка, рядом стоял санитар и стирал ватой кровавую пену на губах Мфумо. Ему дали обезболивающий укол. Пришел капитан Мвуби, его татуированное лицо было напряжено. Еще недавно они вместе пили пальмовое вино, а теперь пришла пора сворачивать циновку. Это жизнь: ты целишься в антилопу, а за тобой уже давно следит лев. Вот и банан приносит плоды, когда стебель его засыхает. Так говорят в народе.
— На моем столе… — Мфумо что-то силился сказать, глядя на покрытое узорами лицо Мвуби, — на столе лежит большой конверт. Его надо доставить в редакцию газеты. Сверху все написано. Положи его в сумку с вещами.
И вот вторично уже пойманный, так никому и не сказавший своего настоящего имени, он стоял, крепко связанный, между двумя солдатами и тоскливо ждал своей участи. Что ж, даже самая длинная дорога когда-нибудь кончается. На нем уже лежала тень оцепенелой отрешенности от мира живых, но в глазах временами ошалело мелькала надежда на возможность торга. Но он не хотел за свою жизнь платить слишком много.
Подошел мрачный Мвуби с усатым немолодым сержантом, он даже не глядел на связанного, словно тот уже и не был человеком, а обращался к этому сержанту и двум конвоирам.
— Слушайте меня внимательно. Держать его связанным и глаз с него не спускать. Не кормить, и особенно ни капли воды. Если у него найдется сказать что-то стоящее, вызовите меня. Если нет, сделаете так, как я вам сейчас скажу. Отведите его подальше в заросли, скрутите ему руки и ноги проволокой и оставьте на ужин гиенам и шакалам. Пули он не получит, ее еще надо заслужить.
Распространитель листовок смотрел на изукрашенное синеватыми зигзагами лицо Мвуби и понимал, что именно это его и ожидает. Офицер был явно из племени квангали, а у них давно наказывали таким образом. И еще о них говорили, что своих покойников, а также немощных, хотя еще и живых стариков, было принято оставлять там в зарослях ночью на растерзание этим мерзким и трусливым тварям. А утром после них объедки уже доставались грифам и марабу. Он ясно себе представил жадно-трусливое подвывание гиены и мысленно ощутил ее зловонное дыхание. Нет, лучше пуля, чем такое. Но надо еще заслужить эту самую пулю. Сказать (не все, конечно) о его организации? Нарушить клятву? Он вспомнил ту тихую ночь полнолуния на укромной прогалине в лесу. Туда из его города приезжали даже именитые люди, но свои машины они оставляли далеко, у самой дороги. Дальше в лес они шли пешком, освещая еле заметную тропинку электрическими фонариками. Еще там, на обочине дороги, были слышны завораживающие удары тамтамов, а уже на поляне ярко горели костры, и потом был выход с танцами из темной чащи целой процессии. Она сопровождала главную маску «мдокпо» в этом тайном действе. Эту маску никто никогда не видел днем и не знал, кто под ней скрывается. Все это было под строжайшим запретом. А за нарушение его было одно наказание — смерть. Она приходила всегда неожиданно, и причины ее были неизвестны. Даже белые врачи только растерянно разводили руками. А потом была церемония принятия клятвы. Кровь жертвенного белого козла на траве, надрезы на предплечье у дающих клятву. Был страх, но и было чувство единения. Разве зря говорят, что когда один палец ранен, все другие в крови? Ведь вместе угли горят, а порознь они гаснут. Но каждому нужно думать и о себе. Когда случается пожар, чистой воды не ищут. Клятвопреступника ждет смерть, но кто и когда узнает о нарушении клятвы? Имя свое он будет скрывать. Если теперь он уцелеет, его ждет долгий срок в тюрьме. А за это время многое может измениться. Ничто в мире не вечно. И организация, на верность которой он присягал, тоже. Когда курица-наседка умирает, из яиц никто уже не вылупится.
Мфумо принесли на носилках к санитарному автобусу и стали искать ему место внутри, где бы поменьше трясло. Кто-то из офицеров, которые пришли его проводить, вдруг сказал с восхищенным одобрением:
— Смотрите-ка, старушка «Лоала» не только уцелела, но еще и вышла в рейс. Правда, с некоторым опозданием.
Мфумо, который был в полузабытьи, очнулся и с трудом сказал:
— Дайте взглянуть. Вот здорово.
Его носилки подняли и держали на плечах, пока вдалеке с какой-то обнадеживающей уверенностью проплывал и потом медленно скрылся за поворотом реки белый корпус парохода. За ним следили с уважительным вниманием, словно это был многообещающий символ возвращенного мира и спокойствия, хотя каждый знал, что до этого еще далеко.
Потом Мфумо уронил голову на подушку и закрыл глаза. Мвуби посмотрел на врача с беспокойной настороженностью. Но врач успокаивающе кивнул, блеснув стеклами очков.
— Я дал ему укол обезболивающего препарата со снотворным эффектом.
Через минуту автобус пустился в путь. А в той стороне, где была река, все еще висел темноватый шлейф пароходного дыма. Потом донесся гудок, низкий и скрытно-тревожный. И это было понятно, так как звучать успокаивающе он не мог и раньше, а в такие тревожные времена, как сейчас, и подавно.
9
Очередной рейс «Лоалы» начался вполне буднично, и в этой будничности могло крыться даже нечто жизнеутверждающее. Он вносил успокоительную ноту в общую картину возврата к мирному существованию. Разумеется, кажущегося возврата. Ведь кое-где, ближе к городским окраинам, еще раздавались время от времени отдельные выстрелы. А на палубе «Лоалы» у носового трюма разместился взвод солдат с пулеметом. Их командир, молодой лейтенант с лицом, украшенным ритуальными шрамами на лбу и на щеках, стоял сейчас с биноклем на левом крыле мостика, как бы оспаривая этим единоначалие Комлева, который после незаметного исчезновения Муго теперь неофициально считался капитаном. Муго же, видимо решил, что пришло его время тихо самоустраниться как капитану и вообще ему лучше теперь находиться в столице, где укреплялась новая власть и где ему надо было искать среди тех, кто в нее уже вошел, своих знакомых, добиваясь их покровительства. Ведь известно, что когда идешь по малознакомой дороге, важно не пропустить нужный поворот. Отсутствие Муго на судне было давно всеми замечено, но никак не комментировалось на мостике. Видимо, сам этот факт не считался стоящим внимания.
Гребные колеса «Лоалы» с деловитой неспешностью молотили мутные воды Мфолонго. Комлев счел, что уже может покинуть мостик, куда он поднялся только для того, чтобы проследить за отходом судна от причальной стенки и это была уже капитанская обязанность.
Оливейра стоял рядом, поглядывая на него со скрытой выжидательностью и сдержанным нетерпением, но молчал. Он считал, что в дальнейшем наблюдении за своими действиями со стороны исполняющего обязанности капитана нет никакой необходимости. Оливейра уже входил в роль старшего помощника. Нкими же соответственно повышался до второго помощника, но насупленная непроницаемость его темного лица говорила о том, что большой радости он почему-то не испытывает. Он и на мостике появился ненадолго и потом молча исчез, не дожидаясь никаких начальственных предписаний. Нкими решал теперь для себя очень важный вопрос и просто не имел права на ошибку. Он помнил с детства то, что говорилось теми, кто отправлялся в лес на охоту. «Огляди хорошо тропу, — говорили они, — прежде чем ступить на нее ногой». А то, что он услышал случайно этим утром, лишило его покоя не только на этот день, но и на все последующие дни этого рейса.
Комлев оглядел безмятежную на вид гладь реки, прежде чем спуститься с мостика. Рулевой неподвижно и молча стоял за штурвалом и явно не нуждался ни в каких командах. На мостике сейчас была вахта Оливейры. Потом его сменит Нкими, а Комлев возьмет на себя ночную вахту.
— Ну, я пойду, — оказал он Оливейре с деловитым, но доброжелательным спокойствием. — После такой ночи все мы заслуживаем небольшой отдых.
— Без всякого сомнения, — с готовностью согласился Оливейра, который сознавал, что прошедшую ночь он все-таки провел в своей каюте, а не на мостике, как Комлев.
Рулевому Ньоси снился странный и тревожный сон, когда он ненадолго и не раздеваясь уснул после того, как «Лоала» подошла утром к причалу. Он даже вспомнил поговорку: «Если не спишь, то и не видишь снов». Ньоси даже захотелось задуматься над ее смыслом. Говорят еще и по-другому: «Чтобы увидеть сон, надо сначала уснуть». Когда человек спит, он никак не участвует в протекающей, как река, мимо него жизни, но зато во сне он может быть приобщен к некоему откровению, которого был лишен, бодрствуя. Он слышал от людей, что на берегу, где бывают бегемоты, не найдешь ни лодок, ни весел. Но в его деревне жили как раз те, кто принадлежал к роду, покровителем которого являлся бегемот, так же как у другого рода это мог быть крокодил или еще кто-то. Поэтому перевернуть лодку на воде речной зверь, который был для них священным животным, мог только у чужака, скажем, у гостя в деревне или у женатого на местной женщине. По сюжету увиденного Ньоси сна ему удалось все же выбраться на берег после того, как он оказался в воде рядом с перевернутым челноком и избежал встречи с крокодилом, но проснулся он в смутной и непонятной тревоге.
Все рулевые на пароходе, как известно, составляли весьма замкнутую касту, так как знали себе цену. Ньоси сразу же оповестил о своем сне двух других, и после его рассказа они многозначительно переглянулись и старший рулевой сказал с тревожной озабоченностью:
— Все знают, что паук ходит только по своей паутине, а по чужой нет. Давайте обсудим все трое то, что мы уже знаем, и решим, что нам нужно делать. Но потом будем об этом молчать.
— Правильно. В закрытый рот муха никогда не попадет, — добавил находчивый рулевой Лугья.
Разговор этот происходил в маленькой каюте старшего рулевого, которая была на верхней палубе, и у открытого окна, полузадернутого занавеской, случайно остановился Нкими. Он как раз обходил судно сначала с правого борта, не надеясь на боцмана и следя за тем, чтобы все швартовые тросы были намотаны на вьюшки, а потом продолжил свой путь по левому. То, что он услышал, невидимый теми, кто был в каюте, только больше укрепило созревавшее в нем решение. Нкими вспомнил слова одного мудрого старца у себя на родине: «Острота ножа — от точильного камня, а долгая жизнь человека часто зависит от его ушей». А из только что подслушанного он узнал о предсказании старого Мулуганьи, который подметал причал утром и вечером, но умел еще гадать на костях, раковинах каури и толковал сны за умеренную плату. Он сказал этим утром одному из рулевых о том, что поет каждая птица, кроме грифа и вороны, но только чернохвостая нтуи предвещает своим пением беду, и он якобы слышал ее пение перед восходом солнца, когда прекратились выстрелы и воцарилась относительная тишина. Далее Мулуганья дал ясно понять, что к этому причалу «Лоала» больше никогда не подойдет, а о ее дальнейшей судьбе он ничего не знает и поэтому говорить больше не будет.
Нкими был суеверен и верил в приметы и предсказания. Он не стал больше слушать, боясь быть кем-нибудь замеченным, и сразу же ушел к себе, чтобы обдумать все и принять окончательное решение. А рулевые еще какое-то время обсуждали свои будущие действия.
— Будем в своем мнении едины, как зубы во рту, — сказал хозяин каюты, — и пусть наши рты будут запечатаны на все время пути. Зачем зря тревожить людей? И разве все пророчества этого Мулуганьи сбывались?
Они поклялись, что не бросят судна и помогут доставить людей в их родные места. Ведь известно, что во время бедствий и потрясений люди обычно бегут под защиту своего собственного племени, чтобы там переждать лихолетье. И чтобы защищать свое племя, если на него нападет враг.
Но Нкими из услышанного стало ясно одно: ему следует покинуть судно, как только оно подойдет к той пристани, от которой он в течение дня может добраться до своих родных мест. Если бы не этот военный мятеж, он бы терпеливо нес свою службу на пароходе, надеясь на то, что через какое-то количество лет он, единственный сын своей страны из помощников капитана, сам станет его капитаном. Но если судно обречено, стоит ли подвергать свою жизнь опасности? Он ведь должен беречь себя для будущих свершений на благо своей страны. На смену этому старому корыту «Лоале» придут другие суда, людей же с его судоводительским опытом не так уж много. И еще неизвестно, чья именно власть утвердится в Лолингве. Нет, конечно, Нкими еще не принял окончательного решения, в его душе еще шла борьба, да и время у него было для раздумий. Ведь пристань, где он собирался незаметно сойти, была еще в двух днях движения вниз по реке. Лишь бы только с «Лоалой» ничего не случилось до этого. Нкими вспомнился герой романа Конрада «Лорд Джим», который он читал еще в школе, и он неохотно сравнил себя с ним. Ведь он, этот Джим, как известно, покинул терпящее бедствие судно, хотя и был на нем штурманом. Но он был не одинок, так как капитан тоже оказался трусом и бросил судно. Нкими пытался убедить себя в том, что трусом он не является, только проявляет благоразумие, судно же доведут до цели Комлев и Оливейра. Они для него примером служить никак не могут. Первый вернется когда-нибудь в свою страну, а второй скорее всего уедет в Англию, как и многие эти азиаты. Хоть он и родился в Африке, но ведь паспорт у него, как известно, британский.
Комлев прилег на узкий диванчик в передней части капитанской каюты, наивно полагая, что тотчас же уснет, но сон его только манил мнимой близостью, а потом с ленивой издевкой ускользал от него, когда он закрывал глаза. Вот они пошли в этот рейс с предельным количеством пассажиров, успев только набрать угля. Питьевой воды у них было достаточно, но мало съестных припасов. Откуда они возьмутся в такой обстановке? У команды теперь будет весьма скудный рацион. Но не выйти в рейс у них не было морального права. Многие пассажиры чуть ли не сутки жили на пароходе. Вырваться из города, где стреляют, и добраться до родной деревни или городка было для них пределом мечтаний. Потом они будут сходить на каждой пристани, и «Лоала» все время будет пустеть, а обратно они вообще, возможно, будут идти лишь с одной командой. И так будет до тех пор, пока в стране не воцарится порядок. Относительный, конечно. А сам он мог бы теперь быть уже в Москве и на ее окраине открывать дверь своей комнаты с затхлым запахом запустения. Беглец из Африки. Дезертир с тропическим загаром, покинувший свое судно, но желающий, как все дезертиры, быть правильно понятым. «Вы поймите меня правильно». Так говорят все трусы. Потом он пойдет просить работы, хотя одно дезертирство он уже совершил, бросив в затоне «Крупскую». А теперь ему в лучшем случае предложат должность третьего помощника на старом теплоходе, который стоит в ремонте. Можно еще попытаться найти Вьюнова с целью просто набить ему морду. Но технически это будет трудно выполнить. Внутрь его не пустит охрана, да он и не уверен, что Вьюн на прежнем месте. Возможно, и конторы его с хитрым названием нет уже в помине. Родителям Комлев давно не давал о себе знать. В общем, думать о себе становилось как-то противно.
Комлев заерзал на диване, понимая, что теперь он уже не заснет. В переднее окно были видны очень знакомые уже берега Мфолонго, они разворачивались перед ним с неспешной и наглядной картинностью, будто кинофильм из телепередачи «Реки Африки». Оливейра сегодня на мостике поглядывал временами на Комлева с затаенным любопытством. Ведь он же Дон Жуан, это его настоящее имя. Дон — от предков-конкистадоров. И этому Дону Жуану Оливейре, естественно, не терпелось знать, кто была та красивая африканка, которая сегодня встречала Комлева на причале. И в каких отношениях он с ней находится.
А этим утром Комлев был усталым, небритым и вообще каким-то помятым внешне и внутренне, пережившим за последние пару дней больше, чем за всю предыдущую жизнь. Нанди же держалась в каюте с какой-то поощрительной выжидательностью, и Комлеву тут же вспомнилась соблазнительная мерзавка Нолина, чуть не подставившая его под пулю. Вот из нее-то прямо хлестала торопливая жадность к плотским утехам, когда они, случалось, оставались одни. А с Нанди сегодня он почему-то не находил нужных слов, они говорили, как ему казалось, о незначительном, перебрасываясь удручающе общими фразами и уже пару раз заговаривали о Мфумо. Они оба давно не имели о нем никаких известий и теперь в разговоре возвращались к его имени, как возвращаются к углу с названием знакомой улицы в чужом городе, боясь в нем заблудиться. Комлев подвел ее к окну, и из него было видно, как на носовой части палубы росла груда тюков, коробок и узлов, которые прибывающие пассажиры не спешили относить в свои каюты внизу и оставляли пока просто на палубе. Казалось, для них главным было оказаться на борту старого парохода, а потом он уж их доставит в такое место, где им не будет угрожать никто и ничто. Наивная, детская вера в сказку со счастливым концом.
Нанди была сегодня одета в лилового цвета тенниску и темные брючки по щиколотку. Видимо, было такое время, чтобы одеваться неброско и не обращать на себя лишнего внимания. Комлев нечаянно задел рукой ее голый локоть, она вдруг оказалась в такой близости от него, что не приобнять ее было просто непростительно и даже, возможно, неучтиво. Объятие состоялось, но было досадно непродолжительным, так как вскоре за дверью послышался чей-то явно военный голос:
— Капитана хочет видеть майор Мботело. Он ждет возле причала.
Комлев, несколько взбудораженный близостью Нанди, не сразу даже сообразил, что именно ему теперь надлежит выполнять функции капитана, так как Муго никто не видел на судне с раннего утра, и, скорее всего, никто его уже здесь и не увидит. Поэтому он, скрывая плохо закамуфлированную торопливость, осторожно отделил Нанди от себя и, кляня в душе неведомого ему майора, взялся за дверную ручку. При этом он торопливо сказал Нанди:
— Я быстро вернусь. Нам еще нужно поговорить.
О чем он собирался с ней говорить, Комлев пока и сам не знал. «А не предложить ли ей отправиться в рейс со мной?» — мелькнула у него шальная мысль, но он ее поймал на лету, как иногда ловят в воздухе моль. Глупости все это. Если бы даже она и согласилась, то неизвестно еще, что ждет их во время рейса, а взвод солдат на борту не такая уж сила, чтобы можно было после вахты спать спокойно.
Майор ждал его в военной машине, стоявшей рядом с причалом, в ней был его водитель и трое солдат. Он только и сказал, что на некоторых пристанях на пароход, возможно, будут пытаться сесть солдаты, и у всех должны тщательно проверяться документы. Сейчас по стране бродят вооруженные банды, и надо проявлять бдительность.
Комлев поспешно вернулся в свою каюту, но ему было ясно, что его уединению с Нанди пришел конец, так как принадлежать самому себе он никак теперь не может. С ним, например, уже хотел срочно поговорить механик Шастри.
Нанди написала на обороте накладной с бункерной базы на уголь, за неимением другой бумаги, свой адрес и даже успела начертить план той части района, где она жила, выражая этим надежду, что Комлев им постарается воспользоваться. А Комлев, прощаясь с ней, вспомнил, что говорил ему довольно упитанный майор в темных очках.
— Не советую пароходу подходить к пристаням у левого берега Мфолонго. Есть сведения, что он почти весь под контролем мятежников. В общем, желаю успешного плавания.
Он сказал это без всякой уверенности в голосе, так как, видимо, был реалистом и ложных надежд подавать не собирался.
Шли первые сутки рейса. Рулевые были загадочно и даже как-то торжественно молчаливы, второй помощник Нкими был немного суетлив и заметно прятал глаза, а Комлева он уже успел пару раз назвать капитаном. По сути дела, он и был в этом рейсе таковым, но это наименование воспринималось им как-то двусмысленно. «Мое капитанство слишком долгим быть почему-то не может, — подумал он с едкой горечью. — У меня есть уже некоторый опыт по этой части».
А внешне пока все выглядело благополучно. «Лоала» невозмутимо вспенивала колесами воду цвета спитого чая, а леса по берегам уже хорошо знакомой Комлеву реки в своем несменяемом, порой вызывающе зрелищном зеленом наряде как бы стремились убедить его в незыблемости, даже вечности всего сущего, но спокойствия от этого почему-то не прибавлялось. Только что прошли одну из рыбачьих деревушек на левом берегу. Комлев медленно повел биноклем по ряду свайных хижин, похожих на большие курятники. Они, как и прежде, стояли под лохматыми крышами из сухой серой травы на сваях из кривоватых древесных стволов, словно редкая толпа детей на рахитичных ножках, зашедших по щиколотку в воду. И полное безлюдье вокруг. Никто из рыбаков не возился у своих челноков, и сети не сушились на шестах. Какая-то зловещая тишина повисла над левым берегом.
Зато у правого берега час спустя была заметна деловитая возня. С мелководья на пологий берег тащили при помощи сердито фыркающего мотором старого грузовичка темно-серую тушу бегемота, опутанную тросом. Бегемот был, возможно, убит во время стрельбы с того или с этого берега, либо он стал добычей прибрежных жителей, которым теперь не были страшны егеря с их штрафами. Ньоси, стоявший в это время за штурвалом, хмуро отвернулся. Его деревня была дальше по течению, и мясо бегемота в ней всегда считалось запретным.
Только на следующий день их наконец обстреляли с левого берега, и две пули попали в ограждение мостика. Солдаты, которые все время сидели на баке за фальшбортом и дремали, скупо повели ответный огонь и вскоре его прекратили. Видимо, им велели беречь патроны на случай серьезного дела. Комлев счел это разумным. Действительно, что толку зря палить по этой «зеленке» на берегу? Слово это из постсоветского военного жаргона уже успело прижиться в российских газетах, когда Комлев не думал еще ни о какой Африке. Она, эта Африка, была, как известно, далеко, зато Чечня неожиданно оказалась в явно пугающей близости.
После этого обстрела Комлев рекомендовал всем начальникам вахты на мостике, а их было трое, включая и его самого, не надевать фуражки с белым чехлом и вообще отказаться от белой формы одежды по причине военного времени.
Люди сходили на каждой пристани, и почти никто не садился теперь на пароход, чтобы следовать дальше. Когда пристань оказывалась с левого борта, до нее не доходили метров на двести и работали малым ходом назад, чтобы не сносило течением, а рулевые за штурвалом изворачивались, как могли, стараясь удержать судно на месте и в том же положении. Постановка на якорь была исключена, так как можно было стать легкой и неподвижной мишенью для тех, кто мог открыть огонь с враждебного берега. Судно просто давало пару коротких гудков, и за теми, кто сходил на этой пристани, высылали с берега лодки с гребцами.
— Подходить к борту по одной лодке! — кричал в рупор взводный командир, а его солдаты угрожающе клацали затворами и подозрительно оглядывали гребцов. Из подошедшей близко лодки можно ведь было и получить пару гранат прямо на борт.
Быстро высадив всех, кто здесь сходил, сразу же давали «полный» и уходили с облегчением прочь.
Комлев даже подумывал о том, чтобы ночью прекратить движение по реке и стоять где-нибудь на пристани до рассвета. Ведь на ночной реке всего можно было ожидать. Скажем, перегородят реку в более узком месте связанными бревнами, а потом кинутся на абордаж, высаживаясь из лодок на палубу. Впрочем, ночевать на пристанях им вскоре и пришлось, но совсем по другой причине.
Загадочное молчание рулевых немного даже тревожило. Как правило, рядом со стоявшим за штурвалом всегда прежде терся какой-нибудь вахтенный матрос, обычно земляк рулевого, и, скаля зубы, занимался досужей болтовней. Но теперь рулевые стояли вахту в гордом и ненарушаемом никем одиночестве, как хранители некой доверенной лишь им одним тайны.
Оливейра тоже назвал Комлева пару раз капитаном, и он окончательно решил, что это не к добру. Его прежний опыт напоминал ему о кратковременности пребывания в этом звании, и он никак не мог отделаться от нехорошего предчувствия.
И вот настал день, когда Нкими просто не вышел на свою утреннюю вахту. Оливейра, бормоча вполголоса португальские ругательства, сам пошел выяснять, что случилось со вторым помощником, а Комлев находился пока на мостике.
— Его нет в каюте, — сказал Оливейра с непонятным злорадством, будто подтвердилось его давнишнее мнение о вероломстве Нкими. — Дверь не заперта и вещей его в каюте нет. И даже койка застелена. Боюсь, что этого мистера мы очень не скоро теперь увидим.
Рулевой Лугья слегка косил глазом на обоих и, казалось, догадывался, о ком и о чем шла речь, хотя имя дезертира ни разу не было названо. Комлев давно уже отмечал прямо-таки сверхъестественную интуицию африканцев.
Комлев тут же вспомнил, как они подходили в неясной белесоватости рассвета к пристани и как по сходням с тупой целеустремленностью стада, вырывающегося из загона, протопали сходившие здесь пассажиры. «Переоделся и смешался с толпой, — машинально подумал Комлев. — Вахтенных матросов спрашивать бесполезно. Если они его и видели, то об этом едва ли скажут».
— Значит, так, — начал Комлев вполне уже капитанским голосом. — Вахту теперь мы будем сдавать друг другу каждые четыре часа, а ночь судно будет проводить у причала очередной пристани. Нам спешить теперь некуда.
— Провиант кончается, — мрачно заметил гурман Оливейра. — Осталось еще немного риса, белая фасоль и пальмовое масло. В Африке это еда бедняков. И заключенных в тюрьмах. Так что затягивание рейса не в нашу пользу.
— Выхода нет, Жуан. В случае чего начнем ловить рыбу. Вы объясните это команде, а с лейтенантом я сам поговорю.
Никто из них ни разу имени Нкими не назвал и исчезновение его не комментировал, хотя обоим хотелось привести довольно заезженое выражение относительно крыс, бегущих с корабля, обреченного на гибель. Но оно не было приведено вовсе не в силу удручающей избитости сравнения, а из боязни высказывания этим предположения о возможной обреченности «Лоалы». А эта мысль у обоих была под запретом.
Нанди напросилась в гости к своей подруге Камилле Мзамане, когда вернулась из поездки в родные места, разрыдалась у нее на плече, и та оставила Нанди у себя, благо в ее маленькой квартирке стояла еще и тахта для гостей. Нанди сказала, что поживет у нее пару дней, потому что просто боится оставаться со своими мыслями и переживаниями. Камилле уже сказали в редакции, что через родное селение Нанди проходили не то отступавшие мятежники, не то в него вторглись какие-то головорезы из чужого племени. Было много убитых, и в стычке погибли отец Нанди и ее брат.
Нанди ехала в родные места на местом автобусе, водитель которого, он же и владелец, отважился сделать первый рейс после окончания здесь военных действий. Пока она ехала, она познакомилась с разными слухами и уже боялась надеяться на то, что беда не коснулась ее семьи.
В селении не было видно следов сожженных домов, возможно, это не входило в планы нападавших или у них на это не хватало времени, или им не дали совершить поджоги. Но уже подходя к усадьбе их семьи, Нанди сразу же заметила, что небольшой хижины главы семьи, ее отца, внутри ограды не было. А вместо нее виднелась окружность, усеянная черными головешками и пеплом. У них здесь до сих пор сохранялся обычай сжигать дом главы семьи вместе с его вещами после его смерти. Нанди остановилась и долго смотрела в скорбном оцепенении на этот круглый ровный участок черной от пепла земли.
Нанди легко представила себе, как проходили похороны убитых в их селении. Ее дядя, брат отца, по обычаю племени брызнул на грубо сколоченный гроб, уже опущенный в могилу, пальмовым вином, сопровождая это просьбой к духам предков хорошо принять покойного. А веревки, на которых опускали гроб, должен был перерезать самый младший сын, и это означало конец связи между живыми и мертвыми.
Мать проводила Нанди на могилы отца и брата. Там она завернула в кусок белой материи горсть земли с могильного холмика, и они ушли молча и не оглядываясь, согласно обычаю.
Старый знахарь-врачеватель Мшинди, их дальний родственник, шел тогда с ними рядом. Он сказал, ни кому не обращаясь, будто думал вслух:
— Смерть подобна луне: у нее всегда одно и то же лицо.
А очень далеко отсюда, в военном госпитале, лежал в своей палате Мфумо, и к нему уже временами возвращалось сознание. И тогда он со стыдом думал о том, что из-за своей глупости сделал так, что жизнь его висит на волоске и он заставляет врачей возиться с собой, отрывая их от более важных дел. Мфумо думал еще о том, что если он выживет, он напишет статью, в которой осудит междоусобные войны. Есть у них об этом известное высказывание: «Кровь кровью не смывают, а только водой». Первая часть его и станет названием его статьи. «Кровь не смывают кровью». В этом сказано главное. Потом Мфумо снова погрузился в состояние временного небытия и увидел тогда в палате своих отца и мать. Ему хотелось знать, как они узнали, что он здесь, а они молча смотрели на него, будто ожидали его готовности присоединиться к ним. В том мире, где они теперь находились. Но это было только один раз, и больше они не являлись.
Мфумо не знал, что за дверью палаты врач сказал молодой женщине, которая приехала издалека и назвалась его женой, что, кажется, кризис миновал, но пока видеть раненого нельзя.
Течение Мфолонго замедлилось, приближалось ее впадение в озеро Кигве. Пассажиров на пароходе теперь оставалось десятка полтора. Комлев с нетерпением ждал выхода в озеро, ему казалось, что там они будут в безопасности. А сейчас приходилось все время поглядывать на левый берег, откуда иногда постреливали, а моторные лодки мятежников и катера с установленными на них пулеметами почти все время сопровождали «Лоалу», но атаковать почему-то не решались. Комлев был уверен, что в озере они от нее отстанут и побоятся уходить далеко от берега.
Но у Оливейры было другое мнение на этот счет, и его поддержал командир взвода солдат на пароходе Нгуби. Он почти все время был на мостике с биноклем на груди и с автоматом за плечом.
— Они не нападают на нас, потому что считают нас защищенными правым берегом, — говорил ему Оливейра с видом знатока стратегии мятежников. — На правом же берегу могут скрываться наши войска, хотя их там, конечно, нет. Правда же, Нгуби? А в случае их атаки мы можем близко подойти к этому берегу и высадиться на него, если им захочется потопить судно.
— Не сейте панику, Жуан, — полусердито одернул его Комлев, чувствуя, что его помощник прав, хотя открыто признавать это почему-то не хотелось. И тогда он решил внести изменения в озерный переход.
— Мы не будем пересекать озеро курсом, проложенным еще капитаном Форбсом, — сказал Комлев Оливейре, когда вода за бортом заметно посветлела и стала приобретать зеленовато-серый оттенок. — Он сам мне оставил одну карту с курсом, который проходит между двумя маленькими островками. Вот этими: Кимау насевере и Ньюмо южнее его.
Разговор происходил в рубке, где Комлев разложил на столике старую карту и придавил ее концы двумя плоскими озерными голышами, которые, видимо, для этой надобности и лежали на столе.
Оливейра молча кивнул, давая этим понять, что предоставляет Комлеву возможность принять на себя всю ответственность за выбор курса. Если бы они пошли курсом, которым ходили все время, они бы оставили остров Кимау справа, только и всего. Но шли бы они по большим глубинам.
— Жуан, объясните рулевому, что мы пойдем не по компасу и что теперь от него потребуется. У вас это лучше получится, чем у меня.
Быстрая речь на лулими заполнила рубку, потом резко оборвалась, и рулевой молча кивнул, полуобернувшись к Оливейре.
Комлев еще раз пробежал взглядом по карте, оценивая предстоящий им путь. Остров Кимау, который они оставляли слева, был нагромождением бурых скал, которые возвышались в угрюмой задумчивости. На них не было даже чаек.
Это заметил и Оливейра, которого это обстоятельство явно встревожило.
— Чаек почему-то не видно, капитан, — сказал он, будто заметил какой-то непорядок в природе или подозревал в чем-то пернатых. — Если они улетели, значит, их что-то напугало.
И в этот самый момент послышался слабый еще звук работающих моторов, и из-за скалистого мыса вышли два катера с рулевыми рубками и направились теперь прямо к «Лоале». Значит, они таились за этим островком, поджидая пароход. И если бы он пошел обычным курсом, встреча с ними была бы все равно неминуемой.
Взводный командир Нгуби отдал вниз с мостика команду солдатам, и они сразу же открыли огонь по катерам. А Комлеву и Оливейре он быстро сказал, еще раз приложив глаза к биноклю:
— На носу первого катера безоткатное орудие. Оно стреляет реактивными снарядами, понятно? Делайте поворот вправо, чтобы не подставлять им весь борт!
Оливейра сам стал за штурвал и стал круто перекладывать руль. Нос «Лоалы» пошел вправо, но как медленно он шел! Справа был остров Ньюмо, и Комлев видел на карте обозначение глубин. Рядом проходила ровная отмель, и глубины были не более пяти-шести метров, если верить карте. Он заметил, что внутри у него сейчас все сжалось, как бывало в юности, когда надо было выходить в боксерской секции на ринг для тренировочного боя с противником сильнее себя. Комлев уже понимал, что если борт будет разворочен снарядом, лучше оказаться на мелководье, а на глубине судно может опрокинуться из-за большого крена, набрав воды в пробоину.
Все солдаты сейчас стреляли по катерам, и результат уже был заметен, так как один из их вильнул носом в сторону и отстал, пока там заменяли убитого рулевого. Но на том, где было безоткатное орудие, все-таки успели сделать выстрел, а борт полностью отвернуть не удалось. Взрыв прогремел, и осколки взвизгнули над мостиком. Оливейра помчался вниз, чтобы увидеть, что ожидает теперь пароход. Лугья снова стал к штурвалу и продолжал поворачивать смертельно раненое судно в сторону отмели. На первом катере, где стреляли из безоткатного, сделать новый выстрел уже, видимо, было некому. Он вообще потерял ход и бессильно подставлял свой борт пулеметным очередям с медленно тонущего парохода. Но свое черное дело он успел все-таки сделать.
Комлев ринулся к переговорной трубке и крикнул в машину:
— Гасите быстрее топки, чтобы туда не попала вода. Иначе взрыва не избежать!
Но механик Шастри ответил со своим привычным уже отрешенным спокойствием:
— Все это уже делается. Взрыва не будет. Мы сейчас на большой глубине?
— Если сядем на грунт, верхняя палуба может быть над водой.
Крики по пароходу раздавались, но панических не было. Судно успело по инерции дойти до середины отмели. Оливейра сообщил, что взрыв проделал большую дыру в истонченном от времени корпусе и крен на левый борт стал заметнее. Но потом вода разойдется по всему трюму, и судно сядет на грунт всем корпусом. Хотелось на это надеяться.
Оба катера мятежников, слегка накренившись, бессильно качались на пологих озерных волнах, словно большие поплавки. Они уже вышли из строя, но это было слабым утешением.
Оливейра и боцман распоряжались спуском шлюпок. В них не было пробоин, и их должно было хватить на всех.
Симанго и Муйико заканчивали выгребать раскаленный уголь, а заодно и шлак из топок, когда стальной настил кочегарки начал постепенно покрываться забортной водой. Они работали молча, орудуя длинными стальными гребками. Механик Шастри озабоченно заглянул к ним из машинного отделения, посмотрел на пышущую жаром гору на полу, шипевшую от соприкосновения с водой, пошевелил седыми усами и молча исчез в машине. Ее, видимо, стало заливать раньше кочегарки. У старшего кочегара были влажные глаза. Было ли это от смеси угольного дыма и едкого пара или от того, что много лет его жизни уходили теперь в водную глубь.
— Ну вот, мы почистили топки в последний раз, — сказал Симанго, не глядя на младшего напарника. — Вахта наша кончается, и мы можем ее сдавать.
— Кому только? — глухо спросил его Муйико.
— Только водяному духу озера Кигве, — серьезно сказал Симанго, и Муйико не знал, верит ли он в этого духа или нет. Верить в то, чего тебе видеть не дано, может быть, и глупо, но разве в неверии есть какое-то утешение? А ему самому надо сейчас думать о том, как ему жить дальше. Конечно, надо, чтобы они еще благополучно выбрались отсюда. Под днищем судна неведомая озерная глубина. «Лоала» погрузится в нее, и он сразу лишится и работы, и жилья. Что его ждет?
Симанго уже медленно поднимался по слегка наклоненному железному трапу. Муйико последовал за ним с тяжестью в душе.
— Я от кого-то слышал, что тот самый господин Китиги, который еще недавно скрывался у нас в угольной яме, опять будет министром, — сказал Симанго словно в утешение своему младшему напарнику. Бывшему напарнику, ибо теперь они оба были во всем равны и их теперь связывали только общие воспоминания.
— Если тень от дерева не достигает тебя, ты ведь сам пойдешь к ней. Мы напомним ему о себе, и он что-нибудь сделает для нас. Тебе, Муйико, он поможет найти работу.
— Что-нибудь лучше, чем ничего, — хмуро согласился Муйико. — Если воды мало, чтобы искупаться, в ней можно умыть лицо.
Они немного постояли на верхней решетке, глядя на окутанную паром груду гаснущего жара и остывающего шлака. А потом к Симанго на время вернулось его философское настроение, и он задумчиво сказал, будто подвел итог всему, что происходило вокруг:
— Дело не в том, что на земле становится тесно всем, а в том, что сердца людей стали уже.
Потом, когда они оба уже сидели рядом в шлюпке и смотрели в сторону незнакомого берега, который приближался с каждым ударом весел, Симанго сказал, будто продолжал разговор, начатый еще в кочегарке, куда они никогда уже не вернутся:
— Муйико, на участке, где находится жилье моей семьи, есть достаточно места, чтобы поставить еще одну хижину. И дело на земле найдется для того, кто будет в ней жить, пока у него не появится хорошая работа в городе.
Муйико молча кивнул, зная, что Симанго имел в виду его.
Комлев с тяжелым сердцем вышел на песчаный берег озера из шлюпки, где сидел рядом с Оливейрой. В своей сумке с вещами он нес и старый компас, взятый из рубки и когда-то доставленный на пароход капитаном Форбсом. Возможно, этот компас помогал кому-то ходить по дальним морям и океанам, и Комлеву было невыносимо представить себе одиночество морского ветерана на покинутом судне. Даже если рубка останется торчать над водой, ее постепенно разрушат озерные волны во время штормов, и тогда рухнет тумба, в которой он находился. Нет, представлять себе все это было невыносимо. А этот компас он отдаст когда-нибудь старому капитану, если ему удастся увидеть его.
Все теперь выходили из шлюпок на берег: пассажиры со своими вещами, команда, прихватившая с собой кое-какие судовые припасы, солдаты со своим оружием. День был облачный и совсем не жаркий. Матросы между низкими сучьями двух противостоящих деревьев натягивали судовые снасти, чтобы сверху покрыть все это широким брезентом с носового трюма и сделать укрытие на случай дождя. Было ясно, что не одну ночь всем придется провести на этом берегу. Туда, где медленно опускалась на дно озера «Лоала», старались не смотреть, ведь у африканцев не принято, уходя с места погребения, оглядываться на него. Солдаты из взвода Нгуби, а среди них белели повязками раненые, сгрудились вокруг радиста, который возился со своей рацией. И вот Нгуби через какое-то время с осторожным оптимизмом объявил, что связь налажена и что к ним должны прибыть военные грузовики, но только неизвестно когда. Комлев знал, что у южного берега озера, где они сейчас находились, проходила дорога. В дальнейшем она, неимоверно петляя, обходя озера, болота и невысокие горы, должна привести к той части страны, где находилась ее столица.
Примерно через неделю Комлев тяжелой походкой и с сумкой через плечо двигался по одной из улиц, ведущих к центру. Он с нескрываемо брезгливым вниманием глянул на свое отражение в зеркальной витрине магазина, мимо которого проходил. Безнадежно небрит, мятая пыльная одежда, выражение тревожной озабоченности на лице. Нет, ему надо сразу же привести себя в порядок, и внешне, и внутренне. На другой стороне улицы виднелась вывеска явно непритязательного заведения. Как раз для таких, как он, Комлев, лишившихся своего корабля. «У Антонио», с фальшивой доверительностью сообщала надпись на вывеске, «Ресторан и Номера». «Наверное, какой-нибудь гоанец, компатриот Оливейры», — подумал Комлев. Кстати, Жуан настойчиво звал его к себе, но он почему-то отказался, видимо, уже настолько вошел в роль капитана, что стал дорожить своим довольно мнимым авторитетом. А он не позволял ему стать гостем своего, даже бывшего, подчиненного, так как это означало бы признание своей зависимости от него. Комлев понимал, что в нем просто говорит закамуфлированная ущербность, но пересилить себя не мог. Глупо, конечно. Тем более, что с Жуаном Оливейрой вряд ли они снова окажутся на одном судне в обозримом будущем. Комлев вообще слабо теперь представлял себе, что его самого ожидает в этом самом будущем. Подобно двум кочегарам с погибшего парохода, он даже подумал о министре транспорта Китиги, если тот снова пребывает в этом качестве, чтобы попросить о протекции, но мысль эта его не вдохновила. Если уж он принимал участие в его спасении во время мятежа, то делал он это совершенно бескорыстно. Хотя и чуть не поплатился за это жизнью.
Комлев перешел улицу под углом, держа курс на вывеску, и его даже умилила доверчивая распахнутость дверей заведения сеньора Антонио в городе, где еще ходили по улицам военные патрули. Но в прихожей на стуле сидел здоровенный детина с бритой головой, похожей на огромный, коричневый биллиардный шар. То, что Комлев был белым, хоть и в довольно непрезентабельном виде, нашло у охранника вполне положительный отклик, и он, не вставая со стула, распахнул перед ним дверь приемной с конторкой. За ней возвышался, видимо, сам сеньор Антонио, с глазами-маслинами и подозрительно черными для его возраста блестящими волосами, вполне вероятно, крашеными. Было заметно, что посетителю он был неподдельно рад. Наплыв гостей в страну в условиях еще продолжающейся войны явно не ожидался.
— Отдельный номер дня на два, — сказал Комлев, — а там будет видно.
Через час уже совсем преображенный Комлев, которому удалось даже воспользоваться утюгом, звонил в редакцию, где работала Нанди. Там сказали, что она уже отправилась домой. Значит, теперь он будет готовиться идти к ней в гости. Телефона у нее не было. А вдруг она у себя не одна? Что он, в сущности, знает о ее жизни? Ну что ж, он просто доложит о своем прибытии. Здесь, видимо, знают уже о гибели парохода. Она как работник печати может с его слов написать очерк. Хотя вспоминать об этом событии ему бы не хотелось.
Комлев вышел на улицу и увидел синий автомобиль с тонированными стеклами, а такие машины вызывали у него острую неприязнь. Он хорошо помнил тот случай, когда одна с такими вот стеклами пыталась его сбить на улице.
Дверь синей машины открылась, и оттуда глянул на него некто с нездешним, очень темным, лицом, в то же время смутно знакомым.
— Добрый день, мистер Комлев, — сказал ему темнолицый по-английски с непривычным, тоже нездешним акцентом. — Вы не сядете на минуту в машину, чтобы нам не обращать на себя внимание на улице?
«Разумно, — отметил про себя Комлев. — Дело, видимо, такое, о котором громко и при всех не говорят».
— Я отъеду вон к тому дереву и поставлю машину в тень, чтобы нам не было так жарко. Вы не догадываетесь, откуда я вас знаю?
К этому времени Комлев его уже вспомнил.
— Мы, кажется, виделись на улице Лутули, 21. И не так уж давно, если разобраться.
В ответ он получил знак понимания в виде улыбки, которая казалась еще более белозубой по соседству с почти черной кожей.
— Мы о вас не забыли, но лишний раз нам напомнил о вас Нгор. Он ранен и сейчас находится на излечении в соседней стране. И мы, конечно, знаем, что с вами произошло недавно.
«Они ожидали, когда я вернусь с озера, — с некоторой тревогой подумал Комлев. — И обзвонили ряд гостиниц, чтобы меня найти. Зачем я им?»
— Меня зовут Абоче. Наша организация делает вам одно хорошее предложение, и, если вы согласны, мы потом подпишем контракт там же, на улице Лутули. Это хорошо оплачиваемая работа.
— Я вас слушаю, — с вежливой сухостью сказал Комлев. «Знают, видно, что я на мели и работы у меня не предвидится».
— На восточном берегу озера Кигве, то есть уже в соседнем государстве, есть небольшой порт Гванда. Там наша организация арендует причал и небольшой теплоход. Грузоподъемность полтысячи тонн. Команда на нем уже есть, даже помощник капитана, но нужен сам капитан. Мы хотим, чтобы им были вы, мистер Комлев.
«Выбора у меня сейчас нет», — напомнил себе Комлев и спросил сразу по делу:
— Какой груз нужно доставить и куда?
Комлев уже догадывался, что дело это рискованное, но за риск они готовы платить. Конечно, там будет и оружие, хотя они об этом не скажут.
Абоче ему сказал с убеждающим правдоподобием, что груза будет около трехсот тонн, и все это продовольствие, особенно рис, мука и сахар, палатки, лекарство и горючее в бочках. Конечно, ни о каких ящиках с патронами он не говорил. А путь будет идти из озера по реке Луалабе, а потом по целой системе озер, больших и малых до какого-то пункта, о котором знают только помощник капитана и лоцман.
— Но зачем тогда капитан, если судно будут вести эти двое?
Вопрос, видимо, был наивен, что тут же подтвердилось снисходительной улыбкой Абоче. Он терпеливо объяснил, что судно будет пересекать акватории трех, если не более, стран и вызовет меньше подозрений, если главный на нем — человек не африканской внешности и в силу этого для пограничников и таможенников уже лицо вполне нейтральное. Абоче немного замялся, давая этим понять, что Комлев будет единственным европейцем на борту, и это будет его основной функцией. Судно с белым капитаном. Это было знаком гарантии, хотя и фальшивой, судя по всему.
«Ну и ну!» — мысленно восхитился Комлев хитроумием Абоче и его сотоварищей и обещал подумать, а подумав, тут же позвонить, хотя для себя он уже все решил. Он сделает один рейс, заработает денег и начнет готовиться к возвращению домой. Что это будет за рейс, он не знал. Но допускал, что может быть и стрельба, и погоня, и, в лучшем случае, арест, если на борту окажется что-то предосудительное.
Комлев как-то сохранил эту измятую накладную на уголь, который сейчас лежал в бункере парохода на дне озера Кигве, накладную, на обороте которой был адрес Нанди и план, облегчающий нахождение ее дома. Он довольно легко нашел и ее дом, и квартиру на третьем этаже, но позвонил в дверь с некоторой тревожной неуверенностью. Он вообще не любил являться без предупреждения, он считал это просто неучтивым. Открыла Нанди, которая в этот момент была в коротком темном халатике, и она какое-то время смотрела на Комлева с каким-то даже избыточным удивлением, смешанным со страхом.
— Вернулся, — тихо выдохнула она, — и живой. Боже правый!
И только после этих слов она кинулась ему на шею, надолго приникнув к нему, так что Комлев даже стал томиться своей вынужденной пассивностью, вдыхая запах каких-то совершенно незнакомых духов, идущих от ее жестковатых на вид, но на самом деле мягких, хотя и пружинистых, волос. Невольное прикосновение к ним он помнил еще с того вечера, когда его подвозили на машине к гостинице, после выступления мага и чародея на городском поле собраний.
— Я ведь знала, что ты придешь, — сказала Нанди тихо, — но все равно удивилась. Почему — не знаю. Неужели я в этом сомневалась?
Комлев вел себя со спокойной сдержанностью, хотя сам не знал, как себя надо вести с образованной африканкой. Впрочем, как вести себя с другими представительницами этой расы, он тоже имел весьма туманное представление.
Потом Нанди с радостной торопливостью, словно вспомнив о своих обязанностях хозяйки, стала накрывать на стол, а Комлев в это время вытаскивал из сумки бутылки и коробки конфет. Ему очень хотелось полностью забыться и пребывать как можно дольше в умиротворенной отрешенности после всего пережитого им за последние дни, но пока у него ничего не получалось. Волновал и тревожил предстоящий вечер и, возможно, ночь в обществе Нанди, африканки, которую ему еще предстояло открыть для себя. И еще время от времени, непроизвольно и совершенно некстати, наплывало воспоминание о «Лоале», навязчиво хотелось представить ее каюты, машинное отделение, заполненные водой, и это был просто какой-то психологический мазохизм, с которым он не знал, как сладить. Он боялся, что станет скрежетать зубами от бессильной злости и досады. «Надо будет прежде всего выпить», — догадался Комлев и начал открывать первую бутылку южноафриканского вина.
— Нанди, давай выпьем просто за то, что мы вместе, — сказал он, разливая темно-розовое густое вино в низкие стаканы с тяжелым дном. Он любил такие стаканы, толстое дно придавало им хорошую остойчивость, и они напоминали Комлеву суда с низким центром тяжести — залогом того, что они не перевернутся на волне. Сейчас Комлеву удалось наконец избавиться от мыслей об утонувшем пароходе и о предложении этого Абоче уйти в неведомый и, возможно, опасный рейс — он обрел на время свободу. А что будет дальше, подскажет сама жизнь.
ПАСЫНКИ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ
Небольшой и уже далеко не новый теплоход «Ладога», плававший теперь под флагом Коморских Островов (на зеленом поле белый полумесяц и четыре звезды на одной линии), уже третий месяц стоял на самом дальнем причале в одном западно-африканском порту. Здесь, собственно говоря, порт и кончался, и дальше шли уже заросли мангровых деревьев, а еще дальше вздымались, выглядевшие отсюда совсем тонкими, стволы бесчисленных кокосовых пальм. Их похожие на перья листья, они же ветви, казались теперь черными на фоне оранжево-желтого закатного неба. Солнце только что опустилось за дальние горы, сумерки, а потом и настоящая темнота наступали здесь с бесцеремонной внезапностью, и матрос первого класса Свирин старался дописать письмо жене до того, как совсем стемнеет. Дело в том, что электричества с берега на «Ладогу» давно не подавали и даже сам кабель убрали из-за того, что платить было нечем. По этой же причине убрали и шланг для подачи воды. За водой теперь ходили вахтенные матросы с ведрами, набирая ее из колонки в конце причала.
Свирин изорвал уже два письма и принялся за третье. Он нашел, что они до неприличия перегружены «лирикой и сантиментами», и теперь он, досадуя на потерянное время, с угрюмой поспешностью писал новое, похожее своим суровым лаконизмом на отчет о командировке, причем явно неудачной. Третий вариант должен был стать последним уже и потому, что день неумолимо угасал, а у Свирина кончилась бумага.
«…Так вот, за все это время, пока мы бездарно стоим у причала на задворках порта, без света и воды (да и с едой негусто), наш богоспасаемый сухогруз уже трижды сменил владельцев. Они вообще обретаются неизвестно где: то ли в Питере, то ли в Москве, то ли на Болеарских островах. Зарплаты мы, конечно, не видим уже давно, тебе я ничего не могу послать и чувствую себя последним подонком». Свирин поморщился из-за обилия ненужных эмоций, незаметно просочившихся в письмо, но его надо было как-то дописать. И он продолжал: «Одна надежда, что наш капитан сумеет выискать для судна выгодный фрахт, плюнет на сволочей-судовладельцев и тогда мы заработаем денег на дизельное топливо и провиант, а это даст нам возможность добраться домой…»
В отвергнутых и изорванных вариантах Свирин пытался даже проанализировать ситуацию и дать ей оценку. Он, например, писал о том, что жизнь моряка в постсоветской России похожа на блуждание в чужом, незнакомом городе, где царят свои, малопонятные порядки, представшие перед пришельцем в своей суровой и пугающей очевидности. То, что раньше читали (конечно, кто имел склонность к чтению) в книгах Джозефа Конрада или, скажем, Александра Грина, теперь многое увидели наяву: так называемую романтику и приключения, вероломство судовладельцев, трудности в поисках выгодного рейса, а также ложь и предательство там, где этого не ждешь. И запоздало осознали старую истину: «В море каждый за себя, только Бог за всех». Свирин, однако, не забывал, что было «до того», в прежние времена. А было стояние в очереди к инспектору отдела кадров плавсостава и радость получения заветного направления на судно. Был сверляще-бдительный взгляд первого помощника капитана, то есть помполита, нацеленный на новоприбывшего, а потом уже были обязательства по соцсоревнованию и собрания судового комитета. А при увольнении на берег в загранпортах предписание ходить только группами не менее трех человек, к тому же в сопровождении члена комсостава. Но взамен была гарантия регулярного получения зарплаты и уверенность в том, что дадут доплавать до пенсии.
Иллюминатор каюты Свирина выходил в сторону океанского залива и к вечеру обычно становилось свежее, и дневная влажная духота отступала. В полуоткрытую дверь бесшумно и по-свойски ввалилась серая корабельная обезьяна. Это был Макс, названный так неизвестно кем и почему. Он вспрыгнул на койку рядом, обежал каюту коричневыми глазами на предмет отыскания съестного и потом стал приводить в порядок рыжевато-пепельные и нуждающиеся в стрижке волосы Свирина. Последний в это время задумался над листом бумаги, не зная, как закончить письмо.
Макс явился на судно сам, с обрывком веревки на шее. Свирин тогда стоял вахтенным у трапа и дал пришельцу кусок свежей булки, которую жевал сам. Он видел таких обезьян на рынке в грубо изготовленных деревянных клетках. Их привозили по реке из лесных деревень на лодках-долбленках или же на рейсовом пароходе. Где-то в далеких лесах они попадали в ловушку, потом их связывали, сажали в клетку и отправляли в город в качестве съедобной живности на продажу. На рынке также продавалось и копченое обезьянье мясо. А живые обезьяны в клетках, словно догадываясь о своей участи, сидели в позе грустной покорности и отрешенности, они не вертелись и не кривлялись. Они даже не притрагивались к овощам или фруктам, которые продавцы иногда совали им сквозь прутья. Зачем есть, если тебя самого скоро съедят? Казалось, именно это можно было прочесть в их почти человеческих взглядах. Все заметили, что Макс ни разу не перебегал по сходням на причал с тех пор, как пришел на судно, и прятался, если на палубе появлялся человек с темной кожей.
Свирин был женат более десяти лет, и с будущей женой его свел довольно курьезный случай, когда он ни о какой Африке и не помышлял. Он служил рулевым на минном тральщике, который наконец поставили на капитальный ремонт, а команду держали в береговом флотском экипаже, готовясь рассылать ее по другим кораблям и даже флотам. В один из долгих летних дней надо было отметить день рождения Лешки Чуева, его дружка по тральщику. За бутылкой в самоволку отправился Свирин, ибо негоже, если именинник, в случае неудачи, встретит день ангела «на губе». Свирин уже не первый раз проникал в пролом стены, полускрытый со двора грудой старых досок, а на улице заслоненный кустом сирени. В небольшом магазинчике он взял большую бутылку (ее еще называли «огнетушителем») крепленого вина, так как на водку денег не хватило. Но вино было не знакомое украинское «біле міцне» (или «биомицин» — полузабытое теперь лекарство) и не пресловутый Агдам, а что-то даже мускатное. Свирину надо было прошмыгнуть всего лишь каких-то пятьдесят метров мимо старых двухэтажных домов, тянувшихся вдоль неширокой набережной канала с низкой чугунной оградой. Он страстно стремился поскорее достичь знакомого сквозного двора, где уже виднелась та самая стена с проломом. Вдруг впереди сквозь редкие ветки кустов проглянула предательская (но для Свирина спасительная) белизна бескозырочных чехлов, форменок и офицерского кителя. Неожиданный в таком захолустье патруль надвигался с нестерпимой неотвратимостью. Перед мысленным взором Свирина промелькнула картина предстоящего задержания со всеми неприглядными деталями. Даже если бы он избавился от тяжелой и громоздкой улики, оттягивавшей карман, его синяя роба с номером на груди слева, ботинки-«гады» и пилотка выдавали его с головой как явного и злостного самовольщика.
Из-за духоты входная дверь ближайшего дома была открыта, как и дверь в квартиру слева на первом этаже. Там стояла девушка с большой рыжей кошкой на руках, видимо, собираясь отпустить ее погулять. Свирин даже не разглядел толком ее лица и обратился, скорее, не к ней, а к кошке, которая гипнотизировала его своим строгим зеленым взглядом.
— Прошу вас, позвольте только переступить порог, чтобы не маячить в дверном проеме, — хриплым, но проникновенным шепотом начал Свирин. — Мне грозит неприятность. Идет патруль!
Он кивнул в сторону улицы. Девушка, как показалось Свирину, чуть заметно улыбнулась. Знакомства с матросами у нее случались, и она знала, что путь их по городу не усыпан розами. Свирин был молча впущен в дом. А патруль, вместо того, чтобы прошагать мимо, зачем-то остановился у ограды канала, видимо, поджидая замеченную издали какую-то свою жертву.
Короче говоря, Свирин через какое-то время познакомился не только с девушкой, но и с ее мамой, которая как раз вошла в комнату из кухни. Время было обеденное, и он был приглашен к столу. Он, конечно, вытащил из кармана штанов свою тяжелую бутылку и поставил на стол, рассудив, что дни рождения нельзя отмечать раньше времени, а позднее — сколько угодно.
— Между прочим, — сказала мама девушки, моложавая дама со следами, как раньше писали, былой красоты на лице, — я со своим Сашей — это Олечкин отец — тоже познакомилась, когда он сбежал в самоволку. Их сторожевик стоял тогда недалеко от моста лейтенанта Шмидта.
Свирин тогда с наигранным оптимизмом подумал, что история повторяется, и от судьбы, видимо, не уйдешь. Когда он прощался, мама Оли сходила к соседке, вернулась с четвертинкой водки и протянула ее Свирину.
— Пусть ваш друг выпьет, раз уж у него праздник, а вам, Игорь, не советую, а то попадете в беду.
В следующий раз он пришел в гости, уже имея при себе увольнительную записку, и был он в бескозырке, отглаженной форменке и в брюках с острой, как нож, складкой.
Капитан «Ладоги» Павел Андреевич Якимов слыл человеком «нестандартным» и был не лишен авантюрных наклонностей. Свирин кое-что узнал о его прежней жизни от боцмана Тимощенко, который одно время плавал с ним еще в советские времена, когда Якимов еще только начинал капитанствовать. Так, однажды он остановил судно на пару часов во время одного перехода через океан. Ветра не было, волны тоже и капитан велел спустить две шлюпки с мотором — для лова тунцов, так как это было самое тунцовое место. Помполит остановке не противился и лов рыбы даже одобрял, правда, только на словах. Плавал он недавно, был из «погоревших» за что-то секретарей райкома и не знал всех судовых порядков. Он хотел сразу же дать радиограмму в партком пароходства о вопиющем поступке капитана, но радист ему объяснил, что без капитанской подписи он ее не отправит. Помполит, зная уже характер Якимова, за подписью к нему, разумеется, не пошел, но на капитана донес по окончании рейса, обвинив его в срыве социалистического соревнования по скорости с двумя другими нашими судами, которые шли с грузом в один и тот же порт. Потом капитан объяснялся в парткоме примерно в таких словах:
— Лов тунцов я разрешил, чтобы пополнить запас продовольствия и накормить команду свежей рыбой. И еще, чтобы нарушить монотонность долгого и утомительного рейса.
— А как же соцсоревнование и выполнение обязательств по нему? — с угрюмой суровостью спрашивали его седовласые и каменнолицые парткомовцы.
— Видите ли, — охотно и снисходительно объяснял капитан Якимов, — у судов, с которыми мы должны были соревноваться, скорость была выше на целых три узла, и мы бы пришли в порт все равно последними.
Чашу терпения парткома переполнила весть о том, что Якимов в каком-то рейсе решил отмечать День Военно-морского флота, для каковой цели просто положил судно в дрейф, правда, при почти полном штиле, и обратился к команде с подкупающей простотой:
— Большинство из вас, включая и меня, бывшие военные моряки, а в случае войны вы все станете таковыми. Это наш праздник сегодня. Поэтому все свободные от вахты вместе с подвахтенными собираются в столовой команды, чтобы скромно отметить это событие. Затем вахту сменят на полчаса, чтобы она тоже посидела за праздничным столом.
Конечно же он был вызван на ковер, когда пришел в родной порт и невинно объяснял потом, что в рейсе у них все равно была экономия времени, а в порту им пришлось бы становиться на рейд и ждать своей очереди у причала, не имея возможности даже побывать у себя дома.
Над буйной, хотя и лысеющей головой капитана собирались тучи явно грозового оттенка, но тут пришла «перестройка» и парткомовцам как-то стало не до него. Грядущие перемены грозили перестановкой в кадрах, и надо было охранять свои кресла от напасти.
Когда «Ладога» пришла с грузом в этот африканский порт и, освободившись, застряла в нем, забытая и брошенная судовладельцами, капитан стал молчалив и внешне непроницаем. Он появлялся на палубе с видом сумрачного безучастия, которое, впрочем, могло с пугающей внезапностью перейти с свою противоположность. Так на море при полном штиле налетает неожиданный шквал, и тогда летят плохо закрепленные снасти, брезентовые чехлы и чья-то сушившаяся на поручнях тельняшка. В минуты капитанской активности доставалось двум помощникам капитана, по поводу небрежного несения матросами вахты, и боцману за то, что палуба похожа на городскую площадь после народного гуляния. Но это бывало не часто и длилось недолго. Почти каждое утро капитан надевал чистую белую рубашку с капитанскими погонами, фуражку с эмблемой и отправлялся к портовому начальству или в конторы разных морских агентств, пытаясь обеспечить для судна рейс с грузом, хотя бы вдоль побережья до соседнего порта. Изредка это удавалось, но вот уже месяц как никакой работы не было. Это напоминало положение на паруснике былых времен, попавшем в полосу полного безветрия, когда он уныло качается на слабой волне с бессильно повисшими парусами, под печальные крики чаек, а палубная команда, понукаемая боцманом, лениво окатывает палубу забортной водой, чтобы она не рассохлась окончательно.
Иногда капитан брал с собой Свирина, когда предстоял особенно важный или трудный разговор, так как Свирин, хоть и заочно, но окончил три курса «иняза» и мог подсказать нужное слово на английском. Впрочем, для повседневного общения в этом порту да и, видимо, на всем побережье хороший английский и не требовался. В ходу были пара местных африканских языков, а больше — весьма странный язык, который так же походил на английский, как место вырубки с пнями и покореженным подлеском похоже на полноценный лес. Но этот язык был популярен, и команда «Ладоги» быстро научилась объясняться на этом странном суррогате языка, освобожденном от не слишком жестких норм английской грамматики и сложности произношения.
— Рес фо ту пени фо коп (рис по два пенни за чашку), — говорила, к примеру, торговка у ворот порта, когда судовой повар с артельщиком, заведовавшим продовольствием, отправлялись на рынок за продуктами.
А старый портовой сторож, которому Свирин однажды под диктовку написал письмо в родную деревню, поблагодарив его, познакомил и с пословицей:
— Ниа неба бета пас фаве фамбул (близкий сосед лучше, чем далекий родственник).
Якимов со школьных лет мечтал стать военным моряком и стал им. В Военно-морском училище на штурманском отделении он был одним из первых в учебе, но к требованиям дисциплины относился с какой-то размашистой беспечностью, словно предчувствуя, что, став офицером, ему придется уступчиво подтянуться самому, чтобы в дальнейшем требовать этой подтянутости от подчиненных.
Получив лейтенантские погоны, он был руководством училища мстительно отправлен служить на самую крайнюю северную точку, в места весьма суровые и отдаленные, хотя по своим отметкам мог бы рассчитывать на лучший вариант распределения.
А менее чем через десять лет его карьера неожиданно закончилась. Он был тогда в звании капитан-лейтенанта старшим помощником на «большом охотнике» с командой в двадцать шесть человек. Командир ушел в отпуск, поговаривали, что его ждет повышение, и он сюда не вернется, и Якимову знакомый из штаба соединения намекнул, что командовать БО (или «бобиком», как его называли) ему теперь дадут вполне законно, а не временно, а очередное звание — капитан третьего ранга — не за горами.
Они проводили плановые учения по обнаружению подводной лодки. Она была старая, дизельная, но еще довольно резво шныряла в темных холодных глубинах, акустик едва успевал сообщать на мостик о меняющихся курсах, а рулевой взмок, перекладывая руль, вернее, двигая щелкающей ручкой электрического рулевого управления. Наконец Якимову удалось «прищучить» лодку, и в этом случае производилась имитация бомбометания, то есть за борт бросали обыкновенную гранату-лимонку. Делал это обычно набивший руку матрос Бобков. Небо в тот день было низкое и хмурое, волна — около четырех баллов, и небольшой узкий «охотник» ощутимо покачивало. Якимов с привычно-настороженным вниманием наблюдал за всей процедурой с мостика, Бобков же стоял на левом борту недалеко от тридцатисемимиллиметрового зенитного автомата на корме. У курилки, рядом с дверью в машинное отделение, стояли мотористы, которые вылезли наверх хватить свежего, холодного воздуха, и с ними еще пара курильщиков. Вниз была дана команда на «стоп», и люди из машины знали, что это надолго. Сначала, как черное морское чудище, медленно всплывет подводная лодка со стекающими с ее рубки, а потом и с палубы большими и малыми водопадами. Начнется разговор командиров, усиленный динамиком, потом оба плавсредства, надводное и подводное, пойдут домой — на базу флота.
Первая граната ушла за борт благополучно, выбросив скромных размеров водяной гейзер. Бобков снарядил вторую, но тут невовремя подоспела девятая волна, резко подняла кормовую часть палубы, матрос поскользнулся в луже, потом ударился локтем о поручень и выронил скользкую от масла лимонку. Она весело, но со зловещей целенаправленностью покатилась по мокрым стальным листам палубы к курильщикам. Бомбометатель успел проорать: «Полундра, ложись!» — сделал пару шагов и распластался на животе головой к корме. Он думал о том, сколько суток «губы», если он уцелеет, ему впаяет «каплей» за его оплошность? Бобков не знал, что граната катилась от кормы, приподнятой волной, но если бы было наоборот, то она помчалась бы в сторону Бобкова, и прямо в зазор между подошвами его сапог. Случись такое, он наверняка вернулся бы домой безногим инвалидом.
Якимов с хмурой отрешенностью наблюдал все это с мостика, пригнулся и заставил пригнуться второго помощника перед тем, как грянул взрыв со звоном из-за осколков, отскакивающих от стали надстройки, и всем заложило уши. Мотористы, еще услышав «полундру», ринулись в узкую дверь машинного отделения, другие — в дверь закутка, где была курилка, но двоим последним пришлось получить пару небольших осколков в те части тела, которые оставались снаружи в процессе протискивания курильщиков в спасительное нутро корабля.
К несчастью для Якимова, шла очередная волна сокращения на флоте, и он был без проволочек уволен в запас. Дело было еще и в том, что Якимов имел неосторожность, будучи в подпитии, в Доме офицеров повздорить с одним из чинов политотдела незадолго перед этим событием. И бывший теперь военмор стряхнул пыль с учебников по мореходному делу и стал готовиться к сдаче экзаменов с целью получения диплома штурмана дальнего плавания.
В столовой команды в углу стояла картонная коробка с прорезью вверху, куда предлагалось бросать и местные финго с расплывчатыми физиономиями африканских вождей, и любую другую валюту, которую членам команды удалось заработать, если они, конечно, могли с частью этого заработка легко расстаться. Все это шло на пополнение судовой кассы, но главным, хоть и скромным источником этого пополнения была плата за краткосрочные курсы мотористов, которые вел стармех Чирков, а темнокожих учащихся поставлял местный профсоюз моряков и докеров. Но через два дня должен был состояться выпуск, а новых заявлений не поступало. Механиков еще иногда просили починить дизельный двигатель где-нибудь на маслобойке или водокачке. Подозревали, что самым состоятельным на «Ладоге» был рулевой Каминский, худощавый, подтянутый и всегда со снисходительно-покровительственной улыбочкой. От вахты на палубе он обычно уклонялся, а за него стояли другие, причем он придумал гибкую таксу оплаты в зависимости от времени суток вахты и погоды. Он одевался по лучшей тропической моде: белая рубашка, шорты и белые чулки-гольфы. Он покидал судно, стараясь, не попадаться на глаза капитану или старпому, а когда он возвращался, не знал никто. За воротами порта кое-кто видел, как он садится в ожидавшую его машину. Иногда в картонную коробку он с картинной небрежностью всовывал бумажку в десять или двадцать финго, стараясь, чтобы это происходило непременно при свидетелях.
Кок Ильченков, человек угрюмый, как многие повара, проявлял порой дьявольскую изобретальность, готовя двухразовое питание (утром и в позднее послеполуденье), заметно скатываясь к туземной кухне, которую постепенно освоил, что диктовалось наличием исходного кулинарного материала: клубней маниоки и ямса, местной фасоли и муки из сорго. Поэтому такие блюда как гари, фуфу или мсомбо в его меню попадались с нарастающей частотой, по мере все большей зависимости от местного рынка, где овощи были дешевы. Надо сказать, что это самое мсомбо, то есть мешанина из кукурузы, фасоли, риса, мяса (если удавалось его купить) и пряностей пользовалась даже известной популярностью. Впрочем, была еще и рыба. Туземные лодки подходили после полудня к судну со стороны залива, в пустой гулкий борт стучали веслом и кричали снизу:
— Бо, и вант бай фиш? Боку гуд фиш! (Приятель, ты хочешь купить рыбы? Много хорошей рыбы!).
Рыбакам всегда сообщали с берега, что цена на рынке так понизилась, что везти ее туда по жаре смысла не имело. Положение «Ладоги» им было известно — здесь все знали обо всем, поэтому и продавали с большой скидкой.
На той широте, где сейчас у причала в унылом ожидании чего-то стояла «Ладога», темнело и светало в одно и то же время — около семи часов. Ночь в результате получалась неоправданно длинной, а отсутствие освещения как бы усугубляло ее продолжительность, Свирин же почему-то ночами остро ощущал тоску и унизительную предельность своих возможностей. Тянуло на воспоминания, как пьяницу тянет к выпивке. Результат выпивки, как известно, — похмелье, а воспоминания часто ведут к мучительному самоанализу, после которого индикатор жизневерия оказывается на нулевой отметке, словно стрелка судового компаса, показывающего на чистый норд.
С моря потягивало неким подобием прохлады, но корпус судна разогревался за день на солнце и потом долго и медленно остывал, как чугунный утюг, но до конца остыть не мог. Поэтому в помещениях всегда стояла безжалостная духота. В эти долгие ночи он о многом передумал, но результат его умственной деятельности был прискорбно мал. Если его записать, то он состоял бы всего из нескольких предложений вместе с довольно зыбкими благими намерениями. Он, Свирин, во многом разбазарил прожитые годы. Болтался в плаваниях, а жена и двое детей жили как бы отдельной от него жизнью. Серьезной профессией он не обзавелся, заочную учебу в институте прервал после третьего курса. Раньше хоть был смысл работать в «загранке»: покупались и привозились дефицитные в стране вещи. Он решил, что, если вырвется отсюда, с дальнейшими плаваниями порывает. Идет на курсы штурманов малого плавания, получает диплом и работает, не отдаляясь от родных берегов, чтобы быть ближе к семье. Заканчивает заочно институт. А там видно будет.
В стране, куда какая-то глумливая фатальность привела экипаж «Ладоги», ее черные власти, бескровно сменившие белых правителей, никогда не пытались идти по пути так называемого реального социализма. Поэтому советские политики ею всерьез не интересовались, наклеив на нее неодобрительный ярлык «страны с капиталистической ориентацией». Но посольство, как и в других подобных странах, здесь имелось. Возможно, это делалось с целью трудоустройства отставных глав обкомов и крайкомов партии, ибо означенные товарищи почему-то считались изначально готовыми к дипломатической службе и по-свойски назначались послами в страны третьего мира. Чаще всего они были представителями южных окраин Советского Союза, то есть из так называемых «солнечных» союзных и автономных республик. Возможно, на Смоленской площади считали, что посол, черты лица которого трудно отнести к чисто европейским, будет более по душе обитателям стран, освободившихся от власти ненавистных белых. Шли годы, распалась великая страна, бывший «могучий оплот мира и социализма», а родные республики многих послов стали в одночасье суверенными государствами и обзавелись не только своими флагами и гербами, но даже учредили собственные посольства за рубежом. Но прежние, еще «советские», послы не спешили со сменой гражданства, они так же продолжали занимать свои кресла в посольских особняках, над которыми теперь реял другой флаг. О них, казалось, просто забыли на упомянутой уже площади. Одним из таких послов был и посол в этой стране, Абубекир Мухамеджанович. Капитан написал в посольство три письма, которые остались без ответа, пару раз звонил, и ему ответил кто-то из посольских: «Абубекир Мухамеджанович сейчас занят». А в другой раз отвечала африканская секретарша, на ужасном английском обещая непременно передать капитанскую просьбу «его превосходительству».
Жизнь в порту начиналась рано, чтобы до наступления жары сделать главную работу. Утренней прохлады, правда, здесь почти не чувствовалось, взамен была какая-то липкая сырость, и она держалась довольно долго, пока солнце с похвальной регулярностью не начинало золотить верхушки пальм вдоль залива, а динамики из минаретов ближайших мечетей уже возглашали свое неизменное «Аллаху акбар!», в то время как тонкоголосые колокола католической церкви Непорочного Зачатия ненавязчиво призывали к мессе.
В такое вот утро к самому причалу подъехала посольская машина с черным шофером, и из нее бодро выскочил первый, как позднее выяснилось, секретарь в обычной посольской униформе: белая рубашка-короткорукавка, темные брюки и галстук. Столица была в полутора часах езды от порта, и секретарю не пришлось идти на необходимость слишком уж раннего пробуждения.
Он хотел поговорить с капитаном наедине, Но Якимов с фальшивой любезностью сразу же заявил:
— В кои-то веки мы видим представителя родной державы, поэтому надо, чтобы вся команда была в сборе. Возможно, будут вопросы.
Самым просторным помещением на судне была столовая команды. Там и собрались. Макс тоже приковылял вместе со всеми, но его удалили, и он ушел, с оскорбительной наглядностью и как бы в виде протеста выставив красный зад и обиженно озираясь. Почему-то чувствовалось, что встреча вызовет взаимное неудовольствие сторон. Так оно и произошло. Выяснилось из слов гостя, что посольство не может помочь морякам материально — у него нет на это средств, но если судно будет продано на торгах в погашение задолженности перед портом, посольство ускорит оформление документов для возвращения на родину, если, конечно, в результате этой продажи у них появятся средства для этого самого возвращения.
— Впрочем, я не уверен, что все захотят этим воспользоваться, — как-то двусмысленно сказал секретарь, полнеющий господин с бледным, несмотря на долгое пребывание тропиках, лицом. Видимо, он не часто рисковал показываться на солнце.
— Это почему же? — угрюмым басом спросил стармех Чирков. — Поясните свою мысль, уважаемый.
— Вы плаваете под чужим флагом, — тоном обвинителя начал гость. — Судно принадлежит не государству, которое я представляю, а частным лицам. Единственное, что нас связывает, — это общее гражданство, но и эта, как мы знаем, вещь легко сменяется.
Капитан слушал с досадливым нетерпением и весьма нелюбезно прервал посольского работника:
— Не я поднял на кормовом флагштоке эту зеленую тряпку, я хотел бы плавать под российским флагом! Но государство, которое Вы представляете, позволяет разным проходимцам разворовывать флот, его продавать и перепродавать. Вот поэтому мы и здесь. Если от Вас мы ничего конструктивного не услышим, встречу считаю оконченной.
Да, капитан явно дипломатом не был. Он встал с места с подчеркнутой и оскорбительной для гостя резкостью.
Секретарь встал и быстро для полноватого человека ушел, кажется, даже и не попрощавшись. Он был зол на капитана еще и за то, что тот не дал ему возможности высказать главное, ради чего он и приехал. Не иметь никакого дела с антиправительственными силами! Вот что он должен был сказать. В стране уже не один год шла настоящая война с мятежниками. Считалось, что бои происходили где-то очень далеко. Но было видно, как со столичной окраины несколько раз в день взмывают в небо пятнистые «фантомы» и летят на север бомбить и обстреливать позиции повстанцев. На улицах тем временем появлялись листки на стенах домов с текстами на английском и местных языках. В них говорилось: «Народ взялся за оружие, чтобы свергнуть ненавистную правящую клику, продавшуюся западным неоколониалистам и заокеанским империалистам. И волю народа не сломить!»
Сидя в машине, обдуваемый все еще свежим ветерком, секретарь оглянулся туда, где остался главный порт страны, а в нем эта, застрявшая по чьей-то дурости, «Ладога». А вдруг у них будет связь с мятежниками? Но если грянет скандал и команда окажется в тюрьме, извлекать ее из туземного узилища посольство не будет. Пусть отсиживают весь свой срок.
Безденежье угнетало Свирина, и это замечал Эльяс Халид, который занимался разными торговыми и околоторговыми делами, имел несколько лавок и даже пекарню. Хлеб вчерашней выпечки у него шел по очень заниженной цене. Как-то получилось, что Свирин взял на себя снабжение «Ладоги» хлебом, и поскольку он покупался большой партией, Эльяс делал еще одну скидку, а также за то, что продает единоверцам, что он не раз подчеркивал. На его груди сквозь широко расстегнутый ворот рубахи с красноречивой наглядностью красовался большой серебряный крест, формой напоминающий коптский. Ведь Эльяс был христианином несторианского толка.
— У вас много хлеба едят, — одобрительно отмечал Эльяс, — у нас в Сирии тоже. Хлеб — основа всей жизни.
Неожиданно он сделал предложение Свирину:
— Слушай, Игор, вам, я слышал, уже давно судовладелец не платит. Как можно так жить? Хочешь, я тебе иногда буду давать заработать? Съездить надо туда-сюда с партией товара, проследить, чтобы все хорошо сгрузили. Бумаги все будут подписаны. Я позвоню, чтобы тебя ждали. То, что с товаром приедет не африканец и не азиат, это здесь внушает доверие. Это говорит о солидности фирмы.
И вот в свободное от вахты время Свирин одевался в то, что было почище и поновее, садился в кабину небольшого грузовичка рядом с темнокожим водителем и ехал с товаром. Эльяс платил ему немного, но исправно.
— Один из ваших, мне говорили, неплохие деньги зарабатывает, но может плохо кончить, — как-то не без умысла заметил Эльяс.
— Кто же это? — с вялым любопытством спросил Свирин.
— Имени не знаю. Худощавый такой, с темными волосами, ходит весь в белом, как колониальный англичанин.
Свирин начинал догадываться, но решил промолчать. Он вспомнил, как он пробегал по коридору жилой палубы и в приоткрытую дверь каюты, где жил Каминский, увидел пару бутылок на столе и гору разной соблазнительной снеди. Хозяин каюты поспешно захлопнул дверь.
Эльяс потрогал седеющие усы и с замаскированным равнодушием повторил:
— Да, может плохо кончить. Дело в том, что владелец одного заведения очень хотел найти белого управляющего. Для представительности. Вот ваш моряк и играет эту роль. А в этом заведении не только ресторан, там и игорный притон, и наркотики водятся, и девочки есть по вызову. Я-то знаю.
— Его следует предупредить? — неуверенно спросил Свирин, хотя симпатий к тому, о ком шла речь, не чувствовал.
— Можешь, конечно. Только на меня не ссылайся. Это дело опасное.
Потом он начал жаловаться на сложность жизни в стране, подчеркивая, что при англичанах жить было проще, так как соблюдался порядок.
— Сейчас каждый смотрит на другого, как на свою добычу. В Африке так было всегда, но тогда действовали копьями и стрелами, а сейчас в ход идут более современные вещи и способы. Чиновники стараются урвать побольше из-за шаткости своего положения. Их даже нельзя теперь подкупить. Это значит, что чиновник сегодня берет у тебя деньги и ставит печать или свою подпись, но завтра он делает вид, что тебя не знает и все надо начинать сначала.
Они сидели в плетеных креслах в небольшой конторе Эльяса и пили холодное пиво из высоких стаканов. Между ними стоял и жужжал, как гигантский шмель, большой вентилятор. Создаваемый им теплый воздушный поток был все равно приятнее унылой неподвижности воздуха.
— Вот придет Нванги и жди перемен, — с тревожной многозначительностью заявил Эльяс, понизив голос. — Обещает расстреливать коррупционеров без суда. Правда, многие так говорят.
— Это кто еще такой? — спросил Свирин, чувствуя, что вопрос звучит глупо: видимо, есть имена, которые должны знать все, но не произносить их.
— Тот, который в лесах со своей армией. Войска ничего не могут с ним сделать, несмотря на все свои танки и самолеты. А здесь многие его ждут. Я жену и детей отправил в Сирию месяц назад.
«Ладога» стояла у самого дальнего и необорудованного причала, к которому не стремились швартоваться крупные грузовые суда, так как сюда не вели даже железнодорожные пути. Поэтому судно с русской командой портовые власти терпели, а могли бы заставить бросить якорь на внешнем рейде и стоять там до второго пришествия. Между тем, счет за стоянку в порту, хоть и по минимальному тарифу, неумолимо рос.
Буквально через день после приезда посольского работника рано утром по причалу быстро прошагал невысокий коренастый африканец в костюме цвета хаки. Он был в темных очках, хотя солнце еще не показывалось. Два пристанских матроса с метлами и старший по причалу почтительно с ним поздоровались. Все трое работали всегда в одной смене, они явно принадлежали к одному племени и между собой говорили на своем языке.
Пришелец по его просьбе был проведен вахтенным у трапа к капитану и находился у него около пятнадцати минут, потом быстрыми шагами спустился по сходням, пересек причал, провожаемый почтительно-боязливыми взглядами всей троицы, и исчез в лабиринте наставленных повсюду контейнеров и штабелей из ящиков.
После этого визита капитан какое-то время сидел неподвижно, прихлебывая крепкий чай с лимоном, и думал, думал до боли в висках. Время ожидания кончилось. Пришло время действовать.
Если бы кто-то мог подслушать разговор тех, кто сейчас был занят уборкой причала, и понимал их язык, он был бы озадачен услышанным. Старший на причале спросил обоих матросов:
— Вы видели кого-нибудь сейчас?
— Никто никого не видел, — ответили они почти одним голосом.
— Кто-нибудь приходил или уходил? — спросил он снова.
— Чтобы уйти, надо сначала прийти, — ответил самый старый из матросов, с седой короткой бородкой, и сказал: — Друг далеко, а враг сидит на твоем языке.
— Значит, — подвел итог спрашивающий, — никто не уходил, никто никого не видел. А кого не видишь, того и нет.
Говорили же они на языке своего племени, который здесь мало кто понимал.
Капитан допил чай. Теперь надо было что-то делать. Он ждал и боялся этого момента. Ему всегда хотелось верить, что вот откроется выход из той безнадежной ситуации, в которой оказался его корабль с командой. Как бывает в хороших снах, когда вдруг находишь незапертую спасительную дверь и покидаешь опасное подземелье. Но будет, возможно, риск и своей жизнью, и чужой. Он еще может отказаться и вернуть вечером деньги, выданные в качестве предоплаты за доставку груза. Но едва ли это сделает.
Дверь в каюту была открыта, и в нее вливался сыровато-теплый воздух позднего утра, вплывали жалобно-вопросительные крики чаек и низкие гудки портовых буксиров. Еще один день медленно набирал ход, словно поезд в никуда. Но другого такого дня у этого опостылевшего причала может и не быть. Обольстительная отчетливость задуманного им плана заставила капитана высунуть голову из каюты и оглядеться, словно кто-то мог подсматривать даже за его мыслями.
Неделю назад капитан созвал вечером на палубе между надстройкой и третьим трюмом, потому что с моря начинал дуть бриз, короткое собрание команды. Даже Каминский сидел поодаль с неискренним, как ему показалось, вниманием на лице. Капитан хотел знать окончательное мнение команды: согласны ли все ждать, пока их участь решится где-то на другом континенте, или при первой возможности отдавать швартовы и покидать порт. Все заключалось в одном: будут ли найдены деньги на покупку горючего в порту другой страны при следовании на северо-запад. Дойти до этого порта они смогут на запасе топлива, который у них есть. Думали недолго, за это и проголосовали.
— А откуда возьмутся деньги, вас это интересует? — с наигранной невинностью поинтересовался капитан.
Все неловко молчали, второй механик дурашливо, а может быть, и с отчаянием брякнул:
— Может, кому-нибудь повезет, и он банк ограбит.
Никто тогда не засмеялся.
И вот с сегодняшнего утра в каюте капитана была надежно спрятана пухлая пачка долларов, полученная от раннего посетителя. От удивил капитана тем, что заговорил на вполне понятном русском языке, пояснив при этом, что когда-то окончил институт в Воронеже. Деньги же эти составляли ровно половину той суммы, которую он предложил капитану за доставку партии ящиков в назначенный пункт, который будет ему указан. Сам же мистер Огемфе (так он себя назвал) и его лоцман будут находиться на «Ладоге» до самой выгрузки. Тогда капитан и получит остальные деньги, документы на груз (сельскохозяйственная техника в ящиках), а также денежный чек, который должен быть оплачен в одном из банков города. «Этот банк будет закрыт после праздника на несколько дней», сказал Огемфе с подкупающей откровенностью, и что потом он вообще будет ликвидирован. Чек этот и все документы — это только для властей. Капитан понял, что о наличной оплате надо молчать. Груз «Ладога» получит в море с борта другого судна, которое будет ее ожидать недалеко от берега. «Все как в авантюрном фильме», — невесело усмехнулся про себя капитан, а вслух лишь сказал, что от причала ему трудно будет отойти своими силами, теплоходу негде развернуться и нужен буксир, чтобы немного оттянуть нос судна в сторону моря. Огемфе пообещал, что буксир подойдет к «Ладоге», когда хорошо стемнеет.
Утром капитан объявил команде за завтраком обыденным, даже несколько ленивым голосом о том, чтобы все были на борту к двадцати двум часам. Ему хотелось верить своим людям, но он понимал, что человек бывает слаб, и тогда осторожность для принимающего решение окажется спасительной. Поэтому он ничего больше не сказал. Завтра в стране будет праздник — День независимости, и в этом крупном портовом городе торжества готовились такие, чтобы не уступить столичным, так как многие здешние жители были убеждены, что именно их город должен был стать столицей; но белые люди, правившие их страной почти сто лет, считали климат на приморской низменности нездоровым и выбрали для столицы колонии место на небольшой возвышенности.
Улицы украшались портретами президента, среди которых преобладали два варианта: в военной форме и с орденами фантастического вида, а другой — в цветистой широкой агбаде — рубахе с круглым воротом и в шапочке пирожком из леопардовой шкуры.
Уже днем город начнет самозабвенно плясать под грохот бесчисленных барабанов, пить все, что пьется, и продолжаться это будет до утра и даже значительно дольше.
Капитан подумал, что этот Огемфе, который оставил у него деньги и не потребовал даже расписки, выбрал время выхода в море не случайно.
Свирин, когда неделю назад писал жене, не зря изорвал два предыдущих письма. В них он пытался пересмотреть свои отношения с женой сумбурно, упрекая себя в душевной несостоятельности, и как результат — удручающая очевидность его жизненных неудач. Люди вступают в брак, здраво рассуждал он, чтобы быть вместе. Если же супружеская жизнь состоит из одних разлук, то в ее целесообразности стоит усомниться. В общем, такими покаянно-скорбными рассуждениями Свирин пытался обеспечить себе индульгенцию по поводу некоторых вольностей, которые он мог бы себе позволить в будущем. Дело в том, что за пару дней до написания письма Эльяс Халид (возможно не без тайного умысла) направил его с торговым поручением к владелице небольшого магазина на проспекте Президента (имелся в виду нынешний президент). Эльяс оптом отправлял ей кое-что из галантереи. Свирин был любезно принят лучезарно улыбающейся молодой хозяйкой светлошоколадного цвета и в ярчайшем платье туземного покроя, усажен за стол в большой комнате жилой части дома, накормлен, так как время было обеденное, супом «эгуси» с курятиной, креветками и весьма умеренно наперченным. Были и другие экзотические кушанья. На Свирина такой прием и сама хозяйка по имени Аина произвели должное впечатление. Когда он прощался и благодарил ее, он даже вспомнил и привел одно местное выражение, звучавшее как «ми мот фул». Оно должно было означать нехватку слов для благодарности, а дословно переводилось как «мой рот дурак».
Свирин был тогда приглашен в гости на приближающийся праздник, и он со смущающей его самого поспешностью это приглашение принял. Он уже сознавал, что падение его не за горами. Но Свирин тогда еще не знал, что судьба в лице коренастого господина Огемфе уже идет ему на помощь и сделает его будущее угрызения совести излишними.
Дня через два после того, как Свирин познакомился с соблазнительной Аиной, вечером он сидел в каюте у Сенченко, который обычно был у него подвахтенным, сменяя его на руле. Отмечали день рождения Сенченко, высокого, худого, отдаленно напоминающего актера Александра Абдулова, посаженного на строгую диету. Пили слегка разбавленный спирт, добавляя в него лимонный сок и лед кубиками, который Свирин принес в термосе от Эльяса. Медицинский же спирт Сенченко нашел в аптеке где-то в самом центре города.
— Темный здесь народ, — высказал свою мысль именинник. — Это я насчет спирта. Спрашивает один местный житель: «Бо, ветин фо?». Я ему отвечаю: «Дринк». Для чего еще? У него глаза на лоб полезли от удивления.
— Слушай, Сань, — с какой-то нервозной нерешительностью начал Свирин, — вот ты смирился бы с тем, что жена тебе изменяет? Извини за излишнюю прямоту вопроса. Но жизнь-то у нас какая? Как в старой моряцкой песне: «Нынче здесь, завтра там». Дома бываем крайне редко и вообще…
Свирина волновал вопрос его возможного падения после знакомства с Аиной.
— Я давно уже на это смотрю предельно просто, Игорек, — с готовностью, словно он давно ждал такого вопроса, отозвался на это Сенченко, закусывая апельсином. Кроме апельсинов, бананов и жареного арахиса на их столе ничего не было.
— Какое у меня право требовать от жены верности? — продолжал он с пьяной торжественностью в голосе. — Как и ты, я не бываю дома месяцами, материально семью практически не поддерживаю. Зачем я вообще такой нужен?
Они с мрачной солидарностью чокнулись и выпили.
Сквозь открытый иллюминатор, затянутый сеткой, вливался сыровато-теплый морской воздух, в каюте стояла привычная уже духота, и участники застолья были в одних трусах, несмотря на торжественный повод для встречи. На столе горела свечка.
— Но сами-то мы не изменяем! — поспешно ухватился Свирин за ускользающую мысль, как упавший в воду — за плавающее поблизости бревно.
— Верно! Мы не спим с черными красотками по двум причинам: нет денег и, пожалуй, большого желания, — с легкостью объяснил ситуацию Сенченко. — Мы сейчас все время живем в каком-то затянувшемся ожидании, а это самое противное состояние. Недостойное мужчины. Это женщина ждет, когда на нее обратят внимание, а мужчина должен не ждать, а действовать.
По коридору старческими шаркающими шажками кто-то пробирался, в дверь вопросительно заглянул Макс, понюхав воздух, неодобрительно сморщил нос, был одарен бананом и тут же выпровожен.
— Я слышал от кого-то, что от нашего капитана жена ушла, — вдруг многозначительно поведал Свирин. — Надоела, видимо, такая жизнь, как у нас.
— И правильно сделала, — помедлив, одобрил ее поступок Сенченко и поднес бутылку к свечке, дабы оценить количество содержимого. Еще что-то в ней обнадеживающе плескалось.
Свирин был на вахте у трапа, когда рассыльный из управления порта принес бумагу. Это был счет на воду, которую накануне залили в танк в качестве питьевой. Эту меру капитана Свирин тогда еще не оценил. Рассыльный остался сидеть на причальной тумбе, а Свирин поспешил в кают-компанию, где кончали завтракать. Там, видимо, шла жаркая полемика, но застал он ее конец. Старпом, плотный человек предпенсионного возраста и с трагическим взглядом, обращался с сотрапезникам, как кандидат на выборах. Свирин слушал его, пока капитан просматривал счет, а потом искал ручку, чтобы его подписать.
— Вот еще одно сравнение, которое вас убедит. Африканские страны избавились от колониализма и думали, что теперь сами все решат. И что получилось? Все богатства в этих странах расхватали те, кто был ближе к власти. Простой народ остался ни при чем. И жить стали хуже! Разве в России, которая избавилась от тоталитаризма, не то же самое? Межплеменные войны, которые сейчас идут полным ходом в Африке, колонизаторы их пресекали. Это вам нашу страну не напоминает? Правда, в Африке сепаратизма такого не было, как у нас, когда отделились все республики.
Капитан подписал счет и отдал его Свирину.
— Геннадий Сергеевич, а каков наш нынешний статус в России? — саркастически осведомился капитан. — Я согласен с вашими доводами, но вы помните, что изволил сказать нам господин из посольства?
— Павел Андреевич, — напыжился старпом, — я все равно чувствую себя сыном…
— Никакой вы уже не сын, — с жутковатой какой-то веселостью сказал капитан. — Вы — пасынок. И все мы пасынки великой в прошлом страны.
Из угла донесся бас стармеха:
— Вот именно — пасынки. Нам все кажется, что нас там ждут не дождутся…
Свирин понял, что топтаться с бумагой у дверей негоже, и уходя, слышал, как кто-то с преувеличенной растроганностью пропел:
Раскрой нам, Отчизна, Объятья свои…А чирковский бас добавил:
— Нужен ты этой «отчизне», как прошлогодний снег.
Каким образом капитан Якимов оказался на командном мостике судна под коморским флагом? «Интересный вопрос», как сейчас иногда говорят на радио и телевидении, когда не знают, что ответить.
Придется ненадолго вернуться в август девяносто первого года, когда Якимов ездил в Москву отмечать морской трудовой юбилей своего старого, уже давно не плавающего капитана. На службе был строг, но справедлив, помощников, даже юного возраста, называл всегда по имени-отчеству. И только теперь, в отставке, позволил себе называть своего бывшего подчиненного просто Пашей.
По телевизору шел нескончаемый танец балетных лебедей, а по улице двигалась толпа желающих пополнить число окружавших живой стеной Белый Дом. Якимов уже потолкался среди них вчера, посмотрел на флаги, реющие над ними. «Ну, российские, это само собой, — размышлял он, — тем, кто с петлюровско-бандеровскими сине-желтыми, нужна „самостийность“, а с черно-бело-синими хотят избавиться от „оккупантов“. Расклад ясен». Впрочем, относительно возможного обвинения в том, что он связывал упомянутый сине-желтый флаг с определенными историческими лицами, у Якимова был даже готов ответ, где говорилось бы, что упоминание Симона Петлюры и Степана Бандеры только возвеличивало этот флаг. Это даже льстило бы ему, поскольку оба эти деятеля в нынешней Украине, по слухам, уже признаны национальными героями.
У старого капитана все домашние были на даче, и он был заметно рад, что им никто не мешает и можно не принимать участия в не очень нужных разговорах. Кивнув на открытое окно, откуда вливался в комнату звук сотен шагов и еще отдельные голоса, он хрипловатым голосом заметил:
— То, что сейчас происходит, я это, в общем, принимаю. Много мы натерпелись от всех этих парткомов, политотделов и помполитов, которые были рядом все время. Но что будет потом? У кого в руках будет власть? Кому будет принадлежать все, что на нашей земле и в ее недрах? Кто будет владельцем заводов, газет, пароходов? Помнишь «Мистера Твистера», Паша?
Якимов ответил, косвенно поддерживая капитана:
— Ручаюсь, что будущих владельцев всех перечисленных вами объектов сейчас в уличных шествиях не увидишь. Они выжидательно поглядывают в окна из-за штор и соображают, что к чему.
— Боятся не ту карту вынуть из колоды, — согласился отставной капитан, пригладив седой ежик волос.
Теперь, много лет спустя, Якимов вспомнил и тот разговор, и ту атмосферу тревожного ожидания. Он неожиданно подумал, что среди осторожно выглядывающих тогда из-за штор, возможно, была замечена и лысоватая голова будущего «олигарха» и борца с властью, а в его взгляде — жуликоватое, настороженное проворство наперсточника из подземного перехода в сочетании с усталой скорбью древнего народа.
«Впрочем, — поправил себя Якимов, — если мне докажут, что этот доктор наук стоял в „живом кольце“ перед работающими на холостом ходу танками, я публично принесу свои извинения. Но надеюсь, что этого делать не придется».
А потом, вернувшись домой, когда уже сменилась власть, он мог видеть, как на глазах начинает разваливаться родное пароходство, словно ледяная глыба-айсберг, попавшая в теплое течение. Стали появляться какие-то судоходные компании и компанийки, знакомые корабли исчезали, проданные куда-то и неизвестно кем. Исчезали и кадры: теперь можно было наниматься на любое заграничное судно.
Якимов зашел к знакомому инспектору отдела кадров. Не раз он получал от него направление на судно, не раз он приглашал его в ресторан, чтобы «обмыть» новое назначение. Теперь работы у инспектора почти не было, так как направлять было некуда.
— Андреич, пока не поздно, иди капитаном на «Ладогу», — сказал он несколько смущенным тоном продающего кота в мешке. — Команда, правда, с бору по сосенке, но выбора нет. Ни для кого теперь нет выбора.
Якимов и так уже был в бессрочном отпуске, поэтому раздумывал он ровно полминуты.
Свирин недавно заходил к Эльясу, чтобы отдать взятые у него в долг тридцать финго. Тот сидел в кресле у приемника и слушал передаваемую по радио чью-то речь. Оказалось, выступал президент этой черной республики. Эльяс сделал ему знак молчать и указал на свободное кресло. Свирину не хотелось терять время на слушание речей чужих президентов, когда и своего-то слушать не очень хочется, если удается поймать по радио Москву. Но он стал слушать. Английский язык президента, если говорить о выговоре, был чуть получше, чем у водителя городского такси. Говорил он о том, что им не нужен партийный плюрализм, так как он может привести к трибализму, а племенная разобщенность им не нужна. Надо уважать культурную самобытность своей страны и не копировать западную демократию с ее так называемыми свободными выборами, частой сменяемостью главы государства и так далее. В африканском традиционном обществе был здоровый культ верховного вождя как отца народа, и нам надо это перенести в наши новые условия. «Но сейчас нам надо сплотиться в борьбе с внутренним врагом, — неслось из приемника, — платными агентами чуждой нам идеологии, которые угрожают лишить нас традиционных ценностей».
Свирину было скучно это слушать, но он сочувственно глядел на Эльяса и подумал, что его внимание ко всему этому можно понять.
«Мы отсюда когда-нибудь вырвемся, — думал он, — а ему здесь жить».
А вот, видимо, и было то, что заставляло сирийца вникать в эту речь, так как в ней только что прозвучало: «Африканизация всех сфер жизни — вот наша задача, и мы не позволим разным чужеземцам держать в руках всю торговлю и вообще владеть всей инфраструктурой в стране. Африка — африканцам!»
Капитан мог провести свое судно днем и ночью, пользуясь огнями обычных маяков и радиомаяками, эхолотом и небесными светилами. Но проложить истинный курс по житейскому морю было неизмеримо труднее. Он давно уже почувствовал, что жена встречает его после затянувшегося рейса с каким-то рассеянным невниманием, и это усиливает у него то, что он определил как отчуждение. Нужно было несколько дней, чтобы это отчуждение (подлинное или мнимое) преодолеть.
С дочерью было еще хуже, ибо став теперь вполне взрослой девицей, она жила уже совсем отдельной и непонятной ему жизнью. Он начинал думать, что дети родителям нужны и интересны всегда, а вот дети, когда перестают нуждаться в родителях, как птенцы, вставшие «на крыло», даже и не скрывают этого.
Якимов вспоминал, как ездил купаться к морю с десятилетней Маришей. Он входил с ней в воду по грудь, держа ее на плечах. Потом она вставала, становясь на плечи, придерживаясь за его не лысеющую еще тогда макушку и с диким криком ныряла с него, как с вышки, вглубь.
Перед рейсом на «Ладоге» он чувствовал, что в его семье что-то происходит непоправимое. Дочь нашла по знакомству работу в какой-то фирме, которая являлась «совместным предприятием», и было заметно, что жена его сейчас живет успехами и «красивой» жизнью дочери, они иногда разговаривали вполголоса, как две подружки, и замолкали, когда капитан проходил мимо. Он догадывался, что дочь сожительствует с каким-то «фирмачом», она где-то пропадала целыми днями, потом ее привозил на шикарной машине с тонированными стеклами детина, стриженный «под ноль», как арестант, с золотыми перстнями на толстых коротких пальцах, в элегантнейшем костюме, но небритый. Жена была с ним до неприличия любезна, а капитан не обнаружил в себе никакого желания общаться с гостем. Жене потом высказал свое нелестное мнение о наружности Марининого избранника и потом случайно подслушал, как жена ей это мнение передает.
— Отцу не нравится, что «твой» небритый ходит.
— Ничего он не понимает, отстал от жизни, — со снисходительной усмешкой ответила дочь. — Теперь это модно. К тому же это так эротично.
Капитан подавил желание произнести вполголоса одно непечатное слово (дочь все-таки!), вышел на балкон и зло плюнул в дождливую ноябрьскую тьму.
Капитан ходил по судну, и казалось, что он выискивает какие-нибудь недочеты, чтобы потом указать на них боцману. Но это было не так. Солнце затянули тучи, но было так же жарко и на дождь непохоже. Капитан нетерпеливо поглядывал на часы. Надо собирать комсостав и сказать о том, что сегодня произойдет. А вдруг не будет полного согласия? Все-таки риск, и немалый! Он чувствовал себя словно на экзамене, когда уже взял билет, но медлишь в него заглянуть, потому что просто боишься убийственной трудности вопросов.
В четыре часа он приказал включить дизель для работы электрогенератора, а потом по внутренней трансляции созвал у себя в каюте комсостав.
Разместились с трудом, дверь закрыли, лишь окна, затянутые противомоскитными сетками, были открыты.
— Говорить будем вполголоса, — предупредил капитан. — То, о чем я сейчас скажу, разглашению не подлежит.
Все уставились на него с тревожной выжидательностью, хотя многие смутно догадывались, о чем будет идти речь.
— Сегодня поздно вечером мы отходим от причала. Механикам готовить машину. У трапа и вдоль борта поставить на вахту надежных матросов. Никто не должен сходить на берег, а за теми, в ком сомневаетесь, придется следить.
— Неужели есть такие? — недоверчиво спросил кто-то из механиков.
— Мы здесь уже почти три месяца, — с досадой смахивая пот со лба, нетерпеливо пояснил капитан, — почти у всех есть связи на берегу. Какие это связи, мы не знаем. Помполита на борту нет, чтобы это выяснить. У нас будет один небольшой рейс, который здешним властям может очень не понравиться. Поэтому отходить будем как можно более незаметно.
Он сказал еще о том, что ждать торгов, если они действительно будут, когда судно пустят с молотка, тяжело и унизительно, о том, что неизвестно даже, когда им дадут деньги на проезд домой (если дадут вообще!), и что посольство умыло руки. Он также напомнил, что здесь в стране война и что до них, скорее всего, никому не будет дела.
— Вы видели, сколько в городе президентских портретов? Вы скажете: «Завтра официальный праздника». Это так. Но когда власть шатается, она всегда старается навязчиво напомнить о себе.
Капитан сдержанно сказал о том, что ночью их будет ждать многотоннажное судно в пяти — шести милях отсюда, и они примут на борт груз в ящиках и с ним пойдут на север, потом войдут в узкий залив. Там подойдут баржи, и они погрузят на них то, что доставят.
— По возможности на якорь становиться не будем. Нам, как вы догадываетесь, задерживаться там ни к чему.
Капитан чуть заметно усмехнулся.
— Нам следует знать, что будет в ящиках? — с попыткой казаться ироничным спросил второй механик.
— По накладным: сельхозтехника в разобранном виде, — сдержанно ответил капитан и внимательно посмотрел на механика своими желтоватыми глазами ночной птицы. — А больше нам знать и не нужно. Все свободны, кроме стармеха и старпома.
Со стармехом капитан поговорил по-свойски. Они плавали вместе давно.
— Михайлыч! Стой сам за реверсом в машине. Отваливать будет непросто. Нам обещали буксир, чтобы оттянуть нос влево. Но если не пришлют, ты знаешь, что будем делать.
— Левый двигатель работает назад, а правый — вперед. Левый — на одну ступень больше, — не задумываясь выложил стармех.
— Ты не только механик, а еще и судоводитель, — скупо похвалил его капитан.
Потом он дал наставление старпому.
— Подготовьте со вторым штурманом все для прокладки курса, но это будет потом, когда уже выйдем из залива (он постучал по столу) без груза. Тогда и определимся по маяку Лонсар. Помните? Три белых проблеска в секунду.
— Значит, в порт мы не вернемся? — опасливо догадался старпом и даже осмотрительно оглянулся, хотя они стояли у борта одни.
— Только под конвоем, — тихо и с намеком на шутку ответил капитан. — Вас это устроит? И еще: гакобортный огонь не будем включать, и топовый тоже, пока не выйдем из гавани. Пусть наш отход видят немногие. А бортовые отличительные включить, с берега они не видны. Какой у них сектор освещения? Правильно, десять румбов.
Когда стало темнеть, капитан передал по трансляции, чтобы огни на палубе и в надстройках не включали. В городе кое-где звучали тамтамы. Возможно, кому-то не терпелось их опробовать перед завтрашним бурным празднеством. В десять вечера капитан вызвал всю команду, кроме усиленной вахты на палубе, в бывший красный уголок, а ныне салон отдыха, где уже горело слабое освещение.
— Примерно через час выходим в море, — подчеркнуто будничным голосом сказал капитан. — У нас появилась возможность сделать короткий рейс с грузом. Каждому ясно, что это улучшит наше материальное положение. Всем переодеться в рабочую одежду, вахтенным занять свои места по расписанию.
Собравшиеся оживленно задвигались и загудели, только комсостав помалкивал и держался со скромным достоинством посвященных. Всем было ясно, что разрешения на выход из порта они брать не будут, да никто им его и не даст. Значит, это побег. Со всеми вытекающими…
Свирин и Сенченко оба были на вахте у трапа, а на вахту за рулем должен был заступать Каминский. После собрания он сразу же исчез. Тут же стоял еще второй помощник капитана, невысокий блондин примерно одних лет со Свириным и с сосредоточенным вниманием смотрел по оси уходящих на причал деревянных сходней. И вот по ним, возникший неизвестно откуда, быстро прошагал Огемфе, ощупывая каждого цепким взглядом. Он был встречен вторым, который тут же повел его к капитану.
Огемфе не обманул, и небольшой буксирный катер был уже на месте и теперь качался на поднятой им же самим волне, недалеко от носа «Ладоги». Стальной буксирный трос был на него подан в считанные минуты. С мостика голосом была передана команда втянуть на палубу сходни и убрать швартовы. И тут случилось нечто неожиданное. С какой-то обреченной поспешностью кто-то вдруг бросился к причалу, отталкивая всех, кто был на пути. Не сразу даже он был узнан — так быстро он бежал, а свет падал только с причала. Беглецом же был рулевой Каминский, и он успел еще ступить на убираемые сходни, был схвачен, вырвался, но Свирин успел его схватить за ремень сумки, которую тот держал на плече. Тут же подоспел боцман с прочным шкертиком в руке, будто знал уже, что придется кого-то вязать. Теперь на Каминского навалилось трое и, как говорилось у классика, сила одолела силу.
— Вздумаешь чего-нибудь крикнуть, враз задушу, — угрожающе обнадежил его боцман, когда Каминского уводили подальше от лишних глаз. А лишние глаза принадлежали все той же причальной команде, которая ранним утром видела первый приход Огемфе. Все трое видели, что происходило на борту у белых людей, но их темные лица выражали только каменное безучастие. «Пусть глаз видит, а рот молчит», — думали они.
Нос «Ладоги» оттянул буксир, ее машина работала малым ходом вперед, а Свирина вызвали в рубку стоять за штурвалом вместо запертого в такелажном отсеке Каминского. Они тихо и медленно выходили из ночной гавани и никто их не остановил и не окликнул. Когда огни порта оказались позади, капитан сказал старпому, который был здесь же в рубке:
— Вот теперь можно включать гакобортный огонь и топовый. Нарушили немного правила плавания, да простят нас морские власти и сам лондонский Ллойд!
Далее события пошли развиваться с завидной планомерностью. Огемфе стоял тут же на мостике рядом с капитаном, он же и указал на слабые еще огни крупного судна впереди. Оно, видимо, лежало в дрейфе, так как якорных огней не несло. Огемфе сказал несколько непонятных слов по своему радиотелефону, и слышно было, как ему ответили.
— Предлагают подойти справа, — сказал Огемфе. — Это у вас к правому борту, да?
Капитан объявил швартовку левым бортом и напомнил о мягких кранцах.
Названия судна Свирин прочесть не успел. Это был большой корабль, груженый до самой ватерлинии, но «Ладога» была с пустыми трюмами и теперь борта обоих судов были почти вровень.
— Вы готовы принять груз? — спросил через усилитель резкий голос по-английски со странным акцентом.
У команды были европейские лица. Разговоры через борт не велись, только с обеих сторон с молчаливой настороженностью поглядывали друг на друга.
— Груз будем брать на палубу, — не тратя лишних слов сказал капитан. — Начинайте выгрузку.
Свирин про себя одобрил решение капитана. Зачем возиться с трюмом, если груза не очень много, волны в заливе нет, а сгружать его потом будет легче.
Слегка качало. Грузовые стрелы таинственного судна выхватывали из своего трюма один объемистый ящик за другим и опускали на освещенную палубу «Ладоги», где их принимали боцман с матросами. Капитан зорко следил за погрузкой.
— Боцман, равномернее размещайте ящики. Крена чтобы у нас не было!
В конце погрузки через борт ловко перелез высокий черный детина, и Огемфе перемолвился с ним на понятном только им двоим языке.
— Это наш пайлот. Пилот, — поправился он.
— Понятно, лоцман, — подвел итог капитан. — Свирин, уступите ему место у штурвала. Сами далеко не отходите. Мало ли чего…
Черный лоцман переложил руль почти право на борт, потом выровнялся, и они пошли вверх по не очень широкому и длинному, если смотреть на карту, заливу. Небо было черное и звездное. Через час с лишним восход луны, — ни к кому не обращаясь, сказал капитан. — Хорошо это или плохо для нас, я пока не знаю…
Огемфе стоял на мостике и настороженно водил взглядом от одного темного берега к другому. Старпом уже включил радиолокатор и спрятал лицо в его тубусе. Он сказал капитану, что глубины вполне приемлемые. Осадка же «Ладоги» была совсем невелика. Капитан заглядывал в компас и записывал курс, которым вел судно лоцман. Назад они будут идти одни, и это пригодится. «Почему это Каминский вздумал бежать? — с навязчивым злым недоумением думал капитан. — Не хотел идти в рейс или собирался донести властям? Не скажет ведь правды, подлец. Если нас остановят, надо, чтобы его хорошо изолировали. А то еще начнет болтать».
Свирин подбирал слова, чтобы спросить лоцмана, долго ли им идти по заливу, и когда вопрос был задан, тот уклончиво ответил на него пословицей:
— Шот род но дэ го новэ (короткий путь никуда не ведет).
И улыбнулся, блеснув в темноте зубами, будто где-то вспыхнула далекая молния.
Что-то, несомненно, происходило на берегу залива, к которому приближалась «Ладога». Были звуки, похожие на глухие выстрелы, был слышен чей-то сдавленный крик, раздавалась быстрая дробь «говорящего» барабана. Наконец Огемфе объявил, что пришли на место. Капитан дал в машину команду «стоп», и почти сразу же от берега отошел буксирный катер с большой и широкой баржей.
— Сейчас мы все и выгрузим, — довольным тоном сказал Огемфе. — Капитан, примите то, что я вам должен.
И он вытащил из сумки на ремне толстую пачку денег, перехваченную резинкой. Капитан включил над штурманским столиком свет. Деньги, как известно, счет любят. В том числе и в Африке.
Обратно шли без лоцмана: и он, и Огемфе перешли на баржу с грузом. Капитан ловил себя на том, что с удовольствием ощущает приятную тяжесть плотной пачки, полученной от Огемфе. «Деньги дают свободу, — напомнил он себе. — Звучит банально, но это факт». Было еще письмо некоему Сиаке Момо, который сейчас находится в Дакаре и может помочь в получении фрахта до Европы. Очень любезно со стороны Огемфе. Но до Дакара еще идти и идти. А сейчас главное — это добраться до нейтральных вод…
И, будто отвечая на капитанские опасения, подал от штурвала голос Свирин, в котором звучала тревожная озабоченность:
— Пал Андреич! Катер пересекающимся курсом с левого борта.
«Ну вот, приехали», — с веселой злостью подумал капитан, но ход сбавлять не стал. Он чувствовал, что этот залив становится ловушкой.
Луна уже светила вовсю, и стояла она там, где был выход из залива. Катер приближался к левому борту и с него что-то грозно кричали. Были видны фигуры четырех солдат и офицера, который и посылал какие-то команды в адрес «Ладоги» через хрипящий динамик. Старпом поднялся на мостик и стоял рядом с капитаном. В руках у него был бинокль.
— Ну и английский у здешних вояк! — критически заметил капитан. — Геннадий Сергеевич, заставьте их выражаться членораздельнее.
Старпом через мегафон сказал с ученической четкостью:
— We do not understand you.
— Правильно. Будем пока их не понимать. И ход сбавлять не будем. Выход из залива уже близко. А в открытое море они не рискнут: там волна.
Катер догнал наконец «Ладогу» и потребовал остановиться. Капитан это сделал постепенно, приблизив себя к океану еще на треть мили.
Корпус судна с пустыми трюмами, давно некрашенный, нависал во всей своей неприглядности над патрульным катером, как пятиэтажный дом. С его борта бросили конец для швартовки, и было видно, как военное плавсредство неистово ерзает вдоль ржавого корпуса на волне, идущей от близкого океана.
Черный лейтенант на патрульном катере чувствовал себя в дурацком положении. В том, что задержанное судно под каким-то неизвестным флагом доставляло какой-то незаконный груз, он не сомневался. Иначе зачем ему вообще заходить ночью в залив? Трюмы его пустые, с поличным его не поймали, а вход его в залив просто проморгали. Большая змея не страшна, если в руке у тебя палка. Так говорят в его племени. Он говорил по радио с начальством, и ему приказано задержать судно до прихода сторожевика. Или до прибытия вертолета. Но завтра большой праздник, и он не был уверен, что команда единственного военного корабля в стране, оставленного в свое время англичанами за ненадобностью, не отпущена на целые сутки на берег. А вертолет явится только утром, светать же начнет часов через пять.
— Спустите трап! — рявкнул лейтенант, задрав голову туда, где неприятно белели физиономии нарушителей. Было что-то унизительное в том, что он, офицер с вооруженными солдатами, находится далеко внизу, а они наверху.
Трап был спущен, но какой! У них это называется шторм-трап. Деревянные планки, в концы которых продеты две веревки. В тяжелых и неуклюжих военных ботинках взбираться по нему почти на десятиметровую высоту было нереально. Сняв ботинки, пожалуй, можно. В своей деревне он и сейчас может взобраться почти на любую пальму. Но предстать на палубе босым перед этими белыми ублюдками — это просто неслыханно. Катер, между тем, болтало и ударяло о корпус судна, который гудел, как пустой котел. Солдаты, нахохлившись, сидели, привалясь спиной к рулевой рубке и зажав автоматические винтовки между колен. Лейтенант подумал, что сверху могут бросить взрывпакет или бак с бензином и вслед горящий факел. Если они имеют дело с мятежниками, они на все способны.
— Я хочу видеть ваши документы на груз! — крикнул он на судно.
Бумаги ему спустили на шнуре, привязав к нему пустую бутылку. Он спрятал их в боковой карман, полагая, что они пригодятся для отчета и подтверждения того, что судно действительно им задерживалось.
— Господин лейтенант, — обратился к нему рулевой, который стоял у двери рубки и вглядывался в темную даль северного берега. — Ночью глаз не видит, зато ухо слышит. Это они!
Лейтенанту не надо было объяснять, кто такие «они». Уже доносился приглушенный стук дизеля, и вот темная масса пересекла лунную дорожку. Ему был знаком этот мощный катер мятежников. На нем было безоткатное орудие и два крупнокалиберных пулемета. Они стреляют из них по вертолетам. Солдаты боязливо поежились, один сказал, что собаке слона не остановить, а другой привел пословицу насчет того, что вовремя замеченный бегемот лодку не потопит. Ибо у нее будет время уйти от опасности.
— Отходим! — скомандовал лейтенант. — Рулевой, к нашей базе!
Но прежде чем отойти, он попробовал перестраховать себя, торопливо окликнул судно и передал свой приказ:
— Следуйте прямо в порт. Вас встретит сторожевой корабль и будет вас сопровождать. Вы меня поняли?
— Поняли! — донеслось до него сверху.
И катер резко отошел, выжимая из двигателя все, что мог.
Капитан без сожаления расстался с грузовыми документами, они ему были не нужны. Большой катер, идущий без всяких огней, на мостике заметили давно и догадались, что это прощальный подарок Огемфе. Капитан спокойно выслушал приказание следовать в порт. В рассказ о сторожевике, который якобы их встретит и будет сопровождать, на мостике, не поверили.
Сенченко явился в рулевую рубку, чтобы сменить у штурвала Свирина. Теперь только им одним придется сменять друг друга на вахте. Ну и сволочь же этот Володька Каминский! Подложил им, гад, такую свинью.
Капитан между тем собирался передать вахту старпому и пойти поспать часа два, но вот тот доложил, что по его расчетам они приближаются к нейтральным водам. Где-то слева остался их порт, скрытый в предрассветной мгле. Луна серебрила гребни небольших волн. Свирин, спустившись с мостика, все медлил идти на покой. Он видел, что и другие не спали и ждали чего-то. А ждали, куда повернет «Ладога». И когда Сенченко за штурвалом стал выполнять команду «право руля» и ложиться на новый курс — на норд-норд-вест, кто-то даже негромко крикнул «ура!». А Свирин подумал, что теперь в жизни каждого нужно менять курс и идти по нему, не оглядываясь назад. Прощай, Эльяс, который не знает, что сулит ему завтрашний день, но ждет его с тревожной надеждой, прощай, обольстительная Аина, в доме которой он уже не сядет сегодня за праздничный стол. Ведь с каждым прощаньем незаметно оставляешь какую-то частицу себя самого. И часть сумбурной жизни Свирина отлетела в небытие с внезапной и непринужденной легкостью. Лишь в памяти остались непрочные следы, как на мокром песке морского берега, который облизывают равнодушные волны.
После того как капитан с обидной откровенностью назвал всех, не исключая, правда, и себя самого, «пасынками», старпом стал относиться к нему весьма сдержанно и разговаривал только на служебные темы. Капитан давно это заметил и думал о разрядке этой досадной напряженности. Но не сейчас.
— Геннадий Сергеевич, — начал он без предисловий. — С вахтами на мостике мы разберемся в течение дня. Вы меня будите через два часа, мы вместе определяемся по маяку, потом меня сменяет второй.
Но старпому хотелось знать, что их ждет теперь, когда они вступили в спор с законом и фактически стали беглецами. То, что у капитана имелись авантюрные наклонности, он знал давно. А раз он его действия одобрял и действовал заодно, это лишало его морального права критиковать.
— Теперь коротко о том, о чем вы хотели бы спросить, но почему-то медлите. Так вот, страна, территориальные воды которой мы уже час как покинули, находится в весьма натянутых отношениях с соседней страной из-за того, что она дает приют ее мятежникам. В ее порт мы сейчас направляемся. Это небольшой порт. Как его? Язык сломаешь: Нгбанкбо. Там мы в безопасности, и арест судна нам не грозит. Стои́м там ровно столько, чтобы взять запас топлива и кое-что из провианта. Кок с артельщиком нам скажут. Воды у нас достаточно, кстати, я за нее расплатился вчера и теперь наш долг перед покинутым портом стал немного меньше. На то, что в этом порту Нгбанкбо нас ждет груз, я не надеюсь. Дальше мы будем двигаться к Дакару Всем будет выдана зарплата. Пока за месяц. А этого Каминского я собираюсь списать. Видеть его здесь в рубке мне совсем не хочется. Даже в мотивы его дурацкого поступка вникать не хочу. Мне все равно, что за этим стоит: большие деньги или большая и трагическая любовь. Будем готовить ему замену. Подберите кандидатуру на должность рулевого. Все. Вахту я сдал, и время моего отдыха уже пошло.
Старпом выслушал его молча и уточняющих вопросов не задавал, чтобы его не задерживать. И капитан Якимов, простучав каблуками по трапу вниз, глянув на пенистый и чем-то обнадеживающий след за кормой, скрылся в своей каюте на ближайшие два часа.
На судне никто и нигде не видел Макса. В напряженной суматохе отхода, да еще после попытки побега Каминского, никто и не помнил, когда на палубе появлялась обезьяна. Кто-то, правда, говорил, что видел Макса за пару часов до отхода, когда он, возможно, почуял, что близится выход в море и бродил недалеко от сходней, переброшенных на причал. И что он якобы нерешительно приближался к ним, словно в нем боролись противоречивые чувства, но затем повернулся и скрылся в каком-то темном углу.

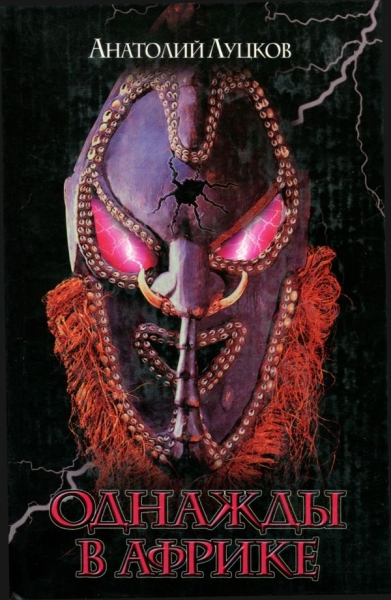

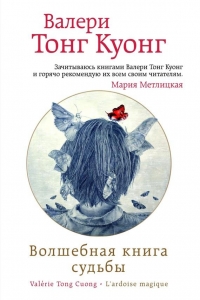






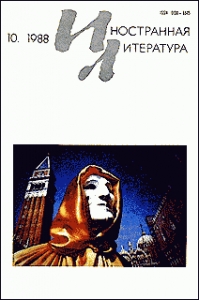

Комментарии к книге «Однажды в Африке…», Анатолий Демьянович Луцков
Всего 0 комментариев