Евгений Эрастов СЛАДКИЕ МГНОВЕНИЯ
1
Витя Розенфельд не оправдывал своего имени — не был победителем в жизни. Побеждал он только на олимпиадах по физике и на шахматных турнирах районного масштаба. Хотя, если говорить честно, был он мальчиком совсем не заурядным, даже талантливым. И не только в области точных наук заключались его способности. Обладал он хорошей памятью, склонностью к обобщениям и философствованию, а также к иностранным языкам. Увлекался мифологией и этнографией, восточной медициной и эзотерикой. Его боготворили учителя и не слишком жаловали одноклассники — наверное, завидовали ему.
Впрочем, чему было особенно завидовать? Тому, что контрольные по физике и математике он решал сразу за шесть вариантов и распространял в виде шпаргалок по классу? Или тому, что Витя имел свою комнату в коммуналке? Точнее, жил Витя в двух комнатах коммунальной квартиры вместе с бабушкой, страдающей артрозом тазобедренных суставов. Можно было завидовать и тому, что в третьей комнате коммуналки обитала абсолютно глухая Марья Петровна Дороватовская, которой можно было открыто говорить гадости. Однако ни Анна Марковна, ни тем более Витя не пользовались этим ненаказуемым и таким ценным для жителя коммуналки преимуществом.
Не был обойден Витя и женской любовью. Правда, сначала он и представить себе не мог, что в него была влюблена пионервожатая Валя Тужуркина. Об этом, как водится, знали только девочки, да и то не все, а только самые догадливые и проницательные.
Валина страсть поначалу носила тайный, односторонний характер. Пять лет разницы, которая была между ними, в этом возрасте особенно значима — ведь чувство девушки возникло, когда Вите было тринадцать.
Красивая, броская, высокая, хотя и несколько полноватая, Валя принадлежала к породе лидеров. Что могло привлечь ее в книжном мальчике Розенфельде? И что было между ними общего? Розенфельд был сыном ученых-физиков, погибших в автокатастрофе, а Тужуркина — дочерью малярши и плотника. Валентина тянулась к людям и не могла жить без них, а Витя всячески избегал ненужного ему общения и почти не имел друзей.
Но ведь известно, что любовь — штука сложная. Будучи человеком действия, правды и истины, совершенно не склонная к рефлексии, Валя не анализировала свое чувство к Розенфельду, а воспринимала его как данность.
Директора школы, косоглазого Михеича, впечатляли только молодые женщины, поэтому, когда Тужуркина провалилась на экзаменах в институт, он взял ее на работу, оформив сторожем. Валя почти ничего не делала, появлялась в школе редко и примерно раз в месяц проводила пионерский сбор. Ей не хотелось терять эту «работу», поэтому она и удовлетворяла в директорском кабинете страсть Михеича, который не слишком докучал ей своей назойливостью.
Сначала она была удивлена, когда Михеич закрыл дверь на задвижку и сразу принялся за дело. Но быстро смекнула, что нельзя иначе, поскольку Михеич платил ей семьдесят пять рублей в месяц. А то, что эти деньги она получала не из кармана косоглазого физика, а от советского государства и через общественного кассира, учительницу биологии Свительскую, не меняло сути дела.
Именно Михеичу был обязан Витя Розенфельд тем сладким мгновениям, которые были у него с Валей в пионерской комнате. Самой бы ей никогда не пришла в голову такая идея. Но на двери пионерской комнаты тоже была задвижка. С тех пор Витя особенно возбуждался на демонстрациях при виде красных знамен.
Два года продолжались их тайные встречи. Но всему приходит конец. Конец сладким мгновениям положил маленький, узкий тромбик, образовавшийся из вязкой крови Михеича и залетевший из его дряблого, увеличенного и загубленного никотином и алкоголем сердца в небольшую артерию головного мозга. Случилось это прямо на уроке, когда он демонстрировал ученикам закон Бернулли. Иван Михеевич пошатнулся и упал, разбив при этом ртутный термометр. Тонкий, сказочный звон напомнил Розенфельду звук упавшей мартовской сосульки. На минуту весь класс переселился в страну троллей и кобольдов, в сказочные сталактитовые пещеры. Маленькие серебряные шарики ртути покатились по длинному учительскому столу, упали на дощатый пол с выступающими на нем причудливыми пузырями от коричневой масляной краски.
Инсульт оказался небольшим, но директор перестал правильно произносить слова и, конечно же, не годился уже ни в учителя, ни тем более в администраторы. Валя была сердобольна по своей натуре и не лишена чувства благодарности. Она еще полгода ходила домой к своему благодетелю, удовлетворяя его страсть, которая ничуть не уменьшилась после удара. Но рулевым школы теперь была Свительская, которая на место сторожа оформила своего сына, живущего в другом городе, а пионервожатой сделала активистку-отличницу на общественных началах, обещав ей за это золотую медаль.
С тех пор Валя уже не надевала на толстую шею пионерский галстук.
А Витя тем временем поступил на радиофизический факультет и полностью погрузился в науку.
Он почти не вспоминал о сладких мгновениях с пионервожатой. Всё это казалось ему слишком незначительным по сравнению с тем, чем он теперь занимался. Перед ним открывалось широкое поле деятельности, и не было видно конца его жизненным планам.
2
Прошло двадцать лет. Витя защитил две диссертации, женился и развелся, похоронил бабушку. Жил он до сих пор в тех же двух комнатах коммунальной квартиры. В третьей комнате, где раньше обитала глухая Дороватовская, которая неожиданно повесилась на капроновом чулке, теперь бойкие отечественные предприниматели торговали очками, присобачив к дому нелепое крыльцо. Розенфельд только выиграл от демократических реформ — благодаря малому бизнесу он теперь один хозяйничал на загаженной кухне, где по прежнему стояли три массивных газовых плиты.
Витя даже не почувствовал, когда и как его любимая наука превратилась в казенное, бюрократическое дело с годовыми и ежеквартальными отчетами, которые необходимо сдавать к строго определенному сроку. Научился потихоньку имитировать работу, не высовываться, поскольку инициатива, как известно, наказуема. Он и сам не понял, как стал обычным бюрократом, которому ничего не нужно…
Но Розенфельд был человеком теоретическим. Не случайно два его прадедушки были сойферами — переписчиками свитков Торы. От местечковых прадедушек перешли к нему такие черты характера, как аккуратность и вера в идеал. Таким вот идеалом была для него чистая наука.
Виктор Ильич считал, что чистая наука будет востребована, как только все желудки наполнятся. Но чем больше наполнялись желудки, тем больше говорили о необходимости их наполнения.
Жить стало скучно. Наконец, Розенфельд полностью смирился с тем, что произошло. У него вдруг возник интерес к чтению фантастики, и появились свои любимые авторы.
Вот и в этот день он, закончив работу с бумагами, сидел над очередной книжкой, пережидая час пик.
Он настолько увлекся чтением, что в очередной раз вызвал неудовольствие охранника Ахмета.
— Опять вы читаете, Виктор Ильич, — пробубнил недовольный охранник, войдя в лабораторию. — Ключи сдавать надо. Читать-то и дома можно.
Розенфельд согласился с мнением Ахмета, заложил книжку календариком, чтобы при удачном случае почитать в трамвае, сдал ключи и вышел на улицу.
На улице было скверно. Гадкий холодный дождь шел уже весь день. Под ногами было грязное месиво из земли и опавших листьев.
В трамвае, несмотря на поздний час, было достаточно народу, так что сесть не удалось, а читать стоя Виктор Ильич не любил.
Выйдя на своей остановке, Розенфельд направился к продуктовой палатке.
Толстая женщина в дурацкой мохеровой кепке торговала фруктами. На весах располагалась большая табличка с надписью «ЧП Арутюнян О.А.» Что-то знакомое уловил Виктор Ильич в лице этой женщины.
Но он не узнал Валю. Он подумал о том, что раньше здесь продавали хлебные изделия, хотел что-то спросить у нее, но забыл, что именно и уже пошел дальше, когда Валя окликнула его.
Она-то сразу узнала своего маленького Розенфельда. Его нельзя было не узнать, хотя в свои тридцать семь Витя выглядел лет на десять старше, а иногда вообще казался каким-то моложавым старичком. Его лицо испещрили морщины, во рту сильно не доставало зубов, особенно на нижней челюсти, а слипшиеся, ломкие волосы, с которых при каждом Витином движении летела перхоть, почти все уже были седые. Валя не знала, что у Вити была такая генетическая программа — его папа, Илья Абрамович, в сорок лет был совсем седой и к пятидесяти обязательно бы умер от ишемической болезни сердца, если б не погиб в Крыму на серпантинной дороге, врезавшись в экскурсионный автобус.
Оказалось, что Валя живет рядом. Полтора года назад она вышла замуж за восьмидесятилетнего Ивана Михеича — чтобы унаследовать его квартиру. Михеич умер совсем недавно, еще сороковину не отметили, но его дочь оспорила завещание и уже подкупила суд, так что Валя психологически готова была к выселению из хрущевских апартаментов Михеича и возвращению на круги своя, к своей маме, в двенадцатиметровую комнату коммуналки.
— У мамы совсем плохие дела, — закончила свой рассказ Валентина. — Ничегошеньки не соображает. Болезнь такая, еврей описал какой-то, в честь его названа.
— Болезнь Альцгеймера, — ответил Витя, бабушка которого тоже страдала этой болезнью. — Только не еврей, а немец.
— Один хрен, — ответила Валя. — Ты заходи ко мне вечером. — Я в этом доме живу, квартира восемь. — И она показала Вите на грязную пятиэтажку.
3
Оглядывая убогие стены Валиного жилища, где она обитала с умирающим от рака прямой кишки Михеичем, Витя вспоминал красное знамя, белую голову Ленина и думал о том, было ли всё это. Всё прошлое казалось ему странным, ненужным сном, совокупностью случайностей. Ему было жалко Ивана Михеича, добросовестного учителя и хорошего директора, который всю жизнь прожил в этой однокомнатной конуре с видом на мусорные контейнеры.
И эта толстая, коротко стриженая примитивная баба вовсе не была Валей Тужуркиной. Ее жирные пальцы и нелепо накрашенный рот не предполагали никаких интимных нежностей. И как это он мог тогда с ней, в пионерской комнате? Сейчас бы этого у него явно не получилось.
Она говорила о том, как ей тяжело было жить с Михеичем. Ведь прямую кишку ему вырезали, и кал накапливался в специальном калоприемнике, который нужно было постоянно чистить. Поэтому от Михеича всегда неприятно пахло. Но она любила Михеича, конечно же, любила, а как можно не любить — ведь он так много сделал для нее! И на работу в свое время устроил, и деньги давал, а теперь вот квартира. Только эта сучка, дочь его, заколебала судебными повестками.
— Ты такой маленький, Витя, — сказала она, закуривая. — Впрочем, ты и тогда был маленьким. Видишь, всё вышло так, как ты хотел. Мечта твоя сбылась, ты стал ученым.… А я вот днем на рынке торгую, а по вечерам здесь, на остановке.
Розенфельд хотел вмешаться, поспорить, сказать, что всё вовсе не так, что не стал он никаким ученым. Мог бы стать, но не стал… Что-то у него не получилось с этим делом, хотя и защитил он две диссертации и больше трехсот статей напечатал во всяких научных журнальчиках.
— А ведь я тогда правда во все это верила, — сказала Валя. — В партию, комсомол, стройотряды. Брат двоюродный на БАМ поехал, так ведь как я ему завидовала! Все были вместе, сообща.… А теперь каждый сам за себя.
— Всегда каждый был только за себя, Валя, — возразил Виктор. — Ты только не помнишь этого. Память человеческая так устроена, что всегда дает искажения. Это как в оптике…
— Ты свою науку оставь, я неученая. — Валя стряхнула пепел в грязную полулитровую банку, прилипшую к кухонному столу. — Я как Чапаев, Василий Иваныч. Не закончила даже свою шарагу, швейное училище. Выгнали меня, дуру. Но если мне тогда было хорошо, неужели я это забуду? И тебя я любила, Витя. И вообще наших ребят. А теперь что у меня осталось? Рынок? Так неужели мы всё хорошее разрушили только затем, чтобы рынок построить? С ментами, шалавами, рекетерами, щипачами всех мастей? Зачем нам блядство это? Ответь мне, Витя! Ты ведь у нас всегда был самый умный!
Розенфельд хотел сказать что-то про либеральные ценности, но почувствовал, что язык не слушается его, не может произнести эту фальшь, особенно здесь, в этой хрущевке, перед женщиной, которая когда-то так любила его, а теперь, пожалуй, не любит никого на свете и не полюбит уже никогда.
— Посмотри, Витя. Вот я русская, а ты еврей. Но мы родом из нашего детства, из нашей школы. И не нужны мы здесь никому…Нас учили любить свою родину. А разве мы нужны ей? Кому мы здесь нужны?! Вот я на своем рынке никому не нужна. А ты в своем институте нужен?
— Не нужен, Валя.… Но наука нужна. Чистая наука. Когда уйдут грязные люди, все эти торгаши и политики, останется чистая наука…
— Эх, ты, маленький.… Как был маленьким, так и остался. Люди всегда будут грязными. Не будет других людей. Только грязные и больше никакие. А наука.…Да пошла она на хрен, ваша наука, если она не может сделать человека лучше и счастливее. А лучше она его никогда не сделает.
Валя нагнулась и достала из кухонного шкафчика початую бутылку водки.
— Может, выпьем чуток? За встречу?
— Нельзя мне, Валя. У меня дисбактериоз кишечника. Врачи запретили.
— Да брось! Чего ты боишься, Розенфельд? Жизнь-то у нас считай почти кончилась.… А что мы видели? Да ни хрена не видели. И не увидим!
Виктор продолжал отнекиваться. Он уже пожалел, что согласился придти домой к Вале. И так на душе было тяжело, а тут еще эта пионервожатая, когда-то такая милая и привлекательная, открывшая ему мир наслаждений, а теперь превратившаяся в гнусную алкоголичку.
— Ну, как хочешь, Виктор Батькович. Я и одна выпить смогу, раз компания моя тебе не по нраву.
Валя налила остаток водки в большую, потрескавшеюся чайную кружку с изображением здания Адмиралтейства и надписью «Ленинград» и одним махом опрокинула ее.
— Фу, гадость какая, — сказала она, закусывая половинкой огурца.
И Вите вдруг стало противно. Сначала ему был противен только хруст, который издавала Валя, потом он увидел коронки на ее передних зубах, и его стало тошнить.
А Тужуркина всё подливала и подливала себе водки, и ее толстое лицо становилось всё краснее и краснее.
— Давай, Розенфельд, хотя бы Михеича помянем, — сказала она. — Ведь он тебя физике учил. А теперь ты сам — физик. Кем бы ты был без Михеича, а? Отвечай!
Водка давала о себе знать. В глазах у Вали засверкали пьяные огоньки, язык стал заплетаться.
— Отвечай, ученый. В говне моченый. Ты уважаешь Михеича или нет?
— Конечно, уважаю, — ответил Розенфельд и стал думать о том, как бы поскорее убежать отсюда.
— Ну, тогда выпей. Он же хороший был. И не виноват, что у него на старых баб не стоял. Ему подавай молоденьких.
Валя по-дурацки засмеялась.
— Ты помнишь, как мы с тобой тогда, в пионерской комнате, а?
— Ну, как не помнить…
— Так, может, вспомянем старое? Или ты разлюбил меня за эти годы?
— Нет, Валя, — ответил Розенфельд. — Был такой ученый, Гераклит. Жил он в городе Эфесе.
— Опять ты про своих ученых, скучный какой…
— Послушай меня. Так вот Гераклит Эфесский сказал: «Нельзя войти в одну и ту же реку дважды».
— Ясно. Стало быть, отказываешься от дамы. Что ж, хорошо. Иди, парень. Свободен!
— Ну, я пойду, — с надеждой в голосе пробормотал Витя.
— Да что ты, маленький! Я же пошутила, — улыбнулась Валя. — Да и вообще, отвыкла я от мужиков.…Умер вот Михеич, скучаю я. Он один и любил меня. А другие-то что… Скоты. Одно слово — скоты. Но если не выпьешь за Михеича, убью. Топором тебе башку раскрою, семя жидовское…
Розенфельд увидел, что глаза у Тужуркиной наливаются кровью и почувствовал дрожь во всем теле.
— Вы…вы… выпью, выпью, Валя, — сказал он, заикаясь. Он всегда начинал заикаться при волнении.
— Давай, Виктор Гюго, — Валентина налила ему водку в алюминиевую кружку. — Что, брезгуешь? Пей тогда из моей, с Ленинградом! У нас с Михеичем больше посуды нет. Вдвоем живем.
Виктор с радостью увидал, что водка кончилась, и быстро, как Валя, опрокинул свою кружку.
Спирт быстро ударил в голову, и он почувствовал себя как на карусели.
— Что, в головку ударило? А ты огурчиком закуси. У меня еще помидоры остались, с рынка. Наш армяшка всем торгует…
Розенфельд оказался не прав. Как только они выпили, на столе возникла еще одна, совершенно целая бутылка.
И тут в душе Вити произошел какой-то перелом. Ему вдруг захотелось напиться, забыть обо всем, погрузиться в сладкий сон.
Он помнил, как Валя подливала и подливала водку в его кружку, как он потом еле дошел до туалета, как его вырвало чем-то желтым, наверное, желчью.
Помнил, как долго надевал пальто, как она не хотела его отпускать, говорила что-то вроде «не дойдешь один».
Как только он вышел из подъезда, холодный воздух ударил ему в голову, и он почти полностью отрезвел.
Да, Валя. Та самая Валя Тужуркина… Боже мой, какая глупая русская фамилия — Ту — жур-ки-на! «Ту» — это значит «два». «Жур» — день.… Нет, не то, не то. Эта встреча — всего лишь случайность. Ничего между нами никогда не было. Это всё ненастоящее. Подростковый секс, красные знамена.… И когда это было? В каком таком столетии?
Розенфельд посмотрел на часы. Было около двенадцати часов ночи. До его дома отсюда совсем близко — не более десяти минут ходьбы.… Вот как близко живет он от Вали… Точнее, от Ивана Михеича.…Нет, от Вали, Михеич же умер.…Нет, Валю скоро выкинут с квартиры Михеича — у нее нет денег на федеральных судей России. Завещание.… А было ли завещание? Завещание-то было, а прописки-то нет. Прописка у матери, в коммуналке. Дура какая-то, погналась за завещанием. Главное — прописка.…Впрочем, мне-то что? Я-то здесь — кто?!
Розенфельд подошел к ночному ларьку, купил большую пластиковую бутылку минеральной воды «Ветлужская», открутил сильно присобаченную голубую пробку. Минералка фонтаном рванула на грязный асфальт. Виктор Ильич стал с жадностью пить из нее.
Оторвавшись от «Ветлужской», он посмотрел по сторонам, и ему вдруг стало страшно.
Два небритых бомжа с большими розовыми сумками копались в мусорном контейнере. Потом к ним подошел третий бомж, только без щетины на щеках, и Розенфельд с отвращением убедился, что это была женщина.
Нет, он уже не был пьяным. Наоборот. Он был трезвым и прозрачным как стеклышко. Он, Виктор Ильич Розенфельд, наверное, был самым трезвым человеком в этой России, а точнее, как теперь принято называть эту страну, в этом экономическом пространстве.
«Разве для того, — подумал он, — Моше вывел нас из Египта, чтобы мы попали сюда, в эти скифские степи, к этим диким, первобытным людям?»
И тут-то Виктор Ильич опять вспомнил о том, что хотел бы, наверное, быть сойфером, ходить в синагогу, исполнять все эти странные обряды.
Ведь это же было, было когда-то!
4
По кривой улице белорусского местечка семенили, переваливаясь с ноги на ногу, рябые встревоженные куры. Сизый петух с помятым, слежавшимся гребнем окидывал выпуклым оловянным глазом свой перемазанный грязью и пометом гарем. Он заходил в широкую лужу, в которой валялась старая жестяная вывеска с надписью «Шмуль Розенфельд. Облицовка и починка». Два горбоносых старика в долгополых сюртуках шли по направлению к синагоге. А над головой было огромное, пепельное небо.
Всё это уже было с ним когда-то, в какие-то стародавние времена. С ним, а может быть, и не с ним вовсе. Может быть, это не его, личная, а родовая память неожиданно заговорила?
Годы жизни в местечке были сродни рабству египетскому с постоянными помыканиями, верблюжьими плевками, гортанными криками и нескончаемым подсчетом медных грошей. Вот они, местечковая клопиная суетливость, затхлость и безнадежное, кишечное, слизистое, аморфное существование. Велеречивое копошение, шуршание свитка Торы, слабогрудый кашель близоруких горбатых сойферов, древние буквы иврита, похожие на ноты — алеф, бет, гимель, далет… Он уже не помнил всю эту премудрость, замшелый талмудизм, сухие, ломающиеся опресноки. Вав, заин, хев, тет.
Шорох сена в курятнике, квохчущие куры на насесте. Йод, каф, ламед. Мычание бычка и теплый молочный запах. Мем, нун, самех.
Грязные, кудрявые детеныши в обмотках, тяжелый утюг на раскаленных камнях.
Кучи иголок и ниток. Громадные, великанские ножницы с тупыми концами. Аин, пе, цади. Отец его бабушки был знаменитым женским портным в Бобруйске. Куф, реш, шин, тав.
Эта кривая улица, куры, жестяная вывеска. Как тогда это называлось — черта оседлости?
И почему Тора в свое время так оттолкнула его? Почему ему казалось бредом, что нельзя есть животных, у которых раздвоено копыто, и невозможно подходить к женщине, когда у нее месячные? Этот книжный абсурд был абсурден не в большей степени, чем абсурд окружающего мира с торгашами всех мастей и национальностей, с ярмаркой честолюбия и тщеславия, с бездарным рекламным месивом, со всеми тошнотворными деталями современной русской жизни.
А что было потом? «Пионерская зорька» по утрам, линейка дежурных, нормы ГТО, школьная шпана, отбирающая деньги на завтраки прямо у кабинета директора, сладкий трепет в груди при виде круглых Валиных коленок, скрипящая задвижка на двери пионерской комнаты, отодвигающая его на мгновения от гнусного и несправедливого мира, мечта о Высокой, Чистой Науке, ничем-ничем не запятнанной и практически не зависимой от человеческого липкого мельтешения.
И опять Розенфельду захотелось убежать в свое прошлое, зарыться в пионерские знамена, в толстое, целлюлитное Валино тело, ощутить — хоть ненадолго, на считанные секунды — свое мнимое бессмертие.
Где вы, где вы, сладкие мгновения жизни?

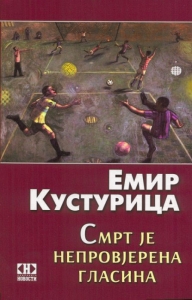

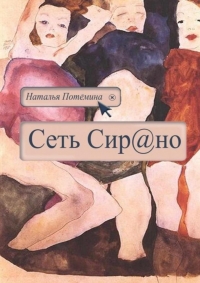

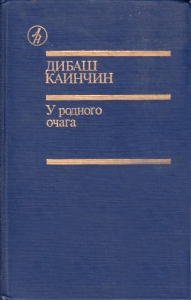

Комментарии к книге «Сладкие мгновения», Евгений Ростиславович Эрастов
Всего 0 комментариев