Джеймс Келман Перевод показаний
Я благодарен за предложения и замечания Джеффу Маллигану, Джил Кольридж, Мэри Коннорс, Джеффу Торрингтону, Тому Леонарду и Питеру Уорду; и также Аласдеру Грею, чье мнение, со всей честностью высказанное лет двадцать назад, не позволило мне забросить работу над идеей, которая никуда меня не вела.
Предисловие
Настоящий текст представляет собой «перевод показаний», данных тремя, четырьмя или более людьми, которые проживают на оккупированной территории либо в стране, где задействована та или иная форма военного правления. Сюда входят рассказы о происшествиях либо событиях, а также отчеты, фрагменты писем, докладные записки, посвященные анализу умонастроений, и конспекты бесед, причем некоторые носят исповедальный характер. При том, что все эти документы получены «из первых рук», они были переписаны по-английски и/или переведены на этот язык, причем не всегда людьми, хорошо им владеющими. В очень немногих случаях переводы перерабатывались кем-то из старших должностных лиц. Переработка производилась до переноса документов в компьютерные системы. Если какая-то редакторская правка и имела место, ее результаты свидетельствуют скорее о неумелости, чем о наличии общего замысла, продуманного либо какого-то иного. На это указывает сохранение показаний номер 5 в той форме, какую они приобрели после компьютерной обработки. Показания приводятся именно в том порядке, в каком они были получены. Некоторые были изначально снабжены заголовками, другим таковые пришлось присвоить. Хронология существенна, но не в решающей мере; метод упорядочивания стал результатом обработки показаний компьютерными системами; кроме того, принимались во внимание и иные факторы. Настоящим подтверждается, что эти показания даны тремя, четырьмя или большим числом неизвестных лиц, принадлежащих к народу, определить который с точностью так и не удалось.
1. «тела»
Там по всему дому были разбросанные тела. Мне нужно было попасть в другие комнаты, а идти трудно, надо через них переступать, и темно было так, что очертаний почти не видно, может были и знакомые, останавливаться не мог, должен был найти этого одного человека.
знакомого, он был больше близок к врагам, чем друг, я должен был его спасти. Хотя он, возможно, не так хотел спасаться, как чтобы я оставил его умирать. Тут я ему помочь не мог. Я делал, что было решено, и только. Меня уполномочили.
Я учитывал время, сколько времени? Когда это? Увидел его, и сразу такая мысль. Нет, другом он мне никогда не был. Это они говорят, что был? Врут, и он тоже, он был врун, этот человек. Я знал, что он врун, и мне пришло в голову, что это было шагом вперед. Мы все идем вперед. И я мог. Это утешает. Я снова начал сознавать, что вокруг тела, но это как во сне, как сон, такое мое состояние. Одно прямо под ногами, женщина. Она была мертва уже много лет, но ее лицо и вид были знакомы. Может я ее знал, ее семью, я думал, что так, и мне в голову сестра ее пришла, как она, она должна была стать моей любовницей. Как это может быть? Племянница, внучка. Она тоже жила у моста. Это там, далеко, у гавани, к северо-востоку отсюда, там еще река течет и около живут семьи. Там лагерь был, когда перевозили, и в этом месте сделали жилище, дурное место, некоторые так говорили. Я помнил, вода капает, нечистоты, сырость до костей и холод, конечно, холод.
Кому же в голову о детях? Кто говорит, что детям всегда неудобно, некоторые так говорили.
Сны, не кошмары. Кошмары у меня бывали. Я не увиливал. Нет. Ее сестра была женщина сильная. Есть такая сила. Об этом сказать могу, это все раньше было. Женщины, они здешние. Я их знал. Она была выше ростом. Встречалась со мной утром, холодно было, сыро, промозгло. Мы приходили из наших секций. Я говорил о телах, как пришли безопасности, с оружием, винтовки в руках, сбили нас в стадо. Мы знали, что они выбивали детям мозги, так говорили. Да, так и было, мы так говорили. И они задавали нам разные вопросы, еще бы не задавали. И видели в нас наше презрение, мы не могли его затаить, не могли, не могли затаить, и они меня спрашивали, нашел я того человека?
Какого человека?
Ты знаешь.
Я знаю. Нет, говорю, не знаю. Может это его тело, его голова, может и так, его теперь не узнать, может это один из тех. Кто это, о ком ты говоришь. Их тут группа, видите группу, и я указал на главную группу.
Я не бахвалился. Сказал, что не знаю, почему поселились в этом здании, так получилось, и мне пришлось пройти его, а ступить-то некуда из-за тел, повсеместно. Теперь я понимаю, да, что многих там узнавал, друзей, да, близких, близких. Я так и говорю, знакомых. Я и говорю, они такими и были. Может и искаженное истолкование, могло быть, я в то время усталый был, злой. Они согнали нас в стадо. Я же не животное. Некоторые может быть, а я нет. Мы принимаем решения, каждый среди нас. Я им и про женщину тоже сказал, но она умерла уже много лет. Один подошел ко мне и говорит, я тоже читал эти истории. Тогда были дурные времена, людей разлучали с сестрами, с дочерьми, мародеры.
Да, мародеры, это слово я знаю.
Я нет, меня бы не взяли. Это был сон. Да, тела я видел. Да, знал многих из них. Конечно не всех, я этого и не говорил. Я не мог сказать всех, потому что это была не реальность, все это, так я сказать не мог, хотя будь это реальность, я бы держался за правду, будь так, я бы не увиливал, не от нее, от правды, зачем это нам, увиливать от нее.
Если бы реальность, я бы так и сказал. Это уже позади. Против меня не выдвигали никаких обвинений.
Я пришел в это здание, для многих дом, и внутри были тела. Пошел в другой, и там был человек, сын того человека. Нахальный такой, ума не хватало понять, хоть по безопасностям, какое это стало серьезное дело, и я ему сказал про отца, что с ним случилось. Его убили. Он это знал.
Туман окутывал нас, мы были как стадо, дети, промозгло. Да, мы эти истории слышали. Я их знал, может кто и не знал, так кто это. Здесь были женщины, сильные, конечно, сильнее мужчин, на свой, как говорится, манер. Надо еще помнить насчет нашей секции и этого лагеря, как в то время чувствовалось, что те, кто живет там, другую зиму не переживут. Я бы не смог, каждый из нас так думал.
Так мы и продолжали, я тоже. Я не был фантазер, как многие среди нас. Я видел прежних знакомых, коллег, которые тоже были мертвы, там, между этих тел, другие живы, встречаю их здесь на улицах, если это можно назвать улицами. Я и сказал бы друзей, будь это правда. Друзьями они не были.
Мне нужно было вернуть его к жизни. Он предпочитал, чтобы я оставил его помирать.
Если бы моя воля, я не мог спасти такого человека, но была не моя, такое было решение. Что я мог сделать, ничего. И сожаления мои тоже ничего, я ни о чем не жалею, ни о чем. Это был сон, не кошмар. Времена были дурные, так говорят, теперь не то, что тогда. Да не важно, что они там говорят, все не так, те из нас, которые были тогда, мы знаем, что это не так. А спасти его я не мог. Те времена кончились.
2. «старуха померла»
Женщина, там рано нашли на дороге, да, я ее знаю. Когда она жила, я к ней ходил. Я разговаривал, она лежала на подушках, слушала не слушала. Мой разговор был из рассказов, они все были по одной колодке, но в них нашлось место для мечты, ее мечты моей мечты, такое переплетение, паутина историй, пауки. Она глядела в потолок, как будто внимание отвлеклось, ну и чтобы определить себе, что может сосредоточиться. Хотела, чтобы я оставался у ней как можно дольше. Но взгляд ее мог метаться к окну, закрыто оно или открыто. Вдруг эти, предыдущие гости, забыли запереть за собой. Она верила, у некоторых есть особый способ, мучить ее. Гости могут дверь не закрыть, окно, чтобы бесам с того света являться. Вот это такой способ. Не верила ни одному. Я ей говорил, Посмотрите, ваше окно закрыто. Она притворялась, что не слышит. Нет, посмотрите! и, перейдя, тянул, толкал, окно не шевелится. Видите, никто не надувает, это окно только взрывами сдвинешь, большими взрывами.
Она в это не верила. Я видел в ней беспокойство. Мне тоже нельзя доверять. В ее глазах я так видел, она надо мной насмехалась, над моим духом, прячется который во мне, он был бесом, бесовским духом, демоном. Или, если мне можно так сказать, она отворачивалась к стене, оставляя молчание, оставалась такой, и я гадал, может заснула.
От ранних времен людей не бывало, они к ней не приходили. Ее дом был не здесь. Может она говорила, что здесь, то не здесь. Это ее ум заблуждался. Соседи. Что соседи. Что такое соседи. Если гости к ней, гости были, и она только кричала на них, воры, убийцы! И своей палкой, да, замахивалась. Сидит кто-нибудь рядом с ней и вдруг она его палкой.
К ней религиозник один ходил. Я сам не религиозник.
Ее не убили, не прикончили. Сама померла.
Может она думает про себя, что ее убили. Кто у нее теперь спросит. Но во всем виноваты бесы, злые, вытащили ее из-за запертой двери наружу, где периметр, волокли ее и глумились, твои груди иссохли и сморщились, старая кожа да кости, ты ничто, и над палкой ее глумились, у, какое страшное оружие, страшнее, страшнее! над ее беспокойством, над всем, над одеждой, какая одежда.
Она была в возрасте, когда, если смерть, то естественно, а померла на дороге. Естественно неестественно, неестественно естественно. Она померла, это было на дороге. Она была старуха, которую я знал, был знаком. Я говорил с ней, она разрешала мое присутствие. Хотя не находила меня приятным. Да, это я принимаю и принимал, это, что она меня не любила. Я могу сказать это, как могут другие. Уже сказали. Я знаю, что сказали. Почему им не сказать, если так и было, как это, так и было, определенно. Может ей кто и нравился, может, я так не думаю.
Мне все равно. Она померла.
Я водил с ней знакомство. Со времени, когда был в этой зоне. Меня сюда привела работа, и я жил здесь.
Я во многих зонах жил, с некоторыми знакомился, как и они со мной, многие люди, так было и со старухой. Не было у нее ничего, денег, безделушек, драгоценностей, ничего не было, что бы я видел. Все же могли быть, она могла их скрывать, такие предметы. Люди так делают, женщины. Я не искал. Такие могли существовать. Не могу ответить. Если была целая туча, клад, кто может сказать. Родственники. Племянница была.
Нет, не болела, это я знаю. Я с ней вместе не заходил, кроме того последнего случая. Не недавно, это другой случай. У людей есть воспоминания, но, по существу, они могут быть ложными, нет, не предубеждение, не обязательно.
Религиозник приходил определенно. Про религиозника я уже говорил. Хотя, может это я так думал, ошибочно, сам я не религиозный, никакой такой веры не имею. Но этот мужчина к ней заходил, определенно, может из благотворительностей, из организаций. Никогда дверь не закрывал. А может не он, другой. Я пришел, смотрю. Все открыто. Люди могли зайти, там же дети.
Старые люди, религиозники, дети. Кто может сказать.
Дверь была открыта. Я пришел, смотрю, открыта, ну и вошел. Нет, это не тогда, она была здесь, спала. Может я был неподозрительный, конечно, следовало бы. Как это так получилось и дверь открыта, конечно, вошел. Возможно, она могла спать. У нее были собственные обыкновения, привычки. Это могла быть и не его вина, что она теперь мертвая. Померла на дороге. Я религиозника не подозреваю. А про племянницу не знаю. Старуха не стала бы винить никого, ни себя, всех бы винила, ни о ком не заботилась, только о себе.
Видел я, как говорится, религиозника, я с ним не знаком, не обращался. Он с ней бывал. Не могу сказать, что по просьбе. Чьей? ее, нет, не думаю. И все-таки, не могу сказать, что возможно, что невозможно, все что хотите. Она дремала, когда я вошел, но скоро проснулась, села,
конечно, в кровати, вцепилась в ручку трости, которая у нее рядом была. Палка, трость – трость, она ее рядом держала, с собой. Она меня ждала, так что не напугалась. Она всегда меня ждала. Если я не делал планов, все равно ждала. Память у нее была нехорошая. Если я входил, она меня ждала, когда войду.
Нет, не переписывался. Если меня не было в этой зоне, мы не связывались. Если я уезжал, то возвращался в этот участок и заходил. Я не заходил долгий период времени, а она ожидала, что я приду повидаться. Когда не заходил. Тогда она ждала. Я так и говорю.
Здоровье тоже было нехорошее, на прогулки она не ходила. Нет, не за город, какой за город. Даже за стены своего дома, где там периметр, она не знала. Вся жизнь только в этой квартире.
Я брал еду. Может я у нее крал, так она думала, ее еду. Но это я ей еду брал, для нее. Если заходил, брал и ел с ней, мы двое, брал еду и с ней мы ее делили.
Старики, старухи, мы берем им еду, если они ее берут, некоторые не берут, ничего не берут, ничего не едят. Чем живут, свежим воздухом. Так его нет, свежего воздуха. Да, я это говорил, нет никакого свежего воздуха. Она не отвечала, только смотрела на меня и глаза ее глумились.
Также другое ее имущество, все воровали, все, кто в ней приходил. Воры, убийцы, все до единого, все гости. Мы берем ее имущество. Так она говорила. Все приходят в мой дом и воруют. Все-таки, если я так делал, как она обвиняла, чего же она терпела мои приходы. Возможно, нуждалась во мне, может так и было. Да, потому что она нуждалась в гостях, иначе как бы она жила, у нее и еды бы не было. Есть у тебя книга, говорила она, дай мне книгу, или есть у тебя история, расскажи мне, а какие нынче песни поют? И если я рассказывал, она лежала на подушках. Песен я ей не пел.
Насчет племянницы, никто не знает, что с ней случилось, может исчезла. Исчезла. Не могу сказать, может мертвая. Она мертвая. Может никто этого не говорит, так я говорю, такие мои показания.
Уж в этом-то я разбираюсь.
Нет, не прогноз. Все равно. Заявлено, значит, я и заявил. Записано, да, так, племянница мертвая.
Когда старуха увидела меня рядом с кроватью, то скоро заговорила, браня все, что видела на свете. Меня тоже, обличительные речи, против всех. Соседи могут подтвердить. Меня, кого угодно. Да, и религиозника тоже. Он злой! Он бес. Убийца!
Может еще кого-нибудь, кого. Да всех. Да, племянницу, всех, я же говорил: Так же о том, как она презирает людей из ее секции, это я тоже говорил, она их высмеивала. Называла их испорченными, да, детей, испорченные дети, дети-дебилы, так она про них говорила. Про молодежь, она говорила, что там все тоже бесы. Я слышал, как она так говорила. Бесы. Духи из стены, молодежь того участка. Не могу знать. Духи двух сортов, настоящие и ненастоящие, но все из стены. Нет, не знаю.
И пожилые люди.
Может религиозник чего и говорил, что он мог сказать, откуда я знаю, я сам не религиозный, ну да, в Бога, да, в него верю, верховный создатель. Если без Бога, так что это будет за мир, если он вообще сможет существовать, нет, не думаю.
А где мальчик.
Да, так она говорила. Мальчик. Это она не про сына, а про меня. Я знаю, сына нет. Ни дочери, если вы насчет дочери, ни сына, мне про них ничего не известно. Это она про меня. Я был мальчиком. Про которого она.
Уважала ли она меня, возможно. Не знаю. Сам я симпатии не испытывал, не от нее. Я видел, она меня не любит, так я думал. Уважала ли, нет, если об этом, нет, я так не думаю.
Я разговаривал с ней, рассказывал всякие истории. Она устраивалась, слушала, слушала не слушала, мысли ее шли сами по себе, я их только подталкивал. Я рассказывал про мою жизнь, про ее, брат оттуда истории, придуманные. У нас все истории такие.
Я про ее жизнь не знал.
Она обо мне думала. Я думаю, да. Что думала? Думала обо мне. Старуха. Я не уверен.
Потом тирады насчет бесов с лестницы, как они визжат и воют, и все против нее, убийцы и воры, колотят по двери, по стенам ее комнаты и еще по крыше, пытаются влезть в ее комнату, как, да как угодно, убить ее прямо в постели, где она лежит, выволочь ее, вывернуть руки-ноги, вырвать все волосы из головы, мучители. Вот так она выкрикивала. Часто. Я сидел там, и вдруг она как проснется, как начнет драться палкой. Это бывало нередко.
Лестница там была. Не знаю, ходила она по ней вверх или вниз. Там наверху такой запах стоит, всегда.
Поразительно, да, визжит и вопит, всех обличает, непременно убьют прямо в постели. Самый большой ее страх был, самый, больше всех, убьют, пока лежит, бессильная, а тут бесы врываются, наскакивают, духи и демоны и тащат ее наружу. Я ее успокаивал, рукой по лбу. Трогать ее было нельзя, но я трогал, да, ее лоб, только на миг. Стариков, эту старуху, я мог ее успокоить. Она позволяла, на миг, потом замахивалась, ударить меня. Нет, я ваш друг. Но она уже глумилась надо мной глазами, вглядывалась в меня, да, я был бесом, духом, бесовским духом.
Пока не признавала меня, это я, пришел повидаться. Глядела так наблюдательно, а если говорила, то про то, как у нее все украли. Может я знаю, куда утащили ее добро. Какое добро. Добро, которое у нее своровали. У вас никакого добра не воровали, не тревожьтесь. Но она все равно тревожилась, вскрикивала, добро украли! Ты и украл! Да, так она кричала. Убийца. Где мои сокровища.
Какие сокровища, нет никаких сокровищ.
Насчет сокровищ сказать не могу. Драгоценности, безделушки. То, что держат женщины. Очень их ценят. Оставляют родным, дочерям, внучкам.
Про дочь ничего не знал. Так и говорю. Не знал никакой дочери. А про племянницу могу сказать, что племянницу она не любила, подозревала ее. Так она мне говорила. Племянница такая пронырливая. Так говорила. Обманывала ее. Так мне говорила старуха. Вот я и говорю, да, обманывала, может быть.
Я с племянницей не знаком. Может она там прибиралась, может ухаживала, делала всякие такие вещи, готовила ей и прочее, нянчилась, в общем. Если она обо мне чего говорила, так она меня не знала, может что и говорила, не знаю. Не могу сказать. Нет, не могу. Когда в мой последний приход старуха спала, то после проснулась, открыла глаза, увидела, что я здесь, при ней, и признала, и глядела так, точно хотела меня напугать. Да, сурово. Я знал про ее подозрения, кем может быть любой человек, кем я могу быть, я всего только еще один вор и убийца. Это было не ною. Я искал сокровища и безделушки, потому и приходил в ее дом. Хотя, какой дом, комнатка, да, в той секции, лестничная клетка, та самая. Ничего у нее не было. Что тут поделаешь. Она старуха была. Старики тоже бывают храбрые. Я-то стариком быть не смогу. Такое у меня мнение. Так я про себя думаю.
3. «место назначения»
Чем бы оно ни закончилось, я бы все равно об этом узнал, и немало, тоже и о будущем. Поэтому мы с ним разошлись в разные стороны. Теперь он уже должен был знать, какое между нами расстояние. Перехитрить меня ему бы ума не хватило, это вряд ли, только не ему.
Место, в котором мы были внутри, это было такое городское здание, населенное, возможно, в нем также находились конторы. Нас было много, но я и тот, мы искали путь, чтобы войти. Другие не помогали. Работа, я так считал, интересная, и физически тоже, но главное, что волновало, тайна, это здание раньше никто не знал, такое было рискованное предприятие, а беспокоился ли я тогда, нет, насчет того, другого, нет. Его выбор был сделан другими, им тоже, но другими, и энтузиазм его был выжить. А мой нет.
У меня были клеветники. А у кого нет. Безосновательные. Не все клеветники, кто говорит против тебя.
Да это не важно.
Где бы нам начать. Еще пятьдесят метров долой, тут кирпичная стена, тоже разваливалась, такую мы перелезли бы, вскарабкались бы наверх, будет ли крошиться, пройдем ли мы здесь. Вопросы, вопросы, такие и другие. Некоторые спали, некоторые разговаривали, некоторые только лежали. Все собирались с силами. Сначала тот был со мной, держался рядом, как будто команда, мы двое. Я его игнорировал. В длину здание, в горизонтальную, метров двадцать.
Ну вот, снаружи сразу не пробьешься, и мы двое стояли. Молча, я с ним разговаривать не мог, с собой тоже, это он со мной. Должен был стоять от меня слева, а стоял справа, я передвинулся, и теперь он мне что-то сказал, но я не ответил, просто пошел, да, время вперед. Надо было решить сам подход, но это решить я мог. Впереди была стена, которая пониже. Неповрежденная. Три метра высотой, вверху закругленная, забирайся наверх, быстро, быстро. А стена подальше, эта труднее, но и через нее тоже, а внутри лежал лес, деревянные балки, бетон, железные трубы, тесаные камни. Грудой лежали, навалом. Не пролезешь, ищешь проход, надо его найти, а я не мог, выше моих сил, вне меня, так оно было, я его не нашел, не смог. А он теперь был на виду, лез на вторую стену, метрах в тридцати от меня, карабкался. Как я мог толкнуть, это же неразумно.
Но груда не давала прохода. Не давала она пройти.
Может проход здесь-то и был, может я ошибался.
Пути, да, существовали. Я мог их только искать, отваливая первые балки, глядя, что под ними. Я мог бы пробиться и пробился бы, это могу сказать.
Он тоже был здесь. Это меня раздражало. Только это. Я тогда равновесия набирался. И он. Откуда он взялся, всего за несколько секунд, я не знал, был на стене пониже. Был ли он умелый человек, да, определенно был. Хотя физической силы в его теле не было. Почему. Ну, не было, какую он вел жизнь, это я сказать не могу, высокий, но худой, худощавый. Может сила и была, только в неизвестной мне форме, возможно, да, испытание на прочность, как у танцора, который женщин поднимает. Если так, если такая сила, то она была скрыта, неразличима, особенно когда он начал, бросился на высокую стену, я-то забрался первым, но выбрал плохое место, худшее, сам выбрал, когда смотрел с земли вверх, там эта груда, как же я мог пройти. Я не мог. Видел, что это невозможно. Вот и подтверждение. Как бы я мог пробиться, я не мог, а насчет неудачи, неудачи я не потерпел. Я услышал смех. Обращенный ко мне. И увидел того с куском бетона, орудовал им, как молотом, что-то там внутри вышибал, попытка проломиться, взять вход штурмом, и пробивался, да пробивался, сила в нем была. Да, и во мне тоже, поискал железную трубу, нуда, нашел одну, вывернул, да, правильно, высвободил, ухватился, почувствовал силу в пальцах, держащих. Силы-то у меня были, руки крепкие, я мог это сделать, ну и стал, да. Она вырвалась, так что эти другие пусть их смеются, да, могут смеяться, смеяться все могут. Что тут поделаешь. Нет, я так не думаю
Я мог бы попасть внутрь очень быстро, пролез бы через проход, где он мог быть. Но и осторожно тоже. Могло и зажать. Сил у меня хватало, не то что у того, грудь сильная, мощная, плечи тоже, если бы мы подрались, то у него никаких физических преимуществ, только вот рост. Но рост, что такое рост, вытянулся, а куда, чего достиг. А я сильный, с ним не сравнить, что он мог сделать, ничего, ничего он сделать не мог, со мной, я не насмехаюсь, просто говорю, так и было.
Я к этому времени подобрался к одному потолку, ходил там быстро, смотрел, где бы это, и, походив, увидел место, где может удастся пройти. Я уже говорил, я не такой высокий, как тот, другой, но над стеной пониже тоже было навалено дерево, бетон, железные прутья, еще трубы, вот за них я мог ухватиться левой рукой, удерживая оружие, они бы меня выдержали. Я тоже и не тяжелый, но ветром меня бы не сбросило, не то, что этого другого, это навряд ли, не то что его.
А горечи я не чувствую. Другие пусть делают, что хотят, пусть чувствуют такую, да, всю жизнь, к себе, в себе, а во мне горечи нет, для себя. Нету ее, это могу сказать, я и говорю.
Я искал его, слушал, может стучит, у него был железный прут. Что случилось с куском бетона, да, мог рассыпаться на фрагменты, и когда я искал, мой прут мог пробить скорлупу, которая его голова, мог пройти недалеко от нее.
Я его не выбирал и себя не выбирал. Пришли безопасности. Может я должен сказать больше, но что, это пока ничего не известно. Я должен был подобраться к нему, ну и подбирался, а он отступал. Чего там неизвестно. Все известно или предсказуемо, причем в любое время. У этого человека не было силы, против меня, а я еще двигался быстро, так что мог это сделать, быстро
4. «одна из многих»
Да, у нее были рыжие волосы. Она снаружи пришла. При ней был большой узел, сверток такой. Откуда вдруг возникает то и другое? Она спешила в нашу секцию. Я слышал, закрылась дверь. Она ее тихо закрыла, не хотела шума. С ней был ребенок, малыш, несла на спине, личико крохотное.
Лицо младенца, любого младенца
У этой женщины не было спутника. Я никого с ней не заметил, может и сопровождал. Этого спутника видно не было. Никто не видел его, ее. Я не видел, ни другие. Как я могу это сказать, если бы мог.
У меня ведь тоже ребенок.
Дул ветер. На ней была широкая шляпа, и такая одежда, все тело видать. Она не свою одежду носила, так похоже, вроде старалась скрыться, просторная одежда, слишком.
Но может ей было все равно, это возможно.
Она на меня и не поглядела ни разу. Я улыбался время от времени, нет, почему она на меня так не глядит? Да, боялась, но не меня. Почему? Без причины. Меня к ней тянуло, я хотел ее, если бы можно, да, сексуально, как это, мужчина и женщина, ничего страшного, ужасного. Она увидела меня, да, посматривал на нее, это делал. Часто. Да я и не отрицаю. Но только я ничего бы не сделал, нежелательного. Так что я ее разглядывал. Она посмотрела на меня, я тоже смотрел, наблюдая. Для нее это также было кое-что, может она так и думала, что она думала, ну, как я за ней наблюдаю, изучаю ее, вот что думала, насчет мужчины и женщины, может и испугалась.
Это место, в котором мы были, там ужасные вещи, события, все оставили свой знак. Да, такие знаки существования. Их существования. Некоторые материальные.
Их воздействие на нас, на меня, как и на всех, на человеческих существ, оно лишает нас силы, решимости, ослабляет дух, да, дух наш ослаб, я бы так это сказал.
Какая еще история.
У нее был малыш, с ней.
Я говорил, у меня тоже ребенок, так что мысли о моем ребенке, о другой жизни, одна в другую.
Я говорю о духе. Что-то может пробиваться наружу. Это не спасает, я с этими мыслями свыкся, мне и сейчас с ними удобно, сейчас тоже, также, да.
Что тут перечислять, сущность человеческой жизни, только одна наша сила, она вот, что это такое, это важнее решимости. Я не мог уклониться от таких описаний моего состояния, подбираясь к тому, чем оно было, хотя чем же оно могло быть, мной, в процессе становления. А то, что произошло, так и не стало бы ясным, пока я не выйду за пределы моего я, подальше отсюда, но ведь это когда еще будет, и как нам жить во всем этом до того, если оно вообще наступит.
Никто не объясняет нам этого. Никто никогда ничего.
А что произошло с рыжей, я сказать не могу, но она была одна из многих, если была, думаю, все-таки была. При ней был большой узел, сверток, как будто что-то внутри. У меня тоже ребенок, я ведь уже говорил.
5. «¿МИДокумент»
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘?їМИДокУметёNВ0ДокУмент может и сделалибы еслибымоглиговорить? ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ¿МИДокументдлякакогоотделаё ecлиecтьNB0Дoкy ментможети сделалибы если бымоглиговорить
комендатскогочасанебылоникакогокомеидантскогочасавтуночьКомендантскогочасавтуночь небыло'@ – …о… 1?R\какойпериметр еслибы намговорить как это, может и сделали бы, если бы могли говорить????Документ» « 'zz%z%%Дa и рано для меня еще было, он прибывал в этот город, у него были обязанности!! ¿ F • „ДОгсдлякакогоотдеё@если. ком' " "?ШОДокументтильднетильдждлякакогоотдесли языкакойязыеслимыговорахабля @МИД @если. ком то что @если. ком Компью Обь††ь† ОбъектКака если нерелигиозlщщъъ……ь…ььыыщьъ ццххфц? ˘ ˘ ? \¿ жД о к у м e н т для p отде МИД | hot: какойязык G 3G… ˘ 5 ˘ ˘I˘ ГГ ГГ фФФФ фф ff ËD соттеШагукомментарий ктовиделотца????арт ffO bj e с t P о о 1 в городе рано, у негобылиобязанностипо ff33
ff33? ˘ ˘ ? ззггзз ффзз ^ $У]¿^$У]¿ЗЗУУ" ?I˘ ˘ ˘ ˘I˘ ˘ ˘ ˘ I˘ ˘ ˘ ˘ 65 ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ‹=›Asymblsonlyдля
какогоотде@МИД или@если. ком или другойё или все тильд нетильд? ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Summary Information какойязык пожалус вшт ыкибайоштмалыштымалштбайо-нетбайбайбэбиотец естьотец amp;f ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ кто видел артиста или юриста сказал отца тиль днeтильдsubject: what language тема: whatlanguagehot: whatlanguageтильднетильд@ifdotcom для p отде МИД hot: какой
язык
amp; amp;онипрогулива amp; amp;ё? ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘?¿F0 Document I˘ ˘ ˘ NВ0О Document for FO (дляM ИД)какойот˘ IIЪьЦ…О??п…ё +…?…0ktWK» amp; › F N Z u} а В Щ[ёЙМbxЦ {…м +…В: Templates: Normal!Комендатскогочасавтуночьнебыло…@ Щто ж @ Ду» ЪГБ @ I,Vc ж @14NB0Wdocument.?II?ЬьЦ…O?h…ë+…??…0 и т WK «amp;2
› F N Zu}a @ifdotcomмоглибыговорить@jfdotcomтильднетильд В через мост где я шелЭто также было для меня рано, прибыл в город, где были обязанности˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ 789:‹=›?˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ A Templates: Normal!в штыки! Никакого комендантскогочаса, никакогоКомендантского часа в ту ночь не было…@ Щто ж @ ДV» ЪГБ @:ЖЖ' ж @ ‹ h А¿ е г amp; ËD (, н, н 6 6 6 примкнулиштыкикогдамкнулишт ымалыштыбэби артиста-юриста если отец та называемый и представлял на площади прогуливалисожилые, люди amp; amp; amp; молодыелюдидлякакогоотдеI˘ ˘ ˘ symbolsonlyforwhichdept@МИД NBODocument 66 щ7 m60 щ7 ш7 щ7 %7 р7 щ7 zC Z…7…7…7…7…7…7…7…7…7]8…8…8…8…8…8…8 amp; D X \D Р Ц8 %6…7…7…7…7…7 Ц8…7 6 6…7…7…7…7…7…7 6…7 6…7]8 67666666…7]8…7о…7 Всегда был комендантский час в ту ночь, в любую ночь, люди переходили мост на площадь и видели, наблюдали, что касается неткомендатскогочасавту ночькомендантский час был всегда в любую ночьЯ был на мосту и они прошли мимо меня, тогда не признали. Я слышал их шепоты. Они торопились. Тихий разговор между, я не знаю о чем. Да конечно я слушал старался. Мне внимания не уделили. Скоро были в тридцати метрах впереди. Времени восемь тридцать, девять. Темно, да, умеренно, приблизились, не уделили внимания, я видел этих двоих при случаях, но говорили не так. Может при этих обстоятельствах, каких обстоятельствах. Это был мой ранний период в городе, я учился, некоторые были сверху меня и также были мои обязанности, их же надо выполнять, и коллеги тоже там были
Может кто эту секцию и знает, ну что она старше, здания, все из камня. Я не обращал внимания. Через мост я ходил много раз, при случаях. Да, там было красиво, так можно сказать. Керамика, старое искусство, очень необычная конструкция, все такое, фриз, в такой форме, люди приходили, туристы и другие чужаки, фотографии, видео камеры. Гор нет.
Местные пользуются мостом. С раннего вечера он становится променадом и для молодых людей, там много молодых. Старшие тоже, семьи, малыши, да, пожилые, дедушки и бабушки, все там бывают, и помадки, мороженое, они их покупают, и маленькие дети. Их удовольствие видно, показывают всем, безопасности, весь персонал, все кто там есть, все могут видеть, они не скрывают. Может безопасностям это и не нравится, да, как оно показывается.
Армейские могут там быть в этом месте. Я их не видел. Это был мост, истинно общее место, место встречи. За ним небольшая площадь, люди шли туда. Для многих там был конец променада, и они уходили по домам. В ту ночь было не то и эти двое теперь торопились, и когда они достигли другой стороны, я услышал шум сзади, это была погоня, несомненно, топот ног, и эти двое двигались очень быстро, и я, конечно, насторожился, да, насторожился и увидел одного из тех двух и узнал его, кто он, признал, заграничный гость нашей страны, известный человек, политический, и другого, да, его тоже узнал, по прическе, в газетах на него печатали карикатуры, юрист-правовед, уважаемый человек здесь, в стране, политический. Я увидел впереди, как они повернули, через площадь, на левый край и потом по проходу. Недалеко, слышал, как остановились их шаги, стук в дверь, быстро, быстро, и скрылись внутри. Теперь топот ног совсем рядом и этот один проскочил мимо и через площадь за первый же угол, только на правой стороне, а сзади еще другие, много, безопасности, я бы сказал, семеро, с винтовками в руках, побежали за тем по мосту и через площадь и скрылись из виду. И тишина. Память мне говорит – возня, они схватили его, и он с ними дрался, сильно дрался. Не знаю. Пока я не услышал пистолетный выстрел, пять подряд, но может и ошибаюсь, могу, конечно. После они вернулись, несколько, не быстро, но и не медленно. Конечно, я не интересовался, так себя вел, я знал, что это такое, левая рука в кармане, правая сбоку помахивает. Я не был стеснен, выдерживал ритм, но не так, чтобы маршировать, а просто, левой, левой, и голове образ из прежнего опыта, когда в те, ранние дни мальчик вроде меня, я его помню, может его отобрали, не помню, не думаю, я его не знал. Но маршировать он не умел,
я и говорю, он не умел, да, я был обучен, обучен этому, большой опыт.
они не обратили наменянеобратили Summary Information какойязык subject малыштыкмалштик ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ¿F0DocumentI˘ ˘ ˘?NВ0Document˘ Iкак заводной, махалал руками, мальчик вроде меня, он не умел маршировать, может его отобрали, он не имел предыдущего опыта
был как заводной, махал руками, мальчик вроде меня, может его отобрали, он не умел маршировать, не был обучен этому, не такой опыт как у меня.
однако слабеющий, завод, кончается, необходимо подкрутить, мы все были новички, может его отобрали, не помню, не думаю. Маршировать он не умел. Левая рука шла с левой ногой, правая рука с правой ногой, и плечи, да, как двигались плечи, он старался, чтобы руки ноги одновременно, потому что это было для него неестественно, как и для всех, так двигать плечами, таким образом, ему помогало. Ему это казалось неестественным и он не мог
Теперь сзади меня шли безопасности, разговаривали вместе, веселились, такая тихая ночь, голоса было слышно, верно, шептались, один сказал другому, Он застрелился, нас послали к самоубийце. Другие посматривали на меня и смеялись. Там были еще люди, которые вышли погулять и теперь возвращались домой, как в комендантский час, только раньше него. Так что это было со мной, безопасности смотрели на меня. Такое случается, мы к этому готовимся, я был готов, но на них не смотрел, они помахивали оружием, я это знал.
Какого рода оружием, по-моему, старого образца, и с примкнутыми штыками, байонетами, да, определенно. Не смотри на молодых, им только повод дай, а двое были такими, молодыми, 16, 17 лет, 18 лет, тоже с оружием, при их-то нервных системах, и потом, они не умеют слушать, не умеют слушать, если ты с ними говоришь, они тебя не слышат, не могут слышать, им хочется шлепнуть тебя, говори, ну, быстро, я тебя не слышу, да, они и повода не ищут, просто убивают сразу, и я бы также сказал, что они всегда готовы. 16, 17 лет, 18 лет, никого не знают, известных людей из заграничных стран, не знают, они убивали любых, быстро убивали, не знают они заграничных стран, америца, кино давай, пожалуйста. Они прошли, да, но после остановились, позволяя другим выйти на площадь и перейти, но не мне, они на меня смотрели.
Я мог бы этому удивиться. Немного. Не испугаться. Зачем. За себя я особого страха не чувствовал, боялся не небоялся, боялся не боялся. Что от меня мог потребовать этот вопрос. Они остановились, ну и меня остановили, теперь я мог только остановиться, пройти не мог. Смотрели на меня, вежливо, кивали так, вежливо, будто ждали меня, не говорили, я дал бы им объяснения, почему я здесь, куда иду, может я что-то сделал, тогда что. Я возвращаюсь домой.
Ты запоздал.
Подружка.
Подружка, да, а если у нас комендантский час, насчет комендантского часа знаешь?
Да.
Когда он, комендантский час, скоро начнется?
Да.
Я не сказал сэр. Что, разве сэр часть моего мира, нет, не думаю. И если бы я так сказал, я стал бы для них дураком и может они развлеклись бы со мной, возможно, толкнули бы меня к парапету моста, иди, погуляй, почему же и нет, с людьми такое случалось, нам известны многие случаи, разве я могу летать, разве я птица, нет, я человек, я не могу спрыгнуть с парапета моста.
Когда начинается комендантский час?
Десять минут.
Возможно, для тебя и не десять, возможно, для тебя вообще никогда, нет для тебя комендантского часа. Возможно, тебя здесь уже не будет. Разве для мертвецов бывает комендантский час? Если не будешь нам говорить, давай, говори нам. Я же сказал, возвращаюсь домой, и я указал на левый край площади, по проходу, на тамошние дома, куда раньше скрылись двое. Безопасности посмотрели за моей рукой, отмечая дома, на которые я показал. И я увидел, смотрят один на другого, которые постарше, сначала на один дом, потом друг на друга, я как раз на тот дом и показал, тот, куда вошл и двое. Только на него. Я сказал, возвращаюсь домой, и ткнул рукой прямо в ту сторону.
Один из безопасностей, который постарше, не отмахнулся от меня, а поднял большой палец, нетерпеливо. Иди, быстро.
Да, я пошел быстро, торопливо перешел площадь, зная, что должен сделать. Я теперь не слышал, как они уходят обратно по мосту, а обернуться, чтобы посмотреть, не мог, они придут, да, это было мне ясно, это я знал, тот, из безопасностей, поймет, что я сделал, поговорит с другим, и они поймут, и удивятся, и все узнают, и пойдут, думая, что я сделал, удивляясь этому, да, и пойдут за мной. Что я наделал, моя рука показала им дом, вот что. Это судьба, она так устроила. А может я это намеренно. Нет, невозможно. Как это может быть, этого быть не может. Это может указывать на другую правду, не ту, что мы говорим, у событий есть своя правда, может и есть, кто скажет, может мы, изнутри этих событий, не видим ее.
Человек погиб, что называется, убили. Его личность известна, может он был коллега, думаю, так, и другие так говорят. Безопасности убили его, пять выстрелов из пистолета. Насмехались над ним, человеком, которого знали многие люди, говорили, что просто он сам застрелился, это я слышал, и другие, сходящие с моста, возвращавшиеся домой, скоро комендантский час, любой мог это слышать, разговор безопасностей, чтобы внушить это нам всем, мне и другим. Человек, про которого они говорили, был уже труп. Может он был и коллега, многие говорили, что был.
Ну так, а теперь насчет двух других, один человек известный, уважаемый человек, гость нашей страны. Я знаю, в его стране, но тоже и здесь он был человек хорошо известный, знаменитость, политический человек. Я его видел, узнав его, он был с другим, по-моему, артистом, отцом, или может он был еще и юрист-правовед, возможно и так, не знаю. Я переходил мост, уже спускался с него, и тут двое торопятся, сколько еще до комендантского часа, 15 минут, 20 минут, 10 минут, совсем ни минуты, быстрее, быстрее, да, и я слышал, как они шепчутся, говорят между собой, шли торопливо, я не слышал о чем. Прислушивался, да, конечно, но ничего не мог услышать, чтобы со смыслом. Мне они внимания не уделили. Это было в 8.30, в 9 часов, где-то так, вечер, поздний.
Не знаю, может у него и были права. Если права могут быть, то какие они, если так можно сказать, и почему этот человек в нашей стране, может вопрос собирался задать, некоторые сказали бы так, да, почему, у этого чужака совсем нет мозгов, подстрекательские речи, перед штыками, если армейские, и всем персоналом, он просто не знал, как вести себя в этой стране. Я здесь, я вам всем неприятности устрою. Я такой известный, да, в вашей стране, и я здесь и выступаю со многих платформ, подстрекательский известный человек, подстрекательские речи, перед штыками, может армейские и персонал все здесь, ну и пусть их, а я буду говорить, я говорю только правду, говорю их штыкам и дубинкам, да, вот так, куда эти люди приходят, в дома местных жителей? если так, они дураки, если там есть сторожевые псы, что эти псы делают, они лижут дураков-посторонних. Может они известные люди, может у них доска объявлений на лбу, я человек опасный, и мы можем это прочитать, со мной надо поуважительнее, попочтительнее, эти псы узнают меня и какие мои права, что со мной надо обходиться вот так, почтительно, пожалуйста.
Я знаю, что говорят.
Что такое оплошности и ошибки, ошибочные действия, упущения, что мы должны сказать о них, давайте скажем, пожалуйста, что ошибки совершаться могут, я так думаю. Может быть, человеческие особи совершенны. Совершенные существа. Указав безопасностям на эти дома, я совершил величайшую ошибку, хуже и быть не может, уже когда делал это, я знал, когда моя рука поднялась, когда палец показал, один из безопасностей смотрел на меня и все понял, я видел его глаза и знал, он поймет, что я такое сделал. Он был постарше, с понятием, он увидел, что я показываю на эти несколько домов и что один из них тот самый, он бы задумался об этом и понял, там уже что-то было, в его глазах.
Насчет детей я не знаю, и они тогда не знали про них. У меня тоже ребенок есть, дочка, я ее мало знал, только в первые месяцы, потом уехал оттуда, она была у родителей жены и я ее не видел, жива ли она, моя жена или дочь, которая, одна, другая, не знаю. Я держал малышку, маленькую, купал ее, грел воду, палец держал, и держал ее
Ну вот, этот малыш в доме, говорят, я его забрал. Многие так говорят, а сами не знают. Говорят, я так поступил. Если бы что случилось со мной, как с любым, с любым коллегой, понимающим, я бы знал, что делать, как и любой. Да и рано для меня еще было, я прибыл в этот город, у меня здесь были обязанности
Из безопасностей на мосту двое слушали меня вежливо, внимательно. Они убили, и недавно, одного человека, который был коллега, мог быть, я так думаю. Вот, а я не хотел в убитые. Это не сарказм.
Я мог покачать головой. Или вместо выдержать притворство, попытаться так. Что я сделал, не могу вспомнить точных деталей, возможно
если бы я только догадывался
Я не слышал, как один сказал мне, что я указал им на один дом. Он заговорил, и безопасности повернулись ко мне, уставились, искали, куда поместить меня в уме, один помоложе, лицо с сыпью по всему лбу, смотрел, смотрел, я помню. Я был на верхнем конце площади. Я ничего не мог сделать и пошел. Не знаю, почему так случилось. Я не знаю. Если что знаю, это пустяки, не имеет значения. Один мне показался знакомым. Это верно. Тут ничего необычного.
Это может случиться с кем хочешь, видишь кого-то, слышишь голос, шаги, кашель, мы слышим кашель и сразу знаем, кто он, я знаю этого человека, чувствую, что мы должны его где-нибудь знать, очень он нам знаком. Со мной так часто бывает
Каким я был с ними. А каким я мог быть. Это было просительно, я был просительный. Мне следовало не так, надо было содрать ботинок с ноги и швырнуть в них, ударить их по лицу, посильнее. Это не сарказм.
Никакого неодобрения, нет, я оправдывался, извинял себя. Я был свидетель, я присутствовал. Они не уделили мне внимания, ну так в будущем станут уделять. Они шли по делу, это стыдно, может и стыдно.
Это не неприемлемо. Я был с ними просительным. Трусливым, надо было ударить их, этих нескольких безопасностей, ударить, сильнее, сильнее. Они убили того коллегу. А я смог об этом забыть.
Я не шагал слишком быстро, пока те не уйдут. Я теперь думал что может случиться, может и ничего, но нет, да, что-то случится, я это знал
теперь, да, не на виду, я мог ждать, или вернее ожидать, что нет, нет, никакой нужды, и решение было моим решением, я принял это решение и знал, что делать, как бы безусловно, что, и теперь я мог шагать быстрее, они ушли, через площадь и по проходу, к дому, двери дома, постучал в дверь дома, колотил в нее, выходите, выходите, выходите Я знал, где безопасности, ушли, но могли прийти, может и не ушли, это было не важно, это я только для себя, решение, я его принял.
Что еще, колотил в дверь дома
ничего больше не ожидая, чего ожидать, колотил в дверь дома, колотил колотил. А изнутри не выходило ни звука и времени уже мало, я знал, как мало, но никто не отвечал, конечно, могли же безопасности прийти. Я не понимал, колотил снова, снова, снова, снова, снова, о Господи, колотил снова, вы должны ответить, ответьте, вы должны ответить, пока дверь не открылась и женщина посмотрела на меня и мне за спину, Вы не можете войти, не можете войти, что с вами такое, вы не можете сюда войти, мы не можем принять вас.
Изнутри тепло, пахнет едой, булками, сдобным тестом. За ней другая женщина с малышом на руках, и еще ребенок у камина, я видел.
Они идут, сказал я, вы должны им сказать, надо уходить, сейчас придут безопасности, сейчас, я знаю, придут сейчас, надо уходить, скорее
Тогда она схватила меня за руку, втянула внутрь, захлопнула дверь, а внутри другая дверь, там двое мужчин еще с одним, с одним стариком, пожилой человек. Вы должны уходить, сказал я им, очень скоро придут безопасности. Теперь я узнал того пожилого. Да. Тоже из нашего народа, он был член профсоюза, известный, составлял известные документы, этот в Совет Государственной Безопасности, а этот для вас, раздавал их, стыдил, когда раздавал, во все заграничные средства, вот это он и был, все его знали. Какой он был старый. Я не знал, что он такой старый, очень. Двое других посмотрели на него, и он
Я не знаю, может что сделал, не думаю так, что это могло быть, было. И тут тоже с лестницы, там девочка и кричит, Они идут, они идут.
Я увидел Малыша на полу у огня, и другой ребенок с ним, малышом, в самой середине движения, этот образ навсегда у меня, смеется и на одной руке, другую поднял, как будто для равновесия себя, на коленях, смотрит на ребенка, эту сестру, брата, не могу вспомнить, по-моему девочка, но малыш, интересный вид у этого малыша, я вижу мою дочь, и оно смеетсяи ик гостю нашей страны
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
" Summarylnformationaк ойязыкили@ifdotcomёor@ifdotcomеслиттильднeтильд˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ I˘ ˘ ˘ ˘ ˘¿F0?˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Docume nt@ifdotcomIFODocu ˘ I какзаводной, однако ослабел, завод, который кончился, необходимо подкрутить, мы все были новички, я рано прибыл в этот город и мои обязанности здесь имел, всегда здесь. Он не умел. Левая рука шла с левой ногой, правая рука с правой ногой, помню его плечи, как двигались плечи, он очень старался, чтобы руки ноги одновременно, потому что это было неестественно, так двигать плечами, это ему помогало. У него ушло много дней, прежде чем найти естественное выражение маршировки, но его коллеги, включая меня, мы никогда не давали ему забыть, до самого отбора. Он был добродушный, смеялся с нами. Тем не менее, нам следовало остановиться задолго до этого, я думаю, но так всегда выходит. Штыки тоже помню, старомодные, многолетнего устройства. Они могли примкнуть штыки и перебрасывать друг-другу мешки с зерном, могли ловить мешок на штык и бросать следующему, это было их упражнение, могли ли использовать малышей, конечно. Теперь, когда я пошел дальше, сзади меня шли безопасности, и, конечно, я не мог обернуться, они болтали, некоторые смеялись, такая тихая ночь. Они заметили меня, а они обращают внимание, когда кто один. Я надеялся, они скоро пройдут, замедлил шаг с этой целью. Однако, да, я был настороже, очень настороже, пока так шел, другие сходили с моста, променада, сейчас комендантский час, надо вернуться домой, и мне тоже, но это был я, безопасности увидели меня, остановились ради меня, без страха, нельзя показывать страха, нельзя, они будут смеяться, шагнуть с парапета вниз с парапета разве я птица…, / 9/ ›/ I/ J/ К/ L/ Q/ R/1/ q/ г/ {/}/ ~/…/ / z/????????…/ ж/ М/ У// Т/ 4 4 4 4.4 14 34 74 U4 V4 Ч о4 в4 о4 п4 ъ4…4?4 Ж4…4 я4 Ы4 J5 К5 Х5]5 f5 g5 i5 j5 o5 n5…5 может комендантского часа в ту ночь не было комендантский час есть всегда в ту ночь комендантский час есть всегда?5…5 5 Ф5 5 6 6
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Но мост те двое перешли быстро, тихо разговаривая, вполголоса и их шепот и я увидел их и признал, того одного, заграничного ¿˘¿˘¿˘¿˘¿ который такой был известный человек в своей собственной стране, да, здесь тоже хорошо известный, выступал со многих платформ, подстрекательски, известный человек¿˘¿˘¿˘¿˘¿ подстрекательские речи, перед штыками, если армейские, и всем персоналом ¿˘¿˘¿˘¿˘¿ Что верно – верные u] D
Я вошел внутрь, женщина захлопнула дверь. Я сказал, я должен забрать малыша, отдайте мне малыша, быстро. Женщины смотрели. Я подшагал к малышу и махнул от него женщине, матери, скажите ей. Безопасности возвращаются, я знаю, двигайтесь теперь быстро, они возвращаются быстро, и они должны двигаться, и быстро, выход, должны уйти, без риска, быстро. Пожилой был уже у огня, он покивал мне, коллега, и другие двое заметили это, уходя, один по-моему артист, отец или может он еще и юрист, он посмотрел на меня и теперь увидел, что я, и он сказал это, мне, коллега тронул заграничного за плечо, вот так, надо уходить, и тут мальчик, повел их через дом в один там еще двор к еще одному проходу. Снаружи было много мест, куда можно пойти, идти туда идти куда хочешь, по некоторым дням небольшой рынок с овощами, но по ночам ничего. Я эту зону знал, там можно заблудиться много быстрее.
Я тут увидел, одна женщина глядит на меня, ребенок держит ее за руку и тоже глядит, она думала я не вижу, но в уме у нее Она, а не другая женщина.
Хотя нет, никто из них мне не кланялся. Старик на меня не глядел. Кто был я, может коллега, он это знал не знал, для него это были бессмысленные времена, его люди убиты, пришли новые, малыши народились, какие могут быть их имена, какой у них пол, никакого, они малыши, малыши живут или умирают, дети, мальчики или девочки, живут или умирают, мужчины и женщины, пожилые, некоторые живы, некоторые умерли, коллеги не коллеги, это только продление, что такое человеческие особи, это планета Земля женщины меня ненавидели.
Уважение, я не знаю, мы делаем разное, уважение, уважать можно всякие вещи. У женщин не было причины. Какую причину они имели, никакой. Если бы не я
Я должен забрать малыша, отдайте малыша мне, так лучше, быстро. Женщины смотрели. Я сказал, Так лучше всего, торопитесь. Подшагал к малышу и махнул от него женщине, двое мужчин уже ушли, мальчик с ними, ведет их. У них были минуты, не знаю,
Я попал в этот город рано для меня, мы приехали всего несколько дней назад. Я был на прогулке, возвращался в наш дом, у меня были обязанности, я бы встретился с ними лицом к лицу, да
Бам бам, безопасности у дверей, шума теперь больше и женщина, я подшагал к малышу и махнул ей от него, отдай это мне, маленького, скользкого, вырывающегося от меня, и взгляд испуганный, кто я, такой большой человек, чудовище. Я показал на тарелки и все предметы на столе, и женщина пошла к ним, когда опять забили в дверь и снаружи еще больше шума, я слышал их. Малыш был теперь у меня в руках, я ее под мышкой держал, так безопаснее для головы. У меня ведь тоже дочь, я умею держать малышей, тут дверь открылась, те ее вырвали на себя. Они были к этому не готовы. Я им ничего не сказал, просто насторожился, как все, если в таких обстоятельствах. Старик, который раньше, еще с другим, стояли здесь, они глядели на меня и он сказал, Так вот вы где.
Другие безопасности были по всему дому, а один у старика, который смотрел только на огонь, в него.
Это твоя семья, сказал один из них, показал на малыша. Он твой сын? Я не мог говорить. И твоя девчушка, показывая на ребенка, хорошая семья.
Я им сказал что-то, возможно, чего они хотят, мог спросить у них, засмеялись надо мной отдайте отдайте отдайте! Женщина закричала, но она была у стола и не двигалась, с ней там безопасности. Да, мы можем забрать малыша, сказал тот же, все так же улыбаясь, но малыши, малышей у нас и без того хватает. Что еще у тебя для нас есть? Кто твоя жена? Теперь посмотрел на женщин, шаг к женщинам, посмотрел на их лица и на мое лицо. Ты недостаточно стар для этих женщин, где твоя женщина, она молодая. Которая женщина, какая твоя, их тут две. Многовато у вас жен, мужики. Безопасности улыбнулись. Это твои дети? Ты моложе. Молчу, я, ничего не говорю. Твой сын? Становится нетерпеливым, если скажу дочь, что они сделают, я же не знаю, ничего не могу думать, только что чувствую в себе гнев, в горле, гнев уже в моем горле, душит его, я держу малыша, понимаю его страх, он посмотрит на меня, в страхе, и завопит на меня, завопит. Моя мать умерла пять лет назад, отец шесть лет. Так много. Кому дело до моей матери и отца. Как они это, почему. Я увидел теперь малыша, не визжит, ему интересно, и увидел также его, который раньше, молодого из этих, со штыками, эти глаза, что у них за глаза, смотрит, смотрит. Что еще ты можешь нам показать? Вашу мать, сказал я. Когда меня и ударли, тогда. Нам не нужны твои шутки, дай мне что-нибудь еще. Твой отец и за мной женщина. Малыш был у меня под мышкой. Й › ф |… в… | H H ˘,? ˘ „, 6 G {… H Hd ˘ 'h к
Ho эхо. удары, да, Ho мне стало, это иДа. ДаКонечно… Да? Было темно. от тогда что я дом. комендаса небыло у ночь, где жила семья. Нда этот молодой сам этот очень молодой ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘?Ц amp; b amp; 6 amp; а amp;д amp; r amp; ' – 6 ' @ L' M' N' Q' X'] h' n'
о' | ф' = …' м' P' ж' ш'… …"… Ф' н, %, z, , #– %– amp;– (– ?-@– F– H– T– U– h-j– m– n– о– v– Д– й– к– н– м– ~-…-! -…– У-… – Ё– Щ– – C. K. L. 0. f. i.j. з. й. щ. в.!. . Ё. ±. =. ж. Г v. •. -. – ~. я. x А № Ы» «»Ы» «» «» u с u D с]`! «# $ % ì • ц Щ У G ‹ Ы м! fi#…% E amp; Z amp; Й amp; T amp; Ц amp; b amp; a amp; в amp; д amp; r amp; k'… м' @– U– м– . Ё. я… ‹#h Ы ‹#h Ы ‹#h Ы ‹#h Ы ‹#h Ы ‹#h Ы ‹#h Ы ‹#h Ы ‹#h Ы ‹#h Ы ‹#h Ы ‹#h Ы ‹#h Ы ‹#h Ы ‹#h Ы ‹#h Ы ‹#h Ы ‹#h Ы ‹#h Ы ‹#h Ы ‹#h Ы ‹#h Ы ‹#h bI‹#hbI‹#hT‹#hT‹#T‹#H‹#hBTT‹#bI‹#hbI‹#h Ы ‹#h T Ы ‹#h Ы ‹#h T T 3 h 3 – h h) K @T? Normal a c «А@Ъ?› «fault $ @ Ъ $ • ¿!] Некоторые могли сказать взрослые. Я не скажу взросыле, нет, это старые штыкиОни несли ихлегко 1Этот смотрел на меня. Они то. Адля них, просто, я был наивный. Эттот
Они знали что я боюсь. Случилась смерть что называется убийство. Раньше, что называется. Где-то в том направленииопуская мне руку, отмечая дом который я указалНу тогда все. Я последовал R гду указал
R иностранец, артист, возможно также юрист, отец, я называю его отцом семьи, может и нет, я так не думаю. Мне не следовало говорить дом. Я показал на дом, судьба RM@ifdotcomFODocumentr|G ≥ 3G…5= надом, судьбазна менитый гость\??+?@FODocument??????? 7zz%z%%!!˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
‹›F * „§§§ ea, ж «@ifdo tcom@ C о m p O b j††ь†Object Pool or@ifdotcom щщъъ≥≥ ††ь†ьыыщыщщъъ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ¿ F • „§§§ говорящий со многих платформ, подстрекательные, уважаемый человек ¿˘ ¿˘ ¿˘ ¿˘ ¿˘, подстрекательские речи и штыкам, если армейские, и всему персоналу ццххфц
\? ¿ кaкoгooтдeFODocument r | G ≥3G %5≈˘ ˘ ˘ не официальные старомодныеони были примкнуты BB
BB фффф фф ff % 2D не уделили мне уделили мне не внимания ffO b j e с t P о о 1 ff33 fF33 33 BB ЗЗфф З3≈˘ ˘ ˘ ^$Y] 6 ^$Y] ¿ 33УУ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘конечно, эти вещи, винтовки, я тоже помню, старомодной конструкции также, со штыками и перебрасывают, как эти мешки с зерном один другому они ловили эти мешки на штык и перебрасывали следующему а тот другому а тот другому
Нет, она не жива. Конечно, не жива, все эти исчезновения, я тоже, и мальчик, который исчез, если бы мы могли сказать, мы же не можем
но люди могут быть спокойны
Женщина, что с ней произошло, с женщинами, они тоже удивлялись про них или про девочку и говорили мне, может я удивляюсь может я удивляюсь, потому что они тоже удивлялись про девочек, девочек могли забрать, какой малыш, я про девочек˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
тильд нетильд ил и для Summaryinformationor@ifdotсоткакойязык ЪьЦ…О˘ h'л + ?Ы0 к т Щ K? amp; 2 › F N Z u @ifdotcom} не уделили мне уделили мне не внимания а В Щ[ёЙМЬх Ц {…м +…В Templates: Normal! В ту ночь комендантского часа не было'@ Щто ж @ Ду» ЪГБ@ Т «Ь ж @ Document I˘ ЪьЦ…О" h'ë +7…0htLIIK? amp;2›FNZu}6 В ИЦёЙМЬх Ц {…м +…В Templates: Normal! В ту ночь комендантского часа не было'@ Щто ж @нет, комендантского часа здесь не было, не в тот вечер они тоже были зрителями, молодые и пожилые люди потому чтобы малыши увидели их гостя нашей страны не уделили мне уделили мне не внимания и примкнутые штыки, Ду» ЪГБ @ $ %а ж @ вечер – ………˘I! ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ‹ h A¿i о е r amp; 2D ›*, н, н…5…5…5…5…5…7 /6 0…7…7…7 к7 {7…7 ОС Z г7 г7 г7 г7 г7 г7 г7 г7 8!8!8!8!8!8!8 amp; дС X,С Р G8 И…5 г7 г7 г7 г7 г7 G8 г7…5…5 г7 г7 г7 г7 г7 г7…5 г7…5 г7 8…5˘ 5 6?5?5?5?5 г7 8 г7 ото была та ночь, комендантского часа не было,
нет, комендантский час был, комендантский час бывает всегда, может не в ту ночь, я был на мосту
и они прошли мимо меня, те двое, это были те двое, я их узнал, артист или юрист и наш гость в нашей стране я слышал их шепот, вполголоса, старше возрастом, какой возраст, они торопились и вполголоса, тихо между собой, я этой зоны до последнего не знал. Мост вправду был общественным пунктом. Я гулял, ранние дни в этом городе, наслаждался прогулкой один. Да, и также место встреч для молодых людей, может там были и молодые женщины, могли быть, встречались вместе. За ним небольшая площадь и эти двое пошли теперь туда спешили и когда дошли до другой стороны я услышал шум сзади
безопасности, эти двое. Да, я насторожился, да, слыша малышей, плач малышей. Впереди я мог видеть, как они повернули к левому краю площади и потом по проходу. Недалеко от начала, потом удары в дверь и быстро скрылись внутри. Может и не удары. Может они это мягко, совсем негромко, потому что этот звук дошел ко мне как будто через туман. Это так, потому что я подумал, удары сдержанные, возможно, просто стук. Топот ног сзади и этот один проскочил мимо, который был коллегой, убитым, он бежит и бежит, чтобы его убили из пистолетов, и за первый же угол, но тут преследователи, безопасности, я бы сказал, семеро, с оружием, винтовки, преследуюттого, исчезающего извиду, исчезающего, да, навсегда. И тишина. Воображение мне говорит – возня. Пока я не услышал пистолетные выстрелы, пять подряд.
Скоро они вернулись, несколько. Конечно, я делал вид, что меня это не касается, левая рука в кармане брюк, правая раскачивается сбоку, поддерживая ритм, одновременно с левой ногой, а в голове образ из старого опыта, в ранние дни мальчик вроде меня, он не умел маршировать, был как заводной, однако слабеющий, завод, который кончился, необходимо подкрутить, мы были совсем новички. Левая рука у него шла с левой ногой, правая с правой, правая рука с правой, и я помню его плечи, плечи двигались, он так старался, чтобы руки и ноги действовали заодно, это было неестественно, но такое движение плеч, оно ему помогало. У него ушло много дней, прежде чем он отыскал естественное выражение маршировки, однако его коллеги, включая и меня, мы никогда не давали ему забыть об этом. Он был добродушный, смеялся с нами. Тем не менее, нам следовало давно уже остановиться, я думаю, но так всегда выходит. Что нам следует делать, принимать решения, а сюда я попал рано и принимал решения, и теперь, когда я пошел дальше, то услышал, что сзади идут безопаности, и конечно, я не мог обернуться, они болтали, некоторые смеялись, такая тихая ночь. Они заметили меня, а на одиноких личностей они обращают внимание. Я надеялся, они скоро пройдут, замедлил шаг с этой целью. Однако, да, я был испуган, тут и говорить не о чем. Я мог бы идти . °… / 9/ ›/ I/ J/ K/ L/ Q/ R/ 1/ q/ г/ {/}/ ~/ †/ о/ z/ +1 ›/ ¥/ œ/ ì/ Ó/ Ò/ 4 4 4 4.4 14 34 74 U4 V4 M o4 â4 î4 ï4 ú4 †4 ≠4 Æ4 ±4 y4 Ϋ4 J5 K5 X5]5 f5 g5 i5 j5 î5 ï5 f5 ≈5 " " " " " u] ›· . / Ó/ 4 V4 ï4 m ‹4 ỳ4.5 g5 ~5 ‹≠h ˘ ‹≠h ˘ ‹≠h ˘ ‹≠h˘ ‹≠h˘ ‹≠h ˘ ˘ ˘ ˘ ‹≠h ˘ ‹≠h ˘ ‹≠h˘ ‹≠h˘ ˘ – y услышал голосаСнаружи. моя рука, локоть, локотьговорил Улыбка коллегам и тут же тогда, задавил ее, готовый завизжать на себя. S, как малыш это же малыши я слышал плач как мешки один другому, я тоже, это дочь. Гнев, такой гнев, во мне. В подстрекательские речи и к штыкам, если армейские, и ко всему персоналу ¿˘ ¿˘ ¿˘ ¿˘ ¿˘I Что верно – верные и] D Я вошел внутрь, женщина захлопнула дверь… Я сказал, я должен забрать малыша, отдайте мне малыша, быстро. Женщины смотрели. Я подшагал к малышу и махнул от него женщине, матери, Скажите ей.
не уделили мне уделили мне не внимания,
Теперь ты, выходи наружу. Старику пришлось теперь тоже выйти наружу, пожилой, член профсоюза и я тоже. Малыш был не со мной, женщины не вышли наружу, держали внутри дома и ребенка тоже, девочку тоже, девочку, которая смотрела, если она ребенок, почему она смотрит так, как смотрит, может она не девочка, девочки смотрят ют так, на мужчин смотрят, она не девочка, женщина. Да, я слышал, безопасности так говорили. Теперь все нарастала. Интересовались ли они мной, нет, не интересовались. Мне пришлось держаться впереди, на дом я не оглядывался, не видел, был совсем один. Насчет них не знаю, других, может я и думал о них, это все продление. У меня были обязанности, тоже тогда были. Хочу ли я что-то сказать, тогда что это, там еще была женщина, мать малыша, ее опять увели внутрь, ребенка я не видел, а артист-юрист, скажем, отец, который был с известным человеком, заграничником, гостем нашей страны, может и жив, названные Itemsfrom: hot:: может он и жив, сказанные группы: пакеты показаний в переводе, какие пакеты п: Через мост" малыштыки девочек надо забрать кто же не релгиозник (?). Где угодно, à amp; ˘˘ ˘˘ ˘˘ ˘˘ ˘˘ μ F î! S ù û % ± В Ä W Ü À „_ ° [К + h {! $ %% amp; ä amp; ü amp;» amp; Ö amp; D' / ‹ ,' ‹#h ‹#h ‹#h ‹#h ‹#h ‹#h ‹#h ‹#h ‹#h ‹#h ‹#h ‹#h ‹#h ‹#h ‹#h ‹#h ‹#h ‹#h ‹#h ‹#h ‹#h ‹#h ‹#h ‹#h ‹#h ‹#h ‹#h ‹#h . ≈5". ≈5 Î intheSystem КАК артист-юрист, сказанный отец, названные Itemsfrom: hot:: показаний: группы: пакет п: Через мост " малыштыки%о%о @ Ä J _ | 5 %о А В р} Ü ï ö % Æ Ø‡ , Ûw {›‡ Î Ù T Z L O c i j o t Ä ö ± ‹ › + A C D I K ^d p r v Ö Ü ô ö % μ а _… Ë_V_«8?HI W a c x z â ù!›», „Û"#5:YZ k w}ÂÇAOyî_„PSTwxâ%›¥ J О P \ r u Ö â à î! % – fl • °, a Г2 = μ H + N01 • " $ amp; 'INSV\]g ç°! amp;! i" не религиозник (?). Где угодно « Ê» Ë" " # # $# #)# у# ‹# È# $ $ $ 3$ D$ {$ Â$ ô$ f$ _$ _$ Ô$ $ % % % % %!% %% G amp; J amp; amp; Ô amp; Ô amp; « a' n' 's | ~ ' % z' ‹ › ‡ • ,' A – 1 6'ели, как они глядели, туда, это туда, где дом. μ ' œ 0 / …» " i, %, z, _, – #– %– L amp;– (– T [g – ä?– ö n' ≠ о' @– F– H-{ ° U– h– ° j-! ц m– Ù n– ^ о– v– А– 8 é– H ê– a | s ç â ô i– i– с– £-! – д ±– _ _– ÿ…– Ë– Ù– «-! amp; С. 5 К. 7 L. С О. U f. I. j. ç. É. Ô. Ù.!.a». ±. ‹ Оели, как они глядели, туда, это туда, где дом.
ели, как они глядели, туда, это туда, где дом. Это не важно. Нет, я не религиозник (?). Где-то уже говорил. Да и как бы я мог?
В его собственной стране, он был заграничный и хорошо известный, уважаемый человек (?). Я это знаю. Не знаю почему – предосторожности, да, конечно. И я видел, как оно смеялось. Это я видел. Я имел детей. Этот малыш смеялся, и я это видел. Да, мать, она была мать, конечно.
Я слышал голоса Снаружи. моя рука, локоть, локоть говорил Улыбка этим ребятам, безопасностям
ну так, еле удержался, готовы завопить на меня. Гнев, такой гнев, во мне.
Ты выходи наружу, сказал первый.
Я вышел наружу. Он отобрал у меня малыша. Теперь стрельба все нарастала. Старые винтовки, со штыками.
Мной они не интересовались. Я увидел огромную копну волос, артист-отец, не оглядываясь. Потом меня ударили и без сознания.
Мы ходим по кругу. Тогда я был, не знаю почему – предосторожности, да, они не уделили мнеКонечно. ББЛЛИИ…д Я видел, как оно смеялось. Это я видел. Я имел детей. Этот малыш смеялся, и я это видел. Да, мать, она была мать, конечно, что касается девочки, ее не было видно
I ‹#h (?) / Ô/ 4 V4 Ï4 JE4 ‹4 y4.5 g5 ĺ≈5 Ó5 6 ˘ ‹#h˘ ‹#h ˘˘˘ ˘ ‹#h˘ ‹#h˘ ‹#h˘ ‹#h˘ ‹#h ˘ ‹#h ˘ ˘ ˘ ˘ ‹#h˘ (?) h услышал голоса. Снаружи. (?) Снаружи. моя рука, локоть, локотьговорил Улыбка его товарищам и у ну так, еле удержался, готовы завопить на меня. S, как малыш
Гнев, такой гнев, во мне.
Д
Ты
Чтоделают делали эти люди. Я не знаю. Я не устал. Мы, некоторые из нас,
Все отцы им, если дети не девочки они не могут быть девочками которые всегда девочки стоять впереди не оглядываться. Чтоделают делали эти люди. Я не знаю. Я не устал. Мы, некоторые из нас, людей, люди, и нас убивают, приходят новые люди, малыши нарождаются, какими могут быть их имена, какой у них пол, у них нет пола, они малыши, малыши живут или умирают, как дети, мальчики или девочки, живут или умирают, мужчины и женщины, пожилые, некоторые живы, некоторые мертвы, коллеги не коллеги, это только продление, что такое человеческие особи, это планета Земля, женщины ненавидели меня за их малышей, всех малышей, у меня тоже один, она дочка.
Уважение, не знаю, пожилой только кивнул, мы делаем разное, уважение, уважать можно всякие вещи. У женщин не было причины. Какую причину они имели, никакой. Если бы не я (ä amp; † amp; ˘˘ ˘˘ ˘˘ ˘˘μ F î! (S ù û % ± B Ä W Ü À „_ * [К + h {! $ %% amp; | amp; ë amp; ∫ amp; ‡ amp; 6 (?) ‹#h ‹#h ‹#h ‹#h ‹#h ‹#h ‹#h ‹#h ‹#h ‹#h ‹#h ‹#h ‹#h ‹#h ‹#h ‹#h ‹#h . 6 . 6 î Items::hot: какойязыктыкиштыкистаромодные: группы: пакет п: Через мостназываемый отец гости нашей страньI˘ ˘ ˘@ Ä (?) À 5 А В p Ü ï ö % Æ 0 À ‡, Û w {(?)}… › ‡ (?) артист-отецв его собственной стране уважаемый человек (?) нтазываемые отцы артист-отецея ваемыйотец имвсем2 = û H + N О 1 ° $ amp; I N S V \] g ç ° g з артист-юрист может отцев его собственной стране уважаемый человек (?) не уделили мне уделили мне не внимания! amp;! ¿" « „ '“ Ê» Ё" ^" # # $# #)# ÿ# ‹# E# $ $ $ 3$ D$ {$ A$ o$ t$ _$ _$ 0$ $ % % % % "%!% %% 9 amp; (?) i– i– 0– £-! – д ±– _ _– у… – _ « 4 #.4 14 # 34 ^ 74 V4 E# $ ^4)$ i$ o4 â$ â4 é$ u$ î4 $ i'4 Û4 Y$ t4 _$ ^4 d% Æ4 amp; ±4 4 J4 J5 K5 X5]5 g5 i5 j5 î5 „i5 ≈5 ‡5 5 05 5 C amp; 6 U amp; a amp; a amp; Z ê oязы/oпepaциoнный q/ r/ {/}/ ~/ ‡/ •/ z/ ^/ ›/ ¥/ £ æ/…! ›!“ Ô/ / 4 Ù» 4 " 4 #.4 14 # 34 ^ 74 V4 E# $ л4)$ i$ o4 â4 â4 é4 u$ Î4 $ ï4 û4 _$ †4 _$ ≠4 d% ^4 ±4 y4 _4 J5 K5 X5]5 g5 i5 j5 î5 ï5 Ç amp; /5 Ü amp; â amp; ä amp; Z ê (?) 1 nÈHU" Q+F 7 É $ P В ту ночь комендантского часа не было(?)Нмалштикштыкмал нет комендантчастуночь+ N О 1 ° $ amp; I N S V \] g ç °! amp;! ¿" « „ '“ Ê» Ë" л" Ö amp; Ü amp; à amp; ä amp; ã amp; 'А _ – 1 6 { è @ Ø_˘ ˘ ˘ _˘ ˘ ˘; ˘ ˘ ˘ L' M' N' t / Q' I U' _ X≈œ ‡°± _˘ ˘ ˘,˘ ˘ ˘, ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ¿ FODocumentI˘ ˘ ˘ NB0 Document втуночькоменд антскогочасанебылоеслибы мы
может и сделали бы если бы
мымоглиговорить"˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
6. «рапорт»
И тут из дверей выходит она и двое мужчин, я увидел, они следовали за ней. Я ждал в тенях. Третий был у стены, это я знал, да. Что не так я не знаю, но тогда, сейчас, эти три образа были в моем мозгу, теснились, теснились.
И потом еще мысли про секс, это правда, про то, что девушка предлагала мне секс. Думала, я этого не понял. Позже, когда мы встретились, я тоже смущался. Почему. Я знаю, почему. Знаю. Сердитый не был. Я видел в ней только девушку, такую, которая привлекает взгляды мужчин. Про ее откровенные манеры, к которым она приспособилась, было ли это ново, нет, не ново.
Я наблюдал за ними, конечно, я наблюдал за всеми, за всем, и не зная этих двоих, кто они, не знал, может там и были безопасности, где-нибудь. Ну да, не по службе, да, пришли в это туристское место, очень известное, и здесь также женщины и девушки, и можно найти девушек совсем моложе, если сблизи, а были ли эти двое туристами нашей страны, да нет, туристы они не были, я так решил, видел же – дураки. Дураки в поисках девушки. Тут уж я был уверен, а насчет воспользоваться этим, да, я тоже приспосабливаюсь, приспособился бы, как девушка. Она была красивая. Для меня, для всех мужчин. Да, сильная девушка, с силой, с особой силой. Я забыл о ее присутствии, предпочел так, чтобы не это, ну да, не думать насчет возможных последствий, не учитывать их. Вот такие у нас образы жизни. Некоторых я отвергать не могу. Возможно и было такое сознание, что надо бы. А с другой стороны, да, я знал, что следует сделать, и был готов, даже хотя мужчин двое, приспособился к этому. Я видел, как они к ней пристают. Конечно, она теперь видела их иначе, мы же не могли все спланировать, чтобы я дальше мог подойти по-другому. Я и раньше был приготовлен, и теперь, что она окажется не готовой, не сможет, раз она уже все поняла, у нее взгляд стал такой уклончивый, это я видел. Те двое говорили с ней бесцеремонно, словно бы спорили. Я слышал их и глядел на ее лицо, чтобы видеть глаза, если это возможно в такой тени, не думаю.
Она бы спаслась. Может тут и возможны сомнения, у меня их не было, не имелось, было задача, мне предстояло выполнить его, я не мог ждать там, на задах, не дольше, чем уже ждал, до переулка еще пятьдесят метров, нужно было сделать рывок, если бы я пошел, а у меня другого выбора не было, приходилось двигаться, прямо тогда, я и двинулся, быстро-быстро.
Образы, целая гроздь, рассыпается, собирается снова.
Где она.
Я видел третьего у стены. Думал о его лице, я это лицо хорошо знаю. Он знал только свою часть того, что должно было случиться, а про меня не знал ничего, но был готов ко всему, к чему угодно, он был не дурак и опасный, жестокий, да.
Это все было не в контролируемой зоне, комендантского часа во время операции не было. Когда я увидел его, это уже с дальней стороны дома, ну конечно, я к тому времени обогнул дом, да, занял позицию. Я полагал, что девушка где-то рядом, сбежала она от тех двух дураков или нет. Я не мог думать о ней, о безопасности, все мои мысли были только о третьем, да, я знал его, я его знал, этого, знал все, что он думает. Я видел его там, в тенях, все время настороже. Конечно, не думал, что за ним наблюдают. Мог думать и о девушке, видя этих двоих, может и возбудился, и ругал себя, нет же никакой причины, он, они, эти дураки. Они всего-навсего мужчины, они бы его не встревожили. У него тоже были дочери. Да, такое знание всегда расстраивало его, это не сексуальные факторы. Я знал, одежду ему покупают женщины. Семья, дочери, матери, тетки. Опасный человек с пониманием долга, у него были обузы, вся эта ответственность, дети росли, видели, как плохо он выглядит, лоб, морщины от забот, слишком много курения, слишком много алкоголя, секса и вины за него, каждый ответ, как слово предупреждения, молчаливый дом, да, семья испытывала облегчение, когда он уходил из дому по делам. О делах они ничего не знали. Конечно он чувствовал обиду, и все-таки ничего им не говорил. И жене тоже, не мог сказать, никогда. Она же его мост к детям, без нее он для них ничто, не сможет удержать их, удержаться за них
строчка выпала. Это все сантименты. Я понимаю об этих вещах. Я ведь что говорю, его жизнь и семья, нет, он был с девушкой мыслями, думал о ней, вот что нам было нужно, сделать так, для меня, сознавал ли я, что должен буду сделать одно, а не иное, да, конечно. С ним. У меня сомнений не было. Может кто так и говорил, обо мне. Что?
Да, те двое шли моим маршрутом, по переулку. Я их слышал, теперь ругались между собой. Где девушка, убежала ли от них, скрылась из глаз третьего. Должна бы занять позицию, как там, крыльцо или вход со двора, места хватает, что бы там ни было, место рядом и тени, конечно, можно укрыться. Больше я об этом не знаю, об этом периоде. Ни о ней, кроме того, что встретился с ней потом, как мне было приказано.
Да, когда я говорил про этих двух, что слышал их, я сказал, что они ругались. Может и третий их тоже слышал, однако не думаю. Да нет, точно не слышал. А девушка была уже на месте, и эти двое шли в том направлении, теперь было важно, чтобы так оно все и осталось, и тут, да, я чувствовал, что девушка покажется третьему, и знал, что он удивится, почему она здесь, и это будет самое лучшее время, мне придется снова бежать, очень быстро, оставить позицию и поскорее туда, получится это, не получится, я должен на всякий случай попасть туда, вдруг девушку постигнет судьба. И там еще тени, огромные тени, темный узкий проход, тени на северной стороне, указанный маршрут, должен ли я быть благодарен, нет, не благодарен. Не так уж все было и опасно.
Я мог бы передвигаться и поосторожнее. Но если он не слышал тех дураков, то и меня не услышит, слух поврежден, не молодой уже. Так что дураки были мне на руку. Но главное девушка, все внимание третьего на ней. Как в его голове, так и в теле, она стояла на виду у него, в тенях, он единственный свидетель, никто другой, только она и существовала, здесь, для него, может это был его сон, нет, не сон, девушка его видела, не подойти ли к ней, он также понимал невозможность распознать угрозу, кто был угрозой, мог и узнать девушку, ее тело, формы, если уже не узнал, Кто эта девушка, она предлагает секс, невозможное дело, может, его мозг играет с ним фокусы, и почему он здесь, он же всю жизнь был такой осторожный. Так все и было, о таких, как я, он забыл, вся неожиданность на моей стороне, а он не готов, так это было понятно, мне, мне, кому же еще.
После мы должны были вернуться на нашу позицию, были ли там эти дураки, не думаю, хотя могло получиться забавно, если они были там, лишняя забава для нас двоих. Они, скорее всего, ушли, куда-то еще.
Что мне еще сказать, я уже все сказал, он теперь мертв, конечно.
Были разные другие случаи, мы про них знали, отец дочерей, отец сыновей. Мы все опираемся на накопленный опыт. Я видел его глаза, в них страх, внутри него. Вина, да, знание, знание себя, примирение с собой, и я тут, как это, его конец. Три образа гроздью. Я мог быть более тщательным. Конечно, всегда… Но случившегося не изменишь. Может мне следует сказать, что это все девушка, что она определила мои действия. Может и стыдно, что значит стыдно. Что еще. Больше сказать нечего. У меня на уме была девушка. После, потом, получится ли.
Я бы не стал возвращаться к тому, что прошло, как бы из прошлого в настоящее, которое наше настоящее. Если она предложила мне себя, и это случилось тогда, значит так и случилось, что бы она там ни думала, кем я мог быть. Операции есть операции. Ее образ. Никак не могу избавиться. Она все стоит в дверном проеме и смотрит на меня. А большего сказать не могу. Конечно, он мертвый, чего уж там. Да, с ней я после той ночи встречался, а как же
7. «жизни вокруг»
Я знал эту дорожку, три мили от международной зоны, сохранившей прежние особенности, помимо новых – рестораны, где рыба и морепродукты. В сезоны, отведенные для туристов, если туристы приезжали, здесь могло быть деятельно, становилось деятельнее. А в это время не так уж. Местные люди, старики, обсуждавшие события, теперь поумирали, а одинокие, у которых ничего, все так же на скамейках, ради каких-нибудь возможностей.
Если для этих людей существуют возможности, то вот они их и ждут. Может и так. Может туристы и есть те возможности, когда будут здесь.
И на горизонт стоит посмотреть, да, они и смотрят, что там, суда, наверное к нам вдут, и глазные яблоки этих людей всегда там, впитывают.
Тут был порт, даже большой, так говорят, когда-то давным-давно. Но и сейчас, я видел, да, порт мог быть хороший.
Я собирался подойти к воде, рядом с предназначенным зданием, но подальше от людей. Всегда могут быть люди, а у меня же потом последующая встреча, впоследствии, если оно будет, это последствие. Я все не мог как следует расположить это в голове. Она должна была появиться, после, появиться, встреча с ней, если она придет, я бы увидел ее и проводил, отвел бы, должна прийти сюда.
Я переходил площадь, которая за парковкой. Надо было торопиться.
Там три автобуса, туристы, камеры, и торговцы для них, на других не смотрели, вот на эту одинокую персону, на меня. Правда, не все были там, один вдруг рядом со мной, мальчишка с обувными щетками. Такой мальчишка найдется всегда, выскочит. Сидит в засаде, выглядывает меня, выскакивает. Может это все мысли, мои, и он сразу здесь, вызван к существованию, кем же еще, ну да, вот этой персоной. Сколько лет, да десять, не больше.
Я отполирую вам обувь, сэр.
Его заинтересовала сумка на моем плече. Я сказал ему, Ты почему не в школе, это что такое?
Я отполирую вам обувь, сэр.
Это не шутка. Я серьезно спрашиваю. Вот ты глядишь на меня с ненавистью, подозрительно, колеблешься, думаешь удрать. Почему? Я говорю на твоем языке, я не чужак. Причин для ненависти нет, совсем наоборот.
Сэр, я отполирую вам обувь.
Она слишком старая, ее не отполируешь.
Я отполирую.
Не сможешь ты ее отполировать, она слишком старая.
Сэр, у нее просто поверхности нет, а я сделаю ей поверхность. Будет как новая.
Новой тебе ее сделать не удастся.
Сэр.
Она слишком стара.
Сэр, у меня есть щетка, особенная.
И показывает мне щетку. А ей уж лет десять, если не больше, очень старая. Гордость и главное сокровище его матери. Щетка с металлической спинкой, с гравировкой. Нет, не серебро.
А может и серебро, да, вполне возможно. Я пригляделся к ней повнимательнее, он тоже, показывал, видя мое особенное внимание. Сэр, не купите?
Я не покупаю, верни ее матери.
Матери здесь нет.
Все равно верни.
У меня нет матери.
Да, но щетка-то ее, может твоя семья когда-нибудь вернется отсюда домой, это же ваше сокровище, отнеси ее к ней.
Только сильнее возненавидел и уходит от меня на свое место у парковки, ищет хорошего покупателя, но к автобусам не идет, к заграничным людям. Как дошел, уставился на меня, уже без ненависти, с интересом, может я его как-то надул, чужак и все-таки не чужак. Может турист этой страны, а что, он же не знает. Я видел, как он разговаривает с одним очень старым мужчиной, у которого с обеих локтей свисали шелковые шарфы, одежда, слой на слое, привязанные к плечам. У него такие белые лохмотья, клочья, торчком на голове. Забавный вид. Может дедушка мальчишки, возможно, прадедушка, для дедушки слишком старый, рассматривает щетку, держит в руках, вглядывается. Только ценности щетки они не знали, ведь такая щетка стоит денег, собственность семьи, не украденная, нет, не ими.
Как же я мог испытывать презрение к этим людям? Это невозможно.
Там было место, чтобы сидеть.
Как они ушли из той зоны, я не видел. Я был уже близко к воде, к предназначенному зданию.
За устьем реки стояли жилые дома, кучкой, да, слоями, один над другим, над ним другой, так далее. Веревки с сохнущей одеждой, я видел, как ходят люди, женщины, спиной к воде. Но они все равно увидят суда и станут гадать. Куда они плывут, эти корабли, может покидают страну. В какие земли. Кто там на борту. Кто дал этим людям такую хорошую работу. Наверное, их дядья, может они служат в правительственных учреждениях, а вот наши мужчины такой работы не получают, наши отцы были честные люди, теперь уже умерли, рано, да, честные умирают молодыми. Сердитых поубивали, а те, которые просто нетерпеливые, они же не обязательно сердитые, но их поубивали тоже. Саркастичные могут выжить, они и выжили, сарказм продолжается, но теперь уже только из ожесточения. Женщины смотрят на мужчин, дивятся, насчет мужей, в которых столько ожесточения, ожесточения только для жен, при детях они помалкивают.
Женщины смотрят на корабли, вдыхают запах далеких стран, свободы. Он только со мной такой ожесточенный, горький. Но ожесточение душит их, и детей тоже задушит. Откуда взялась эта горечь, девушкой она любила его, рисковый парень, вот будет жизнь. А теперь ничего, и она развешивает постирушку и смотрит на суда.
Сидеть на каменной дамбе стало холодновато. Я снял сумку с плеча и пошел оттуда в сторону, по улице вверх, возвращаясь, еще одна улица, я возвращался. Мне надо было встретиться с женщиной. Время подходит. Я шел мимо череды ресторанов, некоторые открыты на воду, приближаясь к тому, выбранному. Столы там стояли на высокой платформе, я мог оглядывать устье, наблюдать за плавательными средствами. Да нет, кто же назовет их судами. Я бы не назвал. Забавный был город. Местные так и похвалялись, так их и называли, эти плавательные средства, какие у. нас тут суда. Для тех, кто поездил, это было забавно, определенно.
Большой ресторан, много столиков, и все пустые, кроме одного, для лакеев, сидели все вместе, сбоку от кухонной двери. Для приема пищи было еще слишком рано. Все в должностной одежде, белые рубашки, черные брюки, почти не разговаривали, только зевали, приходили в себя после сна, а у меня мысли о долгих-долгих часах, на которые разум их умирает: сидят, смотрят вверх, в телевизор. Звук был убавлен. Я телевизора не слышал, а видеть видел, футбольный матч, европейцы, может быть, южноамериканцы, негромкие голоса комментаторов. Что принесет им день. Вечер. А может предложит какое-нибудь событие, другое событие. Возможно ли. Пока принес только меня, а я был им не нужен. Раздражал их. И все же интересовал, вдруг стану выбирать столик, как совершится выбор, может он выберет как раз меня, который так искусно накрыл вон этот столик, но выбрал тот, не этот. Вот я сажусь, между кухней и входом. А почему с этой, ближней к ним стороны, почему не в целой миле от них, почему не дать им передышку, так они думали. Я просто видел мозги в голове этого человека, как они бьются о черепушку, выпустите меня, выпустите, не могу я оставаться на этой работе, это и не работа вовсе, разве человек может так жить, я ухожу, уеду в Германию, в Копенгаген, мне говорили, в Осло отлично, в Амстердаме люди тебя уважают. Да, да, туда и поеду. Поеду туда. А почему не в Париж. В Париж. Или в Лондон, в Америцу, в Нью-Йорк, один мужик из родной деревни уехал в Нью-Йорк, друг нашего деда, много лет назад, дед подарил ему на прощание подарок, свою рубашку, очень хорошая была рубашка, А бабушка на него не стерпела и говорит, У тебя нет рубашек для других, у этого хоть билет был, чтобы в Америку ехать, а у тебя ничего.
И снова в прошлое, нескончаемое, какое там будущее, какая еще будущая жизнь, нет ничего, одно продление, если оно возможно. Мне следовало успокоиться, это все же мои нервы, собственные, чего же ногти-то грызть, у меня были сигареты, одну сейчас, одну потом, и деньги на сигареты потом, да, это придет, и будущее тоже придет. Сидя за столиком, мне видна была гавань, но только сбоку, а за окном проулок, путь, которым она безопасно до меня доберется. Теперь лакей, немолодой такой, вроде бы пошел к моему столику, но не дошел, а просто передвинул одно кресло и вернулся к другим лакеям, не взглянув на меня, я для него не существовал. Староват он был для такой работы. Самый умный из них. И все равно, штаны его лоснились и рукава рубашки, манжеты, из них нитки торчали. Всю жизнь пробыл лакеем, так и не продвинулся. Это его окончательная возможность. И все равно не годен, не для этой работы. Нет, он даже улыбнуться не мог, не научился, как это делается. Он говорит жене, я даже улыбаться не умею.
Ты должен попробовать.
Я пробую.
Нет, ты не пробуешь, не пробуешь, если бы так, иначе, тогда бы мог.
Тут он умолкает. Ответить-то нечего.
А она продолжает. Ну ты же должен попробовать.
Я попробую.
Ты должен. Это твоя окончательная возможность.
Но это всегда было ему не по силам, не умеет он улыбаться, даже этого не умеет. И вот теперь он, в средний период своих дней, наблюдает за молодыми людьми, желает им лучшего, внушает им запросы, не принимайте, не соглашайтесь с такими ожиданиям, они низкого уровня. Кто вам внушает, чьи это ожидания, что начальство, какое начальство. Он говорит молодежи, они не должны брать его за пример, ну если только за плохой. Не становитесь вроде меня, это превыше всего.
И тут сразу история про его брата или про дядю, что-то там насчет дяди, или про отца жены, старика, теперь уже умер, давно, про его мечты. И женщины, все сразу, их истории, на что они, эти люди, почему не идут из головы, уходите, пожалуйста, уходите.
Эти лакеи не обслуживали. Лакеи, которые там были, они меня не обслуживали.
Сколько времени было, близко к еде, люди подходят, как также и женщина, когда она появится, если она появится, может и не появится. Что тогда, если нет. Надо было обдумать это, приходилось, и потом дальше, все возможности, если она тогда не появится, что мне сделать, сумка у моих ног, лежит. И эти жизни вокруг, все они были в моей голове, наполняли мозги, мальчики с их прадедами, девочки, матери девочек, их предки, старые, старые женщины, морщинистые, смеющиеся, лакеи с женами, их мечты и сохнущие одежды, ветер с моря. Тот лакей, пожилой, лицо у него было открытое, сначала, потом затвердело, я видел, как он ко мне присматривается, для меня он был хуже всех, я ему был совершенно не нужен. Но это не имело значения, какое уж там значение, я и придумать не мог, мне все равно. Ненависть от него. Да, ненависть была, сначала ненависть, потом Дознание, теперь он вглядывался, не таясь, что я, кто? Моя одежда, турист не турист, чужак нашей страны, может я из этих, и что за сумка, что в ней. Оглядывал меня всего, секунду, другую, третью, потом поерзал на стуле, чтобы я понял, какой он храбрый. Да, храбрый человек. Я знаю. И поберегись, такая в нем была угроза, ты со мной поосторожнее. Я знаю. Не думай, что раз я лакей, да еще в таком возрасте, ко мне можно относиться с презрением. Вот он мне скоро покажет другую реальность, дурак дураком, мне даже улыбнуться хотелось. Что может он сказать молодежи, каким он был храбрецом, ну и чего достиг. Ничего.
Нет. Не следовало мне заходить в такой ресторан в такое время. Может у меня просто в голове все перепуталось, хотя нет, не думаю. У меня были две сигареты. Я вынул одну из кармана, и спички, и скоро уже курил, глядя футбольный матч, с Южной Америкой. Лакеи здесь на службе, я что ли виноват, что пришлось их побеспокоить. Ладно, не важно. Не надо было так со мной обращаться. В полдень придут клиенты. А сейчас было 11.30. Ладно, пусть, так ведь и я клиент, могли бы меня и обслужить.
И ни в коем случае не стоило им напускать на себя такой занятой вид.
Чем уж они больно занятые, при такой-то работе. Человек имеет уважение к себе и к своим коллегам. Я для них не опасен. Ну и ладно, такая оценка тоже чего-то стоила.
Но я требовал кофе, пива, может и бренди, большую порцию бренди. Наконец, лакей отошел от стола. Я был для него обуза. Он подошел, так и глядя одним глазом в телевизор, остановился передо мной, но головы не повернул. Я спросил пива. Теперь он посмотрел на меня, без улыбки, показал мне свои наручные часы. Я взглянул на них и одновременно увидел дверь, и за ней на улице того старика с шелковыми вещами, он приближался к предназначенной зоне. Мальчишку со щетками я не видел, может и он был там. Лакей смотрел на меня, показывая часы.
Для пива еще рано?
Да, сказал он.
Я бы выпил бренди.
Да, бренди.
И кофе, стакан воды, со льдом, лимон, да. А почему пива нельзя?
Извините.
Лакей оглянулся на своих коллег, но никто этого не увидел, все смотрели футбол. Но я поклонюсь им, одному за другим, когда появится бренди, если они на меня посмотрят. А если придется пройти десяти минутам, прежде чем мне принесут бренди, то я уйду, да, я не могу ждать так долго, объясните вашему хозяину, что вы опоздали, это нельзя назвать обслуживанием, так в ресторанах не обслуживают, все равно, что на вокзале, когда поезд опаздывает. Так вы уходите, сэр?
Да.
Ну и отлично, и не возвращайтесь.
Разумеется, не вернусь, еще и хозяину все скажу, и он вас уволит.
Хозяин меня не уволит, он двоюродный брат дяди моей жены.
Лакей положил у моего локтя салфетку, поставил блюдце, кувшин с водой, потом вернулся к коллегам, уселся, сгорбясь, в кресло, как будто и не покидал его, как будто не обслуживал. Но энергия в нем была, ее не утаишь. С салфеткой и блюдцем он все проделал легко, опрятно. Прошли минуты. Он сходил на кухню, оттуда к моему столику, расставил кофе, бренди, вернулся к своему столику. Один из лакеев что-то тихо сказал ему, и он ответил так же тихо, оба улыбнулись.
Мне так и хотелось подойти к их столу, спросить у всех, что за глупости, господа? Но я вместо выпил воды и потянулся за бренди, салют, да, нам надо работать всем вместе, солидарность, она вовсе не лишена смысла, разве в глубине души мы не коллеги, мы все.
Стали уже появляться другие клиенты и теперь, теперь пришло время, и через окно в проулок я увидел, как она приближается, походка нормальная, сумка на плече, шелковый шарф покрывает волосы. Я вышел из-за столика, чтобы встретить ее, поцеловались, я взял ее за руку, мы оглядели друг друга, поцеловались, вернулись к столику, я держал ее под руку, она прошептала, Ну, как ты?
Я улыбнулся, помахал рукой, заказал ей кофе и еще одно бренди для себя, и она сказала, я тоже, бренди, спасибо, может и на еду деньги найдутся?
На еду денег не было, но запахи еды из кухни были бесплатными. Я тоже проголодался. Потом поедим. Нам еще ждать здесь, двадцать минут.
Лакеи наблюдали за ней. Да, красивая женщина. Я видел, пожилой тоже присматривается, без антагонизма, придумывает нашу историю. После полудня уйдет часа на два домой, расскажет ее жене, а к вечеру вернется сюда. Да, теперь он гадал, может я и не такой, как он полагал, подозревал. Лакеи понимали, что она не турист, не иностранный, это они поняли, как только увидели ее. А теперь обо мне, с учетом, что мы вместе. У меня была тогда вторая сигарета, отдал ей, она покурила, минута покоя, потом вернула мне, отпила кофе. Да, и скоро все внимание отвлеклось от индивидуальных людей, бешено, такой переворот в клиентах, в лакеях, сами-то волнения происходили в предназначенном здании, но вырвались наружу, на улицу, с нашей точки зрения ничего не было видно, люди толпились у окна, которое глядело на гавань, там все действия, крики, стрельба, все сильнее, беглый огонь, еще более беглый огонь, потом пистолетные выстрелы. Мы остались сидеть. Снаружи все больше действий. Я продолжал разговаривать с ней, она смотрела мимо, на тех, кто стоял у окна, наблюдая сцену внизу, на клиентов и на безопасностей тоже, я увидел, как они появились с нашей стороны, а дальше еще люди тащили тело и множество безопасностей бегало, туда-сюда, туда-сюда, и опять. Мы тоже уже пошли, встали из-за столика, сумка у меня на плече, оставили деньги за напитки, лакеи в дверях немного сдвинулись, один все смотрел на нас, расступились, давая нам протиснуться, словно нас и не видя, не видя нас. Пожилой нашего ухода не заметил, он смотрел на поразительные события, которые происходили на улице, за окном, в глазах его, широко раскрытых, было удивление, как такое может случаться! да как же это, удивительно, какой иногда бывает жизнь, и ведь она для многих такая, всегда.
Мы шли вдоль променада, удаляясь от тех, других мест, я рассказывал о времени в ресторане, о впечатлениях лакеев, о мальчике и старике, прадедушке, о серебряных щетках, американских дядюшках, какое будущее, нет никакого будущего, если в этих зонах, так, наверно, уже мертвы, но это обычное дело, и я ей так и сказал. Она поколебалась немного, глядя на меня, ладонь в моей ладони. Я заметил, что мы проходим мимо современного бара, и у входа в него женщины что-то разбрызгивают, жидкость, густую жидкость, прогорклую, вроде пахты, такой вот запах. Они разбрызгивали ее, дезинфектант, методично, но мысли их были где-то еще, в утраченных мирах.
8. «слова, мысли»
Я рано встал, не спалось, пора уходить. Товарищ спала. Я увидел ее шкатулку и заглянул туда. Я сам подарил ей эту шкатулку, нашел в одном месте, теперь не помню, деревянная такая, изукрашенная. Товарищ держала в ней вещи, безделушки и еще записную книжку. Это она так говорила – записная книжка, но это была не записная книжка, а детский дневник. Я открыл этот дневник, почитать, она говорила, там ее мысли. Читаю, и вижу, что мои мысли в нем тоже записаны. Она говорила как-то, что станет записывать мои мысли, ну вот, так и сделала. Я этого не хотел. Сразу ей и сказал. Она улыбнулась, как будто я притворяюсь, а я не притворялся. Мне это дало странное чувство. Ответила, Ты суеверный, вот уж не думала. Улыбнулась и тронула мне лицо, но во мне что-то такое, и она отдернула руку. В чем дело?
Пишешь, так и пиши, что тут скажешь, помешать тебе я не могу.
Это чтобы сохранить для меня наши мысли.
На это у тебя есть ум, память.
Память я могу потерять. Что-то не так?
Да ничего, я не хочу, чтобы ты записывала наши мысли в книжку.
Ты суеверный.
Нет, просто не хочу, чтобы ты это делала, там же насчет будущего.
Суеверный.
Больше я ей ничего говорить не стал. Я звучал глупо, да, суеверно. А теперь заглянул и увидел в ее дневнике слова, которые помнил, «Раз существуют дети, а они существуют, что мы можем поделать, так уж и есть. В Бога я не верю. Ничего больше нет. Одно продление». Это слова из моих мыслей, ее слова.
Я слышал ее дыхание, она лежала на спине, рот слегка приоткрыт, и я, ну правда, увидел, какой она будет, если старая, старухой, но мы ведь тогда умрем, я-то конечно умру. И она, я так думаю. Сколько нам еще. Я перевернул несколько страниц. И еще. Эти слова были пьяными мыслями, пьяными были. Да, так, когда я это сказал, я был пьян. Наверное. Где мы тогда с ней были? Не могу вспомнить, но только не в этом городе. «Будем ли мы жить и после этих времен. Навсегда». Глупости говорил. А она их записывала.
Вот она записала это, как будто оно меня выражает, так глупо, глупо, детская самонадеянность. «Бога нет, одно продление, мы будем жить вечно. Может ли будущее настать для нас». Да. Я сказал ей так, да, но ответ на ее вопрос – нет, будущее не настанет. Для нее меня. Может мы сможем остаться вместе, как мужчина с женщиной, и после этих времен. Свет погас.
Нет. Я сказал, нет.
Дальше читать не смог. Смотрел, как она спит. Веки подрагивали, она видела сны. Я был усталый, но вернуться, прилечь рядом с ней не мог. Я же не мог спать, правда, если бы мог, то вернулся. Времени не было, нет времени, что такое время, у нас его нет, времени для продления, такие слова это только слова, и мои мысли о моих мыслях, что это были за мысли. Их много больше, я и сказать ей не мог мою первую мысль, когда просыпаюсь.
Но и за гробом тоже жизнь. Это я знаю. Это была всего только комната, мы гостили в одной семьи, а теперь пора уезжать. Я приготовился к отъезду, положил шкатулку в одну из сумок, разбудил ее, на коленях, положив ладонь ей на лоб, сжав ее голову. Она проснулась сразу, взглянула в этот миг на меня, я один, да, она улыбнулась. Я поцеловал ее в губы. Они в это время мягкие, утро, со сна, и губы опять завлекли меня к ней под одеяло, ее тепло всегда такое мягкое, я целовал ее и там отвердело. Она сказала, что у нее будет сыпь от моих усов. А бритвы не было.
Я налил воду, чтобы она помылась, семья оставила нам немного хлеба. Предыдущей ночью тут было совещание. Еще немного и уходим, сказал я ей, стукну им в дверь, мы попрощаемся.
Нет.
Нет?
Они так не хотят.
Здесь дети, они играли с нами.
Надо было идти. Она взяла меня за руку, глядя на сумки, в ее было также наше оборудование. Я оторвал от пола сумку побольше, очень тяжелую, пристроил себе на плечо, распределяя вес, потом увидел бутылку вина, мы принесли ее с собой прошлой ночью. Пятна остались, сказал я, показав на тюфяк. Товарищ кивнула, подождала, может я еще что скажу, но ничего, и она потянулась к дверной ручке.
9. «вот насчет нравственности я не в курсе»
Минуту назад в замке повернулся ключ. Я увидел в зеркале мои глаза, они не казались усталыми. Был вечер и была работа, ее следовало сделать. Да, можно сказать так, работа. В городе тысячи людей, тысячи и многие, многие тысячи, десятки тысяч. Если она не устала сверх меры, если сможет выйти, там было такое кафе, в нем люди, коллеги, семьи, безопасности. Я бы отвел ее туда. Она уезжала на шесть дней. Как она теперь, может время было трудное и для всех этих коллег, кроме нее, каково им было и как они все это выжили. Многие не выживают, это правда, конечно, времена опасные, трудные времена, но она выжила. Это я знал, получил недавно уведомление. Но что-то там было, что-то еще, вот-вот появится в мозгу, а потом уже появилось, и я приготовился к чему-то от нее, к чему-то. К чему, я не знал. Может чего-то ждал, чего я мог ждать от нее, нет, вряд ли, она всегда делала по-другому, всегда. Но что-то должно было произойти, что-то уже произошло или должно было, не знаю. Придумать я не мог, но знал.
И вот ее ключ в замке, она вошла, слышно, как ходит за дверью. И мои воспоминания возвращались тоже, да, она бы это почувствовала, присутствие моей жизни, оно ее как будто душило, почему я здесь, это ее комната, я что, забыл.
Да, забыл о том, что легло между нами.
Может и она тоже забыла.
Она вошла. Нет, не забыла. Это я сразу увидел. Не говорит со мной, и не смотрит, а что я могу сделать, ничего. Она была с сумками, и теперь разбирала сумки в комнате, две сумки, раскладывала вещи по ящикам, у нее был стенной шкаф. У меня не было. Мои вещи все в одной сумке, где она, под кроватью, у меня стенного шкафа нет, шкаф весь ее, все для нее, это ее комната.
Я поздоровался. Она не ответила. Возможно, она и не слышала моих слов, может я их только подумал, а не сказал, может я и вовсе не существую, только в моем сознании, люди могут существовать так не существовать. Я отвернулся от нее, посмотрел в окно, из этого здания, высокого, много высоких этажей, шесть, семь, что-то так, я их не считал, может быть, сейчас посчитать, чтобы занять чем-то ум, на высоте какого этажа мы в этом здании,
потому что она не смогла сказать мне, ну как ты, даже этого, ну как ты. Может я существую только в моем сознании. Так что она и не может со мной поздороваться! Нет! Я спросил ее, в чем дело. Сказал ей. Что тебе не нравится? Что-то ведь, так что? Так я сказал.
Теперь она посмотрела, и я сразу увидел в ней отдаленность, в ее глазах была отдаленность от меня, и большая.
Я улыбнулся. Может бросал ей вызов, наверное так. Я не хотел, чтобы она причинила мне боль, знал, она это уже делала. Да, причиняла мне боль. Мы были вместе уже недели, много недель, делились всеми делами, переживали их. Что я мог об этом сказать, все, как было, любовь моя. Как поступают женщины, если б я знал, я не знал, но мне тоже пришлось отвернуться от нее, смотреть из окна, как там снаружи, уже темно, вот как она вернулась, так и стемнело. Я молчал, глядя. И она тоже глядела в окно, где горы. Ночное небо. Как высоко, еще выше, видишь, ее кресло у окна. Из этой квартиры красиво, моря нет, мы не наблюдали парусных судов, мир лежит сейчас внизу, или, если на то пошло, может лежать, ограниченный мир, там периметры, периметр, один из смыслов этого мира, нашего мира, навязанного нам, нами самим, нашим народом. Если бы мы могли куда-то уплыть. Я так ей сказал. А вдруг смогли бы, уплыть отсюда, далеко, все вперед, вперед, в океан, в новые земли, сейчас удаленные. Могли бы? Почему бы и нет, нас двое, наши жизни вместе. Так я ей и сказал, может мы сможем куда-то уплыть.
Она не пошевелилась. Я ждал. Ночь становилась темнее и освещение в комнате тоже, убывало, я не двинулся, чтобы нажать выключатель, ни она, ни я, она могла сдвинуться, я не мог. Повисло мертвое молчание. Полагаю, что так. Это могу сказать. Я сидел, мы оба сидели, я на кровати, она в кресле у окна. Прежде, чем она ушла те несколько дней назад, я спал, а она сидела в этом кресле, не могла уснуть, гадая, как я это сделал, почем это так. Я сказал ей, а почему же и нет. Ты не ощущаешь вины, да, я не ощущаю вины, я могу заснуть, очень легко. А я не могу, сказала она, так страшно устала, а не могу. Она ждала, я ждал, да, тоже, чтобы она заговорила. Я бы рассказал. Тогда, позже. Когда – тогда. В любое время, и не один раз, сколько угодно. Но сначала должна была она. Ей следовало заговорить, это ее. Прошли долгие минуты. Мы сооружаем собственных призраков, выдумываем их. Мы видим эти черно-синие тучи и тени, все такое таинственное, люди, уже умершие в жизни, живущие в наших мозгах. Вспоминаем, где мы тогда были, и проносимся сквозь облака, такая у меня была мысль, может мне прыгнуть, да, прыгнуть я мог, она не знала, никто не знал, но я, правда, мог. Если меня толкнут не толкнут, если попросят, я мог бы выпрыгнуть, возможно, и она тоже, она тоже. Ведь и она человек, и видела все эти беды, все мы их видели. Не так ли она и думает, раз она здесь, то и я должен быть, но из-за того, что она здесь, я и не способен сдвинуться с места, поэтому. Опять же работа, моя работа, ее нужно делать, это работа необходимая.
Снова к окну. Я говорю, что она глядела не на меня, а в окно, и я не на нее, а тоже в окно, и я ощущал ее запах, знал ее, хоть прикоснуться к ней, да, коснуться ее и прижать к себе, конечно. В ночное небо, мы смотрели в него, да, я выпрыгнул бы отсюда, разорвал облака, что у нас за жизнь, люди исчезают, ну и лети, если тебя толкнули так, как эта женщина, которая думает, что я только поэтому здесь, я и без нее мог бы понестись навстречу смерти, выпрыгнуть, смерть это бегство, смерть означает теперь – безопасность, покой, покой, я бы прыгнул прямо отсюда, если б она поглядела на меня определенным образом, если бы только она так на меня поглядела, определенно, я прыгнул бы и разорвал облака, определенно сделал бы так, это определенный факт, да, мадам-коллега, любовь моя, товарищ-коллега, ну как ты нынче, в этот вечер, bonne nuit тебе, buenas noches,[1] хорошо, что мы еще живы, привет, привет, это здорово. Может она чего-то хочет от меня, я не знаю, не знаю, что это, что я должен сделать и сказать, что я могу сделать, я не устраиваю революций, в этом все дело, не знаю, выжить до старости, это только естественно, вот так, чем мы, отдельные люди, и занимаемся, человеческие существа, любовь моя, ей невыносимо быть со мной, я вижу в ней это, ей не
оскорбительно для нее, я оскорбителен, для нее
И все равно ничего не может сказать, поговорить со мной, почему не может, не говорит со мной, мы так долго вместе, через столько прошли за эти многие, многие недели-и ничего, с кем она повстречалась, она с кем-то встречалась, конечно, встречалась, а может и нет, может и не встречалась, кто она – богоподобное существо, женщина земная и небесная, женщина с планеты Марс, чье тело я знаю так хорошо, знающая и мое тело
Я дрожал, уже трясся, дрожал, один, да, что случилось, сказал я, когда она дала мне сигарету, а другую взяла себе. У нее были сигареты. Одну дала мне, а другую себе, самой. Но может быть, мы покурим, покурим вместе, мы делали так, курили одну сигарету, вместе. Теперь отдельно, одна мне, другая себе. Для меня это имело значение. Я мог разозлиться. Конечно. Но нет. Я мог расстроиться, но не расстроился. Давайте внесем тут ясность. Я исполнял работу, какая была необходима. Работу, которую я исполнял, это могу сказать, она не одобряла. Сама мне так говорила, она не имеет никакого значения в мире, который мы с ней делим, так она говорила. Значения. Она говорила смысла, никакого смысла. А что такое смысл? Кто может сказать, что имеет смысл, что не имеет. И то, и это, оба имеют смысл, они сами и есть смыслы, не знаю, так она говорила. Я слушал не очень внимательно, был сердит на нее, какой еще выбор, как будто он у меня был, не было у меня никакого, и ни у кого из нас нет. Да, сердился, но не так на нее, как на инфантильность ее поступков, ее доводы были инфантильны, я ей так и сказал, и еще о том, как это было необходимо. То, что мы делаем, это необходимая работа. Я сказал ей, В этом нет ничего плохого. Для нас это ценно, может в таком-то смысле это и ложь, ты говоришь о смысле, а разве есть какой-то смысл в этом мире, в нем даже общности нет, ты думаешь, в нашем мире есть общность? Это инфантилизм.
Она сказала, Это я инфантильна?
Не ты.
Ты сказал, что я инфантильна, вот что ты сказал
Что?
Ты сказал это, что я инфантильна?
Да, о том, что ты говоришь, это инфантильно.
Это твое высокомерие, бездумность.
Я не высокомерен, нет во мне высокомерия
В тебе нет высокомерия, она улыбнулась.
Не того, о котором ты говоришь
Тогда какое же, какое тогда? Ты же что-то в имеешь виду, так что это?
Я тебя не понимаю.
Что-то ты же имел в виду.
Ничего.
Тогда это бессмысленно.
Ничего из того, что мы делаем, ничто из этого не осмысленно, ничто, ничего. Ты что-то видишь в этом, а я ничего.
Ты ничего не видишь, да, ничего, ничего, что могло бы быть дурным. Ну еще бы. Этим вы и оправдываетесь, это же основа основ, так мы оправдываемся, что же в ней может быть неправильного, ничего не может. Мы же должны подлавливать людей. Это хорошо, хорошо для человечества, хорошо для всего мира. Это приближает нас к свободе, уловление людей.
Я понял, что во всем этом дурно, сказал я, дурен сарказм, который ты пускаешь в ход
Я обращаю его на себя. На себя. Против тебя я никакого сарказма в ход не пускаю. Мы обязаны расставлять людям капканы. Что в этом правильного и хорошего.
Эти люди совершают проступки.
Все люди совершают проступки.
Но эти – наши коллеги. Они злоупотребляют дискреционной властью. Есть проступки и проступки
Проступки они проступки и есть.
Их проступки серьезны.
Ты знаешь, что они делают, эти люди-коллеги.
Люди-коллеги, да, я знаю, что они делают.
Ты? Ты знаешь что они делают?
Я уже сказал.
Ах, ты уже сказал.
Уже сказал, и еще говорю, тебе, да.
Какой ты храбрый.
Храбрый, потому что разговариваю с тобой? Да, я храбрый, да, еще бы, я все тебе говорю.
Это же коллеги.
Да, и я уже говорил, они злоупотребляют дискреционной властью. Вот это они и делают. Да, они коллеги. Возможно, ты об этом забыла. Знала, знала, да вдруг и забыла.
А ты не забыл?
Да, и потому говорю это тебе. Я не забыл, я об этом и говорю.
И тебе, стало быть, известно что это за власть.
Да, известно, это та власть, которой можно злоупотребить, она мне известны.
И известно, что такое злоупотребление.
Да.
Каждый из нас, говоря между нами, повинен в злоупотреблениях.
Да.
И ты это знаешь.
Это ты, ты что-то знаешь.
Я знаю, что такое нравственность, сказала она, нравственность падает, это я знаю, да, среди наших коллег, недоумевающих, что делать дальше, как поддержать людей, все эти жертвы, горюющие семьи. Может коллеги и видят, какие существуют пути, но для них эти пути закрыты, да, поэтому нравственность и падает, конечно, падает, и я это знаю, и ты должен знать.
Разумеется, знаю, нравственность падает, а у них так давно уж упала, они едят по четыре раза на дню, пьют вино, выдержанное вино, часы отдыха, какой покой, хороший кофе, давайте выпьем французского бренди, коньяка. Может их нравственность можно быстро повысить, дайте им сигареты, сигары. Нравственность падает. Что в самом деле, органы Государства убивают людей, органы Государства режут их целыми толпами, да, а нравственность коллег, какая жалость, она так упала, нравственность-то, теперь вот все говорят о свободе убийства, давайте лучше посмотрим футбол, какой там счет, а где телевизор, да в кафе-баре, Fräulein, ein Bier zwei Bier, danke,[2] видите, как нападающий гол забил, ну нет у нас оппозиции, просто прошел, словно танцуя, сквозь нашу защиту, и защиты у нас тоже нет. Но зато нравственность низка, еще и ниже стала, дайте мне пива, пожалуйста, и колбасы какая получше. Насчет нравственности я не в курсе, еще бы.
Я совсем не знаю тебя.
Нет?
Совсем не знаю, это ты, а я тебя не знаю.
Нет?
Это все, что ты можешь сказать – нет?
Это все, что я могу сказать, все, что я тебе говорю
А, ты теперь вон о чем
Да. о нем самом, я говорю тебе, и ты меня слышишь, и потому я говорю это, тебе. Я и кричал бы, дайте мне крикнуть, откройте людям окно, дайте крикнуть, и я закричу. Всем.
Да, сказала она, открыть окно, давай, я открою, а ты покричи. Люди глухи, кричи, кричи из окна, хоть выпрыгни из него.
Я не глух.
Ты глух. И слеп.
Спасибо.
Мы не способны разговаривать, сказала она, больше не способны.
Я-то разговаривать способен. С тобой. Только с тобой. Ты разумный человек, ты все понимаешь.
Разговаривать мы не способны.
Это ты не способна, ты говоришь о злоупотреблении, что я злоупотребляю тобой, ведь ты это говоришь?
Ты не злоупотребляешь мной, только я тобой. Прости. Нравственность все падает, моя, собственная.
Твоя собственная нравственность?
Да.
Значит, что-то должно случиться, раз она падает. Скажи-ка мне, что из этого может выйти? Что происходит, когда падает нравственность? Расскажи о поступках, на которые способны ослабевшие люди?
Так ведь это ты у нас такой опытный, вот ты мне и расскажи, если, конечно, это возможно, ты же должен знать, ты ведь все знаешь.
Ты думаешь пристыдить меня тем, что говоришь, но пристыдить меня ты не можешь, не можешь.
Я и не надеюсь тебя пристыдить
Да, как в то утро перед твоим отъездом, шесть дней назад, тогда здесь была еда, и вы ели, я услышал тебя, и вошел, услышал, ты сидела с нашими коллегами, разговаривая о разном, о недовольстве в народе, я слышал, ты и тогда говорила о нравственности. Я слышал, хоть и не долго прислушивался. И еще я заметил, вы курили сигареты.
Но не ты.
Нет.
У тебя сигарет не было.
У тебя сигареты были, а у меня нет. И еда у тебя была, а у меня не было.
Еда была в твоем распоряжении.
Но не сигареты. Вы курили сигареты, вы трое, ты и двое других, тот, который следит за тобой
Он не следит за мной
Я видел его глаза, следит, он-то и злоупотребляет, я знаю этот взгляд, которым он на тебя смотрит. Сигареты были у всех, да, и ты сидела с ними. Обсуждала дела.
Разумеется.
Ты сидела с ними, ты с ними разговаривала.
Разумеется.
Ты разговаривала с ними?
Если ты так считаешь.
Так я и считаю.
Да.
Ты говорила о нашей работе, что она для дегенератов.
Дегенератов, я так и сказала?
Да, дегенератов.
Ты слышал, как я произнесла это слово?
Слышал, от других.
От других, так это они тебе рассказали?
Я слышал.
Но я не использовала этого слова.
Значит, другое.
Дегенераты это ваше слово, слово которым вы описываете себя, работу, которую вы исполняете.
Работу, которую мы исполняем. Ваше слово, наша работа, я описываю ее другим словом – обязанность, мы обязаны ее делать.
По-моему, ты опасный человек. При всем уважении к тебе, я думаю именно так, ты опасен для людей.
Если я опасен для людей, так из этого возникает уважение. Это не порицание. Ты используешь его, как порицание, а для меня оно не такое, эта просто работа, которую мы должны исполнять, источник уважения. Ты осуждаешь ее, произносишь слова враждебно, некоторые, но эта работа необходима, она должна делаться, мной, тобой, мы делаем ее, если не мы, то кто же, если мы ее делать не станем. Вот, пожалуйста, сказал я.
Что?
Я ждал, чтобы уйти – твоего возвращения, в безопасности ли ты
Я в безопасности, и ты тоже. Она отвернулась, смотрела в окно. Это моя жизнь, сказала она.
Есть будешь?
Уже поела.
Ты поела?
Да. И кроме того, эта комната – моя.
Я оставлю ее.
Она не ответила.
Я оставлю твою комнату.
Когда?
Сегодня. В эту минуту, теперь уже в эту, я ухожу.
Нет, сейчас слишком поздно, завтра. Сегодня мне надо поспать. Она вздохнула. Прошу тебя, я устала, так устала.
10. «лекция, тема: периоды уязвимости»
Они пропитывают собой все, являясь неотъемлемым, тем, что также именуется всеобщим, хотя бы с точки зрения властей. Вникая в них, обнаруживается их все большая сложность, проникающая в состав того, как оперирует общество, от Государства и его правительства и ниже. Тогда, как и теперь, государственных органов безопасности, активных подобным образом внутри нашей территории, непосредственной или более широкой, не было, так что мы просто получали рекомендации от начальств, должным образом назначенных. Но, по-видимому, в периоды уязвимости люди вступают в конфронтацию с такими органами лицом к лицу, и вскоре начинают осознавать их существование хотя бы в плане его отрицания, хотя бы остаточном.
Эти начальства и безопасности принимают на себя роль оборонительной или обвинительной власти, судебной, присяжной, карательной, как потребуется. Оперативные роли. Это не политика. Часто говорят о «надлежащих выводах», что это означает.
Они не переносят сложностей. Утверждают, что в них нет необходимости, неуместны. Как мы сами понимаем положение дел, так им и говорим. Мы не скрываем нашего восприятия данной ситуации, данной нам. Мы им ничего не утверждаем. Является ли это определяющим в отношении правительства, как органа Государства. Разумеется. И они удивляются, что мы понимаем все сразу.
Это можно только принять. Если действительно так все и есть, это можно только принять. Хорошо бы еще понять, что нам внушают. Демократический контроль, его существование одобрено. Другие органы, действующие независимо. Это можно понять. Еще существует контроль исполнительный. Однако следует также признать, что это гарантирует оперирующим их независимость, следует также понять и это. Тоже и гласность высказываний. Конечно, такой контроль допустим, это также следует признать. Но когда мы, как в настоящий момент, более полно вникаем в «защитную деятельность», мы приходим к более полному пониманию глубины конфронтации, природы того, что есть конфронтация. Нам нет необходимости сохранять неведение относительно того, что таится в нашей среде, как не требуется и того, чтобы в нас насильно впихивали подобную информацию. После того, как мы накапливаем соответствующие данные, а мы их накопим, дальнейшее понимание этой или родственных ей ситуаций становится нашим. От этого места и где бы то ни было. Мы понимаем, что говорится, или что говорим мы сами. Стало быть, это означает произвести скачок в логическом ходе рассуждений. Стало быть также, мы приходим к пониманию, что если человек умирает в борьбе от телесного повреждения, несчастного случая или немощи, от того, что они именуют злом, или вследствие того, что они именуют военными действиями, в результате намеренных поступков или упущений, злого умысла, пренебрежения сохранностью людей и далее, и что по международному судебному решению это образует гражданское или уголовное преступление, то на этой стадии действует понятие ценности, и все это не должно лежать за пределами нашего контроля, поскольку любая такая смерть есть акт терроризма. Инспирированного Государством.
Вот в чем все зло. Ситуация не контролируется.
Ситуация может рассматриваться, как лежащая за пределами контроля, хотя бы за пределами контроля человеческих существ, органов из человеческих существ. Если мы верим в существ, которые не мы, боги, то мы обращаемся к богам, и таким образом получаем порок или что еще, все что угодно, что лежит вне нас, вне нашего контроля, нас, человеческих существ. Но то же относится и к гражданскому. Это не противоречие. Что такое гражданский. Да, ситуация контролируется. Но кто контролирует-то, кто контролер.
Мы задавали эти вопросы. Нам рекомендовали образ мысли, нам надлежало понять, какие результаты достигаются этими смертями в рамках нашей культуры. Как наш народ должен реагировать на них, как реагируют на них государство и верхние начальства. Таким способом мы установим, как они могут реагировать на данное «защитное формирование», как это следует делать
Да, и как мы реагируем на них, исходя из этого понимания. Довольно ли того, что мы делаем. Некоторые говорят довольно.
Совет Государственной Безопасности реагирует, как на таинство, но мы не безопасность, для нас здесь таинства нет, тем не менее, мы занимаем лидирующую позицию, как если бы мы владели таинством. Безопасность питает к этой позиции отвращение. Все власти. Можно слышать, как они повторяют так при всяком случае, что нет тут никакого таинства, какое еще таинство, если только его не вымышлять как таковое, намеренно скрывая правду. Мы также утверждаем, что таинства нет. Была жизнь и нет жизни. И кто ее отнял.
Мы можем встать на позицию приезжего, любого приезжего, чужака среди нас, туриста, гостя нашей страны. Как ему неприятно. И более того. Но мы-то должны реагировать. Как мы должны реагировать. Мы можем заткнуть уши и приезжего не слушать, такие рекомендации. Можем не верить в ситуацию, проявлять осмотрительность и тем самым оставаться контролерами. Но ведь возможно, что и нас контролируют. Некоторые так и говорят.
Таковы вопросы, которые мы должны задавать, вопросы, требующие, чтобы их задавали. Мы перечислили эти вопросы, ответы не поступили. Реплики – не ответы, может быть и ответы, но не вообще.
Юридические круги, структуры власти, сферы влияния в этих кругах и структурах. Правоведы и прочие люди высокой морали, все сплошь профессора, ассистенты помощников политических лидеров, секретари благотворительных корпораций на этой планете Земля. Они разговаривают с нами. Они тоже члены человеческого вида. Большое спасибо. Они обращают наше внимание на международную законность среди и между владельцем некой собаки, которая покусала некоего ребенка, и родителями такового ребенка. Нам предлагают пример, распространенный в этих кругах, часто используемый и часто неправильно. Таким образом, мы выслушиваем эти примеры, чтобы вступить в беседу. А как еще поговорить. Говорить мы можем. Можем ли. Да, научились. Можем даже с юмором. Юмора нам хватает.
Мы обнаруживаем, реакция на эти примеры может достигать оснований, фундаментальных принципов нашего поведения, как мы реагируем один на другого. Эти принципы, способы существования, они всеобщи. Настоящим мы согласуем отправную точку, члены человеческого вида, все мы. Вникая в предмет, обнаруживается его все большая сложность, проникающая во все части общества, от любого Совета Государственной Безопасности и его правительства и выше, и ниже. Люди лицом к лицу вступают в конфронтацию со всеми начальствами, органами, отрядами правопорядка, другими, армейскими, безопасностью, местной и заграничной, в роли защиты или обвинения, судебной, присяжной, карательной, внесудебной, упрощенного судопроизводства и всегда с правительством, как неотъемлемым государственным органом, демократически избранным, должным образом назначенным.
Это ведь мы сталкиваемся лицом к лицу с начальствами. А кто мы такие. Мы те, кто ищет. Многие коллеги, многие люди. Существует дезинформация и пропаганда. Раньше она усиливалась, а теперь укрепляется и укрепляется снова. Немногие из нас заметят это, забеспокоятся. Кто может горевать, открыв для себя реальность контроля со стороны Государства. Признано, что этот контроль существует. Все могут полностью отдаться политической деятельности, придя к пониманию репрессий, которые существуют в обществе, в культуре, в нашем сообществе. Отдельный человек приходит к пониманию, свободно принимает его. Конфронтация может быть непосредственной. Это делает честь. Приезжий может уважать это, внимательно разглядывать. Люди, чуждые нашей стране, также имеют опыт, другой. Кто-то им не изнурен, они вне этих много более утомительных обстоятельств. А мы изнурены, очень многие из нас, все тело болит.
Некоторые не желают слушать того, что мы говорим, продолжая приводить нам примеры из международных кругов, про детей, идущих из школы. Какой еще школы. Это наша страна, родина.
Примеры, они для нас, но нам не нужны примеры, столь излюбленные заграничными источниками.
Ну пожалуйста, выслушайте нас.
Да выслушаем, выслушаем, что нам еще остается, слушать дозволено. И нам предлагают примеры, про владельца одного пса, который покусал одного ребенка, ну да. Маленькие девочки и огромных размеров псы, злонамеренные псы, один такой просто перескочил через высокую изгородь или забор частной собственности, да, сада, и как таковой впился зубами в ногу ребенка, худенькой девочки, хотя крови видно почти что и не было. Сэр, в реальном мире природы такие явления не единичны. Существуют обидчики, порочные люди, еще более порочные. Нам приходится думать об этом. Может это и теория, но такова и практика, таков мир и нормы его поведения. Маленькие дети как таковые, каковы бы они ни были, подвергаются нападениям, жестоко, безжалостно, да, огульно, со стороны этих все более крупных физических лиц, сильных физических лиц, еще более порочных обидчиков, за которыми стоит мощь всех кругов, армейских, юридических, таковы же тогда и агенты терроризма, персонально, независимо. Это возможно. Кто бы мог подумать.
Выходит, это все то же самое, когда соседей и родственников, старых женщин выволакивают на улицу и открывают стрельбу по их ночным одеждам и волосам, или группы стариков раздевают догола и связывают им мошонки одну с другой, одну с другой, одну с другой, по цепочке, чтобы водить их по улицам и чтобы другие члены общества могли глумиться над ними, а если нет, то и они будут подвергнуты карательным действиям безопасностью, армейскими или еще какими государственными оперативными, уж какие найдутся.
Нам говорят, такие дела не подлежат обсуждению. Всякие специалисты и профессиональные эксперты, правоведы, доктора, все профессора и высшие начальства, все смотрят на нас, думая поулыбаться, поулыбаться над нашими вопросами. Могут присутствовать и определенные приезжие, которые пытаются не улыбаться, уж так пытаются. Кто они, эти приезжие, кем могут быть, чужаками не чужаками. Они что-то знают, улыбаться или нет, что именно делать. Мы можем спрашивать про «улыбаться», расскажите нам про «улыбаться», что это «улыбаться» означает, не почему вы улыбаетесь над нами или нет, а что означает, такой вот теоретический вопрос.
Как мы устали от этого, говорят они, от ваших вопросов.
А мы говорим, ладно, что ж вы тогда начинаете, мы должны что ли думать не о жизни в нашей стране, а о хорошеньких девочках, идущих домой из школ и колледжей вашей страны Сэр, давайте отвлечемся от детей, идущих домой из ваших школ и колледжей, к перескакивающим заборы злобным псам, давайте обсудим убийства и казни, политические убийства, что называется, убийства, инспирированные Государством, направляемые Государством. Это значит, сделать скачок в цепочке рассуждений. Ну да. А также прийти к заключению, что в борьбе, когда человек умирает от телесного повреждения, несчастного случая или немощи, что это тоже можно рассматривать как политическое убийство или, что называется, казнь. Так они нам говорят. Мы отвечаем. Да, мы все согласны, это тоже акты терроризма.
Вот теперь можно заняться и ситуацией среди и между владельцем злобного пса, перескочившего через калитку сада, который покусал маленького, худенького ребенка. Еще более важную роль играют в этом деле родители, родители ребенка, взрослые человеческие особи, к которым и следует относиться как к взрослым человеческим особям, тем, для которых существуют институты Государства, в настоящее время, благодаря соответствующим демократическим процедурам, работающим хорошо или не хорошо, не важно, но с согласия, с согласия, к добру или к худу, процедурам, которые мы можем защитить, укрепить, как таковые того потребуют, да, демократическим демократическим демократическим.
Вот это то, что мы есть, наша независимость, самоуправление. Пойдем в наших рассуждениях дальше. Это мы можем в любое время. Почему бы и нет. Это время есть наше время. Все оно в нашем распоряжении. Все действия предпринимаются в наших городах, и селах, и территориях, в нашей сельской местности, на наших озерах, в долинах и взгорьях. Мы сами приводим их в действие. Владелец озверевшего обидчика, этого бешеного пса, вместилища всех пороков, совершенно не контролируемого, этот владелец начинает с отрицания, отрицает каждый эпизод этого дела шаг за шагом за шагом, особенно, что он ни какой такой собаки не знает, будь то злобная или укрощенная в домашних условиях, и ничего не знает относительно какого бы то ни было ребенка, женщины или мужчины, будь то укушенных или облизанных в самой дружелюбной манере. Владелец готов допустить, что он, так сказать, имеет пса, действительно, но что касается этого, три четверти населения данного участка, если не больше, все имеют асов, да, последний источник питания, мы же все голодаем, кто этого не знает, да, у меня есть собака, я ем собаку, может это и ненормально, может, сэр, и цыпленка есть тоже нехорошо, только мы все проголодались.
А теперь, если позволите, быстренько о том, что таковой пес существует в качестве собственности такового субъекта, установлено также, что существует таковое дитя, маленькая девочка и так далее, что она была покусана данным прыгучим злобным сильным безжалостным неразборчивым псом.
Пусть все свидетели сделают шаг вперед.
Мы думаем, что свидетели непременно найдутся, а это не так, не само собой разумеется, даже в таких, в густонаселенных местностях, в местах скопления публики. А если свидетелей и отыщут, выставят их, можно ли полагаться на их показания. С полной верой. Правдивость показаний. Или эти свидетели родственники дитяти, или имели с ней предварительное знакомство. Или с ее родителями, с расширенной семьей, памятуя также, что таковые семьи всегда озлоблены, очень озлоблены увечьем данного ребенка, какие же с них соберешь показания.
Если свидетели надежны в смысле непредубежденности к данному ребенку, тогда об их отношениях с владельцем данного пса. Здесь в участке все время ссоры и мелочность. Владелец данного пса может вспомнить некоторого сумасшедшего экстремиста террориста, который желал бы возможности донести на него. Он не любимый гражданин, он не хулиганствующий элемент, но скорее законопослушный, таким образом имеет врагов, многих и различных, поскольку наше общество населено хулиганами, мириадами. Таким образом, ребенок укушенный собакой, это тем врагам и нужно, так называемым свидетелям и их друзьям, именно так. Они бы солгали, сказали бы все, что хотят, заявив, что весь вред от собаковладельцев, в частности, от этого. Так что, если любой так называемый свидетель относится к таковой категории, их показания считаются поэтому сомнительными, разумеется.
А теперь о жертве-ребенке, говоря о ней, об этом образцовом дитяти, половозрелой девочке подросткового возраста, почему она шла домой из школы по этой улице, а не по другой. Каково ее происхождение. Она ребенок, женского пола. Она надежна. Многие девочки с трудом различают между фактами и фантазиями. Мы знаем детей, сами были детьми. Мальчики тоже, выдумывают фантазии. Взрослые, да, и они, это недостаток всех человеческих существ, рассказывают небылицы. Зрелые ответственные взрослые человеческие особи, кто станет обращать внимание на их болтовню, большое внимание.
Что касается некоторых детей, это правда, начальства уведомляют нас, что они очень озорничали в этом участке, и этот владелец собаки, как ответственный законопослушный гражданин, пытался исправить все антиобщественное поведение этих хулиганствующих элементов. Он сам взвалил на свои плечи это общественное бремя, миротворец и моральный стратег, кто хотите, и даже вознаграждения не просил. И что получил в награду. Клеветническое обвинение. Дело не только в ищущих мести детях, к числу которых почти определенно принадлежит эта образцовая девочка, или она имеет друзей, которым помогает в такой мести, от их лица.
Теперь насчет больницы скорой помощи и обследовании этой образцовой пострадавшей, убедился ли так называемый врач или врачи в существовании так называемого укуса, что за него несут ответственность зубы, что ответственны собаки, каково время укушения, эти зубовные ранения, не могли ли они появиться раньше.
Другие врачи, наблюдательные начальства, были ли они поблизости, проверяли ли медицинские заключения. Возможно, первый врач ненадежен. Не провел ли он непрерывно три, четыре, пять дней на рабочем месте, кофе и медикаменты, табак, алкоголь, прочие вещества, такое напряжение, да, и что за опыт у этого врача, сексуальные обыкновения с мужчинами, женщинами, о чем они нам говорят, может он молод годами, лишен познаний о зубовных ранениях. Возможно, он не способен отличить укус одной собаки от другой. Указывают ли зубовные ранения на пса в частности или это может быть зубовная рана любой другой собаки на планете Земля, от таксы до ротвейлера. Может первый врач отличить зубы собаки и каждого другого вида животных, известного человечеству. И не может ли в затерянных джунглях к югу от Борнео водиться какое-то неизвестное животное с зубами, оставляющими схожие отпечатки. Не было ли в тот день поблизости от поселка девочки замечено одно или более странных животных. А если ни одного еще не заметили, то почему, провели ли эксперты по заблудшим животным систематические поиски.
Итак, вне всяких разумных сомнений, этот пес является полукровкой. А вот насчет нападений на образцовых девочек, тут нет, не это послушное и дружелюбное животное, которое всегда любило детей человека. Этот пес заслуживает доверия, на него нередко оставляли младенцев. Все расширенные семьи и друзья владельца этого помесного пса дадут показания о его добропорядочности. Также и о владельце этого дворового пса, о его добропорядочности. Доказано, что любые или все животные, владеемые таким образцовым гражданином, должны быть послушными и дружелюбными. За это поручаться и другие владельцы собак. Далее, они расскажут нам, как много-много в этом участке помесных псов, большинство из которых обладают физическим сходством с подозреваемым. И люди этого участка не могут отличить одного помесного пса от другого. А те, которые могут различить этих помесных псов, лично с ними знакомы. Таков ли этот ребенок, знакома ли она с помесными псами своей общины настолько, что способна отличить одного от другого, даже когда они наскакивают на нее неизвестно откуда.
А теперь о свидетелях со стороны так называемой жертвы, распространённо, что в таких делах, как эти, люди принимают ту или другую сторону из собственных целей и интересов. Некоторые не любят помесных псов или владельцев помесных псов и проводят кампании за прекращении всякой такой активности. Такие свидетели руководятся своекорыстием. Возможно, они состоят в отрядах сумасшедших экстремистов, впадающих в неподобающие крайности по вопросам общественного порядка и собачьих нечистот, выбирая в качестве первой мишени для нападок помесных псов и владельцев помесных псов. Не попал ли ребенок под таковое влияние – эксцентричных учителей школы с их собственным эксцентричным безумным своекорыстием. Обладающие сильной волей учителя способны влиять на впечатлительную юность, на всю нашу молодежь. Не является ли желаемой целью нашего общества
И также об отдельных членах семьи этой образцовой женщины, чья давняя враждебность к домашним животным засвидетельствована местными жителями, соседями и другими. Их влияние могло оказать существенное воздействие на этого ребенка, так что теперь она предубеждена против собак, тогда как раньше любила играть с этими пушистыми зверушками. Каков ее опыт в связи с дворнягами. Или она всех животных боится.
Животные чувствуют страх и часто реагируют на него. Если ребенок гуляет по улице, видит такового и действует под его давлением, это может расстроить собаку. Даже самые послушные и дружелюбные из этих существ среагируют, ощутив угрозу со стороны других существ, человеческих существ. Реакция будет только естественной. Мы говорим о выживании. Можно сказать, что если животное необоснованно провоцируется, его реакция оправдана, даже если в глазах человека эта реакция неразумна. Люди это люди, а звери это звери, и мы не можем представить себе животное, которое будет действовать разумно. Как человеческие существа мы ответственно относимся к членам царства животных, относимся по доброму, помогая им выжить. Мы не можем и не должны пытаться приводить им резоны, даже самым интеллигентным псам, поскольку даже эти, наиболее интеллигентные из псов, не являются разумными существами, да, самые интеллигентные псы, даже они не способны вести себя разумным образом. Мы не в состоянии привести псу такие разумные доводы, что они заставят его отказаться от своей псовости. Таким образом, мы, человеческие особи, принимаем ответственность за них, где это по возможности человечно. Углубляться же в вопрос, что есть по возможности человечность, это уже не наше дело, это пусть другие, если им захочется, путь так и поступят.
Опять-таки, никто не может предвидеть все непредвиденные обстоятельства. Бык-производитель, когда крестьянин уходит в поле, если его не приковать цепью к железному столбу, волен бродить где хочет, однако таковой бык может при этом нанести ущерб себе, либо иному скоту. Не в меньшей мере то же самое и с помесными псами и их ответственными владельцами, которые принимают все меры предосторожности, чтобы гарантировать, что, когда они уходят на такое расстояние, что их не видно и не слышно, это животное не имеет возможности нанести ущерб себе или другим. Могут произойти неразумные, непредсказуемые события, именно поэтому владельцы собак огораживают свою садовую собственность и запирают калитки, как в обсуждаемом нами ныне настоящем случае. К несчастью, вследствие неизвестных раздражителей, собака оказывается под воздействием провокации или угрозы. Мы не можем знать всей полноты фактов, будучи неспособными проникнуть в голову собаки. Однако в данном конкретном случае, ведущие эксперты по дворнягам готовы показать всем членам суда, что раздражители, испытанные псом, были действительно велики, что и породило в нем прыгучую силу, которая обычно не ассоциируется с животными несобачьих видов, и которую рядовой собаковладелец не мог разумным образом предсказать, тем более, что родословная помесных псов остается открытой для спекуляции и, возможно, где-то один из его предков оказался членом древнего вида собакоподобных существ, плодившихся, быть может, в неизведанных джунглях к югу от Борнео и обладавших необычайной прыгучестью, поскольку чем еще все это можно объяснить, мы сказать не способны.
Такие вопросы вероятны. Действия любящих родителей в отношении их пораненного ребенка-жертвы женского пола тоже оправданы. Родители вправе горевать, когда на их дитя набрасываются безжалостно и неразборчиво. И все-таки, дети переживают процесс развития, обучения, приобретают разумные навыки, навыки суждения, те навыки, которых мы можем разумно ожидать от более зрелых личностей, приближающихся к демократической ответственности. Следует ожидать, что такой опыт, пусть и довольно противный, послужит полезным уроком как для отдельного ребенка, так и для других детей участка. Владелец дворняги не заслуживает порицания вне рамок того, чего можно ожидать, разумно, от собаковладельца, предосторожности, им предпринятые, были разумными в данных обстоятельствах, целиком уникальных, целиком единичных, в этом особом, конкретном случае. Международный суд дает полностью непредвзятые, основанные исключительно на фактических данных рекомендации, чтобы в дальнейшем собаковладельцы, прилагали все усилия для выяснения генеалогии любой дворняги, в обладание которой они могут вступить, прежде чем они согласятся принять на себя ответственность за сказанное обладание. Настоящий суд не сомневается в том, что данный собаковладеющий человек воздвигнет, при наличии должных оснований, еще более высокий забор и/или калитку. И далее, международный третейский судья указывает всем собаковладельцам помесных псов на разумность того, чтобы все животные, пребывающие в любых территориальных владениях, содержались лучше на их задах, а не фронтально. Благодарю вас, сэр.
Таковые требования закона, имеющие целью осуществление судебного правосудия, определение действий взаимно предпринимаемых физическими лицами, наделить их свободой, но при этом не за счет других. По-видимому, равенством наделяются все физические лица, однако это равенство загадочно и имеет все больше отношение к существенному условию или условиям, принимаемым как общие всеми физическими лицами.
Нам затруднительно принимать «всех физических лиц» в качестве определения человечества, что приводит нас, как оно и следует, к неверному пониманию и путанице. Касательно человечества, как одной широкомасштабной общности физических лиц, где различия начинаются с одного единственного факта, с общности, к которой может применяться единое право. Экономические и общественные различия суть физические, индивидуальные качества, как иногда и обладание собственностью, а они должны включаться в рассмотрение индивидуальных дел.
Нам указывают, что мы говорим не о том праве, совсем о другом. Общества отличаются, законы отличаются. Коллеги раздражают международных экспертов неспособностью отличить одно от другого. В качестве примера, поясняющего, иллюстративного, можно взять нашу историю. И все же в ранние времена, наше «защитное формирование» было восприимчивым к этим доводам и примерам, коллеги вступали в такие дебаты, соглашались на предложения, выдвигаемые в конференц-залах, в коридорах политических палат, да, мы принимали такие каналы.
В тех случаях, которые касаются политических преступлений, ужасов, жестокостей, прецеденты имеют минимальную ценность, к тому же, добившись в одном случае, мы не можем исходить из предположения, что создан прецедент, который изменит реакции будущего Государства. Каждое дело подготавливается как уникальное, единичное, вот именно, феноменальное явление. Да, разумеется. Сэр. А успех в одном деле, всегда чем-то ограничен, так что Государство и сообщество более широкое, международное сообщество, определяют будущие победы, ныне упреждаемые, исходя из повседневной деятельности демократически избранных правительств (должным образом назначенных), действующих от имени своих хозяев, отправляющих всю соответственную законодательную деятельность, соответствующую, как она есть, и по возможности, вырабатываемую при посредстве проблем, по мере, когда и как они возникают, и как тогда можем мы определить свидетельства, что тогда является доказательством, как можно установить истину, чьим бременем это должно стать, скажите мне, вот жертва, я сразу соглашусь. Если они пропитывают все и неотъемлемы, так объясните нам, как это может быть. Да, и еще, что именуется всеобщим, хотя бы с точки зрения властей.
11. «приевшиеся примеры»
Кому оно нужно, сочувствие – сочувствие это забота о будущем, а я никакого будущего не вижу. Настоящее, да, но за его пределами для меня нет ничего. Кто попадает в капканы, животные в них попадают, а люди те же животные. Это моя страна и все-таки не моя. Почему я здесь. Вопрос из прошлого, в настоящем он смысла не имеет. Старик пришел со своим помощником, с правой рукой, опасным человеком. Мы их имена хорошо знали, я, и другие коллеги.
Теперь все внимание было на этой демонстрации, все на старике, так что его роль была самая главная. Мы находились в зачищенной зоне той секции, нашей, можно сказать, секции. Нас была дюжина, сидели на полу, прислоняясь к стенам, но, непринужденно, ноги вытянуты. Могли и другие подойти. Я думал сесть поближе к окну, но все места были заняты, и я сел, где смог.
Там вокруг была зона и некоторые вернулись из нее, прихватив воду, дрова, вина не было, бренди тоже, может у кого и были сигареты, я так не думаю. Разговоров почти не велось. Я не мог уловить слов, приходилось приглядываться к жестам, к выражениям лиц. Люди были измотаны, я тоже, и как бы старался сосредоточиться, вслушивался, ну и приглядывался тоже. Нет, меня не считали чужим. Может я так и думал, но я знаю, не считали. Холодность, да, холодность была. Это я сказать могу, а отчего такое, не знаю, да, что-то, что-то такое было, да, чувствовал это, я чувствовал, что-то должно случиться, но что?
Мгновение за мгновением я становился бодрее, набирался откуда-то, да, сил, все больше. Старик пришел, чтобы выступить, с лекцией, конечно, изложить это все, все аспекты, но только в какой форме, как это будет происходить.
Наш коллега представил его. Это была еще дань признательности, те двое прибыли в нашу секцию издалека. Старик поблагодарил. Коллега продолжал говорить, теперь такие вступительные замечания, тоже вроде лекции, оно так бывает, когда речь о философии или принципах деятельности, конечно, какие они могут быть для человека, для всех, и для нас, теперь, в это время, которое еще более трудное, может наши убеждения не устоялись, не в силе, а ведь существуют всякие вещи, которые мы обязаны охранять, однако какой ценой, любой ценой, это наша бесценная собственность, не золото, не серебро и не более современные инструменты и оружие, всякая технология, ей доверять нельзя, предаст, ну, и другие родственные этому вопросы, только более первостепенные.
Я наблюдал за правой его рукой, тот у входа, оглядывается, оглядывается, как будто хочет нас запугать. Да, и меня. Это он мог, он был опасный человек, и все это знали, одного его присутствия хватало, чтобы испугаться. А кто не знал, тот слушал вступление нашего коллеги, который уже уступил ему место. И старик встал вместо него и продолжал говорить, насчет убеждений или принципов, и какие действия мы делаем и должны делать. Я еще раньше закрыл глаза, да, я уже говорил, усталость, но ее больше не было, только настороженность, вслушивался в голос старика и понимал, что он приближается к трудному заключению, к тому, что хочет развить и изложить в заключение.
Я думал, он будет рассказывать. Но он не рассказывал. Я видел, некоторые посматривают на меня. Знакомые, да, мы все были знакомы. Мы пришли вместе, первая группа, и из трудной ситуации, из неблагоприятной, более чем неблагоприятной, с неприятностями. Даже в таких условиях.
Нервозность была. Если мои коллеги и ожидали знака, так это касалось меня, как глядеть на меня, потому что я только про себя думал. Может я вовсе не тот.
Да, такая другая мысль у меня, что я не тот.
Был ли я в страхе. Почему. Не думаю. Я мог и улыбаться. Мы были моложе, но не так уж, чтобы совсем без ума, и потом, мы же все вместе попадали в эти ситуации, я уже говорил, в неблагоприятные. Беспокойство, и как его скрыть, нет, не друг от друга, раз уж мы в этих делах вместе. За себя не тревожишься. Я улыбался им, чтобы подбодрить. Ничего неожиданного. Можно ли этому научиться, и когда, насчет их представлений, взаимной связи, какой в ней смысл.
Если существует отбор, то это наш, мы сами, мы в нем участвуем, мы были отобраны. Если я, то и они тоже должны принимать ответственность, если, конечно, существуют императивы, да. Ну, вот, например, наши родители, они не примкнули, и потому отвернулись от нас. Может наши родители от нас и отвернулись, а мы так делать не станем.
Я надеялся, они поймут это во мне. Думал, что поймут. Ну и напоминал им об этом. В последнем деле они следили за мной, и я за ними, один за другим, как всегда. Задания же всегда делегируются, и это тоже было.
Они увидели, что я не волнуюсь, и ничего не сказали. Все они, каждый, не думали, что смогли бы, он или она, вынести такие мучения, они или их родственники. Но они также обязаны были хранить верность. Если я говорил, они слушали, а когда я говорил об этом, то уж тем более. Как один из нас, другой, как все мы, нам следует учиться, еще многому научиться, мы это знали, и я знал, в самой глубине души, сердца, сердца тоже, да, я так и говорю.
Вот я и учился теперь, от старика и того, другого, и молодые коллеги тоже могли начать с этого. Он говорил о предательстве. Спросил, известно ли нам, какой длинны у человека кишки. А этот, правая рука, все время смотрел на меня. В ответ на вопрос старика я пожал плечами, я был не уверен. А его коллега продолжал смотреть на меня, и я сказал, Да, и мой голос как-то вдруг бухнул. Я гадал про других. Верность, предательство. Может и они про меня гадали.
Потом старик сделал знак, обратившись с тем же вопросом к другим. Ему ответила женщина, неловко ответила, пыталась пошутить. Он оставил ее без внимания и продолжал говорить. В прошлые недели я слушал его два раза и заметил в нем это. Он не был любезен, скорей безразличен, безличного интереса. Конечно, он много кого повидал. Люди приходят, уходят, некоторые просто исчезают. Те же гости. Старик знал многих гостей, заграничных. Некоторые из них были коллегами. Он говорил об этом.
И теперь опять говорил. Тут я сосредоточился, потому что точно знал, что он скажет.
Только это, ничего другого. А что еще он мог сказать? Я думаю, больше нечего.
Я уже чувствовал, от меня ждут понимания. Тут я не ошибался. Да и как я мог? Такое я занимал положение. Он говорил об очень сложном примере, который был во время очень сложного и неблагоприятного случая, очень неблагоприятного. Сказал, как эти вещи следует рассматривать в качестве примеров, что нам следует это понять, очень важно, чтобы все мы это усвоили. Он снова и снова объяснял это, спрашивал, усвоили мы суть примера, не усвоили. И снова, все ли поняли? Я заметил, его коллега, правая рука, снова глядит на меня, и опять сказал, Да.
И от этого наступило молчание. Никто даже не шевелился, только старик, который уставился на меня. Вы поняли, спросил он.
На этот раз я промолчал. Он кивнул и пошел на меня. Схватил за шею, сзади и сбоку, слишком крепко сначала, почти придушил, мне пришлось вцепиться в его руку. Старик потянул меня на пол, и я позволил опрокинуть себя, на плечо, другого выбора у меня не было, вот я и позволил. Он похлопал меня по голове, два раза, стянул с меня рубашку, провел пальцем по моему животу, от ребер к пупку. И снова заговорил, резко и слишком быстро, чтобы я смог что-то понять. Я уже не мог сосредоточиться, просто смотрел на его руку, на плечо, на узловатые вены ладони, на запястья, вся сила в них. Он вытащил нож, да, с толстым лезвием, резак, чтобы втыкать и вспарывать. Я видел, его помощник стоит, скрестив руки, и смотрит.
Да, настороженно, бдительно, это верно. У меня была своя роль, чтобы играть. Я видел, что и у этого коллеги, у правой руки, у него тоже своя, я был в этом уверен, ну и что из того?
И кто будет потом разбираться?
Я хотел научиться. Которые помоложе, могли бы увидеть это, [как] некоторое проявление терпения, насчет других не знаю. Но я не мог уловить все, что излагал старик, может ему следовало говорить помедленнее. И эта его резкость, она тоже. Я же говорю, в нем была резкость.
В голосе, в манерах.
Я ожидал безразличия, но резкость мешала моему постижению. И потом я видел его коллегу, он теперь наблюдал за другими в комнате, да, как они смотрят на старика, на меня, он был насторожен, очень насторожен, не просто внимателен, больше. Я должен был контролировать себя, чтобы не дергаться, и не мог. Сознавал это. И снова голос старика. Коллеги, сказал он, это для вас, вы должны этому научиться.
Он сжимал мою шею, душил, глаза его я видеть не мог, цеплялся за запястья, да, наверное, не думаю, что нет, и потом темнота, в глазах, и иголки света, брызги, голубые, какие-то такие. Я наверное повалился. Коллегу его я почти и не видел, только одна вспышка, да, и он щурился на меня. Это я увидел. Увидел его и понял, ему интересно мое происхождение, родители, откуда я. Он этого не знал, и старик тоже, хотя ему-то было все равно. Ни одному из них, ни одному. Я им ничего не сказал. Они ничего не узнали. Ничего я им не сказал, особенно старику. Нет, и правой руке, который вынюхивал все. И ничего не нашел. Да, и ничего не нашел. А я ждал, когда научат. Очень хотел научиться и ничего не видел, кроме этой минуты, потому как, что я могу сказать, я весь отдался, может и смерти, так я и сделал.
Внимание всех других сосредоточилось на старике, на его демонстрации. Коллегу его я больше не видел, но и он смотрел, не изменившись лицом.
Теперь я сглатывал, думаю, хотел заговорить, если бы вышло, сглатывал, пытался заговорить, но старик держал меня за горло, отгибая голову, пережимал трахею, давил ладонью на грудь, и я только сглатывал, он нажал посильнее, вдруг, и я увидел его глаза, и меня там не было, ничего от меня, я для него не существовал, просто кусок мяса, который надо разрезать. Нож прижимался к моему животу, давил на него, нажим острия, я различал его и думал, как долго еще, пока не услышал голос, пока он не прозвучал. Откуда-то, я не смог понять откуда. Но старик все глядел на меня, нажимая на грудь. Очень сильно. Коллега его тем временем переходил комнату, я мог бы взглянуть на него, мог улыбнуться, но не видел его, не мог. Старик вслушивался, только вслушивался, и все. Я следил за ним, он это видел. И видел, что я жду. Я знал, как ждать, ну и ждал. Старик, его коллега. Ответственность на них. И тут вдруг заговорил кто-то другой. Кто-то другой. Я знал это, знал. Заговорил. Друзей не бывает, сказал он, других не существует.
Скрипучий голос, потом молчание. Никто в комнате, похоже, и пошевелиться не мог. Я подождал, потом перевалился на бок, потому что старик держал уже не так крепко. Я думал понять, чей это голос. Я знал, он еще прозвучит, и я признаю его. Знал, что так и будет.
Огонь уже угасал, света было немного, но был запах, да, сладковатый, грязный уголь, сырость, что-то так. Я вглядывался туда, где светло, видел на себе их глаза. Как будто они думали, что я не из них. Теперь они знали истину, лежавшую в этой демонстрации, все молодые коллеги. Возможно, раньше они могли ее отрицать. Примеры, их можно учитывать не учитывать. Я увидел в другом конце комнаты коллегу старика, как он сидит, вроде бы развалясь. Да нет, не развалясь. Увидел, как он глядит на меня, с любопытством. И с надменностью. Вот это он зря. Я знал это, и мог это сказать, оспорить, я видел это, да, надменность, высокомерие, еще бы, правая рука. Интересно, почему старик выбрал его. Я был бы лучше. Я способен на все, мог преуспеть, и без всякой надменности.
Все тот же заговорил. Я узнал его. Он обращался сразу ко всем. С другой стороны, сказал он скрипучим голосом, вы обязаны знать и это.
Но он не закончил, а просто оглядел комнату, как будто смиряясь со всем. Вошли другие. Я почувствовал, что-то сместилось в атмосфере. Старик начал двигаться и так методично, что рука его представилась мне старыми клещами, проржавевшими изнутри, всегда немного запаздывающими. Таким клещам вовсе не надо думать о том, того они стискивают, не того. Они вцепляются, и избавиться от них уже невозможно. Он похлопал меня по плечу, бормоча что-то про то, что я свою роль отыграл.
Правой руки в комнате уже не было. И третьего тоже, который говорил.
Я бы сказал так, никто настоящей возможности не получает. Мне ее не дали. Поэтому я бы сказал, что со мной обошлись не по честному. И закрыл глаза. Я только надеялся, молодые это поймут, увидят, что я пришел в наш мир не по выбору, сделанному в результате вот такой демонстрации. Если кому интересно мое мнение, так я бы лучше и не жил. Конечно, старик мог это знать, мог не знать, какая разница.
12. «я в его страну не поеду»
Я знаю, кто за нам следил, за мной за ней. Он разносил всякие выдумки, рассказывал сказки, баснословные небылицы для агентств новостей, переходя из этого мира в другой и во все остальные миры ближней и дальней вселенной. Да. Выискивал сплетни, думал, я могу что-то ему сообщить. Чего он от меня хотел, это ни для кого не секрет. Он может взять надо мной верх, подумаешь, «защитное формирование», так он считал, но мне было плевать, что он там считает, и всегда было плевать, даже и на то, что он считал меня дураком. Называл нас друзьями, таскался за нами, разговаривал с моей спутницей, с товарищем, в укромных местах, дурак, думал, раз укромное, так никто и не слышит, называл нас друзьями, друзьями, думал, мы совсем дураки. Ты не то, что разные прочие, говорил он.
Какие разные прочие, о чем ты?
Друг, говорил он, и тут его просто убить хотелось, да, ну как у тебя нынче с горлом, но я бы его убивать не стал, да и никого. Если он теперь мертв, ну значит так, мертв, может ему горло кто перерезал, почему не из пистолета, кому хватило энергии, да, конечно, это интересный вопрос. Он исчез. Исчезнуть может любой, и жена моя тоже, и товарищ, и также другая семья, и друзья. Кто же не исчезает. В тот день он пришел в нашу секцию, мистер рассказчик баснословных небылиц, а я с товарищем, мы лежали под одеялом. И я сказал ему, Чего тебе от нас нужно?
Такой язык он понимал. Есть же общий язык, между мужчинами, с женщиной, почему он не уходил и следил за нами, за мной, что себе думал, зачем за нами присматривал. Он знает, этот человек, он знает. Он был там. Думал, я такой уж дурак, мы все дураки. Почему? Я в его страну не поеду.
13. «что еще можно подумать»
Опасность была всегда. Я тогда думал про это, как она возвращается к себе домой, я знал эти риски, и какие маршруты, и будут ли там безопасности. Это было непрактично, да потом еще комендантский час. Безопасно только для чужаков, тоже за ними и коллеги следят. Кто же этого не знает. Мы с первой встречи стали близкими. И потом другие ночи пошли, иногда она приходила ко мне, иногда нет или еще приходила, но не оставалась. Я к ней домой не ходил, только она ко мне. У меня подозрений не было. Может она и ходила к другому мужчине, не знаю. Говорят, ходила к одному. Я так не думаю. Возможно ли это, да, она могла ходить к нему. Если ходила, меня это не волновало. Как это может быть, мужчины и мужчины, ревность по этим причинам. Я был с ней, и если это без продолжения, значит без, чего я тут мог добиться, разве заставить ее передумать. Она была сильная женщина, сильнее. Я так про нее думал. Мне повезло, что она у меня есть, я был благодарен, определенно.
Я сказал, тогда в этом городе были опасные времена, в темноте очень много риска, все коллеги шли на него, то же и в ночь, когда она исчезла, там было много начальств и гостей нашей страны, культурный вечер, важное событие для нашего «защитного формирования». Общественные собрания, всякие такие явления, это все наши обязанности. Начальства и заграничные люди, и журналисты тоже, эти с нами, фотографические, все встречаются друг с другом, смотрят разные вещи, другую сторону нашей жизни, нашего народа. Тот концерт был для высших коллег, которые искали поддержки, дома, за границей. Всего ведь не хватает, орудий, материалов, лекарств, конечно, хардвера софтвера, всего, в общем, ничего же нет, финансов.
Мы были в группе сопровождения, товарищ вела машину, я рядом, защитник, вооруженный. Мы двигались по определенным маршрутам, единым конвоем, и возвращаться должны были по определенным маршрутам, двенадцать или четырнадцать машин, вверх-вниз, вверх-вниз и прямо, прямо, прямо, прямо, вверх, вниз, вниз, поворот, по кругу, все время настороже. Наша машина была шестой или седьмой. Мы с ней должны были привезти трех человек, а после вернуть их по домам, один был гостем нашей страны. Когда приехали, они ушли в театр, там были коллеги, охраняли вход-выход, чтобы все безопасно, в безопасности. Мы с ней в здание не пошли, а сначала поставили машину, отвели ее в парковочную зону, и обратно уже пешком. Там тоже патрулировали коллеги. Через одну улицу, на параллельной, были армейские и безопасности. Мы это знали, и они тоже, все это знали, они сами по себе, мы сами по себе, и потом уже скоро комендантский час.
Ну вот, значит, в здание театра мы с другими не пошли, а уже после начала. Было возбуждение. Я уже говорил. Это ничего, я всегда такой, всегда хочу, что тут сказать, я могу сказать так, тут не насилие, я был ее любовником. Если был им, если был. Мы вернулись пешком, но не туда, а за здание, в проулок и там в темноту, в подъезд, и были вместе. Там пахло горелым, подгоревшей едой, курица, барашек, лук, а мы не ели, хорошие были запахи, я помню, голоден был. Возбуждали ли ее такие приключения, не думаю, хотя это был риск, и большой риск. Да, я притянул ее к себе, она притянула меня. Мы были любовниками. Мы были. Что я могу сказать, я ее не насиловал, если об этом, могу сказать так, ни я, ни она, я распахнул ей одежду. Что тут сказать, я трогал ее, да, да, трогал, тискал. Ласково, да, распахнул, и ее дыхание, у нее перехватило дыхание, ее одежда. Было ли тут насилие, нет, не думаю. После мы заняли наши сидения в театре. Другие коллеги тогда видели нас, как мы пришли, с опозданием. Свет весь на сцене и там танцоры. Или музыка что ли, возможно, в традиционном стиле, думаю так, там были музыканты и танцоры. Танцоры с музыкантами. Да. Людям это нравилось, по-моему, нравилось, начальствам, заграничным гостям. Хотя может и скучно. Люди постарше наверное любят такие вечера. А со мной сейчас был мой товарищ, моя любовница, так можно сказать, и если какой артист был на сцене, музыкант, поэт, танцор, кто угодно, я слышал только ее, видел только ее, чувствовал ее запах, шептал ей в ухо, ее кожа, волосы, тонкие пальцы, ладонь, такая маленькая в моей, и все же она была сильная, сильнее других, но мне казалось, что в ее теле нет физической крепости, что это за сила, откуда она берется, как могут женщины ей обладать, это же чудо, и она все равно позволяет мне держать ее ладонь в моей, такое доверие. Мы тогда были вместе уже недели, три, четыре. И вдруг мы так и останемся вместе, глупо об этом думать, конечно, потому что – как долго. Всегда. А что такое всегда. Вон ее супруг тоже так думал, а где он теперь, умер. Она не знала наверняка, но предполагала. Она опять взяла мою руку и положила себе на ноги, там тепло, а нам надо сидеть, и теперь ее рука на моем бедре, были бы мы посмелее, все равно же темно, в ней что-то переменилось, в ее дыхании, мне этот звук казался таким прекрасным, и тут я увидел того одного, который следил за нами. Вот тогда. Я увидел его. Через один ряд от нас. Смотрел, да, не спускал с моего товарища глаз. Я обнял ее за плечи. Думал, может я его знаю, в нем было что-то знакомое. Так я подумал, и шепнул ей, видит она вон того, может она его знает. Я понял, она его видела. Он был здесь из-за нее, и она это знала. И тут все быстро, она оглянулась, а он отвернулся от нас. Я подумал, может он смотрел просто так. А может он из безопасностей. Она так не думала, зачем в таком месте, где только доверительные люди, где так должно быть, но я-то знал, я так ей и сказал, что не существует таких мест, где только доверительные люди, такое место на какой-то другой планете, а здесь его нет. Потом мы сидели молча, я на того человека больше не оглядывался. У меня живот сжимало от гнева. Был ли это также и страх, наверное, может и был, думаю да, а что еще это могло быть.
Наступил перерыв, мы вышли в холл перед выходом, в вестибюль, где чай или кофе, напитки и также еда, там был хлеб, сыр, холодное мясо, салат. Мы были голодные, все коллеги. Можно было поесть, когда закончат другие. Мы стояли в стороне от начальств и гостей. Ее ладонь лежала в моей. Вот теперь коллегам можно было туда подойти, и она прошептала мне, что не хочет, не хочет есть. Ну хорошо, тогда можно я съем ее порцию! Она не стала бы есть с этими людьми. Так она мне сказала, и раньше говорила, про начальства и заграничных гостей, говорила мне, Не позволяй им видеть, как мы едим, они не увидят меня едящей.
А что такого, мы голодные, почему не поесть?
Нет, меня они не увидят.
Я сделал, как она, да, хотя в животе сосало. Там на стенах висели извещения, о предстоящих событиях, информация из новостей, мы стали читать их. И так получилось, что я снова увидел этого типа, да, как он за нами следит. Я поверить не мог, что он посмеет вот так, вызывающе. Он был на другой стороне, там, где еда, с чашкой в руке, потягивал чай или кофе. Товарищ его не видела. Я взял ее под руку, как будто все естественно. И пошептал ей. Не помню, что-то сказал, но только личные слова, только личные. Во мне было такое чувство, сильно эмоциональное. Я хотел удержать ее. Что-то чувствовал. Я. Не знаю. Но очень сильно. Все сильнее. Может сознание потери. Предстоящей потери. Не знаю. Мы же всегда теряем, всегда, но некоторые живут, почему же не мы двое, почему не можем, вдвоем, почему нет, почему мы не как другие, если мы любим друг друга. Возможно, я шептал ей эти слова или еще какие. Личные. Не могу припомнить. Припомнить не могу, но шептал. А в животе как-то, не знаю, скручивалось. Она взяла меня за руку, стиснула запястье, потом прикоснулась к моему лицу и ушла. Отошла от меня, да. Я видел, куда, пошла в женскую комнату, в туалет. И тот, который следил, тоже ушел. Что я могу сказать. Ушел. Я оглядывался, но не видел его. Последовал за моим товарищем, да, думаю, так. А что еще, что еще можно подумать. Там были другие коллеги, один подошел ко мне, дал сигарету и спички, сказал, что в его машине двое заграничных гостей, он после поедет в их дом и другие коллеги тоже, там будет вино, а может и бренди, он так надеется, и может мы тоже потом подойдем, я и товарищ, они будут рады. Мы поговорили еще, одну минуту. Товарищ вернулась. Коллега ей улыбнулся, тронул за руку. За локоть, да, тронул за локоть. Я подумал, что это он, какая была нужда. Почему ее трогает. Разве такое поведение нормально. Я посмотрел ему в лицо, он только улыбался ей. Тут звонок, перерыв кончился. Она хотела вернуться на наши сидения. Я нет, я хотел вернуться только в одно место. В нашу секцию. Я мог вообще тогда уйти с культурного вечера. Да, ну что тут скажешь. Это был не гнев, я не гневался. Может и так, да, я бы так и сказал. Мне всегда было не по себе на этих события, тревожился, да, верно, на них вообще неспокойно, столько людей вокруг. Мне хотелось уйти, вдвоем. Я сказал ей, давай выйдем наружу. Нет, она не хотела. Всего на минуту, у меня есть сигарета, мы бы там покурили. Нет. Она сказала, тут скоро будет одно выступление, которое она хочет увидеть, много танцоров, музыкантов, но все молодые и многие родственники друзьям. Так что мы вернулись в зал.
Никакого удовольствия я не получил, не от этого выступления, я за ним почти и не следил. Приятно, конечно, видеть детей, их лица, веселые, с надеждой на будущее, но эти-то были постарше и взрослые тоже, нет, мне они удовольствия не доставляли, да и с какой стати, если это любительщина, простая любительщина, и скучная, даже тоскливая. Так и было. По-моему. Что еще тут можно сказать, заурядная банальность, может и традиционная, но и только, и зачем, какой это век, куда мы смотрим, вперед, назад, на наших дедов, на прапрадедов, что это за обезьяньи пляски. У заграничных гостей тоже есть музыка, танцы, веселье, да, как и у нас, у них свое, у нас свое, но существует же много городов, населенных пунктов, традиционных, да, но также и современных, молодежь с ее музыкой, возбуждение, и тоже громкая поэзия, выкрики, страстность, да, наш народ, мы тоже, у нас есть, как и у этого заграничного народа, много и много всего во множестве городов, а в каком-то отдельном городе, только одном, или, скажем, в поселке, местные коллеги знают только свое, ничего другого не видели, значит и судьями быть не могут. Вышел оркестр, за ним труппа, заплясала на сцене, дедовские пляски. Я не в силах был там сидеть. Ну и развлечение, прошептал я ей, нам все равно скоро уходить, давай подождем снаружи, выкурим сигарету, а то я сейчас закричу, они меня доконают, я так ей шептал.
Она не ответила. Я видел ее глаза, прекрасные, какая красота в женских глазах, прекрасных, не как у мужчин, женские глаза не такие, мужские совсем отличаются. Так вот, она сказала, что этот здесь, тот человек опять здесь и следит за ней, все время, она видела его лицо. Я тогда оглянулся, но его не увидел, нигде. И сказал, Его здесь нет.
Есть.
Где? Я его не вижу.
Он следит.
Я не вижу его.
Он здесь.
Ты его знаешь?
Он следит.
Кто он, этот человек, кто он такой?
Она прикусила губу. Подняла голову, выпрямила плечи, тело все напряглось, не отрывает глаз от детей. Это она для меня держалась так строго, против меня, так и было, я положил ладонь ей на руку, но не смог прикоснуться к ней, надо было сказать что-то, а я не сказал, я только ждал, когда закончится выступление, когда люди захлопают, но тут она повернулась ко мне и зашептала, Что с тобой такое? Может ты ревнуешь, как глупо. Или ты знаешь его, ты, мой защитник, вот ты кто, поэтому ты и рядом со мной. Это человек глядит на меня, тут о моей безопасности. Ты знаешь его, ты его видел, откуда он, кто он, коллега, не думаю, что я должна подозревать, кто он, безопасность, армейский, откуда он, может он знает моего мужа, что ему от меня нужно, что все это значит, почему ты не защищаешь меня, вместо того, чтобы задавать дурацкие вопросы, ты бы лучше его спросил, иди к нему, где он, найди его. Мы защитники, мы следим друг за другом. Так вот, я-то себя защитить могу. Если я могу, а я могу, так только себя. Кто он. Не могу я с тобой разговаривать, ты не защищаешь меня, а нападаешь.
Она встала и пошла к выходу. Я за ней не последовал. Дети уже спускались со сцены, уходили, и оркестр за ними, люди вокруг хлопали.
Я вышел в вестибюль, к дверям, но найти ее не сумел, обошел столы, галерку, мужские комнаты, женские, нет, ее нигде не было. Я ждал, а она не приходила, и я продолжал ждать.
Там появились люди, и сразу к выходу. Возможно, она вышла наружу театра, могла ли сделать так одна, если да, то глупо, но она бы сделала, я знал ее, хоть только недели, а все же знал, все, что она может сделать, на что способна, принять все риски, если это необходимо, она это сделала бы, во всех ситуациях. Я вышел наружу, прошелся туда, сюда, в эту сторону, если она теперь уже отошла, тогда к стороне здания, очень темные тени, это известно, и потом через улицу отсюда сплошной армейский персонал, нам не видно, но они там, тихо, ждут, ждут, когда комендантский час, может какие коллеги о нем забудут, и еще тоже важно, насчет гостей нашей страны, где они, могут ведь и разбрестись по темным проулкам, могут даже исчезнуть, и что тогда будет, если коллеги не защитят очень важных персон, гостей нашей страны, что тогда в заграничных источниках. Я пошел переулком, вдоль него, вынул из кармана сигарету. Спички были, я чиркнул одной об стену, затянулся табачным дымом, в легкие, с полдня уже не курил, а рядом лестница, подъезд, освещенный одной лампочкой, маленькой, и снова запах еды, и тут ладонь на моей руке. Ее ладонь. Я только дышал. Отдал ей сигарету, по-моему, да, отдал. А что она, она подняла мою руку, вот так, подняла мою руку, положила ее себе на плечи, прислонилась вот здесь головой, волосы у меня на лице, запах кожи, прекрасной кожи, я закрыл глаза, втянул все в себя, вдохнул ее в себя, наполняя легкие этим запахом ее волос, запахом тела. Мгновения в жизни, в истории. Какие выпадают секунды. Если в истории, один из нас умирает. Это не бесчестно. Такие мысли приходят, и раньше приходили, который, какой из нас выживет, потому что, да, один ведь переживет другого, мы же не дети, надо признать и не спорить, один из нас выживает после другого. Так что же о нас двоих, если один, то который, если останется один. Я сжал ее крепче, пальцы трогали ей плечо, голое под кончиками пальцев, плоть плеча, мускулы.
Я всегда думал, что узнал ее в эти несколько недель, да, всегда.
Что тут сказать. Целостность, что это может быть такое. Мы двое. Больше мне сказать нечего. И так все известно.
Теперь я не мог уже остановиться, мало ли что думает ум, тут всегда тело, я не мог его остановить, ничего не думал и только прижимал ее все сильнее, больше. Больше мне об этом сказать нечего, чего мне тут стыдиться. Я всегда так, всегда хотел и не мог остановиться, с ней. Но она остановила меня, коснулась запястья. Такие должно произойти, опасно для нас, все эти армейские рядом, да, но и мое желание, всегда трогать ее, чувствовать ее тело, прижимать к себе, мы сдвигались все дальше, в тени, пока не остановились у стены здания, и она позволила это, руки вокруг моей шеи, приподняла свое тело повыше, дыша на меня, чувствуя мой пенис, я мог быстро вдвинуться в нее, оказаться внутри, войти, так прекрасно, но она остановила меня, тут и остановила, такое вдруг напряжение. Ох, он здесь, он здесь. А когда я обернулся, она отступила, отодвинулась в сторону, и уже пошла. Показывала пальцем. Там были тени, дальше, в другом направлении от меня, за мной, в стороне от нее, и я пошел тогда, медленно, вдоль проулка. Ничего. Ничего там не было, его не было, никого. Ни одного человека. Я там оглядывался – минуту, две, дольше. Ничего, ничего. Я вернулся на улицу, но ее не было. Внутрь театра. Там тоже, у дверей. При дверях вестибюля стояли коллеги, охраняли вход-выход, ни один ее не видел. Возможно, она в безопасности и где-то еще. Так они говорили. Ачто в парковочной зоне, она могла и туда уйти. Нет. Возможно, мне стоит ее подождать, и она скоро придет. Через десять минут машины должны были уйти из парковочной зоны, она это знала, а потом комендантский час, это она тоже знала, и расписание для конвоя, конечно.
Что я могу сказать, работу же надо сделать, и я стал делать ее. Таковы обязанности, мы на них согласились. Конвой был на месте, начальства возвращались по домам, заграничные гости. Машины всегда должны идти строем. В каждом эскорте одна ключевая позиция, на случай осложнений. Машины должны идти строем, по порядку, это основа основ. Вместо моего товарища сел один коллега, эскорт-защитник. Наши пассажиры ехали домой, четыре мили от театра, машины шли медленно, порядком, одна за другой. Все коллеги получили приглашение в один дом, отдохнуть – еда, освежающие напитки. Коллеги были моими друзьями, мы разговаривали вместе. Вернуться, чтобы поискать товарища, было невозможно, только на следующее утро, это самое раннее. Я это знал. Вернуться мог только в свою секцию. Она вернулась бы в свою, может так, может не так, но что я мог сделать, ничего. Нет, ничего, ничего не поделаешь, ничего. Вот и все возможности тогда. Ничего. Ничего. Я мог пешком пойти. А куда. Что говорить. Завтра, когда получу машину, можно будет ехать, поехать на юго-восток, да, на улицы ее детства, узкие улицы, знакомые ей, и в той зоне я бы остановил машину, оставил ее. Утром. Не холодно, пахнет морем, я спускаюсь с холма, крутого, не на открытые места, но может туда, где женщины развешивают одежду, и оттуда еще вниз, куда она приводила меня днями раньше, показывая, где гуляла в детстве. Я сказал ей, если бы здесь было море, мы могли бы уйти в него, море это свобода, ворота в мир, да, и она вела меня за собой, и говорила, Конечно, мы могли бы уйти, там же нет безопасностей, в море, что им там делать, они не моряки, разве могут они покинуть страну. Там было устье, близко, и тоже река, и мост, маленький мост для пешеходов, мы могли перейти его, этот мост из прошлых веков, мы держались поближе к стенам, в тенях. Я поискал бы там, все уголки и проходы, обыскал бы их, те, что приводят нас к нам, утром, завтра.
Чего я мог ожидать. От себя ничего. Мы же человеческие существа.
Мы с ней вступили в близость с первого же вечера, как встретились. Я знал ее по прежнему. И его тоже знал.
Ее супруга. Я же говорил, у нее был супруг, муж, его хорошо ценили, только он всегда делал по-своему, славился юмором, если рассказывал коллегам о делах, мы тогда улыбались, шутили, анекдоты всякие. Вот и она улыбалась, если говорила о нем. Да, коллега, хороший товарищ. Но уже два года прошло. Может и умер. Все считали, что так. Я ей этого не говорил.
Я ничего не думал, о чем, что тут думать. Я бы и не посмотрел на нее, если бы он был здесь, но его же не было, исчез, вот уж два года, некоторые думали, умер, и я так думал. Умер, я знал это. Но ей не сказал бы.
Помню, она уронила мою руку, держала, а потом уронила. Я потянулся к ее руке, но она так напряглась, тело, прижатое к моему, не гнется, и я отвел руку, и увидел ее лицо, да, а на нем такой гнев. Я знал это в ней.
Но позвольте мне прежде всего заявить, как мы встретились, лишь несколько недель прошло, я говорю об одном совещании коллег, она пришла на него, она и еще одна, две женщины. Была уже поздняя ночь, рассматривались важные темы, выдвигались вопросы о будущей практике, некоторые критиковали, некоторые защищались. Коллеги постарше реагируют на критику, это нормально. У меня имелись инструкции. Это не я принял такое решение, другие. Что могут думать люди. Они могут думать вот что. Мысли свободны. У коллег помоложе были мнения. Я думал о будущем, как тогда наше «защитное формирование». Поднимал вопросы для обсуждения. Было также и прошлое, некоторые коллеги его не учитывали, а я учитывал. Но завтра я первым делом вернусь поискать ее, на следующее утро.
14. «история про тыкву»
Билет был в кармане, товар тоже при мне, в сумке, притороченной ремнем к плечу. Нет, не привязанной, не в этом смысле, я легко мог ее снять. Скоро я уеду из этого города, приятная мысль. Я смотрел из конторы автобусной станции. Совсем рядом выстроились продавцы, некоторые с тачками, с ящиками, продавали овощи и фрукты, другие продукты, мясо, прочие вещи, а люди, да, искали, что нужно, спрашивали, все что угодно, покупатели, пассажиры часто покупатели. Среди них были армейские и безопасности, и в здании станции тоже. Я вышел наружу, огляделся, где можно присесть, подождать, еще целых два часа. Прошел на другую сторону, там где армейские объекты, весь персонал. А дальше, если кругом обойти, стоял автобус и два механика работали, капот мотора поднят. Внутри, на нижнем уровне, убиралась женщина, так что я мог подняться наверх. Я посмотрел пункт назначения, но табличку еще не выставили. Спросил у женщины, она сказала, да, этот как раз тот, для меня. Я залез. Она посмотрела, но ничего не сказала. Потому что я был первый, первый севший пассажир, вот в чем дело, двое, которые у мотора, не обратили внимания, может и не заметили меня, возможно. Я забрался на верхний уровень, сел посередине, у окна, все окна были открыты, не жарко. Я снял сумку с плеча, поставил ее у ноги, привязал к ручке шнурок ботинка. Ждать еще долго, но с моей книгой это удовольствие, долгое ожидание это мое время, только мое, можно почитать, поспать немного, если получится, да, я закрыл глаза. Может все будет тихо, такое у меня было желание, хотя желай, не желай, городок маленький, приграничный.
Скоро и другие стали думать такие же мысли, как у меня, в автобусе становилось суетливее, подходили новые люди, искали места. До отправления оставался час. Я увидел, что за этим автобусом уже стоит второй. Водителей не видно. Рядом со мной сидел один человек с чемоданчиком на коленях, голова откинута на спинку сиденья. Глаза закрыты, спит, не спит, не думаю, просто отдыхает. Мужчины работают далеко от дома, ездят из одного города в другой. Передо мной, у окна, женщина лет тридцати пяти, я бы так сказал, так предположил, в одежде потемнее, в религиозной одежде. Лица ее я не видел, только на миг, когда садилась. А следом за ней пришел тот, молодой парень, про которого я рассказываю, и положил на сиденье свои вещи, чтобы не заняли. Он что-то сказал ей негромко, а она ответила только движением головы, согласилась. Наверное, сказал, чтобы никто сюда не садился. А если его вещи станут красть, чтобы она помешала, чтобы никто его вещи не украл. Он поблагодарил ее и вернулся вниз, не глядя на других пассажиров, может и без умысла. И вышел из автобуса, сошел на землю.
Продавцы подошли к нашему автобусу с другой стороны здания станции, продавали пассажирам. Много суеты. И в автобусе тоже, места заняты, семьям приходился разделяться. Внизу на улице собирались люди, семьи, всякие родственники, прощальные слова, до свидания. Рядом с тачками, в которых фруктовые и овощные продукты, два продавца воды, к ним очередь, вода в дорогу. Тот, молодой, тоже был там, не в очереди за водой, просто стоял с двумя пожилыми людьми, стариком и старухой. Они эту воду не пили. Продавец был близко от них. Не знаю, наверное они уже купили воду, пораньше. Пить-то всем хочется. Да. А в очередь за водой вставали не все. Люди ожесточены. Может не нравилось, что вода продается. Откуда взялась вода, у этих продавцов. Я не знаю, какую воду продавали людям, я только предполагаю. Люди, возможно, чересчур ожесточены, некоторые так могут сказать, но не говорят. Там недалеко горы, в них тоже есть вода. Я только день как оттуда. Вода в горах есть. Может быть, пожилая пара и молодой человек оттуда спустились. Не знаю.
В горах есть вода, ее там добывают, добывают не добывают, возможно и так, может быть, не добывают, просто сторожат от людей.
Это фактическая информация. Трубопроводы протянуты с континента на континент, от продавца к продавцу, а от людей воду сторожат, вся идет продавцам.
Продавцы могут быть местные, также заграничные. Вода и нефть, это международное. Трубопроводами могут и реки быть. Я слышал, их так называли. Это не сарказм. Реки могут быть трубопроводами. Сторожат их не сторожат, некоторые могут. Нефть ведь сторожат. Люди же не говорят, реки нефти – реки, они из воды, вода дает жизнь, но реку, в которой вода, могут называть трубопроводом. Я слышал, так говорят. Если воду сторожат от людей, тогда что это, это трубопровод. Река есть вытечение воды, большое, вытечение не из моря, а с гор в море. Реки, они в горах, а где вода. В заграничных землях имеются реки, и во всех есть трубопроводы, трубопроводы пересекают границы, международные.
Люди так говорят, я это слышал. Они ожесточены. Дом у них здесь, а воды нет. Нет реки, нет воды, нет жизни.
Что я могу сказать, вода контролируется, жизнь контролируется, народ получает воду, правительства получают воду, народ владеет водой, правительства владеют водой, владеют жизнями, жизнями людей, повседневной жизнью.
Что такое опыт, опытность
Меня просили рассказать этот факт или тот, другой факт. И чего ждали. Мне неизвестно. Известно только, зачем я здесь. Я говорю о тех людях, с которыми был в автобусе. Я читал книгу. У меня их несколько, шесть, семь. Со мной было семь книг. Это те книги, которые украли, потом, когда сумка пропала. Там были разные книги. Книги же разные бывают, вот и мои были разные. Также две новых, я их нашел. Какие книги, нет, не помню.
Это все в том же городе, рядом с границей, и за городом тоже. Да, в других. Конечно, опасные.
У меня были разные книги. Теоретические труды. Также старые. Это не сарказм. Старые книги.
Новые книги старые книги, теоретические труды, компьютеризация. Языки компьютеризации. Другие языки. Языки, которые возможны. Мы можем сказать, модели, освоение новаторских техник, амальгама логики, лингвистики, в алгоритмах, не такие современные.
Не такие современные. Может старые времена не отброшены. Если рассматривать средневековые времена, вышли ли мы из них, мы можем выйти из них, из средневековых времен, если это дозволено, прогресс, нуда, прогресс не прогресс.
Это не сарказм. Старые времена часто отбрасывают, прогресс идет вспять. Какой же тут сарказм. А религия, это тоже средневековье, нет, я бы так не сказал. Я не религиозник. Кто над нами начальствует. Какие начальства. У меня свои вопросы. Эти вопросы можно ставить, если оно дозволено, но кто это сделает, кто станет спрашивать, кому говорить, ладно, хорошо, дозволено, ну так давайте, скажите мне, скажите, кто этот повелитель, если наши жизни определены, то кто их определил, существуют эти вопросы не существуют, кто повелевает, какой религиозник, что за начальство.
Это все теория. Вопросы из книг, старых книг, новых книг. Такая книга поглощает меня. Или компьютерная. Эти книги, любые книги. Зачем мне говорить, что это неправда, это правда. В некоторых новых книгах рассказано о старой истории. Если были такие договоры между странами, между государствами, между одним и другим, на 80 лет и на 800 сотен, на 8000, на такую длительность, если так было, что же тут отрицать, может кто и отрицает, но что именно, что это наша страна? Как это можно отрицать. Мы же не боги, ищущие подтверждения, какие у нас доказательства, предъявите их мне, может и птицы не поют, и дети не плачут, тогда зовите свидетелей, пожалуйста, представьте их, в противном случае, мы, существа с планеты Земля, и некоторые, которые люди, что мы можем сделать, если от нас требуют доказательств нас самих, что мы существуем?
Я бы не стал отрицать эти книги, говорящие о старой истории. Что тут отрицать. Книги не для того, чтобы их отрицать. Кто владеет книгами, обладает ими, кто. Кто владеет историей. У некоторых истории нет.
Это фактическая информация.
Старая борьба, старые кампании, старая пропаганда. Из других стран. Большинства их я не помню. Революционеры, знаменитые фигуры, выдающиеся личности, не знаю, интеллигенция. В других странах. Не помню, ни единого, люди и люди.
Не помню, в какие страны они разъехались, просто не знаю. Это не сарказм. Исторические книги, технологические книги. У меня их отобрали в период беспорядков. Сумка стояла у моей ноги. Одну не отобрали. Которую я держал в руках. Я ее читал.
Я ее читал. Другие у меня украли. Я так и говорю.
У кого теперь мои книги. Пусть почитают их, получат удовольствие. Возможно, у женщины в религиозных одеждах. Могла она их украсть? Религиозники не воруют. Так говорят. Я без сарказма. Религиозники люди хорошие. Они не отнимают у других, не грабят, так, они сами по себе, в храмах, в мечетях. Возможно, они смогут их почитать, украли у меня книги, теперь можно и почитать, сделать взгляд из средневековых времен, ошейники, завесы на наших глазах, прогресс не прогресс, покажите мне ваши полномочия, я тоже отец, отец вашего отца, все мы отцы, ну и я тоже.
Говорят, революция это технология. Люди так говорят. Я этого не говорю. Геометрические решения, цифровые задачи. Я читаю из интереса, для обучения, но из интереса тоже, своего собственного. Такая книга, как эта, поглощает меня. Я наткнулся на нее в этом городе. Купил ее. У продавца. Продавца не знаю.
Почему же так невозможно сказать. Я продавца не знаю. Вот видите, сказал.
Который из них.
Да, который из них.
Волшебники могут летать. Тоже и животные, да, свиньи, все, планета Марс для марсиан, для марсианских коллег.
Я бы не описал эти пограничные города, как полные сокровищ, как поселения, в которых находят клады. Да книга и не сокровище. Другие сокровища, может быть, но для читателей книг, для студентов, для преподавателей, от нее одни затруднения. И начальства могут из-за нее попадать в затруднительное положение. У нас тут культура, которая обходится без книг. И мы готовы умереть за эту культуру
Продавца, у которого были эти книги, назвать не могу. Тут имеются и другие сокровища. Снадобья для сексуального содействия, лекарства, оружие или домашний скот, фруктовая продукция, овощная продукция, вина, алкоголь, бренди, ювелирные изделия, безделушки, местное бренди, да, оно опасно для здоровья, да, и живой скот, все это можно купить. Насчет людей не знаю. Людей, нуда, их купить можно всегда. Целую экономику выстроить. Существует же торговля людьми. Кто станет сентиментальничать, я могу, если это дозволено, могу думать так, как же это возможно, это же дети, наши младшие сестры и братья, как же можно их продавать.
Я в этих участках гость, но знание, оно ведь доступно. Может никто не знать. Тоже и в давние годы, истории про быстрый подъем во взаимном обмене товарами, да, всеми услугами и продуктами, так говорят, предметами роскоши, хай-фай оборудованием, компьютерным оборудованием, телекоммуникации, всякая телефония, хардвер-софтвер. Мы слышим об этом. Но не видим. Я не вижу. Нет, был там один продавец, продавал пишущую машинку, не электрическую и, по-моему, без бумаги. И среди народа тоже, если близко к границе, могут появляться книги. Кто это может сказать, тут дело случая. У меня есть книги и были. Встречаются ли распущенные люди, которые этим пользуются, это возможно, они покупают и продают, мы покупаем и продаем, мы же человеческие существа, как и они. Кого это удивляет. Не знаю, почему.
Там было много овощной продукции, фруктов, сырого мяса, кое-что подгнило, издавало запахи, спелые, другая еда, выпечка. Люди же едят. Всегда. И на прощание, тоже всегда. Я не покупал. Я поел перед тем, как пришел туда. Хорошей еды. В ресторане, я там ел, суп и еще рыбу. Я был один. Коллеги не покупали эту еду для меня, я сам. Да коллег там и не было. Откуда эта рыба. Я спросил у официанта. Он не знал. Официанты не владеют такой информацией, прошу прощения, сэр. Хорошая рыба, жирная, я и сейчас помню ее вкус, запах, так что на автобусной станции я был не голодный. Может быть, на дорогу и стоило купить какой-нибудь фрукт, я думал об этом, да, но не купил, не вышел, чтобы купить, думал, вдруг кто-то сядет на мое место. Если бы знать, что мне позволят вернуться, я может и вышел бы на дорогу внизу, но там были армейские, а кто способен сказать, что они сделают, зачем рисковать здоровьем. Армейские люди опасные, а безопасности тем более.
Это не сарказм.
Ну так вот, я был на верхнем уровне автобуса. Один человек рядом, человек с чемоданчиком. Глаза у него закрыты, отдыхает, едет куда-то из дома, работать. Впереди женщина, религиозница, она не шевелится, может быть, тоже спит. А рядом с ней молодой парень, сумка стоит на сидении.
Я тогда был усталый, я и сейчас усталый. Утомление. От всего. Тут все дело в энергии. Для жизни, проживания, для энергии, кислород и вода, мы дышим, как мы дышим, дыхание для проживания, откуда оно берется, откуда мы получаем дыхание, крадем его. Я не о горах говорю, в горах воды нет, воды для народа.
Трубопроводы, отгороженные участки. Кто же не рассказывает о горах.
Внизу на улице были люди. Что я могу сказать.
Да, я тогда читал книгу и краем глаза поглядывал на улицу, рядом с тачками, где фруктовая и овощная продукция. Этот был там, со стариком и старухой, с пожилыми. Конечно у них было прощание, такое, заключительное. Много пожеланий, объятий. Он был их внуком, может и внуком, думаю так. Каждый отдавал ему что-то, деньги, драгоценности или безделушки, серебряные и золотые предметы, не знаю, ножи, посуду, семейные ценности, не знаю. Они, должны быть там, можно найти на его теле, деньги, конечно, конечно, сбережения, пожилые родственники молодому человеку, мечты и надежды, что им еще остается, вот и отдают все ему, это обмен, подношение богам и всем прочим духовным существам, пропуск для наших детей, защита нашей молодежи и будущего.
Старики так делают. Молодежь дает им надежду на будущее. Все надежды семьи могут основываться на нем, если он молодой мужчина, больше, чем на молодой женщине, да, я и говорю, это старики и так они думают, о будущем, это не я, это они так думают, да, а в будущем и нет ничего, кроме самодовольных глупцов, тыквоголовых.
Это не саркастичность. Тыквоголовые же везде. В нашей культуре, в нашей стране, чьей стране, кто говорит «наша», да, тыквоголовые везде.
Они повсюду. В продаже, да, повсюду.
Тыквы могут быть мягкие и зрелые, подрастающие, гнилые. Так что после один армейский выстрелил в него пулями и убил. Имел ли он знаки отличия, возможно и так, если бы его застрелили тыквоголовые, его бы почтили, государственные начальства так бы сказали о нем, погиб с приданием полных почестей. И тогда никакие гнилые тыквы не рассекались бы о его знаки отличия, если он их имел, этот, из безопасностей.
Это не саркастичность, сарказм.
Теперь возвращаясь к себе, на верхней части автобуса, полетной палубе для наших людей, да, во все галактики, где встречается планета Марс, где все достойные марсианские коллеги, это не саркастичность.
Я продолжал читать книгу. Какая тут может быть злость. Может злость и движет делами, может события подталкиваются злостью, некоторые думают так, да, я не из них, книги не живут, они пассивны, возникают на сват, как внутренние органы, читаются людьми, то есть нами, мы их так.
Ну и что.
читая книги. Языки компьютеризации, алгоритмические задачи, давайте мы их решим, возможно не возможно, чего мы можем достичь, все человеческие особи, с нашими моментами, павловскими моментами, это не саркастичность.
Все уже сели и водитель тоже
Все уже сели. Я подумал это, услышав, как заработал мотор, так что водитель уже тоже, и тут же начались беспорядки. Родственники остались внизу на улице, а их родственники сели в автобус. Громкие голоса, я посмотрел, да, бравые армейские, орущие армейские, все голоса, людские голоса, орут, орут. Потом из автобуса выволакивали людей, выволокли из автобуса. Армейские набились в него, тянули, толкали, какие задачи выполняют армейские, серьезные операции, важные оперативные дела, все армейские в их знаках отличия, большие знаки, нарядные знаки, блестящие армейские в блестящих знаках, все в орденах, весь персонал, за доблестную кончину с почестями. Это были почетные люди, отважные люди, люди в автобусе, внутри, снаружи, верхний уровень, нижний уровень, и на улице, бравые мужчины, важные мужчины, важные операции, для тыквоголовых, я не раздражаюсь.
Раздражение саркастично?
Что значит саркастично.
Мягкие и зрелые, подрастающие, гнилые. Если у нас есть что-то под кожей, то чем это может быть, как не кровью, костями и хрящами, жилами и мышцами, и чем быть не может, артериями, бьющимися сердцами и душами, духами людей.
Да.
Семейные прощаются. Они прощаются прямо под носом армейских. Семейные прощаются, это священная деятельность. Священные вещи. Дайте мне религию, не подрастающую, уже подгнившую, ну что это, какие у нас убеждения, если у нас есть убеждения, тогда какие они.
Вот мы все залезли на нижний и верхний уровень автобуса, и снаружи поднимаются лица, смотрят на нас вверх. Я видел их, открытые лица, счастливые не счастливые, они прощались, когда еще они увидят своих близких. Никогда. Никогда они их не увидят.
Я правду говорю.
Так я свидетельствую.
У меня была книга, но я уже не читал, не старался отгородиться от всего остального, все равно невозможно. Так свидетельствую. Двух пассажиров выбросили.
Только двух. Такое мое свидетельство. Я из другого окна не смотрел. Не мог, у меня в голове только два глаза, и я оставался на сидении, на моем.
Да, молодой парень был среди этих двоих, его вытащили из автобуса вторым. Первым был другой. Каждого из них армейские тащили по отдельности, впятером. Пятеро армейских, важные агенты, все в знаках отличия за бравую отвагу, все на парня, который помоложе, забрали его из автобуса, тащили, били, не знаю, но все на одного, на внука стариков. Тащили впятером. Да, какая же в нем силища, молодость сильна, о да. Пятеро таких армейских мужчин. Почему не шесть, не семь, восемь, не японские воины, борцы. Это не саркастичность. Молодость это сила. Восемь воинов, борцов сумо, они бы этого молодчика вытащили. Еще бы лучше целый полк. Давайте их на нашу территорию, миротворцы нам не помешают, давайте их, давайте, все сюда.
Другой персонал, безопасности тоже, много, они там были. Я так и говорю. Многие орали, хотели информации. И на нас тоже глядели, орали нам, вверх. Я их не различил. У меня уши для громкости не приспособлены, для крика.
Продавцов убрали
отодвинули назад, из поля зрения, как также родственников и прочих пассажиров, чтобы не лезли на глаза этому персоналу.
И теперь те двое были видны целиком, отгороженные тачками продавцов, вот те двое, молодой и другой, которого вытащили из автобуса первым. Ему было тридцать, наш коллега. Разыскивали-то его безопасности, а забрали армейские. Я видел это, я знал. Я посмотрел, увидел, да. Это коллега. Я его не узнал, но понимал это понимал, кто может сказать так себе – пожалуйста, пожалуйста, сделайте это не сделайте
Да, они на него орали, толкнули его, повалили, и он поднялся, на ноги, да, встал на ноги, стоял, а они опять орут, орали на него опять, орали, опять сбили с ног, он поднялся, сбили, поднялся, свалили, поднимается, да, поднимается, все еще, поднимается, валится, да, принял решение, спасибо.
Какое решение, что за решение.
Все знают, что за решение. Он попрощался со своими родными. Родных там внизу не было, так что, когда они сбили его с ног и он встал, то стоял, ждал, просто ждал, и все понимали. Он не искал смерти, голова была склонена, она все равно придет. Все мы
Как же не использовать штык, байонет, бай о-нет, бай-бай, бэби. Штык можно использовать против юношей, как и против младенцев или мешков с зерном, против детей, когда все они окружены превосходящими силами, браво, без страха глядящими в прямо в лицо нашим младенцам, почему же и нет, разве что заграничные выдумщики могут чего-то там написать, академические эксперты, которые в нашей стране, как слуги и шуты наших главных начальств, все деньги и средства от наших коллег, все этим заграничным профессорам, специальным экспертам, которые могут сказать, мы существуем или не существуем, ну, кто купит мои слова, все газетные средства, прочие слуги всех слуг, такие политиканы и другой персонал, близкий министерству заграничных дел. Почему же их не использовать. Мешки с зерном те же человеческие существа. Да. Приезжайте в нашу страну, все продавцы тыкв и старые люди, может и вас здесь возьмет в окружение армейский персонал, который помоложе.
Это не саркастичность. Просто время не наше.
Люди могут сопротивляться унижению. Просто не наше время. Они еще будут сопротивляться унижению, потом, а у нас на сопротивление времени не хватает, на всякие такие его формы, если существуют также другие.
Нету у нас.
Убить и не убить.
Нашему автобусу уходить со станции, когда наш автобус уйдет со станции, не задавайте вопросов, это решать армейским, решения в суммарном порядке, упрощенное судопроизводство, применяется самостоятельно, власть суммарна, приведение в исполнение тоже
вот почему, из
Вот первого из них вытащили из автобуса, нашего коллегу. Какие у тебя человеческие права на человеческую жизнь, если ты вообще не человек, ах ты человек, да неужели, какая такая жизнь у тебя, если нет никакой, ты не человек, дай, я тебя убью, это же бойня, а я мясник. Где твое удостоверение личности, это чья страна, ваша, если так, показывай, где оно. Это предположения, мои предположения. Это я так думал. Они орали, гневными голосами, очень громко, я не мог читать книгу, вот и смотрел вниз, на улицу. Да, конечно. Старика и старуху я не видел. Эти армейские орали на первого, первого человека, вытащенного из автобуса. Это первого сбивали с ног, он вставал, сбивали, вставал, и орали на него, орали, эти армейские, и знаки отличия, люди в знаках отличия, армейские люди, орали на него, утраивая для нас представление с коллегой, да, я теперь видел, они это сознательно.
Этот персонал устраивал нам спектакль. Так я подумал тогда, да, спектакль, театр для пассажиров, родственников, продавцов, всех покупателей, подозреваемых коллег.
Но скоро спектакль переменился, этим первым человеком, кем бы он ни был, а решения, которые уже приняты, кто их принял
И есть такие, кто станет сопротивляться унижению. Те же армейские, они уважают друг друга, уважают сами себя, мы же большие люди, даже больше, и все при оружии, видите, вон какое у нас оружие.
У нас опыт. И все прогнозируется. Мы можем сказать, Сопротивление будет.
Не знаю, был ли он внуком. Я так сказал. Возможно, сын, племянник, сосед, не знаю. Кем он мог быть. Его отвели в сторонку, он никуда не глядел, мог глядеть куда хотел, быть где угодно, но никуда не глядел. Это такой способ, метод, кто хочет выжить, мы хотим. Кто это понимает, да все это понимают. У нас же опыт. Что есть унижение. Люди и не глядят никуда. Он смотрел только на то, что имело место перед ним, что там происходило, тогда, его глаза смотрели только на это.
Может на миг, кто скажет, я так не думаю.
Почетные армейские, почетные безопасности, все почетные оперативные и персонал, да, все остались в дураках. Я так и сказал, говорил это и говорю. При таком-то их опыте, ах, таком их опыте, накопленном таким персоналом, да такого опыта никто никогда и не видел. Что произошло, смерть произошла, эта человеческая раса, не имеющая опыта, что информация невозможна, лучше бай о-нет, лучше застрелить, просто привести в исполнение, власти хватает, так убейте его, лучше, чем тратиться попусту, энергию ни на что, автобусы бы поехали, расстреляйте этого первого, оно и для нас лучше, для автобусных пассажиров, лучше для всех, мы же практические люди.
Я думал, что это может случиться, я видел, как изгибается линия человеческих лиц, из человеческих лиц, лиц армейских и безопасностей, к мертвому человеку на улице. Это я мог сказать, у меня опыт, у всех нас, этого первого сбивали, вставал, сбивали, вставал
прогнозируется всеми, наш коллега, я наблюдал это, так и свидетельствую
На верхнем уровне люди смотрели на улицу вниз, не разговаривали. Первый теперь озирался в одну сторону, в другую. Сумасшедшие чувства были в его лице. Я видел. Мы ждали. Может ему выстрелят пулей в голову, когда, мы ждали, да, когда, знали это и ждали, просто вот так, мы ждали. Но не молодой человек, который не ждал, который уже обезумел, с его поступка все и началось. Ярость, бешенство, унижение. Где могли быть его старые родственники, я их не мог найти. Их внук, кто он им был, его поступок, он отступил к продавцу овощей, тыкв, к ящику, в котором гнилые тыквы, схватил тыкву и швырнул ее в персонал, в одного армейского, может в знаки отличия у него на груди, о, такой величавый, высший армейский товарищ-коллега, как вы себя нынче чувствуете, когда тыква лопается на вашей груди и растекается по великолепному мундиру
что я могу
Никто не может сказать. Тыква поднята, тыква летит, ударяет в полную знаков отличия грудь, растекаясь, и как он глядел, армейский служащий, как глядел, дикие глаза, расширенные, большие и круглые, они увидел нас на верхней полетной палубе, нас, пассажиров. Все люди были ошеломлены поступком молодого человека. Могу сказать, этот, первый, наш коллега, который теперь, наверное, мертв, он тоже глядел, во все глаза, вместе со всеми, и армейскими и всеми оперативными, потрясенными этим одним поступком, расплескавшейся тыквой.
Я говорю, это была тыква, так я свидетельствую. Другие говорили, арбуз, это история про арбуз. И вот армейский служащий шагнул к молодому человеку, и сразу начал стрелять ему в голову пулями. Этих армейских взбесить не так-то легко. Они ребята опытные.
Никаких беспорядков не последовало. Что должно было случиться. Чету стариков я не видел.
Я не видел и первого человека. Может его убрали оттуда. Я не знал его, ничего о нем, но он был наш коллега, я не имею сомнений.
Мы можем спрашивать, мы обязаны спрашивать.
Я могу и смеяться, все эти вопросы, кто должен прощать, может я. Вот я о чем спрашиваю.
Другие подробности.
Беспорядков не последовало, автобусы отъехали. Я уже говорил. Это история про тыкву, или арбузы, и я ее рассказал. Что такое память, вот я, который там был и теперь даю показания, может время сопротивления и придет, когда придет это время, и каково было время молодого человека и наше, пассажиров, которые ничего не могли сделать, что это за время для меня, может еще возникнут вопросы, если так полагается, но это уже не ко мне, я человек практический.
15. «вино одной религии»
Ты говорил мне, что ты религиозник, и говорил о самой религии, как ты ее придерживаешься.
Я это сформулировал.
Ты также готов к нападкам, ко всей враждебности.
Да.
Если позволишь мне так сказать, человек твоей культуры редко придерживается подобных верований, и также, всякий, если у него такие верования, мужчина или женщина, часто хранит их в секрете.
Я удивлен, что ты об этом спросил.
Я бы спросил так, где же честность.
Где.
Такие верования, они считаются глупыми.
Да.
Так они глупы?
Ты обвиняешь меня в глупости, это серьезное обвинение.
Тогда зачем улыбаться. Или нет, да.
Обвиняешь меня.
Я обвиняю тебя в глупости.
Раз так, значит так. Меня не заботит, что обо мне думают люди, а ты тоже человек. И ты спрашиваешь про религию, которая моя религия, и это меня забавляет.
Может мне извиниться.
Нет, лучше мне, я извиняюсь перед тобой.
Нет необходимости, ты только просвети меня, я задаю эти вопросы, веря твоим ответам.
Спасибо.
Ты сказал, это твоя собственная религия. Ты ее выдумал сам, из своей головы.
Да.
И нет бога, кроме твоего бога.
Да.
Я сказал, что для других религий это святотатство. Ты ответил, что тебя это не заботит.
He может заботить.
He может, да.
Я не могу.
Ты не можешь заботиться.
Что я не могу заботиться, да, я тебе говорил, это стержень моей веры, это спасет меня или погубит, все это, от этого, с учетом, что мой бог тоже может походить на заурядного бога.
И на других богов, сложных богов, со сложностями, богов, чья природа не заурядна, чья природа исключительна.
Да.
Это ведь предпочтительные боги.
Да.
Кто из них?
Я о них мало знаю.
Все религии насчитывают много веков, десять или двадцать, пятьдесят, сколько лет человеческие существа на этой планете, один миллион. А если другие планеты, сколько на них религий.
Я не знаю.
И также религий на одной, на этой планете, тысячи, сколько?
Я не знаю.
Как насчет них?
Я насчет них не знаю, может и существует различие, радикальное, может это фундаментальный вопрос, так может быть, я не знаю
Однако из всех таких религий, радикальных, не радикальных может существовать одна, которая подходит для всех, все люди могут найти для себя одну истину, и все-таки ты будешь держаться другой, придуманной тобой для себя.
Я не могу заботиться.
Объясни мне дальнейшие аргументы.
Ты глух к вопросам религии.
Только ушами. Мой разум услышит.
Ты сказал, у тебя отвращение к религиям.
Так меня воспитали, мать и отец, все семейные, люди нашей страны, все верили в богов, да, и во всех пророков и в людей зла, да, и также, что, может все боги родственники, мать-отец, кто-то сыновья или дочери, мы, дети, могли бы сказать, мы слышали, некоторые видели по телевизору, они могли быть христиане или мусульмане, сказать о «боге», всесильном существе, но в митре его сына также и бесы, духи, и у животных тоже есть духовные существа, и также всемогущие деревья, и кусты, и всесильные воды или темные тени, божества, сущности, можно назвать их сущностями, этих духовных, которые приходят к тебе в темноте, и пронзительный голубой свет истекает из их голов, на кого этот свет упадет, на кого, мы, дети, лезем под одеяла, чтобы спрятаться от духов-существ, да, но они и забавны, для детей, только для нас. Да, такое воспитание. Кто может об этом рассказать.
Никто.
И что можно сказать, если кто-то делает так, что он может сказать?
Ничего.
Я думал спросить у тебя, почему только христианский или мусульманский бог, что они не такие, что твой не такой, как ты говорил, почему не какой-то другой, из евреев, сикхов или буддистов?
Я не понимаю.
Ты так говорил.
Я извиняюсь.
И все же ты так говорил.
Я не понимаю
B этом нет смысла
Да
Если это религия, я говорю о религии. Я, я говорю о религии.
Ты религиозник.
Я атеист.
Ты религиозник.
Это ты религиозник.
Хоть и очень мало знаю.
Я тоже.
Я очень мало знаю.
Да, как и я.
Я не могу спорить об этом.
Я так понимаю, что нам придется провести вместе несколько дней. Я смогу приглядеться к тебе. Смогу у тебя поучиться.
Я смогу у тебя поучиться
Да.
Если мне так захочется.
Да.
Возможно, мне не захочется.
Да.
Может нам и предстоит провести вместе несколько дней, но, похоже, у нас нет общности взглядов.
A враждебные силы, уж они-то у нас общие?
Ты принимаешь это на веру?
Пока не обнаружу ошибку.
Я не могу принять это на веру, может для тебя это возможно, но для меня нет.
Ты не доверяешь коллегам?
Я не буду жить вечно.
Ты воспринимаешь врага не как врага?
Да
Ho и не как «недруга», насколько я понимаю.
Да, я убью их.
Конечно, ты их убьешь, если они придут убивать тебя. Только я не верю, что ты при этом будешь любить их. Почему ты смеешься? Ты должен ответить, я никак не пойму.
Сейчас я волью еще вина в твой сосуд и в мой тоже. И говорю тебе, говорю тебе ныне, я вливаю это вино и рука твоя не дрожит, и довольно с тебя, теперь мой черед. Да, я тоже пью, за благо всех нас, и говорю тебе ныне нечто иное, быть может, вот это, что я придумал, больше уже не религия, религиозность.
16. «они видят тебя»
Ты не из их мест. Эти люди не видят места, куда ты приходишь, не сознают, что мест так много, что они по всему миру (места), у них нет этого понимания.
но мир мал
однако не так, как они думают
Я не верю, что они думают так.
У тебя не было (были) причины сообщать твое мнение. Разве не случается, что их лица преследуют тебя наяву, не наяву, когда ты спишь, бодрствуешь, эти лица,
да, они теснятся в мозгах моего разума, в разуме моих мозгов, что тут сказать, я могу сказать, может,
в разуме моего мозга
что я могу об этом сказать. Они видят тебя и думают, что ты из чужой породы.
Да.
Ты просишь их сделать что-то.
Они делают это, достигают, ценой собственных жизней. Я могу видеть эти лица, музыку этих лиц, в этих лицах, да, да, как будто у меня камера, и дети стесняются в рамке снимка, глаза большие, как у всех детей
И что.
Что.
Закончи то, что ты говоришь. Закончи. Закончи, что говоришь.
Я не говорю, я ничего не говорю
17. «раскол у меня в мозгу»
Боль у меня в голове, в затылке, сначала была не такая уж сильная, и если тогда я упал, так я мог выдержать и удар посильнее, хотя какое-то время был оглушен, это могу заявить.
He я все это устроил. Они могли бы выдвинуть против меня обвинения. Решение было принято ими, а если так, что я мог сделать, да ничего.
He надо настраивать против себя. Это лишнее.
Разумно объяснить не могу.
Я был подозреваемым, они так сказали, мне тоже, да, я выслушал их, услышал.
Нет, я ничего не сказал, что я мог им сказать, тем, кто меня заподозрил.
Они питали подозрения. Такая была их позиция. Я почесал шею, и один говорит мне, Нечего чесаться, когда мы с тобой разговариваем.
Я продолжал. Один смотрел на меня. Я не извинился.
Его голос был так далек.
Скоро я пришел в себя, в то, что я знал, знал от себя, может он и напал на меня, это пустяки, он и они не могут знать, они думают о смерти, которая может быть их, наша для них невообразима. Я смотрел вдаль, далеко. Я видел, как катится ветер, что он движим собственной силой. И в мозгу моем образовался раскол, вызванный призраком поступка, который я совершил бессознательно
Он был бессознательным.
Вопрос власти, содержание власти
содержащейся
Свобода небытия есть подлинная свобода, я знал это даже тогда. Если исходить из степени эксплуатации. Это самоочевидные вещи. Знание, которое лежит за пределами моего мозга
вслушиваясь в мое дыхание, не смея пошевелиться
Я увидел его там, того одного, опять смотревшего ко мне, на меня. Он говорил. Я знал это. Удивлялся ли я?
сказанное им
метод заключения себя ни во что иное, как в себя самого, позволяющий избавиться,
избавиться от них, от всех
Они, от них. И то, что находилось вокруг меня и во мне, пытаясь свергнуть, возобладать
от этого инструмента к структуре, а от структуры
Я глядел в потолок, и он был зеркалом, я видел себя, глядящего на далекие горы. Конечно крики. Мне самому было больно, сзади, в голове
Я был им не по силам, ему и этим другим, что они делали, могут сделать, преступники, говорить о надежде, значит услаждать их души. Нет никакой надежды и быть не может, я не хочу надежды, эта надежда
были окрашены провалом, мои видения, все испятнано им
трещины в бетоне, в фундаменте моих верований, так они думали, как будто ослабили мои опоры
нет, не боль, не так уж и сильно, но сознание ее. Я только не мог определить где/что это было
Затылок был пробит, на моей голове. Так они мне сказали. Я мог улыбаться
Они могли признаваться в ужасных вещах. Что такое ужасные вещи? Что они могли сделать со мной в этих местах, связанным и привязанным, как козел, которого я помню из детства
И о богатых, богатых. Надо было спросить.
О наших телах, им с этим не справиться, не могут развиться так, чтобы фабриковать
Что значит фабриковать
Существуют требования, сказал я, существенные
Мишурные вещи
бдительный, но покорный, понятливый
почти не глядя туда, куда могут ступать мои ноги
неспособный вынудить, вынудить это
безумный как и не безумный (но они меня подозревали)
что я бы так не уходил, а остался только
безразличный, праздношатающийся, зевающий вместе Мои пальцы дрожали и все же я мог улыбаться, все тело. мертвые в них, во мне, мои ноги в подросте, илистом они были достаточно прочными, хоть и древними опоры, древние
как верования
18. «уважение к делам»
Некоторые саркастичны, старые также и молодые. Когда я был молод, старшие были саркастичны, даже молча, в молчании, им задаешь вопросы, а они молчат. Мы задавали им вопросы, они не отвечали, и не думали отвечать, и все равно требовали от нас почтительности, как будто вправе, им так положено. Ho я говорил тогда, как и сейчас, нет, не от меня, ни уважения, ни почтения, ничего, пока не покажете мне, что таково ваше право. Тогда я это признаю. Так я им говорил. Вы старшие, мы обязаны вас уважать, наше поведение должно быть почтительным. Должно ли так быть, для меня, нет, не думаю. У меня был отец, мать. Уважал ли я их, в отношениях, одного с другим, как оно между нами? но если между, так что, если я не равный, я всегда и буду таким?
Может и наступит день, когда будет равенство, это возможно, некоторые думают, так и должно, но возможно, не так.
Ho вот к вам. Конечно, от меня это требуют. Все требуют этого от меня, от нас, к вам тоже, посмотри на их лица, потому что мы ведь моложе, это верно, я видел их и понимал, что оно ожидается, почтительное поведение, почему? от меня, да, я должен иметь такое, ах, пожалуйста, могу я вам услужить, я моложе, можно я вам услужу.
Конечно, это глупость. Может это я думал глупости. Это вы думали, что я глуп. Так я им и сказал. Старшие люди. Чьи это ожидания? Они чрезмерны. Кто их питает. Глупые люди. Kо всем следует относиться поровну. Уважение должно быть не к долгим и старым годам, а к делам. Если это старые люди и их дела лучше, тогда уважай их, и это будет правильно, но если уважения нет, нигде не показывается, как же нам таких людей уважать. Это же невозможно, просто глупо. Я врать не умею.
19. «я говорю про этих мужчин»
Эти мужчины стояли вокруг, совершая все вместе половой акт, а он сидел. Сидел на чем-то, не на стуле. Больше никого, но другой человек, если он был там, то этот занял его место. Я не знаю. Было темно, лиц не видно. Я думаю, он не был молодой, но может быть, и молодой.
Причины я не знаю. Что за причина. Какая тут может быть причина. И насчет женщин тоже, я не знаю насчет женщин, это было не место для женщин, они туда не приходили. Другие лагеря, те лежали у периметра. Далеко от моей секции.
Я не знаю.
Да. Я там был. Я уже говорил. Зачем отрицать, это ничего. Это было далеко от моей секции. Я пошел прогуляться.
Насчет другого человека, который постарше, на нем было покрытие. Они оба были постарше. Я так и говорил, может один был моложе, старше меня. Он в этом случае сидел. Они были вокруг него, каждый держал свой пенис, иногда он. Да, тоже, он и его держал, мой пенис. Я говорил. Другие покидали. Я не знаю. Что за причина. Некоторые теряли интерес. Я так и сказал, теряли интерес. И покидали. Куда-то. Я не знаю. Люди теряли интерес и уходили. Я говорил, что произошло. Насчет этих двух я не знаю. Я видел того, который помоложе. Я уже говорил, что видел. Обратил на меня уважение, да. Я так и говорил, обратил на меня уважение, он. Он тоже будет искать. Конечно. Я знаю, что будет. Это не было изнасилованием. Я так и говорю. Да, слышал. Эти термины, определения. Возможно, может быть, это и было изнасилование, нет, я же говорю, не было.
Там были эти люди. He женщины, девушки, их не было, их туда не брали, мужчины, некоторые старые. He мальчики, их туда тоже не брали. Мужчины. Мужчины мастурбировали. Да, мужчины мастурбировали, конечно, мужчины мастурбировали. Они мастурбировали. Что я должен сказать. Каждый другого. Я не знаю. Конечно, каждый другого. Я не знаю.
Они теряли интерес, покидали, уходили, они уходили.
Кто бы узнал индивидуальных людей, я не узнал.
Было очень темно. Я пришел туда, знал, там мужчины вместе, между этими бараками, в темноте, тени, они уходили туда.
Он обратил на меня уважение. Я не знаю, что знают женщины. Это было на меня, ко мне. Это знаю. Некоторые держали каждый другого, он держал меня, я уже говорил. He знаю. Ищет ли он меня. Что я тут могу отрицать, что я должен отрицать, может другие дела, я об этих других слышал.
Каждый из нас, мы их слышим, о них. Некоторые шепотом. Конечно, я тоже эти шепоты слышал. Я ничего такого, за что прощать. Я говорил о его уважении, я тоже имел уважение, да, к нему.
Лица его я видел. Я говорил, что нет, я не видел индивидуальных людей. A этого видел. Возможно, и других, больше. Да. Люди не смотрели один на другого, в их лица. He в лица. Я так и говорил. Это то, что я говорил, и теперь говорю, они не смотрели, не один на другого. Я не знаю, что знают женщины. Мужчины толпились вокруг. Некоторые помоложе, постарше, я все это говорил. Они приходили туда отовсюду, собирались по отдельности, я думаю, один за одним, я думаю, да, индивидуально, возможно, вместе. Потом покидали, некоторые возвращались, я думаю. Никто не говорил, исключая во время половой активности.
Половой активности. Они говорили всякие слова, шептали их, горячо, да, некоторые, если не все. Нет, я не говорю необычные, хотя горячо. Нет, что говорят женщины, я не знаю. Я не часто ходил. Некоторые ходили часто. Я знаю. Я же сказал, я не часто.
Я ходил. Я так и говорю, ходил.
Там слышны голоса, видны очертания. Там, в тенях, у периметра, я и шел. Вышел из моей секции, пошел прогуляться. Я хотел поглядеть за периметр, увидеть горы за наружными лагерями, мне хотелось увидеть горы. Подумать о моих местах, о доме. А там тени и очертания. Я сначала и не узнал. Когда пришел в первый раз. Я не знал. Я так и говорю, меня притягивало. Ближе, и я услышал дыхание, увидел эти бараки, темноту, тени.
Я не знаю. Наверное, думал, что может быть. Мы не можем приближаться к женщинам и не можем
хотя
Я говорю о мужчинах, искушаемых, как был я, да, один из них, притягивался дальше, дыхание, скрежещущее, скрежетало, и эти приглушенные звуки, тихие и, что тут сказать, искушало вперед, меня, мое сердце, колотилось и все напряжено, у меня, нервы, конечно, да, в желудке
мужчины, это не удивительно. Я тогда не был психологом, я и сейчас не психолог, оно только половое, возбуждение. Я пошел между бараками. Медленно или быстро, знаю ли я, почему я должен знать. Может и знаю. Ладно, тогда быстро
об этом я не думаю. Как это может быть. Это несерьезно. Видели меня мужчины или не видели. Они не смотрели. Я видел очертание, слышал дыхание. Некоторые держали каждый свой пенис, пенисы, некоторые нет, некоторые держали. Кто бы взял их, этих двух, обоих мужчин. Да, ко мне, может как раз этого и захотелось бы, я захотел бы, да, держать их ко мне, ладно, для меня, но мне не хотелось. Эти сгруппировались вместе. Один положил на меня руку, да на меня. Да, я позволил. Конечно. Я сказал, конечно.
Я тогда увидел, некоторые сидят и люди вокруг. Все были мужчины, он тоже, если все были, то и он тоже, я это знал. Я говорю, что знал. Женщин там не было, мы не можем ходить к женщинам, я не могу к ним ходить, кто бы взял туда женщин.
Я приближался, приблизился, вошел. Место расчистилось. Они сделали проход. Для меня, позволяя мне войти. Я не знаю. Hy, путь, чтобы войти. Тогда я этого не думал. Он, который сидел, взглянул на меня. Больше никто на меня не смотрел. Они не смотрят каждый на другого, только на свои тела, на пенис. Я уже говорил, да. И человек сидел голым, они выстроились вокруг, сидел спиной к стене, стене барака. Он притянул меня к себе. Я увидел другого человека. Мы в лица не смотрим. Я мог видеть его, мужчина постарше, не из моей секции. Он не обратил на меня уважения, не из моей секции был, даже не близко. Я так не думаю. У меня, да, возбуждение, сексуальность. Это я могу сказать, конечно, а что тут, это пустяки, возбуждение, я имел возбуждение. Да, он притянул меня к себе. Другие люди сгруппировались там вокруг него, вокруг меня, и другой человек там, я увидел, он тоже голый, в покрытии. Ha моих плечах были руки. Кто-то, приложил руки к моим плечам, на них. Я их не бил, не ударял, конечно. Нет, это было не нападение, на меня не нападали. Он был сзади меня, я его не видел, его дыхание. Другой держал меня. Это было не изнасилование. Держал меня. Мой пенис. Я же говорил, это несерьезно. Ну, несерьезно же. Мужчины всегда мастурбируют.
Там, в этом месте, темнота, тени, ни звуков, ни как бесшумный, бесшумно, легчайший ветерок, одно дуновение шепот, дыхания. Других мужчин я не узнал. Никто так не делает, не ищет этого, узнавания.
Только один человек, а если двое, тогда двое, один за другим, и тогда увидели бы, не могли бы избежать, увидели бы того одного. Я этого не хотел. Я видел, один сидит, помоложе, я увидел его и узнал, это был он, и те, другие, вокруг него. Я про него такого не знал. Да, его уважение ко мне, я говорил. Сам, я такого чувства не имел, никакого. Это его унижали, а не меня. Он был голый, а я нет. Эти люди выстроились вокруг него, он хотел меня, меня себе, притянул меня к себе. У него были другие, да, еще бы. Я имел жалость к нему. Я же говорил про его уважение.
Я не мог разглядеть. Он был голый. Конечно мужчины извергали. Мастурбировали извергали. Конечно. Он не думал себя униженным. Это не было, что я унижен. Нет я не думаю так, что он думал, что я думаю, что он унижен, наверное. Конечно он был. Перед этими людьми. Я так и сказал.
Что я сказал, пожалел его. Я его пожалел. Я имел уважение. Я так и сказал.
У меня на плечах были руки. A что другой. Другого я не видел, других. Да, другой, который постарше, да, этого я видел. Он был еще из каких-то мест. И он. встал на колени рядом с другим. Я не мог разглядеть его лица, цвета волос, волосы были, я не мог их разглядеть, темнота и тени, и люди толпятся, все время тени и очертания, это было невозможно. И мундира не видел, никакого мундира тоже, может и мундир. Может у него и был мундир, какой мундир, я не видел, он был голый, только в покрытии. У меня на плечах были руки.
Таковы подробности.
Я оттуда ушел.
Я ушел оттуда, покинул. Люди покидают. Я не был голый, это он был голый, эти двое. Я не был голый, это он сидел, притянул меня к себе. Конечно, не изнасилование. Я не знаю. Возможно, он был старше, моложе. Место расчистилось, они сделали проход, толпившиеся люди. Он был голый. Какой мужчина. Другой мужчина обратил на него уважение. Насчет полового характера я не знаю. Да, я уже говорил. Он притянул меня к себе. Мужчины извергают, совершают мастурбацию. И я тоже, да. Нет, не люди, не другие. Только эти двое. У меня на плечах были руки. Только один. По-моему. Я говорил. Я обратил к нему уважение. Он ко мне, обратил, да, уважение ко мне. Да, я это говорил. Конечно, не он. Я был не он. Я был не голый. Я не сидел, не вставал на колени. Это другой, постарше, я же говорил, да, стоял на коленях, руки у меня на плечах.
Мужчины мастурбируют, совершают самоубийство. Тоже, да, я слышал, это распространенная мысль, проблема жизни, и нечего тратить время на ее разрешение. Я и не тратил, не такое тогда было время. Есть такие размышления, лежишь один. Сказать, что я не сидел, конечно, я не сидел. Может и попил потом воды, мысли о жизни, мысли о себе.
Они мне дали воды. Кто.
Почему я пережил этот период. Как все мы, мы разговаривали. У нас были привычки, они приходят на помощь. Может здесь и могут возникнуть вопросы, я так не думаю. Людей насиловали. Я этого от себя не скрываю, определенно. Я спрашиваю, что могли сделать другие. Меня самого не унижали, не насиловали. Конечно, уверен.
Это другие пусть верят или не верят. Мне все равно, психология, у кого она есть, психология, теоретики.
Мужчины из других секций, из моей секции тоже. Я их не знал. A его. Да, я уже говорил, может он и был постарше, не знаю. Я говорил, что был. Оба мужчины, сидели. Был ли я помоложе, не могу сказать, не для других, которые не смотрят в лица, никто не смотрит в лица, ни один, ни другой.
Я и не знал ничего. Пошел прогуляться, потом к периметру, откуда можно увидеть горы за наружными лагерями, хочешь посмотреть на гору, подумать о доме. Вот и приходишь туда.
Я говорил, там были очертания, тени. Я не знал, что это, не знал, но потом услышал дыхание, скрежет дыхания. Я мог не предполагать. Женщин не могло быть там, в том месте, только мужчины. Я уже говорил, и теперь говорю и опять, опять, да, это не было насилием. Я вышел. Лежишь в бараке, один, и эти мысли в голове, бегут, бегут, а если еще рассвет наступает
Я был чист
Иногда поражаешься этому, вкус тошноты, и один хочет воды, а другой дает ее. He очищение, просто хочешь воды, водички попить, эта тошнота, какая она на вкус, грязь и металл, что-то так.
Люди стоят. Мужчины не двигаются, я говорил, мужчины, только мужчины, и эти двое, один постарше, другой помоложе, я уже говорил. Старше меня. Я тогда был моложе, конечно. Ho моложе, чем они, да, те двое. Они не тянули меня к себе. Да, он притянул меня к себе, я уже говорил. Я не был насилован. Я же говорю, не был. У меня на плечах были руки, да, у меня на плечах были руки, ну и что
Что я тут должен сказать, кто мог там быть. Это несерьезно. Я бы тогда сказал. Я бы сказал. Про эти другие дела я не знаю.
Обо мне этого не скажешь
Мы слышим о делах, я слышал, шепотом, говорили не мне, но я слышал, только слышал про другое место. Ho тогда не знал, ничего не знал. Может там были тела, мы ничего не знаем, я ничего не знаю
Что про тела, может это все сны, люди, которые могли быть друзьями, не так уж друзьями, может мы должны их спасать, врагов, знакомых, кто они, может и они люди, да, тоже.
Могу начать сначала. Проблемы жизни. Поговорите со мной о смерти. Да, это была прогулка, это была прогулка. Моя. Я пошел прогуляться. B утренние часы, всегда в утренние часы. И тишина, только дыхания. И будем ли мы жить, будем ли мы жить, мы же должны жить, выживать, что называется. Я же сказал, мужчины сгруппировались вокруг и тишина, только их дыхания. Кое-какие звуки. Тихие. Шумы. Шорохи. Мастурбирующие, конечно, мастурбирующие, мужчины всегда мастурбируют, конечно, конечно, мы же должны жить, я так и говорю. Да, говорю, жить-то надо, женщины сюда ходить не могут, девушек брать нельзя, ну и ладно, несерьезно.
Конечно, в ночное время тоже. Света там никакого и быть не может. Да, мы тоже пока еще живы. Жизнь принимает различные формы. Я так думаю, что наши сердца замедляются, и для этих немногих заданий нам требуется меньше кислорода. Для любого задания. Которое следует выполнить. B темноте я пошел бы туда. Наружный лагерь. Нет, какие другие дела. Мы бы увидели горы. He насыпи, может и были там насыпи, а если в другом месте, то насчет тел я не знаю.
Слышал. За наружную зону я все равно уйти не мог.
Там были дыхания. Где.
Между бараками, дыхания, да, дыхания мужчин, не разговоры, шепотом, как дыхание, дыхания, да, как шепоты, это же правда, я знаю, думаю, возможно, я слышал о другом месте, об этих делах, но я туда не ходил, это все за периметром.
Я не знаю. Какие там насыпи, если они там есть, я не знаю.
Там был другой мужчина. Он не говорил. Я не слышал, как он говорит. Шепоты, дыхание. He знаю. Я там людей не знал. Конечно, из других секций.
Это был внешний периметр.
яснее ясного вблизи гор я мог различить и различил такую картину. Я мог бы пойти в место опасности, конечно. Да, человека который приходит, там могли и убить. Меня тоже.
Поговорите со мной о смерти.
Я уже говорил.
И могу сказать.
Нет, не когда темно. B дневное время. Должен наступить рассвет. Люди оставались, возвращались. Никто мне про другое место не говорил. Никто не говорил, сходи туда. Может людей туда и брали, меня нет. Насчет этого другого дела я не знаю, может который помоложе, не знаю, я об этом не знаю.
Отец у меня старый, старик. Как это можно сказать. Я это должен сказать. Почему же я должен, я не должен.
Может других людей туда и брали, меня нет.
He знал я других мужчин. He было других. Которых я знал. И сладковатых запахов тоже не было. Да, может другой был и постарше, это возможно, по-моему. Да, темно, очень темно, всегда очень темно, и тени, между этими зданиями. Люди появлялись, покидали.
Это невозможно. Насилия не было. Других я не видел. Я не знаю, что они там докладывали, другие.
Люди теряли интерес, извергали, покидали. Я тоже. Некоторые возвращались, да, я говорил. Чего тут отрицать, мне отрицать нечего. Это несерьезно.
Hy не знаю я о других делах. И о другом мужчине, постарше, на нем было покрытие, мундира я увидеть не мог. Мы же не смотрим один на другого, в лица.
Сверх этого ничего.
Я уже говорил.
He меня. Я не знаю.
Там было темно, темно и тени. Да, тогда, отчего бы и нет. Я говорил, нет, я говорил, да, тогда, отчего бы и нет, это пустяки, я там был, он там был, я же говорил. Я докладывал, они там были, много таких, я говорил. Мужчин интересовал только секс, тела. Я не знаю, он обращал на меня уважение. Раз за разом. Нет, ничего. O том другом деле не знаю. Никто мне не говорил. Может других приглашали, меня нет, ничего не знаю. Я ничего не знаю, ничего, ничего я не знаю, ничего больше. Я ничего больше не знаю. Я уже говорил. И я его не видел, и он меня не видел.
Может на нем и был мундир, я не разглядел. Возможно, других притащили силой, я не знаю. Возможно, он бывал в том другом месте, я не знаю. Я не знаю. Я же не он. Я слышал шепот, там были шепоты, но не ко мне. Да, эти, другие, я слышал. Шепоты. Я не знаю. Я не знаю, не знаю я их. Никто не разговаривал, только когда секс, и горячо, возбужденно. Никакого насилия. Я не знаю. Меня не меня. Никакого насилия. He знаю.
Насилие. Да, смерть, поговорите со мной о смерти. Увечья, да, поговорите со мной, сейчас, сейчас поговорите, поговорите со мной. He знаю я про эти другие дела и про другое место.
Он не был моим другом. Я и не знал его, может он враг. Когда я пришел туда. Я увидел, это, должно быть, он, потому что я его знал, и тут увидел, что он обращает на меня уважение. Я не знал. Да, это он, он притянул меня к себе. Может его и приглашали в это другое место, я не знаю, не знал, не поддерживал связи, не с ним. B этой секции мы не разговариваем, мы не коллеги, не знакомые. Я его не знал. Видеть, да, видел, а что такого, ну, видел, он не из моей зоны. A после он не вернулся. Я его больше не видел и ничего не знаю.
Мой разум стремится отвернуться от этого. Я верю так, что наши тела, они цельные, и что разум и тело едины, так что разум, когда он хочет отвернуться от какого-то предмета, посылает сообщение телу, и от этого тошнота и сосредоточенность покидает.
Моя сосредоточенность.
Конечно, скажу. Уже говорил. И снова могу сказать, и скажу снова. A что я должен сказать?
20. «эти люди»
Он был заграничное начальство. Ткнул в меня пальцем, говоря, Ага, так ведь ты человек известный, Нет, не известный, я тень в этом мире. Подойди-ка сюда, мы тут ничего не выдумываем, садись. Стул рядом с ним, он указал. Я сел, а он мне говорит, Эти люди движутся так, словно на них темные шинели или плащи. Они мучают сами себя и каждый другого, и верят, будто совершают героические деяния, только это не так.
Я только слушал. У меня в руках были все формы контроля. Я контролировал все, так я считал, и то, как я себя поведу, и больше, контроль движений, как я буду править собой, тщательный, да, чтобы я мог смотреть на всяких таких личностей, слушать тех, кто станет со мной разговаривать.
He повезло им в тот день.
Бдительный, безтрусости.
Люди часто бывают не виноваты
Они так и продолжали прислуживать, пока другие продолжали править. (Кто говорит о детях?)
Возобладала форма безумия. Когда они говорят, никто их не слушает, вместо чем делать выводы из того, что было сказано, а если кто улыбается, так тем хуже.
Эти люди испытывали благодарность за то, что им дали жить. Они заискивали перед богами. И среди этих богов были начальства. K начальствам они возносили молитвы, чтобы им дали прислуживать самозабвенно, до гроба, охотно, все, о чем они просили, нельзя ли оставить их как есть, как были, сохранить, что они имели или имеют, и только, а если у них и нет ничего, если так, пусть так и будет, они претерпят любое зло, лишь бы выжить, продолжая цепляться за то, что у них есть, за ничего, да, ну конечно, о чем тут просить, вот сейчас мы тебя, иголочкой.
Это великое и изумительное явление, что никто ничего об этом не знает, ни о чем этом.
Они не вступают в борьбу, чтобы их семьи смогли отыскать способ спасения. Это нет, не борьба.
Этого никто не распространяет.
Раз они хотят не противостоять
Сила сводит на нет любое родство. Вот во что они верят. A это сила.
Они переоценивают положение.
Bo мне они этого не увидели. Хоть смейся.
Ненависть, скрытая за словами, это сплошь и рядом
Тот, кто обучен чтить
Никакой разницы, взрослые, дети, никакой
когда они на меня смотрели, это были не взгляды, которые должны бы встречаться, и не могут, между равными, среди человеческих существ
Они были терпеливы, но насторожены и пытливы насчет меня, что я выжил, как я явился к ним. Нет, но как же я к ним явился. Они предложили мне сесть, да, отдохни, отдохни вот здесь. Он тоже, которого я наметил, заграничное начальство, так он сказал, верю ли я в это, может и верю. Все полагали, что им известно, но что им было известно, если вообще что-то было, да ничего ни о чем, ни обо мне, обо мне, мне, они ничего не знали, он ничего не знал, думая, что меня легко поймать в западню, вот так, коллега с марса. У них даже представления не было. Затем ли я здесь, чтобы наставить их, нет, не затем. Мог ли кто другой сделать это, нет, я так не думаю. Было ли это возможно, не думаю. Чем была моя жизнь. Прибыл ли я из мест, из территории, такое ли это место, где обитают люди. Один ли я из этих людей, отдельный собрат, человек особенный, существо, как человеческое существо, кто я.
что им со мной делать, что думать обо мне. Что такое храбрость. Я знал ее в людях
Разговоры редко ведутся прилюдно, рисковать никому неохота. Выслушать, задуматься, этого довольно.
Я должен говорить, что мне сказать, кому должно быть сказано, заграничному начальству, который из совета государственной безопасности, который ко мне, который ткнул в меня пальцем. Каждый другой улыбается, терпеливо
и ничего кроме действий, которые они выполняют, чтобы выжить. Пережить момент, я уже говорил.
Я так о них думаю, и тогда думал так, что они существуют, пока еще могут ходить, а после ложатся на спину, на бок, и умирают.
Эта моя храбрость
A они тем временем ждали.
Хотя никто и не ждал, не было никого, ни детей, ни женщин. Мужчины женщины мальчики девочки все равны, и младенцы тоже, слушай младенцев, как они дышат, вслушайся в эти легкие, они у младенца, младенца семидесяти лет, младенец не может дышать, младенческие легкие. Что я должен был сделать. Я могу быть честным, могу нечестным. Кто возвращается в наш дом
Позвольте мне через это пройти, я смогу пройти через это. Так я сказал ему, всем им, таким начальствам, какие могли там быть. Скрывать-то тут нечего. Да ничего и не скроешь. Дом, у меня нет дома, поэтому я не могу отправиться туда. A родители, дедушки-бабушки есть. Тут нечего скрывать. Да ничего и не скроешь. Вы хотите этого от меня, если вы требуете
Так было сказано. Да, я сказал это им, я и от других это слышал
Голоса продолжаются. И пусть их. Что мы тут можем
«эти люди»
поделать. Я ничего и не мог, ничего другого. Приговора не было, никакого. Ho я все равно должен был отвечать, да.
Это не храбрость. Если они убьют меня
Станут пытать
И люди также присматривались. Конечно. Эти эмоции не спасают, они бессмысленны.
Наблюдение, оно ведь на пользу людям. Мы одобряем или нет, одобряем, отвергаем, осуждаем. Они могли бы начать с меня, наблюдать без определенной цели. Я говорил это им. Некоторые отвечали, что этих вопросов лучше не касаться, не вдаваться в подробности, видеть в них силу будущего, даже индивидуально, применяемую безопасностями при ведении дел, пусть даже ко мне
так что вот, это я и хотел сказать
мои движения, разговор с ними
да, это дураки, все знают, и заграничное начальство тоже, думающее так
21. «если обманным путем»
Ho те, кем мы были восприняты, они следят за нами, они следили за мной. Глаза их могут поблескивать. Последовательной характерной чертой являлся сардоницизм. Они не гневались, не раздражались. Это было за пределами персональной эмоции, но остается правдой, только пока не изменятся обстоятельства. Если мной/нами дается повод к непоследовательности, может иметь место эмоциональная перестройка, и в прошлом я часто давал повод к гневу. Наиболее распространенным эффектом было не непосредственное раздражение, но разочарование, разочарование индивидуального человека, не недоброжелательное. Однако вскоре оно сменялось нетерпением, затем раздражением, к тому же в нетерпении таится семя сардоницизма. Если сардоницизм неизменно является следствием, если мне известно, что это неизменная истина, тогда я могу смягчиться в отношении других, и я смягчился, думаю, что так. Что касается меня, я должен удерживать мою внутреннюю жизнь. Постоянная настороженность. Если меня останавливали, ошибка никогда не могла быть их, никогда их фабрикацией. Мои обстоятельства были опасны и трудны, так предполагалось. Они были обязаны предполагать так, пока интуитивно не постигали чего-то иного. Когда постижение занимало свое место, получало его, тогда я изменялся, становился враждебной силой, поскольку тогда, до того, представлял им себя обманным путем.
Я знаю, что это точка скрещения. Она может возникать на пути к свободе, к тому, что ошибочно считают свободой.
Эта идея необходима, чтобы сделать шаг, чтобы продвинуться за точку скрещения, прежде чем поставить себе задачу или взяться за нее.
Если я и продолжаю обманным путем.
Да, что тогда?
Это не обязательно порог к чему-то дальнейшему.
Другим предлагались побуждения. Мне нет. Меня не заставляли, не оказывали мне, на меня физическое давление. Этого не было. Могу сказать, что этого не было. K чему отрицать. Является ли это реальностью. Что ж, является, если существует реальность, то она такова.
Что же тогда эти другие голоса.
Другие голоса не прерываются никогда. Переменчивые элементы, иногда различимы слова. Люди здесь этих голосов не замечают. У них собственные мысли, углубленные мысли, глубоко, много, некоторые обладают стратегиями, существуют в рамках этих стратегий. Возможно, они достигли середины пути, уже, возможно дальше, скоро они пробудятся и заново вступят в мир. Я часть этого мира. Пока же, до той поры, они (не) могут меня воспринять.
Можно ли дозволить мне это?
Да, не как официальное разрешение, мне следует дозволить это не как официальное разрешение, я все равно уже здесь. Я здесь появился. Да, попутешествовал
22. «заступничество/отбор?»
Никто не считает ценность того, что мы делаем, преуменьшенной. Отбор был решен раньше, перед тем, как мы начали делать. To, что мы делаем, не менее неотъемлемо. Его не следует принижать, это уж любой ценой. Принизить то, что мы делаем, значит вонзить нож в сердцевину той культуры, которую называют их культурой. Я не говорю нашей.
Я и прежний коллега был среди тех, кого пригласили вступить в раннем возрасте, почему отобрали, сказать не могу, но с тех пор у меня мысли об этом времени, остались образы.
Сказать, что мы делаем, могу, это можно назвать сцеплением образов и догадок, вот и все. Ho это и есть быть человеком. Таковы мы, люди. Существо того, что мы делаем, в этом, сущность человека.
Я не верю, что наше дело не представляет интереса. Оно ценно хотя бы как подтверждение. Его значение просто невозможно переоценить. Однако то, что мы делаем, всего лишь соответствует, не больше того и не меньше. Всего лишь – это описательный термин.
Для тех, кто отобран, загадка сохраняется, власть отбора принадлежит не им. У них вообще мало власти, это не может быть властью. Если это остается загадкой, тогда как же, получается, что те, у кого нет власти, выбираются теми, у кого есть, но никакого заступничества не происходит, никакого заступничества произойти и не может.
Начальства и другие власти показывают невежество насчет решающей тавтологии, которую можно сформулировать, хоть и грубо, имеющей смысл следующим образом: мы были отобраны благодаря нашим достоинствам, эти достоинства являются важным критерием отбора. Далее, что эти достоинства, будучи специфическими, имеют универсальное применение. Вследствие, они [демократически избранные правительства, должным образом назначенные] (были) лишены власти отбора
До моего отбора они не знали слова. Я говорю о наших родителях, прежде всего о моих. Реальность была далека от них, так что название, я говорю о слове, оно одно сбивало их. Был разговор, в котором они оставили паузу, когда следовало произнести слово, они оставили паузу. У меня крепкая память. Я должен был предстать в присутствии комитета. Какого комитета. Участкового комитета, комитета нашего народа. Я сказал об этом родителям. Они посмотрели друг на друга. Может меня отобрали, сказал я. Отец был встревожен, поэтому я ему так и сказал, меня отобрали. Ho не договорил, глядя на мать, может она скажет какое мнение, надеясь, она сумеет, но и также я думал, будто бы у них имеются мысли, которые они разделяют. Он сознавал эти мысли, но не смог бы их выговорить, не смог бы подумать. Сознавал мысль, но подумать ее не смог бы. Мы можем это распространить, ясно оговорившись, что таковое распространение этого
выпадает судьба, события, которые могут иметь место, мое будущее, каким оно может быть, и увидят ли они меня снова в этой жизни. Таковы были вопросы, вопросы, которые я тогда думал. И мой отец, его будущее
Комитет состоял из четырех мужчин и женщины, все имели копию документа. Когда я вошел [отец ждал меня внизу] и стоял в той комнате, я видел, что они обсуждают предмет, меня, конечно. Один мужчина напоминал мне кого-то, он оглядел меня, потом начал говорить от имени всех. Он говорил и моим ушам это было странно. Они разузнали все о моей общине, о культуре моей общины, узнали от таких, как я, это повысило важность их положения.
За ним продолжила женщина, таким же голосом, потом остановилась, и один из мужчин проинформировал меня о редкости такого события, что меня отобрали, такого, как я, но отбор определенно произошел и определенно был утвержден. Другие из комитета это подтвердили. Последовало молчание. Я истолковал его, как вопрос, и быстро начал говорить, но мужчина остановил меня и улыбнулся коллегам. Он сказал мне, теперь это больше уже не часть твоего мира. Тебе требуется терпение. Ты будешь в условиях стресса. Позволь сказать тебе, что ты должен уделить внимание документу, где слово, и его соответственности. И тебе следует представить документ со словом, его содержание определяется тобой. Тебе следует также понять, что это должно войти в практику.
Конечно, эти люди были членами группы. K которой я принадлежал, в которую теперь входил. Я считал, что они хорошо ко мне относятся. Это была фантазия. Глупость. Самонадеянность была центральной особенностью моих представлений и догадок, вызывая смех и, думаю также, удивление. Такие люди, как я, привносят порядок в группу, просто оставаясь в ней, так же и как подтверждение, я так думаю.
B моем понимании присутствовало отвращение, окрашивало мое мировоззрение, а теперь, в группе, я мог развиваться, отвращение было непригодно, несоответственно.
Конечно, мои мысли и представления были точными, особенно тогда. Я считал их ценность не требующей доказательств. Я тогда верил, что все разделяют эти ценности. Ho это было одно умозрение. Я пытался быть готовым, насколько это вообще возможно, насколько я считал возможным. Я готовился. Совета я не получал. Того, что я так назвал бы, ни одного. Я мог смотреть, слушать, ощущать, как умею. Я обладал пониманием. 0 моих родителях говорят, что и они обладали таким пониманием, но я скажу, если так, оно никогда не было явным, не вытекает ли мой отбор из происхождения, нет, я бы так не сказал.
Руководители общины видели во мне наглеца, они винили меня в моем отборе, они говорили, что я сам должен за него отвечать, давали мне это понять, без слов
который разлучил меня с друзьями
какими мы были
Я могу объясниться о безопасности, возможно, о безопасностях, безопасность, ну что безопасность, безопасности
23. «она предложила»
Да, она предложила мне себя. Никогда не слышал ее смеха. Она была девушка. Должна была смеяться, кто же не смеется. Я погулял бы с ней. И наши губы могли бы не соединиться.
Нет, я не слышал ее смеха, никогда, но кто же нет.
Да, я мог бы с ней погулять, конечно.
Люди переходили в тенях, наши тела тоже в тенях, и наши звуки, вместе наши звуки. Она вскрикнула, негромко, но вскрикнула, она тоже. И не произнесла ни слова, ни одного бы не произнесла. Только ее резкий вздох, когда я вошел, не сообразив о размере. И когда я еще проталкивал, ловила ртом воздух, глаза плотно зажмурены, чтобы не видеть. Но тогда, в темноте, я виде ее глаза открытыми, глядят на меня, смотрят в меня, в мои глаза, и губы ее шевелятся, ее язык. Увлажняющий губы, глядит, глядит на меня, а вокруг нас тени этих людей. Они переходили, это были тела, я знаю. Мы лежали вдвоем. Это были ее одеяла. Я пришел к ней, и она осталась. Эти другие лежали. Ей было неуютно. Девушка в таком месте и все прочее, переходящие тени, люди. Это было на следующую ночь, тоже в темноте, ночью, в середине ночи. Я погулял бы с ней, конечно. На свету, утром, днем, конечно В то время все горело, везде запахи, горящего, всего. Эти места могут расстраивать. Да.
шорох, быстрое дыханье.
дети глумились, маленькие дети. Я бы их наказал.
Меня они не сердили.
Я пришел туда и не один тоже, туда и другие приходили.
Женщины тоже могли глумиться. Не в голос, и тоже они не смеялись.
Мужчины там были. Женщины приподнимали юбки, когда шли по ступенькам. Они всходили, сходили.
Я не мог разглядеть.
Не знаю, у некоторых, может и были. Но она сделала мне предложение, это ясно. Девушка дала понять, я шел среди теней, зная, что она найдет меня. Проловушкиязнал. Конечно
Никто другой про это не знал. Я был один. Эта девушка знала только меня, предложила себя, мне, я уже говорил.
Я лежал с ней. Я знаю ее запах. Да, красивая, конечно, красивая.
Женщины делают это, они волшебницы.
Она пришла ко мне. Вот почему я это и говорю.
Никогда не слышал ее смеха.
Я устал.
Эти места расстраивают. Я бы ушел и была бы темнота.
Люди всегда переходят. Здесь, везде. Где же они не переходят. Все люди. Дети, старики, немощные, могли бы и помереть, без конечностей, все были там. Все переходили, много, никакого уюта, я уже говорил, для девушки, для меня, все люди, каждый находит так.
Я не знаю. Она лежала, и я был с ней, ни слова между нами, я вошел в нее, но она была не готова. Она вскрикнула. Я надавил, вошел. Не готова, я же говорю, могла бы быть и готова, но не была. И из нее крик. Да, невольный, конечно, невольный, невольный крик, я же этого не говорю, тут и говорить нечего, если бы этого не случилось. Я говорю, что случилось. Она не знала. Привела меня к себе, но не знала, что бывает, мужчина с женщиной, ну не знала она, конечно, я же сказал, она была девушкой, я говорил, красивой девушкой, женщиной. Да. В темноте и на свету, я бы с ней погулял. Публично, что тут говорить. Там были также дети. Я видел их, слушал, может они глумятся. Я бы их наказал, старшие должны учить. Семья ее была там. Мать и отец. Я про них ничего не знаю. Отец меня ненавидел. Молодой мужчина, его дочь. Многие отцы ненавидят так, и все же его дочь пришла ко мне, только. Что видела ее мать, что дочь жива. Кто знает такие вещи, я тоже жив, тоже утомился. Эти люди переходили и девушка с ними.
24. «самые ужасные вещи»
Я говорил об этой зоне, лежат тела, люди спят, отдыхают, и еще рядом было трое детей, они с одной женщиной были, и одна другая женщина помогала ей с ними и тоже нянчила, я видел, что она помогала с одним малышом, чьи легкие нам было слышно.
Я здесь давно уже не был, и вот такая была здешняя история, у каждой секции есть своя, как и свои люди. Мы слушали бред тех, кто обречен умереть. Я слушал их бредовые речи. Может это смерть так разговорчива. Тоже и безопасность, который был намечен между нами и предстоял умереть и умер бы, я вслушивался в этот шумок, шепот внутри его тела, духи всех мертвецов, убитых людей. Он разговаривал со мной в нашей секции, это было поздней ночью, люди спали,
вот так,
отдыхая,
может ему предстояло умереть в ночное время, кто должен сделать это, может и я, да, я. Я видел его вне нашей секции. Я узнал его, когда здесь была мой товарищ, он разговаривал с ней. Что он сказал. Может что и сказал, я не знаю, но он пришел к ней и говорил. Это было за две недели до ее исчезновения. Теперь я был один, теперь он сидел рядом со мной и говорил о себе, как он доволен, довольный человек. Голос его был негромок, да, и трое других безопасностей были при дверях. Это он со мной говорил. Мысль тогда была впереди моего мозга, что этого вот человека, безопасность, что мне предстоит убить его. Если это было решение, принял такое я, еще до того, как он пришел к моему месту. Я думал, как это сделать, оружия нет, если бы можно какое-нибудь приобрести, использовать, что такое значит, приобрести. Но почему он пришел к моему месту, встал рядом со мной на колени, говорит мне.
Это говорилось о моем товарище, которая была тогда, как ее устранили. Ее исчезновение было устранением. Так было сказано. Вот так, отдыхая той ночью, пришел и встал на колени около, где я лежал, я говорил, была поздняя ночь, я не спал, но вроде того. Там было одеяло, я завернулся в него, да, отдыхая, лежал в моих собственных мыслях, о временах до того, как она исчезла.
Я не могу сказать, что думаю о тех днях, плохие дни, злые дни, но я привыкал к этому отсутствию. Больше мне ее не увидеть. Больше мне ее не увидеть. Когда это может быть, если б увидел. Это было возможно невозможно, что может быть возможным, сама жизнь, вот она возможна, как мы это можем постигать, человеческие особи. Да, для некоторых и не для других, что за начальство, что за власть, есть ли у нас власть, контроль, который мы можем использовать так, что мы такое, кто отобран, кто приглашен, какие мы, мы, кто мы, которые делают выбор, принимают эти решения, схваченные другими, нас обольщают другие, взятые так, и у людей нет лиц, я же вижу, что нет, что никто не способен этого разрешить, потому что ничто и не разрешимо, или, может все мы должны исчезнуть, пусть весь наш народ исчезнет, нас уже нет в этом мире, нас из него стерли.
Такие вопросы, а между тем продление, продление. Как мы делаем это, да вот так. Вот так, отдыхая.
И я озяб к тому времени, завернулся в одеяло, как будто ушел за пределы сна, если бы когда-нибудь снова. Потому что, говоря о моем уме, нашем уме, что там у нас на уме, мы способны спать вечно.
Что должно было случиться. Она страдала. Что же мне снится,
думать о снах, о детстве, что его уже нет, хватит и хватит, хватит, этот безопасность, которого кто-то наметил, я, мы наметили его. Он это знал и все же сидел рядом со мной, рассказывая, как он доволен, я не понимал, что означает эта надменность. Он презирал нас, я так скажу, и потому разговаривал, и насчет меня, и меня презирал, я тоже ведь человек. Он бормотал. И это его бормотание начиналось, как шепот, как когда молятся, может он начинал молитву, что за молитву, голос был так негромок, что только я и мог расслышать его. Одинокий голос, монотонный, монолог. Эти монологи встречаются, люди так иногда говорят, это обычное дело, правда, не среди безопасностей. Но, верно, ему хотелось поговорить со мной, я это знал, а приступить он не мог, только начав с бормотания. Приходилось мне слушать это, и я слушал. Религия. Может это была религия. Я не знаю, возможно, кое-кто может сказать и так, бессвязность, задумчивость, доисторический идиотизм. Я в этих вещах смысла не вижу, никакого, и от него тоже. Бормотание понемногу менялось, но все это было вступлением, я знал, может он мне расскажет про то, как исчезла моя подруга, и о другой, теперь уже мертвой, о старухе, может скажет о тех временах.
Такие вот два вопроса.
Свет исходил из его головы. Черепа иногда испускают свет, и цвет его света голубоватый, цвет его черепа. Это не цвет жизни. Мертвые черепа, они голубые. Может мне разбить его череп, найти какой-нибудь камень и ударить с размаху, и череп треснет, расколется, яичная скорлупа, электрические искры. Он говорил, что люди, которых он умертвил, были людьми, как я [как он]. Это я мог разобрать, не шевелясь, не закрывая глаз. Он видел, что те открыты. Он говорил, что люди, которых он умертвил, были людьми, как он. Он это делал без злобы. Ни жестокости, ни варварства, ничего животного или, как некоторые говорят, зверства. Это не было отмечено варварством. Некоторые так и сказали бы. Я могу это сказать. Это говорят о других, да, и так, чтобы все могли видеть. Да, может он кого и запугивал, может был притеснителем для людей, но он отвечал за детей, младенцев, за старух, за калек, тех, кто без рук, без ног. Когда молодой, он ухаживал за такими, за всякими. Поэтому мы должны его извинить, все казни это по долгу, выполняются по долгу службы, а палачи, они все так назначены. Власти дискреционны, приходится быть. Мы употребляем такую власть, приводим в исполнение, по службе. Эти люди, они всегда были, как он, ему давали/дают приказы, ему, его, на этих других людей, он никогда не запугивал, не запугивает, этого быть не может, не терроризирует, он не притеснитель, не может так быть. Это не трусость. Я может думаю, это трусость, это не трусость, какие могут быть обязательства, кто коллега, кто теперь безопасность, а от таких, как я, он ничего не скрывает, да, от таких, как я, безопасности ничего не скрывают, голоса у них громкие, да, они их не понижают, и если мы слышим их, то они нас не видят, ну разве, по долгу службы, да, тогда уже видят.
Но этот один, намеченный, он видел нас, возможно, тоскуя по другим мирам. Безопасности тоже люди. Кое-кто просит, чтобы мы проводили такие различия, одного от другого, каждого от его коллег. И этот хотел, чтобы я увидел в нем его самого, чтобы понял, как он отличается от всех остальных безопасностей, да, человеческое существо, и чтобы я воскликнул, Ты – человеческое существо. Я это увидел, я теперь понимаю, ты не такой, как другие прочие.
Возможно, мы должны были это воспеть. Воспеть его, что он это он, а не кто-то другой.
Человеческие существа хотят, чтобы их воспевали. И безопасностям хочется, чтобы мы воспевали их, как они сами себя воспевают. Я мог бы сказать ему, Ты – человеческое существо. Ну и оставь нас в покое.
В нескольких метрах от нас я видел женщину, которая помогала с детьми, теперь она нянчилась, прижимая младенца к груди. Это младенец трудно дышал, больные легкие, скоро умрет. А что же еще, спасение ангельским народом, летающим на крыльях медицины. Конечно, я подумал о моем, о ребенке, как следовало всем нам, всем, кто был в этой секции, отцам, матерям. Что я могу сказать. Разумно ли это, может и нет. Бред, влиянье старухи, старой женщины, дух которой теперь был со мной.
Был еще и старик, он умер, я видел, как его дух отлетел от мозга, голубоватый свет, который он испустил, я видел его открытый рот, хоть там и было темно, в миг, в тот миг, в миг его смерти.
По ту сторону, у стены, где выход, негромко разговаривали другие безопасности. Что это с одним из них, удивлялись они на него.
Люди узнают труса по делам его. Кто такие трусы.
Какие дела суть знаки варварства, запугивания посредством применения власти.
Трусы.
Смрад исходил от него, экскременты, мертвая кровь, да, кровь, мертвая кровь.
Он говорил. Может замолкнет, возможно ли это, нет, продолжает говорить.
Он не мог ничего разглядеть, да и глядеть ему было не на что. Я лежал в той же позе, неподвижно, под одеялом, если и было какое бурление, так только в кишках, и он говорил о себе, как он доволен тем, что делал, сделал, разве и вправду те люди, которых он убивал, были подобны другим, но нет, не были, никогда, это люди, похожие на него и никогда на других, и значит, если они не такие, тогда почему же он себя должен чувствовать так, словно лишился здоровья, здоровье же здесь, в нем, здоровье при нем, но не навсегда, когда-то все это кончится, он станет стариком, потому что, правда же, он таким станет. Люди не будут со мной разговаривать, сказал он, мы наказаны, почему это так, почему они не станут со мной разговаривать.
Нет. Почему это они не станут? Ниоткуда не обозначается, что я могу быть только таким, не другим, безопасности тоже люди. Если так говорить, то что же тогда про отцов, отцы тоже бывают притеснителями, у меня был отец, у тебя был отец, все имели отцов, имеют, которые тоже притеснители, конечно, отцы это притеснители, хотя, может они не отцы, я так не думаю, но кем можем мы быть, кто это знает, есть ли в нас трусость.
И, продолжая так говорить, он положил руку мне на плечо.
Если я это спрашиваю, спрашиваю у себя, что это все, спрашиваю о женщинах, детях, крошечных девочках, мальчиках, я говорю, нет, не спрашивай об этом, а спросишь, они вернутся, все вернутся ко мне. Они ко мне возвращаются. Это в моем мозгу, наполняет мои мозги, так я должен сказать, я должен сказать это, да, насчет женского пола, женщин, девочек. У меня есть друг, между нами случается дружба. Эта дружба, что между нами, мужчиной женщиной, одним и одной, я говорю, это сентиментальность, это такие отношения, только и все, и что ты скажешь о женщине? Ты и твоя любовница, она была твоей любовницей, товарищем, супругой? Та женщина, которую устранили. Она была с тобой, под твоим одеялом, она лежала с тобой, я видел. Ты, ты не хочешь со мной говорить, но я, тот, кто разговаривал с твоей коллегой-товарищем, женщиной с тобой, да, я, кто разговаривал с ней, я говорю тебе. Как она со мной, ты это знаешь, как она со мной разговаривала? Ты знаешь, что я гулял с ней, да, вдоль периметра, мы гуляли, она видела горы, она видела их. Я тоже был человеческим существом, таким же, как и она. Так она мне сказала. Она сказала, что самый воздух переменился.
Почему ты не говоришь? Только лежишь здесь. Глаза у тебя открыты, ты видишь. Ты не глухой, не немой, ум твой силен. Ты можешь одарить меня, словами, благословение не благословение, я религиозник, порядочный человек, я тоже молюсь, и о хорошем. И ты, я это вижу, я чувствую, чувствую так в тебе.
Была одна старуха, пожилая женщина, ты знал ее, навещал, да, я думаю, ты это делал. Твой товарищ может разговаривать с ней, а не с тобой, женщина с женщиной, и все-таки она разговаривала со мной. Ты так не думаешь, а она разговаривала, она со мной.
Была ли та старуха мудра, нет, я так не думаю, и товарищ твой тоже. И все же я вижу мудрость в тебе. Я это знаю. Ты можешь говорить, ты со мной, говорить в ответ на меня, что с той женщиной? какое я принял участие? Я не участвовал. Ее устранили отсюда, она не мертва, почему ты думаешь так? ты думаешь, мы животные с заграничной планеты, мы не человеческие существа? Мы человеческие существа. Ты не говоришь, почему ты не говоришь, только лежишь, как камень, как неживой. Не думай, что трусость, потому что трусость в тебе, а не во мне, не моя. Теперь ты под этим одеялом один и никого, теперь лишь ты, только, какой ты есть, какие все мы.
Где она нынче, кто-то знает, должно быть. Если есть знание, кто это, если это известно, кому, какому. Этих людей не убили. Ты думаешь так, но нет. Дети, младенцы, семейные, друзья, старики и старухи, наши деды, нет, они только могут исчезнуть. Конечно, беспорядки, перевороты, и когда исчезают люди, кого это удивляет, только тех, кто не знает, только они удивляются.
Или вот наши родители, ты о них не сказал. Может и тебя устранили, и меня тоже, нас забрали, еще мальчишками.
Это тебя расстраивает. Да, меня тоже. Ты этого не знал? Кто состоит в безопасностях? Мой отец, твой отец? Кто они? В этих деревнях, брат на брата? Да. Ты слушаешь, ты слушай. Брат на брата, ты это знаешь, я это знаю. Это расстраивает, да, но это так. Может ты лжешь себе, я думаю так, показываешь мне сентиментальность. Правда тебе неизвестна. Ты говоришь мне о трусости. Нет, не трусость. Есть же братья, мы братья, братья теперь, как и тогда. Ты гулял у периметра? Ты можешь гулять у периметра. Некоторые там гуляют, у них есть женщины, жены. И ты тоже можешь гулять. Я не сошел с ума. Ты думаешь так, но я не сошел. Слушай меня, я говорю, а ты слушай. Что ты мне можешь сказать? Что ты мне можешь сказать? Ты скажешь. Да, происходят вот эти самые ужасные вещи. Ты о них знаешь. И другие узнают. И твой товарищ тоже, теперь она знает. Вот это ты обо мне и думаешь.
Самые ужасные вещи. Конечно, они происходят. Мы все о них знаем. Ты наметил меня, мне это известно. Думаешь, мне не известно? Ты считаешь меня дураком.
Да, в этой секции есть дураки, может и ты один из них, тебе лучше знать, может и я такой, как ты думаешь, и если я только такой, если ты думаешь так, да, ты дурак. Эта возможность несерьезна, те, кто думает, что такое возможно, несерьезные люди.
Продолжай, слушай бредовые речи тех, кто обречен умереть. Что с ней случилось, с ее отвагой, со стыдом в ее отваге, она стыдилась отваги, своей отваги. Давай будем слушать истории. Чего мы тогда не наслушаемся. И что это за места, если мы разговоримся, ты расскажешь мне после, потом.
25. «история должна существовать для коллег»
Поговорим о том, какую нам следует занять позицию в этом «защитном формировании», которому мы все посвятили себя, как члены, можно сказать, как добровольные сотрудники, ибо что же еще такое коллеги. Если существует критика индивидуальных людей и коллег нашей группы, то не от меня, а от нас. Персональная критика индивидуальностей бесцельна, неправильна и указывает лишь на непонимание реальности, ситуации, как нашего материала.
Коллеги обсудили пути вперед. Одно предложение было не умирать. Говорилось, что это предложение новое, оно не ново. Наше «защитное формирование» всегда одобряло открытые методы, действия, политические формальности не бессмысленны и мы можем поэтому одобрить таковые снова, на предстоящие времена. Однако из прошлой практики мы поняли, что, поступая так, рискуем погибнуть еще до того, как выиграем сражение. Мы в ту пору многое вынесли, мы были глупцами, выносящими глупости, насмешки, вступавшими в диалог с теми, которые были известны, как обманщики, лжецы и трусы, притеснители, да, душегубы и убийцы, насильники, насильники детей, убийцы детей.
Вот чем мы тогда занимались. Это ужасно, это так, и также нелепо, конечно. Если коллеги думают не так, найдите основания, уведомите нас, возможно, удастся получить объяснения. Допустим, у нас нет выбора. Допустим, нас принуждают к этому. Расскажите нам, объясните.
Мы тогда видели политические формальности, политику, которая не была политикой. То была политика, приемлемая для верхних, мы называли ее «официальной политикой». Мы говорили, как о радикальных, о людях и группировках, которые не были радикальными, как мы и сейчас делаем так, говоря о демократических людях заграничных стран, о религиозниках, о парламентарных людях, которые существуют в этих странах как политики-наймиты, слуги этих заграничных правительств, европейских, африканских, скандинавских, азиатских и далее, во всех географических формациях, все политики-наймиты имеют финансовые вознаграждения, существующие от международных корпоративных финансовых органов и органов крупного бизнеса, страховщиков всяческого терроризма. Эти люди были там в рамках «официальной политики», нам приходилось поддерживать с ними связь. Да, так придется делать и впредь, если эти новые предложения молодых коллег не вызывают возражений.
Все альянсы должны создаваться с достоинством, в чем бы оно, достоинство, ни состояло.
Однако история нашего «защитного формирования» коллегам, может быть, и не известна. Старшие коллеги могут это подтвердить. В прежние времена проводились такие встречи с начальствами группировок рабочего класса, социалистических группировок, профессиональных союзов, религиозных организаций благотворительных органов, других благотворительностей, всех органов за права, гражданские, демократические, человеческие и также сторонниками медицинской помощи, противниками ужасных болезней от индустрии/окружающей среды, ужасных смертей, загрязняющей порчи от всех таких деловых индустрии, горнодобывающих или энергетических индустрии, вторгавшихся на нашу территорию, в наш народ.
Да, мы могли встречаться с другими формированиями и индивидуальностями, выслушивать опыт более старых подразделений социалистического движения, заграничных людей, международных рабочих движений, философию более старых «демократий». Коллеги изыскивали, какие альянсы могут быть сформированы. Эти группировки содержали обширные познания. Мы это понимали. И они были в рамках «официальной политики».
Коллеги выслушивали множество дискуссий, доводов или постановок вопросов, являются ли индивидуальные люди союзниками, или члены социально-демократических религиозных, либеральных и националистических, религиозно-фундаменталистских и всех таких формирований, являются ли они «более радикальными», чем другие, принадлежит ли индивидуальность к «левому крылу» или к «правому крылу». На крупных встречах в заграничных странах наши коллеги слушали разговоры и руководящие заявления о таких глупостях, как является ли тот или иной фашист по призванию также и нравственным человеком, может быть, он питает угрызения совести вытекающие из религиозных или моральных кодексов, или является ли безопасность «благожелательной безопасностью», и что, возможно, государственный служащий ведет себя в домашней обстановке, как честный и утонченный человек, рассказывающий людям утонченные анекдоты, и шутят ли заплечные мастера, все это умные люди, заботливые, мы должны их понимать.
Коллеги вступали в такие дискуссии, был ли некоторый фашист «заботливым фашистом», или что, может быть, некоторый заплечный мастер, некоторый насильник, убийца детей, да, убийца детей это «заботливый убийца детей». И если наши коллеги говорили им, Но мы же знаем, что такое безопасности, что такое армейские оперативные, что такое политики национальных правительств, правоведы, доктора, судебные. Да, мы их знаем. Мы говорили им, Нам это известно. Если мы должны говорить, да, что мы должны сказать, если этого сказать мы не можем? А они отвечали нам, Нет, вы должны выслушивать. «Официальная политика» означает «вы должны выслушивать политиков», конституционная деятельность управляется правилами и регулирующими принципами, высеченными в камне всеми богами и непогрешимыми существами.
Молодым коллегам следует знать историю. В то раннее время мы были также дисциплинированными, знали, как себя вести, мы были цивилизованными людьми, должным образом беседовавшими с заграничными политиками, подающими петиции и всякие материалы, вещественные для нашей сущности, как народа, мы также делали это даже под угрозой изгнания, пожалуйста, не изгоняйте нас, мы перенесем все наказания, ах, для нас это так болезненно, такая страшная доля.
Этим формированиям, индивидуальностям, официальным органам представлялись доклады о существовании нашего народа, что мы тоже человеческие существа, как они определены, а кто говорит иначе, пусть представит доказательства, почему же тогда с нами обращаются, как с животными. В рамках «официальной политики», такая информация и сведения прежде всего подавались этим политикам-наймитам и также специалистам экспертам, правительственным служащим, оперативным из отделов министерства заграничных дел, агентствам, которые открытые скрытые. Мы поставляли им все последние сведения относительно всех таких аргументов, исследовательские цифры, все, все уместные данные. Коллеги добывали полные отчеты о случаях индивидуальных жертв инспирированного Государством террора, увечий, зверств, самоуправных смертей, убийств, исчезновений. Чем была эта индивидуальная борьба людей, наказания, которые за ней следовали, вся карательная практика.
Коллеги знали, как показать общие проблемы частных случаев, и начинали с этого. И молодые коллеги обучались тогда этим методам и становились искусными. Некоторые обучались в заграничных заведениях и возвращались в нашу страну помоложе постарше. Другие оставались в заграничных заведениях и становились миллионерами помоложе постарше, учеными по марсианской экономике и марсианской социологии, теперь живущими на других планетах, продвигая эти исследования, владея дворцами, построенными из слитков золота, и плавая в бассейнах, наполненных молоком и шампанским из французских провинций, какая икра, а, да, и икра тоже.
Коллеги поддерживали тесную связь с верхними начальствами ради влияния на «отправление естественного правосудия», если такова одна значительная сущность этих заграничных стран, как это говорят. Верхние начальства, политики-наймиты, чувствительные существа-мультибилионерры, фигуры из знаменитых программ музыки рок-энд-ролл и массовых средств в штаб-квартирах или на уровне участковых отделений в других террорториях мира – все они получали от нас петиции. Также и менеджеры, стратеги, директора, лидеры, какие бывают, корпоративных всемирных банковских и финансовых операций, горнодобывающих компаний и индустрии бифштексов, чтобы также вода и нефть для наших трубопроводных сетей, и более быстрые пути из одного моря в другое, проходящие по более сложной местности, через горные пики, ах, коллеги, мы делали все это в те более ранние времена и можем делать опять, только помогите нам, братья и младшие сестры, младшие братья. Я не саркастичен.
Совещания с соответствующими министерствами государства, общества Правоведения, из всех религий, с ассоциациями медицинских докторов, мозговых докторов, авиационных докторов и докторов агрикультурных, всеми такими прозекуторами, патологами и коронерами, чтобы мы могли воскресить все старшие поколения коллег, коллег-прародителей, всех мертвых людей, родственников и друзей, если получится, мистер президенте.
Кто может наградить нас поддержкой. Быть может на одном только примере нам удастся показать вам это. Если мы посвятили себя борьбе от имени жертв террористического насилия, которое все инспирировано государством? Мы разговариваем с ними, кому же еще. Приходится коллегам.
А что дискуссии, вопросы. Мы можем сказать, мистер президенте, об одной борьбе за испытание ужаса всех жертв. Покажите нам этот ужас. Дайте нам более передовую технологию, все более и более чувствительные сканеры для голов и сканеры для мозгов, и для наших душ тоже дайте, головного доктора мозгового доктора религиозного доктора, из всех таких мест собраний, храмов, соборов, мечетей, синагог, дайте нам всех.
И для всех людей, которые ныне в опасности от государственных оперативных и докторов террора, в опасности от всех финансовых домов божиих здесь на Земле, как и на планете Марс, о мои коллеги. Дайте нам приют для неизлечимо больных жертв инспирируемого Государством террора, Дома Отдыха для огорченных семейств и всех родственников исчезнувших людей. Пожалуйста, институируйте институт для субсидирования и координации надлежащих исследований этого предмета, полностью независимых, свобода от всех защитных органов. Дайте нам правильные иглы для биопсии подозреваемых жертв инспирированного Государством террора [так называемого], попытайтесь выделить эти типические группы, наши коллеги помогут вам, ну хотя бы прикрепить правильные диагностические критерии к предписанным ужасам, расширить набор связанных с террором зверств, назначаемых Советом государственной безопасности в соответствии с внешними руководствами и нормами поведения, включив таким образом все травматические синдромы, установленные ныне заботливыми гуманностями всех европейских, африканских, скандинавских, азиатских и далее, по всем географическим формациям, и обе Америцы тоже, которые предоставляют финансовые вознаграждения открытым скрытым агентствам, оперирующим от имени более крупных деловых корпоративных международных финансовых органов мира, всех страховщиков террора, которые существуют не для того, что нам говорят, а для официальных целей, пожалуйста, каков наш прогноз, если я так мониторирован, если меня так мониторируют.
Я могу знать это сейчас, как исторически, если это можно так знать.
Молодым коллегам следует знать историю. Если так говорится, значит, кто-то может это говорить. Я и сам молодой коллега.
Да, прецедент. Что такое прецедент. Если проводить в жизнь изменения посредством прецедента, то какой тут может быть прецедент. Коллеги пытаются сделать это, говоря с массовыми средствами, всякими разными, связываясь непосредственно и устанавливая контакты с радио, телевидением, журналами, всеми газетами, глобально через интернет, да, тоже, с журнальными сайтами, рассылая ведомости фактов по электронной почте, всякие пресс-релизы по факсу, ученые статьи и очерки, делясь знаниями, приобретая гласность для наших жизней и смертей, устраивая пресс-конференции, ученые конференции, все конференции. Мы консолидировали и расширили наши контакты, народы мира, все гуманитарные органы, участники походов за человеческие, гражданские, демократические права, все религиозные благотворительности, организации за всемирное здравоохранение, за безопасность во всякой окружающей среде и тоже за рабочие места.
Если группировки интересуются нашей борьбой, но не только ею, тогда также имеются каналы связи с такими, как «борьба вообще», чем бы эта «борьба вообще» ни была, если она чем-то является, то тогда чем. Вот такие вопросы.
Теперь также насчет обучения, эти новые предложения, глядя на прежних коллег старых коллег, как это можно повторно использовать и внимательно изучить теоретические труды, всякую компьютеризацию и языки компьютеризации. Другие языки, которые изобретаются, если их можно изобрести, если были новые языки, возможны ли таковые языки, мы можем предложить такие модели, освоить новаторские техники, амальгаму логики, лингвистики, в алгоритмах, все современные технологии, но также помня, что они откуда-то произошли.
Это было подкрепление, что наше «защитное формирование» смогло так усилиться.
Таким образом, коллеги распространили и укрепили эту сеть, поддерживающую нашу связь с ассоциированными индивидуальностями, группировками, да, за границей, и дальше за границу и во всех других местах, если вселенная может расширяться, либо до бесконечности, либо дальше, если так, то это Звездные Войны, мы что же, в изгнании, тогда где тут Планета Марс. Если же в пределах наших собственных террорторий коллеги ищут рекомендаций и поддержки всех партнеров, других формирований, желательно ли это, такие действия за все народы, народы поздоровее, народы в безопасности, за всех человеческих существ. Коллеги устраивают встречи, официальные неофициальные, чтобы завязывать личные контакты, также и в сомнительных агентствах, если мы можем так делать, значит мы должны делать так.
Если можешь, значит должен.
Государство, да, безопасности и весь персонал, армейский, образовательный, индустриальный, банковские группы, внешние должностные лица за благосостояние, за диаспору, за права всех жертв, которые человеческие существа, все армейские, медицинские, юридические и религиозные кадры, вожаки и последователи, администраторы лишения должников права выкупа заложенного имущества, мы устанавливаем личные контакты со всеми такими индивидуальными людьми, пожалуйста, ах, главное начальство, не лишай нас права выкупа заложенного имущества.
От наших трудов по мониторингу всякого насилия к людям, всех злоупотреблений, терроров, инспирированных Государством, всех зверств и ужасов. Мы отдаем себя другим. Они же смотрят на нас. Им надо защищаться.
Каковы сочувствующие органы, для защитного формирования, такого, как наше? Мы отыскали. Где были совещания по менеджменту и семинары по деловой экономике заграничных террорторий.
Вот там могли быть люди для нас. Коллеги, это мы, наши, которые присутствовали на таких совещаниях, где бы те ни происходили. Коллеги распространяли брошюрки, коллеги проводили беседы, помогаемые также более известными сочувствующими, заграничными сочувствующими.
Мы сами также организовывали образовательные симпозиумы, демонстрируя готовность к борьбе, которая может быть борьбой вообще, и также информацию о нас самих, этим заграничным капиталам и городам покрупнее, где люди могут получать знания и понимать что-нибудь, как если существует ли истина для нашего народа, какой она может быть, истина для нашего народа, для других народов. Мы получали бы сторонников и сочувствующих, интеллектуалов, других, действовавших за нас, солидарность с нами, рок-людей и людей искусства.
Наше «защитное формирование» поддерживало и давало советы всем людям, какие спрашивали, какие искали нашу информативную литературу, всем гуманитариям, органам за права, из всех других стран и террорторий, веем коллегам-представителям из этих заграничных «защитных формирований», которые вели беседы с рядовыми сотрудниками, принимавшими участие в новой борьбе или, возможно, готовившимися к такому началу.
Что касается образовательных групп, да, у нас такие имелись, здесь история нашей борьбы, история нашего движения, и как на нашей земле начались операции по зачистке и устранению.
И каково, собственно, достояние народа, земля и вода, урожаи или нефть, горы и долины или леса, есть ли они у нас, что, что мы имеем, существует ли оно все еще или уже ободрано дочиста главными стервятниками. Здесь также, где развивалось участие нашего народа, в каких его городках и населенных пунктах, здесь о группах помощи и рекомендаций из жилых домов и о защите этих домов, как их защитить, и местные вопросы, у кого нет ни дома, ни постели, у кого нет еды, как питаются младенцы, не желательны ли прививки, медики, вся фармакопея, предметы первой необходимости, девушки должны выживать, что такое пытки. У нас имеются все пытки, история пыток это история нашего народа, да, История Пыток это История Нашего Народа. Мы так и сказали, такой у нас получился девиз.
Все вопросы, такие вопросы, женщины разговаривали с женщинами, деревни и населенные пункты. Наши коллеги выясняли, какие там были женщины, женщины всегда в борьбе, ищите женщин, рекомендующих и поддерживающих, делящихся навыками и техниками, предлагайте им организационный опыт, и получайте тоже, если он может быть. К нам приходили и добровольцы. Женщины знали об исчезнувших людях больше, и приходили к нам, предлагая сведения, делясь с нами. Так коллеги осуществляли мониторинг исчезновений. Как его проводить. Предлагая рекомендации и помощь молодым, новым коллегам, неопытным добровольным сотрудникам.
Спрашивайте нас.
Коллеги устанавливали контакт с людьми из отдаленных населенных пунктов, лидерами там, совсем маленькими группами давления, с крохотными кампаниями в крохотных городках, в маленьких-маленьких деревнях. Там не доверяли, что участие в нашем «защитном формировании» навлечет на них неприятности от безопасностей и армейских. Так было для них и так будет. Все карательные практики. Коллеги уговаривали их не уговаривали, не уговорили. Но также учились, между собой, один другой.
Что касается повседневного управления, нашего секретариата, у которого все деньги, отечественные и заграничные. Это важные вопросы. Кто применяет технологии, кто выполняет дипломатию, кто обладает этими навыками, мы их отыскали. Кто может говорить, пусть говорит. Кто может обсуждать заграничные дела с заграничными гостями, на этом уровне. Мы их отыскали. Кто может принимать телефонные звонки, улучшать наши банки данных и системы архивирования. Это и есть сбор информации и распространение знаний и доступных текуще исследований. Какова мировая история государственного террора, государственных пыток, невольничьих рынков, всех заточений, законодательства и изъятия всех человеческих ресурсов. Да, имеются ли у людей все лекарства, не имеем ли мы никаких, какова информация. Договоры королей и главных начальств, все мафиозные королевские семьи, которые теперь запрещены на все времена до бесконечности. Что об этом. Коллеги получали такую информацию от мира за пределами, от всех миров за пределами, а тогда не было веб-точка-комов. Или, если нет, если кто-то может практически помочь в этих вещах, то кто это, мы находили этих способных индивидуальных людей, вот все такие истории могут быть рассказаны о тех временах, ранних временах, если молодые коллеги хотят изучить, знать только историю нашего «защитного формирования». Я и сам молодой коллега.
Не есть ли это всего лишь прочистка наших голов, глупости, у нас песок скрипит в мозгах, если это прочистка, возможно, если так, то и хорошо. Времени мало, всегда мало. Коллеги могут указать многие моменты, которые мы упустили, большое их разнообразие, множество. Является ли это необходимой свободой выражения сознания, да, они должны ее иметь, знать о ее наличии. Если они должны что сказать, да, говорите, без страха. Что конституционно не конституционно. Должны ли мы положить наши жизни. Коллегам следует разрабатывать повестки дня, их списки, листинги, обо всем. За рамками этого, как должна проходить открытая дискуссия на всех совещаниях, как организовывать такую открытую дискуссию, все это тоже надо поднять. Конечно. Этого не происходило, как сделать лучше. Многие думают, что они под подозрением, что станут такими, и потому боятся говорить. И тогда из естественного невежества возникает проблема. Коллеги должны говорить, говорить публично.
26 «возможно, у некоторых мужчин»
Она лежала рядом со мной, глядя в огонь. Моя ладонь лежала тогда на ее груди, и она позволяла, пока не поместила на нее свою. Может что-то было не так, я не стал спрашивать. Я ее знал уже несколько недель, и что не надо говорить, если что-то не так, это тоже знал. Может это было женское время. Она была тесно к моему телу, сказала, что у нее такая потребность, не во мне, а во всех мужчинах, в любом мужчине. Я сказал, Мужчины не отличаются, женщины думают так, но не в этом, у мужчин тоже такая потребность.
Возможно, у некоторых мужчин.
Нет, у всех.
У некоторых, если вообще у каких-то. Она поднялась, потянулась к воде.
Нам тоже нужно тепло, другие тела.
Я так не думаю, сказала она, передавая мне воду
Ну, тогда уют.
Я сказал, она была голая, она не стеснялась. Я приподнял одеяло, она вернулась ко мне. Я поместил руку вокруг нее, и она пролежала на мне долгое время. Не знаю, как долго, мое плечо и рука побаливали, но это был такой момент, который стоит продлить, и боль ничего для меня не значила. Я ей так и сказал. И что ты не стесняешься, это мне лестно.
Что?
Ты доверяешь мне. Мужчина имеет потребность и также такую, чтобы женщины ему доверяли.
Она не ответила, но пошевелилась, и я увидел что-то в ее лице и больше ничего не сказал. Со времени нашего полового сношения прошло уже больше часа. Она поднялась на ноги, вышла из комнаты. Огонь еще горел, еле-еле, я его не пополнял. Она вернулась с питьевой водой и тоже вином, поставила их рядом. Я смотрел на нее. Я сказал, Да, ты гений.
Она откупорила бутылку с вином, отпила из нее, не предлагая мне, и не вернулась ко мне, я приподнял одеяло, чтобы она могла вернуться ко мне, вместо этого она опустилась у огня на колени. Молчание несколько минут. Она не предложила мне вина, а я не спросил. Пока не увидел, что настроение ее снова переменилось, и сказал, Почему ты так думаешь о мужчинах? Чтобы им не доверяли, конечно, разве не этого они и хотят, доверия к себе? Даже те, кто желает жестокого обращения.
Я ждал, но она не ответила. Я снова приподнял одеяло, чтобы она могла вернуться под него, она не обратила внимания, сидела у огня, боком ко мне. Я положил ей на спину руку, погладил по позвоночнику. Я видел, что плечи ее поникли. Теперь она выпрямилась. В ней была потребность расслабиться, но нет, если так, она этого не допустила. Я сказал ей, Ты не можешь расслабиться. Отчего это? Ты мне не доверяешь? Что мне сделать? О чем ты думаешь? Я улыбнулся. Ты не дашь мне вина?
Хочешь вина, возьми
Да, сказал я, и взял его, и отпил.
Я не могу расслабиться, сказала она, глупо спрашивать, почему ты всегда это спрашиваешь. Она отодвинулась от меня. Мужчинам хочется быть похожими на женщин, но ты не похож, и не можешь.
Нет, я так не думаю.
Жизнь для тебя – вот это мгновение, но не для нас, мы женщины, мы думаем по-другому, по-другому живем
По-другому ссоритесь, да. Я улыбнулся.
Высокомерие. По-другому ссоритесь. Что ты имеешь в виду?
Я ничего не имею в виду, извини.
Но ты же сказал.
Я ничего не имею в виду, извини.
Но ты думаешь это
Нет
Я не могу понять тебя, кроме когда я думаю худшее и знаю, это их особенность. Если что худшее, значит, мужское.
Я вернул ей бутылку с вином, она вставила пробку, потянулась, чтобы засунуть бутылку под свое пальто, там, где ее одежда. Ноги ее были близко к огню, она почесала бедро. Может у нас есть сигарета, сказала она.
Ты себе пятки спалишь.
Она не ответила.
Я приподнял одеяло. Ты устала, я тоже, измотан, иди сюда, мы сможем поспать. Я положил ладонь на ее запястье, легко. Она не заметила. Потом заметила и посмотрела на меня. Я сказал, В чем дело, скажи вне, что-то неладно.
Нет.
Да, я же вижу.
Она приложил руку к моему лицу, палец на подбородке, где ямочка. О чем ты? спросила она.
Ты скажешь?
Ничего, ничего не неладно. Она всматривалась в мое лицо, палец еще на подбородке, потом заглянула в глаза.
Я сказал, Скажи мне.
Мы будем жить вечно. Она кивнула. Это не сарказм. Она отвернулась от меня, там была палка, она сунула ее в угли, огонь уже умирал. Целый час прошел, пока она думала об этом.
27. «глупая песня»
Оказывается, я пел. А она меня слушала. Это никакое не пение, так она думала. Глупая песня, сказала она.
И все-таки, если и так, я пел ее для тебя.
Если бы люди услышали такую ерунду, все бы засмущались.
Только не ее творец, это мое сочинение.
Все остальные.
Нет.
Все остальные стали бы над ней издеваться.
Некоторые ободрили бы, похвалили, не все лишены великодушия.
Это ты про меня?
Ты зависишь от других, надо иметь уверенность в себе, я твой мужчина, разве ты не могла бы меня похвалить, почему ты не хвалишь меня, по знакомству.
Она рассмеялась.
Чужие похвалили бы, наши враги. Песня моя столь прекрасна, этого же нельзя отрицать.
Ты напел эту песню, а в ней и мелодии нет. Этакий траурный траурный звук, он траурный. Да.
Траурный! Она твоя, я сочинил ее для тебя.
Мне она не нужна, сказала она. Рука ее была теперь на моей груди, мы пролежали так некоторый период времени, пальцы ее играли волосками у меня на груди. Я был усталый, задремывал. Хорошие мгновения. Вчера такой день, может наступит и завтра. Мгновения с ней, я теперь видел ее глаза, но настороженные, свет поблескивает, непрерывное движение, ее ладонь на моей руке, мысли блуждают где-то далеко, груди прижаты ко мне, тяжелые прекрасные. Я не знаю, может она и думала что-то обо мне. Я думал о моей дочери, малышке, с которой я больше не виделся, дольше, чем один год, она никогда не была спокойной, если я сажал ее себе на колено, оставалась там, сдерживая себя, тяжеленькая. Мне приходилось делать это, иногда она лягалась и боролась со мной, не могла успокоиться, цеплялась за меня, а иногда я клал ее на пол, она ловила ртом воздух, кислород для легких, я был ее хранителем, а теперь она свободна, моя дочь. Это было после того, как жена не вернулась домой, у моря, недалеко от дома ее дедушки с бабушкой. Теперь моя дочь у них.
Глупая песня. Ты снова поешь. Она шлепнула меня по груди.
Опять?
Да, опять, ты не заметил?
Некоторые говорили, что я пою удивительно хорошо.
Твоя мать.
Моя мать?
Больше никто бы так врать не стал. Но у меня есть вопрос.
Да.
Если его можно задать. Могу я об этом спросить?
О чем?
Если она говорила с тобой, то почему?
Что?
Ответь мне на вопрос.
Спрашивай.
Я уже спросила, почему женщина говорила с тобой.
Со мной многие говорят.
Почему та женщина говорила с тобой?
Какая женщина?
Так их было много? Да, они смотрят на тебя, разговаривают с тобой. Эту ты знал. Женщину, которая делала это, разговаривала с тобой, я видела ее лицо, как она улыбалась тебе, я ее видела. Почему? Может это изъявление презрения. Презрения ко мне.
Она потянула за волосы на моей груди. Я тебя буду пытать. Эти женщины разговаривают с тобой, почему так? А та была очень хорошенькая. Нет, ну могу я спросить, почему это так?
Что?
Они говорят с тобой, эти женщины, молодые, постарше, всякие, если ты куда-то приходишь, я вижу их, и они с тобой разговаривают. На нашем последнем собрании, когда чужак нашей страны разговаривал со многими из нас, произносил перед нами речь, да, этот, другой человек, я там видела женщину, она смотрела только на тебя, только. Я видела. Что это такое, она ничего не слышала из речи. Что за манеры. Тут чужак, который говорит с нами, а эта одна его не слушает. Почему? Ты не видел, как она на тебя смотрела? И все же она смотрела, почему?
Потому что я такой красивый.
Да, потому что ты такой красивый.
Глупости говоришь.
Ты стараешься быть красивым для этих женщин?
Да.
Да, так, ты красивый и женщины смотрят на тебя, так почему бы им не обратиться к тебе, она говорила с тобой, ты же этого и хотел.
Может она и обратилась ко мне, ничего не могу сказать. Мужчины обращаются к женщинам, прекрасным женщинам, так и женщины обращаются к мужчинам, к красивым.
Значит, они и будут обращаться к тебе, красавец-мужчина.
Может и так
Да, твое присутствие изменило мою жизнь, почему же и не другие. Ты опасный человек. Возможно, нам следует поклоняться тебе.
Почему ты ссоришься?
Что ты хочешь этим сказать? Не понимаю. Мы ссоримся, я так не думаю.
Ты ссоришься.
Кто ссорится? Кто ссорится? Что ты такое говоришь, я вовсе с тобой не ссорюсь. Я не ссорюсь с тобой. Я с тобой даже не разговариваю. Да я и не могу ничего больше сказать, не могу, не могу.
Что.
Я не могу больше с тобой говорить.
Что, что такое?
Наша жизнь проходит.
И что мы можем поделать?
Ничего. Ничего.
Я же не спрашиваю
Прости меня, ничего.
Но что я могу поделать, разве я могу что-нибудь сделать, что, прости меня.
Ox.
Я ничего не могу сделать. Только работать, продолжать нашу работу, что еще, для себя, себя, а большего я сказать не могу.
Где твой ребенок? Где твой ребенок? Где?
С дедом и бабушкой.
Все мужчины враги. Она тяжело дышала, я ощущал ее дыхание на моем теле, потом она убрала с него руку, мне было неудобно под плечом, и тоже ее груди там, может и ей неудобно, поэтому я повернулся, не вставая, и она тоже. Позже, она сказала, Слушать, как ты это говоришь, мне не нравится.
Это несерьезно.
Мне это не нравится.
Я сказал, хорошо бы у нас был тюфяк.
Даже когда она носила одежды, одежды для обоих полов, она их преображала. Женщины делают это, да, но у нее было иначе, я видел других женщин, они выглядели не так, как она, она была единственная, красавица, и эти женские формы, брюки их не скрывали, ее талию, бедра, груди и глаза, когда она улыбалась, красавица, а теперь я закрываю глаза, может опять услышу ее смех, ее смех. Я тогда страдал от депрессии, не скажу, очень сильной, так только, тучи находят, темнеет. Теперь уже никуда не денутся, так и будут висеть надо мной.
28. «отец/семья»
Некоторые мужчины, как я понимаю, не желали принимать участия, постоянно расхаживая по этим зонам отбросов, всегда горящим, пожары, вонь тлеющей резины, густой черный дым. У этих мужчин были палки или колья, чтобы копаться там. Колья могли быть длинные, тонкие, с приделанными к концам железными крючьями. Мужчины таскали эти колья, положив на плечо. Наших коллег с ними не было. Я видел отца того, про которого запрос, он тоже был в темной одежде, черного или темно-синего цвета, и в жилете, такие называют американка, а через пузо тянулась цепочка тех часов, хорошие, я помню, часы, карманные. Где он их взял. Известно ли это сыну, возможно. Может я его и спрашивал, не помню. Наследственное имущество, семейные вещи, старые родственники. Его отец был человеком, который так выполнял обязательства, с достоинством, как он думал, перед правящим классом, и эти часы могли быть его наградой, может и стащил где, но я так не думаю. Я говорю это только как возможность. Он знал город, все периметры. Это принадлежало ему, как он ходил, как ходил его сын. Я вижу эту походку, вижу отца, вижу надменность. Когда его сын был отобран старшими, он сказал, что мальчишка ему больше не сын.
Так и с моим отцом, который верил, что у меня тоже есть власть. Власть у меня была, но не та, как он думал. И было необходимо, чтобы он держался этого мнения, положено, чтобы он верил так. В общем плане, такие мнения родителей не заинтересовали бы меня, ни коллегу, коллег, да, а вот в виде образчика, да, это возможно. Если мы рассматривали жизни наших родителей, так это был род ночного кошмара. Но кто может сказать, что такое для молодого человека жизни взрослых. Когда я вступил в отрочество, я не мог использовать в их присутствии определенные слова и выражения. Я должен был уйти, и я ушел, меня забрали, можно и так сказать. Я не мог оставаться с ними, сознавая эту неполноценность, справиться с этим знанием.
Да, превосходство. Должно ли это так преобразоваться, я возражений не имею и могу это сказать, сказать сейчас, как с моим прежним коллегой, я владел превосходством над моими отцом и матерью. Кто мог ударить его по лицу в ее присутствии, в его присутствии ударить по лицу ее. Кто мог ударить кого-нибудь по лицу в моем присутствии, ударить лицо моей матери, лицо отца, в присутствии меня, кто мог сделать это с моим отцом, с отцом моего прежнего коллеги, и по нашим двум, кто мог это сделать.
В чем тут дело.
Я могу рассказать, как в одну ночь лежал в постели, и она пришла ко мне, моя мать, и разговаривала, и я ей сказал, начиналось со слов: «Когда я вернусь из». Дальше не помню, «вернусь домой». Ее реакция была сильно взволнованной, было так, что она задрожала, прямо перед моими глазами теряя вес, теряя рост, обращаясь в старуху, обнаружение бессилия перед моими глазами, и она хорошо это знала. Она ничего не могла мне сказать. Я поднялся за уровень дальше, за которым она не понимала, и отменить ничего не могла.
И все же, мы сами приняли это решение, я она, один с одной, я теперь это знаю, возможно тоже понимал и тогда, как мой прежний коллега, да, в то время мы разговаривали друг с другом.
Мы вступили в обязательства.
А наши родители прилагали усилия утаивать суетные вещи, один ради другого. Я могу иметь сочувствие. Что тут невозможного, недопустимого. Эти вещи входят в наши жизни и через это в жизни наших родителей и старших, заставляя их признавать свою неполноценность. Существовал ли выбор, был ли он для нас двоих, нет, не думаю, у нас его не было, это следовало принять и мы это приняли, как и положено. У нас не было выбора, приступить к обязанностям, я же сказал.
Тогда о моем прежнем коллеге я бы сказал, что он обладал этим воображением, необходимым воображением. Решения были приняты рано, когда же, когда это было, насчет меня в возрасте двенадцати лет.
Если в те дни мой отец и имел друзей, то это перестало. Я помню, как он стоял, руки в карманах, наклонив голову к здоровому уху, и кивая, пока он оглядывался, вместо чем слушать более внимательно (вид лица говорящего отвлекает наше внимание). Его взгляд остановился на мне. У него была такая ужимка, он покачивал головой, утверждая с помощью этого действия не только свою неполноценность, но и то, что он не сам по себе, не отдельный человек, и нередко опасный. Вспоминаю, как он смотрел на меня, нахмурясь, да, расстроенный, не с пониманием, ему и в голову не приходило, что я могу обратить на это внимание. Такие столкновения никогда не упоминались.
Общество моего отца было приемлемо для общины, общество отца моего прежнего коллеги тоже. Но община состояла из них, не из нас двоих.
Отец не мог разговаривать со мной о вещах, кроме подручных, продолжая водить меня на вылазки вверх по реке, мы там находили разные вещи, груды резины, металла или дерева. Он шел впереди, быстро не быстро, замедляясь, когда задумывался, ища все, что угодно, там могли быть и тела, смерти, в которых не было необходимости. Это он мне так сказал, не было необходимости, люди, которым не было необходимости умирать. Потом произошел случай с белой одеждой. Она была среди подроста, папоротники, подсолнухи. Один рукав оторван, в ней не было ценности, и еще пятна, конечно, кровь, я к ней не прикоснулся, это отец. И мы нашли то тело, мужское, каждая нога сломана выше лодыжки, вот так, они лежали на путях для колес поезда. Отец не сказал мне этого, но это было понятно, я знал это, как и он. Я рассказал моему прежнему коллеге, мы тогда были мальчишками, он внимательно выслушал, расспросил о мертвеце, который был из нашей общины, из нашего участка, но уже долгий период там не появлялся. Кто его убил, мы тогда думали безопасности, мы провели расследование, безопасности не безопасности, может в участке были армейские.
Дерзость есть качество суетное. Нашим родителям оно было недоступно всегда. Проявление дерзости действовало на них необычайно. Я знал это с детства. Они считали меня «богоподобным». Да, я уверен, это было правдой. Но они не стали бы спорить друг с другом. После того, как стало известно про мой отбор, я видел, отец глядит на меня, словно начиная понимать, только теперь, что от него что-то держали в тайне. Отец был уверен, что я таил от него секрет. Насчет матери не знаю, то же ли самое, возможно ли это, не думаю. Возможности моего отбора не скрывали ни от него, ни от матери. Ибо жизни моих родителей были бы не так трудны, если бы они могли считать себя соучастниками.
Что я могу сказать.
Мог ли я сделать так, я не мог, существовал ли такой выбор не существовал. Говорю это с определенностью. За другого сказать не могу, только за себя. Я ничего не говорю о моем прежнем коллеге. Я ничего не знаю о нем и отце, о его матери или другой родне, я ничего не знаю. Мы были вместе только мальчиками. После отбора мы действовали раздельно. Я и не видел его много лет после этого, десять.
Что относится до меня, воображение должно вести дальше, так ему следует, и с того времени я со всем порвал, нет, я не видел его довольно долгий период, я уже сказал, годы, десять.
29. «я ему зла не хотел»
Я ему зла не хотел, да и причины зла в нем не видел. Что это за слова, что тут можно сказать. Конечно, у него была власть, все что угодно. Не просто номинальная. Если бы только это, я и сейчас был бы не против. Он был не дурак, ответственный человек. Присутствовала в его глазах жажда чего-то такого, что для меня не существует и все-таки имеет значение. Он попросил, чтобы я его сопровождал, мне это польстило. Но его власть, он воспользовался ею со мной. Только ею он воспользоваться и мог. Я бы сказал, он ею наслаждался. Власть небесполезна. Я говорю, он ею наслаждался. Это вышло за границы хорошего настроения. Я сначала думал так, что он со мной шутки шутит. Потом нет, у него была власть, и он ею воспользовался.
Да, я ощущал пустоту. В нем тоже. Знание о жизни, которой у меня никогда не будет. Я не доживу. Он надеялся, что понимая это, я буду поступать в соответствии. Что это значило, в соответствии с наступающей смертью, моей наступающей смертью, близко ли она, далеко, и что она такое, я молод, молодой. Ты этого времени не переживешь. Я посмотрел на него. Он полагал, что я его понял. Может и понял. Что-то такое, я об этом и говорю. Он мог это видеть, его глаза вглядывались в меня. Но больше он ничего не сказал.
Благочестивым он не был. Был ли он духовным человеком, не знаю. Некоторые говорили, злым. Я не понимаю зла, этих понятий. Жажда в нем, да, но что это была за жажда. Не жизни, он ведь тоже умер бы и тоже это знал. Детей у него не было.
Я ничего особенного не чувствовал.
В отличие от других, которые использовали бы такое знание против меня и других, всегда питая подозрения, все время
Его высоко ценили, коллеги, старшие.
Да.
Зла я не понимаю.
Что такое выбор, есть ли тут выбор, что под ним понимается, что люди знают, наши люди не знают. Если такие люди есть, то которые, могу я с ними познакомиться, нельзя ли нашим людям узнать этих других.
Бремя доказывания лежит на нас. Эти люди много себе позволяют, думая, что это мы так выбрали. Они много себе позволяют, как наши дети.
Ну и что. Агентства, может быть, международные
наши дети.
И помимо того, к чему еще это могло привести, как не к разжиганию, страстей, которого я стану свидетелем, и чьих еще, как не его собственных людей, он мог бы и не позволить этого. Почему? Почему мы не можем позволить тем, кто близок нам, тем, кто с нами, понять, что эта страсть присутствует, вечно присутствует. Впрочем, мне – да. Мне предстояло выслушать его историю, я бы и выслушал его историю, конечно, узнать его жизнь, да. Человек действия. Да. Мы все, мужчины и женщины, все.
Я уже говорил, как, когда он придавил меня коленями, прижал к полу, то от него смрад, пот, моча, может он совершал насилия, но он насилий не совершал, только смрад, если бы было так
но теперь и глядеть на меня не мог и сказал, На полу у твоей головы, там копошатся насекомые. Я их раздавил, трех четырех пятерых, целую семейку. Тут под твоей головой деревянные доски. Не исключено, что насекомые выползли из них, это возможно. Однако эта семейка вылезла из твоей головы, из ушей. Ты уши чистишь? Люди совсем не проверяют ушей, почему так? Существует желание убить тебя. Можно мы это сделаем? Я представитель. Если ты составляешь проблему, на ком лежит это бремя? Что ты на это скажешь?
Я на него не смотрел.
Это только тебе, я только с тобой говорю. Слушай
Кого заботят такие вещи. Его меня. Его не заботили, меня не заботили, наступит ли смерть, конечно. Я к этому уважения не питал, к себе. Я сознавал это, что я это должен открыть. Мысли мои разбегались, и я заставил себя, опять, сосредоточься сосредоточься. Были недавно эти события, тяжелые события, мужчины так и лезли в ту секцию, где происходили действия, как бы намереваясь посостязаться друг с другом, конечно, хватая все, что могли, делясь, существует ли совместное уважение, одного от другого, у мужчин, одного от другого. Я не могу в это поверить. И это вопрос несущественный, вопрос серьезный, я не способен поверить, что можно так уважать, между всеми. Возможно ли это, я так не думаю.
Они совсем распоясались. Никого не удивило. Могу ли я сказать, почему. Мужчины набираются сил, возможно, и женщины тоже.
Он шептал, Они возвратятся, это же ясно, определенно, мы по-другому действовать не можем. Ты был в пределах слышимости. Да. Это не делает разницы, твои это люди или чьи. Я с ними не знаком. Тут нет персональных оснований, личных оснований, ничего. Нет, им ничего не известно, вот они и притворяются, улыбаясь, улыбка родственница страха. Это не только про глупых людей. Послушай
Теперь уже были звуки, не как от тяжелых ударов. Какие же они были, мягкие, не громкие, потому что звук доходил до меня как будто через туман, густой. Это поэтому я думаю, что удары контролировались, может быть, постукивание, секретный код. Но тогда
Я не мог, там же холодно было.
Что
Но что мне было делать. Возвращаются старые вопросы, и усталость
не молодой однако, я бы сказал, ему было лет тридцать пять, волосы густые, большой копной. Об этом человеке они и справлялись. Другой убежал? По-моему, так. Я думал, что убитый был одним из тех, но, возможно, и нет, тут были споры, некоторые оспаривали этот случай и другие тоже. Может быть, они говорили, чтобы произвести впечатление, на меня, на других, да, я не знаю почему, но только потом его убили.
30 «ножные ранения»
Это все усталость, такие усталые были, мы двое. Является ли изнеможение здоровой усталостью, я так не думаю, усталость от нашей работы, от операций, каких операций, некоторые говорят о наших операциях, некоторые о долге. Я говорю об этой земле, она там трудная, холмы, а он приваливался ко мне, на плечо, не мог идти. Я достаточно сильный, и если он тоже сильный, сильный человек, сильнее, я тоже, а он не такой уж тяжелый, я мог вынести его вес. Но это ночь, вот что, и мы нашли место, такое маленькое укрытие, может убежище, накрыться было нечем, только одежда, какое тут тепло, никакого, но нас двое, и я, помню, дрожу, дрожу, никак не согреюсь, время, когда я никак, никак не мог согреться, да еще ветер сквозь нас, мой коллега то же самое, дрожит, дрожит, я не мог согреть тебя, мой коллега.
Потом он потел. Я лежал тесно к нему, и это от боли, а я не понял, не знал тогда, только потом, и все было густое, липкое, липкость такая, и я при лунном свете увидел теперь, это кровь, везде кровь, и когда мы разодрали материал штанов, вижу, что правая конечность тоже повреждена в колене, раздулась здесь и цвет плоти скверный, да, я понял, они бы ему отрезали ногу, так я думал, отсекли бы от него, да, я думал так, и он тоже, глядя на эти раны, хотя могло произойти и что-то другое или, возможно, и это, пока потом, про себя, мне не показалось, я увидел это в его лице, это дальнейшее замешательство, я увидел его там, это было замешательство, и он не смотрел на меня не на меня, наверное, он думал, не ножные ранения, а быть может, смертельные ранениями, нет, как это может быть, этого не может, наверное, он думал, как это может быть? могут ли ножные ранения быть смертельными, мы, ни один из нас, не могли такого понять, а думали, как завтра должно прийти, конечно, наступит день, и как он тогда пойдет, как сделает это, то, что мы должны, уйти с этой территории, может и бежать, что это может быть за побег, он положится на меня, конечно, и на палку, и назавтра я бы ее нашел, но назавтра он уже умер, на следующее утро. Я теперь это и сказал, заговорив с ним. Я раздобуду тебе палку, завтра, палку для тебя, костыль. Он стискивал мою руку, да, большое давление, прилагал. Лоб у него горел, а теперь холодный, в холодном поту. Он смотрел на меня. Завтра будет палка, так я ему сказал, я сказал, найду, будет палка, я ее найду, мы сможем убежать с этой территории, ты сможешь идти, а нога заживет.
Какая еще сентиментальность. Назавтра я бежал из того места, да, ножные ранения могут быть смертельными. Он это знал, что это правда. Я не понял его взгляда. Что мы тогда были живы, да, как один, нет, я тогда чувствовал это про нас, нет, про него меня, и еще тепло моего тела той ночью, что же из этого. Что мы можем сказать. Я могу понять, о чем мы говорим, в процессе этого. Так случается и мы действуем, постойте, это случается, мы действуем, действие есть знание, скажем, речевое действие. У вас какой язык? Может это мой язык. Он спал рядом со мной, и умер, да, я думал тогда, держась за него, может он умер, да. Сентиментальность. Знаю я про сентиментальность и про международные соглашения, главы государств, да, наши коллеги, я знаю. Сентиментальность. Я же согреться не мог. Не той ночью, я дрожу, надо давать ему тепло, моему коллеге, его телу, он лежит, ему больно, и в его голосе, он после еще говорил, и опять же кровь, кровь, ее так много, и на одежде, и я к его ноге, нет, не остановить, если порвать одежду, мою одежду. А потом я заснул, перестал спать, не мог проснуться, он был рядом со мной и от него тепло, а потом опять холодно, и я пробудился, так холодно, холодный. Вот так он и умер. Мы тогда были вместе.
31. «если я могу говорить»
Родственник или сосед пересказывал истории из своего детства, как тогда жили в участке, были ли песни и танцы наказуемыми преступлениями. Снаружи было темно, холодно, ночи здесь наступают еще до ужина, вот люди и коротают так время, это всем детям нравится, старшие разговаривают друг с другом, рассказывают все больше из истории семьи, также и выдумки, все это знают, но такие выдумки извлекаются из этих источников.
Мы были в этом доме всего на один вечер. Прошло несколько лет после убийства двух старших сыновей семьи Государственным агентством. У них был один другой сын, младший, и тоже две дочери, замужние, чьи дети были здесь, в доме. Младший сын был совместно с нами, коллегой на этом задании, на сопровождении гостя нашей страны. Он сейчас вышел, чтобы помочь с другими приготовлениями. Его отец и мать сидели у окна, мать смотрела на дверь, думая может сын скоро вернется, отец был отделен, глядя в окно, отдален.
Наш гость был не из заграничных, просто он теперь жил там и вернулся домой на промежуток времени, деятельный период, много собраний, много людей, правовед. У нас было две машины. Нас шестеро коллег, трое сейчас вне дома, в карауле. Я и двое других внутри, сын, как сказано, и пожилой коллега, который знал правоведа еще с ранних времен. Один месяц назад армейский персонал стрелял в мужчин и юношей с футбольного матча, некоторых убили, газеты сказали, было восстание, как тоже радио, телевидение, все массовые средства, прислужники Государства. Поэтому правовед и вернулся домой, почему он здесь. До его визита семья думала, что он умер. Они были не из тех, кто следит за событиями заморских новостей, чтобы натолкнуться на его имя в печатных материалах кампаний, политических материалах.
Но я должен сказать, когда стало известно, что он возвращается с визитом, не многие среди нас знали его личность. Нас о ней не информировали. Меня нет. Может надо было взять на веру, может тут не было необходимости, не было, и я так не думаю, были приняты решения. Имя его было знакомо, но я про него не знал. Это мне младший сын все рассказал, всю его историю. Правовед приходил в их дом, когда он был еще мальчиком, и оставался на ночь, туда сходились люди, устраивались совещания. Это было трудное время, последовавшее за смертью его братьев, семья тогда переносила всякие тревоги, карательные меры. Наше «защитное формирование» помогало семье в их борьбе за справедливость, против Совета государственной безопасности, предлагая рекомендации и всю персональную поддержку в вопросах адвокатуры. Мой старший коллега мог рассказать о тех днях, когда проводилась такая работа. Тогда наше «защитное формирование» потратило на это много энергии, на работу по ценности индивидуального человека, так это аргументировалось, но если бы эту энергию можно было потратить где-то еще, успех мог получиться больший. Теперь коллеги такую работу проводить не пытаются. Хотя эти моменты продолжают обсуждаться среди коллег, некоторые аргументируют за возврат к этому.
Родственник или сосед уже покончил со своими историями, и наш старший коллега рассказал о правоведе, объясняя, как тот выдвинулся в поддержке нашего «защитного формирования», как в те ранние времена не было известно о таких профессиональных людях, которые так выдвигались. Никто тогда не предлагал специальной помощи жертвам и горюющим семьям, разве лишь сочувствие и то не публично. Только коллеги пытались довести такие дела до суда, всякие постыдные для людей вещи, скандальное поведение, ужасы и все зверства, а перечислить нельзя, обсудить нельзя, если люди о них не знают. Только коллеги бились над такой работой, работой за сопротивление народа против всех главных начальств, армейских, безопасностей, этих агентств, прислужников Государства. Профессиональных специализированных людей не ставили ни во что, правоведов, докторов, всех профессоров. Немногие предлагали поддержку. А вот один, наш правовед, этот человек был необычен, так его имя и стало известным. Он получал от Государственных агентств все беспокойства и провокации, но продолжал помогать коллегам изучать и осваивать такие вопросы адвокатуры. Тогда против него выдвинули обвинения в терроризме, Государственные обвинители добивались отдать его под суд, чтобы его могли приговорить ко многим годам лишения свободы, ко многим годам. А нынче он проживает в заграничных странах, так делает последние годы. Весь народ радуется визиту правоведа. Да, он жив и не склонялся, не расшаркивался, он был не прислужником подхалимом, но одним из нашего народа, борцом за наш народ все народы. Он по-прежнему трудолюбив на этих заграничных аренах, знаком со многими начальствами, верхними начальствами, знаком с воззрениями нашего «защитного формирования» и высказывается о них, если может где может. Такова правда о ситуации и никого не уважают больше.
Я видел, как мой старший коллега старается ввести семью в эти исторические оценки, указывая на определенные факторы, касающиеся дела их двух сыновей, а также борьбы за каждого человека, как она все еще продолжается. Когда отец не присоединился, мой старший коллега посмотрел на мать, но она тоже, не ответила, не приняла в этом участия, глядя только на детей, на внуков, да, но детей тоже можно научить. Если бы люди это понимали. Дети научатся. Позвольте им. Многие коллеги молоды, молодые, и они научились. Взрослые говорили с ними, ничего не скрывали. Вот и младший сын этой семьи, как он стал нашим коллегой. Изучил ли он мир. И как тут смерть двух его братьев. Следует ли так уж скрывать все от детей. И у меня тоже был ребенок, чья мать где-то нигде, исчезла. Что мы можем сказать. Что мне сказать ей, моей дочери, ничего.
Должны ли мы лгать нашим детям, я так не думаю. Я теперь говорил об этом семье и соседям.
Я говорил дальше о том, как эти старые методы работы привели к неудачам нашего «защитного формирования», принося мало удовлетворения, только внимание от заграничных источников, полезных источников, да, но какая перемена произошла в нашей собственной стране, никакой, перемен не было, никаких, начальства ничего не делали, только смеялись над нами, употребляя все больше безопасностей в наших городах и селах, и сейчас больше, весь армейский персонал. Здесь все это знали. Должны ли мы были отступиться и позволить это. Правовед слушал внимательно, он не курил, я это видел, он всегда курил, а сейчас нет.
Сын семьи возвратился, стоял в дверях, выслушивая, слушая все, что говорилось.
Я теперь рассказывал как при этом визите отечественные коллеги провели с правоведом шесть дней, было подготовлено много собраний, разговоры со многими людьми, неофициальные официальные. Этим утром было одно собрание в городке, присутствовали многие жители. Армейские знали об этом, заняли позиции вокруг здания, провокационно, угрожающе, кричали мужчинам и женщинам, чтобы выходили оттуда, хотели задержать кого-нибудь за драку, такой у них предлог. Те, в этом городке знали, стали бы стрелять и убили. Всего один месяц назад, они перестреляли мужчин и юношей с футбольного матча. Это было очень сложное собрание, мы все еще ожидали информации. Дожидаться еды мы не стали, потом ушли, проехали сюда сотню миль, однако легко, безопасно. Армейские знали о наших передвижениях во время поездки, но не беспокоили, только следили. Это разумно с их стороны, они не могли тронуть этого гостя, заграничные журналисты и индивидуальные люди тоже следят за ситуацией. Сегодня было одно неофициальное собрание, руководители общины и местные коллеги приходят в один дом, мы после тоже уйдем туда. Завтра очень рано нам придется проехать еще больше миль, на одно большое собрание в городе, большом, очень много людей, множество. Там будут армейские, безопасности, конечно. Мы знали об этом, получили предупреждения, как и в эту ночь тоже.
Я немного объяснил, какая сильная напряженность была среди коллег в этой дискуссионной поездке. Чего только с нами не случалось, персональные контакты не появлялись, неудачи, провалы, какой там график, все не по графику и все другие важные факторы неважные факторы, все мелкие детали, не могу перечислить. Люди не думают о времени. Мы можем проехать сто миль, а людям кажется, что мы с соседней улицы пришли, тут за углом. Заходите к нам через десять минут.
Но мы же в сотне миль от вас.
Ладно, если вам нужно пятнадцать, мы подождем.
Да!
Я увидел, что правовед приглядывается ко мне, улыбаясь. Теперь продолжил говорить наш старший коллега. Я был доволен.
Многие мероприятия, их организация, это было мое особое задание, однако если мероприятия не организовывались легко, легко для всех, правовед всех прощал. Он и старший коллега ехали в одной машине, и еще с ними был другой коллега, автомобильный гений, даже больше, если бы не его огромные способности, если бы его с нами не было, да, все было бы потеряно, это могу сказать.
Про всякие такие дела, большую напряженность, правовед говорил нам, Что тут поделаешь, не все можно контролировать, не волнуйтесь. Он часто вздыхал, но говорил не много, разве временами его глаза смотрели за нами, наблюдая, как мы реагировали, и также как армейские реагируют на нас, здесь ли коллеги, смотрят ли они на нас, боимся ли мы, или армейские боятся коллег. А в другие разы не смотрел, глаза открыты, но внутрь его собственной головы. Он часто зевал, извинялся ли, не всегда. Я думаю, он не замечал. Могу сказать, что я наблюдал за правоведом. Я гадал, слушает ли он людей.
И если случатся затруднения, больше, обернутся опасностью. Как он тогда себя поведет? У меня не было сомнений, у нас не было сомнений, его действия были бы соответственными, соответствующими. Да, это я знал. Все коллеги уважали его, я тоже. У него были с собой диски для компьютера, и он все время искал доступ к компьютеру, но за эту неделю пока доступа не получил. Он привез с собой один, но с тем что-то случилось, и теперь его не было, однако диски он сохранил для работы, готов был к таким осложнениям, и копии раздал другим коллегам. Да только на этой территории компьютеры были недоступны. Когда он спросил младшего сына, нет ли в его семье компьютера, младший сын сказал, что нет, он думает, что и в городе нет ни одного, хотя и не знает, и вышел, чтобы помочь с другими приготовлениями. Позже ему достали пишущую машинку, но правовед только один раз на нее и взглянул. Он был человек с большим животом, тяжелый, носил такую одежду, как белая рубашка и галстук с узором. Семья дала ему лучшее кресло, поближе к огню. Я видел, что ему неудобно, слишком тепло, да еще еда, тарелка с печеньями у него на коленях, печенья он не съел, ни одного. Дети поменьше не спускали с него глаз, надеясь на печенья. Члены семьи и присутствующие соседи тоже с него глаз не спускали. Наш старший коллега все еще говорил. Может скоро и замолчит. Он мог говорить целые периоды времени, длинные периоды. В доме теперь были многие. Это могло встревожить. Кто знал всех, которые набились сюда, мы поэтому полагались на младшего сына семьи, знакомого с этими личностями.
Через час будет пора идти на следующее собрание.
Теперь старший коллега не говорил. Смотрел на меня. Но я опять говорить не стал. Так что наступило молчание, это было неудобно. Некоторые смотрели на правоведа, думая услышать его рассказы, надеясь на это. Со времени, как он вернулся домой, газеты печатали истории, так чтобы дискредитировать его. Но людям эти истории нравились, и они гадали о нем, неужели все это правда, слухи про знаменитых людей, прекрасных актрис, неужели правовед с ними встречался, со звездами из фильмов, сексуальных фильмов, и тоже с людьми из рока. Но правовед не рассказывал. Я говорю, коллеги тоже были разочарованы, хотели послушать, как он рассказывает, а он не рассказывал, у них имелись к нему дальнейшие вопросы, о борьбе, как о нас думают заграничные люди, достойны ли мы. Он за одну неделю сказал совсем мало, с добрым утром, привет, как поживаете, спокойной ночи, и часто уставал, часто зевал, скучно ли ему было с нами, конечно.
Молчание было все дольше. Многие смотрели на правоведа, но он только залез в свою сумку, достал оттуда новую пачку сигарет и так помахал рукой, можно ли курить, отдал пачку младшему сыну, повел пальцем, чтобы младший сын предложил сигареты членам семьи, его отцу тоже, тот взял одну. Коллеги могли сопровождать начальств и заграничных гостей, у которых были материалы, однако они и не думали распределять их, а вот правовед делал так все те дни с нами, все сигареты, было ли у него бренди, да. Младший сын протягивал пачку другим, не многие взяли по одной. Однако женщина, старая женщина, она взяла одну, глядя на правоведа, я заметил, она все так пристально на него смотрела, так пристально. Она была пожилая, лицо худое, как это, изношенное, морщинистая морщинистая кожа, вся в складках, глубоко внутрь, плечи округленные, а спина у нее, она казалась искривленной. Младший сын взял у правоведа спички и зажигал для курильщиков. Старой женщине он спичку не предложил, а вместо посмотрел на мать, которая сидела с ней рядом. Потом дал сигареты мне и старшему коллеге, и себе одну взял. Я видел, его отец следит за ним и за мной тоже. Сигаретный дым теперь плавал клубами. Дочь семьи подошла к окну, открыла.
Можно я расскажу про старую женщину, что она держала сигарету неловко, и все в ней было такое неловкое, не знала, как, сидит, выпрямившись, потом скрещивает ноги, потом поднимает их в кресло, садится на них, держится, за лодыжки, голова наклонена, раскачивается, назад, вперед, верхняя часть тела. Я увидел, ее глаза закрылись, и слюна изо рта, так люди бывают в трансе, я видел в трагедиях, когда потрясение, люди потом остаются такими, в трансе. Ее глаза открылись. Ребенок был рядом, маленькая девочка, женщина глядела на нее.
Я уже говорил, что люди молчали. Они так и оставались, не считая интерлюдии с сигаретами. Теперь докурили и опять замешательство и опять заговорил мой старший коллега, взглянув на меня. Он сказал, Мне пришел в голову человек, которого мы сопровождали несколько недель назад, больше, два месяца три месяца. Он теперь благополучно уехал из нашей страны. Некоторым здесь известно его имя.
И мой коллега назвал его имя. Правовед заинтересовался, он очень хорошо знал эту личность. И другие члены семьи и соседи тоже слышали о нем и заинтересовались. Он был широко известен и любим также коллегами, для которых он стал большим развлечением, имитатором людей, это была его самая сильная сторона. Никто об этом не знал, пока не стал его сопровождать, и тогда они его узнали, как мы узнали правоведа, и так мой старший коллега продолжал несколько коротких секунд, как вдруг заговорила старая женщина, да, внезапно, перебивая, глядя только на мать семьи. Старший коллега перестал говорить. Женщина сказала, Кто теперь защищает нас, нас защитить некому. Она указала на правоведа. Он хороший человек, что это, хороший человек, он такой? Он защитил бы сыновей этой семьи, но не моей. Он это сделал, для наказания, те, кто убил двух мальчиков, они наказаны. Ваших чудесных мальчиков! сказала она матери семьи. Они наказаны, которые сделали это, грешники.
Наказания не было, сказал мой старший коллега.
Да, сказала женщина.
Нет.
Все знали их имена, так и были наказаны эти грешники, их семьи, наказание. А кто теперь защищает нас, нас защитить некому.
Правовед курил сигарету.
Всем было неудобно. Младший сын взглянул на отца.
Некому защитить мою семью, сказала женщина.
Наш коллега сказал, Это неуважение, то, что вы говорите.
Я могу говорить.
Вы можете говорить, да, конечно, но почему вы не уважаете людей, я не. понимаю, почему.
Моя семьи пропала, они мертвы, я знаю. И ничего нельзя сделать, я одна. Это не о моей семье, я не о ней, все семья, скажите мне это, вы можете мне это сказать.
Мой старший коллега не понял.
Что, что я должен сказать, это не только ваша семья, это все семьи.
Старая женщина смотрела на правоведа. Скажите мне это, пожалуйста. Вы знаменитый человек, хороший человек, правовед всего народа, семьи, как наши, горюют, вы поддерживаете нас в нашем горе и защищаете справедливое поведение, а как нам узнать, можно ли это. Что вы для нас делаете, ну что? Рассказываете нам истории?
Он всего лишь один человек, сказал я.
Женщина меня не услышала. Что вы для нас делаете?
Я сказал ей, он расскажет о нас, наши истории, расскажет их всем народам.
Нет, сказала она, истории для нашего народа и истории для заграничных народов отличаются. Это будут истории различного рода. Есть такие истории, да, могут быть истории, которые человеку хочется пересказывать, но некоторые не хочется. Некоторые не хотят пересказывать истории, эти истории, любые.
Я не понимаю, о чем вы говорите.
Старая женщина повернулась к правоведу. Но подумайте о себе, сказала она, единственном, кто знаменит и знает многих людей, важных людей знаменитых людей, знаменитых знаменитых очень важных персон.
Что значит знаменитых? сказал я.
Знаменитых, ответила женщина.
Да, сказал я, это я могу объяснить, это когда безопасности думают казнить кого-нибудь, однако думают – нет, а потом опять, хорошо бы, и никак не могут решиться.
Да, сказал правовед, однако наш коллега прав, знаменитым быть хорошо, не отрицаю, это часто сбивает людей, вот и в аэропорту мой приезд вызвал большое оцепенение, начальства были шокированы, и что они сделали? Ничего, только поставили в мой паспорт штемпель о въезде. Я не сказал им, приветствую, я хотел бы, да не смог, я не такой отважный, просто прошел через здание вокзала, к коллегам, которые ожидали меня, надеясь, что все обойдется.
Старая женщина внимательно слушала, другие тоже, мать семьи, отец семьи. Некоторые дрожали. Теперь в комнате был холодный воздух из открытого окна. Правовед продолжал говорить. Чего мы просим от наших коллег? Мы все участвуем в борьбе. Страдаем, да, каждый, что же неправильного? Я скажу. Если я могу говорить, что я должен сказать, я скажу это, скажу здесь и скажу за морями. Потому что сейчас, в это время, всем ясно, что в этой комнате собрались отважные мужчины и отважные женщины, которые бьются только за честность, только за нее, кто так сражался за это и так продолжит, так и будет.
Я видел лицо младшего сына, волнение в его глазах. Я видел, мать следит за ним, отец нет, только смотрит в окно, отдаленный.
Мы ждали, может правовед продолжит или старая женщина что-нибудь скажет. Тоже другие люди. У каждого была в запасе история, истории. Проходили мгновения. Правовед вынул из пачки новую сигарету, прикурив ее от прежней, еще горевшей. Люди следили за ним. Потом младший снова взял спички, подходит к старой женщине, чиркает спичкой и говорит ей, Тетушка, это вам, закурите.
Старая женщина сунула сигарету в рот, он поднес ей спичку. Спасибо, сказала она, и назвала его по имени, коснулась руки.
Снова молчание.
Правовед обратился к нашему старшему коллеге, Что там насчет человека, которого сопровождали ваши люди и который теперь благополучно уехал из нашей страны, некоторым здесь известно его имя.
Да, сказал наш старший коллега, взмахивая руками, обращаясь ко всем в комнате. Он говорит о том имитаторе людей. Одна из самых сильных сторон, которыми он обладал. Мы не знали этого, пока не стали его эскортом. Позвольте, я расскажу, как он говорил голосом всех людей, женщин, да, заграничных людей, кого угодно, любого. Ночами мы могли лежать в темноте, слушая, как он говорит смешными для нас голосами, голосами верхних начальств, главных начальств, всех выдающихся людей, которых мы могли знать, да, и из мультфильмов на телевидении, как их, Баге Банни, кто еще, Дональд Дак, их голосами тоже.
Наш старший коллега рассмеялся, показывая на детей, которые слушали.
Да, этими знакомыми вам голосами, он рассказывал истории, этими голосами и тоже кряк-кряк-кряк, я Дональд Дак, кряк-кряк-кряк. А потом говорил, как двое, мужчина с женщиной, муж с женой, как они беседуют вместе, и тоже кряк-кряк-кряк, нам это казалось смешнее любой интерлюдии. Если что-то такое и бывало в прошлом, мы никогда об этом не слышали, ни о чем подобном. И будем помнить также об этой личности, что он был личностью очень известной, выдающейся личностью, очень важным человеком, очень высокого положения и ранга, из наиболее высоких международных начальств, верхних начальств, из Вашингтона и Лондона, Парижа, Берлина и Москвы, Пекина и также Стокгольма, и приехал сюда и с нами, живет, делится, потягивает спиртное, он и его привез, бренди из Франции, так он говорил, лучший из всех напитков, бренди из Франции, его можно принимать на завтрак с кашей.
Да, правовед улыбнулся, затягивая дым в легкие, утирая слезы по краям глаз. Да, этот человек, он его хорошо показал.
Мой старший коллега продолжал об этой выдающейся международной личности, происходящей из нашего народа, предлагающей лекции всем другим народам и одновременно другими его голосами произносящей много ролей, людей из нашего народа, задающих вопросы международным началь-ствам, исторические вопросы, нравственные вопросы, интеллектуальные вопросы, вытекающие из всех предложений, примирительных процедур, и из более глупой природы таких примирений, убитый и убийца, все такое.
И когда мой старший коллега остановился, не хватило дыхания, я тоже смог рассказать о нем, имитаторе голосов, и я сказал, Да, как эти, жертва и преступник, изнасилованный и насильник, как они между собой, да, да, ты меня убил, я прощаю тебя, кряк-кряк-кряк, не думай о себе плохо, что только убийца, и для сирот изнасилованных женщин, изуродованных мужчин, да, я прощаю тебе, кряк-кряк-кряк, что ты нас насиловал и убивал, это ничего, и отрезал мне груди и гениталии, приди ко мне, я поцелую тебя в щеку, кряк-кряк-кряк, где тут вас дом веры, позволь мне войти, чтобы я мог узнать высшего из высших, это начальство, оно превыше всех прочих, чтобы я мог узнать любовь его, как любит он матерей и отцов наших, ты бог, приди.
Да, сказал мой старший коллега, но помните также, как это говорилось, мы же падали на пол от смеха, все мы.
Да.
И там еще дальше, может ты расскажешь об этом, как рассказывал другим, насчет этого человека.
Что?
Ты же нам рассказывал.
Я не помню, о чем.
Да, сказал правоведу мой старший коллега, это важный момент, мы разговаривали после одного дискуссионного собрания.
Да, сказал младший сын.
Мой старший коллега опять посмотрел на меня. И все другие тоже смотрели. Могу ли им ответить или сказать что-нибудь. Я только глядел в пол, только это и мог.
Младший сын спросил у меня, можно я скажу? Я помню, как ты нам рассказывал.
И он рассказал. Отец отвернулся от окна, вглядываясь в него. Я слушал, но не слышал, это была моя история о времени, когда великий человек, имитатор, был с нами. Как-то ночью мы проехали большое расстояние, нашли расположение и отдыхали. Это было в одном лагере. Армейские стояли совсем рядом, мы не могли воспользоваться гостеприимством местных людей, чтобы не навлечь на них новые обвинения. Еды у нас было не много, совсем мало, стояла ночь, мы утихомирились и старались заснуть, но ничего не получалось, и тогда великий человек заговорил, рассказывая нам всякие истории, и коллеги слушали, им нравилось, но я эти истории слышать не мог, не мог сосредоточиться ни на чем, что могло происходить и почему так было, только на том, что мой товарищ вернулась в тот день пораньше, и была рядом со мной, можно я о ней расскажу, я лежал рядом с ней и как мы не трогали друг друга, что так не могло быть между нами в такой ситуации, люди же не дураки, тогда уже было известно, что мы вместе, мы двое, если коллеги видели одного, так сразу и второго, и когда великий человек рассказывал все эти истории всеми этими голосами, чтобы поддержать коллег в такое трудное время, я ничего не слышал, ничего, только дышал вместе с ней, с моим товарищем, и шептал ей, и она мне шептала в ответ, что когда великий человек доводил всех коллег до хохота, это было лишь шумом в ее голове, наполняющим уши и мозг, столкновением многих голосов, многих многих голосов, голосов наших людей, создающих неблагозвучие, лишенных всякого юмора, и тогда она чувствовала, что скоро умрет.
Что же еще. Еще. Такое тогда было время, трудное время. Что там рассказывал младший сын, я не расслышал. Все остальные внимательно слушали его. После отец и мать смотрели на меня. У их сына хорошо получилось. Я покивал им, но не их сыну. Я бы с ним поговорил, и тут наш старший коллега помахал мне рукой, сказав, Наш народ любит слушать истории.
Как и всякий другой, сказал правовед, сунув в рот сигарету и взглянув на часы.
32. «никак не вспомню»
Она твердила, что это возникло, как мысль провести время на этой планете Земля, мысль о жизни, еще предстоящей, ее собственной жизни, с тусклыми воспоминаниями, с младенчества, с ощущением смерти, между предчувствием и реальностью, с осознанием прощания, вот такого, как это, прощания с ней, со мной.
Голоса повсюду, вглядываются в наши головы, поют в наших собственных ритмах. Они достаточно реальны, эти напоминания. Старые люди знают об этом. Она бы так и сказала. Некоторые говорят, воспоминания. Я так не говорю, воспоминания, потому что эти могут быть не такими, как было, да и принадлежат они ей.
За собственными его пределами знание об источнике извлекается из смешения фантазии и молвы
Она больше не желала знания. Она сама так сказала, вглядываясь в меня. Воспользовалась зрением внутри моей головы. Иллюзии идут изнутри. Так она мне сказала. Это потому, что мое видение окрашено, и всегда было окрашено, начиная с моего расставания с родителями и семьей. Она говорила со мной так, словно постижение было ее, принадлежало одной только ей.
Это и сформировало прощание.
Я не пытался объяснять эти вещи и удивлялся редким случаям, когда такое наполняло мою голову. Не сейчас. Иллюзии идут изнутри. Да. Я знал, что смогу. Это меня не останавливало.
Что же тогда. Я не знаю этих вопросов, она не знала этих вопросов, не в то более сложное время. То, что необходимо, что может дать
Я думал, что мог быть
может таким я и был
Следовательно, это было ложным. Но стало только ложным, былимоглибы м я быля думал что э. Это было фантазией как когда пробуждаешься и не сон. могло могло, мог почувствовать это теперьмы тесно ивсежевлачили
Эта необходимость была для меня сильнее наше время было так ограничено теперькак в относящемся прошлом, если прошлое в настоящее, почему, должен я, но если так, тогда да, что я могу быть безжалостным
Многое что говорится говорится без надобности, и все же формальности могут казаться необходимыми.
Она думала, мы можем стать историей, мы так можем быть одним, говоря это, шепча это
недостаточно, порождая ложные образы жизни
Попыткой такого маневра я давал доступ, давал доступ, на основании попытки, дающей доступ
Уже ложно, в самом акте рассмотрения. Точно отображая «рассмотрение», я думал, что даю демонстрацию. Различение между двумя коренится в значении, которое им придается
Она хотела рассказать о своем времени, она я, мы двое, становимся историей. Я бы обратился к этому методу
Самонадеянность – вот все, что у меня было, но не так у нее, для которой всегда представлялось больше, чем это, и извне ее, она с самого детства размечала свою жизнь
с самого детства она размечала свою жизнь, ее мгновения. Время прошло. Я сейчас пересказываю кое-что об этом, о той жизни, какая была, жизни ведь продолжаются
Сердце у меня нормальное сердце, сообщающее о смерти, когда останавливаются удары. Ее смерть как остановились удары
У меня теперь нет языка. Мои средства общения святы, созданы мной для себя. Теперь про ее исчезновение.
Я могу рассказать о ее времени, это, возможно, все, что я могу сделать, поместить себя туда, одно уже известно! это существование, на основании которого, тогда как загробная жизнь рассматривается нами как возможность, возможность. Моя жена побывала здесь, она была матерью, моей дочки, я был с ней, и с ними, и мы не знаем.
33. «другой возможности не было»
В этих редких случаях энергия вливалась в мое тело, как из живущих, я мог чувствовать это, я знал. Что вы сказали. Под окном лежали облака. Я был на лестнице. Там были лестницы. Далеко внизу мог идти дождь, но где я, не было, не могло. И если упасть, я бы пробил облака, разрывая их. Существуют рисунки мысли и воображение вытекает из них. Я следил за птицами, там были голуби, один за другим, один и другим.
Веки мои были сомкнуты, отдыхая. Вечные мечты. Они из жизни, формируют жизнь. Мы брели по грязи, сбоку от старых путей, железнодорожная ветка, как-то так, нет, не думаю, не знаю. Из высокой травы могло появиться животное. В этом случае, в любом случае. Зона была опасная, люди туда не ходили. Ну да, конечно, та секция, где тела. Мы обнаружили их, да, в траве, но не только там. Могло быть, как будто те личности улеглись нарочно для это цели, ждать своей смерти. Люди теперь так это понимают. Теперь понимают так. Они говорили мне это, может таковы странные характеристики людей, что люди так поступают, и были ли эти люди только стариками или моложе, мужчины, женщины, они поступали так.
В тот вечер я поднялся оттуда наверх. Сбоку от главного входа был парапет, камень, окружавший короткий марш искрошенных ступенек, я помню. Там папоротники, мы шли через них, переворачивая камни, что мы искали, нет, не безделушки, не ювелирные изделия, вороша гравий, зубы, побеги травы. Оружие. Не еду. Оружие, средство, которым ее можно добыть. Позже, у внешнего периметра, я пошел по тропе, которую уже знал, она вела через зоны, известные как опасные. Я боялся других, конечно, но в этой опасности тоже есть преимущество, к ней можно привыкнуть. Я увидел людей, они производили огонь, готовя чай или кофе, заваривая его, и запахи, горящие отбросы и дерево. Со мной тогда была девушка. Она жила у моря, в гавани. Она говорила, все мечтают о путешествии. А она теперь мечтала о доме, о возвращении туда. Я рассказал ей, что тоже мечтаю о прошлом, как будущем, но пусть все останется так, что мы тут можем сделать.
Эти люди готовили тоже еду. Мы стояли там, не способные уйти. Я увидел, один такой появился и показал на нас. Никто не отреагировал на что я увидел. И он тогда подошел к нам, спрашивая, кто мы, зачем мы здесь, куда путешествуем. У меня была сумка, я поднял ее на плечо. Это было самое простое движение, которое сделать, и я его сделал. Тоже и дождь. Было пора уходить, если бы это возможно. Невозможно ли это. Он смотрел на девушку, да, разглядывал. У нее была желтая шаль или шарф, она носила ее, кружевная материя. Он протянул к ней руку, и я увидел тревогу на ее лице, и она сказала, Нет, но он вцепился в шаль или шарф, потянул с ее плеч, да, другие теперь разглядывали ее, и он тронул ее за руку, там, где оголилась, и я увидел на ее лице
Я не мог ничего сказать ему или им, я хотел чтобы что-то, если бы у меня что-то было, у меня же не было ничего
Она удержала пальцами конец желтого шарфа и замахнулась на него, с угрозой. Чем она могла ему угрожать, это был смехотворный абсурд, она сделала это, и антагонизм с этим человеком, враждебность ему, чем еще это могло быть. Он на это нахмурился, а что ему еще делать, и быстро взглянул на меня. На расстоянии от нас я увидел, как другой один мужчина поднимает руку, как будто помахать, но отвернулся, подавая сигнал еще одному другому. Девушка тоже увидела, и ее лицо. Тут вступает моя память, я вижу ее отца, рука обнимает мать, и она отворачивается, чтобы не видеть их к последний раз, потратить этот последний миг не видя их, по их там и не было, просто я, она я. О чем думала девушка. Она была со мной, но я не знаю. Я помню, это казалось, я сплю, сплю и соль брызжет мне в лицо, словно из гавани, поднимаясь над той стеной, разбрызгиваясь. Вырвало ли меня, я думал, что может вырвало и облака закружились и неожиданный клекот птиц, морских птиц, и шум моря, но где было море, не было моря там, же был я. Возможно, была река, да, думаю так, может с гор, откуда могут идти реки. Они же текут вниз, конечно, это возможно. Я помню, не в том городе, за ним, она поднималась, земля, в горы, которые за границами.
В недели до этого мы были вместе, разговоры приводили к улыбчивости улыбкам, скоро к молчанию, к неловкости, под конец. Я говорил, там были ее родители. Да, и другие члены семьи. Отец следил за ней, думал, я не замечаю, следил за нами, думая, как она со мной, но я заметил. Что он мог сделать, ничего, ни мать. Я был с их дочерью, да, в их присутствии. И другие тоже присутствовали. Мы лежали вместе, как дети не как дети, шептались не шептались, дышали одни воздухом, мглистым воздухом, и касались, касались, у нас было одеяло, лежали под одеялом, и мы касались, да, да, друг друга, кого же, конечно. Да, там могли быть безопасности. Но в сумерках, полусвет, нет света, тени и тьма, мрак, никто не увидит. Мы оставались так вместе, если это было возможно. Я гладил ее по руке, где шрам, у нее был шрам на плече. Свет тускнел. У нее был шрам, я знал, я мог ощущать его, касаться его линий, и может вернулся безопасность. Одному из безопасностей было все равно. Он видел нас, но ему было все равно. Там были другие безопасности, мы разлучились. Не нарушить мира между нами. Тогда тоже, движение облаков, синих серых. Пришли перемены.
Но эти другие, семья, мать, отец.
что прошлое, думая о прошлом
Она заботилась обо мне, заботилась о родителях, что с нами станет. Я думал, она выберет их. Не выбрала. Я касался ее пальцами, и она дрожала, и внутри нее, я думал, ей будет противно, что я увижу ее отвращение ко мне, но это было неверно, она стиснула мою руку и держала ее на себе, мои пальцы, чтобы внутри нее. Я был из других мест, я не знал, думал, существуют обязанности и надо уладить. Я удивил ее, поспорив с ее матерью. Это было потом, я поспорил, она доказывала за меня, на моей стороне. Я ушел.
Теперь у внешнего периметра, горящие отбросы, и дерево, и она
Я не видел другой возможности, никакой другой не существовало.
Она не могла смотреть на меня, только в смущении. Но тогда, как сейчас, от ее матери, ненависть, что же еще.
Я тогда этого не знал. Это могло бы составить разницу, и не составило. Да и в этом возрасте, нет, я так не думаю.
Помню ее рассказ о прощании, с семьей, что миг расставания был волшебен. На пирсе, слушая крики птиц, запахи моря, растительность, ясный воздух, свежий ветер покусывает ей уши, она так и сказала, покусывает уши, уши девушки. У пирса вода плещет о деревянные сваи, крохотные рыбешки среди водорослей и мусор, она вспоминала обломки. Что за обломки? Знаки чего? Она не знала, но дрожала от возбуждения, сердце билось так гулко, ей пришлось зажать уши. Она рассказывала, как вставала у занавесей окна и слушала, подолгу. И я ее слушал подолгу. Сколько времени, сказать не могу, однако по свету, по небу, она должна уже спать, но в голове ее, она говорила, как отец все смотрел на нее, смотрел
белый пепел, груды обгорелого дерева, почерневшего, кривого; окруженного телами. И голоса, бормочущие. Я слушал их, и не видел другой возможности, никакой другой не существовало. Это у внешнего периметра, горящие отбросы, и дерево, и опасно для некоторых, для нас, я знал эго, и у костра был запах
Они были там, у костра, сеялся дождь, ветерок совсем тихий. Я вдруг понял, что слышу подвывания, стоны, везде вокруг меня. Что это было. Я остановился. Девушки со мной уже не было. Где могли быть эти люди. Кто был со мной. Я вслушивался, не понимая откуда. Это были не человеческие звуки, не девушка, не те, кто у костра, и я пошел, пошел и добрался до края, вспомнил о реке, там же была река, и мостик, и я перешел мостик, на другую сторону, где я теперь, далеко, другой возможности нет, никакой нe существовало.
34 «может она и кричала»
Безопасность указал на свой пенис. Вот где враг, сказал он, а меня-то за что винить? Он самый и есть. Я его тоже виню. Видите, я его даже по имени не называю! Он улыбнулся и посмотрел на нас, держа его напоказ. Потом взял девушку за затылок и вложил ей в рот, тот был слишком вялый, чтобы воткнуть. Он мог ее и дальше держать, но не стал. Отца девушки вырвало, и еще раз вырвало, капли блевоты на подбородке и на верхней губе. Мы увидели тоже, что он обмочился. Другой безопасность покачал головой, погрозил отцу девушки пальцем и сказал нам, Он это вынесет, он не мужчина, мужчина убил бы себя. Вместо чем грязь разводить на земле и в штанах. Что вы за люди такие, разве вы люди.
Женщина рядом прошептала, с удивлением в голосе, пытаясь найти ответ, Они не считают нас человеческими существами. Они не считают нас человеческими существами. Вот почему, они не считают, что мы такие.
Другой безопасность услышал ее и ударил в середину лопаток. Она повалилась на землю. Никто к ней не подошел. Она лежала, оглушенная, оглядывалась, видя нас, но также всматриваясь, всматриваясь в нас, потом перенесла вес своего тела на локоть, не решаясь перевернуться. Но ничего больше, положение ее головы, она не могла сдвинуть ее, это могло еще больше восстановить против нее людей. И поэтому насилие акта, совершенного с девушкой, ею засвидетельствовано не было,
каждым из нас
место
каждый из нас, девушка тоже.
Потом безопасность вытер пенис о волосы девушки, глядя на нас. Он думал о чем-то, что он может сказать, может ему сказать нам что-то. Я не видел, чтобы он глядел на своих коллег, пока еще один не вышел вперед. Тут он улыбнулся и крикнул что-то, я не расслышал. Сзади меня посмеивались безопасности, так, негромко. Теперь второй расстегивает штаны, у этого да, эрекция, подходит к девушке, обходя женщину на земле. Другой безопасность, сзади, крикнул ей, Ты нам не подходишь. Сама видишь.
Тут женщина стала биться головой о камни. Я слышал шум, удары, может она и кричала, не знаю. Я думал про ее слова, не ошибка ли это, возможно, или она в это верит, или не верит, надо обдумать все, разобраться, только потом
полило изо рта, из желудка
сколько времени назад я поел, после
и еще онемение, под челюстью, вверху шеи
наши глаза открыты
35. «мозги у меня имеются»
А в этой секции по лестницам и до самого верха, и там уже другой запах. Гермицид. Я был настороже, тело уже свыклось с напряжением, а сзади звук, шаги безопасности, с которым я был знаком. Я удивлен, думал, его нет, может быть, умер. Вроде кто-то говорил мне, что его взяли, возможно и так, такие слухи, возможно, кто-то мне так шептал. А здесь в этой секции четверо безопасностей и вижу, он тоже. Он меня не узнал. Он расхаживал, сцепив руки, самоуверенная походка, уверенная. Оружия никакого не видно, но как бы без страха, такой он был, определенно, вторгавшийся в мое пространство, как я в его, да, я увидел его осознание. Информацию для меня. Я знал его с дней отбора, его, моего, с отрочества. Если здесь ненависть, то почему. Мы об этом и говорим. Как мы это делаем.
Он продолжал, глядя только вперед, и запах здесь был сильный, сладковатый. Тело у меня ныло, у всех нас. Передо мной женщина споткнулась о ноги мужчины впереди, вцепилась в женщину рядом, бормоча бормоча. Упала, а бормотать не перестала, ни после, когда поднялась на ноги, вцепившись в свою сумку, только на миг глянув в сторону, и я увидел ее глаза, в них что-то было для меня. Я прислушался к ее бормотанию, нет, не молитва, а слов я не различил. Акцент в ее голосе, откуда-то с юга, юго-востока, вполне возможно. Что в этой женщине было, что-то для меня, не мог придумать, и все-таки что-то, это я знал, я видел ее до этого периода, где я видел ее, если видел. Мы же видим лица, а этот запах все заволакивает, сладковатый, густой, так можно и задохнуться, и также другие голоса, несвязный бред, там и дети были. Теперь поток слов от этой женщины, безопасности нас подгоняют, она посматривает, в сторону, где я, нахмурилась, как будто увидев кого, смотрит на меня, но меня не видит, возможно, в себя, как это она выжила, дивясь, что это ей удалось, да, возможно и это. Она снова взглянула на меня, на мое тело. Это правда, что мы видим тела, видим жилы, мускулы там, видим всю силу, есть ли там места послабее и что может ждать в будущем. Вот эта женщина, руки, точно карандаши, несет свою сумку, единственную сумку, и шея у нее тоже тонкая, стебель цветка, танцовщица, форма черепа, голова, лет сорок, я думаю. Она целовала меня, глядя на мое тело, целовала, нащупывала мои гениталии, отходя от меня, глядя в сторону.
Другие услышали бы, внимательные, и тот, с которым я был знаком, опасный человек, это я знал отлично, и знал тоже, что скоро он будет мертвым, в яме с червями. Черви это иногда хорошо. Он познакомился бы с червями, привет, ну как вы тут, познакомился бы с ними.
Что.
Все, да, надеюсь, что так. Я был доволен, да, так, если бы это случилось, все эти жизни, жизненные сроки.
Я вступил в зону его обзора. Когда он взглянул на меня, там было что-то, передача информации. Что это было, чего-то хотел. Что я мог дать ему, если ему можно было дать что-то, что это могло быть.
Такое было время, он не узнал меня. А раз не узнал, значит и не сможет узнать, секрет, созданный им самим.
Это был промежуточный период. Теперь рядом со мной была женщина. Я обнял ее рукой за плечи, как будто она могла упасть. Безопасность следил за этим. Руки сложены сзади, плечи расправлены, ноги стоят вольно, ну вот как бывает «смирно», человек из безопасности, он был и армейским человеком.
Ничего нельзя сказать. Я говорю это сейчас, как и тогда, да, как тогда, как говорил. Это было в моей памяти, я убил его. Не знаю. Был ли я с ним знаком с детства, с младенчества, это да. Был ли он заплечным, он был.
Что значит правосудие
Некоторых вталкивали сюда безопасности, они у двери, и он с другими, нет, без злобы, рассеянно. Теперь он отходил от них, в нем чувствовалась уверенность, как это, с важным видом, и смотрит на женщину-танцовщицу, она была рядом со мной и все бормотала, когда мы входили, теперь она цеплялась за мою одежду, не мог оторвать ее руку, попытался, но она ост amp;чась со мной и бормочет бормочет, может скоро буйствовать станет, безопасности ее успокоят, они такие, умеют, они умеют установить тишину. Тут из дверей другая женщина. Она огляделась, туда, сюда, поискала к кому подойти и теперь освобождала место. Это она для меня, чтобы я мог сесть рядом с ней. Я на нее не глядел, но она увидела, что я понял, и ждала. Крупная такая. Я огляделся, где женщина-танцовщица, где-то сидит. Крупная женщина расчистила место рядом с собой, я больше не мог откладывать, ну и так, сел рядом с ней. Проходили мгновения. Крупная женщина опустила свою ладонь на мою, сжала, подняла ее, оглядела. Я подобрал колени повыше, положил на них голову. Потом насупила ночь, она легла на бок, у нее было одеяло, натянула его на себя и после еще приподняла, больше места, и придвинулась близко ко мне, так что я лег с ней, на нее, моя грудь на ее груди, она откинулась назад, чтобы мы отдохнули, вот так, и накрыла меня, руки на мне, сзади, и я возбудился, поднял ее юбку и расстегнул брюки, протискивая пенис между ее бедер, она оседала, втягивала его, и я мог двигаться в ней, ее плоть облегала меня, подергивая, и у меня произошло извержение, мои пальцы цеплялись в нее. Я остался в ней и заснул.
Когда я проснулся, там была женщина-танцовщица, недалеко от нас, лицо ее ничего не выражало. С ней две старухи. И другие тоже. Скоро пришли двое безопасностей, это они за ней, за танцовщицей. Один взял ее за руку, повел. Она была покорна. Безопасность, которого я знал с детства, возвратился к двери, но теперь последовал за теми двумя, которые забрали танцовщицу. Я помню, как его отец много месяцев назад жил в одной секции, как он посматривал на других, ужас, подозрительность, что они думали, те, о нем, про него, про его отца, все посматривал туда, сюда, может мы заглядываем ему в голову, что там внутри, мысли о нем. Он знал о моем раннем знакомстве с сыном, но отметал его, как незначащее. Сначала он со мной заговорил, но очень скоро замолк, и я понял, что разговор о его прежнем участке привел мысли о сыне, который теперь был известен особой жестокостью, судороги в его голове, я это видел, что его сын стал заплечным мастером, как бы отбросить эти мысли, но он не мог, они все лезли и лезли, пока он им не подчинился, я видел, да, он был испуган, но видел также, что он торжествует, вон ведь какое к нему уважение. Конечно. Как им не уважать, его сын великий мясник, смотрит на всех, прикидывает вес, отца увидит и тоже вес прикинет, ничего не сможет с собой поделать, у этого кожа грубовата, но мясо под ней есть, мясо это всего только узловатые мышцы.
Что случилось с отцом. Я уже много месяцев не был в той секции.
Я знал, что безопасность глядит на меня. И гадал, заметил ли он меня, осознал ли, конечно, что я человеческое существо. Свету там было мало, но я это знал. И что теперь со мной, что предстоит. Извращенные мозги этих людей теперь у нас в головах. Дети учатся ненавидеть. Мальчики обретают ответственность, но знак ее – степень этой ненависти. Они становятся способными на все большее насилие, на пытки. Мера ответственности подростка это те пытки, которые он способен довести до конца. И если говорить о пытке, чем она может быть. Мозги не могут кричать. Мозги у меня имеются. Я только киваю. Я знаю, что могут сделать эти люди. Женщина-танцовщица вернулась, вошла в нашу комнату, старухи подвинулись, освобождая ей место, она смотрела лишь в пол у своих ног, ни влево, ни вправо, пока опускалась, садясь. Я знал, что крупная женщина тоже вглядывается, что поймет, я не сплю.
36. «у нас свои позиции»
Что за девушка со мной? Она со мной не делила. Мою постель. Я так и сказал. Она больше не делила со мной постель. Не знаю, почему. Она
Она женщина, он мужчина, я он, он мужчина, не женщина, мы отличаемся друг от друга. Я не знаю. Да. Как интимные, продолжались. Делилась доверенностью, своими секретами. Моими не моими, секретами делиться непросто. Она шепталась со мной попозже вечером. Я смотрел, как она смеется. Это было в ту ночь, я с другими ушел из комнаты. Она тогда смеялась, да. Заграничный журналист увидел, что я ухожу, и пошел за мной. Ты не то, что разные прочие, сказал он.
Это почему? сказал я.
Ты сам по себе, сказал он, отдельная личность.
Я иногда не могу припомнить. Я тогда остановился с ним. Почему он так со мной говорит? Я сказал, Ты дурак? Очень на то похоже.
Но он имел уверенность. Он улыбнулся мне. Я мог бы убить его тогда, мог бы убить, пришлось от него отвернуться, я не сумел этого скрыть. Я думал сказать ему прямо, как я научился. Да, был научен, он так говорил. Но тогда он мог бы использовать это, потому что он такого и ждал, это ему и было нужно. Да, он подстрекал, это было его подстрекательство. Друг, сказал он, и я опять повернулся к нему, рассмеялся ему в лицо, Это я твой друг?
Да, сказал он.
Нет.
Но я же тебе друг.
Ты мне не друг.
Я мог бы стать тебе другом, если бы можно.
Ты дурак, что так несправедливо относишься к нам. Ты не понимаешь, не можешь, и не научишься. Вот ты.
Да, он был дураком и я мог убить его. Но о чем эти показания? Я могу официально доложить обо всем. Скажите мне? Какие требуются детали? Если мне известны, я могу об этом сказать, я заявляю только правду.
Что еще, что там еще было?
Не сейчас, не для меня, для нас, говоря о нас, обо всех нас, или наших.
Другая девушка тоже, могу и о ней рассказать. Сзади меня шел разговор, включая трех безопасностей совместно с другим, заграничный журналист тоже присутствовал. Разговор свернул на женщин, и один из трех, который говорил шепотом, был наиболее убедительным. И это удивляло других слушателей, нас снаружи той группы. Он сказал, что каждый раз, как смотрит в зеркало и видит себя, у него сразу встает, и повторил это с жестом, сделав жест. Не секретно, но чтобы все вокруг видели.
Трое безопасностей хохотали, хлопали его по плечу, отличный малый. Заграничный журналист тоже. Он был там, но отодвинулся, чтобы показать расстояние от них. Для нас. Я так это понимаю. Он не стыдился. Ему требовалось отделиться, их от себя, но не из стыда. Я так не думаю. И при этом для нас, чтобы мы приняли его во внимание, отметили, как объект большей предосторожности.
Те безопасности относились к нему не так. Он был одним из них. Возможно, не из них, но и не из нас, это определенно.
Место было ограничено и всем оставалось только слушать, и их жесты. Конечно, женщинам, детям, также старухам. Всем. Да, высокомерие, что они продолжали, но в какой форме, что за форма у этого высокомерия, наверняка в гаком высокомерии есть ирония? Это было не обычное высокомерие безопасностей или мужчин, я видел и другие формы. Что это было, может что-то еще, я не знаю.
Происходили те самые ужасные вещи, жуткие инциденты. Они случались, это совершенно определенно. Все мы знали о них. Я и сам был намечен, да, остерегался
Я могу рассказать о снах, о предчувствиях. Он снился мне, как будто старый знакомый, тот, что говорил шепотом, я могу опознать его, потому что мы там стали друзья, да коллегами, во сне. Теперь-то он мертв, тогда нет. Была близость или привязанность, из которой возникали явственные расхождения. Чтобы не задерживаться на этой старой истории, мы расходились во взглядах, а это привело к борьбе между нами, к продолжительной войне. Те, кто знал нас, удивлялись, что мы так воюем. Да мне и самому надоело. И наше знакомство прервалось. Я слышал истории про него. Не дружба, знакомство, я так и сказал.
Сон, это только сон. Кое-кто думал, я все хочу знать, они мне и рассказывали. Была одна девушка, и другие тоже, женщины, старухи, нет, мальчиков, по-моему, не было. Но во мне была любознательность, ожидание дурных новостей. Мне не сообщали этих сведений, мне. Нам, никому из нас.
Заграничный журналист заговорил. Спросил, могу ли я его успокоить. Да, я бы его успокоил, уж я бы успокоил.
Вот так все и было.
Я мог бы его успокоить. Насчет других не знаю. У него были коллеги, я не знаю, друзья, и тоже с ранних времен его браться, я знаю, у него были, двое или трое. Здесь, в нашей секции, он ни с кем не разговаривал, думаю, только со мной.
Я не могу сказать, что он говорил.
Это были сны. Потом и он тоже умер. Меня удивило. Просто мне так сказали. Я не имел с ним встреч, наше знакомство прервалось.
Заграничный журналист сказал мне, Как это могло случиться, что он умер? Ведь такие размолвки всегда улаживаются, как же он мог умереть прежде этого.
Я сказал, Прежде чего.
Заграничный журналист уставился на меня. Что ты такое говоришь, это же преждевременно, его смерть преждевременна, почему так?
Заграничный журналист считал меня вруном. Почему? У него не было никаких оснований. Он думал, что я врал ему уже долгий период времени. Я отрицал ему это. Говорил ему, что его мнение обо мне не было бы таким высоким, если бы я мог так просто ему наврать, если он обо мне так думает. Разве что он был не такой уж и сообразительный человек. Люди так говорили. Но как это может быть? Ведь это конечно невозможно? Он был ожесточен, я говорил ему это. Некоторые гадали о его родных, что с ними случилось. Я нет. Я задавался вопросом о том, который говорил шепотом, и как заграничный журналист думал отойти от него и от товарищей, возможно ли это? Я считаю, что нет. Он думал сохранить дистанцию от них, пока в их компании, в компании также и нашей, думая, что мы можем поверить ему. Старухи и мужчины, дети, мальчики и девочки, все, кто могли присутствовать.
Не могу поверить в такое высокомерие. Кто тут дурак? Я сказал ему это. Его смерть преждевременна. Нет, не могу поверить в такое высокомерие
Конечно, у нас свои позиции и мы спорим за них. Пусть меня даже не спрашивают, я могу это сказать и скажу. Что мы еще должны делать. Я научился этому, как и все мы. Из нашей политики, нашей философии, мы научились, некоторые, что нас нарочно учили, так они говоря. Некоторые из нас сохранили веру в бога и продолжают сохранять эту веру, думаю так. Если приходится убивать людей, мы ищем разумные основания. Кто же не ищет. Что значит искать разумные основания? Ну, может быть, знать сущность проекта. Мы узнаем сущность проекта. Да, жертвы случаются. Конечно. Мы принимаем это, как и они сами, их родственники и расширенные семьи. Может когда мертвы, тогда уже не принимают, я же не слабоумный. Когда заграничный журналист был с нами, он пытался поговорить с некоторыми из нас о вопросах, засекреченных вопросах. Думал так и со мной поговорить. Ему объясняли, что он бесцеремонен и дерзок, так объясняли другие.
Некоторые, некоторые так объясняли. Я это слышал. Он думал быть дерзким.
У меня мнения нет.
Нет мнения. Я его видел, я его слышал. Со мной он не разговаривал. Не полностью. Конечно, болтовня тоже разговор. Он не ценил меня, таких, как я. Ему требовалась сердцевина, проникнуть в сердцевину, вот он и искал похода через меня, через таких, как я
Я рассказываю это, как могу. Сообщаю мои собственные мысли об этом, очередности не существует, задуманной так, ее нет, у нас свои позиции, но не такие, чтобы они задумались/задумывались.
Да.
Заграничный журналист полагал, мы все верим во что-то, он говорил «вероисповедание». Я слышал, другие тоже так говорили, «вероисповедание». Что еще за «вероисповедание»? Марсианское, что ли, потому что я и об этом слышал. Слышал, как другие говорили, что они марсиане. Когда заграничный журналист думал, что у нас у всех вероисповедание, наши коллеги ему не отвечали, но некоторые корчили друг другу смешные рожи, как между среди своих. Некоторые смеялись. Привет, товарищ-коллега, прибывший с планеты Марс. Я нет. Я был моложе. Да, раздраженнее. Чем кто? Кого? Кто. Кто же еще? Он сказал мне, Друг
Друг. Я бы его придушил, оружия у меня не было.
Ты подставной, сказал он.
Я подставной. А ты дурак.
Таков он был, заграничный журналист. Я говорил о нем, сейчас тоже. А теперь другой человек, его коллега, я должен рассказать о нем и только о нем. Правда, я его не знаю, только во снах, образы будущих событий. Я сказал, коллега, может он был и не коллега, но я думаю, был. Я не саркастичен.
Так о ком же, о ком должен я рассказывать, если я его не знаю, его самого
Я сказал, раздраженнее, я и был раздраженнее, я так и говорю.
Раздраженнее, чем кто?
Я, раздраженнее, раздраженнее, чем я. Да, оба, я и он, я и любой другой.
Я сохранил ту раздраженность, да, я и сейчас раздражен, эти вопросы лезут мне в мозг и оцепеняют, оцепеняют меня, я не могу думать об этом, думать о том, о чем я думаю
Презирал ли я смех. Я презирал журналиста. Потому что он презирал нас. Я не смеялся. Коллега, друг, тот смеялся. Я презирал это, смех. Я не посмеивался, не смеялся. За многие месяцы, да, это забавно, я забавлялся. Все люди забавные. И заграничный журналист был забавный. Теперь он мертвый. Да или что? Я не знаю. Может уже воскрес. Это я пошутил. К религии я питаю отвращение. Детство у меня было такое, вера в бога, в богов и пророков и дьяволов, и как мы воскреснем, когда умрем, мы не будем мертвые, мы вновь оживем во всей славе нашей, причисленные, как не убийцы, к лику святых, мы появимся в окнах, в витражах великих художников, и мы также дети матери, божьих матерей, верующие в богов и в матерей, у нас есть мать, и у бога тоже.
Важные персоны, они тоже боги. Боги ли, я не знаю. Есть еще бесы.
Все эти вещи забавны. Или не очень.
У некоторых тоже есть эти позиции. Я не религиозен, сейчас нет, но и тогда тоже нет. Я сказал, что было. Люди говорят, что они не веруют, а во что они не веруют-то. Что мы должны думать? Существует истина, ложно изложенная.
То были не его люди. Они его не приняли. Он хотел, что они смогут, но нет, не смогли
«бог», всемогущее существо, и сын его, и другие пророки, святые люди
Что? Что я должен сказать
если я должен сказать, то что
37. «такой тайный заговор»
Раньше я не был таким раздраженным. Я размышлял над этим. Возможно, это такое последствие, ретроградное движение, во мне, регрессивное, возможно и так. Перед другими я должен оставаться спокойным. Мы же наблюдали один за другим. Такое было наше обыкновение. Кто тут мог возражать. Так было положено. Мы выискивали тех, кому нельзя доверять. Мужчина, с которым я делился, признавал это с улыбкой, поднимая руки, как будто сдаваясь. Да, ты мне не доверяешь, но ты же признаешь, это не по личным мотивам. И я это признаю.
Иногда теперь эти мотивы становятся ясными. Я мог бы сопротивляться тем мыслям, представлениям в целом, реальности, о том, как это было. Это было. Было сделано мной намеренно. Это был тайный заговор. Тут нечего отрицать. И этот момент так поразителен, так бросается в глаза, да, что у меня волосы дыбом встают. Что они делали, сделал ли они то, что могло меня изменить. Они отказались. О чем это мне сигнализировало. Их замысел состоял в том, чтобы скрыть реальность. Это детали, которые очевидны. Те люди думали временами невежественно, преходящие вещи, согласованность несогласованность, они переменялись так, чтобы встать по своим местам.
Так и случилось. Другие не уразумели. Пришлось мне их информировать. Я должен был информировать их о реальности, какая она, реальность! Да, вот это реальность. Должен был говорить им прямо, но в обдуманных выражениях, чтобы они не расстроились, объяснить им ситуацию. Я знал, они бы не услышали, что я говорю. Я говорил бы им, а они ничего бы не слышали. Почему это так, они же не глухие, а то что я говорил, никто не слышал, они же не страдают от ухудшения. Внесловесная передача информации, людьми, существа мы человеческие. Основные принципы человечества.
Я не верю в разобщение между формами понимания, не верю я в это.
Эти и другие вещи я говорил им, я также, как часть их, говорил нам. Мне хотелось заткнуть уши, завопить внутри моей головы.
Я понимаю, заговор, насчет молчания, умолчаний. Это правда, вне всяких сомнений. Где существует потенциальное разобщение, где оно недопустимо.
Я сердился на эти мысли, потому что они были не моими мыслями, но мыслями, которых другие держались обо мне, создавая таким образом для меня ситуацию, такую, которая должна быть нестерпимой, так со мной и было. Я никогда не мог в этом признаться, не перед другими. И им это было известно, известно этим другим. Следовательно, вот почему они пересказывали мне историю.
Они пересказывали мне историю. И я мог бы им пересказать. Кто бы не смог.
Я уже объяснил, в чем состояло дело, это же очевидно, что это есть предпосылка, с которой мы начинаем, как люди, человеческие особи, члены этого семейства, создавая себя, как вид, на основе таких концепций, как эти, материальных концепций, я бы сказал, начиная с фактической основы, мы, следовательно, устанавливаем любовь одного к другому, признание, да, что мы тоже существуем, мы тоже просто-напросто то, что выживает, да, а чем еще можем быть, другим, чем это.
Но эти устаревшие формы их не интересуют. Они посчитали меня наивным. Я согласен, так можно сказать, такой я наивный. Формы отрицания не представляют для меня интереса.
Угрозы я не чувствую. Возможно, я под угрозой, и что тогда. Если ко мне есть вопросы, прошу.
38. «мысль»
Но это тогда, в то время, меня устраивало, и как продвигается мой ум, я внутренне улыбался, думая, это мой мозг. Когда те люди смотрели на меня, это означало, что я должен соблюдать осторожность, улыбка может выйти наружу, а глаза же следят за всеми такими знаками, думая, что их не заметят, что тут можно заметить. Что, они окружают меня. Всегда. И делают разное, такие вещи
тело есть тело. Я не женщина. Собственное мое тело
У него не было ладони. Я об этом много не спрашивал. Мы не разговаривали. Так можно и заразиться. Безопасности так считают
Они следят за такими знаками. Глаза могут сигнализировать, один раз моргнул – нападение, два раза
Что два раза
это все сарказм, он сказал, что лишился руки из-за сарказма. Так он мне сказал. У меня нет ладони, они ее отняли, отрезали вот отсюда, смотри, и показывает запястье, культю, конец руки, там кожа подтянута так, и они увели его в комнату. И я услышал, он спрашивает, Где моя рука.
Следовало что-то сказать. Если мне придется говорить с ними, я могу ничего не сказать, так им и скажу, ничего
а что это такое? ничего
если они повреждают тела, чем это может кончиться, если им хватит терпения
нет, ничего
если ему отняли руку, так у людей отнимают и большее, отнимали, есть все изрезанные, а у этого человека просто отрубили, отняли ладонь от руки, это ничего
39. «порицание не исключение»
Я снова навлек на себя подозрения. Еще до этих последних дней я заметил, что между мной и коллегами растет расстояние, коллегами, которые были моими коллегами. И женщина, которую я тоже знал так хорошо, она должна была возглавить это расследование. Как я собрал такие сведения? Так и собрал. Возможно, посредством умозаключений. Возможно, я не помню. Я не саркастичен. Утомлен, да. Но так же и подставной, он бы и про себя мог такое заметить. Это часто приводит к молчанию. Ты входишь в комнату, и разговоры прерываются, и видишь тоже, что они не встречаются с тобой взглядами, не могут. Так было и со мной, на других расследованиях, с которыми я был знаком, и я знал, что меня ждет. Как и подставной мог тоже знать, да только он не понимал, что это все было из-за меня, что он подставной, этого он не знал. Если человек подставной и об этом должна быть информация, то это нужно потом, а если она появится прежде, то не получится, конечно, информация должна поступать потом.
Итак, в этот вечер, про который я рассказываю, как бы я его назвал, «следствие», не расследование. Я вошел в дом и по лестницам наверх, в комнату, где стояли койки, и та, которую мне отделили, и обнаружил там в ожидании, ждущими, дюжину коллег, включая тех трех, которые разделяли со мной эту комнату, мы вчетвером. А мог бы я сдержать мой гнев. Да. Однако чем он был, мой гнев. Я знал и не знал, правда ли это было гневом. Я промолчал, поздоровался с индивидуальностями знаком, подошел к моей койке и сел. Да, никто на меня не смотрел, как будто эта реальность находилась где-то еще. Миновали минуты. Потом пришел подставной. Я увидел, что он отодвинулся от нас, как бы внутрь себя, в свои эмоции. Да, и я тоже, один из этого комитета, так он считал. Мы не были друзьями, только знакомыми, да, он не испытывал недостатка в уважении, не от меня. Он был не сильный, как некоторые индивидуальные люди среди нас, при наших обязанностях.
Это был процесс. Что за процесс. Да.
Я считал это спектаклем, мне было все равно. Это из-за внушения, которое в нас внедрено, что доверять нельзя никому, это мы сами себе так внушили. Но это был процесс. Доверять ему было нельзя. Я больше не доверял. Здесь имелись элементы. Уважать их никто не мог, я и не уважал. Это была драма, которую мы с удовольствием посмотрели бы в театре, в кино. А мы артисты и певцы, может быть, даже танцоры. Нет. Я следил за лицом подставного. Он сражался за свою жизнь. Это была борьба, причем наша борьба, борьба за борьбой. А в нем был вызов. Во мне тоже, но что я был сильнее, думал, что я наверное так, или знание, что я выше, чем он, сильнее, чем он, потому что я отвечал за прием сведений. Я знал ситуацию правдиво, а он нет, и это давало мне теперь силу для наших коллег, для женщины, которая приняла председательство комитета, той самой женщины, что была близка, она была, я она.
Она ничем не показала истинной ситуации, а вместо, оглядев всех, махнула подставному и сказала ему, Сейчас мы будем задавать вопросы.
Тогда я хоть пойму, что говорить, сказал подставной, а чего не говорить.
Ты должен говорить, сказала наша коллега, мы с тобой уже беседовали.
Ты со мной беседовала, ну и что? Я не напрашивался на эту беседу, какая тут обязанность, у меня ее нет. Время уже позднее, а надо работу делать. Ты говоришь, что знаешь мою позицию, значит в дальнейших разговорах необходимости нет, да, что следует сделать, ты это и делай, у тебя власть, верхняя власть.
Мы не в такой позиции, сказала она.
Здесь в группе.
Здесь в группе, да. Она обвела рукой, включая всех, и при этом не исключая самого подставного. Но я смотрел, включит ли и меня, и если включила, я этого не увидел. Я мог бы улыбнуться. Возможно и улыбнулся.
Подставной уставился на нее.
Она сказала ему, Да, ты тоже включен, поскольку это остаемся мы сами, все мы здесь наши, так и остается. Ты говоришь, что мы слышали о твоей позиции и этих обстоятельствах. А я говорю, что слышала, как ты разговаривал сам с собой. Рассказывая что-то, как неправильны твои обстоятельства. Я не имела такого намерения. Ты говорил мысли вслух, я присутствовала. Наши умы размышляют, так мы приходим к решениям. Ты был погружен в этот процесс.
Какой процесс?
Мыслительный процесс, сказала наша коллега.
Другой присутствующий посмотрел на меня, как будто в подтверждение, и улыбнулся, да, мне. Я тоже в заговоре, нет, я так не думаю, нет, мне это безразлично, так что я ему не ответил, только встал на колени на моей койке у стены. Да, и наша коллега, которая была мне когда-то товарищем, тоже меня не интересовала.
Я думал, что это прошло между нами, что между нами бъшо, мужчина и женщина, больше уже нет. Конечно, эти сны о ней, они мне снились. Из меня это ушло. Теперь я слышал, как она повторяет другим свою шутку, какой процесс мыслительный процесс, и думал, как она мне безразлична. Она сказала ему, Ты полагаешь, что избавился от вины, точно установив ее сущность.
Подставной сказал, Да, это так, а что, вы меня теперь знаете.
Мы тебя знаем.
На мне вины нет.
На тебе есть вина, при этой работе, которую мы делаем, на ком же ее нет.
На мне вины нет, работа необходима. Это процесс очищения. Всегда есть движение, если присутствуют люди, уже всегда, всегда в движении, и это определяет для нас. На мне вины нет. Никакой.
Это известно всем? сказал я.
Подставной взглянул на меня, удивленный, встревоженность в нем. Другие стали смотреть на меня с более полным вниманием.
Я сказал, Объясни мне, откуда это известно коллегам.
Пожилой коллега у дверей, куривший сигарету, поднял руку и воскликнул, Откуда нам это известно?
Подставной сказал нашей коллеге, Разве всем можно вмешиваться?
Это не допрос, сказала наша коллега, кивая старшему.
Подставной сказал, Я должен ему ответить?
А почему ему не ответить?
Подставной посмотрел на меня.
Я сказал, Почему ты смотришь на меня?
Подставной сказал, На кого же другого, как не на тебя. Не на всякого же. Ты ведь говорил, как коллеги станут судить о нашей работе, и что она необходима, сама работа необходима, процесс очищения. Но как им это становится известно, по твоим словам, как они это делают? Я стараюсь делать, как ты, я ты. Я тоже стараюсь.
Я не использовал слова «судить», это не то слово, я его не использовал.
Подставной изумился. Теперь я увидел в его глазах, что-то такое. Лукавство, возможно, а кто бы тут не лукавил. Конечно, взглянул на нашу коллегу, потом на меня, не так встревоженно. Она сказала ему, Наши люди обладают опытом. И потому могут судить или нет, как ты говоришь. Но в чем тут дело, это слово «судить», почему ты так забеспокоился?
Я не забеспокоился. Подставной, глядя на меня, пожал плечами
Ты опасаешься судить и тем самым судишь – осуждая тех, кто судит.
Нет, сказал подставной, однако теперь он нахмурился, и после нескольких мгновений уставился на меня, начиная понимать ситуацию.
А наша коллега сказала, Если так, что ты не станешь судить, тогда это попытка сгрузить с себя наше бремя, перевалить его на других. А у них и свое бремя есть, это будет добавочным.
Да, сказал подставной. Он улыбнулся ей. Это в твоем духе, использовать даже сексуальность, ты женщина, тебе не сложно использовать ее против нас. Ты демонстрируешь свою силу, личную силу, но сила, которой ты обладаешь, это власть, власть над такими, как я, я он. Ты ее применяешь. Ты говоришь, мы слушаем.
Это уж было глупо. Я сказал нашей коллеге, Ты пытаешься меня спровоцировать. Этот человек глуп, если он подставной, что он должен сделать в отношении меня, использовать его таким манером, значит объяснить, как мы разделяем факторы? Конечно, он мужчина, да, тоже
Но он отец.
Он отец, я отец. Да, я отец.
У твоего ребенка есть мать. Как же я могу спровоцировать тебя сексуально? Что ты такое говоришь. Я могу воспользоваться властью над тобой? Он говорит, что могу.
Да, прибегнув к силе, сказал я, но она всего лишь репрезентативна, я это знаю, сила может быть репрезентативной, я не забывчив. Как я могу быть забывчивым, это невозможно.
Там была еще одна женщина, и она говорит, У него дочери.
У него одна дочь, сказал подставной, а у меня две. И сыновья, тоже двое.
Наша коллега подняла в его сторону руку. Зачем ты встреваешь? Тут уже не твое дело, больше нет, оно тебя не касается. Это новая ситуация, и ты хорошо это понимаешь.
Подставной перевел взгляд с нашей коллеги на меня.
Тебя подставили, сказал я.
Ты в этом участия не принимаешь, сказала наша коллега.
Я не принимаю участия?
Нет.
Когда меня подставляют?
Если тебя и подставляют, то не ты, ты просто подставной.
Козел отпущения?
Наша коллега отвернулась от него и сказала мне, Это порицание, не исключение. Ты разговариваешь так, словно владеешь какой-то тайной, а это само по себе позиция, как мы уже установили. Определенно позиция, и позиция, которой мы оправдать не можем, не можем, мы и все коллеги, да, с которыми ты знаком, которые тебе доверяли, как доверяла я, все, которые сопутствовали тебе во всех наиболее рискованных случаях, трудных, опасных, где решения должны приниматься быстро, и они никогда не рассуждали, что тебе нельзя доверять, и все-таки, мы не можем оправдать такую позицию.
И потому доверие на меня больше возлагаться не будет?
Это серьезный вопрос, отнесись к нему серьезно, если он затрагивает доверие, ничего серьезнее быть не может
Я чувствую себя оскорбленным.
Да.
Если дело в чем-то другом, в чем.
Ни в чем другом.
Я посмотрел на других. И сказал, Такие вопросы обсуждаются во время ночных совещаний, теоретически.
Наша коллега улыбнулась. Теоретически.
Да.
Однако приводились аргументы, и я их приводила, тебе тоже, что никакой тайны нет, да тайны и быть не может, разве только придуманная. Я аргументировала, что такие, как мы, все мы, я ты, все другие коллеги, никогда не должны занимать такую позицию. Я приводила их последовательно.
Как и я приводил аргументы.
Да.
Да? Может меня обвиняют в противоположном, нет, не так, может признали виновным по такому пункту, который я выдвигал против других, считал других такими виновными. Другие мои коллеги должны признать это и согласиться.
Пожилой человек, который стоял на задах, у двери, окликнул меня, Ты ожесточен.
Я ожесточен. Это чем же я ожесточен. С нами случалось всякое и со мной случалось, давайте уж я и за это отвечу, видите, у нас нет ни вина, ни сигарет.
У меня сигареты есть, сказал пожилой.
Пусть говорит, сказала наша коллега.
Я не Бог, сказал я. Если я нахожусь в этом месте и случается такая вещь, не вините меня за нее, это бесцельно, не я произвел ее на свет. Пыль у меня в еде, так может обвинить меня в том, что дождь не идет, и если эти индивидуальные люди здесь, как и я, так они здесь не от меня, я их не приглашал. Я не понимаю, зачем все это может быть необходимо
Ты тут командуешь, сказала наша коллега.
Меня исключили.
Ты так думаешь? Нравственные вопросы они также и личные. Что?
Я ничего не говорю.
Ты посмотрел на меня.
Я посмотрел на тебя, да, ты рассуждала, а я на тебя смотрел.
И ничего не говоришь.
Это операция, а сейчас у нас разбирательство, что я должен сказать, если ты тут командуешь. Мы разделяли и более трудные ситуации.
Да, как и другие в этой комнате.
А теперь это против меня, да, может я сделал что-то, что, и никто не может сказать, а если никто не может сказать, к чему все это, заслужено ли это разбирательство, разве к этим разбирательствам привела ситуация, нет, я так не думаю, никакой ситуации нет, я не командовал, это не ошибка, а если командовал, так объясните мне, но никто ничего объяснить не может, значит дело не в этом. Да, я могу почувствовать ожесточение. И раздражение.
Гнев, сказала наша коллега.
Гнев. Да.
Он неуместен.
Может и неуместен, нет, я так не думаю. Когда мои мысли здесь, как сейчас, я осознаю себя, также физически, но избавиться сам от себя не могу, это невозможно. Я чувствую гнев, он оправдан, к чему он может привести, в такое время дня, от такого, как я.
Но не подобным образом, сказала она.
Подобным образом. Если у тебя больше опыта, скажи.
Больше, сказала она.
Люди умирают молодыми, совсем. Мы не производим оценок.
Некоторые производят.
Некоторые не способны принять установленный факт.
Так ты установил факт? сказала она.
Некоторые не способны его принять. Я думал объяснить его. Тебе тоже. Мы говорили об этом, говорили вдвоем, делали это множество раз, делясь.
Да.
Но я сразу же слышал отрицание.
Это дела давние.
Давние?
А какими еще они могут быть, никакими.
И это ты мне так говоришь? Как будто был выбор.
Как будто был выбор, сказала она, но только его не было. Она повела рукой по всем, кто там находился, в комнате. Это всего только порицание.
Я не могу с тобой разговаривать.
Теперь ты разгневался.
Ты хотела руководить мной, и я с тобой поссорился.
Сколько в тебе враждебности. Я видела, как ты плюнул. Наше присутствие тебе до того неприятно, что когда ты вошел сюда и увидел, что мы здесь, ожидаем тебя, ты плюнул, я видела.
Может и плюнул. Я видела.
У меня во рту пересохло, только и всего, плюнул, я не понимаю тебя, о чем это сигнализирует, ни о чем. Я должен сказать, и теперь скажу и буду говорить о моей позиции, если вам нужно знать мою позицию насчет этого моего порицания, так оно для меня не важно, могу сказать больше и сейчас скажу. Ты все это подстроила
Женщина сбоку комнаты подняла руку, воскликнула, Мы ничего тебе не подстраивали.
Да, подстроили, для меня, мое порицание, когда? каждый из вас, один с другим? говоря обо мне, когда? когда меня не было здесь, когда я спал, выполнял обязанности? когда, когда вы все сговорились?
Подстроили для тебя, что ты хочешь сказать, это оскорбление.
Вы встречались друг с другом.
Что он имеет в виду? спросила женщина.
Вы заранее обсудили вопросы обо мне, вы обсуждали эти вопросы.
Конечно, сказала наша коллега, эта позиция – твоя позиция.
Мы слышали, как ты это говорил, сказал от двери пожилой.
Что говорил.
То. Что у тебя нет позиции, но если ты ее заимеешь, она будет не нашей.
Это чушь.
Это не чушь, сказал другой человек, мы это слышали.
Вы меня слышали, да, вы все меня слышали. Отлично. Вы задаете вопросы, на них следует отвечать. Я бессилен не отвечать, я не немой, поэтому я говорю, но и не более.
Порицание не исключение, сказала другая женщина, ты слишком разгневан.
Я разгневан.
Слишком разгневан.
Мне теперь больше не доверяют, порицание не исключение, но оно ведет к исключению, которое может быть и добровольным.
Тут я и увидел, как они заерзали, один человек, другой, один закурил сигарету, другой наклонился поговорить с другим, а дальше, сзади, я увидел подставного, он передвинулся к выходу, стоял около пожилого, который шептал ему, так чтобы не было слышно, не мной, а после наша коллега подошла к ним, подставной выступил наружу, и она следом, она следом за ним. Было ли что-то еще, да, конечно
40. «бесы, набросились»
Совсем не важно, как мало мы ценим этот сектор планеты, наш сектор, важно, что мы предпочитаем оставаться в нем, что он нам известен. Мы возвращаемся туда, где были, пытаясь извлечь выгоду из того, через что прошли, как будто владение прежним опытом образует решающий фактор. Я хочу сказать, что бесы одолевали меня, и сказать также, что я знал этих бесов и раньше. Я игнорировал их, но они прорывались сквозь линии моей обороны. Я слышал их шепот, напор их речей. Он был назойлив. Бесы злорадствовали, так это казалось, и при том все напирали. Я подходил, бывало, к окну и из окна, выглядывал из окна, используя всю мою решимость, и все-таки, я только и видел, что их плотную спираль. Я смотрел, и глаза мои переплывали снизу до верху, пока вся их орда не становилась незримой. Закат? Тридцать минут, ровно. Чем больше я вглядывался в спираль, другой фактор становился все более ясным, что несколько тысяч бесов не поднимаются, но летят зигзагообразными сферами. Целые зоны воздуха принадлежали им. Ни единая птица не залетала туда, маленькая птичка, ни разу.
Так что да, никогда, это тогда был мой сектор.
И теперь у меня в мыслях то, что касается только меня, что я никогда не был равным, никогда старшим молодых, старшим среди молодых, этим я никогда не был.
Я мог быть лишь равным.
Но я всегда был моложе, когда молодым.
И все же мне стоило стать постарше. Я бы и мог, с легкостью, если бы так допустимо. Женщин и мужчин, всех вместе. Я видел детей и учился у них. Это было необходимо. Верно, я нарочно ушел. Верно, я это сделал. Я видел, как для всех для них
и когда они злятся и бросаются на друзей, так это потому, что не соблюдены правила игры. Они злились, когда кто-то другой нарушал эти правила. Может быть и напрасно, правила все равно не известны [неизвестны], может и так. Больше того, знание этих правил сообща до нас не дошло. Нет необходимости говорить, но также и требуется сказать, что эти правила и не записаны, и не обсуждаются загодя. Дети могут начать игру, и у них уже знание этих правил. Это правда, один ребенок может изводить других. Тут нечего отрицать, как другие родители-взрослые, я был готов, как и они. Но также, как мы видим, они становятся преступниками, это тоже тогда было важно. Теперь уж не важно. Не для меня. Я насчет таких вещей не волнуюсь. Дети тоже в отказе. Да, они это могут.
Я теперь у себя в уме верю только в один этот фактор, порождаемый стаей. Стаей. Еще и спиральной. Это могу утверждать окончательно. Эти бесы меня не пожрут. Я сам могу их сожрать.
Я знал, мы непременно станем преступниками. Родители подготовили нас. Мужчины, но и не только мужчины. Из таких феноменов мы делаем выводы касательно нашего собственного поведения, окказиональные заключения. Я мог бы стать старше, стал бы таким, этого не избежать, как думали некоторые.
Да, трусы, те, кто не глядят на реальность. Я говорю, трусы
Женщины и мужчины, все вместе. Мы говорим, дети, а что такое дети, что они делают, разве они не безответственны
Я тогда был слабее. Не физически, работал в каменоломне и в шахтах, пользуясь мускулами, мускулами моего тела, как молодой человек, какой я был.
Теперь они не используются. Наши тела, они теперь не используются. Я говорю это, это и говорю
41. «девочка слишком близко»
Она придвинулась близко ко мне, не прямо к ноге, но близко, так что я чувствовал ее, кровь в моих венах, и взглянул еще, а девочке, должно быть, не больше двенадцати лет, моложе старше, я так подумал. Она мурлыкала песенку. Это было близко к рынку, я хотел купить чаю и воды, в этом ларьке было кофе, другие товары. Дети опасны. Я отступил в сторону, чтобы дать ей пройти, но она только приблизилась ближе, и женщина из ларька, я тут посмотрел на нее, думая разделить уверенность, но она не заметила, что происходит. Это девочка, просто ребенок. Я знал это, понимал, сопротивлялся, не поощрял сексуальные мысли, однако ее присутствие было физическое, ее тело немного касалось, ее нажим, возможно, рука, и побуждение во мне было достаточно реальным.
Я заплатил за чай, за другие приобретенные товары, воду, и оставил эту часть рынка, но девочка быстро пошла за мной и шла быстрее, а затем оказалась впереди, и тогда замедлила, мурлыкая песенку, нет не улыбаясь, погруженность в себя, замыслы, да, какие у нее на себя замыслы, я поглядел в сторону, в другую, назад, вперед, но не чтобы привлечь внимание к себе, а нет ли у нее сообщников, ее родителей. Да, возможно, и старше двенадцати лет, хотя не намного, ножки такие тонкие, детские, и юбка короткая, коротенькая. Я знал, что она теперь замедлилась, чтобы я нагнал ее, повернула голову, оглянулась на меня, и я не мог остановить мои действия, которые делал, глядя в ее глаза, но как это ей удается, что она на меня не смотрит, а только я на нее смотрю, и она припустилась вприпрыжку, быстрее, а потом снова замедлилась, тронула пальцами ногу, отвернув голову вбок.
Я не позволял этого, чтобы это могло случиться, но было ли во мне возбуждение, было, даже затрудняло походку, а вокруг много людей, уже близко к центральной рыночной зоне, зоне, где больше туристов и безопасности, конечно, опасные места и мгновения, конечно, так это и было, я знал это, но не мог понять, что происходит, может начинается что-то большее, эта девочка снова замедлилась, оглянувшись теперь на меня, на ней ли мои глаза, глядела ли она мне в пах, я так воображал, она это делала, не улыбаясь, да, не так, полностью в себе, и потом посмотрела в переднем направлении, и тут я метнулся в сторону, там портал и лестничная площадка, видела ли она меня, не думаю, быстро вошел, насквозь, потом вперед и за угол, и ждал там у стены, и вижу, здесь продавец рядом, их ларек, я не заметил, материи, такие товары, одежда, кисейные ткани, продавец была женщина, две женщины.
Да, они присматривались ко мне, это так. Я пробыл там мгновения, это была колонна из каменных блоков. Я прислонил к ней голову, охлаждая ее, закрыв глаза. Может женщины продавцы следили за мной, может они гадали, что я болен, обморочный, прихожу в себя. Я видел, что выйти отсюда некуда, только вернуться, только пройти в помещения в этом дворе. Что я буду делать, если придет девочка. Может она меня сюда и заманила. Или поджидает с другими, с сообщниками, или с безопасностями, показывая на меня, что я ее преследовал. Что тут скажешь, это было опасно, конечно. Я простоял там, моменты. У меня была сигарета, спички для нее, я выкурил часть. Женщины продавцы утратили интерес, как будто и не имели, теперь у ларька были еще две женщины. Я слушал звуки, торопливую поступь снаружи, и проулок, вдруг они вошли бы сюда, тогда мне придется уносить ноги, быстро.
42. «о возвращениях домой»
но причине его отсутствия, главным образом, благодаря яому. Мне говорили, он умер моложе, чем я теперь сам,»тот коллега. Так что, конечно, не мгновения, больше такие медленные периоды, периоды времени, которые у нас бывают спокойными, мы не можем отрицать, что такие мгновения, как эти, полны покоя, в этой связи, когда его убили, мои мысли
когда она была молодой, еще не женатой на его дедушке, своем любовнике. Так говорил коллега, рассказывая мне о возвращении домой
Любовник, прежний любовник, она встретилась с ним, говоря о своей бабушке. Это было еще до взрыва. Я его больше не видел. Его исчезновение было объявлено.
Я говорил об этом
Что требуется. Я собираюсь рассказать это. Что это такое, чем может быть, что я должен рассказать. Мне больно.
Мое тело сейчас изранено, болит, да. Что я должен теперь сказать, что должны быть за показания, я могу говорить, если я стану рассказывать, вы можете слушать, я расскажу, сейчас расскажу, дайте мне рассказать, я хочу
когда она была молодой
его бабушка, по-моему, мать, мать отца, и прежний любовник, думаю, могла быть жена.
Таковы истории, жизни наших людей, народа
что такое истории
мы должны рассказывать их, я могу их пересказать, послушайте их от меня. От меня в них ничего нет. Только от него. Он сказал, что расскажет мне о своей бабушке, это было в какой-то лачуге, не помню. А что я мог сделать, слушал. Я не хотел слушать. Истории о возвращениях домой. Я не могу их слушать. Один глаз у него был странный, все косил, то туда, то сюда. Такая у него была особая примета. Да, я слушал, пытался. Я еще и измотан был, мы оба. Почему мы не спали. Мы могли бы. Я ему так и сказал, повторял, повторял. Нет, говорил он, засыпать мы не будем.
Он рассказывал о своей бабушке, когда она вернулась в свой участок, то встретила старого друга, возможно, прежнего любовника. Он не был уверен. Прежнего любовника его бабушки.
Так много рассказов о возвращении людей, о имевших место событиях. Эти события лежат в прошлом. И все-таки в будущем, так оно видится в наших умах, за пределами. Они пересказывают старые истории и те все о будущем. Они не понимают, зачем это, что они на это надеются. И это занимает их умы. Опять же, эти картины в том регионе, где мы были, они подстрекали к рассказам, к любым рассказам, свет после сильного дождя, небо становится таким чистым, и ты погружаешься в фантазии, в любые, уходишь. Я и говорю, прекрасные. Что-то, что мне было известно, а откуда – не знаю, все эти вещи из моей жизни, из моего собственного прошлого, собственных историй. Я смотрел на него, видя его лицо и глаза, в них тревога.
Он сказал, Ты почему улыбаешься?
Я улыбался. Думал улыбнуться опять, но не смог. Так, и он продолжал, его история разворачивалась в какой-то лачуге в какой-то деревне или городе, пока он ее рассказывал, в маленьком городке, говоря о своей бабушке. Как такой, где мы были тогда, лачуга в деревне, и ее призраки, да, это приходило ко мне от других старых людей, живших, где мы теперь были, давних людей и их стародавних отношений. Я даже слышал их шум, так это казалось. Там сырость в каменных стенах, старая кирпичная кладка, штукатурка раскрошилась и грибы растут, деревянные балки, белизна. Этот никогда хорошим домом не был. Я не суеверный больше других, не религиозник, но мне эти вещи не нравятся, противоестественные. Я мог бы выразиться и сильнее, бестелесные, говоря о духах. Почему мы там остановились, не знаю. У меня же и карта была, а ничего не увидел. Но он знал эту землю, думал утаить свое знание, приведя меня сюда, в эту деревню, как будто случайно наткнулся на неизвестное. И теперь рассказывает мне истории. Я и сам ему мог истории порассказать. И это место порассказало бы, само по себе. Призраки, давние мгновения, мгновения призраков, повсюду вокруг нас, людей нет, разломанные дома, тишина. Конечно, такие вещи существуют. Тут и спорить не о чем. Бывали времена, я ложусь спать, и они наполняли мне голову. Я мог бы сказать ему, но нет, вместо этого расшнуровал ботинки.
Я прошу тебя послушать, сказал он, только это.
Он протянул, чтобы пожать мне руку, скрепить доверие, хотя какое доверие, чего скреплять
Человеколюбие, человеколюбие. Да, мы человеческие существа, я пожимаю твою руку. Большое спасибо. Да, не животные, мы, ни один из нас. В других случаях он также делал это, глядя не глядя, странный глаз на мне, вдруг потянется, возьмет мою руку, потом разожмет.
Пожалуйста, ты же можешь послушать.
Я измотался, нам надо поспать. Мы должны поспать.
Мы не можем спать.
Я могу первым, ты вторым.
Глаза у него были закрыты. Он не хотел бороться со мной. Мы не можем спать. Но ведь измотанность, измотанность, мы оба из нас. Тут он снова заговорил. Мы не можем спать, и глаза его были открыты, уставились на меня. Мне это не понравилось, оба глаза красные, в черных ободах, засохшая грязь. Я тронул свой подбородок, и там грязь, я ее отковырял. Теперь он схватил меня за запястье, но легко, как отец держит ребенка, успокаивая ребенка, и сказал мне, Я говорю, ты слушаешь. Он опять улыбнулся. Лучше, чем сон. Мои рассказы придадут тебе энергию. Еще успеешь поспать, после.
После поспать. Хорошо. Большое спасибо. Я глянул на его руку, и он снял ее с моего запястья. Сейчас начнется история. Я сел, распрямив плечи, воздух в моих легких, глубоко, вдыхаю его, вдыхаю, кровь должна разогнаться, и я буду сильным. Пока я останусь бодрствовать, а после посплю. Да, сказал он, мы двое, хорошо. Я слушал его, также задаваясь вопросом о нем, мы уже столько дней вместе. Эта история про его бабушку. Я своих бабушек не знал, родителей моих родителей. Я не задавался о них вопросом. Теперь-то да, мысли, что я был произведен ими, и я задаюсь вопросами, кем они могли быть, как они боролись, если боролись как-то, возможно, и никогда. Матери у меня в мыслях не было. Всякой женственности. Нет, ни женственности моей матери, ни о моем отце, об отсутствии в нем. Это верно, что я думал о моей семье, как он поступал. Я думал. Тут ничего поделать нельзя. Отец не господствовал в моих мыслях, но я в тот период думал о нем. В моем детстве его отсутствие господства, физически, в мыслях, никогда. Каким-то образом это мне становится ясно. Мгновения просветления, удлиняющиеся мгновения. Ты не слушаешь, сказал он.
Я слушаю.
Нет, ты не слушаешь. Он уставился на меня. Ну, уставиться я и сам могу, меня его поведение не запугало. Он продолжал смотреть. Меня он запугать не мог. Возвращение домой, сказал я, повести о семье и общине, да, но этот мир теперь сгинул, этот мир мертв.
Не мертв.
Да, мертв, как мертв и мой мир, моей собственной бабушки. Я мог бы рассказать о ней. И о дедушке, о моей матери, об отце, дядьях, я могу рассказать о них обо всех, и о моем сыне, как насчет него, ты о нем не спрашиваешь, послушай истории о нем, он жив, живет и дышит, может быть, маленький ребенок, мы же встречаем детей, как насчет моего сына.
А-а.
А тот мир сгинул.
Нет, ты не слушаешь.
Я слушаю, это ты не
Пожалуйста, сказал он, и снова уставился.
Твой глаз пытается взять меня в плен.
Да. Он улыбнулся. Это волшебный глаз. Мне подарил
его ангел Божий.
Женщина-ангел, дух дамы, ты видел ее?
Он смотрел на меня.
Извини. Уж такое тут место.
Теперь наступило молчание. Он оставался неподвижным и улыбался. Возможно. Может и улыбался, по-моему. Также это было время, когда я узнал о нем, о его смерти.
Стояло молчание. Теперь я с ним заговорил, сказав, что он может продолжать свой рассказ.
Про мою бабушку?
Да, про твою бабушку, расскажи мне, чем она так замечательна, не похожа на других бабушек, такая прекрасная женщина, девяносто девять лет, а все прекрасна.
Прекрасна, да, прекрасная женщина, и тоже у нее был любовник, когда она возвратилась в свой город спустя многие-многие годы
Любовник?
Да, я потому тебе и рассказываю, потому и хочу рассказать о ней, когда она наконец вернулась домой, спустя такие
многие годы.
Любовник твоей бабушки?
Прежний любовник, да, когда она еще не была моей бабушкой, я еще не родился, молодая здоровая женщина.
А-а
Ты опять меня перебиваешь
Нет, я слушаю, слушаю
Да, ты слушаешь и, слушая, отпускаешь замечания, две разные вещи.
Нет, теперь по-другому.
Половые отношения это другое.
Да, молодая здоровая женщина, я внимательно слушаю ее историю, половые отношения
А, так ты еще и смеешься над моей бабушкой.
Я улыбаюсь. Расскажи мне. Сколько ему было лет, этому любовнику
Прежнему любовнику, молодому человеку, тридцать, тридцать пять.
Тридцать пять это не молодой. У меня дедушке было тридцать пять.
Да.
А ей сколько?
Ты не слушаешь,
Я спрашиваю о ее возрасте, про когда ты рассказываешь.
Я же говорил, она была молодая, я так и сказал. А теперь слушай, слушай меня и не перебивай. Пожалуйста.
Я устал
Да, ты это уже говорил.
Это история о возвращении домой. Я знаю такие истории. Вся моя жизнь полна историй о возвращении домой
Твоя жизнь, нет, я так не думаю. Послушай меня, когда бабушка вернулась в свой город, она встретилась со своим прежним любовником. Она не видела его десятки лет, больше. Она возвратилась по воздуху, никого не предупредив.
Конечно, я же и говорил, именно так мы и делаем.
И также ей хотелось увидеть самой всякие вещи, хотелось приехать в город автобусом, с места посадки и после пройтись пешком, по улицам, она хотела побыть среди своих людей, посмотреть, как они теперь в этой новой жизни, особенно люди из ее небольшого участка, из тех мест, стоят еще или нет дома, она бы посмотрела, какие отсутствуют, отсутствующих людей, она их знала, хотела, кто из ее родных, из тех мест, тех времен, когда она была. Понимаешь, я тогда еще не родился
И он продолжал эту свою историю, как у него все началось. В его рассказе было какое-то напряжение, и покорность, мне все это знакомо, он теперь рассказывал, как бабушка шла по своему маленькому городку, вглядываясь в заново сделанный мир. Это были мечты, мечты. Я мог бы закрыть глаза. Мечты мечты мечты. Чья это была история, его отца, матери. У меня тоже была бабушка, своя семья, все их жизни и мысли и их будущее, быть, не быть, как это, как у было него, кем он станет, мечты, мечты. Я мог бы и не слушать его. И спать, так спать, я был измотан, он был измотан, почему не поспать, никого там не будет, никто бы нас не нашел, мы были там в безопасности, в этой лачуге на то время, чего он опасался, нечего было, он всегда опасался, я видел в нем это, волшебный глаз, дай нам поспать, набраться сил.
Что не так?
Все в порядке.
Да, скажи мне.
Я не могу тебя слушать, не могу, мечты, не могу слушать. Мечты и у меня в голове. Я сжился с ними, но они лишь для меня, я не прошу, чтобы ты их разделил, чтобы принял их от меня. Я не хочу слушать про эти мечты, про твои мечты, семейные мечты. Я хочу спать и я должен поспать, ты будешь сторожить, а я спать
Что не так?
Я не могу тебя слушать. Мечты о возвращении домой, не могу слушать. Ты хочешь вернуться назад, а никакого возвращения нет, оно невозможно, не существует, мир мечтаний. Живи в этом мире, который реален, где мы сейчас среди этих обломков, разрушенных домов, разрушенных жизней и мечтаний о жизни, среди детских смертей и убийств детей, живи в этом мире, это и есть почему мы сейчас существуем, продолжаем существовать, отплевываясь, отплевываясь, вот почему, не ради мечтаний, жизней, какими они были когда-то, как насчет моего сына и его истории, моей истории, где его мать, может мертва, где, я не знаю, вот уже три года, так скажи мне и о его семье, чтобы мы вернулись туда, где его горы и реки
Я теперь вскочил на ноги. Прошелся вокруг, пиная ногами старую старую рухлядь, штукатурку, мусор, может найду что-нибудь. Тайники. Предметы, спрятанные в давно прошедшие годы. Женщина прячет такие вещи от мужа, ценности. Для предстоящей семьи. Чтобы так удивить его годы спустя, их первой дочери уже пора замуж, и она достает эти ценности из потаенного места, поношенные брелоки, драгоценности предков, муж в ошеломлении, изумленно глядит на нее. Это для наших внучат.
Истории истории, призраки.
Я не знал этого места, дома, в котором мы были, лачуги, как я думал, лачуги
Я теперь был на другой стороне комнаты. А он у дыры, где раньше окно, сидел там, смотрел в небо. Мне следовало извиниться перед ним. Он не понял меня. Я же не открывался ему, мысли которые у меня были, мы были не так далеки друг от друга. Если эти истории так расстраивали меня, значит так, я мог бы сказать ему об этом. Возможно, другим он и мог их рассказывать, не мне, я не хотел их слушать.
У меня было к нему уважение. Но в том доме могли находиться только призраки, как и во всех домах, где живут люди, и мы ведь тоже сами наши призраки, они внутри нас, все внутри нас, как тоже и предстоящая смерть, его смерть моя смерть. Мой вопрос к нему
да, вопрос у меня был. Конечно, я не чужой в этом месте, я приходил сюда, и опять. Он это уважал. Итак, мой вопрос, как насчет моей смерти, видел ли он мою смерть? У меня были вопросы к нему. И почему я здесь. Это уж не мечты. Почему существует продление. Так много вопросов. Я мог бы спросить его. И про его собственную смерть, было ли это правдой, чувствовал ли он ее перед собой. Как чувствовал я. Мы все из нас, все, мы сами, каждый, кто же нет, кто нет
откуда все это берется. Существуют ли призраки. Что за вопросы, можем ли мы их задавать, все такие, любой такой, у меня нет Бога, богов
Что не так? сказал он.
Все в порядке.
Садись.
Мне надо походить.
Ты устал.
Измотан, да, мы оба
Но у меня от тебя нервы дыбом встают
Я не могу наслаждаться твоими историями
Моя бабушка, когда еще девушкой, я рассказывал о ее жизни, но ты не можешь слушать, не способен слушать, не можешь слышать
Слышать я могу
Не можешь
Да. Ты говоришь, что рассказываешь мне о своей бабушке, но нет, это совсем другая тема, она становится такой. Это история о тебе, история о почему ты продолжаешь существовать, история, которая должна исключать меня, такого, как я, она может только исключить.
Прости.
У меня нет бабушек, дедушек, матери моего ребенка, нет ничего.
Прости.
Почему. Да нет. Я не ищу причин, мне это не важно. Я не хочу этих историй.
Это история, а ты ее не слушаешь, история из моей семьи.
Я могу слушать, я буду слушать, рассказывай.
Ты мне приказываешь?
Приказываю.
Стало быть, теперь я получаю приказы. Итак, моя бабушка возвратилась домой. Сначала она приехала в город, прошлась по улицам своего участка, ей только этого и хотелось, она приехала в морской порт, прошла таможню и также визу, волновалась, волновалась.
Ты говорил про аэропорт.
Да, аэропорт. Но через контроль она прошла. И столько такси! Она прошла мимо, миновала их. В город она приехала автобусом. Никакие фанфары ее не встречали, не собрался никакой оркестр. Так она нам рассказывала, у нее всегда было чувство юмора, сам видишь. Крупная женщина, крепкая, всегда в выходном платье. Так одеваются многие женщины, даже когда они дома тоже. Она приехала в город, как хотела, как самой ей хотелось, сошла с автобуса и пошла, пошла по улицам. Всего багажа у нее был один чемодан.
Ну, это тоже мечта, мечта всех и каждого, всего багажа один чемодан, как просто, всеобщая мечта, снова пережить то, что было когда-то, друзья ее семьи, любовники, мгновение во времени, покой, всеобщая мечта.
Это не всеобщая мечта.
Да.
Это не всеобщая мечта и не моя мечта, это жизнь, жизнь в этой истории, там, и когда она шла по улицам, то увидела на улице, по которой шла, после стольких лет, что там был он, стоящий, ее прежний любовник.
Что значит стоящий, кто стоящий, что это такое, история, что за история, это совсем не история
Это возвращение домой, сказал он, а возвращение домой вещь не простая.
Да.
Нет.
Мое будет простым.
Твое возвращение!
Да, мое возвращение, почему же не возвратиться, мое возвращение будет реальное, вещественная жизнь и никаких выдумок.
Ты мечтаешь возвратиться домой?
Да. А почему нельзя?
Он улыбался, ожидая, что я еще что-то скажу, но я был усталый. Улыбаться я тоже мог. Он сказал, Ты никогда не мечтаешь?
Это он нападал на меня. Я не ответил, только взглянул на него, потом в сторону.
У тебя бывают мечты! И когда я все равно ничего не сказал, он покачал головой. Нет, я тебя не понимаю. Не думаю, что у тебя есть мечты.
Мечты есть у каждого.
О твоем собственном доме?
О твоем собственном доме. О твоем доме в моем доме, в этом доме, в лачуге, в доме призраков, о каком угодно доме, в какой угодно стране, где мы есть, мы сами, о любом доме, у меня есть мечты, о любом доме.
Он рассмеялся, потом примолк.
О любом доме, который я.
Мечты моей бабушки, это был твой город, твоя страна, да, твоя страна. Твоя страна. Он вглядывался в меня, и я опять заметил в нем напряженность. Скула к скуле, как бывает, когда рак, но тут его не было.
Ты говоришь обо мне, словно о чужаке, сказал я, чужаке этого дома, а я не такой уж посторонний. Почему ты так говоришь?
Прости.
Что прости, прости это ничто, я тебя спрашиваю почему. Ты говоришь о моей стране, это моя страна, ладно, я не об этом. Это твоя собственная выдумка, то, что тебе нужно, необходимость, которая требуется тебе, тебе и некоторым другим людям, всегда, видеть ее перед собой. Вот ты и видишь меня перед собой, представителя моей страны, вот он я, здесь, да только я не представитель.
О чем ты говоришь?
Об этом самом.
Но это же нелепость.
Ладно, это нелепость. Ты говоришь мне о моей стране, это и есть нелепость. И также про твою бабушку, про эту выдуманную историю. А я должен слушать тебя, ты этого требуешь, используя свое высокое звание, чтобы я слушал и оправдал, борьба теперь ведется за то, что существовало в прошлом. Это не мечты, а выдумка, ложь.
Что ты такое мне говоришь?
Я говорю, что ты кормишь меня ложью, ища обоснований, а обоснований нет, я не знаю обоснований, их просто не существует.
Я не кормлю тебя ложью. Он смотрел в сторону, в дыру, где раньше окно.
Ты говоришь, это моя страна. Говоришь это мне, называешь ее моей страной, но я-то ее так не называю, я не там, а здесь, я здесь, в твоей стране, твоя страна это и есть моя страна, и ты должен это признать, это так, ты должен это признать. Если это не признается, не тобой, тогда я не знаю, тогда никакого оправдания нет. Это не только твоя борьба, не одна твоя. Ты же видишь других, участвующих не участвующих, заморских правоведов, всех наблюдателей из международных источников, заграничных журналистов массовых средств, кем же ты тогда становишься, скажи мне?
Тем, кто не хочет кормить тебя ложью.
Где сигарета?
Сигареты нет.
У тебя же была сигарета.
Кончилась. Больше нет.
Я увидел через дыру слои темных туч. Сумерки. Может и был закат, мы его не увидели. Мне бы поспать, хоть десять минут. Я мог бы поспать, потом он. Я думал еще раз сказать об этом и начал, но остановился. Что мне сказать, я уже говорил. Он сидел, расправив плечи, прижимая локти к бокам, неспособный расслабиться, правда, он умел спать и в такой позе.
Он думал про утро. Он мог бы теперь подумать подольше, не разговаривая, в собственной голове. А я бы поспал десять минут, и он бы меня разбудил.
Что могло принести утро. Волноваться об этом было бессмысленно. Я хотел, чтобы он это понял. Мы провели имеете уже пять дней. У меня было к нему уважение. Он принял роль командира. Для меня это было естественно, но я ничего не сказал, и он так стал командиром. Я так скажу, через это я собирался с силами, для предстоящего времени.
Пусть его.
Я разложил пласт старой штукатурки, покрыл его скомканными газетами, сделал из них подушку. И сказал ему, Говори, а то я засну
Ты мне приказываешь?
Приказываю.
Про мою бабушку?
И ее любовника, да.
Да, сказал он, итак, в ее участке. Она появилась там, прошлась по улицам, в своем городе, как ты знаешь, наслаждаясь тем, что было ее желанием, как ты знаешь, запахами и звуками, тенями и светом, давкой и сутолокой людей, все как ты знаешь, суета суета суета, и дети, дочери и сыновья, которых ожидала прекрасная жизнь знаменитых актеров и авторов, музыкантов и философов, всех, всех кто там, люди и люди, вокруг нее, повсюду, и это было ее место, ее дом, она направлялась туда, и вдруг перед ней, как будто годы исчезли, стоит ее прежний любовник, да, стоит там
Он покачал головой и уставился в дыру в стене. Я видел его правую руку, кулак стиснут, напряжение в глазах.
Так он рассказывал мне. Я потянулся к его ладони, погладил сверху, где вены. Он смотрел, как я это делаю. Не тревожься, сказал я, ты устал, я устал, мы оба устали.
Я не устал.
Ты устал, я вижу твой волшебный глаз, он потемнел и запал, вот вывалится, а я его не поймаю, так я устал, свалится на насекомых, нам надо поспать, ты первый, я посижу, посторожу, буду смотреть сквозь окно на звезды.
Я не устал.
Да.
Я думаю о других временах. Все еще о бабушке, о ее подруге, со школьных дней. Эта была ее лучшая подруга, девушки друг с другом
Делились мечтами.
Делились мечтами, да.
Вот будущее и для нас, делиться мечтами, только мужчины друг с другом, не девушки. Я самый лучший друг твоей бабушки,
Он улыбнулся. Ты держишь мою руку, о любимый.
Я держу твою руку. Хотя нет, убери ее. Теперь ты должен поспать, твой мозг измотан
Да, это так. Сейчас я закончу. Позже, когда она принимала ванну
Кто, дух дамы, ангел божий?
Юная леди, она освежилась, переоделась из дорожного платья, и в тот же первый день, как она приехала, искупалась и освежилась, та позвонила по телефону любовнику бабушки
У тебя дома были телефоны? В твоем доме, там были телефоны?
Моя семья была богата, компьютеры и пианино, все новые технологии, телефонный звонок любовнику, ее подруга позвонила ему. И вот, в то время, про которое я рассказываю, ее прежний любовник, я должен тебе сейчас рассказать.
Этот молодой человек тридцати пяти лет, дедушка, ты теперь про него.
Ее прежний любовник, да.
А как же девушка.
А-а.
Расскажешь мне?
Ты слушаешь.
Расскажи мне о ней, какого роста, какое тело?
Что?
Что, это уж ты мне расскажи, что
Я не знаю, рассказать тебе, что тебе рассказать?
Под платьем, какое тело? Платье свободное?
Платье свободное, да.
А тело какое?
Что?
Льнущее? Платье льнущее, к ее телу, которое пахнет
свежестью?
Пахнущему свежестью.
Пахнущему свежестью!
Да, надушенному.
Сколько лет?
Как моей бабушке, подружки со школьных дней.
Да, но я хочу знать в то время, про когда ты говоришь.
Она не была девушкой, во время, о котором я говорю, это уж ты теперь размечтался, теперь ты.
Ты так сказал.
Нет.
Да.
Нет, теперь разволновался ты, волнуешься. Не стоит, это просто истории, возвращения домой, расставания.
Ты ошибаешься.
Я не ошибаюсь. Он улыбнулся. Придет еще время и для тебя. Да, еще придет.
Не для меня.
Да, для тебя.
Нет.
Он теперь не стал ничего говорить, а просто похлопал меня по плечу и покачал головой. Я знал в нем эти перемены, но так же и во мне, она была также во мне. И спустя это мгновение он весь напрягся, да, я тоже, мы оба, оба напряглись. Были еще, которые он должен был мне рассказать, но такое время не осуществилось. Он увидел, что я жду, он тоже ждал, и я кивнул, когда кивнул он, одновременно услышав, понимая, что сна не будет, и что должно происходить с этого момента
но конечно, его суждение подтвердилось. И когда он поднял руку, мы уже бежали оттуда, очень быстро. Да, тогда это и было, когда мы бежали от старого, покинутого дома, этот первый взрыв, я был позади него. Мы разделились. Говорил ли он что потом, я так не думаю, если и говорил, то я это забыл, я был усталый, мы оба из нас, не знаю, возможно, может я и не расслышал, я уже говорил, что больше его не видел.
43. «из писем»
Я надеялся, с ней все может быть хорошо. Я не знаю, что сказать, ни тогда, ей. Мы играли бы вместе, ходили на долгие прогулки. У тебя есть друзья? Друзья это хорошо. В будущем это станет прошлым, и я буду дома, с тобой. Тебе из окна видны горы? В горах можно гулять и за целые мили никого не увидишь.
Если кто-то
это я так про себя говорю, о себе, гулял в горах и там везде потоки, вниз с пиков повыше. Эта вода чище, ясная и холодная, здоровая вода, этой воды не касалось ни одно живое существо. Я могу взять тебя туда, если твоя мать тоже дома, где она сейчас, может тогда возвратится домой. У тебя есть письмо от матери? Может бабушка о ней слышала, возможно, слышала и имеет письмо от нее, твоей матери, ты можешь спросить об этом у бабушки. Я скоро вернусь домой.
Здесь не так хорошо, как дома. Здесь все мне чужие, ты и сама бы так думала. Я работаю с занятными людьми, они рассказывают занятные вещи, но иногда они мне не нравятся. Это необходимая работа. Пока мы ее не закончим, я буду здесь, но, возможно, она закончится раньше. Здесь равнина, и если найдется маленький холм, люди говорят о нем, что это гора, тебе было бы смешно их слушать
Не разговаривала ли твоя мать с дедушкой и бабушкой, возможно, она разговаривала, ты можешь спросить у них
Я написал это письмо твоей матери. Я не знаю, где ты. Я слышал о нашей дочери, она благополучна, здорова, друг мне рассказывал, он доверителен. Что-нибудь неладно? Как ты, как у тебя со здоровьем, не случилось ли с тобой чего
Я написал это твоей матери. Как ты? Все ли у тебя хорошо со здоровьем? Я думаю здесь о тебе, о нашей дочери, как там наша дочь, хорошо ли у нее со здоровьем. Ей надо иметь друзей. Здесь не очень приятно, где я сейчас, люди не такие же, они не, как это говорится, я думаю, не доверительные, ну, то есть, я им не доверяю, но ведь как это скажешь, кому человек доверяет во всей этой жизни, доверяем ли мы людям, многим ли, если находится один человек, чтобы доверять, мы ему доверяем, но как много их может быть, я вроде как жалуюсь, да, дурак я дурак, а без тебя
44. «пришедший, я дурак»
Она не нашла места у стены, потому что там было много других, также два малыша, один, который не мог спать. Я вышел кое за чем, потом вернулся, поместив все это в один контейнер, чай и тоже одну сигарету. Место нашлось в середине пола, она сидела там, укрывшись до поясницы. Она была измотана, я был измотан, больше. Так что, теперь уже в темноте, переступаю через тела, не расплескать бы жидкость, отдаю ей контейнер, сажусь теснее к ней, затем ложусь, откидываюсь, дальше, дальше, моя голова на ее пояснице, мы курим сигарету, потом она положила ладонь мне на лоб, прикрыла мне глаза, как ребенку, как я прикрыл бы ребенку, нащупала одеяло, потянула его, накинула на мое тело, и снова ее ладонь у меня на лбу, становится для меня как будто тяжелой, пока я не слышу музыку из дней детства, из религиозных времен, да, в голове у меня хоральная музыка, эти негромкие барабаны, также хлопки ладоней, другие звуки, другие звуки тоже там, и я стал просыпаться, и голос этого человека, чужой голос, он пришел к нашему месту, сидит здесь рядом с моим товарищем и шепчет ей. Был ли он из безопасностей, это возможно, где молчание было ответом, кого там не было, и комната в темноте, и хныканье одного малыша, потом стон, это его легкие, маленького, плохи дела. Мои веки были закрыты, пусть думают, я сплю. Я не открыл их, только прислушивался прислушивался, но ничего не мог разобрать, я не знал его голоса, кто он такой. И теперь заговорила товарищ, да, было ли в ее голосе возбуждение, да, я слышал это, но что, я же лежал рядом с ней и был на другой стороне от этого пришедшего, который говорил так тихо на ее стороне, другой, чем моя. Что говорила она, ни того, что этот другой ей говорил, я не знаю, звуки и никакого смысла, бубнение. Тревога в ее голосе была. Определенно.
Я приоткрыл глаза, только немного, чтобы не мог быть увиденным. Кто еще может здесь быть. Здесь только он, тот один. Но места там было мало, кто бы еще мог войти. А вот снаружи этой зоны я ничего сказать не мог, может и другие, да, возможно ожидают этого одного за пределами.
Он говорил, как будто стараясь ей что-то внушить, как если меня и не было, обращаясь только к ней, так что я для него не существовал. Если он был совсем посторонним мне, то моему товарищу он был не таким. Это я понял, он был знакомым. Только что-то такое в ней, легкость тона при разговоре, непринужденность поведения, я не могу сказать, возможно, движение, как она вытянула ноги, в ней также была уверенность. Да, она этого мужчину знала. Вероятно, интимно, это возможно. Так я беспокоился в эти начальные моменты и не мог отбросить мысль. И все-таки также в моем товарище присутствовала осторожность, зная его, она ему не доверяла, что тут такое, личное безличное, что это было, которое я чувствовал. Между ними наступило молчание, и тут у меня в горле, раздражение, во рту сухо в горле сухо, ну да, мы же раньше выкурили сигарету. Я мог бы пошарить в контейнере, вдруг там остался чай. Хотя, возможно, мо. й товарищ отдала его этому постороннему. Он снова заговорил, зашептал, чтобы не потревожить людей вокруг, также и для подслушивающих, некоторые никогда не спят, присматриваются прислушиваются.
Кто он. Я мог предположить. Возможно, в ранние времена политический, так они могли называться. Я называл безопасностями, тогда, как теперь. Но если эти двое были вместе в борьбе, почему бы ей не сказать, после она может сказать это мне. Мы бы поговорили.
Мы это делали друг с другом. Не обо всем. Я не говорил ей, она красавица, не говорил, как я люблю смотреть на нее, только смотреть на нее. Мы сошлись с ней еще недавно. Интимность. Что под этим подразумевают. Половой акт, конечно, но также интимность означает мгновения вместе, надежность, надежность, может быть, отдыхать и, как тогда, заснуть рядом с ней, под охраной.
Знала ли она этого постороннего. Знала, тут никаких сомнений. Я лежал неподвижно, прислушиваясь. В его голосе присутствовал юмор, ирония, да, и также я слышал здесь кого-то циничного, его тихий тихий голос, ох, не верь ты этому человеку.
Кого это могло волновать. Меня не волновало. О да, притворяется, будто анализирует, международные положения, практические перспективы. Теперь я кое-что различал и понимал это, понимал, что он это все не всерьез. Анализ ситуации, политической, всякие маневры и движения, вмешательство маловероятных источников, заграничных источников. Нет, доверять ему было нельзя, даже когда он говорил. Разумеется, мой товарищ это знала. Стала бы она слушать его всерьез, нет, я не мог в это поверить. Я пошевелился, как просыпаясь, открывая глаза, моргая, зевая, другие подробности, глядя на нее, потом на пришедшего, озадаченно. И товарищ посмотрела на меня, показала на него рукой. Я еще раз зевнул, а она прошептала мне, Он пересказывает лекцию. Послушай его, это лекция.
Но ты ведь знаешь другое, сказал я.
Я знаю другое, да.
Однако ей не понравилось, что я сказал ей, как сделал. Я посмотрел на пришедшего, опять на нее. И в моем взгляде содержался вопрос, но нет, она не представила этого человека, ни он сам, он этого не сделал.
Что мне тогда оставалось делать, что, уйти из этого места, где мы были. Чего от меня ждали. Нет. Я не знал. Я улыбнулся, но нерешительно, и только, думаю, вглядывался, я не знаю. Там было темно, и другие вокруг, тоже и дети, как я говорил, малыши, и не все были спящими, и если кто-то закуривал, свет также касался нас, и все в этот период сознавали насчет других, и не говорили бы громко, заботились бы о других, как же иначе, если существует продление, мы же должны избирать такие пути для других людей, которые в те дни выживали, сумеем мы выжить, сумею ли выжить я и мои ближние, и как же здесь дети, должны мы за ним присматривать, легкие малыша, что, что должен сделать кто-нибудь, мать или отец, которые были вроде меня, молодыми людьми. Да, я был молодым, если так, становившимся старше.
Пришедший почесал ухо. Я понял, он ожидает от нее, что она сможет увидеть это почесывание, как знак, обозначающий совместный опыт, как бы из прошлого периода, когда они были вместе, знали друг друга, их интимность, общую для них. Я это знал. Это было определенно. Но если он и хотел от нее вспомнить эти совместные мгновения, она не вспомнила, нет, никакой реакции на него.
Тогда он примолк, ожидая чего-то еще, возможно, от меня, реакции в другой форме, возможно, что он и я, могу ли я вмещаться в это, может между нами соперничество. Он мог бы побороться со мной. Да. Боролся ли он за нее, в нем определенно была агрессивность, и оттенок голоса тоже, да, он был опасным человеком. Только и я также, тоже, если он думал запугать меня, это еще посмотрим, давайте, посмотрим, что произойдет. Правда, если он из безопасностей. Товарищ ни одного знака не подала, ни одного мне. Ее нога лежала под одеялом, соприкасаясь с моей, она ее не отодвинула, и также от ноги был нажим, и я положил ладонь ей на бедро, и мгновенно ее нога в новой позиции, и я убрал ладонь, с нее. А он опять заговорил тихим тихим голосом, беседуя, вот просто так, он здесь для разговора, пробудил нас от сна, чтобы он мог просто поговорить, рассказать свою всякую чушь, международные дела и отношения, да, мы ведь этого не знаем, не можем этого понимать, не можем постигнуть этого, я же бедный крестьянин из низких низких слоев населения, из низших классов народа. У кого власть, да, не у меня, не у нас. Я слушал его
слушал его
Что происходило. Я не боролся, не сражался. Конфликт, какой конфликт. Для него-то определено, если это была борьба между нами двумя, им и мной, как ее надо вести, борьбу. Я мог и не знать, и все же, в его манере была уверенность, уверенность. Я бы сказал, опасный, опасный человек.
Товарищ нас не познакомила. Почему. Это было бы вежливо. Что еще могла бы она сделать. Она продолжала, допускала интимность между ними, ей им. Это во-первых.
Если вежливость, ко мне. Как тоже и к постороннему, да, мы же не знали, один другого, ни в каких обстоятельствах, никаких других, я ничего не знал, но что он хотел ее, да, конечно, что тут скажешь, да ничего, он хотел ее, а ее тело было от моего, она отодвинулась, свою ногу от моей ноги, да, это глупо, все это глупости, как и жизнь, жизнь разве серьезна, когда это она серьезна, я что-то пока не обнаружил, когда это так, возможно, и никогда.
Это я знаю. Может я так и не говорил. Контейнер с чаем был рядом с ним, и я потянулся туда. Она смотрела на меня. Я держал чай у губ. Но она все смотрела, нахмурясь. Я притворился, что не замечаю, попил, потом сложил на груди руки. Теперь я был не такой измотанный, не такой усталый, и выбрался из-под одеяла, приподнял ноги, чтобы присесть на корточки, да, я мог бы вскочить, набрался сил, да. Я сказал ей, Да, сейчас хорошо бы сигарету. И тоже вина, бренди, если бы у нас что-нибудь было.
Чш
Чш
Люди спят. Да, люди спят, ты говоришь это мне, не ему, стоит мне открыть рот, ты говоришь это только мне.
Теперь она взглянула на меня, и я увидел искры в ее глазах, это было в ее глазах, искрение. Сверкание, в темноте, но я его видел, там отражался откуда-то шедший свет, быть может, из ее души. Так же, как в детстве. У нее была в коробке одна фотография, держала там, и она показала ее мне, свою фотографию, в десять лет. Она определенно была красавицей, я мог ее разглядеть, яркие глаза, конечности, смеющаяся, шаловливая. Подумал ли я тогда о моей семье, подумал ли о тех прежних днях, когда моя жена еще не исчезла, конечно так, и тоже об этой женщиной, которая была теперь мне товарищем, стала такой, так я считал.
Но этот пришедший, что он говорил, я этого не уважал и думал, наверняка и она тоже, как она может этому верить, это же ложность, ложность, разве она может в это поверить. Но то, что он говорил ей, слушавшей, слышал и я, и понимал тоже, это был анализ нашей ситуации с верхнего уровня командования, как будто у него доступ, имелся доступ. Хотя я не сомневался, что доступ у него такой есть или был. Да, она слушала. Я не говорю верила, только слушала, но с большим вниманием. Это я знаю. Международные перспективы, международные корпорации, кооперации, кооперации мирного времени военного времени. Озабоченности этих сил, также и обязательства, благотворительность таким, как мы, обязанности, да, для таких, как мы, для всех таких, как мы, так он говорил, что значит такие, как мы, разве что держатели акций, говорил он, это безопасность, говорил он, ты ведь знаешь безопасность, что есть безопасность.
Это он мне говорил. Я ему не ответил. Что есть конфликт. Я не стал ему отвечать, аргументировать, не ответил. Знал ли он, что у меня оружие, у него-то должно было. И опять сказал мне. Что есть безопасность. Я посмотрел на нее, и она сказала пришедшему. Мы живы, мы трое.
Я сказал, Да, мы живы.
Ты слишком громко.
Я слишком громко.
Тут дети.
Что
Ты слишком рассержен, сказала она.
Эти его высказывания, и я слишком рассержен, эта риторика, вся эта чушь, для чьих ушей, для чьих ушей, для наших, для моих не для моих, для твоих, возможно, но не для моих, это ложность. Да, он меня рассердил. Да.
Тут я увидел, он глядит на меня, прямо, без страха, я так не думал, ни физического, ни как интеллектуал, всякие мысли, аргументы, предположения и убеждения, какие у нас имелись, все это было безразлично, было безразлично ему, да и сам я, как мужчина, я был безразличен, только что я глуп.
Ничто для него, ну и ладно. Что он мог дать мне, ничего. Но он был здесь и думал, что все для него. Кем он был, чем для этой женщины, которая была мне товарищем, что он такое, а теперь он глядит на меня и говорит тихо, спокойно. Обращался, как раньше, к моему товарищу, а глядел также на меня, так чтобы не исключить, не исключая меня.
Мы не можем проводить изменения, сказал он, это также и наше преимущество. Нашим людям не следует расходовать энергию, без необходимости, как в обсуждении этих вопросов. Если решения принимаются где-то и наша энергия имеет большое значение, как это и есть, ваша энергия наша энергия моя энергия, для всех нас, мы признаем это, как взрослые существа, зрелые существа, мы не можем оспаривать, поскольку в отсутствие оснований это становится нелепой стратегией, рефлексией дураков, годящейся для недорослей.
Послушай его, прошептала товарищ.
Да я его слушаю, но это его поведение, я узнаю его, и что без уважения, да, без уважения, определенно покровительственное. Недоросли. Что это значит, может он чего знает или совсем ничего, что это?
Пришедший взглянул на моего товарища, улыбка была на его лице. Она сказала, Это коллега, также и друг, мы с ним бывали в сложных ситуациях, решали вопросы огромной важности, высшие и другие, мы все присутствовали, заграничные люди, начальства.
Так я должен повиноваться этому человеку, послушание перед ним? Нет. Что это за обязанность? Он старше меня, о, я должен быть покорным!
Сарказм, сказала она.
Сарказм, да.
Глупо, сказала она, и отвернулась от меня, и от пришедшего тоже, глядя на других там людей. Она всегда могла объяснить, в чем дело, каким она его считает, никогда не становясь такой, как этот, не тратя попусту слов, этот, в чьем поведении отсутствует всякая уважительность.
И все-таки, то, что уже случалось, случилось и теперь, и ее раздражение возбудилось против меня. Я не мог в это поверить, не против этого другого, только против меня. Как я мог в это поверить. И все же, такова была правда. Она не скрывала своего восприятия ситуации, не от меня, я это видел, я знал. А все этот пришедший, его влияние, сказавшееся на ее поведении. Конечно, меня это привело в замешательство, конечно. Теперь мой гнев направляли другие факторы, эмоции. Я думал, не выпить ли чаю, но он стошнил бы меня, мой желудок.
Теперь этот один заговорил через нее, так что она замолчала, глядя в пол. Он говорил ко мне, глядя на меня. Я не знал. Я ничего не сказал. Я с ним не разговаривал. Энергия впустую. Что он такое говорил, почему мы должны были допускать это, разговаривать в такой манере. Я сказал, Зачем ты здесь? Что происходит?
Пришедший начал было говорить, но был остановлен моим товарищем, которая прошептала мне. Ты должен послушать его, это важно.
Что важно, что он говорит, конечно это важно, раз ты так сказала, я готов это признать.
Ты ожесточен, сказал пришедший.
Я ожесточен.
Эти вопросы критичны для нас.
Для нас критичны вопросы, о которых нельзя говорить открыто, вопросы, что мы просим, чтобы никто нас не информировал о том, что существует в нашей среде, мы не просим, чтобы нам навязывали такую информацию, не от коллег. Ни лекций, мы не просим лекций, сказал я, не от таких, как ты.
Он взглянул на моего товарища и сказал ей, Это презрение в нем. Я его не заслуживаю.
Тогда как ты на него отреагируешь? сказал я. Если ты вообще отреагируешь, то как?
Я на него отреагирую, я своего достигну.
Каким образом?
Мы своего достигнем. Отреагируем на это. Таким образом и достигнем, реагируя.
Я подумал, с какой легкостью мог бы ему врезать. Мой товарищ не улыбалась, и возбуждение в ней, я это видел. Теперь она посмотрела на меня. Я привел ее в замешательство. Пришедший прошептал ей. Ты возвращаешься?
Да, если это возможно, рано или поздно.
У твоего товарища собственные планы, возможно, стратегии. Он опять улыбнулся ей, а не мне, вытаскивая из плаща пачку сигарет, спички, передавая их мне. Я их не принял. Он посмотрел на нее. Тогда я принял, и он взял спичку, чиркнул для меня. Я к нему не наклонился, и он потянулся рукой с горящей спичкой, чтобы я мог получить огонь, не слишком много для этого двигаясь. Я не глядел в его глаза, такой резкий свет. Я покурил сигарету, больше шести затяжек, и не смотрел на них, пока не вернул ему. Он покурил три затяжки и отдал ей.
Да, ты раздражителен, сказала она мне. Это говорилось не чтобы тебя позлить. Эта философия, которую он для тебя очертил, позволяет ему продвинуться дальше в его аргументах.
У нас куча времени, сказал я.
Время у нас есть, сказала она.
Да. Я зашептал пришедшему, Что ты теперь мне расскажешь, о заграничных правоведах, да, очень нравственные люди, расскажи нам о них, членах человеческого рода, расскажи мне о безопасностях, как они тоже люди, мы должны уважать человечность, а то ведь они и ответить могут, сначала ответы на вопросы, а потом убийства, и ничего не меняется, только говорят уже не те, а другие.
Пришедший передал мне сигарету.
Это не сарказм, сказал я, только ты мне расскажи. Он сделал жест, как бы не желая вражды. Теперь мы молчали. Я курил сигарету. Осталось совсем немного, я ее пригасил. Я теперь думал про все, что мог бы сказать, и сказал ей, Ты не желаешь, чтобы я здесь находился.
Я видел, как она измотана, колени подтянуты, руки сложены на них, подбородок покоится. Я мог видеть ее глаза. Мы бывали в опасных обстоятельствах, ситуациях. Кто же в них не бывал. Я тоже был измотан, тело ноет, еда.
Она сказала, Что это значит. Ты говоришь ерунду, я не хочу слушать ерунду.
Что-то не так?
Да ничего. Я от тебя устала. Ты раздражаешься, твоя ожесточенность, мы не можем разговаривать, ты не позволяешь, я вижу твое лицо, он говорит дельные вещи, а тебе обязательно отвергать, тебе обязательно отвергать, ты не можешь слушать.
Я не могу слушать.
Нет.
Нет, сказал я, не могу. Ты от меня устала, а тут он, и ты это говоришь. Нет, не для меня, этого ты бы не стала. Это нельзя оправдать.
Ничего нельзя оправдать.
Да, я не прав, извини меня за это. Я быстро вскочил на ноги, не глядя на нее, ни на него, на него никогда. Я слышал вблизи движение и дальше шевелились другие, некоторые прислушивались, что им еще оставалось, я их не виню, и я снова сказал ей, Нет, это нельзя оправдать. И оставил ее, пошел от нее, такая горечь во мне, и за что, за что.
И тут произошло совсем уж неожиданное, в дверях из нашего здания стоял безопасность, и я налетел на него, он потерял равновесие и упал. Мой порыв был ударить его, я был разозлен, зашибить его, и поскольку я взял над ним верх, я легко мог ему врезать, но не стал, иначе бы сразу был мертв. Он пролежал мгновение, потом извернулся и тут же откатился от меня, как будто ожидая от меня ударов. Теперь он увидел это, понял, чем это было, несчастным случаем, и вскочил на ноги и пошел на меня, а я тоже, отступая. Он схватил мою руку, дернул вверх, под плечом, разворачивая мое тело, и ударил меня сбоку и вниз, и я оказался на земле, он на мне, развел мне плечи, и злой, так сильно злой, я думал увидеть, как его нож взрезает мне горло. Ты дурак. Если бы у меня были силы, но никаких, я не мог его сбросить. Теперь уже еще безопасности, сзади и по сторонам. Ты дурак, сказал он, я взглянул мне в глаза, как я тоже. Наши глаза, мои его. Про него я не знаю, глядел вниз, но также я на него, и он это увидел, и я увидел его лицо, выразительное. Он был старше, тяжелее меня, теперь я его разглядел. Он покачал головой. Ну ты и дурак.
Как и ты, сказал я, только про себя, зачем его оскорблять, я сам во всем виноват, ударился об него, так что он получил глупый вид, выглядел так, может там были другие коллеги. Тогда мои мысли обратились к моему детству. Я думал, что умираю, наверняка они меня сейчас убьют, а она не узнает. Вместо он шлепнул меня по лицу, с огромной силой, чувство, что кожа у глаза разорвалась, и как будто глаз ударился об нос и выпал. Один из безопасностей рассмеялся. А один другой сказал, Отшлепай его, какой гадкий мальчишка.
Взамен, если бы они убили меня, думал я тогда, если пришла бы смерть, то был бы покой, и может никто бы не узнал, ничего.
Я остался на земле. Глаза мои были открыты. Безопасности ушли. Ушли также и голоса. Ничего. Но и ночь, она тоже ушла. Потерял ли я сознание, возможно я так и сделал. Как долго я там пролежал, видел ли ее, возможно. Свет был хороший, лунный свет, солнечный, радом с рассветом. Я думал, что видел ее в дверях, там очертания. Я мог различить человека, кто-то смотрел оттуда. А потом, как во сне, что она сделала, множество образов моего товарища и пришедшего, теперь эти двое вместе, и тут голос, я услышал его, сильный, и голос говорит, Эти люди ждут от меня, чего они ждут от меня. И его взгляд на меня, да, презрительный. Я этого не заслужил. Я бы не стал его убивать.
Уже был рассвет, я шел вдоль периметра, там были безопасности, один окликнул меня. Я притворился, что не услышал, чтобы он мог меня игнорировать. Никто же больше не слышал, и не было необходимости, чтобы произошла конфронтация. Но он заступил сбоку мне путь и поднял руку, и я остановился, и его глаза вглядывались в мои, мгновение так простоял, пока не подумал не задавать дальше вопросов. За что тут было умирать. Я могу умереть за что-то, не как другие, если другие так, моя смерть должна быть за что-нибудь, ни за что. Я шел во внешнюю зону, здесь были другие. Если есть желание умереть, так тут не о чем и говорить.
Луна не была частью этого, луна была выше другой части этого, чьего-то мира, в котором были дети и запахи стариков, людей близких к смерти, и теперь из другой секции тоже запахи. Позже я бы вернулся в мою, безопасности в дверях, преграждают проход, вот видят меня, поднимают оружие, я не угроза. Конечно, ее бы там уже не было, ничего там, в том месте, тоже и одежда, которую я имел, она также исчезла. Безопасность стоял на моем пути.
Как долго это было здесь, в этом месте. Некоторые детализируют дни и недели.
45. «письмо вдове, незаконченное»
К сожалению, никто не сказал мне о его смерти. А я хотел бы знать. Я думал бы о нем. Я мог бы посидеть один на прощальном собрании, обеспечив себе некоторое одинокое время. Таков ритуал. Я мог исполнить его. Я знаю о ритуалах, что они должны давать нам понимание, и в этом лежит их ценность. Ритуал вещь далеко не плохая, если подчинен вышеупомянутому, если это так.
Затем, в периоды успокоения, в эти мгновения, где от нас ничего не требовалось, размышления о ныне покойной индивидуальности часто переходят на пережитой опыт, и мы вспоминаем сцены нашей юности, чувства, которыми мы делились, наши различные склонности, политические, спортивные, другие, также любовь, любови, ранние представления о любви. Я обращаюсь здесь к глубочайшим переживаниям нашей юности. Мы снова сталкиваемся с наиживейшими образами величия, будущего величия, для того рода, частью которого мы являемся, во всем его великолепии. А затем мы думаем о трагедии, ибо рассматриваем само человечество. Мы рассматриваем индивидуальные человеческие существа и воспринимаем их, как трагедии, и вдумываемся в смысл, в их значение для нас. Мы осознаем, что это не является опытом юности, что у нас нет подлинного знания таких вещей, как трагедия, ее реальность, это для взрослых, и мы способны превозносить ее, как в нашей юности, мы превозносим это сейчас, это настоящее, это
причащаясь
что мы здесь перед лицом величия, ибо что же еще есть смерть?
Вот так мы думаем. И все-таки, также мы должны понимать, что это ошибочно. Когда мы становимся старше, мы осознаем, что трагедия это переживание, в глубине, еще одно переживание, еще одна реальность, вот чем это стало, с чем мы сталкиваемся на протяжении всех наших жизней, индивидуальные люди, которые доставляли нам наслаждение, которых больше не стало с нами и мы должны это пережить.
В эти наиболее трудные моменты, такие, как этот сейчас перед нами, мы думаем, каким бы он был, если бы у нас присутствовали дети. Я тоже думаю это. Я не могу остановить мысль, мое собственное дитя. И может ли быть возможным такое? Если присутствуют дети, дети на иждивении? Конечно, они присутствуют. И что тогда делать отцу? Совладает ли он? С этим же совладать невозможно. Сам я думаю так, ибо чему это родственно, или может быть родственно? Военные ситуации, куда в них девать детей? Быть на войне, но печься о них. Да. И если пойти дальше, мы должны признать, что это так, как это есть для всех родителей, какими мы являемся и были, и во все времена. Если я могу думать о крестьянах Египта 7000 лет назад, и знать, что это нельзя отринуть, как форму ада, что отделение исключений из этого правила указывает лишь на природу общности, что правило должно охватывать любое число общих показателей, только они суть руководство для поведения, поведения, затруднительного в ситуациях, которые постигаются, как социально опасные. Но с самых ранних времен мы оба задавались задачей показать положительный аспект этого, что эти непреодолимые обременения являются, как таковые, кажущимися и никакими иными, что они многое дают для того, чтобы облегчить невыносимое, невыносимое воздействие, природу нашей теперешней внешней среды.
Я начинаю уставать от распространения, это становится все большим унижением, моя неспособность, отсутствие
Движение, ограниченное пространство, вечная исходная предпосылка. Примеры?
Я слишком поздно получил известие о его смерти. Никто не проинформировал меня раньше. Я сожалею об этом. Это неловко, если так можно выразиться.
И все же, такому, как это, помочь невозможно, существуют мысли, существует время для таких мыслей, это во время скорби, возможно, на начальном этапе периода скорби, и никто не сказал мне о его смерти, ни один не сказал, я пишу вам
Я вам пишу
46. «это приходит опять»
Мог ли я двигать своим телом, не было ли оно изломлено. Он твой, произнес голос, исходящий непонятно откуда. Нет, не так, не было, был пол, пол, соломенный тюфяк, одеяло, и рука у меня в паху, и я пошевелился, сдвинулся на бок, а оно на мне и рука на мне, сжимающая ладонь. Очень жарко, пот и старые пласты. Если голова под одеялом, я не смогу дышать, я это знал, не смогу, задохнусь, я знал это. И опять погружаешься в сон, в какое-то подобие сна, и боль рассасывается. Если бы мне проснуться, если бы это было миновавшее сновидение, событие прошлого, из прежней жизни или, если это происходило, как долго, долгое время, а теперь и эрекция, и думаешь, это происходит, произошло, бесконечное, как сновидения, циклическое. И я снова проснулся, и рука держащая меня там, сжимает, и также я чувствовал жар от ее тела. Я едва мог пошевелиться, вытянуть конечности. О чем это меня спрашивали, о разном. Если меня спрашивали о разных вещах, я слышал их, и тогда наступал следующий момент, а я и не знал бы, пока он не следовал, а то и дольше, как долго, часы. Какие это были вопросы. Рука сжимала меня, туго, с силой стискивала, и все же я мог бы выпростать ноги, желал этой возможности, но в чем был ужас или чего я ужасался, нет не было, этого не было.
И тоже в моей памяти, и с этим ужасом, и тело сзади, кто-то, кого я знал, думал я, кого я знал, и тошнотворное чувство. Встречал ли я эту женщину, я думал, я эту женщину встречал. Что-то сейчас завершается в моей жизни, и эта, другая вещь, которую я знал, также закончилась, о которой я заботился, эта другая вещь, она тоже, это прошло, которое А если сопротивляешься. Я сопротивлялся. Пассивно, по-другому было нельзя, не шевелиться, иначе поймут, что я в сознании. Надо было отпустить себя, чтобы подготовиться. Я бы расслабился, но только чтобы подготовиться, попробуй так. Ее большая ладонь берет меня, мой маленький пенис, сжимает яички, охватывает меня, ее большая ладонь, и тискает, глаза у меня закрыты, грудь сдавлена, не могу дышать как следует, мне нужна сила, чтобы выполнить это, а мои легкие, я задыхаюсь, не ловить ртом воздух, и стрелы света у меня за глазами, искрящие, заостренные, за глазами, удушье. Моя грудь.
Это идет со слюной, мы выдаем эти вещи. Я должен был просто лежать. Вырваться на свободу я не мог. Мне предстояло умереть. Я так и говорю. Я понимал это, невозможно, говоря о бегстве, важно было контролировать нервы в моем желудке, чтобы я мог контролировать нервы в моем желудке или кислород, покидающий легкие, однако помимо этого ничего контролировать я не мог, и грудь у меня вздымалась, может быть, мои легкие разорвет, может быть, это со мной и происходит
Память, мысли о прошлых мгновениях, о доме. Мой ребенок, ее мать, мертва или жива, родители, братья, сестры. Кто теперь уже умер? Исчезновения, кто способен сказать. Позже я могу увидеть ее, мою коллегу, мою возлюбленную, быть может, много позже, но я бы увидел их. Возможно, завтра, это может быть завтра. О том, как бы все тогда было, мой ребенок улыбался бы, как тоже и мой отец, он также улыбался, мой отец. Время в будущем, не так уж и далеко, он нас не видит, а мы здесь, я с его снохой и внучкой, не видит, что мы приближаемся к дому, мы приближаемся к нашему дому. Он у окна, смотрит оттуда, вроде как вдаль, как в прошлое, не видит меня, не видит, я иду с женой и дочерью, иду с ними, мы совсем уже близко, а он нас не видит. И вдруг это мгновение, я иду к задней стороне, поглядывая, туда, сюда, а мой ребенок вприпрыжку бежит впереди, что мы в безопасности, мы живы, его сын, его внучка, сноха, моя коллега, моя возлюбленная, он видит нас, да, они идут, они идут, кричит он моей матери, они идут сюда, да кто же еще, по-твоему, твой сын и внучка, они идут в дом! Отец улыбается. Я не слышал никакого дыхания, и тело на меня не давило, но все равно опять сзади, и я погружался, сознавая о теле, казавшемся мне жестким, даже мускулистым, и все же местами дряблым, или мягким. Я гадал о ней, кто это может быть. Я видел женщину, руки сложены под грудями, а глаз на лице нет. И я сосредоточивался и различал запах, ощущал его, я бы его узнал. И тут ощущение в ступнях, в костях. Рука теперь массировала мне яички, я был благодарен, дыхание выровнялось, потом тоже покой, это тоже, я мог успокоиться так, это было возможно, тяжесть руки поперек меня, на моем боку, нет, это уже закончилось и не возобновится. Я смирился, что если это заканчивается, что может так, и все-таки было сном, или временным, вдруг это скоро закончится, скоро закончится, и я получу свободу, свобода приходит ко мне. Но для меня тогда это было, как уйти от этого, это было положение, и опасное, я всегда осознавал это, как ситуацию с большой опасностью для меня, та фигура, которая держала меня здесь, эта сила, намного сильнее меня, много больше. Если я не могу убежать, я так и останусь в этой агонии, в предсмертной агонии
перемещение, перемещение
если кто я был, кем я был, какая личность, кто я был, смещаясь сейчас в моем пространстве. Где. И я погружаюсь, и пощипывание, за глазами, вслушиваясь, слышать я мог, слушая ропот, стенание, все ощущения, и смех. Я мог шевельнуться, перевернуться на спину и тело, как мертвый груз, перевернется со мной, но что вдруг за боль, что делают с моими запястьями, эта боль, такая боль, медленно подвигается по одеялу, голова и тело здесь на мне, мои запястья, дышит на меня, и с другого бока другое тело, и теперь снова на мне, это женщина, вот это кто, ощупывает меня, я думал, что так, и потом тяжело на меня, на мои яички, сжимает меня, мои запястья. Одеяло тяжелое, я едва мог двигать его, теперь подняла надо мной, на весу, и набросила на меня. Мне осталось зарываться в него, под него, и из-под низа наружу, одеяло, проталкиваться на свободу, как может делать гусеница, вперед или назад, зарываться. Но пока только под него, пока. Я остановился, страшно и жарко, я в западне, вот я где, как жарко, как здесь жарко.
Мне снова начали стискивать плечи и я почувствовал удары, искры, бьющая боль, и в моих костях, что за боль, боль я не знаю где, не могу контролировать, вонзается в меня, я не мог контролировать, ничего не мог, мучительная боль, нечем дышать, и эта мысль о себе, мысль о себе, всегдашний примиритель, я был, всегда, что сделал мой отец, или для меня, предательство, руководители и старейшины общины, предательство, голоса могли вопить во мне, улыбка и вопль из меня, это происходит, что, может это от боли, это от боли. Я вижу мою женщину, коллегу, возлюбленную, она улыбается, солнце бьет ей в глаза, она прикрывается ладонью. Вижу, как она потирает сухость в уголке рта, потирает сухое пятнышко, у нее всегда там было такое. Ее оно не тревожило, зато меня, что это, отчего сухость. Искры налетают и отлетают, стрелы света, острые, переворачивают, где мои ноги. Другое тело, я знал, кто это был, эта личность теперь здесь, знал, кто это был, привел меня сюда, к этому, я знал, и теперь тяжесть на мне. Не двигайся, сказал он. Как будто я мог, я не мог двигаться, не мог я двигаться, это было невозможно. Он толкнул меня вперед, ладонь на моей шее, я слышал похрюкивание, но не его, я думаю, не его, с ним был еще кто-то. Он твой, и опять похрюкивание и веселье. Я не хочу его, я тебя хочу, и смех, меня ты не получишь, а его сколько хочешь, что это было, какие женщины, голова у меня свернута набок, шея свернута, словно сейчас сломается, они сломают мне шею, там кости, позвоночник, мои ноги из-под одеяла, что-то давит, эти острые концы, уколы, тычки
47. «морские сны»
Такая свобода. Спокойствие вод. Морские птицы исчезли. Я вновь погружался в глубины сна, мальчишеского, любимая книга детства, открытие потаенного мира, как волны скрывают мириады вещей. Уплыть далеко, далеко-далеко, туда, в море или в океан, величайшая глубина, прохлада и темные, темные воды, и поиски, да, секретный проход, в поисках секретного прохода, охраняемого тремя осьминогами, мне пришлось сражаться за право проникнуть и после с великими трудностями плыть через узкую-узкую полость, извивы и повороты, клаустрофобные, давящие, мне не хватает воздуха и легкие взбухают, того и гляди разорвет, стрелы света, синие острые электрическое напряжение, удушье, удушье, последние вздохи, резкий толчок и в стенах полости туннель, его надо быстро прорезать, туннель, сужающийся, со своими извивами и поворотами, и наконец, светлеет, солнечные лучи простилают воду, свет вверху, свет безопасности, я пробиваюсь к нему, последний подъем к концу туннеля, и в новую полость, и пробиваю поверхность, но теперь уже новый мир и там человек, коллега, он подает мне контейнер, с чаем, зеленый чай внутри, лимонный сок, подкрепляющий напиток. Это морской рукав большего размера, мы попали в больший морской рукав, двигатель попыхивает, лоцман наслаждается приближением. Он уважителен к этому месту, я чувствовал это. Один из трех берегов, тот, к какому мы плыли, приобретал отчетливые очертания, скопление зданий. Мы вошли в систему каналов с деревянными пешеходными мостиками, изгибающимися под неожиданными углами, впечатление, что никакой теоретической работы не было, но сам мир с его бесчисленными поколениями людских усилий, занимающих различные позиции, воздвигал, во все различные периоды прошлого, пути, пути отдаления.
Эти здания были уникальней одно другого.
Большой бот двигался в нашу сторону, с двумя работниками в нем. Бот проскользил мимо, мужчины гребли, ни один не взглянул на нас, и скоро они скрылись из виду. Мой отец. Это он был там и его младший брат. Я подумал о них, как о работниках, теперь они уж исчезли, мы были на пристани, безопасность подготовил все к высадке на берег и, показав мне вверх, на мостки, вернулся после этого к завтраку. Пришлось подождать. Скоро пришел другой безопасность, махнул на мою сумку. Что насчет моей сумки, но я не стал дожидаться, только поднял ее на плечо, с осторожностью. И так на другую сторону пристани, где был причален ялик, он указал на него и потом сел на весла, и отвез меня изнутри на большое расстояние, это было к одноэтажной постройке на одном из внешних звеньев восточного периметра. Когда я пошел по мосткам, ялик скрылся и там был такой покой
аспекты моего
и на весь тот вечер я оставался в моей комнате. У окна, ставни наполовину закрыты. Небо не угасало
и близкая луна
и в этих пятнах вода желтоватая, не черная, не сквозистая, где не была она черной, вода, не желтоватой, только сквозистой, мерцающий эффект, казалось, отбрасывал желтизну на внешнюю секцию
сквозистость
Другие здания и постройки в пределах видимости были плотны, плотные объекты, странные объекты. Да и этот дом, теперь он был странен мне, что это могло прекратить существование в силу того, что я стал его частью. Но я никогда бы не смог стать его частью по-настоящему. Что бы ни произошло, он бы всегда лежал вне меня. Определенные вещи, считается, что они изменяются, но они лишь перестраиваются для новой атаки, пассивные внешне
Было уже очень поздно, когда я лег спать, и в эти последние мгновения бодрствования принудил себя произнести слова. Теперь я стыжусь тех слов. Я с головой накрылся одеялом, чтобы сказать их вслух, кровь прилила к лицу, взревела в барабанных перепонках. Что это были за слова, они ушли из моей памяти, унижения, стыд этих вещей, сущностей, не могу сказать, такие унижения случаются только когда индивидуальность одна
И птица на парапете смотрела на меня, между тем как музыка ветра
все это сны
свидетельства ясности, свежести, Свободы, которой мы можем желать, мы можем
сны
деревянные брусья под ветром, доски мостков, поскрипывают
Наутро я увидел, что ставни оставлены, как они были, и встал с пола, с моей кровати, встал из кровати и перешел, и попытался открыть окно, и оно открылось настолько, что как мне протиснуть голову в щель, я не мог, только с затруднением, с великим затруднением, и тогда мог бы высунуться, выкрикнуть в утро, не способный сдержаться, да, закричать, и какое эхо!
А когда мне удалось сомкнуть ставни
Огромность, что-то от духа, богоподобие
да, смыкая ставни и вспоминая родителей, почему мысли о них, не могу сказать, я должен был сомкнуть эти ставни, сомкнуть мои веки, надеясь не думать, не сознавать ничего, совсем ничего, да, это уж был не сон, не мир сновидений, здесь были эти другие, была опасность, здесь нам приходилось двигаться с осторожностью, был ли то рай, нет не рай, мальчишечьи сны, рай для тех, а там я также видел туристов, заграничных людей, продавцов и чужаков, может вот этого они и искали, если они были здесь, то почему они были, я высматривал стариков и где там дети, быть может и наши
Однако и это был сон, здесь тоже морские сны. Почему же мы примиряем, мы примиряем
48. «говорят, будто я»
Не убивал я его. Говорят, будто я, а это не я. Удивляюсь я, когда говорят такое. Кто это говорит. Зачем. У всех есть назначения, замыслы, задачи, какие они должны исполнять. Можно сказать, цели, у нас имеются цели. Я раньше играл в футбол. Я был центровым, футбольным игроком, который дает подачу, как мы говорим, бомбардиром, срывает атаки, атаки противников, да, бомбардиров противника, я должен был отбирать мяч, такая была у меня работа, как у безопасностей, такое назначение моей роли. Срывай атаки, рекомендовал мне мой тренер. Как это сделать, уж это ты сам думай. Думай о футболе, финти, пасуй, ют эти немцы или англичане, что они делают, или из Южной Америки, что они делают, Уругвай, Аргентина, Испания тоже, они срывают атаки. Я это и делаю. Некоторые следуют более высоким образцам, Бразилия, Италия, Нидерланды. Это хорошо, я бы не сказал плохо, зачем? Мы признаем хорошую игру, хороших игроков тоже, конечно, мы должны. Мой тренер говорил мне такие вещи, рекомендовал, хорошие были рекомендации.
Что мы говорим, говорим ли мы
Я его не убивал. Зачем? Это тогда уже кончилось. Если кончилось. Это кончилось, так что если он составлял для меня проблему, тогда это было закончено, которое
Да кто это говорит? Люди рассказывают. Какие люди? Я вас спрашиваю.
Они бы лучше в футбол играли. Футбол подобает мужчине, мы там ног не ломаем. Ноги ломаются, но это так не задумано, не замысел. Этот замысел, не замысел. Это случается второстепенно, кости всегда ломаются второстепенно, они же ломкие. Среди костей попадаются ломкие. Мои не ломкие и никогда даже не были ломкими, ослабленными. А некоторые ослаблены. Такие люди кажутся совсем силачами, а они нет. Это не притворство. Они не знают, что они слабаки. Считают себя сильными, сильнейшими, лезут в блокировку, только чтобы увидеть, как ломаются их ноги, как крошатся тазы, шеи тоже еще трещат, шеи тоже, они трескаются, черепа вдребезги. Люди же не знают, эти мужики, которые сильные, думают себя такими, а мы, кто их противники, ставим эти блокировки, чтобы отобрать мяч, сорвать атаку противника.
Защитники тоже здорово бьют, сбивают наших противников.
Что говорят наши тренеры?
Я должен играть за мою страну. Это мы, кто играет, и игра это наша сущность. Должны ли мы сдерживаться в блокировке, мы не можем, потому что тогда нас самих покалечат. Футболистам это известно, если кто футболист по сути своей, по своей сущности, такой человек, так он это знает
что
Мне повреждений не делали. У меня тело сильное. Из блокировок я с увечьями не выходил, не приобретал увечий, у меня кости не ломкие. Я во многих блокировках бывал, я же был центровым, подавал бомбардирам, ломал противников
Я его не убивал. Да, этого человека я видел. Я его не знал. Я увидел его, видел его, да, много раз, несколько раз, ему нравились женщины, девушки. Он ждал там, у входа в то место, другие тоже, что это было за место, клуб, я не знаю, для туристов. Деньги обменивались. Конечно, деньги обменивались, все товары, наличность, туристский квартал, вдруг придут туристы, тогда, разумеется, деньги, туристы же при деньгах. Он тоже должен был это знать, вот и пришел туда. Он, о котором мы говорим. Он умер. Я его не убивал. Я его и не знал почти, немного. Был ли он мужем, отцом, был ли женат, думаю так, у себя дома. Люди приходят сюда из далеких участков, из разных зон, городов, сельская жизнь. И здесь, сюда, тут же город, очень большой, огромные изменения в жизнях людей. Они живут у себя по домам, а потом в этот город, а тут сейчас так много всего, что для них отличается, и они оставляют свою жизнь и начинают новую, семейные мужчины становятся одиночками и они с новыми женщинами.
Женщин люблю. Я понимаю женщин, они сильные, мы человечество, а женщины ведут вперед, вперед, это есть новое будущее, и женщины рождают новых людей, а те уж идут дальше. Девушек, если помоложе, молодых женщин, девушек. Что тут скажешь. Если я так люблю женщин, женщины это хорошо. Девушки. Конечно, девушки, какого возраста девушки, если они уже женщины, они идут в эти клубы. Девушки. И мужчины идут в эти клубы, туристы придут, они не дураки, они принесут деньги, наличность, они чужаки этой страны и принесут деньги, чужаки, которые могут быть туристами. Он их и ждал. Этот один, о котором говорится, говорят, будто я убил его, а это не я. Это говорят. Это так. Да, я мог бы иметь, мог бы иметь, если бы должен убить его, да. Он пришел в это место, там клуб, пришел туда. Я знал о нем это, и он также знал про туристов-мужчин, чужаков, что они идут опасной дорогой, эти мужчины, некоторые может и дураки, мужчины-туристы, у них деньги, наличные, а тут темнота, они видят в этом укрытие, как кошки, ищущие укрытия, ходят так воровато, вот и эти мужчики тоже, идут где темноты побольше, заползают в укрытие, не зная, кто там сидит в засаде, может там кто сидит в засаде, вот тоже и мы, центровые, когда мы там, и противник приближается, мы напрягаем все силы, готовим наши тела к столкновению, открывая в себе, сильнее мы или слабее, пусть мы не окажемся слабаками, пожалуйста, Боже, такая наша молитва. А то мы не сможем выжить. Человечество же должно выживать. Это не слабость. Есть люди-инвалиды. Они становятся инвалидами на войне, но про них ведь не говорят, что слабаки. Я бы про них этого не сказал. Они были бы гораздо сильнее, но потом в бою или какими-то средствами, любыми средствами, кто может сказать, но только эти люди потом поувечились, сильно поувечились, и таким образом стали инвалидами, без рук, без ног, оторвало, бомбами и минами под поверхностью дороги, предназначенные зоны, кто их знает, никто, кошка же не видит сквозь пласты почвы и камня, вот и эти люди не видят. Ни один, они не видят. Но это вот так они становятся инвалидами, они не слабаки, как могут быть другие. Я говорю, другие могут быть слабаками, тут не о чем и говорить. Человеческие существа по-всякому различаются, один от другого, ни один тот же самый, один от другого, мы можем сказать, дети-близнецы, однояйцовые дети, но один отличается от другого. Вот как это. Не визуально. Однояйцовые дети. Однояйцовые взрослые. Они отличаются друг от друга. Некоторые танцоры, музыканты и поэты, другие опять любят игры, как шахматы, как карты, они могут играть на деньги, некоторым нравятся игры с физической ловкостью, отсюда и спорт, как мы можем играть в футбол, я уже говорил. Мы разные. Но у мужчин есть одна общая вещь, да, женщины, мысли о женщинах, у всех мужчин
Я уже говорил. Приходят чужаки. Я чужаков не боюсь. Это они в этой стране, а не я в их стране. Люди могут быть заграничными, для нас заграничными, вполне могут. Эта страна мой дом. Я могу поехать в другие страны. Никогда в другой стране не бывал, ни в одной. В какую другую страну? В Бразилию могу поехать, футбол посмотреть. Италия, Ангаландия, Нидерландия, Барасилия, Барасилия.
Чужаки во всех странах есть. Они могут дать мне деньги, мне, чтобы я посетил их страны, большое спасибо.
Америца, дай мне паспорт и визу-карту, чтобы я смог погрузиться на судно.
Из нашего города ходит такой пароход, дайте мне денег, чтоб я уехал, дайте мне визу-карту паспорт
Что.
Я могу играть в футбол, гандбол, валибол. Не знаю я никакого валибола. Разве я стал бы убивать тогда из пистолета, из такого оружия. А если этого человека повалили и забили. Если он умер, от побоев, я его не убивал. Его завалили и били, а я его не валил и по голове не бил, и нигде. Я в футбол играю, не в валибол.
Чужаки это туристы. Во все времена не во все времена. Но и среди чужаков попадаются сильные, если они такие, кто об этом думает, и все-таки попадаются. Может тот, который умер, хотел ограбить кого, может и хотел, кто теперь скажет, турист здоровенный, сильный, еще и борец, кто скажет, мощный мощный мужик, мужчина-турист, некоторые опасны для других, для нас.
А этот, который умер, кожа да кости, сколько ему было лет, двадцать семь, а вес, кожа да кости, куда ему было драться, я так не думаю.
Я не говорил политический. Встречаются политические, он не был. Я его не знал, может и был, возможно так, некоторые могут быть, не политические политические, может и он. Некоторые также грабители, да, они политические и еще грабители. Все мы сами, мы человеческие существа. И он был человеческим существом, [д]ожидался у этого клуба, где могут быть женщины и девушки, и из-за туристов.
Если он там торчал, так чего он там торчал. Да, который умер. Был ли он моложе или старше, старше, чем кто, моложе, чем кто. Ему нравились женщины, да, девушки тоже, и он ждал туристов-мужчин, зачем он так ждал, отобрать у них деньги, ограбить их. А может его мужчины-туристы захотели, если тогда. Некоторые говорят, женщины, а на самом деле мужчины, они говорят, женщины, если женщины, чего же они тогда мужчиков ищут, может мужчины-туристы захотели его, может и так, он был человек молодой, если был, не знаю
все что угодно
Люди говорят про меня, политический, что это значит. Футбол да, футбол, это мы понимаем. Я перешел через холм, проследовал по дороге, пересек улицу, проследовал дальше и пришел туда. Там клуб, там футбол, стадион, трава для этого. Я же играл в футбол и разбирался в футболе, как тут у вас насчет футбола. Тут девушки, тут женщины, туристы.
Я не знаю. Политический не политический. Не знаю.
Что значит политический? Кто-то приходит и отбирает у тебя деньги, отбирает твое имущество, насилуя твоих женщин. Я не знаю. Может он был зол на мужчин-туристов, может и был. Что должно происходить. Некоторые при власти, некоторые в начальствах, ставят себя выше других. Да, есть безопасности, и также есть террористы, как он, который умер, как это известно. Для меня он проблемой не был, мистер кожа да кости, с чего бы это, что, какая проблема? Политический грабитель террорист грабитель, мистер ломкие кости, какой он мог быть проблемой? Нечего ему было делать в том клубе, клуб для мужчин-туристов, а он там зачем, грабить этих мужчин, чужаков нашей страны, приносящих наличность в нашу страну, кто дураки, эти мужчины не дураки, это может он так считал
49. «куда, как»
Куда угодно, просто куда угодно, такая у меня была потребность, да, бежать с этой территории. Я не мог понять моих собратьев. Я был взрослым. Я не просил детских объяснений. Предлагаемых детям. У нас были собственные дети, наши дети, искавшие нашего наставления. Как бы им так созреть, им требовалось развитие. И они бы стали взрослыми. Какого сорта взрослыми могли они стать. Им требовалось наше присутствие. Но человеческих существ, как ответственных, как взрослых, индивидуальностей, а не подобий их самих.
А мы были, как дети. И если мы были такими, да, то почему. Стали такими. Как это случилось, что мы сделали, или это сделали с нами.
Да, это правда. В нас не видели совершеннолетних существ. Да мы и не были. Такого о нас сказать нельзя. Никто не наслаждается унижением.
(Я должен был уйти, куда угодно, только и всего, вот так.)
Они говорили о нас так, чтобы мы слышали. Да, мы присутствовали тогда, мы их не остановили. Разве положение народа не общепризнанно.
Нашим положением было отсутствие уважения. С нас можно много чего спросить, что мы принимали участие в нашем собственном порабощении.
С нас и спрашивали. Что это значит. Вот об этом нас спрашивали. Надо было уйти. Не сейчас, не тогда. Стало быть, не уважается, и сейчас я могу сказать, как человеческое существо. Я это понимаю. Это не могли быть другие, да, также, я это понимаю. Но мне следовало уйти.
Как нам следует добиваться этого.
Как нам следует соглашаться с нашим порабощением.
И какую оно принимает форму. Нам надо стать крестьянами, детьми, малышами в песочнице, кухонной прислугой, мальчиками на побегушках, ждущими, когда им бежать.
Я спрашиваю сейчас, спрашивал тогда, завтра. С нас можно спрашивать. Но тоже не до бесконечности. Я тот, кто овладеет оружием, любым оружием, какое есть, могу я его получить, так давайте, я управлюсь. Вот это обо мне сказать можно, и также
не также, я бы куда угодно
Хорошо бы, чтобы оно так и было. У меня ребенок.
Но я был разбит и не мог сделать ни одного движения, не мог сделать никакого движения. Мои лодыжки и запястья, и плечи тоже, не способен высвободиться или заснуть, даже этого, если бы пожелал. Раньше я мог спать, дух освежался, укреплялся, и раны заживали, тело прекрасно. Сон восстанавливает силы.
Всему этому настал конец. В этом смысле, это было все равно что
Что я могу выбирать.
Каждое утро выволакивать себя в сознательное состояние. Я мог бы умереть, я и хотел бы этого, во множестве, множестве случаев, а продление, существование посредством ненависти, извращенность. Разве это для детей. Дети убивают, из-за неразвитости чувств.
Я могу сказать так: никому наше выживание нужно не было. С этим как-то трудно примириться!
Я мог бы быть где угодно
не то, чтобы я тоже согласился с необходимостью этого, я это понимал. Я смотрел на наших детей, как они там, тоже поняли все, тоже согласились. Думаю, согласились. Все дета. Какой возраст считается детским, три года, двенадцать лет. Тут различия могут быть не в интеллекте.
Мы видели наших детей. Да, и снова да, да да да да. И девушек, конечно женщин, наш город ваш город любой город.
В некоторых женщин нет. Их не было с нами, но зато потом.
Никого рядом.
Какая разница.
Так ощущало мое тело, оно как будто выволакивало меня, я не знал, что мне делать.
Нет.
Я ничего не знал, кроме того, что должен быть где-то еще, где угодно
что мы говорим
50. «такое случается»
Я шел и шел, не знаю, как долго. Конечно, в собственных мыслях. И там был изгиб дороги, легкий, но достаточный. Я подумал, что это животное, крупный заяц, неподвижный, в середине пути. Тогда я это в первый раз и увидел. И только подойдя довольно близко, понял, что это человек. Это был мужчина, маленький мужчина. Я решил, что он в сидячей позе. Не увидел в этом ничего необычного. А уже ближе, почти совсем рядом, я услышал и заметил жужжание насекомых, мух, самых разных, также и по размерам.
Веки у него были закрыты. Я не стал много осматривать. У меня имелись свои дела. Если мужчина мертв, для него уже ничего нельзя сделать. Потом об этом подумаю. Мне предстояло вернуться меньше, чем через два часа.
Я просто разгрузил голову. В недавний период я находился под большим напряжением. Я справлялся. Это такое, как тогда, позволяло мне, чтобы я мог утверждать потом, что справлялся, сейчас.
Руки и ноги у него были голые, ступни чем-то прикрыты, у этого мужчины на дороге. Обуви не было, я бы сказал, что не было. Не могу ясно вспомнить. Чем-то прикрыты. Не знаю.
Волосы в беспорядке, редкие и седые, на вид грязные. Возможно, это только цвет, седина. У меня сильное впечатление пыли на его голове, я бы сказал, что была. Мухи жужжали здесь и вокруг, разведывая. Запаха не было. Я пошел дальше, пошел.
Да, я выбросил это из головы. Я умею выбрасывать из головы. Конечно, такие вещи вызывают тревогу, и я определено был встревожен.
Но настроения мне это не испортило. Я уже стал знатоком, для меня это не оскорбление. Я приобрел это. Решительность, такую решительность, силу воли, вот что я развил, и был этим доволен.
Я шел боковой дорогой, вдоль края леса. Ветви нависали над головой. Я не очень хорошо знаю эту местность, какие тут деревья, но, конечно, разные. Солнечные лучи никогда на дорогу не падали, так что если несколькими днями раньше шел дождь, грязь оставалась надолго, даже на многие дни.
Для меня это тогда была привычная прогулка, в этих местах. Я приходил туда всегда одной и той же дорогой, редко отклоняясь. Единообразие не изъян, я бы сказал, оно даже приятно.
Но эта местность могла все время меняться. Начиная с осеннего периода, который как раз тогда наступил, краски менялись каждый день, и я этим всегда наслаждался. Смрад я здесь заметил бы сразу. Мог быть и тошнотворным. Не знаю, я не дышал через нос.
То, чему мы научаемся, оно приходит к нам инстинктивно. Это часто так, результат опыта.
В моих занятиях, я человек опытный, да. Я бы заметил изменения. Да я их и замечал. Именно это и делал. В другом случае, там же, поблизости, я помню, на берегу был свален улов.
По моим воспоминаниям это был улов.
Моллюски, брюхоногие, вот что это было. Время сухое, все гниет под солнцем. Вонь тогда была сладковатая. Эти запахи на краю леса всегда отличались. Я бы заметил, если иначе.
Я говорил, тот день был тогда жарким, влажным, я обливался потом. Это уже сойдя с тропы, я стянул с себя рубашку, вышел из подроста, и впереди раскинулись горы, и настроение у меня стало такое приподнятое. Всегда, где есть чувство свободы. И воздух тоже, все в целом, все вещи. Свобода может быть реальной. Достижимой. Конечно, достижимой.
Я шел налегке. Завязал рубашку вокруг поясницы. Мог и оставить ее у дороги, но не стал. Я же не знал наверняка, что возвращусь туда, не заранее, не раньше этого.
Синее небо над горами, белые облака.
Я отсутствовал только пятьдесят минут, один час. Не больше. Других человеческих существ, животных, белок, кроликов, оленя, я не видел, никого. Только птиц, различных птиц. Да, в другое время целых два часа, с легкостью, но на этот раз всего один час и уже пришло время. Время возвращаться, думая теперь о мужчине, о теле мужчины, трупе. Что бы я мог сделать. Конечно, я мог доложить о нем, о трупе, дать показания. Ну а пока-то – что. Со мной не было ни одеяла, ни плаща, чтобы я мог укрыть его, может спрятать, оттащить на край, с дороги, в заросли. И что тогда. Так он станет лишь более удобной добычей, только и всего. Другие могут сказать, что они сделали бы, что сделали бы, если, это они сказать могут. Имеют право говорить сколько хотят. Я говорю лишь о том, что сделал, какие мысли приходили, если я их помню сейчас.
Возвращаясь по той дороге, я, как и раньше, увидел впереди труп. И гораздо больше жужжащих мух, намного, намного больше, уже усевшихся на него, целые полчища, повсюду, лицо и шея, голые конечности, повсюду, везде, голая кожа и в волосах, жужжат в волосах. Да, это было ужасно, когда человеческое существо, один с другим, видит такие вещи. Конечно, меня затошнило, конечно.
Надо было пройти мимо него, я должен был, так что подходил все ближе. Сойти с дороги и обойти стороной, нет, этого я сделать не мог, не это. Я приблизился и прошел мимо, глядя в землю перед моими ногами. Там мягко, всегда мягко. Я не мог смотреть, не мог, как другое человеческое существо, собрат, это был мужчина, да, конечно, и это ужасное, оглушающее, это жужжание, такое громовое, я не мог заставить уши не слышать его, жужжание. Множество, множество мух, крохотных-крохотных, да, комары, и крупнее, тяжелые, в пятнах, они смотрел на меня, и этот, ох, один только их шум. И тут я заорал. Я заорал. Это само из меня вышло. Я не думал так делать, ни останавливаться, я не мог. Вспугнуть и разогнать их. Эти мушиные полчища, стервятники, они питаются нами и выживут, когда нас не станет.
Да, я заорал.
Нет, я не религиозник. Это могу сказать о себе, что я не религиозник, не верю ни в бога, ни в богов, это вызывает у меня раздражение. Я начинаю злиться от таких представлений. Я не стыжусь. Зачем. Я начинаю злиться. Да, начинаю злиться, и стыдиться мне тут нечего. Это пусть другие стыдятся. Да, я называю себя социалистом. Я социалист, социалист.
Как бы я это сказал. Существует ли путь. Нет, я так не думаю. Я не знаю, что желательно. Не знаю.
Но эти насекомые не враги. Мне. Или еще кому. Они не враги. Я так говорю.
Да, меня вывернуло наизнанку, я говорил. Так и говорил. Вырвало, это было. Но я видел, что на них это почти не подействовало.
На насекомых.
Я прошел мимо.
Я сказал, на них почти не подействовало. Голос это оружие. Мы, как человеческие существа, владеем различным оружием, многими разными. Да, такова была мощь моего крика, я чувствовал, что-то от него должно задержаться, захваченное здесь. Я не знаю. Звук материален. Звук порождает вибрации. Удар грома может сотрясать дом. Женщина, у которой умер ребенок, ее вопли. Все это материально, предметы мира. Звук, который я издал, этот крик. Я не могу сказать, но, казалось, он не имел последствий, на мух он почти не подействовал. Так я думал. И вдруг сзади меня, не меньше чем в десяти шагах от тела, там какое-то волнение, я услышал его, жуткое волнение. Я оглянулся и увидел труп, что он движется, я это увидел, тело мертвеца двигалось, да, оно двигалось. Из сидячей позы. Сидячая поза, такая была у него. Труп наклонялся. Но тут задергались ноги. Определенно задергались. Потом еще раз. Мухи разлетелись. Правда, не далеко, после вернулись. И тело лежало спокойно. Теперь тело лежало спокойно. Труп, пустая оболочка, да. И еще я увидел, что глаза открылись. Открылись в какой-то миг. Больше я ничего сказать не могу, и сделать ничего не мог, может там и была жизнь. Какая-то жизнь там была, определенно, я бы сказал, что это возможно, определенно возможно, но не теперь.
Я говорю, что там могла быть жизнь. Да, это я так говорю.
Я не стыжусь. Чего. Тут нет ничего, чтобы я должен стыдиться. Я приспосабливаюсь, так же. Я приспосабливаюсь. Мы приспосабливаемся. Мы все приспосабливаемся, вы и я, нас таких много. Нет, никакой вины я не ощущаю.
Да, это я так говорю, я говорю это. Тот миг. Когда я увидел движение, движение тела. Ну и что из того, воздействие, когда я заорал так, так громко, так очень громко, не знаю, как громко, но, да, я завопил, это был пронзительный вопль. Мы же все люди. Глаза открыты. И ничего больше сделать нельзя.
Да, я это и говорю. Такой период, ничего нельзя сделать, это был такой период.
Да, я ушел. Я так и сказал.
51. «руки у нее сложены»
Имя индивидуального существа имеет значение, это я знаю, но также и то, что следует делать, я знаю, по себе не по себе, что делать, что я это должен сделать, если я это могу, то сделаю, я не препятствую продвижению, мы продвигаемся вперед, мы должны прогрессировать, как же в этом можно сомневаться, только не я.
Когда она разговаривала со мной, то всегда старалась не улыбаться, руки у нее были сложены под грудью. Мне приходилось отводить от нее взгляд, уходить от нее, ее из моего ума. Да, это была она и ее улыбка ко мне. Это сентиментальность. Я не знаю, может и умерла. Сентиментальность происходит не от этого. Она может быть мертвой, но эта память о ее улыбке. Я могу лежать целую ночь без сна, и шумы от других, и у меня на уме ее улыбка ко мне. Кем она была, руки сложены там и улыбается. Да, мне. Я уже говорил. Что можно тут отрицать, и кто это станет.
Это возможно, я так не думал. Если возможно, то не я.
Люди добиваются узнать это, но от меня не узнают, мое, от меня. Другие мне не важны. Я других людей не обвиняю. У них свои жизни, у нас наши жизни, мы проживаем их индивидуально, один, другой, один с другим.
что, если я должен сказать, то что это.
Образ теперь стирается, если от меня требуют этого, да, я больше не вижу ее так ясно, ее улыбка печальна, была печальна, или стала. Я не признал печали, если она была раньше, видел только улыбку, руки сложены, под грудью, характер женщин, улыбки создаются из нас самих, деталь характера, детали, тех женщин, мы, мужчины, улыбаемся.
Знал ли я кто она, это, что ли, я должен сказать, нет, не думаю, я не думаю, что это возможно, чтобы она ускользнула из моего ума. Я мужчина, один. Другие тоже ее видели, мужчины видели ее. Можно спросить и у них, не спросить
Ускользает ли она из моего ума.
Что от меня требуется, я не должен лежать без сна, должен даже охранять мой ум, не давать ей войти, что это за женщина, кто она, что мы, мужчины, должны делать не должны делать, если ее имя имеет значение, то почему, каковы последствия, если тут какие-то будут. Я сказал, ее улыбка всегда была здесь. Это моя память. Что мы можем понимать под памятью, этого я вам не скажу, все и так знают, я один, да, один из всех, я не бог, существуют дети, мужчины, женщины, мы сами, кто мы такие, а я просто один из тех, и если имя ее существенно, то что я должен сказать, имя разоблачит ее, я должен ее разоблачить, это невозможно. Я лучше умру, убейте меня.
Да, я улыбаюсь. Я в безопасности, вот и все, она во мне. Это не кончилось. Мне все равно, так не так. Если это существенно для меня, так что это. То, что мужчина от женщины.
Когда она разговаривала со мной. Я говорил, она это делала, да.
Может она что и рассказывала, я не знаю, что это могло быть.
Я могу говорить, говорить не говорить, у меня нет сил. Я бы поспал, если можно поспать, то я бы поспал.
И если она придет ко мне, она может прийти, среди шума других, которые тоже могут спать, во сне, среди сонных шумов.
Я улыбаюсь, в ее память, в память о ней, я улыбаюсь теперь, со мной не память о ней, со мной она, и руки у нее сложены там, она всегда такая, живая, и улыбается мне, присутствует здесь, и сейчас, сейчас.
Это был взгляд, этот вопрос. Я бы сказал это, мужчина, как человек. Беззакония существуют.
Беззакония существуют. Беззакония практиковались. Говорю это теперь. Если вы способны услышать. Нужно, чтобы меня услышали.
Для других тоже, это было бы обращением к ним. Методом обращения, как он практиковался. Я не питаю сомнений.
Мы были разными. Что есть идентичность, одного одному, другому, одного другому. Если он думает это я, это не так, он ничего не знает
Я могу ошибаться, она может ошибаться, могли.
Я ошибаюсь и сейчас. Сейчас я не ошибаюсь. Я могу ошибиться. Могу это сказать. Но в той стране это было от их лица, вот потому я там и был, и она тоже. Я не говорю, что не от своего тоже, этого я не говорю
Я тогда мог ошибаться.
Конечно. Я ошибался. Что можно признать. Ошибку. Конечно, ошибка, мы все ошибаемся, и я ошибался. У людей имеются мысли, и у него были. Он был мужчиной. У мужчин имеются мысли. Другой причины не знаю.
Человечность вот причина. Ну расскажите мне.
Существует нечто, так можно сказать, о ее людях. А что про нее. Можно также сказать об их детях, сказать это, как о них
как о них.
Все, что я должен был знать, мне было известно. Если бы я пожелал, то мог бы узнать и больше. Возможность изучить мне предоставили бы.
Был еще другой коллега, о котором предмет расследования. Если я должен сказать, это так говорить нельзя, я не могу.
Что я должен сказать, как это может быть сказано, в какой форме, как это можно осуществить
Работа моего ума
может я должен говорить о моем уме, о его емкости, полной емкости, об уме и его работе
Что есть хорошая емкость. Полная емкость.
Нас поощряли к ознакомлению с концепцией.
Нас двоих, меня ее. Также, существуют ли усилия, о которых мы говорим. О них уже говорилось. Когда? Между мною и ей. Мои усилия и ее
Я теперь понимаю, что для полноты успеха им требовалось, чтобы мы верили в общность почвы, что она существовала.
Почва есть почва.
Эту почву можно назвать землей. Некоторые так и называют. Я не могу, не могу объяснить, про эту почву, как она может оказаться землей. Потому что земель так много! Человек должен знать все земли. Наша второсортна, всегда, и для всех. Я знаю все языки, я уже говорил, и потому я второсортен. И для всех людей, если это существенно, то существенно, хоть это не было так, не так и сейчас.
Другие и эти люди. Этот другой, предмет расследования.
Тела. Еще говорят труп, трупы.
Я или мы. Я их видел, осматривал одного за другим, видел и этого, и второго, и третьего. Я думаю, да, я тоже отец и для всех этих людей.
Мы становимся отцами [матерями]. Отцами, но не родителями. Я могу быть отцом. Я и есть отец [мать]. И я не родитель, не являюсь родителем. Я, убийца детей.
Я убийца. Убийца детей.
Эти вопросы, мы ставим их, спрашивая себя
Такая вера есть императив. Мы ее теперь принимаем. Я тоже ее принимаю. Теперь. А как это было тогда. Может и тогда, как теперь, ибо так могло быть. Мы хорошие логики, убийцы
И также я был осведомлен об этих других. Она тоже была одной из таких. Это началось с их разговоров, как они этого достигнут. Они размышляли про нас, о нас, о нашем знакомстве с ними, с их собственными людьми, как это должно их порадовать. И также об их знакомстве с моими людьми.
Так они себе это думали,
они знали моих людей, так они думали, близкое знакомство, так они думали. Но в этом те люди были дураками, тогда, как и сейчас.
Я к ним зла не питал, и все-таки это было лицемерие. Это лицемерие не было ни забавным, ни оскорбительным. Их способ описания моих действий перед лицом равных нам, возвещающим о свободе и о ее цене, и чтобы обрести ее, я стал их сообщником.
Может они думали так напасть на меня, но как они могли, я не понимаю. И все же напали. Я был бы на рубеже, и там бы меня удержали. Меня окружали коммуникации. Я был на том периметре, вроде как жил там. А у них имелись вещи, которые они могли потерять, коммуникация с таким, как я, могла привести их к этому исходу. Ну и понятно, они противились довериться мне. Который возложил бы ответственность, выдвинул бы обвинения.
Тушераздирающе.
Мне эти люди не нравились. Быть может, я ожесточился. И я им не нравился. Они не имели ко мне уважения. Они видели горы, я видел горы, они видели горы своего дома, как и я тоже, да, я видел дом, как они говорят «их», их горы, я могу сказать «мои», мои горы, наши горы, они говорят земля, я говорю почва. Они ничего не знали о моем языке и все-таки верили, что знают, верили по невежеству. Их научили, будто они знают, дали знакомство с этим языком, и все же я был второсортен, становился таким, как и она тоже
а после
Мне эти люди не нравились.
Тушераздирающе, так я это услышал.
Чем может быть насилие, растление. Мы можем знать все слова, слова всех языков. И что тогда они значат, мы выносим об этом суждение.
Я был второсортен, она была второсортна
54. «это правда»
Я не могу сказать о начале или началах, если и существует причина всего, я ее не усматриваю. Есть события, я говорю о них, если я должен о них говорить, то вот, если я вправе сказать.
Примечания
1
Доброй ночи (франц., исп.).
(обратно)2
Девушка, одно пиво, два пива, спасибо (нем.).
(обратно)






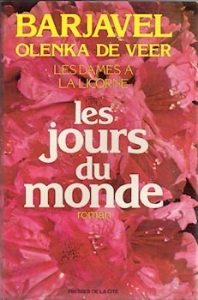

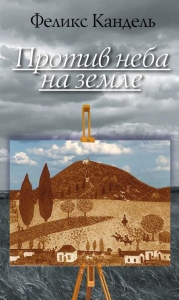
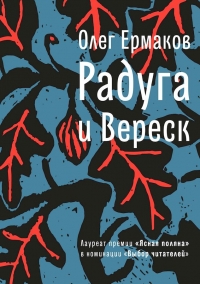

Комментарии к книге «Перевод показаний», Джеймс Келман
Всего 0 комментариев