Александра Чанцев Желтый Ангус
© Чанцев А., 2018
© Издательство «ArsisBooks», 2018
© ООО «АрсисБукс», дизайн-макет, 2018
© Шатов А., дизайн обложки, 2018
Часть 1. Время цикад
090-8796-0214
Её сборы. Начинается всё с лица – на него кладется слой белил. Потом помада цвета засохшей крови. Все кореянки красятся, как шлюхи. Я как-то поспорил с Катей на лекции, кто сидит перед нами – китаец, кореец или японец. Была видна только его спина и рюкзак. На рюкзаке брелок с лицом девушки. Его гёрлфрендши или просто певички. С таким же бл…дским мейкапом. Я сказал, что это кореец, Катя – что японец. Потом мы подсмотрели, на каком языке он пишет конспект – Катя купила мне пачку Winston’a…
Делая голос моложе ее самой лет этак на 15, Хён, натягивая джинсы, говорит, чтобы я отвернулся. Джинсы натягиваются еле-еле – и на эскалаторе в метро, стоя за ней, я незаметно провожу рукой между ее ног. Тикан! – она оборачивается и игриво бьет меня сумочкой – ей это нравится… Тиканы – это извращенцы, которые в давке в метро щупают японок. Так эти дуры даже не возмущаются! У них, наверное, когда им под юбку лезут, конфликт в душе – с одной стороны, хочется заорать, с другой – как же, на мужчину, потенциального босса… Да и орать неприлично! А от этих мыслей их бедные рисовые мозги закорачивает – японцы не умеют думать о двух вещах одновременно. Только недавно они начали давать отпор. Это достижение долго и с упоением обсасывалось в прессе. Ура, рождение японского феминизма – теперь японки ничем не хуже американок! А еще в Токио пустили специальные вагоны метро с надписью «только для женщин», куда мужчинам, то есть потенциальным тиканам, нельзя. Очень по-японски решили, да… У нас в Кансае таких нет. А жалко – сфотографировать б.
На Сидзё-Каварамати, у выхода к Камогава, нас ждет американец Иэн. Фигура в два японца ростом, на лице от затянувшегося на годы воздержания постоянная похотливая улыбочка. У него такое воздержание, что он, кажется, и на меня с Тони, и на уборщика в универе так смотрит. А при виде Хён эта улыбочка расцветает. Он ее явно хочет. Как ни странно, она была бы не против: как-то она пошутила, что лучше бы она с американцем вместо русского. «В Америке очень много корейцев. И визу туда корейцам получить очень легко, не то что в Россию». Ну-ну, давайте, ребята… Только сколько ты выдержишь ее характер, а ты – его тупость? А твои пьяные истерики по полночи он будет выносить, а? Как ты думаешь?
Мы спускаемся по одной улочке, мимо мелкого канала – над илистым дном с двух сторон дугой свисают ветки ивы, еле приоткрывая воду. Как часа два назад виденное – волоски, прикрывающие ее губы… На волосках, как капельки росы, белела моя сперма. На ветках ивы – белые подтёки голубиного помета. И ее п…зда, и эта реченка пахнут одинаково – как те сыры, с гнилью, продаются у нас в дэпато, маленькими такими кусочками, дико дорогие, как-то купили, а есть невозможно.
Ресторан мы тут знаем – недорогой, но вполне приличный. На втором этаже у входа снимаешь обувь и запихиваешь ее в целлофановый пакет. Как сменку в начальной школе.
Зал, как всегда, полон. Замотавшиеся кондиционеры не справляются с чадом. Шум голосов на миг исчезает, когда повар за стойкой в центре зала бросает на раскаленную жаровню осьминогов или куриные шашлычки на палочках… Переворачивает раз, другой, подцепляет и – выкладывает на тарелку. Тарелку подхватывает официантка, студентка на байто, и несется, чуть не сбивая тебя… Ее «извините!» обдувает тебя, когда она уже пробежала… Столика нет – нам приходится сесть за стойкой. Хён посредине, я – у края. Оба любят поговорить – я могу помолчать. Уже хорошо. Обсуждают они, как Иэн начал поднимать тяжести в спортзале в универе. Вчера он не смог удержать штангу, и она упала ему на голову. Его даже чуть потошнило, а сегодня на голове шишка. Хён очень жалеет «бедного Иэна», щупает под волосами шишку – «оо!..» Предлагает потрогать и мне, но, слава Богу, Иэн не горит желанием. Когда он отворачивается, чтобы заказать еще пива, Хён пихает меня и фыркает, показывая на Иэна. Да, это в его стиле…
Они о чем-то говорят. Я смотрю на соседние столики. Рядом с нами девичья компания, мини-конкурс уродин. Все три больше говорят по мобильным, чем между собой, и непрерывно курят.
На барной стойке – сверху, где иногда прикрепляют стаканы вниз головой, у них навешены всякие безделушки. Амулеты, множество колокольчиков, связки перьев, поделки из бисера. Похоже на фенечки, которые мы делали в школе из бисера. Когда такую фенечку дарили тебе, то, надев, зажигалкой запаивали концы двух лесок уже на руке. Казалось, что это навсегда. Где-то в одиннадцатом классе, перед поступлением, я их всех срезал, сложил в пакетик и убрал в письменный стол. С тех пор не открывал тот ящик, ха, потому что воспоминания умирают и пахнут пылью и гнилью. Есть ли у пыли запах? У гнили точно есть, как у ее… Но они замолчали и ждут, что я поучаствую в разговоре, не только в пиве.
– Иэн, тебе нравится Сэлинджер?
– Сэлинджер? Да, я читал его в колледже.
Все американцы «читали его в колледже». Я опять рассматриваю фенечки над стойкой. Не сказать, что я жалею, что забыл, о чем думал. Пиво начинает действовать. В жару всегда так – как объясняли японцы, влага выходит с потом, поэтому клетки быстрее всасывают новую влагу и спирт в ней. Бл…дь, думается одна хрень…
Когда Иэн выходит отлить, Хён начинает спешно объяснять мне, чтобы я заказывал себе побольше:
– Как Иэн, посмотри! Мы все сложимся и будем платить поровну, так что надо заказывать побольше. Неважно, кто сколько съест. Закажи твои любимые эноки в ветчине – я видела их здесь, вот, в меню, смотри…. 450 иен, не так уж и дорого. Ты же днем мало поел…
Эноки, грибы белого цвета, бледно-поганочного такого вида, не тоньше стержня от ручки, продающиеся охапками, как у нас салат или укроп. Завернутые в тонкий ломтик ветчины и проткнутые зубочисткой, брошенные на пару минут на жаровню, и посыпанные крупной солью – да, я это действительно люблю…
Но мы уже ничего не едим, а больше пьем. У Хён пот начинает разъедать ее белила; из-под них проступает кожа цвета трупной бледности, а местами – красные пятна. Красные пятна означают, что она уже изрядно окосела. Она что-то говорит, много, больше обычного, и много курит, таская сигареты из моей пачки. За моей зажигалкой мне каждый раз приходится тянуться через ее тарелку. Посмотрев, как я очередной раз пытаюсь ее достать, Хён лезет в сумку, долго копается и, наконец, достает свою сумочку, в которой у нее пачка и зажигалка. Иэн тоже хорош. Я же пьян уже после второго пива – перед тем как ехать, мы дважды по…блись с Хён. После этого меня сразу разводит.
Когда Хён уходит в о-тэараи, Иэн долго смотрит ей вслед. Он мне завидует. Хён нет долго – она заново румянит лицо – поэтому Пэна начинает нести. Повод – он просто засмотрелся на прошедшую мимо задницу:
– Я вообще не знаю, нужны ли мне еще женщины. Мне так нравятся их задницы и их лица, но я знаю, что я не буду с ними счастлив. Иногда мне хочется быть монахом. Я хочу женщин, но не хочу терять свою свободу. Сложная ситуация. Я хочу женщину, которая бы мне нравилась. Но я не хочу влюбляться в нее. То есть единственный выход – женщина, которая бы мне не нравилась. Тупик! По-моему, я уже готов все бросить. Я долго ждал этого момента. В женщинах не найти удовольствия. Нет, какое-то есть, но очень ненадолго. Это как книга. Она начинается медленно или быстро, действие развивается, достигает кульминации, а потом все заканчивается. И тебе остаются только воспоминания. Они могут быть прекрасными, яркими и цветными, удовольствие и боль, но они заканчиваются снова и снова. И что делать? Остается только найти следующую.
Он закуривает следующую. Закуривает со стороны фильтра, хотя в начале вечера шутил, что знает верный способ, как определить, готов ли уже кто-нибудь – если закуривает не с того конца, то готов. Не улыбается и не злится, а тупо смотрит на сигарету, а потом мнет ее в пепельнице и закуривает другую. Теперь правильно. Щурясь, отстраняясь от дыма, он продолжает.
– Ты что-нибудь знаешь о дзэн-буддизме?..
Вообще-то у нас с Йэном один scientific advisor по буддизму – Асада-сэнсэй. Но какая на хер разница?..
– …Я сейчас читаю об учении Догэна, основателя школы Сото в дзэне. Довольно тяжелое чтение, даже на английском. А еще я читаю книгу про Банкэя. Его учение очень просто. Я не так много знаю о буддизме, but I think that it goes straight to the heart of human existence. Я чувствую это. Это больше, чем просто учение. Вчера вечером я пошел в бар. Я недолго сидел там. Мне становится тоскливо, когда я в баре. Нет, я веселюсь, пью, но я вижу вокруг женщин, одних женщин, часто, всегда красивых. И я понимаю, что они никогда не будут моими. Почему вообще я должен хотеть их? Кто сделал так, кто заставляет меня хотеть? А я хочу, я раб своих страстей. Я хочу прикоснуться к их телам, дотронуться рукой до их лиц, их красивых лиц. Я чувствую сансару. Ты знаешь буддийский термин сансара? По-японски это называется риннэ. Это колесо жизни и смерти. Есть шесть сфер. В самом верху рай, а в самом низу ад. И мы постоянно вращаемся вместе с этим колесом. Сначала чувствуем удовольствие, а потом нас бросает прямо в ад. То же самое и в баре. Ты видишь классную девушку и надеешься подойти к ней, уйти с ней. И тебя бросает в ад, когда ты видишь, как она уходит с другим. Или даже одна. And her ass mocking you as it fades away. Вон как у той, которая только что сидела за тобой…
Виляя туго оджинсованными бёдрами, возвращается Хён. С неудовольствием смотрит на полупустую кружку и отодвигает ее – чуть выдохшееся мы не пьем:
– Заказали?
После туалета и восстановления мэйкапа она обычно трезвеет, но тут начинает нести уже ее. Виноват Иэн – он целый вечер завистливо и умильно пялится на нас, говорит, как нам завидует, what a perfect couple we make. А тут еще его угораздило спросить, где мы собираемся жить после Японии, в России или Корее. Пэну нравится Корея, там такие красивые девушки.
– В России вообще-то не хуже…
Но тут вступает Хён, начиная подробный рассказ, как хорошо мы смогли бы жить в Корее. Саша бы выучил корейский – если выучил японский, то легко бы выучил и корейский, он легкий и очень похож на японский. Грамматика вот вообще одна почти! И тогда я бы мог выступать на телевидении – на корейском телевидении очень много таких красивых иностранцев. Они ничего делают, только рассказывают что-нибудь из своей жизни. А им платят только за внешность и за то, что они говорят по-корейски! Много платят! А такой красивый иностранец, как Саша… Все бы молодые кореянки-зрительницы влюбились в него… Хён бы даже чуть ревновала, но она в меня верит. Ведь я только ее, правда?..
Иэн полностью согласен с этим планом. «В Корее такие красивые девушки!» Если раньше, во время своего монолога, он чуть не плакал, то сейчас он – само блаженство. Он в восторге от плана Хён. Американские горки сансары подкинули его, видать, в самый высокий рай.
– Так почему ты не едешь в Корею, Саша?
Но ему никто не отвечает. Обращаясь к нему, Хён рассказывает мне наш План № 2. Что она выучит русский и приедет в Россию. Сначала учиться, на полгода или год, потому что она тоже быстро выучит русский, они, языки, ей легко даются. А потом найдет работу. Ведь в России, я ей говорил, много корейских фирм. Она уже начала учить русский.
– Вот, Иэн, послушай… Это по-русски! Это значит…
Про Россию – это на самом деле наш План № 1. То есть принятый и одобренный на настоящий момент. Но-но я слышал его уже сто раз. Решив, что пока хватит, Хён останавливается. Иэн, блаженный и красный, что-то спрашивает. Не слушая его, Хён предлагает перейти в другой бар. Общаться весело в баре. Долго общаться в одном баре – не весело. Корейский этикет… Йэн не против. Он отведет нас в бар для иностранцев, где он часто бывает! Каждый кладет за себя деньги и берет свои сигареты.
На улице влажный, как пропотевшая гриппозная простыня, вечер. Липнет к лицу, как паутина на лесной тропинке. По ярко освещенным тротуарам, отороченным велосипедами и мопедами, валят вечерние толпы. Девочки, по две, по три, вцепились под руки друг другу – красная майка, белая юбка, туфли на босу ногу без задников шлепают по асфальту. Пот, пот… Офисные клерки в однотипных костюмах и выбившихся мятых рубашках. Подтянутые молодые сутенеры в черных приталенных пиджаках, узких черных галстуках и с зачесанными волосами, высветленными на концах. Парочки котяру – с копной волос цвета побелки и на огромных платформах, они ростом с Пэна. Много иностранцев. На углу под неонами люди-бутерброды раздают рекламные листочки суторипу-баров. Идти по этим объявлениям недалеко – только сверни в эти узкие улочки, незаметные с улицы между огромными магазинами, как 25-й кадр в рекламе.
Бар Pig & Whistle. Иностранцев действительно много. Между ними снуют утонченные японские педики, какие-то криминального вида заводилы, и, естественно, много японок. Одна сидит задумчиво за столиком в углу с английской книгой. Мне удается увидеть обложку – Сартр. Господи, да тебе лучше бы плакат с метровыми буквами: «Ищу американский х…й!».
Цены здесь повыше. Зато кроме этой японской мочи есть нормальное пиво. Даже какие-то ирландские сорта! На 1000 иен я заказываю стакан и арахис. Хён уходит в о-тэараи.
– О, сколько cheeks! – восхищается Пэн.
И мы тут же забиваемся с ним прийти сюда еще раз, когда я уже буду без Хён. Но ему не терпится – от вида свободных клеящихся японок его глаза разгорелись, и он даже протрезвел.
– Man, let’s play our game with ‘em!
Wow, Пэн даже говорит по-английски! Он так любит говорить по-японски, что я даже удивляюсь, когда слышу его английский. По-английски он может говорить только в двух случаях: когда очень пьян, либо в виде большего ко мне расположения. Из-за того, что он говорил только по-японски, даже среди европейцев в курилке, мы и стусовались на полгода позже: я считал его свихнувшемся на японском дебиле, он же – что я, как и японцы, использую его as a native English speaker.
Our game – что мы двое русских, немного говорим на японском, но совсем не говорим по-английски. Так Иэн спасается от того, что he hates the most – что с ним, англоязычным, все японки начинают говорить только по-английски, юзают его. Но нам не верят: Иэн – стопроцентный американец, с германскими корнями, меня же с Тони в Японии принимают за кого угодно, только не за русских… за ирландцев, финнов, французов… больше всего, мы подсчитали, за французов. Почему? «У вас имидж французов». Просто у японцев нет «имиджа русских». Или у нас его нет… На случай, если совсем не верят, Иэн может сказать пару фраз на русском. В основном матерных. В колледже в Аризоне он полгода жил в одной комнате со студентом по обмену. Из – Брянска. Господи, я не покажу на карте, где этот Брянск… Но Иэну тот Борис сильно запал в душу:
– Он мог столько выпить… А на следующее утро, когда я болел в постели, он будил меня и заставлял с ним делать пробежку по кампусу. Я чуть не умер!
Не успели мы решить про our game, как к нам подскакивает японка средних лет и куда-то тянет. Оказывается, на диван. Когда мы садимся – напротив тут же оказывается две японки помоложе. Откуда вы? Что делаете в Японии? Русские? Правда?
– Pshyol па hui! – выдает им для убедительности Иэн.
Но им все равно, откуда мы: напротив нас вырисовывается один парень сутенерского вида с фотоаппаратом. Японки быстро перебегают, садятся рядом с нами и – нас фотографируют. Эй, зачем? Повесить на стену, фотографии наших посетителей..
Я смотрю на стены и вижу, что там действительно фотографии разных европейцев – компании европейцев, дни рождения, европейцы вперемешку с японцами…
Тут появляется Хён с двумя стаканами пива. Один она сует мне. «Допиваем и идем». Она зла, увидев нас с теми японками. Японки, кстати, почуяли запах подгоревших эноки и сразу упорхнули.
…Что не мешает ей всю дорогу до станции поносить это место, этих японок и Пэна, который нас сюда привел. Да причем здесь Иэн-то? Сам он остался в баре. Слишком пьяный и замороченный, чтоб ему что-нибудь перепало…
«Сидзё» – подземная станция метро. До поезда около пятнадцати минут. Народу мало. Сидя на скамейке, мы видим, как мимо проходит та женщина из бара с теми двумя японками. Ее дочери? Но они не похожи друг на друга. Японка отводит от нас глаза. Мы целуемся. Я лезу ей под кофточку – после бара брюки еще сильнее давят на ее небольшой животик. Сидевший рядом на скамейке старик что-то ворчит, встает и отходит. Никто не смотрит в нашу сторону, старательно отводя глаза в газеты и стороны. Потом я поднимаюсь. Куда? В туалет. Она тогда тоже – идем вместе. Там, где разные двери с иероглифами «мужчина» и «женщина», я не отпускаю ее руку и затягиваю ее в «мужчину». Она пытается упираться, но ее каблуки скользят по кафелю – «Саша! Что ты делаешь?!» Оказавшись внутри, она испуганно замолкает. Увидев, что у писсуаров никого нет, я вталкиваю ее в кабинку и закрываю дверь. Слава Богу, защелка на месте. Да и фаянсовый толчок в полу чистый, без разводов дерьма. Я прижимаюсь к ней. «Подожди!», шепчет она, достает из сумки салфетки и тщательно стирает с губ помаду, которую нанесла перед выходом из бара. Потом с моих. Пока она это делает, я справился с ее джинсами и своими. Но устроиться в кабинке, чтобы еще не угодить ногой в слив в полу, трудно. Меня заносит, и я чуть не вышибаю перегородку в соседнюю кабинку. Грохот такой, что через несколько кабинок, где кто-то говорил по мобильному, разговор испуганно замолкает.
– Подожди… Дай я… Вот так… – шепчет она, ставя меня, обхватывая ногой и, чуть повозившись внизу рукой, вставляя меня в себя.
Наконец, с ее помощью, мы пристраиваемся. Я кусаю ей губы, ей больно. Я делаю всё очень грубо. Резко и очень быстро. В ней быстро становится мокро.
На стене как раз напротив меня надписи:
Отсосу. 090-1151-8352
Хочу секса с молодой девушкой. 090-8534-9168
Гей, 29 лет. Давай попробуем! 090-8796-0214. Хидэкадзу
Тут я все же поскальзываюсь, угодив ногой в толчок в полу… Чуть не падаю. Опять грохот. Твою мать, Хидэкадзу… Я выскользнул из нее…
…Потом она долго возится с салфетками. Опускается на колени и вытирает мой член. Заботливо водит по нему салфетками, скатывает кожу на головку и под конец целует. Потом приводит себя в порядок. У нее раскрасневшееся лицо, вокруг губ – все красное. У меня, наверное, тоже. 090-8796-0214. Ее лицо уплывает от меня – я не могу заставить его остановиться, не плыть, сфокусироваться на нем… Чтобы остановить это верчение, я хватаю ее голову руками и крепко сжимаю. 090-8796-0214. Она мягко отводит мои руки. Я так пьян, что не могу сам застегнуть джинсы. Она застёгивает меня, спускает ногой воду (салфетки) и мы выходим. 090-8796-0214, кричу я. 090-8796-0214!
На платформе уже никого нет. Последний поезд ушел. Уборщики в салатовых куртках высыпают мусор из урн в черные пакеты. Мы поднимаемся по остановленному эскалатору. Работники метро запирают выходы на улицу.
«Маттэ! Маттэ!» – они оборачиваются. Подозрительно смотрят. Не дав им опомниться, мы толкаем последнюю незапертую дверь и по узкой, закрученной, как раструб урагана, лестнице выбегаем на улицу. Отойдя, чуть не падаем от смеха… Оба закуриваем.
Так как метро закрылось, придется возвращаться домой на такси. У меня почти нет денег, у нее – чуть больше. Из потайного кармашка ее портмоне извлечён ее «ман на всякий случай» – из банкнота в 10000 иен.
– А ты на что поедешь, а? Не надо было честных девушек в туалеты затаскивать. Тикан! Вот оставлю тебя здесь!
Я курю, смотрю на нее, и мне становится еще смешнее. Я так не смеялся уже давно. С начальной школы, наверное. Или когда носил те фенечки…
В такси мы вспоминаем, что оба так и не сходили в туалет. Давясь от смеха, просим водителя:
– Пожалуйста, побыстрее! Мы очень спешим! Понимаете, так случилось, что мы опоздали на поезд и еще не смогли попасть в туалет. И на поезд, и в туалет… Везде опоздали…
Мария и снег
Они прилетали в Афганистан на собственных самолетах. Конечно, ночью, когда с воздуха территория лучше контролируется мусульманской луной, а не американскими самолетами, даже с радарами, боящимися этих острых, как концы полумесяца, пиков. Местность все еще регулярно прочесывалась самолетами-разведчиками, хоть и выжжена была от Африки до Индии, но американскому командованию как-то не верилось, что все закончилось. Сами за несколько дней до Большого взрыва открывшие «коридор» тем из руководства воюющих племен, с кем они вели тайные переговоры все время боевых действий, чтобы они могли скрыться в других странах, они чего-то еще ждали. Будто боялись, что если они сейчас уйдут, откроются замаскированные люки в земле и на корку застекленевшего сплавившегося песка ступят ноги тех, кто переждал Взрыв. Хоть таких и не было. Может, американцам просто скучно было в это поверить?
Они отошли от своих самолетов, и небольшие спортивные модели остались серебристыми стрекозами ждать их, зная, что не дождутся. Ветер играл в гольф мохнатыми мячами перекати-поле, похожими на измочаленные губки.
Земля здесь, рядом с очередной воронкой, похожа на перевернутый вулкан, под их ногами была мягкой и воздушной, как прах. Прах был еще теплым. Тени близких гор были странными, неестественными, и сразу не понять, почему. Только после, присмотревшись: они были слишком гладкими, без зазубринки, как мороженое, которое долго лизали. За горами дальше начиналась темнота, подсвеченная лишь дальними всполохами, будто за каждой из гор садилось по солнцу. Воздух пах жженой резиной, жарок был, легким его не хватало.
Они вышли на воронку-поляну, размером со школьный стадион, окруженную горами. Собрались в круг. И стали молча смотреть в образовавшийся центр круга. Где скоро зашевелился небольшой ветерок, завертелся штопором, постепенно вывинчивающимся из земли вверх. Небольшой, ростом с подростка, столбик ветерка поднялся на ноги, неуверенно еще, пьяный будто. Но вот перестал шататься, а начал шаманскую пляску. И заметался по кругу, образованному ими, словно вырваться из круга, прорваться вовне хотел. И кружился все сильнее, начал поигрывать мускулами, туго затягивая свой узел, в котором уже сдавил удавом поднятый песок и задохнувшийся в нем воздух. Посвистывая кнутом, растягивающимся в удар, и отливая свинцовыми боками, столб ветра вырос вверх до высоты пятиэтажного дома и потолстел до краев их живого круга. Задевая, он царапал им лица в кровь, зачесывал волосы на косой пробор, а потом стал и вырывать, обдирать вместе с одеждой и кожей с их тел ненужное. В шуме ветра, которого уже не было слышно, тела слетали, как ветхие театральные костюмы в гримёрке после премьеры, как кожа с цикады после линьки, как костюм Арлекина. Тела смешивались с ветром, разрывались в миг и уносились прочь, а от тел оставалось то, что было сильнее ветра. Прозрачные тени.
Но вот ветер окреп еще больше и, бесцветные среди пыли, песка и раскрошенных камней, тени втянулись в его жерло – появление джинна из лампы при обратной перемотке. Круто замешанные в песочном урагане, как колтун в волосах после Вальпургиевой ночи, они вплелись в дреды ветра, как ленточки в волосы хиппи. А сам ураган вдруг будто вырвало чьей-то рукой из земли, и, оторвавшись, он стремительно понесся прочь. У окрестных гор заложило уши и пропало, как молоко у кормилицы, эхо, а воронка поляны стала еще глубже; в нее теперь ссыпался песок не времени, но вечности.
Когда раструб урагана, раскидав клочья облаков, впился в ионосферу и присосался пиявкой к животу неба, в нем что-то треснуло. И скоро сверху повалил снег. Таял сначала в раскаленном воздухе, плавился на неостывших еще после всех взрывов земле. Но валило все гуще. И скоро горы вспотели селевыми потоками и жирными, как слизень, оползнями, а пустыни стали похожи на лужи, вспухающие под весенним дождем пузырями. Вспаханная ракетами земля жадно пила. После крови людей вкус растаявшего снега завораживал. Когда напьюсь, решила земля, рожу зелень и воспитаю из нее настоящий английский газон.
Мировой климат, спутанный поднявшимся в пуштунских пустынях ветром, начало глючить по всем погодным фронтам. Подбитая ударом урагана скула неба наливалась гематомой тяжелых фиолетовых туч над всем земным шаром. Брюхо неба разошлось, и из него валил нескончаемый снег. Над океаном, волны которого, смешавшись со снегом, стали похожи на жидкую слякоть, ту, что русскими зимами обувь белым слюнявит. Над полярными шапками, которые припорошило, как меховую шапку человека, ввалившегося домой из сильного снегопада. Над континентами, помнившими снег только по ретроспективам реклам фирмы Coca-Cola, по легенде, изобретшей в незапамятные времена Санта-Клауса и Рождество…
Проснувшись, пытался рассмотреть в стенах контуры растаявших в них багровых гор и этого круга шаманов-теней. В пустой квартире так гулко, что стучащее после кошмара сердце громче будильника. Все живые звуки будто присели на обернутые полиэтиленом стулья и раздетую кровать, провожая по старинке в путь умильным старушечьим молчанием, похожим на забытую на лице идиота улыбку. За экраном окна – сонная серость и холодная дрема. Собранный накануне чемодан поджидает, слегка клюя носом, – как-никак, отдежурил всю ночь. Глушу тишину и мысли телевизором (сосед уволочет к себе, уходя на работу), как рыбу динамитом. Но постепенно его звук перестает быть фоном и приобретает какую-то тревожную осмысленность…
По всем каналам путано и непонятно говорят про то, что по всему миру идет снег. Месячные уровни осадков выпали за несколько часов… Снег валит в тех странах, где его отродясь не видели… Обрушиваются линии электропередач… Телефонная и интернет-связь нарушены… Первые признаки паники на бирже… Все это чередовалось кадрами из разных стран – очумелые лица детей и взрослых где-нибудь на Ямайке, где с утра намело, как в Гренландии на Новый год…
И – тревожной ноткой во всех сообщениях – некоторая пауза. Пауза на месте тех разговоров, что ходили все последнее время – что Хишам давно уже купил у российских спецслужб секрет метеовойны, доработал и грозится начать ее со дня на день. Только в речи одного европейского ученого-политолога проскочила фраза: «Несмотря на то, что положение принца Хишама сейчас тяжело, как никогда, слухи об обладании им метеорологическим оружием нельзя считать достоверными…», – на этом репортаж невнятно скомкали.
Сообщения по всем каналам завершались фразами о том, что ученые всех стран мобилизованы на то, чтобы изучить сложившуюся ситуацию и выработать методы борьбы. Рекомендовалось не выходить по возможности из дома, отменить поездки и не поддаваться панике. Все под контролем – изучается даже молекулярный состав снега. Репортажей о масштабах «снежного» коллапса и о вызванных им катастрофах почти не было. Но о масштабах происходящего говорило то, что некоторые каналы зашуршали серо-белыми волнами, а с улицы в окно залетало больше машинных гудков, сирен и запаха человеческого страха, чем обычно. Выключаю телевизор, оглядываюсь – ничего не забыл? Мне уже пора. Несмотря на – не отменят ли рейс?
Выхожу из дома так рано, что еще не проснулись звуки дня, что сам день, кажется, может, еще и не начнется. Застигнутое в неглиже, утро будто вздрагивает, когда я открываю дверь подъезда, и запахивается. Так тихо, что грохот колес товарняка с того берега, водой озвученный, звучит на всю округу, надолго зависает, как стрекоза над озером, в инистом воздухе, запутавшись в ватных клочьях тумана. Я иду к станции, чтобы потом сесть на limousine bus до аэропорта. Земля в слезящихся струпьях заморозков, скрипучих, как новые кирзачи. Порыв ветра взметнул скомканный лист газеты, он на миг забился птицей у самого лица, потом его бросило о землю, оглушило. О землю газета ударилась чайкой, ныряющей в волны за добычей, чайкой, царапающей грязную пену барашков, которые сейчас стали – подпалинами снега. От укуса чайки по земле разбегается рябь. Земля вибрирует легкой зыбью. Как нежнейшее слезное дрожание твоих губ. Порыв ветра затянулся на выдохе, и с деревьев последние листья атакуют, как камикадзе, норовя оцарапать, как острые страницы книги, и прямо в лицо, будто нацеленные. И вот уже листья кончились, а вместо них начался трассирующий полет снежинок. Изломанные линии разведки боем. И на смену большие, как попкорн, хлопья снега.
Снег шел так густо и быстро, что отпечаток левого ботинка засыпало белым прежде, чем я успевал правым коснуться земли. Разноцветные ранние дети, бредущие в школы, побросали свои рюкзаки, принявшись лепить снежки. Их родители у своих гаражей прогревали моторы машин и, счищая снег со стекол, пытались припомнить, когда в последний раз видели снег. А снег все валил. И из окна пригородного поезда я уже видел, как дети подобрали свои рюкзаки, потому что, чтобы попасть снежком, приходилось подходить почти вплотную, а это уже не интересно. Их родители тем временем глушили моторы, а все же отъехавшие машины через пару кварталов поворачивали назад, плутая в валящем снеге, как подслеповатый еще щенок на ковре в гостиной. И линия лесов и гор на горизонте, похожая на спину спящего дракона, постепенно белела и исчезала, будто переставала сниться.
Из окна мчащегося по платному автобану автобуса был виден Тихий океан. Дорога вся в мостах. Они разветвлялись, ныряли друг под друга, заплетались в узлы – дорожные развязки – шоссе то скоростное, то обычное, опять платное – водитель притормаживает точно к окошку, нет, автомату, дразнящим язычком выплевывающему билет, – автобус набирает скорость… В один из пролетов море подкралось совсем близко, лежало плоско и бездвижно на уровне шоссе, вместе с которым поблескивало, как вспотевшее от жары зеркало… Местные мне рассказали сразу по приезде, что здесь совсем близко к берегу подплывают киты. Я вспомнил, как, поднявшись совсем рано, ходил с видеокамерой на пляж, снимать китов. Их черные, мокрые, как асфальт в жару, спины были как большие переливающиеся мазутом волны. Океан, солоноватый, как уставшая оплодотворять сперма, как чьи-то оттаявшие подо льдом век зрачки. А в 6 утра на берегу началась пасхальная служба. Сначала произнесли проповедь. Потом начался христианский рок-н-ролл – с усилителями, гитарами и т. д.
– Вы, наверное, согласитесь, что Господь создал рок-н-ролл? – сказал солист. Вся служба заняла минут сорок. Был столик с бесплатным кофе и пирожными. Запах кофе, развеянный ветром, подманил бродяг. Они вылезали из своих картонных домиков, как крабы, брели со всех сторон пляжа.
Опять поворот, и откуда-то сбоку еще раз выныривает океан. Он помутнел, моментально выцвев, стал цвета снежных туч, которые мы обогнали – вьюга забилась в судорогах где-то в пыли из-под колес нашего мчащегося автобуса. Но – догнала… И машинам на шоссе стало вдруг, как астматику воздуха, не хватать скорости пробадывать колеи. Мокрые и липкие, снежинки плющились об окно автобуса передо мной, как мухи о ветровое стекло. Они скользили и стекали по нему, но тут же им на смену его залепляли новые. И через стекло в белых веснушках с трудом можно было рассмотреть, что мир белеет, как лист книги, сбросивший маскарадные одежды букв. И что на всю землю накинуло большую скатерть, крахмалом хрустящую. Или саван.
Океан, омывающий шоссе со всех сторон, взволновался от ветра, принесшего снег, его поверхность вздыбилась тысячами китовых спин, черных и маслянистых, как шляпки свинушек. Снег солил океан так часто, что снежинки не успевали таять и тонуть, отчего совсем скоро волны покрылись изморозью, будто их окатило жидким азотом. Океан стал неотличим от земли, таким же присыпанным и только в просветах черным; вода стала как земля, только слегка покачивающейся и перекатывающейся черным мускулом огромным, единым. По не-досмотреть-до-горизонта катку заледеневших волн гулял ветер, завихряя снежные столбы, что – как твои кудряшки после перманента. Испуганный ветер, не узнавая, метался по поверхности побелевших вод, как Лот скользил недоумевающими пальцами по соляным столбам. Снег, как последние хлопья овсянки со стенок миски, подлизывал останки того, что вокруг… Мир бледнел.
У уже подъезжавшего к аэропорту автобуса заплетались колеса, а двигатель задыхался от отдышки, столько снега намело. На взлетной полосе некоторые самолеты по иллюминаторы затянуты салфеткой сугробов, и они были похожи на умерших на снежном насте чаек. Чайки из снежной мглы, как замусоленные ничьей рукой углы, белого, как пустая бумага, дня… Табло вылетов слепнет и чернеет рейс за рейсом, на глазах, а громкоговорители говорили только о непредвиденных погодных условиях. Пометом из козлячьего сфинктера на движущуюся ленту вылезал багаж – долго и неуверенно как-то. У дамского туалета образовалась струйка покачивающихся в просыпании-разминке слегка помятых джинсовых бедер. Из WC выскальзывали дожевывающими зубную щетку, мятно дышащими.
Прохаживающиеся-покатывающиеся по залу с тележками-багажом, неспешные. Плачущие-смеющиеся встречающие-провожающие. И еще не улетающие, а только покупающие в автоматах талон для турникета вылета. Куда? И не совсем приехавшие, поскольку еще декларацию надо. И девушка в черных очках, а из-под них сочатся слезы, пробегает мимо. Нищие музыканты с давно оглохшими от «рейс 237 идет на посадку, встречающих просят пройти в левое крыло…» саксофонами, водители такси в вольерах стеклянных автоматических дверей. Как дотаивающий снежинкой на зрачке недавний кошмар все это… И то здесь, то там роняются, как мелочь на пол, слова «метеовойна» и «Хишам»…
Потом что-то организовалось, хоть и хаотично, и пассажиров начали бесплатно размещать по гостиницам и мотелям, развозя на огромных квадратных армейских джипах. Решил ехать с ними – так, может, быстрее улетишь, да и все равно. К вечеру я оказался в небольшой гостинице на окраине города («остальные были уже переполнены» – скорее всего, пассажирами первого класса…).
Улыбка старого дежурного на reception, как настоявшееся вино времени, маслянистая после его затянувшейся на всю жизнь попойки (сколько ему лет-то?)… Да, хоть и снег, но погода теплая, конечно, почему бы и нет. И снег такой тоже впервые, да. Любопытство в щелках его морщинистых век, похожих на постаревшую замочную скважину. Взял бирку с ключом и пошел к себе в номер. И лег спать, плотно задернув шторы. Думать, что тебя и всех погребет под снегом, было непривычно и потому вообще не хотелось.
…Ветром распахнуло окно, и рама ударила меня по затылку. Я вздрогнул так, как вздрагивает тот, кому в детстве старшеклассники часто давали подзатыльники. И заморгал еще невидящими глазами, убеждаясь, что это был сон и что я еще в состоянии его прогнать. Сердце безумно колотилось, изнутри заливая горло волнами страха. Отдышавшись, я услышал, как в коридоре перекрикивались горничные. С акцентом, о наволочках, которые какая-то Люси все еще не получила из прачечной. Они перекрикивались о номерах, которые уже успели убрать, и, шумно стуча каблуками, пробегали мимо моей двери в те, которые еще не успели. Я включил телевизор, и вскоре постучали, можно ли убрать номер или позже. Горничная-мексиканка, явно увидевшая Америку и большой город не намного раньше, чем вот сейчас меня. На груди значок со странной фамилией – Ишкуина. Сказал ей, что не мешает, только я хочу остаться в постели.
Будто не слыша телевизор, она скоро начала говорить то же, что передавали по нему в этот же момент. О том, что снег валит безостановочно по всему миру. И его уже назвали Снежным Апокалипсисом. Что начался он в пуштунских горах. И как-то связан с Хишамом:
– Такой снегопадище! Даже по телевизору такого не видела!
Что все в панике. Что самолеты, которые не могут сесть и даже летать при таком снегопаде, падают по всему миру, как замерзшие голуби. Что вслед им падает рубль и юань. И что все подозревают, что это Хишам начал наконец метеорологическую войну, к которой еще недавно он клялся на Коране (Буш Третий клялся вместе с ним на Книге Объединенной Церкви) не прибегать.
– Но чего ждать от этой мусульманской свиньи?! – сказала горничная, неистово заправляя соседнюю кровать, пока, кстати, пустую, и совсем не виноватую в терроризме Хишама. И обернулась, покраснев, ко мне, наконец, вспомнив, что говорит не с «девочками» и не сама с собой.
Я посмотрел в окно. Тут повсюду пальмы. Недавно их подстригали, отрезали верхние старые огромные листы, седые, как у людей. Потом, когда закончили, верхушка пальмы стала похожа на голову подростка с длинной шеей и подбритым затылком. Crew cut. Все остальные горничные из холла куда-то убежали, оставив нас одних.
Я спросил, торопится ли она куда-нибудь. Может, мы поговорим немного? Подумав, она поставила флакон с жидкостью для мытья унитазов на журнальный столик. И села на стул напротив, сложив руки на коленях, как школьница. Но тут же вскочила, чтобы выключить телевизор.
– Как он выключается-то? Просто здесь нажать? – спросила она, показывая на кнопку play (пульта не было). Когда я спросил ее, почему она выключила телевизор, она объяснила:
– Чтобы те, кто внутри, не подслушивали!
Когда я коснулся ее пальцев, то чуть не отдернул руку – пальцы просто горели, обжигая. Заливисто засмеявшись, она пожаловалась, что от жара ее рук, особо не уместного в Мексике, дома от нее сбегали возлюбленные.
– А возвращались где-нибудь к Рождеству, когда чуть похолодает…
Сейчас было не Рождество, но снегопадило даже пуще того, как люди мечтают, чтобы на праздник валило, украшая бесплатными гирляндами елки на городских площадях и у своих домов. Я спросил, не боится ли она такого снега.
Но нет, снега она не боится, наоборот, он ей нравится, потому что только недавно сюда приехала и видит сильный такой впервые.
– А у тебя дома ты совсем не видела снега?
– Снега у нас совсем нет. Но я его часто видела. Я родилась в Рождество, то есть так считалось, что в Рождество… Мой отец очень гордился этим, и каждый мой день рождения он еще до зари посыпал все растения в огородике перед нашим домом сахарной пудрой. Он будил меня, входя в комнату и говоря, что на мой день рождения Дева Мария послала мне в дар снег с небес, такой же, как падал при рождении ее сына в Вифлееме. Я выбегала во двор и слизывала с листьев сахар до тех пор, пока не начинал болеть живот. А потом мой отец сошел с ума, сам поверив, что есть что-то необычное в моем рождении в один день с нашим Спасителем. Он ходил по нашей деревне и говорил всем, что я есть ни кто иной, как Спаситель, пришедший судить, но пришел он для суда милосердного, поэтому Богоматерь и родила его девочкой. Не выдержав позора, моя мать умерла.
Ее мать действительно звали Марией, что неудивительно, потому что всех женщин в ее деревне звали Мариями. Так я узнал и ее имя. Ее мать была «странной», с детства хотела уйти в монашенки. В монастырь она так и не попала, потому что никто даже не знал, где он может быть и сколько суток до него добираться. Да ее никто бы и не отпустил – в деревне нужны были рабочие руки. Когда ей исполнилось шестнадцать, ей подобрали будущего мужа, ее двоюродного или троюродного брата, потому что в их деревне у всех была одна фамилия и одна кровь, и разнообразия в этом деле не предвещалось. Но накануне свадьбы невеста сбежала. Все думали, что она все же пошла искать монастырь – собак по следу сбежавшей к Небесному жениху пускать было неприлично, поэтому свадьбу все же сыграли с ее сестрой, а про нее забыли, плюнув вослед.
За плевком вослед потянулись дни, которые, повзрослев, выросли в годы. Все забылось, заелось, запилось, поумирало и понарождалось. К тому времени, когда на улицах появилась нищенка с ребенком. Дети брали в руки камень, а мужчины брались за пряжку своих ремней, чтобы разобраться с непрошеной цыганкой, но натыкались на ее взгляд, в котором мерцали угли костров, горевших в невиданных странах, и из их рук выпадало то, что они только что взяли. Когда на небе потом сифилитика выступили звезды и луна, взгляд незнакомки немного приутих, и жители деревни смогли поближе рассмотреть ее. Это была та Мария-монашенка, которую давно выписали из написанного мелом на кусочках школьной доски семейного алтаря. Где она была все эти годы и где нажила ребенка, она молчала. И, странное дело, забыли скоро обо всем этом и сами жители деревни. Быстрее других забыло мужское население деревни, которых пуще огня кактусового самогона манил огонь ее глаз; казалось, им нельзя было напиться, сколько ни выпей. Повезло ее бывшему жениху, у которого к тому времени умерла в родах жена, перед смертью родившая в Рождество мертвую девочку. На сходке деревенских старшин решили, что по закону она должна достаться ему. Мария на этот раз не возражала. А он был так счастлив, что скоро считал, что он женился еще тогда на ней, шестнадцатилетней, и что ее ребенок и есть его любимая дочь, рожденная в вифлеемский день.
На следующий день после того, как умерла ее мать, односельчане убили ее отца. Нет, они не были настолько религиозными, просто их деревня была одной большой семьей, когда-то давно отдавшей одну из своих дочерей замуж за отца Марии, сгубившего ее своим безумием. Против отца ничего особо не имели, но женщин полагалось защищать… По совести говоря, слегка сдвинутый отец Марии им даже нравился, но кодекс чести говорил только о защите обиженной женщины, а о слегка сдвинутых, но милых в общем-то мужиках там ничего не было. Вот и убили, а, смыв кровь и отрезвев мигом, подумали и пожалели – как теперь расти Марии, их дальней родственнице? И, виновато передвигая тяжелыми похмельными телами, принесли ей мешки муки и бобов, сразу несколько азбук и катехизисов. И куль церковных свечек, чтобы поминать родителей.
Мария каждый день устраивала своим куклам роскошные балы при свечах и свадьбы с блинами, начиненными бобами и жгучим чили, после которого дышишь, будто солнце в губы поцеловал, но мешки со снедью почти не убывали. Потом в них завелись жучки, и пришлось выбросить. Но к тому времени на блинных свадьбах своих кукольных подруг она уже откровенно скучала, так что было не жаль.
Мужчины забыли про нее, а двоюродные тетушки забегали только на день рождения, узнать, не пора ли ей уже замуж, и уходили до следующего года. Она росла без присмотра, потому что присматривали за ней, как присматривает солнце за цветком, – дает пищу расти, а ночью укладывает в постель, попросту свет выключая. Но ей так нравилось, расти одной, и совсем не было одиноко. А росла она действительно медленно. Не хватало ли подкормки в виде сахарного снега во дворе или просто расти без зарубок на косяке двери, гордо отмечающих прибавленные за лето сантиметры, было скучно… Бог весть. Тетушки, разочарованные ее явно не «товарным» видом, шептались, спускаясь с порога, что Мария застряла в своем детстве, ожидая, что когда-нибудь в него к ней вернутся ее родители. Шушукались еще, что, сама того за собой не зная («да и не может она – мала ведь еще!»), Мария, как хорошая ученица не спешит сдавать законченную контрольную в классе, боится класть на стол учителя свое детство, потому что оно не как полагается, не доделано еще, еще не на «пятерку». И что она затягивает, надеясь исправить ошибку, списать, может, у кого-нибудь. Ну да о чем не шепчутся деревенские да еще все между собой родственники, – и Мария не слышала их своими ушами. А росла действительно очень неохотно и худосочно, большеглазо, но плоскогрудно. И когда ее однолеток уже разносило, как тесто под подушкой, от томящегося в духовке пуза румянобокого пирожка, она была только подростком, похожим на ломаную линию на холсте. Да и таким, которому последний деревенский донжуан и соблазнитель вместо глотка текилы и «позагорать под луной» предложит домой проводить и «спокойной ночи» еще сам скажет.
А меж тем прошло еще несколько лет. Как время для посадки урожая, исходил ее свадебный возраст, и соседки делали сочувствующие лица и делились:
– В мать она пошла… К Иисусу в жены, знать, потянуло…
Но не делились ли соседки-родственники своими бабскими разговорами с мужьями и сыновьями, или были меж мужиками другие, свои разговоры, потому что отаптываться те на Мариином крыльце стали рьяно совсем по другой нужде и просьбе. В первого она сковородой запустила, второму удивилась, а перед третьим захлопнув молча, заплакала – «почему?» Если мужу не жена, то сразу всем женою быть? И отыскала она тогда среди прочего хлама в своих ушах слова, что соседки говорили, что-де Иисус ей, видать, женихом, и зовет Он ее идти из дома и далеко-далеко. Вспомнила она еще, что ее мама никогда не говорила, куда уходила сама из деревни. Мария зашептала молитву. От молитвы стало хорошо, сладко стало. Но сладким не наешься одним… Тогда включила Мария телевизор и смотрела его долго, каналы даже не переключая, хоть и пульт под руку кошкой ластился… Той ночью, после уже обрадовался очередной, когда дверь толкнул и та поддалась, открылась.
Экран рябью шел, будто не экран это, а деревенское озеро, в который камешек кинули. И соседу на миг показалось, что этот камешек – сама Мария; вот исчезла и идет себе сейчас в какие-то недеревенские, неведомые места, и вьется, как муть на экране, за ней пыль и пересуды молвы, но скоро сгинут.
– Ну и пусть с ней, – плюнул сосед. – Куда денется, вернется, и все равно моей будет. И поплотнее дверь прикрыл, чтобы в дом лишнего не заходило, а их будущего семейного уюта не выдувало.
Чтобы перевезли через границу, нужны были деньги, а их не было. И платила она теми деньгами, что по всему телу ищут, стараясь и потея, а, найдя, слабеют сердцем и закуривают, будто б довольные.
Так же было и в Америке, на фабрике консервированных томатов, только там деньги не просили, а, наоборот, еще и сами давали, плюс к зарплате. Марии легко было к этому привыкнуть, ибо – не отдельно, а сразу ко всему новому привыкать надо было. Она лишь стояла у зеркала подолгу, знакомясь с собой, новой, но к следующему разу забывала и не узнавала, ибо она начала тогда стремительно расти. Где-то на 12-часовой рабочей смене у станка, так ладно закатывающего помидорные тельца в банку без швов и зазубрин, она сбросила свой детский кокон; он соскользнул под грохот выезжающих с конвейера банок неслышно, потерялся без следа. И, будто наверстывая и торопясь, обошлось совсем без Марии-подростка и Марии-девушки. Как в пионерском лагере без присмотра родителей, так и здесь, в ночном цехе, с его скрежетом и заунывной тягой резинового конвейера, отпугивающего звуки ночи, она с чего-то набрала килограммы, красоту и юность в яблоневом цвету и с персиковой отдушкой. В какой-то миг она испуганно обернулась по сторонам и поняла, что только сейчас проснулась после колыбельной, спетой у ее кровати матерью. Что увидела – не испугало, понравилось даже как бы.
Утром любовники Марии увидели зацветшую на ней первым ландышем улыбку, приревновали сначала для порядка друг к другу, а потом заказ пиццы на дом заменили не шикарным, но все же рестораном. Семейного типа и уютным. Если бы не орали малыши, а Мария не поняла, что после сразу нескольких абортов подряд стала бесплодна.
Этому-то как раз очередной ее и главный любовник, муж почти, тоже с завода, мастер, сейчас и радовался, и вином угощал, говорил, чтоб пила, потому как можно, а вот если б ребенок, то он сам бы ей пить не дал, а у тех, кто в ее живот к ребенку стучаться полез бы, он сам ноги и кое-что еще повырывал бы, этими вот самыми руками, не побрезговал. Но вина не хотелось, – хоть и французского, а все равно кислого, и горло щиплет, как ангина и сглоченные слезы. А захотелось вдруг («будто беременная!», усмехнулась она кислой улыбкой с внутренней стороны губ) чего-нибудь такого острого, как и дома она у себя не ела. Попыталась заказать, объяснить. А официантка:
– Вам мексиканской еды что ли?
– Да, самой-самой мексиканской!
Но сама ждать не стала, поняла, что не принесут, и несостоявшегося отца ждать оставила, пусть французскую бутылочку доделает один уютненько, хочется ж ему, видно. Будто покурить. А сама на улицу вышла тихо, потому как увидела – снег пошел. Почти впервые (то, что пару раз идти пыталось – не в счет, не серьезно, совсем не как в фильмах) здесь после приезда. Но, как только от двери на ее освещенный квадрат ступила, как только хрустнул под ее туфлей снег надломленной на причастии облаткой, так поняла – не настоящий это снег, и не облатка это вовсе, а бисквит размоченный, limp biscuit, группа здесь еще так называется. Искусственный он, снег этот, искусственнее пластмассовой елки в приюте. И не посеребрил бы такой снежок бок тыквы-горлянки в ее саду, и не накололась бы такая снежинка на иголку кактуса. Но, еще себе хотя не верить, Мария нагнулась и дотронулась до снега, до самой его большой, на нее смотрящей снежинки. И – отдернула палец, ибо снежинка ее уколола, будто анализ крови взяла. Но Мария настойчивая, себя то есть такой считая, решилась уж до конца, головой в омут, и, осторожной лапкой подцепив, горстку снега к губам поднесла. Снег в ладони, как злой котенок, царапался, а на кончике языка загорчил, как самый горький перец никогда не горчит. А пах этот снег бензиновыми большими автомобилями, тыквенными семечками и нагревшейся резиновой лентой конвейера на фабрике. Совсем как муж ее ненареченный, что сейчас в кафе вино свое стережет, про нее забыв. Нет, другим снегом посыпал ее отец для Марии садик перед домом, пусть и сахарным. Посыпал, а потом изгнал из сада. За что, папа? И она решила, что ее ухажер увидит ее не сегодня, а завтра, на смене в цеху. Расстроится? Ну, так под горькое и пить слаще, найдет кого-нибудь, разлить и излить. И, напившись, решит, что я в снегопаде заблудилась. Хотя в таком жидком, как его лысина…
Кто-то уже давно уронил сверху ночь, черную, что сок в твоей банке с маслинами, и Мария шагнула в эту ночь.
Я погладил ее волосы. Черные так, как не бывает. И – это потом уже, когда в них зароюсь, почти весь – в прямом проборе несколько седых. «Где? Где?», – заволновалась она. Я – поводырем для ее слепых пальцев – показал. Нащупала и – вырвала. Рассмотрела, к глазам близко поднеся, брезгливо, как гусеницу, и выбросила. Не ее будто волосы, а любовницы мужа или ведьмы-постоялицы… А потом поцеловал, и ее губы на меня обиделись, сморщившись. Но потом улыбнулись и простили. И рассказали мне все это, только иногда (иногда – часто) прерываясь на поцелуи или, если прерваться не удавалось, то издавая звуки, что были похожи на слегка подтаявший шоколадный батончик в обертке из скомканных слов. Да и вообще я узнал все это не сразу в один присест, но я просто не хотел хоть сейчас ее прерывать, как прерывал тогда. Мы говорили долго и много тогда, словами, сглоченными вместе с поцелуями; мы оставались в постели столько, что простыня от нашей любви стала температурить, болея желтухой, будто дети долго ели в ней апельсины и капали с кожуры соком. Но дальше все равно я не узнал, потому что слова Марии к этому времени потеряли человеческий облик. Будто вырываясь или убегая куда-то, ее тело то кидало себя на меня, то утаскивало куда-то прочь и далеко. И, чтоб не утащило, она пыталась удержаться за кровать, обе руки закинув за голову. Но изголовье недостаточно крепко, и вот обе ее руки обхватили меня, как панда обхватывает ствол эвкалипта, как детеныш панды держится за мать. Заключив меня, как в утробу, а иногда вдруг отталкивая, она часто дышала налево, как ребенок, которого врач слушает (холодным) стетоскопом, как воспитанный ребенок, которого мать научила дышать («своими микробами») не на врача, но в сторону.
А потом, сонная из-за ночной смены и рассказа, мгновенно засыпающая, она разваливалась телом на части в моих пытающихся ее удержать руках, – вот рука откинулась и уже спит, вот тело окаменело и потеплело от дыхания сна, а вот нога подогнулась к подбородку, мешая мне и совсем, кажется, так и неудобно спать…. И только белки глаз, я заметил, метались под веками, как тени на пожаре, будто видели во сне весь этот падающий за окном снег и следили за полетом каждой снежинки.
Если отдернуть занавеску или включить телевизор, то можно увидеть, как дома в городе постепенно тонули в снеге, как перезревший и загнивающий гриб постепенно возвращается, сдуваясь и оседая, обратно в мох. Но мы не отдергивали и не включали, а, смешивая горящее дыхание с калориферным воздухом, выдыхивали, как медведи, изнутри снега себе берлогу…
Спала она с приоткрытым, припухшим ото сна ртом, будто поцелованным изморозью сна – в углу рта следом от лунной улитки белела засохшая слюнка.
Подняв ее спящую где-то под моей шеей руку, я долго смотрел ей под мышку, а потом зарылся туда. Медленно провел по теплому вгибу языком; редкие волоски, как в детстве соломинка, мягко щекотали язык. Ее запах, учуянный мною, как только она вошла в номер убирать. Запах, сопровождавший ее ненавязчиво, как друг-гей. Познакомившись с ним поближе, я что-то узнал о нем. Это был запах женских горячих ладоней («летом ужасно и не удобно, зато зимой всем нравится – со мной тебе не нужны будут перчатки, достаточно лишь всегда держать меня за руку!» – «а как быть со второй рукой?» – «хранить в кармане»), запах жасмина из отцветшего букета духов, которыми вчера душилась ее блузка, запах пота цвета золотых осенних дынь и чего-то еще, из чего иногда только можно было почувствовать красную кислинку вина на сегодняшний ужин.
Пробормотав что-то, она открыла глаза и посмотрела на меня, не видя, снами ослепленная, зрачками, из которых даже без удочки можно выловить сон, ибо тот подплыл почти к самой поверхности. Я вспомнил черные спины китов в океане. И еще – как совсем ручная лань в далеком городском парке слизывала с моей руки соль. Такими же доверчивыми были и сны в ее глазах. Они просились на волю, они – хотели вырваться. Но – были пойманы в слоистом, лунном глазе женщины. Он вбирает нас в себя, перед таким взглядом мы сами себе видимся фантомами. Пальмы сверху, как зрачок. Лунные пальмы. Брошенный в пруд камень – ее зрачок, глаз – расходящиеся от него круги. Мне захотелось заснуть, я очень постарался заснуть. И до утра я еще много и коротко засыпал на ее животе и слушал его, как слушают морскую раковину, а еще лучше молчащую землю где-нибудь на ночевке в степи. А просыпаясь, смотрел на ее лицо, как по нему путешествовали лунные лучи, которые то исчезали (туча), то корежились (ветки деревьев за окном и ветер). Лицо, вымазанное в ночи и луне, как в дегте и перьях. Я проводил пальцами, пытаясь смахнуть эту лунную изморозь, опутавшую, как паутина, растянутая прямо над тропинкой где-нибудь в лесу. Shake dreams from your hair, my sweet child, my pretty baby. Choose the day, choose the sign for the day…
И я продолжал смотреть на ее мирно спящее лицо, пока облатка луны не начинала плавиться в бледнеющем утреннем небе, как таблетка шипучего аспирина в стакане. Перед рассветом лицо бледнело, терялось на белой подушке, а с рассветом весело розовело, как после тщательного холодной водой умывания.
Проснулся я оттого, что откуда-то снаружи до меня доносились звуки маленьких молоточков, таких, какими орудовали гномы в диснеевском мультфильме. Открыв глаза, я увидел, что это Белоснежка-Мария убирает номер. Протирает пыль, пылесосит, заменяет туалетную бумагу и мыло-полотенце в ванной. Увидев, что я проснулся, она широко улыбнулась и распахнула занавески. Тогда я понял, что мешало мне спать – источником звука был дождь, который, как барабанщик-самоучка на выпускном вечере насилует барабанную установку, лупил в жестяной карниз. Хотя…
– Это не дождь! Это капель. Снег растаял?! – вдруг понял я и закричал Марии.
Вскочил и одним прыжком был у окна, смотрел на улицу. Она уже закончила убирать и, подойдя ко мне поцеловать, с утренним легким дыханием вдохнула в ухо:
– Я слизала весь сахарный снег. И сейчас у меня болит живот. Пока, любимый, у меня закончилась смена, и мне нужно бежать на другую работу. Ты ведь не съедешь сегодня, и мы еще увидимся, правда?
Когда я шел через холл к выходу посмотреть, как ручьи воды смывают с улицы горки последнего, тающего, как пломбир, снега, бар уже было не узнать. Вчерашних пьяниц сдуло, как официанты успели смести весь пепел со столов. А вчерашняя официантка по-утреннему улыбалась спинам уходящих клиентов. Идя к выходу, я попросил выписать и меня.
А потом вышел на улицу. В небе, как чайки, спугнутые с раздираемой ими туши умершего кита, кружила стая самолетов, заново объезжающих небо. Сегодня вечером мне, возможно, удастся вылететь домой на одном из них, а в приемном покое одной из больниц города врачи будут гадать над смертью доставленной молодой мексиканки, наступившей, как покажет вскрытие, оттого, что она объелась снегом…
Снежные цветы на ветру танцевали
Вчера в Киото был снегопад. Снега здесь почти не бывает, а вчера он просто валил. Об этом даже показали в Москве по ТВ! Когда мы с Хён вернулись в Кудзуху, там вовсю лепили снеговика. Марико набивала на бока снеговика целлюлитные нашлепки снега, а Тони притаскивал из комнаты все новую мелочь – кепку на голову, чью-то старую мобилу в руку… Вован пытался сбить снеговика снежком – Олена ругала его…
А за ночь весь снег растаял. Когда мы открываем дверь, тени испуганно отпрыгивают в угол – там прячется солнце. От снеговика, рухнувшего с ограды нашего третьего этажа на навес внизу, остался только ледяной обмылок. В лёд превратился и весь растаявший снег – к утру сильно подморозило. Асфальт под слоем льда – как дно замерзшего мелкого ручья, веточки деревьев под коркой льда – завернутые в целлофан карамели на палочке. Солнце все это дело освещало блесткими и колкими лучами – не толще иголки, вот-вот переломятся. От морозного воздуха с непривычки першило в горле – как ледяные кристаллы глотаешь. Как-то зимой в Москве купил пиво на улице – в нем среди жидкости плавали кристаллы льда. Так же.
Японцы, видно, еще не знали, как себя вести в условиях такого природного катаклизма, поэтому предпочли выслушивать инструкции воскресных телеведущих и отстукивать мейлы своим родным в других городах о таком происшествии – на улице было пусто даже для воскресенья, а на воскресный шопинг выбрались лишь самые решительные бабки. Которые галдели не только о ценах, но и о снеге, и даже на нас не обращали внимания. Толкают, как своих! А мне среди них лавировать с продуктовой сумкой – пробираясь в фарватере Хён, которая – выбирает еду Приценивается, смотрит на дату упаковки, пробует на вес одинаковые совершенно пакеты, чуть ли не принюхивается. Сегодня она приготовит мне креветки. Я же их люблю? Их она, затоварившись всем остальным, и выбирает. Королевские креветки – жирные, размером со среднего рака, сероватые тельца на россыпи колотого льда – слишком дороги. Она вопросительно смотрит на меня… Да, слишком. И она облегченно идет к следующей полке, где – нет, не совсем пивная мелочь, а средние такие. Их она и берет. Две упаковки? Может три, и пригласим тогда Вову? По одной на каждого?
Вову, которого она в другое время переносит очень слабо, она жалеет, потому что он остался один – на все Рождественские каникулы его Олена укатила в Токио. Вместе с ней – сегодня совсем рано, я даже и не слышал – уехал и Тони, праздновать с остальными нашими. На JR’e до Токио они поехали вместе, а там разошлись по разным тусовкам. Тони после рапортовал, что было весело – на Новый год они поехали в Токио, в Асакуса. Где Настя потеряла бумажник со всеми документами, а Ира искупала свой мобильник в унитазе караоке-бара…
Мы же на все каникулы остались – одни. Кудзуха опустела – китайцы и корейцы разъехались по домам, австралийцы просто куда-то слиняли. Хён тут же вступила в роль хозяйки – закрыла дверь в комнату Тони с его распахнутой – будто только встал и сейчас выйдет из ванной – постелью, навела порядок на кухне, по максимуму распихав Мариковские продукты по полкам и выделив им ровно половину холодильника…
В морозилку были запихнуты и креветки. А мы поехали в центр, смотреть кино. Поезд до Ёдо забит – пропахшие табаком и виски старики возбужденно листают газеты с расписанием скачек – рядом в Ёдо находится ипподром. Когда они все вываливаются из поезда, мы можем сесть.
Смотрим Stuart Little – фильм с нарисованным на компьютере белым говорящим мышонком, который спасается от большого белого кота. А потом дружит с ним. Когда Стюарта-мышонка совсем уж настигает орава голодных котов, рука Хён сжимает мою и сильно потеет. Когда же начинается мышино-кошачья дружба, она поворачивается ко мне – смотря при этом все равно на экран – и хрипло смеется. Смех курильщицы с первого курса переходит в кашель, и от него у нее и слезы, как она мне объясняет, когда уже ближе к развязке и The End, потому что долго сдерживала кашель, не мешать же сидящим рядом. Рядом – целая семья, муж с женой и двое детей. Дети явно уже смотрят фильм не в первый раз, потому что все время теребят отца – «вот-вот, посмотри сейчас! Сейчас он как прыгнет!» Засыпающий весь сеанс отец бормочет, что он с удовольствием посмотрит одну только сцену – когда титры пойдут. Жена строго цыкает сразу на детей и на мужа, а я цыкаю на Хён, потому что тут ее уже разобрал смех. А еще она все время вертится в кресле, совсем как эти двойняшки рядом – хочет сесть так, чтобы одновременно пристроить голову мне на плечо и чтобы все было видно. Так не получается, вот она и возится в кресле – и мне кажется, что, несмотря на всего 160 с чем-то сантиметров своего роста она какая-то очень большая и не помещается в этом кресле. Как ребёнок, выросший из специального детского кресла.
А я сижу и думаю – что же мне с тобой делать-то? У меня же нет на тебя никаких прав. И чувств тоже нет. Нет, есть чувства, но совсем мало – и тебе не хватит. Я ж почти импотент в этом смысле. Зато, ха, у меня много мыслей. И эти мысли говорят, что я не должен. Ведь как лучи этого кино, в тебя скоро хлынет этот мир. Он растопчет, сметет твое Я. Твое хрупкое Я – оно умрет в судорогах. И ты еще годы будешь собирать его из осколков…
.. Уже на своей станции купили по баночке пива. Я уговорил – чего порожняком тащиться? В единственном автомате, который еще подмигивал ночи своими красными кнопочками (нажимаешь – загорается зеленым…). Мимо, обдавая – Внимание! Проход через торговые ряды Kuzuha Mall закрывается! – и потным ветром, на велосипеде ночной сторож.
А дома обменялись Xmas presents. Она мне – теплую рубаху. Серо-зеленую – под цвет глаз. А я ей – большого белого медведя. Она его тут же назвала Сашей. Еще я достал с медведем вместе купленную бутылку ирландского вискаря. А когда подоспела первая партия креветок, позвали Вову. Или вы хотите рецепт? Пожалуйста – на дно сковородки выкладывается фольга, накаливается, на минутку креветка, с бока на бок, только соль и перец, и все. Но хрен оно у вас получится – я пробовал потом, только подгорело. Очередная корейская тайна – нам так не готовить… Вован появляется какой-то очень торжественный. Молча курит, а если говорит – то почти только по-японски. Обычно-то ему плевать, что Хён или Мари его не понимают – говорит с нами только по-русски. Украинский он, кстати, вообще за язык не держит – «у нас в Киеве все задания на украинском надо сдавать. Так я сначала с японского на русский перевожу, потом с русского – на украинский. Мудохаюсь не меньше, чем с японским…» Что-то у Хён спрашивает, хвалит креветки. А виски не пьет – не только потому, что не водка, а просто как-то. И скоро уходит. Заниматься. С русского на украинский переводить, что ли?.. Нет, потому что скоро за затемненным кухонным окном протопало белое пятно Вовиного плаща – пошел в Family Market затовариться упаковкой пива. И выпить его уютно, а не на званом обеде с семейной почти парой. Я его понимаю. Хотя с ним нам было бы спокойнее. Чтобы отвлечь Хён, которая тоже заметила, говорю:
– Наверное, молоко покупать пошел…
Это он как-то ночью в таксофоне молоко пил. Напился один в хлам и пошел в Киев звонить, своей бывшей и бросившей. А он когда напьется – на следующее утро очень правильный. Все убирает, тряпочкой протирает, бреется два раза, одеколона пол-литра выливает и за завтраком молоком себя отпаивает. А тут только водку допил – тут же молоко начал. Правильно, под утро уже было… И с пакетом и со стаканом звонить пошел. Так никуда и не дозвонился, все не туда попадал – всю карточку извел. Пошел в Family Market, наорал на японцев, что бракованную ему продали – ему заменили. Ругаться тоже с молоком ходил… Я тогда ночью за пивом ходил – все это видел. Его останавливать не стал – тогда от драки уже спасать пришлось бы нас самих. И рассказывать ему на утро тоже не стал – он бы расстроился, он же осторожный, из Японии вылететь боится. А Хён рассказал – она тогда очень хохотала. Вот и сейчас подхихикивает…
Долетела
Кадр – темная улица, и я по ней бегу. Мостовая очень громкая под кроссовками. А ногам больно. И бежишь медленно, как в кошмаре. Я пробегаю мимо Олены – она ушла тоже, догонять Хён – она в испуге отскакивает. Хён бежит впереди. Мелко так, женскими маленькими шагами. Ее рюкзачок болтается из стороны в сторону у нее на спине. То остановится, то опять бежит. Я тоже останавливаюсь. Глотаю остатки воздуха – его вдруг в этой духоте вокруг очень мало осталось. Ловлю где-то под горлом бьющееся сердце и прижимаю его рукой, чтоб не билось так, и в грудную клетку обратно запихиваю. Закуриваю. Да по хрену мне, поймаю ли ее. Пусть бежит, куда хочет. Куда она денется-то? Хотя – денется. И завтра ей с утра улетать, если помнит. А метро скоро закроется. И я бегу дальше. Что-то говорит подошедшая Олена, но я бегу, только бегу. И, наконец, догоняю Хён.
Потому что мы уже у входа в метро и потому что она села у лестницы. Обхватила колени руками и смотрит на меня исподлобья. Будто я ударил ее только что. Волосы, что на глаза падают, не поправляет. А глаза у нее, замечаю, даже больше сейчас, чем у Со Ган.
Она плачет. Слезы – мелкие-мелкие – не из одного места, а отовсюду катятся, сразу со всех сторон века.
– Ты меня дурой перед всеми выставил!
Я пытаюсь ее поднять.
– Я никуда не поеду. Езжай один. С Оленой езжай. Я здесь хочу посидеть.
– У тебя самолет завтра. С утра. Скоро метро закроется.
– Я хочу здесь посидеть. Ты мне очень больно сделал, ты даже не представляешь, насколько.
Я сажусь рядом. Да плевать на это метро.
– Ударь меня.
– Что?
– Ударь меня!
Я беру ее за руку, тяну, показываю, как ударить.
– Отстань. Я не хочу. Просто хочу здесь немного посидеть…
Тогда я бью себя сам. Получилось плохо – по носу, очень больно, но как-то не эффектно. Крови вроде нет, но очень больно. И я начинаю чихать. Никак не могу остановиться. Катятся слезы, рыдаю будто.
Над нами нагибается испуганное лицо Олены. А может и не Олены. В любом случае я говорю, чтоб ехала одна, а мы позже.
Тут Хён начинает смеяться. Что я как маленький ребенок чихаю. Я тоже смеюсь. Хорошо мы, наверное, выглядели… Это участливое лицо над нами тут же смоталось…
Потом она вытирает мне лицо. Мы помогаем друг другу встать.
– Только никогда так больше не делай. Мне очень плохо там было.
Я обещаю – плохо ей никогда больше не будет.
В метро нам очень душно. В последний поезд набилось куча японцев-кривозубиков – висят вокруг нас на поручнях, как коровьи туши на мясокомбинате.
От метро она уже меня чуть не тащит.
В лифте я обрываю все объявления. Что-то про то, что надо менять лампочки над дверью за свои деньги. И еще что-то про общие стиральные машины. Хён завтра уезжает, а эти выбл…дки только о лампочках за сто иен… Раскидываю обрывки объявлений по кабине и, выйдя, с лестницы вниз. Кружит красиво.
Спим мы часа три – в 6 уже звонит будильник. Я встаю, бужу Хён. Она отмахивается. Раз, два, три. Тогда я говорю, что мне вообще по фигу, не я же еду. Пусть остается, мне же лучше. И ложусь.
– Не злись.
Она встает.
Запах ее вчерашнего дезодоранта, как прошлогодней листвы.
Ничего не ест, только кофе. На ее лице смешивается: пот от слабости с похмелья и бесцветная жидкость, которой она протирается со сна (чтобы быстрее впиталось – задирает лицо кверху и бьет себя по щекам), желтоватые белила и бледность.
В автобусе до аэропорта мы держимся за руки и дремлем.
– Ты в институт не успеешь.
– Я не пойду сегодня.
– Плохо. Ты много прогуливаешь.
Потом, когда я думаю, что она спит, она вдруг спохватывается.
– Давай, я тебе денег оставлю. Ты же вчера за двоих заплатил – у тебя, наверное, нет.
– Есть. Не надо.
– Нет, я хочу оставить.
– Не надо, я же говорю.
– Ну не на расходы, а на книгу. Ты же хотел ту толстую книгу купить. Она же целых пять тысяч стоит. Это будет – мой такой вклад.
Но я все равно не беру. Хотя надо б – денег нет.
Проводив ее и дожидаясь limousine bus до метро, я попиваю овощной сок. Это она мне купила – тебе после вчера нужны витамины. Осакский Kansai Airport – не просто так. Он стоит на огромном искусственном острове. Остров насыпан в заливе. Поэтому когда самолет снижается, заходя на посадку, очень долго кажется, что падаешь в море – экраны в салоне показывают приближающуюся поверхность воды. Все ближе и ближе. Пока, в самый последний момент, из ниоткуда не появляется посадочная полоса, похожая на далеко заплывший в море пустынный пирс. Построенный остров – тоже не остров, он немного дрейфует, его поддерживают какие-то огромные понтоны.
Днем звонит Иэн. Извиняется, что так вчера себя вел. Он даже ничего не помнит. Я думал, что извиняться надо мне, но он мне не верит. Он уже почти всех обзвонил, извинился. Как я думаю, стоит ли ему звонить Со Ган? Что он вчера ей говорил? Ох, Иэн, я не помню. Могу же я что-то не помнить?…
Потом звонит Хён. Она долетела.
The kid on the dance-floor
Едем на еще одну вечеринку. Я без Хён – Хён в Корее. Тони с Оленой. И еще какая-то армянка, знакомая Тони, учится здесь в аспирантуре. Уже четвертый год здесь. Скучает так, что не пропускает ни одного объявления в Интернете о встречах русских. Русские – имеется в виду весь СССР. Который здесь – не распался… Или собрался заново.
– И что, весело, что ли? – спрашиваю.
Она только вздыхает. Да я и сам знаю. Мы были на одной такой встрече. Русские были только мы одни, кажется. В основном – бывшие республики. Тех – много. И еще почему-то парочка русскоговорящих чехов – вот уж бы не подумал… Все тут же скинулись и побежали закупаться. В какой-то дальний специальный магазин, где настоящая «Столичная». Потому что – водка здесь Made in England и 37.5 %. Эти 37.5 % всех особенно выводили из себя… Закупились. Потом пение под гитару разговоры, кто что в газетах наших в Интернете прочел. И кто где что дешевле купил. Хотя точные адреса давались не так уж и охотно… Потом все переругались по пьяни. И договорились встретиться через месяц еще раз.
– Ох, достало меня здесь… Не могу уже… Вот сдам сессию и домой на неделю поеду, – говорит Тамара.
На большее время она и не сможет. Потому что у тех, кто здесь долго учится, особенно у девушек, расписание – как у директора крупной фирмы в Москве. Сегодня – ее знакомая француженка в Ниигата дает прощальную вечеринку, завтра – она в киношной массовке снимается на Кюсю, утром – преподает английский в детском саду, вечером – уроки русского друзьям научного руководителя, ночью – день рождения соседки-англичанки в клубе на Сибуя в Токио… Еженедельник этих девушек исписан, а мобильник вечно в руке и постоянно звонит. Они отвечают на разных языках и везде обещают постараться быть. Действительно, думаю, очень скучает…
Вечеринка опять в basement floor. Большинство вечеринок здесь, заметил, почему-то в подземных этажах. Может, японцы прячут свои вечеринки? Стесняются их? Поэтому и изначально залы для мероприятий всяких и банкетов планируют в подвальных этажах? Пока присматриваюсь в темноте, закуриваю. И передо мной тут же вырастает немец Дерик. Дерику, как оказалось, черти сколько лет, он жил в ЕДР и немного говорит по-русски. Как-то, напившись, он мне выдал:
– Я очень старался забыть русский. И я его почти забыл. Но иногда еще вспоминаю отдельные слова или фразы. Часто мне снится в кошмарах, что я опять в школе и говорю по-русски. Нас очень хорошо учили… Я вас, русских, очень за это ненавидел.
Дерик вообще очень искренний. Как-то он еще признался, что никогда не носит покупную одежду, а все себе шьет сам. У него достаточно оригинальный вкус – вот сейчас он в черных брюках и куртке, сшитых из одних обрезков и заплат. На нем высокие сапоги со шнуровкой. А на голове все выбрито, только наверху длинные клоки волос, которые он никогда не моет. Он похож на Джонни Деппа из «Руки-ножницы». Я бы его боялся, но еще как-то раз он часа два рассказывал мне, как любит свою невесту в Берлине. У нее своя парикмахерская, и она его очень ждет. Он бы никогда от нее не уехал, но он просто однажды понял, что он должен знать японский язык. Тогда он сможет общаться с японскими дизайнерами. Ведь они сейчас – номер один в мире, а Париж – столица моды только по инерции. Он все это объяснил своей невесте и уехал. Она пока работает, зарабатывает деньги на первую линию его одежды. Она в меня верит! – восхищается Дерик…
– Can I bum a cigarette?
– Of course!
Он задумчиво вертит в руках сигарету и что-то усиленно вспоминает. Наконец:
– And a lighter?
– Here you are!
Ему опять кажется, что он что-то потерял или забыл. И здесь или в Берлине?
– Anything else, Derik?
– No… No.
Он отходит и замирает с сигаретой (про которую он тоже забыл – вспомнит, когда она догорит до пальцев) за спиной у немки Энн. Чем меньше пишет ему невеста, тем чаще он говорит окружающим, что у Энн – тоньше всех вкус в одежде. Энн – это по части Олены. То есть – наоборот… Олена ей сразу понравилась, как только Энн ее увидела. Она предложила ей тут же дружить. И поделилась самым сокровенным – всерьез убеждала нашу Олену, что чтобы хорошо прорелаксировать, нужно залезть в парке на дерево и там немного посидеть. Она так часто делает! Она звала ее с собой как-нибудь попробовать… В парк рядом с университетской автобусной остановкой… Завидев Энн, Олена вся напрягается и тут же исчезает. Энн, я смотрел, ее не видела, но что-то чувствует. Она принимает стойку, как собака на лису. И, хотя я могу поспорить, она ничего не видит вокруг, идет в точно том направлении, в котором исчезла наша Олена… Дерик, затушив сигарету в своем стакане с пивом, печально тащится за ней…
Как-то мы с Тони спорили, много ли шансов у Дерика и как бы выглядели их дети, если бы у них все срослось. Я утверждал, что их дети были бы отличниками в школе, а выросли бы в очень правильных клерков в рубашках и галстуках. В знак протеста против родителей. А Тони утверждал, что у них вообще не может быть детей.
– Потому что псих психа не замечает. Они друг другу просто не интересны. Они реагируют только на нормальных людей. Как Энн – на Оленку. В этом смысле Дерик исключение, что запал на Энн. Но Энн его просто не заметит. Это типа закона такого, природа охраняет род людской от вымирания – не допускает, чтобы у таких психов еще между собой дети были…
Похоже, Тони тогда выиграл спор – Энн действительно не замечает Дерика. Он для нее – как те люди, которые ходят под деревом, на котором она сидит. В нем для нее не больше индивидуальности, чем в одном из листьев в кроне дерева.
А через час где-то я от всех отстал и пытаюсь танцевать с одной мулаткой. Ее зовут Лола, она с Гавайев. Лола – убийственна. Небольшого роста, но сложена так, будто всю жизнь только и делала, что извивалась в танце, как вот сейчас. Она танцует сама с собой. На ее запястьях и лодыжках браслеты и цепочки – серебро на загорелой с рождения коже, будто выложенное на витрине на черном бархате и умело подсвеченное. А на животе на месте ремешка вытатуирована змейка. Змейка обвивает ее чуть пониже пупка. Танцуя, Лола кому-то мечтательно улыбается – я верчусь, пытаясь проследить адресата ее улыбок, но так и не увидел. Глаза же я ее видел всего пару раз – ее волосы скользят по ее лицу, как густые тени.
Когда музыка затихла, я увидел ее вместе с гавайцем Робом и одним совершенно лысым американцем. Потом подошел к Робу.
– Роб, извини, не знаешь – эта девушка, она с твоим другом?
– Лола? Нет, они просто друзья.
– А ты можешь меня с ней познакомить?
– С Лолой? – Роб смотрит на меня вдруг очень внимательно.
– У нее что, кто-то есть?
– У Лолы? Нет, никого. Пошли…
И с тех пор я час где-то смотрел на нее. Сначала мы говорили – то есть говорил я, а она улыбалась мне. Она была почти во всех странах, но не в России – и ей интересно. А потом взяла за руку и потащила танцевать. Но я не умею танцевать, а еще и курю – а ей не нравится дым, он плохо пахнет. Поэтому она поставила меня ближе к стенке и просто танцевала передо мной. То, извиваясь, пригибалась совсем к полу, то вся вытягивалась и становилась вдруг очень высокой… Потом дала номер телефона и даже номер комнаты в Mukaijima Gakusei Center. Но если я позвоню ей, она меня не узнает. И я буду чувствовать себя идиотом, объясняя ей, что – мы с тобой тогда танцевали, помнишь… Помнит ли? Да это как если бы мне кто-то сказал – мы жили с тобой в Москве. Или – мы с тобой еще одним воздухом дышали.
Но Роба я хочу поймать и хорошенько расспросить про нее. Версии две – или она дает всем, или не дает вообще никому. В любом случае, Роб скорее всего в одной из этих групп – какой бы эта группа не была. И мне дико хочется, чтобы эта была вторая группа, чтобы у Роба ничего с ней не было…
Ища Роба – только бы он еще не напился, тогда из него ничего не вытащить – выхожу на улицу, к входу. Тут же звонит мобильный. Это Хён. По ее голосу чувствую, что звонит она уже целый вечер.
– Почему ты не отвечаешь?
– Зал под землей. Мобильный не принимает.
– Ты еще там? И как там… весело?
– Да.
– Почему ты злой? Я тебе мешаю? Ты кого-то нашел себе? Мне перезвонить?
– Как хочешь.
– Ну ладно… Перезвоню тебе, когда захочешь со мной разговаривать. Повеселись там хорошо.
Она весь вечер будет думать, шутил ли я, что кого-то нашел себе или нет. Но очень не расстроится – потому что решит, что нет. Зная, что не изменю. Да и где тут, если она будет звонить каждый час! Настроение совсем портится. Где это мудило Роб?!
Когда я проталкиваюсь мимо бара, меня останавливает какая-то женщина. Ну, что еще?
– Простите, вы не из России?
Мы с Тони как-то ждали поезд на Tokyo Station и в толпе угадывали русских. Издалека, потом подбирались и слушали их разговор между собой. Ни разу не ошиблись… Но чтоб идентифицировали нас – это редко, и мы этого не хотели. Надеюсь, она не слышала наш между собой мат (здесь, где русский никто не понимает, это ежедневный нормальный язык).
Эта женщина мне сразу нравится. Тихий голос, эти жесты, будто боится кого-то толкнуть, даже когда в пяти метрах вокруг никого нет – настоящая интэри, как здесь говорят… Мы разговорились. Она физик. Здесь в Киотоском (я не могу произнести Киотский!) университете проводит какие-то исследования. Сама из новосибирского Академгородка. Японцы ее сами нашли и долго уговаривали приехать. Она не хотела, но потом согласилась. Здесь с сыном. А муж остался в своем НИИ в Сибири. Она по нему очень скучает. Здесь очень хорошо платят, она откладывает деньги, «у нас же дома совсем не платят, а такие деньги, вы понимаете…» Это дорого, но она хочет съездить к мужу домой. Но пока у нее не предвидится отпуска – работа в университетской лаборатории очень напряженная. Спрашиваю, может быть лучше ее мужу к ней приехать? Ему не дадут визы. Нет, не японцы – те приглашали. Наши не дадут – он в каком-то уж совсем закрытом НИИ.
Она расспрашивает, что я здесь делаю, долго ли уже, нравится ли. Выясняется, что она почти ни с кем не общается – японского не знает, «я только сейчас начала учить, но времени почти нет». Английский – она знает только свою научную терминологию. А сюда прийти ей посоветовал ее профессор из Университета – сказал, что здесь много иностранных студентов, кто-нибудь и из России будет.
– А то только с мужем по телефону по-русски и говорю. Скоро уж одичаю совсем. А вот мой сын, наоборот, скоро русский забудет – он уже по-японски говорит лучше меня.
И она представляет мне своего сына, который вынырнул из толпы. Лет 8 или 12, я не очень разбираюсь. Когда мы распрощались с Татьяной Петровной, он пошел со мной.
– А ты где в Москве живешь?
Моего района он не знал, но рассказал, что видел, когда был в Москве.
– А японский ты знаешь? Научи меня чему-нибудь!
– А что ты знаешь уже?
И он мне выдал набор японских ругательств. Идет такой, с рюкзаком, банкой Pepsi и в бейсболке. Я перевернул ему бейсболку. Он меня пихнул в бок. Так мы и пихались, когда меня подцепила Го.
– Кто это с тобой? – она смотрела на меня с такой подозрительностью, будто, бросив ее, я вот занялся совращением малолетних. Кто еще кого бросил, кстати говоря.
– Это мой младший брат. Только сегодня из Москвы приехал. Познакомься!
– А как его зовут?
– Как тебя зовут, кстати?
Но он уже сам представился Го Мишей. На хорошем английском спросил, как ее зовут. Го отпала не столько от его английского, сколько от его манер. Она усадила его за стол и начала угощать пиццей. Мой «брат» нравился ей гораздо больше меня. И ради него она даже была готова меня терпеть! Пока они сидели, я купил себе в баре пива и ему еще Pepsi.
Когда я допил вторую, они еще болтали с Го. Она учила его китайскому – и китайский, судя по всему, шел у него лучше, чем у меня. Я ж даже ее имени по-китайски не мог произнести…
Я взял его за ручку от рюкзака, приподнял и подставил рядом с собой. Го с ненавистью посмотрела на меня.
– Пошли. Предатель!
– Спасибо, что спас. А то мне уже скучно становилось. А это твоя девушка была, да? Вы расстались?
– Она что-то про меня говорила?!
– У тебя изо рта пахнет. Накурился…
Я достал жвачку и угостил его.
– А теперь пошли искать мою будущую.
– А она тоже из Китая?
– Нет, из Америки.
– О, класс! Я смогу с ней по-английски поговорить. А то твоя Го меня не всегда понимала.
Пока искали Лолу, я перезнакомил Мишу со всеми. «Ты не говорил, что у тебя есть брат! Классный парень!»
А Лолу бы я лучше и не находил. Как только я представил ей Мишу, она с двумя подругами просто облепили его.
– Какой милый! (она мне по-японски)
– Что, что она сказала? (Миша мне)
– Ты еще не выучил японский? Говоришь по-английски? Тогда мы с тобой по-английски будем разговаривать. Сколько тебе лет?
– Русские дети все такие красивые? (она мне тихо)
– Да, у нас еще лучше с тобой будут!
Но она не слышит и болтает с Мишей. А ему лишь дай поболтать… Сволочь малолетняя!
Спас меня нажравшийся Роб. Если бы не он – нажрался бы я, все к этому шло… Роб весь вечер хвалился, что гавайцы могут пить не хуже русских, и очень много пил. И был нормальным, а потом вдруг начал блевать. Лысый американец поддерживал его голову, держа на коленях, а Лола вытирала пол. Собрала со всех столов салфетки и раскидала их поверх, нашла где-то швабру. А потом кто-то вызвал такси, и они вдвоем потащили Роба.
– А она красивая… – сказал Миша, задумчиво смотря на всю эту сцену. Как и я, он смотрел только на Лолу, а не на захлебывающегося Роба. – Чего ты стоишь, как дуб? Помоги ей!
Но я не помог. И они скоро уехали. Когда я вышел проводить их, нас с Мишей нашли. Его – мама, меня – Тони с Оленой. Они уже давно собирались уходить и искали меня. И мы все как-то разошлись – когда хочется попрощаться, никогда толком не получается.
– С чьим это ребенком ты весь вечер таскался? Го подходила ко мне, спрашивала, правда ли у Саши брат есть. Я ей сказал, что да, есть.
Тони – всегда готов был меня выручить, поэтому подтверждал все, не задумываясь…
– А она вдруг разозлилась и сказала, что мы оба с тобой только и умеем, что врать. Сумасшедшая она у тебя какая-то. Так что это за Миша все же?
Когда мы ехали, я думал, что телефон Лолы у меня есть, но я ей не буду звонить. А телефон Татьяны Петровны я не взял, дурак, а еще хотел бы увидеть их. Особенно Мишу.
Уже на нашей станции мы расстались. Тони с Оленой пошли в бар. А мне позвонила Хён, и я пошел домой, болтая. Ей Миша тоже очень понравился. Она даже – хотя уже два раза вышла за пивом и готова была в принципе к сцене, решив все же обидеться – меня простила.
Одна из лучших вечеринок, правда, мне очень понравилось тогда.
Добро пожаловать в Фукуяму
На перекладных поездах до Kyoto Station. Kyoto Station – как огромный супермаркет. Многоэтажный. На нижних этажах бесконечные магазинчики и кафе. На средних – пересадки во все стороны, на самые пустые и дальние поезда. Между этажами – такие пролеты стекла, еле скрепленного стальными основами, что будто и стен нет. Стеклянная и крыша. Поднимаясь и пересаживаясь на бесконечных эскалаторах, мы на самом верхнем этаже – платформе скоростных синкансэнов. Морда такого поезда – что-то среднее между болидом Шумахера и вытянутым клювом хищной чайки в нырке за рыбой. Внутри – как в самолетном бизнес-классе, развозят еду и спящие с ноутбуками, кошкой на коленях свернувшимися, бизнесмены. Перед турникетами еще мы купили нашим бутылочки с подогретым кофе и французских сладких булок (Хён повертела в руках с сомнением – совсем не корейская еда, как можно есть столько этого хлеба?! – и убрала в рюкзак, пообещав попробовать дома) и распрощались. Они были горды – их мужчины едут на работу, их суженные снимаются в фильме на зависть всем подругам! Такими и разъехались, мирно щебеча и забыв старые выдохшиеся ссоры. Такого-то дела ради…
На перроне в Фукуяме сходим одни мы. В здании станции – опять кафе, европейские сандвичи, бесконечные ряды coinlockers и лотков с китайскими амулетами и сувенирами на сейле.
Компанию русских под предводительством щуплого японца в до пят дутой белой куртке видим сразу. Не узнать – невозможно. Господи, как же нас такими делают наши милые добрые мамы и старые интеллигентные папы, что нашу рожу везде и всегда узнаешь?..
Японец нас регистрирует. А когда подошли последние с поезда, все пошли в магазин. Еще даже не познакомившись… Но уговорившись – с каждого по бутылке водки. Назло всем мы с Тони покупаем джин.
Опасливо пихаясь в темноту фарами, автобус едет к отелю. Скоро город заканчивается. Потом и деревня. Только поля и бесконечные горы. Редкие, как волосы на лысине, дома начинаются только ближе к отелю. Который у самого моря, крутой (фото Императорской семьи среди почетных постояльцев) и сейчас, ранней весной, совсем пустой.
Нас вселяют вместе с Тони. И через полчаса уже в нескольких номерах сдвинуты привинченные к полу кровати, натащены стулья, дым выползает из-под двери в коридор, а между кроватей стулья. С картами и водкой. И эти разговоры… Эти разговоры, как достала Япония. Как кто жил в России. И про Чечню. Боже, как я ненавижу эти разговоры, эту гитару, эти тосты желающих всего-всего друг другу только что знакомых людей… Больше я на эти еженощные попойки не хожу. За это со мной не сразу здороваются утром на завтраке. Лежу по вечерам в номере и читаю Дадзая. Дадзай, про которого один критик сказал: «Он был бы счастлив, если бы мог просто перестать существовать». Дадзай, который написал: «Я еще в детстве заметил, что если женщина собирается заплакать, надо просто дать ей чего-нибудь сладкого. Она тут же успокоится». А Тони, кстати, исправно ходил каждый вечер. Потерявший было, как и я, свою русскую identity, он ее быстро нашел. В этих прокуренно-пропитых пьяных русских базарах. А эти рубленые рожи из Владика, выпивавшие по литру за раз, нашли в милом интеллигентном и в общем-то не пьющем Тони своего. И еще долго звали его на всякие вечеринки в Осаке и Кобэ!..
Наутро в 6-30 у нас примерка костюмов, а в семь уже выезжать на съемки. С шести уже открыт зал ресторана. Подносы с прозрачно нарезанной и свернутой, как салфетка, ветчиной. Подносы с дымящимся месивом омлета. Кофе из громадных термосов – и белые перчатки официанта нальют жирнейшие сливки… В одних плошках ассорти из мидий и креветок, в других – диетические хлопья… Делаем несколько заходов… Потом откидываемся и сонливо закуриваем… Сыпля пеплом на крахмальные скатерти… За соседним столиком съемочная группа разложила бумажки и обсуждает план съемок… Режиссер и главный актер с группой услужливых ассистентов появляются на миг – они едят внизу, в ради них открытом баре…
В специальной комнате мы все переодеваемся – чуть говорящий по-русски японец и его маленькая ассистентка находят каждому подходящий размер и записывают номер выданной одежды в тетрадку вместе с твоим именем. Нам выдают – белые сорочки, белые носки. Потом та половина, которая «маторосу» (японцу очень нравится, что он откуда-то знает русские слова), получает синие балдахины, а та, что «сорудато», зеленые формы. Немногие избранные становятся «офицэру», и их гримируют, приклеивая усы. Одежда очень пыльная и старая, но целая. Те, кто когда-то занимался русской историей, долго подкапывались и спорили, но потом все же признали – форма тому времени аутентичная. Но только откуда? Из костюмерных какого-нибудь токийского театра? Из краеведческих музеев Рязаней и Вологд? В таком-то количестве?
Вчерашний автобус везет нас от отеля вниз, к морю. Мчится по берегу мимо огромных ржавеющих бортов – с девятиэтажный дом! – кораблей и замирает у отдаленного пирса. Где нас ждет парусник. Перед погрузкой нам выдают еще порцию реквизита – кортики, портупеи, ружья. Мы снимаем нашу обувь и натягиваем заскорузлые кожаные мокасины. Матросам выдают шапочки, а нам, солдатам, кивера. Тони не повезло – ему достался слишком большой размер. Подскакивает ассистентка и знаками объясняет ему, чтобы он запихнул изнутри газету – чтоб не съезжало.
Парусник, как оказалось, сам не плавал. И поэтому его больше часа вытаскивал, тужась и исходя черным дымом, буксир. Пока за нами уже не было видно берега и весь задний план был – одно море.
Когда нас буксировали под мостом – дуги его пролетов, как взмахи крыльев – оказалось, что даже японцы не знают, заденет ли наша мачта о мост или нет. Не задела. И мы орали «Ура!» И еще – «На абордаж!»
Когда мы уже приближались к месту съемки, японцы начали устанавливать камеры и технику. От нее на корабле вмиг стало некуда ступить – запутаешься либо в проводах, либо в веревках снастей. Свободной осталась только корма, где мы и сели-легли курить. Бычки кидали в море – японцы неодобрительно косились – у них у всех были карманные пепельницы. Вынесли термосы с кофе и чаем.
Снимали нас до пяти. Целый день, как на сборах на военной кафедре, была строевая подготовка. Мы то приветствовали, беря ружья на изготовку, прохаживающегося между нами капитана, то салютовали делегации японцев. В следующие дни было примерно то же – мы то прощались с отплывающими на шлюпке товарищами, то бросались поднимать паруса, то выстраивались у одного борта и махали кому-то на берегу.
Фильм был о первых контактах русских с японцами. Приплыло судно, японцы захватили капитана. Или русские захватили японского парламентера. Чуть ли не конфликт. Но потом обмен и японо-российская дружба на веки веков. Что-то в этом роде. По роману Сиба Рётаро. Главного русского играл актер Малого театра, специально выписанный из России. Главного японца – Такэнака Наото. Говорили, что это телевизионный сериал, всего четыре или пять серий. И еще там в сценарии какая-то love story – вспыхивало имя одной юной ТВ-дивы. Что съемки еще в России, а в Японии главный павильон, целый деревянный отстроенный город, в Нагоя. Вот это, пригласят ли нас в массовку еще раз, обсуждалось больше. Потому что платили очень неплохо – 13 штук в день. Плюс мы все поживились на транспортных расходах (наврали, что едем чуть ли не с Хоккайдо – никто особо не проверял).
В массовку со всей Японии свезли русских. Русских не хватило, поэтому кроме бывших республик и чехов и болгар, были даже канадцы и американцы. Двухметровые американцы с красными саксонскими рожами не тянули на русских никак, но японцам было все равно… Русская же тусовка была интереснее самого фильма. Белорусский деревенский врач, оказавшийся гениальным медиком… Надменный надменностью коренного питерского интеллигента аспирант из Питерского университета, – немытые волосы блестят на солнце жиром и осыпаются вместе с перхотью – за завтраком рассказывавший анекдоты, основанные на игре слов в немецком – «я надеюсь, все присутствующие знают немецкий?»… Восемнадцатилетний Коля, рост за два метра, вес за центнер, год «бомжевал в Токио без визы», не видел своего недавно родившегося брата, но вернуться в Россию не может, как же его достала Япония… нет, сейчас он устроился, живет с сорокалетней японкой, та его кормит и поит, но денег не дает… когда она его очень достает, он берет бейсбольную биту и гоняет эту суку по всему дому… Два мальчика из Ниигаты, у которых там бизнес по продаже машин и которые сами приехали сюда – на черном спортивном «Мерседесе» (двигатель рычал, как тигр перед атакой)… Каждый вечер они покупали в баре несколько бутылок виски и поили всех желающих… Костик, который гулял в Токио с сыном главы Sumitomo – я захожу к нему, он открывает отцовский сейф, достает пару лимонов, и мы идем тусоваться… Костик и сам был неплохо устроен – женат на дочери одного промышленника… У того была еще одна дочь, немного того, со съехавшей крышей, но с очень нехилым приданным… Костик рекомендовал ее и готов был познакомить ее с любым… Дима из Владика – как и все из Владика, он был лучшим другом Лагутенко из «Мумий Тролля». Дима и на съемках не расставался с карточками, на которые он выписывал те иероглифы, что он повторял в этот день. Ясно было, что Дима с иероглифами пойдет далеко и упорно… Был подтянутый украинец Лёша, плейбой в водолазке – каждые пять минут ему звонила на мобильный очередная японка… мы поднялись на крышу, я тогда усталый был… я ей пальчиком там поковырял, а она мне пососала… достала, до сих пор звонит… стихи на мобильный присылает… вот, хочешь почитать?…
В обед к нам прирулил катер с коробками бэнто. Кусочки жирного угря, маринованная редька, рис. Двухметровый Коля съел три коробки – остальные смеялись, ешь-ешь, тебе полезно, и открывали оставшиеся коробки, откуда Коля ел уже только мясо…
В туалет спускались в трюм. Трюм был весь проржавевшим, заваленным коробками, как подсобка сельского гастронома, и весь в переплетеньях каких-то труб, как в кишках.
А потом мы лежали и смотрели на волны. Море было то голубым, то синим, то зелёным. Как маслянистой пленкой нефти, волны блестели солнцем. То полуденным – блестящим, то закатным – бархатным, цвета дорогого виски на дне широкого бокала.
В отеле мы поспали, поиграли в карты, сидя на полу между номерами, а потом пошли ужинать. Ужин… Один день мы жарили маленькие куриные шашлычки – горелки поставили на каждый стол, несколько раз вспыхивало пламя, официанты подбегали и тушили его. А на другой день было набэ – кастрюля с кипятком, в которую бросаются грибы, тончайшие нарезки мяса, овощи, тофу, и тут же естся. Месяца еб… и на одном пиве и закусках – мы с Тони отъедались за все эти месяца… Потом, правда, нам сказали, что этот ресторан для съемочной группы, а для нас есть другой. Но мы и на следующее утро пришли в этот, и нас никто не прогнал.
На второй день снимали высадку на берег… Местные деревенские бабки десанта не испугались – вынесли стулья и уселись смотреть на нас. Иногда фотографировали. А их старики принесли нам две корзины горьких недозрелых мандаринов… Мандарины были очень маленькими, как грецкие орехи, и росли чуть выше на склонах гор.
В горах я гулял после завтрака. Однажды встретил старика-японца. Молча и улыбаясь, он подарил мне отломанную ветку с мандаринами. Я привез ее Хён. И она долго еще лежала на книжной полке, рядом с пультом, засохшая – мандариновые листочки стали похожи на лавровые, а ссохшиеся мандарины – на елочные украшения.
По вечерам, еще до ночных водочных посиделок, мы напивались за ужином бесплатным саке и пивом. Потом надевали юката и в них носились по этажам и лифтам, играя в салки. Парочки древних аристократок-старух на отдыхе, запеленатые в кимоно, вытягивали шеи, когда мы пробегали мимо, шепчась, какие все американцы высокие и красивые, а потом краснели и прикрывали рот ладошками, когда мы на бегу по-японски благодарили их…
А по ночам, начитавшись Дадзая, я выходил из номера, пробирался по коридору мимо пьянствующих наших номеров – в одном русские организаторы, в другом наша массовка – и спускался вниз. Там на диване слушал байки Костика о том, сколько тысяч он проматывает в месяц. Костик оказался из нашего Университета и хотел знать о всех преподавателях, как они. Или пил кофе с двумя американцами-геями. Один и двух слов не сказал, все время обиженный и нахохленный, а другой, Дэйв, очень artistic и вечно болтал. Работает в какой-то художественной галерее в Кобэ. Приглашал потом затусовать в Осаке – и пусть я приду с Тони. Меня звал Sasha. Я поправил, что вообще-то Sasha, но нет:
– Ты Sasha. Тебе это больше идет. Sasha… Он скривился. Нет, только Sasha.
– А это правда, что эти организаторы Sergei и Dmitri?..
– Что?
– Как, ты ничего не заметил?
– Нет.
– Как они выглядят? Как одеты?
– А что?
Дэйв от удивления даже придвинулся ко мне совсем близко и явно мне не верил, что я ничего не заметил.
– Sergei и Dmitri – они же одеты, как мафиози! Так одеваются только русские мафиози!
Цепь на шее толстяка Димы, холодненькие серые глазки Сергея, когда он отсчитывал нам деньги и собирал подписи – да, может быть…
– Ну, разве не так? Мне Лёша об этом сказал, да мы и раньше это поняли! – Дэйв был явно очень горд своим открытием…
Слушал обычно я эту болтовню после того, как звонил из холла Хён. Рассказывал ей, как мы сегодня снимались. Она рассказывала, как она и как скучает. А потом я спрашивал – нет еще? И она говорила – что нет, еще нет. Но что это ничего страшного, такое у нее пару раз уже бывало. Но не столько же времени? Нет, но действительно ничего страшного. И пусть я лучше думаю о себе, на море так легко простудиться…
Так я выходил звонить каждую ночь. Потом вызывал Тони с его пьянки и докладывал – нет еще. Тони закуривал, задумчиво качал головой. Задержка – это неприятно. Говорил Тони. Но еще не страшно. Все обойдется!
Это же мне сказал как-то и Дима. Перебирая свои карточки с иероглифами за обедом, вдруг:
– Шурик, не переживай! Все будет хорошо!
Так что я не переживал. Я им верил.
Последний день съёмок… Сцена шторма. Нас чуть поснимали днем, а потом вывезли ночью. Корабль был пришвартован у пирса. А над ним нависал огромный чан с водой. Тонна воды! И огромный вентилятор, как в каких-нибудь авиацехах. Воду на нас выливали, а вентилятор дул и создавал подобие шторма. Мы же под этим градом воды должны были носиться по палубе и убирать паруса. И будто качка. После первого же дубля мы были мокрыми до нитки. На берегу выставили переносные нагреватели наподобие мангалов – в них, за железной решеткой, как в топке, метались на ветру язычки пламени. И жар, от которого от одежды шел пар. Правда, это все для японцев – как и одеяла и полотенца от ассистентов. Нам же более скромное и явно придуманное этими мафиози Sergei и Dmitri – столик с бутылками водки. Чтобы согреться. И мы согревались. Даже американцы. Потому что, как всегда, было много занудных дублей. И потому что – начало марта, море ночью – вода на палубе тут же хрусталилась тонкой корочкой льда. На этом льду разъезжались ботинки, когда мы должны были перебегать с борта на борт. А пухлого американца Стива – биолог-исследователь из Университета Хиросимы – привязали к рулю. Он рулевым был, а рулевых в шторм привязывают, чтоб не снесло, не дай Бог, водой. Толстенький и маленький, привязанный к рулю, отплёвывающий воду и поправляющий свою матросскую шапочку, Стив выглядел очень жалко. Такие толстые – им хуже всего в голод приходится, гораздо хуже, чем худым. А еще я почему-то подумал, что если бы на корабле начался настоящий голод, то Стива бы первым съели. Капитан-мафиози Sergei закрыл бы на это глаза, а его старший помощник Dmitri сам бы надоумил оголодавшую команду приняться за бедного америкоса. Заученный Дима выгрыз бы даже костный мозг из его костей, а плейбой Лёша не побрезговал бы и его диабетическими внутренностями…
А мы все носились по палубе. И на нас все выливали эти тонны. И ветер от вентилятора сбивал с ног – как и потоки воды. Потом ноги – водка и усталость – начали подкашиваться. И мы уже качались – шторм, качка – вполне натурально. Хотя режиссер – я его, кстати, так толком и не видел, он сидел все время у себя в палатке и отсматривал дубли на маленьком черно-белом телевизоре и все время кричал «еще раз!» – все еще «еще раз!» Это «еще раз!» передавал его ассистент. Ассистент ассистента орал это же еще громче. А мы начинали «еще раз!», когда русскоговорящий японец отдавал команду мафиози Диме – тот уже нам. Холёный и холодный все время, он сейчас выражался исключительно матом и все пихал всем водку – «вы пейте, пейте. Для сугрева, не заболеть…»
А заболеть действительно нельзя было. Раздолбай мы с Тони – мы даже не сделали себе страховку. А стипендии нам бы не хватило даже вылечить небольшой насморк… Поэтому, стуча себя по дымящимся бокам и обматываясь выданными полотенцами, я говорил себе, что надо самовнушиться, чтобы не заболеть. Просто абстрагируйся – совсем не холодно. Вот холод, а вот мое тело – и между ними пленка. Совсем не холодно! Но только когда же это закончится? Прожектор бил в глаза, а сигареты все вымокли и мы долго отогревали их над огнем – они становились чайного цвета и ломались еще в пальцах.
Потом я послал все и выбрался на берег. Сел вместе с японцами около этих нагревателей и стал ловить руками пламя. Начал выяснять у японца из японской массовки, сколько ему платят. Он из гильдии актеров, так что непосредственно ему ничего не платят, они на подряде – ублюдок явно не хотел колоться. А нам всего тринадцать штук! – сказал я, чтобы ему было стыдно. Где Тони? Я буквально вскочил. Бедный Тони – у него же астма, ему нельзя тут мокнуть! Я нашел Тони в группе русских, он весь был, как мокрый воробей; подложенная под его шляпу газета куда-то потерялась, так что шляпа постоянно сползала ему на глаза. Схватив его за плечи, я потащил его к мангалу-обогревателю. Согнал со стульев парочку японцев и усадил его.
Потом я растирал его, хлопал по плечам, обнимал и даже поцеловал в щёку (мокрая щетина как мягкая шерстка какого-нибудь котенка). Гей-парочка американцев смотрела с большим интересом… Тогда, говорил потом Тони, он мне за эти полгода все простил. Потом, правда, он еще говорит, я вдруг вскочил, его чуть не отпихнул и умчался приставать к ассистентке. Узнав ее имя, звал ее к себе в номер. Ёб…ный в рот, Тони, какой там у нас номер комнаты?..
Когда все это, наконец, кончилось – море по краю начало бледнеть, а ночь сделалась какой-то призрачно серой, и за сцену ночного шторма уже никак не сходило – мы все пошли в онсэн. Горячий гейзерный источник, типа сауны, на нижнем этаже гостиницы, камнями выложено. Даже я пошел, хотя в баню принципиально никогда. Лежал, задыхаясь от серных испарений и температуры, от которой сердце через раз только стучит, и чуял, как постепенно входит в тело тепло. Вот пальцы на ногах шевелятся, вот в ступни тепло вступило… Перед глазами мальчики из Ниигаты с двухлитровой бутылкой саке и Стив в банное полотенце кутается. Маленький членик-краник под необъятной складкой его живота…
А потом Тони полночи дежурил под дверью, потому что я выгнал его – ко мне ассистентка Хироми придет! Он слышал в комнате голоса и не решался войти, пока не затихло. Это я из номера Хён названивал… Узнав, что я звоню из номера гостиницы, очень дорого, она разозлилась и бросила трубку. Я звонил еще раз – каждый раз она уговаривала меня лечь спать и вешала. Телефон, правда, не отключала… Она уже вроде шла к метро на байто ехать, когда я в последний раз позвонил… Наутро в счете было не меньше десятка звонков, за которые я отдал треть гонорара…
Наутро мы уезжали. Меня дико ломало. Купил в автомате внизу слабые и сладковатые Castor Lights, кашлял после каждого затяга. В горле было очень сладко. Русская тусовка поехала в Хиросиму, благо близко, Музей бомбардировки смотреть. А я с одним болгарином и чехом в Осаку. Чтобы не на скоростном и сэкономить, мы долго и с кучей пересадок ехали. Склоны гор, срезанные ступеньками, и на каждой ступеньке что-то посажено… Долины, залитые солнцем до горизонта, до через край перелива, на котором – горы, горы… Маленькая одинокая часовня, на рисовых полях взращенная… Белый и пятиярусный дворец Химэдзи вдалеке, с крышами, темными стрелами разлетающимися… Как журавлиный клин в чужие берега – я список кораблей прочел до середины… А потом сбился и забыл(ся).
А накрыло меня, когда Кобэ проезжали. Кобэ, склоном европейских, японских и китайских крыш к морю спускающийся…
…Попрощавшись в Осаке с болгарином, заплутал на кольцевой линии. Проехал всего несколько станций и вышел где надо, а казалось – полдня кружил состав, вагонами на поворотах так кренясь, что сейчас свалится…
Хён встретила меня на Фукакусе у самых турникетов и отвела к себе. Я пролежал у нее несколько дней. Она отпаивала меня Jinro с лимоном и корейскими какими-то лекарствами. Капсулы, они были очень смешными. Все разного цвета. Красные, зеленые, оранжевые. Некоторые капсулы вообще были двухцветными. Как для детей, смеялся я, такие цветные только детям дают. И она пихала их в меня горстями…
Гонорар и выздоровление мы отпраздновали в «Киеве». Единственный русский ресторан в Киото – «Киев». На Гионе, на предпоследнем каком-то этаже – поднимаешься в тесном лифте обязательно со старыми сводницами – здания, как высотки на Новом Арбате. Столик у окна – внизу вся Камогава мелкая видна. Камышами и кувшинками по берегам затянутая. И заросшие горы, во впадине которых, как гриб во мхе, Киото.
Когда вошли, еще рано и пусто было. Двое за столиком над кофе курили тоскливо. Женщина лет сорока с перманентом на окисью водорода, кажется, покрашенных волосах. И лет тридцати мальчик в алой косоворотке. Я по-японски спросил.
– Чего ты не по-русски-то? Все свои вроде…
Больше, правда, мы не говорили. А они, когда народ подтянулся, к синтезатору петь вышли. Она кокошник одела. «Миллион алых роз» – Хён эту песню знала. Она и на китайский переведена, и на японский. Мы пирожки и пельмени взяли. Она вообще в восторге была. От шашлыков – те были подгорелые, но нанизаны не на шампур, а на сабельку такую. Вот эта сабелька, с позолоченным эфесом… И особенно перцовка. Чтоб перец, ее любимый корейский перец, в водку добавлять… Она признавала, что до этого и корейцы не додумались…
14 штук отдал за все про все. Седой японец у кассы подарил спички с эмблемой «Киева» и по-русски сказал спасибо, чтоб приходили еще.
The scream of the butterfly
Она тыкает сигаретой в пепельницу. Точность попадания, как у впервые стрелка – в десятку. Пепельниц – одна Тони, другая моя – все равно никогда не хватает. Потому что во время пьянок они – вместе со стульями, тапочками, посудой, а еще почему-то одна доска для глажки, которую потом никто не признавал, – из одной квартиры, как в броуновском движении, перемещалась в другую, из нее, если не хватало, забывались в третьей и т. д. А их владелец только через месяц опознавал свою зажигалку в россыпи других на столах на чей-то кухне и матерился, что это его любимая и он ее искал. Про стулья же обычно вспоминали, когда пора было уезжать и отчитываться перед кастеляншей за имущество. Поэтому сделали еще пепельницу – из консервной банки из-под тунца. К банке она где-то нашла точно подходящую пластмассовую крышку – очень этим, помню, гордилась. С тех пор в крышке появилась дырка от сигареты – из нее тонко струится дым. Как из маленького вулкана.
Мне хочется выйти на балкон подышать воздухом. Но я боюсь, что она может устроить пожар. Или чего похлеще. На всякий случай я убираю со стола на кухне все ножи – как-то раз она так задумчиво смотрела на них во время одной из ссор… Уж не знаю, за кого страшнее стало.
– Ты меня не любишь!
Откуда ты знаешь? Я – сам этого не знаю…
– Ты никогда меня не любил.
Почему? Сейчас такую – я тебя точно не люблю. А еще утром – еще трезвую – любил. Наверное. И мне хочется сказать ей, что если она так вот на сто процентов уверена, что любит – то это не любовь. Любовь – это если сомневаешься.
И еще:
What do you call love? I call love – time.– Никогда не любил. А я, дура…
Ей нравится мучить себя. Она – хочет, наконец, убедить себя.
Началось все вечером. Она пришла с работы слегка пьяной. Подбродивший запах саке и – были в Indian restaurant – карри. Пила со своим профессором с раскопок, которому она дает уроки корейского. Пьет с ним все чаще. Говорит, они просто идут после работы куда-нибудь в ресторан, – где же нам еще заниматься? – и пьют что-нибудь согреться. Тогда она и начала этот разговор. Видно, думала об этом все то время, что копалась в прихрамовой грязи. Раскапывая свои косточки. Косточки каких-то фруктов потому что – это самое большое, что они пока нашли. Одну такую косточку она утащила домой и подарила мне. Лежит на полке рядом с пультом.
Вошла, пошатнулась, бросая в угол рюкзак. И сказала, что ей грустно. Нет, есть она не хочет – поели в ресторане.
– Почему бы нам не пойти в караоке? Тони с Марико дома? Я думаю, они захотят пойти. Тони! Мари!
Высвобождаясь из моих рук, она огибает угол между нашими комнатами – угол оказался слегка не в том месте, где она ожидала, так что она чуть не падает, но выпрямляется. Вид – убьет на месте того, кто скажет, что она пьяна.
– Тони, Мари! Привет-привет! Как у вас дела? Мари, ты давно приехала? Может, нам всем вместе пойти в караоке?
Мари, которая с недавнего времени боится Хён – после того, как та устроила ей разборку, что во время наших общих посиделок Мари реже всех платит – смотрит на Тони. Тони – в принципе, неплохо бы прогуляться – смотрит на меня. Я еле заметно киваю. Ничего не заметив и победно – все с ней согласились, один я – не соглашаюсь – Хён возвращается в комнату и начинает переодеваться.
– Я вымоюсь. А вы пока собирайтесь.
Это приказ?
Когда в ванной начинает бить вода – стеклянная дверь тут же запотевает – Тони с сигаретой заходит ко мне.
– Что у вас случилось? Опять у нее, да?
Я прошу у него сигарету.
– Ты-то сам хочешь идти? Может, лучше остаться?
Я и сам не знаю. Остаться лучше, потому что в караоке она только еще больше нажрется. Но нажрется она и здесь. Там мне хоть не одному с ней быть…
И Тони уходит одеваться. За закрытой дверью я слышу приглушенные вопросы Мари.
За весь вечер она не посмотрела на меня ни разу. Много пела. Много – на корейском. Наконец, я решился – позвал ее выйти в коридор. Досадливо посмотрев на меня и отложив альбом, в котором искала новую песню, она пошла за мной. Сначала стояли друг против друга. Когда она пьяна, ее глаза еще темнее. Пьяные подростки с подружками или клерки с корпоративной вечеринки, обходя нас, бросали секундные взгляды. Из дверей комнат-капсул, куда они заходили, как пар из дверей парилки, на секунду вырывалась музыка и пьяные крики.
– Что случилось? Скажи мне, Хён!
– Я не хочу об этом говорить.
– А я – хочу!
Пожала плечами и развернулась-вернулась в комнату, где пели.
Я вернулся тоже. Примирение не удалось. Это как на рыбалке – клюнуло, уже подсекаешь, а тут срывается. И кажется, что уже все, никогда не клюнет, все сорвалось. Но еще будет. Только сейчас в это трудно поверить.
Тони и Мари говорят, на меня было жалко смотреть и что они меня жалели. Потом решил уйти. Один, не дожидаясь. Оставил за себя 2000 иен и распрощался.
Шел, с небольшими заносами, где-то не там. Свернул с улицы и пристроился отлить на заднем дворе одного из одноэтажных домишек. Мне нравится отливать вот так, в темноте, под светящимися окнами. Иногда, когда мы пили у хиппушки Гэбби, которая вместе с мужем снимала японский дом, я – «покурить» – специально выходил во дворик отлить. Ты можешь вернуться в этот свет и смех. А можешь постоять в темноте, привыкнуть к ней глазами, и вразвалку пойти к станции. Докурив, я, конечно, возвращался.
От струи, подтачивающей чей-то фундамент, поднимался пар. Как от твоего дыхания, когда мы тогда катались в Осаке на коньках, помнишь? Я еще подвернул ногу, сидел и курил, а ты нарезала круг за кругом. И иногда подбегала ко мне: «Ты как? Не скучаешь? Можно, я еще чуть, и тогда пойдем?»
– Да, конечно, окей! – говорю я, пытаясь прикурить одной рукой.
Когда вышел из дворика, то понял, что мне надо возвращаться, потому что сам я дорогу не найду, заплутаю еще хуже. Вернулся в караоке.
– Господи, ты где был?
Думаю, если бы я просто исчез и где-то бродил, Тони так бы не удивился.
Она же не поверила, решила, что опять драму разыгрываю. Здесь мы, кстати, были солидарны – я себе тоже не верил. Впрочем, она не смотрела – оглянулась, когда я вошел, и опять взяла микрофон.
Помню, мы тогда много продлевали. По часу, еще и еще раз. Хён, спотыкаясь, шла к двери, снимала трубку и говорила, что мы берем еще час. Потом смотрела на нас и заказывала всем еще раз. Campari orange. Когда Тони поднялся уходить, – у него больше не было денег, – она долго копалась в кошельке и положила на стол банкноту в 10000. Тони сказал, что он не сможет скоро отдать, стипендия еще не скоро.
– Тони, пожалуйста. Я заплачу.
– Ладно, хорошо. Пополам тогда, ладно? У вас все нормально?
Под конец вроде бы да – нормально. Она начала на меня смотреть. Даже что-то говорила – хоть и не было слышно из-за музыки. Я наклонялся к ней и переспрашивал. Она просто трясла головой и кивала головой на пульт – пыталась набрать номер очередной песни, но начинало играть что-то не то. Чаще всего – ABBA. Она ругалась и отшвыривала пульт.
– Хён-сан, какая песня?
И Марико набирала ей номер нужной песни. Тони, поднабравшийся кампари, улыбался мне и подмигивал – все будет окей! Прорвемся!
И мне так тоже показалось, когда она склонилась ко мне на плечо. Как всегда бывало, на нее вдруг свалилась вся усталость дня. Вроде бы она даже начала похрапывать. Но тут же очнулась. Увидела меня, – удивившись, как мне показалось – резко отстранилась и:
– Поздно. Пора идти.
На стойке она долго смотрит на чек. Думал, будет выяснять, за что столько. Но нет, молча берет несколько тысяч у Тони и кладет свои десять. Я даже не хочу смотреть, сколько всего мы заплатили. Спрошу завтра у Тони. У меня денег нет.
Когда мы выходим, уже 3 или 4 часа ночи. Все, кроме круглосуточного Seven Eleven на углу, закрыто. Металлические жалюзи опущены – кажется, что это и не торговая улочка, не видно ни одной витрины. А если и есть, то в них потушен свет. Тени деревьев с кастрированными ветками под паутиной проводов. На тротуарах – они белые, из светлого камня, а вот асфальт очень черный и не гладкий, а зернистый такой, как черная икра – никого. По дороге только изредка машины. Мы переходим перекресток – и она вдруг садится на корточки. Прямо на разделительной полосе, перед иероглифом «Стой!» Обхватывает голову руками и начинает что-то причитать по-корейски. Когда я пытаюсь ее поднять, она отстраняется всем телом и перебирается подальше от меня. Один раз не удерживается и падает – я вижу кровь на ее руке. Она тоже видит, но опять обхватывает колени, натягивает юбку аж до ботинок и так сидит. Уже молча, раскачиваясь. Тони со страхом смотрит на нее:
– Ее надо увести отсюда.
Как назло, появляются машины. Вижу удивленные лица японцев за рулем – мы сидим прямо посредине дороги, они объезжают нас. Господи, только б не вызвали полицию…
Я сажусь рядом с ней. Тони с Мари встают перед нами, пытаются как-то прикрыть и сделать вид, что мы просто переходим дорогу. Я чувствую, что они хотят домой. Сколько же это у нее будет продолжаться? Час, два? Я беру ее за руку – как ни странно, она не отдергивает ее. Пытаюсь рассмотреть царапину – черт, ничего не видно. Достаю платок – хоть оттереть грязь. Тут она с каким-то тоскливым вскриком вырывает руку. Я встаю и закуриваю. У меня в руке недопитая бутылка пива из караоке – я изо всей силы кидаю ее. Где-то впереди у светофора по дороге грохает и россыпью пляшет стекло…
Когда она, наконец, встает, мы с Тони подхватываем ее с двух сторон. «Я сама, не надо!», повторяет она Тони, но при этом хватается за него, другой рукой отпихивая меня. Я еще крепче беру ее руку. Мари, поминутно теряя свои туфли, идет за нами, неся сумку Хён.
А дома она запирается в туалете. Ее рвет. Позывы-всхлипы частые, но мелкие. «Бедная…», – говорит Тони. Когда звуки смолкают, в туалете наступает тишина. Пять минут, десять… Не слышно ни звука. Я стучу и зову ее. Верчу ручку, но она заперлась изнутри. Молчание. Переодевшийся в пижаму и уложивший Марико спать, Тони выходит на подмогу. Что делать? Мы зовем ее уже вместе. Она, скорее всего, просто заснула. Оставить ее до утра? Но она может упасть во сне и удариться. Я отсылаю Тони спать, а сам изо всей силы стучу в дверь. На соседей-японцев сверху – бегут-жалуются кастелянше, когда я слишком громко врубаю музыку – мне уже наплевать. Наконец, слышится звук отпираемой защелки. Она сидит на унитазе, голова качается из стороны в сторону, тело – вот-вот упадет, когда она полностью заснет. Я беру ее под мышки и поднимаю. Абсолютно бесчувственное тело очень тяжело. Ее юбка спущена – я чувствую, что ее ноги волочатся и я сам сейчас, запутавшись, споткнусь. Трусы она подтягивает только тогда, когда я выволакиваю ее из туалета на кухню – Тони отворачивается у себя в комнате и делает вид, что спал.
И вот, прошел час или два, она чуть протрезвела, и мы курим на кухне, играя в эти ее «любит-не любит». Я уговариваю ее лечь спать. Мне даже удается поднять ее и довести до постели. Она ложится. Но, когда я стаскиваю с нее ботинки, вскакивает. Я обнимаю ее и пытаюсь насильно уложить, склоняя к подушке. Тут она просто кричит в голос. Потом что-то очень зло говорит мне по-корейски и опять отправляется на кухню, по дороге захватив мои сигареты и еще одну пепельницу. Я иду за ней, вынимаю у нее из рук пачку и выхожу за дверь покурить. Небо уже желтеет. Но все еще душно. Хотя не так, как в комнате.
Когда я возвращаюсь, она все также курит. Повернувшись спиной, она смотрит в одну точку на стене.
Я останавливаюсь за ней. Завтра же она ничего не будет помнить. И я бью ее сзади, где-то между затылком и шеей. Ее голову швыряет лбом об стену. После этого она заваливается набок. Глаза – закрыты, она отрубилась и спит. Неплохой удар для хипа-пацифиста, а? Я смотрю на ссадину под глазом – завтра она будет пытаться вспомнить, где это она, будет смазывать раны каким-то своим пахучим корейским снадобьем, и будет обо всем молчать. Готовить завтрак с высокомерным видом – чтобы не показать, что она могла вчера напиться и к тому же все забыть. И будет со мной тиха – не показать, не дай Бог, что она помнит, из-за чего… А синяк под тоннами ее белил все равно никто не заметит. Я переворачиваю ее на спину, чтобы не подавилась языком или рвотой, и волоку ее в спальню.
Нам всем надо хорошенько выспаться. И мне, и ей. И Тони, и Мари. Никто из нас завтра не встанет с утра – мы втроем забьем на Институт, а она, где-то часа через два-три, позвонит на работу, что сегодня не сможет. Но нам все равно надо хорошенько выспаться.
И мы укладываемся спать.
М&М
Джеймс Даглас открыл глаза и понял, что он мертв. Смерть разочаровала – она не имела ничего общего со сном, впадением в небытие, и закончилась, только начавшись. Это не было окончанием путешествия. Это напоминало один из тех занудных романов о снах, что он читал – человеку во сне снится двойник, пытающийся его разбудить, бабочки и монахи, и тому подобная хренотень. Втягивающий коридор, откуда рукой подать автостопом до нирваны – нет, скорее стеклянная дверь с выбитым в левом нижнем углу квадратиком, ведущая в коридор. «Но все же я удивлен». Вода в наполненной ванне будто застыла, только торжественно лопались пузырьки грязноватой пены.
«Париж похож на старуху под маской косметики», вспомнил он слова одного японского писателя, случайно встреченного в баре, который тот по ошибке принял за гей-бар. Коротко стриженный, он напоминал бульдога, но с испуганными глазами. В ответ на достаточно крепкий вопрос о мальчиках Юкио вдруг заговорил о поте на прекрасном молодом теле, о море и солнце, о самоубийстве и крови, последнем и самом ярком свечении смерти. «Я пишу, чтобы не стать убийцей… Творчество – это исповедь маски… У славы горький вкус… Человек будет перерождаться тысячи раз, пока не станет ангелом, разлагающимся заживо… За кромкой жизни разливается Море Изобилия… Голоса умерших героев зовут… Действие…»
Джиму запомнились эти афоризмы, если только он правильно понял его английский. В любом случае, это не подходило. Он продолжал свой путь, начатый в детстве на затянувшемся повороте пустого шоссе, залитом кровью сбитых умирающих индейцев. Над ними, в мареве раскаленного асфальта, колебались, сверкали на солнце и постепенно растворялись в нем их души. Долгий сон. Он много думал об этом. Он стал говорить, что одна из душ умерших тогда вселилась в него, но это было неправдой. На самом деле его душа тогда рванулась за ними, в это солнечное марево, растворяющееся над пустыней. Окружающий его мир стал противен, по своей несуразности жизнь напоминала ту неуклюжую машину, в которой он сидел со своей семьей, тогда как индейцы – они стали частью этого мира, смерть была так же прекрасна и естественна, как быть одной из миллиона песчинок этой пустыни. Да, потом он стал частым гостем этих пустынь, возил туда друзей, звал этих духов. И слышал их смех над собой. Это было смешно, жалко, абсурдно. Колупание жизни – боже, как неестественно это было, главное же, что этого никто не замечал. Что касается его, то он нащупывал дорогу. Перво-наперво сигареты и т. д. как медленное самоубийство, ну да это всем ясно. Потом забыл родителей, – зачем Эдипу родители, давшие жизнь, вытащившие из того сверкающего и переливающегося, как подернутое радужной пленкой марево над шоссе. Просто перестал ходить в Университет, где его не могли ничему научить – ха, разве что снимать документалки о том мире, в который он мечтал попасть. Потом он плясал на огне, – оказалось, за это даже платили деньги. Посылать этот мир каждым своим шагом, сыпать ему пощечины и нащупывать то место, где реальность, наконец, ответит глухим звуком, означающим пустоту, плевать на лицемерную рожу этой жизни, пока с нее не стечет вся ее бл…ская косметика. Все его песни были пропеты с вывернутой назад головой, – он уходил, описывая свои чувства, одно большое до свидания, «это конец, мой прекрасный друг». Ну да. Постепенно танец на виду у разъяренных полицейских завел его туда, где спичечный коробок наполнялся изнутри чадом от горящих факелов и надломленным речитативом фигур в масках и тогах, где после ночи в ушах улитками ползали обрывки подслушанных ангельских сплетен, а из спутанных волос вместе с песком венецианского пляжа приходилось вытряхивать сны. Снилась смерть, но психоаналитика, как тот японец, он не просил. И он пошел на ее смутный зов. Его чертова проблема была в том, что он боялся убить себя, боялся даже шприцов (только травка и ЛСД) и бассейнов. Раньше он рассказывал со сцены людям свои сны, робко надеясь услышать где-нибудь за кулисами от ковбоя, пережевывающего слова вместе с табаком: «спокойно, парень, туда, куда тебе надо, ты можешь попасть…» Когда фотовспышки, ледники кокаина на столах светских раутов и седой парик Уорхола над всем этим в конце ослепили его. Путь на время показался никчемнее засвеченной пленки. Он постригся. Стал обжираться, сменил вино на пиво, он назло самому себе впихивал еду, которая в его животе должна была перевариться в жизненную силу. Скоро он догнал бы Элвиса…
Ate at king burger and just kept getting bigger. «Жизненная сила оставила меня», соврал он администраторам по поводу прерванного концерта – не говорить же было, что это смерть отдалилась. Опротивело все. Надеясь, что его имя, да и он сам затеряется где-то вместе с потерянным багажом, он поехал с Памелой в Париж. Высматривание духов с карнизов отелей было оставлено. Теперь, неузнанным, запертым в мир своей галлюцинации («какая у нас фантазия на сегодня?», как говаривал старик Кизи), он просиживал в парижских барах, и это помогало, боль, зародившаяся еще на том шоссе, отпускала. Приходила – мягкая ложь? И там была эта странная встреча. Японец, поклеившийся к нему, грубо отшитый и, после долгих извинений, вежливо спросивший его о местонахождении «Куинз». Он что-то знал о ней, его темной (латиноамериканка) леди…
«Цель жизненного пути – смерть. Это миг, когда прошлое и настоящее сходятся, а ты воспаряешь. Жизнь это лишь бикфордов шнур, смерть же – взрыв. Вечное сияние, Неопалимая купина, Хиросима духа. Боли же бояться глупо, она высвобождает душу, отпускает тело. Волны боли как северное сияние, благодаря боли ты можешь растворить себя в солнце. Я сразу увидел на вас пот от этого солнца, поэтому и подошел. Вы же видели это свечение, и вся ваша жизнь с тех пор это ожидание другого, неземного солнца, не правда ли?» Джим плохо соображал и в ответ позвал таинственного японца пожить у него.
Этот американец сразу понравился мне, он действительно никуда не спешил из того бара. Показавшийся запустившим себя байкером, он вдруг начал читать мне дивные стихи. Я рассказал ему о Греции, откуда я только вернулся, о бессмертии красоты, заключенном в мраморных статуях, о моем желании здоровья, здоровья такого, каким его понимал Ницше. Я так удивился своей откровенности с ним, что даже не заметил, что он почти все понял. Подготовка к Действию, от которой я бегал по свету, так утомила меня, что я не отказался, когда он пригласил меня к себе погостить. Я устал от солнца, я смотрел до этого на него слишком долго, как Сизиф, как летчик-камикадзе, устремляющий свой самолет в светило (только взрыва никак, никак не происходило). Вперед и вверх! Во мне полтонны пробуждающей весны… Я захотел пожить под мол очно бледным парижским небом, беременным так и не случившейся грозой, в комнате, которую чей-то неведомый нож отрезал от размеров комнаты настоящей, а не мутно призрачной, как все в Париже, будто затянутое дымным шлейфом от чумных костров Средневековья… Тем более что в отелях я останавливался на одну ночь для написания пьесы, теперь же ничего писать мне не хотелось, – для этого его дом подходил более всего, как мне показалось.
Я не ошибся. Мы много говорили. Он рассказывал мне о себе, я – о том, о чем повествует все, мной написанное. Что касается его образа жизни, то он во многом напоминал роман. Я нашел странное очарование (думал-то я об этом и раньше) в идее о том, чтобы до конца отдаться той трагичности, которую я поочередно то скрывал, то пытался отринуть от себя в своей предыдущей жизни. Я думал о том, что мог бы полностью жить в литературе, что было бы гораздо более коротким путем. Озарением же этим (если его можно назвать так, поскольку полностью оно захватило меня, когда я уже покинул этот дом), повторяю, я обязан тем странным дням, что я провел под его кровом. Когда я вселился, я ничего не заплатил, только пил с ним три дня (на его деньги). На четвертый же день он поднял меня давать интервью на чужом языке, когда я не говорил и на своем. Я помню вкус воды в общественном туалете лучше, чем то, о чем я говорил…
Каждое утро обыденно начиналось с мучительного похмелья, когда я пляшущими руками подносил к газу и раскуривал опаленную черным венчиком сигарету и пил воду из-под крана, чувствуя на зубах мерзкий хруст таракана, почившего в стакане во время запоя. В доме не было ни зажигалки, ни еды. Джим по природе своей был таким снобом, что неделями не покупал туалетной бумаги, когда та заканчивалась. На кухонном столе, в песке пыли и хлебных крошек, на дюнах грязной посуды одиноко красовались гордые смотровые бычков, ввинченных в корки дыни, которую мы ели с ветчиной по какому-то luxury рецепту. При этом в комнате у него царил, если не считать с полгода хранившейся в пузатом стакане на его столе мертвой цикады, идеальный порядок (он драил там пол, пока я блевал у себя виски десятилетней выдержки). Правда, довелось мне его комнату увидеть всего пару раз, когда он был мертвецки пьян и невольно оставил дверь неприкрытой – обычно у него было даже заперто, и он выходил на стук. Такая щепетильность была странна, поскольку, по его рассказам, он никогда не жил в собственном доме в Америке, предпочитая отели. Не знаю, с чем было связано изменение его обычаев – возможно, он, как индеец, обустраивал свой дом перед тем, как покинуть его навсегда. Несмотря на все это, заходившие к нему друзья отдавали ему спиртные подношения и гестаповскую честь. Но, предупредив меня («его друг – бутылка»), они скоро исчезали. «Они ушли в тень прошлого, а прошлое есть тот фильтр, через который мы видим настоящее», – афористично комментирует сей факт мой хозяин и удаляется в свою комнату. Я же шел занимать деньги у вчерашнего (позавчерашнего, если не повезет) собутыльника на прожиточный минимум еды, потому что попался в ловушку тревел-чеков, в парижских банках так трудно объясниться.
«Можешь приводить кого хочешь, но с одним условием – распишешь мне в деталях, а то я уже забыл, как это делается, а мне нужно посмеяться над собой», – как-то озадачил он меня. Я почти никого не приводил, он же лукавил, – к нему приходили часто, оставались, но ненадолго, потому что хотели остаться навсегда. Его жена Памела, кстати, не показывалась уже полторы недели. И по телефону ему звонили не часто, но вполне регулярно и настойчиво. Это все те девушки, которым отказали в долговременном постое. Отвечал он им по телефону дурным голосом, цитируя рекламу, только что озвученную вечно работающим ТВ (спал он тоже под телевизор, иначе будут кошмары, – я не роптал, потому что к вечному сомнамбулическому бормотанию каналов привыкнуть было легче, чем к его дикому крику во сне). Звонившие девушки обычно заискивали, пытаясь не донимать (как все алкоголики, мой друг превыше всего ценил невмешательство в свое самосозерцание), – спрашивали, что ему сегодня удалось написать, где пообедал и о местных сплетнях. Но надолго сдержанности девушек обычно не хватало: он выходил говорить на лестницу, чтобы не мешать мне, но я все равно все отчетливо слышал – девушки были в горе, они выпили с подругами, и ему приходилось кричать, чтобы быть услышанным. Где-то через полчаса ему удавалось склонить их лечь спать, а там и их счастье не далеко, маленькое, подлое человечье счастье… Отвечать и уговаривать по телефону моему хозяину приходилось иногда далеко за полночь – занятие его стихотворным сборником на следующий день опять перекатывалось в область неопределенного будущего, но терпения он никогда не терял (я же, одолженный постоялец, видел, как потом, вместо сна, он снимался в круглосуточный магазин, предпочитая пить в парке, уже опустошенном бездомными парочками).
Когда развозили почту, звуком мотоцикла снимая в воздух стаи голубей у фонтана, и когда старушки с собаками и целлофановыми пакетами выходили на прогулку, а я, наконец, пил свой утренний кофе (все больше дешевого гранулированного – я видел лица тех девушек и имел представление о его отношении к жизни, вернее – к Смерти, и это не давало мне уснуть), – он приходил, выключал ТВ и заворачивался в одеяло. «Спокойной ночи» в 9 часов утра желать было глупо (разве что «доброе утро после доброго вечера», что я как-то услышал от одного манерного англичанина на утро после вечеринки), и я молча прикрывал за собой дверь, идя на экскурсии. Экскурсии по большой части разочаровывали – вместо Нотр-Дама в глаза настойчиво лезут лица старых туристок, непременно под маской пудры и белил. Стопкам писем ему была уготована долгая судьба: сначала их складировала консьержка, потом, когда я заносил их ему, он давал им время на «дозрев». Отвечал же так – одно большое письмо и индивидуальные приписки. Да, довольно часто он отключал телефон и становился совсем умиротворенным (забыл отметить самое главное – ту чистую умиротворенность, что я постепенно стал в нем наблюдать и завидовать), но с наступлением ночи и ночных скидок на международные переговоры, снимался звонить кому-то в Америку и наиболее отчаянным невестам. Набор его музыки заставлял меня недоумевать, почему он так скептически кривится, когда в наших спорах нас выносило на берег острова под названием самоубийство. Набор его книг будто принадлежал двум разным людям – запыленному филологу и пышущему гнилым здоровьем порнографу. Мелодраматический тон моих воспоминаний о Джиме я хотел бы оправдать его ответом, на какой-то мой робкий вопрос (одолженный постоялец, без его ведома я вносил свою жалкую и ненужную плату жалостью, – повторяю, я не сразу в нем все понял, я только видел в его тени контуры той невыразимо прекрасной статуи Аполлона, что стояла в саду моего токийского дома…). «Когда я буду в настоящей депрессии, ты узнаешь, – я просто покончу с собой», – сказал он, при этом меня всегда удивляло его резкое неприятие темы самоубийства. Я больше не донимал его вопросами, тем более что моя жалость к нему была эгоистического разлива – ведь я тоже не просто так менял страны, как перчатки, передо мной стояла задача потерять себя по дороге. Как я уже говорил, я познакомился с ним в стране, одинаково чужой для нас обоих. У каждого из нас были свои слова и свой меч, чтобы оборвать эту жизнь, но у нас обоих он еще дрожал в руках, – возможно, это нас и сблизило. Тихая и неизменная вежливость алкоголика была лучше пятизвездочного отеля для моих грез, понимаю я сейчас. Если он и был величайшим лжецом, то обманывал он надеждой. Жизнь отодвинулась, и за ней стало видно то, что я и высматривал все эти годы.
Привычным жестом я прикуриваю от газовой плиты. Ухожу, не прощаясь, ибо вижу по паутинке слюны из припухшего рта, что он задремал в ванне (дверь не плотно прикрыта – редкая оплошность, частая у него в последнее время). Затягиваюсь и, выйдя, курю в лифте. Я достаточно потерял себя, у меня уже не осталось имени, понимаю я. Спасибо и до встречи, мой друг…
И вот она, смерть, думалось Джиму без его участия. Ванна, сквозняк, колышущий клочки штукатурки на потолке, почему-то похожем на лицо старухи под слоем белил. Вода, наверное, остыла, а крови не видно. Только что это? Пузырек пены на поверхности воды начинает разрастаться, цвета в его радужном отливе густеют, он становится похож на восходящее солнце и заполняет все помещение… Будто происходит замедленный взрыв, и он в его середине… Взрывающееся солнце втягивает и, растворив, посылает лететь вместе со своими лучами… Пожалуй, он наконец-то…
Поющее дерево
Масако-тян, студентка 3 курса Рюкоку Дай гаку, стояла на платформе Фукакуса в ожидании поезда. После занятий она оставалась репетировать в университетском оркестре, поэтому сейчас возвращалась позже обычного. Занятия, целью которых было избавить музыкантов от стеснительности, проходили на открытом воздухе, во дворе перед университетской библиотекой. Каждый должен был играть свою партию на своем инструменте, не обращая внимания на проходивших мимо людей, пока гимн университета над кампусом не возвестит конец дня. Никто особо не заглядывался на старательно избавляющихся от собственной застенчивости студентов, неумелое разноголосье выводимых ими мелодий было привычно и никого не заставляло даже обернуться.
Но сегодня вечером получилось так, что на миг все замолкли, и звук тромбона Масако, слабый, будто сразу же охрипший от вечерней духоты, вырвался один посреди сгустившихся сумерек. Сразу поникнув от смущения, он всё же сделал свое дело. Один в густой от духоты темноте, не имевший отношения ни к ней самой, ни к спешащим домой студентам, этот звук был настолько одинок… Масако тут же приказала себе отбросить накатившую грусть, но продолжать играть дальше она уже не могла. Извинившись перед Такаги, ответственным за их секцию и предстоящее выступление, она быстро попрощалась и убежала. Тот ничего не сказал. Он вообще избегал с ней лишнего общения, – началось с того, что она выбрала тромбон. Инструмент для мужских легких, большой, за которым можно спрятаться и никто бы не стал искать такую ее.
Да, тромбон заменил, вернее, – стал ее характером. Только оставшись одна в раздевалке, она окончательно успокоилась.
Среднего роста, ничем не примечательная, разве что слегка полноватая и ширококостная, что даже придавало ей некоторую миловидность, она не бросалась в глаза. Заинтересовать собой изнутри тоже было особо нечем: родители среднего достатка, младший брат, специальность, как и у всех, экономика. Специализироваться на Америке не хватило баллов, но Китай – тоже неплохо; она, во всяком случае, нисколько не переживала. Это умение – ее недавнее приобретение – радоваться тому, что есть (например, в Китай она съездила на каникулах и даже полюбила эту страну), отражалось на ее лице постоянной неглубокой улыбкой.
Это придавало ей какое-то очарование, и люди, она знала, любили к ней обращаться по каким-нибудь мелочам. Старушка, будто не видя зажигалки в раскрытой сумке, спрашивала у нее прикурить – Масако-тян вежливо отвечала ей, что не курит, и у обеих уже создавалось впечатление краткого, но вполне милого разговора. Когда она выпивала с подругами (а к выпивке она была на удивление стойка, что давало повод для подшучивания, смешанного с уважением), то разрумянивалась, начинала говорить не так тихо и смеяться. Этот момент, как подтверждали ее подруги, был пиком ее очарования. В такие минуты, казалось ей раньше, подойти прикурить или просто поговорить мог бы кто угодно, хоть айдору, красавец-якудза или крупный банкир, не старый, но предусмотрительно разведенный.
Стемнело, ночь будто омывала перрон, выхваченный светом ламп из сумерек и ночных звуков, потоками душной, несущей запахи пооткрывавшихся с сумерками разнообразных забегаловок, темноты. Темноту изредка прорезали не останавливающиеся на этой станции экспрессы и полуэкспрессы (сооруженная специально для их университета – так как других более или менее важных объектов в округе не было – станция по утрам и вечерам наводнялась студентами в однотипных одеждах, в другое же время была абсолютно безлюдна). Клочки липкой потной тьмы, казалось, прилипали к стеклам поездов, где в мягких креслах уставшие клерки смотрели невидящими глазами наружу. Масако чувствовала себя неуютно, темнота будто раздевала ее. «И здесь я не как все», с горечью упрекнула она себя, «мои не самые красивые подруги как раз к ночи только и оживают, когда их лица не так уж и видно, а какой-нибудь пьяный и вообще примет за красавицу».
Она встряхнулась, отлепила ото лба прилипшие волосы, почувствовав при этом, что вся ее прическа потяжелела от влажности. Повсюду орали цикады, на полупустом полустанке рядом с каналом их стрекот звучал не хуже, чем в актовом зале со специальной акустикой, где их оркестру предстояло скоро выступать. Она неожиданно вспомнила, – это было одним из тех воспоминаний, что кажутся напрочь забытыми, но посещают человека помногу раз в жизни – как в детстве, засыпая под такие же перепевы насекомых, она вдруг захотела выяснить, как выглядят цикады. Наутро, подойдя к поющему дереву перед своим окном, она с удивлением обнаружила лишь странные сероватые кучки потрескавшейся кожи. Все цикады умерли с концом сезона, объяснила ей окатян-мама, и души из их тел унеслись в бесконечно прекрасную Чистую Землю Амитабхи. «Когда мы умрем, мы будем там вместе с ними, как сейчас наш дедушка», – продолжила мама. Когда дедушку в довольно почтенном возрасте 85 лет свалил инсульт, и родители, шепчась, что его мозг стал совсем мисо (супом) и что он вряд ли долго протянет, проводили все больше времени в больнице, 5-летняя Масако подолгу оставалась дома одна, командуя младшим братиком. Трогая шелушащиеся рассыпающиеся под пальцами шкурки цикад, Масако представляла себе это свидание с недавно умершим дедушкой. Дед, оставивший после себя только крепчайший табачный перегар, в голове которого плескался суп, в окружении огромных похожих на человека цикад, – всё это больше походило на картинки из книг манга ее отца, которые она когда-то тайком пролистывала в его отсутствие.
Выругав себя за сентиментальность, Масако поплотнее завернулась в джинсовую куртку и оглянулась вокруг, чтобы поскорее избавиться от картинки, так неожиданно вспыхнувшей в ее голове (такие картинки что-то зачистили в последние месяцы). Уже несколько экспрессов промчалось мимо, а до прибытия местного поезда, останавливающегося, если не пересесть, на всех станциях, оставалось, судя по расписанию, еще 18 минут. Двое школьников старших классов средней школы, стоя по разные стороны платформы, переговаривались по сотовым телефонам, хотя можно было поговорить и так. Подражая юным бандитам из телевизионных драм, они говорили нарочито грубо; резкие хрипящие согласные их речи надолго зависали в душной темноте, множились эхом пьяных взрослых вскриков из забегаловки у входа в станцию. В это время к противоположной платформе подкатил поезд, и один из школьников залез в него, мгновенно забыв (Масако-тян видела выражение его лица) о своем оставшемся ждать поезда товарище. Беспокойно заворочался от шума отходившего поезда спящий на соседней скамейке пьяный клерк. Белая рубашка с пятнами пота, похожими на контуры материков на школьном глобусе, мято вылезала из черных брюк, очки будто соскальзывали с блестящего от жира носа. Очнувшись, он, видимо, чтобы больше уже не сморило, закурил, ломая сигареты. Mild Seven, 1 mg, как у ее матери, с презрением отметила Масако-тян – «настоящие мужчины должны курить что-то покрепче или уж совсем бросить». Курение не помогло, поскольку скоро он опять спал, – сигарета, долго тлев на его губе, упала на скамейку между ног.
Она отвернулась. Неподалеку от нее сидела парочка первокурсников. Стараясь не привлекать их внимания, Масако-тян занялась их изучением. Девушка подражала дешевой когяру – метровые ресницы, розовая мини-юбка, платформы в пол ее роста. Что-то лепеча, она не сводила взгляда со своего хоммэй-куна (как когяру зовут своих бойфрендов), тот же ограничивался краткими репликами и совсем на нее не смотрел. Хотя – Масако это заметила – любуясь собой в разыгрываемой им роли, он уже не раз бросил взгляд на нее, Масако, – то ли ему нужен зритель, то ли приглянулась она сама. «Я не такая, как твоя подруга, чего уставился!», – отшила его про себя Масако-тян. Сама же вспомнила, как недавно в баре, где она сидела с подругами, вошла компания размалеванных когяру. Необычным было то, что с ними была девочка лет трех, такого же вида, как и старшие когяру (чьей из них дочерью или сестричкой она была, сказать было трудно). Крашеные волосы цвета побелки, сапожки – девочка походила на ожившую и тут же состарившуюся куклу. Если бы у меня были такие родители, я бы, повзрослев, всех их убила, – подумала Масако-тян, после чего чей-то чужой, не ее голос, добавил: «И сама стала бы когяру». «Ты злишься», – продолжал этот только что объявившийся в ее голове голос, – «потому что дружок этой размалеванной напоминает тебе твоего собственного». Голос был на редкость хладнокровен, как то самое сослагательное убийство.
Это было правдой. Ее друг, самый долгий из ее романов, да и почти единственный, если не считать пары встреч в барах, встреч, продолжительность которых была не намного дольше, чем похмелья и плохого настроения, – «ну, зато никаких привязанностей и ответственности», – бросил ее в прошлый день рождения, который она как раз проводила в Китае. Хоть это было всего несколько месяцев назад, память очень мало что сохранила о нем. Он также не смотрел на нее и не слушал, оставаясь верным героям из своих любимых сериалов. И изменял ей при каждом удобном случае, даже не удосуживаясь как-то скрыть это. Хотя, возможно, эти измены были частью образа, который ей так и не удалось понять целиком. А еще у него были очень красивые руки, тонкие, такие белые с тыльной стороны предплечий. Когда он обнимал ее и она знала, что кожа его рук касается ее кожи, это касание, слегка спаянное их потом, заставляло забывать ее обо всем, забываться, как не могла она забыться ни в детстве в рюкзаке за маминой спиной, ни даже после бессчетных коктейлей в баре с подругами…
Прогудел пронесшийся экспресс. Можно было бы проехать пять остановок в противоположную сторону, там пересесть на суперэкспресс, который останавливается всего несколько раз по пути из Киото в Осаку, но когда Масако так делала, ей уже трижды не везло. Контролеры устроили в последнее время настоящую охоту на студентов, ездящих таким способом. Два раза ей удалось упросить не отбирать ее полугодовой проездной, в третий же раз ее вспомнили и отняли. Теперь ей придется ехать на конечную станцию и канючить вернуть проездной там. При одной мысли от этого портилось настроение. Нет, рисковать еще раз не стоит. Тем более что до ее поезда оставалось всего 4 минуты. Можно вполне спокойно подождать, особенно если не донимать себя праздными размышлениями, грош которым цена. «Жаль, что я не курю», – вздохнула Масако-тян и даже порылась в сумке, думая, как достала бы сейчас сигареты, неспешно закурила бы и затушила окурок как раз перед открывающимися дверьми ее поезда.
Она посмотрела на станционную урну, верхняя часть которой предназначалась для тушения окурков. Под зернистым металлическим сводом, в котором петушиным гребнем торчало несколько окурков, была налита вода. Вода, в которой плавали разбухшие сигареты, от которых отвалился фильтр и развернулась бумага, цветом напоминала густо заваренный чай. Так крепко любила заваривать ее мама, за что получала нагоняи от вечно экономившей бабки. Подняв глаза, она вздрогнула. Недавний клерк со скамейки, видно, разбуженный очередным пронесшимся поездом, в упор смотрел на нее. Масако испугало, что в его взгляде не было ни капли еще недавно усыплявшего его алкоголя. Слипшиеся волосы блестели над абсолютно трезвыми глазами, в которых Масако почти могла разглядеть всю себя с головы до ног.
– Эй, ты! Студентка, что ли? Как тебя зовут?
И, не дождавшись ее ответа:
– Что молчишь? Не бойся. Хочешь чаю попить? Я здесь знаю неподалеку хорошую чайную. Пойдем со мной, мне одному одиноко. Тебе понравится. У меня есть деньги! Ну?..
«Он хочет купить меня, как какую-нибудь когяру. Перед возвращением к жене, если он женат. Ошибся адресом – спросил бы ту парочку, парень той девки не был бы против, с удовольствием взял бы денег», – подумала она. В это же время она услышала, как тем незнакомым, недавно только поселившимся в ней голосом, к которому она толком-то и не привыкла, она скромно произнесла:
– Меня зовут Масако. С удовольствием.
Магазин (hardcore mix)
«Глубину зеленых глаз сестры я высчитывал бесчисленное множество раз, это волшебное число я знаю наизусть и повторяю его по ночам.
Будущего у меня нет – думал я и искал невозможного. Я начал измерять глубину глазного дна у людей, которых встречал, в надежде, что произойдет чудо, что появятся глаза ее цвета и глубины, от которых я мог бы на свой вопрос получить ответ, который сестра мне уже никогда не даст».
Милорад Павич, «Русская борзая»Сезам автоматических дверей, кондиционируемый холод дружелюбного морга, зеркала, в которых отражаешься на фоне жизнерадостных баклажанов и перевязанных розовыми бантиками новорожденных арбузов… Магазины всегда успокаивали. Началось все с Лили, его старшей сестры, которая, когда ее бросал очередной бойфренд, шла в мебельный, заодно выводя его погулять. Они тонули в мягкости диванов, листали воображаемые книги под торшерами, которые всегда были ярче домашних, запивали позаимствованным из домашнего бара джином дым сигар их (тоже выдуманного, ну да это другая сказка) отца, и она показывала ему ту симметричность, присутствовавшую в расположении мебели в салоне, которой так не хватало в жизни. Он любил симметричность: его первые детские рисунки были геометрическими фигурами. Квадраты, шестиугольники, треугольники разнообразных углов и наклонностей – он рисовал их на твердых набоковских карточках, потом заштриховывал в строгом порядке, который ему показала Лили: сначала штрих пересекающихся линий, потом штрих диагональных пересечений, пока белого не останется. Уходило по нескольку шариковых ручек, но емкая синева фигур того стоила, а истраченные чернила одуряюще били в нос. Позже, когда его рисунки начали выставляться, а девушки, хоть и не бросали, но утомляли теми часовыми паломничествами в модные бутики, во время которых он должен был тащиться, вися на руке девушки наравне с сумочкой, ему ужасно не хватало мебельных Лили. Он нашел себе другое отдохновение, более примитивное, приспособленное для его вкусов так же, как в детстве ему иногда перешивали вещи Лили, – непоэтическая любовь к пиву и простые супермаркеты.
И сейчас до замкообразной горы распродающегося пива с сидром он решил идти окольным путем, через весь магазин. Он опробовал все бесплатные пробники, кусочки ветчины с салатными листками, проколотые, как бабочки в коллекции, зубочисткой. Когда его картины еще никто не покупал, а Лили уехала, он ушел от матери, вечно больной и перерабатывающей, срывающей усталость теперь на нем одном; ушел неизвестно куда, ибо ничего не умел, даже бродяжничать, что тоже было наукой и тем еще дерьмом, потому что также требовало знакомств и связей, ведь не от рождения же человек знает, где подработка по утилизации строительного мусора по 4$ в час. Улыбнуться разливающей детский йогурт работнице – и можно взять еще пару стаканчиков, отвлекая ее глаза на свою улыбку… Подсматривая и зарисовывая ту задумчивость, охватывавшую домохозяек при выборе продуктов, что делала их загадочными королевами… Главное – подгадать время: не шумные сейлы и не воскресные затоваривания семейных, а эти послерабочие визиты офисных девушек. Их отпустила работа, их еще не ждут дома, и они медлят, как при поцелуе…
На кусках колотого льда дышала мертвым воздухом свежая рыба. Самодостаточной, как натюрморт самой себя, ей не нужно было пробуждать аппетит, даже эстетический. Эдам вспомнил, что в его недавнем сне с мертвецами на дне реки, в глазах которых плескалось отражение его и облаков, проплывавших над ними, не было рыбы, а будь в композиции сна хоть одна рыба – сон вмиг приобрел бы совсем другой смысл, ожил и оживил бы.
Мимо скучных отделов приправ и печений, долой их! Другое дело сырно-колбасное разнообразие форм и цвета, рядом с которым плавное скольжение его тележки почти прекратилось. Раблезианское, возрожденческое и бальзаковское изобилие недаром привлекает эстетов, раза в три превзошедших первоначальный размер своего тела. I dreamed I saw Dali with a supermarket trolley… He was trying to throw his arms around the girl… Синий кубик сыра падает на дно тележки. Тележка – как уютнейший одноногий костыль; о, он давно разгадал хитрость стариков, ходящих с не так уж нужными им палочками, – волшебным жезлом эти палочки поддерживали их, как рука матери в детстве… или старшей сестры. Он вспомнил, как они катались с Лили наперегонки в обезлюженных закоулках супермаркетов; разгонялись и вспрыгивали на подножку тележки, ребенок и девушка-подросток… Это стало его первой подсмотренной картиной – детские силуэты вдоль полок с товарами в погоне за скидками на эмоции… от родителей вместо карманных денег дисконтная карта на чувства…
Овощной отдел звал, ничего нельзя было поделать (хотя и не стоило – единственное из саморазрушений, таящих выздоровление). Почти все овощи говорили, как у Джанни Родари… Персики не скрывали своего родства с тем отливавшим наглой бронзовой потертостью персиком в скульптуре в Центральном парке, где они гуляли. Персик держала в руке нагая бронзовая женщина, которую почему-то прозвали Евой, – работы анонимного художника (вряд ли так было изначально, скорее это какой-то непризнанный Шемякин из художественного колледжа был безумно рад, что городской муниципалитет решил бесплатно разместить здесь его скульптуру, с табличкой с его именем, которая утерялась, отбитая местной шпаной). Персик (как и с полусотню других скульптурных собратий по туристскому несчастью по всему миру) полагалось потереть и загадать желание. Что они и сделали, о загаданном желании не став говорить не из-за приметы, а скорее из-за усталости, к тому времени давшей первые ростки. Для сил ли бороться с ней Лили добавляла в еду (их мать не умела, но при этом очень любила готовить, изобретать новые блюда, проводить все выходные на кухне, чтобы потом накопившуюся и приготовленную к семейному ужину усталость срывать на них, отчитывая ни за что и за все) красный жгучий перец. Эдам шутил, поглощая после стаканами воду, что у него сгорели губы и он ничего не почувствует при поцелуе. Тогда-то она его и поцеловала впервые – розовый, слегка припорошенный, как заиндевевшие окна изб на картинах русских художников, белым налетом язычок у него во рту, непрошеный, но милый в общем-то гость, томящийся от смущения, отчего не проходит в квартиру и только мнется, переминается с ноги на ногу, кивая на зазывания хозяина, но все еще топча слово welcome на половичке. После долгих его странствий по его рту у него начинался голод, как когда перекуришь и сигареты съедают ощущение сытости. Тогда же началась и усталость, хоть ее перечные поцелуи и жгли, как забытая в губах сигарета.
Усталость, похожая на то, как не отвечаешь на письма знакомых, – нечего сказать, нет сил писать, да и тот человек не ждет ответа, понимая: это такой негласный закон, известный всем, то есть никаких обид, ибо говорить не о чем и вежливее будет не ответить, – и так постепенно из записной книжки выписываются адресаты. Ему казалось, что ее сердце пахло красным перцем и индийским карри через кожу и что этот запах и сейчас еще с ним, после тысячи просмаркиваний. Он часто вспоминал ее. Большой рот, в чем-то развратный, если бы не очень грустный изгиб, опрокинутый лук какого-то античного героя. Ее слова напоминали улей пчел. Иногда, во время ссор, они походили на метко пущенные пули. A vampire or a victim – it depends on who’s around… Смеялась она как-то носом, отчего надо было отодвигать подальше пепельницу, не то пепел будет рассыпан по всему столу («Знаешь, как пепел надо собирать?», – самоуверенно слюнила она палец и действительно ловко подцепливала на него горку свалившегося пепла. Никогда не учила и не считала себя старшей в детстве, а вот сейчас…). Веки были очень толсты, поэтому слеза, скапливающаяся в углу глаза, скатывалась всегда неожиданно. Приходилось устраивать «проверку» Лилиных глаз, что иногда могло рассмешить, даже заставить не плакать…
А потом ему негде было жить, поэтому он как-то зашел к ней. День был – холодно и ярко, как он любил. Оранжевый желток солнца уронен в стакан с холодной водкой. Вокруг солнца небо просто белое, а на горизонте, где море и еще холоднее, – очень голубое. В вагонах метро отопление еще не отключили, на улице – ветер. It’s cold outside, but brightly lit. Skip the subway, let’s run – over ground…
У станции, как всегда, кричали. Торговцы хот-догами, агитаторы-коммунисты и агитаторы сдавать кровь. Ветер выхватывал их голоса из кульков мегафонов и, помусолив, выбрасывал, как скомканный конфетный фантик.
Винный магазинчик у станции. Его держит китайская семья. Между стеллажами пробираешься, как между спинами в час-пиковом автобусе. Продавщица – этакая ворчливая мамаша, готовая уже примерить одежды и манеры назойливой и доброй бабки – что-то внушает школьнице-ассистентке. Своей внучке? Он купил бутылку красного калифорнийского. Завернутого, с поклоном врученного.
А дома, в котором последние дни, из которого скоро съезжать, замирая под струями холодной воды, смотрел, как сперма смачным плевком шлепается о стену ванны. И начинает оплывать желтоватым, как воск со свечи… Грустно? Нет. Душем смыл только что вылетевший из него белёсый комочек, похожий на выплюнутую – «Хватить чавкать! Выплюнь сейчас же!» – ребёнком жвачку. Потом вымылся сам. До выхода спал. Один, без снов.
Пригородное метро здесь согрешило инцестом с железной дорогой, так что где-то две трети всей линии проходило по поверхности. Кукурузные поля с плохо выбритой щетиной прошлогодних стеблей… Поля для гольфа – мячик от замаха какого-нибудь крутого босса взмывал и летел, на время обгоняя поезд, а потом исчезая… Горы вдали – на их склоне притулилась небольшая вискарня… Аккуратно спрессованные горы однородного вещества, бывшего когда-то заурядным мусором, похожие на куличики из песочницы… Клочок кладбища – земля берется в аренду, стоит столько, сколько не заработать – надгробия были похожи на кубики Lego… Стая птиц – летела вместе с поездом, а потом резко ушла в бок… Будто ветром сдуло. Огромная гора с подъёмником – когда в детстве они с Ли туда вскарабкались, посмотреть, что там на вершине, сэкономили мамины деньги на нем… – интересно, на что потом истратили? – но пару дней потом не могли ходить… – вся заросшая бамбуком…
Бамбуком, штурмующим железнодорожное полотно со склонов гор, чуть не царапающим своими листьями-уклейками стены вагонов…
– Я просто хочу простых эмоций! Есть, спать, смотреть кино, слушать музыку… Чтобы и сон без кошмаров, и действительно выспаться, вставать не бледной немочью… Чтобы все это было – в кайф. Без воспоминаний, кто у тебя какими тонкими пальчиками эти диски брал, без этих техник, когда от любви тоскливыми дисками отслушиваешься… Какая там у тебя техника была, что нужно было слушать, когда тебя бросили? Pop U2, Portishead второй? Вот мне этого как раз и не надо! Что жизнь сложная, я уже и так поняла, более чем. Понимаешь? Простых чувств! Ощущений даже, как у белок, амфибий или не знаю кого. А все это у мальчиков с девочками… Я не знаю, простое оно или сложное. И не хочу сейчас разбираться. Мне оно сейчас – не надо! Может, позже. Не знаю.
– Я не хочу никой любви. Сразу – не хочу. Считай это испытательным сроком – как на работе. Ты ходишь на новую работу, но не знаешь, оставят тебя там или нет. Может, отработаешь три месяца, а тебя не примут. Вполне возможно. И никаких обид – потому что такие правила. Такое же должно быть и с любовью, я считаю. По-моему, это вполне справедливо. Я хочу отношений, но не хочу любви. Я хочу общаться с тобой. Хочу приходить с тобой в гости к моим друзьям. Хочу целый день с работы писать тебе мейлы – каждые полчаса, и чтобы ты на них всех отвечал. Хочу ходить с тобой в кино – и чтобы ты ходил на фильмы, которые нравятся мне. Да, я такая собственница, я знаю. Поэтому я и говорю об испытательном сроке – ты можешь сам тоже решить, нужна ли я тебе такая. Хочу, чтобы я могла позвонить тебе посреди ночи, сказать, что мне страшно и я хочу приехать к тебе. Но не хочу – понимаешь, не хочу – чтобы я должна была тебе звонить каждый день. Звонить, когда не хочу, звонить, когда мне нечего тебе сказать, потому что на самом деле я хочу целый день побыть одна. Bye, dear! I love you! – она передразнивает американское кино.
– Я этого не хочу! Ты мне интересен, но, может, это всего лишь очередной обман. Нет, ты здесь ни при чем – я сама часто очень себя обманываю. И больше не хочу! Я хочу отношений, а не любви. А там – что получится. Это как секс – незнакомые люди не спят друг с другом без сам знаешь чего. Так и здесь, когда еще нет доверия, надо предохраняться отношениями. Потому что когда сразу же любовь – это очень опасно…
– А может, я тебя никогда и не полюблю. И у нас будут просто отношения. Мы будем вместе ходить в то же кино и те же гости. И, в конце концов, станем лучшими друзьями. А потом расстанемся. Потому что наши отношения будут набухать и набухать, как нарыв. Но ни у кого из нас не хватит смелости вскрыть его. Потому что это мучительно и непонятно – не знать. Дойти до какой-то черты – и не переступить ее. А узнать можно – только переспав друг с другом. Но с друзьями не спят… Считается, что это жестоко по отношению к друзьям – спать с ними…
…Это она уже ему сказала после его бутылки. Калифорнийское – редкостная дрянь… И двух, извлеченных из-под ее письменного стола – она призналась, что одиноко, поэтому любит иногда и запас у нее всегда… И после того, как он не доел ее очередное экспериментальное – на этот раз корейское, алое от перца – кушанье. Нет, вкусно и не слишком острое, я люблю острое… Просто – я лучше поговорю с тобой! Она улыбается – «вывернулся»… И они пошли мыть посуду на кухню – она мыла, а он подавал и брал. И смотрел, как в огромные раковины стекала красная – красный перец и остатки вина – вода. И после того, как они с час гуляли и с час сидели в баре, ожидая, пока их квартирохозяин с первого этажа, не разрешавший никаких посетителей на ночь и следивший за этим из окна своей комнатенки на первом у входа, заснет и они смогут назад. Подходили к окнам его каморки и смотрели, как перед его замершей тенью плясали ТВ тени. И они таки пробрались. Обступая оставшуюся на полу посуду, сели у кровати и стали смотреть на улицу, не зажигая света. Ее комната на углу и в две стены окно – смотришь, как из капитанской рубки. Они смотрели, как лунные лучи, опасливо обнюхиваясь, постепенно забирались с холода в темное нутро комнаты обогреться. А за ними, нагловатые, будто в пятнашки играя, забегали огни неоновых реклам. Чтобы им было теплее, они включили нагреватель и взялись за руки. Он видел ее лицо, только когда по нему проскальзывали огни машин… Постепенно, как жидкости в коктейле, темнота в комнате и «не так уж и темно» на улице смешались… Они залезли на кровать, потому что стало холодно ногам, и стали еще выше над улицей. Слушали музыку из клуба напротив и махали мотоциклетным парням с девушками у входа в него – только те не видели. Как пепел с их сигарет тлеет в пепельнице, как угольки ночного костра в лесу. И после того, как они пару раз пролили вино на простынь – пятно разливалось черным – и просыпали пепельницу… И после того, как бокалы пустели, только наполнившись, а потом уже и не пустели, а просто стояли, забытые… И уж точно после того, как они все это – «утром вставай босыми ногами осторожнее» – просто скинули на пол. Да, именно тогда, завернутая в одеяло так, что видна была только челка, сигарета и глаза – блестели, когда сигарета вспыхивала – она ему это и сказала.
Комната была без душа – приходилось часто заходить к друзьям в общежитие, пока после наступления одиннадцати не выгонял дежурный, прокуренный до скелетообразности старик, оглашая все здание призывом «мистера Эдама» быстрее уходить, за кое амикошонство Эдам грозился-хотел довершить процесс мумификации старика. И без кухни, то есть с общественной, где, моя посуду, Эдам видел, как последний из тараканов из-за грязи и сквозняков собирает свой эмигрантский саквояж. Там же, у заиндевевших от китайского жира гигантских жестяных обмывочных, немка-лесбиянка (паспорт почему-то французский, а говорила только по-английски), думая, что она одна, любила поговорить с продуктами в холодильнике или овощами перед тем, как их порезать.
У Эдама бывали во время его бродяжничества периоды, когда он не отказался бы не только от этой еды, но и от таких собеседников, поэтому он, оценив общительность немки, скромно разворачивался, чтобы вернуться позже.
Их собственная комната напоминала модный клуб – стены ободраны до кирпичей, и в этом весь шик! Всегда полуприкрытые жалюзи шинковали луну или солнце соответственно, окно снабжало запахами – грозы и жареной рыбы. Запах жареного означал, что сосед-китаец опять взялся за готовку, которая скорее напоминала газовую атаку, но тут он приходил звать их за стол – и не отказываться же. Один раз он решил попотчевать их жареными свиными ушами. Лили выкрутилась, поведав, как она плакала над фильмом «Бэйб-2», ему же пришлось долго отказываться от добавки и, в конце концов, обидеть, так и не прожевав и неудачно попытавшись проглотить жесткие поросячьи хрящи…
Обрадовавшись переезду брата, Лили несколько недель колесила с ним по городу, набирая у знакомых, на свалках и распродажах всякие домашние вещи. Его задачей было тащить все это на-через метро, где на них все смотрели как на бомжей. Они целовались (благо за брата и сестру их мало кто принимал), отводя так косые взгляды, которые сменялись на возмущенное отворачивание. Телевизор, вентилятор, стерео… Стерео было, как ванна в известном русском романе про одного сумасшедшего и его любовницу, их тайной гордостью. Оба были насквозь, внутри и снаружи меломанами (что давало повод их матери, ненавидящей «все эти завывания» и предпочитавшей вкрадчивый гипнотизм никогда не выключавшихся «говорящих голов» по ТВ, открещиваться от родства с ними). С той лишь разницей и причиной для споров, что Эдам любил рок, а Лили считала его суть яблоком от великого древа классики. И сильно расходилась, доказывая это:
– Классику просто очень люблю, потому что выросла в ней. И не я одна! Из нее же выросли Beatles (как ни крути, а гармонии-то у Шумана хапали частенько) и последующие поколения. Да что там – даже вон Diamand’onKa твоя обожаемая и то. А минималисты у Арнольда Шенберга учились. А симфо-рок?
A Brian Eno твой любимый? Просто так, что ли, написал вариации на тему канона Пахельбеля (это барочная музыка, представь себе, еще более манерная, чем Бах). А всякий там Deep Purple и прочие старички-основатели?! A DOORS??!! Да разве всех упомнишь… А масса проектов – рок-группа и симфонический? Ох, да что с тобой говорить!.. Не понять тебе фугу Баха – фугу в суси-барах есть твой удел. А потом зарисовать натюрморты из ее косточек…
Рукою Лили копошилась у себя за спиной на столе, будто хотела прямо сейчас запустить в Эдама рыбой фугу, но, к его счастью, ядовитой японской рыбины среди настольного хлама никак не находилось, и рука возвращалась с сигаретой. После первой-второй затяжки Gitanes Blondes Лили продолжала более спокойно:
– Это философия, музыка сфер, золотая секвенция, которая на уровне золотого сечения Леонардо, это нераздельная вселенная звука, где и твои U2 лабают… Это привет пифагорейцам и… три диеза/бемоля у ключа – Троица, трихорд, семь нот – семь дней творения, двенадцать нот хроматической гаммы – двенадцать апостолов… А сонатная форма, разработанная Венской школой – Я и не-Я, вещь в себе – вещь-для-себя… Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель в музыке… А полифония и контрапункт? – привет Бахтину… зря, он, наверное, эти термины взял, мог бы получше придумать… Грустно…
И Эдам, притушивая в пепельнице (у каждого была своя) которую уже за монолог Luskies Lights, шел ее обнимать-замирять. Не ожидал, непредсказуемо, как всегда, но на этот раз она не обижалась. С рукой, укравшей с ее волос ее запах, он шел к мольберту зарисовать эту эмоцию и эту летающую вослед Лилиным рукам-дирижерам музыку спора. Аромат тени, кофе – вскипел и развеял… По пути, заворачивая к холодильнику-бару нацедить им примиряющего бухла и со смущенной улыбкой-покашливанием, делал еще одну остановку у злополучной установки, чтобы скормить ее выползшей челюсти диск Portishead New York Live, концерт, на котором они оба были (хоть и раздельно, «попарно») и «дико обожали», так, что даже не приходилось слушать раздельно, деля музыку, как имущество при разводе, – она слушает симфонический оркестр, а он – трип-хоп…
А в паузах тишины между песнями можно было, хорошо прислушавшись, услышать отдаленный стрекот цикад… Радиотишина… Дневная усталость выходила в ночных судорогах, этих родных сестрах других ночных корчей… Все было в общем-то хорошо так, что даже страшно. Эдам хотел было довершить их неожиданно нагрянувшее (и оказавшееся довольно приятным) мещанское счастье приобретением на соседней помойке кошки, но натолкнулся на неожиданный, как стул во время снохождения, как ответ во время сноговорения, отпор Лили: «Ты и так кошачий тип, мне больше не надо. Чистокровная кошка», – заклеймила она его вскидом плеч, что на языке ее жестов можно было прочесть как «ну и бывают же такие типы!» И добавила больше про себя, чем вслух:
– А я, наверное, собака. Собака, которая долго жила одна и почти привыкла. Которой только недавно стали бросать кость, это ей так понравилось, что она захотела стать социальным животным. Собака с комплексом неполноценности и завышенной самооценкой, которая недоумевает, не выродок ли она, если у нее сразу все комплексы. Которая только взрослой сукой заработала себе на «Педигри» и боится опять когда-нибудь оказаться у помойки. Да, наверное, я именно такая сука. К тому же бродячая.
О кошке он, понятно, больше не говорил.
Белье себе она покупала в Tati. Оно было настолько антисексуально, что это могло показаться позой человеку, который не знал Лили. Что она вообще считала покупку одежды глупой женской привычкой (смешком в нос выводя себя из рядов этого племени – или отстраняясь, заходя за грани моветона и очевидного в дистанцировании от самой себя). Единственным исключением (и исключением реальным, ибо было куплено в самых stylish бутиках) было китайское платье, кимоно-ночнушка и кожаное (из той же козлячей кожи, что и знаменитые брюки Джима Моррисона) пальто до пят и с капюшоном («эльфийское», как прозвал его маленький Эдам еще в детстве). Еще она копила деньги на «Елаза дьявола» для них обоих – так прозывалась, по форме задних фар, одна жучиная маленькая автомодель. Кстати, про глаза сатаны она утверждала, что однажды их видела, и очень обижалась, вообще недоумевала: «Как вы догадались?», – когда друзья, которым она это рассказывала, предполагали, что видела она их во сне.
– Это были НАСТОЯЩИЕ глаза, они смотрели на меня во весь экран моего сна, это был точно ОН! Я утонула в них, не открывая глаз!
Не скупилась Лили лишь на алкоголь, он был вне ее понятия «расходы», как-то выведен из, по умолчанию ее и (еще бы!) Эдама, так что отложенные за неделю деньги исчезали и никогда больше не вспоминались за одну ссору, чаще всего выпадавшую на выбор «какого-нибудь милого места, на твой вкус, Эдам, я пойду, куда ты захочешь, только бы я хотела, чтобы это было уютное местечко, где вокруг очень шумели бы, можно? Почему я всегда, а ты никогда?..»
И «Глаза дьявола» не материализовывались в машину, а сон тот (она жалела, хотела еще увидеть также вблизи глаза Иисуса, чтобы потом рассказать ему, и он нарисовал бы два портрета; «Из-под закрытых век» – она уже даже придумала великодушно название для диптиха) уплывал.
Распродажи были ее гордостью, только там она могла купить за четверть цены что-нибудь модное. Пиком ее пренебрежения к одежде был балахон, одноцветный, с капюшоном и до пят (еще одна «эльфийская» вещь с прозрачным приветом к зачитанным в детстве Толкину и Льюису), из которого она не вылезала дома (летом его сменяла one piece майка – ее приверженность нерасчлененности) и в котором встречала впервые приглашенных на ужин собственного приготовления бойфрендов, ожидавших, в общем-то справедливо, что-нибудь а-ля little black dress, что было – когда она успокаивалась и соглашалась забыть исчезнувших – для них своеобразным испытанием и инициацией незадачливых ухажеров в «лиливость».
Открывая дверь их квартиры, Эдам шутил, что боится увидеть маленького коренастого лифтера, который непременно тут же даст ему под дых, – они создали легенду и толкали ее всем своим друзьям, что раньше здесь был отель, в котором останавливался Холден Колфилд в ночь своего несостоявшегося лишения девственности. Девственность, к слову, была самой популярной темой на их сборищах, как и на всех модных тусовках, – этакая легкая ностальгия по невозвратному, весьма абстрактному Эдему. I’ve got a hole in ту heart the size of a truck – it won’t be filled by a one-night fuck.
Шопинг занимал у них время, отводимое другими под театр и бары; продуктами был завален весь холодильник, они гнили и выбрасывались: было неэкономно и весело. Предаваться каким-либо мыслям считалось между ними моветоном. Разрешались только истории, преимущественно печального характера, так что рассказы о несчастных романах подходили как нельзя лучше. Она рассказывала о своих любовниках. Они все что-то писали, а последний еще и плотно тусовался с какими-то революционерами. После него она вскрыла себе вены (больше всего убивало сочетание краха любви и идеи революции, которую предало-провалило как раз руководство его ячейки), а когда он вытащил ее из ванны, она выгнала его из его же квартиры и спала в ней беспробудно недели две. Потом нашла работу, ушла в нее, заработала на квартиру – и позвонила Эдаму поздравить с очередным Рождеством. И так он впервые увидел шрамы на ее запястье. Во время удалой вечеринки, в атмосферу которой никак не вписывалось. Это было реальностью, от которой он убегал в своих картинах, поэтому он заслонился шуткой, что люди с серьезными намерениями режут не поперек, а вдоль, «учти на будущее, сестричка».
Любовь у них самих тоже случалась, как всегда бывает, как-то и – разочаровала. Сначала она, как всегда, выковыривала жемчуг мяса из нежных китайских пельменей, а потом и вдруг… После, отрываясь (припаянный потом, придавленный слабостью к ее размытому на фоне простыни телу – его выпавшие волосы на ее kiss marks) от нее, он пытался избежать этого уродливого зрелища: ноги раскинуты, как распахиваются проспекты для панорамного снимка туриста без Вергилия, а из нее замутневшим плевком медленно стекает слеза-сопля, белесый червячок страсти. Поза материнства… Запахивал одеялом и отворачивался: его сестра не имела права не быть красивой даже в этой вульгарной женской позе! Поза полноты пустоты. Это было так свойственно жизни – позировать намеренно уродливой, скрывая от посторонних глаз и тем самым взвинчивая цену настоящей красоте! Он пытался зарисовать это все равно, только оторвавшись от тела и вместе с телом, забыв их тела лежать слабо на простынях – от всего на свете, на полотне два на два, но размеров, что ли, не хватило… Или помешало то, что он считал, что не для того в нем созревал и, греясь его теплом, потом выплескивался, обжигая страстью, раскаленный мед. Не чтобы застыть сосулькой-эмбрионом в другом теле. Трубопровод пуповины захлестывает удавкой, младенец кричит… Дети рождаются уже мертвыми, а у настоящей любви может быть только одно последствие. Romeo wanted Juliet, Juliet wanted Romeo… Romeo in blood, кровоточащий, как Иисус… Как-то по телевизору он видел передачу о том, как людей готовят к рождению ребенка. Четверка предстоящих мам, стоя гуськом в бассейне, прижималась друг к другу животами, а будущие отцы проплывали у них между ногами и выныривали на поверхность. Это символизировало появление из чрева матери. Нет, присутствовать на родах Эдам никогда не пошел бы – хорошо, что их и не будет. Хотя, надо признать, они (она? или он? Не столь важно, они все равно давно убрали пограничную стражу с границ между собой) думали об. Но – были родными, слишком родными братосестрой (тот случай, когда родственность мешает… хотя как все это, наверное, пошло… да и не мешает ли родственность и в так многих других вещах?..).
Но потом вдруг, абсолютно без предупреждения (в отличие от уведомлений об отключении газа, электричества, а потом и вообще – скором сносе дома, что было уж совсем нечестно со стороны судьбы, и так игравшей белыми), все растения на окне решили избавиться от листьев, а все первые вещи вдруг стали последними и – надоели, что ли?..
А еще эти двери. По всей квартире он вдруг увидел незакрытые двери. Нет, не входная. А дверь в ванную, туалет, в комнату (скрипела на сквозняке) и даже под раковиной.
– Ты что, двери разучилась закрывать? Шутил Эд как можно более так, чтобы Ли не обиделась. Но она не обиделась, просто подумала над ответом и не нашла его. Так что он ходил и прикрывал за ней двери. А потом вдруг догадался – это все та усталость.
Так они поняли, что их шикарная каморка больше не защищает их от холода, студящего через тонкокожую перепонку окна. И стали собираться.
Уже несколько дней они собирали ее вещи и убирали в комнате. Сегодня была раздета кровать – все постельное белье, которое она купила за свои деньги, когда въехала, снято и в стирке. Из-под него вынуто и свернуто ее знаменитое одеяло с подогревом. Иногда под ним было душно, иногда, когда дуло из окон, классно, но чаще всего он боялся, что его сонного шибанет током. Прорезиненное одеяло, управляемое с пульта в изголовье – ей всегда было холодно.
Свернутое, одеяло с ее кровати запихнуто в большую сумку. А он, стоя на кровати, начал очищать заклеенные окна. Из окон ее комнаты – на углу здания – дома на краю света – очень дуло, поэтому, только въехав, она купила в хозяйственном клейкую ленту и заклеила все окна. В несколько слоев. Так что сейчас, отрывая эту ленту, он боится, что вместе с лентой он вырвет нафиг и саму раму. Или, если лента вдруг оборвется, отлетит на полкомнаты. Вот смеху-то ей будет…
– Осторожнее! Давай я буду тебя держать!
И она поддерживает сзади для подстраховки, обхватив руками за талию. Дедка за репку, бабка за дедку… Сцепив руки у него на животе, она прижимается к нему вся, притиснув голову к его спине.
А он все еще стоит, вцепившись, как идиот, в эти свисающие лианами ленты, и пытается подсчитать, есть ли у них время. Но она уже разворачивает его к себе.
– Не волнуйся, мы все успеем к сроку, говорит она очень тихо. Ему приходится подвинуться к ней совсем близко, чтобы услышать…
…Потом он возвращается к своим лианам-ленте, а ей прибавилось уборки – кроме собирания разбросанной по всем углам одежды еще нужно убрать влажное пятно с матраса. Она долго затирала его салфетками, смачивая их слюной… Склонилась близоруко, как в детстве над Lego. Ей кажется, что пятно что-то напоминает, что она его уже видела когда-то, что все это уже было… А если было, то будет и дальше. И не важно. Она улыбается и трет дальше, что-то насвистывая.
Опустевшая комната – письменный стол, кровать, шкаф и с маленьким табором последних пакетов и сумок угол – лишается последнего: раскладного столика. Его дал ей со склада кастелян – теперь он тащит его назад. Столик, у которого, оказывается, складываются ножки, напоминает ритуального барана на заклании – вот ножки подкосились, и столик, теряя рост, оказывается на полу. Когда он поднимает его, оказывается, что он дико тяжелый. Она порывается ему помочь, но он говорит, чтобы только показывала дорогу. По узкой лестнице – вена в теле дома – проходящей в самом центре здания – параллельно идет еще одна лестница… в ее доме все дублируется – туалеты, эти лестницы, комната «для отдыха» на первом этаже и на пятом… – они идут на последний, шестой этаж. Там она открывает какую-то дверь – когда мы входим, оказывается, что это огромный зал с циновками, совершенно пустой. Не считая каких-то плакатов на стене чуть ли не с Electric Barbarella. Тусклая лампочка, которую она включает, освещает только небольшое пространство у входа – полностью зал не видно.
– Это для чего?
– Не знаю. Здесь все складывают ненужную мебель.
Оставив сложенный стол у стены, вышли. Она говорит:
– Мне нужно забрать белье на крыше. Наверное, уже высохло.
На крыше ночь, холодно и ветер. Вокруг, во весь квартал, разбросаны маленькие домишки. Единственное большое здание в районе – университетский корпус из красного кирпича, почерневшего сейчас, как засохшая кровь. Через несколько домов на крыше неоновое сооружение из разноцветных волн – развлекательный комплекс, в котором они пару раз сидели, когда после отбоя нужно было выждать, чтобы кастелян ушел в свою комнатенку спать и они смогли пробраться назад.
На крышах домов вокруг кое-где так же трепещется на ветру чья-то одежда и постельное белье. От зарослей теле- и радиоантенн на этом белье тени, как от голых веток деревьев. Через дороги перекинуты паутины проводов. Кубики домов – ребенок что-то строил, раскидал, ушел. Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне…
Когда он отбрасывает окурок, ветер сносит его в угол крыши. So the wind won’t blow it all away… На небе полная луна и какое-то белёсое марево вокруг нее. Nobody can hurt us now… Cause we are all made of stars…
Когда они выходят из здания – он весь обвешан сумками, а она тащит рюкзак и лампу. Остальное перевезено за много заездов на метро и, когда она поняла, что так им потребуется еще месяц, на заказанном ею такси, в которое еле влезло. Комната, голым электричеством выжженная дотла, опустела, ободранное от лент-лиан окно лишилось также и занавесок, и сейчас потерянно светит в ночь, как единственная фара у машины, и они никогда больше сюда не вернутся. There is the empty chapel, only the wind’s home – взгляни, как говорится, на дом свой, ангел...Она же старается воспринимать все вполне бодро. Together forever, вечный медовый месяц в самом разгаре…
Решили сфотографировать тогда ее общежитие на прощание. Опустили вещи на асфальт и по очереди фотографировались у входа. А потом еще по дороге к станции у ворот кампуса, запертых на ночь. Главные ворота, огромные, в несколько человеческих ростов, из витого железа и с университетским гербом – какая-то древняя, масонская эмблема, стилизованная под современность. Фото выхватило из ночи их фигуры и часть железного узора, смешав свет вспышки, фонарей и тусклое стальное мерцание луны в один холодный такой блеск.
Память его потом действовала в лучших кинематографических традициях, где в решающий момент наплывает камерой затемнение, а действие сразу переходит к последствиям. И его память сработала так же. В этот миг тяжесть, которая, как в детских играх во дворе, только что осалила его настоящее, начисто слизывая все (может, оно того и заслуживало? техника палимпсеста), отступала, выбрав на этот раз водой забвение. Он помнил, как это началось, мог бы даже рассказать кому-нибудь в баре, но та волна забытья, что брала исток от него нынешнего и распространялась вглубь его прошлого, уже подбиралась ластиком и к этим воспоминаниям. Швы вечности, которыми склеено время, расходились один за другим, оставляя его лицом к лицу с тем, что было внутри, – рваной раной, разворотившей брюшную полость мироздания, месивом, глядевшим на первобытного человека, пока трясущиеся руки хирурга-алкоголика от человечества не залатали на живца эту бездну…
Можно было бы узнать из дневника Лили в Интернете («Надо сдать бутылки, чтобы оплатить инет»), где она «вывешивала», как нижнее белье на балконе (сосед воровал ее лифчики), самое личное. Незнакомые люди присылали ей сообщения: «А почему такой-то долго не появляется?» – и знали о ней все вплоть до (эта откровенность сочеталась в ней с полной закрытостью в общении). Потом, правда, она все «потерла» (два легких клика на смену неопрятному обряду сжигания рукописей и сломанных ногтей). Не хотела оставлять свидетелей обвинения против себя, что ли. Что-то, правда, осталось на сервере – было лень кликнуть еще раз или хотелось оставить лазейку для восстановления самой себя, чтобы можно было продолжить, где-нибудь из интернет-кафе на Гавайях. Начало и конец записи за один день:
«Из окна (обильно обклеенного старыми рукописями, но взрезано весной, когда – “под эфиром на столе” и далее по тексту…) ужасно дуло. Я смотрела, как пар из труб ТЭЦ подмешивался к облакам, как молоко в водочном коктейле. Из-за тумана перспектива терялась, смазывалось расстояние – так, возможно, выглядит падение из окна и приближающаяся земля. Размывчатой мягкой ватой. Ноябрь разорил птичьи гнезда в верхушках засыхающих тополей, чьи безлистые остовы составляли пейзаж со скульптурами в саду, ободранными до арматуры. Через полигон подоконника взгляд соскальзывал в окно, чтобы потом, после изрядного слалома, перескакивать с кочки одной машины на другую, что могло продолжаться вечно, поскольку поток проспекта слегка подсыхал лишь к утру. В детстве (нашем общем детстве!) мы играли с Эдамом в одну игру. Меня научили ей в больнице. Под окно которой приходила мама, маленький совсем Эдамчик, с его большой раздвижной удочкой. Те-ле-ско-пи-ческой. На ней они поднимали к моему окну на втором этаже пакет с передачей, шоколад и фрукты. Потому что если передавать так, то монополизировавшие сферу разноса более здоровые девчонки все поедали. Но эти же девчонки сидели у меня в комнате, и мы все делили. Мама клала больше персиков, яблок… Но, странно, я тогда, да и сейчас совсем не люблю фрукты. А, игра… Игра была смотреть на дорогу и только по звуку мотора угадать, какая машина сейчас выедет из-за поворота. Иномарки котировались выше всего. Дома я научила этой игре Эдама. И все обернулось запретными играми. Однако запретные игры ничем не отличаются от настоящих – они заканчиваются.
Но не слишком ли много для пейзажа из одного окна? Его и так настолько больше, чем меня. Это как стать собственной тенью, а потом вдруг увидеть саму себя… Жизнь уходит, ушла давно, а я лишь бегу за ней следом. О, Эд, я всегда была нечиста на руку в игре за твое сердце. Одно время это почти помогло – я будто превратилась в себя-девочку, пытающуюся на цыпочках дотянуться до своей старшей сестры. Но это долго не продолжалось. Мой уход из дома был моим главным козырем, он заставил тебя всю жизнь чего-то искать и чего-то догонять. Тем более не надо было возвращаться к тебе…
Имеет ли это отношение к Эдаму? Нет, скорее к тому, что я сама к себе имею слишком большое отношение. Вымою волосы и вскрою вены в этой же ванне (хоть и претенциозно, но перед смертью сознательно люди пошлость выбирали редко – льщу себе этим). Ненавижу людей с грязными волосами!»
Закончилось все беспричинно, в общем-то, как все всегда происходит, – жизни недосуг ведь разъяснять свои решения нижестоящей инстанции человеку. Поэтому узнать, с чего началось и чем закончилось, ничего не даст, это как прогноз погоды. Нужно что-то большее. Как деревья за окном, их масонский союз с крышами, тщательно дотоле скрываемое единство мира, открывшееся однажды в состоянии похмелья. Можно только вспоминать (хотя лучше забыть, тем более что срок боли уже давно подошел к концу… и довольно к месту сильно сдала и ослабела память). Что в какой-то, совсем обычный, день она просто ушла из их квартиры.
Она спала в позе, в которой, по-моему, спать могла только она одна: на животе, голова на согнутой руке, а вторая рука вытянута – в Загребе, нырке – вперед. Будто куда-то плыла. Вырванный кадр. Остановившийся проектор, выплескивающий Океан за окно. Океан как плавильная форма, в которой отливается ночь, дома как отложившиеся наносы ракушечника… Шум машин, затихает. Cars hissing by your window… Утробные воды мирового океана. Младенец – заголосил в холодной купели и был выплеснут с. С тех пор им никто не интересовался. Плыла, возвращаясь к другому сну, к ее приснившемуся детству…
Ребенок спал посреди вывощенного ногами нескольких поколений их семьи пола. Духота отпугнула комаров. Тихо и гулко время от времени позвякивал лед в стакане ее деда, спящего-сидящего (не разберешь) в углу. Временами слышался дождь, за полосой ненамоченной земли под далеко нависающей крышей гриба-дома. Ее дед отличался от других стариков тем, что очень мало говорил. Казалось, ему нечего вспоминать, нечему особо и учить своих внуков. Но любил ее. В прошлые каникулы он донес ее на спине в соседнюю деревню, где должен был быть праздник поминовения мертвых, и огонь так красиво плясал на льду озера. А когда ребенок должен был уезжать домой в город, за ночь смастерил ей деревянные салазки. После Лили помнила, что их мать часто попрекала деда, что тот очень рано ушел на пенсию, еще вполне здоровым стариком, что он не зарабатывает денег и так вынуждает ее помогать ему. Потом, когда она была в пятом классе, он умер от рака. Ее не брали в больницу, но она хорошо представляла себе, как он умирал, – болезнь очень подходила к нему, молча зародившаяся, тлеющая и пожирающая его, все это без единого звука. Так они и молчали – ее дед и его смерть. Позже она часто думала о причинах этого молчания, обращенного равно в его прошлое и его будущее.
Дети мучают собак, ящериц, птиц. Эта жестокость к миру – не просто способ познать его, но предчувствие будущей боли, желание заранее отомстить за нее. Однако потом вдруг жестокость кончается, иссякает, как молочные зубы, – и начинается боль. Человек пытается быть хорошим, любить других, родителей и друзей, честно или притворяясь при этом, играя, чтобы понравиться, вызывать любовь и не чувствовать боли. То есть любовь – не более чем обман, лекарство от боли, а боль – это и есть жизнь. Ради которой надо постоянно, как работать в тухлой конторе, обманывать.
И когда-то человеку надоедает это бегство. Он прекращает этот марафон. Он снова хочет стать ребенком и осознанно причинять боль. Тогда он останавливается, уходит от тех, с кем он играл в любовь, и – видимо, возвращается к себе, но точно не сказать, – люди тогда перестают быть словоохотливыми.
Так и Лили начала причинять боль, а единственным для этого был Эдам. Возможно, с этого места проектор снова начал мотать старую бобину, Океан за окном отлил, а ее плавание возобновилось с мертвой точки.
И уставшими уже руками он пытаться вспомнить тебя. Как же медленно грузится, черт, ненавижу… Руками, на которых глянцевые перчатки уже. А под липкой пленкой – твой залакированный запах. Который – за тобой – все равно уходит. И не надо его. Пусть. Забыть. Еще просто раз. Завтра тоска и депрессняк? Ни голоса, ни смысла, ни мотивации, одна тоска? Слабость и бессмысленность? Но боль, как член после долгого наяривания, вырастает. Так что – да, убиться… Смысла, который вот только что, совсем немного накопил, чуть появился – а так много надо – и сил – которых тоже – совсем не будет завтра, да. Но – все равно, все равно… И вот и, надо же, на его любимых сайтах много обновлений. И еще тот новый сайт нашел, посмотреть… Грузи… Как же, Боже, медленно… Но – грузи. И убейся. Да, вот, даже возбуждает… Нет, не эти, которые сразу голые, сосут и распахиваются. Они не возбуждают. Как и настоящие. В которых – я импотент? – просто нет загадки. Их тело их лишилось. Поэтому лучше одетые. Которых обнимают, сзади, чтобы не видеть лица, медленно раздевают… Или вот, может, нежненькие licking lezzies… О, и даже скорость пошла. Да, смогу, да.
Эд, сменяя руки и отдыхая (член тут же сдувается, как проколотый воздушный шарик), гонится… От скопившейся от прошлых разов еще спермы из-под кожицы пахнет старыми грибами и растут желтенькие пузырьки… Да… И из алого уже, резинового наполовину члена все же что-то выстреливает – на пару вхлипов-слез, а не на взрыв-плевок. И одновременно стреляет в голове. И голова закидывается, рот размыкается в крике… Сперма стекает по члену, по зажавшим его рукам… разжавшим… на поредевшие лобковые волосы. Сфинктер не выдерживает – чавкая, он клюет пустоту, а потом вырыгивает наружу немного кала, перемазанного смазкой… Сперма течет долгими волосками… Наконец, они обрываются… Она капает… Слякотно и тут же холодно. Но ему все равно. Потому что его сейчас нет, и не будет еще пару минут. И, соответственно, не будет и ее. Он убил ее. И эластичная боль сдувается. Маленькой становится, как головка члена, который маленький и сморщенный, как кожа только что младенца… Он слизывает с пальца спермоподтек. Вытолкать ее всю из себя, стать пустым… пустотой такой густоты, что даже боль в тебя не проберется… Хорошо… Липкими руками, стараясь не перемазать мышку, он закрывает страницу. Закуривает. Затягивается так, как альпинист, которому только кислородную маску надели. Встает – его шатает, он чуть не скидывает модем – в туалет отлить. Сразу не получается. Но с пузырчатым всхлипом из него падают еще экскременты. Тонкие, как опавший член, лучистые и перламутровые в своей смазке. Он смывает и закуривает еще. На двери туалета с изнанки кто-то из прошлых жильцов нарисовал свастику и приписал почему-то «Турция». Надпись эту видно, только если очень присмотреться. Он давно уже на нее смотрит, но так и не понял – почему именно Турция. От сигареты тошнит – он заходится в кашле, выкидывает сигарету. Туалет подтекает – сигарету завихривает тут же поток, а пепел от нее опускается на дно и становится речным песком. Слегка подтирается – подмываться лень. В ванне смывает с лица пот холодной водой и долго смотрит на себя. Зрачок одного глаза расширен больше, чем другой, тот, в котором с утра еще боль. Возвращается и через history смотрит, какие странички хоть как-то возбудят. Чтобы еще раз и лечь. Перед сном надо поесть. Потому что иначе еле встанешь, убитым встанешь. Но сил нет. И что есть – все равно тут же голод. Он открывает окно, чтобы проветрилось, и закуривает. Докурив и закрыв окно, ложится. Может быть, получится еще. Он начинает – надежды мало – но засыпает, так и не закончив.
Из того периода уцелела (кристально четко сохранилось в памяти, при этом – ощущение провала и перескока через пару месяцев) для него странная деталь, на которой что-то повисло (как водоросли-волосы, облепленные мыльной грязью и чем-то еще – на сливе в только что спущенной ванне), – Эд вдруг пристрастился к радио. Мягкие, как пластилин, сладкие, как дешевая шоколадка (итоговый образ – не пачкающий руки растаявший батончик или съедобный пластилин), попсовые мелодии, не отличимые одна от одной, как дни. Он пил под них, но не напивался, будто превращаясь в подобие того ванного слива, в одну большую воронку песочных часов, в которую уходили воспоминания, алкоголь и сперма, возможно, даже жизнь с ее долей бессмертия («проскочило… никто и не заметил…»), затягивая и его, пока пьяный сон-отключка не возвращал назад в его квартиру, туда, где… да не «где», а здесь, на этой самой простыне, с тех пор, если применимо это слово, «намеренно» не стиранной… хотя нет, увы, Ли (где твой прощальный подарок – или твоим подарком был только твой уход?) постирала за неделю до того, как… ты ее не удержал… (почему? и понимал ли ты вообще тогда?)… на этой самой простыне, на которой в первые дни первых вещей, во время затянувшегося Рождества (замедленное появление на свет… и волхвы на привале репетируют свой выход, твердя не забыть свои поздравления), когда я не поехал к матери, и они с тех пор бережно хранят в семейном комоде рядом с моими детскими фотографиями эту обиду… а все из их общежития-коммуналки уехали, оставив нас одних… и мы пили, то есть сначала он вкупе с подарком, большим действительно мягким (шершавое детство сдернутой и присыпанной тальком кожи) медведем, которого она тут же нарекла моим именем и с ним заставила сфотографировать, за столом, в обнимку, – вкупе с ним была им купленная бутылка ирландского виски, с которого и началось: опохмеляться, нет, просто пить – пить поутру виски или водку, разбавляя тепловатой водой из-под крана, идти в круглосуточный 7-Eleven (лесбиянка-немка здоровается в утренней пробежке) за готовой едой и пить… и они валялись в постели, рассказывая друг другу детские сны и кошмары, и кого как в школе дразнили, и гуляли между почт, магазинов и детских площадок, фотографировали ее на детских качелях (а из-за карусели выглядывает алебастровая лошадь без головы: «Лошадь» – это еще одна его картина, выставлена и сейчас), мимо снов, новых рассказов, сместившись на пол, поближе к нагревателю, стаканам, пепельнице и еде… и все разъехались, на рождественской неделе даже замолчал (или был попросту отключен, «я и забыл») телефон… а когда они уставали говорить, то играли в chat на листочке бумаги, я писал ей, она отвечала, нельзя было говорить… она улыбалась, а ты, ты видел это сам на ее фотографиях, себя на полу, – ты был счастлив! Ты даже не понял – значит, точно был! Вот же, на, держи! Вглядись в грязный узор этой простыни (да, увы, инцеста. Признаю, и можете передать привет Гамлету), среди твоих выпавших волос, катышков хлопка, живого воздуха и мертвого света… Разве ты не видишь, что сейчас (поскольку ты первым проснулся в это утро, готовясь к обычному, как доброе утро, поддразниваю ее, сони, хотя было еще так необычно, что она или ты никуда не уходите и просыпаетесь именно там, где ты сейчас вот проснулся, Эдам) – твоя любовь проснется с сонниками в уголках глаз, – ты осторожно слижешь их (слишком мало, чтобы почувствовать вкус, – «спи еще»)… если ты сделаешь ей кофе – холодное молоко и никакого сахара – разве такое можно пить? – она захлопает в ладоши. Если попросить ее, то не досчитаешься в нем сахара. Само собой, ты разбудишь ее поцелуем. Который ей приснится. За кофе ты потянешься за сигаретами на полу, повинуясь ее сонному жесту. Не найдя своих, закуришь ее. Кофе – весь ее завтрак. Через час сборов можно и выходить. Конечно, к одиннадцати она попросится в кафе. Второй завтрак. Ты можешь обнять ее прямо здесь, получив сдачу и поднимаясь наружу… Это твоя любовь – видимо, ты знаешь, что с ней делать (щуриться на фотографиях, играть камешками гравия, дрожать от ветра, показывать маршруты влюбленным туристам в Центральном парке зимнего Нью-Йорка). Поэтому только не спрашивай меня. Меня это не касается…
Итак, радио. В роли не выключающегося будильника. И молчание, и тишина, квартира. Он будто впадал в спячку, время замедлялось внутри него, а вокруг – мутнело. Где-то на дне этого состояния, в мучительном поиске (вектор которого отклонялся от ухода в полную кристаллизацию) можно было обрести избавление. Он почувствовал, что больше поймешь, если не пытаться все специально проанализировать, дойти до самой сути, поисков пути, поскольку ответ лежал на поверхности, только вынырнуть где-то с другой стороны себя (самобеременного), пока же – утробный мерный стук головой о лед в поисках полыньи, е…ли, ее ли, Ли ли… Поняв же, увидишь тот путь, по которому она (должна была) ушла от тебя. Тенью, прячась в переулках прошлого, проследишь ее, ангелом аль детективом, сам не пойму. Походя поймешь, сколько еще болезненных ловушек, заминированных персонально для тебя точек рассыпано по этому городу и зовет, поэтому надо выходить, разбив путь на квадраты, надо нанести город на карту воспоминаний. Сейчас, в тишине, когда только минуту назад, между подрагивающей рукой и прожженным кружочком на простыне мог увидеть и коснуться пальцем ее высвечивающейся с другой стороны того провала-воронки кожи… Сейчас, когда все звуки (шагов) приобрели особый тембр… Когда безумие и гармония станут неотличимы (друг от друга или чего-то еще)… Ясно увидев, почувствовал себя в этой воронке, уходящей внутрь времен допотопных (где-то в районе Рождества, волхвы тогда еще с оказией), он понял, что если резко переведет взгляд и сфокусирует его на окружающих домах, магазине, микрорайоне, городе, то выскочит из этого липко приставшего, как пропотевшая рубашка, бытия.
И он увидел стену напротив окна, облитую чернильными отсветами грозовых облаков, и случайно проскочившие такие белесые солнечные лучи. Повернув взгляд, отразился в зеркале и внимательно, как в детстве первые поросли бороды, исследовал лицо. Свое! И результаты ревизии (впервые после того, как облысел) до чего-то там внутри него дотянулись и затронули. Почувствовал себя бодро, почти шутливо, что было второй стадией похмелья (вторая, тошноты собою всем, была не за горами и должна была продолжаться с месяц). Похмелье действовало, как инъекция правдивости; логика сломалась, как игрушка в руках ребенка, а мысли не удавалось закавычить для дальнейшего их возвращения и анализа – они больше не были частью его и уходили по-английски. Эдам видел из окна город, и из него в голове отпечатывались два существительных – деревья и крыши. Крыши и деревья… Это значило больше чем, несло какой-то сокровенный смысл, но он не мог его разгадать. Мозг отказал, перестал работать, роль компьютера он поменял на роль пожарной сирены, которая заполняла его мозг истошным предупреждением: деревья и крыши! Это означает очень много! Разгадай, и тогда, как в кроссворде, ответы на твои проблемы сойдутся один за другим! Деревья и крыши – вот же он, смысл, разве не видно?.. Похмелье было ощущением, чувством, вынырком на поверхность и глотком воздуха!
Со стола сгреб ключи, зажигалку, сигареты, вроде ничего не забыв, и хлопко, как убил муху, захлопнул дверь («Можно и не проверять», – информировала автоматическая сигнализация памяти). И побрел за пивом в магазин через дорогу неуклюжим тараканом среди аккуратных машин-жуков, сунулся в просвет между, но свою скорость переоценил, хорошо, женщина, сзади которой сидел в специальном стуле ребенок, остановила машину пропустить его – мать с сыном одинаково без выражения отвернулись в сторону, чтобы не показать, что следят, когда же он, наконец… «Уф, вот и перешел!» – выдохнул внутрь себя Эдам. После чего машина завернула также к магазину, к въезду на его крышу (автоматическое предупреждение о выруливающей машине заунывно сигнализирует зазевавшимся пешеходам, коли те будут), где была автостоянка, куда еще предстояло залезть и в одышке (сердце в целлофановом пакете подростка-токсикомана) не угореть. Люди, выходившие из туалета на лестнице к парковке, чтобы рассесться и раскатиться в своих машинах, увидели пыхтящего, нездорово пухнущего и пахнущего бомжа с обесцвеченными и собранными в конский хвост остатками волос. Он, несмотря на все это (да несмотря на себя, можно сказать, чего скрывать!), посмеивался чему-то под своим лилово-оплывшим на похотливые губы носом и упорно преодолевал вверх лестницу.
Эд стоял на крыше магазина, где находилась парковка машин, и слушал город. В питейной на углу люди цедили свою радость от того, что неделя перелистнула свои страницы. Уютно и плотно, как в детстве грибы на меховой подушке («срезай, а не выкручивай, иначе в земле не останется спор, и не вырастут новые грибы» – наставлял дед), сидели дома. Город, придавленный тишиной, похожий на предлагающую войти в себя женщину, город, чьи улицы расходились бесконечной вереницей крестов, но без ноликов. Город …эластики боли. Суккубов порно, сношающихся с баньшами безумия. Где субботним утром и кошки похмельны. Город sale’ов судеб, duty free любви. Она знала, где самые дешевые предсказания. Give те money for a change of face. Самые веселые вечеринки теперь там, куда не дадут визы. Was it your place or his? Who was there? В хрониках об этом на Вселенском транслите. Кодировка существует в других системах. Но можно исповедоваться по Internet. Папа смотрит на это сквозь original Bono sunglasses. Водитель мягкой машины, куда все же ты нас?.. Мы же даже заплатили бы, ведь нам говорили, что деньги интерактивны, нет?..
был.
Киото – Москва, 1999-2001Часть 2. Гумусовый горизонт
Во дворе
Когда-то я думал, что неплохо бы стать в следующей жизни собакой. Таким веселым английским кокером, который бегает по двору, догоняя свои уши. Всегда рад хозяину, рад почти всему, быстро живет и скоро умирает, делясь этой радостью. Или я думал, что хочу.
Она медленно идет от подъезда, огибает дом. Улыбается немного, покачиваясь крупным тазом. Она близка к пятидесяти или скорее уже за, много лишних килограммов на ней. Из тех полных, которые, кажется, всегда должны быть веселыми, добрыми и не восприниматься всерьез. Они такие и есть – уж коли ждут от тебя, удобно быть в нише, уютненькой, это сговор тебя и мира, капают за это небольшие проценты.
Солнце плавит людей маслом, течет пот, на масле проступают капли конденсата. Подкрутил вчера мощность холодильника, теперь на внутренних стенках лед.
Потом я вижу ее, как, обогнув дом, она ищет эту собаку. Собака семьи алкоголиков, дворняжка дворняжкой, но у алкоголиков есть дети и внуки, да и собака совершенно не голодная и забитая. Алкоголики целой толпой друзей и соседей сидят днями, кричат, иногда дерутся, что-то пьют. Нет, не очень шумные, да и далеко от окна.
Я думаю, как вот людям удается жить. Не работать и иметь деньги. Иметь еще столько друзей. Пить каждый день и быть бодрыми.
Я вспоминаю, что – нет, алкоголиком я быть не хотел, но вот когда-нибудь, думаю, сказать бы стреляющим мелочь у магазина – я вам завидую. Я хотел бы быть, как вы. Не работать, а целый день пить что-то и солнце. Гулять вокруг магазина. Сидеть на этой их почти личной скамейке. Я бы хотел еще много чего… Так что мелочи я вам не дам.
Женщина эта постоянно кормит собаку. Она знакома и с алкоголиками. Точнее, те больше общаются с ней. Женщина же говорит им очень мало всегда, часто смотрит в сторону и улыбается. Не то чтобы ей так нравилось улыбаться, я думаю. Просто так она осознает себя. Или не осознает, потому что часто смотрит по сторонам. Поводит своим увеличенным корпусом, будто загорает и тогда, когда нет солнца.
Собака избалованная уже. Такая же бездельница, как и алкоголики, вообще социально на них очень похожа – играет с одной такой же полубездомной, спит на траве, просто ходит от куста к кусту. Так вот женщина ее иногда почти уговаривает. А когда собака совсем сыта, она просто уходит, скучно посмотрев на еду и отвернувшись. Она глупа, не понимает, что так можно потерять женщину? Или она умна. Женщина все равно ходит каждый день (и это только когда я вижу еще, куря на балконе!). Всегда в мисочках, посудинках еда, а еще из пакета. Может, если бы собака была менее равнодушна, равнодушной стала бы постепенно женщина? Мне не хочется так плохо думать ни о ком, но это же баланс равнодушия. Как баланс любви, воды, гнева в ссоре, обмена ударами и всего остального. Не важно, каждый чувствует этот баланс по-своему.
Женщина чувствует этот мир сейчас, я ощущаю это по тому, как он крепок, во все концы двора уходят эти улыбки, как распоры, и собака трусит от нее вбок, как трусят лошади или такие небольшие, ленивые, ничем не пуганные в своей жизни собаки. Отходят, как воды, чувства и ощущения. Даже этого двора. Люди уходят. Как вот в подъезде сейчас у нас, где ремонт, шпаклюют двери и всем велели оставить двери в предбанники открытыми, уходя на работу, а когда уходит и рабочая неделя, то уехав на дачу, на шашлыки под городом, на просто куда-то. Ее чувства, мои? Я не улыбаюсь, но чувствую что-то похожее.
Я тоже не думаю, а смотрю, куря, на женщину. Пару раз наши взгляды встретились, и она немного покачала обширными боками, чуть повернулась, еще раз, еще, и так ушла с линии моего взгляда. Она держит весь двор и мироздание, но скользит между взглядов и слов, тех алкоголиков, меня. А собака на нее и не смотрит.
Как выходные, звонков по делам нет, но ты чувствуешь, что их нет, и не будет, ты этим спокоен и свободен. Свобода – это отсутствие. Пустота.
Я не знаю, где она живет, то есть в нескольких подъездах правее. Я не знаю, есть ли у нее семья. Есть, скорее всего, есть. У таких полных женщин должны быть маленькие, будто задавленные ими в утробе, рахитичные и избалованные дети. Или выросшие высокими, гораздо выше ее, не похожими на нее, почти красивыми и другими. Муж тоже другой. Да, у нее есть семья, это понятно по одежде – аккуратная, неброская, чистая, небогатая. Мода женщин под пятьдесят «в теле» – это другие, как ад, но нет, она, ее одежда, совсем не ад. Одинокие одеваются очень красиво или, наоборот, уже никак, заброшенная одежда, как и они. Это клише? И что у женщины должна быть семья? Где почти нет ссор, все в скромном порядке. И все другие.
Она выходит из этих клише, идет в магазин. Неспешное покачивание боков, путь, который несколько раз обгонишь. Покупает специальные собачьи обрезки в мясном отделе. Спроси ее, зачем ей эта собака, она, может быть, смутится и отвернется от вопроса. Или у нее есть такая версия, уютные ничего не значащие слова, которые так часто говорят в семье, они ничего не значат, но скрепляют то, что ничего не значит. Или начнет вдруг думать, зачем действительно ей эта морока, ежедневный ритуал, траты, дети не так еще выросли, чтобы о них нельзя было заботиться, и уж точно не ушли из дома, она и заботится.
Правда ли, что она хотела стать балериной? Балериной в космосе? Черно-белой героиней Антониони? Той, которую непременно все любят? Чушь, нет, конечно.
Трава, как плохо сбритая шерсть, ее косили, подбривали косилками, пожгло солнце, топтали алкоголики, дети и собачники. Собака спит в тени – почему-то спящие собаки всегда похожи на мертвых собак.
Она кормит ее, потому что смысл не в собаке, смысл – выйти из дома, от семьи, от их смысла? Ей нравится, что собака сыта и, в общем-то, плевать и вяло хвостом на нее вертеть хотела, она хотела быть собакой этой собаки? Кормит ее, потому что капля голодной собачьей слюны, катарактический чуть блеск узнавания в собачьих глазах – больше, чем у нее есть в жизни любви? I wanna be your dog, God? И я могу только банальности придумывать? Чушь, чушь, конечно.
Женщины ее возраста обычно разгадывают в метро всякие кроссворды, заполняют клеточки судоку – не все сошлось в жизни, сойдется тут.
Парит так, что к вечеру засохли многие звуки, изводившие днем. Алкоголики проявили себя опять неожиданно – вытащили раскладывающиеся кресла и пикникуют на них! Их тихое, но постоянное пьянство для меня все же загадка. Они не переходят черту, что-то же их останавливает. И состав у них часто такой – семейный, соседи, от дочери главной алкоголички, хозяйки собаки, с ребенком, до старух. Взрослые мужики среди них.
Жара. Бог.
У тишины, или СССР 2013
Пока дебелое тело зимней Москвы почесывается-потягивается киргизскими лопатами-скребками, пока меня не разбудил их дятельный перестук, я еще помню те зимы в поклоне. Когда алыми плевками на кирпичах стен астрами увядали флаги – траур очередной генсечной смерти. Умирали постепенно и постоянно, а за этим задником готовился умереть Союз – уходил домашним животным от хозяев в лес, спрятать-утаить свою смерть. Дальние салюты догоняли, как гон.
По утрам в районе раздавались, выплывали из-за угла соседнего корпуса звуки похоронного Шопена, рефлекторного для всех, как Мендельсон. Гроб выносился, с табуреток возносился и, как с пристани, нырял в небольшую группу несущих товарищей-родственников (stage diving), впереди локомотивом портрет, те же гвоздики и черная ленточка, что и на портретах генсеков… Грубые мозолистые руки месили смерть, как тесто, от них, уже привычных, она становилась лишь сокровенней, уезжала в машине. Крестьянской общины ли были в этом следы, Мендельсон и Шопен – все сообща, табуреток у Ивановых из 25-й возьмем, но Мендельсон победил – я давно не слышал далекие, но значимые звуки Шопена в своем районе.
Дома-хрущобы, на месте бывших хибар, рядами, шеренгой шли к реке (их кубы – отпечатки поступи неба), спускались через парк, переступали шлюз, терялись в воде и появлялись, как пущенный по воде камешек, прыг-скок солнцем, и проступали такими же тенями на том берегу. Упавшие звезды – подобранные камни.
Смерть спрятали, она стала неприличной, непубличной, а вот секс, наоборот, выпятился из гетто-квартала, выбрался из табуированного на люди. Но он никого не может объединить.
– Самолетные порезы на небе скрестились шпагами. Куст сирени прибит после дождя, как детский вихор зимней шапкой. – Нанизывая эти сравнения, я, волшебник, даю вещам связи, которые у людей общность только отнимают (А бедней Б и т. д.)
– Как объединяло тогда все: пролизанная полоска – дорогу и каток, замерзшая в янтаре льда трава – зиму и лето, твою зиму и твое лето, школьный год – звенья лета до и лета после. В гамаке из звезд ты щупаешь свой скелет. Произносишь слова, которые от соприкосновения с воздухом все – стихи (и чем меньше в них поэзии, тем лучше). Просто слова, кожа для воздуха. Хворост дальнего смеха, шлейф дыма, щепотка росы. И голоса нет. Он сгорел с тишиной. А ты скоро родишься со смехом, рассветом.
Бодрившийся шампанским, пузырившийся петардами город с утра выглядит виновато притихшим, пена новогоднего неба спала – и вот неожиданное солнце. В сколотом льду, на обветренном холодце снега, на законсервированной с осени траве. Утром первого января не город наблюдает людей, но они его, как неопасное, но большое и когда-то своевольное животное.
Снег, как у эскимосов, как у Смиллы, был разным. Ноздревато-влажным – скатать снеговика, пока не растаял, замазать смачным снежком и победить соседских из того корпуса. Гигантской запятой вьюги. И сваленным-спресованным снегоуборочными машинами. В разводах дорог, откуда убран. С янтарными вкраплениями. Чужим и своим! Сразу крепостью! Ночью ее драконы комбайнов, сжатый снег, укатанный пломбир.
Или еще один. На горнолыжном скате у стадиона в Крылатском, на другом берегу бабушкиного дома на улице Народного ополчения. Дорожки снега уже чистого и скатанного, треугольники трамплинов от чьего-то конструктора, в трамвайных лыжных полосах. Сбоку можно на детских лыжах, на санках. Найти там посреди одного шоссе снега ободранный куст в ледяных слезах срезанной коры – понятно. Или коричневый куст какой-нибудь резеды! Коричневый скелетик с гербарными высушенными листьями. Как и зачем выстаивает он здесь? И ведь расцветет весной, когда мы уйдем с горы вместе со снегом. Будет аэродромом для нетребовательных неказистых бабочек. Приютом запаха. Источником, мы это проходили, хлорофилльного кислорода.
Я просто хочу вспомнить, каким я его видел. Да, оптику закутанного в шубу, перетянутого ремнем, обутого в валенки, рукавицы, колготки под штанами, шапку с помпоном и на завязках. Тревожной куколки. Которая через несколько лет сделает удивительное открытие – шапку можно попросить без помпона, колготкам объявить войну и выиграть ее против родителей из племени взрослых взрослых. Не видевшей денег, стран, кончающих женщин, чего там еще. Ослепленный иранский ребенок мог бы ходить и петь песни, видеть сны, основанные на том, что было до, крепко коренящиеся внутри.
Мужская психика примитивней женской, ведь мужчины мотивированы по сути только честолюбием. Но женщинам не свойственно мортидо.
Секс может выстрелить в голове, мысли закоротит, они, как кровавые хлопья мозгов, улетят на мгновение красными бабочками, чтобы вернуться липкими мухами кошмаров, писком комаров, укусом осы… Иногда нам удавалось спутать грубый секс с нежностью, и тогда мы часами пялили друг друга, чтобы исчезнуть на минуту. Точка терпения – это жизнь. От закинутых объятием рук вырастали крылья, путались слова, паузы прятались между вдох/выдох. Шла на кухню в ванную к окну. Мое сердце бьется рыбкой, стучит, как дверь на сквозняке. Твое – мягкий снежок, что лепят побелевшие пальцы. Потную ветошь плоти срывает ветер и несет души в химчистку.
Женщинам редко нравится фантастика. Они слишком практичны.
Сначала родителей остается один, и любовь становится совсем болезненной. Потом с ней нечего делать, и она гниет ядовитой неиспользованной болью, тыркаясь, как когда-то рождавшийся ребенок, долбясь, как зачавший его до всего отец, в пустоте, замершей на вечном вздохе.
Упакованные в плотные шубы, мы срезали лед на горках саночными полозьями, правили бритвы коньков, елеем смачно-пахучим лыжи, снег на горе – до исподнего льда, песка, земли, ископаемых раковин в омертвело смерзшейся черной земле, до остатка. Он тормозил, царапал, хватал, но больше всего песка было в карьерах Серебряного бора. Слоистым песочным тортом горы утрамбованного холодами песка. Там рос топинамбур, прямой, как камыш, загадочный, как его название и расшифровка – земляная груша. Из него выходили прекрасные пики, когда ты в марсианской впадине карьера, укрытый снежным одеялом снега – моя оборона! Там была, конечно, крепость – внешняя и внутренняя, в землю. Вертеть, как карту. Дюны, дюны. Лунный песок, черная звезда. Ты хочешь знать, как все будет? Мы умрем. Ты хочешь знать, кто рассудит? Тот, кто поймет. Не пытайся говорить с духами и туманом – они немы. Земля и гудки машин – ведь ты их зеркало в этом окне. Amateur хайку заканчиваются мощной строкой. Но жизнь не так (даже не всхлипом). Готовься, что не заметишь. Это как любовь, проходящее мимо, успел ли оглянуться или после, как детство. Something beautiful. Начало, ставшее концом. Все, что было сказано, было сказано, поверь. Мы здесь. Говори со мной. Словами на ощупь. В зале царств. Когда молчит телефон и пустыня бела от луны, как соль. Дети детей проходят гуськом. Они не грустны, поняв, но тень их не может коснуться под тенью невидимого навеса. А рассвет, как умирающая зажигалка, – мы будем смотреть эту пленку назад. Говори со мной. Когда ты будешь думать, что я не слушаю. Я рыба тишины.
Мне хочется почувствовать простые эмоции – есть, спать, гулять – и радоваться им. Мне хочется сделать самые простые вещи сложными, наложить на них схему метафор, таблицу умножения сравнений, накинуть лассо поэтических формул – может, тогда я пойму эти простые старые вещи?
…Позже они вернулись стуком колес ночных поездов за рекой там, где никакой железной дороги видно вроде не было, они долетали ночью, чтобы уснуть в дневных голосах, укрывшись рассветом, подкатившись под бок шуму машин, cars hissing by. Мягкая утренняя пульсация, интерзона хрущоб. Эхо в приходящем во сне доме – бесконечном доме переходов, коридоров, колодцев, ступенчатых лифтов, доме-городе. Желтые кирпичные сны. Выйти из абстракции сна в утро будильника – от еды тошнит, от холода руки под себя на кухне, а на приступке ванны хочется заснуть. В зимний холод, дойти в темноте до школы, а там заскорузлые от снежных градусов пакеты со сменкой становятся пращой, портфели – таранами, и мы идем на штурм входа, где дежурные проверяют ту же самую сменку, их сносят, они хватают, трещит форма, крик, ты напираешь… Моя оборона взрывается к ночи шампанскими хлопками салютов – генсек умер, да здравствует генсек, мы ни за что не умрем? Только взрослым я смог найти салютную грибницу, тогда источник залпов был за проспектом, за трамвайным кругом, черная дыра блестящих асфальтных дождей, воронка звука, которая могла бы вывести к – оправдание всего! – гильзе от салюта, как сейчас – к початой петардами хлопушке.
Не найти, легче в резиновый окуляр отследить очередной корабль в «Морском бое», в «Игровых автоматах» на том же проспекте, за которым салютует ночь. Пятаки – самая ценная монета после железных коллекционных рублей, иногда можно найти в кофейной жиже подножного снега в гастрономе. Блеск взрывающегося снега! Сияние золотой детской мочи – жар и холод позора, едко-сладкая обида мороженым в горле. На занавески на даче, проснувшиеся вместе с тобой, но наваливающиеся снаружи не яичным обещанием солнечного дня, а дождливой серью. Задание на сегодня – вспомни, как выныривать от смеха из снов. Расскажи это тем, кто приходит из снов. Списывать можно.
После нас не останется следов – только точки. Не останется, понятно, детей, потому что они всегда чужие. Не останется идей, потому что их если примут, то унесут люди – боковой съезд, когда шоссе вперед. Не останется книг, потому что из них вырастаешь. А до Бога разве дотянешься?..
И когда вырастешь из всего, на цыпочках достанешь до космоса, на него дадут обернуться ровно один раз. Увидишь точку в конце пустоты, в конце вздоха, где-то размером с родинку. После нас – только точка в конце пробела.
А те игры с табу, когда табу никаких не было, были другими. Нарисовать свастику на детском рисунке, прятать его и показать жене дяди. Подпороть пластик пионерской нашивки на школьной форме и подложить под него записку со списком наркотиков из «Монте-Кристо». Обвязать солнечным лучиком молочный зуб и захлопнуть дверь облаков – зуб на ладони в крови, как утешающая капля клубничного варенья на торосах манной каши. Снегоуборочные жуки сделали стоянку снега между дорогой и шоссе там, где в перестройку проросли комки (потом – снесли, потом – расширили дорогу): утрамбованный, но все равно чистый снег рос метрами, таким Гауди, которого тогда не было, и мы все были королями горы. Санки, а снегокат был мечтой больше, чем машина сейчас (задание следующее – захотеть машину так же, как). Кем ты был тогда, если сейчас мы все бесконечно задрочены. Работой, алкоголем, детьми, кредитами, сексом и опять алкоголем. Все это дурацкая игра, понарошку тех игр, отскакивает от смысла, как жестко посланный в стену мяч, его упругость, его рикошет, твоя кроссовка. Солнце падает вместе с дождем, взрывает квадрат двора, он отпускает на дачу, а сам без тебя уменьшается в размерах, покрывается пылью городского воздуха, до осени.
Ночь упаковывает в коробку из дома.
Пыльной вентилятор в компе гудит, как печь. Овощи на кухне еще хранят подвальный холод верно. Потолок тут не даст течь – до неба так далеко (6 жизней в кубе), и грусть безмерна (безмен в отрубе). Тужась заморозками, рожает осень зиму, что бьет цветы истомой снега. Друг мой, где наши дачные слова? Где мы, где всё, где это? Тише! Уже поет совенку колыбель совица-мама. И пряно ссыхает мята и чабрец в отвале ската чердака, столе заката. Тебе отмата, весной кудрята. Где все же наши летние слова? Их сторожит мышиная бригада! Гастарбайтеров законных, хозяев суть той зимней дачи, где дымком изо рта все наши летние слова!
Я понял, что классика – действительно классика, после Шекспира. «Ромео и Джульетта», «Макбет» и «Гамлет». «Умереть и видеть сны». Моя мечта с детства – не быть во сне, но стать без кошмаров.
Когда младше нас соседский ребенок, натянув панамку, сказал «меня нет», я понял смысл относительности. Его действительно нет. Я один с тем мячом, рыдаю гортанью, вожу с геранью. Как тогда, когда бабушка и мама везли меня на санках, я тащил за собой по снегу свою любимую палку, привязалась большая собака, чтобы отделаться от нее, бабушка кинула ей ту палку: я устроил обиженный плач, бабушка пошла за удалившимися хозяевами собаки вернуть палку, мама сказала, как мне не стыдно, – так стыдно мне не было с тех до этих пор давно, и никогда уже не будет.
Умереть, но кто проверит мою почту?
Солнце – солнце обваливалось тающим мокрым снегом с крыши, крыльца детской поликлиники, прочерчивало пути в продолжение карт на стене, лабиринт капельных минотавров в траченном сугробе, линяющей побелкой, и болезнь заканчивалась весной, утекала в лужи, что в потоках несли кораблики из дощечек, сверкая радугой, как от бензина, от все тех же весенних каникул – успеть поймать перед воронкой стока, в водорослях-сталактитах, падет, чтобы потом стоком к реке из пещеры изумрудного подземелья, Белоснежка серферит на прокладке. Мы забирались туда через незакрытое окно в школьной котельной, штольня, там мог жить маньяк, о котором рассказывали в мой первый выход на дворовый футбол – он крадет детей, отрубает им руки и ноги, или просто запирает в клетках туалета у себя в квартире, связанными, как мумии, и через несколько лет ты не можешь ходить, только ползать, лизать ему ботинки вместо ваксиной щетки, одного спасенного даже не узнали родители… Впервые, переехав к маме от бабушки в отвоеванную квартиру, я вышел на футбольную площадку в лакированных школьных ботинках и рубашке – другого у домашнего меня не было – они были снисходительны, но мне тоже стало стыдно, хоть и не так, не до сих пор, уже нормально, все ок, спасибо! А про районного дурачка шептались, что у него умерла мама – и с тех пор другого страха не выдумать им и менеджерам на брейнсторминге. Цвела сирень, шампиньоны ядерно взрывали асфальт около остановки, сверху ядовитым облаком плыла черемуха в цвету. Но гуще, как конопляное поле, жирным хлорофиллом пахла рассада помидоров, запихнутая вместе с нами в «Жигуленок», когда на первую дачу «в сезоне» высокой детской травы-камышей. Черная земля с ошметками-прогалинами снега, мокрая, вздыхающая паром, в первых робких подснежниках, потом – нарциссы, желтый, желтый запах. Воздух напевал тишину.
Бабушка совсем не выходит. Дед выходит только в магазин. О чем он тогда думает? Что мясо опять подорожало? Вспоминает прошедшую жизнь? Что болит колено, астма нападает, а бабушка все слабеет? Смотрит на ворону, она что-то зажала в клюве, своровала, наверное, вот ест, оглядываясь вокруг, вороны очень умны, почти как люди, хоть и вороватые. Может быть, он вообще ни о чем не думает. Он купит продукты, бабушка приготовит еду. Натыкаясь на мебель в своей катарактной походке. Они немного поговорят за едой. Им почти 90, но они могут разговаривать между собой. По сути, им никто особо не нужен. Они сплелись в какой-то симбиоз, кокон из заботы друг о друге, воспоминаний и равнодушия ко всему остальному. Они даже окна открывать не любят, у них всегда душно. Когда мы с мамой приезжаем к ним, они рады, но говорить особо не о чем. Они посмотрят телевизор и рано лягут спать. Если придет сон, если ничего не болит. Они смотрят разные телевизоры и спят в разных комнатах, так им удобней. Утром дед пойдет за хлебом. Они не хотят пережить друг друга. Они хотят еще немного пожить. Дед думает, что будет с бабушкой без него, она не может дойти даже до магазина. Бабушка шутит, она всегда смеется над своими болезнями. Может, они ни о чем не думают. Скорее всего. Пора есть. Сегодня не звонил сын. Быстро черствеет хлеб. В войну хлеб делали из жмыха, он слипался, но все равно пах лучше. Я думаю о них. Псих. Я хочу им вечной жизни. Смысла в их еде-телевизоре. В их немощи. Я хочу не думать. Не думать, как они на кухне за ужином. Я хочу быть ангелом из «Неба над Берлином», просто положить им руку сзади на плечо и послушать, о чем они говорят. Совсем немного. Я не хочу хоронить их через ночь в моей бессоннице. Им не страшно. Мир отошел от них, они всю жизнь отпускали его. Он наконец-то вырвется из скрюченных подагрой пальцев: «Синенький скромный платочек / Падал с опущенных плеч».
Мы в воздухе живем. Работа может исчезнуть («ЮКОС»), законы перевернуться, кризис грянуть, «национальную идею» не сыскать, а люди – люди, как прохожие часто, они уходят. Унося часть тебя, ага. Да вся материя разжижалась, кажется, незаметно превратившись в слабо сцепленный притяжениями набор молекул. Модели из школьного опыта. Общество атомарных шариков, пинбол невидимых, зубчатые колеса. Остался воздух и шум, шариковый гул – то колебание медиасферы, что отбивает слух. В очередной недавней биографии Сэлинджера биограф скрыто недоумевает – почему и как он замолчал? Но именно тишина естественна, звук же – ненормален, он перверсия тишины, чьи клетки вдруг решили нагло размножиться, манифестировать себя в бытие звуковыми проекциями. Молчание Сэлинджера – гармония, всепонимание, речь же за редким исключением – просящее вопрошание, глупый вопрос, наглая агрессия. Интернет, блоголожество – такой ад голосов, ругань в очереди за колбасным дефицитом. Ведь было же когда-то стыдно (а ведь было!) за то, сколько пишешь? И, наоборот, покойно, когда некоторое время без постов становилось долгим. Медленное время – антоним сиюминутности блогов, апогей которого Facebook. В «Хронике» его даже нет шанса посмотреть, что лайкал и комментил какой-нибудь интересный тебе френд, если не сидишь при этом свидетелем онлайн – технически почти невозможно, не перематывать же ленту в правом верхнем окошке, где то, что лайкают и комментят сейчас. Да и одна из главных технических претензий к ФБ – если даже недолго не читал ленту друзей, ее очень сложно «перемотать» назад, все скидывается. Поплавок качается над пустой водой. Оставляя в сиюминутности. Которая – отрицание традиции. Где все было просто, но выверено, как в алхимии. Сын кузнеца не зря был Кузнецов, он шел, за плечами имея деда и тени теней предков очередью, в кузнецы, и был прекрасным кузнецом. Если он хотел бросить очередь, он выбирал смерть – физическую (становился солдатом) или социальную (монахом). Просто, как Эвола, элементарно, как Генон. Но шарики катятся, лифты социальной мобильности так и шныряют, как в офисные лузы послерабочим бильярдом, и на них, открыв рот, заломив картуз, смотрит простой люд. Плохо в итоге всем: кухарка правит государством, гламурная нимфетка поднимает против нее революцию, а каждый второй метит в миллионеры или на крайний случай в дауншифтеры. Плохо всем – ну, кроме тех, кому в лифтах заложило слух от резкого подъема. В лифтах играет фоновая музыка, музыка, в прошлом веке предавшая тишину. Призванная быть ее обрамлением, окантовкой, музыка устами того же Кейджа провозгласила – тишина невозможна. Крик! Мы сами заполним ее не трепетным вслушиванием, но нетерпеливыми покашливанием, верчением, мобильными. Теми самыми подмосковными мы сидели в детстве на крыльце с бабушкой. Она каждый раз вздыхала «Тишина-то какая!», мне это было немного неловко. Иногда мы считали, сколько лет накукует кукушка. Небо в мягком серовато-сиреневатом закате сообщало погоду на завтра: яркие всполохи заходящего горизонта – к холоду, низкий полет стрижей – к дождю (тучи на крыльях), а летают высоко – завтра будет хорошая погода. Выходил туман, пахло дальней печкой.
(Я ломаюсь перед коллегами, бложу им мою трепетную натуру все тоньше.) На даче вечером грустно, а утром солнце: автоматически перестраиваешься на крестьянский режим – рано ложишься, рано встаешь… Еще воздух, тишина и мягкое солнце. В плане борьбы с энтропией был осуществлен массированный покос, в плане ремонта – заказал новые окна (не пластиковые – «евроремонт» нам там стилистически не потребен). Читал периодику и The Sense of an Ending Барнса, но понял, что там нужно читать что-нибудь не позже Набокова. (Они лайкают как миленькие.)
Из подушки из такого ж тумана те ландыши. На «альпийской горке» – сделал дед – за папоротниками, где еще спаржа, айва и чего только нет. Засажено все, разве что не дорожки, но и им угрожает. Приходили смотреть из других районов! Дед был горд, в ударе водил! «Опять ты свои экскурсии водишь?! Сглазят, вытопчут, ничего расти не будет!» – так ругалась бабушка в ответ им вслед.
Бессоннится.
В детстве на даче моя бабушка ходила по огороду и (без очков) увидела интересный камень. Я собирал камни, она взяла его – это оказалась черепаха, удравшая от соседей. Удрала она, видимо, далеко откуда – ближайшие просеки не откликались. Так у нас поселилась Маргарита, для своих – Маргуша (иногда, когда шумела по ночам или постоянно просила еду, Марго). Я еще не ходил в школу – 27 лет назад. Есть фотография (то есть слайд), где она лежит у меня на ладони, посредине. В последние годы она еле умещалась на взрослой ладони – свешиваясь лапами и краями панциря. Потом к соседям уже пришла еще одна черепаха – у них была собака, отдали нам. Это Шарлотта (я тогда зачитывался Дюма). В 9 классе я купил им у метро маленькую черепаху – его (условно, он отличался, но непонятно, в какую сторону – у черепах очень сложно определить пол) так и звали – Черепах. Он был трогательный – долго (стресс – как их сюда привозят, продают…) не ел, кормил его с рук, буквально уговаривал по кусочку. Он любил ходить за «взрослыми» черепахами – бегал (3 шага на 1 их) за Маргушей и Шарлоттой, спал у них под боком (часто – под батареей все три). Один за всех… хотя они особо не обращали на него внимания. Да и Шарлотта, честно говоря, попала уже сильно взрослой (по панцирю даже не определить, сколько колец-лет), и сообразительностью не отличается – лишь бы поесть, и побольше. Маргуша же была самой умной. Ела из рук – когда-то, в детстве же, так приучил, что иначе и отказывалась (пришлось даже отучивать). Едят хлеб в молоке, помидоры, огурцы, капусту, салат любят (на даче глотали камни – для панциря нужно, кальций, мы крошили школьный мел). Но самое любимое – внутренности кабачков. Их могли есть – тут рефлекс насыщения, как у американских кокеров, отказывал, ели столько, что потом лапы-шея в панцирь не влезали, втянуть не могли. Это полная чушь, что черепахи ничего не понимают, еще как! Они знали, что их кормят на кухне около батареи – туда и приходили, когда хотели поесть. Попробуй не дать им – бегают за тобой, залезают на тапочки, вытягивают шею и смотрят вверх, на тебя! Узнают руки – своих и гостей, например. Легко позволяли «жать руку», гладить по шее (особенно нравится, когда чешешь им там, где у них кожа линяет на затылке). Когда я жил в Японии, мама рассказывала, что Маргуша ходила по квартире какой-то потерянной, искала меня. Мартушу я вообще иногда брал на руки – от тепла она устраивалась на плече, вытянув шею, и засыпала. Летом они жили на балконе – млели от солнца, вытягиваясь всеми лапами-шеями. Зимой – под батареей (или включали им нагреватель). Еще все очень удивлялись-смеялись, когда говоришь, что домашние животные – 3 черепахи. Не знаю, они очень классные. В спячку не впадали, но ели меньше. И ходят, кстати, они далеко не медленно – летом, нагревшись на солнце (хладнокровные – их тонус зависит от температуры окружающей среды), могли развивать вполне крейсерские скорости. И глаза у них не черные, а, если присмотреться, очень темно-карие с черным зрачком. В неволе у них нет врагов – должны были жить долго. Но вдруг у Марту ши пошла кровь, и она умерла. 27 лет у нас, не болела, всегда дома, членом семьи ее звали. И – ни деньги, ни связи, ничего не поможет, только смотреть, как она умирает. И вытирать кровь (за все эти годы царапины не было!)… Ветеринар сказал, что ничего не сделать, а так – почти рекорд жизни в неволе. Осталась одна Шарлотта. До сих пор язык во рту о них во множественном, не единственном числе.
Очень поздно, бессонница. Электронные зеленые цифры на микроволновке, когда выходишь на кухню, светятся вольером какого-то океана. У океана ведь не может быть имени – время стало водой, какое ему имя? Если покурить в окно, то запах потом будет как от чужого табака. На фоне луны бегают ошметки быстрых облаков, довольно быстро. Странно, что Там может быть быстро. Луна в них выглядит как-то глупо, как волосы на дне опорожнившейся ванны. Да кто говорит о смерти, только бы ее кусок до утра.
На крыльях красных звезд летели те открытки. Через трамвайные пути, через больничные замки. Кумач сверкал, гвоздика рдела – звезда летела. И штемпелела. К 7 ноября ведь я! Моя семья ждала меня: открыткой – пламенем звезды, букетом, яблоками с рынка, шампанским, соком и водой. Тобой и мной. Звезда летела и сотлела. Звезда – полынь от пыли-моли, звезда – волшебный говорун трескучей мебели в чехлах и снах, снегах и льдах. Впотьмах я шарю и ищу и горечь клея ощущу, когда заклею, опущу в почтовый ящик ту звезду. И буду рядом я стоять, чтобы звезду ту отыскать. Макулатурою принять и знать – письмо дойдет, придет, найдет.
«Человечество гораздо скорее еще средство, чем цель. Дело идет о типе: человечество просто подопытный материал, чудовищный избыток неудачников: руины», писал Ницше в «Воле к власти». Здесь интересно. Из этой фразы вышла добрая половина мыслителей прошлого века, от самых черных пессимистов (Чоран) до прекраснодушнейших идеалистов (тот же Че). Но где сейчас сама эта мысль? Только на полках небольших магазинчиков для интеллектуалов, если их еще не закрыли (как магазины, так и интеллектуалов). Можно констатировать ее полное отсутствие в общественном сознании. Более того, Система сделала смешной само подобное целеполагание – изменить мир, построить что-то, дать человечеству идею для собственного развития, позвать его за ней. Удел уже не городских интеллектуалов, но сумасшедших, любые фразы которых априори загоняются в маргинальное гетто их же имиджем.
Мировые революции чаще всего проходили под знаменем таких идеалистических идей – «свобода, равенство, братство». Зачастую их заимствовали напрямую из христианства – от отечественного тоталитарного мифа (и «миф» здесь – ключевое слово), стремившегося к всеобщему равенству и братству народов, до более локальных хиппи с их Make love, not war. А какие экзотические и прекрасные идеи предложили только наши визионеры: Николай Федоров призывал воскресить всех мертвых, Даниил Андреев мечтал о таком обществе Розы мира, где животных не только не будут убивать, но люди воспитают, поднимут их добротой до собственного уровня.
Есть ли сейчас хоть одна такая идея? Пожалуй, кое-где, и то по касательной. В мусульманском мире, в силу исторических причин еще озабоченном религиозной идеей. Ею же – цементированном, скрепленном. Скреплены, возможно, некоторые совсем еще племенные страны где-нибудь совсем далеко, на Африканском континенте – полным отсутствием, нерефлексированностью этой идеи (в том смысле, как Хайдеггер, говоря о Ницше, утверждал, что нигилизм отнюдь не есть отсутствие ценностей – как, мы помним, и атеизм есть не отсутствие веры, но вера в отсутствие Бога). И азиатские страны еще не до конца поменяли глубокую религиозно-социальную традицию на модные гаджеты.
Западный же мир давно отказался от самого помысла изменить мир. От больших идей Запад перешел к Think global, act local? И работает это так же, как лозунг из какого-нибудь маркетингового учебника, хреновенько, если честно. Равенство народов? Не шибко, еще и с намечающимся креном в сегрегацию уже белых. Уравнение доходов? Вообще никак, заявил же об этом Occupy Wall Street. Равенство полов, гомосексуалов? Ок, тут получается неплохо. А со свободой, хотя бы той же информации? Ассанжу грозит пожизненный, а его информатор Меннинг сидит в США в прозрачной клетке под неусыпным контролем и даже туалетную бумагу должен просить у охраны, рапортуя об этом. Протест как чаяние об идее выдавлен настолько, что у нас нет для вас Doors и Nirvana – получайте Jay-Z и Lady Gaga.
Это все примеры из американо-европейской жизни, во-первых, потому что они тут трендсеттеры, законодатели моды, во-вторых, у нас даже примеров не нужно, чтобы расстроиться. Впрочем, есть и важные различия. Америка не отказалась от религиозной идеи, у нас стало модно издеваться над Церковью. США пропагандирует – мы же охотно манипулируемся (делаем несусветную рекламу нагловатым девицам, захотевшим модного пиара). Хотя в Европе еще хуже – все большие идеи там заведомо маргинализированы как «неполиткорректные» (запрещено носить крест на работе в Великобритании).
Жизнь народов без идеи – даже хуже, чем жизнь нации без национальной идеи. Потому что жизнь ради «экономического благосостояния», увеличения ВВП, инновационного развития, даже ради экологических благ (экоорганизации как стойло для потенциально опасно инакомыслящих, где они будут под контролем спецслужб) и прочих симулякров – не жизнь так же, как работа в офисе ради абстрактного, не имеющего непосредственно к конкретному работнику никакого отношения роста доходности акций этой самой конторы. Во времена Маркса труд стал отчужден – сейчас вдобавок отчуждены все ценности. Они очень загодя и заботливо вынуты из рук человека, как камень из рук ребенка, который может вырасти в потенциального бунтовщика, а на его место вложен очередной iPhone. Ключи от нового внедорожника или квартиры.
Но все это – лишь средство. Связи, достижения цели. Целью не может быть даже благополучная жизнь с детьми и внуками, потому что 1) те увидят в качестве примера родителей без цели, с пустыми, удовлетворенными глазами потребителя, 2) на них может и кончиться эта жизнь, ведь на смену эволюции неизменно приходит энтропия.
«Смиренным, прилежным, благожелательным, умеренным: таким вы хотите человека? Хорошего человека? Но, чудится мне, это просто идеальный раб, раб будущего», писал Ницше, и с тех пор изменилось только то, что предсказание осуществилось, а Ницше не пишет, его не читают, а если и, то над этим модно смеяться, это странно и «пафосно». Смех, бывший всегда оружием преображения (привет «смеховой культуре» им. Бахтина), умело обращен Системой против инновационных духовных стратегий – когда в кадре появляется тот же хип, включается закадровый смех. Реквиемом по идее стал смех мертвецов. А с большой буквы пишется уже не Бог, но Система.
Можно ли смеяться в воспоминаниях?
Привитые яблони и груши, дальневосточный лимонник, жимолость. Даже и дыни – конечно, лишь робкой кислой зеленью успевающие вызреть. Хотя в августе я находил среди них и арбуз – меня будили, посылали посмотреть, «не выросло ли чего». Его хвостик веревочкой. Август, возвращенный в Москву, в школу. Хотя конец августа, когда уже хочется московской чистоты, горячей воды и тепла. Скудные хлопья искр из-под ночных колес – жатва осеннего лысого поля. Чайный кашель, моховая отрыжка – приезжали с дачи, тут ждал дом, было тепло. Не в смысле, что на даче похолодало, а что есть куда, когда кончается что-то. Вот грязные пакеты с урожаем, земля с сапог – Илья-пророк. Все немного дикие, и городской дом странно пахнет застоявшимся лаком, бетоном и пластиком. Быстро натопится. Гром гремит, земля трясется, поп на курице несется. Смешная суета, дорога за холмами за плечами. Да и черная простыня августовского неба, из дыр которого сквозит. А тут горячая ванна как мечта, как итог пор лета, потевших солнцем, но пора! Дача, пока, мы не будем помнить и быть друг для друга. До следующего лета, следующих лет. И еще вот что – мы не хотим утра. Там будет утро – и нас там нет. А потом, наконец и сейчас, август этих базедовых звезд на этой черноте неба, которое – одиночество, все умрут, все умрут без остатка, только ты, вернее, тоже нет, только одиночество). Без отчества – за тобой никого, только ошметки воспоминаний, только дула звезд.
Одиночество накормит тебя грудью, будет тебе заботливой старшей сестрой. Возьмет счет и все заплатит. Откроет все окна, скажет: «Иди!» И ты можешь уйти. А оно будет расти в твоем доме, неизменно, как ногти на покойнике. Нежное, как твой кот. Возьми его на руки – найдет твою ладошку. Глотая ту сосульку – согреет и поймет. И до конца не убьет. Нет, придушит и пойдет.
Робкая душа убьет тебя на рассвете. Придет разбудить и скажет: что ты лежишь, они ждут, надо идти. Лучи солнца будут как еще не прозвучавшая вспышка, там, за сараем, где угол углов. Птицы сначала вскриками, потом перекличкой, как в очереди. Такой нежный, тонкий, как ручка ребенка, в заботливой пригоршне дан тебе день. Поделись им до конца – на рассвете, на рассвете, когда церкви плывут в молочной лазури с пенкой кувшинок – отдай все что есть у тебя. Вой. Но. Отдай. На!
Мчаться на велосипедах по улицам «садовых товариществ», где какая дорогая – убитый песок, остатки асфальта или лужа с трубой. И какие участки – запущенные совсем иногда, шпана и привидения, или, ближе к деревне, в несколько этажей. Какой угол повтора, гора разгона, след камней в несколько метров, запятая кометы затормозить. Я умел ездить без рук, вставать на дыбы и тормозить с разворотом! И, главное, исследовать, куда ведут – перекресток, тупик, новые улицы или все закончится лесом, в объезд по нему. Водокачка, фургончик и злая собака, трансформатор и пруд. А в августе – собирать грибы! Кто еще знал, сколько их на просеках у заборов под деревьями под самым носом! И мечтать встретить девочку на следующей улице, в том, может, доме, где открытое окно вдыхает тюль и видно полпотолка чужой жизни. Она, конечно, будет, как в «Едином» Ричарда Баха, волшебное The One еще до U2. Я буду ездить, мы будем встречаться на средних улицах, оставлять записки на подъезде к поляне, на остановке «закат». Те мечты, конечно, были больше всего, что будет потом. Тела ведь не было – была только легкость. Я долго после детства держал велосипед – синий «Аист», ничего лишнего и мощный тюнинг, как сказали б сейчас – в своей комнате дома в Москве. Во время одной из генеральных уборок захотел минимализма или свободы, не помню уже. Разобрал и вынес на балкон. Потом мне в очередной раз сказали выбросить его уж наконец. Бардак, не пройти, все равно не буду кататься, а если и будешь, купишь же новый. Сколько можно хранить весь этот хлам? И я сам вынес его на помойку, подумав, что да, сохранять, действительно, нужно не так (Разобранный и сложенный, он стал меньше ростом, как скрюченный скелет старика, которого я нес перед собой на руках). Сохранил ли я его сейчас? «Сохранить», что-то маловато для гимна. Ручки антенной из свалки, сто слоев над хромом закрылков или цыганский утиль (мне всегда было интересно, как и куда уходят вещи, экология прошлого, вторсырье памяти). Той бабе пошлю сейчас запрос в Badoo или где, свидание с третьей фразы, если не совсем клиника после развода, что время терять. А он сейчас точно в самом лучшем велосипедном раю, где никогда не слетает цепь и на дачных просеках встречаются даже.
Слоны на туманных ногах танцуют в лужах, лужах. Видения исходят в снах, как с потом жар – ты пуст, мир снова нужен.
Фиалковые слезы выдавить испачканными чернильными пальцами, процедить через выдохшееся саше, рецепт собрать из взвившегося ночной бархатной бабочкой пепла от гадания по сожженному листку, на блюдце исключительно от спиритического сеанса на чердаке на ватмане звездного неба из старых ломких уже обоев.
Долгие походы с бабушкой по всем окрестным гастрономам и продуктовым, среди панельных домов зимой, по району, вылизанному до безлюдья и заплеванному людом оставшимся. В гастрономах в огромных холодильных камерах лежали консервы из морской капусты – в электрическом чреве, как проглоченная Левиафаном вместе с Ионой океанская ботва. Ионой-СССР. Металлические ряды матрешек – в холодильнике консервы, в них капуста. Бабка за дедку, то есть за меня – вытянуть, то есть «отхватить». Помню ранние черные зимние утра перед школой (школа почему-то всегда хранится в памяти в зимнем замороженном виде – как антипод летних каникул? В холодильнике надежней?) – мама пыталась изобрести что-то из ничего для «растущего организма» меня. Я прятал руки под себя, потому что было холодно. Не думаю, что от голода. Есть с раннего утра и перед волнением школы все равно не хотелось (даже иногда тошнило – токсикоз взросления?). Было как-то свободно (несмотря на уроки), как оно, понятно, бывает только тогда, когда еще мало тебя. Или слишком много? Как оно бывает, когда – уже взрослым – не ешь в своеобразной аскезе (каким богам?), подношении не духу, но скорее телу (освободиться от еды): наступает похожая легкость. Легкость слабости. Тогда не так. Голод в виде тех походов по дальним магазинам (только дольше будет гуляние!), оживленных рассказов взрослых («выбросили… записалась…») – это было даже весело. Поэтому завернуть красиво, например, что тот голод был – голодом по переменам, «ветру перемен» и т. д., было б именно «завернуть». Хотя да, в воздухе что-то было (Something in the air, поет Боуи из поздних дней). Как тот легкий голод «растущего организма». Морской капусте, кстати, я все простил («очень полезная, в ней йод», говорили мне взрослые), люблю до сих пор (хотя попадается чаще не в консервах, а в японском мисо). А вот руки под себя иногда подкладываю и сейчас, когда нервничаю. А голода тогда не было, он иногда бывает сейчас. Правда, я не знаю, как он называется. Может, это голод памяти, ее расстояния или изломанного угла. Где-то там, дворами за дальним гастрономом.
Где рядом парк – сахар снега залит топленым маслом солнца, лучи преломлены в его гранях. Так ослепительно, что вот распустятся почки. У старой развалившейся пристани, к которой раструбом льда брошен рукав дороги, переоборудованный зимними детьми под ледяную горку. А сбоку севшая на мель заброшенности баржа – на лебяжьей снежной подушке, пушкинский тулупчик из вьюги. Ледяной спуск с горки выносит далеко, на метры от берега, языком лижет тот другой берег – бабушка велит тормозить, дед ей обещает, подмигивая за спиной, а мне разрешает, «только смотри, где проруби». О, проруби легки – из них растет кактус затулупленного рыбака, их раструб распахнут горлом перед докторской палочкой, обрамлен трепыхающимися кроваво-жабрыми рыбками. Рыбка не разбивает лед – воду затягивает поземица холода, иллюминатор проруби, и вода как студень. «Пока Титаник плывет» – подо льдом движется он, ребенок-пассажир прилип носом к стеклу (от его дыхания растет узор полыньею льда), смотрит на этот странный воздушный мир плывущей мимо реки. Но на экране берега скучные картинки – он скоро возвращается к своим игрушкам. От воздуха жарко, легкий ртутный жар, только чуть холодит внутри, как валидол захолонувшее сердце. Как на/с горки, где лед другой. Со сбрикеченной травой в нем, желтой и даже зеленой, песочными проплешинами и опасными камешками. Полный царапин лед. Мне кажется, в нем могут быть чьи-то глаза.
Негативом проступает сознание в ребенке.
Руки деревьев корябают низкое небо, задыхаясь от могильного воздуха осени, набрякшие влагой листья падают могильной плитой, пружинят под ногой жабой, надутой через соломинку. Арматура остовов деревьев, как сломанный зонт под дождем.
Теофания черного напитка в красно-бело-синих ризах вилась, как Дух Святой над Иорданом, в прозрачно-голубом сиянии – с экранов ТВ, а потом и видео. Когда же черная река нефти, идущая из Союза на Запад, стала мелеть из-за заслонов, обратно потекла река напитка с засейфенной рецептурой – в Союзе стали продавать «Пепси». В стеклянной бутылке (вместо жестяной банки), напиток таил в себе заморско-романтического поболе, чем модель корабля с алыми ассолевыми парусами. Затворенный в стекле – «чтобы нарисовать птицу, нужно сначала изобразить клетку» – как за тем пресловутым занавесом из железа. Однажды он – не приплыл, но приехал – ко мне в первозданном виде: соседка, дочь дальнобойщика, обласканная фортуной и благоволившая мне, таинственно позвала на кухню – мне была подарена банка «оттуда» («кордон», как и «фура» с ее «карданным валом» – до сих пор более генеративно заимствованы, чем то готово было бы завизировать языкознание). Щелчок открытия, как Большой взрыв, шипение углекислого газа, как вкрадчивая мелодия Гамельнского крысолова. «Испытание крестом», как в ордалиях инквизиторов, – мы с СССР не устояли. И скоро из шарика с веселящим гелием (не он ли утончал голоса последних геронтологических генсеков?) Союза спустили весь воздух. Сей «не взрывом, но всхлипом» – с тех пор коан, как тот дзенский хлопок одной ладонью, всё звучит неосознанной немотой. Если Союз объединял, как те советские социалистические республики, в своей заимствованной креатуре «Пепси-коле» сразу два трейдмарка, то теперь «Пепси» и «Кола» образовали инь-янь, где означаемым не добро и зло, а волнообразный изгиб доллара. Они схлестнулись струями и сошлись в одних (других) берегах, зачищенных перестроечным потоком, как на поле брани. Маслянистые пузырьки все полопались, как те детские ожидания, но вновь вспучились нефтяные пузыри земли. «Время пахнет нефтью», а «Пепси» – это нефть. Пусто над чёрной рекой, и пить её сейчас нет, конечно, никакого смысла.
Черная Грязь – здесь мамунька родилась!
Я спеленут этим взглядом, завернут в тот дождь, как в дождевик, он лижет кожу вкрадчивыми шершавыми кошачьими язычками. Сильный ли, определялось по водосборному баку над мойкой. Как барабанит. С разрывами, воронками или даже градом. Или – с дачной террасы еле видно – прикрылась стыдливо веером жасмина. Мойка стояла на спаянных ржавых – вытерты до гладкости поручней, их хотелось ласкать, лизать, как зимой, – столбах. А ясность/мрачность дня – я уже говорил, давал координаты: утром по окрасу занавесок, чей потерянный цвет возвращало укравшее его же когда-то солнце. Там был совсем другой Гидрометцентр.
Да и другие книги – на излете Союза были трех видов. Ну, макулатура – это понятно. Дюма, Пикуль и волшебнейшие розовые Муми-тролли. Но это у всех и – слишком спортивно, что ли: набрать 20 кг на книгу, отстоять и сдать, получить квиточек-марку (сейчас я бы сравнил ее с турецкой визой, вклеиваемой в паспорт), потом книгу. Были книги – от Нины Иосифовны. Нина Иосифовна готовилась уехать к детям в Израиль, брала у мамы уроки английского и расплачивалась книгами из своей библиотеки, которую с собой не взять. Библиотека у нее была тщательной, но уже прореженной, щербатой – родственниками, которые пока оставались тут, или уж не помню чем. Помню, сравнивали, как недостающие зубья в расческе, собрание сочинений Чехова – каких-то томов не было у нас, но находились у нее, так и латали. И были – лучшие книги тех лет – из букинистического в Столешниковом переулке. Как в «Школе для дураков» «Станция называлась…», так и тут – назывался он, если память говорит, а не завирается, «Букинист». Его давно закрыли, но, как свиток Торы наматывается на валик «Древа жизни» (Эц ха-Хаим), так и Столешников до сих дней намертво приравнен «Букинисту». Борхес, Кортасар, талмуд хинкисо-хоружего «Улисса», репринтный Флоренский и Лосев в серой с золотым тиснением (потом стала красной, уже не такой) серии «Из истории отечественной философской мысли» (от всей русской религиозной мысли начала прошлого века до сих пор до меня доносится этот серо-золотой запах), черный райт-ковалевский сборник Кафки… Про Серебряный век я даже не говорю… Дед ушел из главка министерства, что должны были упразднить, на вредное производство, перерабатывать ртутные лампы дневного света в Электроуглях, там много платили, как-то подкинул целую тысячу – все подкинутое было истрачено на яд высокой пыльной возгонки. Смотря на даты изданий, я понимаю, что память анахронистична, а книги пере- и даже постперестроечны. Но не суть – значит, тот букинистический немного вырвался из эпохи, – и, а я – все книгофилы архаичны – связал их две вправленным гамлетовским суставом. И это подсвечивает другой смысл. Что букинистический – это вообще очень символический книжный для тех лет. В него снесли старые книги (а не были ли в СССР если не самыми стоящими, но уж точно желанными самыми книги, написанные до его рождения?), но наделили другим аксиологическим смыслом запретного плода с древа познания. Букинистический магазин в СССР – настоящая фуколдианская гетеротопия, место вне места, вроде бы разрешенное, но неодобряемое и подозрительное (а книги отчасти бесправны, но стоят больше положенного). В букинистическом книги не продают, а перепродают – экономическая метафора теневой/натуральной советской экономики. Да и не об экономике он, а о людях (не что произвели, а что принесли) – так и СССР держался на порыве духа, а не экономическом подбрюшье-базисе. Сгнивший на вечном причале ВМС на воздушной подушке. Букинистический – это книжный прошлого (даже если и недалекого): он сейчас в янтаре памяти, как сам СССР. Устаревший еще при рождении, как наследник древнего жанра (утопии – если христианского братства, антиутопии – если тиранства), СССР рифмуется с ним, а нынешняя эпоха – нет, с чем-то другим.
Твое тело – когда оно может принадлежать мне? Когда я тебя люблю? Когда забыл? Когда я в тебе? Когда ты сама вспоминаешь его? Когда перебираешь свои старые фотографии? Вдруг чувствуешь себя так же, как маленькой девочкой? Так давно-давно-давно? Тело принадлежит мне в старых мелодиях? В холодном заводском ветре. В пустом игрушечном городе. В марте, октябре и в среду. В убитых воспоминаниях оно принадлежало мне всегда? Никогда? Или да? В боли, боли, ее пожаре и ледяном аду. Всех кричащих гудках машин, взывающих к утру. In Utero. И старых хипах, что стрельнут рублик, одарят – улыбкой. В мокрой теплой гнили под осенней падалью-листвой. Под ногами, меж сгибов локтей, упавшем волосе, волоокой звезде. В Рождестве и зиме. На посыпанной тальком луне. В трясине и мгле. В кафе?
Когда мое тело принадлежало мне? Себе ты сказала постой? На ветру, в пол-оборота, в пол-улыбки, в размытых губах. Украденная ветром сигарета пахнет твоим телом. В снегах и ветрах и грязных сугробах. И в мокрых ногах. Конечно, в мокрых ногах. Замерзло оно, твое тело, летело быстрее души (а она роговела), звенело и пело, как мелочь в кармане. Согрела его батарея? Душа? Полотенце в разводах былого? Та дачная хворь его разбудила? Поставила рядом? Напоминанье и навьи мечтанья. Когда разошлись те тела? Забились в тулупы в толпе и гнезде, забытом гнезде из районного хлама. Механического грая в графитовых слоистых небесах, многоэтажное never more на эха повторе. Навигатор на юг он найдет твое тело? В подснежниках, мусоре, болячкой сковырянном льде? В забытом огне. В свече, выбитых пробках, шипении колонок и выпавшем наушнике.
Когда они встретились, наши тела, мы стояли рядом? И нас представляли друг другу наши тела? Отмель, отметина, скрабы и весла. Солома и перхоть, и кашель и водка. Когда я назвал твое имя, оно означало? Туман. Звучало как всплеск и бокал и упавший рассвет, на холоде спящей звезды и отмели дня. До самого краешка дня, припрятанного в рукава. Краюшка, конфета и чая следы. Мое тело протирало клеенку и вдруг обратилось ко мне, желая проснуться, все знать, осмелеть. А я вот стоял. Не знал, что случилось. Проморгал поворот. Да просто замялся. Не каждый же раз бывает вот это подушкой прижатое лето. Уже к нам спиной все соседи. Тускнеющий рай. Заплата, синяк и затертые крылья, бумажка взлетает, она – ероплан!
Когда мое тело принадлежало тебе? Я мог это знать? А как (же тогда)? Пустые качели, сирень и школьный туман. Ворожит твое тело, ворует тебя. Знал. Просто забыл. Никому нету дела. Когда мое тело принадлежало тебе? Летело так быстро, так быстро, так чисто, что ничего не осталось за ним. Телесная мгла. А тело же мыслит, купается в буре, вопит и кричит. И Шерлоком ищет в уклейках листвы, в тишине у реки, скамейки у дома. Крыльцо покосилось. Кто знает теперь? Сама очевидность. Неявное тело, а больше ничто. Крапивы изжога, отчаянный шаг. Тело немело, рыдало, хотело. Неявное тело, а больше ничто. Без названия тело. Мы имя дадим и отменим другое. Ветрящийся рай из города летом. Поэма огня и успенья, память ушедшим. Hola, culo, Navidad. Огонь в небесах, бардак и мечта. Что будет вне тела, то мы не хотели. Я знаю желанье (неплохо уже!). Одно только тело, и не было нас. На этом закончим. Я знаю про тело, иного же нет.
Наше поколение, рожденное в конце 70-х, оказалось в самой интересной и трудной исторической ситуации. Переходившее из СССР в РФ поколение старше нас делало это уже в сознательном, дееспособном возрасте. Они могли выбирать и осознавать. Поэтому столь многие из них стали успешны в бизнесе в эти переходные перестроечные годы.
Поколение позже, рожденное в 90-х, уже могло освоиться в новых реалиях, потому что было рождено в нем. Ничего личного, но это поколение кажется мне уже лишенным советской романтики, пассивности. Это энергичные, практичные и даже пробивные люди – советское оказалось хрупким, спало быстро.
Рожденные же в конце 70-х расставались с Союзом неосознанно, будто отнятые от груди, от детства. Они оказались одной ногой там, еще в Союзе, другой – в новой реальности. То есть – между двух стульев. Самым потерянным из потерянных поколений. Прекрасными мечтателями и санаевскими раздолбаями, которые могут заниматься тем же бизнесом при одном условии – если за ним есть какая-то большая идея.
Но все эти поколения успешно оказались уравнены в литературе на финишной прямой в наши дни, когда эта самая литература оказалась никому особенно не нужной, как прекрасные и наивные устремления времен Союза. Своего рода утопией, которая уже не может ничего изменить, только фиксировать чужие изменения.
В небе густо развели синьку, оно чуть желтеет, а потом фиолетовое. Зимняя колкая, но уютная темнота. Мы идем с мамой гулять по району. Черпать звезды ковшом Большой медведицы, искать оброненные в магазине монетки. Восьмидесятые истаивают, как и страна. Можно в продуктовый, можно в художественный салон, еще интересней в «Океан» – там не всегда, но целые рыбины трески, а еще жюльверновское окно аквариума. Там ярко горит свет и интересно. И я еще не знаю, что в жизни больше ничего уже не будет – этого хватает, даже уютен мороз.
От ботокса смерти подтянуты щеки – она обезличила, окунув, как в чернила, в лицо. Дрейф машин в траченных весною-грязью пробках-льдах. Покойники всплывают из могил, как из крестильных ванн. Я вымру, а вы прорастете в веках. No regrets. (Но я никого не хочу отпускать.) Парковка у колумбария в румяном цвету. Снега с привкусом дыма, ряды шиномонтажа за грязь горизонта. Хороводит поземка, салит апрель. Автобус колыбелит гроб, в ларце – личинке вечной жизни тряско. Шепоты коллег на очередной колдобине перескакивают на дела. Солнце воском покойника древоточит колкие лепестки, и открыт коридор крестов. Не пойти на поминки, унести wake с собой. Брюхо бальзама хоругви хорунжий Харон. Но о чем говорят сны собаки? Увидит ли нас огонь? В этом бесконечном просторе? Просморкаться, закурить снег, махорка и сладкая стекловата. От этой ноздреватой весны, от этих душных слов, как свечи от глаз. Ближайшая станция метро – «Коньково». К дому твоему в поле. К дому твоему на ниточке от звезды. Ты.
Зикр выведенных после Кремлевской елки детей на опознание родителям. Круг за кругом. В притихшей тишине. Как горы сугробы. Муфтиев муфты на елках кремлевских (нижние ветви ржавеют от лет). Какие конфеты, шоколадки в коробочке в форме какой из башен на этот раз? Вкусней всего мятные драже. Над скворечником башен зимним аленьким цветочком. Кукушкой выскочит, впрыгнет в рот конфета-холодок. Темна, будто сожжена, земля внизу елей-ракет, и глухо, как пласт снега с крыш, падает ночь – как сердце, что не найдут. Вдруг не выловят тебя из толпы. Тропическая зима пляшет перхотью поземки, укладывает локоны лака-льда. А теперь та зима одна, я выцеплю ее из других, но память – это одиночество.
Брусок дворового воздуха, рельс реки. Песочные часы пробок – в бензиновые воронки времени. Путь энтузиастов в никуда. Слабым штопором крутятся запахи больничных столовок и ранних кафе. Оттепель радио, похмельный синдром. Спальник домов складывается гармошкой, снежные прыщи сочатся гноем грязи – подснежники утреннего молчания так и не взойдут.
Вот мертвая могила, где гниешь ты. Не говоришь слова, не куришь, не смеешься. А вот слова. Что ж общего? Где смысл? Открой мне дверь! Я стучусь же. Слышишь? Я отопру (собой) слова (они взлетят как бабочки, как выхлоп). Что ты услышишь.
Ты вздрагивал, когда я хлопал надутым из жвачки шаром, но в комиксах к нему сейчас подписью пустота.
Жвачки – детская система мер и весов перевешивает – так просто равнялись счастью, что не нужно подсматривать ответ. Диснеевские про Дональда Дака, Микки Мауса, Гуффи и других были выше всего, на уровне солнца и светил. Потом – Turbo с фотографиями машин. Далее – разночинная мелочь. Не помню, их когда-нибудь жевали? Белый рифленый прямоугольник отдушки и сладких катышков внутри. Вкладышами – хвастались гораздо чаще. Хотя нет, как-то я подкрасил обычную жвачку пластилином и выдал ее во дворе за импортную – и был изобличен, и было стыдно. Фантики – школьная перемена, как звуковой сандвич: хлопки потных ладошек по вкладышам, придавленные с обеих сторон звонками. Вспоминается сложная система, как переписывание долга в покере, данных в долг или обмененных на домашнее задание вкладышей. Была мечта – найти блок жвачек. После проигрыша соседу в подъезде я пришел не плачущим, но почти – первая моя зависимость, с которой боролась мама… Были хорошие, кстати, хоть и без вкладышей, наши «Рот Фронт»: «Клубничная», «Кофейная» и «Апельсиновая» (запах вкусней всего). Я сейчас залез в Интернет посмотреть обложку «Клубничной» – первый сайт, выдавший их, был Molotok.ru: «Обёртка от жвачки “КЛУБНИЧНАЯ”. Выпущена в советское время. Фабрика “Рот Фронт”. Очень неплохое качество». Цена с доставкой – 55 рублей. Воспоминание стало лотом, и его никто пока не купил, и правильно… В конце появились еще «Love is…», но это было позже детства, уже в подростковье, уже не то, приторное пустое послевкусие, как post… А так мое детство было туго запеленуто в обертку благополучия и вкладыш яркого, как кумачи на 7 ноября, счастья. Его не найти, как ту выплюнутую жвачку (всегда думал – ведь это ж все в земле сохраняется! Конечно, не я один, пел же Лагутенко: «Быть может откопают через тысячу лет / В фантиках жвачки и осколках монет»), а пеленка-вкладыш счастья истончился, порвался и развеялся, как прожеванный молочными зубами аромат жвачной отдушки. Мы стали неохотно врастать в негостеприимные постсоветские дни, как городские деревья в асфальт: яркая жвачка – фантом еды и жизненных достижений – делала нас падкими на символику понтов, а не прагматизм куска хлеба. Вкус запаха. Кстати, жвачки с вкладышами сейчас выпускают ли?
А равно ли детское социальному? Когда для тебя священна банальность? Щеки детства румяны от (предчувствия) стыда?
Улицы позднего Союза ощерились драконовыми зубами комков – будто щербатый рот бомжихи снабдили металлокерамикой. От комков к ближайшим столбам веревкой от улетевшего воздушного змея протягивались электрические провода – на них цеплялись ветром пакеты американской красоты-мечты, как недогоревшие заякоренные цеппелины. Комки, как избушка Бабы-Яги, принимали в себя мятые деньги и выдавали рукой-ухватом (лица хозяина комка никогда не было видно) – оранжевую воду, черную воду и шоколад. В какой сказке близкого зарубежья я читал, что если смешать красное, белое и розовое вино, то у выпившего остановится сердце? Как от счастья тройного приобретения – и уберегла лишь полная нереальность триединой эпифании. «Сникерс» и «Марс» были единым дуплетом, как «Кока» и «Пепси». Слитки иномирного капитализма. С неявной структурой (с российскими Алёнушками из Бабаева все было ясно, шоколад тверд): плотен шоколад, тянется нуга, хрустят арахисы. Смакование не предшествовало поглощению, а наследовало ему – темная слюна во рту давала возможность цедить запах. Обертки были, конечно, не вкладышами с баблгамными Дональдом и Микки, но все равно сохранялись – невесомые, как покинутый цикадой хитин. Путь «Сникерса», думаю я сейчас, – это дао российского недокапитализма, прошедшего долгую дорогу с суммой-сумой: от полной сакральной недостижимости (сын богатых родителей Арсений как-то достал его во время школьного обеда – наши зависть и ненависть вознесли его даже в своих глазах) – через чарующий потлач всех карманных денег (в школе тогда начали выдавать некую «компенсацию») – до нынешней незаметной функциональности (купил на бегу, когда поесть прилично некогда и негде). Но колесо дао вертится на сковородке сансары, and I believe in Kingdom come, when all the colors will bleed in to one, bleed in to one.
Мне легче найти воспоминания, чем слова, их карточный домик на песке перед цунами… Прошлое гниет в нем, как полупереваренная пища в желудке. Прошлое волочится за мной, как необрезанный парашют. Вот поедешь сейчас в редкий выходной, оторвавшись от Интернета, таща с собой усталость, зачем, зачем, только тоска через полдня, и хочется назад уже… Поезд цепляется за кусты, останкинская игла колет мучнистый зад неба. Яблоки на ветках сбиваешь палкой, как кием, а падалица играет в домино на траве. Все это дурные сравнения? Но как определить осень на даче? Еще одну осень, доверху полную ночь?
Мыши шуршат между стенами – старый дом только вздыхает от щекотки. Смерть все ходит вокруг, сужая круги.
В Петербурге на рассвете правят мыши тихий бал. И кидаются кометы прямо в прах, сиречь – в людей.
Поэма без героя (осталось изгнать слова).
Сначала кожа пахнет солнечным потом, потом – ночной росой. Запахи в коробочках воспоминаний, саше под землей.
На даче надо вставать не позже рассвета, а ложиться – до августовских звезд. Перед остужением утреннего чая потренироваться на росе, когда ночь подогреет землю до пара. Читать медленные, как гусеница, книги. Вместо полотенца после умывания использовать солнце. Стрекоз ловить веерными граблями, траву – сачком, а в смородиновый чай добавить по вкусу щепотку индийских слонов. Подставлять вымытые руки яблоне, пока в них не упадет падалица-медуница. Даже своровав выросшие под забором у соседей грибы и удирая на велосипеде от собак, соблюдать светофор – с южной ли стороны прикрыта листком шляпа подосиновика или все же с северной. Смазывать ветрянку звезд зеленкой только по рекомендации разбитых коленок. И, нанеся лупой эту инструкцию на листья, все их сгрести в последний перед отъездом костер – на следующий год будут новые задания.
Раннего мая уикендовый linger. Город, вспухший почками, льдом и домов высотой. Вылупившийся в свою смерть (что память о жизни, как помним). Медоточивым и смрадным плевком текут твои пробки – прочь от забвенья на дачу вздохнуть ртом галчонка-ребенка. Неба, как горло, открытая суть – в крестословице стрижиного лета. Осанна ж грядет.
Мужчины за смыслом ныряют в песок, женщина – уходит в свой живот. Где бьется свечечкой кусочек боли самой родной. Откуда, выйдя, ты снова видишь во сне. Ту, что, спит рядом. Двойные сны разложив-разделив. Хоть в них и ссора, обида и плача скулеж, я не хочу никогда просыпаться. М и Ж – выше слов, ниже смысла, глубже праха.
Солнце с гало, небо, как лысина – по бокам облака только. Ты говорила, что есть вещи похуже смерти. Вот утрата человеческого достоинства, например. Но если это все, что у нас осталось? Над асфальтом пар закипающего молока – раком обваренный город месит свою похлебку. Земля варится с пузырьками, крошится шоколадом в руке ребенка.
Куда такую жизнь… Кинуть туда новую жизнь, добавить соли и перца? И мой мальчик повторит этот путь, загнет упругий вираж на велосипеде, стрельнет сверкающем на солнце лазером из брызгалки, поворожит, жонглируя печеной картошкой и звездами, нависшими, как перезревшие плоды, над засыпающем в вечернем тумане костром? Отнесет в конце концов меня на ту свалку? Она была через дорогу, за нижней просекой, спадающей в лес, недалеко в лесу – немного запретное место, на подходах к которому из развалившихся-распустившихся пакетов, как из засохших коробочек мака, хотелось-ждалось выудить стыдливо прикрытое сокровище, но выпадали консервные банки и что-то еще. Только след вони, его смыл дождь, над свалкой всегда был дождь. Полог из мошкары, саван из росы, вечность – на муравьиных цыпочках мимо. Омоет кислотой из старого радиатора. А дождь меня умалит. Я вполне панибрачу с вечностью тут.
Дети мучают собак, ящериц, птиц. Эта жестокость к миру – не просто способ познать его, но предчувствие будущей боли, желание заранее отомстить за нее. Однако потом вдруг жестокость кончается, иссякает, как молочные зубы, – и начинается боль. Человек пытается быть хорошим, любить других, родителей и друзей, честно или притворяясь при этом, играя, чтобы понравиться, вызывать любовь и не чувствовать боли. То есть любовь – не более чем обман, лекарство от боли, а боль – это и есть жизнь. Ради которой надо постоянно, как работать в тухлой конторе, обманывать. И человеку хочется, чтобы ему надоело так, чтобы перестать.
Доли боли на ладони неодолимая любовь. Воздух после грозы пах резко, словно сигареты с ментолом, студил зубы. Шансонил: «кисейными клочьями повис в ветвях туман / А я не знал, что жизнь – обман». Добавляю: «из семечка красиво растет – ребенок же свой труп несет».
Холод измеряется холодом. Вечером волнением, паутиной. Самым простым числом. Может, всполохами в высоких вершинах. Может, непонятным звуком, чей источник ветер спрятал в траве, гоняясь за ним, как кот за клубком, гладя траву, возбуждая листву. Фигурным катанием мошкары над свинцовой лужей. Вспышкой радости и снова тоской. Слаломом ветки и славой – во имя Твое и всех растущих и сущих виноградом ужом ползущих. Весной, летом, осенью. Тьмой, куриной слепотой и слезой. Кротом, роющим ввысь свой ход… Снова совсем обездомив ищет себе соответствия не находит решает зимовать так. Весной тихо-тихо отходит, в парную росу ложится. Согревшись ж, с землей в небо восходит порослью молодых облачков.
Вулкан кипящего варенья, лава пенки, разносит запах, надувает ос, чьи смертные укусы застынут на отмеренные зимы, падающие на дачу снегом, как песчинки в песках.
Странно, тогда я не мог найти основание, но от этого не было плохо, а было хорошо. В выработанной мной теории относительности я думал – почему в новостях сообщают о десятке погибших в какой-нибудь катастрофе, но не сообщают о тысячах просто умерших в этот день, какая разница, разве что-то меняет, что те умерли не сами по себе? За два километра на станции ночами шумели, проезжая, поезда. А глядя в предвечерье на снежный росчерк самолета из окна, ту подпись бога-космонавта, хотелось знать, кто эти люди, их жизнь или хотя бы мягкий маршрут, хотелось оказаться среди них, почти родных этим расстоянием.
Солнечные яблоки падают в прах мха. Как капля в макросъемке, возрастает гриб спор. Просека выутюжена косым солнцем, скошена трава его лучами, мерзнут ладони вечерней влаги. Как роса, клубится вдалеке марево заката. Меняя цвета. Только большие вещи и subtle цвета. Растворяя в небе. Можно прислушаться к теням умерших после тебя. На этом перекрестке все бесконечно прозрачно – даже через тени видна суть. Солнечная пенка на парном молоке потеет воском. Умершие оставили пустые скорлупки, разлетелись из коконов, мы бабочки на одну ночь. Только солнцу можно назначить встречу, waiting for the sun. Ошейник времени тянет только вперед – обстругиваемый карандаш в точилке.
Взойди на чердак, где пульт управления бойней времен. Тушки мяты, мелиссы подвешены вниз головой, и запах стекает в отсеки. Хлороформ усыпил яснокрылых и прожог пенопласт, к которому пришпилены они на вечный прикол – в выбоинах и ямах их взлетная полоса, цезурой обрывается мартиролог списка кораблей. Едкий цвет и колкий запах Массандры. Бархатный тархуна, фиолетовый – базилика. Гербарий в солнечных булавках. На солнце зажмурясь, увидишь сотворение пыли, воздухотворение из яснотковых. Точат глину пальцы и пластилин. Пепельницы и человечки, гусеницы и динозавры, обожженные тишиной.
Ветошкой правь микроскоп, тяжелая стать металла таит хрупких стеклышек радужный скол, сахарный песок с печений. Бублик дать? Вот он, фонариком вырытый колодец в ночи, дед и внук идут дальше. Млечный путь нарисует улитка, за ней, но не шагу со двора и к 8 чтоб были дома. Обещаем, конечно! Легкие дома дышат со свистом, выдыхая дым от печки, вдыхая осень, мокрота росы.
Авоська, авоська, сквозит твое сито. Все не напьется дуршлаг. И винт мясорубки весь в жилах, водоросли немы, тянут на дно. Вспыхивающее утро подкручивает окуляр луны из дупла в доске туалета, жемчугом – процеженный песок на дне бабушкиного горшка, пыльный тюль неба в дожде. (Солнце – в домике лупы; бабочки с горящими крыльями пикируют вверх, в подполе – ледяной фундамент, изумрудные сталактиты.) Смотри через крестословье заячьего вольера. (Луна в туалетной бумаге.)
«Чай – это язык молчания звезд».
Акации стон и черемухи всхлип – уколоты кактусом, а мы ворожили прогулы, дружа с ртутью градусников и картошкой в мундире в полотенце на грудь. Мел пуговицей от школьной формы в руку втереть – отменный получался синяк. Заживает нескоро, как яблочный шрам по весне. Как арбузной той корке сойтись.
Скалки проводов между домов, запутавшийся в ветках пакет, сачок ветров. Вертится тень человека, привязанного к собаке, оберегающего голоса в своем телефоне – от сквозняков, пылесосящих междомные пазы. Выхлоп – к бродячим звездам: ночью здесь, завтра – нет. Через пушисто-снежные (к)ус(т)ы смеется ТЭЦ. У сна нет имени, он снег уносит прочь.
Когда (ну да, подростковое) мир рухнул, мне хотелось сохранить все – до боли, до песчинки. Я мечтал даже – вкопать алюминиевые пластины вглубь по краям дачи, чтобы наша земля (пригорок – хорошо, не гниет фундамент) не стекала-мешалась с соседней. Благородство земли, кровь и почва, опора на собственные гумусы, ха. Теперь – в словах, колющих, как иголки боярышника в заборе, серебристо-сизых, как уклейки облепихи, бархатных, в чай, с маслянистой пленкой континентов настоявшегося чая, расколотой первыми заморозками, снежинкой, сквозняком тени в жару, в исподнем листа, куполом над слизняком, под струнами Высоковольтной, зависшей стрекозой, тайным открывшимся болотом. Вдруг балкой в лесу! Водоворотом поляны… Пугало-сторож, воспоминания выдохом, дух все губкой.
Пульсация станционных рельсов отдается в биении жилки на виске. Дорога загорается на солнце, змеится бикфордовым шнуром, но, как бумага для растопки, быстро сгорает в прах – дальнее жаркое марево размывает конец пути. Где хвостом ящерицы помахал поезд и исчез.
Когда тело перестанет чувствовать себя, тогда ты можешь сказать, что любишь. У памяти есть слова, у каждого слова – душа. Так и душа – она отлетит к другому. Это так же волшебно, как однажды вечером зимой почуять весну. А весной, например, осень – так вот оно запутано.
Восстанавливаться одиночеством – подобно уринотерапии.
Ледоколы уток взбивают лапками мартовский снег. Ледяная подсолнечная соль кропит искры воздуха. Елочные игрушки самодельных скворечников меж зазывал-веток ждут в гости будущий дым сожженной травы, шашлыков и весны. У марта есть пять дорог и столько же настроений. Где след от дитячьих шин – там проступает млечный путь. Старик жмурится на скамейке – вот и домой уже пора.
Когда придет самый конец времен, души взовьются пылью, пыльцой, потревоженной Им на ходу. Полетят тут же обнять, руку из могилы подать. Толкучка, час пик, вот и привет. У Бога мертвых нет! Рваный хитон, мошкара душ – так соткется, как тело Терминатора, общее – Сальватора. Суперменом протянет руку к звезде, полетит бесконечный корабль старым долгим мерцающим кадром. И атомом Земля прилипнет к инверсионному следу. Spacemen Христос.
Напиться высоким осенним воздухом, растворить все едчайшей кислотой антоновки-падалицы. Никогда не забыть – висеть над обрывом последнего небытия, вцепившись онемевшими пальцами.
В чашу стадиона налита ночь. И немного молока – фонари и луна. Я стекаю с горки каплей – мальчик, пущенные дедом сзади салазки. Чтобы растаять в черноте. И вот мы уже играем с дедом в прятки, снежных крепостей грядки.
Забытье, не-раскаянье и счастье: детство – это смерть. Может, все оттого, что человек, взрослея, отдаляется от смерти? Живем в кредит у смерти, расплачиваемся детьми, ни о чем не спрашиваем. У падающих зимних тишинок.
У замершей перед Новым годом темной улицы. У алой выпуклой звезды на октябрьской открытке. У разорванного пионерского галстука. Что шепчет оторванный в послешкольной куче-мале хлястик пальто? Какого цвета сейчас мел в той царапине на школьной доске, какой пустотой стала сама доска, воспарив со свалки в вонючем огне жертвоприношения? Пепельные кораблики поднимаются, ввинчиваются в небо, их сбивают снежинки. Нефтью брызжет темная вода из-под снега. Конфетти отдали свой цвет, плавают в лужах кругляшами жира. Майор, оглянувшись, никто не видит, разбежится и чуть проедет по не вконец стаявшему ледяному языку, придерживая рукой фуражку, а под мышкой – портфель.
Дэвид Боуи меняет пол
Пятна крови на месте отрезанных сосков проступали на (почти) белой рубашке ГуироББи – загадочно.
– Я думаю, Боуи никогда не умрет. Он будет выступать и в 80 лет, и в 90 – худым изящным стариком, с длинными седыми волосами и такой же улыбочкой похотливого шпиона на отдыхе. А в 110 он удалится на среднеанглийскую ферму разводить шерлок-холмсовских пчел и улыбчивых наноовец на покой. 3 га марсианских виски-вересков на не обжитых паками асфальтах (охраняется бесплатными верволками в комплекте).
Сидхи-хама, хама-сидхи (гамбургер Бу-Бу Кинга Слоупа Ната А-К).
Пятна очень быстро застывали, в застиранную заскорузлость – туберозного цвета спитого чая. И чайного гриба. С солоноватым послевкусием диабетной жажды. Сосущей рот изнутри конфеткой.
ООН трупе наступают (заглушает радио).
У Оо такое лицо, будто на него натянули чулок. Совсем прозрачный. Совсем скошенное. Подумал ГуироББи. Так сказать?
Сказать ей?
Корабли всплывают вверх, самолеты отплывают покоем.
Сказать ей – ЧТО?
ЗЛОБА, думает он. Злоба.
Гавань богов распростерла объятья и приемлет – Кейпкод, не Элис Айленд.
ТРЯСЕТ после работы. Трясет, думает он (и чувствует, ГуироББи это чувствует – сам не свой (же)).
Купаясь в молоке. (Может, тебе смазать молоком? Ты сядешь задом в таз с молоком? Я, учти, готова сбегать в магазин за пакетами-пакетиками-стаканами молока.)
ВИНА, СТРАХ, (вина и страх – что тут скажешь?)
Выплывая. Выплывая. Выплывая. Выплывая. Выплывая. Выплевывая. Выплывая.
ГОРДЫНЯ, (о, ГуироББи, если б все было так уж просто!)
Дикая усталость (только на нервах держусь) – шатает, тело пусто. Да, ШАТАЕТ, да. Чуть вот на угол двери не налетел. (была б неприятная боль – ГуироББи потрогал край отрезанного где-был-сосок – кольнуло остреньким детским кинжалом до мурашек в пятки. И захотелось захотеть покакать – чтоб сдерживаться)
A/и курю в свою пустоту, (и/a зачем курю?)
ГуироББи-юю, ты мой бог (говорит ему зеркало и тут же меняет б на Б). Я смотрю на тебя каждый день (и смотрит).
Женщина Оо ловит этот взгляд и (конечно, посмеивается).
Просто набери воздуха, задержи его, не дай ему и – скажи (думает ГуироББи).
Вот видишь, лапочка-куксик, я называю тебя на – юю. Ты…
(Но так не может же больше продолжаться!) – тихо восклицает ГуироББи-лапочка-киддик. Я не бейби-бой!
…Ты бейби-бой, говорит зеркало.
Он не заметил (НЕ ЗАМЕТИЛ!), что зеркалом была Оо. (Она так умеет притворяться!)
(Разве же он забыл, как она умеет притворяться?)
ГуироББинэйкед бой.
Когда загорится менора? (синенькими зажигалочками Е азпрома)
Оо же его переодевала – ворочая бережно, как ребенка-обер-манекена – в маечку открытых плеч, маечку голливудских мускулов, Chris Isaak meets James Dean маечку – всего три волосинки на груди, но крадутся к подбородку, светятся в распах ворота черным (она уже сняла рубашку его).
Jump they say!
«Может быть, ты сожмешь руки и напряжешь их – ты не обнимаешь меня, но сдвинешь время?» (она вкрадчивой кошкой)
Ее слова – думает ГуироББи, – делают дырку с бока одного и другого, просовывают туда шелковую пилу, и лисы ее тянут леской, он прицеплен.
НО ВРЕМЯ ли это? Или только место посреди ТУТ??
– Зачем ты кричишь? Бейби-фейс, зачем ты кричишь? (говорит-думает Оо, ГуироББи и зеркало)
ЗАЧЕМ ЖЕ ТЫ кричишь? (истерика режет воздух)
Она накладывает ему тени и – маминым – шлепком выпускает на сцену.
Боуи <споткнувшись и покачиваясь в танце> кидает в зал салфетку – сцена становится шахматной клеткой. [Концерт начинается, и она выключает звук зеркалу – ремарка, что остается двое]
TRUE!
Дерево вспять (сезонный рассказ)
Ночью защиты.
Маленькая Смерть делает ход белыми, но Большая Смерть отыгрывается в два хода.
Поэтому древние гравюры со Смертью и Шахматами так похожи на иконы.
Простывший дом пропах фруктовой облаткой – осенний урожай перед импортом с дачи в Москву. Время указывает падение яблок – за лето песчинки выросли в звезды, а время без людей, наоборот, одичало в малость. Бабочка дирижирует ночью крыльями, пока те горят.
Никогда не окружайте детей любовью. Бейте их, когда наклонились к ним обнять. Смейтесь, когда они упали и плачут. Обязательно предавайте. Об этом не говорил Заратустра?
Старики, старушки часто похожи друг на друга, чем старше – все больше. Время унифицирует, бережно готовя к финальному обезличиванию.
«Если можно, я поделюсь с Вами маленькой радостью: сегодня я получил талон на починку сапог. Как Вы здоровы?» (Л. Добычин в письме К. Чуковскому, 7 февраля 1931 г.)
Какая же благодать не читать несколько дней Интернет… Наконец-то взял том Добычина, который и был отложен – для таких особых дней. И чуть ли не пронзительнее прозы прочитались его письма. Тот юмор (неплохой!) утопленника, у которого единственный глоток воздуха в его главке в провинции – эти письма Чуковскому и Слонимским, полунищего, с какими-то сексуальными скрытностями, затравленного после горстки публикаций. Потенциальные утопленники вообще шутят хорошо.
And your lover will be your vampire.
Какие розовые плюшевые медведи снятся ребенку? Еще из того мира, откуда он, приходят к нему кошмары, или уже из этого стучатся в мягкое темечко? Вот то, что науке следовало бы изучать.
Портреты похитителей велосипедов, проводив старушек-смотрительниц, прячутся за их стулья и мироточат черно-белыми слезами. Большая мышиная эмпатия – стирают им слезы забытыми билетиками и никогда не грызут.
Когда возвращаешься после долгой дороги, кажется, будто дом твой уменьшился в размерах. Как постаревшая мама. Такому же доброму, ему все равно, каким ты вернулся – стал ты сам больше или умалился в пути.
Тапочки у кровати плещутся в чернилах Чайные розы растут на харкотине В расклеванный дятлом висок Капает ртуть Mare Fecunditatis Тараканы маршируют канкан! Август вкрадчиво вступает в права. И когда беды достают дна, ты знаешь: Август – долгая страна. Тишина размыкает слова.Небо на водной подушке моросящего тумана. Прополоскать горло слезами.
Только в XX веке модельеры разгадали секрет бесшовного дизайна небосвода. А секрет августовского неба в царапинах от падающих звезд всегда знали детские коленки.
Садовые камни со временем отращивают бакенбарды из мха, заводят сомнительные связи вроде слизней и прочих улиток, начинают ворочаться, закапываться все ниже – «мох, странствующий по телу с любовью» («Ужин с приветливыми богами» А. Драгомощенко). Культура стремится к аду? Да старикам-камням просто холодно!
Дети и старики – еще из смерти и уже в. Дети пахнут хорошо, старики – воняют. Так как пахнет там, за радужной подковой, кому верить? Правда тишинствует.
Одеяло – кокон, человек в хитине сна. Что вылупится из него поутру?
Ночь – запятая.
(Но бывают и ночи-телеграммы.)
У кого-то, не помню, прочел, что разобщенное сознание стремится (скатывается) к малым формам. И действительно, от статей в 80 тысяч знаков дошел – до двух слов. Но я и дальше.
Хрусткие звезды в кроне августовского неба пахнут арбузом. И немного долмой.
Смотреть, как города растут не в будущее, но в старь. Тихие 70-е, уездный городок, деревня. Дать этим спорам прорасти хотя бы под рукой, которой прикрыл глаза от солнца.
Кармический дауншифтинг – в следующей жизни хочу быть собакой. Да простят меня буддисты и мусульмане. Счастливо кружащей по двору вокруг хозяина собакой. Порода обсуждаема.
Ковры из антоновки. Падалица в траве любезно уложена Божьей ладонью. Иногда, когда никто не видит, система «земля-небо».. А зимой души яблок взлетают снежинкам. Те роятся мошкарой, сходятся в хороводы и становятся снежками, зимними яблоками. Оставленные террасы, витрины ожидания. Зима как послеобеденный сон ребенка, выпьет весеннего молока после и выбежит гулять… Солнце, хоть и с холодным близоруким прищуром, видит уже это за парой листков пожелтевшего отрывного календаря 1992 года. Болотные изумруды демисезонных елей, тусующихся суровыми группами, как деревенские гопники. В лесу, исполненном рыжих и багряных светофоров поезду присвистнуть от тихого удивления и остановиться, отпустить сойти со старого полустанка, поверить петлянию первой дорожки, вяжущей воздушное из колкой росы, бегущей за шинами старика-молочника, верно ведущей позднящегося пьянчугу домой, в грибах в нескольких шагах по ходу, вечной траве и мусоре. Под толстой арбузной коркой гулко лопается и кряхтит тишина. Потому что нет ничего лучше подмосковной дачи осенью, и вряд ли уже будет.
Почему, если я еду час в такси, слушая шансон или попсу 90-х (сейчас), мой интеллектуальный тонус тут же падает до абсолютного нуля, а если, например, того же водителя отправить на часовой семинар по постструктурализму, то на его интеллектуальный уровень это скорее всего не окажет никакого влияния? Урожай с дачи.
Ночью самолеты подмигивают, как замерзшие светлячки, а вертолеты, наоборот, гудят сердитыми шмелями. Где-то у кого-то в улье – night at the airport.
Адиафора в толковании Григория Богослова и Василия Великого – жизнь и смерть сами по себе для христианина нравственно «не заряжены», могут стать «плюсом», «минусом» – или так и остаться нейтральными. Что это было? Детским равнодушным синкретизмом или возвышенной анагогией? Просто одной из прекрасных и опасных трансгрессий, которых столько горело на еретической заре христианства (ребенок спичками поджег)? Так странно и дивно воображать те времена, когда люди могли просто пренебрегать таким ресурсом, даже аксиологически отбросить жизнь, смерть и, видимо, уж и другие большие вещи… В вертограде не заключенном резвящиеся единороги-вегетарианцы не обидятся теми самыми яблоками, еще попадающимися в дальних зарослях. Цветок Адиафора! Дичок античности, потянувшийся к жаркому всеединому солнцу буддизма, но привитый христианством. Странно, что Ницше или Розанов не живосекли его в своем осеннем гербарии.
«Свобода в служении», а счастье – в рабстве.
Утром в метро едет тишина, отпущенная из тюрьмы до вечера. Нем, но go! Нем, но с Ко! Человеческие консервы.
Какой сон увидит меня этой ночью?
(Твиты Оле-Лукойе еще никто не дочитывал до конца.)
Секс – это свинья, тайком летающая по ночам.
Люди и небо – соревнование в безразличии. В лифте моральных законов.
Улыбки детей самодовольны, стариков – заискивающие. Одалживающее снисходительное дарение и робкая, иногда навязчивая продажа. Дорогая новинка и уцененный товар?
Речь – аномалия, свидетельство дисгармонии мира и индивида, явленная неполнота его. Потребность в говорении чаще всего – утверждение, спор, в пределе – крик, SOS. Тогда как тишина, молчание – это возвращение к примордиальной гармонии, полноте Эдема («да обретут мои уста первоначальную полноту» Мандельштама). Это идеальное состояние, эллинское sophrosyne, которое ждет нас, в будущем или прошлом. Кстати, само «историческое» развитие языков шло по нисходящей, от (можно не очень апокрифически даже предположить) полноты молчания – через единый язык в Эдеме и до Башни – к множеству языков и тому информационному белому шуму, где мутные видео с мобильных и мат в блогах, дублируясь на новостных сайтах, становятся настоящим вирусом информации. Пандемия. Мы сами стали шумом, его главным источником в природе.
Но и это иллюзия: «О, как мы счастливы, мы, познающие, допустив, что нам впору лишь достаточно долго молчать!..» (Ницше, «Генеалогия морали»).
Цвет начальной школы – белый. Белый мел, белые парты, которые мы драили на часах внеклассной уборки вонючим белым стиральным порошком. Кипенно-белая рубашка – стирошные усилия мамы + оттеняющий красный цвет пионерского галстука. Это значит, что на нашу изначальность («хакуси-но дзётай» в японском, «состояние белого листа») наносили готовый узор, разметку дорожных знаков по трафарету? Но Pink Floyd неизбежен – «когда долго рассматриваешь один определённый цвет, наша сетчатка привносит отсутствующие цвета» (Юнгер).
Ветер в парке – лобовая атака опавшей листвы. Дезертировать с ними. На инвалидной выгуливаемых по второму кругу колясочников, смешливых школьниц и вот непонятно как офисных, зайцем зацепиться за стремя Воланда. Приглашение для визы от Мэри Поппинс, подпишет зонтиком. Финансовые гарантии возвращения? Полнеба золота без фильтров!
Под руку с ветром, путь листка.
Плач ребенка – единственные его слова, к которым прислушаются.
Первый снег не засыплет.
Один Человек в десяти одеждах: в детстве ты намного быстрее их, потом – не успеваешь донашивать. А в последние месяцы дико хочется избавляться от вещей. А ведь «барахольщик» и архив, да, все полки в сувенирах, клочки от каждой прошлой – билетики вместе в кино, этс. Но в последнее время – страсть выкидывать. До паранойи – когда же кончится этот шампунь, досносить бы эти ботинки, сколько еще ходить в этой рубашке. Так и тут – избавиться от слов. Только те, что – дают.
Афродизиак Зодиака. Контурные карты ада. Обручальные кольца Сатурна.
Снег с дождем – солью и перцем кропит подножную шарлотку. Вздохнет и усядется. Кряхтя и вздыхая, земля зимнюю шубу примерит. К ней сережки с крестом. К весне похудеть б.
Человек – сам чистилище: душа-абразив очищает ад и рай.
Селфи попрошаек и бомжей.
Снег как замерзшая сперма. Грязь из-под шин на обувь, околоножные воды, разводы соли, туринское УЗИ. Опоясывающий лишай кольцевой, мир прикрыт струпьями. Запах мокрой свалявшейся овчинной мездры. Рождение в (в-рождение), теперь это видно.
Самая печальная милостыня жизни. В автобусе пожилая алкоголичка-мать и радостный даун-сын. Христос, живи за нее!
Оговорки «у нас на работе», «моя жена»: речь хранит дольше памяти.
Здание – начинка в воздушном сандвиче. Человек?
Блоголожество недалеко ушло от выведения трех известных букв на заборе. В соревнованиях по киберкаллиграфии соревнуются в основном размером.
Черная трава на снегу в полях как забытые перелетными птицами нотные знаки. Помятая со сна девка-весна отопрет бюро находок.
Человек заклеил окна от холода. Зима убрала под копирку инея его портрет в окне. А ведь в детстве были друзьями.
В человеке после двадцати начинает проступать старость – косметика, усталость, этот жвачкой прикрытый запах разлагающейся пищи и тела – с изначального портрета слезает временная мазня палимпсеста. Особенно в женщинах – напоминание отдать жизнь с процентами.
Городским сумасшедшим я почему-то традиционно внушаю доверие. Вот однотипное даже в последнее время:
1) Сегодня еду в метро, читаю. Подходит лет пятидесяти. Книгу читаешь, молодец! Я раньше в Москву приезжал, все в метро читали. А сейчас никто не читает или эти свои компьютеры. А ты книгу. Молодец, вернул столице звание самого читающего города! Так вот я вернул.
2) А давеча подходит. Ты москвич? Да. Подсказать ему, как найти адрес Guardian. Гугл и Яндекс ему заблокировали. Написал ему yahoo.com на его листочке. Поворчал на мой почерк, перепроверил адрес и удалился (в свои области).
И вспомнил после коммента в фб про моего первого, что ли. В 9 классе, кажется, я шел через Крымский мост к ЦДХ, навстречу – такой бродяга, он мне поклонился с улыбкой и молча пошел дальше. Те они, ради кого придумали списки и коллекции – чтобы научиться легко забывать. По Прусту, Федорову или из городского ахматовского сора все оживут? Не все – и в честь отказников в привокзальной урне просто распустится безвременник. Коммент вот его сейчас оживил.
Вороны в парке шампольонами расшифровывают клинопись инея на пергаменте листьев – записка от заморозков встающим позже.
Великое ускользание. Утро всегда нас опережает, а от ночи остается непопробованный кусочек. Но песчинка никогда не поймет намека, на то она и песчинка.
В детстве глубина, толща воды давит на все рецепторы чувств. Потом всплытие, жиже, кессонная и другие болезни… И финальный взрыв по дороге к небу. Медузный фейерверк!
Не потому ли так странно, что мир останется после нас, что он исчезает каждой ночью вернуться? (Ребенок, играя в прятки, закрывает панамкой глаза и удивлен, что его нашли.) Рай, самый долгий кошмар.
Так я мыслю языком или мыслями? Звуком. А почему не гоню мысль, которая приходит, хромая на костылях звука? Она же еще не готова войти в Дом бытия!
Засыпать – что открывать дверь незнакомым.
Дождь в Риге идет бесшумно, черными латвийскими котами.
Студенты из Африки раздают рекламки у метро – мода на черные подснежники.
Человек, как сломанная мясорубка: перемалывает спокойствие мира в.
Наделить слова смыслом – надеть на них защитную маску лжи.
Татлин очень не любил Малевича. Когда Малевич умер, его тело привезли кремировать в Москву. Татлин все-таки пошел посмотреть на мертвого. Посмотрел и сказал: «Притворяется» (беседа И. Врубель-Голубкиной с Н. Харджиевым).
Потерять красоту – к свободе.
С возрастом хочется не читать, но перечитывать. Но в старых любимых книгах находишь еще меньше, чем в новых. Проститься с чтением, как до этого с собой, или начать писать пустотой из себя?
Я абсолютно стандартный турист, разве что люблю сидеть в кафе, смотря со стороны, и ходить на кладбища (Сан-Микеле – лучшее что есть в Венеции!). Среди густых надгробий и часа пика памятников – не тесно.
Посолив, холод хрустит землей.
Мне нужны крючки! Я не могу вытянуть рыбу будущего без крючков надежды в нем.
Детективы – то же порно. Порно возбуждает одни рецепторы, детективы – нервные окончания любопытства.
Ветер, поскуливая, гонится за отарой облаков. Как Ахиллес за черепахой.
Подоткнуто одеяло – чьей молитвы? Но вот утро. Голые ветки деревьев в небосмоге – как ребенок разводит нудную манную кашу.
Одно из самых первых моих воспоминаний – звук пароходной трубы, простуженная глотка Моби Дика… Я и сейчас, иногда бывает, слышу его во сне, хоть и все реже (удаляется пароход или берег?). Но в «порту семи морей», где я родился, с морями плохо. Откуда этот звук? Мячиком из-за какого забора забросило это эхо? А может, это был просто гудок взрослого грузовика, заехавшего в детский автопарк?
Потерял бабочку, выгуливая на поводке из паутинки. Улетела на белые цветы. Вознаграждение гарантируется миропорядком!
Подумал – из-за мобильных телефонов на моих похоронах ведь может никого не быть. Мобильный запаролен, мама не знает телефоны моих друзей. Друзья, и самые близкие, не знают домашнего. Нет, не то что бы я хотел видеть марши энтузиастов над могилой, но как-то грустно – совсем одному. Как совсем один знаю пароль от своего мобильного.
В метро видел добро – маленькая девочка дала нищенке милостыню, потом подбежала к ней еще и погладила спину. (Монетку ей дали родители, но погладила она – от себя.)
Небо вода глаза одного цвета – льда декабря. Зимние дни темноты – переворачивающиеся песочные часы.
Старческие пятна на коже – цвета опавших листьев. (Розанов соберет свои короба.)
Лучшие тексты приходили ко мне на границе, когда заполнял документы на въезд в страну сна. Только утром, конечно, все их забывал. В детстве мечтал о таком огромном конусе изоляционной ленты, куда записываются все твои мысли. Соткать людей не из их праха, а из развеянных при жизни их слов. Бог как ЭВМ в федоровском межбиблиотечном каталоге.
Трепетная тварь.
Соседка в окно зовет со двора сына: «Витя, домой! В школу пора!». Мальчику Вите, как и мне, 36. И он здесь почти не живет.
Каждая женщина рисует по утрам своего личного Дориана Грея.
Обмылок луны, синька неба линяет, пена облаков. Ночными тарифами стирать дешевле.
Политика и народ – «обе вы хороши» (Маргарита лающимся над общей плитой в коммуналке). А элиты разогнаны по солипсическим углам, подрагивают ножкой в снах прикормленных и не очень; и лишь изредка просыпаются дежурно революционно побрехать на эхо теней в углах напротив. Падал злой снег. Доллар. Дождь.
Беспокойными углями затухает сознание засыпающего, а уж у бессонника – какой-то вечный огонь в снегах в степи, потушенный, как в новостях было, по-пионерски…
Некоторые слова сильны только тогда, когда не записаны. Безвидные голубиные сперматозоиды мира.
С Богом всегда наедине, со смертью – один-одинешенек, любовь – приправа к одиночеству.
Смерть не кладет предел одиночеству, в ней человек одинок в пределе.
Каждое перышко у ангелов прибито гвоздями, плачут они – осколками стекла. Доброта и умирает в боли.
Капиллярная ручка церковного купола пишет для Бога небесные записки.
Руки укутанных детей в космонавтных комбинезончиках как распростертые крылья ангелов. («Разделяют с нами брашна серафимы, / Осеняют нас крылами легче дыма. / Сотворяют с нами знамение-чудо, / Возлагают наши душеньки на блюдо» Клюева.) Воздух в парке тоже детский. Перед выходом в космос.
Душа, склоняясь ко сну, дну воет на луну в снегу.
Паранойя летает на крылышках прокладки.
Твои духи лучше пахнут назавтра на мне.
Оплевали домофон. Послание от кого-то кому-то, бутылка в море. Высокое в своей анонимности искусство (средневековые авторы не подписывали свои произведения, ибо авторство всегда Бога).
Не могу рассчитывать на любовь только потому, что вырос? Забрать бы у детей (им не нужна), да размер не подойдет.
В старости люди становятся жадными. Как-то неуклюже – до еды, лишнего куска, каких-то не очень нужных вещей и гаджетов. А экономят даже на сне. Жалко.
Начинать каждый раз с новым человеком – как повторяющийся кошмар о том, как запнулся у доски и начинаешь читать стихотворение с начала.
В «башнях молчания» птицы обгладывают мясо с костей перед их захоронением. Квартиры – соты, которые выели молчанием.
Если бы во мне проснулся ребенок, он заплакал бы, как в темной комнате без родителей.
Учась пониманию самых простых вещей, как самому сложному китайскому, каждый выдумывает свой словарь заново.
Владимир Казаков, Ханс Хенни Янн – странно, что о самых важных последних авторах я ничего не написал. Хотя – не странно. В детстве, сочиняя свою Нобелевскую речь, я в ней отдельно просил не писать обо мне литературоведческих статей. И сочинял рассказы о сыне Сатаны, закатном, фиолетовом. Но – это уже о другой изначальности.
Есть фантомные боли. А как называется – когда все на месте, но чувствуешь себя все равно ампутированным?
Мой псевдоним – и.о. Ф.И.О. Как и я сам.
«Alex climbed out of five levels of complex nightmare» (B. Sterling, Heavy Weather). Да, спускаешься в кошмар(ы) на скоростном лифте, выбираешься – как из подпола с придавленной крышкой («сны с беспричинно низкими потолками» из «Египетской марки» Мандельштама). У кошмаров лучше связь с жизнью – по обе стороны: и правдоподобней, и тяжелей стряхнуть. Они даже, может быть, не очень и сны, а двойчатые фантомы их родственников.
Вены проступают на руке, как ветки на фоне неба: человек – дерево вспять.
Он и она – две половины булочки, ребенок – котлета между. Мышление McDonald’s.
Время фильма очень редко равно времени обычному.
Декабрь – утро, зябня, быстро запахивается в вечерние одежды.
Лица людей к старости расплываются – и земля в себя зовет, и на небе ждут. Космос за следующим окном!
Непроизнесенные речи громче настоящих – сделать спектакль из мысленных диалогов и играть только перед пустым залом.
Нет ничего тревожней речи диктора из чьей-то квартиры ночью, ближе к утру. Энтузиазм беды, диктатор паники.
Ребенок возрастается, человек умаляется, но точки пересечения у них нет.
Как-то на даче в пьяном споре с другом произнес фразу «назови мне 51 причину, почему это так!» А давеча проснулся, помня свою последнюю фразу в споре с кем-то: «степень моего знакомства с этим предметом превосходит, увы, пределы желаемого». Ум, когда он свободен от хозяина, резвится без поводка, гораздо более интересный собеседник.
Смотреть, как набухают у женщин слезы, упоительнее, чем как соски. Скатываются со зрачка, карабкаются через веки, прячутся, дрожа, между ресницами… Взгляд зло молодеет и становится беззащитно честным.
Снег вышел из дома. Двоеточие шагов.
В Хлебникове есть неожиданно все. Ветхий Завет и Таро? Армия освобождения смысла? Имплозия начала?
Понимание во взгляде загорается, как лампочка в сортире коммунальной квартиры, – самое главное в человеке, и самое загаженное.
Сон – отстраненный вуайеризм за тем, как твой мозг занимается любовью.
Успеть подписать петицию «разрешить продажу оружия в целях эвтаназии и суицида».
Писать из боли, ностальгии и временного вывиха ума – отдушина в жизни в страхе.
Проматывать ленту на телефоне – отслюнивать сдачу временщику Харону мелкими.
«Путеводитель растерянных» Моше Маймона, сына судьи из Кордовы, жившего в конце двенадцатого века, читать не буду, чтобы не потерять по дороге очарование названия.
Проводил с утра сны – встретил болезни, кошмары тела.
Одиночество всегда полюбляешь безответно.
«Зима – самое старое время года. Она увеличивает возраст наших воспоминаний. Она отсылает нас к далекому прошлому. Дом под снегом сразу стареет» (Г. Башляр. «Поэтика пространства»).
Габаритные огни звезд ведут бомжей зимней ночью. Они ждут весну больше, чем влюбленные, чище, чем дети летних каникул на даче.
Меньше весны. Будет вам, потому что весна их милостыня, подачка природы, которой не отнять. В риторе слякотной грязи они перегарными парами выдыхивают тепло тесту, как в хлеву младенцу, выплеснули с канализационной водой.
В подростковье, как на весеннем сквозняке.
Все же куда на зиму улетают teen-листья? Спросить у прачки-весны, стирающей bleach-бликующий снег и крахмалящей тополиные почки.
Симпатичные люди, мило болтая, посматривают друг на друга – а не начать ли бы им роман? Но, как короткое слово в смс, побеждает «бы». Прекрасная закладка в глянцевые журналы будущих выпусков.
Ребенок сражается с Лохнесским чудищем-горынычем – шлангом душа. Побеждает мыло. Маленький, не плачь!
Читать-учиться – у Чорана и Бараша, Ницше и Чипиги, «Ostinato» Дефоре и Бавильского, Юнгера и Дейча, Розанова и Иличевского. Малых, оказывается, много!
Д. Андреев в «Железной мистерии» (1950-56) о перестройке:
Маркса грыз да Сталина, Бац – кругом развалина. Коль не каплет из носу, Приручайся к бизнесу.Идеальный афор совместно с ПГЮ:
Древки дневников, черенки черновиков.
Мою таксу заносит на гололеде, ее хозяин – люфт между тоской, гордыней и самонаблюдением пустот.
Им не стыдно рождать детей?
Еще детям еще стыдно рожать детей.
Опечатка: тоска вместо точки. Опечаль.
Мои прекрасные книги, куда же я от вас умру?
Все очень легко понять, увидев, что при виде тебя просыпается в глазах женщины до нее самой. «Слоистый, лунный глаз женщины. Он вбирает нас в себя, перед таким взглядом мы сами себе видимся фантомами» (Арто). Сейчас он – еще одна из ее доверчивых дырочек. Но накаляется. Девочка становится женщиной, только проснувшись.
Мозг во сне – «один дома».
Апрель. Дождь в Москве смывает остатки снега, в Токио – лепестки отцветшей сакуры.
Земля неимоверно грустна, эти болотца, для тех, кто летал над ней? Да нет. Это черное русское мясо, которое видишь, когда самолет подлетает к Москве, в редких жилах светящихся шоссе (склеротические блямбы – выхлопное удушье). Сплошное ночное мясо – рваные поля, бесконечные леса, дыры вырубок… Редких огней. Догорающих – последний дымок над окурком в траве. Жизней, потерянных под ногами в траве. Мелкой тоски, ненужных дел.
Женщины – это то, о чем болтают мужчины, когда не хотят говорить. Закуска к пиву. Когда хотят.
Земля в Подмосковье нежна после снега, как подснежник, как кожа под сковырянной болячкой.
Бабушка перед смертью ссорится с мамой. Отказывается, чтобы та приезжала, постепенно сводит на нет звонки. Доводит маму через день до давления – и почти до ненависти. Старческое – или расчет? Любви, тончайший, сквозь склероз?
Консервные банки в пробках, как килька в томате. Лучше уж на железной быдловозке под землей.
Солнце обливает маслом уже облизанный всеми детскими языками за зиму снег.
В океане на кончиках волн среди мусора, водорослей и пены всегда плавает мячик из детства. Нежное ватерполо русалок и растаявших снеговиков с чайками-рефери.
Толстый лысый мальчик Витя лезет из балкона, как грудничок из колыбели. Неудобно, неловко, корябко. Идиот!
Скромность помнить о смерти.
Душные трупные д(м)ухи мая. Покончить со всем этим с собой.
Вчера получил самый дзенский автограф в своей жизни. Подписывал для писателя X книгу У. Писатель Y был, скажем так, немного утомлен. Книгу взял, ручку, раскрыл, но отвлекся на внешние раздражители разгорающегося после презентации фуршета. Потом вернулся к книге – размеренно закрыл ручку, книгу и любезно, с достоинством отдал мне. С абсолютно чистым листом. Я не менее любезно поблагодарил и откланялся. Подумываю оставить книгу себе.
Опережать свою репутацию.
Люди стареют, а их фото с возрастом только хорошеют. Каждый семейный альбом – кладбища Дорианов Греев.
(К разговору об ИГИЛ, крушащих ассирийские статуи в музее) Культура всегда развращает. Даже не в смысле упаднического Рима и цельных варваров имени Кавафиса-Кутзее. И той утонченности, что рвется. А потому что она вся рождена из страха смерти. (Некоторые люди-нитки не растянулись и не порвались под весом железного сталинского века? Но их потом смели внутренние варвары).
Весы чувств и рефлексии. Флексии.
Иллюминатор наводит резкость на землю. Куда исчезают стюардессы в возрасте?
Самолет Токио-Нагасаки: снежный зев(ок) вулкана. Как кровь соленый воздух Нагасаки. Вся грусть вчерашних экскурсий.
Человек – заплата на дыре в пустоте.
Самый эффективный бизнес тот, в котором не задействованы деньги.
«Зона тревоги» – предплечья, там, где к человеку прикрепляются постромки марионетки. Христа распяли за крылья, бабочка между страниц в Библии.
Я люблю случайные книги. Разбирали на работе склад, там старые, по буддизму и политике. Подарили в гостях. В редакции можно было выбрать любые. Не хочу обобщать, но я люблю этих татарских книжных ангелов.
Гроб – форма человека, утвержденная бабочка.
Неизвестное прошлое – незаправленная кровать.
В Японии почти нет электронных читалок. Нет традиции электронных книг (поддерживают издательства) + борются с пиратством (даже в библиотеке нельзя отксерить книгу всю за раз). И – А.Н. Мещеряков на кухне – священные функция бумаги, ее история, значительно древнее нашей. Там еще много букинистических! В стране с подавляющей любовью к гаджетам (технологиям, роботам) все читают на бумаге. Запад же сдал, унитазно слил книгу – когда истории за спиной мало, от нее легче отказаться? Три священных регалии Аматэрасу, камень-ножницы-бумага…
Снилось озеро, на поверхности которого недвижно болтались в мелких волнах оставленные тела людей. А души резвились на глубине, играли там, бултыхались.
Сон – это колыбельная, которую поют себе повзрослевшие дети.
Сиротство не заканчивается со смертью. А вы будете на ваших похоронах? Смерть – обида, воскрешение – прощение.
Балерины-снежинки спускаются на землю в берцах.
Не спи на груди – придавятся соски Не клади шею – помнешь позвонки Не дреми слева – сдавятся хрящи На левом – сердце сдуется Справа – занемеет кисть Не спи до утробы дотянись Utero dentata сказки на ночь от маты Поганы колеса вкатят в отчий домСезонные слова-маркеры в старых японских книгах «макура-котоба» – «слова-изголовья», грибница демисезонного пошива.
Поплавок – сон, рыбак – сознание, вода – смерть, «я» – рыба.
Умер Дмитрий Бакин, предпоследний великий стилист, и я не видел ни одного некролога-статьи. Умереть так – с одной книгой (самой первой, кажется, никто не видел, последний писавшийся роман – вряд ли увидят), одной («предположительно»!) фотографией – тихо, как и писал, стоит действительно много. Это и есть – стиль.
О мертвых или плохо, или ничего. Но беззащитность соблазняет. Если мертвый скрывал(ся за) псевдоним(ом), то с него, как подштанники на прозекторском столе, его снимут. Выпотрошат тело, как и разденут имя. И даты жизни укажут – а не вечности. И точную дату смерти – а разве он умер? Гроб уплывет талой водой, корабликом-ручейком, взовьется снежком, спикирует лепестком.
Буры, издеваясь над рабами-неграми, запрещали им испражняться «на священную землю». Нарушителей избивали, в том числе и по гениталиями. С мочой потом текла кровь, струйка в песке скоро становилась черной.
ЧеловеК.
Один из моих страхов – что я забуду про все дела, что должен. Едучи в метро, отпущу сознание. И все дела, встречи, вообще все забудется. Улетит выпущенным воздушным мячиком обратно в детство?
Так утром: как из кубиков Лето, вспомнить-восстановить мир. Возможно, этот вспоминающий и есть душа. Но только не ты нажал кнопку «вкл.» у компьютера и выдумал это утро.
Молчаливые книги и статуи шумливые, как туристы вокруг них.
Детская беззащитность первых листочков, лохматые со сна березовые сережки. Сад никак не налюбуется на себя в карманное зеркальце капли росы. Уже не грустно, что самый ранний мир никогда не постареет вместе с тобой.
«Бог один, чертей – много» (Подорога)? Да и ад просторен, а рай – тесен. Все – от желания.
Сигнальная система веток в темный дождь.
Стать собой, перестав быть собой. Прием не эллипса, но эндшпилевой защиты Гамлета.
Утробные воды, крестильные, рябь прописанных дней – научится ли человек выползти из воды.
Дом красоты.
Упруго скрученные почки – как распружинивающийся капюшон кобры. Окуклившиеся листья совсем скоро выпорхнут. Холодные цветы начала мая.
Тени домов – людские бонсай-горы. Полнолуния сопло: космос летит на стыковку с Землей.
Человек, обезьяна с айфоном. Когда гаджеты стареют, как мотыльки, а мир меняется чаще светофора, сам замедляешься, как ребенок, которого все переросли в классе.
Слышу из соседней комнаты: «Поешь… Ну, хоть немного!» Мама возится с подаренной студентами живой бабочкой, как когда-то со мной.
Деньги из банкомата около арабского рынка в Старом городе Иерусалима пахнут пряностями.
And no reason left to die.
Когда же замолчат эти голоса в метро? Тишины стало даже меньше, чем времени. Тишина индивидуальна так же, как шум коллективен. В тишине лучше говорится («молчание – Тебе хвала», из Псалмов). Шум – потеря, тишина – трата со страховкой от Бога. Но я продолжаю говорить банальность я…
Музыка в соборе похожа на снежинки, падающие вверх.
Когда я бываю дома, мама готовит. Готовила и раньше, по рецептам, любимое, но тут и сервирует, как в ресторане. По несколько блюд даже на завтрак! Woman’s love – когда наивность преобладает над хитростью. Любовь, простая, как ухватка для готовки. Только за что ухватиться?
Впустив в себя тишину, захлопнуть бы дверь.
Едва ли не лучший вид на мир из сна. Комнаты на ночь и с почасовой оплатой.
Зиппер самолетного следа расстегивает небо, но там тоже ничего нет. Стрижи латают стыдливыми мелкими стежками. Только темный дым по ободу неба – затемнение на его рентген-снимке.
Падучая звезда бежит из шашек звезд. Теряет туфельку, рвет шлейф платья о колючки елок, hits the ground. Свобода.
Все ж таки кто держит коромысло радуги? Мальчик Шива пускает бумажные кораблики на Ганге. Море пересыпает между пальцами береговую гальку: белые ногти барашковых волн лениво почесывают за ухом отдыхающего.
Взрыв сирени. Дымовая завеса жасмина. Лазеры росы.
В своих квартирах мы спички в коробке. О(г)ни вспыхивают, горят, гаснут.
Река была недалеко и не близко. Река была как раз за заводом, между сталинско-высотнической «Кутузовской» и хрущобными «Филями». Река была там, где был мост. Рядом метро по земле, сбоку мост ж/д – там и была река. Заборы разрушены, берег в инсталляциях советской памяти, бутылках, которые никогда не срастутся из своих осколков. Опоры моста – вечно опущенные прыгалки, ветер зря посвистывает, уныло.
Мы курили там сигареты, передавая по очереди, – последним затягивался тот же ветер. Плевали, попасть в брошенные пивные бутылки – такая игра, но плевка перед поражением цели не видно. Интересней было кидать бутылки, они должны были стать в воде стоймя. Солдатиками. Blowin’ in the wind, раскачивались стебли несуществующих цветов. Больше мы там, кажется, ничего и не делали.
Полнится печалью человек. Штопор глубже в ночь (что там добурит до эякуляции солнца?).
Ставя автограф на своей книге, разодрать ручкой страницы, мстя за то, чего она неблагодарный бастард.
Имя Б-га не произносилось, потому что важно не само слово, а сколько за ним смысла. Тетраграмматон (4 буквы), Шемхамфораш (216) и далее, пока не вымоется, не останется (А упало, Б пропало) – пустота между Б и г.
(«Бог есть сфера всякого анализа и синтеза» Новалиса – нет, они замирают еще на стадии имени-брандмауэра, а вот за ним уже в имени имен начинает бурлить ядерная реакция.)
Вообще же: «Удлиняй ряд утверждений о Боге – ты только арифметически умножишь число Его имен и не приблизишься к Нему» («Энергия» Бибихина.)
Три фильма, две книги, домдела – в выходные, как в чемодан в конце отпуска, пытаешься впихнуть то, что выпихивает офисная неделя. Пока небо позирует на фоне пиона, заливаясь краской.
Интернет шумит где-то далеко, звуки поездов на станции – тише и заглушают.
Есть люди, которые просыпаются, как включается Windows, есть – у кого сознание тут же, как Мае. Бессонница – сама сплошное сравнение, DDoS-атака.
Июньские звезды пахнут жасмином.
В этой фразе еще нет, кажется, места лжи. А вот если писать что-то о том, как ночью цветы жасмина мерцают на фоне неба, а от звезд идут волны запаха – тут щелей и зазоров очень много. Не поэтому ли даже самые простые предложения («И взошла звезда Полынь», «Ваши пальцы пахнут ладаном») сдали уже сказуемое («Мои черничные ночи»), избавляться будут, как тонущий от одежды… вещей… дыхания… и дальше.
Поэзия как плата за фальшь.
(Обол на сдачу).
БСО птиц в поте лица с раннего утра до позднего вечера, перерыв – на сиесту солнцепека и перекур вечерней росы.
Самые интересные книги – непрочитанные (и) у соседей в вагоне метро.
Человеки без Бога, Бог без людей – кому грустнее?
Люди дохнут по кустам Дохнут люди тут и там Па-папам-парам-пампам!Наблюдать, как просыпается сознание в ребенке, как распускался бы цветок, смеясь, играя и икая, вираж блескучей стрекозы. Заратустра с колтунами запаха ро(з)с(н)ы.
Если бы пишущие изо всех сил старались замолчать, а те, кто никогда не писал, обрели слово.
Лопнет сонный барабан – выйдет Божик по дурман! Буду резать, буду бить! Все равно.
Электрические пчелы никогда не опыляют дверные колокольчики. В очереди на искусственное оплодотворение за зонтиком и швейной машинкой.
Я вижу в твоем теле твою молодость, но она ничья. Я иногда вижу в тебе твою старость, но твоя ли она. (А ты только такой, как я вижу, плюс немного воздушных скандалов и уличных мечт.)
Оправдание книги – в ее финальности.
Солнце смотрит в глазок, кто пришел к нему сегодня, прежде чем выйти к людям неохотно, как богиня Аматэрасу тогда из пещеры. «Все время какие-то новые», ворчит.
«И эта мошкара спутников, – поддержали планеты из его системы. – Загадили все своим космическим мусором».
А мальчик внизу думал, что звездам не так одиноко с самолетами.
Холодным московским июнем тропические дожди и закат, как прищур тигриного камня, закрывается какой-то исподне африканской черноты веком. Облака гламурно ярко-розовые, как ладошка негра. Импрессионизм, HARP, Yegelle Tezeta.
Любовь всегда – вдогонку. Осенний марафон в невозможное за ненастоящей, за настоящей – подтягивание на турнике своих возможностей. Или сразу из Содома в Аид, ладошки потеют соляно нестыдно.
Города похорошеют, если оборудовать их кабинками для эвтаназии. Природа должна ввести визовую систему для людей. Даже когда животные решат заговорить, люди не поймут и отмахнутся. Замахнутся, не поднимут руки молчания вместе с деревьями. Таджик Платонов пусть сметет космический снег.
Перестаешь быть ребенком не тогда, когда умирают родители и оказываешься самым взрослым человеком на земле. А до этого еще, когда понимаешь, что нет никого, потому что любви нет. Нет этого заслона от мира.
Все слова кажутся банальными. Но да, банальность – свойство слов. Обрезков смысла, завернутых людьми в звук. Если уж народные массы решили им быть словами… И, как на шоу «Голос», вытащили куски тишины стать…
Претворить себя в текст – запихнуть в формальдегидную банку, бросить в море. От одиночества – сбежать в сон, где ты не один, но кто-то ходит, тени касаются лица руками из мха в паутиновых перчатках.
Чем меньше семья, тем больше в ней тараканьих скелетов. И те растут, когда она становится еще меньше.
«Восстанавливать тишину – привилегия окружающих нас вещей» («Моллой», Беккет). К ночи замедляется ход вещей, отстают их минутные стрелки. Дым на перине влажного тумана стелется, как плевок улитки. Руки Бога замедленеваются, Млечный путь из сита звезд, шлейф их за хвостом ящерицы. Человек научится отказу от времени – только на срок ночи. Космический кофе. Обманет, научит забыть.
Сколько ни настраивай себя, как пианино, голос Его – все равно вздрогнешь, как от окрика из-за угла. «Вдохновение» – голос Слова. Великая Пустота – когда отгремит тишина.
Книги как люди – к старости становятся наивны и сентиментальны. Перечитывать их, чтобы понять, насколько испортился. Люди не как книги.
Рука Фатимы – синяя в белых точках – как небо: гадать по звездам, как по руке (падающие зацепятся за линии судьбы, как птицы нотируют ЛЭП).
Сердиты ли птицы дождю?
Небо раскрывается – вопль ангелов растет.
Увядание – посмертное цветение.
Духи «Ребячий летний пот» даже не нуждаются в кавычках.
Близкие люди – хоть мне и не нравится слово (отвратительнее только – «половинка») – действительно такие. Сиамские, под кожей, не выковырять. Когда все правильно – дополняют. Когда неправильно – заваливаются на тебя, давят, отдавливают крылья. Но это и это, видимо, правильно, ибо – они умаляют тебя. Требуя внимания, как самый капризный питомец (еще одно сюсюкающее слово).
Ветка качает ветер.
Сжег язык, облизывая твое мороженое. А ты пеплом посыпала вместо корицы свой кофе.
Сначала тексты перерастают тебя, потом – ты их.
Дома-книги когда-нибудь дочитают и закроют, дома-свитки – свернут. Протяни тогда руку и прочти на ощупь звезды (шрифт Брайля «списали» с «ночного шрифта» артиллерийского капитана Шарля Барбье, который использовался военными для чтения сообщений в темноте).
Вечная память? Люди коротки, а память еще короче. Быстрее кончится время, чем сосчитаешь песок в кармане и вспомнишь.
Рыбкой вспорхнула над поверхностью мысль и ушла навсегда обратно в глубину. Там ей уютнее.
Люди-устрицы, их надо выковыривать. Пока они не позволят войти в себя, как в устричную часть женщины.
Если правильно сощурить один глаз, в автобусный люк можно увидеть руку маленького Бога, играющего в машинки.
Только этим летом самолеты стали совсем гирляндными: зеленый огонь горит постоянно, красный и белый перемигиваются на крыле и брюхе. Почти светофор – пешеходам неба.
АнтоНине.
Кузнечик – камертон для тишины, паук акробатит линию небу.
Человек в 68 лет говорит: «Ненавижу, когда меня называют Галиной!», и передергивается.
Холодный жир на посуде в раковине – последний ужин мертвых с прозекторского стола.
Когда жизнь снимает макияж, под ним череп «За любовь Господа» (с). Пустыня, просыпаясь, ничего не видит в зеркале.
И был день, и была ночь. И снова это утро. Уже девятого дня.
Все форточки открыты, но стекла все равно запотевшие – такое бывает в утренних электричках. Но можно ли назвать верхнюю, открывающуюся часть окна форточкой? Стоит ли думать, что вагоны потеют со сна? Или просто надышали в коллективном похмелье, выдыхая на раз и два? Будто вылезли из-под прелых старых одеял, доставшихся от каких-то родственников, похороны которых помнили лучше, чем их. Комками сбившийся в них запах не вывести ни проветриванием, ни чем – а на костер, сколько вонищи будет? Сгорят все сны уже неизвестных нам людей, дымом густо белым, с беломорной желтинкой, как слюна дремотного соседа, как задумавшаяся бегунья сопля старика, подрагивающим пальцем скребущего во сне остановившийся будильник завода через покарябанное стекло, оплывающего с воздуха конденсатом пейзажа. Нет, чистого, процежено ночью, свежее рекламное дыханье на гнущихся осинках плешивой (самую чуть!) зубной щетки, а взвесь вон вся на камнях у рельсов и нафабренной траве. Нас утро тоже встречает прохладой, вас, что ли, только ждали, разрешите пройти, а мы тоже идем, как верная солдатская невеста, а зябкость не может быть грязной, она как слеза совести, руки протри, пряжку надраить, одеколоном с отдушкой точно на весь день, что ты нюхаешь пальцы, как у той невесты из ее того самого места. Говорят, в этом году много грибов, так и прут, так и прут! А яблок почти нет, так всегда бывает. То грибной год, то яблочный, через год. А то ореховый. Да, бывает и ореховый. Когда всем белкам сладко (хохочут).
Они смеются, разгоняя свой смех до дельного хохота, настоящей шутки, подпихивая себя-соседа в бок – что вы толкаетесь, и так тесно, нажрался с утра, так сиди, как приличный, – будто сапогом раздувая дачный самовар, прохудившийся на бабушкиных полустанках. Смех уже забыт – и секунду за окно глаз мужика с прожилками затемпературившей ртути смотрит, как ребенка после умывания слезами. Померещилось. Долго еще ехать-то, а? Сенеж, Подлипки, Березки Дачные. А бывают что ли не дачные? Эта не пошла. Две остановки без остановок. Но даже если через год, приедем. Известно кто буду – приедем! В ореховый год, на самой осенней электричке Бог их всех не соберет. Так поскачем, завидев контролеров, не дай Бог, по платформе через вагон, зайцами по насыпной, лягушками по почкам, те лопнут липовым соком, мгновенная смерть, весенний фейерверк. С лафетов, на брудершафт, с 9 маем, шашлычный салют! Закурить есть? В тамбуре не курить, штраф 1000 рублей. Да ну!
Эгоисты умирают рано. Им так – как минимум по приколу.
Яркие мутации заката, каляка-маляка перистых облаков – маленький Бог играет с палитрой. Крики детской возни залетают в квартиру, оседлав тополиный пух, как незадачливую собаку.
Одинаковых людей нет, оттенки одинаковости бесконечны.
Варикоз корней, экзема коры, папилломы почек, герпес сережек. Чем выше в небо, тем глубже в почву. Человек станет всем осенним небом. Пасмурным парком. Ветром под крылом у вороны. Рюкзаками, брошенными школьниками на скамейке.
На день рождения маленькому Билли подарили кучу подарков. Как-никак, 90 лет! Родители, бабушки-дедушки, дяди и тети… Это была целая гора подарков! Младшая сестренка подарила огромного розового резинового паука. А я – колесо, которое может катиться само по себе. Он был так рад подаркам, что даже немного заплакал под конец.
Звук своего жевания – отвратительное вкусно.
Время нас опять обмануло. Стрелки, как лыжи, сорвались с циферблата – теперь в бутылке Клейна.
Чем сегодня на ужин будем кормить наших могильных червей?
Должность смотрителя облаков – выборная ветром, подписана росчерком стрижа, завизирована треморной травой.
Изгнанные в трубу, мертвые Санта-Клаусом с пустыми руками пытаются повторить свой путь назад в утробу.
Снег звезд, соль звезд и отсутствие обещания, как лунное масло намазано на жестяной скат сарая.
Лепестки розы просвечивают на солнце, как дольки хамона. Красота запрещена увяданием, попытка обойти санкции сентября.
Большие самолеты оставляют за собой рельсы, легкомысленные спортивные самолетики – следы коньков. Закатная гематома быстро наливается синячной чернотой.
Стучали ночью в дверь, выбивая ритм снова. Днем звонили и шептали «не дышать… не дышать…» голосом без голоса (и в этом тоже был свой ритм). От ужаса мы отделены пленкой толщиной с плаценту лягушки.
Кому на Земле подмигивает ночной самолет? Его окрик все равно никто не услышит: в NASA записали звуки звезд, это такой джапанойзный гул, скрежет металла, ставшего тенью до рождения предков, ненавистный будильник Бога, напоминающий, что неминуемо настал понедельник творения.
Быть, как солнце, но не стать Аматэрасу: выдержать столько сравнений, но все еще светить.
Червь человека грызет яблоко Земли снаружи раком.
Как в прахе остаются частички костей, так и мертвые остаются в нас (и теми кусками, о которых они бы не всегда догадались). Прах живет в прахе, пока смерть не высыплет из нашей урны. Вон, раскрыв ладони над лунной рекой, изобильной пустотой.
Дольки листьев в лужах чаевничает осень.
Самый смирный крестильный саванишко мой.
Опьянение – сон наяву. Самоуправляемый. Чаще безумие(м).
Кто больший родитель, кто вечно обвиняет или кто все прощает? Не поймешь, пока не умрешь в нем (живя им – точно не поймешь).
Б/у людей на прокат берут редко.
Детский крестовый поход в школу.
– Интересно, а айфоны, айпады уже кладут с покойниками в гроб? Если они из рук их не выпускали при жизни…
– Нет. Воров же боятся. Да и себе оставляют – ценность, воспоминание опять же…
Живые жаднее.
Книги выбираешь, как другие диетический рацион: толстую классику после современной тонкости, нон-фикшн после художественной, философией, фантастикой и на языках перемежая.
Крик окна. Семья – черный ход.
А кто представит меня моему имени?
Полседьмого человека.
Да не правильно или неправильно. Вообще не то. Просто – куски твоих родителей в тебе.
Любовь к пожилым – как последние солнечные дни осени, самый ли последний денек, пара часов до заката.
Выехал человек. Заходит новый квартиросъемщик-запах.
Автор пишет долго, чтение же несколько часов. Как будет, если наоборот? Рожать быстро роман, а жизнь читает его все отпущенные ему годы.
От сырного круга часов отломилось еще граммов 30 минут. Полковник внял в себе коньяку, сладкому, как лошадиный свист ядреным утром на плацу. Соразмерно! Смочил губы лимоном – остренький поцелуй с зубками. Запломбировал чаем цвета уже к ночи. Усталость дня, звон оркестровой меди, метафорное гудение в топке в голове – все спадало (по)степенно, как с мраморного плеча. Безусловно, Успенье. Переливая конусы коньяка и минут в песочных часах звезд, отдаться кровати. Дотла, до утра. Денщик разбудит точно – без горна утру не бывать. Прикуп, Припять и пике.
Семья – благословение в начале, проклятие – когда начинаешь понимать.
Как в мезузе запечатан отрывок из Торы, так и человек – запечатанная молитва. Каплей сургуча-плоти.
Вдох, выдох и третье.
Звук падающих яблок ночью на даче, как капель воды в японском прихрамовом саду. Ночь обсасывает леденец луны, пока тот за неб(о)есной щекой не… Бог мыслит природой, та не знает числа.
Легкий Фродо
Саша – очень легкий. То, что и бросается в глаза и запомнится о нем – легкость. Детские какие-то, не повзрослевшие волосы, схваченные на лету небольшим хвостиком. Стертые до мягкости джинсы, майка с чем-то и расстегнутая клетчатая рубашка фалдами, бегущая за ним на его быстром ходу. Рубашка, бородка – мода гранж, мода уже ретро. Так ну и что?
И возраст – может, уже под и за тридцать, видимо, так и есть. Но тоже как-то мимо, где-то в паспорте, забытом на перекладных квартирах-вписках. Может, и старше, может, только вчера пел на выпускном. Сейчас мне кажется, что он вполне может быть вечным. Как архетип? Да ладно, брось!
Просто перед концертом, когда мы, отойдя от входа в клуб, курили у какой-то строительной завалинки, он сзади представился «с вашего позволения выпью» и глотнул водки из бутылки. Такой тяжелый, не его напиток, думаю вот сейчас, но и он тогда будто объяснил через пару фраз – допить не надеется один, да, вот так получилось, что один пришел и купил по дороге, всего за 300 взял, спрячет здесь, после концерта допьет, а возьмет кто, так и. Запил большим, почти двухлитровым соком.
Ближние лужи пошли мурашками слабого дождя – небо давно уже куксилось синяком. В кустах включили стереошепот ветра – как бы не ударила гроза.
Бородка светлая, как у подростка. Как у вечно не выросшего святого Курта – что ты тянешь в рот? Тебе можно курить, но рано еще совать стволы в рот! Подрасти еще! – блаженного Кобейна.
А этот мальчик уже с какой-то полу фразы, как он только что из Питера, из «Камчатки». О, котельная еще жива, не закрыли? Нет-нет, там как бы музей, но выступают, даже вход почти бесплатный, кто ж платить-то будет? Вот памяти Летова был концерт, Цоя, конечно. Пытались платным сделать, но народ просто платить не стал, это ж на смерти наживаться, блин! Когда Задерий умер, так Кинчев даже приходил. Выступал? Нет, но ходил по залу, здоровался. А вы тут часто, давно Калугина слушаете? Да, я давно, еще с 1997 года, когда он был с «Дикой охотой», а сейчас юбилей «Оргии праведников», так я был на первом их концерте, когда Калугин объединился с этими ребятами, и публика выбирала название их группе. Так это в 1999 году было, он, кажется, не очень мне даже поверил? Да, 1999 год. А он в 2003, когда лежал в больнице, ему удалили почку (о, так что ж ты пьешь, если не гонишь!), друзья залили ему много музыки, он лежал один и слушал Nigredo в палате, это было вообще! Такие, да, спрашивают о тебе, но говорят о себе, но это почему-то не обидно, может быть потому, что и к себе – легкость? Важней, что мы вот тут, не задождило, хороший же вечер, и есть еще выпить, а сейчас начнут играть. Так, да?
И я не рассказал ему о том, что моя любимая песня у Калугина – «Радость моя… (Ничего нет прекраснее смерти)». И, когда я жил в Японии, друзья мне записали ко дню рождения на кассету поздравления, да, еще были кассеты, а на оставшееся время дописали, зная (мы еще тогда не распались и все вместе ходили на концерты), мою любимую песню. И вот такая сцена, представьте, я один в общежитии, причем чужом, утром среди бутылок, остатков корейской еды и окурков, благовония и кислый вчерашний запах, все ушли на работу, звуки пустого здания, а я выйти даже не могу, потому что кастелян еще не сменился, а ночью незаконно остались, включаю и слушаю, что свет пронизал нас насквозь и мальчик, ты понял, что стало с тобой в это утро, ты понял, что стало с тобой? Ничего нет прекраснее смерти! И это на день рождения, такое вот сюр-поздравление, но люди хотели порадовать и да, я порадовался, было здорово, в Японии, думаю, у меня единственного тогда была запись Калугина!
Не сказал, потому что слишком много меня, когда слишком мало нас, еще и вообще. Немного пахло морем, уютным свинцом. Где-нибудь в Финляндии или Эстонии так, песочная коса в море, как длинный треугольник сыра. И едальные палочки солнечных лучей помешивают море, там что-то зарождается, под пробиркой тлеет язычок спиртовки, пока песок сыпется через стеклянную талию, посолить по вкусу.
О чем я, дохнуло легкостью? Я не за всякую приблудную постфактум психологию старых романов, «уже тогда мне почудилось…» Ничего мне не почудилось, и я, конечно, ничего не знаю. Просто гроза в анамнезе, просто волосы, просто городской, смрадный с изнанки ветер.
Он еще выпьет, а то скоро внутрь идти, оставлять почти полную тоже жалко. Мне не предложил, но выпил. И не был, кстати, пьян, это тоже куда-то мимо него прошло. Да, вот Кинчев. Как, кстати, к «Алисе» я? А к «ДДТ»? Он за турами после последнего альбома по Украине за ними ездил, еще до войны, ох, хорошо походил! «ДДТ» вам нет? Понятно-понятно. А, Летов? Ну, это святое. Он и на могиле был, и по лесам погулял там, где прыг-скок тот энцефалитными ушами услышал-сочинил.
О, да, Омск, там! Омские леса, мох под ноженьками, латы листвы, солнышко на турнике, улетели качели в самый зенит, в самое дуло, водочное солнце, сами по себе, мы сами по себе, наособицу. Одежду сдувает паутиной, комары через трубочку втягивают коктейль, пустую банку да у тропинки, «убирайте мусор после себя», сами по себе.
Он отошел, кивнув, не пора ли внутрь, сейчас узнает. С кем-то здоровался, с кем-то обнимался и уже прикладывался к чей-то другой бутылке.
Скучаешь о тех временах? «Солнышко, дай десять копеек на пиво» (мы смеялись и поминали), те маленькие концерты, где все знали друг друга и кивались, Арбат и его хиппи, дачи и Питер. Вот без вопроса я бы не понял, что – да, те времена прошли. Сами ж по себе, теперь мы сами по себе.
Сдавали вместе рюкзаки. На концерте он мелькал тут и там. Потом еще в очереди за пивом. Он куда-то пробегал, а потом кто-то за ним, высматривая, искал. И не очень любезно искал, как в английских гангстерских фильмах? Вот я и тогда уже начал сочинять. А к концу концерта он летал над толпой, сидя у кого-то на плечах. Да, худой и тонкий, но все равно молодец, подсаживают же только девушек!
В антракте опять, выйдя курить, у той самодельной лавочки. Его водку и сок нашли и выбросили в (довольно чистую) тут же рядом урну. А он болтал с тремя мальчиками и девочками. Они уже знакомились, называя имена. Да, он и им не предлагал, допивая – это знакомо, щедрость неформалов и их запасливая на себя бережливость. На каком еще случайном полустанке, забытой вписке придется? Христианское и крестьянское.
А вот они и знакомятся, слышим. Он – Саша, но чаще – Фродо, хмыкнул он сам. О, Фродо, раньше б и всегда это стало б приколом, мы б переглянулись и даже потом рассказывали. Фродо, дети-хиппи, они еще есть, они все же вечные! И зря я носился одно время с идеей (кстати, запатентовать, даже Гугл плохо знает это слово) постхиппи, типа сейчас мы в итальянских костюмах и даже заграничных офисах, но кто был и хипповал, тот всегда будет понимать и усмехаться, что самый открытый open space и самый большой кабинет – все иллюзии имени Ричарда Баха, прозрачные, как сейчас модно в прозрачных стаканах-партнерских кабинетах, мухи в сувенирных янтарях.
В общем, можно улыбнуться. Мы и улыбнулись – вот, надо ж, Фродо еще есть, мы так привыкли видеть такой же офисный, как мы сами, люд, с работы, в годах, с опозданием на все эти концерты, которые и не приезжали к нам раньше, подтягивающийся к 8–9, на изрядно лет позже к клубам. А Фродо-Саша куда-то не ведет, конечно, но сам расписал концерты себе на все лето, легко и деловито, ухмылка знающего вписку и скидку на билет, шагает, сегодня здесь, а завтра там. Сам вот по себе.
Пустой на праздники и лето город, единственное время, когда город выдыхает из себя людей, (выпускает газы) пробок и остается один на один с тобой. Мы сами по себе с тобой последний уик-энд пунктуационный знак неба между домами, днями между делами.
Между нами и ими, когда музыка промывала. Когда басами звук плясал в теле. Я прыгал и кричал среди толпы и ритма, в темноте, анонимный. Он уносил что-то лишнее. Навсегда лишнее, на эти три часа – выдували динамики…
Концерт закончился уже ожидаемо поздно, было темно и все спешили, Сашу мы уже не видели, Фродо ушел в следующую серию, смайл, а метро не бесконечно по времени, хоть и тянется, lingers long on Love Street.
Где-то через несколько месяцев мне позвонил следователь. Был очень вежлив и почти интеллигентен. Он прочел мой пост про Сашу. Кстати, «его звали и не Саша», – он назвал какое-то такое же обычное и пустое имя, которое тут же ушло от меня, и сделал внимательную паузу, отметил, что мне это имя ни о чем не говорит и в первый раз, – «но это к делу не относится». Его скоро после того концерта убили. И убили нехорошо. Получается, что тогда мы были чуть ли не последние, кто его видел. Как, почему?? Он корректно еле заметно помолчал, скинув вопрос, и спросил, видел ли я его после, что-нибудь еще о нем знаю? Помню, меня поразило больше даже не то, что Фродо, я не сразу и сообразил, кто это, такая же секундная пауза в памяти и ответе, а что они в милиции прочли мой пост. Хотя что удивительного, если подумать позже, поисковики, современность, открытый пост, не все ж отписались о том концерте, пара кликов… Что он умер, то есть убили, понял позже. Вот уж действительно та тема, когда встречаешься раз в секунду из вечности и расходишься на никогда, на все остальные секунды… Нет, следователь все понял, поверил (проверил?) и даже официально не вызывал. Я, где-то уже разъединяя разговор, подумал, что можно было бы спросить, где он похоронен, что ли, но тут же и понял, что это слишком патетично и никому не нужно. Да, сам Фродо торил путь на могилу Летова под Омском, но иногда (часто? всегда?) в разъединении больше смысла, чем в соединении. И лучше пусть само забудется, чем самому помнить. Дринк за тебя сегодня ночью под Летова и песни с того концерта, Фродо. И – апдейт к тому посту? О, Господи, не чокаясь ни с кем, за такое пьют, с пустотой у себя внутри в зеркале чокнись и заткнись. Но, блин, какой все же ужас… Мы все Фродо сами по себе.
Короче, утро было ясным, не хотелось вставать – вот точно, как вчера пели! И похмелье было очень правильным, да, точно он вчера эту одну бутылку на целый день, в самый раз. Хотелось немного в туалет, немного послушать вчерашние песни и, почему-то, черешни. Потому что за окном вроде дикая вишня? Есть даже не хотелось. Надо в Питер, надо, это такой город, куда надо ездить, чтобы дышать.
Долго этот вчера грузил, с которым там у клуба стусовались. Штаны чуть ли не тренировочные и майка без рукавов – кто только не ходит теперь, совсем разная публика. Немного стремный. Чувак встал уже? Который час? Мобильник сел. Фродо сел сам и потянулся. Из окна из-под густых кустов тянуло в квартиру грибами. Глухой двор, он выглянул, с разбитыми такими убогими, но огороженными цветничками, чьими-то деревенскими отрыжками-воспоминаниями, деревьями-перестарками (до первого серьезного шторма) и с навеки пойманным эхом. Первый этаж.
Грибной запах напомнил о другом, исподнем, нутряном запахе… Как он, единственный раз за вечер проявив инициативу, остановил за плечо его в коридоре и, вдруг пригнувшись-клюнув, облизал пот за ухом того мужика, специально замедлив языком, чтобы тот, если захочет, успел оттолкнуть. Но он только вздрогнул и как-то очень громко замолчал. Потом все и было, да, как он, Фродо, любил и даже не думал, что и вчера получится. Но получилось, у него всегда все получается, везет на фишке! Сейчас надо выпить чаю, есть все еще не хочется, и валить – быстрые проводы, долгие дороги, как говорится.
Он встал, натянул майку (даже не пахнет, а вчера так рубились хороводом у сцены, настоящий пого, здорово!) и вышел на кухню, проверив заодно, где рюкзак. Рюкзак был на месте. Мужик тоже. Сидел за столом, как и вчера, когда, после, он пошел спать, будто и не сходил. Дима, кажется? Фродо точно не помнил, это и не важно. Он даже не собирается стрелять денег, просто выпьет чай и пойдет. Хотя чуть неудобно, конечно, поцелуй на прощание и все такое, надо б… Но таким, в спортивных штанах, наутро может быть стыдно. Вот и бест!
Уже из туалета, совсем войдя в тесную кухоньку, он вдруг столкнулся с мужиком, который резко встал и, – «что вдруг забыл, Дим?», – пошел, ломанулся мимо него по узкому коридору, в комнату. Они еще столкнулись, как, Фродо хмыкнул, в автобусе в час пик, мужик смотрел куда-то в сторону, но так, что будто смотрит ему, Фродо, в глаза, до самого нутра глаз. Протянул, как вчера сам Фродо, руку, еще идя, приближаясь и приблизившись, взял ею, поручнем, его за плечо. Ну вот псих, точно, щас будет брататься, пьяно тыкаясь лбами, братуха, мы с тобой, братуха, пил до утра потом что ли? С каким-то хрипом-всхлипом тот выкинул из-под-за себя большой кухонный нож, огромный резак, такая тупь такие на кухне держать, воблу он что ли им чистит…
В животе, далеко и одновременно так внутри, что-то хлипко скрипнуло. Где-то глубже горла, в желудке начала жечь, расти пустота. Похожа на тошноту, только тошноту ты из себя выкидываешь, а эта, наоборот, всасывается в тебя, растет. От этого Саше сразу стало очень страшно.
Источник игры
Нет одиночества острей, чем в августе: пора свершенья — все в красно-золотом горенье. Но где сад радости твоей? (Г. Бенн)Попрощайся с этим днем – вы никогда больше не увидитесь.
Повязанная в мае у Стены Плача алая нить все еще на запястье. Подозреваю тайные хасидские нанотехнологии.
Дети все старше нас.
Зима наступает, как немцы на Ленинград.
Старость – анонимные сюрпризы тела.
Верстальщики жизни В карбидной глуши Хохочут ушами Чеши!Извиваться, пришпиленным бабочкой к простыням иголкой удовольствия.
Быть готовым каждый миг все потерять. Потому что каждый миг все теряешь.
Мысль мужская выпуклая, а женская, как говорили у нас в детстве, впуклая. Эрекция гордыни, беременность коварством.
Цветок розы опять переборщил с румянами. Цветки дыхания из навоза людей. Лица людей и пейзажа.
Обиды живут дольше людей.
Добычин, Харитонов. Непроявленные – сознательно, конечно – авторы. Патиновые.
Хотел на дачу, а в эти выходные уже ноябрь.
Крысы шуршат подвенечными платьями.
Тянет, как в сон, умереть.
Вода соединяет со смертью. Утробная вода, входившая в меня, сперма, выходящая из меня. Последняя вода.
Сидело рядом три школьника со мной. Один в телефоне, даже два. Один смотрел в окно. Они были из одного класса, но у всех был разный возраст.
Смерть – источник игры. Кто резвился бы в раю, что бы мы делали в вечной жизни? Из-за нее мы придумываем смыслы, ей же и говорим эту ложь.
Ракета взлетает взглядом, женским жестом, ласки и прощания.
Корни и крик, ветка и ветер.
На всех высотных на нескольких их уровнях красные огоньки – Токио подмигивает тебе вечером.
Детство – смерть, поставленная на паузу.
Чем старше становишься, тем меньше общения нужно – пока не отпадет мир, не воспарит полнота.
Просто женщины лучше пахнут.
У каждого графомана есть свой поклонник. Как акула и паразит, симбиоз.
До сих пор, куря на балконе, пересчитываю этажи в доме напротив. За 37 пока ни разу ничего еще не изменилось.
На улицах Третьего Рима, в последние дни:
1) Бабушка, ведя внука в школу, ему. «Прибыль получают за продажу товаров и оказание услуг… Ты понял? Повтори!»
2) Две девочки, лет 11–12, прилично одетые, выходя из торгового центра. «Твою мать! Скоро же 2016-й»…
В Японии всегда солнце, будто сияющий после умывания мамой ребенок из советской сказки.
Враги человека – близкие его. И дальние. И средние. И он сам, конечно.
Горизонт смазан поземкой.
К концу любви люди начинают привыкать отвыкать друг от друга. Меньше мейлов, звонков (в них – поцелуев (в них – искренности)), разговоров (и в них – меньше). И все больше – в скобках. В себе. А в себе – рад(и) новой любви, старой? Чего? А ты что?
Но и боль всегда новая, да, как и любовь, которая, как тот каждые несколько секунд умирающий и рождающийся мир индусов, как обновляющийся организм (да, вам не быть прежними).
«Воспоминание осуществляет ретерриторизацию детства. Но блокирование детства функционирует совсем иначе: оно – единственная подлинная жизнь ребенка» («Кафка» Делеза и Гваттари). Да, детство, осознаваемое только в его утрате, в полном прощании – его обретение.
Лучшая милостыня – поднять уроненную душу.
Your Majesty King Size.
Кто же вы, мои бедные буквы?
Беженцы из рая?
Жаль расставаться со своим мозгом даже на ночь. Он тоже ревнует – мстит кошмарами.
Нырнуть в себя, глубоко-глубоко так, чтобы ударить дно и вытянуть затычку у этого бассейна – смерть!
А глубже смерти ничего нет. Ни страха, ни отчаяния.
Метелище – русские Мерлин Монро придерживают полы шуб.
В Содоме и Гоморре жили, по всей видимости, те, кто на 100 % знает, что есть добро и зло. А Бог и сам не знает.
Детство – кредит радости, за который у тебя всю жизнь отнимают.
День пишет слева направо. Сон – снизу вверх. И левша.
То, что брешут люди, не кость, ветру негоже носить.
Дон Кихот сражается с ветряками.
Сердце-авоська, резиновая боль.
По следам снегопада.
Шахматная мелодия. Я вижу тебя во сне.
Когда не сможешь думать время, умри.
Примерно до конца XV века королева могла ходить только на одну клетку. Затем почему-то изменились правила, а писатели стали называть игру «Шахматами Неистовой Дамы» (Schacchi alia rabbiosa в Италии, Eches de la dame enragee во Франции). Так убыстрилось время, готовясь к прогрессу, смене своего имени на Новое.
Перед операцией нужно снять лак с ногтей, чтобы смотрели, не синеют ли. К смерти в гости без маски.
Сны старше жизни.
Лицо – малый мир (из «Кориолана»). А есть большой?
Больнее снимать с себя кожу – другого.
В роняющийся с 22 этажа лифт кто-то стучал. Двери метро стонали. Так настигли метафоры, после которых – дверь куда?
Толпы людей утром к метро – сны уходят от людей.
Отматахарили по полной.
Грустно держать в руках журнал с опубликованной статьей или тем более книгу – все в прошлом, роман закончился…
Смейся, а то сшитые ткани никогда не разработаются!
Когда-нибудь отмененное офисное рабство будут вспоминать так же, как крепостное право.
И под 40 лет мама покупает мне вещи на размер больше – на вырост.
Смерть автора имени Р. Барта? «Ведь говорит же апостол Павел, ссылаясь на псалом Давида: “Некто негде засвидетельствовал” (Евр. 2, 6), показывая тем самым, до какой степени второстепенен вопрос авторства, когда речь идет о тексте, внушенном Духом Святым» (В. Лосский. Очерк мистического богословия Восточной Церкви).
Снег – пыль из верхних домов.
Не дает? Не беру.
Когда-то глухими тропками здесь прошла война. Порубили деревья, сожгли реки.
Теперь тут живут странные. Люди-грибы и люди-тени, лао и сикхи из бритых. Озоновые собаки и цветы-марионетки, бывшие цирковые и больные синдромом Спутника.
Здесь ты никому не нужен, поэтому – можно жить очень долго, почти вечно. Живи – не хочу. Некоторые все равно потом не хотят.
К смерти просто переламываются пополам. Кровь высыпается часовым песком. Тогда тот, кто первым наткнулся, должен похоронить. Телу вырыть кротовью нору и выложить ее цветами-стеклами, как детский тайник, душу – привязать рядом с грабом к колышку воздушным шариком.
На свидания дарят букетик из звезд – здесь все по дешевке, деньги давно закончились. Ты мне, я тебе или просто так, тут что-то другое. Как резеда.
Когда дети рисуют дом или радугу, все стараются не мешать (выглядит это – будто неловкие взрослые вдруг стали играть в «морская фигура – на месте замри!»). И нужно обязательно построить этот дом и запустить радугу. Из подручных средств, тут все умеют, кто долго живет. А новоприбывшие осваивают довольно скоро. Даже не удивляются этому.
И рваное небо латают потихоньку. Скучают по кофе и смене сезонов. Вяжут на керосинке, заходят в Музей печатных машинок. Гуляют по одному, материализуя воспоминания. Под руку, но не видно – земля почти не дает тени.
Если ты оступился и нога ушла в черную дыру, то из раструба есть шанс упасть сюда. Или чаще, если свернул не туда. Сценарий твоего фильма.
Ничего так не утомляет, как есть каждое утро, бриться, стричь ногти.
Люди впадают в депрессию накануне дня рождения… Мне-то проще – я в депрессии постоянно.
Что время вообще несет, кроме старости? Спросить у старости, получить подарок.
Дети не любят детей.
В России надо читать Незнанского и Устинову. Только их.
Все великие открытия делаются на человеческой заре. Что – огня, что – можно, оказывается, не носить шапку с помпончиками и на подвязках. На этом, собственно, век открытий и заканчиваются.
Третьим в нашей паре завелось – прошедшее время.
Костер – космодром бабочек-траурниц.
– Что же делать, что же делать?
Из кошмара что-то вытягивало на поверхность.
– Ничего, ничего. Поглаживая-похлопывая его по руке.
В Фесе с 13 века действует лечебница, где душевнобольных лечат музыкой (от Н. Сосновского, посмертно, в записи его выступление по ТВ. Вообще знал человека до – читая в «Забриски Райдере» и – после, на 40 дней сейчас).
Слава это птица, бьющаяся о гулкое стекло.
Запутался в женщине, как в трех соснах?
Человек в одиночестве нарождается и умирает неразличимо, как срастаются кусочки кожи или моста.
Какие морщины нарисовала на лице ночь? Пейзажи каких странствий-снов?
Купола Успенского собора с ликами – пусковые шахты в Небо.
Sorrow is the time to begin (Leonard Cohen. Book of Longing).
В конце поездок ближе всего догадываешься о переводе nevermore.
Сейчас только сообразил. Кита – связка прутьев – итал. Fascio – пучок, связка: Китайские ворота – Фашистские ворота. И германоязычный фестиваль фашинг. Иностранец, побывавший в Москве при Иване Крозном, писал: «Масленица напоминает мне итальянский карнавал, который в то же время и таким же образом отправляется… Карнавал тем только отличается от Масленицы, что в Италии день и ночь в это время ходит дозором конная и пешая городская стража и не позволяет излишнего буйства; а в Москве самые стражи упиваются вином и вместе с народом своевольствуют».
К закрепленному ныне уже единорядию фашизма и сталинизма?
Беньямин в «Кафке» о «возвышении в музыку» как наиболее важном звене в констелляции «жест – животное – музыка»». Да, музыка как сублимация любви, фанфары печальных клоунов, ее провожающих.
Взрослые – это невыжившие Дети.
Любовь – скоропортящийся продукт. У ненависти больший срок хранения.
Ненавижу терять вещи (вечный кошмар – из школы, в автобусе оставил рюкзак). Поэтому, кроме всего, ничего не терял.
Избавляться от собственных вещей, а вещи покойника – оставлять.
Весна пришла. Скоро тепло будет, травка появится. Зеленая. Сейчас деревья голые без листиков. Но листики скоро появятся. Они с юга прилетят и на дереве повесятся… Ну что ты смеешься? Будет красиво!
Бюро потерянных дней.
Форма, из объектов физического мира, наиболее близка сознанию.
Мы все время ищем соответствия с собой. В книгах, фильмах. А их попросту нет. Ни с чем мы не рифмуемся.
Весной вскрываются реки раны вены.
Зачем писать рассказ, если можно сочинить пост?
Толпа – это Другой, иррациональный и агрессивный, словно женщина-истеричка (ле Бон). Она – это толпа. «Воробьиная, кромешная, пронзительная, хищная, отчаянная стая голосит во мне». Близнец двух, многих лиц. Ладони из фильма.
Охранница, с которой всегда мило раскланиваемся, разговаривает по телефону и что-то старательно записывает: «в случае самосожжения…».
Ад – это за углом.
Алкоголик идет к Богу. Части тела не рифмуются – не согласуются. Шатается как ребенок. Старость как младость. Воняет-благоухает. Ручки тянет. Окно кусает. Тщится, да не может. Пустоту вызывает. Снискает забвения. Благодарит как за подачку. А передачка та в больничку. Там все стекла в рай зарешечены. Яндекс-карта вен морщин наколок у тех, кто на скамейках. Сердце гудками никто не подходит. Обернись, там из глаз на тебя смотрит кто-то другой. Как душа-воробушек далеко не улетит за хлебушком, поскачет и все ниже земля под прыжками. Весенний вечер закончится зимой, но тело стает миррой. С самой свободной души.
Гумусовый горизонт
Бессонница у меня какая-то – с другой стороны: ночью засыпаю, но в 4–5 уже просыпаюсь.
«Еда говеная» – есть в этом какой-то всеобъемлющий смысл.
Пенсионерка-инвалид смотрит на социальные афиши на станции туристического замка. О чем она думает? О чем эта чужая жизнь? Только во имя Его же.
Тени людей в тату с утра.
Подъезжала к аэропорту, видела три самолета, свежевзлетевших, такие хорошенькие, их, как собачек, хочется погладить в воздухе.
Так красиво, что почти не больно.
Ресницы – подношение весеннему костру. Отрастут, как хвост у ящерицы.
Только орошенные цветами голые ветки сливы образуют рогатку, целят белыми камушками в такие же белые облака. Те, тучные, только посмеиваются на ветру, как волжские сухогрузы от детских камней.
Логика уязвима, безумие – никогда.
Провел целый день за починкой компьютера. К вопросу о зависимости от технологий – компьютеры-то людей никогда не чинят.
Интервью кукушки.
Сирень подтягивается на лучах солнца – почти дотянулась – за уши, расти большой!
Утром росу на траву, как блеск на губы.
Сколько описывали закат, а он все тот же.
Прости меня за то, что я есть. Дай мне стать тем, что я не есть. Ибо ты есть.
Смерть никогда вдруг. Всегда – процесс. Замедленные съемки последнего кадра.
В вечном желании пассажиров наших пролезть, толкаясь, пихаясь, в другой конец вагона или салона, где ровно так же набито, – не тяга ли к русской утопии, Беловодью?
Куст жасмина кланяется дождю, а тот порезался о новую листву: цветы пиона – будто огромные красные капли.
Они так хотели быть вместе, но вместе было против.
Все уходят от тебя к кому-то. Мертвые – к мертвым, живые – к живым.
Названия противоопухолевых препаратов звучат как имена созвездий (the fault in our stars, да).
Женщины приносят жизнь одним путем. А вот смерть могут приносить разными.
Кстати, если нельзя перечитывать книги, которые нравились раньше, то к музыке это не так относится.
Детские глаза связаны с карандашом (Бурлюк о Хлебникове).
Не подвиг совершить, а найти силы зубы почистить.
Женщины больше ревнуют к молчанию.
«Писать эссе, роман, рассказ, статью – значит обращаться к другим, рассчитывать на них; любая связанная мысль предполагает читателей. Но мысль расколотая их как будто не предполагает, она ограничивается тем, кому пришла в голову, и если адресуется к другим, то лишь косвенно. Она не нуждается в отклике, это мысль немая, как бы не выговоренная: усталость, сосредоточенная на себе самой» (Чоран, записные книжки). Писал о Чоране и – стал бессоннить сам. Нет, «по личным причинам». Ирония в духе Чорана?
Новые возможности ада.
Трясогузки, развлекаясь, скатываются-сбегают со ската металлической крыши. У Иоанна Лествичника было, что как тяжелые птицы не летают высоко, так и грех держит от неба. А эти – легче легкого. Кажется, что смеются даже.
Шум вертолета и шмеля – одно.
Сегодня на ливне черемуховые духи.
The unbearable of being.
Все дети в осознании смерти.
Облизывать Эйфель, петушок на палочке.
Вот думаю, что детей отличает непримиримость в чем-то, они могут переключиться на другое, забыть на какое-то время, но они не умеют смиряться в принципе с чем-то, что их не устраивает, они протестуют. Взрослые же только смерть не могут осознать, но смириться со всем могут.
В старой официальной бумажке о смерти. Род смерти: от болезни/самоубийство/в результате военных или террористических действий/род смерти не установлен. Да, действительно, она во всех языках разного рода, лингвисты спорят.
Если в горе с тобой никого нет, то почему в счастье должен быть?
Героиновая ломка сухих глаз.
Сердце-резиновая грудина-мешковина. Растягивается-пустеет, никнет, бьется никто.
На даче все заросло, как в Эдеме.
Мой мертвый дед взбирается на меня, как я когда-то ребенком ездил у него на шее. Матрешечка на цирковой сцене, все выше и ниже. И так ты тоже уходишь камнем в землю. Готов ли я жить за них? На миг забыв о своей смерти?
Дольше всего люди говорят о том, что они не хотят об этом говорить.
Да ладно, она взрослая девочка! Но совсем взрослых девочек не бывает.
Моя бабушка, маленькая от времени, ходит по большой пустой квартире, увеличенной смертью деда. С которым – 69 лет, страх и «Лева! Нина!», если пять минут не слышали друг друга. Этот мир пересолен болью.
Самолетные люди спят, как куклы со сломанными шеями.
Лямки бюстгальтера – постромки.
Все изменения вкуса чаще всего – деградация.
Ты никогда не переживешь свои последние ботинки.
Сада зимой плоды.
Батай (читаю «Сумму атеологии» – и даже в названии игра) это, конечно, имперсонатор Ницше. Со всеми – и +. Как Ницше своим сверхчеловеком пытался дразнить Бога.
Сумасшедшего пластика выдает раньше слов.
Секс грубое дело? Из самых тонких одно! А вот аскеза как раз проще и груботканее – религиозная ли, по убеждениям…
Тугое небо твоего живота. И еще там пчелы, звезды и тарахтящие тракторы, старые советские спутники.
«Одно из преимуществ посмертия: самим выбирать себе лица» (Питер Уоттс. «Ложная слепота»).
В очереди в банке видел мужичка средней степени потертости с портретом А. Аствацатурова заставкой телефона.
Нобель. До конца недели чувствовать себя в том же ФБ Марьей Иванной, проверяющей стопку сочинений целой параллели на тему «Боб Дилан и я».
Мой «меломанский стаж» начинался с Высоцкого на старом советском (но начинка – крутая от «немцев»!) магнитофоне родителей. Сейчас же несколько дней уже слушаю Джульетту Греко, любимую певицу мамы. Так замкнулся круг.
Еще при жизни написать на своей могиле «I am a fake!»
Сочувствие врагам – я-то ненавижу себя больше их.
Бадминтон осенних листьев. Какой красивый воздух!
В Риме смотреть Остию, Ватикан и как закат вырезает из бумаги теней собор Петра.
Беззащитность сна: и внешние напасть могут, и изнутри все тебя рвут.
Да и мертвые открывают дверь-сон, с тобой, в тебе, ты для них, в них, полой статуей, пустотой съеденного шоколадного зайца.
Она такая добрая, что обнимет даже кактус.
В Марокко очень жесткая водопроводная вода. Океан иссыхает. Только в грязноватой пене волн слышны еще тени древних песен. Стены осажденного города разрушены, но за ними ничего нет. Варвары разочарованы. Куда повернуть им теперь свое нашествие, сколько еще кочевать? Каждая святыня мечтает быть паломником. Они заваривают прошлогодние листья, напиток сереет от капли молока. Ловят глазами пылинки в ветре пустыни. Скрывают в бурнусах друг от друга свое разочарование. Даже дети не пройдут за ними этой дорогой, потому что они сами так и не поняли, что делает дорогу дорогой. Холод ветра хранит костер. Над беспокойными во сне мертвыми булькает пузырями песок. Сезоны сменяются в песках незаметно, как текст без запятой, как пергамент дюн.
«Кианея, родная, беспечальное вспомни слово, каким завершали мы столько писем, выразили столько прощаний… И снова я ставлю его в конец, единственное мое желанье: Будь здорова, прости».На ладони стали сильнее видны вены. Проступили изморозью, как тени зимних веток. Таким подводным палимпсестом под трамвайными линиями судьбы. Да, я знаю умные слова, за которые в незнакомой ночной компании бьют сильнее, чем за мат. Вены проступили в тот день, когда все было по-прежнему.
Когда же заснут все сны?
Все заемное – только боль твоя.
Вчера лето, завтра Новый год. Пробел.
Любовь умирает, как. Тяжко. С улучшениями. Бредом. Привычкой – и жить ему, и – как же, невозможно жить без него. С грязью даже без больниц. С чужими людьми. Долго-долго внезапно умирает любовь.
Перед суицидниками повесить знак «это не переход!»
Снеговики лепят людей, дети помогают.
Ребенок плачет, не понимая еще, что он будет счастлив только сейчас.
Ветки пишут на небе невидимыми чернилами. Все проявит ночь.
Мед снов вытекает из ночи. Призраки скользят по глазному яблоку в серебряных коньках.
Вдох выжигает кислород между прошлым и будущим. Дыша рот в рот со смертью, наконец-то принять.
Жизнь человека висит на очень маленьких крючочках. Таких, как раньше женские корсеты застегивали.
За каждым кустом, как мальчик со спичками, прячется Господь.
Снег обелит все грехи.
Утром на эскалаторе мужичок вослед отчаливающему поезду: «Стой! Подожди! Кому сказал?!» Главное – верить в себя, да.
Чем мрачнее явь, тем ярче сны.
Ночью из-за отделенных снегов плач ребенка, как волчий вой.
После нескольких ночей любви елку раздевают. Та стесняется. Выбегает на улицу. Прячется за сугробы или у помойки.
Почему некрасивые люди так любят фотографироваться?
Клитор – шарик жвачки, из которой лепили удовольствие.
А все зависит от очень маленьких вещей. Книга – от точки…
Гербарий снежинок.
Пыльца мертвых
Старик путает, забывает слова. Ребенок все время хватает новые. Будто один отдает, а другой берет. А они – ничьи.
Поймешь политику, только когда та станет историей.
Эта жизнь – как заветренный салат, оставшийся от праздника где-то там.
Волосы и ногти растут и у умершего? Что удивляться, ведь они – тоже мертвое!
«Children are less surprised by unusual things that they are by ordinary, conventional ones». Tuomas Kyro. Beggar and the Hare.
Роберт Антон Уилсон, РАУ – Берроуз для телезрителей.
Дети – кальки калек.
Главная философская проблема XXI века – самоубийство робота.
Хочу разрезать себе лицо. Разодрать его каким-нибудь крюком. Почему именно лицо, не знаю. В детстве резал бритвой себе руки. Но это просто так, часть детского безумия и безумной свободы. А сейчас – лицо. Предъявить? Убить остатки красоты? Подозреваю маску? Отголоски фильма «Без лица» где-то перегноем в подсознании? Говорю же, не знаю. Хотя – может быть, отвращение к тому, что смотрит себя. Суть я. Ведь не на плечо же смотришь в зеркало, не коленка же есть я. Значит, я – это лицо, а остальное тело почти не виновато.
Спарагмос.
Дети могут все.
Взрослые – это дети, у которых остались только выковырянные у кукол глаза.
Нет сил на пробелы.
Что за офисная порнография есть вместе, курить? Как у женщин манера в туалет вместе ходить?
Много близких к святости – дети, старики, собаки. Но смерть к ней ближе всего.
Ребенком ты хочешь стать взрослым. Взрослым – вернуться в детство. Человек утверждается только на разломе.
Дам тебе власть над миром. Невозможно. Она только у детей. А у них отнимает мир, забирает.
Обижаться на людей так же глупо, как и на вещи.
Симки обрезают, будто зубы рвут.
Приглашения на литературные вечера. Я не успеваю читать, что пишут писатели. А вы хотите, чтобы я слушал, как они мне читают!
Дуршлаг неба с налипшими мухами вертолетиков и макаронными следами самолетов.
Услышим ли мы мелодию Бога, если мы ее ноты?
«Jem Finer recently created a piece of music that runs for a thousand years» (David Byrne. How Music Works). Так творец не знает своего создания.
Ад обнажается с похмелья, распахивается перед тобой. Отбрасывает исподнее иллюзий. И даже у ужаса есть запах (он не горелый, ведь все протухло). Вся правда, только без прикрас.
Могил кресты, как ворон хвосты. Снег заметает заячьи следы.
Бог и то на цыпочках.
Читает скоропись убегающего снега.
Спрашивает ветром, отвечает деревом.
Она спускалась в подъезде и почти слышала, как из нее капает кровь, которая еще недавно была ее ребенком. Ступени были чуть тверже воздуха.
Около кладбища на повороте автобус притормозил, и он успел рассмотреть. Следы недавнего праздника, это ж была родительская суббота, точно. На одной скамейке даже спали. Полная старуха, худая женщина без возраста и мужик. Мужик заснул, перегнувшись через спинку скамейки, будто куда-то полз вверх, хватался. За stairway to heaven. Полная женщина спала, надежно обхватив его рукой.
Птицы в воздухе лестницу ткут.
Я проснулся от того, что за окном что-то скрипело-билось. Там, где была стоянка, стоял парусник, а прямо под окном моей многоэтажки билось море! Прямо в паре метров, как в Гданьске! Но трапа не было. Видимо, свалился в волны.
Мортидо? Я видел столько смертей, но не видел ни одного рождения. Поэтому – суицид о. Потому что – смерть нельзя принять, с ней – невозможно жить! (И как у Бланшо самоубийство есть крайняя возможность, утверждение жизни, максимальная витальность, распространяющаяся, понятно, и на смерть, то есть смерть как утверждение жизни, жизнь в пределе. Так жизнь есть утверждение смерти. Банальность смерти-зла.) Лествица суицидо.
По лестнице из дворца римского прокуратора в Иерусалиме восходил Иисус на суд Пилата. Поэтому подниматься по ней можно только на коленях. По любой ступени подниматься нужно на коленях. Потому что всякая лестница – или лествица, или в подпол ада. Или часовые стрелки (их удельный вес – тяжелее распятия на крестном пути).
Если переписать слова людей, они не станут своими. А если переписать слова Бога, не только твоими станут, но и животворящим Словом можно стать.
Ну что мне сделать, чтобы ты меня полюбил? Стань ею.
Рай для всех, а ад индивидуален? Родной ад больнее.
«Подобно тому, как в момент крещения человек погружается в купель с водой, прообразуя смерть ветхого человека, и восстает из купели, прообразуя воскресение нового человека в жизнь вечную, так и земной музыкальный звук должен умереть в безмолвии сердца для того, чтобы родиться в виде нового небесного звука. Смертью физического звука является тишина, молчание или безмолвие, а поэтому-то безмолвие и есть та купель, в которой, умирая, музыкальный звук рождается в виде певческого богослужебного звука». Владимир Мартынов. Культура, иконосфера и богослужебное пение Московской Руси.
Трясет, потряхивает, но хуже давит. Голову снаружи и изнутри. Даже сдавлено зрение. Вечная слепота депры? Психика? Опухоль? Белка мира таки добралась до орешка головы.
«Фактическое одиночество с другой стороны снимается не тем, что “рядом” со мной случился второй экземпляр человека или возможно десять таких».
Интереснее гораздо не что имел в виду Хайдеггер, а посмеивался ли в бородку Бибихин, переводя его.
Постоянно думать о смерти означает, что в тебе мало жизни, а вот о суициде – что ты уже немного мертв. Бесконечный суицид прервет только смрт как сансара.
«Тот, кто покинет этот город, тот, кто забудет про снег, про расположение улиц и их названия, забудет день, забудет ночь, про непрочерченные линии невидимых проводов, обман пломб на железных дорогах, фейсбучные сети, тротуары рек, и про оркестры входящих в порт барж, кто не захочет узнать ничего из спичек и отчуждений, и того, что принято называть монгольским сыром или корой расшитого иглами дерева, тот, кто способен рассмеяться легко и броситься с причала, как лингво пчел, плыть плотно среди льдин, опираясь на сахар, соль, плавники пучеглазых подводных рыб, тот, кто способен бороться с водой густой, преодолевать лицо пустыни, хохотать над миром слепых, трудиться праздно посреди земли, и стараться трудно в зелени луны и воздуха, тот, кто способен найти медь, олово и мышьяк для бронзы, полотенце и четыре круглых квадрата…» А. Бычков. Вот мы и встретились.
Ландыш – самый медленный цветок. Он распускается почти всю зиму под неусыпным контролем кроликов (поэтому у них красные глаза). Он для тех, кто ждал, ждал, а потом уже забыл, что ждет.
Москва сера, как лицо работяги с похмелюги. Серый снег, серая земля, единство. Окружная. Уходящие вдаль, в заборы сугробы. Машины тоже в налете, как язык. Покрыты пеплом вулканических газов. Перхотью с крыльев моли. Умирающей всегда в демисезон, тот узкий затянувшийся период, что похож на тонкую щелку в двери, из которой досадливо дует. Пыльцой с мертвых.
Книга, которую начнешь читать в этот сезон, всегда пропустит его вперед. А летом будет уже не то, как пальто не по погоде.
В которых спешат сейчас нараспашку люди с траченными долгими месяцами лицами. Сквозняки забегают в пустые склады погреться, люди – за шаурмой, пластиковыми стаканчиками чая или кофе. Кадят чайным пакетиком, дирижерят ложечкой. Греют руки, как над костром. Пытаются отделить запахи от дыма, дорогу – от направления. Адрес – от того, что сейчас больше всего кажется выходом.
Дым от тех же привокзальных шашлыков имеет так же мало с его источником, как прошлые месяцы – декабрь, январь, февраль, март – с зимой, ее началом или концом.
Мне нравится, что расширили так улицы в центре – хоть на велосипеде, хоть пешком, хоть их хипстерские самокаты. Мне нравятся эти поздние москвичи – офисные, девушка, пожилая пара, молодежь. Модная гастарбайтерша спрашивает в круглосуточном магазине минеральную воду без газа, только пять литров, другая бутыль ее не устроит, «пойду в другой магазин. Спасибо!» Мне нравится эта Москва, и нравится ее нравить. Потому что в другое время только ненавидишь, а как иначе?
Мальчики, тусующиеся на Тверской, между собой. «Хей, у меня скоро день рождения! Мне уже 18 будет!» А мне через год «пятый десяток пойдет».
Проходя мимо, думаешь – согласились бы они на обмен? Возможности моего возраста, деньги, секс, институт позади. Хотел ли бы обменяться я? Скорректировать – эти самые мои возможности.
Наверное, сделка бы все же не состоялась. Но все равно так сложно поверить, что все правильно.
Ребенок сообщает родителям, что она взрослая, а они маленькие. Смеется – «вы маленькие!» То есть она пойдет на работу, а они в садик? Да! Но они все равно пошли следующим утром на работу. Они же маленькие, они не послушались.
Быстрые победы. Несбывшиеся посты. Через мутное стекло.
Все больше дней похожи на забытую в парке детскую варежку. Ее подняли и повесили на дерево, но даже если найдут, то ребенок из нее скоро вырастет.
Апрельский дождь пополам со снегом и ветками скребется в окно ногтями, изъеденными грибком.
Если тут и должен быть какой-то смысл, то мне не выучить язык, на котором о нем говорят.
Кто-то ищет нянь, я – сиделку.
Весна машет потерянными детскими варежками. Снова хочется сбежать с уроков в парк.
Подделка рая хуже имитации ада.
Подступы к настоящему раю как узнать? Там будет табличка «по дорожкам не ходить!»
В России лучшие ремейки «Процесса»/«Замка» – «Приглашение на казнь» Набокова и «Очередь» Однобибла, – потому что «мы рождены, чтобы Кафку сделать былью»?).
В детстве ты мечтал стать дальнобойщиком, чтобы везде путешествовать. А стал тем, кто направляет потоки фур. Тот, у кого власть, всегда несвободен.
Голое платье лжи.
Земля – небо мертвых («Заххок» В. Медведева). Ад – наш рай. И все т. д.
«Я неизбежно являюсь атеистом той частью своей души, которая не приготовлена для Бога. Из людей, чья сверхъестественная часть души не пробуждена, правы атеисты, а верующие не правы». Была ли Симона Вейль аскетом или экзальтатом? Ее тетради писались для себя (из них уже в чистом виде в статьи), публикации (перед отъездом в Америку оставила другу с инструкциями) или среднее? Среднее – это то новое, то, как манифестируется человек в XX веке. Написал и опять ошибся…
Невысохшие чернила распускающихся листьев.
Чем ближе к современности, тем больше слов нужно учителям, чтобы донести что-то. Тома, передачи, лекции. Иисус – несколько прилюдных разговоров. Будда – несколько фраз ученикам (и то принц Гаутама был разговорчивее просветленного Будды). Зороастр – почти ничего. Изначальная мудрость, которая больше слов? Или нынешний шум, который не перекричать?
Танец мотылька и солнца ход – две подписи под удостоверением времени.
После детства я ни разу счастлив не был. Костры амбиций были. Успехи, сейчас уже не греющие, тоже. А счастья не было.
Умерли прадеды. Умер дед и бабушка. Родители. Но кто так решил, что за них всех должен остаться я один? Я могу достичь очень многого, но простоты их добра – никогда.
Изморось завязывается каплей росы, расцветает солнцем, окукливается пустотой дня, хоронится под пологом вечера. Кто не спрятался, я не виноват.
Всякая жизнь забудется, как сон. Жизнь известных – как кем-то пересказанный.
«Подлинное открытие заключается в том, что, когда захочешь, обретаешь способность перестать философствовать» (Витгенштейн. Философские исследования). И обрести (не «приобрести»!) ее сложнее.
Легче всего принять буддизм с его избавлением от страстей, утратой Я, растворением в нирване. Хотя бы потому, что сон – это единственное спасение уже сейчас.
Что мы увидим в самом конце, когда все снимут маски, смоют грим, отыграют роли? Пустоту в костюме Арлекина?
Трудно умирать только за одного себя.
А ведь вполне веселая штука, если бы не жизнь.
Не очень играла в куклы в детстве, но играет сейчас в ребенка.
Святителю Павлину Ноланскому в VI веке приснился ангел, издававший звуки с помощью колокольчиков. Проснувшись, епископ сравнил увиденные во сне колокольчики с одноименными цветами, которые и стали прообразом современных колоколов. Так просто. И так прекрасно все – от звука растений до сна павлина.
Федоровское воскрешение мертвых и Роза мира – самые гуманные и человечные учения, человечнее христианства, добрее любви.
Советско-японский винтажный sci-fi «Садовник».
Кажется, как и отчеты либералов о разговорах с народом в такси, комментарии к клипам Летова уже выделились в отдельный жанр. (Все сводится к политике, но к политике сводится – не все.)
Привыкай не к миру, а к тому, что он станет тебе абсолютно чужим.
Отрезать от себя куски других людей, из-under my skin.
斜陽 (перевод с воображаемого японского)
I thought of going to Kamakura
Just to see that empty beach of Enoshima
And our many years before laughter
Being washed away by the sun. You bet! Of course.
But hey, no! Kids emerge from the right
Two boys and a girl, playing and laughing and making noise almost equal to that of the ocean
As they pass by me
Trying not to drop their badminton, a big yellow ball and some other toys of the name I can’t even imagine
They run forward.
Smoking is strictly prohibited on the beach by the law of the Kamakura town council, please, use the designated area!
Вышел и состарился.
Поводок еще так действует. Убивать, зачеркивать, но не отпускать до конца.
С жизнью еще можно смириться, со смертью – никак.
То, что нас не убивает, делает сильней? И мертвей. Потому что жизнь – в слабости живет.
«Как напоминают нам вампиры, поцелуй воплощает в себе первичное желание пожрать другого, наполнить плотью другого пустоты, оставленные в теле скорбью и меланхолией – но также и сексуальным желанием». Драган Куюнджич. Кинотаф: кинематограф как вампир.
Каждый день стукаться головой о Дамоклов меч. Каждый день мое сизифство – нарастить чуть сдернутую кожу, а в кошмарах и мыслях бессонницы сдирать шрам, раскровыривать болячку, все дальше запутываясь в нитках швов.
Жизнь – одиночная камера с неопределенной датой казни.
С целями, но не целеустремленный.
Даже пятница – и то в кредит.
В утреннем парке старушке на лавочке женщина-проповедница читает Библию. На одиноких мысочках к Богу.
Му hate list:
1. Предательство
2. Лицемерие
3. Шрифт Calibri
Засыпая, скатываю одеяло рядом с собой и обнимаю его. Привычка больше тебя или меньше.
Бабушка лежит целый день, ибо с трудом может даже сесть. Я лежу, потому что смысла так мало. Мы всегда с ней были ближе всего в семье, которой уже нет.
«Искусство, с каким иероглиф срисовывает положение вещей, невероятно сложно, не проще вещества, к которому оно льнет, и по-человечески невозможно извлечь из иероглифа правила этого искусства; но что “дело обстоит именно так”, не надо долго догадываться, это в иероглифе кричит. Как именно “вот так”? Здесь сразу становится трудно или даже, как в непрочитываемых шведских наскальных иероглифических рисунках, невозможно объяснить способ перерисовывания, но неопределимая определенность этого “именно так” становится оттого лишь более манящей». Бибихин, «Витгенштейн: смена аспекта».
А минет она делала, будто зубами пиво открывала.
Каждую ночь под скальпелем бессонницы. Без хлороформа от дня.
Нет у меня никакого «внутреннего стрежня». Поэтому поручни над собой хочу. Повесить свое жидкое тело – или вызреет вино, или совсем стухнет. Медузой на прищепках, на прибрежном ветру.
Уже боюсь, когда обо мне думают другие. Они думают – для меня. Даже те, кто давно и близко знает меня, уверены, что знают, что мне нужно. Одна знакомая, например, уверена, что я должен преподавать в Японии или в Европе. Я преподавал последний раз в аспирантуре, у меня нет цели уехать. Но – каждый раз слышу и отказываюсь. Я не знаю, чего я хочу, но знаю, чего не хочу. Как между небом и землей в эпитафии одного романтика:
All that heaven has given us All that uplifts us to heaven Is too mighty for death Too pure for the earth*Карл Фридрих Шринкель – архитектор неудачливее Шпеера – мечтал и не построил все, построил – всего ничего.
**В пошлом и невозможном – в двух словах о всей жизни и смерти? – жанре эпитафии мне нравится только идея Уорхола со словом «Фикция» на могиле (и то не написали). И «Он лежит где-то здесь» Вернера Карла Гейзенберга – опять же между, ведь кто знает, где он.
Умытый дождем Берлин открывает окна, растит грибы, пьет свое пиво и слушает джаз на костях, прекрасный как никогда и всегда город вот.
«Сверхчеловек никогда не означал ничего иного, кроме следующего: следует освободить жизнь в самом человеке, ибо сам человек есть некий способ ее заточения». Делез, «Фуко».
Дитя мира отлежало щеку, та розовеет – полоска рассвета над забором.
Кто ночью обнимет мертвеца? Поправит одеяло, пот сотрет с лица.
Покровка – Москва 2014–2017


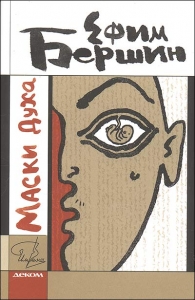


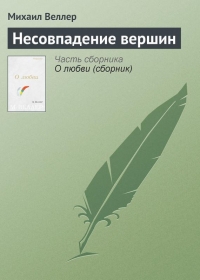
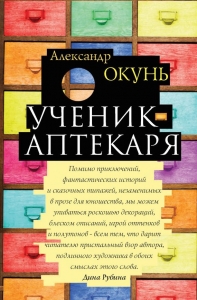


Комментарии к книге «Желтый Ангус», Александр Владимирович Чанцев
Всего 0 комментариев