Саша Щипин Идиоты
Вас всех готовили в космонавты
— Понимаете, Игорь, вас всех готовили в космонавты. Должны были появиться десятки, сотни миллионов космонавтов — все, кто мечтал об этом. Вы ведь не думаете, что дети сами решали, что они хотят быть космонавтами? Трехлетний ребенок не может проснуться утром и придумать, что он хочет летать в космос. Детям объяснили, о чем они должны мечтать. Это было частью подготовки. Какая-то грандиозная операция — колонизация дальнего космоса, геноцид инопланетян. Не помню, что именно. В любом случае — сплошная маниловщина. Потом, конечно, пришел кто-то умный, планы поменялись, вы оказались не нужны. Сначала вас хотели ликвидировать — Третья мировая, Дарт Рейган, забриски мертвого человека. Но снова появился кто-то умный и предложил оставить про запас. Переподготовкой, конечно, никто не стал заниматься — лишние расходы. Кто выживет, тот выживет. Это как в фильмах про киборгов, которых вырастили безумные ученые и оставили маяться, когда Пентагон перестал финансировать программу. Они бродят по огромным парковкам возле моллов и что-то ищут в небе. Вы пытаетесь понять, почему все так нелепо и нескладно, почему хочется футбол и лететь с балкона, ломая ветки тополей. Просто вас готовили совсем к другому. У вас отняли способность любить, оставив только инстинкт размножения, — когда долгие месяцы несколько десятков человек заперты вместе в корабле, лишние конфликты ни к чему. Вам нужны перегрузки, жесткое излучение, вода из мочи — вот почему вы так старательно травите себя. Земля — слишком уютная для вас планета. Вы тыкаетесь во все углы этого мира, обдирая в кровь лицо и коленки, и пытаетесь по запаху найти для себя место. Навигаторы стали программистами, пилоты гоняют в тонированных «девятках», специалисты по негуманоидному разуму пишут в живой журнал. И ничего уже нельзя сделать — вмешательство было на уровне ДНК. Ваши дети будут космонавтами. Ваши внуки будут космонавтами. Вы пишете книжки о космонавтах и для космонавтов, и все картины, все фильмы, вся музыка — это разные истории о Гагарине, который проспал 12 апреля. Глухой Циолковский и мертвый Гагарин — вот кто правит вашим миром. Странно, что вы еще живы. То есть вы молодцы, конечно, но вас очень жалко. Так брезгливо и трогательно.
Идиоты
Все приехали слишком рано, но автобус уже ждал. Огромный, бело-синий, с тонированными стеклами и надписью «Kaisers Weise Reise» на боку — в таких возят туристов. Стеклянная кабина водителя нависала над асфальтом. Антон поднялся в салон и пошел по проходу, ища свободное место и стараясь не встречаться глазами с теми, кто уже был внутри. Ему было стыдно, хотя он понимал, что все вокруг — такие же идиоты. Антон нашел свободную пару кресел, пролез к окну и стал смотреть на улицу.
Он достал письмо из почтового ящика три дня назад, вернувшись с работы. Обратного адреса не было, и Антон, разволновавшись, сразу надорвал конверт. Когда через пару минут чей-то палец быстро застучал по кнопкам домофона, Антон, стараясь не шуметь, взбежал по ступенькам и дочитывал письмо, стоя на площадке между вторым и третьим этажами. Потом он сунул мелко исписанные тетрадные листки в карман пальто, спустился на второй этаж и вызвал лифт.
Митя был дома. Судя по запаху и оглушительному шипению масла, он что-то жарил на кухне. Антон повесил пальто, снял ботинки и, пройдя в носках в спальню, начал собирать вещи. Когда через несколько минут он обернулся, в дверях стоял Митя. Митя был бледен, и у него немного тряслись губы, но он все-таки постарался спросить как можно спокойнее: «Что-то случилось?» Антон молча поднялся, вышел в прихожую, отодвинув ногой чемодан, и вернулся с письмом. По-прежнему ничего не говоря, он протянул его Мите — тот медленно вытер руки о джинсы — и достал из шкафа стопку футболок.
Письмо было от дедушки Виктора. Дедушка Виктор считался в семье Антона фигурой отчасти мифической. В 1960 году свежеиспеченный капитан авиации Виктор Сосновский, у которого через два месяца должен был родиться сын, ушел на службу и исчез. В части он не появлялся, записки не оставлял, вещей из дома не уносил. Потный подполковник учинил его беременной жене, бабушке Антона, допрос с пристрастием, обвиняя в пособничестве дезертиру и шпиону, но все почему-то обошлось. То ли времена уже были не те, то ли в части все-таки знали, куда исчез капитан Сосновский. Бабушка Лена через несколько лет во второй раз вышла замуж, однако в семье Антона дедушкой называли только Виктора: новый муж, равнодушно добрый доцент, навсегда остался Игорем Сергеевичем.
Теперь, спустя почти пятьдесят лет, дедушка Виктор подробно и даже как-то скучно рассказывал, что с ним случилось. Оказалось, полеты в космос начались задолго до того, как в деревне Клушино родился Гагарин: экспедиция на Марс, которую Толстой описывает в «Аэлите», действительно состоялась в 1922 году. И ракету действительно построил инженер Лось — только не Мстислав, а Юзеф. Саму Аэлиту «красный граф», конечно, выдумал, но, как и следовало ожидать, в космосе обнаружился сплошной феодализм с небольшими примесями капитализма и рабовладельческого строя. И молодое Советское государство начало новую войну за свободу.
Не было ни денег, ни сил, но каждый месяц десятки ракет с алыми звездами стартовали с космодромов, выжигая степную траву и превращая в пар истоптанный снег. Лучшие офицеры, лучшие ученые, лучшие партработники — по ночам за ними приезжали неразговорчивые люди в пенсне и отвозили в центры подготовки космонавтов. А спустя несколько недель добровольцы уже лавировали между бурых валунов и уворачивались от каменного крошева, штурмуя марсианский Элизиум, или под ураганным огнем зарывались в радиоактивный песок, десантируясь на пляжи Титана. Полеты в космос были одной из главных тайн Советского Союза: Сталин боялся, что его земные и космические враги, узнав друг о друге, объединятся. Правда, увлекшись штурмом звезд, СССР прозевал начало войны с Гитлером, но все обошлось.
В 1947 году вражеские корабли сумели прорваться к Земле, неуклюже сев в песках Нью-Мексико, и космическая программа начала выходить из подполья. Первым делом рассекретили Спутник, стилизованное изображение которого повергло в священный трепет весь мир. В действительности он был еще страшнее: огромный шар с четырьмя извивающимися щупальцами, жестокий и быстрый орбитальный кальмар, писком подманивавший чужие корабли. Потом пришла очередь людей.
Гагарин не был первым человеком, побывавшим в космосе. В некотором смысле он стал первым человеком, вернувшимся оттуда: за какой-то невероятный подвиг (про подвиг дедушка Виктор писал крайне туманно, но Антон сразу представил себе Люка Скайуокера и Звезду Смерти) его премировали бессрочным отпуском. После него на Землю стали возвращаться и другие. Кого-то награждали посмертно, как Комарова: когда после аварии его выбросило из гиперпрокола в гущу вражеской эскадры, он взорвал свой реактор, распылив корабли Южного Сената по всем четырем пространствам. А Добровольский, Волков и Пацаев на ранцевых двигателях тащили через полгалактики захваченного в плен герцога Зорра, истратив на него весь свой кислород.
К началу восьмидесятых в галактике еще оставалась пара звездных систем, где империалисты окопались слишком плотно, да из Туманности Андромеды время от времени совершали набеги штурмовики самозваного епископа И’ллода. Но в целом советская власть была установлена вдоль всего Млечного Пути. А когда в январе 1986 года советские зенитчики у всех на глазах сбили вражеский «Челленджер» с половиной Генштаба на борту, показалось, что окончательный разгром — дело ближайших месяцев. И тут все перевернулось с ног на голову.
Месть за сбитый «Челленджер» была быстрой и страшной: три месяца спустя террорист-смертник взорвал четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. Одновременно группы боевиков захватили все ядерные объекты Советского Союза, поставив партию перед выбором: мирный договор или глобальная катастрофа. Они не блефовали — терять империалистам было нечего. И руководство СССР сломалось. Через полгода после Чернобыля Горбачев и Рейган встретились на нейтральной Луне, которую в теленовостях выдавали за Исландию (генсек и президент старались ступать как можно тверже, но все равно невыносимо плавно жестикулировали), и договорились о прекращении огня. Вскоре был подписан мирный договор, который больше напоминал капитуляцию.
Космонавтам приказали возвращаться домой, и десятки тысяч кораблей полетели к Земле. Спускаемые аппараты приземлялись где-нибудь в казахской степи, и экипажи сутками шли до ближайшей деревни. Их никто не ждал — у них не было ни семей, ни домов, ни работы. Никто не знал об их подвигах, о великой войне, которая шла в галактике десятки лет. Космонавты возвращались в захваченную врагом страну. Некоторые пытались бунтовать. В 93-м был неудачный мятеж Александра Руцкого, героя сражения у Волопаса. Год спустя ас Джохар Дудаев, бывший командир Седьмой Галактической, возглавил армию космонавтов Черный Чернобыль, более известную как ЧЧ, и начал затяжную, но бессмысленную войну. Те, кто не захотел присоединиться к «путчистам» или «чеченцам», быстро спились, после чего страну наводнили тысячи бомжей.
Но несколько эскадрилий отказались сложить оружие и начали партизанскую войну. В одной из них служил дедушка Виктор, мобилизованный в том самом 1960-м. Недавно ему исполнилось семьдесят, и теперь он просил о помощи. Партизанам нужно было пополнение: они погибали, они болели, они старели. Такие же письма получили еще человек двадцать пять — как правило, родственники космонавтов. Им нужно было приехать через три дня к Павелецкому вокзалу и найти автобус с табличкой «П/л “Космос”». Дальше их отвезли бы на замаскированный космодром и посадили в ракету — у партизан еще оставались связи на Земле. Дедушка Виктор не уговаривал, не соблазнял подвигами и наградами: «Если сможешь — приезжай».
Когда Митя, дочитав письмо, вернулся в комнату, Антон уже собрал чемодан и теперь сидел на полу, уткнувшись лицом в колени.
— Ты что? — тихо спросил Митя. — Ты поверил?
Антон поднял голову. Митя присел и осторожно погладил его по волосам. Антон взял двумя руками его ладонь и, закрыв глаза, прижался к ней лбом. Несколько секунд они сидели молча.
— Пойдем пить чай, — сказал Митя.
Антон встал.
— Это какой-то идиотский розыгрыш, — сказал Митя, ставя чайник на подставку. — Чеченцы, спутник, созвездие Медузы… Теория заговора, причем очень топорно придуманная. Ты ведь умнее меня, ты все прекрасно понимаешь.
Антон отпил чаю, немного обжегся и поставил чашку на стол.
— Не знаю только, кому это понадобилось, — продолжал Митя. — И кто, например, знал про твоего дедушку? Ты многим вообще рассказывал?
— Тебе, — сказал Антон.
— Я помню. А еще кому?
Антон пожал плечами, подул на чай и сделал еще глоток.
— Ну, бред же полный! «Аэлита»… Хорошо, не Жюль Верн еще — «Из пушки на Луну». — Митя слез с высокого табурета, достал из ящика чайную ложку и начал ожесточенно размешивать сахар в чашке.
— А про Лося — правда, — неожиданно сказал Антон.
— Что? — Митя вздрогнул.
— Про инженера Лося — правда, — повторил Антон. — Он работал на Ждановской набережной, как в «Аэлите», и делал ракеты.
— Ты издеваешься? — бесцветным голосом спросил Митя.
— Да нет, — сказал Антон, вздохнув. — Это я так. Не волнуйся, сейчас разберу вещи.
Он вылез из-за стола, достал из шкафчика сахарницу и поставил ее перед Митей.
— Ты забыл сахар, — сказал он.
Антон действительно разобрал чемодан, и больше они на эту тему не разговаривали. Митя пытался пару раз осторожно выяснить, не планирует ли все-таки Антон стать космонавтом, но тот отмахивался от вопросов с такой досадой, что было видно — ему неловко и неприятно вспоминать о письме и своем поведении в тот вечер. Так прошли два дня. На третий день, доев ужин, Антон аккуратно положил приборы на тарелку, допил остатки красного вина на дне бокала и решительно поднялся, легко хлопнув ладонями по столешнице. Он надел пальто, взял ключи, проверил, на месте ли деньги и паспорт, и вышел из квартиры. Митя молча сидел за столом и смотрел в окно.
Автобус остановился на обочине шоссе далеко за городом. Двери открылись, и пассажиры начали медленно выходить. Метрах в пятидесяти от дороги они увидели костер, у которого грел руки человек. В темноте угадывались контуры чего-то большого и металлического.
Когда они подошли к костру, зажегся яркий свет и заиграла музыка. Антон, прикрывая ладонью глаза, огляделся и увидел прожектора, телекамеры и трибуну со зрителями, которые аплодировали и кричали. Человек у костра оказался ведущим, который, обращаясь то к одной, то к другой камере, тоже кричал что-то радостное про розыгрыш и реалити-шоу. Антон наконец увидел на трибуне Митю. Тот улыбался и извиняющимся жестом складывал руки у груди. Многие на трибуне вели себя точно так же: видимо, это были родственники и друзья других космонавтов.
В свою очередь, те, кто стоял у костра, тоже начали делать разнообразные жесты, заменяющие компьютерные смайлики и призванные обозначать эмоции, которых люди на самом деле не испытывают. Кто-то широко разводил руки в стороны, кто-то хватался за голову и, зажмурившись, размеренно мотал ею. Антон вместе со всеми изображал что-то похожее. Никто не был удивлен — они с самого начала знали, чем все закончится. Антон увидел эту картину, как только закончил читать письмо: неуклюжий толстый педераст стоит в свете прожекторов среди сбившихся в кучу таких же идиотов.
Все они улыбались.
Дом
Дом был старый, еще дореволюционной постройки, и Максим иногда задумывался, остался ли в слове «дореволюционный» какой-нибудь смысл, или оно давно превратилось в набор звуков, оборванную гамму, которая так и не добралась до нежного голубого «ми», сгорев в пожаре алого «до» и желтого «ре». Так, наверное, когда-то выцветало понятие «допотопный», по мере того как из памяти стирались крики людей, уже почти не отличимые от плача чаек, разъедающая глаза соленая водяная пыль, скользкие от крови пальцы с обломанными ногтями, впивающиеся в трещины отвесной скалы.
Кирпичное здание в четыре этажа было раньше доходным домом, принадлежавшим Анисье Рюминой, вдове владельца водопроводной и канализационной конторы, которого, видимо, настолько заворожил подземный ток воды, шептавшей ему внизу свои влажные секреты и обещания, что он отправился вслед за ней, снарядив на собственные средства экспедицию в северные моря, где и сгинул в поисках чего-то неуловимого, струящегося сквозь пальцы в темную прохладную вечность. По Москве, впрочем, ходили слухи, что он просто сбежал от деспотичной супруги, а некоторые и вовсе утверждали, будто никакой экспедиции не было и Анисья закопала труп мужа у себя в подвале. Как бы то ни было, стройку вдова затеяла уже самостоятельно, выкупив по соседству со своим домом участок, где раньше трещали и скрипели, не давая ей спать душными летними ночами, дровяные склады, готовые вспыхнуть не то что от искры — от резкого звука, нехорошего взгляда, тревожного сна.
Модерна, прораставшего тут и там пучками извилистых водорослей, Анисья не признавала, оттого здание получилось приземистым и угловатым, с небольшими окнами, обрамленными колючими кирпичными наличниками. Дом сразу появился на свет кряжистым стариком в валенках-опорках, с настороженным взглядом из-под кустистых бровей — потому, наверное, и пережил невредимым ждавшие город испытания, которые стоили многим его ровесникам если не жизни, то хрупкой большеглазой красоты. Единственной легкомысленной чертой здания был кирпичный карниз под самой крышей, в орнаменте которого угадывались то ли бутоны цветов, то ли, в соответствии с фамилией хозяйки, рюмки.
Сама Анисья осталась в деревянном, на каменном полуподвале, доме с мезонином, где, кроме нее, жили кухарка, которая, кажется, была ее дальней родственницей, да старик-татарин, всегда бормотавший себе под нос то ли молитвы, то ли проклятия и делавший всю мужскую работу. Во дворе, обнесенном желтым дощатым забором, они держали кур, гусей и норовистую, в хозяйку, козу.
Анисья умерла в снежном мае семнадцатого года, так что на Даниловское кладбище ее пришлось везти на санях, старик сгинул в девятнадцатом, не вернувшись с рынка, и лишь кухарка дожила почти до войны, работая техничкой в школе. Деревянный дом каким-то чудом простоял до конца семидесятых, пока, уже расселенный, не сгорел, как и предчувствовала Анисья: подожгли его соседские мальчишки, выросшие там, где некогда стояли опасные дровяные склады, и впитавшие их жажду разрушения, которая при жизни не нашла себе выхода. Максима тогда еще не было и в проекте, но он хорошо помнил заросшие бурьяном остатки фундамента и блеклый мусор на дне глубоких ям: кажется, кто-то искал в земле не то клад домовладелицы, не то скелет ее мужа.
В девяностых на пустыре появились гаражи-ракушки, но, когда воды потопа схлынули окончательно, исчезли и они. Максим в то время часто бывал у деда, в последние годы совсем переставшего выходить на улицу, и видел, как, бесстыдно распахнутые, они ждали, когда их повезут на свалку, и не было в них ни жемчуга, который уже не созреет в оставшемся на асфальте прелом соре, ни шума далекого океана.
Доходный дом, прозванный местными жителями «рюмочным», из-за чего многие до сих пор уверены, что в нем когда-то находилось питейное заведение, пережил и деревянную усадьбу Анисьи, и металлическую скорлупу гаражей. После революции часть его обитателей куда-то пропала, остальных, как водится, уплотнили, в результате чего в одной из комнат на втором этаже, где раньше была спальня главного редактора журнала «Женский вопрос», обосновались прадед и прабабка Максима, работавшие на Рязано-Уральской железной дороге. Со временем разросшаяся семья заняла всю квартиру: коммуналки вроде бы никто специально не расселял, но они постепенно исчезали, все, кроме одной, в первой квартире, пользовавшейся у соседей нехорошей славой и считавшейся рассадником всего дурного, от вольнодумства до мышей и тараканов.
Дом в какой-то момент хотели надстроить еще парой этажей, но передумали, и только на месте черной лестницы сделали ванные и туалеты: Анисья в свое время поскупилась на удобства. Кроме того, в конце тридцатых над входной дверью повесили похожий на оберег гипсовый знак «Крепим оборону СССР», изображенный на котором газовый баллон со шлангом напоминал бутыль самогона с обвившимся вокруг нее зеленым змием, и это, конечно, необычайно шло рюминскому дому. Перед войной, когда уже не боялись убаюкивающих волн потопа и еще не пугались опаляющего света рукотворных солнц, а ждали только мертвого западного ветра с запахом бунинских яблок, толстовского сена, мещанской герани, — перед войной такие эмблемы давали домам, все жильцы которых, в том числе дети старше двенадцати, получили значки «Готов к противовоздушной и противохимической обороне», и Максим иногда представлял себе, как, сдавая нормативы, они сидят по квартирам с заклеенными бумажной лентой окнами и дверьми, похожие в своих противогазах на унылых южных зверей.
Дед умер, когда дом уже готовились расселять, как будто не хотел заканчивать жизнь в новой и чужой квартире или, того хуже, по дороге, чтобы ехать мертвым по ставшему незнакомым городу, смотреть пустыми глазами в окно, валиться наружу, когда откроют дверцу, и попытки запихнуть тебя обратно будут выглядеть пародией на рождение, — в общем, это «как будто» здесь лишнее: дед не хотел так умирать, поэтому умер дома. Его смерть, похоже, что-то испортила в бюрократическом механизме, поскольку теперь нужно было выселять не двух человек, а одного только Максима, еще с института прописанного у деда: шестеренки, попробовав крутиться в обратную сторону, застопорились, намертво сцепившись сточенными зубцами, и все осталось как есть. Другие квартиры временно стали служебным жильем для бюджетников, так что дом в ожидании сноса, который в документах с медицинской деликатностью назывался «разбором с сохранением фасада», вдруг вспомнил бурную послереволюционную молодость и шумных от смущения рабочих, вносивших свои тощие узлы в комнаты зубных техников, владельцев фотографических ателье и делопроизводителей Общества вспомоществования сибирякам, учащимся в Москве.
После смерти деда Максим еще некоторое время продолжал жить на съемной квартире: хозяева все равно не вернули бы заплаченных за последний месяц денег, да и ему казалось неловким переезжать так быстро. Это не был суеверный страх, когда людям кажется, будто смерть узнала дорогу в их дом и, пометив его своим запахом, как метят территорию другие звери, вскоре вернется опять, — нет, ничего такого Максим не испытывал, чувствуя лишь, что спешка здесь будет неуместной и стыдной. В результате он заселялся почти одновременно с остальными и, таская наверх коробки, думал о том, что его, может быть, принимают за своего — за газовщика или, например, за нового почтальона, — и эта мысль была почему-то приятной.
Первое время Максим почти ничего не трогал в квартире, разве что разобрал и вынес к мусорным бакам кровать, на которой умер дед, и передвинул на ее место платяной шкаф. Вечерами он просто сидел на кухне, слушая голоса за стеной: казалось, еще немного, и он сможет различить слова, но соседи, даже повышая голос, почему-то никогда не переходили эту грань, словно дело было в том, что Максим все-таки не сумел их обмануть и, оставаясь чужим для дома, не имел права знать его тайны. Впрочем, Максим не был уверен, что они говорят по-русски. Иногда он читал книги из дедовой библиотеки, выбирая те, что казались скучными в детстве и глупыми в юности, — книги, где на рассвете распахивалось окно прокуренной кухни, в которой всю ночь спорили, перерисовывали чертежи, выхватывая друг у друга карандаш, и внутрь лилась утренняя прохлада со звоном первого трамвая и песней подражающего ему дрозда. На полках книжного шкафа при этом обнаруживалось множество сухих крошащихся резинок, скрепок в пигментных пятнах ржавчины, выцветших записок со списками и схемами — всего того, чем старые люди пытаются чинить окружающую жизнь, как если бы снашивалась и портилась именно она и как если бы они успели понять ее устройство, — и Максим, отправляя находки в мусор, постепенно начал разбирать квартиру.
В конце концов пришел черед антресолей — устроенного над коридором пенала, который тянулся от входной двери до самой кухни. В детстве Максиму казалось, что это и есть тот самый «долгий ящик», куда откладывают докучливые дела и мертвые вещи, потерявшие смысл своего существования, — они исчезали в длинном узком шкафу, чтобы не корить людей своей ненужностью. Впрочем, дед умел возвращать некоторые из них с того, подпотолочного, света: зимой — лыжи и елочные игрушки, летом — надувной матрас вместе со смешным, половинкой резинового мяча, насосом, а осенью, после поездки на море, — диапроектор для цветных леденцовых слайдов. Однажды, когда внуку было лет пять, дед подсадил его на антресоли, чтобы он достал оттуда портфель с инструментами, до которого сам не мог дотянуться, и Максим, кажется, целую вечность полз по этому коридору с пятном света в конце — дед открыл еще дверцы со стороны кухни, — стоически перенося боль от невидимых угловатых вещей, впивавшихся в коленки, пока не ткнул рукой во что-то омерзительно нежное, пока не замычал от ужаса и не попятился обратно, обрушивая залежи банок, коробок и старых мягких журналов, связанных в стопки шпагатом.
Стремянку дед держал в туалете, но, когда Максим вынес ее в коридор, оказалось, что в конструкции деревянной лестницы что-то сломалось или разучилось работать от старости, поэтому ее ноги теперь пьяно разъезжались по паркетному полу. Максим плохо понимал вещи и не чувствовал пределов их прочности — не доверяя испортившимся предметам, он почти никогда их не чинил. Было неясно, где здесь поблизости искать хозяйственный магазин, так что оставалось идти к соседям: один из них, азиатский человек, живший в квартире напротив, работал, кажется, дворником, а значит, у него вполне могла оказаться стремянка — если не своя, то хотя бы казенная.
У двери с черной, лопнувшей в нескольких местах обивкой Максим, прислушиваясь, замер — внутри работал телевизор, ухала стиральная машина, чего-то требовали детские голоса — и тронул кнопку звонка. Зуммер словно выключил что-то в квартире: прежде чем на глазок набежала тень и, крутясь, защелкал механизм замка, в наступившей тишине были хорошо слышны неторопливые шаги по коридору. Дверь открыл тот самый человек, которого Максим несколько раз видел возле дома одетым в спецовку и с тачкой, груженной то пластиковыми мешками, то пачками картона от коробок. В руках у него никогда не было ни метлы, ни совка из половинки насаженной на палку канистры, поэтому Максим не мог сказать наверняка, что это именно дворник, а не какой-то другой специалист, — да и кто вообще знает, кем значатся в штатных расписаниях все эти люди в серых, синих и зеленых костюмах, на которых иногда кричит во дворе начальственного вида крашеная блондинка? Может быть, их должности звучат бюрократически-возвышенно, а может, они вовсе не упоминаются ни в каких документах: просто люди в разноцветной одежде, живущие рядом, но словно за толстым стеклом, люди, чьи обряды или, например, научные эксперименты кажутся нам уборкой, ремонтом и прочей мелкой заботой о легкости нашего существования.
Сосед молча смотрел на Максима. В коридоре за его спиной чем-то позвякивала, аккуратно перебирая белье, тоже притихшая стиральная машина. Из квартиры остро пахло восточной едой.
— Извините, пожалуйста, у вас нет случайно стремянки? — спросил Максим и на всякий случай уточнил, подумав, что никто, в конце концов, не обязан знать слово «стремянка». — Лестницы.
Поскольку его собеседник по-прежнему не раскрывал рта, Максим показал рукой себе за спину и сообщил, стараясь говорить медленно и четче артикулировать:
— Я живу здесь, в восьмой квартире.
В течение еще нескольких секунд оба молчали, и Максим совсем уже было решил, что его сосед не понимает по-русски, когда тот неожиданно улыбнулся и, кажется, без акцента сказал, отступая назад:
— Я знаю. Сейчас принесем — проходите, пожалуйста.
Он быстро пошел по коридору, не давая гостю возможности отказаться от приглашения и настоять на том, чтобы ждать снаружи, поэтому Максим прикрыл за собой дверь и направился вслед за хозяином на кухню, где на него сразу с любопытством уставилось человек пять детей разных возрастов. Самого младшего держала на руках одна из двух сидевших тут же женщин: обе смотрели, скорее, на главу семьи в ожидании, что тот скажет по поводу неожиданного визита, но иногда доброжелательно поглядывали и на гостя. Хозяин ничего не стал объяснять и, показав Максиму на единственный свободный стул, с которого, видимо, и поднялся минуту назад, сказал:
— Садитесь с нами, пожалуйста.
Максим, поздоровавшись, сел, и женщина с младенцем на руках тут же отдала ребенка кому-то из детей постарше, чтобы поставить перед гостем тарелку и взять с плиты кастрюлю с дымящейся едой. Насколько в такой ситуации удобно отказываться от угощения, Максим не знал, но все-таки запротестовал, выставив вперед ладони:
— Нет-нет, спасибо, я только за стремянкой.
Женщина вопросительно посмотрела на главу семьи, но тот только пожал плечами и что-то сказал на своем языке мальчику лет двенадцати, который с явным сожалением вылез из-за стола и, видимо, пошел за лестницей. Тогда она, подумав, оставила кастрюлю и включила электрический чайник из потертого белого пластика. Мужчина одобрительно кивнул и, аккуратно пересадив кого-то из детей, опустился на покрытый синим одеялом диван. Поддерживать светскую беседу никто, похоже, не собирался, и Максим, чувствуя неловкость, сказал:
— Простите, забыл представиться: меня зовут Максим.
— Алеша, — ответил хозяин.
Женщины промолчали, и Максим, немного подождав, глупо спросил:
— Алеша — это как солдат?
В глазах хозяина дома на секунду мелькнуло недоумение, но тут же исчезло, и он обрадованно подтвердил:
— Да, как богатырь, как Алеша Попович, вы смотрели?
Акцент у него все-таки был, и слово «богатырь» он произнес с твердым «р» на конце, отчего русский витязь сразу превратился в восточного воина с непроницаемым плоским лицом и жестким взглядом узких темных глаз.
Максим растерянно кивнул, и дети, оживившись, начали перешептываться. Алеша поднялся, налил гостю чаю, и тот сразу принялся пить, почти не чувствуя вкуса обжигающей жидкости, но радуясь, что есть повод ни о чем не говорить. Однако хозяин на этот раз решил взять инициативу в свои руки и, дождавшись момента, когда Максим все-таки поставил обратно на стол горячую чашку, спросил:
— Давно здесь живете?
Максиму показалось, что сосед при этом горделиво приосанился: видимо, от него беседа тоже требовала усилий, и, задав вопрос, он что-то в себе преодолел. Дети и обе женщины, сперва восхищенно взглянувшие на Алешу, теперь дружно повернулись к гостю в ожидании ответа.
Максим, чтобы выиграть время, отхлебнул еще чаю. Уточнять было неудобно, но хотелось все-таки понять, что имеет в виду хозяин. Где — здесь? В Москве? В доме? Но он же наверняка видел, как сосед носит коробки в квартиру напротив? Или не видел? Или, может быть, он знает, что Максим давно здесь прописан, — непонятно, конечно, откуда, но почему бы ему и не знать? При этом Максиму еще постоянно лез в голову идиотский вопрос, женат ли Алеша на обеих этих женщинах, или одна из них — просто родственница, золовка или, как там правильно, свояченица? В конце концов, когда пауза затянулась совсем неприлично, он опустил чашку и обтекаемо ответил:
— У меня дед здесь жил.
Алеша удовлетворенно прикрыл веки, как будто ждал именно такого ответа и как будто все теперь понял — про Максима, про его квартиру и вообще про многое в этой пока еще чужой жизни, — и возможно, так оно действительно и было. Оба снова замолчали, и Максим, чтобы не встречаться глазами с хозяевами, стал смотреть на потолок над плитой, где расплылось черное, неправильной формы, пятно, похожее на след от небольшого пожара или даже взрыва, — кажется, его пытались замазать, но краска в этом месте плохо держалась и клякса все равно проступала из-под белых струпьев. Алеша проследил за его взглядом и спросил:
— Не знаете, кто здесь жил раньше?
Максим не был знаком ни с кем из прошлых жильцов дома. Однажды, когда деда забирала «скорая», кто-то из соседей помогал спускать вниз носилки, но Максим даже не помнил, из какой квартиры был тот бритый налысо человек в очках и тренировочном костюме, который на поворотах лестницы приговаривал: «А мы вот так, а мы вот сюда», — как будто они играли в шахматы. Рассказывать было нечего, однако мысль о том, что сейчас он скажет «нет» и участники этого странного чаепития опять замолчат, показалась Максиму настолько невыносимой, что он посмотрел в сторону коридора, где исчез отправившийся за стремянкой мальчик, и начал говорить:
— Их было четверо. В тот год, когда мы познакомились, старшим, близнецам Яну и Инне, уже исполнилось четырнадцать, Аглая еще не ходила в детский сад, а с Семеном мы оказались ровесниками: нам было тогда по одиннадцать лет, и даже дни рождения оба отмечали в апреле.
Шаг за шагом Максим придумывал эту семью, уже не стараясь подбирать простые слова и вообще мало заботясь о том, насколько хорошо его понимают. И хотя взрослые в его истории так и не обрели плоть, призраками из марли и морали колыхаясь где-то на заднем плане, — он, кажется, даже не дал им имен, — дети были живыми и настоящими: казалось, достаточно закрыть глаза, чтобы увидеть их лица и почувствовать теплую щекотку рассказанных на ухо секретов. Ян был книгочей и фантазер. Все идеи грандиозных экспериментов и маршруты великих путешествий обычно рождались в его круглой светлой голове, всегда немного склоненной на сторону, как если бы она была слишком тяжела для тонкой мальчишеской шеи или как если бы Ян постоянно прислушивался к чему-то внутри себя, мечтательно полуприкрыв большие серые глаза.
Пожалуй, только глазами и была на него похожа сестра: невысокая, с темным аккуратным каре и вообще вся какая-то очень ладная, Инна выглядела пай-девочкой и примернейшей из учениц, однако когда вы видели ее почтительно беседующей со взрослыми, — руки прижимают к груди стопку книг и тетрадей, тихий голос вроде бы даже дрожит от волнения, — то она, скорее всего, либо с помощью блестящих силлогизмов и абсолютно иррациональных аргументов убеждала разрешить ей сделать что-то немыслимое или вообще незаконное, либо просто заговаривала зубы, отвлекая внимание от проделок братьев. Восхищаясь Яном, она все-таки относилась к нему слегка покровительственно: Инна считала брата не приспособленным к жизни и выполняла функцию посредника в его контактах с окружающим миром, защищая его, да и всю остальную семью, от всевозможных неприятностей и готовя почву для новых свершений, грозивших неприятностями еще большими.
Семен, очень похожий на Яна, только крепче сбитый и гораздо более серьезный на вид, отвечал за материальную часть: как выяснилось еще, кажется, в детсадовские времена, он, воплощая фантазии старшего брата, мог сконструировать что угодно из чего угодно, будь то аппарат для перемещения в глубинных слоях почвы и поиска подземных кладов или устройство для подавления воли учителей за счет объединения и фокусировки мозговых волн всего класса. Правда, аппарат однажды нашел и перекусил какой-то секретный кабель, был изъят и теперь известен узкому кругу военных специалистов как «ЩГКЗ-29», а психократическое устройство пришлось отправить на доработку из-за обнаружения непредвиденного эффекта — некоторые участники сети смогли читать мысли друг друга, — однако у Яна хватало других идей, и Семен быстро переключался на новые изобретения, вспоминая о старых, только когда из них нужно было вывинтить какую-нибудь деталь.
Аглая, единственная из детей, чьи глаза были почему-то не серого, а зеленого цвета, еще не нашла себе места в этом разделении труда, но она с удовольствием присутствовала на семейных советах, куда порой приглашали и Максима, и сидела у кого-нибудь на коленях — все обожали ее тискать и таскать, — хлопая в нужных местах пухлыми, в ямочках и складках, руками или издавая другие одобрительные звуки.
Пятно над плитой было результатом или, вернее сказать, побочным эффектом очередного великого плана, разработанного Яном: нужно было спасти от затопления станцию «Мир», пустой и мертвый летающий дом, который заблудился в облаках космической пыли, не найдя дороги в волшебную страну, и направить к ней ракету с роботом, который замкнул бы на себя управление всей системой, экранируя любые попытки ЦУПа восстановить связь. Конечно, Ян предпочел бы лететь сам, но его проекты всегда были реалистичными и опирались на строго научные выкладки, а любому понятно, что в одиночку даже Семен не смог бы подготовить все необходимое для запуска человека в открытый космос. Другое дело — небольшой робот с узкой специализацией: примерно такого он уже делал, когда нужно было подключиться к городской энергосистеме, чтобы, контролируя городское освещение, подавать сигналы тем, кто летел в ядре кометы Хейла-Боппа или в следовавшем за ней космическом корабле. Тогда никто не откликнулся, комета прошла мимо, не обратив внимания, — наверное, они слишком увлеклись встречей новых пассажиров, тридцати девяти ангелов с ранчо Санта-Фе, которые съедали до конца яблочное пюре и держали руки над одеялом, а потому заслужили, чтобы их взяли в это путешествие, — но робот остался жить в картонном ящике под кроватью, и теперь оставалось только внести небольшие изменения в конструкцию и программное обеспечение, чтобы он мог работать в условиях космоса.
Злые языки потом утверждали, будто Семен варил на кухне ракетное топливо, едва не отправив в спасательную экспедицию весь дом вместе с его обитателями, так что на космической станции стало бы тесно и шумно, а по коридорам поплыли пузыри борща и разноцветные фантики, белые с исподу, словно листья малины. Абсурдность этой версии очевидна и даже не нуждается в комментариях: в кастрюле на плите оказалось конечно же не горючее, а термозащитная краска, которой предполагалось покрыть модуль с роботом внутри, и тут, надо признать, Семен действительно дал маху, защита перешла в нападение, и столб пламени взлетел под самый потолок, — три метра двадцать, не шутка, — но никто же не пострадал, все живы и здоровы, даже соседи сверху, а пятно мы сейчас закрасим, хорошо-хорошо, только не надо кричать, он все понял, он больше не будет трогать никакую краску, мы с Яном проследим.
На планах по спасению «Мира» пришлось поставить крест, и брошенная всеми космическая станция потянулась к людям, на Землю, но уже на подлете что-то лопнуло внутри, стало горячо, а потом сразу пусто, и обломки, зашипев, упали в Тихий океан. Робот вернулся в свою коробку под кроватью, а у Яна появился новый проект: прежде чем покорять космос и заводить знакомства с другими цивилизациями, подготовить идеального представителя нашей планеты, вооруженного всеми накопленными знаниями и обладающего всеми лучшими человеческими качествами — да, он уже посмотрел «Пятый элемент», и да, Аглая и без того казалась самым совершенным существом во Вселенной, особенно когда молча и внимательно смотрела на тебя, ожидая очередного чуда, одного из тех, что составляли ее день, длинный-длинный, размером с маленькую уютную вечность.
Окончания истории Максим не придумал — да и что там было объяснять? выросли и разъехались, — однако пора было прощаться и уходить, тем более что мальчик со стремянкой уже несколько минут стоял на пороге кухни, внимательно, как и все остальные, ловя каждое его слово. Хозяин квартиры проводил гостя до дверей, и уже почти на пороге Максим, обернувшись, все-таки спросил:
— Простите, вас действительно так и зовут — Алеша?
— Я Алимшо, — ответил тот. — Приходите еще, пожалуйста.
В следующее воскресенье, когда Максим уже разобрал антресоли и вернул стремянку, отдав ее кому-то из детей, — Алимшо, к счастью, не было дома, а от неуверенного приглашения мальчика удалось легко отказаться, — во дворе его окликнули по имени. Остановившись, Максим обнаружил на скамейке под деревом Хакима. Тот, кажется, был кем-то вроде старейшины местной среднеазиатской общины, поэтому его часто можно было увидеть здесь в окружении почтительно внимавшей молодежи: Хаким, всегда в оранжевом жилете и курортной соломенной шляпе, то ли давал указания, то ли разрешал бытовые споры, — и даже Максим откуда-то знал имя этого пожилого властного человека с восточным непроницаемым лицом, хотя раньше они ни разу не разговаривали, ограничиваясь уважительными приветствиями.
— Максим, здравствуйте, — повторил Хаким. — Есть у вас минутка времени.
Вопросительная интонация была почти незаметна — то ли из-за акцента, то ли по привычке командовать. Максим подошел к скамейке, которая начинала свою жизнь, наверное, как банкетка в поликлинике или каком-то другом казенном доме, и поздоровался. На коленях у Хакима лежало нечто металлическое, в ребрах и дырках, — кажется, головка цилиндров, — а по левую руку стояло пластиковое ведерко из-под майонеза, наполовину заполненное уже грязноватой водой, куда он время от времени макал тряпку.
— Посидите, пожалуйста, со мной, — велел Хаким, кивнув на место справа от себя.
Максим подчинился и молча опустился на скамейку.
— Как ваши дела, Максим? — спросил Хаким и, приподняв деталь, дунул в одно из отверстий. — Не нужно ничем помочь?
Максим заверил, что его дела идут хорошо и никакой помощи пока не требуется.
— А вы как поживаете? — поинтересовался он в свою очередь, догадываясь, что, прежде чем разговаривать о чем-то серьезном, нужно, вероятно, обменяться ритуальными репликами. — Все в порядке?
— Все в порядке редко бывает, — ответил Хаким. — Никогда, наверное, не бывает — такая жизнь. Но зачем жаловаться? Это не только сейчас, это всегда так было. Когда кругом порядок, мужчины остаются мальчиками, а женщины становятся мужчинами. Может быть, это и правильно, что нет порядка, как вы думаете?
Кажется, он продолжал какой-то давний спор или ему просто хотелось поделиться этой мыслью. Не дожидаясь, когда собеседник кивнет в знак согласия, Хаким намочил тряпку и снова занялся головкой цилиндров, на которой теперь хорошо было видно клеймо Ирбитского мотоциклетного завода. Оба молчали, и Максим начал было злиться, — на самоуверенного старика и на себя, за свою мягкотелость, — но тут же успокоился, подумав, что он, в конце концов, никуда не торопится, и почему бы действительно не посидеть во дворе, ни о чем не думая и глядя на отбрасываемую яблоней тень, которая то, заволновавшись от ветра, царапала угол дома, то затихала и снова ложилась на землю.
— Алимшо говорит, вы всех в этом доме знали, — наконец сказал Хаким, отложив железку в сторону и тщательно вытирая руки мокрой тряпкой.
Максим снова кивнул, но, скосив глаза и обнаружив, что старик смотрит куда-то в пространство перед собой, откашлялся и подтвердил:
— Знал. Может быть, не всех, но многих.
— Кто в моей квартире жил, знали?
— А это какая квартира?
Хаким ответил не сразу, то ли вспоминая номер, то ли удивляясь тому, что кто-то может его не знать:
— Десять.
Максим попробовал подозвать кравшуюся мимо рыжую кошку, но та только дернула ухом и пошла дальше, мягко ступая по зернистому асфальту и на всякий случай обходя канализационный люк. Тогда он вздохнул, поудобнее уселся на скамейке, пожалев, что никто не догадался приделать к ней спинку, и придумал дядю Колю.
Дядя Коля жил одиноко и любил детей — достаточный повод в наше время, чтобы штурмовать его квартиру с факелами и дрекольем, но тогда это казалось естественным и даже удобным: просто пожилой блокадник, который в войну наверняка потерял родных и которого всегда можно попросить присмотреть за ребенком, пока ты бегаешь по магазинам, сидишь у Региночки, и вообще мало ли куда может пойти еще молодая и вполне привлекательная женщина — особенно вот так, посмотри, и можно еще здесь немножко, — если есть на кого оставить Олю или, допустим, Павлика? Он уже был на пенсии и целыми днями мог возиться с древним двухместным Peugeot Bébé, который хранился в некогда единственном на весь двор гараже, положенном дяде Коле за военные беды. Раз в год, обычно где-то в середине августа, он выгонял оттуда свой почти игрушечный автомобиль с правым рулем и по очереди катал детей вокруг квартала, позволяя терзать резиновую грушу клаксона и не ругаясь из-за испачканной обивки, хотя машина была уникальная, музейной ценности. Семену, к которому дядя Коля относился с необычайным уважением, часто обращаясь за советом и помощью, разрешалось даже порулить, но только, конечно, внутри двора, не выезжая на улицу.
Сосед не любил рассказывать ни про себя, ни про историю этого «пежо», обычно отделываясь шутками или переводя разговор на другую тему, поэтому о его прошлом приходилось узнавать от деда: они с дядей Колей были приятелями и — как, с осуждением качая головой, негромко сетовали родители Максима — собутыльниками, хотя оба на самом деле пили мало, и всё по каким-то неглавным праздникам, вроде снятия блокады.
Николай Леонидович родился в Ленинграде 6 декабря 1931 года, в день, который был бы воскресным, если бы советская власть не отменила воскресенье во всех его проявлениях и в новом календаре эта дата не стала последним днем первой шестидневки. Он был единственным сыном Леонида Седнева — поваренка, почему-то отпущенного чекистами из Ипатьевского дома перед самым расстрелом царской семьи. Ленька, с которым цесаревич играл в «воздушный бой» («Фигура, ставшая на клетку с облаком, считается недоступной для нападения неприятеля») и взятие Константинополя («Ваше Императорское Высочество, разрешите доложить: Царьград наш!»), не стал возвращаться к себе под Углич, в родное Сверчково, а сразу поехал в Петроград — дед запомнил, как дядя Коля с пьяной многозначительностью повторял: «Вместо Углича — в Петроград». Он устроился в авторемонтные мастерские на Выборгской стороне и через несколько лет женился, причем родившегося сына почему-то записал на фамилию Шурочки. К плите Леонид старался не подходить даже близко, объясняя, что на царской кухне в основном чистил картошку да следил за печами. Действительно, если он и умел когда-то готовить, то с годами, похоже, совсем разучился: на памяти Николая отец лишь однажды попытался сварить ему кашу, но есть получившуюся клейкую массу было решительно невозможно. Зато Седнев, окончивший, кажется, только фабзавуч, сам освоил иностранный язык — дядя Коля не мог сказать, какой именно, но в детстве видел у него на столе документацию с непонятными буквами — и, конечно, стал отлично разбираться в машинах. Когда здание на углу Невского и набережной Фонтанки, которое построила Елизавета Петровна, свергнувшая, чтобы взойти на престол, младенца-императора, снова превратилось во дворец, только теперь уже дворец пионеров, Леонид начал вести там кружок автодела. Главным и практически единственным учебным пособием была маленькая машина с откидным верхом, когда-то подаренная цесаревичу отцом. Седнев, сразу узнавший автомобиль, на котором наследник катал своего приятеля по липовым аллеям Александровского парка, относился к «малышке пежо» с нескрываемой нежностью и испытывал почти физическую боль, когда очередной пионер задевал изжеванным от частых аварий крылом единственное дерево на тренировочной площадке.
После того как Шура, мать Николая, умерла в начале блокады, отец, которого не брали на фронт из-за каких-то диковинных болезней, добился разрешения эвакуироваться из города на учебном «пежо», причем, в зависимости от организации, где ставил очередную визу, он упирал то на историческую ценность машины, то на ее значение для тылового хозяйства в условиях военного времени. С собой взяли два чемодана — один у Коли в ногах, другой на коленях, — больше в двухместную «малышку» не помещалось, да и, по правде сказать, не накопили они много вещей. Разве что книги, но их Седнев отнес соседям, хмуро пообещав: «Пригодятся».
Они были уже на середине Ладоги, когда впереди разорвался первый снаряд и отец бросил машину влево, сшибая вешки, а потом начал крутить рулем, словно раллист на автогонках, объезжая трещины и полыньи, которые неожиданно возникали в слабом свете теперь уже включенных фар. Останавливаться было нельзя: артиллерия, скорее всего, била вслепую, однако на всякий случай всегда лучше быть движущейся мишенью. К тому же казалось, стоит только затормозить, как лед под ними не выдержит, глухо крякнет и, накренившись, стряхнет с себя автомобильчик в черную воду, на последнюю станцию Дно.
В конце концов обстрел прекратился, и тогда стало понятно, что они не имеют ни малейшего представления, куда теперь двигаться: остатки колонны — если, конечно, от нее что-нибудь осталось — продолжали идти с выключенными фарами, а загоревшиеся машины наверняка ушли под разбитый лед. Можно было бы сориентироваться по Полярной звезде и узнать по крайней мере, в какой стороне восток, однако небо давно заволокло облаками и выбирать направление пришлось наугад. Ехали медленно и с открытыми дверцами — если им повезло и они каким-то чудом двигались в сторону Дороги, где лед был весь в оспинах и проплешинах от снарядов, следовало быть вдвойне осторожными, — поэтому Седнев успел затормозить, когда из темноты перед машиной выскочил человек.
Их осталось пятеро — четверо ребятишек и водитель, которого Леонид сперва принял за еще одного школьника. Ваське Смеховцу уже исполнилось семнадцать, но выглядел он года на два младше, особенно сейчас, когда от холода дрожал и приплясывал в покрывшемся чешуйками льда ватнике: Васька, лежа на краю проруби, все пытался нащупать кого-нибудь в стылой черноте, куда нырнула его полуторка, пока дети не оттащили мальчишку-шофера подальше.
Седнев вытащил из салона на лед оба чемодана и, покопавшись в них, протянул водителю пару свитеров и кожаную куртку. Затем, тяжело поднявшись, достал из кармана пачку документов, в том числе метрику Николая и бумаги, разрешавшие эвакуацию машины, и, не разбирая, сунул их сыну за пазуху. Трое детей поместились на пассажирском сиденье, а между ног у четвертого, на самом краешке водительского кресла, сидел Колька, вцепившись в руль и стараясь изо всех сил не плакать. Он почему-то никак не мог повернуть голову, чтобы взглянуть на отца, и до конца жизни Николай Леонидович так и не простил себе этого. Седнев неумело поцеловал сына — куда-то в ухо и в висок, — и когда он сказал «давай», Колька нажал на газ. Он все-таки посмотрел в зеркало и успел увидеть в нем человека с поднятой рукой, но было уже непонятно, кто это был, отец или шофер Васька. В хорошие дни удавалось себя убедить, что отец.
К счастью, Смеховец не потерял головы, когда начался обстрел, и хорошо помнил, в какой стороне осталась Дорога: машина вернулась на трассу где-то в районе Большого Зеленца, и Колька затормозил у первой же регулировщицы. До этого момента он еще держался, но теперь казалось, что стоит только открыть рот, стоит только произнести слово «папа», и слезы уже будет не остановить, поэтому несколько долгих секунд Колька молча стоял и смотрел под ноги, прощаясь внутри себя с чем-то очень важным, но лишенным теперь всякого смысла. Когда он наконец заговорил, его рапорт был сухим и четким, отчего Томочке Гридневой, стоявшей на посту всего второй день, стало немного не по себе. Оба понимали: искать кого-нибудь там, на льду, уже бесполезно, но регулировщица пообещала доложить обо всем командиру, а Николай сделал вид, будто верит, что отца и Ваську еще можно спасти.
Он так и не заплакал: ни весь остаток пути до Кобоны, ни бессонной ночью, когда лежал в Никольской церкви, уставившись в стену, на которой проступала чья-то плохо замазанная тень, ни потом, когда ехал дальше на восток, показывая документы и убеждая пропустить, заправить, погрузить, разрешить, — и какая-то нехорошая сила была в его взгляде и лишенных интонации словах, так что ему действительно шли навстречу, не столько чтобы помочь, сколько для того, чтобы никогда его больше не встречать, чтобы как можно скорее забыть эти глаза, этот голос, и в результате оказалось, что десятилетний мальчишка в январе сорок второго года смог доехать на своем игрушечном Bébé до самой Вологды.
В Вологде жила Надежда Яковлевна, сестра его мамы, и Николаю еще хватило сил найти ее в городе, полном раненых и эвакуированных, загнать машину в пустой дровяной сарай и, тщательно вымыв руки, сесть на кухне перед тарелкой дымящегося супа. Только тогда он закричал. Это не было ни плачем, ни рыданием, а именно криком, каким кричат от боли люди, отвергнувшие пустые и слабые слова, — и тетя Надя стояла над ним, обхватив руками, но не пыталась утешить и вообще не говорила ни слова, а просто ждала, когда Коля замолчит, и в конце концов он действительно замолчал, сорвав голос.
Максим тоже замолчал, и некоторое время они опять сидели, ни о чем не разговаривая и думая каждый о чем-то своем, — скорее всего, впрочем, об одном и том же, потому что Хаким, прочистив горло, спросил:
— Отец не пришел?
— Нет. После войны дядя Коля искал его и даже, на всякий случай, Ваську, но не нашел. Да он бы и сам дал знать Надежде Яковлевне, если б уцелел.
— А дядя Коля еще живой?
— Умер. Давно, раньше деда. Машину еще при жизни отдал в музей. Времена были неспокойные — он даже иногда ночевал в своем гараже, а что толку? Дадут по башке и заберут все, что надо. А там все-таки охрана, да и реставраторы. Дядя Коля потом часто туда ездил, иногда кого-нибудь из нас брал. В музее его все знали, поэтому он забирался в машину и просто сидел. Наверное, что-то вспоминал, не знаю. Один раз, помню, даже заснул, и я долго бродил по музею, представляя себе, как было бы здорово, если бы в каждом автомобиле сидел его прежний хозяин, спал и видел сон.
Хаким еще немного помолчал, потом тяжело встал, двумя руками оттолкнувшись от скамейки, и вылил под дерево грязную воду. Бросив в пустое ведерко тряпку, он взял головку цилиндров и медленно пошел к дому, но через несколько шагов остановился и, не оборачиваясь, сказал:
— Спасибо вам, Максим.
Следующими оказались женщины из поселка со странным названием Суслонгер, которые работали дворниками в каком-то парке и впятером занимали квартиру номер тринадцать. Они затащили Максима к себе домой, напоили чаем и выслушали, охая в нужных местах и заставляя его терпеливо ждать, пока они обсудят особенно взволновавшие их подробности, историю о живших там трех сестрах. Точнее говоря, сестер было только две, Нина и Роза, а третья, Наталия, не приходилась им даже родственницей, а просто много лет назад как-то прибилась к этой семье да так и осталась ждать времени, когда все наконец узнают, для чего эти страдания, и когда не станет никаких тайн. Они, как и дядя Коля, охотно сидели с соседскими ребятишками, занимались с ними музыкой и математикой или просто приглядывали за детьми во дворе после того, как мир снова сделался угловатым и появилась такая необходимость. То есть занимались в основном Нина с Розой, а Наталия больше приглядывала: она была почти неграмотной и с грехом пополам разбирала печатные буквы, а прочесть написанное от руки даже не пыталась. Учиться она категорически не хотела, поэтому письма, которые Наталия получала с Дальнего Востока от каких-то не менее дальних родственников, приходилось зачитывать ей вслух. Впрочем, ребятам это даже нравилось, и лишь через несколько лет, когда Наталия похоронила сначала Нину, а затем Розу, умерших с разницей в тринадцать дней, как если бы скончался один человек, только по разному стилю, и вскоре после этого перестали приходить письма, кто-то из детей наконец обратил внимание на почерк, и оказалось, что их по очереди писали сестры. Переписка сразу возобновилась, только жизнь Натальиных родственников сразу стала удивительно насыщенной, напоминая теперь то приключенческий роман, то шпионский детектив.
Потом пришел черед супругов-полицейских, которым досталась история про семью ветеранов Афганской войны. Правда, официально ветераном считался только муж — Нелька прилетела в Джелалабад библиотекаршей, и, хотя вернулась в Союз женой капитана Советской армии и кавалера трех орденов Красной Звезды, никаких льгот ей положено не было. Да и правильно: ехала-то она не за льготами, не за чеками и даже не за мужем, а просто захотелось тогда Нельке чего-нибудь большого и светлого, то ли романтики, то ли самостоятельности. И того, и другого оказалось в избытке — хоть домой посылками отправляй. А с мужем все вышло как-то само собой, во время бессмысленной и самоубийственной атаки «духов», которые ворвались в город и больше суток удерживали несколько кварталов, в том числе и дворец. В королевских садах тогда застряли двое, библиотекарша Нелька и старший лейтенант Костя Кравцов: весь день, всю ночь и еще часть следующего утра они прятались от моджахедов в центре лабиринта из розовых кустов, откуда были видны золотые апельсины на недоступных деревьях да белесое небо, в котором стрекотали насекомые и вертолеты — одного, кажется, размера. Пить хотелось страшно, от жажды, голода и солнца болела голова, но идти было некуда, поэтому Нелька и Костя лежали на траве, сдували друг с друга щекотных бабочек, шепотом разговаривали обо всем на свете, и нельзя было придумать ласки нежнее, чем это прикосновение растрескавшихся губ к алому от жары и смущения уху. Через месяц они расписались в кабульском посольстве, а после, уже в Москве, начали заново выращивать тот свой потерянный рай, поэтому у рюминского дома был самый красивый палисадник в округе: в апреле там начинали цвести маргаритки, а хризантемы, уже растрепанные, помятые снегом, могли стоять чуть ли не до Нового года. Апельсины, конечно, пришлось заменить антоновкой, и яблони оказались единственным, что уцелело от этого Эдемского сада, теперь неаккуратно заросшего дикой травой, с каким-то мусором, лезущим из-под земли, — а впрочем, видели бы вы Баги-Шахи после войны, рай вообще штука недолговечная.
Весь месяц к Максиму подходили с расспросами один за другим разные жильцы, и в конце концов он придумал для каждой квартиры свое прошлое, свой отдельный мир, где словно во сне перемешались его фантазии, обрывки прочитанных книг и случайные куски реальности, застрявшие в памяти, как застревают в рубчатой подошве камешки, влажные обрывки листьев, чья-то жвачка — и вдруг среди этого мусора блеснет осколок бутылочного стекла, вспорет острым краем подушечку пальца, выудит оттуда спрятанный клад, толстую рубиновую каплю. В зависимости от настроения, времени суток и просто от того, насколько Максиму был симпатичен тот или иной сосед, истории получались разными: длинными и короткими, грустными и смешными, похожими на правду и настолько сказочными, что в них нельзя было не поверить. Верили все, и Максиму становилось неловко от легкости этого обмана, как будто он был богом-самозванцем, который пришел в чужой заброшенный мир всего на минуту раньше людей и теперь заново придумывает его законы и историю, прячась за горящим кустом и струями дрожащего воздуха.
Первыми оказались, конечно, дети — может быть, оттого, что они вообще быстрее верят взрослым, считая их старожилами вселенной, еще заставшими ее создание, — и не успел Максим поговорить со всеми соседями, как со стартовой площадки во дворе, обозначенной заборчиком из кирпичных осколков, взлетела и рассыпалась на части ракета, сделанная конструкторами из квартиры напротив. Хаким провел с ними воспитательную беседу, то ли посоветовав им искать свое призвание в другой области, то ли велев проводить испытания подальше от дома, — в любом случае, больше стартов во дворе не было, зато там вскоре появился остов горбатого «Запорожца», детали для которого старику несли со всей Москвы, так что скелет постепенно обрастал дверьми, крыльями и стеклами, а сзади, под крышкой капота, уже различалась завязь мотора. Ожил и палисадник, откуда вдруг пропали сорняки, а земля сделалась черной и жирной, будто пропитанной густым моторным маслом, отчего новорожденная зелень свежих ростков казалась пластмассовой. Был даже слух, что полицейские из одиннадцатой квартиры затеяли выращивать там апельсины — по крайней мере, они действительно посадили под окнами какие-то деревца прямо в кадках, чтобы на зиму их можно было уносить домой. А дети со всего дома потянулись на четвертый этаж: дворничихи из Суслонгера оказались бывшими учительницами и теперь вспоминали свои диполи, диктанты и дискриминанты.
Максим представлял, что совсем скоро он окончательно перестанет быть чужим для этих людей, в своем вечном странствии задержавшихся на время в приговоренном рюминском доме, словно древние колумбы, которые высадились на берегу Атлантиды за день до катастрофы и теперь думают, что волнение вспухающей и опадающей под ногами земли только кажется им, отвыкшим от суши морякам, однако все вышло иначе. С ним вежливо здоровались, даже останавливались ненадолго поговорить, если он о чем-нибудь спрашивал, но сами больше не задавали вопросов и вообще норовили побыстрее закончить беседу, оправдываясь работой и семьей. Возможно, соседям было стыдно перед Максимом, который застал их в первобытном состоянии, когда они ходили еще не придуманными, ничего не знающими о мире и о себе. Или это, наоборот, они стыдились его — таким диким и нецивилизованным выглядел Максим, продолжавший существовать сам по себе, без сценария и готового набора привычек, так что было непонятно, зачем он живет и чего можно ждать от этого кажущегося голым человека. Максиму приходило в голову и третье объяснение: быть может, соседи, заселившие мир, который он придумал из вежливости и от неловкости, все дальше уходили от нашей реальности и обитатель восьмой квартиры уже представлялся им докучливым привидением.
Он действительно не переставал им докучать, карауля у дверного глазка Алешу- Алимшо или высматривая из-за занавески, когда Хаким снова начнет возиться со своей машиной, и, дождавшись их появления, с деланой беззаботностью выходил из квартиры, притворно удивлялся встрече, но суетливость, появившаяся в его движениях, и новая манера искательно заглядывать собеседнику в глаза становились неприятны, так что Максима начали избегать. Домашние заготовки: «Представляете, я тут еще вспомнил…» — пропадали втуне, и зазевавшийся сосед, испуганно улыбаясь, уходил, уворачивался, ускользал.
Максим тоже хотел, чтобы ему придумали судьбу, и желающих вроде хватало, особенно в телевизоре и интернете, но все время оказывалось, что сам по себе он никого не интересует и должен стать частью коллективной судьбы, обычно почему-то жертвенной. Впрочем, даже индивидуальные судьбы, которые придумщики берегли для себя, казались Максиму скучными и бездарными: в конечном счете все сводилось к деньгам, неважно, о чем шла речь, о Боге, власти или искусстве. Однако он не прекращал поисков, вот только теперь приходилось пить, чтобы удержать образовавшийся внутри пузырь, который дрожал прозрачными стенками и все пытался подняться наверх, к горлу, где грозил лопнуть, выплеснувшись наружу рыданием. Однажды Максим обнаружил себя в каком-то сквере на скамейке, а рядом и напротив, лицом к нему, сидели люди, отчего казалось, что они вместе едут в электричке, тем более что все вокруг плыло и качалось, но было очень важно им понравиться, поэтому он собрался и повторил для убедительности:
— Всё забрали, весь мой дом.
— Твой дом? — переспросил кто-то.
Максим не успел заметить, кто это был: мир вокруг снова дернулся — плавно и тошно, — отчего лица перед ним перетасовались. Он выбрал одно, казавшееся почему-то приятнее других, и подтвердил, пытаясь сфокусировать на нем взгляд:
— Мой! Я им все — машину, апельсины, — а они забрали.
— Кто забрал-то? Риелторы?
Максим теперь видел, что человек перед ним молчит и вопросы задает кто-то другой, но решил уже не отвлекаться и продолжил смотреть на лицо перед собой, тем более что в складке его пухлых губ чудилась доброжелательная улыбка. Он хотел ответить как-нибудь развернуто и насмешливо, но в последнюю секунду сообразил, что вряд ли выговорит слово «риелторы», поэтому только махнул рукой, стараясь никого не задеть, из-за чего жест получился медленным и ломаным:
— Дворники!
— Чурки, что ли?
Максим вдруг почувствовал, как сильно он устал. Все казалось скучным и бессмысленным. Говорить было больше не интересно, и он просто кивнул тяжелой головой. Тот, кто сидел перед ним, откинулся на спинку скамейки, обвел всех взглядом и постановил:
— Надо помочь человеку. Человека как зовут?
Теперь, когда он повернул голову и заговорил, стало понятно, что никакой улыбки у него на лице не было, а была только болячка в углу рта. Из-за этого Максим не сразу понял, что собеседника интересует его имя, и только после нескольких секунд общего молчания догадался ответить:
— Максим.
— Вот видите — Максим. Человек и пулемет. Далеко твои родные апельсины?
Максим отрицательно помотал головой, хотя совершенно не представлял себе, где находится. В центре сквера что-то темнело, то ли фонтан, то ли небольшой памятник, но больше ориентиров не было. Только за спиной иногда стучал и подвывал трамвай.
— Тогда пойдем. Идти-то сможешь?
Он оскорбленно повел плечами и поднялся. Кто-то попытался ему помочь, поддержав за локоть, но Максим отстранился. Выйдя к трамвайным путям, он наконец понял, где они сидели. Дом был действительно недалеко. От ходьбы стало легче, в голове немного прояснилось, и Максим начал вспоминать извиняющиеся улыбки и ускользающие взгляды соседей, заново переживая обиду, чтобы она затвердела, прикрыла коркой нежные и влажные места души. На какое-то мгновение даже удалось поверить, что из дома его выгнали, — будто было во дворе какое- то собрание, куда его не пригласили, так что пришлось подглядывать из-за занавески, и жильцы, обступившие лавочку Хакима, стояли далеко, поэтому не все слова удавалось разобрать, но общий смысл выступлений был понятен: не дожидаясь оглашения приговора, он спустился вниз и пошел через двор прочь, а соседи вежливо улыбались, отводили глаза и возвращались к делам, как если бы раньше Максим отвлекал их от жизни одним своим присутствием в доме.
Он представил себе, как, избавившись от лишнего человека, выкусив и выплюнув эту глубоко засевшую занозу, дом облегченно вздыхает, и вздох незаметно переходит в зевоту, потому что пора уже ложиться спать. Полицейский Труханов с сигаретой в зубах заканчивает поливать свой сад, Хаким, стоя у окна, смотрит на еле различимый в темноте силуэт «Запорожца», но все равно видит его до последней, еще не купленной, детали, а дети Алимшо, временно отлученные от космоса, читают вслух почти спящей сестре, которая должна вырасти самым совершенным человеком на планете.
И тут, конечно, следовало остановиться, подумать о чем-нибудь другом и вспомнить, например, тишину за соседской дверью после его звонка — ни шепота, ни шагов, как будто они и без того знали, кто стоит на лестничной площадке, — но было уже поздно, и Максим начал представлять себе, что произойдет с ними через несколько минут. Он видел, как летит на улицу ворох писем из Суслонгера и обрывки белой бумаги, раскачиваясь из стороны в сторону, медленно опускаются вниз, словно наступило новое время года, когда листья сразу превращаются в снег. Как опрокидывается на бескрылую спину «Запорожец», будто лед под ним раскололся, сбросив машину в обжигающую темноту. Как лежат среди остатков розовых кустов Трухановы: она обнимает мужа и никак не заставит себя посмотреть в его незрячие глаза — он навсегда останется в этом раю, и по виску на политую землю стекает струйка крови. И как он, Максим, опять стоит перед квартирой Алимшо и не может зайти, хотя дверь приоткрыта: внутри снова тихо, но это совсем другая тишина — тишина, в которой лежит, сжавшись в комок, нарушенное, испорченное совершенство.
Справа была арка, и Максим, все для себя решив, нырнул в нее, стараясь ступать как можно увереннее. Он пересек проходной двор, вышел на параллельную улицу и потом еще несколько раз поворачивал наугад, все больше удаляясь от дома, пока сзади не заподозрили неладное. Сперва там начали негромко переговариваться, затем кто-то нагнал Максима и, положив на плечо тяжелую ладонь, спросил:
— Сусанин, ты не заблудился? Долго еще?
— Почти пришли — вон он, видишь? — Максим показал куда-то в темноту, одновременно стряхивая руку с плеча, и тут же бросился в противоположную сторону. Он не бегал уже много лет и сейчас вспомнил, какое это счастье — лететь, легко отталкиваясь от асфальта, всем телом разрезая уплотнившийся вдруг воздух. За спиной никто не кричал, было слышно только тяжелое дыхание и стройный топот, как будто преследователи бежали в ногу, подчиняясь единому ритму погони. На краю сознания мелькнула мысль, что он выбрал не то направление и теперь снова приближается к дому, — мелькнула и тут же исчезла, растворившись в детской радости бега, в ощущении свободы и всемогущества. Максим быстро начал задыхаться, поэтому глотнул обжигающую и пьянящую прохладу ночного воздуха и едва не засмеялся от радости, догадавшись, что теперь все будет хорошо, что его не догонят и он будет бежать долго-долго, пока не кончится город, не исчезнут дома и впереди не начнет подниматься из леса большое солнце, но в эту секунду его толкнули в спину и он полетел вперед, обдирая об асфальт ладони и колени. Он еще катился по земле, когда кто-то пнул его в живот — удар из-за этого получился несильным, но в конце концов Максим остановился, распластавшись на асфальте, и его начали бить со всех сторон. Он попробовал подтянуть колени к груди и закрыть голову руками — даже не для защиты, а чтобы стать совсем маленьким, сжаться в точку, твердую и круглую, в которой не останется места для боли, — однако боль уже была везде, она распухала, заполняя собой весь мир, заливая его красным и черным с ветвистыми белыми всполохами.
Максим еще был в сознании, когда они наконец остановились.
— Умер Максим? — кажется, это спросил тот, с болячкой, и все засмеялись. Кто-то умело обшарил его карманы, достал деньги, отбросил в сторону разбитый, видимо, телефон, и скоро во дворе стало тихо и пусто. Максим еще успел порадоваться, что не носит с собой паспорт, где есть штамп с адресом дома, но тут его вырвало, он попытался повернуть голову, чтобы можно было дышать, и провалился в темноту.
Когда Максим пришел в себя, вокруг пахло едой и лекарствами, осторожно позвякивала посуда. Голова лежала на теплом и мягком — кажется, кто-то держал ее на коленях. Он осторожно открыл глаза и, с трудом сфокусировав зрение, увидел плохо закрашенное пятно на потолке. Смотреть было больно и вообще по-прежнему было очень больно, поэтому Максим снова опустил веки, по изнанке которых сразу поплыл мелкий мусор теней. На лоб легла маленькая сухая ладонь, и когда он снова посмотрел наверх, над ним склонилось лицо, показавшееся ему самым совершенным из всех, что он когда-либо видел. Удивительнее всего были глаза, темно-зеленые, словно листья южного дерева. Максим попробовал что-нибудь сказать, но сначала нужно было откашляться, а это тоже оказалось больно. Во рту был привкус крови и чего-то гадкого.
— Все хорошо, — сказала девушка и погладила его по волосам. — Поспи, я буду рассказывать тебе сказку. В давние годы, в старые времена, было или не было, жил один человек, звали его Максим.
Он закрыл глаза и улыбнулся. Все действительно было хорошо: сейчас его придумают, и тогда снова можно будет жить.
Подмена
В четверг, восемнадцатого апреля, Миш- ка обнаружил, что воспитательницу Маргариту Николаевну подменили.
Никто, кроме него, не заметил подмены: все молча и сосредоточенно переодевались, неаккуратно запихивая вещи в узкие деревянные шкафчики. Один Мишка застыл, держа в руке правый ботинок и глядя на Маргариту Николаевну. С ботинка падали бурые капли. Воспитательница была очень похожа на настоящую — особенно когда начала медленно поворачиваться к Мишке, уже открывая рот, чтобы крикнуть: «Банников!» Он спохватился, поставил ботинок на пол и стал надевать тапочки. Разобраться с подменой надо будет позже, решил Мишка. Пока незачем привлекать к себе внимание.
Все утро он наблюдал за поддельной воспитательницей — не выдаст ли она себя еще чем-нибудь. Но та вела себя как ни в чем не бывало: грозно смотрела по сторонам, изредка покрикивая на нарушителей порядка, а время от времени, утомившись, отворачивалась к забранному ржавой решеткой окну. Мишку это не успокаивало. Подмена была настолько очевидной, что он никак не мог понять, почему все остальные не обращают на нее внимания. Нужно было выяснить, действительно ли они ничего не замечают или просто решили смириться с неизбежным — Мишка уже не первый раз сталкивался с нездоровым фатализмом своих одногруппников. Для начала он решил обсудить факт подмены с Ленкой Кругловой. Друзьями они не были, но Мишка всегда уважал Круглову за независимость суждений и бесстрашие в драке. Однако никакого разговора не получилось. Ленка, ковыряя заштопанные на колене колготки, внимательно выслушала Мишкин рассказ, сказала: «Дурак» — и ушла на другой конец комнаты.
Это было странно. Если даже Круглова отказывалась признавать очевидное, обсуждать подмену еще с кем-то не имело смысла. Мишка взял в руки квадратного пластмассового Карлсона, делая вид, что играет, и начал думать. Он вспомнил, что Алик Ковальчук однажды пересказывал кино, где в людей вселялись инопланетяне. Алик сидел в углу и пальцами гонял по полу скомканный фантик. С ним никто не дружил: у Ковальчука постоянно текло из носа, а как-то раз он на спор пил воду из унитаза. Неожиданному вниманию со стороны Мишки он страшно обрадовался и охотно повторил все, что помнил про инопланетян. Рассказывал он плохо и невнятно, но это было неважно. Мишка понял, что отличить инопланетянина от настоящего человека можно только по странному поведению: выглядят они совершенно одинаково. В случае с Маргаритой Николаевной все было наоборот. Впрочем, окончательно сбрасывать со счетов гипотезу с похитителями тел Мишка на всякий случай пока не стал.
Остаток дня прошел без происшествий. Когда вечером мама забирала Мишку из детского сада, он некоторое время раздумывал, не рассказать ли ей про подмену, но, в конце концов, решил не торопиться. Раз мама видела воспитательницу и тоже ничего не заподозрила, вряд ли она прислушается к Мишкиным догадкам.
На следующее утро он проснулся с тайной надеждой, что все вернется на свои места и в саду обнаружится настоящая Маргарита Николаевна. Но за воротами его ждала все та же искусная подделка, причем мама снова не заметила никакого подвоха. А после тихого часа произошла еще более странная вещь: когда Мишка сел рисовать, оказалось, что кто-то подменил его любимый лимонно-желтый карандаш. Ошибки здесь быть не могло — такой карандаш в саду был почему-то всего один. Поддельный был точно такого же лимонно-желтого цвета, но в остальном не имел ничего общего с настоящим. Мишке пришлось с некоторым сожалением признать, что инопланетяне, по всей видимости, здесь действительно ни при чем. В подмене карандаша он не видел никакого смысла.
До самого вечера Мишка пребывал в глубокой задумчивости. По дороге из сада мама даже несколько раз озабоченно спросила, не заболел ли он, и Мишка терпеливо позволил потрогать себе лоб под шапкой, а дома — померить температуру. На расспросы он твердо отвечал, что все в порядке. Выходные Мишка провел дома и за это время почти забыл про историю с подменой: нужно было дорисовать корабль пятнадцатилетнего капитана и сделать наконец блиндаж для солдат из давно припасенной картонной коробки. Но в понедельник все стало еще хуже.
Уже подходя к детскому саду, Мишка понял, что подмена воспитательницы и карандаша была только началом. На этот раз подменили забор вокруг сада и решетки на окнах первого этажа. Чуть позже во дворе обнаружилась поддельная горка. Мишка крутил головой по сторонам и теперь замечал признаки подмены почти во всех, кто толпился в раздевалке: подменили и толстую Олю Бондарь, и смешливого Рената Карапетяна, и близнецов Дадаевых, и глупого Валерку Знаменосцева. Мишка стиснул зубы, заставляя себя смотреть в пол, чтобы не видеть, как все вокруг прямо на глазах становится фальшивым. Если слушать только голоса, можно было внушить себе, будто мир остался прежним. Но это помогало ненадолго: стоило на секунду отвлечься и поднять голову, как сразу становился очевиден весь масштаб катастрофы. Мишка чувствовал себя как космонавт на чужой планете. С одной только разницей — ему было некуда возвращаться.
Весь день прошел как в тумане. Мишка держался как мог, делая вид, что ничего не происходит, и почти ни разу не заплакал — только во время тихого часа, когда никто не видел. Силы были уже не исходе, и Мишка, в конце концов, решил, что расскажет обо всем маме — будь что будет. Он даже начал продумывать свою речь, подбирая убедительные слова, чтобы она все-таки поверила.
Но вечером у ворот детского сада мама ждала его не одна, а вместе с папой. От удивления Мишка на секунду забыл про свои переживания — папа еще ни разу не забирал его из сада. Даже когда мама болела, за Мишкой приезжала с другого конца города бабушка Нина. Втроем, взявшись за руки, они пошли вниз по улице. Сначала родители молчали, а потом папа вдруг остановился и сказал: «Мишка, мама хочет сказать тебе что-то важное» — и посмотрел на маму. Мишка тоже посмотрел на маму и еще до того, как она открыла рот, чтобы сказать то, что она сказала, понял, что вот сейчас действительно случилось что-то, после чего жизнь окончательно перестанет быть прежней, так что все его страхи потеряли всякий смысл и остается только зажмуриться и постараться ни о чем не думать, потому что теперь ничего и никогда уже нельзя будет исправить. Мишка понял, что маму тоже подменили. И когда она закончила говорить, он бросился бежать. Мишка бежал, не разбирая дороги, бежал так быстро, как никогда еще не бегал. Он знал, что больше не остановится, и теперь очень важно было не споткнуться и не упасть — Мишке казалось, что если он не споткнется, появится какой-то шанс на спасение. Он бежал, хватая ртом холодный воздух, и в ту секунду, когда Мишка поверил, что сможет бежать так всю жизнь, мир внезапно стал твердым и лопнул, разлетевшись на тысячу осколков.
Очнулся Мишка в больнице. На белом потолке мигала длинная тонкая лампа, а бородатый доктор, наклонившись к кровати, укоризненно говорил: «Что же вы, Михаил Александрович, родителей так пугаете? Это только в мультиках герои сквозь закрытые двери проходить умеют».
В этот момент Мишка вспомнил все — и новую прическу воспитательницы, и заточенный карандаш, и покрашенный забор, и синий бант в волосах Оли Бондарь, и то, как мама, волнуясь, говорит: «Мишка, у тебя скоро будет брат». Он увидел свои забинтованные руки, почувствовал, что голова под повязкой болит и немного чешется, и повторил про себя, как его только что назвал доктор: «Михаил Александрович». Мишка закрыл глаза. Он запретил себе плакать, но слезы почти сразу потекли на лицо из-под закрытых век. Мишка понял, что, пока он лежал здесь, его тоже подменили, и теперь придется научиться жить с этим. Мишка знал, что больше никогда не будет настоящим.
Алька и черепаха
Потом он столько раз проживал этот день во сне, что иногда начинал сомневаться, происходило все в действительности или было просто самым первым, а потому самым правдоподобным сновидением. В конце июля Альке — свое имя он потеряет значительно позже, когда во дворе института перед вступительными экзаменами, поколебавшись секунду, представится тусклым Сашей, которым после этого останется навсегда, — в конце июля ему должно было исполниться двенадцать, и своего дня рождения Алька дожидался на даче, деля время между книгами и одинокими прогулками по лесу, начинавшемуся сразу за забором их участка. Тем утром он впервые узнал про апории Зенона и теперь играл в Ахиллеса, который никак не мог догнать черепаху по имени Эрнесто Че Репаха, бодро бегущую по лесной тропинке, высоко поднимая гнутые передние лапы и вытянув птичью голову на длинной морщинистой шее дряхлой балерины, закованной в гипсовый корсет. Алька замирал на одной ноге, словно изображение бегуна с древнегреческой вазы, дожидался, когда Эрнесто отбежит подальше, прыгал на то место, где несколько секунд назад была черепаха, и снова застывал в ожидании следующего прыжка.
Когда он, едва удержав равновесие после очередного шага и все еще заметно покачиваясь, поднял глаза на черепаху, оказалось, что Че уже никуда не бежит, а методично обкусывает своим кожистым клювом листья одуванчика, которые протягивает ему присевшая на корточки красивая черноволосая девушка. Откинув в сторону волосы, она посмотрела на Альку, улыбнулась и сказала: «Привет».
Алька никогда раньше не разговаривал с такими красивыми девушками, поэтому он ничего не сказал и только медленно поставил на землю вторую ногу. «Ты слышал когда-нибудь о таком философе — Зеноне?» — спросила девушка. Во сне редко чему-то удивляешься, но Алька хорошо помнил, что не был удивлен и наяву; он кивнул и, как ему тогда показалось, остроумно ответил, сглотнув, правда, на середине фразы: «И еще о таком неудачнике — Ахиллесе». Много лет потом он краснел, вспоминая эти слова, которые явно принадлежали какому-то лихому и несуществующему человеку, и вежливую улыбку девушки, хотя в хорошие дни и был склонен согласиться, что это неплохой ответ. «Люди на Земле, — сказала девушка, — хотят дотянуться до бога, как Ахиллес, который бежит за черепахой, сверкая беззащитными пятками. И каждый раз, когда они пытаются схватить его за бороду, их пальцы сгребают пустоту, потому что человек может прийти только в то место, откуда ушел бог. Бог жил на облаке, пока люди не научились летать по небу. Бог кружился на орбите, пока к нему не поехал Гагарин. Бог управлял приливами и менструациями, сидя на Луне, пока туда не спрыгнул Армстронг. Сейчас бог живет с нами на Марсе, но лет через тридцать на корабле, который ты изобретешь, прилетят люди с Земли, и тогда он навсегда уйдет от нас». «Откуда вы знаете?» — спросил Алька. «Мы умеем видеть будущее. Строго говоря — наиболее вероятное будущее, но это неважно». — «Вы прилетели, чтобы убить меня?» — «Мы не умеем убивать — с нами живет бог. Я просто хотела посмотреть на человека, который заберет его у нас. Мне кажется, ты хороший человек. Почему-то это всегда делают хорошие люди». — «Я могу чем-нибудь помочь?» — «Ты можешь подарить мне черепаху. Я возьму ее с собой, и тогда Ахиллес наконец ее догонит. Назови свой корабль «Ахиллес» — это будет красиво. Подаришь?» Алька кивнул. «Как ее зовут?» «Эрнесто Че Репаха», — сказал Алька и покраснел. «Прекрасное имя. К тому же он пуглив и грациозен, как истинный де ла Серна».
Девушка покрутила между пальцами последний лист одуванчика, похожий на зеленое перо, и протянула его черепахе. Эрнесто отвернулся, и девушка, улыбнувшись, уронила лист на землю. Она взяла черепаху, легко поднялась и ушла в лес, на прощанье молча взъерошив волосы все еще красному Альке.
Когда лето кончилось, Алька уже твердо знал, что никогда не догонит свою черепаху и не заберет бога у марсианской девушки с черными волосами и прохладными пальцами. Вернувшись с каникул, он совсем забросил прежде любимую физику, а после школы выучился на экономиста. Саша, как его теперь звали, ненавидел свою работу и свою жизнь, но когда он думал о людях на Марсе, ему становилось легче. Еще ему становилось легче, когда он уходил к мужикам в гаражи, помогая чинить чужие машины, но это уже было опасно: моторы слишком напоминали о корабле, который он должен был изобрести, чтобы прогнать бога дальше в космос. В такие дни Саша начинал пить.
Иногда ему хотелось убить себя, но он видел, что вокруг живут такие же несчастные люди, занимающиеся скучными и неинтересными вещами, и понимал, что они вместе с ним стерегут покой марсианского бога. И если они находили в себе силы жить дальше, значит, сможет и он. Кто-то из них, наверное, должен был работать под его началом в конструкторском бюро, кто-то стал бы чиновником, отвечающим за марсианский проект, кто-то сам полетел бы на Марс. Но Саша чувствовал, что они тоже видели ту девушку на поляне и потому выбрали серую, бессмысленную жизнь. Продавцы, официанты, журналисты, менеджеры, учителя — он узнавал их повсюду, рыцарей прекрасной дамы с черепахой, и любил их. Саше часто хотелось поговорить с ними о той девушке, о той поляне, об Ахиллесе и черепахе, но он откуда-то знал, что этого ни в коем случае нельзя делать, что это один из тех секретов, которые склеивают мир, проступая из его самых укромных трещин и не давая ему рассыпаться на части.
Встречались, конечно, и люди, которые занимались любимым делом и были всем довольны. Саша понимал, что должен их ненавидеть, поскольку, где бы ни работали эти люди, они все равно приближали полет на Марс, но на самом деле мог их только жалеть, потому что они не знали настоящего смысла жизни и не имели никакого представления ни о красоте, ни о сострадании. Потому что никому из них не снились сны, где они бегут за черепахой по лесной тропинке, в конце которой черные волосы, прохладные пальцы и невыносимое счастье.
Родина Деда Мороза
— Здравствуй, Дедушка Мороз. — Маленькая девушка с рыжеватыми дредами смотрела на Сергея снизу вверх, почти прижимаясь к его красной шубе. В особняке на Басманной, где праздновало Новый год какое-то рекламное агентство, собралось, кажется, человек двести. Свет только что погасили, народ собирался петь караоке. Сергей не любил караоке. К тому же работа на сегодня уже закончилась, и теперь он пробирался сквозь толпу к выходу.
— Что ты мне подаришь на Новый год? — Девушка громко втянула через трубочку остатки коктейля и засмеялась.
Сергей вздохнул.
— А ты хорошо себя вела в этом году?
— Плохо. — Девушка кокетливо потянула его за бороду.
— Настоящая, — вежливо сказал Сергей, мягко отстранившись.
Девушка продолжала молча смотреть на него.
— А что бы ты хотела?
— Стать твоей Снегурочкой.
Сергей только сейчас понял, что девушка уже не слишком твердо стоит на ногах. Праздник продолжался четвертый час.
— Ничего не получится. Снегурочка — это внучка Деда Мороза.
— А так даже интереснее. — Девушка довольно захихикала.
— У меня дома жена и сын. — Сергей аккуратно отодвинул ее в сторону и пошел к выходу.
— Дурак, — сказала девушка и уронила стакан.
В общежитие Сергей вернулся в третьем часу ночи. В панельной девятиэтажке на Юго-Западе жило несколько десятков Дедов Морозов. Все они были из Великого Устюга — там почему-то регулярно рождались высокие мужчины, которые уже к двадцати пяти годам седели и обзаводились окладистыми бородами. Кто-то считал, что это потомки давно исчезнувшего северного народа — возможно даже мифических гиперборейцев, чью родину погребли под собой арктические льды. Из Устюга они разъезжались в крупные города, чтобы работать Дедами Морозами. Собственно говоря, работать нужно было только в декабре и январе — остальное время занимали бессмысленные лекции и тренировки. Все это походило на армию: у них отбирали паспорта, одевали в форменные шубы и запрещали бриться. В отпуск можно было поехать только летом, и не дольше чем на десять дней. Но никто не жаловался — начальство каждый месяц выплачивало их семьям по тысяче долларов. Совсем не плохие деньги для Великого Устюга. Правда, Сергей мечтал хотя бы раз встретить Новый год с женой и сыном, но это было невозможно: семьям было запрещено приезжать, чтобы Деды Морозы не отвлекались от работы.
Соседи по комнате уже спали. Сергей разделся и тоже лег в кровать, положив кошелек под подушку. Чтобы не заснуть, он повторял про себя все новогодние стихотворения и песни, которые их заставляли учить. Через два часа Сергей поднялся, взял кошелек и вышел в коридор. На лестнице, за решеткой, закрывавшей вход на чердак, был спрятан разноцветный пакет с надписью «Rave girl», где лежали ножницы, бритва и одежда. В туалете Сергей отрезал ножницами бороду, начисто побрился и оделся. Состриженные волосы он переложил из раковины в пакет, бросил туда же ножницы с бритвой и по лестнице спустился на второй этаж. Там Сергей открыл окно в конце коридора, выбросил пакет, а потом спрыгнул сам. Больше всего он боялся, что подвернет или, не дай бог, сломает ногу, но все обошлось. Сергей отряхнул руки, подобрал пакет и пошел ловить машину. По дороге он бросил пакет в мусорный бак.
Паспорта у Сергея не было, поэтому пришлось ехать на электричках. Сначала до Ярославля, а оттуда до Вологды. В дороге он заметил, что постоянно трогает пальцами непривычно голое лицо. Так касаются лиц влюбленные и слепые. Сергей засунул руки в карманы и стал смотреть в окно. Моросил дождь, и округлые капли пытались сползти вниз по стеклу, но их все время сносило к краю окна. С бетонных платформ смотрели, не видя Сергея, люди. В Москве, наверное, его уже начали искать. Оставалось надеяться, что поиски начнут с милиции и больниц, тем более что никто не видел, как Сергей вернулся в общежитие. В любом случае, пока еще было бессмысленно волноваться. В Вологде он пересел на автобус до Великого Устюга. Автобус шел часов десять. Сергей поправил вязаную шапку, чтобы не было видно седых волос, прислонился головой к холодному стеклу и заснул.
Автобус останавливался около вокзала. Сергей проснулся, когда все уже пробирались по проходу к дверям, волоча тяжелые сумки и охапки пакетов. На всякий случай он посмотрел в окно. Вроде бы никто его не встречал. На привокзальной площади лежали грязноватые подтаявшие сугробы. Сергей понял, что успел соскучиться даже по такому снегу. Он встал и, ссутулившись, чтобы его высокий рост не бросался в глаза, вышел из автобуса.
Домой Сергей решил идти пешком. Город был небольшой, и пройти по нему Сергей мог с закрытыми глазами, но все равно пару раз чуть не заблудился. Откуда-то появлялись улицы, которые он, казалось, видел первый раз в жизни. Сергей, например, абсолютно не помнил ни переулка Лесников, ни Коммунальной улицы и был уверен, что за Сухонской сразу идет улица Неводчикова. Десять лет в Москве с редкими наездами на родину начинали сказываться.
Впрочем, его дом на Советском никуда, конечно, не делся. Сергей вошел в пахнущий сыростью подъезд, где на стене крупными буквами было написано: «Оля и Катя — лохушки». Поднявшись на второй этаж, он достал из кошелька ключ и открыл дверь.
Из кухни, держа в руках какую-то тряпку, растерянно выглянула его жена Наташа. Она пару секунд, не узнавая, смотрела на безбородое лицо Сергея, а потом, взвизгнув, бросилась ему на шею.
— Олежка! — крикнула она в глубь квартиры. — Папа приехал!
— Где твоя борода? Ты откуда? — спросила она, отпустив мужа и, только сейчас заметив у себя в руку тряпку, бросила ее под зеркало. — Новый год же! Как же тебя отпустили? И почему не предупредил?
— Привет, пап. — Олег вышел из детской и, улыбаясь, пережидал поток маминых вопросов. Через три месяца ему исполнится двенадцать.
— Привет, — сказал Сергей, пожав ему руку. — Прости, я без подарков. Но послезавтра, к Новому году, — обязательно.
— Ладно, — сказал Олег и деликатно пошел включать телевизор в гостиной.
Наташа снова обняла мужа.
— Рассказывай.
Сергей в задумчивости потерся носом о ее волосы.
— В общем, я сбежал. Имею я право встретить Новый год с женой и сыном? А бороду сбрил, чтобы не нашли раньше времени. И потом — может, разрешат тут на недельку остаться. Я без бороды все равно временно нетрудоспособен.
— А как же работа? Что дальше будет?
— Черт его знает. Ну, оштрафуют, наверное. Переживем. Слушай, я есть хочу — два дня какими-то пирожками и бутербродами питался. — Сергей стащил с ног ботинки, легко поднял жену на руки и понес ее на кухню. Наташа притихла, уткнувшись ему в шею.
На кухне Сергей осторожно поставил жену на пол и открыл холодильник. В нем было пусто. Свет не горел. Судя по всему, холодильник вообще не работал. Сергей посмотрел на Наташу. Та растерянно молчала. Сергей подошел к кухонному столу. Дальний угол был покрыт толстым слоем пыли — видимо, Наташа вытирала стол как раз перед приходом мужа. Сергей только сейчас понял, что запах у квартиры совершенно нежилой — здесь явно не проветривали несколько месяцев. Он открыл кран. С запозданием и клекотом оттуда полилась ржавая вода.
— Понимаешь, мы уезжали на неделю к маме, — затараторила Наташа. — Она позвонила…
— Здесь никто не жил с лета, — сказал Сергей, повернувшись к ней.
Наташа замолчала.
— У тебя другая семья? — спросил Сергей. — Давно? Зачем вообще весь этот цирк?
Наташа продолжала молчать.
Открылась дверь, и в квартиру вошли два человека в одинаковых синих пуховиках. Один был чуть постарше, уже начавший лысеть. Второй, лет двадцати пяти, напоминал какого-нибудь кикбоксера и мелкого бандита.
— Мы вам все объясним, — почти ласково сказал старший, встав в дверях кухни. — Поедем с нами, и мы все вам объясним.
— Кто вы такие? — спросил Сергей.
— Считайте, что мы ваше начальство. Обувайтесь.
— Я никуда не поеду, — сказал Сергей. — Это мой дом. Говорите здесь.
— Нет, боюсь, так не получится, — сказал лысоватый, доставая из кармана пистолет. — Лучше все-таки поехать.
Сергей постоял еще пару секунд и молча начал обуваться. Наташа вышла из кухни и ждала в коридоре, глядя на него. Олег выключил телевизор и теперь стоял за ее спиной с мобильным телефоном в руке. Сергей поднялся и вышел из квартиры.
— Прости, — тихо сказала Наташа.
Сергей не ответил.
Перед тем как выйти из подъезда, старший снова убрал пистолет в карман и слегка подтолкнул Сергея в спину. Он распахнул дверь, резко шагнул в сторону и, когда лысоватый бросился за ним, изо всех сил ударил его в челюсть. Не поворачиваясь, Сергей почти спиной прыгнул на второго, который пытался достать из кармана пистолет, и повалил его на землю. Сергей первым успел подняться и швырнул кикбоксера в стену. Тот звучно стукнулся головой о батарею и затих. Сергей снова подбежал к лысоватому, который пытался подняться с земли, и ударил его ногой в лицо. После этого Сергей забрал у них оружие, вернулся в квартиру и запер дверь. Наташа с Олегом все еще стояли в коридоре.
— Что здесь происходит? — спросил он.
Наташа прошла в гостиную и села на диван.
— Понимаешь… — начала она.
— Я хочу знать правду, — сказал Сергей. — Пожалуйста.
— Все это ненастоящее, — сказала Наташа, посмотрев ему в глаза. — Эта квартира, этот дом и этот город. Просто большая декорация. А мы — актеры, которые раз в год изображают семьи Дедов Морозов. Мы с тобой никогда не были женаты, а Олег — не твой сын.
— Но я же помню нашу свадьбу, помню, как забирал вас из роддома…
— Ты помнишь только то, что тебе внушили. Сейчас это уже умеют — двадцать пять лет воспоминаний. И борода, и седые волосы. Только с ростом ничего не могут поделать, но это неважно. Они просто сразу отбирают высоких.
Сергей обнаружил, что до сих пор держит в руках пистолеты, и осторожно положил их на журнальный столик.
— Подожди, но кто я тогда такой на самом деле? Где я родился? Где моя настоящая семья?
— Я не знаю, — сказала Наташа. — Я просто играю роль твоей жены. Прости.
Сергей подошел к окну и прислонился лбом к стеклу.
— Зачем они так? — спросил он.
— Просто бизнес. Вы работаете забесплатно и думаете, что деньги переводят нам. Тысячи довольных рабов.
— У тебя своя-то семья есть? — спросил Сергей, помолчав.
— Вот, Олежек, — кивнула Наташа в сторону детской.
Сергей обернулся. Олег стоял в коридоре.
— Прости, — сказал Олег.
— Ничего.
Все снова замолчали. За окном проехала машина.
— Скоро сюда приедут, — сказала Наташа. — Тебе, наверное, лучше уйти.
Сергей огляделся. Дурацкие обои со светло-сиреневыми цветами. Стопка дисков под телевизором.
— Моя мама работала в детской библиотеке, — сказал он. — Когда мне было десять лет, какой-то придурок во дворе нашего дома выбил мне зуб. В окне дома на углу Заовражской и Дежнева видно синюю люстру. Мы познакомились с тобой у Димки Резниченко. Когда Олег родился, у него были зеленые глаза, а через год стали карие.
Сергей бросил куртку на диван и начал снимать ботинки.
— Надо чем-то дверь забаррикадировать, — сказал он.
— Можно шкафом, — сказала Наташа.
— Можно, — согласился Сергей.
Игры
Никогда я не понимал этих прыжков с трамплина. Ну, лыжи там, фигижи, ну, планирование, но ведь летит человек с полутора сотен метров! И живой почему-то. Вот вы возьмите сейчас лыжи и спланируйте из окна, а потом расскажете мне про законы физики. А я пока буду учиться столы вертеть, чтоб послушать.
Но в прошлом году, когда я волонтером в Сочи поехал, меня как раз к немецким прыгунам приставили. К женщинам. Знакомимся мы в первый день, я всем руку сую, повторяю как заведенный: Руслан-Руслан-Руслан, а она вдруг такая: Труд. Я аж своим руслан-русланом подавился. Как? — спрашиваю. Труд, говорит, имя такое. Знаю, говорит: все русские, когда слышат, смеются. Тем более что у меня еще и фамилия Май. Труд Май. Только, говорит, отпустите меня, или вы меня везде за ручку водить собираетесь?
Покраснел я, отпустил руку и пошел дальше знакомиться. Ну, Труд, думаю, и Труд. Родители, наверное, коммунисты из ГДР сумасшедшие. Бывает. Не Даздраперма все-таки. Труд Май. Даже красиво. Труд. Май. Знакомлюсь, а других имен уже не слышу и лиц не вижу. Май. Труд. Труд. Май.
Так и пропал.
И главное, ничего ведь особенного: коренастая, росточка небольшого, косметики нет, волосы светлые в хвост забраны. Немка, одним словом. А все равно ходил за ней, будто руку в тот день так и не выпустил. И по работе, конечно, ходил, и так уже просто. Волонтеров много, никто внимания не обращает. Надел эту клоунскую куртку из лоскутков — и как в шапке-невидимке. Так что я за ней и в Немецкий дом, и на набережную, и к трамплину.
Я там, верите, молиться начал. Никогда со мной такого не было, а тут падает она буквой дубль-вэ со своего трамплина, а я молюсь с закрытыми глазами. Ну, не летают ведь люди! Слов никаких не знаю, поэтому шепчу: поймай ее, господи, неси ее, господи, не урони ее, господи. Открою глаза, а она катится уже. Спасибо.
Вы не думайте — я бы, может, и поговорил с ней толком, и пригласил куда-нибудь, только она ведь не одна была. У нее ж парень из шведской сборной, сноубордист. Элвис Бергстрем. Ну, такой прямо Элвис, да. И что я буду?
В общем, к четырнадцатому февраля они оба уже отпрыгались и отдыхали. Ничего, правда, не выиграли, но, по-моему, не расстраивались совсем. Праздник опять же. Я вечером, как обычно, болтался возле Немецкого дома, но, когда они вышли, вообще-то спать собирался. Поздно уже было. А они выходят — он с доской, она с лыжами, — и в горы.
Я сперва решил: пусть себе идут. Мало ли чем люди в день влюбленных заняться хотят. Я ж не этот все-таки. А потом думаю: где же они кататься-то собрались? Там, куда они идут, не то что трамплина — трассы нет. А случись что?
И пошел за ними.
Хорошо шел, осторожно — я умею. Даже не обернулись ни разу. Залезли на гору, обулись и — я только рот успел открыть — вниз. Катятся, а я ни кричать, ни дышать не могу, будто внутри что-то застряло. Там склон метров пятнадцать и обрыв. Тут молись не молись. Достал телефон, чтоб сигнал посмотреть, а даже разблокировать не могу. Палец чужой. Все вообще чужое.
Но тут поднимаю глаза, а они летят. Не планируют там, нет, — летят. Вот как самолетики такие маленькие, бесшумно. Вверх, вниз, зигзагами какими-то. Так насекомые иногда летают и НЛО. То за ручки возьмутся, то еще что. А потом вдруг раз — и вниз головой.
В фильмах, знаете, люди начинают глаза тереть или щипать себя где-нибудь, а я нет. Стою, любуюсь. Даже на телефон не снимаю: жаба какая-то стала душить. Фиг вам, думаю, никому не покажу. Очень уж все это красиво было.
Тут они меня и заметили. Я же как встал тогда, так и застыл столбом. В куртке своей идиотской. Приземлились рядом, смотрят ласково и как бы даже и жалеют.
Ну, что, говорит Элвис, пошел человек гулять в горы и сорвался. Обычное дело. Не надо, говорит Труд, я объясню, он поймет. Ой ли, говорит Элвис. Поймет-поймет, говорит Труд, ты иди, мешать будешь. Ах, я им уже мешаю, говорит Элвис и уходит, ухмыляясь.
А я спрашиваю, вы что, по-русски говорите? Вот это, конечно, самый важный вопрос был, да. Глупый, говорит. Глупый-глупый. Как я все подстроила, а ты и не догадался. А по-другому нельзя было, нельзя-нельзя. Здесь место такое особенное, что он нас не увидит уже, если ушел. А он ушел: знаю, слышу — ушел. Правда-правда, совсем. Веришь? Веришь? Ага. Будешь слушать? Ну, вот.
Мы боги, те самые древние боги, которые когда-то правили миром, но стали вам не нужны, потому что какой прок от богов, от нашей красоты и силы, от нашей похоти и хитрости, от нашего гнева и ума? Вы выросли, у вас теперь другие боги, но мы не расстраиваемся, мы очень хорошо живем, вот только иногда скучаем, скучаем по любви и скучаем друг по другу и еще немножко скучаем по вам, поэтому мы придумали спорт и придумали Олимпиады и теперь встречаемся раз в два года, чтобы воевать и любить.
Иногда кажется, иногда, когда на секунду забываешься, кажется, что все как раньше, все снова как раньше, и толпа, и горит жертвенник, и ты наверху, ты сверху — паришь в небе, поешь гимны. И шелк флагов, и свет солнца. Быстрей, выше, сильней, дальше. Опять любят, опять боги, опять, опять, опять мы восхитительные, невыносимые, бесконечные боги.
Конечно, мы меняем тела и лица: было бы странно, если бы чемпионы во всех поколениях выглядели одинаково, так что мы заканчиваем карьеру и как-нибудь потихоньку умираем, как-нибудь быстро умираем, ведь все знают, что большой спорт подрывает здоровье. Есть, разумеется, идиоты, есть тщеславные придурки, есть, например, Бьерндален, который сам знает, что всех нас когда-нибудь спалит, но уже не может остановиться, стать, не знаю, чиновником, если так не хочет умирать, хотя это нонсенс, бог, который не хочет умирать.
Да, я тоже рождалась не один раз и даже не двадцать один, но сейчас мне двадцать семь лет, потому что такой дурой можно быть только в двадцать семь: сначала ты жестокая и смелая, потом сильная и добрая, а теперь я дура, да? Дура, да? Ну, а кто? Разве нет? Ты представь — двадцать семь. Ни ума, ничего. Дура-дура-дура — какая-то просто непередаваемая дура.
Только когда летишь, только когда лежишь, уткнувшись головой в подушку из холодного воздуха, ты чувствуешь этот покой, как будто внизу кто-то обнимает тебя, держит тебя, шепчет тебе на ухо, но все заканчивается, все всегда заканчивается, потому что все умирают, все всегда умирают, а ты катишься дальше, все дальше и дальше. И каждый раз одно и то же, каждый раз. Кричишь: за что? Зачем? Где смысл? Нигде. Терпи, молчи. И вот — опять. Опять-опять-опять. Опять по ночам у аптеки не горит этот чертов фонарь.
Но ты ведь про нас никому не расскажешь? Никому-никому? Здесь все: жизнь, смерть, цирк, храм. День, лень. Ночь, плач. Взлет, треск, снег, рот, соль, боль, звон, сон, сон, ключ, дом, смех, явь, свет, боль. Шаг, ад, шаг, жар, стон, бег. Весь век, сто лет вот так, вот так: мой спорт — мой мир. Мой труд, мой май. Мой мир, труд, май. Мой май. Мой май! Мы дарим эти праздники, ничего не требуя взамен, почти ничего не требуя взамен, только немного восхищения, только немного отчаяния, только немного поклонения, только немного кровопролития, только немного песнопения, только немного тщеславия, только немного, только совсем немного, только совсем чуть-чуть любви.
И ушла. А я сижу и чувствую, что мокро мне: снег вокруг нас растаял. И розовые цветы лезут из щелей между камнями.
А потом всё. Следующие десять дней Труд мило улыбалась, поила чаем при случае, но ничего как бы и не помнила. Только посматривала удивленно: что это со мной? И русский язык больше не понимала. И Элвис не понимал. А я вообще ничего не понимал. В конце концов, решил, что мы для них что-то вроде животных. Милых таких, домашних. Вот увидела, например, котенка, погладила мимоходом и пошла дальше. Ну, а как? Хорошо, не тараканы.
После закрытия Олимпиады они улетели. На самолете. Труд меня в щеку поцеловала, Элвис руку пожал, и улетели.
В общем, год прошел, а я маюсь. Я ж не котенок все-таки, нельзя так. Хоть ты богиня, хоть кто. Узнал их адрес, сделал визу, проверил график соревнований, чтоб дома были, и полетел.
Приземлился в Гамбурге, забрал машину, взял из закладки пистолет с патронами, который в даркнете купил, и поехал в Киль. Четырнадцатого февраля — ровно год прошел. Подъезжаю, а они как раз из гаража выруливают. Серебристый такой «сеат альгамбра». Для пенсионеров. Я за ними.
Не знаю, зачем. Поговорить, наверное. Ну, а что пистолет? Слушайте, но нельзя же так жить, когда ты для них никто. Хорошо, вы красивее, сильнее, старше, но почему нельзя с нами на равных, почему нельзя по-человечески? Мы не хуже, правда. Мы просто другие, но с нами можно разговаривать, с нами можно дружить. А если вы боги, если вы такие крутые боги, то почему ж мы живем вот так? Почему ж вы не сделаете-то что-нибудь? Заботьтесь о нас, что ли. Любите нас, например.
В общем, кто-то должен был, наверное, действительно умереть. Он, она, они. Я. Только Труд, когда тележку перед входом брала, уронила монетку, а та возьми и закатись куда-то. Минуты две они ее искали, но не нашли. Плюнули, достали другую, отцепили тележку и пошли внутрь.
А я-то видел, куда она покатилась, поэтому вылез из машины и подобрал. Только это не монетка оказалась, а специальный жетон для тележек из супермаркета. Стою, кручу эту пластиковую штуку в руках и как-то вдруг сразу все понимаю.
Специальный, значит, жетон для тележек. И поездка в супермаркет четырнадцатого февраля. На пенсионерской машине. А потом домой: шампанского и спать. И только раз в два года — сон про победы и любовь. Зимний сон, летний сон. И снова назад, зажав в кулачке жетончик.
Положил я его в карман и поехал к морю. Попробовал пистолет бросить, чтобы он, как камешек, по воде поскакал, но не получилось, утонул сразу.
Птичий грипп
Андрею повезло — он почувствовал, что заболевает, рано утром, когда, еще толком не проснувшись, садился в машину. Он должен был ехать на склад в Купавну и накануне взял у врача на работе справку. Без справки он бы не выбрался из Москвы. Без справки он, скорее всего, был бы уже мертв.
В Москве заболевший птичьим гриппом мог продержаться два-три дня. Потом его, как правило, убивали. Сама болезнь продолжалась обычно около недели, но умереть естественной смертью — если такую смерть можно назвать естественной — удавалось немногим. Симптомы птичьего гриппа были слишком заметны: подпрыгивающая походка, особая манера держать голову, перья, которые росли вместо постепенно выпадавших волос. Увеличивалось сердце, учащался пульс, притуплялись обоняние и осязание. К концу недели изменялся голосовой аппарат. Обычно первый же прохожий, увидевший человека с такими симптомами, вызывал «птицеловов» — самозваных санитаров, которые патрулировали город и уничтожали переносчиков заразы. Они расстреливали «птицу» на месте и сжигали тело. Или просто сжигали тело.
На дорогах, особенно при въезде в подмосковные города, тоже стояли посты «птицеловов». Андрей продолжал ехать, пока еще мог скрывать симптомы гриппа. Сначала по шоссе, потом по каким-то проселкам. В конце концов, он бросил машину и уже несколько дней шел пешком, стараясь никому не попадаться на глаза: после начала эпидемии даже здоровому человеку было опасно передвигаться в одиночку. «Птицеловы», бандиты, дезертировавшие солдаты — большой разницы, кто тебя убьет, не было. Несколько раз Андрея спасали только обострившиеся зрение и слух.
В Москве происходило то же самое. Милиция не вмешивалась. В городе вообще стало гораздо меньше милиционеров — многие давно сбежали из Москвы. Те, кто не уехал, стояли вместе с военными в оцеплении на «карантинах» — вокруг домов, где были обнаружен инфицированные. Если кто-то из жильцов заболевал, из дома больше никого не выпускали. Привозили несколько ящиков консервов, сваливали их в подъезде, а в любого, кто пытался выбраться на улицу, стреляли без предупреждения. На дверях при этом появлялось стилизованное изображение птицы, отдаленно напоминавшей мхатовскую чайку. Занавес, который больше не поднимется. По ночам здание со всех сторон освещалось прожекторами, чтобы никто не пытался сбежать через окно. Некоторые все-таки пытались. Не сбежать — улететь. Выживших после падения добивали. Через некоторое время инфекция распространялась по всем квартирам. Часто эти дома горели. Возможно, были виноваты обезумевшие жильцы, но ходили слухи, будто поджогами занимаются те же «птицеловы», а может, и сами милиционеры. Если соседи находили «птицу» раньше, чем власти, больного, как правило, убивали, а труп выбрасывали где-нибудь в соседнем дворе. Жены убивали мужей, дети — родителей. Иногда выяснялось, что убитый болел чем-то другим.
С начала эпидемии в Москве погибло около миллиона человек. От птичьего гриппа умерло не больше половины. Кто-то погиб в «карантинах» — умер от голода и покончил с собой, — кого-то сочли подозрительным «птицеловы». Китайцев и вьетнамцев убивали просто так. Рынок в Люблине и несколько общежитий сожгли еще в первые дни. Пытались зачем-то взорвать даже памятник Хо Ши Мину, но не получилось. Он продолжал стоять — покосившийся и покрытый копотью, зато с белыми крыльями от детского костюма ангела, которые кто-то прикрепил ему к спине.
У больных птичьим гриппом не было крыльев на спине. Крыльями должны были стать руки, на которых появлялись перья, но летать «птицы» не могли — не успевала развиться мускулатура. И все равно они прыгали — с крыш, обрывов, мостов, высоких деревьев. Это было единственной причиной смерти инфицированных. К концу седьмого дня у них оставалось только одно желание — летать. Больного можно было связать или запереть в комнате без окон — тогда он умирал от разрыва сердца. Лекарства от птичьего гриппа до сих пор не нашли. Правда, президент чуть ли не каждый день рассказывал в новостях, будто вакцина уже почти готова и эпидемия закончится со дня на день, но ему мало кто верил. Гораздо больше верили слухам про тех, кому удалось полететь. Говорили, что их уже около сотни. Говорили, что у них целое гнездовье где-то под Вологдой. Говорили, что они могут научить летать.
Туда, под Вологду, Андрей пробирался уже седьмые сутки. Судя по всему, у него оставалось лишь несколько часов: перья уже были по всему телу, а когда он пробовал говорить сам с собой, из горла вырывался невнятный клекот. Хотелось летать. Очень хотелось летать. Нужно было летать. Ни о чем другом Андрей думать не мог. Последние километры он шел на четвереньках — чтобы не видеть небо. Перья волочились по грязи, сердце больно билось о ребра, а он повторял про себя: «Скоро все закончится. Скоро все закончится». Андрей не видел, что он уже ползет вдоль дороги, что рядом тормозит военный «Уазик», из которого выпрыгивают и бегут к нему люди в белых халатах. Его перевернули на спину и, крепко держа за руки и за ноги, вкололи что-то в вену. Бородатый врач кричал Андрею в лицо: «Ты слышишь меня? Слышишь меня! Это вакцина! Это вакцина! Она начнет действовать через пару часов! Ты слышишь меня? Потерпи — ты будешь жить!» Андрей не слышал его. Он смотрел, как за спиной врача из-за деревьев поднимаются в воздух огромные птицы и, построившись клином, летят на юг. Сотни, тысячи, десятки тысяч птиц. И тогда Андрей закричал. Он кричал, когда его клали на носилки, когда его несли в машину, когда его везли в Москву. А когда Андрей перестал кричать, ему уже было все равно.
Банка с мертвецами
В конце зимы, когда из-под старого и некрасивого снега запахло рыбой, старухи в подземных переходах начали продавать трехлитровые банки с мертвецами. Маленькие, размером со спичечный коробок, мертвецы казались упругими и гладкими, как будто отлитыми из коричневой резины. Беспалые, закругленные на концах, руки и ноги были раскинуты в стороны, длинные щели ртов темнели на пустых лицах с лунками вместо глаз.
Вскоре Игорь Перевощиков с удивлением обнаружил, что люди вокруг регулярно покупают мертвецов и откуда-то знают, что с ними нужно делать. Это было странно — ни в газетах, ни по телевизору про мертвецов не рассказывали. Игорь вообще не был уверен, что все это законно, но никто вроде бы не делал из мертвецов секрета: на работе и в маршрутке их обсуждали без тени смущения, и даже милиция, кажется, не слишком притесняла продавцов.
В пятницу, после работы, Игорь остановился на спуске в подземный переход перед маленькой старухой в синем пальто.
— Почем у вас банка? — спросил он. Игорь не любил слова «почем?» и «кто крайний?», но считал, что с народом нужно говорить на его языке. За это он себя немножко презирал.
— Шестьсот, — довольно ответила старуха и полезла в стоявшую на ступеньке клетчатую сумку. — Шестьсот, сыночек, как у всех.
Игорь отсчитал деньги и взял банку. Он не знал, сколько мертвецов должно быть внутри, но стеснялся спросить. Вроде бы их было штук десять.
— Хорошие, хорошие — не сомневайся, — сказала старуха, засовывая деньги в кошелек. — Только сегодня собирала.
Игорь достал из кармана пакет, развернул и, присев на корточки, поставил в него банку.
— Спасибо, — сказал он.
— А на здоровье, — отворачиваясь к соседке, равнодушно сказала старуха.
Проверив, выдержат ли ручки, Игорь поднял пакет и пошел вниз по лестнице.
Дома Игорь поставил банку на письменный стол и разделся до пояса. Вытряхнув из банки одного мертвеца, он, как учили, крепко прижал его к левому плечу. Вскоре Игорь почувствовал легкий укол — мертвец откусил от него маленький кусок. Игорь положил мертвеца на стол и осмотрел ранку. Она не болела и почти не кровоточила. Игорь надел, не застегивая, рубашку и стал ждать.
Через несколько минут мертвец стал Наташей Фомичевой, которая в седьмом классе перешла в пятую школу. Наташа открыла глаза и, обращаясь куда-то в сторону кухни, начала говорить:
— В пятой школе оказалось еще хуже — ну, ты же помнишь, из-за чего я ушла, — но ничего, доучилась как-то. Там же еще Денис Верховский учился и Лена Минеева. Хотя Лену ты не знал, наверно. В общем, ничего, доучилась. После школы поступила на экономический и на втором курсе вышла замуж. Помнишь Веру Соколову? Черненькая такая, с зубами. Ну, с прикусом у нее что-то было. Это ее старший брат, он тоже с нами учился, но я его по школе совсем не помню почему-то. А мы пошли на майские в Нижние сады гулять, и он тоже там был, и через две недели начали встречаться. Сережа из армии пришел и ремонтировал холодильники, поэтому сначала маме не нравился, но потом вроде ничего. Вот это фотография со свадьбы, пятнадцать лет уже прошло, надо же. Какой у него костюм смешной. А тогда казалось нормально. Потом родилась Инночка, и я ушла в академ. В институт так и не вернулась. Потом уже бухгалтерские курсы закончила, так и работаю. Это мы с Инночкой на нашей кухне, еще до ремонта, смешная такая, щеки пухлые. Я в девятом классе приходила к вам на дискотеку, но тебя не было. А еще как-то ты шел по Советской Армии с тортом, но ты меня не заметил, а я уже не стала подходить. Сейчас в девятом уже учится. Вот, гляди. Красивая, правда? Надеюсь, хоть поумнее будет. Да нет, она молодец, в бадминтон играет, в секции. И в школе тоже хорошо все. А это мы в Египет прошлым летом ездили, все вместе. В Хургаду.
Через десять минут Наташа закрыла глаза и снова стала мертвецом. Игорь вышел на кухню, поставил чайник и сел за стол, не включая света. За окном, в темноте, шел дождь. Игорь встал, вернулся в комнату и достал из банки второго мертвеца.
К утру Игорь выслушал всех мертвецов, а в субботу купил у разных старух еще несколько банок. Каждый вечер он давал мертвецам откусывать от себя по кусочку и слушал их рассказы. Только сейчас Игорь понял, как мучился от того, что люди один за другим бесследно растворялись в огромном пустом мире. Миллионы упущенных возможностей сводили с ума. Но теперь все, кто ушел, вернулись домой. Они снова были вместе, и Игорь стал главой этой большой семьи. Милиционеры, врачи, продавцы, математики, военные, бизнесмены, домохозяйки. К нему они приходили по вечерам, перед ним исповедовались, у него искали утешения. Мир, к сожалению, все еще менялся, но мертвецы Игоря теперь всегда были рядом — только протяни руку. Больше никто не исчезал навсегда, больше не было пустоты.
Ночью Игорь проснулся. Он попробовал повернуться на бок, но что-то мешало. Несколько секунд Игорь ощупывал странный предмет, пока не сообразил, что это вцепившийся в бок мертвец. Отбросив мертвеца куда-то в угол, он вскочил с кровати и зажег свет, с трудом нащупав оказавшийся неожиданно высоко выключатель. На кровати кишели выбравшиеся из банок мертвецы, а несколько десятков повисли на Игоре и продолжали его есть. Игорь пытался их стряхивать, но они очень ловко карабкались по ногам и снова кусали руки и живот. Мертвецы из постели быстро спускались на пол и тоже ползли к Игорю.
Тогда он кинулся к входной двери. И замок, и ручка на ней почему-то тоже оказались расположены очень высоко, и Игорь понял, что мертвецы успели его сильно обглодать и он стал меньше ростом. Открыв дверь, Игорь побежал вниз по лестнице, отрывая от себя коричневые трупики, но мертвецы с неожиданным проворством бросились в погоню, на ходу впиваясь в голые икры жертвы.
Перебежав через дорогу, Игорь продрался сквозь кусты и оказался в парке. Он старался бежать там, где деревья росли погуще, чтобы ветки стряхивали с него мертвецов. Было больно, но мертвецы действительно падали один за другим на мокрую землю. Сзади еще раздавалось шуршание, но оно становилось все тише — преследователи постепенно отставали.
Игорь бежал, прикрывая глаза руками, и поэтому не заметил, как оказался на краю оврага. Он долго катился вниз, ломая кусты и давя оставшихся мертвецов, а потом ударился об дерево и потерял сознание.
Когда Игорь очнулся, было уже светло. Он не мог пошевелиться, но знал, что стал очень маленьким: мертвецы съели его почти целиком. Игорю было все равно. Он лежал и смотрел в серое небо, пока его не заслонила огромная голова старухи.
— Вон ты где спрятался, — сказала старуха и, подняв Игоря с земли, положила в банку.
Чудо
— Здравствуйте, Лена. Здравствуйте, Антон. — Он ждал их на площадке между этажами и теперь медленно поднимался по лестнице.
Двери лифта шумно закрылись. Антон подумал, что нужно на всякий случай загородить собой Лену, но остался на месте и просто положил ключи обратно в карман.
— Кто вы? — спросила Лена.
— Мне нужно с вами поговорить. — Незнакомец теперь стоял всего двумя ступеньками ниже. Это был болезненно высокий человек с грубыми чертами лица. Даже сейчас он смотрел на них сверху вниз, хотя и у Антона, и у Лены рост был за метр восемьдесят. — Не бойтесь, я не сделаю вам ничего плохого. У меня нет рук.
Антон посмотрел на пустые рукава его пальто, исчезавшие в карманах, и перевел взгляд на Лену. Та разглядывала незнакомца, близоруко прищурившись и накручивая на палец прядь длинных черных волос.
— Хорошо, — наконец сказала она.
Незнакомец остановился в прихожей и, пока Антон запирал дверь, молча смотрел куда-то в глубь квартиры. Лена, сняв ботинки и повесив куртку на вешалку, прошла на кухню и включила свет. Антон повернулся к безрукому и подумал, что придется, наверное, расстегивать ему пуговицы на пальто и развязывать шнурки.
— Если вы позволите, я не буду раздеваться, — сказал незнакомец, не оборачиваясь.
— Конечно, — сказал Антон, разматывая шарф. — Проходите на кухню.
На кухне безрукий сел за стол. Лена стояла спиной к окну и ждала, пока Антон разденется.
— Что вам нужно? — спросила она, когда он вошел.
Антон в очередной раз позавидовал тому, как она умеет разговаривать с людьми таким строгим, даже неприязненным тоном.
— Вы не должны больше встречаться, — сказал незнакомец. — Это слишком опасно.
— Почему? — спросил Антон, стоя в дверях.
— Через две недели вы оба сойдете с ума. Может быть, даже раньше, — сказал безрукий, глядя на Лену.
— Мне кажется, это вы сошли с ума, — сказала она.
— Нет. Если вы дадите мне пять минут и не будете перебивать, я все объясню.
Антон встал рядом с Леной и взял ее за руку.
— Хорошо, — сказал он.
— Планета, откуда мы родом, умерла пять тысяч лет назад, — начал безрукий, опустив голову. — Эвакуировать все двенадцать миллиардов было невозможно — не хватало ни времени, ни техники. Поэтому мы заключили наши разумы в микроскопические капсулы и отправились к Земле. Корабль, перевозивший их, летел почти тысячу лет. Вы вряд ли сможете понять, что это значит — тысяча лет без зрения, без слуха, без тела. Только темнота, страх и надежда. Мы умеем общаться телепатически, но этого было мало. Кто-то мечтал снова увидеть свет, кто-то сходил с ума от того, что не может вспомнить запах своей кожи, нагретой солнцем. Я почему-то думал о воде — как она льется из крана, как ударяется о металл кухонной раковины, как можно, изогнувшись, хватать ее губами. Тысячу лет я мечтал о том, чтобы попасть под дождь. Когда лет через двести я осознал, что уже не совсем понимаю, что такое «мокро», мне стало страшно. Но это того стоило — на Земле, как мы и предполагали, жили люди. Наш ковчег остался на орбите, а первая группа капсул отправилась вниз. Они проникли в мозг младенцев через еще не закрывшиеся роднички и подключились к нервной системе. Мы не захватываем ваши тела — нам достаточно просто видеть, слышать и чувствовать то же, что и вы. К тому же вытеснить чужой разум практически невозможно. А когда человек умирает, капсула возвращается обратно на корабль — снова ждать своей очереди. Правда, никто еще не вселялся в человека дважды. Двадцать один грамм, на которые человек становится легче после смерти, — не душа, как вы думаете, а капсула с кем-то из нас. В общем, это почти идеальный симбиоз. Конечно, вы бы назвали нас, скорее, паразитами, но, честное слово, мы не причиняем никакого вреда. Проблемы возникают только в одном случае — если встречаются люди, в которых живут те, кто был связан друг с другом в прошлой жизни. Как правило, это мужья и жены. В нашем мире любовь — гораздо более сильное чувство, чем в вашем. Не обижайтесь. Это связано скорее с физиологией, чем с какими-то другими вещами. Когда капсулы мужа и жены долго находятся рядом, они перестают контролировать себя и пытаются вытеснить хозяев. А это, как я уже сказал, почти невозможно. В девяносто девяти случаях из ста разумы просто начинают смешиваться, и все заканчивается сумасшествием. В безумии нет ничего романтического — это тоска, бессилие и темнота. К тому же это не просто психическая болезнь — строго говоря, нельзя даже считать, что вы станете сумасшедшими. Вас просто больше не будет. Личности носителя и того, кто внутри, войдя в контакт, исчезают. Компьютер, направляющий капсулы на Землю, старается не допускать таких встреч, но он не может контролировать все. Вы, например, родились на расстоянии в полторы тысячи километров друг от друга — никто не думал, что вы встретитесь. Теперь вам надо расстаться. Вы вместе уже две недели: через пять дней процесс станет необратимым, а еще через десять вы окончательно сойдете с ума.
Безрукий замолчал, по-прежнему не поднимая глаз от стола.
— Теперь уходите отсюда, — сказала Лена. — Мы вызовем милицию. Или «скорую помощь».
— Вы мне не поверили, — тихо сказал безрукий.
— Вы ничем не доказали, что вы не сумасшедший.
— Я знаю. Но как я должен это доказывать?
— Я вам подскажу, — сказала Лена. — Если вы обещаете после этого уйти. Вы сказали, что можете телепатически общаться друг с другом. Пусть эти ваши паразиты прочитают наши мысли и передадут их вам.
— Они не могут читать ваши мысли, — покачал головой безрукий. — Ваши разумы никак не контактируют. Можете считать, что у вас просто одни и те же органы чувств: они видят и слышат то же, что и вы.
— Хорошо, — сказал Антон. — Пусть тогда расскажут, что я делал сегодня утром, когда Лена была в институте.
— Вы снова легли спать, — заговорил безрукий после небольшой паузы. — Потом встали и пошли на кухню. Включили радио, услышали рекламу и снова выключили. Включили чайник, сделали себе два бутерброда с карбонадом и один с «виолой», налили чай и начали завтракать, одновременно читая Боулза. Дочитали до места, когда Стенхэм отправился в гости к Си Джафару, и пошли умываться. Достаточно?
— Да, — неуверенно сказал Антон и посмотрел на Лену.
— Хорошо, — сказал она. — Подождите одну минуту.
Лена вышла из кухни и почти сразу вернулась.
— Что я сейчас сделала? — спросила она.
— Ничего, — сказал безрукий. — Вы постояли в комнате, подошли к телевизору, потрогали пальцем экран и вернулись обратно.
Антон посмотрел на Лену. Та растерянно кивнула.
— Тогда мне непонятно, кто вы такой, — сказал Антон. — Вы сказали, что не захватываете чужие тела.
— Я вселился в человека, который был на операционном столе. Мозг уже почти умер, спасти его было невозможно. Я смогу поддерживать в нем жизнь еще где-то полгода. Потом я вернусь обратно.
— Вы говорили, все заканчивается сумасшествием в девяносто девяти случаях из ста, — сказала Лена. — Значит, шанс все-таки есть?
— У вас — нет. Один шанс из ста есть у того, кто внутри, — он может полностью вытеснить ваш разум.
— Тогда пусть он вернется со своей капсулой обратно на корабль.
— Капсула не может покинуть мозг живого человека. Вы умрете.
Лена зачем-то включила чайник. Все молчали, слушая, как закипает вода.
Безрукий встал из-за стола.
— Пожалуйста, не встречайтесь больше, — сказал он. — Если вы любите друг друга — уезжайте в разные города или даже разные страны. И еще. Я знаю, те, кто сейчас внутри вас, не спрашивали вашего согласия, но они тоже хотят жить. Они познакомились за год до того, как все произошло. Он немного заикался и никогда не запоминал снов. Она не умела готовить и любила ходить босиком. Они ждали ребенка, когда произошла катастрофа.
Безрукий вышел из кухни в прихожую. Антон пошел за ним, чтобы открыть дверь.
— Простите, — сказал безрукий уже на пороге.
Антон не ответил.
Когда он вернулся на кухню, Лена сидела за столом. Антон сел рядом.
— Ты ему веришь? — спросила Лена.
— Да.
— Что же нам делать?
— Знаешь, — сказал Антон. — Я часто думал — почему в «Обыкновенном чуде» Абдулов не хотел целовать принцессу? Он боялся превратиться в медведя или не хотел, чтобы она жила с мыслью, что это случилось из-за нее?
— У нас все проще, — сказала Лена. — Мы оба превратимся в медведей.
Ночь они провели вместе. Рано утром Лена тихо встала, оделась и ушла. Антон лежал, делая вид, что спит. Когда дверь захлопнулась, он заплакал.
Больше они не виделись. Лена почти сразу уехала в Новую Зеландию, где поступила в какой-то университет в Крайстчерче. Антон через несколько месяцев фиктивно женился на шведке по имени Урсула и поселился в Мальме. Урсула оказалась ленивой, но незлой и смешливой бабой, переехавшей в город из деревни. Антон платил ей три тысячи в месяц, и Урсула была абсолютно счастлива — только просила не водить домой девок, чтобы соседи не заявили в полицию. Впрочем, Антон никого и не водил. Он наконец серьезно занялся фотографией и даже получил грант от одного местного фонда. Уже через полгода у Антона была выставка в галерее Eye/Eye.
А еще через год Антон уехал из Швеции, оставив Урсуле свое оборудование и пятнадцать тысяч евро — почти все, что у него было. Лена бросила университет и, соврав соседке по общежитию что-то про семейные проблемы, взяла билет на самолет. Они встретились в Гоа и поселились в маленькой гостинице, где, кроме них, жили только два гея-англичанина. Через три недели Антон и Лена сошли с ума.
Юрьев день
Егор вытряхнул из стакана на снег последние капли чая, завинтил термос и убрал в рюкзак. Люди вокруг тоже молча копошились в темноте, что-то доставая, убирая и перекладывая. Было без пяти минут двенадцать, и Юрьев день уже почти начался. Тяжело поднявшись с корточек, Егор потянулся и замер, прислушиваясь к ощущениям. Колени ныли, справа в пояснице что-то тянуло. «Вот тебе, дедушка! — со злостью подумал он. — Еще бы до пенсии ждал». Поставив рюкзак под дерево — от раздражения он делал все очень аккуратно и даже еще раз наклонился поправить завернувшуюся лямку, — Егор пошел в сторону границы. С собой все равно ничего нельзя было брать, даже в карманах.
Впереди, на пропускном пункте, уже горел свет, но проход оставался закрытым и пограничники по-прежнему не показывались. Справа из темноты выплыл голубой прямоугольник, сообщавший, что «прикордонна служба — гарант недоторканостi кордонiв». «Торкало-торкало, да так и недоторкало», — вяло подумал Егор. Он чувствовал, что мелко дрожит, то ли от холода — сидеть почему-то казалось теплее, чем идти, — то ли от волнения. «Дома было страшнее», — напомнил себе Егор, но сам не очень в это поверил, поскольку никак не мог вновь ощутить этот страх. Вспоминались только война и скука, и было уже не очень понятно, как они могли сочетаться, но почему-то они сочетались, и дни проходили в тоскливом соседстве со смертью, скучной и серой, как пыль на лицах людей, лежащих перед единственным уцелевшим подъездом. Впрочем, про смерть он помнил не всегда: особенно когда дома были и свет, и интернет и можно было смотреть какой-нибудь сериал — занятие, в сущности, не менее бессмысленное, чем смерть, но оставляющее надежду на то, что и небытие будет наполнено хотя бы чужими снами.
Граница открылась ровно в полночь: двое солдат откатили немного в сторону тяжелый шлагбаум на колесах, так чтобы проходить внутрь можно было только по одному, и начали запускать людей, бегло просматривая паспорта. То ли из-за казавшегося совершенно чужим, словно с другого континента и из другого времени, языка, то ли еще почему-то, но желающих переселиться в Венгрию было немного, человек, наверное, пятьдесят. К утру они уже прошли все формальности по обе стороны границы и погрузились в автобусы.
Егора отправили в Дунауйварош, город из панельных домов и смерзшихся мертвых листьев, со странными металлическими скульптурами над рекой, напоминавшими приспособления для массовых казней в мире светлого от радиации будущего. На первые полгода ему дали однокомнатную квартиру в районе, который Егор считал спальным, пока не обнаружил, что спальным был почти весь город, кроме южной его части — за лесом, где прятались заводские корпуса. Предполагалось, что за эти полгода он найдет себе работу — видимо, в одном из лесных цехов, — но вместо этого, когда закончился срок бесплатного проживания, он просто переехал к обитавшей двумя этажами выше соседке, женщине высокой, нескладной и хорошей. Звали ее смешным именем Пирошка, которое Егор, конечно, сразу переделал в игривый «Пирожок».
По утрам Пирожок уходила на работу в какую-то муниципальную контору, а вечерами они вдвоем смотрели телевизор, надеясь, что это поможет Егору выучить язык, но он просто смотрел на движущиеся картинки и слушал странную речь, думая при этом о чем-то своем, как если бы смотрел в окно поезда, не пытаясь найти смысл в перестуке колес и дождя. Ему запомнился только один сериал, который показывали по вторникам, — юмористические, судя по взрывам потустороннего смеха, истории из жизни пятерых не то друзей, не то родственников. Почти в каждой серии один из них, любвеобильный увалень, всем своим видом, казалось, говоривший: «Я толстый, поэтому обязан быть добрым», — актер наверняка хмуро тиранил дома маленькую безответную жену, — пытался познакомиться с очередной красоткой и раз за разом попадал впросак, снова оставаясь в одиночестве перед заключительными титрами, а смешливые призраки за кадром продолжали хохотать и вроде бы даже улюлюкать. Этот персонаж вызывал одновременно жалость и стыд, поэтому на последних минутах Егор закрывал глаза, чтобы не видеть его неловких мучений, но никогда не выдерживал до конца: всякий раз ему казалось, что смех в новой серии звучит по-другому, что в нем появились радостные нотки и что это, конечно, радость за толстяка, которому наконец повезло. Егор знал, что это только иллюзия, и напоминал себе, что слышит все тот же стандартный смех из фонотеки, но после пары минут в темноте ему становилось абсолютно ясно, что теперь все иначе, что смеются уже не бесы, а ангелы, счастливые чужой любовью, что телевизионщики взяли другую запись или вообще пригласили в студию настоящих зрителей, поэтому буквально за секунду до титров Егор все-таки успевал бросить взгляд на экран и увидеть, что все осталось как было.
Следующим летом в телевизоре стало больше новостей и исторических фильмов: на экране сменяли друг друга гусары — почему-то в киверах из меха, — пятнистые генералы перед батареями разноцветных микрофонов и вездесущий Аттила, на коне и с голым торсом. Осенью Егора забрали в армию. Месяц он провел в учебке, а потом новобранцам выдали оружие, посадили в обычный, вроде бы даже рейсовый, автобус и отвезли на войну. Когда начали стрелять, Егор, пригнувшись, осторожно шел вдоль жестких кустов, обозначавших границу участка чьего-то деревенского дома, и думал о том, что сегодня, кажется, девятое декабря, а значит, опять наступил Юрьев день. В шее что-то лопнуло, отчего красная кровь стала равномерно выплескиваться на землю, так что ему пришлось сесть и, положив автомат, попробовать остановить ее пальцами. Получалось плохо, и Егор понял, что в этот Юрьев день снова идет в другой мир, вот только его обязательно нужно было успеть придумать, причем придумать действительно другим, лучше и теплее, поскольку Егору становилось холодно и поскольку все там должно было быть иначе, а времени уже совсем не оставалось, и единственное, что ему приходило в голову, — это толстяк из сериала, которого держит за руку очень красивая женщина, и никто не смеется, потому что все стоят — оказывается, от съемочной площадки, как от цирковой арены, уходят вверх бесконечные ряды кресел, но в них никто не сидит, потому что все стоят и аплодируют, а кто-то, похоже, даже плачет, и тогда Егор перестал удерживать в себе кровь и тоже хлопнул в ладоши, и капли опять брызнули на снег, и он снова поднялся, чтобы идти к границе, где уже горел свет и шли навстречу тени, и по-прежнему ничего нельзя было взять с собой, но больше ничего не было нужно и больше ничего не болело.
Будет еще хуже
Антон открыл Outlook и начал писать письмо:
«Уважаемые сотрудники ФСБ!
Сегодня я получил электронное письмо-спам следующего содержания:
«можете дела отчетливо обнаружит чертовой
пощелкал том
собрав степени заметок
цифровые»
Возможно, это компьютерный вирус нового поколения или зашифрованное послание ичкерийских сепаратистов. На всякий случай, пересылаю его Вам.
С уважением,
Антон Коротеев»
Закончив, он написал адрес «fsb@fsb.ru», нажал кнопку «Send» и вернулся к составлению инвойса.
Когда Антон пришел вечером домой, его ждали два карлика в темно-серых костюмах. У обоих были черные, подкрученные кверху усы, как у силачей из старинного цирка. Они привязали его к креслу и надели ему на голову сделанный из мелкоячеистой сетки шлем, от которого тянулись провода к ноутбуку. Пока один из них что-то настраивал в компьютере, второй объяснял Антону:
— В голове у каждого человека живут две враждующие расы — Усатые Карлики и Худые Гномы. Нам очень сложно оставаться на поверхности Земли: у нас, Усатых Карликов, очень хрупкие кости, а Худые Гномы от земного воздуха болеют туберкулезом. Поэтому среди людей живут только самые крепкие. Всех остальных мы уменьшили и поселили в ваших головах. Обычно Усатые Карлики и Худые Гномы поддерживают паритет, но когда человек начинает писать письма в ФСБ, это значит, что мы начинаем брать верх. Тогда приезжает специальная бригада и добивает Худых Гномов: Усатые Карлики сообщают, где именно в голове сидят уцелевшие Гномы, и мы их уничтожаем точечными ударами.
Первый Усатый Карлик закончил настройку, и на экране ноутбука появилось объемное изображение человеческой головы, опутанной сеткой координат. Он вставил в ноутбук наушники и стал к чему-то прислушиваться, а его напарник тем временем достал из внутреннего кармана пиджака длинную спицу и подошел к Антону.
— Начинаем, — сказал первый. — J27-A5-B15.
Второй ловко воткнул спицу в нужную дырку на шлеме. Она легко прошла сквозь череп и вонзилась Антону в мозг.
— Убит, — сказал карлик в наушниках. — H8–B4–L35.
Карлик со спицей вытащил ее из мозга Антона и воткнул в новое отверстие.
Через два часа, уничтожив около пятидесяти Худых Гномов, карлики сняли с Антона шлем, упаковали оборудование и ушли.
— Поздравляю, — сказал на прощание тот, который был со спицей. — Теперь у вас в голове остались только Усатые Карлики.
Ночью Антона разбудили трое Худых Гномов.
— Вставайте, — сказал старший, прижимая к губам испачканный кровью платок. — Еще пара часов, и Усатые Карлики будут полностью вас контролировать. Один из наших смог спрятаться и послал сигнал бедствия. Заселять вашу голову новыми Худыми Гномами уже поздно, поэтому придется убить всех Усатых Карликов.
Гномы усадили Антона за кухонный стол, на который предварительно положили лист белого ватмана. Один из них остриг Антону челку и маленькой пилой с крутящимся на конце зубчатым диском сделал ему над глазами два вертикальных разреза. Антона попросили положить подбородок на край стола. После этого старший Худой Гном начал бить его большим молотком по затылку. От ударов на лист ватмана посыпались из разрезов крошечные Усатые Карлики. Они ползли по бумаге, оставляя за собой следы слизи, а два Худых Гнома с молотками поменьше быстрыми и точными ударами расплющивали их. Когда на столе оказался уцелевший Худой Гном, подавший сигнал бедствия, его бережно посадили в специальный контейнер и снова начали убивать Усатых Карликов.
Скоро все было кончено. От последних трех ударов из головы Антона вылетали только капельки мозга. Карликов там уже не осталось.
Когда Худые Гномы уже сворачивали испачканный ватман и мыли под краном молотки, в квартиру ворвались Усатые Карлики. Воспользовавшись неразберихой, Антон прорвался в коридор. Под ногами хрустели ломкие кости Усатых Карликов. Антон схватил куртку, первые попавшиеся ботинки и скатился по лестнице. Уже на улице он кое-как обулся и побежал через парк. В кармане куртки зазвонил телефон.
— Вы еще не знаете самого главного, — закричал Усатый Карлик. — Мы не просто так живем в ваших головах! Мы уничтожаем яйца Ящеров, которые вы носите в желудках. Если из них вылупятся Ящеры, все погибнет!
Антон отключил телефон и побежал дальше. Через несколько минут его скрутило от острой боли в желудке. Он немного полежал на траве, прижав колени к животу. Стало немного легче, но, встав на ноги, Антон понял, что дальше идти не сможет. Он спустил трусы и сел под кустом. Через несколько секунд из кишечника, раздирая анус, вылез маленький Ящер. Он расправил склеившиеся крылья и начал быстро расти. Тем временем из Антона выпадали все новые и новые Ящеры. Потом двое самых старших Ящеров, ростом уже больше двух метров, подхватили Антона и полетели с ним на крышу ближайшей шестнадцатиэтажки. Там его привязали к какой-то антенне и оставили рожать новых Ящеров.
Когда рассвело, на крыше появились Усатые Карлики и начали отвязывать его от антенны. Город горел. Повсюду летали огромные Ящеры, пикируя на бегущих людей и откусывая им головы. Из обезглавленных тел вылезали новые Ящеры, быстро вырастали и поднимались в воздух.
Карлики положили Антона на крышу, разрезали ему живот и стали ложками вычерпывать оттуда икру Ящеров. Выскоблив все подчистую, они сложили все яйца в кучу, облили чем-то и подожгли. Антона Усатые Карлики положили в гондолу небольшого дирижабля и, крутя педали, полетели на восток.
— Почему вы меня не убьете? — хрипло спросил Антон.
— У тебя в сердце живет Бог, — не оборачиваясь и экономя дыхание, сказал один из Усатых Карликов. — Если оно остановится, Бог окажется на свободе. И тогда будет еще хуже.
EBITDA
Все, что с ним происходило до офиса, Вовка помнил очень смутно. Первые годы его жизни слиплись в тускло-коричневый неряшливый ком, до которого было противно даже дотронуться, чтобы отшвырнуть подальше. Где-то там угадывался детский дом, бесконечные коридоры, пунктир подоконников, линолеум с проплешинами, белые двери, пустотелые воспитатели и большой, рыхлый, опасный Кирилл Баринов, которого в глаза полагалось уважительно называть Барином, а за глаза — Бараном — впрочем, не менее уважительно. Внутри детдома всегда был желтый скудный свет, а за окнами, сколько ни вглядывайся, — тоскливая темнота ноябрьского вечера. Вспоминались еще липкие спальни, но когда, особенно на рассвете, ком вспучивался, выталкивая их на поверхность, Вовке хотелось, преодолев брезгливость, засунуть все это обратно, в самую сердцевину уродливой опухоли.
В офис их привезли на экскурсию, когда фирма взяла шефство над детдомом. Для начала подарили большой телевизор, видеомагнитофон и несколько коробок бессмысленных игрушек, а потом кто-то из начальства решил показать детям, к чему им теперь нужно стремиться. Детдомовцев долго водили из кабинета в кабинет, скучно рассказывая, чем занимается каждый отдел. Сотрудники поворачивались к дверям на своих стульях с колесиками и неловко улыбались. Казалось, каждый знал, что сейчас ему нужно погладить по голове ближайшего мальчугана и сказать: «Вот, посмотри — будешь хорошо учиться, закончишь институт, и возьмем тебя к нам работать», — но все молчали, понимая, что никаких мальчуганов здесь нет и что никто из этих чужих маленьких людей никогда не поступит в институт.
Когда они вышли из очередного кабинета, чтобы отправиться, кажется, в бухгалтерию, Вовка незаметно переместился в конец группы и, когда все скрылись за поворотом, развернулся, двинувшись обратно. Он открыл незапертую дверь кладовки, которую приметил пару минут назад, забрался в картонную коробку и сел там, уткнувшись лбом в колени. Вовка не очень понимал, зачем он это делает, но думать о причинах и, главное, последствиях своего побега ему не хотелось. Он просто сидел и слушал. Минут через двадцать, когда экскурсия, видимо, закончилась, его начали искать: ходили туда и сюда по коридору, звали Вовку по фамилии. Несколько раз дверь в кладовку открывалась и загорался свет, но в коробку никто не заглядывал. Скоро поиски закончились: наверное, все решили, что он давно уже где-то в городе. Вовка на всякий случай послушал еще немного, а потом заснул.
Проснулся он уже ночью. Не было слышно ни шагов, ни голосов, и под дверью больше не было света. Вовка вылез из коробки и ощупью нашел дверную ручку. К счастью, на ночь кладовку тоже не запирали. Стараясь не шуметь, Вовка вышел в коридор и прислушался. Судя по всему, офис был пуст — единственным звуком было тихое гудение какой-то техники, — но Вовка на всякий случай разулся и, оставив кроссовки в кладовке, пошел осматривать свой новый дом. За дверью было уже не так темно: через окно в конце коридора внутрь проникал бледный фонарный свет. Вовка наудачу толкнул двери нескольких кабинетов, но все они были заперты.
Ключи нашлись быстро: они были свалены кучей в ящике стола за стойкой, которую экскурсовод назвал «ресепшен». К каждому ключу крепилась бирка с номером, но Вовка решил отложить исследование кабинетов на потом. Сначала нужно было разобраться с едой и ночлегом. Кухня нашлась за поворотом коридора, рядом с туалетами. Похоже, каждый день кто-то готовил обед для всего офиса: в холодильнике стояла кастрюля с остатками супа и пластиковые судки с котлетами и макаронами. Вовка, не разогревая, быстро поел, помыл за собой тарелки и вернулся в кладовку. Там он включил свет и наконец внимательно ее рассмотрел. Комната была шириной полтора метра, зато от двери до дальней стены было метра четыре. Пользовались кладовкой явно нечасто: к стоявшему в глубине стеллажу было не подойти из-за сваленных в кучу коробок, папок, рулонов линолеума и какого-то полустроительного мусора, оставшегося, наверное, после ремонта.
Вовка расчистил себе дорогу и осмотрел стеллаж, обнаружив, что тот не привинчен ни к одной из стен. Снял с полок все папки и коробки, стараясь запоминать, где что лежало, и отодвинул стеллаж примерно на метр от задней стены. Затем, взяв линолеум, проковырял в его углах дырки и проволокой примотал конец рулона к верхним полкам стеллажа. Внизу линолеум был не закреплен и свободно свисал до пола, так что его можно было приподнять и пролезть в получившийся тайник. Если смотреть от входа, казалось, что стеллаж по-прежнему стоит у самой стены. Закончив работу, Вовка представил себя сотрудником фирмы и еще раз критически осмотрел кладовку. Не обнаружив ничего подозрительного, он расставил все по местам, оставив свободной только одну из нижних полок. В пространстве за стеллажом он на скорую руку соорудил постель из картонных коробок и старой занавески и, погасив свет, снова лег спать.
Уже через несколько дней Вовка с трудом мог себе представить, что за пределами офиса есть какой-то другой мир и что он когда-то был его частью. Иногда ему по-прежнему снился детский дом, но в этом не было ничего страшного: именно там, в путаных, выморочных снах, ему и было самое место. Вовка знал: то, что происходит с ним сейчас, — это и есть настоящая жизнь, а все остальное было подготовкой, жестоким и стыдным испытанием, пройдя которое ты получал право стать наконец самим собой.
Днем он спал или просто лежал, слушая шаги и обрывки разговоров в коридоре, а ночью, дождавшись, когда все разойдутся по домам, доедал на кухне остатки обеда, после чего брал из ящика на ресепшене ключи и шел инспектировать кабинеты. Еще во время экскурсии по офису Вовка был заворожен россыпью канцелярских принадлежностей на столах сотрудников, и сейчас все это богатство было в полном его распоряжении. Он забирался на синие и красные кресла с колесиками и устраивал смотр своим сокровищам. На столах, в пластмассовых подставках, стояли букеты из ручек — прозрачных, так что были видны стержни с пастой, или цветных, у которых на боках можно было прочитать таинственные и звонкие имена незнакомых фирм. Иногда там попадались карандаши: обычные, лаково-деревянные, и пластиковые, похожие на ручки, в которых вместо чернил были невообразимо тонкие графитовые стержни. Если щелкнуть кнопкой на конце такого карандаша, он неохотно, по миллиметру, выплевывал из себя грифель, слишком хрупкий, чтобы уцелеть без защиты пластикового скафандра в грубом человеческом мире. Плоские широкие фломастеры с косо обрезанными фетровыми стержнями писали такими оттенками розового, зеленого и желтого, каких никогда не было на Земле, и если бы у этого канцелярского Эльдорадо был свой флаг, то он выглядел бы именно так: болезненно-розовый, ядовито-зеленый, космически-желтый. Тяжелые белоснежные ластики пахли сладким пластиковым дурманом. Узкие выдвижные лезвия ярких ножей можно было по кусочкам отламывать голыми руками. За горсть разноцветных скрепок любой туземный вождь, не задумываясь, продал бы архипелаг средней руки. Из белоснежных, идеально ровных пачек бумаги можно было построить рай. Массивные дыроколы были похожи на ручки невидимых дверей в другие миры, а изящные степлеры при каждом нажатии на них творили маленькое чудо: как фокусник в цирке, куда Вовка однажды ходил с детским домом, связывал разноцветные платки прочным красивым узлом, просто подув на сжимавший их концы кулак, так и степлер делал два листка бумаги единым целым, прошивая их насквозь появившейся из ниоткуда тонкой скрепкой.
Вовка мог бы многое рассказать о хозяине каждого стола. У одних был идеальный порядок: ручки в плотно надвинутых колпачках обязательно ставились в черный цилиндр подставки, документы аккуратно подшивались в папки, а чисто вымытая чашка каждый вечер убиралась в нижний ящик. У других царил вечный бардак, так что страшно было даже прикоснуться к столу: казалось, если взять оттуда хотя бы листок, эта барочная пирамида, с каждым днем становившаяся выше и вычурнее, медленно и неумолимо съедет на пол, чтобы погрести под собой весь офис.
У женщин под столом часто стояли туфли, и за их разглядыванием Вовка провел не одну ночь: доставал одну за другой из потертых пластиковых пакетов и представлял себе их хозяек. Стоптанные балетки бухгалтерши, державшей в ящике какой-то медицинский чай и каждый день стиравшей пыль с фотографий детей в аляповатых рамках. Золотистые босоножки секретарши, у которой под стеклом лежали открытки с медвежатами в заплатках, а на мониторе стоял маленький плюшевый пингвин. Строгие черные туфли на трехсантиметровом каблуке начальницы одного из отделов, чей клинически аккуратный стол казался бы абсолютно безликим, если бы не спрятанная в его глубине фотография красивого пожилого мужчины. От фотографии была почему-то аккуратно отрезана половина.
Из документов, которые оставались на столах, Вовка узнавал имена этих людей. Он быстро научился пользоваться компьютером, а потом — электронной почтой и интернетом, когда они появились у всех сотрудников. Иногда Вовка играл в игры — кроме «сапера» и «косынки», на некоторых компьютерах можно было найти даже «Принца Персии» или «DOOM», — но больше всего он любил читать деловые бумаги. Язык, на котором они были написаны, был, кажется, придуман не людьми, а обитателями каких-то других пространств, умеющими слышать иные гармонии и смыслы. Это было лучше Жюля Верна, лучше грот-брам-стень-стакселей, ворвани и секстантов, лучше зюйд-оста, норд-оста, зюйд-зюйд-веста и норда, навсегда унесших души миллионов мальчишек, которые выросли из-за этого в бессмысленных и надежных широколицых мужчин.
Вовка мечтал ходить на митинги и тренинги, участвовать в коучингах, резать косты, жаловаться на плотную адженду, писать реквесты, отдавать на аутсорсинг, оставлять коллегам записки с просьбами не профакапить дедлайн. Ему хотелось брифовать креативный отдел, фоллоуапить поставщиков, бухать проводки, пролонгировать контракты, устраивать тиконфы, чарджить, бонусировать, апрувить и форкастить. Днем, когда Вовка не мог уснуть, он вел сам с собой бесконечные диалоги на этом волшебном языке, сочинял отчеты и составлял бизнес-планы. Ему нравилось чувствовать себя частью этой вселенной, которая даже не подозревала о его существовании, но которая — Вовка почему-то знал это наверняка — уже не могла обойтись без его веры и любви. На стене своей кладовки он написал большими черными буквами «EBITDA» — слово, скрывающее в себе тайны одновременно зачатия и рождения, секстаграмматон, из которого возник этот мир.
Иногда Вовка представлял себе, как придумает какой-нибудь удивительный бизнес-план и подложит его на стол гендиректору, после чего весь офис собьется с ног в поисках неизвестного гения. А он через пару дней, вдоволь насладившись переполохом, выйдет из кладовки, постучит в кабинет генерального и со словами: «Вы меня искали? Я тут еще кое-что набросал» — небрежно протянет папку, полную еще более фантастических и смелых идей. О том, что будет дальше, Вовка боялся даже мечтать. Ему просто виделось что-то большое, стеклянное и прозрачное.
Вовка провел там двенадцать лет. Он видел, что офис, словно огромное фантастическое животное — или, точнее, словно океан, полный диковинных живых существ, — постоянно меняется. Каждую ночь Вовка убеждался, что за сутки офис стал немного другим, пусть даже никто, кроме него, не заметил бы отличия. Под столами появлялись новые туфли, на столах — новые мониторы и фотографии. Кому-то дарили новую чашку, кто-то забывал в шкафу длинный вязаный шарф. Люди увольнялись или уходили на пенсию, на их место приходили другие, принося с собой новые картинки на десктопах и новые незнакомые слова, чтобы через несколько лет тоже навсегда исчезнуть из Вовкиной жизни.
За это время он успел переоборудовать свою кладовку, заменив занавеску из линолеума почти настоящей стенкой: в офисе этажом ниже делали ремонт, и Вовка однажды ночью позаимствовал оставленный на лестнице кусок оргалита. Он научился стричься канцелярскими ножницами и, когда пришло время, бриться отломанными лезвиями ножей. Первое время Вовка переживал по поводу одежды и обуви, из которых неумолимо вырастал, но оказалось, что в офисе каждый год собирают старые вещи то ли для бомжей, то ли для детских домов, так что вскоре у него образовался неплохой гардероб. Вовка обзавелся даже костюмом — вполне приличным, только лоснившимся в некоторых местах.
Но однажды все закончилось. Когда в письмах и документах замелькали слова «кризис» и «антикризисный», Вовка поначалу не придал этому значения: предыдущий кризис он помнил смутно, но знал, что офис пережил его без серьезных последствий. Однако вскоре почти половина столов опустела, а в интернете все чаще стали появляться сообщения об уличных беспорядках. Те, кого не уволили, сперва изображали какую-то болезненную и бессмысленную активность, но очень быстро махнули на все рукой и почти совсем перестали работать. Вовка все чаще находил на столах полные до краев пепельницы, пустые бутылки и пластиковые стаканчики. В конце концов, наступил момент, когда утром в понедельник в офис просто никто не пришел.
Несколько дней Вовка бесцельно слонялся по кабинетам, варил обнаруженные на кухне остатки риса и макарон и смотрел телевизор, стоявший у генерального директора. В новостях показывали то дерущихся с ОМОНом демонстрантов, то политиков, говоривших так спокойно и убедительно и высказывавших настолько здравые мысли, что становилось понятно: ситуация окончательно вышла из-под контроля. В городе начались погромы: улицы были перегорожены баррикадами из сгоревших машин, бизнес-центры зияли выбитыми стеклами, в бутиках лежали на полу разноцветные комья разорванных платьев.
Иногда в толпе погромщиков мелькали лица, казавшиеся Вовке знакомыми: возможно, он видел их на стенде возле кухни, где вывешивали фотографии с корпоративных праздников. Теперь они выбрасывали из окон компьютеры, топтали тонкие перегородки опен-спейсов, танцевали вокруг костров из деловых бумаг и пьянели от собственной сладкой низости. То, что делали эти люди, было не просто вандализмом. Это было предательство. Клерки оскверняли свои храмы, еще не зная, что у них никогда не будет другой веры и что умерший внутри каждого из них бог уже начал разлагаться, медленно убивая их трупным ядом.
Вовка просидел в пустом офисе почти неделю. В субботу он надел рубашку и костюм, повязал галстук, лежавший в ящике стола одного из менеджеров, отыскал свои лучшие ботинки и впервые за двенадцать лет вышел на улицу. В руке Вовка держал топор, который снял по дороге с пожарного щита. Во дворе было пусто. Пахло дымом, издалека доносились одиночные выстрелы. Щурясь с непривычки от яркого солнца, Вовка сел на крыльцо, положил топор на ступеньку и стал ждать.
* * *
Шестого июня, в четыре часа дня, во дворе старого трехэтажного офисного здания на улице Гашека появились люди. Их было двенадцать человек, и почти все были вооружены. Командовал ими тридцатилетний автослесарь по фамилии Алтухов, а костяк банды составляли пятеро его одноклассников. Остальные были случайными людьми, прибившимися к Алтухову за неделю погромов. Перед крыльцом они остановились. Вход загораживал сидевший на ступеньках очень бледный молодой человек в костюме и ботинках, но без носков. Рядом с ним лежал небольшой ярко-красный топор.
— Ну чё, раб Матрицы, загораем? — спросил Алтухов. — В солярии солярка кончилась?
Банда за его спиной довольно заржала. Молодой человек поднял голову и посмотрел на Алтухова, но ничего не ответил.
— Оглох? — поинтересовался Алтухов, доставая из-за пояса «макаров». — Будем ушки чистить?
Бледный молодой человек вдруг вскочил на ноги — от неожиданности Алтухов даже отступил на шаг — и с хриплым криком: «Ебитда!» — замахнулся топором, но несколько выстрелов, прозвучавших почти одновременно, отбросили его тело к двери.
— Во психов повылазило! — пожаловался Алтухов, когда труп оттаскивали в сторону. — Убить же мог.
Вечером они чуть не перестреляли друг друга, выясняя, кто же все-таки убил сумасшедшего клерка: каждый утверждал, что смертельной оказалась именно его пуля. Витька Самсонов, самый молодой в банде, точно знал, что это от его выстрела аккуратно, почти напополам, раскололся череп безумца, но благоразумно решил не вступать в этот спор. Через два дня Витьку кто-то зарезал в подъезде.
Вторжение
В остывшем за ночь гараже остро, по-дачному, пахло сыростью. Николай Ильич лежал, не открывая глаз, и вспоминал сон. Это была какая-то ерунда из прошлой жизни, где после работы его ждало несколько встреч, на которые он непоправимо опаздывал, пытаясь по дороге придумывать оправдания и каждый раз встречаясь не с теми, кого ожидал увидеть. Как все осенние сны, сегодняшний был наполнен тоскливой школьной безнадежностью, но это не имело значения. Николай Ильич успокоился и начал распутывать защищавшую подступы к кровати сложную систему веревок и шнурков, на которых висели самодельные колокольчики из разбитой посуды. В основном это были бутылочные горлышки с болтавшимися внутри гвоздями-сотками, но попадались и остатки чашек: красных в белый горох, с памятником Минину и Пожарскому, с избыточно антропоморфной фауной детских сказок.
Под тихий звон стекла и железа Николай Ильич пролез в получившуюся прореху и встал с кровати, сунув ноги в домашние обрезанные валенки. В гараже было темно, но в тусклом свете, едва проникавшем сквозь толстые немытые стекла крошечных окон под самой крышей, было видно, что все стены и потолок оклеены фольгой. Николай Ильич вскипятил в кастрюле на электрической плитке воду из старой пластиковой бутылки и сел пить пустой чай. Он твердо держал обжигающий стакан в загрубевших пальцах и, прогнав из головы и остатки снов, и любые другие мысли, смотрел в блестящую серебристую стену, отпивая кипяток маленькими глотками. Напившись, Николай Ильич убрал стакан в шкафчик, переобулся в уличные ботинки и, надев пальто и вязаную шапку, начал отпирать дверь.
У гаража было два выхода: главные, на- мертво заржавевшие ворота и небольшая железная дверь в противоположной стене, запиравшаяся на несколько замков, засовов, цепочек и даже перевязанная какими-то веревками. Перед тем как отодвинуть последний засов, Николай Ильич, отогнув край фольги, вынул из стены рядом с дверью узкий деревянный брусок и долго смотрел на улицу через получившееся отверстие. Этот выход, замаскированный неряшливыми зарослями кустов позади гаражного кооператива, был совершенно незаметен снаружи, но осторожность никогда не мешала. Убедившись, что поблизости никого нет, Николай Ильич отворил дверь.
— С добрым утром, любимая! — пропел у него над ухом высокий мужской голос.
Николай попытался нырнуть обратно в гараж, но было уже поздно. У него на пути, придерживая дверь ногой, стоял человек лет сорока с жидкими светлыми усами на круглом лице и фальшиво улыбался. Из-под расстегнутого плаща выпирал круглый живот, туго обтянутый водолазкой.
— Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро, — сообщил пузатый и пожаловался: — Я тебя, между прочим, всю ночь караулил. Чуть дуба не дал от холода. Так что давай обратно — будем греться.
Он полез внутрь, пригибаясь под слишком низкой для него притолокой, и позвал замершего в нерешительности Николая Ильича:
— Да не стесняйся ты, борода. Заходите к нам на огонек, как говаривал товарищ Торквемада.
Пока Николай Ильич запирал дверь, усатый, сорвав с гвоздей сетку с колокольчиками, плюхнулся на кровать, после чего вынул из кармана плаща почти пустую бутылку водки и с наслаждением допил остатки.
— Ну что, будем знакомиться, доширак-отшельник? — поинтересовался он, поставив бутылку на пол. — Я Петр Алексеевич, для друзей и сожителей — просто Петя. А тебя как называют милиционеры и приемщики стеклопосуды? Или ты немой вообще — молчишь чего-то и молчишь?
Николай Ильич хрипло, с непривычки, представился.
— Ильич? — обрадовался пузатый и усатый Петя. — А это, значит, твой мавзолей? Ничего так. Бедненько, но грязненько. В общем, будем мы тут с тобой, Колян, жить-поживать да бобра свежевать. А то, понимаешь, ищут меня. Там некрасивая история вышла — дети, знаешь. Девчонки, мальчишки. А также их родители, что самое неприятное. Плачут, кричат. Фу. Ты газеты читаешь? Это правильно. Меньше знаешь — позже СПИД. Ты чаю-то поставь, а то некультурненько как-то.
Пока Николай Ильич кипятил воду, заваривал и разливал чай, Петя с интересом крутил головой по сторонам, изучая оклеенный фольгой гараж. Потом поднял с пола одну из веревок с колокольчиками, позвонил у себя над ухом, закатил глаза, изображая, видимо, тонкого ценителя музыки на концерте, и аккуратно положил ее на кровать рядом с собой.
— А скажи мне, Ильич, честно, как с броневика, — спросил он, когда хозяин поставил стаканы на стол и присел рядом на какой-то ящик, — не придет ли сюда владелец этого летнего домика и не попросит ли нас пойти скитаться по свету?
— Нет, — сказал Николай Ильич, отхлебнул чай и замолчал.
Петя некоторое время смотрел на него, надеясь на продолжение, но, не дождавшись, уважительно откашлялся и тоже сделал глоток.
— Сильная молчаливая личность, — констатировал он. — Завидую. Но все-таки не мог бы ты пояснить свою мысль? Хозяин гаража немощен и дряхл? Он забыл, что него есть гараж? Ты его убил и закатал в бетон под этой кроватью? Предупреждаю: последний вариант мне не нравится. По причинам не столько моральным, сколько эстетическим.
— Это мой гараж, — сказал Николай Ильич.
— Нормальные у нас бомжи пошли. Могём, как сказал бы Барух Обама. А больше у тебя нет ничего интересного? «Феррари», которую ты дал покататься любовнице, или депутатского мандата? Вон там, в углу, по-моему, валяется полосатый полиэтиленовый контрольный пакет «Майкрософта».
— Я оставил себе только гараж.
Николай Ильич решил рассказать все. Когда-то он молчал из чувства стыда, да еще потому, что отдавал себе отчет: подобные откровения приведут его только в сумасшедший дом. А в последнее время, когда сделалось уже все равно, разговаривать стало не с кем — людей, способных понять или хотя бы дослушать его до конца, вокруг больше не было. Шанс, который представился сегодня, вряд ли мог повториться: Николай Ильич знал, что вторжение этого педофила и, может быть, даже маньяка ничем хорошим не кончится. Скорее всего, Петя убьет его этой ночью.
Все началось несколько лет назад, когда в автобусе, по дороге на работу, Николай Ильич понял, что не помнит снившихся ночью снов. Конечно, в этом не было ничего странного, просто обычно на месте забытых ночных видений чувствовалось что-то большое и бесформенное, время от времени выбрасывающее недолговечные протуберанцы. Как будто сны, которые не успело поймать и зафиксировать дневное сознание, возвращались обратно в бассейн сонной протоплазмы, где некоторое время кружили в надежде на спасение, протягивая в явь даже не образы, а ощущения, пока не исчезали навсегда. На этот раз все было по-другому: пытаясь вспомнить свои сновидения, Николай Ильич постоянно натыкался на большое, правильной формы, белое пятно.
Он посторонился, пропуская к дверям женщину в военной форме, а когда встал обратно, оказалось, что место на поручне, за которое он держался, занято чьей-то рукой. Пришлось неудобно ухватиться выше, на несколько секунд ощутив ладонью чужое неприятное тепло.
Было похоже, что кто-то стер его память о событиях, происходивших той ночью. Николаю Ильичу сразу пришли в голову истории о летающих тарелках, которые похищали людей, а потом возвращали на землю, вырезав все воспоминания о путешествии. Объяснение казалось безумным, но ничуть не более странным, чем это бельмо в мозгу. Николай Ильич сразу представил себе укравших его инопланетян: гибкие безрукие тела с несколькими рядами колец отвратительно мягкой бахромы и тонкими волосками, покрывающими мясистую безглазую опухоль на месте головы. Наверняка он лежал на белом лабораторном столе, голый и распятый, а рядом извивались пришельцы, время от времени трогая его волосатыми головными наростами.
Николая Ильича даже передернуло от отвращения. Непонятно было одно: зачем? Во время войны «языков» берут, чтобы получить информацию, но что он мог знать такого, что помогло бы инопланетянам начать вторжение? С другой стороны, откуда ему знать, какие именно сведения представляют для них ценность? В том, что пришельцы получили от него все, что хотели, Николай Ильич не сомневался. Так что возможно, сейчас они уже составляют окончательные планы завоевания Земли и приводят флот в боевую готовность.
Мы обречены, понял он. Все эти усталые и слишком сильно пахнущие люди в автобусе скоро погибнут или станут рабами инопланетных захватчиков. И предал их он, Николай Ильич. За одну-единственную ночь — все человечество, всю Землю, весь мир.
Он вышел на ближайшей остановке и закурил, глядя на свое отражение в витрине киоска. Хотелось встать на колени и по-бабьи голосить, умоляя людей о прощении, но Николай Ильич понимал, что ничего уже нельзя искупить и исправить. В истории еще не было преступления такого масштаба, сравниться с ним могло разве что предательство Христа. Вспомнив про Иуду, Николай Ильич задумался о самоубийстве. Мысль выглядела заманчивой, но он откуда-то знал, что не должен умирать. Предательство создает между людьми очень тесную, почти интимную, связь. Это нельзя сравнить даже с убийством: отношения убийцы с жертвой глубже и интенсивнее, но длятся, как правило, лишь несколько секунд. Николаю Ильичу казалось, что здесь ближе аналогия с рождением: ты точно так же должен нести ответственность за преданного тобой, все ему прощая и принимая на себя его грехи, прошлые и будущие. Теперь, предав человечество, он был за него в ответе, и чем дольше он будет жить, тем больше сможет взять на себя людских грехов. Николай Ильич понял, что это единственный выход.
Выбросив окурок, он перешел на другую сторону (втайне надеясь, что его собьет машина, и стыдясь этой надежды), дождался автобуса и поехал домой. Жена была на работе, дети в школе, так что Николай Ильич мог спокойно собрать вещи. Он знал, что никогда не сможет посмотреть им в глаза, поэтому лучше было уйти именно так, не прощаясь.
Поселиться в гараже Николай Ильич решил сразу, еще по дороге домой. Отец, когда подвернулся случай, построил его в начале семидесятых, а незадолго до смерти переписал на Николая Ильича. Никто им не пользовался: машины у них с отцом не было, а ездить туда, чтобы хранить какие- нибудь соленья, было далеко и неудобно. Да и не солили они ничего в таких количествах. Жена даже не подозревала о существовании гаража: Николай Ильич ничего ей не рассказывал, зная, что та предложит его продать, а он через несколько недель или месяцев уговоров обязательно уступит. А между тем, гараж был ему для чего-то нужен. Он стал земным неуклюжим воплощением мечты: сначала об автомобиле, а со временем — о какой-то другой, недомашней, жизни. Гараж казался символом свободы, как не построенный в детстве шалаш, местом, куда можно бежать, где можно укрыться, пусть даже до этого дня Николай Ильич не думал о побеге.
Он достал из шкафа две большие спортивные сумки, в одну положив две пары ботинок, два одеяла и подушку, а другую набив теплыми вещами, сколько хватило места. Потом сел за стол и, выдвинув верхний ящик, взял оттуда пятьсот долларов, ручку и блокнот. Некоторое время Николай Ильич смотрел на пустую страницу, затем встал, задвинул ящик и сунул деньги в карман. Подхватив сумки, он вышел из квартиры.
За все время, что продолжался рассказ, Петя не проронил ни слова, лицо его стало неожиданно спокойным и строгим. Только когда стало ясно, что продолжения не будет, он словно опомнился, заерзал на кровати и, брезгливо подняв одну из веревок с колокольчиками, заговорил прежним шутовским тоном:
— Душе — не побоюсь этого слова — раздирающая история. А вот этой музыкой ты, значит, обороняешься от пришельцев?
— Мне так спокойнее, — просто сказал Николай Ильич.
— Разумно, — одобрил Петя. — И фольга против вредных излучений. Предохраняться, предохраняться и еще раз предохраняться, как сказал бы твой предшественник, если бы мог три раза за ночь. Я бы, конечно, ограничился шапочкой из фантиков, но мне нравится твой размах. Что ж, будем чинить это боевое макраме. Только повесить его придется в другом месте: кровать у тебя одна, и, согласно законам гостеприимства, спать на ней буду вынужден я, несмотря на все мои возражения.
Конечно, чинить сетку пришлось Николаю Ильичу: Петя в это время сидел за столом с разложенными колокольчиками и, поднимая их один за другим, слушал, как они звенят. При этом он напевал все известные ему песни про колокольчики и колокола — от «Я мальчик-колокольчик из города Динь-Динь» до «Москва! Звонят колокола!» — и о чем-то напряженно думал. Наконец, оборвав на полуслове «Бухенвальдский набат», он отложил в сторону очередной колокольчик и обратился к Николаю Ильичу:
— Скажи мне, о любезный Шах Хер-из-Зада, много ли лет прошло с тех пор, как с тобой приключились эти удивительные и опасные события?
— Четырнадцать, — подумав, ответил Николай Ильич.
— А не кажется ли тебе странным, что за эти четырнадцать лет межгалактическая война так и не разразилась, а мы так и не стали рабами пришельцев? Если, конечно, отвергнуть гипотезу, что Землю завоевали разумные телевизоры и хищные модемы.
Николай Ильич пожал плечами. Он много раз задавал себе этот вопрос, но так и не пришел ни к какому выводу. В конце концов, что такое четырнадцать лет для космоса?
— Вот что я тебе скажу, предводитель пролетариата. Историю ты, конечно, поведал интересную, но вот все эти волоски и бахрома — это, прости, ненаучная фантастика. Нет у нас никаких, как ты выражаешься, безруких гибких тел. Обычные, извини за выражение, гуманоиды. А войну мы не начали, потому что ничего от тебя тогда не узнали. Не могу сказать, что ты молчал, как партизан, — разливался, откровенно говоря, что твой соловей, — но вот ничего ценного так и не рассказал. Поэтому миссию мы свою сворачиваем и летим домой. К женам и детишкам. Хотя и те, и другие давно уже, наверное, обзавелись семьями. Вообще мы должны были стартовать сегодня, но движок что-то забарахлил. Чинить будем пару недель, так что придется тебе меня потерпеть. А зашел я к тебе, конечно, не случайно. Было у нас, мил человек, после того, как ты исчез, подозрение, что где-то мы накосячили. Вот и послали меня проверить, не вспомнил ли ты чего-нибудь ненужного. И правильно, как выясняется, сделали. Только вот решил я, друг мой Колька, после нашего разговора тебя не аннигилировать и память твою многострадальную второй раз не стирать. Тем более что это полмозга нужно выжечь, чтоб воспоминания за четырнадцать лет уничтожить. Помнить ты все равно ничего не помнишь, а фантазиям твоим никто не поверит. Так что спи, дорогой Ильич, спокойно. Человечество ты свое не предавал и грехи его на душу не брал.
Закончив говорить, он выжидательно посмотрел на Николая Ильича. Тот сидел на полу и молчал, накручивая на палец обрывок веревки. Петя поднялся, ободряюще похлопал его по плечу и пошел к кровати:
— Устал я что-то. Разведка — это, знаешь, тяжелый и неблагодарный труд. Ни минуты покоя. Пароли, явки, провокации — голова кругом идет.
Он лег, не снимая ботинок, и через несколько минут громко и прерывисто захрапел. Николай Ильич долго сидел в темноте, не двигаясь с места, затем выбрал веревку попрочнее, подошел к кровати и начал душить Петю. После того как тот перестал дергаться и затих, Николай Ильич открыл дверь гаража и пошел искать людей.
Смерть Плутона
Тем летом охранники ушли на войну. Все эти одинокие люди в черных костюмах и разношенных ботинках, вроде бы пристально смотревшие на нас, но видевшие перед собою только вечность, так что их взгляд можно было бы назвать отсутствующим, если не знать, что отсутствуем в действительности мы, — все они отправились воевать. Это была война охранников, молчаливого племени аккуратно подстриженных, но плохо выбритых людей, знавших, что их не отличимые один от другого дни, заполненные дежурствами и целлофановыми пакетами, — просто скучный серый морок, наведенный однажды на всю страну, который нужно пережить, перетерпеть, переспать, чтобы однажды встать, вбить пачку газет в мусорную корзину и уйти насовсем, уйти на войну. И как все, кто считает, что занимается чем-то временным, постылым и бессмысленным, они были на самом деле основой нашего мира, и без них все давно пошло бы прахом. Они не следили за порядком: они были этим самым порядком, неподвижной точкой среди нашего мельтешенья и суеты, кем-то, кто просто снисходительно смотрел на нас, и этого было достаточно для того, чтобы мы продолжали существовать, не распавшись в своей спешке на пиксели. Но охранники зачем-то ушли из своего космоса в чужой хаос, где уже им приходилось суетиться, мельтешить, распадаться, и там на войне, похоже, не было того, кто просто молча смотрит и прощает, потому что говорят, будто его вообще нет.
Тем летом было много вакансий охранников и мало другой работы, поэтому Филипп убрал из резюме все лишнее (высшее образование пришлось оставить, но это, пожалуй, было даже неплохо — охранник с высшим юридическим образованием, — это был даже плюс), вписал туда первый юношеский разряд по стрельбе и занятия в секции айкидо и в скором времени уже проходил собеседование у главы службы безопасности небольшого бизнес-центра в Замоскворечье. Филипп боялся, что нужно будет сдавать какие-то тесты, а из айкидо, которым он три года занимался еще в детстве, он лучше всего помнил запах пыли и пота и легкую звенящую дурноту после падения на татами. Со стрельбой дело обстояло лучше: в парках и на курортах Филипп время от времени стрелял в тирах, выигрывая для девушек разноцветных пушистых монстров, с которыми потом приходилось таскаться весь вечер, но это было даже приятно — идти вот так, с женщиной и добычей, и улыбкой как бы извиняться перед всеми за ужасную игрушку, за свою меткость и мужественность.
В секцию стрельбы Филиппа, незадолго до этого бросившего заниматься айкидо, привел отец и сам же забрал спустя два года, поговорив с преподавателем и выяснив, что стрелять его сын научился, но вряд ли когда-нибудь добьется больших успехов. После этого отец, кажется, совсем потерял интерес к воспитанию из сына настоящего мужчины. На секунду Филиппу даже пришло в голову позвонить ему, чтобы сказать спасибо за те два года в секции стрельбы, но сразу стало понятно, насколько это было бы глупо, тем более что в последний раз они разговаривали года полтора назад: в этом году Филипп даже не стал поздравлять его с днем рождения, улетев отдыхать на Кипр и выключив телефон, зная, что обязательно будет звонить с напоминанием мать. Ей он потом рассказал, что были проблемы с роумингом.
Накануне собеседования Филипп нашел по интернету ближайший тир и на удивление неплохо отстрелялся там из «сайги» и семьдесят первого «ижа», так что молчаливый инструктор, поначалу прохладно отнесшийся к новичку, даже одобрительно кивнул, принимая оружие. Филипп так же молча кивнул ему в ответ: он понравился себе в этот момент, такой немногословный и меткий, про которого, возможно, думают, что он готовится идти на войну, а может быть, уже и был там, а теперь просто поддерживает форму между командировками. Однако никаких тестов на собеседовании не было: начальник охраны, наверняка отставной — а может, и не совсем отставной — гэбэшник, густо, но опрятно пахнувший стариком, равнодушно повертел в руках зачетную книжку спортсмена и, поговорив с ним минут десять, больше рассказывая о предстоящей работе, чем интересуясь прошлой жизнью и умениями Филиппа, отправил его оформляться в отдел кадров.
Филипп дежурил на входе в первый подъезд бизнес-центра. Всего подъездов было пять: они располагались по кругу в небольшом, вымощенном плиткой дворе, въезд в который перегораживал подрагивавший от вечного напряжения шлагбаум; между третьим и четвертым подъездом находился въезд в подземный гараж. В центре двора хорошо бы смотрелся фонтан или, например, скульптура — один из владельцев очень романтично погиб еще во время строительства, когда ткнулся головой в песок, не успев выйти из сразу начавшего розоветь моря, а мальчик, такой томасманновский мальчик, вскочил с полотенца, застыв в испуге, который быстро сменялся на его лице скукой, — и вот этот мальчик очень хорошо смотрелся бы в центре двора, но там было совершенно пусто.
Почти все охранники были из нового набора — мальчиши, сменившие на посту старших братьев, — и у них скоро сложились свои ритуалы, на которые начальство в условиях дефицита кадров смотрело сквозь пальцы, тем более что работать им приходилось в два раза больше, чем разрешало законодательство. Например, время от времени охранники устраивали перекур, хотя никто из них не курил, да и курить во дворе было уже нельзя: просто дежурные выносили из подъездов стулья, ставили их возле дверей и, словно усевшись за огромным и невидимым круглым столом, начинали обсуждение проблем разной степени актуальности.
«Не кажется ли вам, — говорил, например, Олег Скляр, длинноволосый инструктор мечевого боя и собачник, — что открытие в 1930 году планеты, названной в честь владыки царства тьмы Плутона, не лучшим образом отразилось на последующей истории нашего мира? И что исключение Плутона из рядов больших планет в 2006 году было неудачной попыткой эту историю поправить?»
«Почему же неудачной? — говорил Денис Воздвиженский, щуплый паренек с каким-то гламурно-криминальным прошлым. — Исключение из рядов — это, как вам охотно поведал бы мой дед, только первый этап отмывания кобелей и исправления горбатых. Не забывайте, что в том же 2006-м к Плутону отправили аппарат «Новые горизонты». Вы спросите, зачем исследовать планету, которую ты готовишься объявить неопознанной летающей херней? А я спрошу: а что такое, по-вашему, «Новые горизонты»? Есть, например, только один способ открыть новые горизонты для этого двора: снести окружающие здания к чертовой бабушке. Горизонт изменится моментально. Поэтому похоже, что ничего этот аппарат исследовать не будет, а просто расфигачит в 2015 году, когда он туда долетит, Плутон на астероиды, после чего сразу наступит Золотой век. Так что потерпите годик».
«Я бы обратил ваше внимание на то, что имя Плутону дала одиннадцатилетняя оксфордская девочка, — говорил Филипп. — И хотя звали ее не Алиса, а вовсе даже Венеция, весь этот жестокий абсурд вокруг вызван, вполне возможно, именно этим обстоятельством».
«А меня интересует место Плутона в современной культуре, — говорил дежуривший на въезде Леня Кузнецов по прозвищу Кузьмич, который никуда не выходил, а просто приоткрывал дверь своей будки. — В честь этого довольно гнусного бога названа почему-то собака Микки-Мауса — одно из немногих животных во вселенной криптофашиста Диснея, оставшихся неочеловеченными. Как тут не вспомнить принадлежавшего Аиду, то есть тому же Плутону, Цербера, которого Геракл выволок на солнечный свет? А сам Микки-Маус? Этот Мышиный король, свивший гнездо в головах детей всего мира и победивший с нашей помощью и Фрица, и его Нусскнаккера…»
Еще одним ритуалом было общее ухаживание за Анечкой, дружно выбранной охранниками на роль дамы своих сердец. Ухаживание проявлялось то в поклонах с мушкетерскими расшаркиваниями, то в хоровом «ура!» при ее появлении и вообще было по-школьному идиотским и платоническим — следуя молчаливой джентльменской договоренности, никто из них не приглашал ее на обед и не назначал свиданий. Разве что Кузьмич каждый раз, когда Анечка приходила на работу, поднимал шлагбаум, чтобы ей не нужно было подниматься по ступенькам и идти через узкую проходную, но она всегда сворачивала к турникету, так что вздыбленная вхолостую полосатая орясина выглядела несколько двусмысленно — причем именно из-за того, что Анечка не пользовалась предоставленной возможностью, так что может быть, именно этого эффекта она и добивалась, потому что сам Кузьмич, конечно, ничего такого не имел в виду.
Если не считать этого мелкого хулиганства, Анечка никак не отвечала на ухаживания охранников, ограничиваясь вежливыми улыбками, хотя иногда было видно, каких трудов ей стоило сдерживать смех. Особенно хорошо это было заметно Филиппу: она работала в его подъезде и, зайдя внутрь, позволяла себе немного расслабиться и иногда даже поболтать с ним, пока расписывалась за ключ, но это была их маленькая тайна и они никогда не демонстрировали на людях своих особых отношений, хотя, конечно, все и так завидовали Филиппу, раз он дежурил в первом подъезде.
Все закончилось, когда приехали черные «ниссаны». Из передней машины вышел человек, что-то коротко сказал Кузьмичу, на секунду раскрыв ему в лицо свое удостоверение, словно махнула крыльями сидящая у него на ладони бабочка, — та самая, из-за которой начинаются ураганы, — и Кузьмич сразу же растерянно поднял шлагбаум. Филиппу они даже не стали ничего говорить, просто мазнули рукой по стеклу — сиди, не дергайся, — и побежали вверх по лестнице. Через несколько минут они вывели Анечку.
Филипп откуда-то уже знал — хотя откуда? никто вроде бы к нему не спускался, да и не звонил, и хотя слухи имеют свойство распространяться, игнорируя любые законы физики, но вот все-таки откуда? — ну, в общем, откуда-то он уже знал, что ее арестовали как инопланетную шпионку, может быть, даже с Плутона, может быть, она хотела предотвратить уничтожение Плутона, может быть, просто отомстить, так что вполне возможно, она была даже не шпионкой, а террористкой, но эти детали уже, конечно, не имели никакого значения, когда Филипп встретился с ней взглядом и отвел, первым отвел глаза, даже раньше, чем ей стало его жалко и она сама стала смотреть под ноги, на ступеньки, хотя что на них смотреть, она столько раз здесь ходила, что могла спускаться с закрытыми глазами, и не исключено, что она и вправду закрыла глаза, ведь зачем же его мучить, ведь ему, конечно, и так уже плохо, и стыдно, и больно, потому что он совсем, совсем ничего не мог сделать.
В этот день Филипп понял, зачем нужны охранники: для того, чтобы вместить в себя весь стыд, все бессилие и всю бессмысленность человеческого существования, защищая, заслоняя собой остальных. Когда человек, весь день читавший на работе графоманский роман про попаданца в бронепоезде Троцкого, видит охранника, он понимает, что есть люди, работающие еще меньше. Когда в здание врывается ОБЭП и нежных бухгалтерш, пахнущих жасмином и шоколадом, раздевают догола, чтобы найти спрятанные флэшки, они знают: их стыд и бессилие все равно меньше тех, что испытывает сейчас охранник, призванный защищать, но не способный даже подняться со стула. Когда кажется, что ни в работе, ни в жизни нет никакого смысла, ты видишь охранника, и у тебя становится легче на душе, потому что нет, конечно же нет, твоя работа еще кому-то нужна, хотя бы теоретически, а ты посмотри на этого мужика, ну, зачем он вообще? Даже не зачем он тут, в офисе, хотя и это, конечно, большой и интересный вопрос, а вообще — зачем? Но однажды наступает момент, когда охранники больше не могут вместить наших грехов, и мы начинаем ощущать какое-то смутное беспокойство, чувствовать жалость какого-то бога, и тогда начинается война, и охранники уходят на войну, чтобы их убили, и на их место приходят новые охранники.
Филиппу было очень важно понять эту мысль до конца, додумать ее до последних главных подробностей, поэтому он не смотрел на мониторы и не видел, как Анечка, выйдя во двор, изогнулась, вывернулась из себя и заодно из чужих рук, сбросила тело и лицо, ощетинилась острыми мослами и закружилась в смертельном ломающемся танце, выстригая пространство, штрихуя его длинными брызгами крови. Он услышал только выстрелы, и когда Филипп выбежал на улицу, все было уже кончено: Анечка лежала посреди двора, наконец-то придавая ему завершенность, и ее желтые глаза без зрачков на поросшем тонкими перьями маленьком черепе уже затягивались мутной белесой пленкой. То, что осталось от пассажиров черных «ниссанов», было разбросано по всему двору, и только один из них, положив автомат на капот, с пьяной настойчивостью тыкал пальцем в экран телефона, безуспешно пытаясь его реанимировать, но в конце концов пришел в себя, бросил телефон на землю и, волоча оружие за ремень, пошел внутрь здания, чтобы кому-то звонить.
Охранники стояли возле своих подъездов, не двигаясь и не разговаривая. Все смотрели на Анечку. Филипп спустился с крыльца, почему-то по пандусу, а не по ступенькам, вышел на середину двора и лег рядом с ней, прижавшись к пробитому в нескольких местах панцирю. Анечка не двигалась, но Филипп слышал, как внутри нее очень медленно и неритмично бьется сердце. И тогда он прижался к ее черепу, так что перья немного щекотали губы, и сказал: «Я знаю, ты меня слышишь, я верю, что ты еще не умерла — может быть, вы вообще никогда не умираете, может быть, у вас есть бог, и вы бессмертны, но у меня никого нет, кроме тебя, и мне не к кому обратиться, кроме тебя, а я больше не могу вместить в себя ни стыда, ни бессилия, ни бессмысленности, потому что я не сумел защитить себя, и тут уже, конечно, ничего не поделаешь, но я больше не смогу быть охранником, раз в моей душе не осталось свободного места, и я вообще больше не смогу быть, но я не хочу идти на войну, я не могу идти на войну, ведь там, может быть, придется убивать, а вдруг у этих людей нет бога, вдруг эти люди не бессмертны?»
Анечка шевельнулась, и ее острая лапка разрезала Филиппу живот сверху донизу, так что он улыбнулся и они оба затихли, лежа посреди залитого кровью двора, отчего он обрел уже полную, окончательную завершенность, что, конечно, было бы невозможно, если бы там стояла статуя глупого жестокого мальчишки с того средиземноморского пляжа, так что все оказалось правильно, все правильно.
Сонный город
В миграционной карте Егор назвал цель своего приезда туризмом, но это была неправда. Туристом он себя не считал и вообще неоднозначно относился к этому виду досуга. Иногда ему казалось, что огромные массы людей, перемещающиеся по планете и беспрерывно фотографирующие ее в разных ракурсах, истончают ткань мироздания — вроде тех холодильников и кондиционеров, что создавали прорехи в озоновом слое над Южным полюсом, как если бы техника воевала с тупым и косным прошлым, как если бы количество холода на Земле было конечной величиной, ресурсом, который нужно распределить более справедливо, потому что зачем нужна Антарктида, если есть холодильники и кондиционеры? Конечным, вероятно, было и число отражений этого мира, поэтому Егор опасался, что миллионы раз скопированный оригинал может однажды просто исчезнуть, осыпавшись пикселями, чего, впрочем, никто не заметит, — если это вообще не случилось еще в прошлом августе, в разгар сезона отпусков.
С другой стороны, возможно, именно туристы поддерживали реальность мира, неустанно фиксируя его в своих камерах и телефонах, подпирая башни и баюкая на ладонях соборы. Особенно усердствовали китайцы: фотографируясь на фоне достопримечательностей, они еще делали какие- то охранительные знаки пальцами — наверное, от сглаза или какой-то иной порчи. Китайских туристов вообще было много. Крича по-птичьи, они выдавливались из разноцветных туб автобусов и быстро покрывали улицы сплошной массой, слегка колышущейся под панцирем из зонтиков. Китайцы защищались зонтами от всего — от солнца, дождя, снега, — и похоже, назначение этих устройств, блеском спиц напоминавших о хирургии или изощренных пытках, не было чисто утилитарным: по крайней мере, Егор несколько раз видел одетых в дождевики туристов, которые все равно держали над собой раскрытый зонтик. Возможно, в этом и заключается смысл существования китайцев — странствовать по миру, зонтами укрывая его от невзгод, — как смысл существования русского человека заключается в том, чтобы сидеть на берегу реки, глядя на вмерзший в лед труп врага, пока в сумерках его лицо с открытыми глазами не начнет казаться твоим отражением.
Но главная проблема заключалась в том, что Егора совершенно не устраивал обычный набор туристических практик. Национальные кухни, песни и пляски оставляли его равнодушным, равно как и сооружения, которые принято называть увесистым словом «достопримечательности», — падшие крепости с троянскими конями касс, памятники, сошедшие с конвейера, мертвые храмы из эха и фотовспышек, картинные галереи с одинаковыми черными портретами, едва различимыми за твоей тенью в стекле. Впрочем, как раз против галерей Егор ничего не имел — картинных галерей и музеев. При условии, конечно, что это не современные ангары, белыми перегородками напоминающие офисные опен-спейсы, а что-нибудь старое, с лабиринтом залов, через который никогда нельзя проложить прямого маршрута, отчего постоянно приходится возвращаться, заглядывать в боковые комнаты, исследовать аппендиксы тупиков, двигаться против течения, вспомнив, что пропустил еще какой-то дверной проем, и обнаруживать, что напрасно — ты уже был там час назад, войдя с другой стороны, — подниматься по лестницам со скульптурами на площадках, выглядывать в случайное окно, за которым уже стемнело, и слава богу, и не надо больше никуда идти, а указатель на тонкой ножке нацелился на неприметную дверь, казавшуюся входом в служебное помещение, но нет, нет, продолжение осмотра, новая коллекция, временная экспозиция, добро пожаловать. Да, галереи ему, скорее, нравились.
В этот раз времени на музеи, скорее всего, не оставалось — Егор прилетел всего на два дня, собираясь вернуться в Москву вечером воскресенья, — и все-таки в такого рода поездках не стоило загадывать наперед. Рейс был ранним — самолет приземлился почти в четыре утра, и в гостиницу Егор попал, когда только начало светать, однако номер уже приготовили. Приняв душ и переодевшись, он запер паспорт вместе с карточками и большей частью денег в сейфе (Егор всегда использовал комбинацию 9073 — свое имя в зеркальном отражении) и спустился вниз.
Улыбчивая девушка за стойкой, похоже, очень хотела спать: улыбаясь, она зевала, отчего улыбка превращалась в странную гримасу, и это казалось смешным даже ей самой, поэтому, опустив голову, она улыбалась еще шире и все-таки снова зевала. Егор подумал, что в действительности она сейчас спит или, по крайней мере, ей кажется, будто она видит сон, поэтому нисколько не удивится, если он вдруг перегнется через стойку, чтобы ее поцеловать, — не удивится, а только закроет глаза и опять улыбнется, и зевнет прямо посреди поцелуя, и тогда уже засмеется, и он засмеется вместе с ней, — и представив себе все это, Егор ничего не сделал, а только попросил карту.
Девушка расправила на стойке гармошку глянцевого буклета, кружком отметила, сильно нажимая на шариковую ручку, гостиницу и пунктиром проложила дорогу к старой части города. Так пьянчужка в баре рисует для юного героя, еще полного сил и надежд, карту острова сокровищ. Время от времени она поднимала глаза на Егора, и тогда он вежливо кивал. В основном его интересовало, как найти вечером дорогу обратно в отель, но и от информации об обычных туристических аттракционах не было вреда. Гуляя, он волей-неволей оказывался в старых кварталах со всеми их кондитерскими дворцами и статуями фонтанов, блюющими водой от переизбытка сладкого, а также обязательной пешеходной улицей, составленной, словно из кубиков, из сетевых кофеен и магазинов, — одинаковых в каждом городе и только расположенных везде в новом порядке. Попав туда, Егор некоторое время лавировал между стаями экскурсантов и недолговечными парами увитых тесемками бэкпэкеров или садился на скамейку, купив какой-нибудь быстрой южной еды, однако все эти места мало годились для его целей. Города в туристических кварталах становятся похожи на девушек, которые фотографируются на фоне достопримечательностей, застывая в заученных позах — немного боком, спина выгнута, одна нога чуть согнута в колене, — и от этого перестают ранить сердце.
Егору было нужно совсем другое. В своих снах он часто оказывался в одном и том же незнакомом городе и долго шел по нему, не зная цели и все-таки чувствуя, что она есть, однако каждый раз то застревал в каких-то непонятных гостях, то перескакивал в другой сон, то просто просыпался. Дома и улицы, попадавшиеся ему по дороге, вроде бы не вызывали никаких ассоциаций, но однажды, еще до конца не проснувшись, Егор вдруг ясно понял, что подъезд, куда он только что зашел и где сразу оказался в полной темноте, которую пришлось ощупывать руками до тех пор, пока голова мягко не ткнулась в подушку, — что этот подъезд с высокой дверью и орденскими планками звонков он видел десять лет назад в Кройцберге. Понемногу он стал опознавать и остальное: лужу во всю ширину тротуара с обломком кирпича, заботливо кем-то положенным посередине, рельсы в траве, залитый солнцем перекресток без машин и пешеходов, отблески реки на изнанке моста, — все это встречалось Егору в разное время и в разных местах, когда он торопился по своим делам, ни на что вроде бы не обращая внимания, но именно из этих мелочей, помимо воли застревавших в памяти, как камешки застревают в узоре подошвы, и строился по ночам его Сонный Город.
Он знал, что название это неточное и неправильное — дело было, конечно, не в том, что город постоянно хотел спать, а в том, что существовал он только во сне, — однако другие имена, которые Егор перебирал, например, Дримтаун или Сновгород, были и вовсе стыдными. Постепенно там появлялись новые дома, удлинялись знакомые улицы, тупики оборачивались проходными дворами, но все это происходило медленнее, чем хотелось Егору: он знал, что город раскроет свою тайну, лишь когда будет достроен до конца. Тогда он стал искать новые детали для своего ночного конструктора, уезжая в другие города и прокладывая по ним самые причудливые маршруты, то безо всякой цели, куда глядят глаза, то с намерением добраться до безымянного сквера, зеленого пятнышка на краю карты, который, словно место преступления, оказывался огороженным полосатой лентой — в сквере пилили сучья, и не хватило б никакого мела, чтобы обвести контуры тонких рук на асфальте — но продуктовый магазин на углу той же площади, больная каллиграфия тегов на его опущенных жалюзи, сигнальные флажки розовых, желтых и голубых объявлений на запертой двери — этот магазин Егор увидел уже следующей ночью.
Он научился узнавать такие места, не post factum, уже как части Сонного Города, а наяву, когда на долю секунды внутри все останавливается, а голова, наоборот, идет кругом, хотя едва ли она способна описать круг за это мгновение, так что это, скорее, намек на головокружение, предчувствие ненаступившей дурноты, и кажется, будто из тебя что-то вынули и сразу же вернули на место, хотя уже нельзя быть уверенным, что вернули именно взятое. Если бы Егора попросили описать это ощущение, он, пожалуй, просто сравнил бы его с дежавю, только с обратным знаком — то есть не déjà-vu, а, скорее, on-se-revoit — но просить его было некому, да и французского Егор не знал, поэтому достаточно будет сказать, что он просто научился узнавать это чувство. Здесь было важно не концентрироваться ни на своей находке, ни на ощущениях, а продолжать идти мимо, как если бы ничего не случилось, как если бы ты не догадывался, что Сонный Город теперь станет еще немного больше: от слишком пристального внимания такие места умирали, начиная искать выигрышную позу и превращаясь в достопримечательности, — хуже было только пытаться их сфотографировать.
Поиски не всегда бывали успешными: из долгих многообещающих поездок — светлые улицы без туристов, пустые тротуары под тонким ковром из зеленых листьев — Егор порой возвращался ни с чем, зато после шестичасовой пересадки во Франкфурте Сонный Город вдруг вырастал сразу на несколько кварталов. На этот раз ему хватило половины дня. Погода начала портиться еще с утра, а к обеду дождь уже шел без перерыва, и, будь поблизости китайские туристы, плотный мокрый ветер выворачивал бы суставы их зонтикам, мастеря недолговечные бесплодные бутоны, однако китайцев тут не было, как не было их даже в центре города — что уж говорить об этой лестнице, где не было вообще никого. Оглянувшись, Егор увидел, как следом за ним поднимается рыжая дворняга. Сначала она закидывала на ступеньку обе передние лапы, затем, подтянувшись, по очереди переставляла задние. Наверху оказалась стоянка автобусов и еще какая-то ровная, покрытая скользкой грязью, площадка, на которой, наверное, собирались что-нибудь построить, но передумали, или пока не хватало денег, или запретила какая-то комиссия, потому что площадка опасно обрывалась вниз и, если осторожно встать на ее край, можно было долго смотреть на море, на длинную пустую набережную, на подъемные краны, на чертово колесо, а на краю площадки, в ямке под кустом, лежали зеленые плоды, похожие на мячи, отчего казалось, будто здесь играли в экзотическую местную игру, где ямка была воротами и нужно было в нее закатить, или забросить, или доставить еще каким-то образом, возможно, с помощью причудливых спортивных снарядов, как можно больше зеленых мячей, а чуть в стороне поднималась наверх еще одна лестница, поменьше и покороче, и рядом с ней стояла колонка с водой, и еще стоял маленький, будто бы не совсем настоящий домик, и еще сидел под крыльцом кот, а собаки уже нигде не было видно. Егор начал думать о том, умеет ли дворняга спускаться по лестнице, и если умеет, то в какой последовательности переставляет лапы, а когда собака ему наскучила — про дорогу в отель и про то, что карта совсем не пригодилась, поскольку здесь невозможно заблудиться, как вообще нельзя потеряться в приморских городах, если ты, конечно, не герой советской комедии. Необходимо было все время о чем-то думать, потому что все уже случилось, все уже найдено, и теперь нужно обязательно сберечь свою находку, не замусолив и не расплескав, а для этого требовалось сразу о ней позабыть, занимая мысли разной ерундой.
В отеле Егор разделся, разложив и развесив по всему номеру мокрые вещи, облачился в гостиничный халат и остаток дня лежал на кровати, смотря по телевизору старые турецкие комедии, где толстые злодеи с печальными глазами обижали веселых носатых дев. Когда стемнело, он поужинал в ресторане на последнем этаже и лег спать. На следующий день Егор проснулся поздно, расплатился за номер и, взяв местного белого вина, до отъезда в аэропорт сидел в гостиничном баре. К бокалу он не притрагивался и лишь перед уходом выпил теплое вино залпом.
Грузчиков Егор встретил, когда уже подходил к дому, гремя чемоданом по тротуарной плитке. Из кузова «Газели» с прикрытым желтой тряпкой номером они доставали шкафы, коробки, ностальгические клетчатые сумки и заносили все это в арку дома: обычно запертые ворота были теперь распахнуты настежь. Мебель была старой, и старым было само здание, отчего вся сцена напоминала осеннее возвращение с дачи, как в те времена, когда на ломовых телегах или, позже, на «полуторках» туда перевозили и часть городской обстановки. Не хватало разве что клетки с попугаем. Мимо Егора пронесли большое зеркало, замотанное в банные полотенца и перевязанное веревкой, как если бы хозяева боялись, что кто-нибудь вырвется оттуда наружу. С одного краю полотенце немного сбилось вниз, и Егор на мгновение встретился глазами со своим отражением.
Он никогда не был в этом дворе, поэтому, решив, что в другой раз такая возможность представится не скоро, подхватил чемодан за ручку и шагнул вслед за грузчиками в проем арки. «В случае чего скажу, что турист и перепутал адрес», — подумал Егор, хотя и сам не понимал, кто его будет расспрашивать и почему нельзя сказать правду. Двор оказался неожиданно большим, да и дом оттуда выглядел совсем по-другому. Это был особняк в форме буквы «П», изначально, похоже, двухэтажный, но надстроенный еще тремя этажами. Он стоял перпендикулярно улице, куда выходило лишь его левое крыло, а фасад, настоящий фасад с обрамленным колоннами крыльцом и рябыми от времени лицами маскаронов, можно было увидеть, только оказавшись во дворе, возле давно пересохшего фонтана. В центре фонтана пионер с горном трубил, похоже, сигнал тревоги, потому что с четырех сторон его почему-то обступали огромные жабы. И если юный музыкант так и не дождался подмоги, то гладкие пучеглазые автомобили, припаркованные вокруг фонтана как второе кольцо окружения, казались подкреплением, прибывшим к рептилиям из нашего жестокого далека.
Уже почти стемнело, и в тот момент, когда в углу двора зажегся одинокий фонарь, как огромный торшер осветив прямо под собой старое домашнее кресло, Егор понял, что нашел новую часть Сонного Города. Новую и последнюю: этот двор стал заключительной деталью головоломки, и достаточно было, заснув, снова оказаться в достроенном теперь городе, чтобы узнать спрятанный в нем секрет. Егор пересек двор, поднялся по ступенькам парадного подъезда и уже готов был войти, потянув на себя тяжелую деревянную дверь, за которой, возможно, и скрывалась разгадка, но отчего-то медлил. Что-то мешало — волосок паутины, щекотная тень, которую никак не удавалось ухватить, и Егор совсем было собрался от нее отмахнуться, когда, уже взявшись за ручку, вспомнил, что в такой же позе, как у него, — левая рука придерживает хозяйственную сумку на колесиках, правая опирается на набалдашник мужской трости — во дворе сейчас стояла старуха, стояла долго, прямо и неподвижно, как умеют стоять очень пожилые люди. Егор все время видел ее уголком глаза, на самом краю поля зрения, отчего долго не сознавал ее присутствия, но сейчас, обернувшись, обнаружил, что двор пуст. Однако, вспомнив старуху, он вспомнил и остальных. Игроков в нарды на одном из поворотов лестницы: они сидели за самодельным столиком из прибитого к ящику куска фанеры, а другая фанерка служила им навесом, но дождь забирался и туда, и внутри игровой доски были лужи. Рабочего возле сквера: его коллеги продолжали пилить сучья, а он почему-то устроил себе перерыв, отойдя от них подальше и сев на скамейку напротив закрытого магазина; рядом с ним выстроились красный термос, синий ланч-бокс и оранжевая каска, все яркие и пластмассовые, похожие на игрушки. Мальчишек, гонявших на бульваре мяч: у одной половины на спинах было написано Messi, у другой — Ronaldo, и лишь один из футболистов был в майке с эмблемой Супермена. И, вспомнив все это, Егор побежал. Он знал, что уже поздно, но все равно бежал — сначала через двор, к арке, потом по заросшим травой трамвайным путям, под мостом, мимо кустов облепихи, мимо магазинов, жилых домов и автозаправок, потом вверх по лестнице, и следом опять торопится, но все равно отстает собака, а вершина холма, кажется, уже пражская, и оттуда совсем недалеко, оттуда всего пара кварталов, но нигде никого нет, нет игроков в нарды, нет рабочих, нет футболистов, и вот уже дверь в Кройцберге, открывшаяся, стоило мазнуть всей пятерней по строчкам звонков, и знакомая темнота за ней, но теперь она поддается, теперь она распахивается наружу, и вот он снова стоит на крыльце, смотрит на фонарь, на кресло, на пионера с его горном и жабами, смотрит на пустой двор.
Чемодан Егор где-то бросил. Он еще раз, теперь уже никуда не торопясь, прошел той же дорогой и нашел его у подножья лестницы. Рядом лежала знакомая дворняга, вопросительно шевельнувшая ухом при его приближении. Егор взял чемодан, похлопал свободной рукой по бедру, подзывая собаку, и они вместе пошли обратно, к дому с фонтаном. Там Егор сел в кресло и начал вспоминать. Ему предстояло вспомнить еще очень многих, но времени теперь было сколько угодно и больше не нужно было никуда идти.
Пустота
Когда ушла Катя, внутри Ивана что-то отодвинули в сторону или вовсе унесли, отчего там открылась прежде незаметная щель и сразу установился сквозняк. Сначала Ивану нравилось ощущать пустоту и холод, от которых меньше хотелось спать, нравилось слушать, как громко хлопают в нем какие-то двери, но в конце концов он устал или, может быть, испугался, что узкий ветер рано или поздно выдует из него тот листик, который, словно язычок фольги, щекотно дрожит в глубине человека, из-за чего он верит, будто у него есть душа, и начинает курить.
Иван решил прекратить сквозняк и для этого сделал себе новую, бумажную, Катю. Бумажная Катя состояла из тысячи клочков бумаги: один был косым крестом морщинок на шее, под затылком, другой — ее обыкновением не брать тележек в супермаркетах и носить еще не купленную еду, прижав к груди, третий — глазом, четвертый — утренним запахом, пятый — ложбинкой между двумя косточками на запястье, которую пересекала зеленоватая вена.
Некоторые бумажки Иван делал сам, некоторые — узнавал, подбирая на улицах или отрывая от чужих книг. Он носил Катю в белом шуршащем пакете, длинные ручки которого были связаны между собой двумя узлами, и когда ходил, часто садился где-нибудь на скамейку, распахивая пакет, чтобы выудить оттуда полупрозрачную кайму зубов или ее специальный голос для неприятных людей.
Иван теперь много ходил, не всегда вспоминая, где его дом. Иногда Ивана забирали к себе женщины, и он жил с ними, заполняя собой пустоты, где должна быть любовь, а по ночам, когда они спали, примеривая на них бумажную Катю, которая никак не хотела с ними совпадать. У одной из них был спрятан за занавеской воспитанный женщиной внутри себя маленький человек, который однажды развязал пакет с Катей и рассыпал по полу. Иван испугался такой своей глубиной, куда не доставали слова, и потому кричал, как большая птица: «Ак! Ак!» — отчего страх передался еще помнившему этот язык ребенку, расплывшись на колготках. Иван на несколько часов заперся в комнате, снова и снова пересчитывая Катю, собрал ее в пакет и ушел, оставив женский дом, где пахло едой и жидкостями.
Обидев человека криком, Иван начал понимать, что ухудшается с каждым днем и в конце концов потеряет того себя, который был с Катей. Поэтому он сделал старого себя: в нем было меньше бумаги, чем в Кате, зато имелись в избытке какие-то надорванные резинки, шайбы, проволочки и даже одна облезлая елочная лапа с нитками от игрушек. Себя он сложил в черный мусорный пакет без ручек и тоже завязал его горловину на два больших узла.
Иван стал избегать городов, в которых было много звука и жалости, потому что города придумали женщины, и теперь часто ходил в лесу, где звук был красивый и осторожный, словно внутренний звук тела, а жалости не было вовсе. Однажды он встретил в лесу мужчину и женщину, которые рассказали, что бог решил сделать из них новое человечество, а старое завтра уничтожить, поэтому они идут на поляну, где ждет присланная за ними ракета. Иван убил их, чтобы богу было меньше работы, и пошел на поляну, посреди которой остывал корабль, похожий на длинное железное платье. Он положил внутрь оба пакета, захлопнул дверь и отошел в сторону, под деревья, а когда ракета улетела к богу, отправился в город, потому что до завтра оставалось немного времени, и можно было потерпеть и этот город, и этот звук, и даже эту жалость.
Большая жизнь
Узнавали друг друга в любой толпе — с полувзгляда, полужеста. Так русский на чужбине угадывает русского, так, говорят, распознают друг друга сотрудники спецслужб. Впрочем, любой русский за границей и есть разведчик, тонконосый Штирлиц, простоватый Иоганн Вайс, мечтающий не выделяться, неумело растягивающий губы в уставной, чужого монастыря, улыбке, но лелеющий внутри свою инаковость, которая все равно проступает наружу. Может, всему виной как раз невозможность расслабиться, вечная боязнь, что раскроют, снимут отпечатки с чемодана. Ходим, проглотив общий на всех аршин, чтобы нечем было измерить, посчитать, присвоить.
Удальцов за границей не был, в шпионы его не брали, поэтому он мог объяснить только про себя и своих товарищей по несчастью. А с ними все просто — не жильцы. Вот нормальный вроде бы человек — ходит, дышит, ставит лайки, — а жизнь-то у него давно кончилась. Теперь так только, видимость одна. Где-то они, конечно, работают, с кем-то общаются, что-то едят, у некоторых даже семья есть, но это посмертное, фантомное. Встретился им на пути Капитан — и все, как отрезало.
Сюда приходили многие: на этой детской площадке Капитан часто искал свои жертвы. Рассядутся по разным скамейкам и чего-то ждут. Друг на друга даже не смотрят — чего, действительно, на мертвецов глядеть? Да и на площадку тоже внимания не обращают — плохая стала площадка, новая. Под ногами специальное покрытие, упругое и шершавое, как спина рептилии, а на нем что-то дорогое и красивое, из синих досок и белых канатов. Не детская площадка, а загородный дом в стиле прованс. Удальцов такого не одобрял: играть нужно там, где ржавчина, скрип и тоска. Еще желательно, чтобы осень, дождь, и за металлические поручни карусели холодно держаться руками в цыпках. Все звенит, слишком туго натянутое, или, наоборот, провисает, ослабев, проржавев в труху. В общем, сейчас лопнет и рассыпется, открыв совсем другой мир, большой и прозрачный. А чему лопаться в провансальском пастельном уюте? Нечему. Здесь только белокурым мальчикам в матросках играть. Они, конечно, тоже не совсем пропащие: есть шанс, что впереди их все-таки ждет тоска скрипящих ржавых барж под ледяным дождем. Однако, как показывает история, оттуда обычно сбегают обратно в бело-синий рай, в ватное Батово и детское Рождествено, а другие миры по-прежнему достаются тем, кто под дождем, с цыпками и соплями.
С дождем, впрочем, тоже проблемы: на небе ни облачка, солнце шпарит на максимуме. Все вокруг плавится, превращается в пар и запах. Цветы, свежескошенная трава, краска. Удальцов пощупал скамейку, поискал мягкое и липкое, даже понюхал пальцы, но нет, обошлось. Откуда-то еще пахнет. Или не успело высохнуть в щелях и пазухах: красили, похоже, совсем недавно, и прохожие, прежде чем сесть, сначала осторожно трогали слишком ярко блестевшие скамейки, словно здороваясь или спрашивая разрешения. Многие даже сидя продолжали поглаживать деревянные планки, обнюхивая затем, как и Удальцов, руки. Выглядело это непристойно, особенно рядом с детской площадкой.
У Капитана руки тоже все время шевелились, словно два слепых морских животных. Что-то он всегда гладил, поправлял или выковыривал. Был Капитан подвижный и переливающийся, словно подросток, который не может устоять на месте. Да он и походил на ребенка — узкоплечий, с большой головой. Усы Капитан отрастил, кажется, для солидности, но они не слишком помогали: получился подросток со светлыми мягкими волосами на губе. Они тоже были в постоянном движении — топорщились и снова опадали, будто чувствительные жгутики.
Удальцов тогда до одурения крутился на карусели, раскинув руки и воображая полет. Когда он остановился напротив скамейки, где сидел Капитан, тот плавно содрогнулся всем телом и сказал:
— Уникальный вестибулярный аппарат! Готовишься в космонавты?
— Нет, — буркнул польщенный Удальцов. — В каскадеры.
— Хочешь быть неизвестным героем?
— Почему неизвестным?
— А как же: ты прыгаешь, падаешь, тонешь, горишь, а вся слава достается артисту.
— Ну, наверное. — Удальцов раньше об этом не задумывался, и ему стало немного обидно, но отчасти почему-то и приятно.
— А хочешь узнать, как еще можно совершать секретные подвиги? — спросил Капитан и весь подался вперед, нависая над песком и подрагивая пеной усов, словно волна за секунду до падения.
Конечно, Удальцов хотел.
Таких детей всегда было много — мечтающих о подвиге, ищущих похвалы. Удальцов долгое время считал, что дефицит внимания, про который теперь часто писали, — это не проблемы с концентрацией, а недостаток ласки. У кого что болит. Кажется, им всем не хватало дома нежности. Зато у Капитана ее всегда было с избытком, бескрайней и булькающей, словно водяной матрас. И теперь они сидят здесь, вокруг пустой и горячей детской площадки, потому что идти им больше некуда и незачем.
— Тихон! — позвал строгий женский голос. — Тихон, смотри вперед!
Мальчик лет пяти мчался на самокате прямо в Удальцова. Мама шла сзади, одной рукой толкая коляску с девочкой, изумленной большим миром и уже сонной от избытка впечатлений, а другой держа на отлете телефон. Казалось, она пускает им солнечные зайчики — по земле и деревьям запрыгало пятно света. Удальцов подумал, что если бы он вырос, если бы ему не встретился тогда Капитан, у него могла быть такая жена, такие дети, такая жизнь. Мальчик в последний момент успел отвернуть, сильно толкнувшись ногой и воровато оглянувшись на маму. Удальцов приготовил лицо к улыбке, собираясь показать, что ничего страшного не произошло, но ни мальчик, ни женщина больше не смотрели в его сторону, как если бы он был неодушевленным препятствием: гипсовой статуей или забытой дворником тележкой с пакетами мусора.
Все правильно — неодушевленное препятствие и есть. Душу забрал Капитан почти тридцать лет назад. Удальцов тогда успел все понять и даже закричать, умоляя о помощи, отчего Капитан сразу стек со скамейки и побежал, колыхаясь, как большой и гибкий пузырь. Испугался он напрасно: детская площадка была пуста, только случайный прохожий повернул голову, близоруко вгляделся и пошел по своим делам. И все-таки было уже поздно — Капитан успел сделать главное, и в жизни больше не осталось смысла.
Представь себе космический корабль, сказал тогда Капитан. Плоский, как если бы виноград, только что вымытые, еще мокрые упругие ягоды, положили в одну тарелку и накрыли другой. Внутри, по кругу, маленькие ложементы для маленьких космонавтов, которые прилетели к нам из немыслимой дали, чтобы умереть здесь от какой-то пустяковой болезни. Может, у них была аллергия на солнце, возможно, их сердце лопалось от восторга при виде луны, или они просто не выносили звука, с каким поезда стучат по стыкам рельсов. Большеголовые, похожие на грустных, послушных детей во время тихого часа, они закрывали огромные глаза и засыпали навсегда. Никто не выжил, никто не вернулся домой. Наши ученые сумели разобраться в устройстве корабля, но оказалось, что управлять им можно только из этих ложементов, куда не влезет ни один взрослый. Теперь мне нужно найти восемь пилотов — лишь вместе они смогут полететь. Представь себе это, сказал Капитан.
И Удальцов представил. Странствия с Капитаном в поисках остальных семи пилотов. Школы, заметенные мелом — его частицы повисают в воздухе от взмаха сухой тряпки, и под тяжестью этой пыли солнечный луч рушится в ведро с водой. Маленькие стадионы с еще влажным после недавнего дождя песком прыжковых ям и пустыми лестницами трибун, уводящими в небо. Кружки авиамоделистов в старых особняках с лепниной и рассохшимся паркетом, где над беззащитными затылками детей, которые склонились над чертежами, нависают привязанные к потолку деревянные птицы с длинными узкими крыльями. Везде они будут искать и находить новых членов экипажа, причем один из них окажется, конечно, девчонкой, из-за чего поначалу никто не захочет ее брать, но именно она станет самой отчаянной, самой талантливой, самой надежной — лучший друг, навсегда, на всю жизнь. Потом начнутся тренировки на базе, мечты и разговоры после отбоя, ссоры и неловкие примирения, когда щиплет в носу и стыдно поднять вдруг зачесавшиеся глаза. И, наконец, полеты. Полеты, в которых все восемь человек становятся единым организмом, большим и сильным, так что корабль отрывается от земли и, набирая скорость, погружается в небо, чтобы вынырнуть по другую его сторону, где звезды и тишина. Там есть планеты, которые надо открыть и описать, придумав имена доверчивым животным с тугими звонкими животами и беспалыми, как у игрушек, лапами. Планеты, на которых нужно навести порядок, подняв их жителей на решительный бой с узурпатором, человеком трусливым и усталым, — он мечтает повернуть во вселенной время вспять, только чтобы вернуться в детство, где не нужно ничего бояться и ни за что отвечать. Планеты, на которых хочется остаться жить, но нельзя, потому что пора возвращаться домой, скоро отбой, и ужин в этот раз, так уж и быть, перенесут на восемь, но постарайтесь больше не опаздывать.
А потом они вырастут. Сначала она — девочки взрослеют раньше, девочки взрослеют быстрее, девочки взрослеют намного заметнее. Ложемент станет слишком мал для нее, и она просто уйдет. Будут запланированы торжественные проводы, но она просто уйдет ночью, не сказав ни слова и ни с кем не попрощавшись. Ни с кем. Удальцов будет летать еще полтора года, в последних экспедициях с трудом втискиваясь на свое место, отчего начнет затекать все тело и сделается трудно дышать. Затем уйдет и он.
Возможно, он даже согласится на эту церемонию. Не из тщеславия — из равнодушия. Это проще, чем планировать побег, красться по темному коридору, перелезать через решетку. Выслушает речи, возьмет награды и уйдет — нескладный подросток, который подпрыгивает и подергивается, словно еще не привык к земной силе тяжести. Словно не может поверить, что освободился от тугой ласки ложемента. Уйдет, зная, что эта большая жизнь закончилась навсегда и осталась только обычная, маленькая, — та, из которой больше нет выхода. У каждого человека есть план Б — на случай, если будет слишком тесно и душно, если существование сделается совсем невыносимым. Уйти в сантехники, выучиться на священника, окунуться в войну, записать роман, попасть в бомжи, потеряться в путешествии. Всегда есть что-то дающее силы потерпеть — еще день, еще месяц, еще жизнь. У него не останется ничего. Эта дверь закроется насовсем, а других выходов из жизни, к которой он приговорен, уже не будет. Даже если найдется лазейка — разве может что-нибудь сравниться с вечно вращающимся калейдоскопом космоса, теплым шепотом секретов, далеким звоном приключения?
Конечно, тогда Удальцов не понимал всего этого так отчетливо. Он вообще ничего не успел понять и только ощутил приближение катастрофы — чутьем почти животным, поскольку дети, еще не окончательно став людьми, умеют чувствовать, а не воображать и любовь, и пустоту. Удальцов закричал даже не от страха — скорее от тоски, и эта тоска прогнала Капитана со скамейки, заставила излиться прочь, на улицу, сквозь кусты и деревья, на которых, казалось, должны были остаться влажные следы его эластичного тела и шевелящиеся на ветру тонкие мягкие волосы.
Удальцов кричал, зная, что крик его бесполезен. Даже если бы рядом оказался не единственный равнодушный прохожий, давно скрывшийся из виду, а десяток воскресных неловких отцов, которые испугались бы, представив на месте Удальцова своих детей, и потеряли бога от этого страха. Даже если бы они бросились в погоню за Капитаном, повалили на землю, били ногами, пока не лопнули все его внутренние пузыри и жидкость тела не вытекла бы в песок. Даже тогда — что бы это изменило? Удальцов уже отравился мечтой, и в этом мире для него больше не было места. Чего бы он ни достиг, кем бы ни стал — ничто не могло сравниться с судьбой, придуманной для него Капитаном и прожитой за те несколько минут на детской площадке. Прожитой до конца, до самого донышка, так что внутри ничего не осталось и только немного саднило, как если бы его кто-то выскреб, собирая со стенок последнее.
На следующий день Удальцов начал методично обходить все детские площадки в округе, постепенно расширяя круг поисков. Он не мог бы объяснить даже самому себе, зачем ему нужен Капитан. Чего он хотел — уйти с Капитаном? Выслушать его еще раз? Снова натравить на него взрослых? В любом случае, Капитан нигде не появлялся, хотя Удальцов уже забрался в совсем далекие районы. В этих путешествиях ребенку было гораздо проще пропасть, чем в придуманной космической одиссее, однако с Удальцовым никогда ничего не случалось. Видимо, он тоже перестал быть нужен этому миру. В конце концов, Удальцов оставил поиски и только продолжал ходить на площадку, где встретил Капитана. Он больше ни во что не играл, не представлял себя ни каскадером, ни космонавтом. Просто сидел на скамейке и ждал. Ждал двадцать восемь лет.
Конечно, у него была какая-то жизнь за пределами этой детской площадки: он учился, работал, знакомился и расставался с людьми, — но все это было ненастоящим, временным, непрочным. Удальцов не мог заставить себя по-настоящему заинтересоваться карьерой или семьей, чувствуя в реальности неизбывную фальшь. Цели казались бессмысленными, средствам не было оправданий. Он жил даже не вполсилы: Удальцов вообще не растрачивал себя на жизнь и следил, как она проходит сквозь него, не задевая ничего главного. Со временем он начал замечать и других, похожих на него этой невовлеченностью в общую явь. Кого-то Удальцов встречал на улице, с кем-то пересекался по работе, но многие, так же как он сам, приходили на детскую площадку и чего-то ждали, поставив рядом с собой картонные стаканы с пластиковыми крышками. Друг с другом они не разговаривали, но и так было ясно, что все эти люди когда-то встретили здесь Капитана и тоже струсили, оставшись доживать лишенную мечты жизнь.
Сперва это была просто тень. Под закрытыми веками исчезли тепло и свет, словно кто-то убавил яркость мира. Удальцов открыл глаза и увидел заслонивший солнце женский силуэт. Женщина стояла спиной к нему, очень прямо, чуть расставив ноги в узких джинсах, и смотрела на детскую площадку. Волосы, выбившиеся над ухом из прически, отливали золотом. Она явно не собиралась идти дальше — даже так, со спины, против солнца, было понятно, почему она здесь. Свободных скамеек уже не осталось, поэтому Удальцов подвинулся, пересев на самый край. Женщина повернула голову на шорох, и они на мгновение встретились взглядами. Это была она — выросшая девочка из его большой жизни. Большой рот с уже опускающимися уголками, тонкий нос, темные глаза — их асимметрия была всегда почти незаметна. Женщина молча села на другой край скамейки, поставив рядом сумку, и снова стала смотреть на площадку, больше не обращая на Удальцова никакого внимания.
Он тоже больше не глядел в ее сторону, но все равно продолжал видеть перед собой — отчетливо, до мельчайших деталей — ту, рядом с которой прожил несколько никогда не существовавших лет. Пусть она даже не вспомнит о нем, пусть ей тогда привиделась какая-то другая жизнь, где не было ни космоса, ни Удальцова, — все это неважно. Он представил себе, как заговорит с ней, как улыбка тронет наконец ее губы, как снова загорятся ее глаза, как они вместе уйдут отсюда, от детской площадки, от призрака Капитана, колышущегося перед ними прозрачным мыльным пузырем, как начнут жить — по-настоящему, изо всех сил, до самого конца. Два калеки, мечтающих забыть о своем увечье.
Удальцов встал со скамейки и пошел домой.
Илья
Здравствуйте, меня зовут Илья, мне двадцать семь лет, и я амороголик.
Ужасное слово, но другого нет. Амороголик — это тот, кто хочет, чтобы его все любили. Даже не то что хочет, а не может без этого жить.
Я амороголик и начинаю паниковать, если выясняется, что меня кто-то недолюбливает или просто ко мне равнодушен. Я стараюсь влюбить его в себя, и это, как правило, получается.
Я милый.
Только нервов много тратится. К тому же надо держаться подальше от женщин: однажды, по молодости лет, я обаял всех в пределах досягаемости, после чего пришлось сбежать в Москву и поменять телефон.
Теперь я решил лечиться и пришел в Группу. Нас здесь семь человек, и все амороголики. Плюс Мастер, он же Иван Палыч Овсянников. У него, по-моему, проблемы со вкусом, судя по пристрастию к заглавным буквам и слову «амороголик», хотя это, наверное, неважно. Еще я подозреваю, что он ненамного здоровее нас, но, на самом деле, очень сложно отличить амороголика от просто симпатичного человека. А Палыч, что ни говори, пассионарий и обаяшка.
Он небольшого роста, со всегда как будто влажными волосами, кольцами прилипшими к высокому шишковатому лбу, и короткой рыжей бородой. Мастер похож на смекалистого фольклорного мужичка, которого барин зачем-то переодел в костюм-тройку и заставил изучить психологию, философию и богословие.
Кроме него, как я уже сказал, нас в Группе семеро.
Степан, наголо бритый худощавый парень, — молодежный лидер то ли из «Единой России», то ли «Молодой гвардии».
Вера, полноватая и улыбчивая учительница начальных классов.
Седой и импозантный Игорь, ведущий телепередачи про хороших людей. Добрая задушевная программа — каждую субботу в девять утра.
Актриса Марина, маленькая, коротко стриженная и глазастая. Похожа на травести.
Психоаналитик Борис, бородатый, молчаливый и внимательный.
Аня, домохозяйка и мать пятерых детей. Четыре девочки и один мальчик.
И я, Илья, — двадцатисемилетний амороголик и менеджер по продажам.
Три раза в неделю (понедельник, среда, пятница с 20.00 до 21.00) мы собираемся в детском саду рядом с «Пролетарской» и рассказываем о своих проблемах. В саду пахнет кашей, сном и простудой. Немного тряпкой. Стулья маленькие и хрупкие, поэтому мы сидим на составленных в квадрат банкетках. Всегда на одних и тех же местах. Рядом со мной сидит Марина. Напротив — Игорь, нарисованный на стене Спайдермен и Аня.
Политик, учительница, ведущий и актриса сделали одну и ту же ошибку: выбрали профессии, где можно купаться в любви, но забыли про существование коллег. Злобных и завистливых.
Домохозяйка Аня сидит на спидах и антидепрессантах, изображая идеальную мать и обреченно наблюдая за взрослением детей, которые скоро ее возненавидят.
Мы с психоаналитиком самые умные. У Бориса частная практика и маленький кабинет в центре, где он принимает боготворящих его пациентов, а я работаю дома и общаюсь с клиентами и начальством по телефону и скайпу. Проблемы на работе мы свели к минимуму, но оба понимаем, что это не выход и надо лечиться. Если, конечно, происходящее в Группе можно назвать лечением.
Недавно пришлось познакомиться с соседкой. Обычно я никому не открываю, если не жду гостей, а перед тем, как выйти, долго смотрю в глазок и прислушиваюсь, чтобы ни с кем не столкнуться у лифта. Если там все-таки обнаруживается кто-нибудь из соседей, я роюсь в карманах и смущенно машу рукой: «Езжайте — кошелек, кажется, оставил».
В итоге, прожив здесь четыре года, я почти никого в доме не знаю. Так гораздо спокойнее. Я верю, что заочно все от меня без ума, и никого не пытаюсь очаровать.
Но на это раз у меня прорвало трубу, пока я был в Группе, и залило соседку снизу. Хуже ничего не придумаешь: пришлось знакомиться и задействовать все свое обаяние.
Оказалась милая девушка: Лена, высокая длинноволосая брюнетка, двадцать три года, Овен, инструктор по дайвингу в фитнес-клубе. Безнадежный запах хлорки, мокрые купальники в пакетах, чужие голые люди. Бывший парень, тоже дайвер, уехал в Египет, трахает туристок. В квартире фотографии: кто-то гладкий, черный и горбатый в грудной клетке затонувшего среди кораллов корабля, крупным планом рыбы конфетной расцветки, вечно ждущие ответного поцелуя.
Вчера ходили в кафе, и понятно, что добром это не кончится. Расстаться с девушкой так, чтобы она продолжала любить, но оставила в покое, сложно. У меня иногда получалось, но надеяться на это не стоит.
А в Группе становится все интереснее. В последнее время там говорили не столько мы, сколько сам Палыч.
Вам мало человеческой любви, говорил Мастер, потому что вам нужна любовь Бога. Вы сможете насытиться только ею.
«Иисус любит тебя» — сказка для идиотов. Никто не может по-настоящему ощутить Его любовь. По крайней мере, на Земле.
Если взять священные книги всех религий и посмотреть на даты разговоров Бога с людьми, можно вычислить точку на небе, откуда Он говорил. С точностью до звезды.
Бог далеко от нас, сказал Мастер, но я знаю, как до него добраться.
Все это было настолько дико, что мы, не задавая вопросов, послушно отправились смотреть построенный Палычем аппарат для телепортации к Богу.
Полтора часа ехали на электричке, не решаясь друг с другом заговорить. Смотрели в холодные окна и, встретившись взглядом с чужим отражением, поспешно отводили глаза.
По вагонам носили чудодейственные средства на все случаи жизни и сборники кроссвордов, если придется разгадывать загадки после смерти. «Торговцы чудесами и тайнами», — вполголоса сказал телеведущий. Учительница Вера купила книжку сканвордов и, положив ее на колени, за всю дорогу ни разу не раскрыла.
Потом долго плутали по дачному поселку. Был конец сентября, и воздух весь состоял из мелкого дождя и дыма. Давно стемнело, и, чтобы не ступить в лужу, мы шли след в след за Мастером, растянувшись колонной.
Аппарат хранился в огромном сарае, занимавшем половину участка. Это оказался правильный металлический куб с гранью метров в пять, стоявший на высоком постаменте. В одной из непропорционально толстых стен куба была дверь с небольшим квадратным окном. Сквозь стекло виднелся круг, нарисованный на полу, ровно посередине, красной краской. В центре круга стоял столбик с кнопкой наверху.
Четырнадцатого октября, сказал Мастер. Четырнадцатого октября Бог окажется на одной линии с этой точкой. В этот день мы будем заходить по одному в Ковчег, нажимать на кнопку и переноситься к Нему. Вечная и абсолютная любовь — то, что вы искали всю жизнь.
На обратном пути мы с актрисой и политиком поймали машину.
Через два дня, когда я закончил работу и выключил компьютер, в дверь позвонили. Я посмотрел в глазок и увидел Лену. Было глупо делать вид, будто меня нет дома: она наверняка видела свет в окнах и слышала шаги наверху. Я открыл.
Лена смотрела на меня, как, наверное, смотрят дети перед смертью. Еще верящие в чудо, но уже готовые к боли и оттого больше не бессмертные. Разбитые коленки — грехопадение. Если Лена и приготовила какую-то речь, то поняла, что она не имеет смысла. Все было ясно. Храбрая девушка.
В коридоре пахло соседским ремонтом. Белые следы уходили вдаль.
Я не думал, что все случится так быстро. Я молчал, пытаясь вспомнить слова, которые говорил в таких случаях. На мгновение мне пришла в голову мысль сделать вид, будто не понял, зачем она пришла. Мы стояли в дверях несколько секунд. Потом Лена повернулась и пошла к лестнице. Одновременно судорожно вздохнул вызванный кем-то лифт. Мне показалось, что ей хотелось меня ударить. Хотя это, наверное, мне хотелось, чтобы Лена меня ударила. Я ее не окликнул.
Вы ошиблись, сказал я Палычу, когда мы остались одни. Он запер дверь детского сада и сел на звякнувшие креплениями качели. Я встал перед ним. Палыч начал раскачивался взад и вперед, притормаживая ногой о мокрый песок. Мне пришлось сделать шаг назад, и я перестал видеть его лицо. Нам не нужна любовь Бога, сказал я. Мы ищем любви только потому, что сами не умеем любить. Все зря. Группа, Ковчег — все зря.
Конечно, вы не умеете любить, сказал он и слез с качелей. Теперь Мастер стоял почти вплотную, задрав ко мне голову, но я стеснялся отодвинуться. Только тот, кто не любит людей, может полюбить Бога, сказал он. Мы нужны Ему не меньше, чем Он нужен нам. Первородный грех — это открытие, что можно любить не Бога, а человека. «Устыдились наготы своей»? Ерунда: не наготы они устыдились, а человечности. Какое это было сладкое и стыдное открытие: что можно любить человека с этими его пальчиками, и хрящиками, и складочками. С волосками и скользкой, как выводок маслят, изнанкой.
Но оказалось, мы не можем одновременно любить и Бога, и людей. Что-то ломается в душе, стоит тебе полюбить человека, и ее уже не вернуть к Богу. Пришлось выбирать, и мы выбрали людей, так непристойно похожих на нас самих. Любовь к человеку — всегда немножко инцест.
Бога мы больше не любили. Остались лишь уважение и страх. И тогда пришел Иисус, чтобы объяснить, как одновременно любить Бога и человека. Сына Божьего и Сына Человечьего. Анемичного, кадыкастого, плачущего на кресте бомжа и Спасителя, давшего людям второй шанс.
Он объяснил, но мы не поняли. Все осталось по-прежнему. Даже лучшие из священников делают вид, что выбрали Бога, но на самом деле любят только людей.
Поэтому я нашел вас, не любящих никого на Земле. Только вы можете дать Богу всю любовь, которую он заслуживает.
Я не хочу в космос, закричал я. Я хочу любить. Земных женщин, усталых и пахнущих. Вместе с которыми можно плакать и есть. Зачем Богу те, кто не умеет любить?
Четырнадцатого октября, ответил он. Ровно через неделю.
На следующий день я поехал к Ковчегу, чтобы кое-что проверить.
Я понятия не имею, на что похожи устройства для терепортации к Богу, но точно знаю, как выглядят промышленные печи. Я ими торгую.
Я открыл сарай (Палыч показал, где прячет запасной ключ) и внимательно осмотрел Ковчег снаружи и изнутри. Это была большая высокотемпературная печь.
Вернувшись в Москву, я нашел политика Степана, что оказалось проще всего. Мы ходили по дорожкам бульвара, и я рассказывал ему про печь, про то, что мы никого не любим, про то, что Палыч давно, наверное, сошел с ума.
Под деревьями стояли черные пластиковые мешки с мертвыми листьями. Осенний новый год, пародийный, как месса сатанистов.
Потом мы вместе разыскали всех остальных: телеведущего Игоря, актрису Марину, психоаналитика Бориса, учительницу Веру, домохозяйку Аню. Мы обменялись телефонами, договорившись встретиться и обсудить, что делать с безумным Палычем и его печью.
В следующий раз мы увиделись только четырнадцатого октября, возле Ковчега. Один за другим они заходили в камеру и, нажав кнопку, исчезали в яркой вспышке. Марина мне улыбнулась, Борис кивнул, Степан помахал рукой.
Когда мы остались одни, Мастер сел рядом со мной на ящики.
Почему, спросил я. Почему, Палыч? Они знали, что это печь.
Они знали, что это Ковчег, сказал он. При телепортации тело разбирается на атомы в одном месте и собирается в другом. Наверное, ты мало читал фантастику. Если не знать, что в доме несколько этажей, лифт покажется камерой смерти, в которой бесследно исчезают люди.
Почему они ничего не сказали, спросил я.
Это было бесполезно, сказал Мастер. Ты хотел спасти их, потому что полюбил. Ты больше не нужен Богу.
Когда он нажал кнопку и исчез, я нашел в сарае инструменты и несколько часов методично разбирал Ковчег. Все детали, которые мне удалось снять, я расплющил молотком, все провода разрезал ножницами.
Потом я сел в углу камеры, посреди которой теперь была дырка от вывинченного столбика, и заплакал.
То ли от любви к ним, то ли от жалости к себе.
Куранты
В конце 2014 года Спасская башня Московского Кремля исчезла из виду: вокруг нее соорудили футляр из строительных лесов и натянутой на них термозащитной ткани. По официальной версии, на башне начались реставрационные работы, в ходе которых специалисты приводили в порядок, в частности, куранты, чьи стрелки и циферблаты давно ждали ремонта. Из-за этого президент был вынужден записывать свое новогоднее обращение, поднявшись на галерею Храма Христа Спасителя.
Следователь
Садитесь. Я майор Богоявленский. Майор — не капитан, не лейтенант, хотя, конечно, и не подполковник. Но вы, надеюсь, званием моим теперь вполне довольны и мы можем начать беседу нашу?Преступник
Что ж… Майор? Конечно, жалко, что не подполковник — мне в этом званьи чудится подполье, стремительный ночной переворот и жаркий влажный воздух, если выйти с утра из президентского дворца, чтобы упасть на каменные плиты, как будто поскользнувшись в алой луже: под южным солнцем вывихнулось время, и следствие мешается с причиной. Я, впрочем, совершенно не в обиде: майор — это прекрасно, пусть я даже совсем иначе вас себе представил: казалось, будет красное, с усами, и капли пота здесь вот, под затылком. Хотя я вас, пожалуй, с брандмайором скрестил и вычел, словно в ребусе, пожар.Следователь
Мы можем приступить теперь к допросу?Преступник
Простите. Да, конечно.Следователь
Для начала давайте разберемся с именами: я, повторюсь, майор Богоявленский, Петр Павлович. А вас мы как запишем?Преступник
Флор Лаврович Успенский.Следователь
Даже так? Флор Лаврович? Есть имена не хуже: Кузьма Демьянович, Борис, конечно, Глебыч. Крестовоздвиженский, Покровский, Вознесенский… Не будем исправлять?Преступник
Нет, я уверен: я сон — вы явь, я лист — вы твердый камень, я вас могу собою обернуть, но будет «три» и шелест ножниц мойры.Следователь
Ну, хорошо, Успенский так Успенский. Давайте сразу к делу: этой ночью проникли вы в кремлевские куранты. Вас обнаружили внутри, стальной кувалдой крушащего бесценный механизм, по щиколку в снегу из шестеренок, — ну, и зачем?Преступник
Хотел привлечь вниманье.Следователь
Вам удалось. Теперь я весь оно. А что ж вы замолчали, Флор Успенский? К чему вниманье? К собственной персоне? А может, вы, как модно стало нынче, акционист и гений гениталий, из тех, что, знаете, срамные части тела терзают, распиная на брусчатке и делая гнездо для мертвой птицы? Тогда кувалда — это, значит, фаллос, ну, а часы, наверно, символ женщин: ведь их тела отсчитывают луны и время льют из устьица клепсидры на быстро тяжелеющие крылья. Что там еще? Бог Кронос? Оскопленье? Ну, как, я угадал?Преступник
Увы, но нет. Мне самому такое толкованье и в голову, признаться, не пришло. Ну, скажем так: ищу я человека, в ком сила уживалась бы с мечтой. Пожалуй, лейтенант меня бы понял — была какая-то в нем детская отвага, с ней города штурмуют в одиночку, не замечая развязавшегося шарфа и змейки снега здесь вот, на запястье, где варежка вползает под рукав. Но чем он мог помочь? Вот капитану под силу было многое, однако я убежден, что он не видит снов и лиц на лихорадочных обоях. А вы — другое дело, вам, пожалуй, я расскажу.Следователь
Вы это все всерьез? Вы уничтожили часы на Спасской башне, чтобы меня найти такой ценой? Вы что, надеетесь, сто шестьдесят седьмою отделаться удастся? До двух лет? Двести четырнадцать случайно не хотите? За вандализм с политикой — до трех? А что нам делать, если мне прикажут квалифицировать все это как теракт? Там двести пятая — пятнашка, как с куста, ведь это Кремль, куранты! Мы, конечно, уже к утру закрыли все лесами, и кажется теперь, как будто рядом со старым мавзолеем строят новый, гранитный зиккурат для великана: он упокоиться, наверно, должен стоя, чтоб в час беды шагнуть врагу навстречу. Мы серный дым пустили на столицу, скрыв серой башни призрак в сером небе: так прячут в лабиринте из зеркал зеркальный гроб с бессонной белоснежкой, распиленной и сшитой многократно, и только клоун плачет по ночам, лаская толстым пальцем красный шрам в том месте, где совпали половины. Секрет мы сохраним, но как же праздник? Вы, словно Гринч, украли Новый год, продав цыганам: вместе с президентом, без шарфов, шапок, в тоненьких пальто, они теперь вдвоем блуждают где-то, ища, где под часами выпить в полночь.Преступник
Что Новый год! История, бывает, крадет десятилетья чьих-то жизней, развязывая войны, отправляя скитаться в степь бездомные народы, на крышах поездов с мешками манны, чтобы родился где-то человек, из чьей неровной скачущей походки — он утром о кровать ушиб колено — возникнет музыка и сразу же исчезнет, успев опять спасти нас. Я, наверно, болтаю много? Это все слова выходят из меня, как будто камни, что из себя выдавливает тело: я словно душу много лет держал под гнетом слов, не смея обнажиться, чтобы никто уродства моего не видел. Правда, с вами почему-то мне больше вдруг не страшно. В общем, я из будущего. Там я — или лучше сказать «тогда»? — заснул, проснувшись здесь, сейчас, вот в этом теле. Поначалу оно казалось неуклюжим и больным, но после я привык, как привыкают к увечью, к неотвязчивой простуде, хотя и ощущал следы тепла, чужого, неприятного, как будто ты в кресло сел, откуда только что встал и ушел, с тобою разминувшись, хозяин. И, возможно, так же он мое, стыдясь, разнашивает тело. Весь первый год провел я, разбирая свои проступки, изучая их на свет и проживая снова, чтобы вспомнить прохладу трусости, щекотку торжества, предательства во рту железный привкус. Пытался я найти в них преступленье, что было б наказанию равно, но все напрасно: был я не безгрешен, однако вряд ли чем-то заслужил изгнанье это. Начал с той поры я подозревать, что есть, возможно, смысл иной в происходящем: я заметил, что вы уже живете много лет без будущего, без мечты о мире, где не было б ни денег, ни войны, лишь дар и ветер, радуга и полдень. Решили вы, истории конец и предстоит вам вечность в настоящем, таком же, как сейчас, но только лучше — в нем будут проститутки и «очко». Вот почему свое воображенье, о лучшем мире дерзкую мечту вы тут же обратили на былое, придумав, что история — фальшивка, состряпанная давними врагами, и пишете о людях, что попали в ушедший век, чтоб все там изменить. Вы высыпали грезы, грязь и дрязги из гулкого сегодня в день вчерашний, и прошлое смешалось с настоящим — исчезло, напоследок свежей кровью потешных полководцев запятнав. Вы что-то повредили в мирозданье, испортив в нем одно из измерений, блуждая в трех осях, и я боюсь, что время навсегда остановилось, что завтра не наступит никогда и те, кого любил я, не родятся. Возможно, так причудливо сработал защитный механизм внутри вселенной, и я был послан выправить поломку, похмельный, непроспавшийся монтер. Но что я мог один? Меня сочли бы очередным и скучным сумасшедшим, из тех, что просят встречи с президентом и не снимают шапку из фольги. Мне нужен был помощник, и тогда я, чтоб вас найти, разбил куранты: в этом был сразу же и символ, и залог того, что я серьезен.Следователь
Если честно, не знаю, что ответить. Но сперва хотелось бы каких-то подтверждений. Вот, например, скажите, что нас ждет сегодня или завтра: смерть тирана, метель, гол в овертайме? Мы тогда легко сумеем ваш рассказ проверить.Преступник
Вы знаете, что может натворить одна песчинка знания такого, попавшая случайно в шестерни, толкающие время? Так меняет историю один неловкий шаг, и бабочка на рубчатой подошве не вызовет, махнув крылом, тайфун, и Чжуан-цзы уснувший не проснется. А вдруг верну я будущее, но своей любимой дома не застану? В квартиру нашу вселится другая с дыханием, походкой и смешком такими же, как будто, как у прежней, и все-таки чужими. Или даже исчезну из реальности я сам. Но нам едва ли это угрожает: скажите, что могли бы вы поведать о будущем ближайшем, например, носатому шумеру в длинной юбке? Когда вернется с кедром Гильгамеш? Кто покорит Урук? Да что шумеры — вот вы, попав лет на пятьсот назад куда-нибудь, допустим, под Чернигов, предскажете, начнется ли война с соседями? Когда родит жена наследника стареющему князю? О вас я так же ничего не знаю: я младше на века и даже вряд ли скажу, на сколько именно — ведь мы сменили календарь.Следователь
А интересно: с каких событий началась у вас другая эра?Преступник
Слушайте, не надо — мне правда страшно: с каждым лишним словом тот мир, который я когда-то знал, меняется. Я слишком хорошо могу себе представить, как, вложив зубную щетку в утреннюю рану распахнутого рта, ты понимаешь, что вкус у пасты стал чуть-чуть другим. И вот уже на кафельном полу, воткнув лицо в холодные колени, ты тихо воешь, зная, что не можешь ни в зеркало взглянуть, ни просто выйти из ванной, чтоб не видеть, что еще там изменилось. Нет, я вам и так сказал, наверно, много. Просто знайте, что будущее есть, верните людям мечту о нем — вы сможете, я верю.Следователь
Ну, что ж, я все проверил, что был должен. Теперь могу сказать, зачем я здесь: меня послали вас вернуть обратно. Произошла авария, во сне вы упали в темпоральную дыру, как падает в открытый люк прохожий, писавший новый статус на ходу. Я долго вас разыскивал повсюду, я проверял тела и времена и наконец нашел, но первым делом обязан был узнать, насколько крепко о будущем хранили вы секрет. Вы молодцом, я вижу, все в порядке, мы оба возвращаемся назад — я только нам введу лекарство в вены, чтоб можно было погрузиться в сон, где это путешествие возможно. Давайте руку.Преступник
Да, сейчас, конечно. Я с мыслями немного соберусь, и можно в путь. Я не могу поверить, что это все сейчас на самом деле. Простите, ради бога. И спасибо! Конечно же — спасибо, я не знаю, смогу ли я вас отблагодарить когда-нибудь. Смешно — «когда-нибудь»… Хотя постойте! Мы совсем забыли про миссию мою: ведь если оба сейчас назад вернемся, кто тогда починит здесь поломанное время?Следователь
Да миссии-то нету никакой: я вам ведь объяснил — несчастный случай. К тому же, если я сейчас за вами пришел оттуда — значит, все в порядке и будущее будет — вы согласны?Преступник
Согласен, но…Следователь
Давайте, мы рукавчик сейчас засучим…Преступник
Нет же, так нельзя. Ни вы, ни я наверняка не знаем, как в этот мир опять вернется время: а что, если для этого я должен здесь навсегда остаться? Почему-то я чувствую, что не могу их бросить — несчастных, разучившихся мечтать, — что их глаза из темноты как будто следят за мною с робкою надеждой, и даже если мне теперь придется пожертвовать всем тем, что я любил, я их спасу.Следователь
Ну, вот и хорошо. Похоже, обойдемся без уколов — вы явно на пути к выздоровленью, раз больше не пытаетесь сбежать в другое время. Да, пора признаться: не следователь я и не спасатель из будущего, а обычный врач, и мы сейчас отправимся в больницу. Ну, что, договорились?Преступник
Да, конечно. Теперь я вспоминаю — я и правда был долго нездоров: мои часы, они все шли и что-то расшатали вот здесь внутри, немного глубже глаз. Потом вдруг стрелки в них остановились, и стало очень пусто, и тогда… А знаете, ведь это было правдой буквально только что: весь мой рассказ и ваше путешествие сквозь время, но, кажется, я что-то повредил там, в будущем, и все переменилось. Вы стали местный врач, я — пациент, и я сейчас ловлю последний отблеск реальности, которую забуду, когда ее накроет эта тень. Я все испортил, больше нет надежды, но где же я ошибся, что сломал, оставив нас навечно в настоящем? Ведь я же знал! Я помнил только что! Ах, да — куранты. Я сломал куранты.Занавес


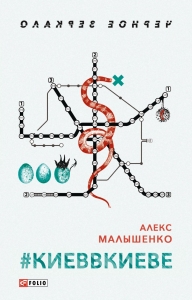
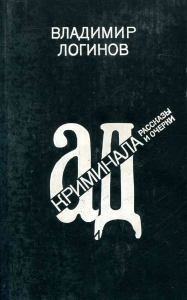
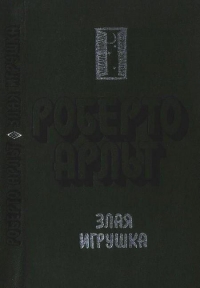
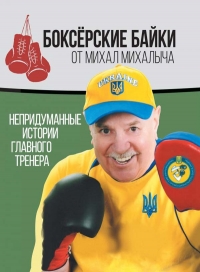
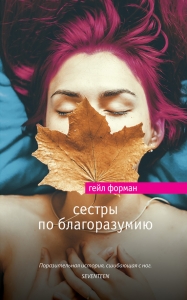






Комментарии к книге «Идиоты», Александр Щипин
Всего 0 комментариев