Владимир Козлов. Рассекающий поле
И чтоб невежей не казаться, Он неуместным счел вопрос И ни словца не произнес. Кретьен де Труа. «Персеваль, или Повесть о Граале»[1]Информация от издательства
Козлов, В. И.
Рассекающий поле: роман / Владимир Иванович Козлов. – М.: Время, 2018. – (Самое время!)
ISBN 978-5-9691-1718-1
«Рассекающий поле» – это путешествие героя из самой глубинки в центр мировой культуры, внутренний путь молодого максималиста из самой беспощадной прозы к возможности красоты и любви. Действие происходит в середине 1999 года, захватывает период терактов в Москве и Волгодонске – слом эпох становится одним из главных сюжетов книги. Герой в некотором смысле представляет время, которое еще только должно наступить. Вместе с тем это роман о зарождении художника, идеи искусства в самом низу жизни в самый прагматичный период развития постсоветского мира. Книгу питают различные жанровые традиции мировой литературы – литературное путешествие, поэма, роман воспитания, роман о художнике и даже рыцарский роман. Культурной рифмой к образу героя делается рыцарь Персеваль, появление которого некогда изменило всю европейскую литературу.
© В. И. Козлов, 2018
© Состав, оформление, «Время», 2018
I. Дорога на северо-запад
Ну что ж, я встал и пошел. Не для того, чтоб облегчить себя. Для того, чтобы их облегчить.
В. Ерофеев. «Москва – Петушки»1
Сева сложно устроен. Где-то в нижнем углу большой залы внутри его головы невидимый граммофон урчит песню:
АнИ-гаварЯт-им-нельзЯ-ри-ска-вАть, ПотомУ-что-у-нИх-есть-дОм, В дОме-го-рИт свЕ-е-ет.А возле окна этой залы неподвижно стоит юноша, глядящий в окно. Прямо перед его глазами широко течет Дон. Молодой человек думает о том, что случается с тем, кто однажды начинает петь и более не останавливается. О том, что это за почва, в которой песня созревает. К блаженству и покою ли этот путь – или песня уводит от них навсегда? Как она находит того, кого можно выхватить из рядов? Куда она отправляет своего героя? Вернет ли своим или – неузнаваемым чужим, пропащим?
И-Я-не-знА-ю-тОчно-ктО-из-нас-прАв. МенЯ-ждет-на-У-ли-це-дОждь, Их-ждет-дОма-А-бед.В этой песне Сева любил только первый куплет – его спокойный драматизм. В нужном месте Сева явственно слышит гитарный проигрыш. На самом деле он сейчас вышел из общежития на улице Зорге в Ростове-на-Дону и напевал, оставляя за спиной эту монструозную типовую образину:
Закрой за мной двЕ-ерь – я-У-хо-жу. Па-пА-ра-пам. Закрой за мной двЕ-ерь – я-У-хо-жу.Во втором куплете появится какое-то странное, непонятное «мы». Цой, наверное, знал, о чем речь.
До Цоя вообще не было никаких песен. Просто потому, что кто-то всегда приходит первым в мир немоты. Остальная мировая культура была потом.
Сева не сосредотачивался, не пытался спеть похожим голосом – пел, не придавая действию значения. Однако не мычал про себя, а именно что пел – прямо посреди города. В городе можно идти по тротуару и петь чуть не во весь голос, не опасаясь, что кто-либо тебя услышит. Никто не услышит. Как выражаются строители, воздушная подушка в стене лучше всего сохраняет тепло и оберегает от звуков извне. Сева шел, со всех сторон окруженный толстой и почти непроницаемой воздушной подушкой.
Заканчивался июнь 1999 года, начинался трудный понедельник, было восемь утра – не для песен время. И Сева Калабухов старался не забываться: пел – будто жвачку жевал. А когда вошел в автобус на привычной остановке около студенческого городка и взялся за влажный поручень, так и вовсе – исчез.
Ощущение невидимки приходило, стоило остановиться, замолчать. Оно накапливалось в организме, как гормон, который в какой-то момент запускает неконтролируемые процессы внутренних перемен. Всеволод последние два года в некотором смысле тренировал ощущение полного растворения в массе большого города. Оно ему было любопытно. Людям все надо разжевывать лицом, а лучше потом еще и объяснить. Красив ты или нет – это второстепенно. Даже в красивом лице лень читать, вот в чем беда. Глаза, способные отражать душу, тупеют от собственной невостребованности. А если твое лицо надо всякий раз будто собирать заново из отдельных черт, то его лучше назвать непримечательным. Особенно если некому собрать твой портрет. И ты отсутствуешь. А генератор внутреннего мира работает. И опыт исчезновения из внешнего оказывается неожиданно глубоким и разнообразным.
Слава богу, нет давки. Сева разместился на центральной площадке по ходу движения, уложив спину в изгиб поручня – так он мог одинаково естественно смотреть в окно и блуждать взглядом по салону. Ни одного ребенка. Рабочий класс едет из Западного спального района Ростова-на-Дону начинать жаркий день. Жара уже набирает силу. Сева потянулся и отодвинул стекло – ветерок полетел в лицо. Повернул голову и увидел здорового мужика с заячьей губой – он держался за поручень и обливался потом, ему было тяжело существовать. Остальные выглядели, как каталог удобных для отключки поз. А этот – стоит и работает. Вот еще не старая суховатая женщина, по-старушечьи закусившая нижнюю губу. Она как будто уже зажала губами свое бремя – и едет, не поднимая глаз. Мужчина рядом с нею щурится и чуть улыбается – так, как будто ему в лицо дует ветер и он слушает собеседника, – но ни собеседника, ни ветра нет, а лицо – застыло. Как будто он забыл это выражение на своем лице – и некому напомнить. Люди выглядят брошенными, застигнутыми неожиданным взглядом кто в чем, кто с чем на лице. Их выражениям не на кого опереться. Во всяком случае сейчас, пока они только едут туда, где будут сегодня жить.
Автобус медленно катился по почти пустому проспекту Стачки. На площади Тружеников вошла девушка. Сева подумал, что небо послало в центр его утренней картины мира главную героиню. Она встала у окна так, что он видел ее профиль. Она тут же повернулась на его взгляд и отвернулась к окну вновь. Ей будто некуда было девать большие темно-синие глаза. Они отовсюду видны, на что их ни наведи. А то, на что они смотрят, тут же начинает тянуться к их свету. Сева уже глядит на нее не один. Что уж тут поделаешь. Ее не достающие до плеч волосы с одной стороны заправлены за ухо. За одну только форму уха она достойна титула герцогини, которую полагается беззаветно и безнадежно любить. Есть ли кому любить тебя, девочка? На ее коже не видно ни одной родинки, на ней совсем нет загара. Крылья тонкого носа подрагивают, как у немного испуганного животного. Да, подумал Сева, это было и в ее быстром взгляде: убегающая, ускользающая от прямых лучей красота. Даже в профиль видно, что ее зрачки ни секунды не останавливаются на одной точке. Она чувствует, что он смотрит: ее взгляд постоянно будто отскакивает в его сторону, но – недолетает, и она уже как будто сердится, ощущая давление.
Сева тоже посмотрел в окно. Автобус ехал по мосту над железнодорожными путями. Отпустил ее – этого совсем чужого, но вдруг совершенно понятного человека. Она понятна, потому что красива, или красива, потому что понятна? Хороший вопрос, надо запомнить. Дверь открылась, и Всеволод вышел. Все опасно, куда ни глянь. Все заставляет присматриваться. А присмотришься – и не можешь оторваться. Присмотришься – и уже в ответе.
До университета нужно было ехать с пересадкой, дорога занимала до сорока доведенных до автоматизма минут. Одни маршруты доставляли жителей спальных районов в центр, другие – развозили по нему. Сева проделывал этот путь каждый будний день вот уже два года. Сейчас он сошел на Братском и вместе с вереницей попутчиков быстро пошел к Большой Садовой – главной городской артерии.
За той девушкой, наверное, и теперь, когда я вышел, кто-то наблюдает, подумалось ему. Она просто не может быть невидимкой – и поэтому как будто мечется на свету. От собственной красоты ей не скрыться, не слиться с роем, ее всегда обнаружат, в нее вглядятся, побеспокоят, тронут, попытаются присвоить. Хотел бы я вот сейчас вдруг выйти из мрака и предстать перед всеми в сиянии красоты? Нет, красота, это, конечно, не для мужчин. Мы чудовища, которым приносят жертвы.
Нет, тут что-то недодумано. Это не все, что нужно сказать о красоте. Может быть, эта девушка была, скажем так, не особенно красивой? Пускай на нее пялились – мужики на всех пялятся, особенно летом, когда – платьица. Может быть, красив на деле только замысел судьбы, прочтенный в ее лице? Разве не так? Или нет, и дело только в природе? Или все-таки в том, что ты можешь в ней прочесть? Да, вот так – нужна ли красоте культура? Каким быть должен я, чтобы не угробить ее при касании?
Сева умел думать о таком, меча в рот семечки. В нем не было возвышенности. Это был тон человека, много времени проводящего с самим собой – привыкшего без стеснения формулировать любопытное, но, как правило, неуместное для обсуждения.
Сева снова зашел в автобус, этот был набит гораздо плотнее, зато – длинной «гармошкой». На пути к подвижной центральной части раздался тихий грохот – мужчина зацепил гитару в чехле, которую Сева нес в руке.
2
Гитара – яркая деталь. Да еще в таком чехле. Он сшит из серого дерматина с помощью ручной швейной машинки. Таких чехлов не бывает.
Именно заметив гитару, внимательный наблюдатель получает повод задаться вопросом: куда же едет герой? Ведь молодой человек, который садится на остановке у студгородка, почти наверняка студент. А студент всегда едет в университет. Но не с гитарой же. Да и сессия в это время года подходит к концу. Действительно, Севе с позавчерашнего дня ровным счетом нечего делать в университете – он сдал все предметы, будет получать стипендию. То есть он точно едет не в университет. Наблюдатель бы это сразу понял – если бы он был.
Немаловажно и то, что Сева не просто студент, а – из приезжих. Ни по его вполне раздолбанным, но еще приличным кроссовкам, ни по рубахе с петухами, ни по джинсам, ни тем более по спокойным зеленым глазам этого факта не установить. Он приехал из маленького городка – а люди любого малого городка почти не отличаются от основной массы людей самого большого. В огородах они не работают и коров не доят, а значит, отличительных меток, выдающих чужака, если не совсем идиоты, не имеют. Вот и Сева не колхозник видом – и взгляд на нем не остановится.
Сева окончил второй курс, ему девятнадцать лет. Но где-то была черта, после пересечения которой уже не важно, девятнадцать или двадцать девять. В нем росту за метр восемьдесят пять, вес боксера-тяжеловеса и грудь – видно над второй пуговицей рубашки – волосата. Лицо – широкое, загорелое, с большими губами, мощными бровями и желваками. Было время – в зрелые застойные эпохи, – когда мальчишки в девятнадцать впервые сбривали с лица редкие волосенки и наконец замечали, что вся одежда на них куплена мамой. А Сева – ребенок другого времени, в котором детей в этом возрасте уже не бывает. Нет такого наблюдателя, который бы угадал его возраст, а значит – мог бы понять, что именно сейчас делает Сева.
Вот так – выходит, Севе нужен уже не просто выхватывающий его из беспросветности наблюдатель – нужен кто-то, кому было бы интересно знать о нем важные вещи, вдуматься в него. Ничего себе. Запросы личности растут по мере увеличения объемов внутренней работы, проделываемой ею в молчании и мраке.
Предметы – возвращают, особенно не воспаришь. Поручень под ладонью уже мокрый. И это восемь двадцать утра. Жара может не пощадить. Об этом невозможно не думать. Автобус скрипнул дверью – и духоту разбавил порыв снаружи. Совсем не прохладный. Сева понимал, что он неторопливо подъезжает к жаре. Свернули с Советской на Карла Маркса – на улицу, где ему в обычной жизни бывать уже совсем незачем. Он уже вышел за пределы привычного мира – достаточно было проехать на несколько остановок больше. Отчего же, впрочем, на несколько? Сева собирался ехать до конца. Он как будто только вспомнил это – и внутри похолодело, он крепче сжал поручень.
Руки тоже примечательны. Это руки не пианиста, не воина, а – работяги. Мясистые широкие ладони, темноватые – будто недомыты после земли, а земли они не касались уже давно. Просто Сева – плебей.
Куда это ты собрался, плебей?
Сева собрался путешествовать. Он – уже путешествует. Смотрит на второй поселок Орджоникидзе, аэропорт, от которого пятнадцать минут до центра города, – смотрит на все это, как на сопки Манчжурии. Он уже никогда не видел этих мест. И сердце пронзает ледяной страх. Потому что Сева не знает, сможет ли он вернуться. Потому что вокруг уже тот первозданный чужой мир, в котором человеку предстоит все сначала – и невозможно знать, что сил на это хватит.
Он почувствовал, что его пальцы мокры и холодны несмотря на жару. Дверь открылась на остановке. Пожалуйста, сходи – и на твое возвращение почти никто не обратит внимания. Легко отделаешься шуткой, мало ли их было.
Может, и отделался бы – если бы заставлял кто. Двери захлопнулись, осталось три остановки. Стало легче. Страшно – на пороге.
Оказывается, это просто – отправиться в путешествие. Проехать остановку и тем самым вывалиться из обыденности. Сева не умел бояться абстрактных вещей. Он не боялся будущего путешествия, хотя таким, каким он его задумал, его стоило бояться. Больше, чем абстрактное будущее, пугало конкретное настоящее.
С ним – уже давние счеты. Отзывчивый, впечатлительный, простодушный, Сева умел говорить «нет» гораздо лучше, чем «да». Спроси его: «Чего ты хочешь, Сева?» – и он растеряется, попытавшись заглянуть за край девичьей любви, туда, в абстрактный мир будущего. Зато очень хорошо знал, чего не хочет. «Я не полезу в эту черную дыру подвала – оттуда воняет». Вот оно – прямо перед глазами, не абстрактное, не на картинке. «Не надо этого» – он отсекал своим внутренним жестом все новые пространства до тех пор, пока перестал умещаться на оставшемся пятачке. И пятачок этот был настолько мал и жалок, что оставалось родиться последнему отказу, чтобы логическая цепь вытолкнула его из его мира, распространявшегося на полтора метра вокруг его койки в углу общажной комнаты. Он сейчас был на грани полного исчезновения.
Этот последний отказ ковался с зимы, ковался тайком как нечто, что нельзя разделить. Сева как будто прикрыл ладонями кусочек пустоты, чтобы там наконец накопилось отчетливое чувство. Но попробуй покажи его – и ты останешься ни с чем, и все увидят, что у тебя ничего не было, что ты – пустомеля. А это ведь – неверно: слово неточное. Точнее было бы сказать, что он хотел творить из ничего. Сомкнуть два ковшика ладоней, подождать, пока внутри них согреется воздух и зародится жизнь, и выпустить ее на волю. Он никогда не доводил этого эксперимента до конца, но сейчас чувствовал себя обязанным это сделать – внутри ладоней должен был зародиться он сам.
Но зачем для этого путешествовать?
Всеволод Калабухов знал про это немногое. Он знал только, что едет в Санкт-Петербург. И тем самым как бы задавался в его голове невинный и беспроигрышный сценарий травелога. Он как бы ехал за достопримечательностями и баночкой воздуха с Невского.
Но человек, отбывающий в культурную столицу страны, садится на поезд или проходит рамку в аэропорту. А Сева – Сева сел на городской автобус.
Это был особенно удачный маршрут, который появился совсем недавно – через весь центр города в прилегающий Аксай с выездом на федеральную трассу М-4 «Дон». Дальше шли только междугородные автобусы. Сева сошел на остановке около поворота в сторону Аксая. Взглянул на часы: без четверти девять. Посмотрел через дорогу: за жидкой лесополосой поле – такое большое, что Сева отвернулся. Несколько секунд помедлил – и пошел вдоль обочины прочь от города.
3
Он было призадумался: а не дождаться ли автобуса на Новочеркасск. Или даже до Шахт, которые в шестидесяти километрах. Но нет, решил, это тупик, это только отложит начало. Пусть путешествие начнется прямо сейчас. И оно началось – таким, каким было задумано: почти без денег через всю европейскую часть страны к городу, от которого веяло другой, пока только придумываемой жизнью.
Конечно, он не собирался идти к Балтике пешком, но и ловить машину на остановке посчитал неестественным. И вот Сева впервые обернулся к машинам, наезжающим из-за спины, прищурился от ударившего в глаза солнца и поднял руку.
Чуда не произошло. Синяя «семерка» прошла мимо, метрах в ста подъезжало что-то немецкое. Такое и останавливать страшно. Сева опустил руку и пошел дальше. Нечего стоять и ждать, раз назад дороги нет. Он обернулся: на его глазах увеличивалась серая «девятка». На расстоянии, когда еще не видно лиц, Севе показалось, что он взглянул водителю прямо в глаза. Он поднял руку, обращаясь лично к нему, он помогал ему мимикой, а губы беззвучно прошептали: «Ну давай», – но тот явно проезжал мимо. Сева усмехнулся, ему стало веселее.
Красиво звучит слово «автостоп» – в нем есть легкость. Сева слышал его от старших соседей с нижних, более престижных этажей общаги. Это слово опытных людей, знающих, какой должна быть униформа: яркие цвета, рюкзак, пришитые к одежде катафоты. У них было свое сообщество, они регулярно собирались на занятия: как собрать рюкзак, что нужно знать, если ты едешь в Грузию, как рассчитать необходимое для поездки количество денег, как вести себя с водителем, если ты девушка… Сева так и не узнал никаких правил. Его не интересовал образ жизни, ему было наплевать на культ дороги и правило большого пальца – он хотел в Питер. Зачем рассчитывать, сколько нужно денег, если больше, чем есть, все равно негде взять? Зачем методика сбора рюкзака, если у него нет рюкзака – и покупать его он точно не будет? Зачем считать водителей идиотами – неужто они без большого пальца не разбирают, почему человек на обочине поднял руку?
А во что одеться, можно и самому сообразить. Он выбрал темно-горчичную сорочку с экзотическими фруктами и пальмами. Выбрал, потому что эта вещь не мнется, а грязи на ней не видно. Хоть помидор на ней раздави, дикого вида не выйдет – это то, что надо. И он в этой рубахе похож то ли на туриста, то ли на художника.
Гитара в чехле одно название – дрова дровами. Но она довершала образ – она должна была сообщить каждому встречному, что человек, несущий музыкальный инструмент через всю страну, не опасен.
Сева сразу отбраковывал машины с двумя и более головами в просвете окон. Но первой остановилась «копейка» с супругами бальзаковского возраста. Он открыл заднюю дверь:
– Вы в сторону Новочека?
– Да.
– Можете подвезти до поворота с трассы?
– Садись.
Ну не Питер же сразу называть. Сева назвал ближайший город, чтобы не пугать. Но сразу уточнил.
– Вы в город заворачиваете?
– Ага.
И не к чему продолжать – все равно дальше искать другого извозчика. Скользнул взглядом по затылкам, которые выглядели как портреты старых знакомых. Супруги из работяг строили планы на день, тут же забыв о пассажире. Сева привычно ощутил себя в большой семье, и даже стало как-то уютно от их народного равнодушия. На заднем сиденье места хватало только на него одного – все остальное было заставлено крупными базарными сумками и каким-то хламом.
За окном тянулись поля, на которые он мог бы и не смотреть, – так хорошо он знал их вид. Их бессобытийностью пропитано подсознание. Если прямо посреди этого бесконечного поля построить несколько многоэтажек, дорогу между ними да школу, получится Волгодонск – город, всего лишь пятьдесят лет назад нарисованный на карте среди голой степи. В эту степь уходили проспекты, на нее смотрели окна пятого этажа. Сева был заперт в той природе – и потому как будто не видел ее, отмечал только, что тут растет, какая культура. Поля стояли тяжелые, через неделю должны начать убирать пшеницу.
Воспитанный матерью, он здесь вырос. Разве не хороша колыбель? – подумалось ему, – разве ты не вышел из нее хорошим человеком? Разве не здесь вложена в тебя простота труда и самоотречения? Так чего ж тебе еще надо? Почему же ты теперь едешь прочь и странна сейчас для тебя даже мысль о слезе прощания? Что это – жестокая несправедливость, история о том, как человек не способен ценить именно то, что имеет, и заходит в этом чувстве слишком далеко? Или он действительно перерос колыбель?
Севе вспомнилась история про то, как он лет в пять собрал кубик Рубика. Родители вернулись со двора – снимали тогда в частном секторе домик с огородным участком, – а сын им показывает то, чего никто из них никогда не мог сделать. Охи, ахи – а потом мама пригляделась: цветные нашлепки отстают. Им все стало ясно: сын собрал одну сторону, а потом старательно переклеил все цветные квадратики, вплоть до полной гармонии. Ну, так каждый может, сказали они. «Не каждый, – позднее думал Сева. – В конце концов, я же его собрал! Я восстановил миропорядок. В мире моих родителей никто и никогда не собирал этого кубика. А я сделал это. Как мог. В пять лет».
О господи! Сева вдруг понял, что на переднем сиденье пассажира сидит его мама. Да, он не видел ее полгода, но это вполне мог быть ее затылок. Ее выкрашенные хной волосы с годами все более коротки. Сева не видел ее лица, да и не смотрел почти, но время от времени мелькал профиль. В нем он узнавал закрепленное с годами в морщинах выражение постоянного изумления перед миром, который всегда оказывается не таким, как она думала. Сева так уже привык к нему, и вот только сейчас вдруг пришло осознание, что когда-то – во времена кубика Рубика – этого изумления не было.
Он ничего не сказал ей о поездке. Ну как это скажешь – она же волноваться будет. Еще подумает, что она может что-то запретить сыну. Зачем ее искушать? Он оповестил о том, куда отбывает, только двух соседей по комнате в общежитии. Сделал это в последний момент, когда уже не посмеешься с подспудным убеждением, что наутро рассосется. Наутро Сева уехал.
За рулем сидел русоволосый мужчина с обвисшими усами, которому она без остановки что-то говорила:
– …и она на меня, главное, смотрит – и сыпет мелкие! О наглёшь!
Водитель усмехнулся так, будто хорошо понимал эту хитрую гадину и даже в глубине души поддерживал ее в желании надуть свою жену.
– Я ей говорю: сыпь обратно, сыпь, а не то я тебе щас это ведро на голову одену!..
Она платила за простодушие своей неспособностью поднять головы над копеечной выгодой. Она считала, что не должна уступать никому ни пяди, потому что это было бы нечестно, – и не замечала, что на эту возню о том, чтобы правильно дали сдачи, уходит вся жизнь. А он вон усмехается: мол, грех такую дуру не дурить. И она понимает то, что он не говорит сейчас, – и готова уже в лепешку разбиться, чтобы доказать, что ее на мякине не проведешь. «Эх, мамуля, а как жить, если не надо никому ничего доказывать?»
«Копейка» завернула, и Сева крикнул: «Мой поворот!» – и правильно, потому что о нем успели позабыть. Он быстро выскользнул, чтобы мама, которой здесь не могло быть, его не заметила.
4
Придорожная зелень никогда не бывает зеленой – она сера, и этот серый кажется ближе к белизне солнца, чем к цвету чернозема. Защитный цвет, которым пользуются даже выгоревшие растения.
На трассе белый зной.
Пить хочется. Рано пить, оборвал себя Сева и поднял руку. Он поднимает ее минут сорок, за это время прошел по кромке километра три.
Машины все двигали и двигали мимо. Красные, зеленые, синие, черные, побитые, новые, иномарки, свои, мотоциклы с коляской – все проезжали мимо, потому что у них были дела, в которых нет места чужим людям. «А ты думал, тебе сразу красавицы на выбор останавливать начнут? – подзуживал себя Сева. – Раскатал губу. Ты ж хочешь, чтобы они тебя везли бесплатно куда тебе надо. Нашел лохов… Ну давай, дорогой, ты же едешь один, тебе скучно, ты везешь мешок картошки с ростовского рынка, неужто после этого у тебя не выросли потребности? Неужели ты больше никогда ничего не хотел? Неужто я не напоминаю тебе своей одинокой фигурой то, о чем ты только робко подумывал? Посмотри на меня две секунды, ну посмотри, давай – стоп, вот о чем ты сейчас подумал? Давай, василий, давай, отдавай себе отчет быстрее – пока не проехал меня! Прислушайся к себе. Вспомни, как служил во флоте, как видел море. Разве ты не смотрел на него как хозяин, забыв на мгновенье о том, что трудовые ладони твои сжимают древко швабры, которая править будет тобой еще многие месяцы? Разве ты не ухватил вот этого счастья, когда один на один – мир, здоровенная штуковина, и ты, обсос? А ты смотришь на него – и глаза твои смеются. А?.. Проехал! Вот же гондон. Ты, может, не понял, что я с гитарой? Что я человек искусства, мать твою. Я ж специально для таких идиотов инструмент через всю Россию пру…»
Севой владел кураж случайно нащупанного тона. Новая роль человека на обочине как будто подсказывала ему слова, которых раньше не было. Таких речей он не произносил никогда, потому что для них ему не хватало чувства исключительности, заостряемого теперь с каждой проезжающей мимо машиной. И так удобно в сторону от основного пути уводила глубокая колея для исполнителей роли отверженного гения.
Он вдруг осекся. Все эти чужие, но готовые слова, как будто поставленный уже кем-то давно тон, – все смолкло. И он как будто даже остановился. А потом поправил сумку и пошел, молча, не глядя на дорогу, будто даже забыв о ней совсем. Забыв поднимать руку. Он упорно шагал по щебню, набираясь уверенности от самой бессмысленности своего действия. Он шел так около четверти часа, пока немного не прояснилось.
В принципе, уже можно и попить. Он расстегнул молнию черной сумки, висящей на плече, и вынул литровую пластиковую бутылку с теплой водой из-под крана. Желания пить она не вызывала. Именно такую воду и нужно брать. Еще меньше хочется пить чай без сахара, но Сева обошелся простой хлорированной водой из-под крана.
Содержимое сумки он тщательно продумал. Единственным, что он купил перед отъездом, был атлас автомобильных дорог. В сумке также лежал прозрачный пакет с чистыми трусами и носками, складной нож, две банки кильки в томатном соусе, в кармашке катушка ниток с воткнутой иглой, спички, бутерброды с сыром и салом, записная книжка со всеми адресами и телефонами, небольшой сверток туалетной бумаги, маленькое полотенце, мыло в мыльнице и зубная щетка. В сумке оставалось еще довольно много места. Долго думал, брать ли с собой кофту. Ее точно не придется надевать часто, возможно, не придется вообще. На себе не повезешь – жара, места в сумке займет много, да и подходящей кофты не было – только джинсовый пиджак. А вдруг придется быть ночью в лесу? Сева нашел выход – взял с собой покрывало и сунул его в так подходяще великоватый чехол для гитары. Ее, возможно, тоже не придется доставать. Долго размышлял над зонтом. И пошел на риск – не взял.
Вспомнил, повернулся, поднял руку – и первая же машина притормозила. «В сторону Шахт подбросите?» – «Давай». Даже не успел рассмотреть, что за машина.
Какая-то поношенная иномарка. Сел рядом с водителем и почувствовал себя огромным. За рулем сидел маленький старый мужчинка с большими усами, в которых торчала сигарета. Изящными руками он держал грубое колесо руля.
– А ты откуда добираешься? – просто, как пацан из соседнего двора, спросил этот почти уже дедок, не поворачиваясь и не выпуская сигареты.
– Из Ростова.
– Нет, вот что это стучит?
– Где?
– В двигателе. Слушай… Слышишь?.. Вот, сейчас.
– Да.
– Что?
– Стучит.
– Это я слышу. А какого хера там стучит?
– Это вопрос.
– А потому что умник влез! Эта старушка два года бегает, я один раз резину сменил. Тьфу-тьфу. У нас просто роман был, жили душа в душу. Нет, прохожу три дня назад техосмотр, отвернулся, так этот мудозвон полез к ней под капот. Я увидел, говорю: дядя, не лапай! Но всё – ядовитый сперматозоид был уже в пути, и старушка закашляла, как только я вышел на трассу. Ну не падла ли?
– Падла, – весело удостоверил Сева, ничего не понимавший во внутренностях автомобиля.
– Эти умники только сидят и ищут, как им, мудакам, нарушить гармонию природы. Если ты в поиске – возьми ведро говна и взбей сметану, это я понимаю. Но если ты суешь свои грязные ублюдочные руки в святая святых, то ты просто мудак.
– Они не знают, где это – святая святых.
Кто это – «они»? Сева подыгрывал, не соображая. «Гармония природы» под капотом? Говно и сметана? Что за дичь у него в башке? Но – весело и неопасно.
– Ото ж… Говорю же… – и он выдал уже порцию отборных ругательств. – А тебе прямо в Шахты?
– Честно говоря, как можно дальше по трассе.
– Я буду в Красный Сулин поворачивать.
– На повороте тогда меня…
– У меня там друг живет, капитан морских судов. Объездил весь мир. Попросил отвезти его в аэропорт. Летит сейчас в Вену, там пересадка – куда-то на Средиземное.
– В ростовский аэропорт из Красного Сулина?
– Да.
– А вы из Ростова?
– Сейчас в Батайске живу.
– То есть вы сначала за ним в Красный Сулин, а потом его в аэропорт?
– Да.
– А чего он – автобусом и электричкой брезгует?
– Да мне несложно. Добился все-таки чего-то человек.
Сева помолчал. Почему-то подмывало. Первый раз видел человека, а было обидно за него так, как будто уже знал про него все. До раздражения уже знал.
– Конечно, добился, – проворчал Сева, глядя в поля. – Не у каждого есть такой товарищ. Может себе позволить попросить старого друга метнуться в другой город, чтобы с комфортом доехать в аэропорт. Видно, что высокого полета человек.
Сейчас теоретически можно было бы и на трассу внепланово сойти, а практически – ни в коем случае. Мужчинка Севу тоже как будто распознал. Дистанция у них сложилась, как у деревенских, за пять минут – как будто уже родня и судить уже друг друга можно. Он уже и Севе как будто был должен – пообещал же довезти, несложно же. А Сева еще и не понял, что уже давит, еще казалось, что сейчас откроет ему глаза – и тому станет проще.
– Мне не сложно, – устало повторил человек старым голосом, и после паузы: – У него все-таки жизнь, а я сидел бы сейчас, пивко тянул возле телевизора.
– А семья?
– Нету. Всю жизнь, брат, одни любовницы. Да и те… Лучше всего мне сейчас в дороге. Никто мозги не трахает.
«Брат», блин – да тебе же за полтос, дядька, подумал Сева.
– Да, действительно постукивает.
– Слышишь, да? – оживился он, а у Севы сжалось сердце.
5
Сева шел по пыльной обочине мимо щита со стрелкой налево. Там – забытый богом Красный Сулин – островок большой, но плохо заселенной шахтерской территории. Город – ровесник Ростова, а живет в нем тысяч сорок. В двадцатых годах Сулин – фамилия казачьего полковника – стал Красным. Люди стали там жить из-за запасов антрацита, железной руды и живописных мест. Атаманы не брезговали здесь строить себе имения. Да, Сева вспомнил об этих местах все, что рассказывал о них человек, уже два года спавший с ним комнате на соседней кровати. Антон был отсюда, из семьи бывшего шахтера. Шахту-кормилицу закрыли, потом затопили. Державшийся на идее собственного бытового героизма мужчина сорвался в рыбалку и водку. Героям не место на гражданке. Шкурные, торгашеские девяностые сделали с шахтерами когда-то большого Восточного Донбасса то же самое, что советская власть с казаками. Шахтер всегда, спускаясь в подземелье, знал, что есть шанс остаться там навеки – и хорошо, если сразу завалит или убьет взрывом метана, а то можно же много дней, медленно, от удушья и жажды… Такой шахтер никогда не встанет торговать галантереей – как не встанет и казак. Место их обоих – поближе к смерти. А ближе к смерти на гражданке – водка. Шахтеры еще ждут своего летописца.
В здешних местах города получались из слипающихся станиц, между которыми был вставлен какой-нибудь комбинат; из соединенных в узел асфальтовым пунктиром поселков, которые строились вокруг шахт. Между районами одного города здесь лежат незасеянные поля. У каждого района – свои название, климат, диалект, менталитет. На органичную дореволюционную карту поселений была наброшена стальная, а ныне проржавевшая сеть производственной необходимости. Органика берет свое, но еще не взяла. Пока что она только опутывает травой забвения брошенные остовы цехов – и картину эту пока трудно принять за картину возрождения старого мира. Неумолимая логика грузоперевозок и трудовых отношений связала старый мир бечевками советских дорог, но теперь их почти не видно, выступили наружу неизбывные красоты мест.
Для замыленного взгляда степь скучна. Близ Ростова и южнее, к Краснодару, земля лежит плоско, и взгляду до горизонта не на чем задержаться, кроме лесополос, которые в итоге горизонт и заменяют. Но сотню километров на северо-запад – и степь натыкается на широкий хвост Донецкого кряжа, начинает волноваться холмами, трескаться оврагами, ломаться балками. Здесь впервые появилось ощущение путешествия, хотя всего-то сто километров, но заложенная в пейзаже сюжетика мира уже изменилась.
Часть заднего сиденья в вылизанной старой «четверке» отрезали мощные вертикальные планки для каких-то садовых нужд. Сева сидел где-то под этими планками, остальное пространство занимали дети – девочки примерно двенадцати и семи лет. Дети не двигались. Машину вел крупный обстоятельный, в очках, отец семейства. Бледная проглотившая аршин мать смотрела строго перед собой. Никто не произносил ни звука, радио не работало.
Сева обычно издалека видел, набит ли салон, – и даже не пытался, если полон. А дети оставляли большой просвет – и он поднял руку. Когда садился в машину, у него никто ничего не спросил, Сева просто назвал следующий пункт – Каменск. А потом некоторое время ерзал – молчание казалось неестественным. Как нарочно, вспомнилось, что, по канонам автостопа, молчать неприлично – тебя как бы и взяли, чтобы водителю не скучно было одному, чтобы не дремать за рулем. Но через несколько минут Всеволод расслабился. Произнести здесь слово – все равно что громко засмеяться в вековом лесу.
Возникло ощущение, будто он уже давно едет, смотрит в окно, и под ним время от времени меняют машины. И остается только время от времени отвлекаться от пейзажа и не без интереса разглядывать новых попутчиков, чьи отличительные черты, благодаря неизменности кадра и запертому пространству салона, сразу отливались в атмосферу с какими-то особыми, действующими только здесь правилами.
Вдруг появилось ощущение мальчишеской гордости. Вот, он едет в машине по совершенно незнакомому миру. Поездка в машине дает ощущение, что жизненный опыт прирастает. Это осталось из психологии семьи, в которой никогда не было автомобиля. Как хорошо – сидеть здесь, смотреть в бездну незнакомого мира и делать вид, что все как обычно, что ты уже даже не замечаешь этих утомляющих обстоятельств и перемен.
Кто это сидит со мною в машине – дословный народ, которому для счастья не надо ни слова, ни жеста, или прагматики, скряги, которым лишнего движенья без повода жаль? Да, скорее всего, зажиточные мещане. Одеты прилично – сорочки, блузки, – но так, будто они отдыхали на параде.
– Думаешь, хватит этой справки? – вдруг произнесла жена, не поворачивая головы.
Ответа не последовало, но казалось, он должен быть. Сева переводил взгляд с затылка на затылок – и ничего не происходило. Какой тут толстокожий мир.
Не такой уж толстокожий, раз тебя подобрали, правда? Но почему они его подбирают? Может, он думает, что за деньги везет? А может, из обстоятельности. Вон он – едет семьдесят километров в час, такое ощущение – чтобы ничего не пропустить. Почему именно эти люди подвозят? Не кажется ли тебе, Сева, что жизнь складывается из людей, которые тебя случайно подбирают – и тем самым оказываются неслучайными? Вы не выбираете друг друга, вы просто оказываетесь за одной партой, в одной комнате общежития, в одной машине. У вас нет относительно друг друга никаких планов. Вы проводите друг с другом минуты, часы, месяцы, годы – и характер связи между вами почти не меняется. Только в какой-то момент оказывается, что других людей в твой жизни, в общем, и нет. Но и эти люди – разве они в твоей жизни? Они просто в какой-то момент проживали, крутили баранку рядом. А сейчас и вовсе забавно: они все меня везут – а что делаю я? А я бегу от них, шагаю через них. Они помогают мне оказаться там, куда никто из них даже не думает двигаться. Справедливо ли это?
– Да, – ответил отец семейства.
Сева успел забыть, на какой вопрос тот сейчас ответил, и некоторое время вспоминал. «Эстонцы, что ли?» – подумал он.
Автомобиль уже въезжал в низину Каменска. Трасса шла через весь город в качестве центральной улицы. С дороги повернули к воротам запертого гаража, и мотор замолчал.
– Большое спасибо! – бодро сказал Сева, вылез из машины и зашагал назад к обочине.
– А ты куда едешь? – спросил его в спину мужчина в роговых, как теперь видно, очках и свежей, но примятой сорочке.
Сева коротко обернулся:
– В Петербург, – и не стал дожидаться реакции, двинулся вдоль трассы к выезду из города.
Некоторое время он чувствовал взгляд на своей спине. Позади как будто что-то происходило – тяжелые механизмы чужой психики зачем-то пытались заново сформировать мнение о случайном попутчике.
6
Семьсот метров по прямой – и нет больше Каменска.
Пока шел, жара придавила. Прошибло потом. Куда-то делся ветер, вокруг ни тени, солнце добросовестно пропекало поверхность. Из степи шел густой травяной дух. Сева утерся рукавом. Он помнил это ощущение. Бабушка брала его лет в шесть-семь собирать землянику. Вместо жужжанья машин там жужжали насекомые.
Поле начинается за перекрестком. На той стороне АЗС с какой-то самопальной вывеской. Сева увидел будку туалета и направился туда. К дыре подойти невозможно – загажено, и жара чуть ли не вскипятила это все дело. Даром, что зашел за стену, Сева отливал на природе, копошась взглядом в пожухших, усохших от ветра и солнца сорняках.
Вечная форма жизни. Запылены, пропитаны парами тяжелых металлов, пропахли бензином и высококонцентрированным забродившим говном, вытоптаны ногами и шинами. Но попробуй, домашний мальчик, выкрутить этот жгутистый стебель: большее, что ты сможешь, – оторвать листья. Это невеликая потеря: суть сорняка – будылка, которую можно разрубить, но не уничтожить. Можно спалить, но горит она плохо. Зато она сильно хочет жить – жить свою вонючую, ни на что не претендующую жизнь. И при этом утром на нее, как и на самые благородные растения, ложится божья роса.
А метров через сто начиналась пшеница. Набежали облака, приглушив накал света, дунул ветер – и Сева пошел до поля без оглядки на машины. Золотистая нива медленно вытекала из-за лесополосы. Уборка вот-вот начнется, колосья уже тяжелые, согбенные. Сева не стал сходить с обочины, а так и смотрел с небольшой насыпи на береговую полосу метрах в пятнадцати, на которую лениво набегали шелестящие волны. Смотрел и думал, что вот такой была красота еще до того, как ее догадались отделить от вещей, сделать ее чем-то самостоятельным. Красота – это вспаханное и засеянное человеком поле, на котором сам по себе вырастает небывалый урожай. Теперь, когда цивилизация была так легко оставлена Севой, эта красота проступила. В городе и близ него слишком много бессилия человеческого мира, застывшего в состоянии разложения. Растрескавшийся асфальт и вывороченные бордюры, плитка, покрывающая не более пятачка перед новым фирменным магазином, а дальше – ничья земля. Много ничьей земли. Она начинается прямо перед порогом и заканчивается у другого порога. Любая низость там может сосуществовать рядом с красотой, и это сосуществование – торжество бессилия. А здесь – засеянное поле. И от него прилив радости, как будто наша футбольная команда выиграла – справилась, присвоила эту ничью землю, сумев ответить своим даром на дар природы.
И ничто никуда не движется. Потому и дорога – одна на весь обозримый мир. Оглянись вокруг, посмотри, сколькими путями пройти нельзя, чтобы не сгинуть, и только по ней, единственной, – можно. Ведь если дорога, значит, кто-то по ней проходил. Но она для нас, оседлых донельзя, – на самый крайний случай. Только для тех, кому жить надоело. Кто вытряхнут из корзинки. Никого на дороге не встретить. Машины не в счет – их скорость выражает только желание быстрее вернуться.
Сева смотрел вокруг – и ему казалось, что он никуда не уезжал. Этот мир был знаком ему с детства. Эта звенящая тишина, в которой слышен лишь процесс твоего старения. Эти пыльные тополя, кренящиеся от ветра на один бок. Редкие люди, глядящие друг на друга мельком за отсутствием интереса. Эти случайные, дающиеся через силу слова, которые, если бы не были просьбой, не произносились бы вовсе. Можно попросить подвезти, если человеку ничего не стоит, но попробуй выпросить интерес к тому, кто ты, зачем живешь, какие дилеммы носишь в буйной голове. Нет, мы ничего друг другу не должны. Смотришь на эти тополя и понимаешь: они тоже ничего тебе не должны, поэтому такие пыльные. Ты тоже, в общем, можешь сесть вот прямо здесь, прямо на землю – и отдохнуть, даже выспаться, можно смотреть на автомобили, расслабиться так, чтобы все внутренние токи замерли и только глазные яблоки иногда поворачивались. Никто тебя ни в чем не обвинит. Погонят работать? Ну поработаешь, покидаешь инертные материалы. Но только закончишь, как вернешься на исходную: звенящая тишина, в которой надо найти причину, чтобы шевельнуться, найти силы, чтобы приподнять ее. Как огромный родительский диван, на котором тебя сделали и под который что-то закатилось, – но поскольку ты не можешь вспомнить, что именно, то и силам взяться неоткуда. И ты сидишь, сидишь, смотришь на проезжающие машины, ветер развевает твои волосы. Однажды доходит, что прерывался только тогда, когда тебе в зубы совали лопату.
Это был знакомый мир обреченного одиночества внутри природы. В стертой покрышке даже больше человеческого, чем в человеке, – потому что она стерта, она выполнила свое предназначение. А о человеке трудно говорить так уверенно. Его слова его не выражают. Его дела ему навязаны. Его существование – от бессилия. Его отношения – примитивны. Его надежде не за что зацепиться.
Ни у кого ни с кем ничего общего. Ты так легко водишь сейчас глазами по миру, но взгляд – слишком слабая скрепа. Никто никому ничего не должен. И органы чувств перестают фиксировать вкус безумия. Потому что развалившийся на части мир безумен. Позы, выдающие заброшенность людей и предметов. Они либо действительно считают, что их никто не видит, либо им плевать на все, что способно видеть. В распавшемся мире каждая его часть безумна. Безумны поучения людей, чьи ежедневные разговоры начинаются с оставленной не там кружки, а заканчиваются аргументированным унижением. Ты можешь запираться в туалете с книжкой – и это так же безумно, как убивать кошек, раскручивая их в воздухе за хвост. Ты можешь держать ладонь над пламенем, пока мясо не выгорит до кости, – и это не менее безумно, чем подстраиваться четвертым в подвале к запуганной залетной шмаре. Безумие обособленности уравнивает праведников и грешников. И нет такого поступка, который мог бы вырваться за пределы этого безумия. Ни крайняя жестокость, ни крайняя нежность не покидают пределов одиночной камеры. Этот тихий пейзаж – такое же впитывающее всю твою энергию вязкое пространство.
Вот только два пасущихся у обочины козлика все портят. Божьи создания с изумленными энергичными глазами. Один черный, другой тоже черный. Один щиплет траву, другой поскакивает, цепляет первого. Вот они – совершенно нормальные существа, только – козлы, конечно, и спроса с них нет. Потому и любуешься ими, как рыбками в аквариуме, – хороши, да не про тебя. Но глаз все равно радуется, и жить – легче.
Потому что, когда Сева додумывался до конца о том, что он видел даже в пейзаже, то оказывалось, что это что-то вроде насилия. Природу устраивает все самое страшное, что с ним происходит. Это мешало ею наслаждаться.
Искажено восприятие природы. Смотрит сейчас Сева на поле незрелой кукурузы, потом – на поле подсолнечника, на котором только начинают появляться цветы, – и думает о том, сколько он наворовал этого добра.
Сгорбившись, под палящим солнцем, царапаясь о высохшие будылки, с льняными мешками пробраться в середину поля, расчистить поляну и набивать семечку палкой из огромных шляп, на срезах выдающих липкую растительную кровь. И приседать от шума проехавшего автомобиля.
Казалось, что это не закончится никогда. Сыплешь в мешок и сыплешь – а он все пустой. Этот голод не утолим подсолнечными семечками.
Старший сын в многодетной женской семье, оставшейся без отца беззащитной и на грани нищеты. Каждое лето с тринадцати лет – наемный труд в колхозах. Сева перепробовал все виды культур. В окрестностях дома было два места, где можно было наниматься на суточные работы, за которые расплачивались плодами полей. На одном перекрестке брали корейцы – они выращивали лук и овощи. Весь день на карачках, зато ездить можно было уже с мая. Радость у корейцев только в конце июля – арбузы, но на них работать невыгодно: арбузов много не привезешь. В другом месте возил убитый «пазик» на совхозные фруктовые поля: яблоки, слива, абрикосы, вишня. Было редкой удачей попасть на черешню. Впрочем, часто редкой удачей было сесть в этот «пазик» – в голодные годы претендентов всегда было втрое больше, чем мест в автобусе. И если будешь пропускать вперед, никогда внутри не бывать. Сева расставлял локти, шел плечом, напирал, оттискивал напористых бабушек. И залезал, зависал на большом пальце одной ноги внутри человеческой массы – и не понимал, как эти люди на этом транспорте поедут назад – когда у каждого будет по три набитых сумки. Но все и всегда возвращались. А иногда дверь закрывалась прямо перед носом – и в шесть утра (вставать надо было в пять) он был уже абсолютно свободен и несчастен. Он шел домой, придумывая оправдания.
А если попадал, доезжал до поля и работал, то эти яблоки стояли потом перед глазами, на что бы ни смотрел. С сознанием что-то происходило. Мгновенье не кончалось – в каждый момент оно было одним и тем же. Но день – пролетал: мгновенья не суммировались, вспомнить было нечего. Нужно было просто терпеть.
До сих пор, встречая плодовые деревья, он их так про себя и называл – «плодовые деревья». Ему казалось, что он все еще не видит их красоты – так рыбаки не очень охочи до рыбы. Было только одно легкомысленное дерево – тютина. Никому она не нужна, вечно валяется под ногами, нависает, угрожая светлой одежде. И только детвора перепачкается в ней по уши – и рада.
А может быть, подумалось Севе, красота не открывается без труда? Разве красота доступна только тем, кто не может с первого взгляда отличить, с гнильцой яблоко или нет? Может быть, я и сейчас люблю, но еще мало знаю о своей любви. Как можно не любить то, что знакомо до самых волокон? Труд ведь не убил меня, правда? Да и не запредельным он был. Тут вот идешь в жару – и тело свое нести трудно. Если вот это научиться терпеть, то дальше – легче. А то послушаешь себя – можно подумать, что каторгу мальчик прошел. А я просто маме помогал.
Нет, все-таки не просто.
Это была еще и жертва, приносимая одному поселившемуся в их жизни чудовищу – чтобы оно молчало. Нужно было много работать, чтобы иметь право жить спокойно.
Сначала это чудовище было просто отчимом – злобной и ленивой тварью, питающейся кровью близких. Чудовища такого рода заводятся, как паразиты, в нищете и унижении. И после того, как оно появляется, преодолеть эти состояния уже практически невозможно. И скоро уже невозможно будет узнать тех, кто его впустил.
Оно хочет быть сытым, живя в твоем доме. Оно хочет, чтобы ты работал, чтобы оно было сытым. Оно хочет, чтобы тебя не было после того, как ты хорошо поработаешь, – чтобы насладиться моментом сытости. В этот момент жизнь сделана – ничего нового в ней уже не будет.
Запомни главное: если не ты, значит – тебя. Если ты, значит ты – говно, которое надо смешать с говном, а если тебя, значит, завали свой рот и иди делать, что тебе сказали. У нас тут не обсуждение различных точек зрения. У нас тут насилие, отдыхать от которого можно только в запое. Недельки две не различая ночи и дня, обссыкаясь и заблевываясь, но в любом состоянии умоляя, прося и требуя то, что якобы от него спрятали. Мы все спрятали от него самое главное. Мы все виноваты в том, что оно несчастно. И оно нас за это будет топтать. Если мы не найдем ничего, что сильнее.
Нет, не в труде насилие, а в том, что ты видишь камень, которым завален выход на свет, – и до поры до времени тебе его не отодвинуть. Насилие в том, что труд – лишь ради того, чтобы не было хуже. А лучше и быть не может. И твоя родная мама внутренне с этим согласилась. Что же ты наделала, мама! Как же ты просмотрела такую подмену!
Если кто-то кого-то и предал, то мы сами – надежду. Мы ее оставили. Нам для этого хватило одного алкоголика-тирана в квартире. Невеликие испытания, если вдуматься.
Однако достаточно для отказа. Нет, я не буду иметь друзей-предателей. Нет, я не буду бандитом – ни с тобой, ни с другим. Нет, ты не можешь называть меня чмошником. Нет, мне не нужны женщины, которые во мне сомневаются. Нет, ты не можешь мне давать советы. Никто не может мне давать советы о том, что для меня лучше. Нет, я тебе ничего не должен. Хорошо, тебе, именно тебе – я должен, и всегда буду, но я сам решу, что и сколько именно. А ты не смей мне даже заикнуться о моем долге. Нет, этот человек мне неприятен. Я не обязан тебе ничего объяснять. Нет, я хочу жить иначе. Да, в таком случае не надо никаких людей. Люди – подтянутся.
Сева шел через знакомый ему пыльный пустой мир, где редкие случайные люди говорят слова, которые ничего о них не говорят. Рубашка прилипла к спине, в ушах звенело. Он не думал о будущем ничего. Будущее – невообразимо. Мысль о нем – роскошь, на которую не хватает великодушия.
И вдруг в тишине зазвучала мелодия.
7
Сначала песня была чуланом, в который можно было незаметно спрятаться. Но как только глаза привыкали к темноте…
Песня очерчивала пространство, в котором можно было жить. Она давала готовую эмоцию, до которой еще нужно было дорасти. Хорошую незнакомую песню вертишь, как огромную перчатку, – и видишь, какого размера у людей бывают души. А таких, как твоя, сюда бы можно было насыпать десятка два.
ДО-бры-е лЮ-у-у-ди, – пел Сева посреди дороги. —
НЕ па-ни-мА-ют.
ПрА-ав-ды не лЮ-у-у-бят,
ЖЫ-зни-не-знА-ют…
Голос в поле звучал непривычно естественно. Сева привык, что в городе песня билась, как в комнате, обитой подушками, – как сумасшедшая. А тут, в открытом пространстве, она вдруг полетела во все стороны. Сева пел и чувствовал, как его случайную песню впитывает весь мир.
Песня приходила сама. Сейчас он вытягивал манерные гласные и чувствовал, что струя песни наполняет его, как полого холщового человека на ярмарке – того, что нетвердо стоит и машет руками до тех пор, пока через него проходит струя воздуха. Он легко входил в состояние, в котором он уже не знал в себе ничего, кроме песни. Оттенки голоса, звучащего в вязкой тишине степи, переходы с ноты на ноту, длинноты, интонация, которая, кажется, передает даже выражение лица, – это все, что он сейчас собой представлял. И этого было с избытком.
Музыкального образования Сева не имел, как и абсолютного слуха. Он в музыке понимал, пожалуй, только одно – мелодию, которая достается голосу. Когда начиналась знакомая песня, он не мог ее узнать – до тех пор, пока певец не начинал свою партию. Вся остальная музыка была для него лишь аккомпанементом, который может быть любым. А вот мелодия любой быть не может – потому что она и есть песня. Мелодия – обнаруженная гармония, окольцованный ее гением мир. Справится ли голос с этой гармонией? Что он о ней думает? Принимает ли он ее? Прибавит ли что от себя или будет, как школяр, твердить назубок?
Жи-те-ли У-у-у-лиц
ПрЯ-чу-тся в ще-ли-и
Стра-шны-е двЕ-е-е-ри
ЗнА-ют ку-да.
Кто те-бя слЫ-ы-ы-шит?
Кто те-бе ве-рИ-и-ит?
И не-сут те-бЯ-а
Злы-е по-ез-дА…
И снова штопором вверх на последней гласной, потому что от всего можно оттолкнуться и лететь дальше, затягивая в свои петли столько, сколько можешь унести. Голос должен быть способен показать бездну человека – чтобы было непонятно, как из одного края человека добраться до другого, – только голос знает такие вещи. То урчит, то шипит, то звенит в зените.
Вот смотришь вокруг: слева брошенный коровник, под ногами пыльный щебень, под дорогой стертая покрышка, чуть впереди маленький надгробный камень на месте аварии, прямо над ним облако, клубящееся из-за горизонта, а через него летят вороны. Возьми из этого хаоса три глядящих друг на друга предмета – и они зазвучат, как органный аккорд в соборе, возьми другие – зазвучит пастушеская свирель, третьи – обнажится красота гниенья. Вот так глянешь на случайную картину – и увидишь в ней то рыцарский роман, то поэму, то мелодраму, то путешествие, а то и вовсе – сюжет воспитания. Мелодия всесильна, она может вывернуть куда угодно, всему найдет место, разрешит в гармонию даже консервную банку. Она найдет, с чем ее закольцевать. Мелодия отрицает одиночество и случайность вещей. Мелодия не знает абсурда. Во всяком случае, поешь и чувствуешь: есть надежда, что не существует обделенных гармонией. Поешь незнамо что – и будто находишь способ то ли себя добавить в мир, то ли мир – в себя, будто нашел к нему путь, через него дорогу – и теперь, даже закрывая глаза, не можешь его не видеть, он уже записан в подкорку каждым камнем, на который наступил. Поешь незнамо что – а миру не хватало маленькой смертной части твоего проникающего во все поры голоса, чтобы превратиться из свалки, где рядом раздавленная собака с вывернутым мясом на трассе и сияние из-за облака, – в создание Божие. Поешь – и мир более не кажется незнакомым. А ты его не видел, конечно, еще, но как будто прощупал своей мелодией наперед. Или даже как будто вдел в него мелодию, как руку в перчатку. И теперь можно смелее двигаться на ощупь.
8
Около Севы затормозил автомобиль, как только он поднял руку. Серый «Опель» смотрел на него, как серый волк, – кажется, сейчас заговорит. А что – посмотрите на морды автомобилей, у них у всех есть выражения, которые можно представить даже у людей, не говоря о животных.
Сева нагнулся и поглядел в окошко. На него черными веселыми глазами смотрела неровно седая голова с костистым лицом. Приподнятые брови придавали лицу выражение нечаянной радости от встречи кого-то, кто мог быть старым знакомым.
– Вы знаете, – сказал Сева в эти открытые глаза, – вы так вовремя остановились! Можно с вами?
– Залезай, кидай гитару на заднее, – голос мужчины был скрипуч не по годам. Он выглядел озорным мальчишкой, с этими бровями. Седина на нем смотрелась слишком ранней старческой меткой.
Открыв заднюю дверь, чтобы положить инструмент, Сева увидел еще одного человека. Его коленки торчали высоко над сидением; было видно, что мужчина сидит очень неудобно, но при этом – абсолютно неподвижно и стараясь не видеть ничего живого. Бледный, замученный, нечесаный, он смотрел на пейзаж за окном так, будто автомобиль двигался.
– Здрасьте, – сказал Сева, быстро захлопнул дверь и сел вперед.
«Опель» тронулся.
– Обычно на трассе приходится долго стоять с протянутой рукой, а тут такой подарок.
Сева глубоко вздохнул, как будто вдыхая поглубже воздух мира, в который только что попал. Глянул на прокопченные мослы, сжимающие руль. Примерно так выглядели стебли сорняка возле придорожного сортира. Глупо пытаться представить, что кто-то может выкрутить эту руку. Но и восхищаться ею тоже в голову не придет.
– Играешь? – его голова затылком кивнула в сторону того места на заднем сиденье, где встал чехол.
– Не столько играю, – вздохнул Сева, – сколько пою.
– И хорошо получается?
– Если у меня в жизни чего и получается, то это петь, – медленно и весомо проговорил Сева.
– …А чего поешь?
– В основном бывший рок: «Кино», «Наутилус», «Аукцыон». И сам кое-что придумываю.
– Ага. Знаю я эти имена, – и, как будто секунду подумав, стоит ли об этом, спросил: – Знаешь, что такое Сайгон?
– Это ж в Питере? – задохнулся Сева.
– Да, это было такое злачное местечко на углу Невского и Владимирского – я там прожил года три.
– Вы играли?
– Нет, я крутился.
– Семидесятые?
– Самое начало восьмидесятых – БГ, Майк. Цоя я помню плохо.
Сева застыл и не отрывал от него глаз.
– У меня волосы такие были, – он махнул ладонью ниже плеч. – Там простым работягой было выглядеть не очень прилично.
– Тогда я, наверное, похож на работягу, – усмехнулся Сева.
– Да, на работягу, у которого выходной. И он решил на выходных мир посмотреть, гитару вот взял.
– Но вы почему-то притормозили… Как вы оказались там?
– От земли мы тогда отрывались. Не было такого колхозника, чтобы не мечтал стать горожанином. Все, кто был на что-то способен, рвали со своими корнями. Поэтому там – в колхозах и на заводах – оставались только те, кто не рыпался, не тянул. Вот такой у нас складывался образ народа, из которого мы сами вышли, – он снова специально повернулся, чтобы Сева посмотрел на его усмешку. – В общем, я там после армии попытался поучиться в Горном институте, жил в общаге на Васильевском острове.
– А почему Горный?
– Так шахты у нас тут вокруг. Папа подумал, что для сына это будет перспективно. Ты знаешь, сколько тут шахтеры получали в советское время? Рублей пятьсот. Нигде в стране таких зарплат не было. Тем более Донбасс всегда тянули, поддерживали – вроде тут условия для добычи тяжелее: пласты узкие. Вот папа и задумался о моем будущем. Он тогда в Каменске работал на оборонном заводе, который делал – да до сих пор делает – эти… как их? – полиамидные волокна для бронежилетов. То есть я и пролетарий, и колхозник в одном лице – потому что мама из станицы неподалеку. Но хотелось же в общество! А первое, о чем ты там узнаешь, – что с народом тебе, так сказать, как-то стремно. К тому же дети рабочих сразу видели «пипла» – и начинали тебя люто ненавидеть. А комсомольцы становились злыми. Мне вообще кажется, что тогда в музыку многие попали случайно. Их вытеснили в музыку. Представь, что вот, например, у тебя длинные ноги и ты сутулишься. Или просто немного похож на идиота: прическа неаккуратная, гримасничаешь. Я уже не говорю про какого-нибудь гея. У тебя и без того, скорее всего, будут неприятности. Каждый день будут проверять документы, задерживать, читать мораль, чуть дернешься – вылетишь отовсюду. И куда пойдешь? Конечно, в музыку, в тусовку, где тебя научат рвать все связи. И очень скоро тебе захочется побыстрее умереть.
Теперь он не поворачивался – он глядел на дорогу так, как будто закончил.
– У меня музыка не очень ассоциируется с желанием умереть, – осторожно сказал Сева. – А творчество?
– Да, и я писал. Меня хвалили. А как держаться за это? Ну вот вынырнул я из тумана, написал пару остроумных фраз – и снова в туман. И жизнь не слушается. Я даже архива своего не имел, все бумаги по приятелям рассыпались… Мы выросли в культуре, где все герои – бунтари. Это ж бомба! Совок старательно выращивал людей, которые были обречены похоронить совок. А потом ты трезвеешь и начинаешь изгаляться. Если свободный человек крадет у раба, он делает мир лучше. Я со знанием дела, между прочим, говорю – имею судимость за кражу. А вот за то, что тремя девчонками торговал в общаге, – не имею. А еще я помню, как мы на радостях с корешком, которого я знал буквально пару дней, с разбегу врезались головами в железный забор. А наутро я проснулся в своей квартире, а когда посмотрел в зеркало, увидел, что у меня проломлен череп, лицо залито кровью, один глаз вышел из орбиты. А один большой поэт написал на мою смерть стихи. Друзья думали, что я зимой замерз в подъезде. А я выжил. И тихонько решил соскочить – уехал в Каменск, где в это время совсем поехала крыша у моего бедного братика. Да, братик? – весело спросил он, глянув в зеркало заднего вида. – Братик у меня ученый. Да только как может быть ученый в Каменске? Тут пока нет ни домов для ученых, ни магазинов, ни женщин для них тут специальных нет. Совершенно не приспособленный для науки город, я тебе скажу. И стал как-то мой братик на людей бросаться. Вот это-то вот дыхля. И мне мама тогда написала: приезжай, мол, либо его убьют в результате его непредсказуемой агрессии, либо закроют в психушке. А у меня такой был период тогда в жизни, что оставалось только замерзнуть в подъезде. И я понял, что русский рок, он здесь – в Каменске.
– Как вас зовут? – спросил Сева после паузы.
– Гера, Жора, Геродот или Георгий – выбирай.
– Меня зовут Всеволод, – слова произносились медленно и обстоятельно.
– Ну и что, Всеволод?
– А откуда же тогда такие хорошие песни взялись?
Геродот подумал и резко рассмеялся.
– Если бы я точно не знал, что их писали такие же, как мы, я бы в это не поверил! Они, сильные, иногда, видишь ли, незаметные. Это мы тарахтим…
– Ему надо здесь выходить, – вдруг послышалось с заднего места.
Сева не успел ничего подумать.
– Не обращай внимания, – быстро ответил Жора.
– Ему надо здесь выходить, – повторил сзади глухой слабый голос.
– Кстати, это он сказал тебя подвезти, – сказал Георгий. – Если бы не он, я бы, может, и внимания на тебя не обратил, – он повернул лицо и показал просветы между зубами.
Помолчали.
– А вы все-таки остановите, – вдруг произнес Сева.
– Чего ты?
– Да все в порядке. Давайте я здесь сойду?
– А дальше чего?
– Мир не без добрых людей. Спасибо вам, – и Сева протянул на прощанье руку этому симпатичному человеку с веселыми глазами и старым лицом, выхватил с заднего сидения инструмент.
Человек сзади изучал пейзаж за окном остановившегося автомобиля.
9
Небо заволокло облаками – нелишнее облегчение. Краски проступили более ярко, зелень теперь шевелилась не обморочно, а осознанно и хмуро, как полевой работник.
Сева с минуту постоял на обочине, вынул из сумки атлас и присмотрелся. Он должен быть примерно на границе с Воронежской областью. Ну что ж, триста километров позади, впереди еще тысяча четыреста. На часах четырнадцать десять.
Сева обернулся и поднял руку. Синяя «девятка» прошла мимо.
Странно было осознавать, что он больше никогда не увидит этих людей. Это действительно странно. Мелодия всегда замыкает свой круг, а жизнь необратимо идет и идет вперед, перешагивая через людей, места. Она не собирается, не планирует никуда возвращаться.
Вдруг Всеволод осознал, что метрах в ста впереди от него стоит у обочины автобус. Сева ускорил шаг и стал вглядываться. Фигуры рядом с автобусом. Отлить, что ли, вышли? Нет, тогда бы я его не догнал. У них, кажется, с колесом что-то.
Сева немного сбавил шаг, чтобы не выглядеть излишне торопливым.
Автобус – это вариант. Даже не привычный междугородный «Икарус», что-то более крупное – такое ездит на большие расстояния. Ох, как бы хорошо… Только бы не на Украину, не в Волгоград… Нет, это все другие трассы, а эта – эта на Москву.
Двое мужчин с видимыми усилиями снимали заднее колесо. Скат упал им под ноги, и один из них, низенький, ладный, с волосами ежиком, склонился над ним. Другой, с пузом, с развевающимся на ветру редким русым волосом на облетающей голове, с висячими усами, – смотрел сверху вниз, широко расставив руки, и задумчиво говорил отборным матом.
– Да, – кряхтя, отвечал снизу напарник, – это надо было умудриться.
Сева стоял уже рядом, но на него никто и не глянул. Он взял небольшую паузу, глядя на покрышку, и тихо спросил:
– А вы куда едете?
Дядя снизу поднял голову:
– В Москву, – пузатый себя такими мелочами не утруждал.
– Не подвезете?
На этот вопрос, было ясно, должен быть ответить большой человек.
– Иди, – ответил он, запнувшись и глядя на скат, будто вспоминая забытый язык. Качнул рукой к открытой двери в салон, и неожиданно у него сложилось:
– Там есть свободные места.
– Спасибо! – сказал Сева и сдержанно вошел в салон почти нового автобуса «Мерседес». Внутри все клокотало от радости.
Изнутри веяло прохладой кондиционера, места здесь были лежачие. Спинка каждого из сидений опускалась до горизонтального положения. У лежащих вокруг людей даже было что-то вроде постельного белья. Сева прошел в самый конец салона – пустыми оказались шесть или семь мест. По пути узнал, что прибытие в Москву по расписанию в шесть утра. Разместился по-царски, со стоном в костях. Выдохнул.
Можно подумать, годы в пути. Люди, выходившие одновременно с ним утром на работу, между прочим, еще не вернулись. А путешественник уже устал, потому что он идет тем путем, который его меняет.
Автобус тронулся минут через десять.
На верхней панели заработал небольшой телевизор. Появилась картинка – какой-то фильм, видимо прерванный, поскольку начался не с начала. Сева давно не видел кино. В общежитии телевизора не было. Нет, можно было найти комнату с телевизором, этаже на втором или третьем, где жили уже совсем не общажной жизнью домовитые взрослые люди. А у них на девятом телевизоров не было. Самое ценное, что тут бывало, это еда. А замок в двери можно было открыть вилкой.
В фильме играла знакомая музыка. Да, это «Наутилус» – только композиция из позднего странного альбома. Парень, из приехавших, идет по большому городу – подворотни похожи на питерские, – встречает людей, ищет брата. Звук доносился плоховато. Но в какой-то просвет, когда двигатель на минуту притих, пока автобус шел на набранных оборотах, второстепенный персонаж сказал герою: «Город – это страшная сила. Он засасывает. Только сильный может выкарабкаться… Да и то…»
Отвернулся, посмотрел за окно. Дорога все-таки – спокойное состояние. Ты уже ушел и еще никуда не прибыл, и куда ни глянь, на кого ни глянь, во всех узнаешь себя, каждого примеряешь. Привычка все примерять выдает деревенщину – это Сева и сам успел о себе понять. Мегаполис знает, что такое чужой. Сталкиваясь с чужим, ты не пытаешься проникнуть в его мир, не пытаешься примерить его на себя, ты говоришь себе: смотри, какой интересный вид, – затем, если есть настроение, разглядываешь его и уходишь. Либо же наступаешь на него, как на таракана. Ни секунды не думая о том, каков он, что он хотел сказать в жизни – то же ли самое, что и я? Это деревенщина думает, что весь мир примерно такой же, как он, что, если постараться, его можно понять и вместить. Горожанин не надеется быть понятым и понять первое встречное странное существо. А бабушка провинциалка смотрит на индусов, содрогающихся прямо на улице в тантрических ритмах, и волнуется, как бы внучки не встретили хулиганов.
А почему бы и не деревенщина?
Сева вдруг осознал, что голоден. Полез в сумку, достал прозрачный пакет, стал медленно жевать бутерброды с теплой от впитанного солнца колбасой. Смахнул крошки, и через минуту пришла дремота. Откуда-то вышла одна отложенная мысль.
Его ухода никто не заметил. Его никто не проводил, никто вослед не плакал, не просил присесть на дорожку. Никто не перекрестил ему спину, как – он знал это – часто делала мама. Не было никаких напутствий. Не случилось такого события, как уход Всеволода из мира, в котором он прожил два года. Не наработал он на это событие. Его исчезновение, на которое он обрек этот мир, ничем не выделялось из бесконечной череды его отсутствий по самым невинным поводам – а значит, и разговаривать пока было не о чем.
Уходишь? – Ну пока.
Вспомнилось, что несколько раз так прощался, четко осознавая, что не увидит больше человека, – и как будто упивался фантастически несправедливым несоответствием боли и этого бледного «пока».
Я смотрю в темноту-у. Я вижу огни-и. Это где-то в степи-и. Полыхает пожар.Ох, правильную песню приберег режиссер на финал.
Он, я знаю, не спит: Слишком сильная боль. Все горит, все кипит, Пылает огонь. Я даже знаю, как болит У зверя в груди. Он ревет, он хрипит. Мне знаком этот крик.А ученый, конечно, удивил – откуда он знал, где я должен выйти?..
II. Женская глава
Без любви и без страсти Все дни суть неприятны… В. К. Тредиаковский. «Езда в остров Любви»1
А во сне Сева стоял возле действующего героя кинофильма Данилы и комментировал его действия.
Вон Данила-то какой крутой. Совсем не напрягается, когда валит людей. Раскрывается прямо в эти моменты. Я бы так не смог, конечно.
Но что же это женщина за тобой не пошла, Данила? У тебя же долларов полные карманы, а на нищую несчастную женщину не хватило. Как так? Есть о чем подумать, – как считаешь?
Но нет, Данила не из тех, кто думает, – Данила действует. Вот ловит он в конце попутную машину – и бежит.
Ну тогда я за тебя подумаю. Так подумаю за тебя, дорогой Данила, что мало тебе не покажется.
Ты убог в своей силе, Данила. Ты – нехитрое образование. В одной руке пекаль, в другой – диск Бутусова, верный член посередине. Наверное, ты думаешь, что именно так и должен выглядеть мужчина. Ты не одинок в своем образе мыслей, не одинок. Однако выдам я тебе свою заветную мыслишку – вот эта некрасивая женщина, которая с тобой не пошла, по-моему, гораздо в большей степени женщина, чем ты – мужчина. Да, ты не боишься ствола, у тебя руки сильнее, но у тебя коленки трясутся от сложности, ты вон бежишь от нее, отстреливаясь из обреза, роняя пачки купюр, – а она живет с этой сложностью каждый день. У тебя бы мозг лопнул, если бы ты попытался представить, как она живет. Герой, обосраться аж.
Куда бежишь, Данила? В Москву? Весь Питер уже прохавал, да? Посмотрел бы я, как бы ты пеленки гладил для своей дочки.
От вида мужчин, от звука их голосов Севе делалось смертельно скучно. В их лицах и в издаваемых этими существами звуках, даже в манере чихать он различал тупорылую самоуверенность. Вот я, мол, как чихаю – чтобы, падла, стены содрогнулись! Это потому, что я настоящий, сука, мужик – со здоровенными яйцами! А сейчас я еще сяду жрать, и ты увидишь, как я буду жрать! А потом я еще пёрну, чтобы все слышали, как я необуздан! И заржу. А кому не понравится – завалю. Я, мать-перемать, слово свое держу!
Иди ты в жопу со своим словом, дебил. Если ты – мудак, кому какая разница, держишь ты свое слово или нет.
Режиссер-затейник заставил своего героя слушать «Наутилус», а не Ивана Кучина. Это он придумал, что такие герои бывают. А вот герой не врубается. Не доходит до него пока дух этой музыки, а он делает вид, что ему нравится. Врешь, Данила, – чего там тебе может нравиться? Что ты можешь знать о князе тишины? Вперся ты в культуру со своим зазубренным уставом, потоптался там как бы ради ссучившегося брата – и теперь линяешь в Москву. Монстр режиссера-франкенштейна развалился под действием внутренних центробежных законов в доказательство, что таких существ не бывает. Такие, как ты, на деле гораздо хуже. Они беспричинно злобны и жестоки. Не мы такие – жизнь такая.
Главным средством познания мира для Севы оказалась женщина.
2
Классные руководители отобрали учеников двух девятых классов для подготовки «Литературной гостиной», посвященной русской поэзии Золотого века. Всеволода выбрали ведущим от 9 «Б», от 9 «А» была прислана уверенная девушка Валентина. Сева знал о ее существовании, но внимания на нее не обращал.
Всеволод в это время был влюблен в одну из своих фантазий. Облегчало дело отсутствие контакта с объектом. Развитое приключенческими книгами воображение легко пленял зрительный образ, после чего Сева уже мог упиваться случайными улыбками и убиваться от рассеянного холодка. Это была простая и самодостаточная внутренняя жизнь, которая не пробивалась на поверхность.
Сосредоточившись на внутреннем камертоне, задавшем тональность любовного томления, он сидел в актовом зале на одном из обтянутых серым дерматином и сбитых в линию по пять кресел. На маленькой сцене шла репетиция, которая сейчас не требовала участия ведущего. В этот момент ему в ухо кто-то дунул.
Он повернул голову и увидел недавнюю знакомую Валю. Она сидела рядом, широко и нагловато улыбалась. Он продолжал смотреть.
– Потрясающая реакция! – довольно громко констатировала она.
– В смысле? – уточнил Сева.
– Просто, Всеволод, я еще не встречала столь спокойной реакции на вот это действие. Некоторые, должна я заметить, в ужасе вскакивали с кресел, – она говорила деловито и уверенно.
После трех-четырех легких реплик это уже был один из самых значительных разговоров с женщиной в его жизни. В каждой ее фразе он чувствовал пищу для обдумывания и переживания. И нельзя было не отметить ее элементарной заинтересованности: она явно давала понять, что она его не просто видит, но и как-то читает его выражение лица и манеры. Она делала с ним то, что он сам привык делать с людьми молча. Все здесь было ново.
Они поболтали о мероприятии, которое готовилось на их глазах. Сева подумал, что дальше этой темы, в общем-то, двигаться некуда. Но, предвидя тупик, Валентина спросила, какая книга его в последнее время потрясла. Так и выразилась: «потрясла». Сева как-то даже сел прямее. Какой неожиданный и простой вопрос. Как так могло получиться, что ему никто никогда его не задавал? Разве он не читает книг? Много читает. Но он не мог себе представить человека в своем невеликом окружении, который мог бы задать ему этот вопрос. Разве не очевидно, что рано или поздно такой человек в его жизни должен был зародиться? Сева подумал и назвал: «Полярный конвой» Алистера Маклина. Главным героем книги был крейсер, от экипажа которого остался в живых лишь парень на костылях – и его рассказу о гибели всех, кто был на корабле, не верило очерствевшее начальство. Он остался один на один со всем, что там произошло. Валя попросила принести ей эту книгу. Сева взглянул на нее с недоверием: это уже был перебор, неужели она станет ее читать? Через два дня они столкнулись в фойе школы, и она вновь попросила книгу. Тогда он принес. Затем она поделилась своим впечатлением. Потом они пересеклись где-то на улице, обменялись веселыми репликами. Валя пригласила Севу как-нибудь зайти в гости. Черкнула ему свой адрес. Он зашел к ней месяца через полтора. От предыдущей влюбленности простыл и след. Из мира фантазий он осторожно выходил в мир реальных женщин, не ощущая пока, впрочем, никаких внятных ощущений.
У Валентины было любопытно: большая квартира, много книг, интеллигентные родители-госслужащие, чай с печеньем, разговоры – причем если об общих знакомых, то не об их поступках, но о том, как они предпочитают жить, о том, что они думают по разным поводам. Это был простейший анализ человечности, интереса к которой в мужском мире он до сих пор не встречал. Сева впитывал как губка. Все, о чем они говорили, настолько не имело отношения к его жизни, что он вскоре почувствовал себя человеком, который стал накапливать мысли впрок. Она рассказывала ему о романах своих подруг, и они, ставя себя на место героев этих романов, впервые выговаривали себя. Валя стала для Севы первым собеседником, но между ними всегда было пространство комнаты: он сидел в кресле, а она валялась на диване, в домашних шортах и свободной футболке. Он видел ее длинные ноги, развитую грудь, но не мог к ним ничего испытывать. Это были неоткрытые земли, и они что-то делали здесь, между людьми, которые уже стали думать, что понимают друг друга как никто.
А однажды она очень просто взяла его ладонь, стала разглядывать линии. Она видела какое-то значение даже в его мозолях от турника. Тогда и он взял ее руки – и стал брать их постоянно. И не чувствовал ничего, кроме плотской нежности. Ему хотелось целовать красивые руки, Сева был восхищен первой попавшей в его распоряжение женской плотью. Но он сдерживался, потому что общение между ними было о чем-то ином, менее ему понятном.
Он мало рассказывал о своем быте – о колхозах, ловле раков, торговле на базаре, домашних хлопотах, но ей было ясно, что он совсем из другого мира. Это подстегивало ее интерес. Она говорила Севе, что он – цельный. Этот комплимент был Севе не очень понятен, но было очевидно, что это – комплимент. И потому он его обдумывал.
Однажды она проводила его в зал, который именно в этот день пустовал: отец в командировке, а мама не совсем хорошо себя чувствует и отдыхает в спальне. Сева не мог представить свою мать отдыхающей в спальне. В один из окончившихся трудовых дней он устроился в углу ее большого дивана и почувствовал, что действительно устал. Почти весь день он провел в грязной реке с драгой. Для Валентины не существовало рек, раков, отчимов, денег. Когда она на минуту вышла, Сева еле удержался, чтобы не прилечь. Он чуть прикрыл глаза, и перед ним возникло морское дно и увеличенная водолазной маской рачья морда с протянутыми к нему клешнями. Он открыл глаза, чтобы ее не видеть. Встал, чтобы получше разглядеть книжные полки: классика, много фантастики, детективы, стихи, любовные романы. В его доме было лишь две полки книг: русские сказки, «Гора самоцветов», «Унесенные ветром», двухтомник Лермонтова, какой-то Вилис Лацис.
– Я наконец поняла, на кого ты похож, – деловито заявила Валя, войдя в зал и закрыв за собой двустворчатую дверь.
– На кого?
– Ты – Маяковский.
– Это который про советский паспорт?
– А ты сам погляди, – она с полки сняла красный том и показала портрет. Поэт сжимал в больших губах папиросу, был лыс и смотрел мрачно.
– Ну да, что-то есть, – согласился Сева.
– Это твой взгляд. Только у него одна большая складка между бровями, а у тебя две. Одна бывает гораздо реже.
– Это выдает во мне посредственность.
– А ты его читал?
– Нет.
– Сейчас… Вот послушай – вступление к поэме «Флейта-позвоночник»:
За всех вас, которые нравились или нравятся, хранимые иконами у души в пещере, как чашу вина в застольной здравице, подъемлю стихами наполненный череп. Все чаще думаю, не поставить ли лучше точку пули в своем конце. Сегодня я на всякий случай даю прощальный концерт…– Ни хрена себе, – тихо произнес Сева, когда она закончила.
Валя засмеялась и уселась на диван рядом с ним, коснувшись Севу своим длинным бедром.
– Ну – как? – выпытывала она.
Сокращения дистанции трудно было не отметить, мысль сбивалась. Вблизи она выглядела иначе.
– Я всегда хотела тебе сказать, что мне очень нравится твой голос. Я даже скучаю по нему.
– Если бы я писал стихи, они были бы примерно такими, – ответил Сева на предыдущую реплику.
– Я в этом уверена. Осталось найти для тебя Лиличку Брик. У меня есть кандидатура.
А потом она уже говорила о домашних животных, пересказывала сцены из жизни своей кошки, смеялась, требовала реакции. Сева шарил глазами по темной комнате, не зная, как сменить тему. Наконец он просто обнял ее одной рукой и немного привлек к себе. Она поддалась, но и не думала замолкать. Он привлек ее чуть сильнее, еще сильнее, наконец уложил ее голову себе на колени. Она замолчала. В темноте ее глаза блестели. Он склонился скорее вопреки своей неудобной позе и поцеловал ее. Она поддалась, но поцелуй вышел неумелым – они стукнулись зубами. Он подтянул ее повыше, чтобы не нагибаться так сильно. Они снова слились, теперь уже обстоятельно. Сева положил ладонь на ее пышную грудь. Погладил и немного сжал. Другую руку запустил в волосы и сжал сзади ее тонкую шею. Он не делал этого никогда до сих пор, но, видимо, из-за усталости не боялся. Не боялся ее реакции. Ему было все равно, какой будет ее реакция.
Они целовались до половины первого, пока из-за двери Валю не позвала мама. Сева встал, поправил одежду, подошел к окну и, успокоившись, направился в прихожую. В ее электрическом свете он увидел распухшие Валины губы, которые потянулся чмокнуть на прощание. Но та отстранилась.
И когда вышел – тогда испугался. Того, что этого может не быть больше.
2
– А чего Печорин с Верой не замутил? Она же ему нравилась.
– Потому что он знал, какое он чудовище, и берег любимого человека.
– Он чудовище потому, что мутил не с теми. Вера бы сделала из него нормального мужика.
– Тогда не было бы никакого героя нашего времени.
– Почему герои должны быть обязательно придурками?
– Разве он придурок? Нет, это сильно чувствующий человек, который познал предательство.
– Почему нельзя стать героем, просто сделав женщину счастливой?
– Ты думаешь, что это просто?
– Но он и не пытался.
– Ты – зануда.
– Это же очевидно.
– Он просто не умел любить. Примерно как ты, Сева.
Они с Валей гуляли в парке «Юность». Сева шел чуть сзади, поэтому она не могла видеть, как он невольно пожал плечами: мимо, все как-то глупо и мимо. Она не хочет ничего додумывать, она бросает в него тем, что подвернулось под руку, и считает, что это правильно.
Это был самый старый и заброшенный парк в городе. Стоял глубокий запах гниющих листьев. Они, утепленные свитерами, шли в независимых позах: он – сунув руки в карманы, она – постоянно вырываясь вперед на полтора шага, находя для этого повод то в правильно желтом кленовом листе, то в неправильно желтом.
Он чувствовал себя здесь странно. Парк отвлекал – потому что был настоящий. В нем были звуки, а в ее комнате всегда стояла звенящая тишина.
Он бы ушел сразу, если бы не новое и пугающее ощущение пустоты от ее отсутствия. «Куда я пойду? Что мне там делать?»
У песни есть такое свойство – поющий ее вынимает из себя то, что уже невозможно спрятать обратно. Вообще неясно, как оно там помещалось, как могло лежать в покое.
Он хотел бы взять ее сейчас за руку, отвести домой, согреть; тренированное воображение легко изображало их совместный домашний уют. Оно не могло представить разве что секса, но договоримся, что тут будет все в порядке. Однако будущее, которое казалось очевидным, было обречено. Сейчас не могло быть ничего неестественней, чем ее рука в его ладони. Он знал уже это, поскольку пытался. Она посмотрела на него, как на юношу, который освоил новый трюк, улыбнулась, убрала руку. Он сжал зубы. «Как я оказался в этой ситуации?» Пытался понять, где что-то сломалось. Прошло всего несколько месяцев после их первого разговора, а они были уже мужчиной и женщиной со сложными отношениями.
Прощаясь с нею, он знал, что завтрашний день начнет для нее все с чистого листа. Он знал, что, уходя от нее поздно, он уходит из ее жизни. Его появление всякий раз оказывалось началом какого-то совместного пути. Как будто он выводил эту девушку из царства теней. И сколько раз казалось, что он завел ее так далеко, что вернуться уже невозможно. Как они могли друг друга понимать! Эти обертоны сложных мотиваций, эти опыты испытания литературной классики на соседях. А иногда и объятья, и утешенья, и прохладная страсть. Но стоило ему отвернуться, и она исчезала. А когда она появлялась, он не узнавал ее.
«Ты не умеешь любить, Сева». Даже не хотелось реагировать на эти слова. Конечно, он не умеет любить чужого человека. А кто умеет? Что чужой человек может понимать о нем? Он смотрел на нее, удивляясь своему раздражению. Отворачивался, чтобы остаться с образом той Вали, которая, да, зацепила его.
Но ведь не всегда же так было, ты вспомни, Сева. Ведь это она сама выманила тебя! Да, она выманила, внимательно и одобрительно рассмотрела. Возможно, здесь нужно было понять, что больше ничего она дать не могла.
Как не могла? Сколько раз она убедительно говорила о том, сколь ты исключителен. Разве когда человек говорит так, это не значит, что человек относится к тебе исключительно?
Нет, не значит. Это значит, что перед тобой тонкий, начитанный или просто льстивый человек, который способен рассмотреть твои исключительные качества и их редкие сочетания. Разве ты не должен быть благодарен уже за эту способность тебя оценить? Почему ты требуешь большего?
Потому что словами дело не ограничивалось. Мы были близки! Нам много раз и по-разному было хорошо. И для некоторых людей это достаточный повод, чтобы быть вместе. Сева как раз из таких людей. А почему Валентина – нет?
Ей просто прискучил очередной уникум, которому она открыла глаза на самого себя. Если присмотреться, можно увидеть, сколько их вокруг нее. Среди них есть люди, с которыми ее познакомил ты сам, Сева. И ты, Сева, видел, как их изменили простые разговоры с нею.
Да, Сева хорошо это видел.
А еще он видел, как эти уникумы, пугающиеся того, что их исключительности более не осознает никто, брали ее силой. Какая неожиданность! Она вообще-то могла держать дистанцию, находясь в объятьях. Просить уйти всем отдающимся телом. Но достаточно запретить себе видеть все эти тонкости – и она твоя. Она не смеет, почти и не пытается тебе сопротивляться, Сева. Она просто слабая женщина. Бери ее и гони всех проходимцев. Сделай ей ребенка, наконец.
Гм, да, дельный совет. Но тут такая штука… Встает тут один вопрос: а Сева в принципе вправе ожидать любви? Дело в том, что ему, неопытному, но начитанному, кажется, что если человек любит, то – отдается. А если не любит, то ты всегда будешь бесправен. Даже если будешь регулярно ее брать, даже если сделаешь ребенка.
Ну иногда она будет любить, куда денется. Она же просто сама не знает, как распознавать свою любовь. Она пока ее не освоила. Она освоила только разговоры о литературе и человеческих качествах. А жить ее не учили. Лучшие слова, которые она говорила Севе, были о том, что между ними было тогда, когда почти ничего не было. «Я тогда смотрела на тебя и думала только о том, как тебя хочу». Эта фраза в ее жизни возможна только в прошедшем времени. Возможно, завтра она с восторгом расскажет тебе о сегодняшней встрече, когда ты ни на миг не почувствовал контакта с нею. Все эмоции отданы этим ложным воспоминаниям. Но она никогда не вспоминала, как Сева нес ее на руках через текущую рекой после ливня улицу, как держал в ладонях ее лицо, как говорил нужные слова. Когда он пытается втащить ее в жизнь, она смотрит на него, как доктор, – внимательно. Наблюдает пациента.
Господи, как так?! Как так?! У нее вон грудь – с такой грудью жить да жить!..
Она – Лиля Брик, ты – Владимир Маяковский. Ты думал, она кому-то отдаст эту роль. Так что – либо грубая пролетарская сила, либо старый добрый разврат. Завтра кого-нибудь найдешь в ее постели. Возможно, они даже откроют тебе на стук. И ты стерпишь. Люди по-всякому живут.
Я не хочу так. Свободного человека может любить только свободный человек. Я не хочу чувствовать унижение от того, что самим своим присутствием что-то выпрашиваю, а не просить здесь нельзя, поскольку просто так ничего не дают.
Это все литература. Тебя тут никто не держит.
Держит. Я уже уходил. Это наркотик. Как остановиться, попробовав женщину? С кем мне делить мысли, которые у меня, мать их так, зародились? Они – прут и прут. То, что вынуто, обратно не затолкать.
А говоришь, свободный человек.
Там, в парке, Сева не думал о том, как на самом деле невообразим был еще год назад их союз. Она, не по годам развита, звезда из хорошей семьи. И он, из рода, который умудрился выпасть даже из работяг, живучий и, наверное, цельный маргинал, который пока учится на пятерки, а теперь еще и знает о том, что он цельный. У них была столь разная повседневность, что этого можно было не видеть только из того условного пространства ее комнаты, в которую никогда не входили родители. У него не могло быть такого пространства, у него не могло быть своей комнаты. Но сила условности увлекла Севу, он не хотел расставаться с иллюзией, которая в иной голове не имела шанса закрепиться.
Расстаться было легко – достаточно было просто перестать приходить. Как-то стало очевидным и обидным, что движения в обратную сторону не было никогда.
Появилась масса новых обертонов. У унижения оказалось много оттенков. Сева видел, как в школе Валя при нем увлекает подружку для уединенного разговора, и внутри все леденело. Нет, это еще не предательство, но Сева чувствовал в ней эту заразу. Он в какой-то момент осознал, что она приучила его к нему. Приучила терпеть вещи, которых терпеть нельзя. Где бы ни настигала Севу эта мысль, он начинал вертеться, как на сковородке. Но это было еще пока так слабо – потому что он отдал ей слишком много места. Она сыграла роль опорной конструкции в его рефлексивном разуме. И он, конечно, напоминал себе, что это произошло не случайно. Что эту роль не мог сыграть кто угодно. А значит, все можно было бы простить за поцелуй – поцелуй, который изменит всё. И иногда он появлялся – и Сева все более ее не узнавал. Ее образ от нее отрывался. Всеволод возвращался обратно – жить в пузыре своей фантазии, которая теперь умела вдумываться в причины поступков, в парадоксы душевных движений.
Там, внутри иллюзии, было гораздо уютнее, чем дома. Там было все, что не могла вместить жизнь, подчиненная выживанию. С претензиями этой жизни он даже не пытался спорить. Но кое-что он припрятывал для себя. И это кое-что было нечто неуловимое, но настоящее и красивое.
Он начал писать – причем сразу поэму. Начитавшись благодаря школьной программе «Евгения Онегина» и лермонтовских поэм, Сева придумал свою строфу мудреной конфигурации – и исписал ею тетрадь на 18 страниц. Это было нечто аллегорическое о том, как путник, идущий по символическому пути, встречает некую почти бесплотную, однако женскую особу, которая снимает с него радужные очки. Муки, воспоследовавшие за этим, занимали страниц семь. Он показал эту тетрадь одному барду, который пришел выступать в их школу. Бард порекомендовал обратиться к известному поэту Волгодонска, который иногда посещает ЛИТО, разместившееся в служебной квартире. Поэтом оказалась дама бальзаковского возраста, которая молча вручила Севе учебник по стихосложению и сдала на руки поэта более мелкой должности по имени Виктор. Из учебника Всеволод узнал о существовании стихотворных размеров. А Виктор был нормальным мужиком, работал на «скорой», курил дурь, но мог подсказать, кого читать.
Ощущение красоты казалось приобретенным. Он привык не думать о том, красива ли река, в которую предстоит лезть, красива ли свинья, которую предстоит зарезать, красив ли человек, с которым живешь в одном доме. Это все вопросы, не имеющие отношения к жизни. Сева жил без ощущения красоты, без восхищения небом и человеческими лицами. Но теперь столько всего вспомнилось! Как он был восхищен олененком, которого вылепил отец из серого пластилина, – это было настоящее ощущение чуда оттого, что папа так точно понял, как должен выглядеть этот звереныш. Вот это папино понимание было частью красоты – в виде больших отпечатков мужских пальцев на поверхности, оставшихся как след творца.
А первая любовь в начальной школе, обошедшаяся без единого слова? Достаточно было ее профиля – она сидела в соседнем ряду на парту впереди. Маленький Сева научился рисовать этот профиль – он мог воспроизвести милый образ даже тогда, когда не видел самой девочки. Конечно, только профиль – милого образа не существовало анфас.
Да, теперь эти прорывы в красоту вспоминались как неслучайные. Красота была схвачена, почувствована. Несколько месяцев без Валентины – и он уже не мог на нее злиться, осознавая, какой аппетит к красоте она пробудила, едва приоткрыв ему женское, противопоставленное всему остальному.
Ведь для себя не важно и то, что бронзовый, и то, что сердце – холодной железкою. Ночью хочется звон свой спрятать в мягкое, в женское.Раннего Маяковского Сева всосал мгновенно. Из всего богатства жизненного материала теперь он отбирал и пестовал только то, что служило развитию его любимой иллюзии. Внутри нее люди имели шанс понимать и любить друг друга, а ему самому было среди них место.
Той же зимой Сева взялся за гитару. Инструмент нашелся у Павлика, соседа по парте. Вспомнилось, что Сева всегда пел, что ему и его матери не раз рассказывали, как видели его на улице то ли разговаривающим с самим собой, то ли поющим. Он пел на улицах всегда, сколько себя помнил, но почти не слышал своего голоса. А теперь услышал – возможно, это было главное, что ему оставалось в себе открыть. Это не кто-то, не Валентина, – это он сам его открыл. По большому счету, это уже была своя собственная, ни с кем не разделяемая жизнь.
3
Накануне первого дня последнего школьного года Сева проснулся с горящими от боли губами. Еще накануне он обнаружил на них шесть болячек герпеса. Утром, пока ворочался, сорвал одну о простыню. Раньше вскакивали по одной, а тут разнесло. Опухоль, он знал по опыту, пройдет часа через полтора. Позавчера Сева подстыл на Салу во время ловли раков вместе с отчимом в местечке Петухи. Там глубина реки достигала полутора метров, из них около полуметра уходит на нежный ил, в котором, впрочем, попадались острые предметы – лопасти ракушек, консервные банки, мертвые ракообразные. На реке Сал встречались быстрины с твердым дном и камышом на вертикальном берегу, но раков Сева с отчимом ловили в местах помрачнее.
Никакой он, впрочем, не отчим – потому что никого не усыновлял.
Сева поднялся. Летом он спал на голом полу, бросив поверх него простынку. Подушкой не пользовался – спал на животе, подложив под голову руку. Тело как-то чесалось – вспомнил, в каком дерьме вчера лазили. Глянул на вчерашний порез в районе голени – он загноился. А ведь это обычный порез, они всегда заживали на нем в три дня. Надо завязывать с этими поездками.
Пора было вспомнить и о сегодняшнем дне. Это было особенный день. В жизни Севы было мало дружеских традиций. Но одной из них было хорошенько выпить и повеселиться в последний день лета. До встречи с Павликом и Олегом оставалось несколько часов.
Глянул на себя в зеркало – ну и рожа. Принюхался – кажется, что от тела до сих пор несет сероводородом. Таков итог трудового лета, но главное – выжил. Можно еще на год вернуться в детский мир школы с ее отметками.
– Кажется, нам сегодня кроме Аллочки и пойти некуда.
– У нее, кстати, завтра день рождения.
– Но выпить-то надо сегодня.
– Пойдем. Уговорим.
– Может, подарок надо подарить?
– Я ей спою.
– Я бы на ее месте нас выгнал.
– Я бы даже на порог не пустил.
– Потому что вы – босота, а Аллочка – интеллигентная девушка, – сказал Сева.
– Ее немецкая кровь дает надежду, что ей знакомо чувство вины перед русским народом, – изящно сформулировал Павлик.
– Сегодня русскому народу негде выпить, – подвел черту кореец Олег.
Дверь открыла сама Алла.
– Здравствуй, Алла, – сказал Сева. – Мы не знаем, как завтра сложатся наши судьбы…
– Заходите.
– Да… – стали толпиться вчетвером в прихожей.
– Я не одна, – тихо и многозначительно сказала Алла, отступая в комнаты. – Проходите… Сюда…
Парни переглянулись. Сева пошел вперед. Он вдруг понял, как непредставительно он одет: серые длинные шорты и серая жилетка на голое тело.
Он вышел из темноты в свет в ожидании худощавой степенной мамы-стоматолога. А там сидела чуть сгорбившаяся женщина, державшая на отлете узкий стакан. Ее губы были чуть сжаты, а темные глаза и не подумали подняться на вошедших. Сева остановился. Было видно, что по возрасту она почти ровесница. Но она – женщина, а тут – дети.
– Здравствуйте, девушка, меня зовут Всеволод. А как вас?
– Это Анна, – сказала Алла, – а это мои веселые одноклассники.
– Вас правда зовут Анна? – спросил Сева. – Ведь именно так должны были звать твою сестру-двойняшку, правда, Алла?
– Сева! – упрекнула Алла.
– Это у вас коньяк? – спросила Анна.
– А я вижу, вы смелы, – сказал Сева. – Либо же вам хочется простого и сильного напитка после той мешанины, которую вы только что пили. Что это было?
– Я сначала добавила в мартини водки, но, видимо, слишком много. Поэтому добавила апельсиновый сок. Получилась дрянь, – слово «дрянь» она подчеркнула гримаской и впервые посмотрела на Севу.
Ее глаза были необыкновенно черны. Сева догадался отчего – плохое зрение, больше обычного расширенный зрачок. Короткие черные волосы с одной стороны едва прикрывают широкие скулы, с другой – выстрижены. Широко расставленные жесткие глаза. Смела потому, что слепа, или плохо видит оттого, что смела? Вот уж неважно.
– Найдется ли рюмка для леди?
– Благодарю вас.
– Если бы я знал, что меня сегодня назовут на вы, я бы оделся как-то по-другому. Я просто Сева.
– Ну я тоже никакая не леди, Сева.
– Я этому даже как-то рад, – сказал Сева, и они совершенно серьезно посмотрели друг на друга.
Сева вдруг вспомнил о хозяйке, Павлике и Олеге. Отметил про себя, как уверенно держался. Будто вышел сыграть рыцаря в школьной постановке. Наверное, все зависит от сцены. Дайте герою сцену – и он появится. Он мог так себя вести только у Аллы дома. У нее в зале стояли кресла с наброшенной на них материей – они были расставлены так, чтобы люди, сидящие в них, могли друг с другом разговаривать. Телевизора не было, зато стояло фортепиано – и над ним большая полка для нот. Одну из стен полностью занимала библиотека. В углу стояла гитара. Она осталась от взрослых. Сева бывал в этом доме раз десять, но взрослых не видел никогда. От дома было ощущение, что это островок мира, которого уже нет. Сева пытался настроить эту гитару – у него ничего не получалось. Больше никто не брался. Как тут играют на фортепиано, он тоже никогда не слышал. Тут была коллекция пластинок, много Высоцкого – но он никогда не слышал их звука. Книги всегда были на тех же местах, под стеклом. Но даже такой культура как будто давала свободу, подсказывала готовые ролевые фразы, которые дома и в голову бы не пришли, а тут могли произноситься уверенно, ибо без заботы о серьезности.
Но все равно перед этими стеллажами Сева чувствовал себя голым. Даже не чувствовал, а как будто осознавал, что он и есть гол.
Павлик – другой типаж. Он из большой крестьянской семьи, часть которой стала горожанами. Но все его корни – по окрестным деревням. Его дом живет по календарю родовых праздников, каждый год он гуляет на свадьбах и скорбит на похоронах, отмечает сорок дней рождений и имеет любимые блюда. В этом большом роду он пока младшенький, почти не имеющий голоса.
Олег из корейцев, которые переселились в эти края в конце пятидесятых. Его родня владеет нунчаками и большими полями. Это работящее племя не разгибает спины, их жизнью управляют севооборот и календарь созревания культур. Лук, огурцы, арбузы, помидоры, морковь… Сева несколько раз нанимался к родне Олега, за каждым овощем он сразу видел объем работ: лук – прополка, морковь – почва. Олег – отличный математик, он ненавидит этот сложившийся за него мир, но никогда не скажет об этом. Он может только хмыкнуть или засмеяться. Все это – значимые для него высказывания. Ему проще в один момент тихо исчезнуть в одиноких поисках. И когда-нибудь, возможно, так же тихо появиться, ничего не объясняя.
Семья Севы оказалась здесь десять лет назад. Мама и папа, двое брянских деревенщин, приехали в город за тысячу километров от родных смешанных лесов. Отец заделал сына и пошел в армию. Вернулся, обрюхатил маму снова и поехал искать работу. Нашел строящийся «Атоммаш». Ближе ничего не нашел. Скорее всего, ему просто хотелось как можно дальше. Он уехал и пропал без вести, оставив мать с сыном и вздувающимся животом на расправу свекрови, для которой все было уже ясно. Очень скоро мама отправилась его искать в Волгодонск. Долгое время единственной подругой воссоединившейся на новой земле семьи оставалась женщина, с которой мама ехала в междугороднем автобусе. Лесные закрытые люди, кацапы, оказались на открытом, продуваемом пространстве, в краю горлопанов, сколь радушных, столь и безжалостных.
Волгодонск нарисован на карте в начале пятидесятых. Его основатели еще живы. Здесь был шанс удержаться. Здесь можно было не чувствовать себя чужаком. Потому что все – приезжие. Кого ни спроси – все помнят, как они здесь оказались. Местных – никого.
Вот и Аллочка тут случайно. Совсем другого полета девушка. Высокая, стройная, с густой шапкой светлых вьющихся волос, с гордо вздернутым подбородком, назидательностью во взгляде и демократичной готовностью отшутиться от всего. Почему она их пускает? Может, даже рада этим голодранцам, которые не всегда и пытаются выглядеть прилично. Просто некого больше пускать. Они такие же приезжие. Откуда-то привезли сюда свой закапсулированный мир – и он лежит, пылится. А снаружи страшно, грубо. Этих ребят хотя бы не страшно. Сразу ясно, что они безобидны, иногда остроумны, иногда понимают некоторые намеки. Да что там – все ведут себя, как дети. Как в советских фильмах. Тот мир, который завезла ее семья в этот молодой город, предполагает постоянный светский лепет в зале. Эти кресла должны работать, а не стоять пустыми. Поэтому пускай день рождения завтра.
– Мы же, конечно, прекрасно знаем, как неприлично отмечать день рождения до его наступления, – заворачивал Павлик, – поэтому мы пришли без подарков и тосты у нас будут не о тебе.
– Очень вам признательна, – Аллочка не скрывала язвительности.
– Нет, у Севы есть подарок – он выучил для тебя свою третью в жизни песню, – утешил Олег, а сам стал вынимать некий сверток – у него подарок был.
– А что, Сева уже научился настраивать гитару? – небрежно спросила Алла.
Олег с удовольствием засмеялся.
– Чем ты занимаешься, Аня? – спросил Сева, откинувшись на спинку стула. Они находились рядом и могли разговаривать, не обращая на себя общего внимания.
– Я тренер по ушу.
– Это надо осмыслить.
– Точнее, я была тренером по ушу до вчерашнего дня.
– Ты звезданула воспитанника?
– Немножко сложнее, – Анна вдруг встала и сказала хозяйке: – Я покурю у тебя на балконе.
– Конечно!
Балкон остался приоткрыт. Здесь больше никто не курил. Поднимая через некоторое время рюмку коньяка, Сева глянул в щель и на мгновенье остановился. Даже с его места было видно, что держащая сигарету кисть спортсменки явственно дрожит. Сева подержал коньяк во рту и проглотил. Маскарад дал трещину.
Чем всегда отличался этот круг, так это тем, что в нем никогда не задавали лишних вопросов. Здесь было весело проводить время, аккуратно насмешничать, пикироваться. Представить тут дискуссию о проблеме наркомании, насилия или исповедальный монолог было невозможно. Это был мирок на обочине жизни почти всех, кто сюда входил, – и именно по этой причине их сюда тянуло.
Завтра у них всех начнется последний учебный год. А потом детство, которое и так уже приняло облик облачка, закончится совсем. Как оно закончилось для этой девушки на балконе. Но жизнь, жизнь внутри уже шла и требовала выхода.
Сева пошел в угол и вернулся оттуда с гитарой. Сел и провел по потемневшим стальным струнам. Не узнал привычного аккорда. Хрен с ним.
– До-ождь! – прокричал он и, приглушив барре струны, принялся отбивать нужный ритм. В грудной клетке как будто зародился озон, изнутри весело повеяло стихией.
Звонкой пе-ле-нО-ой напО-олнил нЕ-ебо мАй-ский дОждь. ГрО-ом!..Его голос был звонок и силен, он тянул и форсировал ноты, не боясь сорваться или закашляться. Голос был во много раз громче самой громкой интонации в разговоре. И Сева наслаждался этим. Он чувствовал свободу какого-то иного существования и выражения. И ему было очевидно, что для этого выражения нужна сила. Песня должна быть навязана. Спета так, чтобы ни заткнуть, ни перекричать, ни заставить сфальшивить кислой гримасой или аппетитным чавканьем.
Грянул майский грО-ом!Просто берешь и поешь. Это же песня. Все песни – общие. Бери и пой – если можешь.
Анна вернулась и внимательно смотрела в стол.
– Что, за детей приняла?
– Ну по тебе-то я сразу поняла, что начнешь приставать.
– Что ты у нее делала? Что вас может связывать?
– Я первый раз за два года. Нужно было отсидеться где-то.
– Как мы удачно зашли. Тебе не жаль, что мы всех бросили?
– Конечно, нет. Я сейчас не могу этого долго выносить.
– Чего?
– Этих вежливых разговоров ни о чем. Хотя сама большая мастерица. Почему ты запел?
– Я люблю петь. Когда поешь, кажется, что в одно мгновение можно изменить ход своей жизни. Сделать ее более настоящей, что ли.
– Если бы я не услышала твой голос, я бы с тобой не пошла.
– Что ты говоришь такое.
– Ты пел, как имеющий право. Как сильный. Кто тебе сказал, что ты имеешь право делать, что хочешь? Звучать во всю мощь? Вот я – не могу. Я шепчу там, где нужно кричать, – и понимаю это. А ты даже не думаешь об этом – и поэтому теперь ты мой мужчина. Особенному человеку можно то, чего другим нельзя.
– Это соблазнительно звучит.
В черной воде фонтана отражалась луна. Они сидели на лавочке под роскошными липами. Аня – лицом к фонтану. Сева перебросил ногу через сиденье, чтобы крепче прижать девушку. Его уже опухшие больные губы почти касались то ее щеки, то уха. Было странно думать, что семь часов назад он ее не знал. Было странно, что ей наплевать на изъяны тянущихся к ней губ.
– Ой, пусти-ка на минуточку. – Через две минуты она вернулась, одергивая платье. – Пописать отходила.
– Да я понял уж, – Сева усмехнулся, поскольку сам – терпел. – Пытался как раз представить на твоем месте Аллу. Можешь себе представить писающую в парке Аллочку?
– Ха-ха-ха…
– Ты же мне расскажешь, что у тебя за история?
– Да, Сева, расскажу. Но только не сегодня, хорошо? Завтра, – она скользнула смелой рукой под его жилетку, не без удовлетворения погладила его торс, подняла на Севу глаза. Он впился ей в губы.
Он шел домой по пустой улице на нетвердых ногах, его немного колотило. Пальцы пахли ее телом. В голове он повторял цифры телефона, который было некуда записать. Ловил себя на том, что совершенно не может представить ее лица. Мгновеньями ему становилось страшно оттого, что он может не узнать ее завтра.
4
Анна была существом из нового большого мира, в котором мысли долго не задерживаются в головах, они быстро передаются порывами и поступками, пусть даже гнусными. Она была жрицей честной и свободной жизни, предназначенной только для смелых людей. Она, всегда одетая, как главная героиня в европейском кино, несла себя по улице Ленина, мимо хлебного магазина, киоска, детского садика, продавцов вареной кукурузы. Ей сигналили машины, и это было закономерно. Ее жизнь была на виду.
Медлительному, углубленному в себе Севе, который привык искать ответы, нравилось видеть ее со стороны. Он впервые видел человека, который настолько зримо присутствует в этом мире. Как он решает вопросы в одно касание – и идет дальше. Кажется, что идет дальше. Даже возникает искушение думать, что вот она вся, как на ладони. Так думают ребята из сигналящей иномарки. И она не против, когда о ней так думают.
У него возникало ощущение, что он смотрит на нее из мрака. Что его-то как раз практически невозможно рассмотреть в ландшафте или выделить среди прохожих. Он знал, что его можно рассмотреть только с очень близкого расстояния. А ее видно отовсюду. Что это за стрижка? Что это за белое пальто, фиолетовые колготки, полосатые перчатки с обрезанными пальцами? Где ты взяла эти вещи? Откуда они вообще берутся?
Сева стал подводной частью ее жизни. В то время как у нее самой никогда не было подводной части. Они запирались в ее комнате, в соседней – но все равно, что в далекой деревне, – жила бабушка. Почти не было мест, где они могли бы появиться вместе. Но везде, где она могла появиться, она появилась. Зашла однажды за ним домой, легко пройдя по заблеванному подъезду, испугав маму в халате. Однажды пришла с ним в его маленькую компанию отмечать Новый год. Оделась в вечернее платье. Она держала бокал с шампанским двумя пальцами, а школьники выглядели школьниками.
У нее была история. И месяцы с нею стали для Севы уроком истории.
Она была не совсем тренером по ушу, а учеником настоящего тренера. А тот совсем недавно ее домогался. Вернее, он хотел ее вернуть, поскольку ранее некоторое время счастливо обладал этой старательной и прогрессивной ученицей. Ему нравилось. Но он был женат. А еще он был негр, возможно единственный в этой российской глухомани. Свое мастерство он отточил в незнакомой экзотической культуре. А экзотика очень тянула рано созревшую Анну. Она уверяла, что он умел пробивать пальцами доски, ломал кирпичи легким движением кисти, учил управлять своей энергией. Говорил, что видит энергию каждого человека, распознает ее следы на предметах, различает по цвету и консистенции. Он и не надеялся найти в этой необъятной чужой стране человека с сознанием и телом, созданным для его африканских выпуклостей. Оказавшись здесь с некоторым капиталом, он создал свою школу и брал дорого, отсекая дворовое отребье. Анну устроил туда ее бывший любовник, состоятельный и влиятельный сотрудник каких-то органов. Они до сих пор иногда видятся, хотя расстались плохо, от него остались долги. Так вот, после полутора лет тайной связи Анна, убедившаяся в том, что эти отношения не имеют шансов стать явными, нашла в себе силы уйти. Не обошлось без сцены, в которой прозвучала угроза насилия. На следующий день она встретила Севу.
Ее можно было взять только в бою – и Сева понял это слишком поздно. Она с удовольствием учила любовным премудростям, но, как только ослабевало напряжение, она, казалось, начинала сходить с ума, искать боли. Барьеры, которые возникали на пути к ее телу, не умещались у Севы в голове. Тренер ее преследует, она чувствует его энергию, которой надо нечто противопоставить. Парень из ФСБ оставил на ней кредит, но при этом его люди присматривают за ней. Она запуталась, хотя никогда бы не показала этого. Сила ее походки и энергия взгляда покрывали все. Она ничего не боялась, поэтому вляпывалась во все, что только можно. Она ходила со случайными людьми, если у нее было настроение. Она могла сесть в незнакомый автомобиль. Она могла ударить мужчину и получить в ответ. Ей было совершенно некогда разбираться в своей жизни, в том, что именно и почему с ней происходит. И тут она встречает юношу, не похожего на ребенка, невзрачного и дотошного в самонаблюдениях, но сильного, как его голос. Если у кого-то был шанс распутать колтун, в который сбивалась ее жизнь, то только у Севы. Но она его выбрала не за это – она выбрала его за голос.
Она показала ему все коллекции своей экзотики, последние голливудские фильмы на раритетном частном видеомагнитофоне, он рассмотрел все ее японские халаты – и хотел только одного: обнажить ее. Это было непросто. Он трогал ее, знал на ощупь всю – но голой не видел никогда. Возможно, она не существовала голой. За каждой из одежд была новая драма. Зимой, выходя от нее, Сева вдруг посмотрел на белоснежный сугроб и упал него. Долго лежал, не промерзая. Хотелось почувствовать реальность. Потому что она начала сходить с ума, и он не мог не следовать за нею. Их жизнь на двоих наполнилась призраками преследователей, которых он никогда не видел. Но они были реальнее, чем он. Она говорила, что он в опасности, что они должны расстаться ради него же, что вот сегодня только поцелуемся последний раз. И он целовался с ней последний раз, а потом не мог отлепиться от стены подъезда. Морок, исполненный плоти, ее запаха и выделений, не рассеивался. Назавтра прощание продолжалось. Она внезапно расстегивала ему штаны в незнакомом месте и опускалась перед ним на колени. С ним происходило то, чем было невозможно ни с кем поделиться, потому что это не лезло ни в какие ворота. Ему хотелось причинять себе физическую боль, потому что так было легче и проще. Это была настоящая, кровавая, страстная жизнь. Сева усмехался над собой, но не над этой жизнью. Ему было больно и страшно, но это была небывалая для него до сих пор степень реальности – и уж этого не ощущать он не мог. И он не отступал, он снимал с нее одежду за одеждой. А однажды, вернувшись домой, достал с полки Библию и открыл ее наугад. Мама, увидев, что Святое писание лежит не на месте, испугалась за сына, – Татьяна Геннадиевна впервые поняла, что не понимает, чем он живет и как ему помочь.
Рядом с Аней Всеволод чувствовал себя почти примитивным. Ни стиля, ни манер, ни эрудиции. Только его любовь и заботливая дотошность, заставляющая распутывать то, что распутать нельзя. У него могло получиться, у него была хватка.
– Молодой человек, откуда у вас такая мощная шея? – игриво спрашивала Анна и неожиданно заключала: – Ты необычайно жизнеспособен.
Сева был для нее передышкой. А она – первым настоящим испытанием для его шеи.
Однажды она заснула в его объятьях. Поздняя ночь, в комнате вдалеке горит ночник и совсем рядом – свеча. Она свернулась почти в позу зародыша. Сидя возле дивана, Сева смотрел в ее спящее лицо. Совершенное дитя – такое, каким она не умела быть в жизни. Иногда по лицу пробегали сны. Сева смотрел и думал о том, сколько раз он был уже ею обманут. Нет, не тем, что она лгала, а она ему лгала. Но нет – на самом деле он был обманут тем, что оказывалось глубже. Настоящая ее жизнь всегда была где-то там. А сверху был японский халат. Сева потерялся в его складках.
Сева поднялся и выключил тихую музыку. В этом доме всегда была музыка. Затем подошел к свече, постоял, глядя в огонь, и сунул в него палец. Начал считать, один-два, задрожал, держать, три-четыре, прошиб пот, пять-шесть, держать! терпеть! это жизнь! семь-восемь-девять, му-у-у-у! десять-одиннадцать – отдернул. Прижал к груди. Пахло паленым. Больно, почти нестерпимо. Кожа пальца пригорела к кости. Усмехнулся: жертва любви. Анна спала как ребенок. Он тихонько вышел и пошел по улице, привычно захлебываясь в нагнетенной страсти. Прохлада ночи, казалось, даже не входила с ним в соприкосновение.
Все закончилось в один весенний день. Легкость расставания казалась продолжением ее прогрессирующей болезни, с которой он больше бороться не мог. Он уносил с собой чувство обыденной пошлости, которой все закончилось. Потому было почти не больно, быть рядом с нею – больнее.
Он вышел из лабиринта и посмотрел на мир. На дворе стоял апрель, раздвинулось светлое небо, в деревьях обнаружились птицы. Он чувствовал себя освободившимся, открытым для света и его простой красоты. Он чувствовал себя на воле, закаленным в рудниках настоящей страсти. Ему захотелось петь. Только в этот момент он понял, что никогда не пел в ее доме. Вообще не пел при ней со дня их встречи. Он не дал ей того, за что она его полюбила.
5
Через три месяца Сева уехал поступать на исторический факультет Ростовского государственного университета. Он точно не знал, почему именно туда, но точно знал, что пора уезжать из дома. Его собственная пробившаяся из иллюзии жизнь разрасталась, постепенно подчиняя себе его мысли, реакции и поступки – и все вернее вытесняя его из коллективного разума семьи. Взрослый мужчина, он превращался в белую ворону. Формального служения было уже недостаточно – не оставалось никаких сил скрывать все более возмутительное равнодушие к принципиальным житейским вопросам, решение которых и было жизнью семьи. Хозяйство, деньги и обновки – Сева поражался тому, что об этих темах можно дискутировать, по-настоящему спорить. Ему было все равно – когда было нужно решить, он просто принимал решение. В голове было совершенно иное. Благо, подросла сестра, не только полностью воспринявшая логику материнского существования, но и усилившая ее своим темпераментом. Теперь можно было валить – мама не останется одна.
Сева окончил школу с серебряной медалью и имел право быть зачисленным в университет в случае, если первый экзамен будет сдан на «пять». Это был русский язык и литература устно. Закинув ногу на ногу, он читал учебник Розенталя в общаге, пока его волгодонский сосед и товарищ Саша быстро и почти при всех уговаривал на балконе новую знакомую сделать ему массаж в ее комнате. Она ему делала – и не только массаж. Он возвращался и принимался готовить. Готовил только одно блюдо – яичницу. Поскольку теперь они жили вдвоем, Саша разбивал над сковородой девять яиц. Потом он шел разгружать товар в продуктовом магазине под общажным корпусом. Жить здесь и иметь постоянный заработок было высшим пилотажем. С человеком, который устроил его в бригаду, Саша познакомился необычно – помочился на него ночью с балкона. В один из первых вечеров он вернулся побитый – вывел поговорить одного качка на дискотеке и был неумолим, настаивая на том, что миром разойтись никак невозможно. Сева в тот день одолел двадцать четыре страницы Розенталя.
После первого же экзамена он был зачислен.
Когда вернулся в Волгодонск, смотрели на него уже иначе. Отчиму невозможно было доказать, что мама тайком от него не заплатила деньги за поступление, – но Сева уже не считал это своей проблемой. Он догуливал с приятелями.
Вдруг позвонила Валя. Когда-то он привел ее в детское сообщество мальчиков, вчера мечтавших лишь закрыться в комнате от родителей ради многочасовой игры в танчики на игровой приставке к телевизору, – за это время она превратила компанию в клуб своих поклонников, игравших одну и ту же роль якобы опытных похотливых циников. Сева от них отпал, потому что не узнавал ни ее, ни своих приятелей. А потом появилась Анна – и кроме нее полгода не было больше ничего в жизни. И только весной они с Валей где-то увиделись, просто увиделись. Просто посмотрели друг на друга – и было ясно, что многое изменилось, что они другие люди, которые ценят то, что еще узнают друг в друге. И было даже странно, что за их спинами в этот момент была школа – какая на хрен школа.
А в июне она позвонила. За все время их знакомства она позвонила Севе лишь однажды – тогда. Предложила поехать с общими знакомыми на базу отдыха с ночевкой, у них были планы снять большой домик. Сева согласился даже слишком резво. А потом была мелодрама из мелодрам. Вечером под навесом все выпивали и танцевали под музыку вынесенного на улицу магнитофона с колонками. Она пошла танцевать с Павликом и более не возвращалась. Вернее, после третьей композиции, укреплявшей новый союз, Сева, чтобы не проявлять себя как-либо, просто вышел за границы желтушного электрического света.
И пропал.
В темноте его колотило. Было горько от глупости. Брала злоба от того, что она сама его сюда позвала. И Сева не мог никуда уйти – они были далеко от города, а дело шло к полуночи. И глупо было злиться – выходило, что он думал, будто она жила это время, ожидая его возвращения. Ну конечно нет. Поблуждав по пустой ночной базе, помочив ноги у берега Дона и полностью протрезвев, Сева пришел в домик, лег на кровать и отвернулся к стенке, не в состоянии отключиться. Но это был не конец. Все они, четверо, пришли, веселые и пьяные. Они елозили и сально друг над другом шутили, ржали и лапали друг друга. Они не могли не видеть Всеволода, лежащего большим мешком, но – не видели.
Они все, конечно, хорошо знали Севу. Никто из них не рискнул бы проявить к нему неуважение, не говоря о том, чтобы бросить прямой вызов. Но сейчас происходил совершенный абсурд: Сева лежал и не смел шелохнуться, не смел подать звука, а они побивали его, поверженного по своей воле, единственным из возможных способов. И это продолжалось всю бесконечную ночь. Когда стало светать, компания вышла из домика и пошла к реке. Когда шаги стихли, Сева решился посмотреть на часы – было шесть двадцать утра. Автобусы начали ходить. Сева поднялся и собрал свои вещи. Прошел к берегу и, ни с кем не встречаясь глазами, сказал: «Эй, корни, – я ушел, не болейте». «Корни» – они когда-то так ласково называли свою компанию. Они все посмотрели на Севу, и у него было ощущение, что они его не узнают. Просто не знают, кто этот человек и что он сейчас говорит. Но Севе уже было все равно – он уходил в прохладное свободное утро.
Уже было даже как-то привычно – уходить, оставлять очередной мир после попытки пожить в нем.
В тот день Сева вернулся домой, а дома никого не оказалось. Это была почти нереальная ситуация. Мама, отчим, сестры, Сева – жизнь шла постоянно в виду друг друга на пространстве в двадцать квадратных метров. Некуда было деться, кроме как выйти вон. Читать и писать Сева учился в туалете. Но в тот день никого не было – стечение редких обстоятельств. Тогда Сева достал гитару и запел.
Когда начинал, а начинал с первой пришедшей на ум песни, чувствовал себя разбитым и усталым, голос был глухим и стершимся за последние сутки, сердце – перегоревшим и тяжелым. Сева начал петь, преодолевая себя. Преодолевая несоответствие между неотвратимой полнотой реальности и необязательными чужими словами, случайной мелодией. Перед тем, что было сейчас в душе, меркло в своем значении все, что он мог произнести, напеть или наиграть, – все это было заведомо глупо. Лишь одна была зацепка – сам голос. В тот момент Севе хотелось только скулить. Издавать звук, позволявший вытекать эмоциям, которым иначе найти выход невозможно, потому что все это – эмоции от предыдущих связей. Связи оборвались, но внутренний мир еще продолжал поставлять кровь и мыслечувства туда, где больше никого не было. Рана была открыта прямо в высасывающий соки космический вакуум. И когда потекла тонкая струйка голоса, сначала показалось, что просто нужно встать и прикрутить водопроводный кран на кухне – настолько не связанным с внутренним миром показался звук собственного голоса. Но мелодия что-то внутри все-таки нашарила, подцепила – стало чуть легче.
Сева пел пять с половиной часов. Были песни, которые он спел не единожды. Ему казалось, что он забыл свое имя. Он больше не думал даже о последовательности аккордов. У него появилось ощущение, что можно спеть любую песню под любую последовательность. Ему казалось, что он способен сейчас спеть рецепт к врачу, что любой аккорд – это первый шаг в песню, а последний нам предугадать не дано. Он пел чужие посредственные песни, но никогда они не имели столько смысла – даже для тех, кто их написал. Потому что он уложился весь в эти случайные слова и мелодии. За их пределами Севы не существовало. Все эти часы он находился где-то внутри музыки. Все, что убивало, опустошало его бессловесно, он заставлял найти выражение – и не быть к нему слишком строгим. Потому что его голос – это его любовь. Это любовь, предназначение которой – выводить из мрака в свет. И эта любовь – она не вполне моя, думал Сева. Потому что я-то что – всегда то обиженный, то голодный. А она всегда на пике существования – она любит нас прямо сейчас, о чем бы ни пела. Надо же понимать: она не докладывает, не сообщает нам о происшедшем там-то и там-то, – она сразу поет это. И я чувствую это, и понимаю, что сам на это не способен. Я восхищаюсь этим великодушием, восхищаюсь той любовью, к которой мне дано быть причастным, но точно знаю, что я сам не столь великодушен.
Все, что сливалось в сточную канаву раны, стало алой кровью песни. Он как будто многократно прогнал весь свой забитый ядами и шлаками внутренний мир через фильтр песни, через фильтр далеких судеб и значений – и в какой-то момент чувствовал, что перестает существовать, что не может вспомнить ни о чем, что бы не относилось к тому, о чем он сейчас поет. Футболка на Севе промокла, с кончика носа время от времени срывались капли, но он продолжал петь. Это была как будто долгая и упорная, сладкая и выматывающая молитва – о том, чтобы Бог, стоящий за музыкой, прибрал его к рукам. Забрал из тех рук, в которых он – лишь жертва случая, каприза, чужой неверной воли. Нет, я готов Тебе молиться день и ночь, дай мне силы воспевать Твой мир случайными песнями – но ты же видишь, сколь чист мой помысел. Настолько, что и песня группы «Чайф» тоже может быть молитвой, прямым обращением к Тебе.
Он не мог остановиться. Он растворялся, но при этом чувствовал, что никогда до сих пор жизнь не востребовала его в той степени, в какой это делала случайная песня. Жизни не было нужно и нескольких процентов от него. Жизни нужно было, чтобы он заткнулся и не привлекал к себе внимания. Ей не нужны были его сила и огонь, о которых он сам мог бы никогда и не узнать, если бы не запел. Но он узнал, он как-то дотумкал. Ах, какое счастье, что мне пришло в голову запеть! Что я могу себе позволить это делать. Но, Господи, что же мне теперь делать с тем собой, которого я вытаскиваю сейчас на свет Божий? Как жить человеку, который себя выразил, который кое-что представил о себе?..
Он не мог остановиться. Почему я должен остановиться именно здесь? Я ведь могу петь и дальше. И дальше…
Он остановился, когда порвалась струна. Посмотрел на часы, вытер лицо полотенцем и понял, что очень голоден. А еще понял, что за это время ушел куда-то очень далеко, где его не найдет никто. Песня, как машина времени, перенесла его на несколько лет вперед. Завела в какое-то особенное место. Там все примерно так же, как у нас, только формула существования человека какая-то другая, возможно более верная. Сева знал, что будет впредь тянуться к этому месту, искать его, стремиться туда.
6
Кровать в общежитии была первым своим углом – у его внутреннего мира появилась точка в пространстве, и это ощущалось как абсолютный прирост.
Но довольно быстро стало ясно, что это койка в плавильном котле, куда стекается многонациональная голодная лимита, чтобы стать жителями большого города. Ингуши, калмыки, дагестанцы, русские всех мастей – все стояли в очереди к коменданту, встречались в единственном продуктовом магазине вместительностью в десяток человек. Все они здесь, нападая и сбивая друг о друга острые углы, должны обрести безличность, почувствовать, как нужно вести себя в массе.
Сева никогда не встречался с массой. А в сентябре пошел на День города – и увидел эту лавину, которая шла сначала на Театральную площадь по Большой Садовой, потом – обратно. Вокруг шли люди, которые привыкли не обращать друг на друга внимания. Они были гораздо более уязвимы, чем он, привыкший сканировать каждого встречного. Они, видимо, ощущали себя спрятавшимися в массу. Они, возможно, даже считали, что находятся в безопасности в ней. Хотя его, видящего насквозь каждого встречного, они умело не замечали. Сева почувствовал свою власть над ними. Даже не свою, а – власть любого волка среди этого овечьего стада. А волки здесь, безусловно, были, в этой толпе для них раздолье. Бутылки, баклажки, банки с пивом в руках у каждого второго, а плотность мусора на дороге запредельна. Подогретая толпа в несколько десятков тысяч человек. Но в целом она доброго нрава. В ней действительно можно было залечь – и жить настолько полноценной жизнью, насколько это вообще возможно в одиночку.
Он проучился четыре месяца – это было так же несложно, как и школа. Коллектив был в существенной степени женский – и воспринял он его напряженно из-за почти анекдотической ситуации. Еще в сентябре к нему нагрянул в общагу Саша, этот неудержимый Саша. Они порядочно выпили, пошли за добавкой – и застряли в лифте, а их вызволяли какие-то барышни. Было темно, Сева оказался в комнате одной из них, Саша куда-то делся. Сева читал ей стихи и занимался с ней любовью. И она шла на это с каким-то надрывом, будто жертвуя последним, что у нее осталось, – а Сева не вникал, он в этот момент был исполняющим обязанности Саши. Он ушел от нее ночью, добрался до своей комнаты и свалился лицом вниз. А наутро не мог ее вспомнить. Ни лица, ни имени, ни даже этажа, на котором он был. Только ее возбуждающий зад стоял у него перед глазами. Существовала большая вероятность того, что девушка была с его курса. В следующие дни он внимательно рассмотрел всех девушек в своей группе, ни одна и бровью не повела. Но коллективный женский разум уже все про него понимал. Сева явно чувствовал невыраженную обструкцию, но не понимал, заслужил он ее или нет. Для себя самого – пожалуй, заслужил. Потому он не пытался разрушить возведенную стену и сосредоточился на учебе. Он спокойно в одиночестве садился на заднюю парту, не обращая внимания ни на кого, не заговаривая ни с кем.
Ближе к декабрю на спецкурсе по латинскому, куда ходила только часть группы, одна блондиночка подсела к нему сама. В ее лице, впрочем, было некоторое высокомерие, в тонкой извилистой улыбке пряталось нескрываемое снисхождение. Марина оправдывала его возрастом – она была на два года старше всей группы. Взрослая женщина могла себе позволить сесть с плохим, но единственным мальчишкой.
– Наверное, будешь отвлекать меня болтовней? – откинувшись, предположил Сева, когда она присела рядом за парту.
Ее натянутая улыбка стала шире, но подбородок чуть задрожал. Лобовые атаки были не ее стихией.
– Но поскольку ты симпатичная, я потерплю, – закончил Сева, нарочно не глядя не нее.
– Какая наглость! – наконец воскликнула она. – А если бы я была менее симпатичной, ты бы выгнал меня с позором?
– Как и многих до тебя, – подтвердил Сева.
– Это была уборщица. Зря обидел Евгению Михайловну.
Сева соскучился по этому легкому драйву.
– Какая у тебя необычная «ж», – произносил он, глядя на ее почерк через руку. – У меня, между прочим, тоже. При случае покажу тебе свою «ж».
– Буду польщена, – дрожал ее подбородок.
Он чувствовал, что остроты проходят. Но на этой стадии все могло и остаться. Было даже как-то странно примерять к себе эту высокомерную леди, сопровождавшую шуткой каждое суждение. Однако прямо на латинском она шепотом спросила:
– Когда ты покажешь мне свои стихи?
– Хочешь, сейчас одно прочту?
– Сейчас?
– Называется «Фонтан», – и Сева зашептал ей на ухо:
Мне не нужно ни одно твое подобье. Если ждать тебя так всю жизнь – значит, проживу не зря. Я оглядел трамвай, бульвар, автобус — да, ты здесь. Куда же без тебя… Я казался грязным от лишней прямоты. Мы говорили, а снег не таял, он тихо падал за окном, и ты так часто отвлекалась. У меня кости трещат от разрядов. Капают в землю молнии с рук. Мои глаза болят от единственного взгляда. Я коснусь тебя лишь однажды и вдруг… Казенный дом – и в свете отражений мимо меня идет твое пальто. Я ушел, но улицы в хаосе брожений цветом твоей кожи окрасили бетон… Фонтан воды из моего смеется горла. У меня отколоты левая рука и нос. Мы с тобой всегда ходили голыми. Именно такими в мрамор нас заключила ночь.– Всеволод, вы вообще слышите, что я вам говорю?! Может быть, вы выйдете наконец?
– Извините, Лариса Петровна. Да, я выйду – извините.
Сева принес Марине ворох стихов. В ответ она замолчала, даже перестала шутить. Садились рядом они редко – только два раза в неделю. Потом она принесла стихи и молча вернула. И Сева с готовностью сделался мрачным. В течение очередной пары не проронили ни слова. «Что я здесь делаю?» – вертелось в голове. Обернулся на нее не без злости:
– Посмотреть на меня хотела? Ну вот – посмотрела!..
Сева ставил точку.
– Мне очень понравилось, – вдруг произнесла она.
– Как же я тебя пойму, если ты ничего не говоришь? – пролепетал он тут же.
На следующий день Сева предложил Марине вместе пойти на день рождения к его другу. Она согласилась. День рождения закончился тем, что он пел, а все сидели вокруг полукругом. И Марина была среди них. А потом он ее провожал. Но поцеловал только на следующий день. А потом они сидели рядом уже на всех парах. Их сближение нарастало каждый день. Они и сами знали, что остановиться невозможно. А возможностей для уединения было не так много. Они постоянно шатались в поисках места, где останутся одни.
Закончилась сессия после первого курса – и все время вдруг оказалось в их распоряжении. Сева устроился работать грузчиком у предпринимателя, державшего неподалеку от общежития лавку с мороженым. Утром к этой лавке нужно было подогнать холодильники с товаром, вечером – отвезти их обратно на склад. Склад – в двухстах метрах.
Он просто физически не мог оторваться от Марины. Жаркое лето их сжигало, все свободное время уходило друг на друга – и его все равно было чудовищно мало.
В двенадцатом часу ночи Сева вернулся в свою комнату на девятом этаже, из которой неделю назад разъехались его соседи, – а там, укрытая тонким покрывалом, полностью обнаженная, чутко спала маленькая светловолосая девушка. Час назад он оставил ее здесь, чтобы отправить в надежное место набитые пестрым мороженым холодильники. Он принес с собой большой брусок пломбира. Его нужно было сейчас съесть, потому что холодильника в комнате не было. Но она спала. Спала на разложенном уже много лет назад большом диване, кочующем из комнаты в комнату, стоящем на деревянных подпорках и застеленном грязно-изумрудным покрывалом. Сева, боясь загреметь, положил брусок в мелкую тарелку, тихо разулся, прокрался к ней. Она впервые осталась у него на ночь. И он не мог оторвать глаз от лица, которое он еще не видел спящим. В том, что она спит, спит здесь, ему чудилась высшая степень доверия. И он не знал, как благодарить ее за то, что она спит в его комнате.
Она пробудилась от первого же касания – и раскрылась, зашептала, притянула. Она была первой женщиной, у которой не надо было ничего просить. Нужно было уезжать, насытиться друг другом перед разлукой было невозможно. Оказалось, что жизнь может быть разделенной, – и это состояние, отчетливо понял Сева, пристало считать естественным. Но у него не получалось.
7
Волгодонск старел. Асфальт по-прежнему подметают, но уже давно не меняют. Раньше трудно было представить себе осыпающиеся бордюры. Пыльно дует ветер по пустынным улицам. Сойдя с автобуса, Сева огляделся: середина дня, а на всю округу три ковыляющие фигурки, если не считать людей, которые вместе с ним вышли. Привычно закинул сумку на плечо и пошел к дому. Мама, наверное, торгует.
Его здесь ждали. Да, невозможно было не приехать. Год назад он оставлял здесь так много. Вся предыдущая мутная жизнь была вписана в формы здешних улиц, аллей и тополей. Каждая щербатая скамейка или выбоина асфальта оказывались зарубкой одиноких дум, случайных встреч и неслучайных расставаний. Проспект, так привычно затянутый кверху ветвями тополей, будто не замечал, что он, Сева, изменился. Этот проспект словно напрямую обращался к тому в Севе, что целый год было не нужно и, казалось, уже пережито, преодолено более важным. Но одного вида улицы оказалось достаточно, чтобы культурный слой одного года соскочил как небывший, – и сразу вернулся морок заплесневелой ненависти к отчиму, щемящего переживания предательства, неизвестно почему душа подернулась паволокой отчаяния, сделавшей надрывным даже движение Севы к родительскому дому. Ему совсем недавно казалось, что он все это преодолел. Но он снова был в мутном потоке, из которого нет выхода.
Но, накатив до какого-то предела, город вдруг отпрянул, будто наткнувшись на источник света. Марина осеняла Севу издалека, она светилась внутри, проясняя внутренний мир до самой кожи. Сева улыбнулся.
На пятачке, образованном перекрестком бульваров, рядом с тремя бабками, действительно сидела мама. Сидела на раскладном стульчике перед поставленным на маленькую табуретку зеленым ведром жареных семечек. Когда Сева начал переходить широкую дорогу, мама его увидела и встала. Он издалека увидел, что она не может сдержать улыбки, и тоже заулыбался. Они обнялись, маленькая мама поцеловала его в щеку, стерла помаду, сделала замечание за щетину и стала собираться – торговый день окончен, сын приехал. Сева поздоровался с незнакомыми бабушками, вспомнив давнюю просьбу мамы: «Ты, Сева, здоровайся с ними – хоть ты их и не знаешь, они все хорошо знают, что ты мой сын», – те приветливо закивали.
– Давай помогу.
Сева взял ведро и складную табуретку. До дома была сотня метров.
Борщ был вкусный, а стены знакомые. Но тут же подступила теснота, от которой успел отвыкнуть. «Мой дом там, где я», – вспомнилась фраза приятеля. Еще вчера она казалась верной, сегодня Сева не мог приладить к себе вовсе. Получалось: там, где она.
Каждую минуту каждого долгого дня в голове Севы звучал внутренний голос, который докладывал Марине о том, чем он сейчас занимается, как переживает текущую минуту. При этом о происходящем прямо перед глазами внутренний голос повествовал как о давно прошедшем и пережитом.
«Помню, когда я в то лето приехал в Волгодонск, я не чувствовал свободы от тебя, – нет, я думаю, что ты и давала мне какую-то новую свободу. А здесь я был заперт в клетке с тенями прошлого.
Мне тогда подумалось: все это время – последние полгода – я не занимался ничем, кроме тебя. Экзамены не в счет же, правда? Я даже всерьез озаботился тем, что на самом деле больше ничего не умею делать – только любить тебя. Может быть, это ненормально. Люди ведь делают в жизни что-то еще. Возможно, ты тоже думаешь об этом – что будет, когда в нашей идиллии под одеялом встанет хоть один простой земной вопрос: что есть? кем быть? где жить? Не думай обо всем этом без меня, пожалуйста.
Я тогда делал ремонт, как робот, с ужасом понимая, что закончится он гораздо раньше, чем мне можно будет уехать.
Боже мой, как это много – месяц. За это время люди становятся другими. Мы с тобой стали совсем другими за какие-то пять месяцев. Сейчас июль, а еще в декабре мне бы и в голову не пришло, что ты можешь быть моей настолько. Ты – такая взрослая, прохладная, высокомерная, – помнишь? Ты была по-своему хороша, но – какое отношение это имело ко мне? Я до сих пор понять не могу, как так вышло, что ты оказалась совсем другой. Близость совершает фантастическое преображение. Я чувствую это и на себе. Потому что я просто ни о чем, кроме тебя, теперь и думать не могу.
Мне кажется, ты – первый человек, которого я запомнил всего. Я раньше замечал, что людей запоминаю какими-то почти случайными фрагментами. А тебя моя память может перекручивать, как киноленту, – я наслаждаюсь, пересматривая любимые моменты. Вот ты лежишь на животе на полу, положив щеку на сложенные руки – и волосы закрывают один глаз. Я подбираюсь к твоему лицу, начинаю тебя целовать – и вот ты перекатываешься на спину, открывается твой хохолок…
Каждый мой мысленный сюжет о тебе заканчивался нашей близостью. Я пугался и страдал – я страдал, Марина! – потому что мгновенно привык касаться тебя каждую минуту. Если такие люди, как я, считаются разбалованными, – это жестоко. Нет, я не разбалованный, я – дорвавшийся.
Не было в том Волгодонске мне покоя, Марина, – ты мне мерещилась, десять раз на дню я видел тебя на улице – то в окне, то в проезжающем троллейбусе, то со спины, входящей в молочный магазин, куда я, помню, бегал еще пятилетним мальчиком. Чтобы сократить время отпуска, я старался раньше ложиться спать».
Марина ему написала. Рассказала, что они с подругой сходили в кино на фильм «Титаник», о котором сейчас так много говорят, что там много смешных моментов – например, когда ди Каприо околевает на глазах любимой, которая в конце концов с усилием отталкивает его прицепившийся труп. Дальше шло не менее остроумное описание поездки в деревню, что-то про семью. Сева бежал глазами в поисках строк, которые захочется перечитать. Да, там было, за что зацепиться, – письмо заканчивалось словами: «Любимый, когда же ты наконец приедешь! Я совсем не могу без тебя!» Сева тут же написал пламенный ответ. Через полторы недели пришло второе письмо – и снова репортажи. Уже без заветных слов в финале.
Дня через три мама сказала: «Севочка, может, конечно, нехорошо читать чужие письма, но я прочла письмо Марины к тебе, видя, как ты переживаешь, и скажу, что оно написано в обычном дружеском тоне…»
Сева взорвался.
8
Уезжал он из дома со скандалом – потому что было 18 августа и оставался еще месяц до начала учебы. Мама не понимала, объяснять ей Сева ничего не хотел. Нечего тут было объяснять. Сева сказал, что устроится на работу, – и уехал последним вечерним рейсом в 23.30. В четыре утра автобус прибыл на автовокзал в Ростове. Схватил сумку, пошел к переходному мосту, ведущему на Западный микрорайон, в расчете встретить ночной автобус. Дорога была пуста. Сева ждал, деньги на такси тратить не хотелось – взял совсем мало. Но через двадцать минут остановил машину и сговорился с водителем за полтинник. Выходя возле общежития, усмехнулся: «Хорошенькое начало». Стал стучать в закрытую на ночь алюминиевую дверь общаги, пока не проснулась вахтерша тетя Маша. Обругала так, будто он ломится каждую ночь.
Лифт не работал. На девятый этаж Сева поднимался неторопливо. В общаге не было ни души. Прошел по кафельной галерее между пролетами, на ходу доставая большой ключ от двери, которую за минуту мог открыть отверткой. Переступил обитый порог и включил свет. Со стен в щели подались тараканы. На стенах грязной желтизной бросились в глаза зеленоватые, местами отставшие обои. Роль штор выполняли две оранжевые тряпки, не скрывавшие облупившегося окна. Бросил сумку возле внутристенного шкафа. Сел в ободранное, но прикрытое приличным покрывалом кресло, закурил. Возникло ясное чувство потерянности в коммунальной вселенной. На полу стояла большая пыльная кастрюля. Сева протянул руку, чтобы заглянуть в нее. Плесень за месяц выросла почти до половины – он забыл вылить недоеденный суп. «Завтра, все завтра», – и, скинув джинсовую куртку, лег животом вниз на нерасcтеленную кровать. Как только рассвело, Сева вышел из комнаты и автобусом поехал в центр. Там он сел на транспорт до Аксая.
Когда Сева добрался до ее девятиэтажки, было почти девять утра, уже палило августовское солнце. Он ехал на автобусе и почти не встречал людей. Показалось, что сегодня он единственный, кто вернулся в этот город. Дверь открыла ее мама. Сказала, что Марина уехала на работу. «Она работает», – это была новость. Сева подробно расспросил, где ее найти. Так, гостиница «Турист», пятый этаж.
Поехал и теперь уже оказался в суете проснувшегося города. Эта бесконечная дорога. Приехал почти к одиннадцати. Поднялся на пятый этаж, пошел по коридору, прислушиваясь к голосам. Вот полуоткрытая дверь. В проеме видна часть голубого платья. Сева заглянул. Марина сидела за столом почти спиной к нему, она держала в руке ручку, перед нею лежал блокнот. С такими же вокруг стола сидели еще несколько женщин и мужчина. Он осторожно открыл дверь, все повернулись.
– Добрый день. Марина, можно тебя на минуту? – спросил Сева совершенно ровным голосом.
Она обернулась и вспыхнула. На лицах позади нее приподнялись брови. Извинилась и выскочила.
– Привет, – прошептала она горячим шепотом. – Пойдем отсюда. Пойдем скорее – я на несколько минут.
Быстро спустились по лестнице, вышли, огляделись – некуда идти. Просто зашли за гостиницу, и там Сева остановил и прижал к себе тело, мгновенно узнанное ладонями. Он прижимал ее и чувствовал, что все тело уже разговаривает с нею – а из горла слова не идут.
– Когда ты освободишься сегодня?
– Нет, сегодня не получится.
– Я тебя встречу.
– Нет!
– А когда?
– Давай завтра утром.
– Ну конечно.
– В десять часов. На пересечении Ворошиловского и Садовой.
– Конечно, конечно…
Сева заскулил, вдохнув запах ее шеи. Она улыбнулась, прикрыв глаза и будто сваливаясь в дурман касаний. И Сева, тут же откликнувшись, взял ее лицо в руку и, большим пальцем коснувшись губ, поцеловал – надолго, запойно…
Она, наконец, отстранилась и сказала, что уже пора. Он подвел ее ко входу в гробницу гостиницы. Как только Сева отпустил ее руку, она исчезла внутри.
Постояв несколько секунд, Сева огляделся. Неподалеку, около гаражей, работали экскаваторы. Он вдруг понял, что они жутко громко гудят.
9
Марина шла независимо. В тот самый момент, когда Сева ее увидел, что-то внутри него оборвалось. Он видел ее издалека. Но шла она не к нему навстречу, а просто шла. Ее вид был невозмутим, независим. Минуту назад готовый подхватить ее на руки, теперь Сева, медленно выдохнув, будто осадил себя. Она приблизилась и улыбнулась, когда его увидела, но коротко и деловито. Внутри начало свербеть. На ней была белая, знакомая ему, полупрозрачная кофточка-паутинка, под которой никогда не могла укрыться ее острая грудь. Когда Марина одевалась так, Сева невольно старался укрыть ее от чужих взглядов – чтобы те не играли с тем, чем ему хотелось дышать. Но сегодня скрывать было нечего. Паутинка сегодня лежала, как броня, облачая ее всю, не выдавая ничем скрытой за нею плоти.
Немного оглушенный мгновенным предчувствием, на всякий случай, как недотепа-купальщик, который пытается поутру убедиться, что на реке лед, Сева сказал:
– Поехали ко мне, – и сам не поверил своему голосу.
– Нет, – голос прозвучал резко. – Давай где-нибудь сядем.
Сева мгновенно успокоился. Мысли, совпав с реальностью, перестали пугать – они и вовсе пропали, замененные происходящим.
Какое-то время они молча шли к парку. Мучительный путь. Парк Горького – самое официальное место, какое только можно придумать: карусели да кабаки – они никогда здесь не были вместе, предпочитая дикий, почти глухой парк Революции. Они сейчас как будто шли по отдельности, мешали друг другу.
Нашли место под ивами, перед пустым фонтаном. Сева успел собраться, откинуть все, с чем он шел на эту встречу. Он сосредоточился на подвижно острой тени листьев, прикрывавших выбранный уголок от яркого, но еще не знойного солнца. Повисла пауза. Сева медленно взял ее руки в свои.
– Говори, Марина, – сказал он мягко. – Что за сомнения тебя мучают?
– Сева, я подумала, что нам лучше остаться друзьями.
– Мы уже друзья.
– Я теперь работаю… и отношусь к этому очень серьезно.
– Это хорошо.
– Мне… вот те отношения, которые у нас сложились… это больше не нужно.
– Чего именно не нужно? – переспросил тихо.
– Ничего.
– Ничего не нужно, – повторил Сева механически.
«Вот ведь недоразумение: мне нужно все, а ей не нужно ничего». Он ничего не чувствовал, это был анабиоз. Но как-то отчетливо подумалось: не может же человек не понимать, что он говорит. Сейчас его Марина, с которой они полгода дышали в такт и лишь ненадолго прервались – казалось, только затем, чтобы больше не расставаться, – эта Марина сейчас сказала, что ей от него не нужно ни-че-го. Нет, это положительно нуждается в осмыслении.
Сева внимательно смотрел на нее. Сейчас, сказав эти слова, она перестала быть чужой – она сделала тяжелое для нее дело, оно ей нелегко далось. Сева вдруг улыбнулся ей, как бы стараясь поддержать. И она улыбнулась в ответ – широко, неожиданно, не без ноты вины. Оскорбительной вины. Сейчас можно было протянуть руку и погладить ее. Потому что это была его Марина. Но это была уже Марина, сказавшая ему то, что сказала. А это значит, что минутная слабость пройдет. Что выпущенные на волю слова вот-вот подскажут ей иное выражение лица. Может, она ошиблась, может, как раз эти слова – минутное? Они даже не ссорились никогда. Они не выпускали друг друга из рук. Но от одного-единственного слова появилось твердое чувство необратимости. Ничего не вернуть. Отношения, в которых не было ни трещины, можно только разбить.
– Хорошо, – ответил Сева. Он сделал паузу, еще раз рассмотрел ее лицо. И почувствовал, что сейчас станет очень больно.
– Пойдем, я провожу тебя до остановки, – мягко предложил он.
От этих слов у нее выступили слезы. Она сжала его ладони.
«Ничего не надо», – фраза уже отрезала прошлое, и за нею еще не просматривалось будущее. Он сейчас будто переживал период жизни, который состоит только из одной фразы, которую надо постичь, изучить, как неудачливый путешественник изучает необитаемый остров.
Она обняла его.
– Не плачь, девочка, – прошептал он и погладил ее по голове.
Она немного отстранилась и сказала:
– Сева, ты самый лучший, – и снова прислонилась к плечу.
Он старался не шевелиться. Почувствовал, что внутри него, где-то глубоко раздался крик, который расползается по телу, будто яд. И от любого неосторожного движения или взгляда этот крик может вырваться.
– Пойдем, – снова предложил он, чувствуя помутнение.
Она взяла Севу под руку и прижалась к нему всем телом, как в минуты самой исступленной их любви. Так они и шли. На остановке он посадил ее в автобус и, не помахав ей вслед, зашагал в пустую комнату в пустой общаге.
Занятия начинались через месяц.
10
Тут, оказывается, был дефолт.
Сева перешел с сигарет L&M на «Нашу марку», купил в магазинчике у общежития две пачки гречки по старым ценам – новые не радовали.
Это была такая опустошенность, что было невозможно найти причины встать с кровати. Никто своим присутствием не вынуждал – и Сева лежал и лежал. Пока не засыпал.
Ощущение стыда пришло первым. Поначалу оно не было достаточно сильным для того, чтобы волновать.
Это было ощущение стыда за свое одиночество. Он хотел любить так, как хотел иметь работу. Стыдно быть здоровым парнем и не иметь работы, быть ненужным. «Ты не умеешь любить» – вернулась-таки фраза. Но сейчас не было сил отказывать. Любовь была, как большая культура, в которую его, простака, не пускали. Он поиграл в душных спектаклях, подышал угаром страсти, упился нежностью пасторали – и теперь лежал на провисшей кровати, изгнанный и неизменно любящий.
Вспомнились детали. Как Марина говорила в шутку, что рассчитывала на роман, плавно переходящий в марш Мендельсона. А он, значит, был чем-то другим. Почему другим? Кто знает. Может, поехать к ней прямо сейчас, подавить объятьями? Ты же видел ее глаза – она не сможет сопротивляться.
Нет. Ни в коем случае.
Она засомневалась в нем.
Она засомневалась.
11
Главным средством познания мира для Севы оказалась женщина. Он всегда тихо сочувствовал парням, которые общаются только друг с другом. Где было настоящее чувство, какое было более настоящим, – даже неясно, знал ли он об этом сам, важно ли это. Но женщина всякий раз вытаскивала его наружу – и он оказывался новой, незнакомой для самого себя формой жизни. И это становилось уже даже смешно – в какой момент должен начаться он сам, узнаваемый для самого себя? Существует ли он сам по себе или он только тот случайный образ, который женщина ненароком вызвала из темного леса его внутреннего мира?
А теперь, если вдуматься, у него уже впечатляющий опыт – не просто шуры-муры, а разнообразный опыт любви к девятнадцати. Он не просто девочку за ручку подержал, не просто ему показали грудь – у него вообще уже все было. У него могло бы сейчас стоять три штампа в паспорте – это бы ничего не прибавило к опыту. Он уже вознагражден за свой интерес к женщине. Но он сейчас лежит на кровати и не знает, зачем ему вставать.
Он чего-то недопонял. Он такой же Данила, как тот чурбан с карманами бабла, за которым не пошла самая простая и несчастная. Чем он отличается от презираемого им мужичья? Какая разница, в конце концов, насколько ты не понимаешь женщину? Какая разница, пытаешься ты ее понять или нет, если результат один? Это либо поражение, либо ты, Сева, был слишком тороплив. И что-то упустил – что-то такое, чего упускать нельзя. Без чего любовь не сохранить.
III. Рыцарский роман
Почему с детства тянет человека даль, ширь, глубина, высота, неизвестное, опасное, то, где можно размахнуться жизнью, даже потерять ее за что-нибудь или за кого-нибудь? Разве это было бы возможно, будь нашей долей только то, что есть, «что Бог дал», – только земля, только одна эта жизнь? Бог, очевидно, дал нам гораздо больше.
И. Бунин. «Жизнь Арсеньева»1
Он был бесплотным духом, который со страшной скоростью несется по-над дорогой. Та изгибалась и корчилась под ним – то разбитая грунтовка, то скоростная магистраль – петляла, ныряла под навесы деревьев, уходила вниз, в долину, становясь уже, скрывалась внутри внезапной горы – и приходилось порой лететь в полной темноте, ловя случайный отблеск под собою, а потом вырываться на широкий простор, теряя на время ощущение скорости.
Мир впереди всегда поделен надвое бесконечной неумолимой дорогой. Справа и слева может быть что угодно – она через все пройдет, все осилит. Зеленые поля, пашни, холмы, мелькнувшие постройки, большой зеленый холм впереди, разделенный надвое, как совершенный откляченный зад. Зрительный нерв со страшной скоростью, медленно летел вниз по ложбинке на спине, чтобы в конце концов оказаться на самом верху и сорваться оттуда куда-то в самую промежность земли.
Миг тошнотворного падения – и картинка сменилась.
Вокруг совершенно плоская пустыня. Под ногами не степь, а выжженный твердый грунт, по которому гуляют вихри пыли. Он видит свои сильные руки. Перед ним прямо посреди пейзажа стоит табурет, а на нем алюминиевый таз. Он наполовину полон чистой прозрачной водой. Под табуретом стоит открытый шампунь. Это потому, что Сева собрался мыть голову. Он наклоняется над тазом, окунает свой ежик, помогает воде руками – и вдруг чувствует, что головы поднять не может: она стала тяжела. Требуется усилие, чтобы приподнять ее над тазом – вместе с нею поднимаются длинные-предлинные, черные как смоль, тяжелые мокрые волосы. Удивления нет. Он запрокидывает их назад и смотрит вперед. Будто рыцарь, облаченный в благородные волосы. Эти волосы – они словно разом выразили его, а выразив – изменили. Оттого, что больше ничего не происходит, он просыпается.
«Вот ведь – я действительно уехал», – мысль пришла одновременно с осознанием гула. Будто отряхнувшись ото сна, быстро посмотрел в окно – там серо, уже серо, то есть – часов пять утра. Сквозь крупнозернистый воздух выпирают кубы и параллелепипеды чудовищных размеров. Это – Москва. «Будет долгий день», – напомнил себе Сева, – и от самой этой мысли навалилась усталость. Потому что ему было не сюда, но просто так вырваться из Москвы, проскочить ее, не заметив, не сунувшись в ее подпол, – невозможно.
«Платить водителю или не платить?» – вот настоящая дилемма. С одной стороны, Севе так повезло с этим автобусом – больше тысячи километров за сутки: новичкам везет. И о деньгах тут не заговаривали. Но просто выйти – неудобно. Но полная стоимость – Сева даже представить себе не мог, сколько стоит билет. Поездом – тысячи полторы. А у него всего шестьсот семьдесят рублей. Может, часть? Сколько?
Собрал вещи, двинулся к водителю.
– Мы в каком районе сейчас?
– К Воробьевым горам подъезжаем.
– Можно меня где-нибудь там высадить?
– Высадим.
Автобус повернул – и показался шпиль Московского университета.
«Там сейчас учится наша умница Алла, – отметил Сева. Глянул на часы – пять пятьдесят три. – Интересно, будет ли она мне рада?»
Подумал.
«Ну куда мне сейчас деваться в самом деле».
Решил отдать семьдесят рублей. Сразу что-то защемило – многовато. Автобус затормозил.
– Спасибо вам, что подвезли – вот, возьмите – сколько могу, – протянул водителю мятые купюры. Ни тени удовлетворения не мелькнуло на обветренном лице. Опять защемило – зря отдал: профукал лишний обед – а как оно еще сложится?..
Сошел и забыл. В одну сторону – длинный фонтан в середине аллеи с бюстами, а дальше – огромный, готовый к старту космический корабль главного университета страны. В другую – дорожка к обрыву, за которым – мелкая в дымке, но бескрайняя Москва. И – запах! Сева испытывал уже это – и вновь оказался не готов. Острый запах хвойного среднерусского леса. Сева замер, чтобы прислушаться к тому, что он пробуждает. Да, он хорошо знает этот резковатый тенистый запах, он вырос в его облаке. Это запах леса, который копится под закрывающими небо кронами, запах закрытой от взоров человеческой души, которая простирается от горизонта до горизонта. В степи это много, а в лесу до горизонта можно дотянуться рукой. Вновь оглянулся – как непривычно чувствовать этот интимный дух земляничного брянского младенчества в этом большом прохожем месте.
Дорога лежала, как родная, – потрескавшийся асфальт. Но навстречу проехала поливальная машина – экое диво! – тугая струя сметала мелкий мусор на тротуар из серых, криво пригнанных плит. Зато большие ели. А на расстоянии между зданием Университета и парапетом мог бы, пожалуй, поместиться весь старый город Волгодонска. Старым там называли город, начатый в конце пятидесятых. Космический корабль МГУ, наверное, постарше, но никто не назовет его старым. В Волгодонске не было ничего старого, я вообще не видел ничего старого, – отчетливо осознал Сева.
Где же живет Алла? Ну наверное же, в космическом корабле. Она всегда хотела куда-нибудь улететь. Куда-нибудь на планету классической филологии. Повыше, но так, чтобы нас все-таки было видно. И чтобы мы ее видели. Но очень уж рано – есть время царственным взором русского путешественника взглянуть на лежащую у ног столицу. Гордо взглянуть, а не подобострастно. Знай свое место, Москва. Не сюда мы сейчас стремимся. Все твое правительство, большой бизнес, воротилы, влиятельные политики, научные школы – так, перевалочная станция. Взглянул – и мимо. Достаточно увидеть тебя один раз, Москва, чтобы понять про тебя главное. Что маленький человек тут способен потеряться даже между зданием МГУ и смотровой площадкой. А я не маленький человек, поэтому, Москва, я не дам тебе ничего. Вон ты какая огромная! Лужники, извилистая река, купола Новодевичьего монастыря, вон вдали еще космические корабли, целыми грибницами растут спальные районы. И покуда хватает глаз – Москва, лоскутная, бросающаяся в крайности, от чопорности и монументальности до вокзальной низости и кабинетной жестокости. Я сюда не хочу. Мне не нужно место за столом короля Артура. Потому что ни один сидящий за этим столом не обладает тем, что мне нужно. Я ищу другое.
А до Новодевичьего, кстати, ведь вполне и дойти можно. Может, успею? Но сначала – завтрак у белокурой принцессы…
Сева насытился видом и повернулся к университету. Совсем не у кого спросить, где именно общежитие филологов-классиков. А времени уже половина седьмого. Аллочка, пора вставать.
2
Год назад он здесь был, но города почти не видел. Хотя был удовлетворен уже тем, что мог теперь говорить: да, я бывал в Москве.
Это был какой-то пансионат в заснеженном Подмосковье с родными разлапистыми соснами. Были электричка, вокзалы, метро и Пушкинский музей. Нет, даже не это главное.
Поляки, Севу привезли в Москву ростовские поляки. В сентябре, в начале учебного года мягкий лысеющий человек с усами постучал в дверь их комнаты на девятом этаже. Взрослые сюда не доходили. Он сказал, что его зовут Роберт, что он из религиозной организации, которая пытается помочь молодым людям разобраться в Библии. «Интересует ли вас Библия?» Это был сложный вопрос. Уловив паузу, Роберт поспешил спросить, не против ли молодые люди, чтобы он иногда приходил вместе с ними читать и обсуждать наиболее интересные места. А вот это было любопытно. И он стал приходить каждый четверг в восемь вечера. Иногда их было трое, иногда человек семь – приходили вольнослушатели из других комнат. Читали только Новый Завет, подолгу обсуждали притчи. Роберт задавал вопросы и слушал, иногда его глаза начинали блестеть – как у учителя, задающего задачку, решение которой он знает.
Появились его товарищи – молодой румяный парень Гжегож, приземистая Малгожата. Эти люди сильно отличались от мира вокруг. Они всегда улыбались, были чутки к любому говорящему. Не в совершенстве владея русским, они читали в лицах больше, чем здесь это было принято делать. Они задавались серьезными вопросами, которые находили в книге, с чьим авторитетом тут никто не собирался спорить хотя бы по незнанию. Они постоянно что-то вместе делали. Они были светлы и покойны.
Вот Сева слушает, как Роберт читает слова Иисуса «будьте как дети», как спрашивает, что это, по вашему мнению, значит, – и тихо произносит: «Это значит, как вы», – все светло и легко смеются. Русские дети – от попадания в десятку, поляки – за компанию.
Все это продолжалось месяцев пять. Сева с пытливым соседом по комнате Антоном побывали у них в гостях. Там была иная культура. Они снимали квартиру в только что построенном доме, у них был компьютер, такая более совершенная печатная машинка, а в компьютере – то, о чем пока только слышали, – интернет.
В интернете стали находиться литературные произведения и картинки с голыми женщинами. Они иногда соседствовали на одной странице. При нажатии на баннер во весь экран выскакивала какая-либо задница в сопровождении детородного органа. Это был адреналин, запах греха – в квартире невинных христиан. После пары таких приключений Гжегож прочитал мораль, рассказал о том, что он много пил и распутствовал, смотрел развратные картинки, но нашел в себе силы освободиться от этого. Сева сказал, что не знает, как это получилось, хотя знал.
В квартире были яркие йогурты, фрукты, а в углу стояла великолепная новая концертная гитара с дорогими импортными струнами и узким грифом. У Севы в комнате за кроватью лежала нестроящая бобровская, с грифом, который не обхватить ладонью и который надо регулярно подтягивать, – но и она радовала, потому что была первой на новом месте. Но от этого чуда Сева не мог оторваться. Поначалу он просто проводил по струнам, зажимая знакомые аккорды. Он слушал, как на самом деле они должны звучать. Он стал пользоваться случаями, чтобы прийти. И ни разу не видел, чтобы на этой гитаре кто-либо играл.
А в январе, сразу после сессии их пригласили поехать в Москву на собрание организации. Антон не смог, он уезжал к родным в поселок. Поляков это расстроило, поскольку Антон был активнее других и своей открытостью вызывал симпатию. Сева же отмалчивался, но – предложение соседям по комнате уже сделано. «Если ты не против, мы тебе доверим гитару», – сказал Роберт, улыбаясь в усы. Конечно, Сева был не против. Трудно было бы вообразить путешествие, в которое он мог бы отказаться поехать.
Когда он увидел чехол от гитары, он подумал, что надо будет надеть свои лучшие брюки.
Конечно, он хотел увидеть Москву. Но с Павелецкого вокзала – сразу в метро, по кольцевой до Киевской, и с Киевского вокзала на электричке куда-то минут сорок. И там платформа да сосны в снегу. Сосны – вот и вся Москва.
Из Ростова ехала группа. Угреватый низенький парень-физик с напряженной улыбкой. Мясистая девушка с поучающим, укоряющим лицом. Худая армяночка с короткой стрижкой, учительскими очками и крупным ртом. Кроме нее и взглянуть было не на кого.
Программу расписали подробную – встречи, лекции, диспуты. По приезде ужин в столовой, в тот же вечер установочный сбор в зале со стационарными креслами. Было много новых людей, съезжавшихся из разных городов. Поляки многих знали и пребывали в состоянии общения. Русское слово «общаться» их смешило: по-польски «общачь» означает «справлять малую нужду».
Потом они появились на сцене, прозвучала краткая приветственная речь, появилась гитара – еще одна прекрасная гитара, – и хор запел песню о том, как Господь не оставляет в беде просящих – просящих еды, новой работы и нового автомобиля, нужно просто не стесняться просить и благодарить.
Алилуйя, а-лилу-у-у-у-йя, —запел припев хор, —
Алилуйя, а-лилу-у-у-у-йя, —Сева почувствовал, что сползает в кресле, но это и не думало прекращаться, —
Алилуйя, а-лилу-у-у-у-йя, Алилуйя, а-лилу-у-у-у-йя…Сева подавленно шел по коридору, предчувствуя неладное.
– Поехали, Катя, завтра с утра в Москву, – задумчиво сказал он армяночке.
– У них завтра в 9.30 начало.
– Я поеду в Пушкинский музей. Поедешь со мной?
– Неудобно.
– Я не смогу там сидеть. Я поеду.
– Почему не сможешь? Разве первый день их знаешь?
– Не первый. Но раньше мы просто разговаривали.
– А теперь?
– А теперь я услышал бред. Им Господь чуть ли не правильную марку порошка помогает выбрать. А что это за веселые песенки про алилуйю? Нет-нет, я не с ними. Мы молчим о гораздо более серьезных вещах.
– Более серьезных?
– Да, Катя, мы про смысл жизни молчим.
– Да?
– Да.
– Тогда я тоже поеду.
– Это хорошо. Поднимем тут бунт! – на душе у Севы стало весело.
– Мне страшно.
– Не бойся со мной ничего, крошка, – сказал он с чужой улыбкой голливудского актера, который вдруг вылез из-под высоких мыслей.
3
Общежитие отделения классической филологии Сева нашел быстро – за первой же дверью направил вахтер. Следующему назвал свое имя и честно представился одноклассником, который заехал повидаться. Тот назвал номер комнаты на пятом этаже. Как же легко найти человека тому, кто его хоть немного ищет.
Возле вполне убогой зеленоватой деревянной двери Сева помедлил, глотая улыбку. Постучал. Никто не отвечает. Снова постучал. Послышалось шевеление. Постучал и сказал:
– Аллочка, это Сева, твой любимый одноклассник.
Что-то еще пошевелилось. Вновь постучал.
– Аллочка, это не сон. Я искал тебя несколько лет и вот наконец прискакал.
Его голос раскатывался по пустым коридорам. За дверью это тоже поняли.
– Подождите одну минуту, – произнес слабый голос.
– Конечно, – великодушно согласился рыцарь и прислонил к стене оружие. «На вы назвала, бедная: ушам своим не верит», – отметил Сева. Он прошелся по коридору, выглянул в окно на ботанический сад, вернулся. За дверью была абсолютная тишина. Он тут же затарабанил.
– Алла! Как ты можешь со мной так поступать!
Она открыла мгновенно – как будто спала, стоя прямо за дверью.
– Здравствуй, – проникновенно сказал Сева.
– Даже не говори, что ты тут делаешь.
– Я писал тебе, ты не отвечала…
– Слушай, иди в жопу, Калабухов. Заходи, – и она пошла в комнату.
– Я просто подумал: если уж ты приперся в гости к прекрасной леди в шесть утра без предупреждения, надо ее хотя бы посмешить.
– Я сейчас пойду умоюсь, а потом посмеюсь, ладно?
– А я пока поставлю чайник.
– О господи, ты еще и с гитарой.
– Я все объясню.
– Маме объяснишь.
– Надеюсь, ее тут нет.
Комната – метров восемь, не больше. Одно преимущество – для одиночного проживания. Их комната в Ростове была заметно больше, но и жили в ней втроем. Правда, повезло – один из троих, Никита, жил в Азове, совсем рядом. Строго говоря, место в общежитии ему было не нужно. Но полагалось. Никита иногда здесь ночевал, но чаще уезжал после занятий домой. Вдвоем в трешке было почеловечнее.
Алла вышла и наконец улыбнулась. В окно уже пробилось солнце. Ее пышные светлые волосы заиграли, светлая футболка подчеркивала совсем уже не школьные формы. «А ведь она оставалась ребенком дольше всех нас, – подумал Сева, – но теперь все: грудь уже не позволит». Она улыбалась как опытная львица, к которой в салон пришел анфан террибль.
– Я не знаю, Калабухов, как тебя сюда занесло, но я рада тебя видеть.
– И я рад, Алла. Человеку, который приехал в Москву в шесть утра, должно быть куда пойти.
– Там было какое-то печенье. Угощайся.
– Ты мертвого уговоришь.
– Ха-ха, – Алла всегда умела охотно смеяться.
– Ты уютно устроилась. А пространство вокруг изголовья по-прежнему отражает твой внутренний мир.
Тумбочка, стена над нею, настольная лампа, книжная полка – все было заклеено разноцветными стикерами с иностранными выражениями, которые надо запомнить, и делами, о которых нельзя забыть.
– Ты носишь с собой свой маленький ад ответственного человека.
– Для некоторых любая ответственность – ад.
– Презираю таких.
– Рада видеть, что у тебя все хорошо. Замечательно, что ты путешествуешь. Куда ты направляешься на этот раз?
– Знаешь, меня ждут в Санкт-Петербурге. Я отказался лететь самолетом, чтобы иметь возможность заехать к тебе. Я бы себе не простил.
– Ты всегда был столь требователен к себе. У тебя, должно быть, закончилась сессия.
– Да, в субботу был последний экзамен. Что сказать тебе об учебе? Как обычно, она – наименьшая из проблем.
– Это потому что ты не учишь латынь, старославянский и древнегреческий.
– Это было бы странно для историка, хотя я хожу на спецкурс по латыни. Но больше, правда, люблю спецкурс по средневековой литературе – вы уже дошли до нее?
– Как раз только прошли.
– Я в этом году писал курсовую по романам Вольфрама фон Эшенбаха и Кретьена де Труа.
– Кретьен де Труа не переведен.
– Молодец, получаешь четыре. Это у вас в Москве он не переведен, а в Ростове это популярный у молодежи автор. То есть уже существует по-русски. Не весь, конечно. Это, кстати, интересный филологический сюжет, я о нем расскажу. Спецкурс ведет довольно известный медиевист Софья Степановна Завгородняя.
– Не настолько известный медиевист.
– Медиевисты вообще не очень известны непутевым студентам. Тем не менее она уже много лет занимается художественными переводами средневековой литературы. Например, она перевела «Роман о Розе», который в Москве также читать еще не могли. А из Кретьена – «Персеваля», роман, который так и не был закончен и который лежал в начале европейского цикла о поисках святого Грааля. Софья Степановна, к сожалению, презирает капиталистическую современность, она не из тех, кто обивает пороги издательств, и даже не из тех, кто вообще что-то либо просит, – поэтому работы ее издают ученики. Печатают их в неизвестных типографиях, в странном качестве. Год назад на какой-то почти альбомной бумаге был издан «Персеваль» – в момент, когда она у нас вела курс. И я имел возможность раствориться в этом сюжете.
– То есть ты взял «Персеваля» де Труа и «Парцифаля» Эшенбаха?
– Да, в то время как студенты всей страны читают только позднейшее переложение немца.
– К тому же в довольно плохом и сильно сокращенном переводе.
– Ну и я попытался написать о том, как в европейскую литературу пришел принципиально новый герой, который отодвинул на задний план все эти рыцарские истории успеха, турниры и забавы с прекрасными дамами. Этот парень добился всего за сто страниц романа – и вышел в какое-то другое измерение, в котором – я цитирую себя – подвиги совершаются уже не копьем, а – душой. И он там оказывается как малый ребенок… А у тебя о чем курсовая?
– О герундии.
Сева отхлебнул чаю.
– Зато тебя уже научили слову «жопа».
– Сева, мне в десять нужно уходить – у меня встреча. У нас осталось меньше часа.
– Я, конечно, был уверен, что ты все отменишь, как только меня увидишь. Но разве в состоянии этот ничтожный повод отменить плановый поход в бассейн?
– А то обычно мы с тобой тут же начинаем кутить.
– Сколько отсюда пешком до Новодевичьего монастыря?
– Это не так близко – думаю, минут тридцать – тридцать пять.
– Пожалуй, у меня есть это время.
– А потом сразу в Питер?
– Не сразу. Завтра утром. Сегодня я погуляю, а потом у меня встреча с другом детства.
– В каком районе?
– На проспекте Вернадского, но уже за последней станцией метро.
– Да, доезжай до Юго-Западной, а там можно сесть на троллейбус или в маршрутное такси.
– Я, Алла, к тебе вот приехал – и не потерялся.
– Москва, Сева, – это другое. Тут можно и потеряться.
– Плохо ты меня знаешь.
– Я знаю тебя как облупленного.
«Да что ты говоришь», – подумал Сева, но ничего не сказал. А он что о ней знает? Что ее мама – стоматолог? Что она больше смерти боится ящериц и змей? Что с того. Это – какая-то негласная договоренность: знать друг друга как облупленных, видеть друг в друге только то, что давно знакомо, – даже встретившись через многие годы. «Мы не виделись два года, неужели мы совсем не изменились?» – Сева всем сердцем ощущал, что это не так. В нем начинала шевелиться какая-то боль, которая и вытолкнула его из едва обжитого пространства. Это было острое чувство переносимой на ногах жестокости от людей, которые не видят или не хотят видеть изменений. Он как-то разом устал, захотелось уйти в себя. Подальше от глумящейся над ним равнодушной женщины.
Да не в тебе дело, Аллочка. Ты правда хорошо выглядишь. И я неплохо выгляжу. И люди, с которыми я живу. Но если вы все чувствуете то же, что чувствую я, – что весь внутренний мир идет, как поток, который только прокладывает себе русло, и неизвестно, где и во что он впадет, что затопит, станет ли морем, рекой, озером или болотом, что неделя для него – огромный срок, за который преодолевается огромный путь, что за месяц начинка человека обновляется несколько раз, и непонятно, где и как остановиться, задержаться, узнать о себе то, что вы так хорошо обо мне знаете, – если все чувствуют то же самое, то мы окружили себя каким-то искусственным, лживым миром, который не позволяет даже надеяться, что что-то с кем-то можно разделить.
Разве Алла заварила эту кашу? Разве не смешно было бы сейчас сказать ей что-то жестокое – раскрыть глаза на пустоту их отношений, попрекнуть отсутствием интереса к тому, что для него действительно важно, отсутствием нормального завтрака для внезапного гостя? Но неужели она слепа, неужели не может просто спросить: «Что с тобой происходит, Сева?» Почему она не спрашивает? Ей не интересно? Она слишком воспитанна, чтобы лезть в чужую жизнь? Это неприлично? Если так, то тем более неприлично отвечать на такие вопросы, – а Сева мог бы ответить только неприлично.
Нет, Сева, просто нет возврата. Твой уход – не каприз и не шалость, и вот теперь это понятно. Тошнота находит даже в самой невинной и приятной ситуации. Что могло быть лучше – романтическая встреча, красивая девушка, два года не виделись – ну на часок-то должно было тебя хватить. Вот только на часок и хватило. А теперь надо дальше в путь. Все, ты уже ушел, не надо теперь делать вид, что можешь вернуться и болтать, как ни в чем не бывало. Там, откуда ты ушел, прошли всего лишь сутки. Что могло произойти за эти сутки? Ничего – их никто не заметил. Но это сутки, в которые ты отпал. И до дороги назад еще долго.
4
Зима в Ростове полна противоречий – в начале февраля Сева своими глазами видел зеленую травку, а ко второй декаде опять замело.
Сева снял перчатки и еще раз посмотрел на адрес на листочке: да, кажется тут. Он свернул с Красноармейской во двор, которого раньше тут не замечал, прошел мимо гаражей к дальнему подъезду. Домофон. Он еще никогда не пользовался домофоном. Так, набрать номер квартиры. Набрал – тишина. Еще что-то надо нажать. Так, номер квартиры, решетка. Ждем – тишина. Так, какие еще варианты. Вот: номер квартиры, ключик. Ага, есть гудок. Затем голос:
– Всеволод, это вы?
– Да-да, я, здравствуйте.
– Заходите.
Дернул дверь – закрыто: что-то он пропустил. «Блин, колхозник, приперся в общество», – ругнулся про себя и снова: номер квартиры, ключик.
– Извините…
– Всеволод, когда раздастся гудок, открывайте дверь.
– Да-да.
«Как с тупым первокурсником», – подумал второкурсник Сева. Открыл дверь в подъезд и вошел.
– А зачем она тебя пригласила? – спросил его вчера Никита, весело глядя в упор.
– Наверное, о стихах поговорить. Я на ее экзамене в январе получил пять – и подарил ей свою книжку. Это же естественно – показывать стихи?
– Так, понято. А зачем ты подарил стихи некрасивой женщине весом более ста килограммов?
– А кому – тебе, долбоящеру, стихи показывать?
– Признавайся: ты хочешь ею обладать ради карьерного роста.
– Скажем так: мне хотелось бы, чтобы она увидела во мне серьезного человека.
– А ты – серьезный человек?
– Я даже не могу выразить словами всю степень.
– А не боишься, что она просто физически сильнее?
– Представляю себе эту схватку, эти рушащиеся книжные полки, – подал со стороны реплику Антон. Он имел привычку во время чтения в позе лотоса отбивать ритм какой-либо частью тела.
– Это, девочки, зависть, – сказал Сева. – Я иду посмотреть, каким образом в нашем дебилоидном мире умудряются существовать такие люди, как она. Люди, которые в каком-то никому не понятном деле ставят для себя какую-то фантастическую планку.
– Это правда, Софья Степановна – монстр, – не отрываясь от учебника, вставил Антон.
– То, что она монстр, это мы все знаем, – подтвердил Никита.
– Я курсовую у нее хочу писать, – неожиданно для себя сказал Сева.
Подниматься долго не пришлось – квартира оказалась на первом этаже. Софья Степановна приоткрыла дверь и держала собаку – что-то маленькое, булькающее и пахнущее собакой.
– Не бойтесь, у нее просто скверный характер.
Сева поначалу даже не понял, о чем это.
Внутри было сумрачно, там пахло пещерной сыростью, смесью книжной пыли, старой одежды, домашних животных и кухни. Общежития так не пахнут – сквозняки не дают закрепиться даже сильным запахам. А это – нора. Тут нет сквозняков.
Севе было предложено не разуваться, это было непривычно. В тесном коридоре он оставил верхнюю одежду.
– Всеволод, проходите вот сюда. Мы здесь почти не живем. Два года назад сын достроил дом в Старочеркасске, и с тех пор я за этой квартирой просто присматриваю. Иногда работаю, часть библиотеки осталась здесь. Но, как видите, в порядке это место содержать уже не получается.
Да, вокруг был бардак. Огромное количество обуви, стопки книг, листочков, россыпи письменных студенческих работ, одежда, немытая посуда, невытряхнутые пепельницы. Сева вошел в комнату, на которую ему указали. Это был оазис. Чистый, застеленный светлой скатертью круглый стол, на подставке стоит чайник, из носика которого идет пар. Фарфоровые чашки с блюдцами, бутерброды, пирожные, печенье, конфеты. На расстоянии вытянутой руки от столика сохранялся идеальный порядок. А дальше был полный хаос. Граница, за которой кончался предел обитания.
На заваленном журнальном столике лежали свежие газеты – «Известия», «Независимая», «Новая», «Литературная», тут же журналы – «Вопросы литературы», «Новый мир», «Знамя», оранжевая обложка незнакомого «Ариона». Газеты и журналы явно читаны – они примяты, ряд листов лихо загнут или даже свернут. Свежая книга – роман Улицкой – небрежно лежала вверх корешком открытой на середине. Стол производил впечатление культурной повседневной жизни. Сева впервые встречал эти издания в доме живого человека, до этого он видел в библиотеке лишь некоторые.
Софье Степановне было чуть за пятьдесят. Она носила длинные темные волосы, прореженные проседью, которую она не закрашивала. Она одевалась не по-университетски. Это были многослойные разноцветные тряпицы, кофточки, длинные расшитые юбки, платки и шали вокруг полной, тяжелой фигуры. Она была специалистом по двум непопулярным областям – древнерусской литературе и европейским Средним векам. Но она совсем не была затворницей – об этом говорили и одежда, и журнальный столик. У нее имелся муж, большой ее помощник, взрослый сын с разрастающейся семьей.
Сева огляделся, и у него возникло минутное ощущение, что его заманили в западню. Нет, это он сам по какой-то причине дал загнать себя в угол. Дал остановить себя, напоить этим трогательным чаем, дал поговорить с собой о чем-то. Эти полгода после расставания с Мариной он жил без особенных разговоров. Он стал звереныш. Он брал что и кого хотел, не извинялся, не пытался объяснить или быть понятым. Он ничего не планировал. Он весь был реакцией на то, что видят глаза, на то, что чует чуйка. Он не боялся ничьих реакций – все они были трепыханиями жертвы. Потому что он сам уж точно не жертва. Он не знал этого состояния даже в степях под Волгодонском. Это было какое-то новое, обретенное в обществе состояние. В нем было мрачно, но комфортно. Оно разрешало не делать вид. Животное обладает рядом преимуществ перед недолюдьми.
Но здесь у него не было преимуществ. Он не знал, о чем и как говорить, поэтому просто смотрел. В темном углу он заметил старую темную икону с ликом Богородицы.
– Присаживайтесь, Всеволод.
– Спасибо.
– Вы, пожалуйста, подливайте себе чай сами, будьте самостоятельны за столом.
– Хорошо, я справлюсь, – он положил себе на тарелку пару бутербродов – с сырокопченой колбасой и красной рыбой.
– Вы знаете, я была несколько удивлена вашими стихами, Всеволод. В хорошем смысле, – она сделала паузу, отхлебывая чай.
– Внимательно вас слушаю, – сказал Сева, сглотнув кусок бутерброда.
– Не могу сказать, что стиль этих стихов мне близок. Мне кажется, они часто рассыпаются от собственной избыточности. В своей метафоричности вы не знаете границ. При этом – вы пока владеете лишь метафорой, которой хватает на одну-две строки. А той метафорой, которой хватает на стихотворение целиком, – нет. В результате у вас получаются тексты, в которых все строки ведут в разные стороны…
Сева перестал жевать, пытаясь ничего не упустить.
– Я бы не говорила вам этого, если бы не видела явного таланта, характера и впечатляющей фантазии. Но если вы будете так писать, вы никогда не опубликуете ни строки. Потому что мы живем не в то время, когда читатель может за вас доделать вашу работу. Никакого читателя больше нет. За все отвечаете вы сами. Никто не будет распутывать аллюзий и ломать голову над тем, что вы хотели сказать в темных строках. Черновики, гениальные обрывки, недореализованные замыслы, модернистская заумь – все это обречено на забвение. Мы живем в мире, в котором все это существует только для случайного филолога, которому руководитель дал соответствующую тему. А вы пишете так, как будто читатель должен посвятить вам жизнь. Хотя производите впечатление весьма взрослого молодого человека.
Сева усмехнулся и отвернулся, пряча улыбку. «Расколола за две минуты! – восхищенно думал он. – Монстр, мать ее».
– Вообще-то почти все эти стихотворения – тексты для песен. Моих песен. Я не очень серьезно к ним относился, мне хотелось петь что-то свое. Обычно все, что нужно сказать песней, есть уже в мелодии и интонации. Иногда мне кажется, что текст не важен вообще.
– Но вы ведь сделали книжку – в книге текст воспринимается совершенно иначе.
– Да. Пожалуй, я легкомысленно сделал книжку. Хотел подарить девушке.
– Очень мило.
– Но когда она была готова, никакой девушки уже не было.
– Что вы читаете, Всеволод?
– Вот недавно купил второй том из собрания сочинений Бродского. Но в целом, я совсем не знаю, что читать сейчас в поэзии.
– Это нормально. Третий том будет получше. В Публичной библиотеке хорошая книжная лавка – я регулярно там встречаю современных поэтов, так что есть возможность следить.
– Как-то у меня не получается…
– Чего ж не получается-то? У вас так мало свободного времени?
От ее хватки стало не по себе.
– Я вам подскажу несколько имен и дам кое-что почитать. Вообще обратите внимание на другую традицию поэзии – не метафорическую, а метонимическую. Я помню, как когда-то прочла стихотворение Бориса Чичибабина с вот этими финальными строками: «Красные помидоры / Кушайте без меня». Что это и о чем это? На самом деле это язык психологической точности. Метафора часто бывает слепа к психологии… Ну что же ты смотришь голодными глазами?..
Она встала и вышла из комнаты. Внутри Севы что-то оборвалось. Он похолодел и одеревенел. Софья Степановна вернулась с какой-то тарелочкой.
– Извините, – Сева не узнал своего голоса, – это вы мне сказали?
– О чем?
– О голодных глазах.
– Ну что вы, Всеволод, – это я собаке – вы посмотрите, какими глазами она смотрит. Нет, я вам все-таки подолью чаю.
5
Сева стоял на одной из аллей перед входом в Новодевичий монастырь и смотрел на мощные яркие кисти рябины.
Красною кистью Рябина зажглась, Падали листья — Я родилась.Строчки из цикла о Москве, времена школьного литературного вечера. Господи, как я здесь оказался, около этой лавочки? Год назад в это время мы лежали с нею на расстеленном на полу красном ватном одеяле. Какие тугие эти ягоды цвета губ. Новодевичий монастырь основан Василием III в честь отбитого в начале XVI века у литовцев Смоленска. А еще год назад я, одетый в тряпье и старые кроссовки, тянул драгу по илистому дну Сала, утопая выше колена в вонючей жиже. Интересно, есть еще в Москве место, в котором было бы так мало людей? Я стал забывать твое лицо. Скоро от него ничего не останется, последнее, что сохранится на бледном овале, – алое пятно губ. Чуть раньше Иван III отбил у них Брянск, который за предыдущие два века был разорен татарами, а затем присоединен к Великому княжеству Литовскому. Люди ушли из культуры. Не понимаю логики времени: почему я был там, а теперь – здесь? Да, вспоминаю эту семейную легенду о том, что наш дальний предок воевал на Куликовом поле. Вот, посмотрите, никого нет, хотя ворота открыты. Они вышли из истории. Как же я тебя любил, хорошая, как же я тебя люблю. Куда ты делась? Мы смотрели друг другу в глаза и знали друг друга насквозь. Ты была моей частью, но если ты была ею, то ты и сейчас моя часть. Нынешняя Тульская область – она тогда была на границе зарождающегося Московского государства. Как там могли оказаться мои предки, если они жили в другом государстве? Здесь светит солнце, но под тенью деревьев прохладно, покойно. Там прямо за аркой могила Дениса Давыдова. Ты часть моего организма, который сейчас использует какая-то незнакомая мне взрослая злая женщина. Даже фамилию называли, такую странную – Дулёв. Денис Давыдов, оказывается, существовал. Неужели, если раскопать эту могилу, мы обнаружим в ней кости? Неужели у того Дениса Давыдова, которого я знаю, могли быть какие-либо кости? Мы были единым прозрачным лесным ручьем. Солнце проходило нас насквозь. Через нас можно было видеть мир. А еще якобы было несколько поколений лесников. Лесники – это не городские жители. Мне и поныне Хочется грызть Красной рябины Горькую кисть. Это люди, которые могут и не знать, чья нынче власть в столице. Дулёв и Калабухов – очень похоже, сразу видно – родня, не надо ничего доказывать. Из лесников они пришли на Куликово или с Куликова в лесники? Кто знает. Как решим, так и будет. Здесь только работники и прихожане работающего храма. Кому сдался этот иконостас шестнадцатого века. Хотя как-то это все неубедительно, много белых пятен. Когда нет никакой истории, приходится ее писать. Тут и дедов-то своих не знаешь. Я, наверное, даже забуду, как тебя зовут. Еще полгода назад, закрыв глаза, я мог увидеть целую кинохронику о тебе. Я мог рассматривать тебя, наблюдать, как протекают на твоем лице реакции. А теперь в памяти только несколько фотокарточек. Оживить их я уже не могу. Но выходит, что род мой помог историческому становлению Московского царства после страшных веков, когда Древняя Русь потеряла все, когда Киев сначала разоряли свои же, а потом подобрали к рукам чужие. Но от кинохроники тоже кое-что осталось. Особенно меня интересуют реакции на меня. Даже больше скажу – вне реакции на меня я тебя как-то и не знаю. Какая-то женщина – какое она ко мне имеет отношение? Но чужие не бывают чужими, когда нету своих – когда нету своих, можно трахаться с кем угодно. И только в момент, когда я начинаю в тебе отражаться, в выражении твоего лица, в сосредоточенности взгляда, что-то с тобой происходит. Ты впервые для меня появляешься. К 1380 году никаких своих на Брянщине быть не могло. Появляется существо, которого не знала и ты сама. И вот это существо я забыть не смогу. Я буду его искать. Как хочется думать, что они сидели по лесам и знали, кто они, на каком языке говорят и хотят говорить, кому и как хотят молиться, за кого сражаться. Когда я произношу «ты», я на самом деле обращаюсь к нему. Мне все равно, как ее звали. А ты принадлежишь мне. Потому что я – часть твоей природы. Как хочется верить, что кто-то из них действительно был на том поле. Как сладко ощущать себя частью чьей-то природы. Хочется ощутить в себе его кровь. Но у природы вокруг от тебя только грозди рябины.
6
– …Меня лет в четырнадцать девственности лишала девочка Лида. Накануне, перед тем как я ее трахнул, она давала моему приятелю, ты его не знаешь. Я об этом знал, и она знала, что я знал. Ну так вот, она поскакала на мне немножко в парке, я быстро кончил, и она деликатно сказала, что ей было хорошо – кино, мать ее! А потом объясняет мне про моего приятеля такую тонкую вещь. Она, видимо, хотела как-то мне сделать приятное – и говорит: а дружок-то твой занимался со мной любовью не по-настоящему – мол, не то, что мы с тобой. Я спрашиваю: в смысле? Она рассказывает, что мой кореш типа свой хер ей вроде как не до конца вставлял. Она даже так выразилась, я запомнил на всю жизнь: «он занимался со мной любовью вполпалки». «Вполпалки», ты понял? Мне так смешно стало, что я даже забыл про это ее «заниматься любовью» – какая вообще-то там, нахер, любовь! Но тут же еще круче. Она мне как бы втирает, что вполпалки – это не то; это, если по большому счету, считай что и не трахался совсем. То есть мой товарищ инструмент в нее засовывал, а она философствует – и выходит так, что вроде это и не считается. Вот палка – да, это тема, а полпалки – это, мол, что, и обсуждать нечего. Я не знаю, может, это чисто женское, но я эту Лидочку всю жизнь вспоминаю с ее полпалками. Вот где великая сила самообмана! Ты трешься в гаражах, офисах, магазинах, на каких-то фуршетах, акциях и понимаешь, в каком дерьме засел. Потому что всем друг на друга насрать в общем и в частности. В зависимости от обстоятельств любой любого может поиметь. Все настолько профессиональны, что даже друг на друга не обижаются. Но ты, однако, осознаешь всю степень низости. Ты осторожно, сука, хочешь другого. Ты ждешь человеческих отношений. Типа с тобой могут быть только настоящие отношения. И вот они случаются. Ты однажды говоришь с незнакомой женщиной – и понимаешь, что аж растерян, потрясен. И тут же вылезает вот этот червь сомнения. Ты думаешь: вот она отходит от тебя к следующему гостю этого вечера – и возможно, сейчас говорит ему, что у нее с тобой только что было вполпалки, то есть – можно не считать. Как это на самом деле легко – так сказать! Жизнь на любом ее этапе можно запросто отбросить. Да, я трахнул ее пятьсот раз, она испытала восемьсот оргазмов, проскочила пара детей, но ты знаешь, я всегда хотел большего. Я настоящей палки хотел, а не вот эти полпалки. И такому человеку – и себе тоже – можно сказать только одно: как ты не поймешь, что тебя уже трахнули! Какие полпалки? Живи свою жизнь – или не живи, но не надо делать вид, что ее не было! Что вокруг одни мудаки, которые засовывают в тебя по полчлена! Хера ты ко мне вообще пришла, если вчера с моим товарищем трахалась?! И ты понимаешь, что регулярно оказываешься в его шкуре, и дело не в том, что он там что-то сделал не так, я уверен. Я все делаю, как могу, изо всех сил – и все равно чувствую себя в его шкуре. Почему?.. Я так думаю, потому, что они разучились отдаваться. Не, потрахаться – это без проблем. Но как оскорбительно они трахаются! Как они грубы и бесчувственны! Даже у самой нежной чуть большего не выпросишь. У меня одна, помню, на второй месяц говорит: «Я отдала тебе все!» Я на нее смотрю и тихо шалею, думаю: подруга, да мы только начали, весь хардкор впереди. А она: «Я отдала тебе все!» – и так ей фраза нравится. А я и смекаю, что отдала, видимо, все, что могла, все, что может себе позволить отдать другому человеку, – а это, братик, довольно немного. Это, как говаривала моя прошмандовка Лида, полпалочки и есть. В разговорах, в отношениях, в сексе – везде это неполное проникновение. И ты уже сомневаешься, а можно ли по-другому. И потом сдохнуть готов, готов быть, как пес, – злобным, матюгаться, но только чтобы по-другому. Это про меня история, дружище. Я обожаю свою Надю, она меня вот только и спасла от этого непрекращающегося унижения. Я весь мир угондошу за нее, и она за меня… А чего ты молчишь и молчишь, ничего о себе не рассказываешь? Приехал – и сидишь, как чужой.
– Ты охренел, Саша. Куда тут слово вставить?
Сева очень редко заставал Сашу в таком состоянии, когда вся его подавляющая жизненная энергия устремлялась не по морде, а в суждения о человеке. Было даже непонятно, откуда в этом неинтеллигентном человеке такие тонкие и точные представления о подлинности. Где учат такому материалу? Саше, чей папа был капитаном рыболовецкого судна в Волгодонском порту, – было дано.
Они выпили.
– Рад я тебя видеть, братик. Охренительно, что ты приехал.
– И я тебя очень рад… да…
– Что там за люди вокруг?
– Меня сначала подселили к аспиранту, причем уже работающему где-то. Сам парень такой солидный, с портфелем, комната у него – как квартира: все чисто, коврик на полу, занавесочки. Я – знакомиться, а он уже на такой стадии, когда познакомиться – это запросто, а говорить ему с тобой не о чем. Я через некоторое время понимаю, что даже соседи по секции не знают, как его зовут, – а он там живет пять лет. И он знать никого не хочет и меня знать, в общем, тоже не хочет. Не, не грубит, все очень вежливо, но чувствуешь, что там не то что интереса нет к тому, что ты за человек, о чем, скажем, задумался осенним вечером, а ты вообще для него не существуешь. Мы с ним только иногда хозяйственные вопросы обсуждали. Например, когда мы с тобой же тогда пьяные съели его кабачки. А еще он постоянно что-то писал. У него в такой твердой папочке с зажимом сверху были заложены белые листы, и он туда писал остро отточенным карандашом. Чего писал, спрашивать бесполезно. Однажды он ушел, оставил эту папку открытой на столе. Я подошел и прочитал абзац. Там, Саша, была – как это? – авторская классификация «сучек», баб то есть. Одни, мол, мокрощелые сучки, которые хотят унижений – и мужчина обязан им это дать, другие что-то там… И вот такого деловитого говна – без числа. И я понял, какой ад у него в башке. И учился он, видимо, затем, чтобы этот ад пестовать, классифицировать, украшать и прорабатывать. Умный человек, он ежедневно занимается выращиванием своей злобы, сидит и подбирает слова ненависти – и ко мне в том числе, и к любому. Я его после не беспокоил совсем. Но меня перевели на самый верхний этаж, куда обычно селили новичков и людей запущенных. Меня подселили к новичкам. Они уже что-то обо мне слыхали и были как-то насторожены. Один мне так и говорил, когда я появился на пороге: «А-а, я хочу нормально жить! Нормально учиться!» Ну, думаю, хорошее начало… Выпьем.
Выпили, стукнувшись без тоста. Сева погрузился на минуту в рисовую кашу.
– На самом деле, конечно, много лиц было за эти два года. Первый год прошел в эйфории. Я дорвался – появился свой угол, девиц вокруг – каких угодно, хватило бы здоровья. Компания такая интересная в общаге сложилась. Все друг другу нравятся, всем нравится иметь новых друзей. Праздники – вместе, разговоры, танцы в темноте, интрижки, страсти… Накрыла меня на этой волне любовная история – чуть не женился. Ей-богу, если бы она захотела, я бы уже на второй курс женатым человеком пришел. Но она оказалась благоразумна – и как только в наших объятиях выдалась пауза, она, видимо, оценила меня трезво, с калькулятором и семейным советом, и сказала, что наша встреча была ошибкой. Ты знаешь, я не убивался, но я был, мать твою и мою, глубоко ранен – как в книжках. Мне стало казаться, что я вообще чего-то в отношениях не понимаю. Не в том смысле, что встречаются глупые женщины. Просто это расставание – оно как бы вообще не вытекало из наших отношений. Это была какая-то глупая договоренность двух на самом деле любящих людей. Мне так казалось…
– Выпьем, друг. Некоторые нежные люди, скажу я тебе, накладывают в штаны, когда встречают таких, как мы, – живых и некультурных. Потому что живой человек ни любить, ни убить не боится – и они это жопой чувствуют и боятся прическу испортить.
– У меня с ней была настоящая любовь, Саша. И у нее со мной. А через пять месяцев она уже не хотела от меня ничего.
– Ты брось это.
– И при этом я даже не спросил ее ни о чем. Что случилось? Что с ней произошло?
– Очень ты доверчивый, Сева, если думаешь, что мог узнать от нее, что случилось на самом деле.
– Но я действительно не знаю, что случилось. Может быть, она бы сразу сказала. Может, она поговорить вообще хотела, но не знала, как начать. Может, она только вопроса и ждала. А я ни о чем не спросил. Мне как бы не интересно, что с тобой. Ты посмела на миг усомниться во мне – и мне этого достаточно. Я посчитал достойным сразу же принять ситуацию. У меня в этих самых руках была женщина, единственная на свете, единственная в моей убогой жизни, которую я называл моей любовью, которая казалась неотделимей от меня, чем мои собственные органы. И я не задал вопроса о том, по какой такой причине эта любовь должна оборваться? Может, и не должна? Может, она обрывается, когда ты не задаешь вопроса?
– Как ты так постоянно выворачиваешь, что сам остаешься виноватым?
– Мне не важно, кто виноват, – важно понять, что произошло.
– Произошло следующее. У твоей девочки было любовное приключение, от которого у нее закружилась голова. Но взрослая девочка взяла себя в руки и одумалась, потому что, если уж выходить замуж, то не за оборванца с первого курса.
– Вряд ли я уже узнаю, как это было на самом деле. Но – надо извлекать опыт. Ты помнишь моего отца?
– Да, конечно, – прекрасный мужик дядя Миша. Помню, как мы на рыбалку вместе ходили.
– А я еще помню, как он из семьи уходил, когда мне было двенадцать. Ты знаешь, я его видел примерно два года назад, сразу после того, как сдал вступительные, в августе. Выяснилось, что он пропал потому, что его часть отправили служить в Абхазию, они там вывозили семьи русских военных. По идее, это было тогда, когда основные события там закончились, но его в какой-то момент осколком зацепило, он в госпитале лежал. Я об этом рассказываю потому, что между делом он мне сказал: «Сева, ты знаешь, я не помню, почему мы с твоей матерью разошлись. Не помню, почему я ушел». Ничего, говорит, не помню…
Сева ненадолго замолчал.
– Нет, ты врубаешься, что происходит?… Да его уход был главным событием в его гребаной жизни! Его жизнь разделилась на до и после – но он не помнит причины.
– Ты тут при чем?
– Я так не хочу. Я хочу понимать, что происходит, я хочу, чтобы что-нибудь от меня зависело. Я хочу, чтобы я не был способен забыть самое главное в моей жизни… Давай за родителей… А еще – мы с тобой такие, сука, дикие и страстные, такие естественные и сильные, а те, другие – такие бледные и неуверенные, такие культурные и воспитанные. Это все как-то неправильно – как будто нам достались какие-то роли. А нету на самом деле никаких ролей.
– А как же иначе, братик. Родился бы в другом районе – жизнь бы по-другому сложилась.
– Это все слишком просто. А на самом деле ни хрена не понятно. Вот я о чем. Мы несчастливы, и они несчастливы, вот я о чем.
– Да иди ты! Я счастлив.
– Да, прости – за твою семью, дорогой.
– Знаешь, как я их люблю! Жаль, обезьянка моя малая спит, завтра утром увидишь.
– Я уйду часов в восемь.
– Мы в семь встаем.
– Тогда увижу.
– Как ты дальше?
– Поеду от Ленинградского вокзала до Бологого. А потом выйду на трассу, она в этом месте вплотную к городу – а дальше, как сложится.
– Скажешь, почему в Питер?
– Это не очень важно, Саша. На достижения культуры хочу посмотреть – и сравнить со своими возможностями.
– Ты в бега подался?
– У меня был трудный год. Мне кажется, я за этот год сам с собой и не встречался почти. А хочешь дернуться – и чувствуешь, что ты каким-то непонятным образом несвободен. Всех ты такой уже устраиваешь, всем удобно. Заговоришь случайно не о том – и сразу: а чтой-то мы такой херней себе голову забиваем? У нас, наверное, новый прожект? Вот так – очень быстро на тебя права предъявляют, причем даже невинные люди. И ты вроде как обязан быть таким, каким тебя знают. А что они о тебе знают? Что они обо мне могут знать, если я сам о себе мало что понимаю? Видишь, какими благородными болезнями я оброс, – вот что значит высшее образование. Конечно, я уехал от всего этого, но я вернусь. Только немножко другим.
7
Какой здоровенный был этот Давид. Зачем Микеланджело было ваять такого гиганта? В том же зале стояли другие статуи этого героя – на них был неоформившийся ребенок. А этот очень даже оформившийся. Пастушок, блин. Вон у Донателло стоит бронзовый игривый амурчик, напяливший шляпу, схвативший меч не по размеру и гордо выставивший свой писюнчик. Это не человек – это божок из античного пантеона. Что перед ним земное, пусть даже целый Голиаф? А у Микеланджело, пожалуй, человек. Но надо же было как-то передать его боговдохновенность – вот скульптор и дал ему ничем не заслуженное идеальное тело. Смотрим мы на это тело и понимаем, что этот человек рожден для подвига. Что есть люди, которым дается безо всякой причины. Тело ли, сердце ли, голос ли. Только потому он и гол – потому что скульптор объясняется на языке его тела. Он нам его упорно навязывает – тут не пропустишь.
– Катя, посмотри на его запястья. Что ты видишь?
– Большие.
– Не просто большие, а непропорционально большие. Они показывают, что этот пятиметровый дурень на самом деле довольно маленький – он просто показан крупным планом. Он хорошо сложен, но в нем килограмм сорок пять, не больше. Это такой маленький мужчинка, мелкий, застывший в комплекции подростка. Но на лицо посмотри – этому ребенку предстоит недетский бой.
Они хорошо провели день. Сначала было солнечное, морозное утро. Они позавтракали раньше всех и отправились на электричку. Вышли на «Охотном ряду», забежали на Красную площадь, купили билеты в Кремль, попетляли, выскочили на Гоголевский бульвар, вышли к Храму Христа Спасителя, прошли мимо, нашли Пушкинский музей, три часа в нем плутали, что-то ели – и смеялись, совершенно забыв о протестантах. И только когда стемнело, Катя забеспокоилась.
– Так, завтра я буду примерной девочкой, буду петь «аллилуйя».
– Завтра еще не скоро. Погреши еще немножко.
– В тебе ничего святого. Куда они смотрели.
– Они не могли предвидеть нашей встречи. Твоя красота оказалась сильнее. Я увидел тебя и понял, что в монахи мне рановато. Я еще слишком голоден.
– Даже звучит неприлично.
После приезда весь вечер они жадно целовались в каком-то темном углу. Она оглядывалась на каждый шорох. После очередного вдруг сорвалась и убежала, нервно попрощавшись. Сева отсиделся в темноте и явился в свет. Навстречу ему вышла Малгожата. Он никогда ее не видел такой раздраженной.
– Ты неприлично себя ведешь.
Сева усмехнулся и промолчал.
– Тебе лучше уехать.
– Когда?
– Твой поезд через три с половиной часа.
Она действительно достала билет. Сева взял его и прочел свое имя. Быстро ребята разобрались. Группа уезжала только через три дня.
Сева медленно пошел к себе в номер. На соседней кровати – номер был на двоих – лежал парень-физик. Он ничего не делал, но когда зашел Сева, у того появилось занятие – следить за Севой глазами. Собираться было недолго. Сева открыл небольшую сумку, бросил в нее вынутое накануне – запасную футболку, носки, книжку Льва Гумилева, зубную щетку и пасту.
– Ты уезжаешь? – робко спросил физик.
– Да. Меня попросили уехать.
– Когда?
– Сейчас.
– Жаль.
Взгляд Севы упал на гитару. Он взял ее, как будто в первый и последний раз, осмотрел, будто пытаясь запомнить этот гриф, эти струны, – и присел на край своей кровати. Он знал, что он хочет спеть. Песню, которую он пел только раза три в своей жизни, потому что чаще не надо.
Вдоль обрыва – по-над пропастьЮ — по сАмому – по краю…Голос медленно, волнообразно и тяжело въезжал в песню, в ее пока только предвкушаемую драму. И голоса-то особенного не нужно, чтобы такое пропеть. Сева пел это губами, челюстями, как будто строка была куском мяса, который надо разжевать.
Я конЕй сво-их на-гАй-коЮ — сте-гА-ю – погонЯ-а-ю, Что-то вОз-ду-хУ-у – мне-мА-а-ло — вЕ-тер-пьЮ-тумАн-гло-тАю…Подражания Высоцкому всегда жалки – слишком много усилий на то, чтобы петь не то что похоже, а хотя бы близко – поющему некогда думать о песне. Сева и сам хорошо помнил первую встречу с этим голосом, с этой неимоверно концентрированной формой жизни, дающейся напряжением, берущейся силой. Но чуть позднее Сева узнал, что его собственный голос выдерживает любое напряжение. Ему не надо было подражать – он сразу мог больше. Он различал десятки степеней балансирования между чистым пением и надрывом, он научился чувствовать, насколько разным может быть напряжение голоса – и как оно оттеняется его гибкостью. Наконец, у него был шире диапазон. Ниже оригинала он забраться не мог, а выше – парил как птица.
ЧУю с гИ-бе-ле-нным ва-стОр-гом — пра-па-дАю, пра-па-даЮ-у…Физик смотрел на него во все глаза, боясь шелохнуться.
ЧУ-уть по-мЕЕ-дле-нне-е-кО-ни,
чУ-уть-по-мЕ-дле-нне-Е…
Ударный звук был вырван из глотки с мясом – так, чтобы было слышно, как рвется плоть. С ударным звуком покачнулась комната, отворилась форточка, накренилась репродукция на стене, вогнулась дверца холодильника, приоткрылась входная дверь. Звук вырвался и помчался крушить затихший пансионат.
Но-что-то-кО-о-ни – мне-попА-А-лись — при-ве-рЕд-ливыЕ-е…Он сейчас не понимал, про что песня и какие еще кони. Он сам был этой песней, ход которой управлял им, как судьба. И ему было даже страшно представить, что она с ним может сделать, насколько яростно она будет пытаться порвать то, что порвать нельзя, как она будет швырять его из огня да в полымя, чтобы человек, которого не разорвало, который не зашелся надсадным кашлем, стал в итоге широк и глубок, претерпев звериное, смертное.
Я-А – ко-ней-на-по-Ю-у! Я-А – ку-плет-до-по-Ю-у!В открытую дверь заглянуло несколько голов. Сева их не видел. Впереди была долгая дорога песни.
Да-что ж-там-ААн-гелы – поЮт — такими-злЫ-ми – голосА-ми?..Он не давал голосу сорваться в сипение, в корябанье когтями по сухому дну – нет, это было пенье, близко к пределу, на самом краю, за которым бездна отвратительной жизни. Он заглядывал в нее, потому что в этом-то и смысл, главное – уцелеть, допеть.
Я-А – ку-плет-до-по-Ю-у!Когда он закончил, в комнате было человек восемь. Они стояли как статуи. Некоторых он не знал. Сева встал с кровати, вновь внимательно посмотрел на гитару. Наконец прислонил оскверненный инструмент к стене. Подхватил сумку и куртку, выпрямился, посмотрел на людей.
– Ну, братья и сестры, я пойду, – сказал он.
Они расступились, и он ушел.
8
– Ты застал момент, когда я стал на гитаре учиться?
– Сейчас вспоминаю, что ты говорил, но как-то я серьезно не относился. И что – нормально бацаешь?
– Все, что я умею, я умею довольно плохо. Но при этом так, как я, не сделает никто.
– Чего не сделает?
– Песню.
– Ты песни делаешь?
– Да.
– Постой, Сева, постой. Я сейчас налью, мы выпьем… Ну, блин, ты даешь. Знаешь, Сева, глядя на твою рожу, не заподозришь. Ты – земной, трезвый, здоровый парень. Я думал, что у тебя такой, деловой уклон. Ты дельно разговариваешь, быстро сечешь. Вот это тема! Вот тут подняться можно.
– А ты поднялся?
– У меня другое. Я бы поднялся, если бы у меня иногда планка не падала. Я ж за малым не сел пару лет назад. Мы с дружками в Обнинске на пустыре одного бедолагу обчистили. Потом у меня даже пекаль был. Сидел в пивняке однажды, стал один товарищ залупаться – так я не знаю, как я его не убил, в последний момент что-то остановило. Честно говоря, сам испугался, когда протрезвел. Устроился на работу, оптовая база, работаю четвертый день, отмечаем чей-то день рождения. Мой руководитель, молодой парниша, быстро перебрал, начал фамильярно разговаривать. Послал меня за сигаретами. Я стерпел, не в падлу, выскочил. Вернулся, стою на пороге в говнодавах, на улице каша – и что-то он мне сказал, я даже не помню что, но я с ноги ему прямым в солнечное сплетение ка-а-ак зарядил. Своим грязным, нахер, сапогом в его беленькую рубашечку. Ну и карьера у меня в этой компании не задалась. А сейчас вот в отделе пылесосов, рот не закрывается – так боюсь захерачить кого-нибудь из любимых покупателей.
Сева от смеха закрыл лицо руками.
– Если бы я Наденьку, свою девочку, не встретил, я бы до сих пор щемил кого-нибудь. Но это я – ты же не такой апездол, у тебя голова на месте, ты – понимающий. Можно дела делать.
– Ты мне в бандиты пойти предлагаешь?
– Зачем сразу в бандиты? В больших городах уже немножко по-другому. Можно устраиваться в крупные компании, которые работают по всей стране, там все на высшем уровне, вопросы безопасности вообще не стоят – спокойно двигаешься по карьерной лестнице.
– Саша, я второй курс закончил, еще три года впереди. Если я сейчас встану на этот эскалатор, я в эту точку уже никогда не вернусь. А мне именно здесь надо задержаться, потому что я тут не могу разобраться.
– Ты потратишь бесценные годы на песенки. Ты видишь, где мы живем? Однокомнатная квартира на восемнадцатом этаже двестиэтажного дома. Отдаем за нее зарплату жены, на мою живем и растим дочь. И я кроме денег и баб ни о чем думать не могу. Сейчас женился, теперь о деньгах думаю больше, чем о бабах. И когда ты мне говоришь, что решил сочинять песни, мне становится жалко и тебя, и себя, и твою маму, и твою будущую семью.
– Дело тут не в песенках.
– Давай выпьем.
– Давай по последней, а потом чайку – а то завтра вставать рано.
– Поставлю чайник.
– Просто это, как настоящая любовь, – если ты это почувствовал, ты не то что выбросить это из головы – ни на минуту забыть не можешь. Если я не буду этого делать, я просто рехнусь. Потому что ты вдыхаешь этот мир, ту красоту, которую ты в состоянии различить, все свои эмоции и переживания – а выдохнуть не можешь. А через некоторое время – уже и вдыхать больше не можешь. И жизнь начинает лететь, не задевая тебя вообще. Пока долги не вернешь – за все то, что взял… Я не знаю, как так получилось. Мы с тобой выросли в одном дворе, и я пока не могу понять, как я на это подсел. Но на текущий момент я могу сказать следующее: во мне запущен не до конца понятный мне механизм, связывающий ощущение полноценной жизни с… творчеством, мать его, – Севе было неудобно даже произносить это слово. – Я не собираюсь жаловаться: мол, неужели мне, гению, надо всю жизнь кровли крыть или кирпич класть. Я не собираюсь никуда сбегать. Искусство вообще не для того, чтобы сбежать. А для того, чтобы ты имел возможность жить весь, а не только большим пальцем, которым ты марки на почте приклеиваешь. Мне все равно, что я буду делать, – что-то в любом случае буду. Вопрос в том, чтобы человеком жить, а не большим пальцем. Я весь хочу жить… Но как это делать? Я знаю только, что человеком себя чувствовал в те минуты, когда свою милую обнимал и когда песня хорошо выходила. В остальное время моя жизнь у меня вызывает чувство недоумения и досады. Хотя жаловаться мне не на что. Мне как бы не себя жалко – мне жизнь жалко. Это ж вообще, если вдуматься, отличная идея – жизнь!
– Жалко, старик, у пчелки в попке… Просто терпишь и работаешь – и в награду получаешь полчаса или час счастья перед сном, когда твои уже заснули. Они, любимые, спят, видят сны, а ты открыл бутылочку пива или заварил чай, как ты любишь, и просто посидел, посмотрел телевизор без звука. Ты уже все отдал за день – но что-то, какая-то самая незначительная малость у тебя осталась для себя. Кружка с чайком да полчаса времени. И тебе – более чем достаточно. Лишь бы твои близкие сейчас сладко спали.
9
– Я прочел ваш перевод «Персеваля». Меня как-то тронул этот роман. Даже странно думать, что это двенадцатый век.
Сева прервался. Но Софья Степановна не подхватывала и вообще не отвечала сразу. Перед каждым своим ответом она сначала произносила паузу. Пауза удостоверяла то, что собеседник мысль свою доформулировал и что она будет отвечать обстоятельно, со всей ответственностью, обдумав ответ.
– Да, – произнесла она очень неторопливо, – литературные формы меняются, но человек, кажется, изменился очень незначительно.
– Как вы осваивали французский язык того времени?
– Тексты XV века я читаю нормально. А вот XII век – очень сложно. У меня есть словарь Шишмарёва, еще тех времен – новых изданий нет. Так что это был очень медленный процесс, нужно было многое расшифровывать. Но в изданиях «Плеяды» – вроде наших «Литпамятников» – в которых я читала романы Кретьена де Труа, дан подстрочник на современном французском языке. Он меня очень выручил. Это вообще очень правильно. Старофранцузский – мертвый язык, на котором давно уже не то что никто не пишет и не говорит, на нем давно никто не читает, кроме узкого круга филологов.
– Как так получилось, что у этого героя нет имени до тех пор, пока он не покидает дом? А главное, в романе сказано, что женщина, которая впервые называет героя Парцифалем, это имя угадывает. Что значит «угадывает»? Значит ли, что само имя содержит в себе указание на то, кем является герой?
Она сидела прямо, положив одну ладонь в другую. Она очень спокойно смотрела прямо в лицо Севе и говорила со всей обстоятельностью, как доктор наук. Она не пыталась вести себя, как простая смертная. И с ним, мальчишкой, говорила с такой серьезностью, от которой у Севы все холодело, как при встрече с реальностью.
– Точных ответов тут и быть не может – вы понимаете. Роман был новаторским и при этом не был закончен. Не понятно, должен ли он был содержать ответы или он и был задуман таинственным – но таковым он в историю литературы и вошел. Герой сталкивается с миссией, о которой он ничего не знает. Кодекс, к совершенному владению которым стремились все предшественники, все рыцарское окружение Персеваля, не может помочь ничем. Да, есть версия, что имя – это мистическое прозрение, которое позже посещает и самого Персеваля. Когда он впервые представляется, он как будто впервые понимает, что да, он – Персеваль и никто более. И за этим именем особенная судьба. Но попыток объяснить это имя мы не встречаем. Оно – символ, а символ может быть любым, он не обязательно должен быть похож на то, к чему отсылает.
– Чем он заслужил право найти замок, который не показывался на глаза больше никому в этом романе?
– Благородное неведение Персеваля концептуально. Он – большое дитя, которое гораздо ближе ко Христу, чем кто бы то ни было.
– Но все-таки он не задает вопроса, который исцелил бы больного Короля-Рыболова. Получается, рыцарский кодекс только испортил его?
– Там не только рыцарский кодекс. Он уже был грешен. Он бросил мать – и она умерла. И он знал об этом. Не мог человек, который остался холоден к страданию своей матери, обладать достаточной чуткостью для того, чтобы задать вопрос страдающему незнакомому мужчине. Ситуация в замке лишь вскрыла его греховность.
– Значит ли это, что Грааль и не мог быть найден? И что роман на самом деле закончен?
– Мы знаем, что рукопись обрывается, что большая часть второй половины текста посвящена рыцарю Гавэйну, а к Персевалю автор возвращается лишь на несколько страниц, чтобы рассказать о встрече с монахом-отшельником, который в итоге отпускает ему грехи. Да, сюжетная линия выглядит вполне законченной. Но не для человека тех времен.
– Как так получилось, что он стал искать Грааль и совсем забыл о любви?
– Это хороший вопрос. А кто вам сказал, что он ищет Грааль? Да, действительно, последующая литературная традиция, а потом и массовая культура превратила поиск Святого Грааля в приключенческий сюжет. Но Персеваль на деле ищет не замок и не Грааль – он хочет понять, что с ним произошло и как такое могло с ним произойти. И он не знает, как искать ответы на эти вопросы, – он умеет только воевать. И потому он пропадает из виду на пять лет.
– И все-таки, куда делась любовь?
– В рыцарском романе любовь к даме – причина и цель подвигов. За каждым побежденным врагом стоит спасенная леди, которой рыцарь спешит присягнуть. Посмотрите, сколько женщин у Гавэйна. На его фоне Персеваль – герой, который разрывает рыцарский мир изнутри. За несколько дней подвигов у него появляется как минимум три возлюбленных. О которой из них он думает, когда впадает в оцепенение, созерцая три капли крови на снегу? Строго говоря, это неважно. Даже когда дамы сердца нет, рыцарь пребывает в постоянном состоянии любовного томления. Такова логика того мира, который Персеваль покинул. А вот о том мире, в который он вступил, мы знаем очень мало. Он – одна большая тайна, которую разгадывала последующая европейская культура. Это теперь мы знаем, что это христианский мир. Теперь этот мир обжит, он даже уже наскучил культуре. Любовь к женщине в нем не является предметом особенного культа. Когда Христос заменяет десять заповедей Моисея одной своей заповедью – возлюбите ближнего как самого себя, – он, конечно, говорит не о женщине.
– Я хотел бы попробовать написать у вас курсовую.
Софья Степановна приняла как должное. Привычная пауза перед ответом оказалась чуть больше.
– Попробуйте. Только, я думаю, вы понимаете, что я за вас вашей работы не сделаю.
IV. Хозяин побережья
И нагота воплотилась.
В. С. Маканин. «Ракурс»1
Ловить раков Сева ездил на троллейбусе. Нужно было выйти всего лишь через пять остановок на улице Строителей, откуда было метров триста до берега залива. Сюда за раками не ходил практически никто. Разве что встретится на необустроенном побережье залетный любитель поплавать с маской: поныряет, намутит воду и уйдет. Севу такие раздражали как обыватели, для которых наловить тут раков – все равно что натягать сазанов из фонтана. Но он бывал тут через день и точно знал, что раки здесь есть.
День задался сухой и жаркий. Сева не стал дожидаться полудня, когда вода уже достаточно прогревается, а вышел из дома около десяти часов. Шел налегке: в широких рыжих брюках, подпоясанных плетеным дерматиновым ремешком, в свободной красной футболке, потускневшей на солнце, в стоптанных, но еще не позорных кроссовках, с легкой черной синтетической сумкой на молнии, в которой лежала водолазная маска, кулек с двумя кусками хлеба, переложенными соленым салом, и большой пустой пакет для улова.
Это был второй сезон активной ловли. Поначалу у него бывали напарники. Несколько раз они ходили нырять то с Костиком с тренировки, то с Шуриком из третьего подъезда. Но в прошлом сезоне было слишком много неудач. Ловить пытались везде. Обошли оросительный канал, ездили на Дон, ныряли с дамбы в водохранилище, шарили около лесобазы, стоящей на той стороне залива, потом обходили все побережье, пугая рыбаков. Любопытство соратников быстро иссякло. А Сева поиски продолжал, поскольку им двигало не любопытство.
В августе прошлого года Сева – уже в одиночку – нащупал места, куда можно было бы приходить регулярно. Восточное побережье залива, на котором строился и постепенно разрастался Новый город, считалось непригодным для прогулок, купания и рыболовства. Повсюду здесь виднелись следы строительных работ, мимо проходила объездная бетонная дорога, по которой организованно шли грязные самосвалы, КамАЗы со стройматериалами и иногда гусеничные тракторы. Между дорогой и водой не было ни деревьев, ни кустов, из лежалого суглинка редко торчали лишь самые стойкие сорняки.
Троллейбус качнулся, делая поворот на мост, соединяющий Старый и Новый города – вместе они составляют Волгодонск, молодой город в степи на берегу моря. Старый город был тих и зелен. Низкие малоэтажные дома, плодоносный частный сектор. Но уже на стыке с Новым городом стояла вереница двенадцатиэтажек, как бы указывая на будущее местной архитектуры. Новый город строился на фоне слабых, вымирающих саженцев. Сева проезжал мимо засаженного бульвара: принявшиеся и окрепшие деревца чередовались с высохшими метелками, надломленными человеческим безумием стволами. Это время переживал приблизительно один из трех. Среди людей была примерно та же статистика.
Троллейбус качнулся, и рука, лежащая на поручне, напряглась, удерживая тело от падения. Сева как бы невзначай с удовлетворением отметил крепкий бугор бицепса, который стал еще рельефнее благодаря острому углу зрения. Он подумал, что два года назад, пожалуй, не было вообще никакого бицепса. В нем не было силы, как не нужна она зрителю в театре и беззаботному мальчику в семье, которого волнуют не причины, а следствия.
Превращаться в охотника Всеволод начал после того, как ушел отец. Это произошло всего два года назад. Два года – это не много, если только речь не идет о выживании. Ушел отец, и Сева понял, что не успел его разглядеть. Отец никогда на него не давил, не проверял дневник, не расспрашивал, с кем сын дружит. За это Сева был благодарен. Но и научить его отец ничему не смог, кроме искусной лепки из пластилина, время которой для Севы уже прошло.
Когда отец ушел, мир вдруг стал предельно трезв. Совсем молодая – едва тридцать лет – мама Татьяна Геннадиевна навеки осталась в жэке, куда несколько лет назад, будучи человеком приезжим, устраивалась временно. На тот момент мама училась на третьем курсе политехнического института, который ей не суждено окончить. У нее на руках остались двое детей – мальчику двенадцать, девочке девять. И пожилая шотландская овчарка.
Отец ушел в сентябре, когда холодный ветер уже вытеснил воспоминание о лете и пугал мрачным будущим. В октябре Татьяна Геннадиевна решила увеличить свою нагрузку на работе, взяв дополнительно два двора и еще один девятиэтажный дом с вечно забитыми мусоропроводами. Сева и раньше, когда работу нужно было сделать быстро, ходил помогать маме. Теперь он бывал у нее регулярно, подметая пустые подъезды, собирая листву и кучи мусора в мешки.
Однажды, когда сестренка Настя в школе порвала колготки, у мамы был приступ отчаяния. Было ясно, что прокормиться семья еще как-то сможет, но о регулярных обновках придется забыть. Придется смириться и с мыслью о том, что из гостинки выбраться не удастся. Квартиру давал маме жэк как временное пристанище, однако в очередь на настоящую она не встала, поскольку оказалась бы где-то во второй сотне. А вот отец в своей атоммашевской очереди полтора года был тринадцатым. Все надежды возлагались на него.
Лето 1992 года было самым светлым и благополучным в семье Калабуховых. Им казалось, что они встают на ноги. Предыдущие десять лет переездов по скромным съемным квартирам и флигелям семью закалили. Но со временем ситуация стала стабильнее – отец устроился в транспортное подразделение «Атоммаша», имел доступ к дефицитным товарам. Однажды он принес с работы хороший сливной бачок. На предприятии осуществлялись программы по повышению квалификации кадров, и отцу предложили закончить специализированный техникум в Смоленске. Он ездил туда два раза в год на сессии. Примерно после второго его приезда мама пыталась выцарапать мужу глаза. Вырвался, ушел и напился. Поздно вечером постучал в дверь, вошел и немедля сполз по стене. Он спал мертвецким сном. Мама захихикала, раздела мычащего прямо на полу и перетянула на кровать.
Отец запомнился Севе добрым, громко хохочущим. Он мог рассердиться только за пролитый на его колени горячий чай, а больше ни за что и, кажется, ни на кого. В сущности, тишайший человек. У мамы темперамент был жестче. Она неконтролируемо взрывалась и становилась все более нетерпимой к тому, что ей казалось ложью, равнодушием и безволием. Обиду она быстро забывала – но только до следующей обиды.
Весной девяносто второго отец сошелся с соседями с пятого этажа. Наталья и Константин. Она – властная полная еврейка лет сорока со страстным лицом и белыми крашеными волосами, стриженными по-мальчишески. Он – сухой коротконогий музыкант со скрипучим голосом и почти черными с заметной проседью волосами до плеч. Она часто гадала людям за деньги, он был известен в одних кругах как бард, в других – как лабух. Тем летом эти неведомо как сошедшиеся люди делали бизнес на торговле цветной импортной пряжей. Наталья была мозгом предприятия – она отдавала распоряжения и считала деньги. Отец Михаил Васильевич попал в исполнители.
Торговали на центральной аллее города, которая в те годы превратилась в зону свободной торговли. Утром раскладывали на клеенки большие яркие уложенные восьмерками мотки ниток. Сева часто там бывал, иногда стоял. Иногда и мама подключалась к торговому процессу, но с Натальей они явно не сошлись. Татьяна Геннадиевна не терпела авторитарности. Наталья, впрочем, увидела это сразу и не позволяла себе вольностей в общении с нею. Татьяне Геннадиевне этого было мало, поскольку она видела, что ее муж находится под влиянием сомнительной особы. Прожив вместе двенадцать лет и нажив двоих детей, супруги разошлись, когда Татьяна Геннадиевна узнала, что Михаил Васильевич по распоряжению своей начальницы сходил для нее в аптеку за прокладками. А между делом выяснилось, что у него появилась женщина.
Татьяна Геннадиевна не ожидала, что муж уйдет. Но это был особый год для Михаила Васильевича – он, как никогда до сих пор, ощущал себя кормильцем и – более того – человеком самодостаточным и перспективным. Он был на пике своего развития, ему должно было казаться, что дальше жизнь будет совсем другой. Во многом так и оказалось.
Летом отец постоянно пропадал на одной из баз отдыха, чередой стоящих на берегу Дона. Это были ведомственные базы, на одной из которых он, будучи рыбаком, близко сошелся со стариком-смотрителем. Вход для Михаила Васильевича на базу «Зеленая волна» был открыт всегда. Сева тоже бывал тут регулярно – вместе на лодке они выезжали ловить на кольцо. На эту базу отец и уехал после ссоры. Когда он пришел за вещами, напуганная Татьяна Геннадиевна пыталась с ним поговорить уже иначе, но супруг был как в ослеплении и не слушал ничего. Даже Сева, когда они вдвоем шли по улице, пытался выполнить свой долг – он попросил отца не уходить. Отец ответил, что не может со своей супругой ни жить, ни спать. Двенадцатилетний Сева резко повзрослел, захотелось сказать: «Ну и вали отсюда!», – в этот момент отец неотвратимо отделился, мгновенно перестал ассоциироваться с семьей.
Тема алиментов была самой обсуждаемой в следующий голодный год. Мама была напугана и озлоблена свалившейся нищетой и хотела, чтобы ее бывший муж платил регулярно. Сева запомнил момент, когда мама ходила сдавать в пункт приема стеклотары одну бутылку из-под молока, чтобы купить хлеба. А с отцом в это время происходили странные вещи. Он быстро оказался отцом другого семейства, в котором задолго до его появления появились трое детей. Он по неясным причинам – возможно, в пылу надежд на вольное предпринимательство – уволился с «Атоммаша». Он взял фамилию новой супруги. Он разошелся с Натальей и Константином, поскольку те разошлись между собой. Пару месяцев Михаил Васильевич просто просидел в новом доме без дела, после чего его супруга, добрая и практичная Лариса Ивановна, с которой Сева познакомился позже, решила помочь в поисках работы. Несколько вариантов были отвергнуты, но остается только гадать, почему не был отвергнут вариант пойти служить на флот контрактником.
Весной девяносто третьего он уехал в Новороссийск и на некоторое время был потерян. Его искали, супруга делала запросы. Через восемь месяцев он объявился на три дня в городе. Он успел за это время многим и многое пообещать, но себе он уже не принадлежал. Люди, знавшие его по первому браку, говорили, что он обезумел. Сева тоже так думал.
Семейная драма выживания мимо Севы пройти не могла. Он стал просто помогать матери. Учиться так, чтобы мама не заглядывала в дневник, ходить к ней на работу. А летом он вышел с маской на берег залива, потому что раков можно было продавать.
Продавать ходил на небольшой рынок на «тридцатнике» – улице 30 лет Победы. Зона небольшого рынка была огорожена, но бульвар перед ним был тоже торговым. Павел ставил свою сумку рядом с бордюром и раскрывал ее. Членистоногие начинали прилюдно копошиться. Слушая этот мокрое потрескивание, Сева недоумевал, как эти твари могут вызывать аппетит.
Поначалу не везло – то раков забрали менты, несколько раз они передохли на солнце, то удавалось продать два десятка крупных, а три десятка мелочи хоть выбрасывай – никто даже не смотрит. То станешь не туда, и какие-то бабки начинают теснить. То проторгуешься, попав на покупателя, который приходит на рынок в поисках простоватых торгашей – дачников и колхозников.
Колхозниками называли тех, кто ездил наниматься в колхозы на уборку урожаев, а затем приходил на рынок торговать заработанным натурпродуктом. Продать его нужно было как можно быстрее – чтобы не испортился товарный вид неизбежно подмятых в битком набитом автобусе яблок, полежавшей на солнце вишни. Колхозники подтягивались на рынок часам к пяти-шести и брали его в оцепление, становясь где-то по окраинам – с территории самого рынка их гнали как нахлебников, которые не платят за место и сбивают всем цену.
Сева и сам стал профессиональным колхозником. Он вез домой лук, капусту, вишню, сливу, виноград, кукурузу, огурцы, морковку, кабачки, патиссоны, абрикосы. Он насмотрелся на приказчиков, часто женщин, которые устанавливали нереальные трудовые нормы, на бригадиров, у которых вообще никто не работал – люди сразу начинали набивать свои сумки. А прошлым летом Сева оказался в тайном сообществе людей, которые ездили собирать смородину на заброшенные поля. В первый раз его отвела туда маленькая пугливая бабушка Груня, которая жила с Калабуховыми на одном этаже. Нужно было поехать в Лагутники первым автобусом, пройти через всю деревню, зайти за заброшенную ферму, откуда по тропинке выйти на дорогу, идущую через дубовый лес. По ней три километра хода до разросшихся садов смородины, из которой получается замечательное варенье и которой всегда не так-то много на базаре. Рабочий день с семи утра до четырех вечера – за это время Сева собирал пятилитровое ведро. Работать нужно было тихо. Иногда здесь проезжал на лошади лесник. Этот человек как бы охранял плоды, которые некому собирать. Встреча обходилась в баночку-семисотку – собрать ее равносильно тому, чтобы собрать большое ведро вишни, поэтому от лесника бегали. Зайдя в кусты, Сева чаще всего уже больше не встречал людей. Монотонные движения накладывались друг на друга. Разреженное время, которое каждый миг тянется долго и однообразно, спрессовывалось так, что по прошествии дня от него не оставалось воспоминаний, кроме стоящих перед глазами черных ягод, преследующих своими прелестями весь остаток суток. Засыпая вечерами, Сева подолгу разглядывал кусты смородины, которые росли в его сознании уже сами по себе.
Когда удалось наладить промысел раков, Сева стал ездить в колхозы реже – в основном тогда, когда мама просила огурцов на засолку или абрикосов на варенье. А в общем у него было теперь свое, более выгодное дело, которое к тому же не каждому дается.
2
Начало одиннадцатого, солнце еще не успело раскалить землю, а земля – воздух. Скидывая футболку, Сева поежился, предвкушая воду. Вынув из сумки маску, двинулся к воде, узнавая побережье босыми ступнями. С моста, по которому он только что проехал, можно было разглядеть рисунок на его просторных семейных трусах – немаловажном атрибуте раколова.
Сева вошел в мутную воду. Она была недружелюбной. Она была для существ с холодной кровью. Он станет таким существом, но потом, ближе к обеду, когда вода будет казаться теплой. Проходя эту процедуру ежедневно, Сева уже не терял времени на церемонию входа. Он заходил тем же шагом, каким шел по земле, не вздрогнул, когда холод коснулся мошонки, и остановился лишь для того, чтобы набрать в маску воды. Чтобы стекло не запотевало, его нужно смочить изнутри, затем плюнуть на мокрую поверхность и растереть. Он натянул зеленую резину на сухие волосы и разучился дышать носом. Легко и много вдохнув, нырнул в темный мир залива.
Через несколько секунд глаза привыкли к отсутствию солнца. Светлый мир стал лишь колеблющимся отблеском, идущим откуда-то со спины, с поверхности. Вода сегодня позволяла видеть на несколько метров вперед. Дно, растения, редкие в этой глинистой местности камни были покрыты готовым взвиться от легкой волны мхом болотного цвета. Простой купальщик за несколько минут мог сделать это место непригодным для ловли на несколько часов.
Под водой Сева осторожно оттолкнулся от дна, чтобы придать себе ускорение. Плылось легко, свежий организм, казалось, может вовсе обходиться без воздуха.
За развесистым кустом мордой к Севе сидел рак. Человек возник перед ним внезапно, и тот аж подпрыгнул, встречая угрозу вскинутыми клещами, раза в полтора увеличенными толщей воды и стеклом маски. Сева, не притормаживая, схватил его за панцирь, крюком, незаметным для членистоногого, выбросив правую руку. Вокруг больше никого, можно всплывать.
На поверхности Сева вдохнул. Кончиками больших пальцев он доставал дно. Он замер на носочках, будто балерина, стараясь не мутить воды лишними движениями, поднял из воды первую жертву, которая на солнечном свете заметно потеряла в масштабе, оценил ее как середнячка и спрятал под воду. В обычное время, когда вокруг много глаз, Сева не показывал улова, чтобы не привлекать лишнего внимания у любителей поохотиться. Не вынимая рук из воды, он упаковывал раков в трусы.
В свободные семейные трусы могло помещаться до двенадцати раков среднего размера. Членистоногий кладется с внешней стороны под резинку, затем резинка перекидывается через него, и рак оказывается в коконе, из которого почти не выбраться и в котором нет пространства для того, чтобы поорудовать клешнями. Большие просторные трусы – это гораздо удобнее, чем целлофановый пакет в руке или какая-либо сумка на поясе.
Сева плыл, стараясь ничего не касаться. Все здесь висело в пространстве, в вакууме подводного космоса цвели желеобразные растения, на подводной плакучей иве шапкой снега лежала какая-то блевотина. Этот мир был плавен и гибок, скорость разрушала его очертания. Вдруг Сева увидел узкий коридор поднятой со дна пыли. Это значит, он был замечен издалека. Погоня оказалась короткой. Пыльная трасса заканчивалась облаком, в которое Сева быстро сунул руку – и в ней колко забились хитиновые члены.
Краем глаза Сева задел раскидистый куст. Жертву выдало выглядывающее из-под вьюнка сочленение маленькой лапки, несколько отличающееся цветом от самого куста. Уже не глядя в куст, Сева сунул туда свободную руку и удовлетворенно всплыл.
Еще прошлым летом он мог нырнуть здесь пятнадцать раз подряд и не увидеть ни одного рака. Сегодня он не мог себе подобного представить. Глаз долго привыкал, отказываясь видеть в подводных сумерках что-либо живое. Но раки и их следы постепенно стали проявляться. Их становилось все больше.
После всплытия, пока работали руки, тело не шевелилось, стараясь не намутить. За аккуратность он был вознагражден. Погрузившись снова, Сева оказался в окружении сразу четырех особей. Трое сидели полукругом мордами к Севе, один – чуть в отдалении. Никого не упустить в этой ситуации было трудно, поэтому Сева наметил двух самых крупных. Он протянул руки так, чтобы взять их со спины: так они не видят атаки и не могут пустить в ход клешни. Панцири легли в ладони. Третий из полукруга метнулся хвостом вперед, оставляя по-над дном легкую завесу, но четвертый продолжал сидеть. Наплыв на него, Сева прихватил рака двумя пальцами руки, в которой один уже был зажат. Пора наверх разгружаться.
Крупные раки сделали трусы ощутимо тяжелее. Если ловить таких, то в хранилище не влезет и десятка.
Сева попробовал отправиться в погоню, стараясь найти следы беглеца. Но место сражения заволокло расползающимся дымом, и пришлось плыть наугад.
Вот покрышка от грузовика. Сева знал, что она лежит где-то в этом месте, но всякий раз заросшая мхом шина оказывалась частью какого-то иного ландшафта. Он узнавал покрышку, но не узнавал окрестностей.
Туда нужно обязательно сунуть руку – раков привлекают черные дыры. Совать голую руку в черноту, в которой даже теоретически возможны только существа чужих видов, – это всегда было нелегко, но Сева никогда не колебался. Да, вот он. Угол атаки самый неудобный – в лоб, пространства для маневра нет. Противник вонзился в пальцы обеими клешнями, Сева придавил сами клешни, решив за них и вытянуть рака. За одну клешню почти невозможно – отрывается, и рак уходит, а за две – пожалуйста.
Всеволод вынырнул и встал на колесо – нужно было повозиться, чтобы отцепить от пальцев врага. Рачьи клешни заканчиваются шипами, которые выполняют роль крюков. Если рвануть, можно если не порвать, то хорошо процарапать кожу. Клешни лучше силой разжать. Сева уже привык к тому, что царапины и микропорезы не сходят с его ладоней, наслаиваясь друг на друга. Впрочем, в последнее время их стало меньше – Сева стал ловить аккуратнее.
Он оттолкнулся от колеса. Плыл, плыл, но вокруг не было никого. Ему казалось, что он движется по пустому брошенному городу, видит песочницы, в которых должны играть дети, столы, где мужики должны резаться в домино, лавочки – отдельно для старух и молодух. Он плыл и плыл, но везде было пусто. Здесь все в последнее время живут в страхе. Сюда повадилось плавать чудовище, похищающее лучших, сильнейших, не брезгающее детьми. Это чудовище вечно голодно, ему всегда мало. Остался лежать разоренный мир без героев, в котором увядают подводные плакучие ивы и быстро начинает цвести вода.
Сева всплыл лишь на долю секунды – хватануть воздуха – и вновь ушел в глубину.
Он остался в этом мире один, чувствуя, как под давлением тяжелой пустоты пульсирует кровь. Казалось, он уже привык не дышать, казалось, он уже согласен так жить. Он всматривался в мутную перспективу, и пульсирующее воображение рисовало в ней то образ разложившегося человеческого трупа, то образ гигантского рака – царя раков, – способного перекусить его в районе поясницы, наказав человека за зло, причиненное этому миру.
Пульсация стала сильнее, к ней добавился звон, и Сева понял, что заплыл слишком глубоко. Здесь уже раков не бывает, их зона – десятиметровая полоса, начинающаяся при глубине по грудь. Не всплывая, Сева развернулся чуть под углом, чтобы не возвращаться по своим следам, и поплыл к берегу. Донный ландшафт поднимается плавным холмом. На этом холме хвостами к Севе сидели двое. Как только он их увидел, те взмахнули хвостами и торпедами пронеслись под его животом. Сева рванулся за ними, сделав под водой сальто, и увидел, что траектории рачьего бегства уходят в муть – они не остановились, раз взмахнув хвостами. Сева широко загреб руками, набирая скорость, и почувствовал, что воздуха мало. Но он знал, что двигается под водой быстрее противников, взмахнул руками еще раз – и догнал одного, решившего, что он ушел уже достаточно далеко. След второго уходил в глубину. Торопясь, Сева схватил рака неаккуратно, дав ему вгрызться в свою плоть. И теперь он всплывал, всплывал особенно долго.
На такой глубине можно было болтать ногами, не опасаясь взбаламутить воду. Сева отдышался и проплыл ближе к берегу по поверхности, чтобы уйти с глубины.
Нырнул вновь. В голове шумело. Незадействованное сознание освободило подкорку, впитывающую шумы. В голове всплывали какие-то случайные фразы, произносящиеся разными голосами, возникали и тут же привязывались мотивчики услышанных по дороге песен. «Я буду плакать и смеяться, когда усядусь в “Мерседес”» – это неслось из окна соседнего дома, когда Сева шел на остановку. «Плакать и смеяться, плакать и смеяться, лаять и кусаться, кушать и сосаться, лыкать и выяться…» – бессмысленно повторял и коверкал случайные слова чей-то чужой голос.
Поймав еще четырех за три нырка, Сева решил пойти выгрузиться. Иногда, когда он выходил, казалось, что на его поясе пробитый спасательный круг, заполненный щебнем. Он осторожно вынул добычу и сложил ее в сумку. Взглянул на лежащие в кроссовке часы: он плавал почти сорок минут. Надо поторопиться. Он взял вещи, перенес их на пятнадцать метров в сторону и быстро пошел к воде.
Минут двадцать ему казалось, что он просто собирает свою добычу – неторопливо, как обирают сливу, наклонив к себе тяжелую ветку. Прочесывая берег, Сева постоянно сдвигался вправо, узнавая крупные детали ландшафта: два больших камня, стоящих спина к спине, необитаемая яма, пятачок гладкой скользкой глины, на которой плохо держался налет мути. В этой глине было несколько дыр, крайне удобных для донного поселения. Заглядывать в норы бесполезно – тварь может сидеть в метре от поверхности земли.
Сева сунул руку в одну – пусто. Переплыл к следующей – снова пусто. Нужно было подняться и взять воздуха. Но совсем рядом зияла третья нора. Чтобы уже не возвращаться, Сева сунулся и туда. В пальцы вонзились крепкие шипы. Понял, что воткнулся пальцами прямо в рачью морду, где между глаз и под ними, как пики, выступал вперед острейший хитин. Большим и согнутым указательным пальцем Сева попытался схватить тварь прямо за пучок шипов и усов, но противник дернулся и ушел вглубь. Севе нужно было срочно дышать, но он только сунул руку дальше – до самого плеча – и снова достал его, грамотно забившегося в самый угол. Пещера шла под поверхностью дна на глубине полуметра. У Севы потемнело в глазах, легкие стали неконтролируемо сокращаться, пытаясь вдохнуть, но вся его жизнь сейчас ушла в ноющие кончики пальцев, пытающиеся ухватить колючую морду. Вот, ухватил, потянул, нет, понял, что не сможет волочь добычу через весь подземный коридор. Сознание впало в панику от нехватки кислорода, движения стали судорожными, предсмертными, разрушительными. Он мог погибнуть прямо здесь, в единоборстве с одним-единственным раком. И это был его выбор. Не выпуская колючую морду, Сева плечом, как рычагом, проломил глинистую поверхность пещеры, сокращая путь добычи к поверхности земли. Показалось, что голову сейчас разорвет. Вот разлом дошел до предплечья – и он вытянул рака, мгновенно оттолкнулся от дна обеими ногами и вылетел на поверхность с шумом, почти по пояс, будто подтопленный на время буй.
Рак был мелким, и Сева с досадой его выбросил.
Остановившись отдышаться, он почувствовал, что раздражен. С одной стороны, тем, что ему сопротивлялись, с другой – тем, что на пустом месте повел себя, как упрямый баран. «Это меня когда-нибудь убьет», – подумалось отчетливо.
Резко выдохнув, набрал полную грудь и снова нырнул. Взял двоих, один из них – мягкий. К концу июня рачьи панцири обычно уже затвердевают, а этот, видимо, как-то припоздал линять. Его хитиновый покров был чистого голубоватого оттенка, но на ощупь броня была, как целлофан, – если держать его в руках, становится страшно за содержимое. Сева выбросил рака – он не дотянет даже до рынка, сородичи задавят в сумке.
Минуты полторы Сева просто плыл под водой. Вокруг было красиво и страшно. Он никогда не видел особенной красоты в гниющей падали. Но этот мир был чужим, непригодным для его жизни, и потому то, что показалось бы отвратительным на суше, здесь было на месте, элементом иного мироздания, в которое ему – Севе – удалось проникнуть. Мироздание всегда прекрасно, если наблюдать его со стороны.
Уже готовясь к завершению полета, Сева сунул руку в куст, мимо которого он уже проплыл. В ладонь лег крупный булыжник панциря. Сева с удивлением почувствовал необычную для рака тяжесть. Рука дернулась, когда тот ударил мощным хвостом. «Ого! Царь раков», – мелькнуло в голове. Сева всплыл и достал добычу из воды. А затем поднял на лоб маску, чтобы разглядеть поближе.
Таких больших раков Сева не только никогда не ловил, но и не видел. Он был черен, хотя нигде вокруг не было черного дна. Наверное, приполз с моря. Это был самец с огромными – величиной с Севину ладонь – клешнями и сужающимся задом. Сева разглядывал и не мог оторваться от этого красавца, подаренного зачем-то морем.
Сева нырнул вновь и маской чуть не ударился в рачью морду – тот аж подлетел на месте от внезапности атаки и был схвачен в прыжке. Вылетев из облака пыли, Сева оказался в компании еще двух крупных особей и схватил их одновременно. Он поднял голову, увидев идущий поперек его пути след. Справа, обтекаемые плывущими по инерции клубами пыли, виднелись болотного цвета сочленения. Сева ухватил очередного большим пальцем и мизинцем. Уже подобрав ноги для всплытия, он налетел на пятого, стоящего в бойцовской позе прямо перед ним, но свободных пальцев уже не было. Тогда Сева распорядился руками, как культями, зажав противника с двух сторон. Он всплыл с кишащим клубком в руках и сразу двинулся к берегу – завернуть все это в трусы было невозможно. Увидел, что на него смотрят несколько рыбаков, а парочка, пришедшая на побережье позагорать, изумленно поднялась на локтях.
Возвратившись после третьего заплыва, пересчитал раков – пятьдесят два. Решил, что достаточно. Достал из кроссовка часы – первая серьезная вещь, купленная Севой за свои деньги. Полвторого. Хорошо – рано управился, еще бы продать быстро.
Он сел на куст травы, чтобы пообедать и обсохнуть. Резким движением смахнул крупные капли с гусиной кожи плеч и вынул из нагревшейся сумки целлофановый пакет. Переложенное хлебом сало растопилось, стало прозрачным и особенно смачным. Вдохнув запах простой человеческой пищи, впился в горбушку влажным от мгновенной слюны ртом и раскусил полный соленого тепла зубец домашнего сала.
Он ел, и ему казалось, что с каждым глотательным движением возвращается его человеческий облик, о котором Сева на несколько часов забыл. Он ел то, что должны есть люди. Он ел так, будто долгое время был лишен тепла и уюта, будто по дну реки, когда он на две минуты задерживал дыхание, он на деле проплывал через неизмеримо большую толщу времени, в холоде и одиночестве.
Сева надел брюки поверх сыроватых трусов и пошел к остановке. В троллейбусе он уселся к окну и привалился к стеклу.
Герою нечего сказать. Ему хватает мало знать. Герой копает огород. Он слеп, как крот. Он штыковой лопаты раб. Он ее не выбирал. Он, не умея быть другим, неумолим.3
Вскоре после исчезновения отца появился отчим. Это был светловолосый детина с большим сломанным в молодости носом, двумя золотыми зубами и казацкими грубоватыми манерами. Ему было тридцать с небольшим, но он выглядел на сорок, был разведен, где-то у него росла дочь, которую никто никогда не видел. Мать Сергея Анатольевича тетя Зоя была знакомой Татьяны Геннадиевны по жэку, работала на соседних дворах. Познакомились они той самой зимой, когда семья осталась без отца. Сергей приходил помочь своей матери убрать снег, однажды помог и Татьяне Геннадиевне. Потом пришел еще. Скоро он появился и у них в доме. Сева держался с «дядей Сережей» настороженно, хотя и видел, что мама как-то вдруг превратилась в хохотушку. Сестра Настя приняла дядю Сережу как нового хозяина и с таким удовольствием лезла к нему на колени, что Татьяне Геннадиевне приходилось ее одергивать.
Сева сразу понял, чем маме Сергей понравился. Он был бесстрашен, силен и горяч – отцу Татьяна Геннадиевна отказывала в этих качествах. Мама признавалась детям, что никогда не чувствовала себя такой защищенной.
Весной она сообщила детям, что в их семье ожидается пополнение. Сергей устроился водителем грузовика, хотя один глаз у него не видел – в молодости он разбился на мотоцикле. Проработал он месяца два и уволился. На конец сентября была запланирована свадьба. В ноябре маме рожать. Однажды вечером в сентябре дядя Сергей накричал на Татьяну Геннадиевну: она попрекнула его тем, что он понапрасну ругается на свою мать. Кричал он невиданно, выяснилось, что он здесь всех кормит, что Сева, здоровый бугай, сидит у матери на шее. На следующий день сцена повторилась, но в каком-то кошмарном перевертыше: дядя Сережа кричал на мать, чтобы она не смела рта разевать на тетю Зою, которую он сам вчера обкладывал. Татьяна Геннадиевна рассвирепела. Сева сидел в спальне, пока не услышал, что дядя Сережа бросился на мать с кулаками. Он выскочил и, не глядя, влепил ему кулаком в зубы. Брызнула кровь. Получив в ответ, Сева упал. Мать с плачем бросилась разнимать – и все утихли. У Севы была большая ссадина на переносице и лбу. У Сергея Анатольевича были выбиты два передних зуба и порвана верхняя губа. Его рубашка была залита кровью. Мама не знала, что делать. Губу нужно было зашивать. Дядя Сережа, прежде чем ехать в травмпункт, попросил водки. Появилась водка. Он махом выпил граненый стакан. Губу зашили. А дядя Сережа запил, чего не делал, как говорили, несколько лет. Татьяна Геннадиевна пьющими считала тех, кто регулярно пьет. Дядя Сережа пил нерегулярно. Он пил один раз в два-три месяца. Продолжалось это полторы-две недели. Весь этот срок дядя Сергей ползал по полу, блевал, ходил под себя. Ему чудилось то, чего не было, он мог тысячу раз повторить «дай на бутылку», он требовал поговорить, просыпался и тут же требовал отчета в отношении к нему, между делом называл детей выблядками, уходил куда-то, а потом бился в трещащую дверь, не различая дня и ночи. Только после нескольких лет мама научилась выгонять мужа жить на время запоя к его матери. Но первые разы она прошла от звонка до звонка в надежде, что нового мужа, с которым они все-таки расписались в сентябре, можно убедить или вылечить. Запой кончался в наркологическом диспансере: Сергей уже не мог донести рюмку – так сильно тряслись руки, а когда доносил – тут же ее сблевывал.
У семьи началась новая жизнь. Здесь больше никто не смеялся. На свадебной фотографии муж получился с распухшей губой и пьяными глазами, а мама – с заплаканным лицом, на котором читалось отчаянье. В ноябре Татьяна Геннадиевна родила девочку, которую назвали Светланой. Любая работа, на которую устраивался дядя Сережа, заканчивалась вместе с запоем. Сева дрался с ним еще трижды. Отчим грозился его убить. Несколько раз Сева с Татьяной Геннадиевной разрабатывали планы по выпроваживанию супруга. «Мама, нужно решить один раз, только реши», – говорил Сева. Она выгоняла дядю Сергея, но он всегда возвращался, приезжал к ней на работу или каждый день ходил к дочке. Они всегда мирились. Мирились месяца на полтора, потом начинались ссоры, за ними следовал запой. Татьяна Геннадиевна, конечно, ничего подобного до сих пор не видала. Временами казалось, что из ее мужа начинает течь яд, – и этот процесс не мог остановить никто. Мама нападок на детей не прощала и выгоняла нового мужа снова. Они оба нападали. Своими спорами дядя Сережа, как паук, оплел жену, незаметно затащив ее в дыру своего гнилого сознания, в котором каждое слово должно было ранить, где твое доверие не просто могло быть, но обязательно будет использовано против тебя, – сознания, которое не умеет уважать, которое не принадлежит само себе и пожирает только близких, потому что остальные не подпускают его на пушечный выстрел. Он был паразитом, чье существование жалко до тех пор, пока он не вцепится в жертву. Татьяна Геннадиевна чувствовала его злобу, и отбивалась, и нападала сама, но это и был его способ существования, который она поневоле разделила.
Года через полтора после ухода в этот дом заглянул отец. Он не узнал матери, а она смотрела на него, как на персонажа из детской сказки, которому непонятно что понадобилось в реальном мире. Изменения были уже необратимы. Маленькая Света лежала в колыбели.
А весной тетя Зоя купила сыну мотоцикл «Иж» с коляской, и тот начал регулярно выезжать на рыбалку и за раками. Несколько раз они ездили вместе с Севой. Выезжали обычно пораньше по юго-восточной дороге из Волгодонска. Эта дорога от остальных отличалась тем, что почти сразу за городом становилась грунтовой. Там начинались хутора, прилепленные, как экземы, к низким пыльным холмам, – Серебряковка, Петухи, Семенкин, Верхоломов… Сева сидел на заднем сиденье, в мотоциклетной коляске лежала драга, тормозок, пустые ведра и мешок, одежда и обувь, в которых через полтора часа они полезут в вонючую жижу, выделяющую пузырьки сероводорода, если в нее наступить. После нескольких поездок сюда по телу пошла сыпь, а простой порез на голени загноился и не заживал около месяца. Дорогу Сева любил больше всего. Ветер дико шумел в ушах, позволяя вслух петь песни без опасения быть услышанным.
Сева не разговаривал с отчимом месяцами. Даже на пустынном берегу, сидя в высокой траве над пакетом с харчами, они почти не говорили. Иногда случались мужские деловые разговоры о деле – о том, куда лучше поехать, чем ловить, где зайти, но после возвращения домой отчим говорил матери про Севу гадости. Двуличная натура – в лицо сказать не может. И уже летом Сева стал ходить за раками один – туда, где только он мог их поймать.
4
Базара Сева не любил. Он чувствовал усилие, к которому его принуждает это пространство. Базар требовал участия, требовал вспомнить свой словарь, повторить ключевые фразы. И по мере того, как тело шло от автобусной остановки по асфальтовой дорожке и приближалось к забору, с которого начинался рынок и на котором торгаши развешивали пестрые ковры, Сева будто возвращал контроль над ним. Рынок делал из него пружину, готовую реагировать на каждое движение, готовую разжаться в любой момент с заданной силой.
Это был небольшой огороженный рынок, привлекающий в основном жителей ближайших микрорайонов. За ограду Сева не пошел: его место с краю – там, куда выплескиваются не вместившиеся или просто случайные торговцы. Лучшие места – на тротуаре перед рынком. Сюда шли все колхозники, дачники и вольные торгаши, нашедшие что продать. Кто-то подгонял сюда задом машины, которые едва протискивались мимо обтесанных бамперами кленов. Багажник открывался, и миру являлась та или иная рассыпуха.
Прямо перед рынком места Севе не хватило. Он прошел чуть дальше. Тротуар пересекала дорога, по которой машины въезжали на прибазарную стоянку. Торговый ряд продолжался и на той стороне дороги. Сева стал под саженцем возле палатки, в которой бойко шла торговля овощами.
Поставил к бордюру открытую сумку.
– Почем рак? – спросили сразу двое.
– Пять тысяч десяток.
– Так мелкие! – возмутился один.
– Не мелкие, а крупные, – невозмутимо поправил Сева.
Сутулый с проплешиной мужчина с вялым брюшком недовольно помялся. Сева знал, что почти всегда, когда первый раз раскрываешь сумку, появляется некто, кто интересуется уже затем, что видит нового продавца и новый товар. Возможно, только что этот человек стоял в очереди за хозяйственным мылом или пробовал вишню неподалеку, делая вид, что претендует на ведро. Но вот открылась сумка, показались мокрые рачьи сочленения, и он выплевывает вишенную косточку, забывает о мыле и спрашивает цену раков, о которых он не думал. Покупатель этого типа приходит на базар, не зная, что именно он купит. Он возьмет то, что сегодня взять можно будет выгоднее всего. Поэтому раки могут составлять конкуренцию вишне и хозяйственному мылу. Ведь продавец может оказаться лохом, который только и думает, как бы быстрее продать товар, – такой может отдать за копейки.
При этом Сева знал, что раков крупнее, чем он, никто на этом базаре не продает. Ни сегодня, ни вчера. Крупных просто негде взять. Раколовы-коммерсанты за раками ездят на Сал. Ежедневно вдоль и поперек эта речка вычищается бреднями и драгами. Все пологие подходы к Салу засыпаны вытащенной на берег ракушкой и тиной. Но все знают, что раки в этой реке все же есть. Они считаются особо вкусными, потому что вода в реке солоноватая. Но они мелкие. А у Севы даже мелкие крупнее сальских.
Раки продавались по десять штук. В зависимости от размера можно было брать от двух с половиной до пяти тысяч за десяток. Сева сам удивлялся этим ценам – за пять тысяч можно было купить хороший кусок мяса или даже футболку. Еще в прошлом году он десяток продавал по тысяче, но цены на продукты росли особенно быстро. Севе было удивительно, что кто-то предпочитает мясу раков. «Я бы никогда не купил», – иногда, называя цену, думал он, но отгонял эти мысли.
Присев на корточки, он выложил наверх самых крупных. Картину портил гигант, рядом с которым все остальные мельчали. Сева сунул его в карман сумки, решив принести морское чудовище домой.
Подошел стриженый под машинку парень лет тридцати в шортах, пляжных тапках. В одной руке он прижимал борсетку, другой щелкал семечки. Он присел возле сумки, поворошил в ней и спросил цену. Сказал, что возьмет три десятка. Тут Сева проморгал момент – покупатель начал сам выбирать раков. Он выбирал, а Сева почти стонал – выбрал, естественно, самых-самых. У оставшихся вид уже совсем не тот. Но три десятка ушло по хорошей цене.
Казалось, что солнце потрескивает. Последние полчаса цену никто не спрашивал. Время – пятый час. Сева видел, что пара тварей на солнцепеке уже сдохли. Ему хотелось пить, ноги гудели от перетаптывания на месте. Он сел на корточки в скудную тень саженца, решив, что подождет еще минут двадцать. Он невольно думал о том, что покупку никак нельзя предсказать. Можно принести на базар товар, отогнать тех, кто подбежал сразу и попросил уступить, а через четыре часа унести товар домой, не дождавшись больше ни единой поклевки. А потом продать его по пути домой случайному прохожему, который сам остановит и попросит уступить ему содержимое ведра. Иногда Сева даже менял места, всякий раз раскладываясь так, будто он только пришел, – это привлекает покупателя. Но в этот раз он не хотел переходить. Он потерял концентрацию, а с нею и ощущение, что он отсюда, что он здесь нужен. Он смотрел чуть поверх своей сумки и не хотел слышать шумящего вокруг мира. Сева стал в этом месте никто, никто на нем не задержит взгляда. Он – камень, который любой прохожий может пнуть, но ни один не расколет.
Сева увидел, что с края раззявленной сумки кувыркнулся хитоновый панцирь – кому-то в сумке до сих пор не спалось. Сева встал.
Он открыл глаза и увидел над собой человек пять. Они склонились над ним. Сева поднял голову и с удивлением осознал, что лежит на земле.
– Парень, ты как? – спросил мужик с брюхом, торговавший в палатке овощами.
– Да нормально, – не понимая вопроса, ответил Сева.
– Ну ты напугал! – совершенно не напуганно заявила тетка в фартуке. – Долбануться так! Ты бы шел домой.
– Солнечный удар! – сказал кто-то.
– Обморок.
– У меня не бывает солнечных ударов, – произнес Сева так, что никто не услышал. Впрочем, рядом уже никого не было.
С бутылкой воды подбежал худощавый мужчина. По торопливости было видно, что последний раз он видел Севу распростертым.
Он пес, грызущий свою кость. И пусть весь мир хоть вкривь, хоть вкось. Его то голод жрал, то долг, чтоб он замолк. Он яму роет под сортир. И в этот путь в подземный мир, когда чем глубже, тем страшней, не взять друзей.5
Всеволод шел домой по пересекающей весь Старый город улице Ленина. Открытая кожа немного горела и пощипывала, внутри было нечто близкое к вакууму. Даже вдох, казалось, заполнял тело воздухом. Но его приходилось выдыхать – и внутри становилось еще более пусто.
Он увидел в какой-то момент себя со стороны: обветренного, с колючими от сотен порезов ладонями, с выгоревшими ресницами и бровями. В одежде, в которой можно без потерь валяться на земле. Сейчас даже тело казалось чужим, навязанным ему, не выражающим его. Но чем более чужим оно казалось, тем острее было ощущение запертости в нем. Как будто солнце, вода и ветер, ежедневно старящие его, загоняли нечто настоящее в нем еще глубже – туда, где шансы на разделенность стремились к нулю. Взрослый мужчина, он иногда чувствовал себя, как сказочная принцесса, заточенная в башне, из которой ее должны вызволить. Но при этом все, что он делал до сих пор, было старательным возведением и укреплением этой башни. А эта принцесса-душа где-то в полной темени, за девятью кордонами черствой кожи, тихонько напевала, каждый миг одинаково готовая к счастью и горю.
Навстречу прошел парень из параллельного класса. Они чуть не коснулись друг друга плечом, но не поздоровались, хотя в школе такого не бывало. Сева увидел, что, скользнув по нему взглядом, школьный знакомый его не узнал – и тоже прошел мимо. Это как будто подтверждало, что по телу, по выражению лица его узнать невозможно. Если нахмурился – все равно, что сменил тело: можешь начинать свою жизнь с чистого листа. Для того чтобы потеряться, остаться только с самим собой, достаточно неброско одеться, держаться поближе к земле, где никто не поднимает глаз до уровня лица.
И все же была в этом ощущении острая нота свободы. Она пела о том, что ты можешь быть кем угодно. Каждое движение лицевых мышц рождает образ какого-то нового человека. Один непрестанно прищуривался на солнце, как ковбой, другой капризно выкатывал нижнюю губу, на лице третьего застыла возмущенно заломленная бровь, пятый был кремень с напряженными скулами… А сколько возможностей дает одежда – на каждую вещь свой образ. Некоторые образы были Севе незнакомы и любопытны. И это многообразие легко выводило на чувство, что в этом мире он, лично он может все, он прямо может быть кем угодно. А в этом человеке, который его не узнал, Сева такой способности не чувствовал. Нет, он его не узнал, потому что этот сверчок знает свой шесток – и дальше не хочет или не способен ничего видеть. А у Севы нет никакого шестка. Он способен занять практически любой, Сева подумает еще, какой именно. Он еще был никто, возможно еще даже не человек, а так, персть, исходный материал для человека. Но в нем уже была жизнь, пульсация сознания, орган зрения…
Улица Ленина вилась двумя полосками дороги, между которыми тянулась обсаженная тополями аллея. Движение транспорта здесь было ограничено, поэтому люди свободно могли гулять по широким автомобильным полосам. Могли, но не гуляли. Метрах в тридцати перед Севой неспешно топали три здоровенных детины с массивными шеями, в футболках, обнажающих широкие плечи. Но вот послышался редкий на этой улице рев двигателя. Вишневая «девятка» шла так, будто прохожих здесь не было. Когда она проносилась мимо внушительных ребят, раздался несильный хлопок – автомобиль задел зеркалом за руку крайнего. Метров через сорок «девятка», заскрипев тормозами, встала и тут же с проворотами дала задний ход. Поравнявшись с парнями, автомобиль с темными стеклами остановился. У того, кто распахнул дверь, времени не было.
Таких людей практически нельзя увидеть на улице. Они не ходят среди смертных – они приходят за ними в основном по ночам. Его чудовищные мышцы сократились, выбрасывая тело из «девятки». Это была особь уже какого-то другого вида. Быстрые движения столь большого тела в майке-борцовке придавали ему нелепость. Дядя в три шага подошел к парню, коснувшемуся его автомобиля, и нанес боковой удар в челюсть. Севе показалось, что уже в момент соприкосновения с кулаком жертва потеряла сознание. Послышался тупой удар тела об асфальт. Царь-рак коротко глянул на оставшихся, убедился в их оцепенении, быстро сел в машину и ударил по газам. У Севы стучало сердце от понимания, что он – как и любой – мог быть на месте павшего.
«Когда он успел так накачаться?» – невольно подумал Сева.
Бум дворовых бригад, рэкета и крыш для бизнеса начался в общем-то недавно. В городе открылось десятка два подвалов, где бойцы тягали «железо». Боксерские, борцовские секции, где ранее готовили спортсменов, быстро получили массовые заказы на подготовку быков и убийц. Помимо них, через пару лет после показа в этом городе первых видеофильмов с эффектными восточными единоборствами открылись секции тхэквондо, карате, ушу, айкидо, кунг-фу и просто рукопашного боя. О спортивной карьере в этих секциях уже никто не думал. Все готовили себя – одни к защите, другие к нападению. Но все это началось совсем недавно. А чтобы отрастить такие мышцы, нужно несколько лет не вылезать из спортзала.
Только что было так приятно быть незнакомцем даже среди знакомых. Так много обещало умение растворяться в толпе, принимать ее серый цвет, пряча свое всемогущество, быть на три шага впереди каждого, чьим объектом внимания ты можешь стать. Только что казалось, что найдена формула безопасности, некое текучее состояние, в котором ты постоянно оказываешься неопознан, остаешься никому не обязанным. Но у этого состояния была и совсем другая, очень приземленная сторона – полное отсутствие тыла. Если тебя найдет злая сила – а это может произойти так же случайно, как это только что было на улице, – ты перед нею будешь беззащитен. Город расчерчен по зонам влияния уличных банд. У каждой зоны свое название – Ливерпуль, Париж, Тридцатник, Дворянское гнездо. Встретить лихого человека, который бы никого не представлял, было сложно. Столкновение с ним – это не бой один на один, это вызов определенной организованной преступной группе. Победить в этом единоборстве в одиночку шансов не было. А если не в одиночку, значит, в составе другой группировки. Любой здоровый парень проходил через этот выбор.
– Пойдем, я тебя познакомлю.
Из-за железных дверей подвала пахнуло подвалом. Пригнув голову, чтобы не задеть за трубу со стекловатой, Сева шел по темному коридору вслед за Кольком. Вошли в освещенную комнату. На пыльном, но подметенном полу стоит разбитый коричневый диван, перед ним самодельный столик – доска на двух ящиках. Ярик, Димон и Стас играют в козла. Ярик сидит в пидорке на макушке, Димон в азарте закинул на общий диван ногу в грязном ботинке, Стас держит карты двумя руками, в зубах сигарета.
– Ногу убрал! – входя, орет Колек и тянет руку здороваться. – Это Сева.
– Да мы знакомы.
Сева тут впервые, но на него сразу смотрят иначе, чем раньше, наверху, – как на своего: раз порог пересек, значит уже наш.
Знакомы, действительно, все лица. Все из одной школы. Со Стасом так и вовсе из одного класса. Но с большинством не разговаривал никогда. А Стас не знает о нем ничего, кроме того, что парень Сева крепкий, смышленый и серьезный. Ценный может оказаться кадр. Для серьезных дел.
Димон переводит стрелки – говорит, что они утром в мусорном ведре видели грязные тампоны – вчера на этом диване кто-то драл сосок, у кого-то из участников явно была течка. Оказывается, Ярик знает, кто тут был. Сева между делом отмечает, что соски – это Настя из второго подъезда и Лиза с двадцать второго квартала. Он не общался с ними, но об их существовании знает с раннего детства и даже может вспомнить, как они выглядят. Настя всегда казалась домашним ребенком, Лиза – взрослой и деловой женщиной. Но, как выражается Ярик, девочки по глупости попали – и их наказали. «Как они будут выглядеть завтра?» – думает Сева.
Он молча слушает и сходит за своего. Входящие сюда оставляют жалость к лохам снаружи. Здесь территория сильных, жестоких хозяев жизни.
Сева видит, что ребятам, к которым он даже никогда не присматривался, настолько они не вызывали интереса, нравятся их роли. Одна коллективная роль на всех. Им уютно здесь, внутри маленького роя, где разрешается пихаться локтями, ржать, обзываться, но – не сомневаться в своем праве наказывать.
В глубине комнаты штанга на стойках, под ней скамья для жима лежа. Несколько гантелей, в углу боксерский мешок, подвешенный на крюке. Сева не может понять, кто же тут занимается, – уж точно не эти клоуны.
Сева примеряет этих людей к своей жизни. Он зашел сюда понюхать воздух мужского мира. Он явственно чувствует скуку, но сохраняет настороженность в чужом месте. Он вспоминает себя, идущего по парку с Валентиной, у которой в руке букет желтых кленовых листьев. Валить надо было эту соску, – подсказывает готовое решение здешний спертый воздух. Сева про себя усмехается: всего делов-то.
Подсаживается Стас, в партии его заменил Колек. Пока остальные огрызаются, тихо говорит:
– Правильно, что пришел. А то ходишь без дела…
– Не без дела, Стас.
– Ну да, ну да…
– Сюда кто-то из наших приходит еще?
– Юрец бывает. Ну и Артем. Но это как бы уже не наш уровень.
– Ты о чем?
– Он со старшими уже. Два киоска по городу лично контролирует. Не наш уровень.
– А вы чем занимаетесь? – Сева разговаривал, не глядя на Стаса, чувствуя, что тот не отрывает глаз от его лица.
– Ждем сигнала.
Сева поднял на него глаза и всмотрелся долгим взглядом. Стас гримасой пояснил: речь именно о том, о чем ты подумал.
– Да, ждем сигнала, Сева.
– А чего ждать-то? Часто он приходит? Кто еще сигналы подает?
– Сюда заходят только он и Тарас.
– Что – в долю не берут?
– Даже не заикайся об этом. Артем не любит этого страшно. Обязательно тебя потом так подставит… Там уже яйца железные надо иметь.
Смотрит на часы – он здесь уже почти час. Какое знакомое ощущение: время замерло. Оно никуда не идет, потому что никто никуда не идет. Никто ничего не планирует, хотя в любой момент могут сорваться оттого, что их сорвет сквозняком какого-нибудь крика или новости. «Мы здесь сидим и ждем, когда хоть что-нибудь наполнит нашу жизнь, – подумал Сева. – Какая неожиданная покорность для бандитов».
Артем и Тарас зашли совершенно бесшумно – и позы сразу стали напряженными. Тарас – здоровый высокий детина, школу окончил два года назад. Молча прошел в угол и ударил с правой – тяжелый мешок сорвался с крюка и ударился о стену. «Отработанный спецэффект», – отметил Сева. Рядом уже стоял Артем – руку он жал рывком, мгновенно сжимая, сминая чужую ладонь. Но Сева эту манеру знал. Артем был тихим человеком, ростом еле достающим ему до плеча. Русоволосый, бледно одетый, очень спокойный, он мог сойти за невзрачную, незаметную фигуру. Но Сева знал, что он гораздо беспощаднее открытого Тараса, кулаком ломавшего кирпичи. Артема в семь лет отдали на борьбу, потому он остался низок. В двенадцать он переключился на бокс, через год выиграл областные соревнования в своем весе. Он имел идеально развитое атлетическое тело, которое выглядывало только на уроках физкультуры – еще в те времена, когда он на них ходил. Артем лишь скользнул по Севе взглядом – ни одной эмоции не прибавилось в пустых серых глазах. Это был хороший взгляд – в нем не было презрения.
Здесь было совсем другое строение общества, чем в школе, – оно преображало каждого из них. Было сейчас забавно вспомнить о том, что еще не всем из них исполнилось шестнадцать. Никакого детства давно уже не было, этому поколению его не хватило.
Тарас сразу взялся за дело.
– Так, братва, если я еще раз здесь почувствую запах дыма – буду жестоко иметь. Всем ясно? Слушай команду. Сейчас по этому двору проходит некто Анатолий, одно нам знакомое чмо. Задача: перехватить и немножко нахлобучить. Вперед, а то замерзнете.
Все четверо сорвались – не дотушив бычка, не убрав карты. Стало пусто секунды за три. Сева остался сидеть на диване. Он еще ничего не воспринимал на свой счет, не ощущая себя частью роя. Возникла пауза, наконец Сева хрустнул пальцами.
– А ты чего не пошел? – громко спросил Тарас.
– На хер оно мне надо, – медленно проговорил Сева и заскучал лицом.
Тарас смотрел на него, но ничего не говорил.
– Ты же по Олегу знаешь ситуацию – какой объем огурцов у него в сезон можно взять? – солидно, взрослым баритоном спросил Артем.
– Обычно они засевают два поля – килограмм двести точно, – ответил Сева. Он не знал точно ни про два поля, ни про двести килограмм.
– А если больше надо?
– Надо с ним говорить, у него вся родня в этом деле.
Артем пошарил в глубоком кармане кожаной куртки, вынул большой ключ. Сева только теперь заметил еще одну железную дверь, сделанную заподлицо. Артем повернул ключ, вошел в темноту и включил свет. Он оказался ярким – и осветил почти идеальный спортивный зал с каучуковыми плитами на полу.
– Сильно, – сказал Сева. – Откуда такое оборудование?
– Трофейное, – усмехнулся Тарас.
– У нас сейчас тренировка, – произнес Артем. – Ты с нами?
Вот он, момент выбора. Прямой путь к старшим, через голову всей этой шушеры. Серьезные люди, серьезные дела.
– Не сегодня, – сказал Сева.
Артем даже не глянул на него, Тарас посмотрел внимательно.
– Ты приходи. И на мальчиков не смотри. Артем тебе все скажет.
– Я приду, – ответил Сева, зная, что не сделает этого ни в коем случае. Он точно еще не знал почему, но хорошо чувствовал, что второй раз отсюда так просто будет не выйти.
Была определенная выгода в том, чтобы не быть ни с кем, быть пустым местом, о котором точно никто не знает, что оно пустое, – чтобы жить той жизнью, которой ты хочешь жить.
6
Дома была только мама с маленькой Светой. Настя гуляла во дворе. Она подбежала к брату, когда он заходил в подъезд, и попросила передать маме, что она еще часик погуляет. Дома про обморок он говорить не стал. Показал рака-гиганта. Рекорд хотелось как-то зафиксировать. Раков меряют двумя способами – от морды до хвоста либо между клешнями. Сева нашел большую линейку и раскинул своей добыче в сторону лапы. Между клешнями вместилось сорок семь сантиметров. Очень неплохо – такое расстояние нестыдно и руками показать.
Татьяна Геннадиевна смотрела на гиганта так, как будто он должен что-то сказать о сыне, о том, где он лазит.
Сева сунул оставшихся раков в поддон холодильника, сверху положил чудовище, помыл с мылом руки, чтобы не воняли тиной, и налил себе борща.
– Сева, я хотела с тобой посоветоваться, – сказала Татьяна Геннадиевна, вешая на крючок кухонное полотенце. – Я думаю, не попробовать ли мне жарить семечки на продажу. Вон тетя Зоя вообще живет на этих семечках.
– А как их продавать? – механически спросил Сева, хотя знал ответ.
– Да тут, на пятачке. Там же сейчас стоят, торгуют.
Внутри у Севы будто что-то защемило: показалось, что если мать туда уйдет, то сделает еще один шаг от него. Тетя Зоя была матерью отчима – бойкой, любящей и несправедливой матерью, всю жизнь работающей на своих гулящих детей, не видящей их пороков. Эти люди принесли в их дом жестокость, мелочность и сочетающийся с крайней ленью прагматизм. Сева понял, что мама уже приняла решение, что муж ее уже обработал, как он умеет, когда не ему самому нужно будет жар загребать.
– Мам, если ты туда пойдешь, ты оттуда уже не вылезешь.
– Не поняла. А что в этом такого? Я вообще-то сейчас на своей основной работе мусоропроводы чищу – и ничего.
– Поищи что-нибудь другое. Зачем сразу браться за самое…
– А что я еще могу? Институт я так и не закончила. Куда меня возьмут?
– Я не хочу, чтобы ты продавала семечки. Мы же и так прожить сможем.
– А что мы видим? Насте к школе нужна обновка, да и что у нас холодильник пустой? Вы у меня растете, ничего не видите! Мне тоже иногда хочется чего-нибудь вкусненького.
Татьяна Геннадиевна подошла с бутылочкой к кровати, по которой ползала маленькая Света. Когда мама взяла ее на руки, та немедленно открыла рот и, поторапливая, взмахнула рукой, в которой сжимала погремушку. Сева присел на кровать рядом с матерью и стал смотреть, как малышка ест. Мама тоже замолчала. Это была минута безмятежности. Сева смотрел на чистое личико, на светлые кудряшки, которые было жалко срезать, на веселые, но сейчас такие сосредоточенные серые глазки. Поднял взгляд на маму, она тоже взглянула на сына с редкой нежностью, для которой в их жизни почти не оставалось места. Ее глубокие темно-серые глаза, так легко туманящиеся, сейчас были ясны. Они встретились взглядами и невольно без причины улыбнулись друг другу.
– Севка, какой ты у меня большой вырос, – произнесла Татьяна Геннадиевна.
– Да, – просто ответил Сева.
Он встал, прошел в их маленький зал, напротив телевизора поставил гладильную доску и включил тяжелый утюг. На диване лежал огромный ком высохших пеленок.
Окончив кормить, мама утерла Свете ротик и снова пустила ее на кровать. На ней с краю лежали большие подушки, через которые восьмимесячный ребенок не смог бы легко перебраться.
– Где эта Настька бегает? – вспомнила мать и подалась к окну.
– Я ее видел во дворе – она сказала, что через час придет.
– А ты сегодня дома?
– Поглажу и пойду на тренировку.
– Откуда у тебя силы берутся.
Белье пересохло, Сева пошел на кухню и набрал стакан воды, чтобы распылять ее губами. В зале мама включила телевизор.
7
Эта повседневность требовала концентрации на себе. Иначе утонешь, продешевишь, попадешься под горячую руку, собьешь дыхание, не добежишь, вляпаешься, будешь растоптан и унижен. Еще три года назад Сева был трусоватым фантазером, который боялся ходить по вечерам в темноте в общий душ на первом этаже, потому что ему чудился за стенкой лежащий на кафельном полу в черном пальто мертвый человек. Вечером, отворачиваясь перед сном к стенке, он убаюкивал себя нескончаемой историей про спасение самой симпатичной одноклассницы от индейцев, обнаруженных на необитаемом острове. Индейцы изъяснялись на ломаном французском, который Сева только начал учить, а вооружен молодой человек был малокалиберной винтовкой, из которой полгода учился стрелять на стадионе «Труд», – первой его постоянной секцией было военно-прикладное многоборье. Его называли впечатлительным мальчиком. Однажды родители взяли его с собой на фильм «Кинг Конг жив» – и Сева, не такой уже и маленький, выскочил из зала после первой же сцены расстрела большой обезьяны. Потом ночью он говорил во сне. Любое прикосновение искусства было слишком сильным разрядом, который либо уносил, либо травмировал его.
Отец лепил – и вылепил не только оленя. На стене висела композиция стоящего на фоне скал и звезд Водолея – папа увидел открытку, на которой в такой образной форме был изображен астрологический знак, под которым родились и папа, и мама, – и перенес ее в пластилин, увеличив в масштабе раз в пять. Изделие было покрыто лаком и повешено на стену. Это было первое искусство в жизни юного Всеволода. Он мог ее разглядывать подолгу. Как отец передал скалы, как он почувствовал естественность их углов. Как неожиданно поверх легли звезды, их размазанные сильным уверенным пальцем лучи. Натуралистичность мускулистого тела Водолея как-то сочеталась с волшебством текущего поверх его бедер Млечного Пути. Сева впитывал не столько мозгом, сколько глазом. Отцу был дан какой-то первозданный дар подражательства. Он мог вылепить практически все. Он смотрел на изображение и перерисовывал его один в один. Он только не мог придумать, что именно лепить или рисовать. У него не было и, главное, не могло быть идей. В этом отсутствии идей была природа его неосознанного дара. Сева же в том, что глубоко между делом выходило из-под рук отца, видел не столько подражание, сколько преображение, он видел, как чужое и мертвое становилось живым и своим. Уже в девять лет у него был настоящий фанерный ящик пластилина. В нем ночевали русская и немецкая танковые армии. У каждого танка размером со спичечный коробок были по отдельности вылеплены колеса, гусеницы, пулеметы, люки, топливные баки. У каждого солдатика были нагрудные карманы и награды, головные уборы и погоны, сапоги. Этот мир казался гораздо значительнее реальности. Но реальность настигала. Дважды мама выбрасывала весь этот ящик по той причине, что Сева замазал палас. Один раз Сева сумел начать все сначала, а второй не сумел – подступала новая жизнь. Отчим первым делом повесил на стене толстый пресс из газет, сверху сбитый двумя рейками, – чтобы набивать кулаки. Это произведение искусства заняло как раз то место, где раньше висел пластилиновый Водолей.
И Сева набил кулаки.
Он научился не задавать лишних вопросов и не лезть никому в душу. Он никогда ни у кого ничего не спрашивал, не просил совета, пресекал поучения и бесплатные рекомендации. Он знал, как разговаривать с людьми и уходить от их влияния, как молча идти к маленькой цели, не умея оценить того, что вообще имеется возможность идти к цели. Он как-то выучил и принял, что никто ему ничем не обязан: общество не обязано его искать и занимать, друг не обязан дружить, любимая – любить, родители – оберегать. Изначально, как в математической задачке, ничего не дано. Сева был новый, только-только народившийся вид. Вид, лишенный исторических травм. Он вызрел там, где мерцало звенящее марево, а ребенок сидел на корточках на обочине грунтовой дороги и неторопливо выковыривал семечки из свежесорванного на чужом поле подсолнуха. Броня этой бессобытийности защитила его, не дала бросить в топку слабым и незрелым. А быть глупцом не так страшно.
В школе не было коллектива, ученики общались по два-три человека. Класс был моделью нового общества, где нужно уметь договариваться, чтобы не вести войну против всех. Если кто-то не умел говорить так, чтобы всем остальным не хотелось его заткнуть, никто ему не сочувствовал, когда дело доходило до расправы – моральной, а если надо, то и физической. О многих своих одноклассниках по окончании школы Сева знал лишь то, какие оценки они получали, например, по математике, – и ничего больше. Для предыдущих поколений это было бы дикостью, да и теперь попахивало какой-то бытовой нерефлексируемой жестокостью, но она очень дисциплинировала.
Сквозь эту броню прорвалась только песня. Ненародный голос рока – героического эпоса нового времени. Это был эпос о борьбе за свободу – человека с демонами, вызывающих демонов – с обезличенной толпой. Рок на самом деле звучал странно. Когда Сева вслушивался в слова альбомов «Шестой лесничий» или «Группа крови», то ощущал, что он уже из другого времени. Где нет никакого «мы», которое пришло, чтобы «действовать дальше». Где трудно объяснить, что это за страшный образ такой – «лесничий». Где смехотворным кажется весь советский абсурд «Тоталитарного рэпа». Где слова «И вот мы делаем шаг / На недостроенный мост – / Мы поверили звездам, / И каждый кричит: “Я готов!”» звучали наивно.
Но что-то откликалось. Откликалось, как ни на что другое. Потому что по другую сторону были воровская феня и просовеченные школьные педагоги. Невозможно было бы представить себе песню о борьбе с подобным контингентом – это все равно, что песня о гигиене. Но поле настоящей борьбы обнаружилось. Оно было внутри. Право на эту борьбу только подчеркивало независимость и самостоятельность. Если ты не знаешь, когда и от чего я умру, – а ты не знаешь! – значит, ты не подозреваешь, какой выбор и почему меня мучает, и оттого не имеешь ни малейших прав в моей ничтожной жизни. Такова рабочая логика. Но она залегала где-то очень глубоко – добраться до нее, заподозрить само существование этого ядрышка внутри конкретного Всеволода Калабухова было затруднительно. Сева сливался с внешней средой. Он не возмущал своим присутствием пространства, осторожно входил в него, не вызывая на себя не только огня, но и внимания. Он чувствовал язык пространства, чувствовал регистры речи. Он обезьянничал. Порой ему самому казалось, что пространство могло сделать из него другого человека. И чужие люди – они тоже были частью пространства, закреплены за ним. Поэтому с ними не стоило соревноваться – им надо было всего лишь соответствовать. Насмешнику надо вернуть шутку, гаркающего прораба – поставить на место, с университетским преподавателем – завести диспут, с девочкой – говорить глупости. Разве от Севы убудет? Это же он к ним пришел, а не они к нему. Куда к нему вообще можно было прийти? От какого места себя отсчитывать, Сева не знал, – не назовешь же таким местом песню.
Хотя можно и назвать. Только не любую песню – свою. Первые свои были еще в школе, но они были случайными вариациями из небогатой копилки мотивов. Когда появилась первая по-настоящему своя, он понял это сразу. Когда она появилась, он пел ее много дней – не десятки, а сотни раз. Пел с гитарой и без нее, шнуруя ботинки и чистя зубы, поглощая самодельный борщ и погружаясь в сон. Он обкатывал ее, он разглядывал с ее помощью себя, вертел так и эдак, будто не мог на себя насмотреться. Мелодия победила голос, в остатке он зазвучал ровно настолько, чтобы могла раскрыться мелодия, и без каких-либо намеков на свои возможности. Его собственная интонация оказалась неожиданно спокойной. Но это было спокойствие не идиллии, а драмы, лабиринт которой был прост и гармоничен.
Милая моя, мои звери меня съедят. Мои звери голодно воют. Мои звери боятся тебя. Но ты не со мной.И как ни менял он голос, интонацию, как ни варьировал напряжение, – песня оставалась плоть от плоти его самого. Это было новое чувство.
8
Тренер Виктор Сергеевич жил в соседнем подъезде, но встречались они только на стадионе. У Севы сегодня была индивидуальная программа – кросс. В похожей на гараж конуре с железными воротами, выбитой у администрации стадиона под раздевалку, он переоделся в выцветшее синее трико, натянул полукеды. К выходу из вечно пустого стадиона двинулся пешком, разминаясь перед забегом.
Если бы кто-то спросил Севу, любит ли он бегать, он бы, не задумываясь, ответил «нет». Сказал бы, что бег мучителен, вспомнив, как иногда на длинных дистанциях немеют от усталости ноющие конечности, как трудно выплюнуть после финиша свалявшийся в горле комок тягучей слюны. Но этого вопроса Севе никто не задавал, поэтому и ужасы изнурительного бега оставались неосознанными.
Он вышел из ворот стадиона и потрусил в сторону хлебозавода. Маршрут был давно проложен. Несмотря на утренний заплыв, Сева чувствовал, что свеж – тело, чьи незадействованные силы потревожили, будто само рвалось вперед, стремясь перепрыгнуть препятствие, а не обежать его. Но Сева придерживал себя, зная скоротечность этой легкости. Он помнил свои первые забеги, помнил, как быстро легкость сменяется свинцовой тяжестью в ногах и ломотой в скулах. Если дать себе волю, то не добежишь никогда, сдохнешь в кустах, сипло отхаркиваясь и держась за печень.
Виктор Сергеевич говорил, что профессионалы отдыхают на лету, когда обе ноги в воздухе. Сева старался не сбить дыхание, нащупавшее паровозный ритм.
Возле хлебокомбината он свернул и перебежал через дорогу – на улицу Советскую, которая выведет к парку «Юность». А если бы Сева никуда не сворачивал, он выбежал бы к детскому садику «Маяк», куда брали только детей, родители которых работали на «Атоммаше». Отец сумел когда-то пристроить своего сына в расположенный на окраине города «Маяк». Дорога к нему была главным ритуалом детства. Каждое утро, рано-рано, отец и сын начинали свой пеший путь туда, куда не ходит общественный транспорт. В один из таких походов Сева впервые отчетливо подумал. То есть зафиксировал в голове первую отчетливую самостоятельную мысль. Это было столь новое ощущение, столь значительное событие, что мысль запомнилась на всю жизнь. Он, в частности, подумал тогда примерно следующее: «А кто это, интересно, смотрит сейчас через мои глаза? Почему я их не вижу, как вижу глаза всех остальных людей?»
Маленький Сева тогда поднял голову на папу. Папа был высок, с чернявой копной волос, но рыжими усами, с большими глазами, в красно-коричневой болоньевой куртке. Такой красивый и стремительный снаружи, тогда как он, Сева, изнутри такой бесформенный и жалкий.
Что это за существо, какое оно? Пока что оно умело только смотреть из глаз маленького неловкого мальчика, которого так настойчиво тянут за руку, что приходится семенить. Сева семенил, подпрыгивал, бежал всю дорогу – и никогда не уставал. Золотое было время.
Кроссы Сева бегал регулярно уже три года. Отчасти потому, что быстро понял, что его конек – короткие дистанции. Еще в двенадцать лет тридцать метров он бежал на второй юношеский разряд, на старте обгоняя гораздо более взрослых соперников. Старты ему давались: он умел мгновенно набирать скорость. Дистанцию в шестьдесят метров он бежал на третий юношеский. А результат по стометровке уже не претендовал ни на что. Сева мог много раз взрываться, выкладываться в полную силу за несколько секунд. Но с перерывами. Глоток воздуха – и он снова мог потерпеть. Это был его, едва-едва ухваченный сознанием, личный способ жить, побеждать – выдерживая любое количество коротких подходов. Это он умел, этому не нужно было учиться. И потому он бегал кроссы – заставляя себя терпеть.
Сегодня ему предстояло бежать около восьми километров.
Он бежал по обочине старого парка «Юность», раскинувшегося напротив главпочтамта – здания, с которого начался этот город. Он прислушивался к своему дыханию, шум которого не давал прибиться ни одной мысли. Либо бежать, либо думать. Либо смотреть, либо помнить. По прямой он выбежал к центральному рынку, который в это время стоял пустой. Пробежал это пространство насквозь, перебрался через невысокую насыпь железной дороги, остановился перед шоссе, пропуская машины, и нырнул в лесополосу, прошитую тропинками. Это был небольшой прямоугольник земли, заросший акациями и теперь забросанный их темными сухими стручками. Сзади и справа остался город, слева через сотню метров начинались дачи, но Сева бежал прямо – к дамбе.
Она была широка – здесь могли разъехаться автомобили. Она была высока – и создавалось ощущение, что все водохранилище, как чашу, она держит над городом и степью. Сева взобрался наверх и глянул через парапет. Отсюда был виден застывший местный порт с грязно-зеленым элеватором. Внизу, у подножия крутых откосов, выложенных бетонными плитами, лежала смирная темная вода. Она продолжалась до самого горизонта. Иначе как морем это размеченное человеческим разумом и обитое камнем водохранилище местные жители не называли – видимо, из потребности верить в самостоятельные жизненные силы огромного, раскинувшегося вокруг мира. Этот мир был ограничен дамбой, тянувшейся до самого Цимлянска. Сейчас по ней бежала одинокая фигурка, на которую налетали порывы степного ветра. Дыхание уже было сбито подъемом, икры постепенно наливались булыжниками. Но Сева бежал, движимый болезненным волевым усилием по безвольному миру, и время от времени сплевывал на растрескавшийся бетон. Состояние было терпимым, он пока что правильно рассчитывал силы.
В шуме ветра и дыхания терялся смысл того, что он делает. Зачем он бежит? Зачем все это? Стихли все городские шумы, остался лишь сип выдохов и сыпь шагов. Он выбегает туда, где дует ветер, а на его стороне лишь воля двигаться. Он хочет стать сильным? Вот еще. Он учится бегать? Правильно держа торс, активнее поднимая колени и ритмичнее дыша. Нет, Севу не интересовал спорт. Он презирал саму идею соревнований. Как-то глупо чувствовать себя побежденным, проиграв, и победителем, победив. Тогда зачем?
Два года назад он мог бы ответить, что за компанию. Здесь были друзья – Леша, Вадик и Миша. Они долго тренировались вместе, перешучивались, дурачились. Они были взрослее его, но принимали его. Он даже иногда обгонял Мишку на коротких дистанциях, хотя тот старше почти на три года. С Лешей они почти год каждый вечер ходили на турник возле политеха. Никто их не заставлял заниматься на турнике – они это делали вместе, сообща, на равных. С Вадиком Сева был не так близок, но это потому что Вадик вообще держался в стороне. Возможно, из-за плохого зрения – он постоянно щурился, фокусируясь на лицах. Вадик все делал медленно и методично, начиная с переодевания. Он был добр, невспыльчив и очень вынослив. Он был стайер – ни во что не вмешивался.
Сева пробежал шлюз, где из водохранилища в степь вытекал широкий оросительный канал. Чуть дальше на его берегу располагается городской пляж. А перед ним железнодорожный мост, куда его маленького возил на рыбалку отец. Он поднимал его в четыре часа утра и сонного усаживал боком на раму высокого взрослого велосипеда. Сидеть на узкой трубе было неудобно, зад немел, но возможность держаться за руль, будто сам ведешь железного коня, перевешивала – Сева никогда не жаловался. Они приезжали на мост, и отец спускался на основание бетонной опоры, стоящей прямо посреди канала. Здесь была довольно просторная для рыбака площадка. Но Сева оставался вверху, наблюдая за движениями отца. В этом месте было сильное течение, ловил папа «на кольцо». На дно по течению опускается на толстой леске кормушка с сухарями, кашей, макухой, а по этой леске ходит кольцо, через которое пропускается также нить с поводками – они опускаются к кормушке, и течение ими играет. Это незрелищный вид ловли, нет поплавка, поклевку должен различить указательный палец, через который перекинута леска. Сева знает, что это такое. Однажды отец его все-таки спустил вниз и дал подержать снасть. Сева был в восторге, когда рыбина ударила по пальцам. Накануне таких поездок они с отцом готовили приманку. Иногда – крутили через мясорубку жареные семечки, облизываясь от вкусного запаха промасленного подсолнечника. «Сам бы ел», – приговаривал папа.
Во рту от усиленного дыхания стоял отвратительный запах кишечника. Теперь оставалось километра полтора по прямой – до судоходного канала, оборудованного двумя ступенями шлюзов. По этому каналу сухогрузы попадают из водохранилища в Дон. Не было видно, как суда подходят к шлюзу, – каменная стена уходила далеко в море и венчалась маяком. За этой стеной было основное море, Сева видел лишь его безбрежный просвет.
Около судоходного канала с дамбы полукругом спускалась асфальтированная дорога. Здесь чаще всего и заканчивалась первая часть кросса. Сам полукруг тоже использовался для тренировок – после небольшого отдыха полагалось сделать несколько ускорений вверх по склону. Такие ускорения мальчики проходили и на стадионе, но там для повышения сопротивляемости использовалась покрышка от грузового автомобиля, к которой была привязана цепь, цепь вела к ремню, ремень лямкой надевался на пояс.
Здесь он и нашел своих спортивных товарищей два года назад. Он тогда опоздал на тренировку, и они убежали вперед. Ребята уже заканчивали ускорения. Они привычно поздоровались, состоялся обычный мальчишеский треп, что-то вроде:
– Здорово, Мишка.
– Привет, крендель.
– На кого батон крошишь?
– Да писюн тут прибежал один…
– У тебя проблемы с этим писюном?
– Да какие могут быть проблемы с этим писюном?
– А с каким у тебя проблемы?
– Ни с каким!
– А хорошо бы бегалось – без писюна-то!
– Я тебе когда-нибудь двину.
– Пойди побегай. Тебе понадобятся годы тренировок.
– Вот говнюк! – Миша, смеясь, сделал ложное движение – будто бы рванулся к Севе. А Сева чуть отступил:
– Но-но! – и игриво стал в развязную боксерскую стойку. – Я за себя не отвечаю.
И Мишка принял предложение поиграть – подняв руки, он стал ими дергать, как бы готовя смертельный удар. Началась немая сцена. Они в шутку кружили. Миша полез, не сжимая руки в кулаки. Сева отбил его правую руку и легко махнул левой. Рука с растопыренными пальцами сделала крюк и легко хлестнула Мишку по щеке.
После чего Сева получил прямой жестокий удар кулаком в нос. Чтобы никто не видел вспышки в его голове, он закрыл лицо сжатыми кулаками. Через них он увидел Мишу – он пылал злым гневом и не опускал рук, готовый вновь пустить их в дело. Вадик стоял в стороне. И Сева услышал задорный Лешкин голос:
– Ногой его звездани!
Леша кричал не ему.
Из носа потекло на руки. Сева попятился к обочине, опустил руки.
– Все?! – гневно выкрикнул Миша.
– Все, – сипло подтвердил Сева.
Он отвернулся: глаза от попадания в нос слезились, было больно, текла кровь. Утерся горстью и стал шарить по земле в поисках какого-нибудь лопуха – чтобы не пачкать одежду. Увидел какие-то листья, сорвал их не глядя и скомкал в грязных ладонях. Потом снова утерся и закинул голову к небу, почувствовал, как в горло потекли тошнотворные густые капли. По небу быстро летели облака, в которых не было ни просвета.
Сглотнув очередной раз, Сева двинулся к дамбе и побежал. Оборачиваться не стал. И люди будто исчезли, как многолетний морок. Тренировка кончилась – пошла жизнь.
Миша, конечно, ненормальный. Но обиды на него почти не было. Гораздо глубже проник тот задорный злой голос… Сколько их было – товарищеских тренировок, деловитых разговоров, встреч на переменах в общей школе, когда они втроем, разговаривая ни о чем, чувствовали объединяющую их сопричастность большому спорту. «Ногой его звездани!» Сева в какой-то момент прослезился от обиды, утерся горстью. Он чувствовал, что прощается с этими людьми. Это было высказывание на каком-то другом языке. Оно пустило в него, Севу, свой варварский яд. Это язык гадов, а он, Сева, не гад. Набрякла пустота безлюдного будущего, сделавшая еще более пустой щербатую дамбу. Было горькое оттого, что мелкое предательство отъело кусок прошлого. Как будто длинная дистанция завершилась позорным финишем. Столько бежал – и напрасно, потому что не с теми. Не рассчитал силы, не был готов к нагрузкам…
Это было через два месяца после того, как он впервые подрался с отчимом. Все как-то совпало. Он выпадал из всех отроческих коллективов.
И вот теперь он бежал один. Миша быстро бросил тренировки, он был все же по-своему честным человеком, Леша скоро был замечен в группе, взимающей мзду за охрану на рынке «Олимп», у Вадима начались проблемы с сердцем, он завершил спортивную карьеру.
Сева бежал один. Причин делать это не существовало. Воля, проснувшаяся в нем в какой-то момент, загоняла его в свой собственный тупик. Он не мог остановиться, не мог пройтись, когда становилось тяжело. Что-то запрещало ослаблять хватку. Воля брала его на слабо. И принцессе, заточенной в высокой башне, это очень не нравилось. Раками ее было не насытить.
Но вот герой однажды – мертв. Хотя, казалось бы, так тверд. И труп его смакует червь: «зачем? зачем?» Нет, он не мертв, он только спит. В нем что-то есть, что говорит, бесцельно ходит в красоте, а та – везде.V. Отпетый художник
Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря до моря, песня? Что в ней, в этой песне? Что зовет, и рыдает, и хватает за сердце?
Н. В. Гоголь. «Мертвые души»1
Сева заранее решил, что выбираться из Москвы нужно поездом – слишком она огромна, чтобы самостоятельно выйти за ее пределы. Если собрался в Питер, значит, вокзал нужен Ленинградский. Но куда ехать? Билет до Петербурга не рассматривается, на него просто нет денег. В середине пути, как показывает атлас дорог, имеется Бологое. Только куда же деваться из Бологого? Карта показывает, что главная автотрасса пролегает километрах в пятидесяти южнее. Не по лесам же туда идти. Да и билет до Бологого стоит тоже весьма ощутимо. Зато карта отчетливо говорит, что автомагистраль, хотя и по обочине, но заходит в Тверь. Значит, нужно выходить в Твери. Да, это всего лишь четверть пути. И билета до Твери Сева решил не брать. Попросил в кассе до Клина – с целью «проспать» до места назначения. Получилось 82 рубля – терпимо. Примерно столько же сэкономил. Ехать почти четыре часа, ближайшая электричка в 9.40.
На месте огляделся и отметил, что никогда не видел на вокзалах так много людей. Мест не хватало, многие расположились прямо на полу, бросив под зад газеты, дети седлали сумки. Толпа, вбирая в себя, странным образом успокаивала, вызывала облегчение: больше можно не маячить и отдаться коллективной волне приливов и отливов. Сева поискал глазами, где присесть, и нашел одно место между людьми с дачными сумками и инструментами.
И мусор, везде было много мусора. Газеты, бутылочное стекло, окурки, семечная шелуха, море шелухи, мятые пачки из-под всего – от сигарет до телевизоров, деревянные ящики из-под овощей и хлеба, раздавленные овощи, увядшие непроданные цветы, лужи мочи… Мусор давно уже стал восприниматься как среда обитания.
Сева не любил вокзалы больше всех иных мест. В железнодорожном запахе воплотился спертый дух беззакония. Так пахнет большая дорога, на которую страшно выходить. Как спокойно было выезжать из Ростова – сел на троллейбус, как обыватель, – и незаметно скрылся из виду. А человек, ступивший на вокзал, как будто торжественно заявляет всей скопившейся тут толпе, что он, такой-то такой-то, намерен прямо сейчас совершить поступок, меняющий его жизнь. Это опасный жест, возмутительный в ситуации всеобщей униженности. Особенно показательны провинциальные пустые вокзалы: заходишь – и чувствуешь на себе сразу несколько мутных взглядов. Слышно, как зудит муха – и звук твоих шагов. Но по залу уже прошел импульс: внимание волкам, приготовиться, в зоне видимости барашек, возомнивший себя кем-то более существенным. Взгляд сразу фиксирует тех, за кем будешь краем глаза следить. Ой, ктой-то у нас хочет кардинальных перемен? Комуй-то у нас захотелось красивой жизни? Кто у нас решил, что он такой самостоятельный и умный? Эта тюремная интонация и без вокзалов сидела почти в каждом. Домашние дети, вчерашние советские педагоги, чиновники, успешные бизнесмены и простые работяги – из уст любого можно было услышать пришедшую из блатного мира фразу «Не верь, не бойся, не проси». Слов как будто никто и не понимал, настолько подкупающе убедительным был сам жест. Думать так – значит, показывать, что ты не наивен, что ты не дашь себя одурачить. А Сева слышал другое: «Нет ничего, чему бы я поверил; нет никого, кому бы я поверил; нет никого, от кого бы я зависел; нет никого, кого бы я пощадил». Нужно было как-то специально вдуматься, чтобы ужаснуться этому. При этом Сева чувствовал, что он сам уже невольно сформирован этой психологией.
Подошла электричка. Сева расположился у окна, лицом к трем женщинам с цветными сумками и вылезающими в проход граблями, острия которых были замотаны в платок. Он вынул из сумки пластиковую бутылку и отхлебнул тепловатой воды.
В нем еще витали пары алкоголя. А дух, казалось, готов оставить его. У Севы было явственное ощущение, что он – полый, что кожа его, подобно кожуре, сморщена и повешена на спинку скамейки. Когда на остановке двери электрички открывались, казалось, порыв ветра залетает в его нутро и шевелит занавеску.
Дорога впереди казалась такой длинной, что даже малой своей частью не принималась душой, не переваривалась ею. Дорога лезла в глаза. Бедная внутренность набивалась неживой материей, которая стояла колом. Даже удивительно, что, несмотря на крайнее опустошение, оставалась какая-то точка, в которую продолжают стекаться данные из собственных открытых глаз. Это не так мало. Полного развеществления не происходит, даже не пытайся. Хотя искушение велико. Как было бы покойно пойти в туман и раствориться в нем. В этом была бы какая-то логика – была бы какая-то связь между состоянием духа и существованием. Разве человек, умирающий от любви, не должен, не обязан умирать? Если силы покидают настолько, что ни одной надежды ум не в силах удержать, – разве не должен в таком случае прекратиться ток жизни? Это именно что логично.
Но абсурд в том, что существование продолжается. Изможденный молодой человек, привалившийся к окну электрички, приоткрывает глаза – и жизнь пошла-поехала. Аж плакать хочется от несправедливости, оттого, что жизнь не хочет тебя слушать, плевать хотела на твои переживания. Не бывает такого дна, коснувшись которого человек перестает существовать. Родничок все равно бьется, гляделки – блестят, готовые смотреть, принимать, открываться навстречу чему попало. Какое унижение романтического духа!
Электричка никак не могла вырваться из Москвы, тянулось предместье, похожее на все малые города страны разом. Вереницы гаражей, автомоек, частный сектор, промышленные здания – пространство, к которому неприменимо слово «архитектура». Но в этой бесформенности сейчас было что-то глубоко родное, одноприродное.
Это так странно, что у человека есть лицо. Что он определен в какой-либо форме губ и носа, что они его – выражают. Человек должен был бы выглядеть иначе. В виде высокого холмика угольных шлаков с вращающимися глазами на одном из склонов. Была такая детская программа, в которой одна из ключевых героинь – Куча Мусора. К ней приходили, с ней разговаривали. Это очень правильно, это очень правдоподобный образ человека. А то, как я выгляжу в зеркале, это очень неправдоподобно. А люди верят.
Господи, куда я еду? Что еще за Петербург такой? Где это? Зачем это? Зачем это мне?.. Я – плоть от плоти этой земли, я – грязь, из которой уставились два глаза, светящие белками. Безликий, невидимый свидетель бесформенного существования, похожего на небытие. Я истощен. Истощен, невозделан, неокультурен, в меня ничего не посажено, во мне ничего не растет. В моем мраке передвигаются какие-то безликие существа. Возможно, где-то во мне совершаются примитивные формы жизни, какое-то копошение. Интересно, они там, в темноте, как думают: есть Бог или нет? Странный вопрос в бесплодных землях. И странное слово – «Петербург»… Имя среди неимен – среди камней, трещин в земле, дымящихся торфяников, угольных отвалов, темных бесхозных бревен, щебня у дороги.
А я при этом, заметим, среди людей. У них тяпки. Они освободят свои орудия от косынок и начнут тяпать, придавать форму, закладывать мне в сердце семена, лить в мое бездонное нутро свою последнюю влагу, отказывая в ней своим детям. Они верят в меня. Верят, что я все верну. Что я буду щедр и милостив. Они всегда недовольны, но им достаточно того, что я им даю. Они смиренны. Я даю им так мало. Я – истощен, во мне гуляет ветер. Им достаточно. Они недовольны, но не мной. Если бы они еще и мной были недовольны, то у них бы ничего не осталось.
Эй, люди с тяпками, я не от мира сего, не от мира вашего, от земли, не от сохи. Вы с лицами, а я без лица, куча мусора, родной чернозем. Я не вижу далеко. Как так случилось, что я хожу? Не знаю. Это странно. Выходил какой-то другой человек. В Твери сойдет другой человек. В Петербург войдет другой человек. В лесу будет спать другой человек. Я не могу сказать, кто вернется. Надо двигаться. Форма приобретается в пути. Про жизнь гравия я уже все знаю. Как иногда комфортно отвернуться к стенке, полежать тридцать лет на печи, сделать паузу лет на сто, поторчать брошенным терриконом, поспать еще немножко. «Мама, ну можно я еще немножко полежу?» – «Ну полежи, сынок». И прикрыть глаза еще на эпоху. В самом деле – а что изменится? Почему сейчас? Чего ты встал? Кто требует? Люди недовольны, но им достаточно.
Им достаточно, а я жажду. Еще отхлебнул из бутылки. Какой, можно подумать, героизм – жаждать. Как будто руками, обламывающимися ногтями многие годы проводить раскопки древней цивилизации. Нет, тут другое. Человек, знающий, куда он идет, проходит весь этот мир насквозь, не задерживаясь – как нож масло. Все происходит очень быстро. За один день тысячу сто километров – это каково? Мир заканчивается очень быстро, к бабке не ходи. А потом полагается заглянуть в то никуда, задержаться в коем мысли можно, зрачку – нельзя.
Он сидит мокрый после соития и поначалу не понимает, что она делает.
Она слизывает его пот.
Широким жадным языком она скользит по его груди.
Заходит сзади, лижет его спину.
– Что ты делаешь? – наконец с улыбкой спрашивает он.
– Это мой пот, – отвечает она, – это я его заработала.
В этот момент она даже больше выражает его, чем она сам. Он впивается в нее, соленую его солью, припадает к ней, пьет ее соки и не может напиться. Он проходит ее насквозь, входит одним, а выходит другим человеком. Нет никакого «я», единственная его зацепка – малый фрагмент твердой плоти, которая как коготок, дразнящий живое чувствительное мясо хаоса. И всегда, каким бы бесформенным, вязким и склизким ни казался мир, есть, должен быть этот жадный, ненасытный коготок, который заставит изгибаться, подчиняться, а потом – благодарно слизывать пот с тела своего героя.
2
Новый учитель литературы Ирина Ивановна была не по годам правоверна. Ей, болезненно худой, было едва за тридцать – и у нее было твердое представление о том, зачем она послана в мир. Бороться с бездуховностью по четыре урока в день, всегда оставаясь готовой к самопожертвованию. В случае с классом Севы она опоздала – нужно было приходить лет на семь раньше. В девятом классе на ее пафос никто не поднимал глаз. Сережа Торош однажды громко, на весь класс прочел слово «минет» как «минет». Класс засмеялся сдержанно, а Ирина Ивановна окаменела. Ее было жаль.
Именно она затеяла литературные вечера, придумывала темы, искала активистов. В школе этим не занимался больше никто. Поначалу почти равнодушный к художественному слову, Сева позволил себе помочь ей. Она, конечно, ошиблась эпохой, не понимала, где находится и с кем разговаривает, но в ней была цельность, напор и очевидная слабость перед любым малолетним циником – какой бы опытной и взрослой она ни хотела себя изображать. Если бы не ее слабость, если бы ее напор не был заранее обречен, Сева не пошевелил бы ради нее и пальцем.
Он помогал отбирать тексты и продумывать сценарий, читал стихи на вечерах, иногда выполнял роль ведущего. Она втянула его в чтение Цветаевой, подсунула записи Талькова и Высоцкого. А на одно из открытых школьных мероприятий она пригласила троих людей с гитарами, которых называла «бардами». От самого этого слова веяло книжной древностью, в ходу его не было.
Одним из бардов оказался недавний сосед Севы – дядя Костя с пятого этажа. С тех пор как он торговал пряжей вместе с отцом, Сева его и не видел. Некоторое время назад он, кажется, переехал. Теперь он распустил волосы, которые раньше затягивал в хвост, и крупная проседь легла на его плечи. Он спел песню Галича «Еще раз о чёрте». У него был стариковский треснувший, почти не взлетающий голос и неожиданный темперамент. Он мощно рубил на гитаре, каждый раз как будто цепляясь большим пальцем за нужную струну баса. Песню играл, как актер, – лицо передавало повороты сюжета. К концу номера Сева совершенно забыл безликого соседа дядю Костю – перед ним была характерная личность Константин Оганезов.
Второго барда звали Сергей Раджабов. Худой мужчина с черной испанской бородой и смолистыми волосами, собранными в хвост. Его пальцы были тонкими и длинными, а голос – нежным и слабым. Он спел о коллекционере. Выходило, что речь о коллекционере жизненных масок и ролей. В припеве лирический герой просил некоего художника нарисовать ему новое лицо. Это была музыка фарфоровой нежности. В припеве гитара и голос в унисон повторяли переливы мелодии. Эта искусность превращала музыканта в кого-то вроде древнего мастера, сохранившего рецепт того, название чего уже забыто.
Третий бард имел русую бороду и защитного цвета ветровку. Он посчитал нужным спеть песню про резинового ежика с дырочкой в правом боку. Сева слышал произведение впервые и потому внимательно слушал, обдумывая при этом большую тему: что заставляет взрослого человека заниматься этой клоунадой? Большой бородатый ребенок то увеличивал глаза, то посвистывал – и с тремя аккордами хитрить не пытался. Класс уже почти не смотрел на него, а те, кто смотрел, глядели либо серьезно и грустно, либо с презрительным любопытством. Давненько геолог не бывал на большой земле.
Идею гитары Сева тогда оценил. Вдруг оказалось, что она легла на подготовленную почву. Сева уже давно пел везде, где его могли не слышать. И больше всего – прямо на улице.
Творческий вечер сделал свое дело. Поначалу нашелся ненужный инструмент у одного из родственников Павлика. И на время он достался Севе. Учился на песнях «Катюша» и «Звезда по имени Солнце». Аккорды – подсказали. Поскольку сам ни одной песни подобрать не мог, а петь хотелось постоянно, песни уже скоро пришлось сочинять. Мелодии придумывались почти под любое сочетание аккордов. Сева пытался использовать их как можно больше – просто с целью освоить. Даже через два года собственные песни были самым сложным из того, что Сева играл.
От библиотекаря в юношеской библиотеке Сева узнал, что Раджабов преподает в детской театральной студии, которая находится около парка «Юность». Он пришел туда следующей осенью со стихотворением, песней и монологом. Он был уже переростком для этого места. В тени на железном стуле сидел обтянутый кожей морщинистый человек без волос. Его шею дважды обвил бледный шарф. Это был художественный руководитель, за которым Сева различил Раджабова. Он спел «Бывшего подъесаула» Талькова – без гитары. В песне было трудное место, где нужно было не играть, а говорить, – Сева не мог придумать, что в это время делать с инструментом. Его дослушали до конца и помолчали, затем попросили подождать решения. В предбаннике мимо пробежал кто-то в костюме Петрушки, прошествовал расхристанный юный Дед Мороз. «Какой я актер?» – подумал Сева. Когда вышел Раджабов, он подошел к нему и сказал, что хотел бы показать ему несколько своих песен. Музыкант легко согласился и пригласил Севу к себе домой. В театральную студию Сева больше не приходил.
Раджабов жил с мамой, у него была своя тихая комната с портретом Блока. В комнате полка со стихами. Он не писал текстов – предпочитал класть на музыку понравившиеся стихи. Две песни у него было на стихотворения Поженяна – Сева никогда не слышал этого имени. Как только Сева спел, Сергей сразу принял его как ровесника. Они показывали друг другу песни.
Сева охотно форсировал звук, делал ноты мучительными, бесстыжими.
Я-хочу здесь-сейчас скривИть-гУбы и-плЮ-ну-уть Я-хочу себе-часть от-кАждого-дня-в-иЮ-уле Я-хочу пА-це-луй по-ло-жИть-на-нОтный-стА-ан И-играть играть-его-себе Когда-а-а А-ди-но-че-ства-аСергей смотрел на Севу с интересом. Затем сам спел песню о холодах, которые «грянули вдруг» «в середине прошлого лета». Сева внимательно слушал изящные гармонии, которых внутри себя не имел. Это была гармония обжитого угла, сложной многовековой культуры, которая со временем перекочевала на кухню. А Сева был оттуда – извне.
Через полтора месяца Севу пригласили принять участие в творческом вечере вместе с Раджабовым. Больше никого не было. Константин Оганезов уехал в неизвестном направлении, исполнитель песни о ежиках пребывал в запое. На том вечере, который проходил в незнакомой школе, Сергей тоже пел про коллекционера, а Сева прислушивался к себе.
Подведем некоторые творческие итоги: любой, кто хочет играть и петь, может стать музыкантом прямо сейчас. Он, Сева, захотел – в результате прошло чуть больше года с момента принятия решения, и вот он выступает с человеком, который его вдохновил; он с ним теперь как бы на равных. Неплохо. Мрачный школьник на задней парте теперь может подумать о том, что он, Сева, – музыкант, в отличие от него самого. Все это странно. Неужели сюда всех пускают? Неужели достаточно только прийти? В конце концов, чем музыкант отличается от немузыканта? Неужели только тем, что музыкант играет и поет? В этом случае да, действительно, Сева играет и поет. Но почему ему ни разу не сказали, что у него тугой слух? Почему не удивляются, что он по десять минут настраивает гитару, что его песни – под те аккорды, которые он знает? Вот Сергей – его «Коллекционер» для Севы невоспроизводим, хотя петь там нечего. Третий куплет Раджабов вообще на этот раз исполнил в другой тональности, добавил незнакомый проигрыш. А назовут Сергея так же, как и его, самозванца Севу, всего лишь словом «музыкант». Неужели некому увидеть разницу между нами? Неужели она не важна?
Ну хорошо – а дальше-то что? Тур по школам? Ладно Сергей, он – одинокий мастер, оставшийся в разрушенном мире. Замечательное комнатное растение, которое прекрасно, но редко цветет – и то, только если за ним правильно ухаживать. Дай бог здоровья его маме. Сева чувствовал себя иначе. Он хотел петь. Он был сорняк, который невозможно выполоть. Он цвел в любых условиях и вот – пролез даже в герметичный высоколобый мир искусства, и никто не закричал: «Гоните его!»
Просто там почти никого не оказалось.
Кроме Сергея. Вялый и нежный, он не имел вкуса к еде и на собственной кухне с интересом смотрел на молодого человека, который с удовольствием уплетал мамин борщ, а потом пел песни о своих желаниях…
Вспомнилось, как он недавно попал в их небольшую компанию. Там были взрослые женщины. Настолько взрослые, что с дочкой одной из них хмельной Сева скоро удалился целоваться на кухне. А в комнате в это время тихо, но хором запели:
Когда на сердце тяжесть И холодно в груди, К ступеням Эрмитажа Ты в сумерках приди…Сева оторвался от незрелых губ и прислушался. Он вдруг почувствовал себя старым. Он никогда не пел хором. Он не знал этой наивной песни. Он был другой, ему не было здесь места.
В следующий раз Сева выступать отказался.
3
Сева находился в общажной комнате один. Он уже восьмой раз исполнял одну и ту же песню, звучание только-только начало его удовлетворять. Основной ход композиции был в том, что небольшой кусок довольно сложного поэтического текста исполнялся трижды – сначала в крайней робости и нежности, а в финале – полной грудью, так, будто поющий должен преодолеть ревущую стихию. В момент, когда Сева очередной раз пел против ветра, в дверь интеллигентно постучали.
Сева медленно отложил гитару и встал. На нем были шорты ниже колена и серая жилетка на голое тело – таким он увидел себя в зеркале и усмехнулся: «Художник». Дверь не была заперта. Ее вообще бесполезно было запирать – она легко вскрывалась вилкой и ножом, Сева делал это уже дважды. Он отворил.
На пороге стоял по меньшей мере странный человек. Он был одет в расшитое по-индейски пончо. Небритое худое лицо и женская шапка кудрявых волос. На носу круглые очки, поверх которых выглядывали игривые черные зрачки. В руке он держал дымящуюся трубку, из которой шел незнакомый аромат изысканного табака.
– Я ннне ошибаюсь, уважаемый, это бббыла песня на слова Иосифа Бббродского? – его тонкие губы чрезмерно артикулировали, в какие-то моменты превращая лицо в маску. Севе показалось, что он специально заикается.
– Да, это первая строфа из «Осеннего крика ястреба».
– Я ннне думал, что это мможно спеть. Я зайду?
– Конечно.
– Я – Егор, – и протянул тонкую узкую ладонь.
– Всеволод. А что это за табак?
– Вишневка. На, попробуй.
Сева принял трубку и несколько раз потянул. Не удержался, вдохнул и закашлялся. Но все равно сказал:
– Отличный вкус.
– Именно так, – Егор ответил так, будто речь шла не о табаке, а о нем самом. И широко профессионально улыбнулся, обнажая мелкие подгнивающие зубы.
– Песня и Бродский – это сочетание редко бывает удачным, – Егор стал блуждать взглядом по стене, а слова – манерно растягивать. – Ранние его вещи класть на музыку легко до банальности. Я слышал три разные аранжировки «Пилигримов», нет ничего пошлее. А вот взять его зрелые разговорные тексты, которых и прочесть-то нужно умудриться, – это уже задача поинтереснее.
– Совершенно верно. Послушай, что я сделал со стихотворением «Я родился и вырос в балтийских болотах…»
Егор жил наискосок от его секции, с другой стороны коридора. Он оказался старше на целых пять лет, хотя учился только на втором курсе филологического факультета. Он делил комнату – случай в общежитии небывалый – с молоденькой светлой девушкой-первокурсницей. Ее можно было иногда встретить в коридоре в венке из полевых цветов и в маечке поверх торчащих грудок.
На следующий день Сева уже сидел в их комнате, на шкуре какого-то животного. Они раскуривали трубку, затем Егор ставил арии из Jesus Christ Superstar и пел вместе с Яном Гилланом, заметив, что диапазон музыканта – от «ми» второй октавы до «до» шестой, это в полтора раза больше, чем, например, у Джона Леннона. «Точно, Егор похож на Леннона – и очки такие же», – дошло до Севы. Он пялился на книжные полки – там стояли книги с египетскими, скандинавскими и индийскими мифами, «Улисс» Джойса, два тома Пруста, том Стейнбека.
Егор брал любой вопрос, даже если не знал точного ответа. Это был потомственный интеллектуал. Он приводил цитату из текста, который упоминался в разговоре, – от стихотворения до «Манифеста коммунистической партии». Он свободно ориентировался в генеалогии европейских монархов. Света, девушка Егора, шепотом утверждала, что он руками снимает головную боль, – и намекала, что он же ее и навлекает. Он очень хорошо знал материалы, из которых древние изготовляли краски. У него не было телевизора, но он смотрел все, что снял Гринуэй. Он знал не только картины художников, но помнил, что они писали в своих дневниках. В самом корявом четверостишии Севы Егор обнаруживал половину мифологии зороастрийцев и ряд аллюзий на тексты, которых Сева читать не мог. Он умел увидеть любой мусор в культурном ряду, он владел недоступными контекстами. Было неясно, то ли он сам так понимает, то ли он наслаждается своей властью наделять значимостью.
Сева быстро подсел на это волшебство.
Написав несколько строк, пустой и истощенный, Сева шел к Егору, чтобы тот его наполнил, успокоил, ввел под ручку в храм искусств, вписал его корявые буквы в большую культуру. Он сидел у него почти каждый день. Он играл в игру, в которой маэстро переиграть было невозможно.
Но вот Сева уже оказался в очереди, потому что появились и другие. Длинноволосая большеглазая женщина с громким голосом и длинными ногами – куда-то он ее тоже вписывал. Сильная и полнотелая, она надолго замолкала, вслушиваясь в нарочито тихий заикающийся баритон большеголового старичка с телом мальчика.
Высоколобый, смешливый, но глубокий Рома, который пытался писать прозу, стал много думать с тех пор, как повстречал Егора. Однажды Сева зашел к Роме и застал сценку: Егор наклонился вплотную, буквально вперился в лицо собеседнику и не повернул головы, услышав, что кто-то вошел. И Рома не скосил глаз – он не мог оторваться от нависающего и что-то тихо говорящего Егора. Сева вышел.
В тот же вечер Егор прочел Севе отрывок из романа, который он, оказывается, пишет. Сева впервые увидел процесс, из которого он мог почерпнуть знание о том, как полагается писать романы. Это была стопка желтых листьев на краю большого стола. Егор раздобыл перьевую ручку, под настольной лампой стояли чернила. Хрустящие листы, став исписанными, начинали изгибаться. Это был кусок текста, описывающий приготовления художника к написанию картины, Сева запомнил, как он смешивал цвета – «касторовый» и «купоросный», но Егор читал так, будто ласкал женщину, – и, дойдя до акта творения, целомудренно остановился. На кушетке после его чтения уже изнемогала Света.
Однако Егор не всегда был великодушен – последняя песня, например, у Севы получилась как никогда, но тот не сказал ничего. Не только не сказал – явившемуся без приглашения Севе он пробормотал «сейчас» и вышел из комнаты как будто на минуту. Но прошло десять минут – его не было. Прошло двадцать. Сева зачитался первой попавшейся книгой, взятой с полки, и вдруг вздрогнул. Он понял, что Егор просто ушел. Возможно, он не знал, как избавиться от гостя. Сева усмехнулся. Он вспомнил, как несколько дней назад Егор, заканчивая свой монолог о башне из слоновой кости, о праве художника сделать хоть что-то стоящее из этой никчемной реальности, вдруг посмотрел на него особенным, тяжелым взглядом. Смотрел на него так буквально несколько минут и даже приблизился. А Сева не понял, что происходит, немного подождал в надежде, что того отпустит, а потом сказал просто: «Не нависай», – и отвернулся.
Сева встал, поставил книгу на полку и прикрыл за собой дверь. Надо становиться взрослее.
Да что ты вообще знаешь об этой реальности?
4
Контролер прошел по вагону прямо перед Клином – станцией, до которой Сева купил билет. Можно было не опасаться, лишь бы проверка не задержалась до пункта прибытия, – незапланированно выходить там совсем не хотелось, поскольку из Клина дальше можно только по той же железной дороге в Тверь.
Сева принял вид человека в прострации – полуприкрыв глаза, он смотрел то ли в окно, то ли в себя. Ему казалось, что выглядит он вполне естественно. Его интересовало, у всех ли проверяет билеты контролер, а также – возможно ли натуральным философским видом усыпить бдительность проверяющего. Это нелишняя информация: контролер может оказаться не последним. Трюк прошел: билета у Севы не спросили. На самом деле Сева не мог себе этого объяснить. Русая мощная баба с поставленным голосом спросила каждого, кто сидел рядом, – четыре человека подряд. Сева внимательно слушал происходящее, сидел в прострации, расслабленный, и уже готовился очнуться. Но решил не делать этого до тех пор, пока не растормошат специально. И баба его не тронула. «Чудеса, да и только!» – внятно подумал Сева. Рыцарь уже чувствовал зловонный запах из пасти чудовища и готов был выдернуть свой клинок, но монстр, околдованный чарами, не заметил рыцаря.
Контролера больше не было до самой Твери.
Вокзал, на котором сошел через полтора часа Сева, был особенным. Он был почти пуст, как в любой провинции. Но такой вокзал Сева мог видеть только в кино, где с поезда, окутанного парами дыма, на перрон под навесом медленно выходит дама в роскошной шляпе. Навес поддерживала галерея узких колонн, окна и двери одноэтажного округлого здания образовывали арки. Не хватало августейших особ. Вместо них по перрону вслед за поездами проносилось несколько теток с корзинами пирожков, им в подмогу был придан долговязый дядька с большой сумкой бутылок. Глядя на него, Сева вспомнил, как Саша, с которым он вчера выпивал, когда-то нахваливал ему тверское темное пиво. И Сева поддался – взял бутылку «Афанасия», тут же ее открыл и вошел в здание вокзала.
Перед тем как покинуть электричку, он еще раз сверился с атласом. Ему предстояло пересечь город и выйти на трассу М-10. Сева вдумчиво допил пиво под навесом, выбросил бутылку в урну и отправился к остановке общественного транспорта. Через две минуты он уже держался за поручень троллейбуса. Водитель пообещал ему подсказать, где сойти. В троллейбусе было четверо. Трое молодых людей на задней площадке и женщина около водителя. Сева встал посередине, чтобы всех видеть.
Быстро выпитое пиво ударило в голову так, что захотелось сесть, положить голову на руки и закрыть глаза. «Конечно – на голодный желудок», – медленно подумал Сева, неторопливо фиксируя увеличение времени реакции.
А на задней-то площадке – немые. Один похож на зека лет тридцати, двое молодых ребят в футболках. Один эмоционально жестикулирует, второй, взрослый, реагирует скупо, но редко. Третий стоит мрачный. Сева подумал о том, до чего же некстати хочется привалиться и закрыть глаза, провалиться во временную вату бархатного пива, от которого, однако, гадко во рту. «Расслабился», – подумал с укором. Молодой парень, глядя на девушку, употребил красноречивый жест: соединив в кольцо указательный и большой пальцы левой руки, он несколько раз потыкал в него указательным пальцем правой. «Интересно, что он хотел этим сказать?» – насмешливо подумал Сева, а сердце у него уже билось чаще. На него внимательно посмотрели с задней площадки, что-то хмыкнули. Сева мрачно смотрел в окно перед собой. На очередной остановке все трое сошли. А могли и не сойти.
Троллейбус шел на юг. Сева вышел около крупной развязки. В любую из сторон в двадцати метрах от дороги начинался редкий, с большими просветами для солнца сосновый лес. Кустарников почти не было, в мелкой траве были протоптаны крупные залысины – и солнечные пятна лишь усиливали этот эффект. Но вот набежало небольшое облачко, закрывшее солнце, – и лес тут же набряк густой темнотой. Природа была непривычной и родной, узнаваемой, понимаемой кожей.
Сева сошел с обочины и зашел за деревья. Первым делом помочился, а затем полез в сумку. Отхлебнул тепловатой воды, чтобы вымыть пивную горечь. Подумал и достал бутерброд с сыром. Мог бы его сейчас не есть, но хотелось отбить пивной запах. Как он об этом не подумал, – снова себя отругал.
Пока жевал, посмотрел на часы: начало третьего. Отсюда до Питера успеть до темноты почти невозможно. Сева огляделся, как будто приучая себя к мысли, что ночевать, видимо, придется примерно в такой же обстановке. Открыл атлас – что тут за населенные пункты поблизости? Встал, заправился, провел по волосам, подхватил сумку и гитару.
Даже лес был засран. Бумага, сплющенные банки из-под пива и пластиковые баклажки. Мимоходом подумалось о том, что их никогда отсюда не уберут, что жизни дождаться не хватит, а значит мучиться придется всю жизнь. Или что-то делать.
Вышел на обочину метрах в восьмидесяти от места привала. Вышел и увидел на трассе одну-единственную приближающуюся машину – серебристый «форд». Он взмахнул рукой – и иномарка притормозила.
«Чудеса», – опять пронеслось в голове.
– Вы в сторону Медного едете? Не подвезете?
– Садись.
– Спасибо!
Внутри было прохладно – работал кондиционер. Водитель – полноватый крепкий мужчина в футболке без рукавов и в шортах – как будто едет с пляжа.
– Так тебе что – до Медного? – уточнил он.
– Вообще мне подальше. В сторону Марьино. По пути?
– По пути.
«Ну что я ему скажу сейчас сразу про Питер? До него километров шестьсот пятьдесят – ясно, что он скажет: не оборзел ли тут кто-то». Сева вспоминал, что до Марьино километров тридцать – конечно, капля в море. Надо было хотя бы Торжок назвать или – что там еще? – Вышний Волочек. Но это уже гораздо дальше.
Около получаса ехали молча. Сева не скучал – рассматривал переплетения веток. Он сознал, что его восхищает их нарочитая кривизна. Ему чудилась в ней борьба деревьев за существование. Он давно не видел дубов, ветви которых часто растут из ствола едва ли не под прямым углом.
В какой-то момент проехали коробку заброшенного животноводческого комплекса. Вокруг на много километров ничего не было, но рядом с этой зияющей пустыми окнами коробкой стоял маленький дом. Пока он был в поле зрения, из коробки вышли две маленькие фигурки. И снова на многие километры не стало никого.
Пустые земли манят как раз своей пустотой. Совсем рядом – выйти из машины – находится пространство, в котором человеческая жизнь совершается по другим законам. Там есть деревни, в которых нет людей. Недавно на социологии привели такие цифры: в стране несколько десятков тысяч поселений, в которых живет до десяти человек, одиннадцать городов-миллионников и одна Москва. Почему эти два человека не уехали из своего дома около заброшенной фермы? Кто-нибудь может представить, что у них в голове?
В такой деревне родился его отец. Точнее, он родился возле нее, в поле. До ближайшего загса добрались с опозданием, дату в свидетельстве о рождении записали более позднюю. Однажды, в те времена, когда маленького Севу еще возили на лето в Дятьково, семья отправилась на родину отца – в деревню Желтянка. С брянского вокзала в сторону Калужской области тогда еще ходил паровоз-кукушка. Спустя два часа он останавливался прямо в лесу, около поначалу неразличимой просеки. Семья там вышла и шла минут сорок, пока лес не расступился. Это был небольшой луг, на котором паслись коровы, и около десятка деревянных домов. Севе было около шести, он запомнил только детали: огромных настырных слепней, огороды и крапиву, толстые ежедневные оладьи со сметаной по утрам, горячую печь, на которую клали спать детей. Оладьи пекла даже не бабушка – прабабушка, вечная и несгибаемая. Говорили, что она жива до сих пор. Умерли все деды и бабки, их детей и внуков разметало по свету. Более того, они почти ничего не знают друг о друге. Мама не может вспомнить отчества отца, который умер, когда ей было восемнадцать. Она никогда не интересовалась тем, кто ее дед, и ничего не может о нем рассказать. Она уехала из одного неблагополучия в другое, и это будто давало право не интересоваться ничем. Какая разница, что за биография у людей, которые неприятны, плохо пахнут и выглядят? Что еще за выгода знать их прошлое? Семья не взрастила интереса друг к другу. В этом народе есть только одно поколение – то, которое живо. Но Сева был уверен, что прабабушка живет там же, где всегда, и в семь утра у нее до сих пор на столе тарелка свежих оладьев. И она ждет там всех нас.
– Откуда ты едешь?
Сева как будто очнулся и пару секунд вспоминал, кто это его спрашивает и зачем. И какие-то мгновенья он не мог вспомнить, не мог понять, как и что ему отвечать. Но – реальность разом вернулась.
– Из Ростова.
Мысли в голове улеглись, в сознании были только дорога и гул автомобиля. Пауза показалась долгой.
– Из какого Ростова?
Именно потому, что Сева не хотел эффекта, он как будто подумал и вздохнул:
– Из Ростова-на-Дону.
Он краем глаза увидел, что мужчина на него посмотрел. Едем дальше.
– Всю дорогу автостопом?
– Ага, – вздохнул Сева.
Помолчали.
– Давно в пути?
«А что – я довольно давно в пути», – подумал Сева.
– Третий день.
Слева от себя Сева угадывал озадаченность. В понятный кондиционированный мир автомобиля пробралась какая-то иная форма жизни. И там, слева, еще не определили для себя, то ли речь идет о ком-то вроде крупного насекомого, которое должно вызывать гадливость и страх, то ли просто о заблудшем представителе рода человеческого. Сева почувствовал прикосновение чужого сканирующего взгляда и постарался выглядеть проще: давайте сделаем вид, что у нас рядовая ситуация – я скоро выйду, и обо мне можно будет забыть. Водитель же в этот момент, как будто с усилием отрываясь мыслями от чего-то оставленного в Москве, думал: а хочет ли он знать больше об этой незапланированной иной форме жизни? Против привычного нелюбопытства к людям выступала прежде всего перспектива скуки в дороге.
– Что – из Ростова-на-Дону – в Марьино? – весело спросил он.
Сева уловил иронию, улыбнулся и торжественно произнес:
– Я еду смотреть великий град Петра, о чем мечтал всю свою короткую жизнь.
5
Сева не мог вспомнить, когда и где он впервые увидел Кузьму. Он завелся в комнате на девятом этаже, как таракан, который иногда приходил поприсутствовать. Антон смотрел на него с омерзением – как отличник на двоечника с нечистыми руками и улыбочкой настоящего директора земного шара. Кузьма действительно был похож на таракана. Бестелесное дистрофичное существо с подростковыми первыми усиками на выпирающей вперед верхней губе. Толстые стекла широкоформатных очков, делавшие маленькими широко расставленные глазки. Сальные жидкие волосы.
Когда Кузьма впервые прочел Севе свое стихотворение, тому пришлось крепко задуматься. Это была работа на молекулярном уровне. Казалось, что из всего алфавита для этого стихотворения Кузьма взял всего пять-шесть букв – и сплел из них кружевную ткань. Обдумывать можно было любое словосочетание, Севе запали некие «феатры трои». Рассматривая текст глазами, в отдельной строке Сева вдруг обнаружил палиндром – и изумленно взглянул на Кузьму. Тот улыбался, как насекомое, – прикрыв от удовольствия глаза.
Кузьму не отвлекало ничто. Однажды в комнате Севы он прочел статью Хайдеггера о пространстве во время вечеринки, в середине которой включили громкую музыку. Трудно было представить, что у него есть член. Но унизить его было невозможно. Однажды он пришел на факультет, одетый в одеяло. Пришел на спор и отучился в течение дня, заглянул в библиотеку. Что он выиграл в этом споре, известно не было, но что-то выиграл.
Он казался абсолютно светлой личностью, живущей в самой отдаленной от мира норе, которую только можно представить. И было непонятно, как его существование вообще можно обнаружить – и как вылезти из этой норы. Но оказалось, что там, в глубинах, на которые никто не опускается, тоже есть жизнь, и там тоже пытается пробиться искусство.
Сева вел себя с Кузьмой бережно. Он понимал, что никогда не окажется на тех глубинах, из которых тот выполз. Севе казалось, что Кузьма из мира, где еще нет языка, где он только складывается, где вместо языка еще одни корневища, и пока неясно, какие слова и значения вырастут из этих корневищ.
Собственные Севины тексты разом предстали наивными. Так может писать вульгарный дикарь, который думает, что язык принадлежит только ему, думал Сева. В его стихах было слишком много ролевого. И в столкновении с поэзией корней и грамматики лирический герой выглядел как представитель детской театральной школы.
И вместе с тем от этой чужой поэзии было ощущение космоса, вакуума, способного вобрать, высосать ровно столько твоей энергии и тепла, сколько у тебя вообще может быть. Эта поэзия пугала, потому что не нуждалась в человеке. И в то же время без ощущения, что одной ногой ты отныне стоишь там – Там! – писать больше было невозможно. Сева стал наблюдать за звуковой организацией, он пробовал освобождать слова от значений, попытался передавать значение только звуком, поворачивать корни слов в противоположные стороны. Он двигался ощупью, ему надо было перенести это на себе.
В последний раз Сева видел Кузьму в мае, он заходил, и они коротко обменялись новостями. Как только Кузьма вышел, Антон сказал, что не может больше видеть это недоразумение. И Сева, не найдя сразу правильных слов для его защиты, вспылил.
«Как он не может понять, что Кузьма за нас отдувается. Что кто-то должен попытаться искать там, где он ищет, – чтобы стало ясно, что там можно найти».
Сева удивлялся, что Егор вообще не видит Кузьмы. Сева пытался рассказать о нем, но тот не понимал, о ком идет речь. Как же, говорил Сева, он живет этажом ниже, постоянно здесь ходит. Но нет, в мире Егора-пастыря не могло существовать таких несистемных существ.
В сентябре, после месяца, проведенного в полном одиночестве – одиночестве, которое не позволило пропустить мимо ни одной ноты боли и пустоты, оставшихся от разлуки, – вернувшись в университетскую аудиторию с чувством, что он все-таки выжил, Сева узнал, что Кузьма в том же дефолтном августе бросился со своего восьмого этажа. После него не осталось ни одной строки.
6
– Объясни, откуда такое сильное желание увидеть Питер, – уже уверенно и даже не без некоторой требовательности спрашивал человек за рулем.
– А желание посмотреть – недостаточное основание?
– Все хотят что-нибудь посмотреть. Но не встают и не едут за две тысячи километров без денег.
– Какие-то деньги у меня есть.
– Сколько?
– На билет в один конец не хватит.
– Тогда не отвлекайся.
– Вы хотите развернутого ответа?
– Самого развернутого.
– Давайте я попробую… Начинать на самом деле можно с любого места. Иду я как-то лет в одиннадцать поздно вечером со свечкой и полотенцем в общий душ на первом этаже. Через весь первый этаж в нашем доме гостиничного типа тянулся длинный мощеный досками коридор, вдоль которого шли квартиры, а вверх – лестницы. Мы жили в среднем подъезде. С октября темнеет уже после шести вечера, и я брал с собой свечку, потому что в самом душевом помещении света никогда не было. Лампочек здесь даже не вкручивали – их сразу крали. Некоторые жильцы, правда, брали в душ, помимо полотенца и мыла, еще и лампочку, которая ввинчивалась только на время купания. Но я не доставал до патрона, поэтому брал свечу. На трех нижних этажах не было света, а в коридоре, ведущем к душу, свет горел только над дверью в одну из квартир. Там круглосуточно продавали самогон. Бизнес вела хозяйка, находившаяся под охраной двух взрослых сыновей. Отец семейства пил и частенько валялся во дворе. Слабая лампа над их дверью выхватывала небольшой полукруг коридора. На свет идти было хорошо, длинные доски упруго прогибались при ходьбе, но когда источник света оказывался за спиной, накатывала чернота. Казалось, что коридор мгновенно становился значительно шире, и на пути в душ можно было легко потеряться, сбиться с пути. Однажды, когда я шел по этому коридору, я увидел приоткрытую дверь в одну из квартир. Из нее несло желтым, как испитой чай, электрическим светом, который как бы оставался в квартире и ничего не освещал в темном коридоре. «Да когда ты уже сдохнешь! – внезапно прямо за дверью произнес усталый женский голос. – Как ты мне надоел…» – «Подожди, немного осталось», – отвечал из глубины раздраженный трескучий старик. «Ты все обещаешь…» Они, эти безымянные голоса, очень точно выразили суть тех отношений, которые я потом встречал повсеместно. А потом я дохожу до третьего подъезда – и раздается вынимающий душу и выплевывающий легкие резкий мокрый кашель, звук которого наполняет всю бесконечную ночь. В частном квартале начинают лаять собаки, подхватывая голоса друг друга. Такой вот исходный образ.
Что я видел в жизни? Помню Брянщину: лес, город, местами переходящий в поселок, мебельный завод, куда меня, шестилетнего, бабушка брала, чтобы я ей помогал мыть полы в бесконечных коридорах, которые за сутки зарастали древесной пылью. Потом голый солнечный Волгодонск, усаженный даже не деревьями, а саженцами. Там, конечно, уже мир был разнообразнее. Кругом вода – Цимлянское море, заливы, каналы, Дон, его притоки, котлованы. Все это – мир, на время отвоеванный у природы. Вот лежала степь, но в ней построили несколько домов – получилась улица, несколько улиц назвали Волгодонском. Выкопали котлован – получилось как бы море. Построили завод, привезли туда работать людей, устроили довольно убогую жизнь. Неужели именно такой она и задумывалась? Зачем на самом деле все эти люди там собирались? Я – понятия не имею. Как будто мы живем здесь, а смысл – он вообще не здесь, а где-то в другом месте. И это ощущение – оно нарастает. Я думал, что в Ростове что-то изменится. Пожил там года полтора – и понял, что это ощущение странности становится только сильнее.
– И что – в Питере смысл?
– Точно не знаю.
– На все вопросы есть очень простые ответы. Их знают почти все.
– Поэтому все такие несчастные?
– Ладно, продолжай.
– Да… Живешь и думаешь: как я тут оказался? Что мы тут делаем? Может, все эти люди знают, а ты один не знаешь? Начинаешь прислушиваться, прощупывать вопросами – и понимаешь, что есть много вопросов, о которых говорить не принято. Столько земных забот, надо крутиться. И ты колеблешься: то ли ты такой умный, что видишь всеобщую глупость, то ли ты такой тупой, что не понимаешь очевидных вещей. То ли тут все неправильно сложилось, но никто не хочет ничего менять, то ли ты не видишь за ежедневной рутиной сути происходящего. И ответы нужны не когда-нибудь потом – они нужны сейчас. И от того, каким будет ответ, реально зависит, какие ты будешь совершать поступки прямо завтра. Но это осознанное завтра постоянно отодвигается, продолжается все то же бессознательное настоящее. И вот ты заглядываешь однажды в искусство и понимаешь, что там все гораздо серьезнее, чем во всей твоей остальной жизни.
– Сильно сказано.
– Да, это трудно объяснить родственникам. Моя мама – несчастный человек: с восемнадцати лет нянчит детей, пытается получить какое-то образование, наладить личную жизнь, выбраться из нищеты. И тут приходит сыночек и говорит: «Это, мама, все фигня, вот искусство – это серьезно». Но на самом деле понимаешь, что она несчастна потому, что ее как бы уже засосало в какую-то центрифугу – и ее, как белье, то стирают, то выжимают, то сушат. И если ты ничего не сделаешь по-другому, то с тобой будет то же самое. А куда сбежать, если ты в многодетной семье, в которой у тебя тридцать три обязанности на каждый день? Можно в бандиты, а можно в книжки. Там хотя бы можно пытаться что-то понять, как бы быть в состоянии поиска. Там прямо звучат вопросы, которые я ни с кем из живых людей никогда не обсуждал. Я не знаю, почему так. Может, были времена, когда они обсуждались. Может быть, дело в семье, может, рождаться надо было в другом месте. Но то, от чего должны реально зависеть твои поступки, – как вообще в этом разобраться, если ты живешь, не успевая ни о чем подумать? Не только о том, что ты сделаешь, но даже того, что уже сделал, не успеваешь понять. И я подумал, что где-то должно быть место, в котором жизнь и культура пересекаются. Такого места не может не быть. Но это точно не в Ростове.
– Что значит «пересекаются»?
– Что? – переспросил Сева.
– Что такое место, в котором пересекаются жизнь и искусство? Как ты поймешь, что нашел его? И зачем его искать?
– Уф-ф…
– Ты не вздыхай. Ты, если что-то забыл, сейчас едешь за две тысячи километров в незнакомой машине в незнакомый город. Если уж ты делаешь это, то ты должен о своей мотивации понимать хотя бы элементарные вещи.
– Мотивации?.. Да, конечно. Это должно быть что-то вроде моста. Моста, ведущего на прелестный остров, который называется культура. Этот остров захватили дикари, которые умеют только приносить жертвы и воскурять фимиам. Искусство должно помогать разглядеть реальность, а не закрыться от нее. Это такая формула любви. Формула, наделяющая смыслом. Мы на самом деле хорошо чувствуем, о чем речь. Берешь «Капитанскую дочку» – и все там полно смысла и значимости. И уже это – очень любовное отношение к реальности. Искусство всегда знало, что оно должно выводить жизнь из тупика естественного отбора – даже тогда, когда это больше никому не надо. Но я пока больше чувствую, чем понимаю. Я не понимаю, как оно это делает.
– Ты считаешь именно себя обязанным этим заниматься?
– Я вообще в первую очередь думаю о том, что надо именно мне.
– Но, выходит, что как бы не только тебе, да? Если подумать, выходит, что человек, который считает, будто никто никому не должен, едет неизвестно куда искать счастье для своего народа. Как бы ты объяснил этот парадокс?
– Наверное, виноваты песенки.
– Не понял.
– Я пишу и пою песни. Я делаю это не просто хорошо – у меня как бы большой отрыв. И это при том, что я мало что на самом деле умею. Но песня – это не рубль, который я могу потратить, например, на себя. Песня – хочешь ты этого или нет – создает вокруг себя мир, которого в реальности, может быть, еще и нет.
– Даже «Владимирский централ»?
– Даже он! Хорошая песня создает у чужих, незнакомых и даже довольно агрессивно настроенных людей ощущение, что они заодно. Если песня нравится, то кажется, что ты знаешь, где это – «Владимирский централ» и как играть в «очко». Этим людям становится не стыдно сказать о себе «мы». А это немало! И все это на самом деле чувствуют. И тут уже и всеобщее счастье на горизонте. Так вот: я думаю только о песне. А песня – она сама подумает уже обо всем остальном.
Они долго ехали сначала в напряженной, а потом отпустившей тишине. Наконец водитель улыбнулся:
– Вот что я тебе скажу, парень. Ты, конечно, смахиваешь на сумасшедшего. Но ты не сумасшедший, – и быстро посмотрел на Севу. – Как зовут-то тебя?
– Всеволод. Сева.
– А я – Руслан… Я, Сева, – хозяин мира, по которому мы едем и о котором ты так заботишься.
7
– Лиманчик – место, которое принимает всех! Просто выходишь в шесть утра на перрон в Новороссийске – и забываешь человеческий язык. И такой приход! Мы с пацанами, когда оказались на мосту над поездами, на «раз-два-три» ка-ак заорали: «А-а-а!»
– Дебилы, – мрачно откомментировал Сева, глядя в поднятую кружку с чаем.
– Ну, нам вокруг сразу так и сказали. Там же вокруг, сука, серьезные хмурые люди. С сумарями херачат в шесть утра с поезда сразу на работу. Потом нас даже пригласили для разговора представители правоохранительных органов… Просто надо понимать это состояние, чел! Ты должен увидеть это место – там остановилось время, там друзья, музыка, вино, женщины, дурь, море и натуральное хозяйство. Человек должен прикоснуться к такому, иначе он постоянно ходит с таким таблом, как у тебя. Тот, кто это хоть однажды попробовал, становится лиманоидом. Я был там четыре раза, и я уже не могу дождаться лета. А есть люди, которые живут там каждое лето, – и они уже не могут сосчитать, сколько раз они приезжали, потому что это слишком большие числа. Поехали, Сева!
Сева пожевал губами и отхлебнул чай из своей кружки.
– Леша, ты так восторжен, что мне неудобно продолжать этот разговор.
– Поехали, Сева! Осталось полтора месяца – и мы на воле!
– Лёша, я не чувствую себя в тюрьме, – сказал Сева неохотно. – Знаешь, какие у меня ассоциации с натуральным хозяйством? До сих пор иногда закрываю глаза и вижу наш отрез земли в степи, к которому не проведена вода, и вокруг стоит треск палящего солнца. Кажется, что насекомые жарятся на сковородке и трещат. И я не знаю, как выбраться оттуда. И мне кажется, что я до сих пор еще не выбрался, понимаешь? То, что там, куда ты меня зовешь, остановилось время, меня приводит в ужас! – уже, смеясь, выкрикнул Сева.
Лешу Лешей называл в этой компании только Сева, для всех остальных он был Киса. Севе на самом деле не было понятно, от чего Кисе сбегать. На занятия он не ходил, был завсегдатаем всех двух местных музыкальных кабаков, иногда и сам, с банданом на голове, сходил за музыканта. О родителях он не говорил, но все знали, что Киса в общагу ходит в гости. Четырехкомнатная квартира в старом фонде на Ленина всегда ждала блудного сына. Одевался он как хиппи, хотя был здоровым упитанным детиной с наметившимся брюшком. Киса хотел быть везде, где не напрягали человеческое существо.
– Соловей, скажи ему, – сказал Киса.
Соловей никогда ничего не говорил. Соловей пел. Когда он начинал петь, Сева отмечал про себя: первый человек с голосом из всех встреченных в Ростове-на-Дону за полтора года. Соловей заливался.
Эх трава-а-тра-авушка Травушка-муравушка-а…Он пел песню про настоящего индейца, Киса бросался подпевать – ему очень нравилось петь, но нот он не различал. Сева внимательно слушал. Песня напоминала разновидность дури, но была действительно хороша – заливиста.
– Хоть от дяди Федора нормальная песня осталась, – пробубнил себе под нос русак Борис, поправив дешевые очки и быстро постукивая ложечкой по стенкам стакана. – А вообще русский рок превратился в говно. Либо песни для девочек, либо нравоучения. Две группы нормальные остались – «Апрельский марш» и «Зазеркалье». Уральцы, кстати, воспели первый задокументированный случай некрофилии – в песне «Сержант Бертран»…
Борис знал, о чем говорил, – тему некрофилии в своем творчестве он вывел на новый уровень. Борис писал песни, собрал группу «Мухолов» и концертировал. Помимо песен о любовных отношениях с трупами в его арсенале были хиты на сатанинские темы. Борис копал не просто вглубь, но прежде всего – в сторону, подальше от прямого языка старой культуры. Он заканчивал философский факультет и в определении того, что он делал, употреблял слово «субкультура». В крайних случаях Борис употреблял слово «постмодернизм», для него оно означало, что после любой песни можно сказать: «Это была шутка». От некоторых шуточных песенок Севу брала оторопь. Но были и песни, которые, по мнению Севы, автор должен был бы считать совсем другими, серьезными. В них был свой почерк и драматизм – однообразная манера исполнения и довольно слабый голос совершенно не мешали им в полной мере проявляться. Но Борис не выделял этих песен, пел их наряду со шлягером «Поклонись сатане». Постепенно Сева понял, что Борис вообще не склонен много думать над тем, что он делает, – предпочитает делать, быстро и легко. Для него искусство не предполагает цели сделать идеальную вещь, оно для него повседневность, изобретенный раз и навсегда образ жизни, в котором допускается иногда в конце концерта показать волосатую голую жопу. Сева этого не переносил и на концерты Бориса не ходил. А потому виделся с ним редко, чаще всего – в этой самой комнате, расположившейся в соседней секции. Борис, как правило, много и беспорядочно говорил, стучал своей ложечкой, как будто стеснялся тишины в присутствии Севы. А Сева, хотя и младший, тишины не стеснялся. Он чувствовал себя, как бочка со смолой, в которой невозможно провернуть ложку. Процессы в нем сейчас шли медленно.
– Боря, ты был в Лиманчике?
– Нет, я не был.
– Как не был? – театрально воскликнул Киса, который считался старым приятелем Бориса.
– Никогда не был, – подтвердил Борис, – но у меня же везде Лиманчик, только такой – мрачный. Я приезжаю в любой город, и везде есть тридцать-двадцать-десять человек, которые знают мое имя, откуда-то знают мои песни, подпевают, наливают – и в любом городе мне примерно одинаково…
– Если бы я твоих песен не слышал, я бы завидовал, – сказал Сева.
– Что, не хочешь в мой Лиманчик? – затрясся от беззвучного смеха Борис, поднимая глаза на Севу.
Здесь же был Димон, которого называли Белым. Он был специалист только по программе развлечений. Соловей закончил, а Димон вынул из кармана маленький кусочек того, что можно было бы принять за древесину.
– Знаешь, что это? – спросил он Севу.
– Что?
– Корень мандрагоры.
– Наркотик?
– Немножко, – хитро усмехнулся Белый, и они встретились глазами.
Прошлой зимой, сдав сессию, Сева уехал в Волгодонск на две недели. В этой комнате пили, когда он уезжал, и когда он приехал, здесь тоже пили. Но что-то в Белом такое проглядывало, что говорило: Димон здесь, на этом вырванном из потока острове, временно. Сева теперь понял, что именно проглядывало, – быстрые умные глаза.
– И что со мной будет?
– Немножко мультфильмы посмотришь.
– Надолго?
– Два-три часа.
Это была суббота, час дня, планов на выходные не было. Внутри все было настолько слежавшимся и густым, что не оставалось никакой возможности понять, что там. Да и уже ничего на самом деле не было, но понять это пока было решительно невозможно. Сева взял эту темно-коричневую штуку.
– Это надо жевать?
– Можно полизать.
Сева сунул деревяшку в рот и стал разгрызать, морщась от вяжущего вкуса. Запил чаем, несколько раз. Справился, огляделся. Белый смотрел на него. Ничего не происходило.
– Долго ждать?
– Приход минут через сорок.
– Ага. Продолжаем разговор.
– Ингуши достали крайне, – подбросил тему Димон.
– Да, крайне, – подтвердил Борис, – давайте я своим ребятам из НБП скажу. Вы же знаете, что у нас тут, в Ростове, были выданы десять первых членских билетов этой партии? – они подъедут, поговорят с людьми, вернее – эти парни из казаков, они не очень разговорчивые…
Соловей просто поднялся и вышел, на прощание подняв кулак: но пасаран. Но от девиза не осталось ничего, кроме жеста. «Боец, мля», – внезапно зло подумал Сева.
Борис продолжал говорить, а внутри у Севы что-то тревожно дергалось. Так реагирует сердце на воспоминание о суровой реальности. И нужно сразу взять себя в руки, сконцентрироваться на мужском. Как это было некстати сейчас, когда он сидит с распускающейся мандрагорой в желудке, готовясь отбыть в инобытие.
Ингуши жили в соседней секции. Три молодых волчонка, к которым приходили старшие братья с четвертого этажа. Они ходили в лакированных туфлях, но воровали еду на общих кухнях. Ингушские девочки, жившие рядом, не поднимали глаз, не улыбались и не здоровались. Неделю назад несколько взрослых ингушей ворвались в комнату русских второкурсников на девятом этаже – один из них подрался со своим кавказским ровесником, который приставал к его девушке. Русский студент провел успешный хук, который сильно остудил пыл нападавшего. С победой он вернулся к себе в комнату. Через полчаса в нее ворвались без стука. Студент был сломлен, он смотрел в пол, а взрослый ингуш держал его за горло огромной ладонью. Остальные не встали со своих кроватей, внезапно почувствовав себя детьми, которых ругают старшие. А старшие их унижали. И заступиться было некому. Эту ситуацию обсуждали на этаже с тревогой, которая проникла даже сюда, в комнату, где время остановилось, где жили люди, которые ни в чем не участвуют.
И вдруг это все навалилось. Нельзя так оставлять. Эх, в который раз думал Сева, меня там не было. Ну вот ты здесь, вот они в соседней секции – и жить вам еще долго. И как именно ты будешь жить с ними долго, зависит от тебя. Это по-взрослому. А от кого еще? От Белого? От Кисы? Он уедет в Лиманчик. И никаких переговоров быть не может. Ты в глаза этому коренастому Мусе смотрел? Они только силу понимают. Никакого великодушия быть не может. А сердечко-то такое великодушное, так оно всех понимает, так ему тесно в этой узколобой агрессии. Так оно сопротивляется тому, чтобы ты засыпал и просыпался таким, беспощадным! Его тянет в идиллическую звенящую тишину, под юбку. В область дурманящих трав, туманной мандрагоры.
Сева почувствовал, что надо в туалет. Встал. Белый сказал, что начинается вывод жидкости из организма. Сева вернулся, сел на край кровати – и снова встал.
– Я тебе говорил.
Он вернулся вновь – и наконец почувствовал головокружение. Мир стал ватным по краям зрения и сознания. А когда он отливал в третий раз, из струи вдруг совершенно отчетливо вылетела большая черная муха.
8
– Ты, Всеволод, похоже, серьезный человек.
– Вы так издеваетесь? – серьезно спросил Сева.
– У тебя голова, конечно, полна идеалистической дичью, – Руслан как будто размышлял вслух, – но думать о таких вещах может только человек, который не озабочен тем, что держит в страхе девяносто девять и девять десятых окружающих нас людей. Не знаю, как ты там поешь, мое внимание привлекает тот факт, что в тебе совершенно не чувствуется страха выживания. Я очень хорошо знаю запах этой эмоции. Люди, которые ее испытывают, всегда немного смердят. Ты не замечал вокруг себя, Сева, пованивающих людей?
Сева мгновенно ощутил запах, из-за которого он не смог продвинуться в отношениях с фигуристой брюнеткой Галиной, вспомнил и другой – из-за которого он держался всегда минимум в полутора метрах от умного парнишки с параллельного курса. Запахи были его ахиллесовой пятой – Руслан невзначай угодил в точку: часто запах сразу определял предел отношений Севы с новым человеком.
– А иногда они так воняют, что к ним нельзя приближаться, – продолжал играть на той же струне Руслан. – Я считаю, что дело только в страхе, только в нем… Он повсеместно. Если ты вспомнишь маму и папу, если ты обращаешь внимание на прохожих, на людей, которых показывают по телевизору, и на людей, которых не показывают, то ты увидишь, как отчаянно они держатся за любое подобие встроенности. Потому что страшно остаться одному. Потому что жижа над головой быстро сомкнется, если держаться не за что. Миру не нужны новые люди, Всеволод. Людей – как говна. И оно смердит.
– Вы будете заезжать в Великий Новгород?
– Нет, там есть объездная трасса.
– Мама с папой у меня не смердели.
– Это такой образ, Всеволод. Есть такая штука, которая называется власть. Что ты знаешь о власти?
– Какая-то абстракция. Не знаю, какое отношение ко мне…
– Наоборот, это всегда очень конкретная вещь. Это всегда конкретные люди, которые знают, что делать. Даже тогда, когда страна в развале, когда законы не действуют, а люди друг друга не любят, реальная власть все равно осуществляется. Не существует никакого безвластия. Никогда. Мир всегда поделен. Колос, который вырастает в поле, всегда кому-то уже принадлежит. Вот и человеку необходимо чему-то принадлежать, знать, на каком поле он растет, быть вписанным в понятную схему. Пускай в ней все воруют, пускай детей едят – нормально, это приемлемо, потому что человек – животное социальное. И раз общества другого нет – что тут поделаешь: ты как бы ни в чем не виноват – времена виноваты, с них и спрашивайте, верно?
– Да, удобно, – усмехнулся Сева.
– Именно.
– Я не очень многое понимаю про наши времена. Мне сравнивать не с чем.
– Двадцать лет назад ответы на главные вопросы были другие. Теперь коллективизьму, – Руслан как-то скривился на этом слове, – народ понимать не хочет. Поэтому семья, круг друзей, рабочий коллектив, гражданское общество – всего этого больше нет. Одинокий человек работает, чтобы зарабатывать деньги на то, чтобы не сдохнуть или позволить себе радости. А раньше он таким образом встраивался в общество, и оно могло с него спросить, могло судить, могло издеваться над ним. А теперь – попробуй влезть в мою частную жизнь. Никто никому ничего не должен. Но это только половина картины. Вторая половина состоит в том, что в одиночестве человек превращается в мразь, ничтожество, воняющее от страха. И эти индивидуумы в какой-то момент понимают, что хотят только одного – чтобы ты вогнал их, мятущихся, в узкую бетонную колею, чтобы помог им отрезать лишнее, чтобы усек их душу до состояния простейшего образования, обрубка, у которого, однако, появляется шанс на выживание. Власть – вот эта самая колея. Причем не просто власть, а – реальная власть, Всеволод. Знаешь, в чем отличие реальной власти от так называемой?
– Не думал об этом.
– Можно жить в государстве и не знать значения слова «государство». Можно вырыть прекрасный судоходный канал, но им будет почти некому пользоваться. С такой властью можно и разминуться. А реальную никак не проскочишь. Это та рука, с которой ты кормишься. Есть у тебя такая рука?
– Я учусь на бюджетном месте и живу в общежитии университета.
– У тебя очень предметное и правильное понимание того, что такое государство. Будут тебе говорить что-то другое – не верь. Но есть проблема – ничего завидного сейчас государство дать не может. Все, что оно может сейчас дать, – это убожество.
– В Волгодонске мы десять лет жили впятером в гостинке, которую дал нам жэк. Там было теснее.
– Поверь, это временное ощущение. И то, что ты едешь за тридевять земель, только подтверждает это. Тебе уже тесно. И то, что ты мне говорил о всеобщей потере смысла, – разве не про то же? Ты чувствуешь это убожество. Тебе надо больше.
– Пожалуй. Только вы так жестко формулируете.
– Мне тоже надо больше. И я в своем желании зашел гораздо дальше, чем ты. Мне недостаточно того, что мне может в этой стране дать государство. Более того, я допускаю, что во всем этом государстве нет почти ничего, кроме нескольких газовых и нефтяных скважин, что могло бы меня удовлетворить, если бы мне досталось. Мне нужны такие блага, которых здесь никогда не было! И я могу только взять всю эту безликую массу индивидуальностей и сделать им предложение. И они мне пророют мой личный судоходный канал. И будут счастливы от того, что я вернул смысл их существованию.
Руслан был привычно удовлетворен тем, как у него складывалась картинка, он недаром считал себя профессионалом. А Сева старался ничего не пропустить. И прежде всего не пропустить момента, где он прозевал подмену, которую почувствовал сразу.
– Я бы не хотел жить в вашем обществе. Не хотел бы быть в нем даже вами, – вдруг со всей определенностью сказал он. – Блага, может быть, и другие, а ячейки для людей все те же – узкие и тесные. А как вернуть смысл тому, кто в них живет?
Руслан входил в состояние, когда важнее переспорить, чем найти решение.
– Вопрос сформулирован верно, Всеволод. Но ты упускаешь одно обстоятельство. Ты думаешь, что положение дел ненормально. А реальность в том, что всех все устраивает.
Руслан замолчал с явным провокативным умыслом. Своим молчанием он подталкивал Севу к реакции, он знал, какой она должна быть.
– Почему вы так решили?
– А как ты докажешь, что это не так?! – это явно был его конек. – Как объяснить то, что ты их кормишь сеном три раза в день – и им достаточно? Жизнь – скотская, но – им достаточно! Они боятся, что им сено два раза в день станут давать. Мужики готовы в день трехлитровый баллон спермы сдавать – лишь бы им три раза в день сено давали. Кто заставляет?
– Мне кажется, так можно сказать и об учителе, который просто работает учителем.
– Уточнение: так можно сказать об учителе, который работает учителем в ситуации, когда эта работа не дает ему возможности продолжать существование. Это все равно, что целый народ в определенную эпоху начинает думать, что самоубийство не такой уж плохой вариант. Его даже не нужно совершать – все произойдет само собой! – Руслан уже почти орал. – Это что, очень достойно – умереть учителем? Кто ему сказал, что он учитель? Может, он все-таки человек, а не учитель? И что в таком случае сделал человек ради того, чтобы спасти этого учителя? Почему он ничего не делает? У тебя есть объяснение этому, Всеволод?
– Я не знаю… я не додумал…
– Тогда послушай того, кто додумал. Они боятся. Боятся – вот и все. И от них воняет этим страхом… У нас тут давеча мир рухнул, Всеволод. Говорю тебе как человеку, которому не с чем сравнить, – он снизил обороты и говорил теперь довольно тихо и даже беззаботно. – Куда ни кинься, ничего нет. Даже царь бухает. Учителю не до учебы – он готовится к своей кончине. Ему насрать, сделал ученик пятого класса уроки или нет, потому что дальше – только смерть. Под моим началом работает тысяч восемь таких учителей.
– Но ведь для вас это не так?
– Для меня это не так. Я считаю, что, если закона нет, первое, что нужно сделать, – установить его. Пускай это будет очень плохой и несправедливый закон – например, закон, который делит людей на волков и овец, – но это лучше, чем никакого закона. И если я ничего не могу выдумать умнее, я все равно буду судить и карать за несоблюдение своего несовершенного закона.
– Как вы отличите волка от овцы? По запаху?
– На самом деле это неважно. Но если ты интересуешься, то я тебе скажу, что мне достаточно полчаса послушать, что и как человек говорит.
– Так чем вы занимаетесь? Если не секрет.
Руслан помолчал.
– Это называется антикризисный менеджер. Я один из учредителей влиятельной бизнес-группы, интересы которой сосредоточены в самых разных сферах – от тяжелой промышленности и строительства до ресторанов и ломбардов. И в разных регионах. Когда новое предприятие попадает в зону нашего влияния, я еду туда и за короткое время делаю его эффективным. Сегодня я еду из Москвы в Петербург, а завтра могу быть между Казанью и Уфой.
– Сегодня тот редкий день, когда я могу сказать о себе примерно то же самое, – усмехнулся Сева.
– Да, можешь. У тебя хороший глаз, Всеволод, и внимательный ум – ты сумел вычленить проблему, которую мало кто способен увидеть. При этом ты оказался способен встать и при минимальных ресурсах отправиться в путешествие на самый верх. Ты же на самый верх отправился, верно, Всеволод?
Сева коротко глянул на Руслана и, чувствуя озадаченность, смолчал. Руслан взгляд увидел.
– Ну а ты как думал, Всеволод? Разве ты не едешь, чтобы найти ответы на свои вопросы? А вопросы у тебя неслабые. Зачем живут люди, спрашиваешь ты. Почему они несчастливы? Как написать песни, которые пробудят в человеке желание заботиться о себе, своей земле, о своих близких? Я ничего не перевираю? Мне кажется, несильно… Давай представим на мгновенье, что ты найдешь ответы на эти вопросы. Найдешь вот прямо завтра к вечеру. К утру мы доберемся до Петербурга, а к вечеру тебе уже все станет ясно. Почему нет?.. Тебе открывается уровень заявленных амбиций? Так вот, осознай: если все будет так, как я говорю, это будет значить, что завтра к вечеру ты станешь мессией, пророком, которому открылось знание, недоступное людям.
– Неудобно как-то получается, – с улыбкой поежился Сева, но тут же убрал улыбку. – Я всего лишь поделился своими мыслями, которые, если честно, мало кого, кроме меня, интересуют. Какой там пророк, о чем вы. Пророков не бывает.
– Без разницы, как называть. Назови себя антикризисным менеджером. Что делает такой человек? Он диагностирует проблему, затем подбирает инструментарий для ее решения, сосредотачивая все ресурсы на самом конкурентоспособном направлении. Ты сейчас находишься где-то на этапе подбора инструментария.
– Антикризисный менеджер деньги зарабатывает, а я хочу, чтобы женщина, которую я люблю, любила меня так же сильно.
– Зачем?
– Потому что тогда я буду самим собой.
– А зачем?
– Зачем быть самим собой?
– Да.
– Я не знаю. Я думаю, это естественно – быть собой. Чтобы больше никогда об этом не думать.
– Есть гораздо более простой способ не думать. В этом болоте мы кое-что придумали. Мы придумали корпорации. Раньше это были просто банды, но мы оставляем позади время криминального бизнеса. Люди больше не хотят рассказывать, как они заработали первый миллион, они говорят, что строят современные компании. Они инвестируют в корпоративный дух. Это серьезная сила. Один человек слаб: его пошлют куда подальше, а он обидится и пойдет. А когда ты часть корпорации, ты никуда не пойдешь и уж тем более не обидишься. Ты – неумолим. Ты – функция в мощном механизме, которая будет выполняться с тобой или без тебя. Сама эта функция неумолима. Поэтому ты завтра вновь позвонишь этому человеку, а потом послезавтра, и еще много дней – и тебе не важно, сколько дней ты ему будешь звонить, прежде чем он примет твое предложение. Советские люди привыкли работать на государство, следующее поколение – либо бедолаги, либо авантюристы. А теперь на сцену истории выходит человек корпоративный, профессиональный наемник. Ему все равно, где работать. Ему не нужен свой язык – он найдет готовый на рабочем месте и с его помощью сможет объяснить в этом мире гораздо больше, чем он мог объяснить до сих пор. Он ничего не будет создавать с нуля, потому что почти все сферы заняты. Он готов быть профессионалом в любой области.
– Такое разве бывает?
– Бывает. Суть корпоративного профессионализма – в преданности корпорации. Все остальное можно делать гораздо хуже.
– Но разве то, что вы сказали обо мне, не делает меня… вашим как бы оппонентом?
– Да, но только в случае, если у тебя получится. А кто сказал, что у тебя получится? Я хозяин в мире, в котором нет надежды. Я несу радость инвалидам, которые получают возможность продолжать существование. Но я не такая тварь, которая не желала бы того, чтобы на свете было меньше инвалидов, а больше полноценных людей. И потому я торжественно провожаю тебя в счастливый путь, Всеволод. Способен ли ты это оценить?
– Да, способен.
– И вместе с тем, Сева, ты пока что только лодка, которая плывет по реке. Ты куда-то стремишься, ты борешься с течениями, с собой. И если ты не доплывешь, то, куда бы ты ни пристал, там буду тебя ждать я. Везде и всегда. Поэтому неважно, в какую машину ты сел.
«Это мы всегда успеем», – подумал про себя Сева, разглядывая в окно кряжистую северную зелень, на которую уже опускалась тень, в это время года неспособная превратиться в ночь.
– Сейчас же тут время белых ночей?
– Да, сильнее не стемнеет.
Сева вдруг улыбнулся, потому что почувствовал себя счастливым: он увидел белые ночи. А через мгновенье он сладко зевнул.
9
Никогда еще Севе не было так страшно. Его, сидящего на чужой провисшей кровати, колотило. Он терял над собой контроль и еще понимал это – пытался схватывать глазами предметы, судорожно удерживать мысли, – и ужас только нарастал. На грани полного наркотического бреда ему открылось главное, чего он до сих пор не вполне о себе понимал, – что он не хочет отдаваться никакой стихии, он не хочет растворяться ни в чем, что ему более всего в жизни хочется оставаться в себе, оставаться человеком, вольным управлять своим телом и в существенной мере сознанием. А теперь он этого лишался. У скалолаза, держащего за руку друга над пропастью, в какой-то момент в ладони осталась только перчатка. Сева поднял голову. Со ставшей высокой, как стена средневекового замка, спинки кровати на него смотрел черный череп. Он находился на расстоянии вытянутой руки на фоне ярко-голубого светящегося неба. Вокруг простирались желтые пески. Бесплодные земли, которые должны быть другими. Он посмотрел в другую сторону, вниз – и увидел подушку. Из-под нее быстро выскочила огромная стая крупных пауков и разбежалась по кровати. Он посмотрел перед собой и увидел стакан с водой. Сева взял его в руки, он видел, как течет влага, но не чувствовал ее. Он хотел пить, он пил, но не мог напиться – не потому, что ему было мало, а потому что стакан был пуст. А потом он увидел деревянный ящик на той стороне комнаты, вместо стен которой простирались пустынные пейзажи. И он знал, что в ящике сидит Киса. Киса спрятался. Сева подошел к ящику и стал его пинать ногами, приговаривая: «А ну вылезай, стервец! Вылезай, кому говорят». Но Киса не вылезал.
Сознание вернулось около одиннадцати вечера. Он вдруг узнал голос своего соседа по комнате. Это был Антон, он спрашивал, полегчало ли Севе.
– Полегчало, кажется, – сказал Сева. – Только я тебя не вижу.
– Ты бы сейчас видел свои зрачки, – ответил спокойный голос Димона.
– Отведи меня домой, Антон.
Силуэт приблизился, и Сева увидел симпатичную блондинку.
– Антон, ты что – женщина?
– Та-ак, все понятно – идем, герой, – не нежная рука схватила Севу под локоть.
– Который час?
– Одиннадцать.
– Не может быть.
– Мы начинали за тебя волноваться.
– Я совсем ничего не вижу. Вернее, вижу, но совсем не то, что существует.
– Что, например?
– Много насекомых. Как это отвратительно!
Зрачки не могли сузиться и следующие два дня. Сева страдал, потому что ничего не мог делать. Оставалось перебирать струны.
– Антон, брось все, бери ручку, пиши песню. Пиши, а то я потом забуду.
– Давай, Гомер.
И Сева стал, медленно растягивая слова, по слогам выпевать:
Ки-ло-ме-тры-от-кро-ве-ний-до-ро-о-ги Мо-за-и-кой-и-му-зы-кой-живут Я-а-че-ред-ной-глу-хой-бет-хо-вен Во-сны-о-дет… во-сны-о-бут…– Записал?
10
В октябре Севе выдали на руки тоненькую, на скрепке, книжку его стихов.
– С-старик, это этап в развитии каждого м-мастера, – сказал Егор, положив ему руку на плечо, будто посвящая в рыцари. – Теперь ты должен устроить п-п-презентацию. И это будет не просто презентация…
Сева поддался, потому что ему было все равно. Он двигался вперед в надежде, что смысл постепенно появится – главное ввязаться в бой, – но он не появлялся. Сева думал о том, как вчера затащил в свою кровать девочку, которая оставила его в смятенных чувствах своей опытностью и запахом. Выглядела она даже слишком идеально для него, она была похожа на молодую любовницу толстосума, которая сдуру пошла со свинопасом. А когда она возбудилась, от нее пахнуло соленой селедкой. И этот тошнотворный дух преследовал Севу по сию минуту. А когда во время затянувшейся прелюдии она в третий раз попросила его поцеловать ее, он решил уточнить: «Куда?» «В жопу – куда же еще», – глумился он над собою, вспоминая этот эпизод – и то, что кончил минуты через три после того, как вошел. А как вы хотели – таков беспорядочный секс.
– Ты должен предстать во всей своей м-м-многоликости, старик. Посмотри, твои стихи кишат г-г-героями, у них свои г-голоса, свои мифы. А это мое любимое место: «Когда во мне кончились люди, / из меня побежали собаки, / выплыли рыбы, / выползли черви», – когда Егор читал стихи, его заикание проходило. – Ч-чего ты смотришь? Это не т-творчество принадлежит тебе, старик, а ты ему – так что отрабатывай. Д-д-дар – обязывает.
Сева не сопротивлялся. Книга не радовала, потому что не было того близкого, с которым он должен был ее разделить. Он ее составил в июне, валяясь голышом с Мариной на расстеленном на полу красном ватном одеяле. И только потом, в августе, добавил туда мучительную вещь, написанную после расставания. Куда теперь все это девать? Зачем это? Собственная жизнь казалась бредовой, чужой. Стихи, которые записывал сегодня, казались чужими – они расширяли сознание, но доверия к ним быть не могло: Сева бы под ними не подписался. Но и сопротивление тоже не имело смысла.
Кстати, и название книжки придумал Егор – «Оскомина». Внутри самой книги этого слова не было.
– Сколько п-песен у тебя из этих стихов? – спросил Егор, ткнув в книжку.
– Штук четырнадцать.
Он широко растянул свою нарочитую улыбку профессионала с гнилыми зубами.
– Старик, у нас будет полноценная п-программа!
Егор сиял: он увидел благодатный материал, а главное – правильно почувствовал момент, в который можно выступить в роли режиссера чужой жизни. Была только одна сложность – из университета его выперли, в общежитии он теперь бывал наездами. Его светлая и всегда восхищенная Света переживала: их гнездышко, зависть всех первокурсников этой общаги, лишалось хозяина. Да и он сам, кажется, решил возглавить перемены – во время приездов вел на балконе подозрительные лирические переговоры с длинноногой меломанкой Женей из общей компании, посещавшей их салон. Если это видел Сева, значит, это видели и другие.
Егор решил, что презентация состоится в Волгодонске. Он нашел помещение культурного центра «Панорама», в котором проводили свадебные банкеты и официальные мероприятия. Он нашел работника цирка, настоящего клоуна, и уговорил его прочитать стихотворение Севы c подходящим названием «Шут». Он нашел красивую пару балетных танцоров – они придумали танец на мотив одной из песен, проигрыш которой можно было наяривать бесконечно. Он придумал сценку, в которой Сева читал стихи, дымя сигаретой в луче света и вращаясь на стульчике из-под пианино. Один текст он выбрал для себя – и специально репетировал заикание в определенных местах. Он собирал совещания у себя в квартире, заваленной книгами и музыкой, он долго обсуждал костюм циркача, а между делом говорил о том, что у него была женщина – глотательница шпаг, и он запомнит надолго то, как она заглатывала. Сева сидел в сигаретном тумане, и только что-то глубоко внутри фиксировало, что это уже какой-то другой Егор.
Но когда Сева выходил из его девятиэтажки, он удивлялся, что вокруг тот самый Волгодонск, в котором он еще недавно жил. Изнутри этого дома город было не узнать. Сева подхватил там какую-то старую бесформенную шляпу – вещь, в их семейной квартире немыслимую, – и, примерив раз, получил ее навсегда. И вот он шел в этой шляпе, художник среди людей, глядел с удивлением на город последней советской стройки, в котором так и не успели вырасти деревья, и понимал, что и сам он уже какой-то другой. «Люлей бы не выхватить», – мрачно подумал он, проходя мимо молчащей компании подростков в этой шляпе.
А на хеллоуин в общаге Сева целовался со Светкой. Та вошла без стука в гриме то ли феи, то ли ведьмы – Сева не разглядел, потому что фея впилась в него, чистившего картошку в обличии старого седого демона. Этот поцелуй давно назревал. Но через минуту она вырвалась и попыталась порхнуть к двери. Демон ухватил ее за юбку – та чуть не стянулась.
– Ты думаешь, что со мной так можно? – сипло спросил Сева откуда-то снизу.
– Феям все можно, – сказала она и убежала.
Сева поднял брошенные где попало картофелину и нож. И чем обыденнее были его действия, тем сильнее жег демонический гнев. Ты, девочка, кажется, не понимаешь, во что ты вляпалась. Наша бабочка решила полетать над вулканом. Наша летунья дразнит чудовище. Я просто сожру тебя, милая. Я накажу тебя за твою легкость. Сева не узнавал этого голоса, звучащего в голове, но он странным образом нравился ему.
По городу было расклеено несколько черно-белых афиш. На них было крупно: «Всеволод Калабухов с программой “Оскомина”», мельче – «стихи, мелодии, голос», еще мельче – логотип творческого объединения «М’Арт», которое в процессе написания афиши придумал Егор, и – «вход свободный».
Сева приехал за сутки до вечера. Захватил пачку своих книжек – и сразу по приезде пошел отнести две штуки в юношескую библиотеку в соседнем доме. Он зашел туда – и что-то в груди защемило, как будто он вошел в намоленный им самим храм, в котором ему впервые открылся замысел самого себя. И в храме этом у кого-то хотелось просить прощения. Причем совсем не за украденный когда-то томик Достоевского. За столом сидела женщина, которую он сразу узнал – а она его. Сева не помнил, как ее зовут, но она была тогда – среди бардов. Она общалась с Сергеем, который коллекционер. Она никогда не открывала рта, когда звучала музыка, – никаких разговоров. Да, и она слышала, как он поет. У нее были большие лучистые глаза – княжна Марья у маленького очага культуры.
Сева подарил книги, пригласил на «Оскомину». Она обрадовалась – и вдруг, задумавшись, спросила:
– А вы могли бы спеть у нас в техникуме?
– Конечно, – ответил Сева, услышав лишь то, что его просят спеть, и ни о чем больше не спрашивая.
– У нас хороший актовый зал.
– Только я буду один, – предупредил он, в душе воскликнув: «Никаких клоунов!»
Они договорились, что Сева придет с гитарой на следующий день после своей презентации.
В гримерке центра «Панорама» было жарко. Егор устало курил, отмахиваясь от прибывшей и как никогда влюбленной в него Светланы. Он находил, что комментировать в генеральном прогоне. Он подсказывал Севе, как декламировать, а Сева не злился, но делал по-своему, считая декламацию эстетской пошлостью. А вот клоун слушал внимательно, иногда спрашивая: «А вот это – как вот это читать? А то это же современные стихи…»
Программы хватало минут на сорок пять, Сева мог ее исполнять с любого места и не чувствовал потребности в репетициях – только в регулярном пении. Ему нравилась балетная пара, симпатичная и добрая. Для них он был поэт, они для него – танцоры. Им было любопытно.
У него не было совершенно никакого волнения перед сценой, перед началом концерта ему, скорее, было просто скучно и досадно, что сейчас нельзя заняться каким-нибудь делом, – хотя дел никаких не было. Он знал, что придет мама, он волновался за нее.
Да, она сидела ряду в пятом. Из луча света на сцене Севе показалось, что он видит в темноте ее изумленные глаза. В зале было человек сорок, из которых человек шесть знакомых.
В этот вечер Волгодонск девяностых давал искусство. Для тех, кто представлял себе запах Серебряного века, пахло Серебряным веком – и это на развалинах мирного атома. Они видели дерзкого незрелого мальчишку с сильным голосом, раскрыть который эти песни не могли. В его строках была божья искра, но – а где ее нет? В его образе было обаяние небитой смелости – но это с годами пройдет. Есть свой природный тембр и широкий диапазон, но посмотрите, сколько он курит. Посмотрим на него через пять или даже через три года. А пока да – что-то в этом есть, что-то нам это обещает.
Как хорошо ему было на сцене! Сева сидел в серой чуть великоватой футболке на стульчике для пианино и, подавшись вперед, играл и пел то, что было родным и странным до тошноты.
Кипят и льются кроны, люди чем-то скованы, кроны лица скроют, таинственные лица. Ничем нас не заманишь, ни манною, ни болью, ни тению дурманов, ни тенью листьев. А брови растут у нас, и очи – как тютина, и кровь – остужена, густая, как смола. Кора – покрывает руки, ноги – пускают корни, почки – срывают губы, и цветут слова.Он чувствовал себя в детстве, в том детстве, когда еще не ушел отец. Сейчас, на сцене он ощущал, что ему выделили пространство в мире, дали ему посуществовать в его естественном фантазийном виде. Потому что художника не существует до тех пор, пока люди не расступаются, освободив для него небольшое условное пространство. В этом пространстве другое время, иное место, но при этом – вот она, реальность – протяни руку. И искусство возможно только на этом пятачке. Там, где люди не расступаются, искусства просто нет – оно задыхается внутри черепных коробок, прячется, живучее, но немое, по письменным столам, довольствуясь сценой чистого листа. Это тоже, в общем-то, немало, но голос – голос требует звучать. Не оправдываясь за то, что посмел побеспокоить.
Песни на сцене звучали по-новому. Сцена дает ощущение, что они исполняются в каком-то смысле в первый и в каком-то – в последний раз. И второго раза не будет. Поэтому если есть, что сказать, – говори. Если есть силы жить – предъяви их. Сева чувствовал ситуацию с полной ясностью и серьезностью – а вот исполняемый материал до этого экзистенциального уровня не дотягивал. И все же его голос впервые слышал себя в чистом виде. Художник впервые показался на людях – и это что-то меняло, но еще не было понятно, что именно.
Все закончилось очень быстро. И люди разошлись минут за пятнадцать после окончания. А он еще был в этом зале, он еще был художник. И вокруг уже было пусто. Стало как-то по-новому больно. Нужно было быстро усохнуть почти до пустого места. А так хотелось еще потешить обнажившиеся места.
Сева зашел в гримерную и тихо сел возле выхода. Егор сидел в центре, как утомленный олимпиец, с полузакрытыми глазами и сигаретой в губах. Вокруг него мельтешила Света, на него смотрели клоун и танцоры, потому что Егор подводил итоги, его благодарили, ему говорили, что это уровень и что если кто и мог достичь этого уровня, то это он. Вокруг последнего тезиса завязалась некоторая дискуссия. Сил слушать не было. Сева поднялся, вне очереди всех поблагодарил, сказал, что, по его мнению, это было не очень позорно, – и откланялся.
На следующий день долго спал, читал, а уже в сумерках вышел на остановке на проспекте Курчатова и прошел вдоль заборчика на территорию городского техникума. Он шел один с гитарой в самодельном чехле – и увидел перед входом толпу человек в двести. Из толпы вышло знакомое женское лицо и сказало: «Мы вас ждем». Сева растерялся: «Они что – ко мне?» – «Конечно, – ответила женщина, – мы даже билеты на вас продавали». Его окружали лица пятнадцатилетних подростков. Девушка протянула Севе тонкий целлофановый пакет с железными монетами – это был его гонорар: граммов двести. Она провела Севу куда-то в комнату под сценой. Оттуда был слышен гул в зале. Севе впервые стало страшно. «Господи, что я здесь делаю?» Это было острое ощущение, что он – самозванец и что обман сейчас будет раскрыт. Это ведь не интеллигенты-задроты, которые были вчера, – эта гопота церемониться не станет. Тут же понял, что и программа его на деле очень коротка, особенно если исполнять ее одному.
Поднялся по какой-то узкой лестнице, вышел на освещенную сцену и без приветствия начал читать жесткий стих:
Все больше стоит мой огонь, Все меньше за него прошу. Рискую миру стать чужой: Я – шут, Который не выносит шум.Читая последние две строки, встретился глазами с шепчущим что-то подростком ряду в пятом – и он успокоился, как дитятко. Вместо точки сразу ударил по струнам. И потом не делал пауз – заканчивая песню на том или ином аккорде, тут же выбирал и начинал играть песню из той же тональности. Прерывался только на стихи. Создавалось ощущение плотного потока, в который было некуда вставить аплодисменты. В какой-то момент с таким же отсутствием перехода спел «Мое поколение» «Алисы», после всех этих витиеватых масок вдруг прямо и жестко взяв на басах балалаечный ритм:
Мое-поколение-молчит-по-углАм Мое-поколение-не-смЕет-пЕть…Ему шел этот чистый бунт, он был естествен для его сильного голоса, это то, что он вынес из музыки, а не из времени. Он даже не боролся, он взял этот бунт желаний и прав готовым, он был для него несомненным, как среда. И пел он потому, не кривя губ, проще и уверенней.
А закончив, спросил просто, не глядя в зал:
– Когда-нибудь слышали песню на стихи Маяковского?
– Нет, нет, – послышалось из зала.
– Это потому что нет хороших песен на стихи этого большого поэта. Слушайте.
Всю первую половину «Флейты-позвоночника» он превратил в готическую балладу, которая давала развернуться голосу вширь. Здесь можно было не играть вообще. Сева чувствовал, что голос покрывает пространство полностью.
ВЕ-рсты-Улиц-взмАх-ами-шагО-о-ов-мнУ. КудА-у-йдУ-я, этот-А-ад-таЯ!.. —чеканил он в припеве.
И тут же вставил изделие из бардовского арсенала – «На далекой Амазонке». Но он пел эту песню с безжизненным лицом, не моргая, добавив рока в солнечный мир шестидесятников. В припеве должен был быть мажор, но в сочетании с его голосом и лицом он только нагнетал драматизм.
Сева осмеливался петь то, что никогда еще не исполнял никому. Показывать новый материал чужим людям было проще и естественней, чем в своем доме, и это говорило о том, что это еще не дом, это только путь к дому. И свои вещи тоже временами удавались, били в цель.
Я выточу тебя в скрежете музыки, Вылеплю неровными строчками стихов. Слова, упавшие, как пьяные мужики, Лягут шедеврами тонкости, но Если полюбишь ты эти строки, То не за красоту Оригинального сложения И не за голоса моего рокот, А за то, что пишу их тебе Уже не я.Да, это был период для Севы, когда его меняло все – даже спетая песня.
А потом они задавали ему вопросы, робко и внимательно на него глядя. Как будто видели перед собой высшее существо. Принесли несколько записок. На одном из клочков бумаги было написано: «Часто ли вы чувствуете себя гением?» Сева прочел вопрос вслух и сказал:
– Я сам, конечно, себя называл гением сотни раз – и не только тогда, когда стишок получался, – в зале раздался поддерживающий смех. – Но это словечко – для домашнего употребления. А на самом деле, когда я слышу это слово, я чувствую его острое неприятие. Потому что «гениями» мы называем каких-то выдуманных особенных людей, которых на самом деле не существует. «Гений» – это как марсианин, понятие, к нам самим не применимое. А правда состоит в том, что стишок или песню пишет обычный человек, у которого было, может, и не больше забот, чем у любого из нас, но уж точно не меньше. Но это ему не помешало. Главная его заслуга состоит в том, что он прислушался к почти неслышной ноте, которая могла в нем прозвучать и погаснуть. А он услышал ее, различил – и погаснуть ей не дал. И даже если песня вышла очень хороша, назвать его из-за этого гением как-то несправедливо. Это все равно, что вычеркнуть его из числа людей, объявить хоть и симпатичным, но чужаком. А это, мне кажется, противоречит самой идее искусства, которое, если бы не вырастало самым чудесным образом из самой обыкновенной жизни, из ее сора и праха, – ничего бы не стоило.
Сева и сам не без удивления слушал то, о чем говорит.
А еще его спрашивали о том, сколько ему лет и есть ли у него девушка.
Его долго не отпускали, а когда все закончилось, большая компания ждала его на улице, чтобы проводить. Это было трогательно. Симпатичная девушка сказала ему, что концерт был волшебным и что сам он – волшебник. Сева пригляделся к ней, мгновенно оценивая, можно ли ее трахнуть, но забыл об этом, как только отвел глаза. Севу с почестями посадили на автобус, идущий в Старый город. Он ехал с каким-то растерянно-благодушным выражением лица.
Хороший вечер – только рядом должна была быть моя любовь. Меня не питают аплодисменты, я хочу петь ради любви. А какое искушение – расслабиться и быть волшебником. Пользоваться волшебной палочкой голоса, преображающей даже вполне убогую программу.
Нет, это не для меня, думал он. Если этого не понять сейчас, ничего более достойного не написать. Тем более что дальше – дальше будет возвращение в мир, окостеневший раньше времени.
«Мне нужно уехать», – вдруг отчетливо сказал он себе. Не в Волгодонск, это точно. «Увижу ли Бразилию, Бразилию, Бразилию…» Нужно погрузиться в культуру – до самых печенок. Пусть завалит так, чтобы было невозможно из-под нее выбраться. Пусть волшебная палочка ее преобразит.
Если не выберусь, то, значит, тут мне и красная цена. Значит, пойду спокойно бабки заколачивать – и время от времени радовать песенками друзей на свадьбах.
Петербург. Надо придумать, как мне выбраться в Петербург.
VI. Чужая земля
Источник страсти есть во мне Великий и чудесный… М. Ю. Лермонтов1
Сева проснулся от холода. Открыл глаза и увидел сомкнутые, плечо к плечу старомодные мутные фасады психоделической расцветки. Резко подобрался на сиденье и глухо выдохнул:
– Питер!
– Московский проспект, – уточнил Руслан.
Сева взглянул на часы – четыре утра. Поежился.
– Замерз? – спросил Руслан. – Я выключу кондиционер.
– Да, спасибо.
Сева смотрел на улицу, которая больше походила на интерьер, и прислушивался к себе, пытался понять, какое ощущение должно соответствовать этой картине. Подходящего ощущения не находилось – и Сева просто смотрел, выхватывая детали решеток, барельефов, пилястр. Справа открылся канал, как будто прорубленный в цельном куске высокой каменной набережной. С той стороны возникли дворец, мосты, сад. Еще минута – и они выехали к поднятому вертикально мосту. Сева тихо задохнулся. Руслан остановил машину, как будто понимая важность момента. Это была церемония встречи.
Они выбрались из машины. Сева стоял и смотрел на уходящую в небеса размеченную для движения дорогу. «Все, дальше только в небо», – подумалось ему. Вокруг летали странные крупные птицы. Чайки, наконец вспомнил он, чайки в городе. Они летали низко, требовательно вскрикивали и садились на гранитные парапеты.
Ну что – сесть теперь здесь, под этим мостом, и начать думать? Обязательная программа уже выполнена: Сева в Питере. Сева уже видел Питер. Севе есть, что вспомнить об этом городе.
Он посмотрел вниз, в темно-коричневую воду. Это была не река. Сева знал реки. Эта вода была бездна, а реки не бывают бездной. На спусках высокой набережной сидели люди. Это были существа из другого мира. В этом мире влюбленные под утро спускаются с гранитной высоты к воде. Послышался смех. Им весело. Севе показалось, что какая-то девичья рука весело ему помахала. Они приветствуют его, пришельца. Они дружелюбно настроены. Появилось волнующее предвкушение контакта с иной формой жизни.
Руслан стоял позади. Он ничего не говорил и терпеливо смотрел на Севу. И только когда тот вспомнил о нем и повернулся, Руслан сказал:
– Я довезу тебя до Московского вокзала, там я тебе советую сдать багаж в камеру хранения и пойти найти гостиницу. Вот тебе немного денег, – он протянул Севе купюру в пятьсот рублей – это было почти столько, сколько Сева брал с собой в поездку. – Если что, позвони мне – запиши телефон, – он продиктовал, Сева записал на полях быстро вытащенной из сумки газеты.
– Спасибо, – сказал он, выпрямившись, – большое спасибо!
– Поехали.
Они проехали вдоль набережной до следующего моста, свернули за Эрмитажем, зацепили Дворцовую площадь.
– Сейчас же будет Невский проспект?
– Да – он.
На улице, погруженной в серую мглу белых ночей, не было ни души.
Сева обрадовался деньгам и думал о том, что он теперь должен сделать. Но мысль была неинтересной и потому вялой. Он не осознавал, что принял происходящее как должное. Как принял бы особенный человек от обычного признание, что он особенный. Конечно, он особенный, – чего тут говорить. Теперь, когда Сева вылезал из машины, он был даже более особенный, чем там, в лесу под Тверью, где он садился в незнакомый автомобиль.
– Определись с жильем, – еще раз сказал Руслан, – и – звони.
– Большое спасибо! – ответил Сева. – Я позвоню, – и они крепко пожали друг другу руки.
В камеру хранения Сева сдал только сумку – втиснуть гитару в глубокую ячейку не представлялось возможным. Он только выложил из чехла все дополнительное содержимое. И почувствовал себя налегке – с гитарой и деньгами, в городе, в который он долго стремился и в который так неожиданно быстро добрался. «А это рекорд, пожалуй, – подумал он, – две тысячи километров за два дня и почти без денег». Но и этот рекорд он воспринимал как должное – как будто у такого человека, как он, именно рекорды являются обычным делом, как будто не могло быть иначе.
Когда он вышел из вокзала и посмотрел на круглую площадь, от которой отходил Невский, он уже почти не помнил своего путешествия, людей, мыслей, Руслана, случайностей, счастливых совпадений. Он был в Питере – город лежал перед ним, пустой, в утренней дымке. И Сева шел, чтобы наполнить его собой.
Низкое небо, очерченная колея улицы с почти полным соблюдением единой нормы этажности – Севе казалось, что он вошел в залу большого дворца, что фасады представляют собой убранства интерьеров – и низкое светло-мглистое небо не нарушает единства замкнутого пространства. Ему казалось, что он вошел внутрь пустого, построенного для кого-то замка, и было видно, что в строительство его вложено едва ли не все, на что способен сегодня человек, – но зачем оно было, для кого этот замок, живет ли в нем кто-либо – это было пока неясно. Всеволод медленно шел с гитарой внутри огромного по протяженности зала и оглядывался по сторонам. Он не всматривался в детали образа – и, может быть, именно потому видел сам образ. Город как здание, потолок которого неотличим от небес. Все, что он видел до сих пор, было разрежено и продуваемо, а что это за культура, где, куда ни кинься, чего-то обязательно нет? А тут – монолит, ансамбль, в котором все предусмотрено с запасом для будущего воображения, и у каждой индивидуальности своя партия, которую сразу и нет даже душевных сил выслушать.
Он шел, проникаясь этим величием замысла. Мы живем, неспособные реализовать почти ничего из того, о чем мечтаем. Но есть места, в которых реализовано почти все, что мы могли бы, если бы у нас получилось. Вот – Невский проспект. Как, спрашивается, я могу жить, будто его нет, если он – есть? Если он уже ведет меня к новой жизни. Неужели это значит, что мне осталось только пройти к ней, ощутить ее – один раз и навсегда?
Севе казалось, что он набрел на глубоко верную мысль, что смутный вопрос, который он долго предчувствовал, вдруг сформулировался как никогда ясно. Вот только ответа на него не было. Не было, но поскольку вопрос был верным, то и ответ неизбежно должен был появиться. Так у Севы было всегда до сих пор: главное – спросить себя, чтобы однажды – проснувшись ли, или после ложки борща поглядев в окно – внезапно выложить готовый ответ, который выйдет из его сознания сразу весь, во всеоружии – как Афина из головы Зевса.
Он вышел на мост, первый мост на его пути. Что это за река такая? Как ее можно сравнить со знакомыми ему верховьями Дона? Это какой-то рукодельный отводной канал – наверное, необходимый для того, чтобы остужать горячие маховики промышленных предприятий. И в то же время это – часть интерьера, каменная щель, фонтан во внутреннем дворике, канализация или увеличенная в размерах ливневка.
Он вышел на мост и оттуда увидел женское лицо. Издалека он различил только ее белые волосы и то, что она смотрела прямо на него.
Больше никого не было на улице, кроме него и нее. И она смотрела на него.
Она стояла на автобусной остановке прямо по курсу метрах в двухстах. Она стояла, повернувшись в его сторону, и смотрела на него.
И он увидел это, находясь на середине моста. И с того момента каждый шаг, который он делал, он делал навстречу ей.
Разве не так все и должно было быть? Разве не этого он ждал, не к этому был готов? Он не задавал себе ни одного вопроса о том, что в данный момент видел. Ему все было ясно.
Она стояла, почти не двигаясь. Только густую белую копну шевелил ветер. Издалека он видел бледное лицо, темные брови. Ему показалось, что по ее лицу скользнула улыбка – она отреагировала на него.
Что сказать ей? Он было спохватился, но тут же успокоился. Не надо будет ничего говорить. Потому что все понятно. Он перестал смотреть по сторонам, он смотрел теперь только на нее. Одинокая фигура, ждущая его в серой мгле пустого Петербурга.
Он приближался. Приближался, готовый к тому, что, когда он приблизится окончательно, жизнь его изменится. Чего еще ему было желать.
Он приближался. Нет, она не стоит. Кажется, все-таки сидит. Да, сидит – на скамье внутри остановки. Но скамья какая-то высокая. И она сидит в его сторону, сдвинув колени. Кажется, что это просто маленькая девушка. Маленькая девушка – это особенно трогательно. Нет, не молоденькая – маленькая, миниатюрная. С маленьким личиком, ротиком, ладошкой, грудкой – и только волосы, огромная копна волос, развеваются на ветру. Теперь он видел, во что она одета. Обтягивающие темные брюки, но не джинсы, как-то они особенно называются. Коричневый жилет, под которым светлая кофточка с воротничком поверх жилета.
Он приближался. Теперь с каждым шагом проступала новая черта. Сейчас он дойдет – и попросит остановить мгновенье.
И вдруг в один момент проступило. С какого-то шага она предстала совсем другой. Ее темные брови нарисованы сильно мимо родных. Он вдруг увидел ее расфокусированные и даже косящие глаза, которые смотрели в пространство прямо перед собой. Он увидел выбеленное какими-то размазанными белилами лицо. Она не просто сидела, она лбом опиралась на невидимую издалека стеклянную стену остановки, разделявшую их. И Сева ужаснулся. Еще ужаснее было то, что он приближался к ней, сам шел в руки этому кошмару, этой чистой видимости красоты, нарисованной на вымотанном к утру лице поддавшей ночной бабочки.
Она пошевелила осоловелыми зрачками и вдруг действительно уставилась на него. Сева шарахнулся, отвернулся, уставил глаза на фасады с той стороны дороги. Шел с деревянной спиной, сама неестественность. Прошел ее, но призрак еще некоторое время жег спину. Он шел ошеломленный. Ее лицо стояло перед глазами – нет, сам момент превращения женщины, которую стоило столько времени искать, в потасканное исчадье белой ночи. А аура мгновенной любви не уходила. Моментами хотелось даже вернуться, вернуться куда-то в ту точку, где он любил, как в последний раз. Метров на сто назад.
И накатила вдруг жалость к себе. Почему я такой слабенький на это место? Почему случайное лицо пользует меня до потери самосознания? Что со мной? Как я буду жить такой?..
2
Намеченный план окончился, когда Сева дошел до Невы. Он стоял, впитывая искусный городской пейзаж, масштаб которого было не охватить глазом.
С той стороны Васильевский остров. Белая ночь еще не закончилась. Рано еще туда. Сева повернул обратно, в густоту, которую он проскочил, почти не рассмотрев. Шел теперь медленно, убивая время до начала дня. Возле Дворцовой площади повернул направо, в сквер. Прошел совсем немного и услышал, что недалеко поет безголосый мужчина. «Это-знАет-моя-свобОода!» – сипел голос вяло. Еще несколько шагов – и стали доносится удары по струнам и шум компании. Сева увидел их за редкими деревьями.
Они сидели вокруг скамейки около неработающего фонтана, вокруг которого расположились несколько железных бюстов. Уставшая от пьяной бессонной ночи компания, уцелевшие ее остатки. Парень, высокий, с жидкими падающими на лоб русыми волосами, навалился на маленькое тельце гитары и как-то нелепо дергал басовую струну слишком длинным большим пальцем. Он пытался петь песню «Гражданской обороны», но то не мог взять правильный ритм, то – попасть в ноты. Он был похож на кошку, которая пытается запеть человеческим голосом.
Напротив скамьи стояли еще двое ребят – один, лысый, в бесцветной футболке, совсем взрослый и отстраненный, а чуть поодаль хорошо подвыпивший парень блаженно обнимал сзади сухую блаженную девушку, замотанную в тряпки. Еще поодаль, опираясь на парапет фонтана, стояла бесформенная девочка-бабушка в черном. Края ее больших телячьих глаз и полных, но сжатых губ литературно, с навеки застывшим упреком миру смотрели вниз.
Сева подошел, постоял лишь несколько секунд, ни на кого не глядя. На него никто не обращал внимания. А потом неторопливо прошел к исполнителю и тихо сказал: «Дай-ка я попробую», – и тот сонно, не соображая кому, передал ему гитару.
Сева взял гитару и сел на скамью, места на которой еще хватало. Гитара только что в чужих руках смотрелась каким-то нелепым, недоработанным или устаревшим оборудованием. Но он взял ее, глянул вдоль грифа, будто совмещая прорезь прицела с невидимой на том конце мушкой, дернул пару струн, послушав звучание, как будто по звуку находя свое место на карте мира, и, быстро определив долготу и широту, ударил по струнам так, чтобы сразу заявить калибр оружия.
КаАк-платил-НезнАйка-за-своИ-вопрОсы ЧтоО-скрывал-послЕдний-злой-патрОон…Он пел негромко, глубоким, рокочущим голосом, сдавленным лишь настолько, чтобы хоть немного напоминать авторскую манеру.
И люди, стоявшие вокруг него, застыли. Лысый забыл во рту горящую сигарету, обнятая девочка указывала своему бойфренду на окно в доме – и рука осталась висеть в воздухе. Если бы Сева хотя б на кого-то в этот момент смотрел, он бы видел, что никто не моргает. Даже те, кто смотрел в этот момент в сторону от него. Потому что ритм и голос на какой-то момент лучше выражали этих людей, чем их собственные лица и движения, потому что их проявления и имели своей неосознанной перспективой тот поток чистой энергии, в котором можно будет раствориться мелким притоком, на время бесстыдно оцепенев. Сева пел не во всю силу, как будто помнил, что сейчас раннее утро, а вокруг жилые дома. Но выходил эффект сдерживаемой силы, силы, хватающей за грудки. Припев он спел жестко, спел с жестокостью пятнадцатилетнего парня. Спел без всякого панковского хрипа, без гримас, чисто и высоко, с беспощадным металлом в голосе и невозмутимым лицом абсолютно нормального человека, знающего, что такое запредельные ноты.
Это-знАет-моя-свобОода
Это-знАет-моя-свобОода
Это-знАет-мое-поражЕнье
Это-знАет-мое-торжествОо…
Он не понимал, что он поет. Это была такая песня – чистые сгустки энергии. Но слово «свобода» прорезало мрак фантастической зрелой ясностью – и это будоражило, делало сложнее и глубже вроде бы нехитрую драматургию песни. На последнем припеве рядом сидящий парень вдруг сорвался и побежал в фонтан. Лысый очнулся и перехватил его. Сева перестал играть. Повисла пауза.
– Кайфово, – тихо сказал лысый. – Давай еще чего-нибудь. Поспокойнее.
– Ага, – сказал Сева и без паузы завел мелодию песенки про кошку, которую подслушал у заезжего гостя в общаге. Он знал, что ее автора звали Веня Дркин, что это был молодой парень, почти ровесник откуда-то из-под украинского Донецка.
Мне сегодня прольется Белой кошке в оконце Лучик бисера пыли Доброе утро Мне сегодня воздастся Три ступеньки от царства Три подковки от сивки Три копытца от братца Три попытки вернуться Две попытки остаться…– А я, между прочим, знаю Веню – но я никогда не слышала, чтобы его песни кто-то пел, кроме него самого, – сказала скорбная женская фигура в черном. – По-моему, отлично получилось, – и запредельно опущенные уголки губ приподнялись в улыбке, оказавшейся детской.
– Меня зовут Сева, – сказал Сева с улыбкой.
– Откуда ты взялся, Сева? – ласково спросил лысый.
Сева поднял голову и увидел, что его болотные глаза совершенно прозрачны.
– Час назад я приехал в город Санкт-Петербург из Ростова-на-Дону, проделав две тысячи километров автостопом.
– Как? Зачем? – в сообществе возник ожидаемый театральный ажиотаж.
– Просто я много лет хотел увидеть этот город – и больше не мог терпеть, – отвечал Сева с блаженной улыбкой. – И вот вы первые, кого я здесь встретил.
Ответ понравился. На лицах постепенно установилось признание поступка достойным. Парень, который сидел рядом на скамье, просто уставился Севе в лицо. А тот как будто не понимал, с кем разговаривать, – его взгляд блуждал, ни на ком не задерживаясь.
– Это круто, – подвел черту лысый – и Севе стало ясно, с кем тут разговаривать.
– У тебя здесь родня? – продолжил тот.
– Вообще никого.
– Ты знаешь, где остановишься?
– Пока нет.
– Есть соображения?
– Никаких. Но день только начинается.
– Остановишься тогда у Макса. Макс, ты не против? Чего ты смотришь? У тебя комната пустует.
Максом оказался тот, кто сидел рядом и пьяно пялился на Севу.
– Конечно не против, давай, конечно, – забурчал он.
– Я – Валера.
– Отлично! Спасибо! У меня гора с плеч, если честно.
– Как ты добирался?
– Кажется, мне просто повезло…
3
С места снялись через несколько минут. У проезжей части компания разошлась по домам. Дорогу переходили уже втроем – с Валерой и отстающим, плетущимся Максом.
– И почему тебе так сюда хотелось?
– Мне хотелось на культурную жизнь посмотреть. Я ее никогда не видел.
– Это ты сам придумал?
– Только не спеши меня разубеждать, ладно? Вас выдает даже то, как вы на песню отреагировали. Вы как будто знаете ей цену. В Ростове такого быть не могло.
– Ладно, у тебя период влюбленности, – засмеялся Валера. – Сейчас возьмем машину и – к Максу. Слышишь, Макс? Поехали, Севу у тебя разместим.
– Да, давай.
– Постойте тут пока, я возьму машину.
Валера отошел к обочине.
– Далеко живешь, Макс?
– В районе Индустриального.
– Это сколько по времени?
– Минут тридцать пять.
– Я тебя не сильно напрягу?
– А тебе надолго?
– На пару ночей, и днем меня не будет.
– Не, не сильно, – выглядел Макс растерянно, но он пытался придать лицу беззаботное уверенное выражение.
Притормозила серая «Рено» с криво поставленным на крыше треугольником с шашечками. Валера открыл переднюю дверь, нагнулся, что-то коротко сказал водителю, а затем левой рукой открыл заднюю, давая сигнал, что можно садиться. Макс и Сева быстро нырнули в машину. Автомобиль тронулся.
– Мы едем на Индустриальный, а там я покажу… А ты знаешь, кстати, кто у тебя сейчас на заднем сиденье? – весело и без особенной наглости, с естественностью старого знакомого обращался Валера к возрастному водителю, не глядя на него, а по-хозяйски разглядывая фигурку, подвешенную к зеркалу заднего вида. – Человек, который автостопом приехал с гитарой с самого Юга России – он хотел увидеть наш город! А? Каково? Что бы ты сказал о нашем городе человеку, который очень хотел его увидеть?
Водитель молчал.
– А можно я другое радио поставлю? – спросил Валера. Водитель кивнул. – А неплохая магнитола у тебя – где брал? Я же вижу – это же чешская сборка, да? На авторынке?.. А я бы сказал такому человеку, что тут, на острове европейской культуры в океане российского пространства, все призрачно. И наши жизни в первую очередь. Правда? Я не спросил, как тебя зовут.
– Юра.
– Правда, Юра? Ну разве не призрачно?
Сева вдруг увидел, что водитель очень боится – шея деревянная, он буквально не дышит. И вдруг дошло: им открыли дверь – и они сели, как будто Валера договорился о цене. Но он, похоже, ни о чем не договаривался: он просто открыл заднюю дверь, и в салон к случайному водителю одновременно сели три парня. Они сейчас захватили автомобиль. Сева почувствовал, что и его сердце забилось чаще.
– Ты же и сам приезжий, да? Я же вижу, что приезжий. Юра, поговори со мной.
– Да, я приезжий.
– Откуда?
– С Урала.
– Давно?
– Уже лет семь.
– Спроси меня, как я догадался.
– Как?
– Здоровый мужик – а бомбит: как объяснить?.. Где работал у себя?
– На заводе… А здесь на такси получаю больше, чем у себя на заводе, – тихо, но зло сказал мужик.
Валера беззвучно засмеялся.
– Слышишь, Сева? Делай выводы – тут неплохие перспективы.
Улыбаться Севе совсем не хотелось.
– Что же сказать тебе про город, чтобы не надругаться над твоей влюбленностью в то, чего ты не видел? Очень мы тут себя любим, причем я думаю, что если бы не город, мы бы себя так не любили – да, Макс? Не любили же бы, да? «Же бы», «же бы»… Обычному россиянину себя любить вообще-то не за что. А здесь все понятно. Это же столица неосуществленной России. Других Петербургов в стране нет. И мы все ждем. У нас последний бомж лежит на скамье в Летнем саду, и если бы к нему вдруг подошла прислуга, поднесла кофею, халат – он бы не удивился. Даже я бы не удивился. Мы все этого тайно ждем. И поэтому плохо переносим друг друга. К тому же, когда мир восстановится в его естественном порядке, еще неизвестно, где они все будут. Это сейчас мы все голытьба, но я-то знаю, как должно быть на самом деле, что я-то – личность, а остальных еще надо пощупать. О, это такая, понимаешь, любимая соска, расстаться с ней невозможно! Как это сделать, если статуи, архитектура – это все – твое? Все это – подтверждение твоей правоты. Вот семейству Макса должен, например, принадлежать особняк на Фонтанке. Потому что у нашего Макса довольно известная в Петербурге фамилия. Я ее тебе, Сева, потом назову. У него такая фамилия, что и не скажешь, глядя на нашего Макса. А у других и фамилии никакой нет, но они тоже ощущают, что империя им осталась должна. И они ждут, когда им вернут долги, чтобы они могли уже начать жить. Ну а пока попрозябаем, поживем, как получается… Хорошо все-таки ехать по пустому городу. Юра, как у тебя сегодня день? Пивка не выпьешь с нами?
– Нет, я не могу.
– Ну ничего. Вот тут сверни лучше, а там будет магазин – возле него нас высади, я покажу. Сева, у тебя какие-нибудь деньги есть?
– Десятка вот у меня.
– Давай, нормально. Точно пива не хочешь?
– Не могу, – мотнул головой Юра.
– Ну тогда бывай, Юра.
Макс жил в обычной советской девятиэтажке, в его квартире провели минут пять. Макс сразу ушел, его где-то ждали – казалось, он в такси старательно придумывал, где именно. Сева бросил вещи, а сумку просто разгрузил и вернул на плечо, оставив в ней только бутылку воды.
– Пойдем у меня чаю попьем – я живу через дом отсюда, – Валера не столько предложил, сколько принял решение. Но и приказа в его тоне не было. Сева не стал возражать – перекусить сейчас действительно не мешало бы.
– Ты чем занимаешься? – тихо спросил Сева, когда они вдвоем шли по внутреннему дворику в сторону.
Валера повернул к нему спокойные прозрачные глаза.
– Я развожу людей.
Сева старался не удивляться. Вообще не реагировать на странности ни вздрагиванием, ни расширением глаза – никак. Он подхватил этот кодекс еще где-то во дворах. Это хороший тон: все должно быть, с одной стороны, обыкновенно, с другой – иметь право на существование, и собеседник должен понимать и то и другое. Да и мало ли, мол, чего я тебе сам могу рассказать.
Сева выжидающе смотрел, не торопил.
– Я делаю так, что они дают мне все, что мне нужно. Даже когда я забавляюсь.
– Так им и говоришь?
– Нет, зачем же, – улыбнулся Валера.
– А что ты сказал водителю?
– Юре? – он себе сейчас нравился. – Я извинился и сказал, что мы должны на время воспользоваться его машиной. И что неприятностей ни у кого не будет, если он не будет глупить.
– Да, что-то такое я и предположил, когда увидел, что он едва не ходит под себя.
Валера беззвучно смеялся.
– Это он еще от пива отказался – а то бы и пива за его счет попили.
– Но мне ты помог.
– А чего с тебя взять?.. Хотя… – и Валера улыбнулся. – Ты в армии был?
– Нет, я студент пока, может еще пойду.
– Я там освоил один метод единоборств – на мизинцах. Два человека сцепляются мизинцами – и тянут в стороны изо всех сил. Кто разжал, тот и проиграл. Я всегда по этой игре определяю, сильнее я человека или нет. Хочешь попробовать?
– Не хочу.
– Покажи мизинец. Цепляй. На счет «три». Раз, два, три…
У него были железные пальцы, Сева продержался недолго. И попытался сделать маневр:
– В Чечню попал?
– Конечно, попал, а как же, – его порозовевшие после белой ночи глаза в этот момент смеялись. Они выдавали присутствие в разговоре каких-то значений, которых Сева не понимал – и, кажется, по замыслу говорящего, и не должен был понимать. А Сева, еще ощущая свой горящий после единоборства, отвлекающий его теперь палец, старался смотреть просто, почти сознательно не вдумываясь, но – пребывая настороже.
– Два одноклассника оттуда вернулись, – поддержал тему Сева. – Один был буйным, стал тихим, почти затворником. Другой был маменькиным сыночком – теперь после рюмки даже самой маменьке достается – с катушек слетает моментально, – второй одноклассник на самом деле был не его, но хорошо ложился в строку.
– А, это там регулярно. Сидит боец на броне, впереди товарищ. А потом на его глазах лопается голова товарища – а он начинает хихикать. Все, готов, – но Валера быстро переключился. – Ну а здесь разве не война? Здесь она даже более изобретательна. Здесь сходят с ума от всего – от свободы, бедности, бессилия, злобы, любви к искусству, к Богу – да вот что ни назови, за всем стоит галерея сумасшедших, безумцев, жертв. Потому что, Сева, безумный человек сегодня – это смертник. Это уже не жилец. Мы сразу шарахаемся от него, потому что знаем, что он погибнет, его разорвут шакалы. А их – тьма, они везде, и иногда они – это мы сами. Так что я не парюсь по поводу войны, – мы хотя бы знали, что на той войне стреляют. А вы, бараны, ничего не знаете о той войне, на которой гибнете.
Валера не повышал голоса, говорил тихо, светски, даже беззаботно, поначалу с улыбкой, но в какой-то момент уже и без тени ее.
– Как ты поймешь, что война закончилась? – спросил Сева.
– Я думаю, что для меня она уже не закончится.
– Почему?
– Потому что она меня кормит.
– Но ты же уцелел, верно?
– Уцелел потому, что решил: не хочу страдать. Не хочу – и все. Таков мой выбор. Я могу многое понять с первого взгляда на человека – вот про тебя, например. Но что бы я про тебя ни понял, я знаю, что я тебя не спасу. Максимум, что я могу для тебя сделать, – помочь найти ночлег и предложить чаю. Я не буду тащить по жизни ни тебя, ни кого бы то ни было еще – даже брата родного. Они будут подыхать у меня на глазах, а я просто отвернусь – и стану общаться с более приятными для меня собеседниками, – и какое-то лукавство вновь пробежало по его чертам, как бы возвращая их в естественное состояние.
– То есть в главном помочь нельзя?
– Невозможно. Если у него нет своего инстинкта выживания, он безнадежен. Пусть все произойдет так, как должно произойти. И я за себя не волнуюсь – пусть другие за себя переживают. Возможно, завтра дружить и нравиться друг другу станет модно. И мы станем собираться где-нибудь, чтобы вместе делать интересные аппликации, обсуждать, как преодолевать барьеры в общении. Было бы прикольно. Но я не представляю сейчас, каким образом я с моим сознанием могу оказаться в этой точке. И как меня заставить это любить, я тоже не представляю. Зато я понимаю, что любой, кто прямо завтра пообещает доступную перспективу простого обогащения, будет нашим кумиром. Потому что я хочу пить виски на берегу бассейна с голубой водой и жарить телочек – и все этого хотят.
Прямо из прихожей они зашли в широкую комнату, в которой стоял разобранный большой диван с запасом плотных подушек у изголовья. Паркет, компьютерный стол, полка с четырьмя книгами и альбомами, а также бесчисленные горы дисков и старых видеокассет у голой стены со старыми бежевыми обоями – было видно, что здесь живет холостой мужчина.
– Побудь здесь, – сказал Валера и вышел на кухню.
«Что я здесь делаю?» – отчетливо подумал внутри кто-то очень настороженный, тогда как самому Севе ситуация казалась естественной и, главное, любопытной.
– А ты видел, как Нюра улыбнулась? – спросил со смехом Валера, заходя в комнату с подносом, на котором стояли чашки, небольшой чайник, бутерброды и ваза с печеньем. Сева вдруг почувствовал, что он в Питере, – где еще возможно было бы представить эту сценку: злостный бритый молодой бездельник, который у себя дома пользуется подносом, принимая проходимца.
– Что за Нюра?
– Там было такое вечно скорбящее недоразумение в черном.
– Да, припоминаю.
– Мне кажется, лет десять назад она выглядела точно так же. Все эти годы она учится курсе на третьем факультета восточных языков и хоронит мужей-рокеров. Так вот: я никогда не видел, чтобы Нюра улыбалась, – никогда! А сегодня увидел…
– Как тебя занесло в эту компанию?
– Как и в любую другую, Сева. Скажем так: траектория моего вчерашнего загула должна была быть немного другой. Но часа в три ночи я присоединился к компании своей старой подруги Елены.
– Она там была?
– Да…
– Там было всего две девушки, и вторую обнимал такой высокий парень.
– Да, Митя – хороший парень. Но скоро сдохнет, если не завяжет с герычем.
– С героином?
– С героином.
– А где люди встречаются с героином?
– Сначала они встречаются с довольно большими деньгами. Митя продал в начале девяностых в Новороссийске баржу списанных замерзших мандаринов. Получил за бесценок, а продал как свежие – успел получить деньги и лег на дно в Питере. Возможно, его даже не Митя зовут. Ну а в Питере всем хочется попробовать культуру, вдохнуть смрад богемы, познать сладость запретных иллюзий. И Митя вдохнул полной грудью.
– А Лена?.. Я ее толком не рассмотрел.
– Сейчас дам тебе рассмотреть, – усмехнулся Валера и стащил с полки толстый альбом для фотографий. – Садись, – добавил он, хлопнув по дивану рядом с собой. Сам он уже полулежал.
Он открыл альбом наугад. На первой же фотографии, которую увидел Сева, женщина смотрела в объектив несколько под углом, поскольку в момент, запечатленный на снимке, во рту у нее был член, а из-за спины весело махал в камеру сам Валера, имеющий эту же девушку сзади. Сева присмотрелся: да, знакомые глаза, но узнать сложно ввиду неестественного искажения мимики.
Не удивляться, не задавать вопросов.
На следующей фотографии имело место двойное проникновение, и лицо получилось прекрасно. У девушки были чуть прикрыты глаза, она была очень красива. И ею насыщались два орангутанга.
– Был еще фотограф, который, конечно, тоже участвовал в вечеринке, – Валера точно знал, в каком месте вступать. – Это была очень интересная встреча. Я кончил шесть раз, Митя два, а этот бедный Ванюша – ни одного. Не мог, взмок весь, но – никак, – Валера мутно улыбался. – Бывал на таких вечеринках?
– Нет.
– Что – никогда не участвовал в групповушках? Да ты, наверное, сноб. А напрасно – это довольно весело. Надо нам как-нибудь устроить.
Сева почувствовал в этот момент, что полулежащий Валера приобнял его. Сева пролистал еще несколько страниц – все работы были в одном жанре, но лица менялись. Он отложил альбом и взял со стола свою чашку. Рука Валеры лежала на его талии. Сева неторопливо отпил, поставил, повернулся:
– Альбом крутой, – резюмировал он, и тут же, с расстановкой: – Я сейчас пойду, а вечером можем увидеться. Музыку у вас в Питере играют?
– Играют.
– Покажешь мне какое-нибудь музыкальное местечко?
– Покажу.
Валера смотрел на него внимательно, не расставаясь пока с разом устаревшей своей томностью.
– Отлично. Спасибо тебе, Валера.
Сева выходил, а тот оставался возлежать на диване, молча провожал его взглядом, улыбался. То ли ослабевший разом, то ли великодушно давал уйти.
4
Ну вот, теперь другое дело – один, в Петербурге, налегке, с пониманием, куда возвращаться. На часах еще нет одиннадцати. На улице светит нежаркое северное солнце и неожиданно быстро бегут редкие облака, похожие на летящие издалека клочки дыма, вырвавшегося из орудий. Все складывается очень неплохо.
Сева быстро узнал, каким транспортом добраться в район Невского, и скоро уже сидел в автобусе, пытаясь разглядеть Питер в типовой позднесоветской застройке. Но глаз цеплялся больше за лица. В них было что-то странное, Сева не сразу понял, что именно. Первое, что отметил: чаще, чем обычно, – физические отклонения – отекший глаз, нарост на лице, родимое пятно, бельмо, какая-то экзема, просто синяк – за двадцать пять минут в пути Сева увидел все варианты. Человеческие существа вылезали на свет как будто из какого-то страшного мира, печать которого оставалась на их лицах и в их глазах. Они несли в себе опыт какого-то нечеловеческого холода. И эта нечеловечность в какой-то момент принималась за разрушение тел. Сева развивал свои ощущения. Люди вытряхнуты из системы координат, иерархий, опыт поставил их вне иерархий. Что это за опыт? Блокадный голод? Климат? Болезни? Культура? Они очень закрытые, почти не обращаются друг к другу, немобильны. Но обращается к ним чужак – и они просто и дружелюбно ему отвечают. Никакой вот этой южной торгашеской манеры предварительно оценить собеседника, прежде чем определиться, в каком тоне ему отвечать. В Москве к этой манере добавляется еще и высокомерие, которое и не хочет ничего знать о спрашивающем. Спроси в Москве, как куда-либо пройти, – увидишь такое лицо, как будто ты клянчишь деньги, – они там осознают, что они не могут себе позволить тратить время на человека из толпы. А здесь, похоже, и нет такой ценности, как время. И еще – Сева аж задохнулся от догадки – здесь нет толпы, нет тут такого понятия. Да, сейчас в автобусе много людей, но нет, они не сливаются в толпу, они сведены простыми обстоятельствами. Они все – индивидуумы, маргиналы, выпавшие отовсюду и потому обрекшие себя на страшное существование в очень вещественной, отлитой перед ними вечности.
Фантазия Севы разгонялась и уже не нуждалась во внешних впечатлениях.
В Петербурге вообще нет общества. Оно здесь – просто обслуга имперского города, обслуга, которой не может не быть. А настоящее сердце Питера ощутимо как раз вот здесь, в старом автобусе марки «Вольво», который, судя по сплющенным в лепешки когда-то мягким сиденьям, после смерти на родине попал на дожитие в Петербург, где, катая местное население, еще выдается за окно в современную Европу. На самом деле давно уже никого не интересует, что там, в этом окне, – да и стоит ли верить глазам. Глаза обращены куда-то туда, где ничего не видно.
Они же, наверное, тоже почти все приехавшие – других ведь в Питере и нет, вдруг отчетливо подумал Сева. Могут ли они сейчас вспомнить, как выглядят места, из которых они приехали, какова реальность, возвращаться в которую страшно? А здесь не реальность, конечно, это – условное пространство, предбанник Страшного суда, здесь нужно думать и отдавать себе отчет, а отдав его – отдавать и концы, потому что кто же это выдержит – отдавать себе отчет? Петербург – этот какое-то Чистилище, незнакомое этой культуре. Но неясно, в какую сторону из него дальше – вперед или назад. Снаружи этой дилеммы не видно. А видны купола и порядок, которого восточнее больше нет. Здесь – особенное, оторванное место. Ах, как хочется иногда уйти в отрыв – как хорошо знает это ощущение Сева! И вот он в отрыве – в Петербурге.
Невский уже бурлил. Это была другая реальность – международная тропа для иностранных групп с координирующими флажками и табличками. Бывшие доходные дома, отделанные, как современные четырехэтажные витрины. Местное население растворяется, быстро перебегая мосты и проезжую часть, чтобы скрыться в темени своего истинного существования. Как будто друг для друга они уже конченые существа, и все это уже знают, а у приехавшего еще есть шанс. И они – на его стороне. Они ему, непуганому, сочувствуют, сострадают. Они знают, что с ним еще должно произойти, и помнят, что сами этого не выдержали. Но они понимают и то, что человек должен заглянуть в бездну, чтобы остаться человеком. Они приехали в большой город с готовностью стать винтиками его огромного механизма, но оказалось, что нет никакого механизма. По всей видимости, он действительно существовал, и люди порой вспоминают об иных временах. Но больше нет ничего. Никто не знает, как выжить в одиночку. Нет такого опыта. Личности не за что зацепиться для того, чтобы иметь силы думать о будущем. Не за что зацепиться, чтобы подумать о своей внешности, вовремя сходить к врачу, не злоупотреблять запрещенными препаратами. Неужели вопрос о курении важен для человека, который не может найти, за что ценить саму жизнь? Как наркотики могут навредить умирающему человеку? Они всего лишь облегчают период между осознанием смертельной болезни и самой смертью.
А иностранные легионы на Невском – совсем из другой истории. Истории о дружелюбном мире и диалоге культур, мире, в котором место несправедливости заменяет симметрия и величие замысла. Они приехали поклониться их образцам и сфотографироваться на их фоне. Этому ритуалу не мешают кости в основании египетских пирамид, ограбленная империя, отлитая в Собор Святого Петра в Риме. В том же ряду Петербург, святость которого куплена смертями в болотах и постоянным оттоком населения вследствие перманентного мора, восполняемого только свежей кровью непуганых. Таких победителей не судят. Возможно, иностранцы даже что-то лучше про это все понимают: для них эта имперская инфраструктура – наследие прошлого, доставшееся от промотавшихся отцов. А мы пока и сами – промотавшиеся отцы. Вопросы, связанные с кровью, для нас пока не закрыты, мы еще продолжаем платить за них убогостью, безнадежностью, закрытостью от жизни, перед которой мы бесконечно виноваты. Все, что здесь сделано, только глубже вдавливает в эти болота. Потому что один человек ничего не может. Он даже не знает, как научиться быть самим собой. Сейчас ему легче погибать, чем жить, – он просто очень хорошо знает, как это делать.
По набережной Мойки Сева отправился к дому-музею Пушкина. Для маленькой группы из Франции экскурсию вели на французском. Сева плелся неподалеку, вылавливая отдельные выражения и скучая, проходя через жилые комнаты и отмечая в них разве что достойные площади. Но представлять здесь Пушкина было даже досадно. Какое-то бюро с ножницами, большие часы в углу, трюмо, склянки, ежедневник, посмертная маска… Только в кабинете Сева замер. Вот это – искомое пространство. Большая пещера, зашитая в книжные стеллажи и разделенная ими надвое. Стол с чернильницей и бумагами, протертый диван, светильники в самой глубине, цветастый ковер для бесшумной ходьбы. Тут можно жить, забыв про календарь. В этом пространстве сохранился Пушкин. Сева воочию представил его жизнь в кабинете, за порогом которого его в любом случае убьют.
Сева вернулся к Невскому, зашел в пятиэтажное серое вычурное здание, в котором расположился большой книжный магазин. Ему непременно хотелось купить книги. Такого обилия обложек он никогда не видел – и совершенно не знал, что покупать. В результате увидел серию книг, которая стояла у Егора на полке, – и купил одну – какого-то Германа Броха. Купил стильную книгу современного издательства – по приезде это оказалась «Пена дней» Бориса Виана. Сунул книги в сумку и удовлетворенно забыл о них. Представить себя сейчас читающим он не мог: слова как-то сильно недотягивали до происходящего.
Отклонился куда-то в сторону, наткнулся на итальянскую капеллу, внутри которой играл орган. На бледной афише у двери увидел, что сейчас здесь исполняют Баха. Он вошел в католический храм и сел на скамью. Орган звучал отовсюду, органиста почти нее было видно. Музыка была прекрасной, плотной и незнакомой. Севу потянуло в сон, из которого его вырвали знакомые аккорды, разошедшиеся по рекламным роликам. Но как только началась тема, Сева встал и отправился дальше.
Прошел мимо дома-музея Набокова, мимо гостиницы, в которой нашли повешенным Есенина, свернул к Исаакиевскому собору, в который заходить не стал, оценив снаружи его иноземную холодную симметрию, – пошел дальше, к Медному всаднику, присел с хот-догом неподалеку на скамье, чтобы насытить им глаз. Сколько в нем, однако, безжалостной жадности к существованию. А внизу этот огромный камень – двойник Петра, потому что Петр – «камень», камень, на котором можно строить – даже тогда, когда вокруг – болота. Нет, этот памятник не о том, как царь оседлал страну, – французский глаз изобразил саму двойственную личность Петра Великого – соединение фундаментальной библейской косности и необычайной тревожной воли. Ее видят прежде всего, и она пугает, она – угроза, но ее не могло бы быть без этого огромного камня в основании воли.
Сева дожевал сосиску в тесте и поднялся. Решил оставить Эрмитаж на завтра, по мосту перешел на Васильевский остров, дошел до здания университета, оценил его длину, вернулся к стрелке острова, насладился видами, по мосту пошел обратно. Запомнилась картинка: его обгоняет троллейбус, из-под которого вылетают голуби и чайки. Троллейбус, голуби и чайки – сочетание отлилось в особенную атмосферу, с которой, Сева чувствовал, Питер теперь будет ассоциироваться. Он вернулся к Дворцовой и сел на туристический автобус, доставляющий желающих в Петергоф.
Петергоф осматривал медленно. Глаз уже плохо впитывал, Сева старался запомнить атмосферу. После домика Петра, утомленный, он вышел на пологий берег Финского залива. И вдруг снял сумку, рубашку, стянул штаны, уложил в аккуратную стопку – и отправился к водной глади, которую не нарушало ничто живое. Он заходил в воду очень долго, места были мелкие, здесь не купались. Сева не чувствовал неловкости, вода была ему ближе, чем то, что он сейчас оставлял за спиной. Он как будто искал поддержки в родственной стихии. Он зашел так далеко, что смог поплыть. Плыл несколько минут, а когда обернулся, понял, что на этом расстоянии трудно различить даже человеческие фигурки на берегу, не то что увидеть свои вещи. Он двинулся назад. Выбрался и встал просохнуть. Сменных трусов у него не было. Он чувствовал себя так же, как на берегу Цимлянского моря, с той только разницей, что опыта беззаботного купания в нем он не имел. Через десять минут Сева надел джинсы поверх мокрого белья и двинулся в ту сторону парка, которой еще не видел.
По возвращении сразу спустился в метро и уехал на Петроградскую сторону. Вышел и поразился архитектуре. Эти окна с резными сводами, барочные неожиданные балконы, эркеры, срезанные углы домов, немецкие линии крыш, шпили. В одном из иноземных зданий с двумя башенками увидел афишу спектакля «Обломов» в исполнении Антрепризы имени Андрея Миронова. Сева о существовании такого театра не знал, но находился он как раз здесь. А «Обломова» Сева читал – хороший роман. Только как же его ставить? Спектакль начинался через полтора часа. Сева зашел, купил в кассе самый дешевый билет и присел около гардероба, приготовившись ждать. Идти уже никуда не хотелось – хотелось есть. День быстро заканчивался, но его начало было уже трудно вспомнить. Сама мысль о том, что он приехал этим утром, казалась странной.
Едва он оперся спиной о стену, как почувствовал, что проваливается в сон. Он вздрагивал, просыпаясь после каждого погружения. Когда тело отказывалось сидеть в предложенной позе и начинало стекать, он ловил его, находясь уже во сне.
Сева никак не мог кончить. Он не видел ее лица, он смотрел в ее межножье с темным хохолком, он держал ее ноги раскрытыми – и двигался, двигался, двигался. Он был мокрый, его ноги онемели, он уже не чувствовал ничего в районе члена, но тот торчал, как кость. Сева уже не понимал, что делать. Вокруг в фойе ходили люди, ему было неудобно. Она была уже во всех позах, она устала после череды оргазмов, она обмякла и уже не выгибалась, создавая ощущение, будто каждый сантиметр его плоти ощутим и встречает сладкое сопротивление. Он продолжал движение уже безнадежно, в ожидании чуда – как будто оргазм может быть послан ему свыше в какой-то момент, который не дано предугадать. Но он сейчас даже не понимал, как это может произойти, как ему попасть из той точки, в которой находится, в точку, где случаются оргазмы. Он даже вспомнил, что у него такого никогда не было, что, более того, он иной раз мечтал быть чуть сдержаннее, но теперь он сама сдержанность – и это кошмар, который невозможно остановить. А если я больше никогда не кончу? – подумал он в ужасе. И понял, что просто нужно увидеть ее лицо. И он пытается, но нет – его пожирает темнота. Он чувствует движение в темноте, он чувствует, что на него кто-то смотрит. И он осознает вдруг с ужасом, что не знает, кто на него смотрит.
И просыпается с чудовищной эрекцией и вырывающимся из груди сердцем. Приходится закинуть ногу на ногу, неестественно сгорбиться, чтобы не смешить людей в фойе. Когда улеглось, Сева прошел в уборную и умылся холодной водой. Вернулся, сел – и мгновенно заснул снова.
Но заснул не весь.
Такие сны приходили редко. Это сны, в которых можно гулять по коридорам, осознанно двигаться в знакомом пространстве, пока тело спит. Сознание оставалось ясным, но его пульс – почти неуловимым.
Сева встал, оставив себя спать в удачной позе. Он прошел по фойе, посмотрел на фотографии незнакомых людей на стене, а потом вошел прямо в стену, чтобы выйти с другой стороны – интуитивно казалось, что сцена – там. Зал оказался очень небольшим, Севе понравилось. Сцена, все сценическое пространство от пола до потолка, была покрыта естественно лежащей темной мягкой тканью, внутри которой вылеплялись очертания дивана, угадывалась дверь. Но вместе получалось уютное, лишенное острых углов пространство внутри покрывала, под которое забираются дети, чтобы несколько минут там пожить. Сцена никак не выделялась – она начиналась почти сразу после первого ряда кресел. Сева прошел туда и не удержался – развалился на очертаниях дивана. Подумал, что здесь спать было бы, конечно, удобнее. Посмотрел с дивана в пустой зрительный зал. Зазвенел звонок – и в тот же момент в фойе Сева открыл глаза.
В зал вошел – и, узнав его, улыбнулся. Здесь не было места, откуда сцену было бы видно плохо. Как только погас свет, сон как рукой сняло. Обломова играл актер, который вполне кстати выглядел старше возраста Ильи Ильича, был уместно одутловат в лице, хотя в теле рыхлости, пожалуй, не хватало. Несмотря на то, что роль персидского халата явно удалась, Сева рассмотрел жилистые предплечья питерского Обломова. «Из пролетариев, видимо, – из понаехавших», – подумал про себя.
Тянулась вереница забавных посещений, гости один колоритнее другого, Обломов принимает всех лежа, поругивается с Захаром. Эта часть романа легка и непринужденна. Сева с удовольствием смотрел на актеров, прекрасно играющих в эпизодах. Самым интересным моментом для Севы был разговор со Штольцем, в котором русский немец формулирует убийственное понятие «обломовщина», входящее в школьный минимум. Но разговор гораздо интереснее, в нем действительно есть нерв. Сначала смешно – Андрей дразнит Илью барином, который отличается от джентльмена тем, что сам не может надеть чулки да снять сапоги. Потом просит описать свой идеал жизни. Илья Ильич описывает идиллию, в которой нежные беседы и прогулки с женой перемежаются сменой блюд, приемом старых гостей, с которыми продолжается вчерашний разговор. «После обеда мокка, гавана на террасе…» «Разве не все добиваются того же, о чем я мечтаю? Помилуй! Да цель всей вашей беготни, страстей, войн, торговли и политики разве не выделка покоя, не стремление к этому идеалу утраченного рая?» А жестокий Штольц ему напоминает, что и Обломов не о том когда-то мечтал – что он думал онеметь от ужаса перед произведениями «Микельанджело» и Тициана да «служить, что станет сил». И Обломов соглашается, хотя и говорит, что воли ему не хватает, самолюбия, которое – «соль жизни».
А ведь действительно, подумал Сева, я же чудовищно самолюбив. Получается, что я признал свою жизнь достаточно дорогой ценностью для того, чтобы пойти ради нее на поступок. Нет, тут подвох – он в том, что особь из первого дикого поколения непуганых индивидуалистов на определенном этапе созревания уже была готова отринуть то, за что отравленные советским общественным судом предыдущие поколения еще только боролись. Они учились ни от кого не зависеть, плевать на всех – и чрезвычайно старались в этой учебе. А я все это умел от рождения. И теперь хотел любить не только себя. Хотел быть нужным.
Все дальнейшее в романе Сева не любил. Оно Севу задевало и угнетало, но он только теперь отдал себе в этом отчет. Все сцены с Ольгой были кошмарны. Тридцатитрехлетний балбес своим инфантилизмом раздражал видавшего виды девятнадцатилетнего юнца. Его страх чувствовать, говорить о своих чувствах, виляние, желание позволять себе чувство лишь при полной уверенности в том, что оно приведет к гармонии, – все это было для Севы дичью. Так может думать только существо, выращенное в колбе. И хрен на него – Севу не интересовали нюансы душевной организации Обломова. Но потом был еще один момент, который тоже искупал изнеженную бредовость персонажа, – письмо Ильи Ильича Ольге Сергеевне. Было там что-то более масштабное. Он там отказывался от отношений с любимой женщиной, потому что видел: она его не любит. Эти слова в романе легко принять за кокетство слабой личности, ищущей повод не делать шаг вперед. Но здесь, на сцене, Сева стал как будто свидетелем происходящего – и для него было совершенно очевидно, что эта особа действительно не любит Обломова. Она с ним просто небезынтересно проводит время. То есть Обломов абсолютно прав по содержанию. И вдвойне прав, поскольку сам любит. Болезненное ощущение любящим собственного достоинства в столкновении с нелюбящим человеком и его невольной жестокостью – вот это Севе было понятно.
Ему это было важно сейчас – унести что-то о себе и про себя отовсюду. Он не был сейчас эстетом, способным оценить режиссерскую трактовку романа, – все, что он наблюдал, помогало ему отвечать на вопросы о себе – человеке, которого он еще не очень хорошо знал.
Постановка с антрактом длилась почти три часа. Сева был очень доволен. Уже в легких сумерках он медленно двинулся по Каменноостровскому проспекту в сторону ближайшего метро. День не хотелось заканчивать, но возвращаться в чужой дом слишком поздно было неудобно.
Сева спустился в метро на станции «Петроградская». Уже возле дома Макса зашел в продуктовый, купил вермишели, триста грамм сосисок, половинку хлеба. Дверь открыл сам Макс, по лицу его было понятно, что он не понимает, как умудрился впутаться в историю со случайным гостем.
– Не поздно? – спросил Сева. – Я тихо. Ужинать будешь?
– Не, спасибо, – ответил Макс, впуская.
Сева быстро скинул обувь и прошел мимо.
– Слушай, – неуверенно сказал Макс вслед. – Тут завтра утром сестра возвращается…
– Давай я уйду завтра утром, – предложил Сева.
– Да – извини.
– Никаких проблем. Спасибо, что помог. Я тут на кухне минут пятнадцать похозяйничаю, ладно?
– Конечно. Если хочешь, есть ванна, – оттого, что деликатную ситуацию с гостем удалось решить неожиданно легко, Макс испытывал прилив великодушия.
– О, это было бы очень кстати – путешественник чувствует себя несколько грязным, – улыбнулся Сева.
Он быстро сварил вермишель и три сосиски. Проглотил ужин и закрылся в ванной. Там был не душ, как в общежитии, а настоящая советская ванна с черной затычкой на ржавой цепочке. Лежать в ванне – роскошь, которой в жизни Всеволода не было. «Где бы я еще поотмокал», – усмехнулся про себя Сева, настраивая воду. Вспомнил о Валере, даже не о нем – об идее послушать музыку, мелькнувшей в разговоре с ним. Где искать музыку? Тут места знать надо. Сева лег на спину в чугунную ванну, выставив вверх колени. Вода тихонько прибывала. Сева закрыл глаза и меньше чем через минуту уснул.
Но уснул не весь.
5
Сева смотрел на город с высоты восьмого этажа и видел необычайно далеко. В легком сумраке он видел городские зоны, очерченные пунктирами фонарей. Он видел блеск невской ряби, видел отражение города в каналах.
Он стоял у окна в соседней комнате – оно выходило на нужную сторону города. Рядом на незастеленном диване в футболке с надписью «Король и шут» сидел Макс. Он смотрел телевизор, который показывал передачу о том, как евреи установили контроль за молодой Советской Россией. Около ножки дивана стояла открытая банка пива. Макс не мог видеть Севу.
А тот думал о том, может ли он сейчас выйти прямо с восьмого этажа или нет. И может ли он двигаться быстрее, чем в обычной жизни, раз уж он сейчас бестелесен. Ощущение себя было интересным. Казалось, что можно, как и в обычной жизни, повернуть голову, чтобы посмотреть туда, куда нужно, можно встать в определенном месте, как будто ты и впрямь занимаешь место. Но при этом ты не видишь своих рук, хотя стоишь с привычным ощущением, что они имеются.
«Не в автобусе же я потащусь», – подумал Сева и сделал шаг вперед. Нет, это был не столько шаг, сколько мысленная команда «вперед» – и точка зрения, которую он сейчас собой представлял, двинулась. Сначала сквозь стену, а затем через необъятную пространственную толщу воздуха и высоты, с огромной скоростью, ориентируясь на шпиль Петропавловской крепости.
Не было никакого ветра, потому что мысль не может встречать сопротивления ветра. Она просто мгновенно переносится туда, докуда способна дотянуться. Она ограничена лишь своим представлением о мире и неготовностью воображения действовать именно тогда, когда нужно.
Думай, Сева, как узнать, где выступает правильный музыкант. Ну конечно, нужно просто посмотреть афиши на Невском.
Сева сделал резкий вираж прямо над темной водой Невы, пронесся, как Чкалов, под Троицким мостом и забрал влево, к изумрудному и ровному, как газон, Эрмитажу.
«А как это у меня так получается спать? – вдруг совершенно отчетливо подумал Сева, и сразу же: – Так можно было бы и не ездить никуда – слетал бы во сне». Но почему-то не слетал. Даже досадно вдруг стало: можно было бы сэкономить. И тут же сам себе: «Закройся, мелкая душонка!»
После Эрмитажа снова резко влево, потом вправо – ой, занесло, где это мы? ага, улица Гороховая, помним, именно здесь и квартировал Илья Ильич Обломов – назад, к Невскому, вот наконец тумба, мимо которой Сева проходил сегодня уже по меньшей мере трижды. Постоим, оглядимся.
И вдруг, оглянувшись на эти черные, втянувшие плечи дома, Сева отчетливо почувствовал источник отчаянья, выражаемого их позами. Вот этого всего уже не подвинуть. Там, в бетонных колодцах, в клетках с узкими окошками замурованы люди. Им достался самый лучший город, который есть в этой стране, а они живут так, как живут. Их зажатость не может породить желания, потому что неясно, чего еще желать. За этим городом нет перспектив. Вот оно – темное питерское отчаянье, возникающее на фальшивом пике человеческой культуры.
Так, читаем афиши. Спектакли – достаточно нам спектаклей. Ага, некто Гришковец читает про то, как он съел собаку. В Мариинке «Свадьба Фигаро» в постановке Александрова. Дальше: команда Tequilajazzz на Лиговском проспекте, но это послезавтра – эх, дожить бы до послезавтра. Что сегодня? Дайте нам прямо сейчас. Вот: Леонид Федоров, набережная канала Грибоедова, 36, начало в 22.00. Который час? Хотел посмотреть на часы, но руки опять некстати не оказалось. Там сейчас должно быть все в самом разгаре. Так, что еще есть. Мама дорогая, да тут недалеко играет сам Гребенщиков! Едва ли не единственный выживший, человек мира. Недавно же вот были песенки про духовный паровоз и ржавый жбан судьбы. Не, не хочу профессионала. Хочу ищущего, ибо сам ищущий. Как же я днем не увидел этой афиши? Какой кайф, можно без билета! Не заблудиться бы только…
Сева не заблудился.
Федоров сидел на самом краешке обычного канцелярского стула в серой футболке на два размера больше. Футболка была мокрой уже почти полностью. Концы кудряшек намокли и превратились в сосульки. Искаженное лицо блаженного человека. С кончика носа на секунду свисает капля пота. Он ерзает, притопывает, подается к микрофону так, что кажется, будто стул все-таки будет потерян как точка опоры, – но нет, разрыва сцепления не происходит.
Он пел странную песню. Она практически полностью игралась на одном аккорде, плотным неспешным ритмом, выдержанным в неклассическом размере. Под этот ритм исполнялось что-то вроде театрального номера на несколько голосов. Если точнее, то текст был для одного голоса, а исполнение – на несколько. Голос старательно до вычурности выпевал мелодию, но при этом он же ее остранял лишними нотами, срывами, пришептываниями и прикрикиваниями между слов. При этом лицо то искажалось, то расплывалось в улыбке, нога притоптывала, а руки неумолимо, жестко пилили на гитаре нечто, под что и мелодию трудно придумать. Получался эффект дикой, сложной многоголосицы при исполнении вещи скорее примитивной. Он не столько пел, сколько показывал опыт какой-то альтернативной формы существования, только что открытой искусством. А то, что это – искусство, было несомненно. Однако Сева подумал, что можно только посочувствовать людям, которые пришли сегодня с целью приятно провести вечер.
В следующей песне он играл ритмически интересную последовательность из трех аккордов, для которых предложил по ходу песни четыре варианта мелодии. Строго говоря, это вообще была не песня – каждый куплет пелся по-новому, не только мелодически, но и эмоционально, припев отсутствовал. В конце он, как будто сжалившись, еще раз пропел первый куплет. Получалось, что он взял удобную для импровизации основу и показал потенциал ее мелодической аранжировки.
Если бы у Севы сейчас был рот, он бы сидел с открытым ртом, настолько он был захвачен происходящим. Он считывал новые идеи, но видел и главное: как только этот человек касается струн, он переносится на границу, за которой заканчивается язык, за ней первозданный пугающий хаос – там реальность, и она начинает говорить с нами какими-то другими голосами. Это не исполнитель, не певец, а шаман, который не слышит обычных значений слов, потому что реальность говорит на другом языке. Вот куда повел его некогда распробованный абсурд. Но мелодия стала крепче, в ней зазвучало мощное народное начало. Одно постоянно оставалось неясным – как она продолжится. И никаких сложных выверенных конструкций старого «Аукцыона». Наоборот, в этих проигрышах невозможно ошибиться нотой – там время от времени можно брать просто любой аккорд – и он впишется в это понимание музыки. Да что там – звук упавшей связки ключей – и тот впишется. Потому что много воздуха, свободы – лишь бы хватило энергии и мастерства ее постоянно заполнять.
Я-А-а-по-У-У-ли-цА-ам хо-дИ-ил, —тянул он выматывающе долго.
СЫ-ы-на-я-А-А-ве-зде-ис-кА-Ал, —при смене аккорда он трогал лишь пару нот.
НО-О-ни-гдЕ-Е-е не-на-хо-дИ-Ил, —он всю песню построил на мелодии в тишине.
ДА-А-же-срЕ-Едь при-брЕ-жных-скА-Ал, —голос сильно сел со времени «Птицы»!
ДА-А-же-срЕ-Едь при-брЕ-жных-скА-Ал, —на потном лице божественный покой.
Он как будто везде, в любой композиции отыскивает границы искусства, лихорадочно думал Сева. Драматизм того, что мы слышим, – оттого, что мы не понимаем, как можно не свалиться в сладкие песенки, не дать себя поглотить шумам и самой тишине. Он балансирует, балансирует уверенно, не оставляя себе запасного пространства для безопасности эксперимента. Песня на одном аккорде – это опасно. Уверенно петь на фоне почти тишины – и оставаться в уверенности, что ты еще в искусстве, – для этого художнику надо иметь железные яйца. И он это делает один, в каком-то зачуханном баре, в глубине которого разливают спиртное. Время от времени кто-то нетрезво кричит: «Лёня, давай “Птицу”», – а Лёня сидит в прозрачной снаружи и непроницаемой изнутри воздушной капсуле радиусом один метр. Даже можно представить, что сама капсула на деле находится сейчас совсем не здесь, но технический прогресс зашел так далеко, что нам кажется, будто человек, в ней замурованный, на самом деле сейчас находится среди нас. И только когда он начинает петь, можно понять, что это не так. А можно и не понять.
Под ногой Федорова лежала педалька. Он почти не использовал ее для искажения звука. Использовал для другого. Вот он как-то покарябал по барабану, дернул пару струн, нажал на педальку – и это странное, из чистого мусора собранное сочетание начинает воспроизводиться, задает ритм, под который Лёня подстраивается и играет, поет.
А-а-А-зи-мЫ-не-бУ-У-дет А-а-А-те-бЯ-а-он-лЮ-У-бит О-о-о-о По-то-мУ-и-нет-е-гО-о…Текста в песенке катастрофически не хватает, но слова для Лёни – такой же случайно подобранный звуковой мусор. Сева смотрел на него и видел, в чем перемена по сравнению с тем, что он слышал у него раньше. Федоров перестал бояться, что ему крикнут «самозванец». Он перестал сомневаться: а может ли быть музыкантом человек без музыкального образования. Он опустился в такой низ, где остался только он и его музыка – там он мог либо сгинуть, либо возродиться. Возродиться не гением, для которого открываются лучшие студии. Возродиться приятием того, кто он и чему служит. Он пел, истекая потом, но был спокоен и счастлив, как христианский мученик.
Песня заканчивалась, Лёня играл завершающий проигрыш и в какой-то момент снял с себя гитару и положил на пол струнами вниз. И не оборачиваясь ушел. А в зале продолжал повторяться по кругу набор случайных звуков, слушая которые можно было задним числом удивиться тому, что был человек, умевший эти звуки разрешить. Публика опомнилась и зааплодировала.
Сева, вспомнив, что он невидимый дух, метнулся за кулисы. Лёня, маленький ростом, стоял уже с сигаретой в какой-то подсобке, заставленной коробками.
– Ну чего ты здесь, Лёня? – как будто расстроенно развел руки высокий бородатый человек с закатанными рукавами белой рубашки.
– Да я у тебя заблудился немного, стал вот покурить.
– Пойдем ко мне в кабинет, у меня диван, посидим немного.
– Водка у тебя есть, Дима?
– Все есть, Лёня, водка, самогон, девочки…
– Девочки у меня дома. Ты мне налей пятьдесят грамм.
– Сколько скажешь, Лёня. Отличный концерт! Тебе пора площадки побольше подыскивать.
– Не, я же не «Pink Floyd». Мне нужно камерное звучание – в нем я царь. У тебя можно переодеться?
– Конечно, конечно! Ты мокрый вон какой!
Они шли по узкому коридору и не могли знать, что Сева находится тут же. Зашли в открытую дверь, за нею горел яркий электрический свет. Бородатый нырнул в тумбу около большого рабочего стола и разогнулся с бутылкой водки. Лёня сел на стул в стороне от стола. В этом кабинете, куда ни сядь, останется ощущение, что на приеме, – иерархия заложена даже в расстановке мебели. Лёня смотрелся здесь неестественно. Он вынул из какого-то потертого пакета сухую футболку того же цвета, что была на нем, смущенно улыбнулся и стянул с себя мокрое. Одернул надетую футболку, взял со стола стопку и опрокинул не морщась.
– Слушай, я сегодня дома песню записал. На минидиск. У меня компьютер полетел, поэтому все на коленке, – в живом разговоре Лёня картавил сильнее, чем на сцене. – Поставил магнитофон с диском третьей симфонии Рахманинова. На такой вот штучке, Casio, задал простой ритм, открыл окно, под которым трамваи ходят, все одновременно включил и поставил на запись. А поверх всего этого играю свою песенку. Играю и чувствую: фуфло фуфлом. Херня какая-то! В какой-то момент еще Лиля зашла, чего-то в шкафу, блин, искала – а минидиск все пишет, – Лёня громко засмеялся. – А я продолжаю, успокаиваю себя, типа твое дело петь – пой и всё, перестань думать. И я одну песню пел столько, сколько на минидиск влезло – раз семнадцать, наверное. Всех задолбал этой песней. Начинаю слушать: всё – хлам, набор звуков, но один – идеальный. У меня мурашки по коже, я даже испугался, Дима! – широкое бородатое лицо Димы смотрело на Лёню, не моргая. – Идеально все легло, я бы никогда так не свел, понимаешь? Это было чудо, Дима!..
Его голос стал глуше, начал искажаться, доноситься откуда-то издалека – и картинка пропала. В дверь ванной громко стучали.
– Да-да, я сейчас, – пробормотал Сева, мгновенно проснувшись в полной ванне.
– Все в порядке? – громко спросил Макс через дверь.
– Да, извини, я задремал.
Сева вытащил пробку, быстро намылился и смыл с себя пену, пока стекала вода. Вышел в беспокойстве. Макс топтался неподалеку.
– Долго я там провалялся? – робко спросил Сева.
– Да с полчаса, не беспокойся, – я так и понял, что ты приснул.
– Полчаса? – недоверчиво спросил Сева.
– Что-то вроде.
– Да, у меня ночь бессонная была.
– Ага, я помню, иди ложись.
– Да, спокойной ночи.
Но эти «полчаса» никак не давали покоя. Что-то не клеилось – полконцерта ведь прослушал.
VII. Пустой Эрмитаж
Приду к одному месту, помолюсь; не успею привыкнуть, полюбить – пойду дальше. И буду идти до тех пор, пока ноги подкосятся, и лягу и умру где-нибудь, и приду, наконец, в ту вечную, тихую пристань, где нет ни печали, ни воздыхания!.. – думала княжна Марья.
Л. Н. Толстой. «Война и мир»1
Если разом окинуть внутренним взором мою жизнь, то в тот момент можно было бы воскликнуть: как все-таки неожиданно предстал передо мной этот замок. В том мире, откуда я прибыл, судьба посылает встречу с ним единицам. Такой вот парадокс: все знают, где он стоит – найти никто не может.
Екатерина Великая себя называла «отшельницей из Эрмитажа». «Хижина отшельника», блин! А что – это было тогда модно: если Вольтер да Руссо отшельники, неужто Самодержица Российская не может себе позволить местечко для уединения и сладостных мечтаний?
Вход в Эрмитаж для русских студентов – бесплатный: это очень кстати. Но, войдя сюда, оглянемся вокруг: где же они – русские студенты? Вижу китайских пенсионеров, вот французская группа марокканского, видимо, в основном происхождения, вот взрослые светловолосые европеоиды, вижу детвору начальных классов, которую, похоже, затащила сюда фанатичная учительница в толстых очках, вижу нескольких сумрачных взрослых аутистов, которые одинаково могут быть философами и маниаками, вижу ярых местных служительниц, которые, похоже, в свободное от работы в Эрмитаже время ходят в него как посетители, – но где подающая надежды молодежь?
Поскольку из указанной молодежи я тут сегодня один, посмею, представительствуя за нее, ответить. Наш брат сейчас немного занят пытками и кидаловом. Он сейчас вертится и сам непрерывно вертит на своем детородном органе всех, кто лезет к нему с советами, упреками и разговорами о вечном. Молодежь вся при деле. Настолько, что посади ее на пять минут перед телевизором – она просто заснет, потому что организм знает только одно состояние покоя – черный беспросветный сон. А что ему делать перед картиной, он не знает. Если картинка с голой теткой, еще можно что-то придумать и некоторое время продержаться, но так – только из жалости. Искусство – это хороший боевик. Как, собственно, и жизнь.
Не, если бы деньги платили, мой условный современник смотрел бы, никуда б не делся. Тер бы глаза, матюгался, перепроверял, не разводка ли, – но смотрел бы.
Хорошо. Нас не пугает, что мы не с большинством. Нас не пугает, что нам за это не платят. Нас не пугает и то, что за это платим мы сами. Нас, наконец, не пугает даже то, что мы платим за это своей жизнью.
Между прочим, ничего нет стыдного в том, что ты – меньшинство. Пусть даже самое маленькое. Почему это я должен стыдиться, что я один? Меня никто не принуждал, мне никто ничего не должен – и я тоже никому. Это – прелести свободы. Для меня иначе и быть не может. Мне не надо избавляться от какого-то тоталитарного коллективного прошлого, надо мной не сгущаются никакие массы, меня никто не искушает своим эфемерным братством. Просто ты – и я в первых рядах – на хер никому не нужен. И пусть меня кто-нибудь попробует переубедить. Это даже в доказательствах не нуждается. Достаточно верить своим пяти чувствам. А если есть шестое, то можно посмотреть на людей – на то, как они имитируют близость друг с другом. Мне противно заниматься диалектикой этой имитации – она ничем не отличается от марксизма-ленинизма, как я его вообще способен представить. Быть в меньшинстве – естественно. Потому что каждый новый человек – это заявка на человека. А мир уже устал от заявок, у него нет дефицита заявок, он не заинтересован в твоем существовании. А мир – это любой. Дайте мне любого, я на пальцах покажу, что он не заинтересован в моем существовании. Это не драма. Это, как в школьной задачке, такое «дано».
Впрочем, я способен платить той же монетой. Должен сказать, я вообще не встречал того «мы», частью которого хотел бы быть. Когда я говорю «мы», я имею в виду себя с кем-либо из членов своей семьи или нас с любимой девушкой. А когда я с любимой девушкой, я чувствую себя в большинстве.
Но когда я говорю «нас не пугает», я имею в виду просто таких, как я. Потому что я не верю, что я уникальный человек. Я не нахожу в себе уникального опыта, не вижу уникальных данных, не наблюдаю уникальных обстоятельств. Возможно даже, что таких, как я, – полно. Просто сегодня они в Эрмитаж не пришли.
Мы с обществом, я думаю, находимся на разных фазах. Оно продолжает бороться за свободу. Чего я как дитя свободы делать не могу. Борьба для них – постепенное разрушение всего, чего они там за свой век понастроили. Я ничего не строил, мне нечего разрушать, и сам я никому не впился. Им еще предстоит узнать такие вещи о себе – это вопрос времени. А мне надо идти дальше. Мне надо понять, как жить здесь и сейчас. Они еще не знают, что они этого не умеют.
Ладно. Давайте наконец пройдем под своды культуры. Пройдем вовнутрь ее мраморного сердца. Разберемся наконец, отчего оно бьется, что им движет. Да и стоит ли ему вообще биться.
Да, чтобы уже закончить эту мысль, – Эрмитаж построен для таких людей, как я, более того – он гимн таким людям, как я. Именно так должны выглядеть идеальные места для уединения, для пребывания в абсолютном меньшинстве. От такого уединения маленький человек превращается в человека побольше, не правда ли?
Уже в холле, возле окна, многотонная – наверное – чаша из яшмы. Это для кого, братие? Перли ее с самого Урала несколько лет, хотели правителя ублажить. Молодцы, теперь чаша в передней стоит, у окошка. Фикус в нее посадить можно.
Так, первые десять квадратных метров из 233 тысяч, как сказано в буклете, – позади. Идем дальше.
Как хочется сразу взлететь на эту великолепную парадную лестницу, но мастерство архитектора в том, что таких варварских порывов лестница не допускает – плавный подъем, массив барочных кренделей, Олимп высоченного потолка, изящные повороты в небеса – эта лестница способна сделать из деревенщины культурного человека, приятного во всех отношениях. Нет, я подожду подниматься на Олимп. В конце концов, под ним, на первом этаже – весь древний мир.
Один зал исчерпал интерес русских императоров к шумерам. Египетская цивилизация уложилась в небольшую проходную галерею. Передо мной промелькнула карта здания, и я увидел, что древний Восток находится в такой дыре, что посетитель, желающий попасть туда, должен вернуться ко входу. Я так и не увидел тебя, древний Восток. Зато за жалким осколком Египта начинается вселенная античного мира.
Вот они, сплошные Гераклы, с дубинами и без, в шкурах и с писюнами, отбитыми и нет, с кудряшками на голове и под горшок, маленькие и большие, бритые и с бородой. Какое же должно было быть восхищение перед этой культурой, чтобы на самом видном месте в зале поставить осколок торса! Как это объяснить? Что пленяло в том торсе? Тут есть, о чем подумать. Хотя, чего тут думать – никто до античных скульпторов не интересовался пластикой человеческого тела. Вот оно, живое, проступает, дышит даже через обрубок. А вон у Юпитера как вздулись вены на икрах. Они нашли человеческие формы для своих богов. Это тебе не шумерское крылатое божество перед священным деревом. Эти заинтересовались тем, как реально выглядят люди. Они стали подражать реальности. Искусство увидело человека. Амурчики с крыльями верхом на зубастых дельфинах списаны с четырехлетних, довольно раскормленных детей. А потом и реальных людей начали резать из мрамора. Вот, например, надпись сообщает, что перед нами бюст Филоктета, участника Троянской войны, друга Одиссея – этот бюст выполнен римлянами во втором веке по греческому оригиналу пятого века до нашей эры. Экспонат покрыт трещинами, кажется, что нос, нижняя губа и большая часть бороды приклеены клеем «Момент». Приоткрытый рот, глазные яблоки без зрачков, мраморные волосы – чем был ценен этот оригинал, чтобы воспроизводить его через шестьсот лет? Неужели кто-то себя в нем узнал? А попробуй, тем не менее, отыщи другое объяснение.
Эти огромные окна во всю высоту стены. Вот этого мне очень не хватает. Я пришел в музей, чтобы посмотреть на то, какими должны быть в домах окна. А что – искусство открытости миру. От рождения владение этим мастерством никому не достается. Я даже никого не знаю, кому бы оно досталось. Возможно, они все умерли. И только архитектура хоть что-то помнит. Напоминает бедолагам, что жизнь вообще-то могла бы быть другой. Неужели надо быть инфантом, чтобы иметь в доме большие окна? Глупости это все.
И все-таки я делаю шаг на второй этаж, я ступаю на эту огромную лестницу, по которой гости русских царей проходили к ним на приемы. Наверное, они как приличные люди даже не задирали головы, невольно приоткрывая рот, для того чтобы посмотреть, чем тут расписан потолок. Они, полные достоинства, неотличимого от равнодушия, степенно поднимались со своими благоверными – и великолепие над ними предполагалось, оно было всего лишь условием их нахождения здесь, а потому – даже недостойно взгляда. А что? Возможно, во времена русских царей этой роскоши, этого искусства почти никто не видел. Оно просто было положено им по статусу. Они владели им по умолчанию. Искусство прилагалось, как дорогая канцелярия и пиджак из прекрасной ткани. Атрибуты ценны постольку, поскольку они атрибуты. Самостоятельного права на существование они не имеют. Таким образом, искусство Эрмитажа, утверждаем мы, еще мало кто видел.
Положено ли оно мне по статусу? Что у меня за статус? Где я, где Рафаэль? Зачем домохозяйке Ван Гог?..
Если вдуматься, сколько в этой логике наносного. Отношения человека и искусства извращены.
Конечно, я не домохозяйка. Уникальность моего опыта состоит в том, что я почти никто. «Студент». Пара плохих отметок отделяет меня от звания «совершенного никто». За мной не тянутся традиции рода. Мой род пытается возникнуть на новой земле, среди неблизких людей, в недостроенном городе. Если есть традиция в моем роду, так это традиция цепляться за жизнь. Когда человек цепляется за жизнь, он еще не в полной мере человек – он только пытается им стать. Но зато он в этот период усиленно думает о том, что значит быть человеком. Да, это про меня: я, недочеловек, – усиленно думаю о том, что готовым людям кажется давно решенным. Например, об отношениях человека и искусства. Казалось бы, что я, тупая заготовка под человека, могу знать об этих отношениях? Но на деле могу главное – инстинкт выживания мне подсказывает, что в искусстве мне поможет стать человеком. И никому больше не подскажет, потому что у них нет такого инстинкта. Они уже люди, им уже все про все ясно. Они уже себя похоронили. Им Гераклы чисто глаз радуют.
А может быть, здесь так пусто оттого, что власть ушла отсюда? Потешилась императрица, отдыхая между любовниками. Накупила, не глядя, частных коллекций. Двадцать лет гребла – на три дворца нагребла. Библиотеку Дидро купила, назначила самого Дидро в ней библиотекарем. Видела хоть, что за книжки купила-то? Интересные? Про что?
А вся свита рты пооткрывала. О-о, искусство! Да, мы все понимаем, что такое искусство! Искусство – это о-о-о! Вы художник? Да, мы вас знаем, императрица о вас спрашивала… Вот и все искусство, вот и весь его реальный авторитет.
Только не надо мне говорить, что император определяет высоту искусства. Но он когда-то вышел именно отсюда – это факт. А теперь, похоже, власть несколько потеряла интерес к культуре. Президенту Ельцину одинаково плевать на Солженицына и Пелевина. Или его преемник будет разбираться в русской поэзии XX века? Придет за советом к поэту Кушнеру? Нет, увлечение королей прошло. Остался только вот этот опустевший храм уединения. Прислуга, научившаяся когда-то открывать рот, созерцая культуру, сейчас открывает его, наблюдая полет теннисного мяча. Так о чем мечтать художнику с большой дороги?
«Проституток не люблю, – говорит иногда Саша, – лярв люблю». Он знает, о чем говорит. Лярва – любвеобильна. Она может и тебя полюбить – если разглядит вблизи. И искусство может полюбить – по той же причине. За так полюбить, бесплатно, ради удовольствия. Она может себе позволить. Она заработает в другом месте и другим местом. Она может даже Эрмитаж построить, потому что она же еще и власть. Так неужто на нее одна надежда? Что она нас полюбит минут двадцать – нас, ищущих, недолюбленных, недолюбивших?
Да что там нас – меня!..
2
Ну разве не умилительно то, что великая русская культура в Эрмитаже представлена интерьерами? И галереей героев войны 1812 года. Наверное, они считали, что России еще нет, что она должна появиться, развиться после знакомства с бюстами римских судей. Да, я знаю, что тут все символично и аллегорично – даже размеры, подобранные заморскими зодчими, прославляют русское величие. Но ясно, что весь этот музей – о том, как Россия влюбилась в европейскую культуру. А может, они просто хотели себе хотя бы один квартал Италии?
Франция, Франция, вот это культура! Но кто назовет хоть одного крупного художника Франции XVII–XVIII веков, когда жили Рембрандт, Тициан, Рубенс? Вот целый зал посвящен Пуссену. Посмотрите на эти картины – на кого они могли повлиять? Зато посмотрите на их эмали, камеи, посуду, севрский фарфор, отделанные шкатулки и комоды. Вот чем занималась эта культура – жила!
Впрочем, какие тут могут быть национальные чувства. Здесь должно быть все равно, француз ты или русский. Да, пожалуй, мне это понятно. Именно поэтому ты смотришь на итальянское полотно – и, не стесняясь, берешь от него все, что можешь, не думая о том, не чужое ли ты прихватил. Нет, не чужое: в искусстве все, что можешь унести, – твое.
В зале фламандцев с огромных полотен смотрят хлеба и фрукты, дичь, рыба и сыры. Бюргеры рисуют бюргеров. Рисуют яркими красками некрасивые предметы. И люди со всего мира теперь приезжают их смотреть.
Иностранцы смешные – хорошо одетые и при этом любопытные, редкое у нас пока сочетание. Негры ходят и смотрят на картины, на которых ни одного чернокожего. Да, друзья, там много чего нет. Я вот тоже думаю, почему тот мир, который я проехал, не на картинах. Пускай бы стал в раму такой, какой есть. Не надо прихорашивать – он заиграет глубиной от одного моего любящего взгляда.
В районе германцев отчетливо потянуло дерьмом. В следующем зале добавилась лишняя нота – и тот же запах стал запахом похлебки, в которой точно есть мясо. О, как тонка грань! Впрочем, в залах снова пусто – и некому переживать со мною.
Потерялся я довольно быстро. В каждом зале помимо двери, в которую вошел, еще три. Принцип нумерации бестолковый – над каждой дверью висит номер зала, в котором ты находишься, а не номер того, что за дверью. Поэтому всякий раз идешь наугад.
Я точно помню, что в пустой золотой гостиной, где стены от пола до потолка покрыты сплошной, мать ее, позолотой, мне отчетливо захотелось подрочить. Встать посередине, вытащить болт и качать его с большой амплитудой. А потом залить этот фигурный паркет, лакированный стол, эту люстру на сотни свечей, этих золоченых орлов, скрещенных с цепными псами, – залить это все живительной горячей спермой, из-под которой тут же стали бы пробиваться зеленые побеги. Потому что тут жизни нет, не чувствую я ее здесь. Просто пыльный музей.
Пойдем дальше.
– В этом ковчеге русской культуры сохранены лучшие образцы… – голос гида выдавил в открытый воздух кусок фразы и снова, удаляясь, забубнил в угол.
«Ковчег»! «Русской культуры»! Етить-колотить. Да я не вижу тут ни одной твари, среди которых до сих пор жил.
Впрочем, вот – вижу одну.
Это зал Рембрандта. «Возвращение блудного сына». Этот сын, показанный спиной и затылком, похож на моего отца. Да, таким, в лохмотьях, в одном ботинке, достойным жалости бедолагой я его чаще всего и представляю. Заплутавший ребенок, заблудившийся в трех искушениях. Чужая женщина, деньги и призрак свободы. Что-нибудь одно еще можно, предполагаю, выдержать, а они однажды во время перемен заявились все трое. И стали у папеньки заплетаться ноженьки, и глазки ему отказали, и язык уже не слушался, и земля уходила из-под ног, и инфляция, и сердцу своему он верить перестал, и товар брать перестали, и дети чужие еще более взрослые, и без работы, и наворотил уже столько, что не расхлебаешь. И детей то ли забыл, то ли сил больше нет смотреть на них. Оставалось только исчезнуть – и он исчез. Ничего, дети уже взрослые, вон как этот бородатый старец, в чей подол он сейчас уткнулся. Это, конечно, я. Я никуда не уйду. Дождусь где-то здесь своих блудных предков, которые потерялись в этом пространстве. Они живут под каким-то лежачим камнем, а под каким – поди угадай, если они все – лежачие. А я хочу наружу, я вышел наружу. Я хочу видеть все, я готов видеть все. Пускай мир проходит сквозь меня. И я тоже сквозь него пройду, проползу на пузе, чтобы ничего не пропустить, – чтобы было, что петь.
Я не мог оторваться от портрета старика в красном, от его мрачной стоической сдержанности. С меня разом сошло балагурство. Этой картине даже не нужны зрители. Она висит здесь, как идея искусства на все времена.
– «Даная» Рембрандта вернулась на свое место после долгой реставрации лишь около года назад. Двенадцать лет велась работа по ее спасению, после того как в 1985 году злоумышленник плеснул серную кислоту прямо в центр холста. Было утеряно почти тридцать процентов изображения, и многие не верили в то, что шедевр удастся спасти. Между тем картину эту Рембрандт писал для себя, вплоть до смерти она висела у него дома…
Нет, какую женщину он себе написал! Все эти Венеры до него ведь никуда не годятся – разве кто-нибудь спутает их с реальной женщиной? Даная, возможно, первая женщина из плоти и крови в искусстве. Вот помните, что я говорил про античность и идею подражания – Рембрандт, а с ним и вся классическая Европа, с Толстым и Достоевским, – они все вышли из того обломанного торса. На то, как маленькая грудка легла сверху на ее ладонь, можно смотреть бесконечно. Она лежит, нагая, в пятне света, направленного только на нее. Это тот свет, которого безусловно достойна женщина. Безумец, который плеснул в нее кислотой, совершил акт жестокости по отношению к самой женственности. Вместо золотого дождя, после которого рождаются герои, в нее плеснули ядом. Как это символично, господи. Никто не собирался ее любить – просто хотелось поглумиться, надругаться. Было в кайф убить. Даже не трахать, нет – а чтобы покричала от боли, а потом зарезать ее нахер… Я чувствовал, как у меня колотится сердце от этих мыслей, от узнавания их беспощадной логики.
А чем лучше жестокость аристократизма? Искусство принадлежит элите, которая ублажает себя, осознанно или нет смирившись с мыслью о том, что слабые должны умереть. Это не мешает их комфорту. Они привыкли брать все, что захотят. Их искусство требует жертв, но не их собственных. Они предпочитают расплачиваться деньгами. Для них в искусстве нет никаких надежд. Разве что минутное упоение. А для человека, который вырос в жестоком мире внутри пузыря искусства, оно – надежда на спасение. Оно – свет, выхватывающий нежного слабого человека из мрака. И тот идет на этот свет, тянет с кровати к нему руку. Этот свет имеет изменить человека так, чтобы он получал смысл.
Не поднимая глаз, я прошел два-три зала, а когда поднял глаза, передо мной стояла молодая женщина с длинными светлыми волосами. Она не видела меня, она, казалось, замерев, смотрела на картину. На ней было свободное летнее платье, под которым я видел чуть истощенную грудь рожавшей женщины. Оттого, что немного выставляла таз вперед, в фигуре было нечто мальчишеское, неловкое. Но она была для меня, как картина того старика, – мне все было про нее понятно. Что она приехала откуда-то из области, приехала специально в музей, что у нее нет мужа, что она сама воспитывает мальчика, ему уже достаточно лет, чтобы она поняла, что не справляется с ним, – и как только она это поняла, жажда своей собственной жизни, отложенной на неопределенный срок стечением обстоятельств, вернулась вместе с щемящим чувством, которое теперь выражается прищуром глаз и степенью сжатости губ. А в том, как высоко и робко она держала плечи, читалась готовность в любой момент просто закрыть глаза и отдаться ласке. Это так воочию представлялось, что я едва не протянул к ней руку. Я представил эти два небольших шага к ней, как я кладу увеличенные воображением ладони на ее узкую талию и целую открытое плечо, поднимаясь к шее, – и она прикрывает глаза, ее голова склоняется в мою сторону, ко мне, уже узнанному по нежности, опознанному по инстинкту выживания. Конечно, она могла бы меня сразу узнать – мы приехали сюда, в этот зал, из разных концов страны, разве нам не достаточно просто открыто посмотреться друг в друга, чтобы ощутить предназначенность друг для друга? Ведь это же возможно, верно? Честно говоря, я ни на секунду не сомневался в том, что это не только возможно, но только так и должно быть.
А что если не узнает? Если я коснусь ее сейчас и увижу искаженное страхом лицо? И я уже чувствовал вкус безумного гнева на такую бесчувственность и глупость – и сам испугался, осознавая, что именно так выглядит то, что люди называют безумием.
– Обвиняемый, по какой причине вы поцеловали в плечо пострадавшую Огурцову в зале английской живописи музея Эрмитаж?
– Дело в том, господин судья, что она жена моя на все времена.
– Обвиняемый Калабухов, вы когда-либо виделись с пострадавшей Огурцовой до происшествия в храме искусств?
– Нет, господин судья. Но она должна была меня узнать, потому что только мы имеем шанс спасти друг друга – другие люди нас с нею не спасут.
– Суд будет ходатайствовать о проведении обследования обвиняемого Калабухова на предмет психических отклонений.
– Я люблю ее, господин судья.
– А имя пострадавшей вы знаете, Калабухов?
– Меня устроит любое имя.
– А женщина, надо полагать, под этим именем тоже может быть любой?
– Так точно, господин судья.
– Ну что ж – вы здоровы, боец. Отставить обследование.
Я поднял глаза на картину, от которой она не открывалась. На ней юноша, изловчившись, целовал девушку в бальном платье. Было видно, как она тянется к нему, оглядываясь на приоткрытую дверь, за которой видны несколько матрон. За этой дверью, видимо, находится общество. Я посмотрел на табличку под картиной: Фрагонар, «Поцелуй украдкой», конец 1780-х – не знаю и, наверное, не запомню. А вот ее запомню. Я тихо прошел за ее спиной в другой зал, так и не заглянув ей в глаза.
3
Чтобы не бравировать постыдным словом «одиночество», я должен сказать, что имею обширный и глубокий опыт уединения. Надолго оставаясь не только без друзей, но и без приятелей, я нашел место, куда всегда можно пойти. Это была библиотека. Ничего особенного я там читать не мог, кругозор был ограничен школьной программой, но и многие книги просто стояли на полках. Да и школьная программа – большая, читать не перечитать. А я не просто читал. Я читал – и тут же в отдельную тетрадку набрасывал стихи. Я умудрился сделать то, что, как я теперь понимаю, далеко не часто получается у молодых людей. Я увлек себя своими мыслями. Мне стало интересно с собой, хотя поначалу было не очень интересно – больше хотелось непрестанно ласкать женщину. Желание это не делось никуда и впоследствии, но я, тем не менее, оказался способен сесть и обдумать нечто, час просидеть над четверостишием, которое потом все равно нигде не пригодится. Именно тут, в одиночестве, я подхватил бациллу. Нет, я не был графоманом, хотя бы потому, что никогда не любил писать. Я подсел на вещь куда более серьезную – на преодоление, на наслаждение усилием, в результате которого неназываемое называлось, а косноязычное сознание отливало поэтический афоризм, без преувеличения формировавший затем и меня самого.
Я читал и фиксировал свои соображения. Курс литературы мне показался странным, но я не сразу это осознал. Кто мне подбросил в дошкольном еще детстве переложения русских былин, я не помню. Но это был большой, разветвленный, очень понятный мне мир. Вот богатырь Илья Муромец лежит больной на печи и не знает, что он богатырь. Он лежит и о чем-то думает. И делает это тридцать лет и три года. А потом приходят калики, ставят его на ноги – и оказывается, что сильнее его на Руси нет. Откуда взялась эта сила? Что на самом деле произошло? А Святогор? Он был настолько силен и велик, что, не заметив, посадил Илью вместе с его конем в карман. А потом оказалось, что Святогор обречен, что нет ему места в мире. Что в нем суждено остаться одному Илье. А этот Вольга Святославович, какой-то двойник Ильи? Поднимая его котомочку, Святогор надорвался и ушел в землю, а Вольга носил ее как ни в чем не бывало. Сколько тайн в этих ситуациях, сколько особенного понимания законов жизни! Я ощущал эти законы, их присутствие, хотя и назвать их не мог.
А в школе пошли одни болезные лишние люди. Что это за Золотой век русской литературы, если его главные герои – Онегин и Печорин? Как это может быть? Разбалованный пресыщенный барчук томился-томился – и таки испытал истинное чувство в конце романа. Мы очень тронуты. Какое завоевание. А Печорин настолько крут, что самоутверждается на маленьких девочках. Потом ему кажется, что он что-то сделал не так, – и он скачет и скачет за Верой, и так нам в этот момент должно быть его жаль! А зачем Толстой описывает три тома этого дебиловатого Пьера? Только чтобы восхититься тем, как он похудел в плену, да изобразить его просветление Каратаевым? Господи, а что это за зверь такой – Каратаев? Что в нем? Мы, современная дворовая молодежь, вынуждены предположить, что Толстой этого не понимал. И все, что он в нем не понимал, он описывал с помощью эпитета «круглый». Круглый мужик Каратаев, и все у него круглое. Богатый запас слов был у графа для мужиков. Нет, там есть момент, когда Платон шестой раз рассказывает о мученической несправедливой смерти деда – рассказывает с просветлением и восхищением. Вот в этом что-то есть, за это можно было бы ухватиться, чтобы начать копать. Но граф копать не стал, поскольку искал другого и в другом месте. Во всей широченной галерее персонажей в его эпопее места для второго мужика не нашлось.
Уже поэтому, конечно, Достоевский – для меня величина совершенно иного порядка. То, что произошло с Раскольниковым, Карамазовыми, даже Ставрогиным, мне понятно. Я ни на минуту не могу себя представить Безуховым, а вот любым психом из Достоевского – могу.
В целом нужно признать, что вся классическая русская литература изображала вырожденцев, знающих манеры и языки, но ничего – о смысле своего существования. Вырожденцев, умеющих порой любить, но искренне не знающих, зачем им женщина, почему за нее надо бороться. Во всей литературе XIX века я не мог найти ни одного персонажа, с которым мне хотелось бы себя ассоциировать.
И вот в этот момент, уже на самом пороге XXI века, мне попался сначала «Парцифаль» Эшенбаха, а потом счастливым образом первоисток – «Персеваль» Кретьена де Труа. Это, однако, было попадание. Дело в том, что я, как и герой романа, вырос с матерью и ничего не знал о мире и его авторитетах. Я всегда знал, что я настолько силен, что меня не победить. Что я могу добиться всего и на любом поприще. И когда этот клоун побивает первого рыцаря своим смешным дротиком, я думаю только о том, что я не такой сумасброд, что я просто немного умнее этого героя, – и от этого мне тоже приятно. Всего, чего способен добиться рыцарь в своей карьере, Персеваль добивается за несколько дней – закрывая тем самым всю эпоху рыцарского романа, который после появления этого героя просто теряет смысл. Приходит герой, который меняет правила своего времени. Он приходит и как будто говорит всему предшествующему поколению: посмотрите, как легко и глупо то, над чем вы бились, к чему стремились целый век. Чего вы паритесь над своей силой, просто допустите, что вы уже абсолютно сильны, – и попробуйте начать с этого места. И он начал. И я начинаю.
Но в первой же естественной и разрешимой для всякого живого человека ситуации он обсирается с запасом на всю свою дальнейшую жизнь. Проявляя чудеса вежливости, он не задает ни одного сочувствующего вопроса страдающему королю. Глядя на святую чашу, на копье, с острия которого еще стекает кровь, он не спрашивает: «Да что тут, в конце концов, происходит?!» – он сидит и ничему не удивляется. Хоть вы здесь разорвитесь, хоть друг друга ешьте. Но как только он понимает, что что-то сделал не так, жизнь его меняется. Он больше он не ищет женщин, не ищет новых противников, – он ищет спасения своей души и безнадежно ищет того, кого мог спасти когда-то, но не спас. Он ищет ответа на вопрос о том, какими должны быть отношения между людьми, чтобы те в них оставались людьми.
«Потому что людьми надо быть!!!» – орал мой пьяный отчим по любому поводу. В чем-то этот ублюдок был прав.
К слову, у моего сознания есть особенность – оно работает вспышками понимания. Вспышка – и все увидел и понял, но что именно – ответить трудно, тем более что постоянно есть риск новых вспышек. Поэтому я стал делать записи – именно с целью некоторые интересные мысли додумывать до конца – извлекать, в отличие от некоторых, опыт.
Так вот, мой любимый литературный сюжет потом в мировой литературе превратился в приключения про поиски Грааля, который ищут все подряд, – про Персеваля все забыли. Упоминаний этого героя на русской почве я не обнаружил. Но я упорно искал аналогов. Нашел два.
Во-первых, как ни странно, это был русский сосед по Средневековью – былинный богатырь Илья Муромец. Я никогда не понимал, почему никто не видит в Илье глубочайшей индивидуальной судьбы. Разве лежание на печи на протяжении тридцати трех лет не есть путь? Путь в поисках ответа на ключевой вопрос нашей необъятной родины: а зачем вставать? Зачем мне, слабому и немощному, делать шаг по дороге, которую мне не дано одолеть? И к тому же – а что если ему, лежащему на печи, уже сразу выдано все богатство и разнообразие мира? Разве, единожды открыв глаза и посмотрев на мир, не знает он о нем все, что вообще должно знать? Неужели, чтобы знать о нем чуть больше, нужно снашивать железные сапоги и даже убивать людей? Нет, Илья сомневается. А кто не сомневается? Он просто не знает, что ему делать. Он видит в окно, как рушится страна, как родители надрываются в поле, как чужаки приходят и снимают на улице с людей одежду, бросают в «жигули» девушку, посмевшую пройти в одиночестве по улице. Он все это видит – но это для него не повод поднять задницу. Он ничему не удивляется, он принимает мир во всех его чудовищных проявлениях. Но потом – потом что-то происходит. Мы не знаем, что именно, потому что древние люди скрыли от нас суть происходящего за волшебством. Формально говоря, пришли калики и попросили напиться. И Илья вдруг встал и принес. Те попросили его выпить – тот выпил и ощутил всю силу разом. Ее было так много, что ее пришлось наполовину убавить. Но что с ним произошло на самом деле? Что должно было произойти с человеком, чтобы из слабейшего и непричастного ни к чему превратиться в сильнейшего и причастного теперь ко всему? Что это за сосуд, из которого надо выпить, чтобы получить ответ на вопрос о том, как ты связан с миром? Тут действительно есть, о чем подумать. Но это чудо произошло – оно уже явлено нам. И это такая же тайна, как и то, почему именно Персеваль, дикарь и чурбан, оказывается не только самым сильным из рыцарей, но и самым достойным – тем, кому вообще дано было попасть в замок Короля-Рыбака. Остальные были воспитанней, культурнее – но их пути заведомо лежали вне этого места. Никто не мог быть тем героем, которому было дано туда попасть, никто из них непредставим в этой нелепой ситуации, в которой оказался Персеваль, никто из них не был способен на столь глубокое чувство вины и греховности, никто бы не простился со своим куртуазным миром ради того, чтобы отдаться этой новой тайне, предстать перед нею бессильным…
А второй герой – из школьной программы по литературе за одиннадцатый класс: доктор Живаго. Герой, представляющий собой пустое место. Я не знаю ни одного человека, который любил бы этот роман. Мы даже не знаем, как доктор выглядел. Любой из персонажей способен его затмить. Но роман назван его именем. И когда он остается один, когда пишет стихи, мы наконец понимаем почему. Как-то так сложилось, что художник в русской литературе никогда не считался особенным героем. Пользуясь случаем, хотел бы заметить, что это несправедливо. Весь XIX век тому подтверждение. В результате главное произведение Золотого века о художнике для нас – судьба Пушкина. И только Пастернак решился писать этот роман не одной лишь кровью. Художник будет искать тот же самый ответ: зачем вставать? что происходит? – смысл его существования в этом поиске. Он жалок, беззащитен, он не может устроить карьеру и семейную жизнь, он мирится с войной и изменой, он умирает в трамвае. Но есть и инобытие любви и творчества, в котором он может найти нужные слова, вернуться в мир с черного хода, уже неуязвимым.
Думаю, как-то так я оказался всею своей головой в культуре, любовь моя.
4
Эрмитажу нет конца. Вереница залов ведет во все стороны сразу. Я шел наугад, уже довольно долго. Наконец вышел в большой зал. На табличке прочитал, что это малый итальянский просвет. Я присел на тахту. Мужчина с седой неухоженной бородой и в застегнутой на все пуговицы голубой сорочке с близкого расстояния изучал экспонат. Его зрачки быстро двигались, его глаза были вопросительно и даже требовательно открыты. Видно было, что человек не видит себя со стороны, он предъявляет себя, не интересуясь реакцией. Он был аристократически неадекватен. Такие, как я, не могут себе подобную неадекватность позволить. Но мы все договорились не сообщать этому ребенку, что он ведет себя, как ребенок. Это – значительный аванс. Мне таких не дают. И все-таки этот старик – ребенок по сравнению со мной, ибо слеп и негибок.
Тут я услышал, что вдалеке кто-то поет. Причем поет не один человек – это был мужской хор. Было неясно, с какой стороны идет звук, но я встал и пошел наугад. Да, звук стал усиливаться. Я слышал хор, который пел на иностранном, но незнакомом мне языке мажорную народную песню. Язык определить я не мог, но, кажется, какой-то из славянских. Издалека казалось, что поет за большим столом компания бойскаутов – о том, как они вместе переплавятся через бурную реку, заберутся на гору – и обязательно будут награждены за взаимовыручку грудастыми девчушками, которых в нужный момент пошлют небеса.
Но главное – хор. Я никогда не пел в хоре. Я внимательно его слушал. Слушал, понимая, что вот так я спеть не смогу. Это – музыка из мира, которому я не принадлежу. Я ведь на самом деле не просто могу спеть любую песню – я вынимаю из чужой песни то, что не видел в ней и сам автор. Я лучше проявляю, лучше выражаю суть каждой конкретной песни, чем большинство исполнителей. Но перед тем, что поет хор, я бессилен.
А еще – я никогда не слышал живого хора, только по телевизору. Ни в застольях, ни на похоронах и свадьбах, ни во дворе. И никогда не видел и не слышал поющих вместе людей – людей, отмечающих песней совместные вехи. Я слушал с ощущением, что слышу нечто невозможное сейчас в нашей жизни. И оттого веселая песня оставляла ощущение горечи и абсурда – нечто глубоко органичное всякому народу почему-то выступало в роли чужеземной диковины.
И вдруг я вышел в залитый солнцем зал, в котором стоял белый рояль. Только что здесь должен был петь хор, но сейчас от него не осталось и следа. Сейчас играл рояль. А рядом высоко-высоко пела пышная немолодая дама в платье пушкинской поры. Перед нею в несколько рядов были расставлены стулья – все они были заняты. Я подумал, обошел сидящих, вышел к условной сцене и сел сбоку прямо на пол. И слушал, вслушивался – пытался понять, но не мог разобрать ни слова. Пытался еще: мне казалось, что в словах все дело, что именно поэтому мне не открывается романс. Мне казалось, что, если бы я напел этот романс себе под нос, сидя на полу, в нем было бы больше толку. Потому что в ее пронафталиненном платье и осанке нахохлившейся курицы я ничего кроме выучки, кроме знания мертвых языков не видел. Как только она закончила, я встал и вышел в первую попавшуюся дверь.
А там во всю стену висели взявшиеся за руки голые красные фигуры Матисса.
Я оглянулся вокруг: реальность как будто заменили мультфильмами. И улыбка как первая естественная реакция на детство, которое было роскошью. А тут его много, оно в избытке.
Какие замечательные жирные мазки у Ван Гога. Его картины напомнили мне мультфильм «Пластилиновая ворона». А Гоген, кажется, делал наброски к «Тайне третьей планеты». Забавные таитянки; правда, руки-ноги, как колоды, но это художник, наверное, так видел.
Нет, вот каким образом можно так увидеть руку? Бедной полуголой девушке с полузаросшим лбом он рисует руку без запястья. Я лично не верю, что у нее действительно не было запястья, что у нее предплечье сразу переходило в ладонь. Так зачем он над нею издевался? Здесь надо выдержать паузу для интеллектуального усилия. Но очевидно же, что этот вопрос никогда бы не пришел в голову при просмотре мультфильма. Мы ведь не спрашиваем, почему у дворника в «Пластилиновой вороне» такой нос, каких в жизни не бывает, или отчего у коровы там не соблюдены ее коровьи пропорции. А вот глядя на Гогена после Рембрандта, все-таки грешным делом задумываемся об этом.
Ведь этот художник уже на самом деле не женщину рисовал. Хотя вот она – в самом центре. Он изображал какое-то сочное, цветастое инобытие, где все могло бы быть по-другому. Какая интересная творческая идея! Если мы можем собирать композиции из треугольников и кружочков, то почему мы не можем собирать такие же из запястий и глаз? Гоген мог и две головы нарисовать – разница была бы уже не принципиальной. Просто не сразу понятно, что искусство уже перешло черту – и больше ничего не должно реальности. Оно не обязано быть ее образом. У него какая-то своя игра.
Глядя на эти бесконечные цветастые виды на Сену, с желтым небом, розовым снегом, мы должны, видимо, испытать любовь к своему собственному детскому дерзкому взгляду, умилиться своей способностью изобразить дым из трубы примитивной каракулей. Вот у Пикассо любительница абсента буквально обмотана своей левой рукой – и мы не ею восхищаемся, а художником, который выкинул такой фортель.
А деревья на картине теперь удовлетворяют авторов только тогда, когда похожи на хоботы или даже на кости вымерших крупных животных. Просто мы требуем теперь от реальности, чтобы она сразу признавалась, что именно хочет о нас сказать, – а иначе и нечего лезть в картину. Вот человек в виде шифоньера, с массой ящичков – это нам теперь понятнее, чем просто портрет. В виде ящиков, треугольников и квадратов человек оказывается в каком-то смысле доступнее. Как увлекательно, оказывается, его расщеплять – и брать от него только то, что нравится. Перо Матисса хорошо передает движение и позы, но всем остальным человеком оно не очень интересуется. У его людей нет шей, лиц, талий, половых органов. От женского лица можно оставить овал, линию плеч дать прямым углом, на все головы нацепить треугольные свернутые набок носы. На самом деле все это похоже на еще несовершенные обои в коридор. А что – глаз торчит из этой картины так же, как он бы торчал из тротуарной плитки.
Они разобрали человека по геометрическим фигурам и цветовым пятнам. И главное, что снова собрать из них человека невозможно. Получается пошитый из деталей монстр.
Вообще, это перспективная идея – вступать в отношения не с людьми, а с их деталями. Иногда мне кажется, что мне достаточно ее нижней надкушенной губки – все остальное я могу и сам додумать. Дайте мне эту губку, я ее желаю, а об остальном и знать ничего не хочу. Не надо мне реальных, живых и сложных людей – дайте попользоваться их формами. Это все есть на этих картинах. Этим искусством расчленения мозг современного человека владеет почти с рождения.
Я только что-то не пойму, кто-нибудь вообще собирается собирать его обратно? Это кому-нибудь интересно?
А, извините, мир? Что делать с этой бесконечной брошенной искусством землей? Неужели она уже выражена где-то здесь? Неужели «Композиция № 6» Кандинского – это про нее? Я не вижу этой связи. Мне обидно за человека и мир. Потому что им нужно искусство так же, как человеку нужна любовь. Без этого существование есть бесконечный, поддерживаемый различными препаратами сон.
Но стоп, нужно вернуться назад. Там было все-таки что-то очень важное, что потом заболталось. Да, вот – они же хотели дать сказать безъязыкой улице, немому и скоростному новому миру. И в любительнице абсента разве нет ощущения новой реальности? Это же не просто художник с ее руками учудил – это он в ее собственном мире подсмотрел. Может быть, все дело в том, что само искусство допустило существование других форм жизни. В том числе других форм жизни человека. Возможно, они двинулись в ту же сторону, что и Достоевский, который увидел, насколько непредсказуемо разным – едва ли не до полной потери человеческого облика – может быть человек. Он у него превратился в неизвестную величину – потому что непонятно, что выпрыгнет из его бездны, какие формы примет человек. Ну конечно, художники должны были быть готовы описывать новую реальность.
А между тем конфликт между старым описанным и новым неописанным нарастал. Старые люди слишком медленно двигались. Они были слишком сложны, речисты, образованны. И ни к чему их в конечном счете не применишь, кроме себя самих. Их иерархии были столь подробны, что только изучение таковых от человека непосвященного потребовало бы всей жизни. Поэтому сложность была доступна в основном по праву рождения. А иначе за нее надо было бороться, обнаруживать титанические, сверхчеловеческие силы – в том числе силы простоты. И те, кто боролся и не погибал, неизбежно становились врагами сложившегося мира. Они готовили на него покушения.
И вот мир поехал в будущее – поездом, автомобилем, самолетом, телефоном, радио. А если пути прогресса проложены, значит, ты должен немедленно мчаться по ним всем сразу. Ты должен стать частью массы, возвыситься до уровня треугольников и квадратов в своем лице – потому что именно такими предстают люди на скорости. Мы выхватываем друг из друга только самое необходимое нам. Простая схема человека вместо сложного непонятного образования – это было прогрессивное решение. Миру оказалась предложена широчайшая галерея таких схем.
Но прием работает, только если мы заражены всем тем искусством, которое представляет Рембрандт, – то есть мы помним, что искусство – оно о человеке. И когда, вооруженные этим знанием, мы видим таблицы Кандинского, то даже свободная кривая на точке воспринимается как неожиданный ракурс – как образ человека. Образ, говорящий, что я что-то о человеке еще не понимаю, что – внимание – с человеком происходит нечто невообразимое, что иначе, чем волнистой линией, мы пока передать не можем.
Но после семи залов двадцатого века вспомнить, о чем было классическое искусство, уже невозможно. В схемах на полотнах человек более не считывается. Кажется, Малевич бы вздрогнул, если бы ему сказали, что в «Супрематической композиции» разыгрывается драма человеческого существования в мире. Это – просто дизайн обоев. Это заготовки под будущие заказы этикеток, афиш, интерьеров. Прикладное искусство. Следующим залом мог бы быть зал современного супермаркета, какие показывают в американском кино.
Единственным предметом, от которого на деле отказалось беспредметное искусство, похоже, стал человек. А ведь это, наверное, была веселая игра – подражать вещам и машинам, представлять себя винтиком, плугом, терминатором. Осваивать безжалостность форм. Да, мы всегда восхищаемся людьми, у которых получается перешагнуть условности человеческого. «Я люблю смотреть, как умирают дети» – не такая уж это неприменимая в реальности фраза. Как показало время, дайте только время. Подражание машинам позволяет не слишком задумываться, на комбайне ты работаешь или оператором в печи концлагеря. Оттарабанил с девяти до шести – и домой. Конвейер может производить все, что угодно: автомобили и смерть. Но ведь, нажимая кнопку, никто особенно и не знает, что там должно в итоге сходить с ленты – кастрюля или труп. Твое дело – кнопку жать, а если ты настолько одарен, что не справляешься даже с этим, в этом тяжелом деле тебе всегда найдется замена.
Ну и художник тоже теперь не совсем гений. Мне кажется, что в зале авангарда фамилии могли бы быть любыми – картины бы от этого не сильно изменились. Художники с забавным энтузиазмом встали на путь, на котором ничего не остается, кроме как выигрывать в спортивном состязании, выживать среди волков, так же умеющих чертить композиции из фигур. Вот он, кстати, – дух нашего времени, дух российских девяностых. От времени не отставай, бывай в правильных местах, имей дело с правильными людьми, говори правильные слова, заведи себе правильную девочку. Потому что в будущее возьмут не всех. Мы не вылечим мир – и в этом все дело. Пусть спасет лишь того, кого можно спасти, спасет лишь того, кого можно спасти
дОк-тОр тва-ивО-о тЕ-е-ла дОк-тОр тва-ивО-о тЕ-е-ла…Везде нужны связи, даже в искусстве. А картины и песни могут быть почти любыми. Кого сильный признает художником, певцом и поэтом – те и будут. А слово «авторитет» у нас сегодня имеет только одно, современное, значение.
Так заканчивается искусство, так заканчивается Эрмитаж.
Но кто вам сказал, что современность современна? И уж тем более, что это главное ее качество?
Поедем на пятьдесят километров в любую сторону от дома, да что там – поднимемся в гости на соседний этаж и начнемте описывать этих марсиан. Посмотрите, какие монстры: запястий нету, вместо глаз – точки, щи хлебают лаптем. Хорошо, идем дальше – следующая квартира. Все ясно: небо – зеленое, будильники – расплавлены, слоны – на паучьих ножках. Конечно. А чего еще от них можно ожидать. Я не удивлен. Я точно знаю, что буквально за стеной могу обнаружить самое невообразимое, фантастическое и несовременное. А искусство это знание уже изображает больше ста лет. Это оно нам подсказало, как относиться ко всему непонятному, ко всем незнакомым нам формам человеческой жизни. У нас для их описания есть язык палочек и клякс. Я захожу к соседу и вижу вместо него марсианина или зомби. Из его грудной клетки прямо сейчас может вылезти чужой.
«Просто людьми надо быть!!»
А как ими быть, дорогой мой отчим? Ты же видишь, что в мире творится: куда ни глянь – сплошное извращение и беспредел.
Мне хотелось вернуться туда, где пела оперная дива. Я забирал влево, но понимал, что остаюсь где-то справа – с неосвещенной солнцем стороны. А там – я помнил – лил в высокие окна свет, в лучах висела пыль.
«Что с тобой? Как я могу тебе помочь? Что здесь происходит?» О, какие простые вопросы! Элементарные, естественные, как утро, вопросы. Вот язык, которым пристало бы разговаривать с незнакомым человеком – не правда ли, рыцарь Персеваль?
Не хочу лишнего пафоса, но я никогда не слышал этих вопросов. Никто и никогда их ко мне не обращал. Никому не было интересно, что со мной. Хоть в блевотине стой, хоть тычь в лицо разрезанной веной. Впрочем, не было такого – были состояния и похуже, то есть состояния, которых вообще не видно. Ты их испытываешь в деталях, твои глаза, казалось бы, – зеркало души, но – даже не надейся. Это все – клинопись умершей цивилизации.
У меня даже опасения: вот кто-нибудь спросит меня подобным образом, задаст великодушный и невинный, но точный вопрос безо всякой задней мысли – и я, слабенький именно на это место, глядишь, в ноги ему брошусь: мол, извините, но вы сразу в ответе за дальнейшую судьбу того, кто ждал этого вопроса много лет. Так что приготовьтесь выслушать ответ – он будет о-очень небыстрым: выживут не все.
В общем, все очень запущено – и слава богу, что я это понимаю. Но я осознаю и свою ущербность. Впрочем, про ущербность мне не все понятно.
У меня был одноклассник Павлик, с которым мы сидели за одной партой. Очень веселый домашний парень. Его семья жила в четырехкомнатной квартире, и у него была своя комната. Я бывал там многократно, причем к себе в гостинку не часто его приглашал. Так вот, сколько его помню, его мама, работавшая в сфере общепита, подстраивающегося под новую реальность, заходила к нему постоянно и спрашивала: «Что с тобой, Павлик? Почему у тебя такое грустное лицо? У тебя неприятности? Ты что-то от меня скрываешь? Всеволод, что c ним? Скажи мне немедленно, ты же знаешь, как я волнуюсь!» Она возгоняла себя этими вопросами к невиданным эмоциональным состояниям, а я сидел сбоку на диване и мучился коликами от сдерживаемого хохота. На лице ее сына грустное недоумение сменялось бессилием и праведным гневом: мол, да отвяньте же вы, мамо! Так что к своим родителям я не в претензии: мы жили настолько скученно, настолько на виду друг у друга, что более естественным желанием было деться куда-нибудь друг от друга на время. И мы в результате делись, не выходя из комнаты. Это грустно, но некогда было стать столь высокоразвитой личностью, чтобы успешно противостоять влиянию среды. В результате именно Павлик был человеком, который искал острых эмоций. Он подсел на дэд-металл, оделся в «косуху», он завел травмат, он искал нешуточных страстей с женщинами. Я был по сравнению с ним скучным домашним животным – я мечтал о другом. О простых вещах, которые должны быть естественными, как утро.
6
Я шел по замку и все поворачивал. Исчезли посетители. Остались позади дремлющие сотрудницы музея. Стало сумрачно и пыльно. Казалось, что я иду по брошенной культуре, культуре, в которой давно никто не живет. Залы сменялись, как дни, – в любом можно было остановиться, но не навсегда. И вернуться, как теперь ясно, тут тоже нельзя. Я уже не смотрел на стены, не видел интерьеров, не различал узоров паркета и мрамора. Я был вымотан и очень голоден.
Что, Сева, за этим ты приехал? Без этого тебе не сиделось?
Человека, входящего в культуру, начинают преследовать культурные маски. Ему начинает казаться, что роль любого героя ему подходит. Любая картина ему подмигивает. Он судит «по большому счету». Именно потому, что он судит так, а не иначе, он добирается до замка культуры, а не остается торговать раками на городском базаре – но в какой-то момент становится неспособен замечать, когда его счет делается вульгарен. Он уже не примечательный самородок, каковые иногда выбрасывает на берег безликий океан народа. Нет, он уже оторвался от корней, он пришел в зал большой культуры – и сел на пол. И нам остается усмехнуться: нам явлена сама непосредственность. Но подождем – и она будет наказана. У культуры хватает защитных механизмов, отсеивающих самозванцев. Скоро он поймет, что проще всего было сюда доехать. Сейчас уже культура формирует десант героев, которые придут и будут бороться за его голову. И каждый из них будет велик по сравнению с ним. И если у него не хватит смелости понять их величие, то вот и нет больше никакого Севы. Он мгновенно окажется просто в старом здании с пыльными картинами и слишком высокими потолками, поймет, что неплохо бы отлить. Но если у него и хватит смелости оказаться с этими героями лицом к лицу, этого мало.
Великий герой прошлого способен убить личность современного человека – если тебе открылось его величие, если ты был столь смел, что смог взглянуть на него открыто, сквозь века, тогда скажи: если он столь велик, если в любой стороне, в которую ты идешь, находишь пределы его образа, зачем тогда нужен ты? Неужто лишь затем, чтоб ниспровергнуть его, протолкнуть в культуру свое имя, не меняя больше ничего? Может быть, ты в лучшем случае его пиратская копия? Может быть, масштаб героя – это уже слишком много для такого колхозника, как ты? Посмотри, где ты – и где Эней, человек судьбы. Где ты – и где Илья Муромец, вставший на ноги. Где ты – и где Пушкин, глядящий в пенное море с картины Айвазовского… А сколько их еще, готовых наполнить своим содержанием столько внутреннего пространства, сколько у тебя есть! И – уничтожить тебя как личность. Чувствуешь страх, плебей? Может, и не нужно тебе никакое знание? Как хорошо было быть самородком, читать толстую книжку, пока родня переходит на крик, споря о том, какого цвета должен быть плинтус. Тебе казалось, что ты уже в культуре, в ее уютном уголке. Тогда почему захотелось большего? Чего – большего? Да всего – всего! Присвоить сразу весь опыт, распахнуть свою отзывчивую душу так широко, как это нужно, чтобы охватить все мыслимое пространство человеческой истории и мысли.
А есть и противники поменьше – они еще не сказали свое слово. Хранители-евнухи, знатоки всех языков, орден, назначение которого – хранить знание об ордене. Даже примечания на полях для них непозволительно смелы. Господи, что бы они сделали со мной, если бы знали о моем существовании! По дороге в искусство они пропускают жизнь через пыточные фильтры и каноны, навязывают обязательные кокошники и штампованные формулы бунта.
Ладно, это все химеры.
Где оно, мое искусство, – вот вопрос. Как правильно спросить в таком замке, как этот, обыкновенной деревенщине, у которой есть только сильные руки и пылкое храброе сердце?
Да, хотелось проще – хотелось просто родить песню, и спеть ее, и петь всегда. Но песня оказывалась не своей, сам ты представал лабухом Калабуховым, которому надо бороться за самые доходные рестораны. Или ты попадал сразу наверх, где мерой искусства оказывается лишь то, как далеко ты готов зайти в разрушении. Или оказывался в покрытом плесенью народном хоре в народном костюме.
Я не против, но ищу иного.
Интуитивно мне абсолютно понятно, что искусство – это путь, который выводит из всякого тупика, духоты и уныния. Этим путем, идущим непременно по всему земному миру, заглядывающим в каждый его уголок, в каждый дом и каждую душу, – этим путем мог бы пройти каждый. Это путь, который связывает воедино разрозненный мир, путь, который выводит к созерцанию его всего, оправдывая тем самым сам его замысел. Это конкретная дорога, на которой посредством уставших от солнца глаз и налившихся тяжестью ног обретается кровная связь со своей землей. И на этом пути собирается, срастается назад разорванный и разбросанный по миру человек. И когда ты прошел, кажется, что отныне на каждом кусте, по которому ты скользнул взглядом, на каждом дорожном знаке, на каждой картине в Эрмитаже, в каждой подвозившей тебя машине остались маячки, с которых ты до конца жизни будешь получать сигналы. И ты всегда будешь чувствовать себя примерно так, как чувствует себя в это время пересеченная тобой земля и поднимающаяся над нею утренним туманом культура.
В одном из залов сбоку была приоткрыта дверь. В нее проникало солнце, сразу за ней начиналась зеленая трава. Я слышал, что снаружи поют птицы. Я открыл дверь шире и увидел перед собой девственный сад. Без каких-либо колебаний я вышел туда, прикрыв за собою дверь.
7
Это был конец вторых суток моего пребывания в Питере. Усталый после пятичасового блуждания по Эрмитажу, я как будто вспомнил, что у меня больше нет жилья. Надо все-таки найти, где переночевать, причем подешевле. Но где искать? Я сел на скамье возле Казанского собора, открыл карту Петербурга и стал фиксировать значки гостиниц. Ну, думал я, центр можно вообще не смотреть – здесь все будет дорого. Взгляд стал кружить за его пределами. Трудно воспроизвести логику рассуждений, но я увидел гостиницу в самом дальнем конце Васильевского острова, причем неподалеку находилась станция метро – и подумал, что это именно то, что надо. После Эрмитажа мне почему-то было трудно даже смотреть по сторонам. В метро я уже плелся. День заканчивался.
Минут через сорок я стоял перед громадой гостиницы «Прибалтийская» – это и была та самая скромная гостиница на отшибе. Но машины на парковке не отличались скромностью – они отличались роскошью. Раз уж приехал – зайду, подумал я и вошел в изысканный вылизанный холл с пыльной черной сумкой на плече и с чехлом для гитары, сшитым мамой из серого дерматина. Деловито спросил у вежливой девушки, сколько здесь стоит переночевать. Она коротко рассказала о разных категориях номеров и обозначила нижнюю планку – 110 долларов. Я внимательно выслушал, поблагодарил и не спеша пошел к выходу. Мне казалось, все выглядит так, будто я тут проходил и мимоходом решил поинтересоваться, не удобно ли мне здесь будет разместиться. Нет, пожалуй, неудобно. У меня в кармане было немногим больше двухсот рублей.
Но куда ж нам плыть?
Я вышел к берегу Финского залива. Присел на парапет и развернул карту. Нужно было торопиться, на часах почти восемь. Я увидел на карте какой-то глухой район на южном направлении и подумал, что там должно что-то быть. Сейчас можно сказать, что я вообще легкомысленно тогда отнесся к поиску жилья. Этим нужно было заниматься раньше – как мне и советовал Руслан. «Позвонить?» Но Руслан остался в каком-то далеком прошлом, в которое не хотелось возвращаться. Даже не рассматривал такой вариант.
Когда я вышел из метро, небо было свинцовым. Ночи уже были не белыми, а серыми, но в этот вечер на город бросали тень еще и плотные облака. Я быстро перестал понимать свое место на карте, потому что перестал в нее смотреть. Карта ничего не подсказывала – я не знал, куда идти, и шел наугад, высматривая здание, похожее на общежитие или гостиницу. Мне даже казалось, что я сейчас зайду за очередное здание – и навстречу мне встанет типовой двойной корпус общежития 4а, оставшийся на улице Зорге. Я шел вдоль широкой проезжей улицы по безликому спальному району. В этот момент я не чувствовал, что я в Питере – я был просто в чужом месте, где не знаю ни единого человека. Много лет назад точно так же моя мама шла по улице Волгодонска, в который она приехала искать супруга, не оставившего адреса. Единственным человеком в том новом для нее городе оказалась женщина, с которой они сидели рядом в автобусе. Они проговорили все пять часов пути, после чего некая Тамара Мельникова оставила маме свой телефон. Мне тогда было три года – я остался у бабушки в Дятьково, мама приедет за мной позже. А тогда она, двадцатилетняя, шла по незнакомому городу и соображала, куда идти, где искать своего непутевого вчерашнего соседа по парте. Она догадалась пойти по общежитиям.
Я прошел километра два, но казалось, что я стою на месте – пейзаж не менялся совсем. И общежитиями не пахло. Меня начинал пробирать нервный смех, и это было даже кстати – я так устал, что мандраж придал мне сил. Я шагнул вбок, перегородив дорогу маленькому мужчинке, и забарабанил:
– Извините, мне сказали, что где-то в этом районе есть общежитие…
– Да, вот туда пройдите, – и он, не глянув на меня, махнул куда-то в сторону от дороги.
Повезло, ой как повезло. Да нет, просто энергия всегда проложит себе дорогу, ничего удивительного.
Я повернул под густые деревья, под которыми стало еще темнее. Поплутал по скверу, но вышел на простор и увидел крыльцо, над которым висела квадратная табличка. Надписи «Общежитие» я еще не видел, но уже не сомневался в том, что написано именно это. А ну как там нет мест? В этот момент я как раз проходил мимо широкой голубой парковой скамьи с загнутой спинкой. Прикинул, как я на ней улягусь. Улягусь-то улягусь, а на каком свете проснусь – это вопрос.
Выдохнул и вошел в старый подъезд, ни на какое парадное не тянущий. Каморка вахтера выглядела, как окошечко в регистратуре. Я наклонился и торопливо спросил, есть ли свободные комнаты. Женщина лет пятидесяти в косынке чуть испуганно и несколько удивленно ответила «нет».
– Как нет? – и я сам услышал, что мой голос упал до шепота. Я даже сам не знаю, удивился ли я этому факту или не мог поверить в то, что мне, проехавшему полстраны, прошедшему Петербург и Эрмитаж, могли в самый ответственный момент отказать в койке. Но голос мой натурально звучал, как у обреченного.
– Так – нет, здесь же люди живут, многие семьями – по много лет… – объясняла она совсем не грубо, не издеваясь, объясняла мягко, с участием. Чем я его заслужил?
– Да мне бы одну ночь переночевать. Может быть, есть хотя бы место в комнате? – лепетал я, пытаясь хотя бы за что-то зацепиться. Потому что понимал: второго общежития этой ночью я уже не найду.
– Нет-нет, – еще мягче сказала она, – нет места.
И я больше не знал, как продолжать этот разговор. Отстраняясь от окошка, я уже неосознанно произнес:
– Что же мне делать?
Помню, что отступил на шаг и судорожно пытался соображать – понимая при этом, что больше не о чем соображать. Что остается постоять тут минуту, отдышаться и гулять в сторону голубой скамейки. Еще подумал тогда с досадой: как некстати сейчас эта гитара – ну вот куда ее? Под скамью? Сопрут же…
– А тебе что – совсем некуда идти?
Я уже и забыл о ней, а тут сразу уставился прямо в лицо – впервые рассмотрел.
На меня смотрели большие проникновенные темно-серые глаза. Она смотрела так, что от этих глаз уже никуда не деться – они смотрели не для того, чтобы не видеть, а для того, чтобы видеть. И она, казалось, видела меня насквозь, читала каждую мою мысль и оттенки душевного состояния. Я бы не удивился, если б она мне сейчас сказала, зачем я поехал из Ростова в Петербург. Она, незнакомая пожилая женщина в косынке, из-под которой выбиваются пряди с проседью, смотрела сейчас на меня так, как я мечтал бы, чтобы на меня когда-либо посмотрела женщина.
– Совсем, – тихо, пораженный, ответил я.
Она не отрывала взгляда, ее глаза лучились сочувствием, каким-то естественным для нее состраданием, даже, страшно сказать, любовью – к кому? ко мне? за что? неужели все это может быть так просто?
Она немного помолчала и сказала:
– Если тебе некуда идти, могу пустить тебя к себе. У меня есть спальное место. Но тебе придется уйти в шесть утра, потому что в шесть тридцать здесь уже будут люди.
– Конечно, – ответил я. – Большое спасибо.
В стене отворилась дверь. В комнате за нею было метров восемь, в торце ее – так, что в оконце вахтера не видно, – стояла кушетка. Я вошел – и здесь стало тесновато. А женщина вдруг по-матерински засуетилась, принялась ставить чайник, достала печенье. Я тихо улыбался, благодарил и ни от чего не отказывался. Спросил, как ее зовут, – Людмила Васильевна.
Мы говорили недолго. Она говорить была не мастерица. Немного порасспросила, конечно, но – кажется, она и так все понимала. Я отвечал, а она не удивлялась: как будто все уже знала.
– Кто же ты? – спросила она ласково, причем было ясно, что она о роде деятельности, но для меня – не только.
Я дожевал печенье со вкусом топленого молока.
– Никто, пожалуй. А так студент. Пою вот еще.
– Что поешь? – в ее голосе было самое обыкновенное любопытство, причем не очень сильное.
– Что пою? – медленно переспросил я, чувствуя опять, что обычный вопрос раскрывается своей древнерусской мудростью. – Людей пою. Прекрасных, молчаливых людей, которых почему-то никто не видит. Вас вот теперь буду петь…
Она тихо и легко рассмеялась. И я посмеялся.
8
Я лежал в лесу, в кромешной темноте. Лежал на покрывале, которое вынул из чехла для гитары, – не зря все-таки носил его с собой, еще повезло, что так поздно пригодилось. Лежал на животе, уткнувшись лбом в предплечье, – в этой позе я лет с тринадцати мог спать хоть на голом полу. Лежал и слушал потрескиванье и копошение живого леса, окружающего меня в полной темноте. С закрытыми глазами я видел гораздо больше, звуки отдавались в голове световыми вспышками. Прямо под покрывалом нечто ползало. С закрытыми глазами мне было светло и совсем нестрашно. Я был один посреди мира, но чувства одиночества не было и в зачатке. Мне даже казалось, что я – дома, внутри бесстрастной и уже потому дружелюбной среды. Лежишь вот так, а по тебе, как вода по камешкам, бежит время. Поймал себя даже на том, что улыбаюсь. Было ощущение полноты – с твоим неизменным присутствием в ней. Захотелось просто вслух сказать: «Спокойной ночи», адресовать его тебе, далекой, но на самом деле уже находящейся рядом, – возможно, я даже прошептал это. Мне казалось, что я не видел темноты уже много дней и наконец вернулся в родную стихию, в которой меня не видно и не слышно. В которой меня практически невозможно обнаружить.
Я быстро заснул. Ну и что же мне снилось, как думаешь? Невозможно угадать. Во сне я ехал в поезде с верблюдом, который спал в купе на верхней полке. При этом хвост, который оттуда свисал, был черным и собачьим. Я с кем-то переговаривался в проходе, советовался, как мне ссадить животное в Волгодонске, когда мы будем проезжать прямо в одном квартале от нашего дома на 50 лет СССР, по частному сектору. И тут я вижу, что человек, с которым я разговариваю, – это мой одноклассник, кореец Олег, который как раз в том районе живет. Его лицо отчего-то потное и усталое, он смотрит на меня с большим недоверием – и я внезапно понимаю: он догадался, что я хочу этого верблюда сожрать. Само это мое намерение стало таким открытием для меня, что я проснулся.
Я не знаю, зачем это снится и что в этом понимать. Можно сказать разве что: это инобытие обнажает то, как быстро могут меняться правила игры. Что – верблюда в поезде быть не могло? Конечно, мог. Что – верблюд не мог быть странным, с собачьим хвостом? Да что мы знаем о верблюдах, в конце концов? Да, такой вот верблюд – не нравится, поищи другого. Что – неужели невозможно себе представить, чтобы я намеревался употребить его в пищу? Нет, я, конечно, здравомыслящий человек и понимаю, что ситуация ненормальная. Но именно в силу здравомыслия я понимаю, что она не из сферы невозможного. И сложись все несколько иначе, она могла бы иметь место.
Это был лес под Брянском. Накануне на обочине меня высадил грузовик, который вообще-то шел в город. Я сам попросил высадить перед городом, потому что не мог придумать, что мне делать в незнакомом городе поздно вечером. В лесу спокойнее.
Я был излишне самоуверен, планируя дорогу назад. Мне, видите ли, показалось скучным возвращаться той же дорогой. Мол, чего я там не видел. Я взял карту и набросал новый маршрут – от Питера резко на юг, в сторону Великих Лук и Брянска через Смоленск. А под Брянском планировалась остановка. Когда я еще окажусь на родине моих родителей, откуда меня увезли в три года? Когда я еще побываю в лесистой стране моего младенчества? Дятьково – городок в сорока пяти минутах от областного центра. Городок с хрустальным и мебельным заводами, и лесом, лесом…
Когда покупал билет на Витебском вокзале, день начинался жаркий, редкий в этих краях. Купил по испытанной схеме билет на полдороги, причем в общий вагон. Никогда до этого не видел общих вагонов. Сиденья с затертыми до блеска матерчатыми чехлами, с крутым запахом блевотины и перегара еще до отправления. Я высидел там, пока поезд не тронулся, встал и уверенно прошел в другой вагон с вещами. Следующий был плацкарт, а за ним – полупустой купейный. Я зашел в купе у туалета, залез на верхнюю полку и улегся безо всякой постели на обитое бордовым дерматином дерево. Провалился почти сразу. Проснулся через час, посмотрел на часы; нет, возвращаться рано.
Главное, что бросилось в Великих Луках, – почти полное отсутствие людей. Я точно не знал, как двигаться дальше, и прошел в здание вокзала. После семиминутного изучения расписания я с ужасом понял, что через три минуты на этот вокзал придет поезд, который идет на Витебск, а потом почти двое суток не будет больше вообще ничего. Витебск был в Белоруссии. Туда я совсем не собирался. А поезд уже объявляли. Я пытался соображать быстрее. Главной проблемой были деньги. У меня оставалось с собой 124 рубля, о покупке билета на поезд не могло быть и речи. А поезд уже показался. Стоянка – три минуты. Это то время, за которое мне нужно проникнуть на поезд с минимальными денежными потерями.
В первом вагоне тетка меня просто послала. Я побежал к следующему, понял, что неправильно заговорил. Второй заявил с ходу: «Возьмите до Витебска, у меня только двадцать четыре рубля». Было видно, что женщина поддалась, но сказала: «У меня все занято, беги в следующий». В следующем сделал точно так же и получил место в купе с двумя армянами, которые ели воблу и запивали ее пивом из открытых бутылок. Я поздоровался и присел на нижней полке. Они вели свой неторопливый разговор. Я постепенно успокаивался, в глотке пересохло совсем. Неожиданно для самого себя я не выдержал и попросил отхлебнуть пива. Армянин проглотил кусок, посмотрел на меня и сказал медленно:
– Ну, если не брезгуешь… – и протянул бутылку.
Я не брезговал. Но сделал несколько глотков и почувствовал прилив то ли стыда, то ли обиды, что те сами не предложили. Поблагодарил и вышел из купе в коридор. Долго смотрел в окно, почти до самого Витебска. И была неожиданная усталость, ощущение, что фарт ушел, а до дома еще далеко. «Какой еще дом? – оборвал сам себя. – Твой дом там, где ты, – напомнил себе привычную фразу, – наслаждайся».
А в Витебске были «зайчики» – местная валюта. Не потерять при размене было невозможно. Пришлось менять всю свою последнюю сотню. Я прошлялся часа два в окрестностях вокзала, нашел столовку. Было уже не до достопримечательностей. Я был в состоянии пути, в котором любая остановка – задержка.
А электричка в Смоленск была переполнена. Я еле влез в вагон, стоял в толпе около тамбура. В толпе видел девичье лицо необыкновенной, какой-то белорусской красоты – вот на нем и отдыхал. В Смоленск я должен добраться почти к семи вечера. Запас времени очень небольшой.
Смоленск пролетел в окне автобуса. Только и успел подумать о том, что сюда надо будет вернуться.
А на трассе за городом не было машин. Такой вот сюрприз. Кто бы мог подумать.
Я шел вдоль обочины, а автомобили меня не догоняли. Мне стало смешно. Сюжет сентиментального путешествия приобрел зловещие интонации. Передо мной стояло пространство, в котором можно сгинуть. И я – делать нечего – шел в самую его глубь. А через полчаса остановилась единственная фура – и довезла прямо до Брянска. Везде есть жизнь – я и сам тому доказательство. Я попросил высадить меня, не доезжая до города, – и отправился ночевать в лес.
Утро было солнечным. Я достал из сумки неприкосновенную банку кильки в томатном соусе, быстро вскрыл ее ножом и за пять минут съел с куском хлеба. Мы с едой умеем договариваться, в наших отношениях обходится без фанатизма. Вынул пластиковую бутылку с водой и почистил зубы, затратив не более трех горстей влаги. Общежитие научило – до девятого этажа очень плохо доходит вода.
Вышел из лесу и, еще не дошел до обочины дороги, как увидел, что ко мне приближается милицейский автомобиль. Присмотрелся – пост ГИБДД буквально в сотне метров. Удачно я высадился ночью. Командир представился и попросил документы. Я беззаботно вынул из сумки студенческий билет. Других документов я в дорогу не брал. Спросил, что я, студент Ростовского государственного университета, здесь делаю. Я сказал, что после сессии приехал навестить родственников. Где? Здесь неподалеку – в Дятьково. Кстати, не подскажете, как удобнее добраться до автовокзала? Подсказали, между прочим.
А на автовокзале, где я под навесом дожидался автобуса, на меня нагадил голубь. На светлых джинсах в районе бедра стекла гигантская капля жидкого дерьма. Я выругался – а самому смешно: вот уж к чему не готовился. Как, право, слаб и уязвим человек. Соседи по остановке отворачивались, чтобы не показать своего смеха. Я пошел и нашел на вокзале какую-то ржавую раковину, пытался смыть добро, вымочил штанину напрочь. Хорошо, подумал, встречает родина. И тут же: а ты чего хотел? – забытая все-таки и брошенная. Да, вот так, между делом, я решил заглянуть в мир, из которого вышли мои родители, где родился и рос первые годы я сам, где не был с конца восьмидесятых, когда меня еще отправляли сюда к бабушке на лето. В автобус я садился с тяжелой душой – но больше от навеянных голубем предчувствий, чем от глубоких переживаний.
VIII. Новые люди
Все бытовое опрокинуто и разрушено. Осталась одна небытовая, неприложенная сила голой, до нитки обобранной душевности.
Б. Л. Пастернак. «Доктор Живаго»1
После возвращения из этой поездки я два дня курил на балконе. На вокзале в Ростове милиционер проверил мои документы – получилось символично. Последние пять рублей я потратил на автобус до пустого в это время года общежития. В городе стояла жара под сорок – это та температура, при которой свою жажду жизни проявлять не хочется. Антон и Никита уехали до конца лета.
Я путешествовал десять дней. Мне казалось, что вот этот момент, когда что-то важное пройдено, но еще неясно, что именно, должен быть как-то пережит. Я даже ожидал, что, слушая, как завывает ветер в перилах девятого этажа, обязательно что-то пойму, что в голове само отольется какое-то финальное обобщение. Но в голове было пусто, я чувствовал усталость, усталость и отчуждение. Привычный мир с кастрюлями на дощатом полу, сбитыми своими руками книжными полками, тумбами с ободранным шпоном, мир, который долго уже не замечался, сейчас опять вылез на первый план, стал вызывать эмоции. Ну какие эмоции он, бедный, мог вызывать?
Через день пошел на склад табачной фабрики наниматься на суточные работы по разгрузке фур. Попал в команду. В этой работе свои секреты. Не каждый приходящий сюда знает, что главной задачей здесь будет дотянуть до конца рабочего дня. Дело в том, что ни в семь утра, ни в три дня, ни в восемь вечера никто не знает, сколько он продлится. А принцип простой. Бригадир утром собирает команду из десяти человек. За каждый объект расплачиваются с бригадиром. Сумм никто не знает. Если в пять или в семь вечера кто-то из команды скажет, что он больше не может, бригадир заплатит ему минимум – рублей сто. Те, кто дойдет до конца – даже если работа закончилась через полчаса после того, как сдался товарищ, – получат в два-три раза больше. И получат тем больше, чем больше человек из команды не выдержат. Тому, кто приходит впервые, кажется, что дотянуть до конца нетрудно: грузы, как правило, нетяжелые – коробки. Но очень высока скорость работы человеческой цепи. И если будешь эту коробку неправильно принимать, через пару часов руки сведет даже у вполне мускулистого молодого человека. На скорости все имеет значение – с какой амплитудой поворачиваешься, под каким углом сгибаешь руки, когда принимаешь груз, как дышишь, можешь ли не задумываться. В тот день закончили в одиннадцать вечера, на руки я получил около трехсот пятидесяти рублей – до финиша дошли семеро. Шел, переставляя свинцовые ноги. Казалось, что земля-магнит притягивает железные ступни. Шел и думал: как же твердо я стою на земле. С новым знакомым из бригады, с которым было по пути, купили по бутылке самого дешевого пива и выпили, сидя на гнутой трубе, оставшейся от декоративного заборчика у газона. Даже не могу вспомнить, каким этот заборчик должен был быть. От нескольких прохладных глотков я стал счастлив. Ничего вкуснее я никогда не пил.
В принципе так можно жить. Я так могу. Я способен это выдержать. Я способен искренне радоваться бутылке пива вечером. Но все дело в том, что именно ты хочешь в себе пестовать. Я хотел пестовать другое.
На следующий день уехал в Волгодонск. Рассказал маме о поездке. Сильно, сказал, хотел посмотреть город на Неве. И действительно, добавил, очень красиво. Сын стоял перед нею, и беспокоиться уже было не о чем. Проводили время с Павликом, он увлекся компьютерами, учил меня работать с текстовым редактором, брали фильмы в прокате и смотрели по вечерам. Поймал себя на том, что появилось гнетущее ощущение от этой когда-то привычной непринадлежности себе. Но городок, пропитанный моими эмоциями, не отпускал. Он окутывал меня чадом страстей, которые возвращались, вновь завладевали мной. А я не хотел их. Эта жизнь больше не была моей. Мне некому было это сказать, да и незачем.
Я сбежал в Ростов при первой возможности. Снова приехал в конце августа и первое, что сделал, – побрил голову налысо. Впервые в жизни. Наверное, мне нужно было как-то выразить внутренние перемены, а песен я в это время не писал. Не писал и даже не мог вспомнить, как я это делал. Не мог даже представить, откуда можно взять песню. Как ее можно выдумать? Из какого места ее надо выдумывать? В голом черепе есть какая-то честность, я уже видеть не мог этой лежащей на бочок челки – она не должна была больше меня выражать.
Устроился работать в бригаду кровельщиков. Работа сдельная, собираемся, когда появляется объект. Бригадир – мужик с немецкими усиками, Анатолий Степанович, бывший ботаник из университета. Крыли крыши рубероидом, снимали старый и клали новый. В бригаде было четверо, помимо меня еще один студент и парень поопытнее. Мне доверяли поначалу только подготовительные работы – перенос тяжестей, съем старого материала, очистку поверхностей. С горелкой работал только Анатолий. Это был сложный производственный процесс: одной рукой на длинной ручке нужно было держать горелку, огнем из которой надо расплавить пленку на внешней поверхности рулона и одновременно загнутым прутом в другой руке этот рулон разворачивать – и дорожка кладется прямо по месту расплавленным битумом вниз. Я так подробно расписываю потому, что примерно через неделю научился делать это и сам.
Но в тот день у меня было на редкость много косяков. Началось с того, что я снимал с бокового парапета железный колпак – и из-под него выпали прямо на улицу две полуразрушенные половинки кирпича. Любой из них было достаточно, чтобы пробить человеку голову. Мне оставалось смотреть, как они медленно летят на тротуар, по которому идут люди. Но прохожих было немного – утро только начиналось. Когда кирпичи упали, головы посмотрели вверх и что-то закричали. Я приложил руку к сердцу в извинительном жесте. Анатолий Степанович сухо попросил контролировать кладку, которая может быть старой. Раньше надо было это говорить, умник. Едем дальше.
На плоской крыше девятиэтажки есть дополнительные служебные строения высотой метра три – а у них тоже есть крыша. На одно из таких строений я отправился, чтобы отодрать старый рубероид. Дело шло гладко – материал отходил листами. И наверное, работая, я задумался. Многие полагают, что работяги, впахивая, склонны размышлять о своей жизни и строении мироздания. Мой же опыт физической работы говорит, что лучшие работники практически не думают – потому они и лучшие. Итак, я задумался, а пока думал, тащил на себя край покрытия, которое споро вырывалось прямо из-под моих ног по мере того, как я пятился. И пятился я до тех пор, пока не почувствовал, что вишу в воздухе. Мне кажется, что на некоторое время, необходимое для осознания себя за пределами твердой поверхности, я даже завис. В следующее мгновенье я обнаружил себя свисающим вверх ногами на вертикальной трубе, которую обнимал, как родную мать. До этого момента я даже не подозревал о наличии поблизости такой трубы. Инстинкт самосохранения сработал четко и главное – гораздо быстрее, чем я мог подумать. Нет, под моей головой было не девять этажей, а те самые метра три, но и их достаточно при определенной удаче. Один из напарников, поопытнее, оказался рядом, помог мне слезть. Я отряхнулся и был несколько раздражен. Анатолий Степанович стоял белый. Наконец он взял себя в руки и сказал:
– Сева, может быть, ты передохнешь? – даже не выругался.
– Пойду воды наберу, – сказал я и, подхватив пустую полуторалитровую бутылку, пошел к лестнице в подъезд.
Мы работали здесь не первый день, отдельные жители подъезда нас узнавали, так что я уже знал, к кому можно постучать. На работу мы выходили затемно, но людей раньше десяти мы не тревожили. Сейчас было начало одиннадцатого.
На восьмом этаже открыла бодрая бабушка, которая сидела с маленькой девочкой, пока молодые работали. А внутри квартиры лежала, почти не вставая уже, ее мама, чей запах был ощутим прямо с порога. Меня пропустили набрать из-под крана воды в бутылку. Пока я набирал, женщина стояла на пороге в зал, в котором громко работал телевизор. Она что-то сказала, но я не разобрал, что именно, из-за шума текущей воды.
– Что? – переспросил я, высунувшись.
– Опять дом взорвали.
– Где?
– В Волгодонске.
Я выключил воду и прошел в зал. В телевизоре висела картинка с обрушенным фасадом двух центральных подъездов длинного панельного девятиэтажного дома. Перед ним теперь во все стороны разлеталась огромная мусорная куча, по которой карабкались маленькие человеческие фигурки.
– Ни-че-го себе, – задумчиво сказал я, глядя на экран. – Я живу в Волгодонске.
Она мне не стала делать замечание за то, что я вошел в зал обутый.
Я первым делом пытался понять, в каком районе города рвануло. А диктор сообщал: «теракт», «грузовик со взрывчаткой», «есть погибшие», «многие еще под завалами», «Октябрьское шоссе». Где это – Октябрьское шоссе, стал лихорадочно вспоминать. А, Новый город – мама живет в Старом.
– В Волгодонске взорвали жилой дом – у меня там мама с сестрами. Мне надо ехать. Вы мне дадите сегодня расчет?
Анатолий Степанович помолчал.
– Их что – задело?
– Нет. Не знаю. Мне надо ехать.
Заплатил меньше, чем я должен был получить за отработанный срок. Правильно: падающего подтолкни – раз в моем родном городе произошел теракт, сам бог велел мне недоплатить.
Я заехал в общагу, умылся, переоделся в чистое. Остановился: жалко небольшие деньги сейчас отдавать на билет. Решил: а не катнуться ли мне домой, как когда-то в Питер?
За Ворошиловский мост не полез: уж больно там много поворотов до волгодонской трассы – нужно было бы сменить несколько попуток. Поехал на автобусе к аксайскому мосту. Это с другой стороны города, но от него напрямик по федеральной трассе – и поворот на Ольгинку, а там уже не ошибешься с направлением. Когда подошел к пункту ГИБДД около моста, вдруг мелькнула свежая идея. Подошел к сотруднику и говорю:
– Мне нужно в Волгодонск, там мама, помогите сесть на попутку.
Молодой парень внимательно посмотрел, кивнул.
– Постой здесь.
Он пошел к ждущему на обочине КамАЗу, возле которого стоял водитель. Я видел, как патрульный отдал ему документы и показал в мою сторону. Водитель кивнул.
Он довез меня прямо до города.
2
Как все-таки спокойно можно не думать о таких местах, как Волгодонск или Дятьково. Сколько их там, заброшенных, отложенных до лучших времен мест?
Город Дятьково Брянской области – он навсегда записан у меня в паспорте как место рождения. Я не был здесь ровно столько лет, чтобы забыть, сколько именно. Когда меня сюда отправляли на лето в последний раз, были живы обе бабушки, а приезжал я сюда с любимым папой. А бабушка Маша прямо спрашивала: «Кого больше любишь – маму или папу?» И я знал, что она хочет услышать. «Папу», – говорил я. И бабушка поворачивалась и кому-то в глубине дома поясняла: «Папу больше любит». Прости меня, мама. Я был слишком ушлый ребенок.
Сказать, что я соскучился по людям, которые здесь остались? Увы, это невозможно. Я прожил без них те десять лет, за которые в голове мальчика, как цыпленок, проклевывается «я», а оно настолько же похоже на мальчика, насколько цыпленок похож на яйцо.
Но с этим местом связана атмосфера абсолютного, сказочного детства, которую мне удалось удержать в памяти. И те люди, которые сегодня живы, там тоже были.
А еще там был лес. Наверное, можно сказать, что я приехал в лес.
Именно отсюда, вернувшись из армии, мой отец уехал в далекий Волгодонск. Покинув в бессознательном возрасте места, где был зачат и выношен, я вырос в принципиально ином ландшафте. Открытая всем ветрам степь, открытые жесткие люди с соломенными волосами, и другие – наоборот, чернявые, с кавказской кровью. Но и те и другие – южане, громкие, самоуверенные до хамства, скорые на ответ, но и смелые, щедрые, открытые.
Первые годы после переезда меня постоянно возили обратно в лес на каникулы. В этом отдыхе было немало мучения. Бабушка брала меня собирать землянику, чернику – а что такое набрать ведро ягод? Это много часов на четвереньках в окружении крупных слепней и угрожающе свежей крапивы. Это солнце, пекущее к полудню, и ни дуновения ветерка здесь, внизу, под разнообразными стволами и кронами смешанного леса. Вот дедушка никогда бы не пошел за ягодами. Он ходил за грибами, как и пристало мужчине. И я ходил с ним. На грибы, однако, времени оставалось немного – я заставал лишь конец августа. Иногда попадал сюда на осенние каникулы – тогда грибные походы становились регулярными. И открывалась вся наука грибника. Как искать, если за грибами вышел весь городок? И бредешь, зорким глазом стараясь угадать, под каким кустом спряталась шляпка подосиновика, где расселилась семья лисичек, на какой высоте сегодня выросли опята, не приподнимает ли мягкий лесной наст голова чернушки? Если бы не детский наметанный глаз грибника, я никогда бы не научился видеть раков на, казалось бы, пустом дне залива.
Потом была большая пауза после Чернобыля – облако радиации зацепило брянские леса. А затем государственные перемены – и вот уже поездку через несколько областей моя семья не могла себе позволить. Сначала поездки откладывались, а потом начала умирать бабушка – она умирала долго, от рака кишечника. Говорят, что под конец к ней мог подойти только прошедший концлагеря дед, всех остальных начинало сразу же выворачивать. Бабушка заживо сгнила. А мне было страшно, когда я пытался ее себе представить. Потом умерла и мамина мама. Вдруг открылось, что она всю вторую половину жизни пила, а под конец походила на прозрачную былинку. Через ее кожу были видны голубые венки, а большие голубые глаза стали водянистыми. Остался дед. Но выяснилось, что и дед не родной. Мне-то это было неважно – он меня вынянчил, но люди более взрослые знали времена, когда его не было. Бабушка Маша, которая умерла от рака, связывала его со всей семьей, а теперь он почувствовал себя чужим. Он и стал чужой, пил все больше, становился после этого злее. Через несколько лет он умер в больнице. И вот уже некому меня больше вести в лес. Остались люди поколения моих родителей – люди, занятые выживанием.
Для моей семьи все родовые связи распались. Мы жили в маленьком городке, в котором у нас не было ни одного знакомого человека. Мы привыкли к этой отчужденности, перестали ее ощущать.
И вот теперь, как бы между делом, я сюда приехал. То есть у меня как бы – дела! Я – деловой человек: разъезжаю вот по стране. Ну-ну.
Меня здесь никто не ждал.
Как бы я встретил вернувшегося отца? Трудно сказать. Так то – отец. А я – чужой выросший ребенок.
В городе остались две младшие сестры отца, у каждой – своя семья. А еще была единственная школьная подруга матери.
Слез с автобуса на перекрестке возле обветшавшего стадиона и пошел вдоль дороги под заборами одноэтажных строений. Я помнил, что если пройти так километра полтора, дома закончатся – и дорога уйдет в лес. И в какую сторону отсюда ни пойди – уйдешь в лес. Я даже видел уже его гребешок, я предвкушал его.
Ноги несли меня в тот дом, откуда меня увозили. Там меня нянчили баба Маша и дедушка Толя. Сейчас там живет с мужем и детьми их младшая дочь, моя тетушка, которую я всегда называл на ты, – Валя. И муж ее всегда был для меня просто Юркой.
В половине двенадцатого на пороге постаревшего домика, сошедшего с детской фотографии, я долго нажимал на звонок, пока мне не открыла тетя Валя. Она когда-то тягала меня на руках, будучи еще девчонкой. Сейчас она уже раздобревшая, подурневшая матерь двух детей и обладательница внушительного набора золотых зубов.
– О, Севка! Ты откуда?.. – она улыбалась искренне и как-то стеснительно – будто не давая губам расплыться в слишком широкой улыбке.
Я готовлюсь дать речь. Но едва произношу «Да вот, мимо проезжал», как Валя оглядывается и бросается к ползущему младенцу. Потом ей нужно что-то помыть, скоро нужно «курей» кормить. Она кричит мне о том, чего можно взять в холодильнике. Но успевает в конце концов сама разогреть мне какую-то баланду и подать в чудовищного размера миске.
Я принят так, будто вышел отсюда два дня назад. Вот вернулся «Севка» с «гулек», бухнули ему борща. И таких «Севок» полный дом. В сарае две свиньи, коза, курей без счета, во дворе пес, в доме кот, сын, дочка, муж. Так ведь еще и своей жизни хочется – для нее в зале стоит накрытый большой салфеткой выпуклый телевизор.
Эта полная чаша – эффект первого взгляда, а на второй – даже свинья болеет, и один лишь выход – не принадлежать себе совсем, не позволять себе своих интересов. Потому что, если они появятся, то разорвут этот быт, а сама обязывающая повседневность – навалится, припомнит, отомстит.
Я прохожу в зал, она сидит на диване, смотрит телевизор. Я тоже сажусь. Муж на работе, сын скоро должен прийти из школы, второй класс, малая заснула, так что говори, Севка, потише. Спрашивает, чего у нас новенького. Рассказываю, что учусь в университете, что живу теперь в другом городе, покрупнее. Хотя никто из моих здешних родственников не видел и того города, где сейчас осталась моя мать. По мере рассказа я угасаю. И тетушка наконец восклицает:
– Ну ты, Севка, и здоровый вымахал!
И смеется. Я тоже улыбаюсь.
Началось блуждание по дому, узнавание деталей, примеривание на себя усохших дверных проемов. Берешь в руки вещь, а она подсказывает, что делать дальше. Какая-то детская ветошь, которая встречается среди игрушек нового поколения для новых детей. Нашел свою любимую ложку – с выцветшей позолотой. Поднимаю голову – или, как здесь говорят, «голову» – вижу вылепленные моим отцом еще в отрочестве картины-маски. Черно-коричневый пластилин покрыт лаком. Маски похожи на греческие, открытые рты, у одной, с раззявленным ртом, этот зевок еще и направлен умелой рукою влево. Одна из этих масок висела над кроватью, на которой долго умирала его мать. Да, у папы был настоящий дар подражателя. И то, что он делал, здесь было искусством, на которое никто не смел поднять руки. А мы там, в Волгодонске, – подняли, искоренили, только во мне вот что-то засело.
Прошелся по двору, узнал огород, который мы всем семейством очищали от какого-то мусора хрустального завода. Основным мусором были темные, похожие на стеклянные, слитки в земле, которые блистали, как самоцветы. Их были мириады – некуда было сажать картошку. Мы вычищали от них огород несколько лет.
Отца здесь не видели еще дольше, чем я. Он не возвращался сюда, не подавал вестей о себе. Дело было не в том, что он забыл о детях, – он, кажется, вообще не умел помнить.
К старшей его сестре – Свете – я отправился через весь город. По центральной улице того же Ленина я прошел его насквозь за полчаса.
Света была на два года младше мамы, то есть ей еще не было сорока. Но у нее тоже была семья с тремя детьми и бедностью, которая граничила с нищетой. Я видел их холодильник – он был настолько пустым, что было неясно, зачем он вообще работает. Она вышла замуж довольно быстро – за бывшего афганца. Но каменной стеной он стать не сумел – его болтало, как и всех. Стал мотаться работать в Москву. Им, пожалуй, было ничуть не легче, чем нам. Но Света сохранилась. Мы впервые с нею разговаривали как равные. Проговорили почти до утра – это ж надо было сохранить такое желание общения! Говорили о чем попало. Но прежде всего о том, как не забывать любить, радоваться, желать чего-то. Вернее, так получалось, что этим ощущением развязывались все узлы. В ней не было ни капли отчаяния – и мне это было близко. Наш дом в Волгодонске оно посещало. Она рассказывала мне вещи, которые я даже не буду писать, чтобы их не прочли, – потому что как сам не смею ее судить, так и никому бы не позволил. Она задавалась теми вопросами, которыми мне было не с кем поделиться. Я был восхищен живым человеком, который не забывает видеть, чувствовать, думать. Как она так сохранилась? Я не мог этого понять, потому что сам знал только один путь. Но гитара осталась у Вальки. Я не мог не сравнивать Свету с мамой – и думать о том, что бедная мама забыла обо всем. Мама отчаялась.
На следующий день я навестил мамину подругу, которую хорошо помнил. Дверь открыл голый по пояс парень лет пятнадцати с уже рельефными мышцами грудной клетки. Держа спину подчеркнуто прямо, он прошел в глубину дома. Это был ее старший сын – то есть в некотором смысле мой двойничок. Но родила она его не в восемнадцать, как меня моя мама, а годика на четыре позже. Она тоже Валентина, и я даже уловил некоторое сходство со своей тетей – они обе были в халатах: профессиональные домохозяйки. Но у этой Валентины все было на ином уровне. Успешный муж в строительной компании, большой дом с приличной мебелью, сын профессионально занимается борьбой. Мы сидели в креслах напротив друг друга, между нами стоял журнальный столик, на нем блюдо с бутербродами и сваренный кофе. Мне до сих пор не приходилось видеть семей, в которых варят кофе в турках. Наверное, это примерно уровень моего научного руководителя. Валентина выглядела степенной женщиной, она говорила спокойно, мягко и рассудительно. Я смотрел на нее – и мне опять было обидно за маму: за ее неуверенность ни в чем, за готовность жить по первому чужому слову.
И пока я сидел в этом кресле, я почувствовал, что очень мне хочется, чтобы эта женщина дала мне денег. А что – ей же наверняка несложно. И рассказывая о себе, о семье, о путешествии, я уже как бы приторговывал нашими жизненными обстоятельствами. Добавлял лишний вздох, без нажима подчеркивал трудность положения. Я говорил ее же рассудительным языком, спокойно и, конечно, ничего не прося. Но логика этого разговора загоняла ее в ловушку. Она предложила мне триста рублей. Я поблагодарил и сказал, что они меня сейчас очень выручат. Прощаясь, я почувствовал спиной пристальный холодный взгляд ее сына из дальней комнаты.
А потом я сделал то, чего ждал едва ли не более всего, – я отправился в лес.
3
На самом деле даже не знаю, чего меня понесло в Волгодонск. Было же понятно, что наш дом слишком далеко, чтобы быть задетым. Хотя мама сказала, что от хлопка в шесть утра проснулась и она. Но, видимо, нужно было вдохнуть воздух посетившего нас исторического события. Чужая, далекая реальность каким-то образом отыскала наше забытое богом место на карте страны. Это был как будто привет из большого мира. Появилось стойкое ощущение, что от него уже не спрятаться. Или просто не надо прятаться – нужно учиться с ним жить.
Я шел в легких сумерках от вокзала к дому по совершенно вымершему городу. Ничего в нем не могло измениться за время моего трехнедельного отсутствия. Но теперь он выглядел голым, запущенным и жалким – как декорации к какой-то несостоявшейся жизни. Часы на фасаде вокзала, на которых зимой и летом без пяти минут четыре; зассанный подземный переход, в котором даже никто не торгует; чудовищная, кисти примитивиста, афиша единственного кинотеатра, которую под новый фильм каждый раз рисуют от руки; рассыпающиеся от времени бордюры, глядящие в разные стороны, как зубья разведенной пилы; темный филиал Новочеркасского политеха, в который здесь некому поступать; глубокий фонтан перед ним, в размерах которого еще читается масштаб былых атомщиков, но в нем уже лет десять нет воды и все больше мусора; трава, прорастающая сквозь еще советскую тротуарную плитку… Когда здесь ходили люди, это все можно было не замечать. Издалека я видел черный провал своего подъезда с настежь открытой, никогда не запиравшейся дверью. Взорвать этот дом было бы так же легко, как навалить кучу в подъезде.
Я два года жил без телевизора, газет никогда не читал – я не очень общественное животное. Поэтому когда я сел у мамы перед голубым экраном, немного даже офигел от того, что происходит в мире. Я слышал, конечно, что в Москве что-то взорвали, что погибли люди, но что, сколько и как… А в газетах подробности. И про то, что спикер Госдумы Селезнев о взрыве в Волгодонске 16-го сказал в понедельник утром 13-го – значит, знал. И про «чеченский след», и про то, что там не только чеченцы, и про то, что вся операция спланирована ФСБ, чтобы при народной поддержке ударить из всех орудий по сепаратистам. И про то, как легко в центр Москвы, не говоря уже о таком захолустье, как Волгодонск, доставить грузовик взрывчатки. И о том, как легко оказать невольную помощь террористам. О том, что враги среди нас.
Жилой микрорайон, в котором случился взрыв, назывался В-У. Новый город вообще выглядит как схема еще не построенного города. Волгодонск действительно недостроен. Рассказывают, что город строился из расчета на полумиллионное население. И первым делом возводили заводы и жилье. Так и выглядит сейчас Новый город – ни парков, ни деревьев, если не считать саженцев, ни школ с детскими садами – даже магазинов нет, не успели построить. Одни панельные девятиэтажки на фоне тянущегося на половину горизонта бирюзового корпуса «Атоммаша». И имена микрорайонам не успели дать – сплошные В-6, В-8, В-16…
Взрывная волна повредила более сорока домов. Жертв могло быть гораздо больше – как при взрыве в Москве на Каширском шоссе. Там рванули мешки с гексогеном в подвале одного из многоквартирных домов – и от него ничего не осталось. Тут же в шесть утра был взорван грузовик, припаркованный рядом с домом. И полторы тонны взрывчатки в тротиловом эквиваленте громыхнули в открытом пространстве. Двигатель грузовика пробил несколько квартир в соседнем доме. Стальные двери в нескольких окружающих домах повылетали вместе с рамами в подъезды. Оконные конструкции с мясом падали прямо на людей, спящих на больших семейных кроватях под окнами. Стекло крошилось на неравные куски и, падая, резало все, что стояло или лежало на пути. Все, что в квартирах стояло неплотно, было сорвано – цветы в горшках, коробки на шифоньерах. Сами шкафы складывались, как картонные, рассеивались в пыль серванты с хрусталем. Паника и голые ступни в многочисленных порезах. Развороченные кухни с плачущими детьми, которых то ли обнять, то ли собирать в школу. Бывшие военные, которые в семь утра торжественно выходили на свои кухни в форме со всеми наградами. Некоторые приближались к проему наружу, оставшемуся после окна, и смотрели на место взрыва с высоты седьмого этажа. Они видели перед собой воронку диаметром пятнадцать метров, полную водой – под землей шла канализация и водопровод. Это значит, что воды в этом районе больше нет, свет кое-где остался. Постоянный хруст стеклянного песка. И ужас: новая реальность взяла людей беззащитными, выхватила из сна, они еще не готовы. Они стараются взять себя в руки, но они не готовы. Количество людей, подорвавшихся в этот день, – под двадцать тысяч человек. Фантастический радиус поражения.
«Теракт», «террорист» – это были какие-то новые слова. В них был какой-то новый смысл, который не был до тех пор проговорен с такой внятностью. Террорист действует в отношении мирной жизни. Это она – его враг. И мы не знаем, кто он. И каждый выпуск новостей нас приучает к мысли, что врагом может оказаться кто угодно, что никто не защищен в необъявленной войне с миром. И вот это ощущение реальной незащищенности как будто выводило на первый план те мои заветные мысли, которые еще вчера мне самому иногда казались капризом небитого человека, бунтующего под мирным небом.
Я пошел к Павлику. У него заседал целый штаб – отец Дмитрий Николаевич с благородной аристократической сединой, большеглазый муж сестры Славик с объемом бицепса в сорок три сантиметра, сам худощавый сутулый Павлик с отросшими усиками, тревожно молчащие женщины. Этот дом быстро самоорганизовался, потому что в нем был смотрящий. В Ростове в старых домах такими людьми становились опытные, часто посидевшие авторитетные люди, знающие понятия. А этот город был слишком молод для того, чтобы авторитеты могли держаться на репутации. Силой были бандиты, менты и сотрудники частных охранных предприятий, состоявшие из тех и других. Официально милиция была очень слаба, она ничего не могла сделать, но там оставалась взаимовыручка, подкрепленная табельным оружием. Один такой скромный капитан, ездивший на «девятке», но тренировавший будущих бойцов в школе милиции, и координировал население многоквартирного дома. Обычный гражданский дом с «крышей» – всем было ясно, что дому очень повезло. В большинстве остальных невозможно было найти желающего собрать с жильцов деньги на дверь в подъезд.
Люди приняли решение дежурить возле подъездов, дежурить под двое. Смена караула – в четыре утра.
– Заметили – ни одного чурки сегодня на улице нет, – хохотнул Славик, – попрятались черножопые.
– Там вообще никого нет, – заметил я.
– Слава, не матерись! – одернула сестра.
– Тут с утра местная братва уже поорудовала. У нас же кто здесь самые организованные структуры? Правильно. Так вот, сегодня они занялись наведением общественного порядка, оказывают посильную помощь правоохранительным органам – но, конечно, своими методами. Всех левых фраеров, незнакомых чучмеков – в багажники и в лесополосы. Ты знаешь, сколько их сегодня из города вывезли?
– Откуда знаешь?
– Знающие люди сказали.
– Это те, которые сидят дома и телевизоры смотрят? Там сейчас много интересного.
– Да мать-перемать! Если бы Великую Отечественную войну по телевизору показывали, мы бы ее не выиграли!
– Слава, не матерись!
– Но нас же не мать-перемать. Сейчас время выкапывать обрезы. На улице поинтереснее будет.
– То братвы боялись, теперь друг друга будем бояться.
– Вам только дай повод! – всплеснула руками мама Павлика.
– Вообще-то, мама, повод такой – нормальный, – как-то неожиданно сформулировал сам Павлик.
– А как они смотрят на нас! Иногда же просто выводит! – Славик как будто набрел на богатую жилу и стал ее быстро разрабатывать. – Месяц назад я сижу после работы с товарищем, взяли по бокалу пива. Заходят двое вразвалку. Они на меня сразу – зырк. А я уже под мухой и говорю ему сразу: а ну иди сюда. Он так же вальяжно подходит. Ты, говорю, вообще знаешь, где находишься? Он мне: чё ты хочешь? Я говорю: повторяю вопрос: ты знаешь, где находишься? Знаю, отвечает. А я думаю, что нет, отвечаю. Ты находишься, говорю, в российском городе, я повторяю: городе. А так смотреть, как ты на людей смотришь, будешь у себя в деревне, ты меня понял? Как смотреть, спрашивает. Отвечаю: как на говно. Ты мне что, хочешь сказать, что я похож на говно? Нет, говорит. А я, может быть, и похож на говно, продолжаю я, но скажи мне, говорю, брат, ты, мать-перемать, кто такой, чтобы судить, говно я или нет?! Ты кто тут такой?! И – бокал об стену. И клянусь, я бы их убил, если бы хоть кто-то дернулся. Но они же сразу секут: а-а, братан, без обид… Не будет, говорю, никаких обид, если ты будешь помнить, где находишься.
– Правильно сказал, они вообще берегов не видят.
– Только вот дом, возможно, взорвали такие же, как мы с вами, – сказал я.
И на минуту повисло молчание. Он смотрел на меня, и как будто что-то у него не сходилось. Вроде башка почти бритая, на вид серьезный человек, а говорит, как будто и не он.
– Не такие же, – наконец сердито выдавил Славик.
– А как отличишь?
– По роже.
– Вот именно. А рожа может быть любой. А в башку им вообще никогда никто не заглядывал, – я чего-то завелся. – И не только им, но и мне! Ты знаешь, что у меня в башке? Что там за решения вызревают? Никто этого не знает и знать не хочет. А все принципиальные решения принимаются там. И что-то в некоторых головах, похоже, пошло не так.
– Какие-то наивные рассуждения, Сева, – почти ласково сказал Славик. – Ты, наверное, не совсем понимаешь, что такое организованная преступность. Там нет таких рассуждений.
– Понятно, что если ты по уши там, то их уже нет. Но момент, когда ты решаешь, на чьей ты стороне, с кем ты, всегда есть. И я думаю, что людям просто нечем сопротивляться этой заразе. Причем в голове нечем. Они не чувствуют, не верят, не видят никакой другой реальной силы.
– А ты видишь?
– Я только знаю, что за меня никто не подумает и ничего не решит. И да, мне кажется, что я могу этому сопротивляться. И Павлик, я думаю, – тоже.
Павлик не без удивления на меня посмотрел, но принял как должное, добавив:
– Лучше сопротивляться с обрезом.
– Я тебе так скажу, – сказал Славик. – Я, конечно, рад, что у вас с Павликом растут яйца. Но видно это пока только в пределах вот этой квартиры. А проблемы надо решать сейчас. Причем жестко. Если использовать жестокие репрессии даже по отношению к тем, чья рожа тебе не нравится, у всех остальных мозги быстро встанут на место. Желание что-то взрывать пропадет.
– Ну назначай тогда виноватых – и посмотрим, долго ли ты сам протянешь.
– Ну давай тогда их поймем, что ли?! Ты это предлагаешь?
Отец Павлика вообще не говорил ни слова. Но на дежурство пошел первым.
Я вернулся к себе. Возле подъезда стояло несколько мужчин и женщин.
– Дежурить будем? – с ходу спросил я. – Я Сева из восемьдесят второй. Что, дядь Жень, не узнали? Сегодня приехал. В связи с драматичными событиями.
– Вот ты и пойдешь сегодня со мной.
– Во сколько наша смена?
– Часа в три, наверное.
– Давайте в четыре.
– Хорошо. Начинают Михалыч с Гришей. А мы с тобой к четырем подходим ко второму подъезду.
– Оружие брать?
– Какое оружие?
– Ну там ножики, скалки…
– Да я бы что-нибудь взял, чтобы самому не обосраться.
– Да кто теперь полезет, преступники уже в горах.
– Преступники уже везде.
Помолчали.
– Слышали, чего менты творят? Рассказывают, что в целях борьбы с мародерством жителей пострадавших соседних домов просят покидать свои квартиры.
– А у них по несколько, что ли?
– Если тебя взорвали, тебе не повезло. Пусть радуются, что их не расстреляли с целью избавиться от геморроя.
– Я знаю, что там полевые кухни развернули, людей сегодня кормили…
– Ну да, одно ведомство покормит, другое похоронит. Все под контролем.
4
Замысел был невинен – пройти по центральной улице до тех пор, когда по обеим сторонам закончатся строения, потом – я помню! – будет последняя автобусная остановка, а дальше дорога уходит в вытянувшийся по струнке лес, разваленный надвое этим дорожным просветом, но уже безымянным, грунтовым. Там я собирался в лес войти, сделать порядочный крюк влево и выйти из чащи с другой стороны, которая к дому будет даже поближе. Я взял с собой холщовую сумку на случай грибов, хотя Валя, увидев, сразу сказала, что грибов сейчас не будет. И еще надел дедовы сапоги, которые вытащила тетя, – Юркины были мне малы, а убивать кроссовки не хотелось.
Я закрыл деревянную калитку и пошел к краю города. Мимо девятиэтажки, в которой родилась моя мама и до конца жизни жила ее мама, мимо молочного магазина, в котором я в детстве покупал лимонное мороженое за семь копеек, мимо больницы, в которой умирал мой оказавшийся неродным, но оставшийся единственным дед, – за этой больницей я угадывал сосновую рощу, состоящую из редких высоченных стволов с кроной на уровне примерно седьмого этажа. За рощей было озеро, куда летом приходил город. Это было холодное озеро, натекавшее из лесного родника. Лес подступал к озеру вплотную…
Не знаю, почему я туда не пошел. Возможно, именно потому, что знал там все досконально, там я на карачках излазил каждый квадратный метр, собирая землянику. Теперь я пошел маршрутом, которым в моем детстве ходил только дед – он шел по грибы, точно зная, в какую часть леса идет.
По пути живописный заболоченный пруд на обочине – с ряской, с растениями, мощными волосатыми пучками, стоящими над водой, – и лес, огородивший водную поверхность со всех сторон. Почти вся зеркальная поверхность воды отражала стволы, и только в прорывах стояли белые яркие облака, которые в тот день плотно защищали от солнца. Что-то неясное во мне шевельнулось от этой древней картины. «А я ведь еще даже не вышел из города», – подумалось мне.
Вот она, последняя бетонная кибитка остановки. За нею заканчивается асфальт и начинается грунтовая дорога. Она шла прямо, насколько хватало глаз. Просека была вырублена с некоторым запасом. Справа от меня стояла стена старых высоких берез с молодым еловым подлеском. А слева – темный хвойный бор. Вообще-то леса в этих местах смешанные, но значит это лишь то, что увидеть здесь можно всякое.
Я прошел по дороге метров тридцать и решил, что пора заходить. Вошел, как в собор. Сделал несколько шагов по мягкому еловому насту и остановился, чтобы прислушаться к атмосфере.
Слух. Тебе кажется, что ты никогда не пользовался своим слухом. В городе он совершенно не нужен – шум его выключает: достаточно глаз. А здесь достаточно слуха. Но у тебя еще есть и глаза. И вместе этого очень много. Когда вокруг тихо, ты не имеешь права что-либо пропустить, потому что, возможно, это единственное, что здесь будет, и ты больше не встретишь этого, пропустив.
Гнилое дерево. Большое черное гнилое дерево. Если сильно ступить на черную ребристую кору, она может треснуть, изнутри вывалится труха, в которой зашевелятся белые толстые свернувшиеся личинки. Говорят, некоторые рыбаки ловят на них рыбу. Но личинки такие большие, что трудно себе представить рыбу, которую можно на них поймать. Ближе к земле в кору впился гриб-паразит. Даже не впился, а вырос со временем, которое прошло с тех пор, когда дерево упало. Его очень трудно оторвать, его можно сбить ногой, и он отломится вместе с куском коры. Гриб – толстый и плотный, как сама древесина, – можно заваривать. Отвар получается горьким, но лечит почки. В лесу много таких грибов, они помогают умирать умирающим деревьям. Я срезал гриб ножом. Чтобы рассмотреть дома поближе, очистить от мусора его еле пушистую поверхность, а потом положить на полку, помня о том, что всегда могу сварить его и вылечить больные почки друга. Блажь, конечно.
Я нагибал ветви распустившегося влажного орешника и думал, что я сам отсюда – из этого тенистого, не видного снаружи мира, внутри которого горизонт на расстоянии вытянутой руки. Обозримый мир здесь очень мал и тесен. Отодвигая ветку, ты должен быть готов ко всему, за нею – неизведанное: куст крапивы, поваленное дерево, большой белый гриб, зверь или тихо стоящий человек с ножом. Я помню дедов подзатыльник после того, как повысил голос в лесу. Это не степь – здесь кричать нельзя. Неведомое совсем рядом – за веткой, за стволом.
Я увидел просвет – и шагнул в него. Это была дорога, знакомая дорога. Я огляделся и удивился – потому что вышел на ту же самую дорогу метрах в пятидесяти вправо. Это в то время, как собирался я крюк давать влево. Я вошел в лес снова – и пошел влево под более острым углом.
На самом деле ничего особенного я тогда не думал. Думать – это целая работа: что подумал сначала, а что потом, а что из этого следует?.. Да, внутренние монологи случаются: когда идешь и аж губы шевелятся – до того интересно следить за развитием своей мысли, и говоришь в такие моменты, будто пишешь. Но есть и другие – когда немота и только какие-то вспышки. Озарения. Или вовсе мелодия. И что-то открылось и разлилось уже в сознании, но что именно – дай бог понять. Дай бог успевать понимать, что происходит хотя бы в тебе.
Эти десять дней в пути я впитывал, как губка, и, вернувшись, чувствовал, что некоторое время я вообще могу не жить. Потому что было ощущение, что я нажил себе что-то впрок. Но что? Я не был способен даже рассказывать о том, что видел, – потому что не знал, что рассказывать. Ходил среди людей, стараясь носить не самое многозначительное выражение лица. Но слух на самом деле был весь повернут туда, вовнутрь. А там было как-то по-другому. И мне хотелось выразить это различие. Чуть позже вот даже побрил голову. Мне самому не очень помогло – только внимание на себя обратил. В первый день обучения одна высокомерная однокурсница даже спросила, что со мной. Этого еще не хватало. Мне-то хотелось, скорее, стереть свой образ как несоответствующий действительности, а получился новый. Я, например, до того момента даже не задумывался о том, что голову бреют скинхеды. Но, поймав на себе несколько настороженных взглядов, понял, что внешность моя стала заметно агрессивнее. И еще дальше от образа художника.
А к концу сентября – в совсем уже другой эпохе – я сел писать. Потому что жизнь взяла быстрый темп – и стало страшно, что у меня так и не будет времени узнать, что со мной было, казалось бы, совсем недавно, но теперь уже – так давно. И писал – как будто тянул за ниточки, беспорядочно торчащие из клубка, чтобы посмотреть, что же за мысль, что за опыт можно за них вытянуть.
Так вот, я чувствовал, что я – отсюда. Стало сладко и тоскливо на душе. Это было новое ощущение. Я научился жить на горячем продуваемом юге, но тот мир совсем не задевал вот этого сумеречного леса внутри меня. Лес как будто просто стоял и ждал. Ждал, когда я перестану подстраиваться под всевозможные предлагаемые мне обстоятельства, когда я хоть сколько-нибудь внимания уделю своей собственной природе. Природе леса, чья глубокая флегма сопровождала меня всегда.
В лесу своя интрига: никогда не знаешь, кто из него выйдет. Что за зверь явится на зов. И какой бы ни вышел, ты-то точно знаешь, что ты – не зверь. Потому что ты – лес. Неисчерпаемая бездна, не знающая самое себя. Но не пустота, а шумящие деревья, ветвистые мелодии, среди которых мне всегда хорошо, среди которых я в безопасности, недосягаемый даже для нечаянной агрессии. Можно войти в лес – и ничего не увидеть, никого не встретить. Но как только другой входит в мой лес, я вижу его. Я вижу, как он себя ведет, с каким выражением лица ступает на наст, слышу его дыхание, не говоря уже о голосе. Если мне понравится, если я сочту возможным, могу выйти к нему. Вот так встреча! А могу не выйти – и он никогда не узнает о моем существовании, о том, что эти места – обитаемы, что он был в моих владениях и в моей власти. Но как только он задаст правильный вопрос – я сам уже буду в его. Сложный-сложный мир становится очень простым, когда задан правильный вопрос. Только безумцы не мечтают об этой простоте. Мне бывает одиноко в своей сложности.
И все-таки узнавание было для меня странно, я не сразу понял почему. Для этого надо было осознать то, к чему я мысленно давно привык, настолько, что перестал замечать. Например то, что уже давно и основательно считал себя новым человеком. Да, время от времени появляются новые люди. Я нов уже потому, что в ребячестве перенес все болезни, от которых до конца жизни будут мучиться мои бедные родители. Я первое существо, полностью сформированное условиями, которые для всех предыдущих поколений останутся новыми до конца их жизни. А меня уже не убила гиперинфляция и нищета. Я уже никогда не смогу так полюбить еду, чтобы быть способным сожалеть о ее отсутствии. Я уже умею терпеть. Я умею терпеть и при этом долго и тяжело работать. Мне уже не на что жаловаться. Мне ни от кого не надо никаких услуг, советов, помощи и одолжений. Более того, я расту и с каждым днем становлюсь сильнее.
И тут этот лес, это узнавание. Как будто внутри моей привычной исторической миссии, связанной с опытом первопроходца, обнаружилось ядрышко невообразимой древности. Всего лишь ядрышко. Возможно, я сам его изобретаю, инстинктивно пытаясь вцепиться в старый мир. У старых людей за это отвечали корни генеалогических дерев. И я сейчас изо всех сил пытался выпустить эти корни из самого себя. И это ядрышко древности – оно и есть едва ли не единственное семя, обнаруженный желудь, который может дать побеги. Просто у меня больше ничего нет.
И выходит, что я – очень древнее существо. Может быть даже – пробудившееся существо…
Минут через сорок осторожного шага по неровному, с провалами и завалами, лесному насту я вышел через просвет на дорогу. Оглядывался теперь уже примерно минуту, пока до меня дошло, что я стою примерно в трехстах метрах от того места, где я зашел в лес. Точнее, я стою в трехстах метрах справа от того места, в котором я двинулся влево. Вот так номер – леший водит, как бабушка говорила. Раньше никогда не водил. До сих пор я никогда не умел заблудиться в лесу.
Я немного вернулся по дороге назад и вновь зашел в лес. На этот раз я пошел влево под таким острым углом, что опасался, что выйду к городу уже через триста метров.
Пришла в голову мысль, что я иду по райскому саду, вернее – по тому месту, в котором я уже бывал ранее чистым и безгрешным. Я узнаю эти разлапистые то ли папоротники, то ли хрен знает, как они называются. Однако – узнаю. Эти торчащие из земли корни, выпирающие корявыми сочленениями везде, где земля вдруг прогибается. Весь лес изнутри – как замершая немая сцена, исполненная драматизма. Сцена, из которой именно на этот момент куда-то вышел герой. Я – вышел. А вернувшись, хоть и узнаю, но – что с того? Адам после грехопадения не может вернуться в Эдем. Он выбрал, как нам говорили на курсе по мифологии, путь познания гармонии, отказавшись от бездумного пребывания в гармонии. Нет, он не навеки и безвозвратно грешен – он может пройти другим, очень долгим путем, на любом повороте которого можно сгинуть, спиться, покончить с собой, очерстветь и озлобиться. Но пройти – можно. Не факт, что он одолеет этот путь. Он мог пастись в раю – и верить в то, что Господь устроил мир наилучшим образом. Но разве не сам Господь дал выбор? Пожалуйста – одним движением ты можешь лишиться всего. Господи, да кто же тут устоит! Тем более это единственный способ оценить, чего ты лишаешься. И теперь Адам навеки наг, он развинтил себя и мир на части – и, разглядывая любую из них, он не может понять, где здесь был рай. Но оглянись вокруг – посмотри, сколько людей, про которых ты привык думать, что они живут в дерьме, на самом деле никогда не покидали рая. Да, они сетуют, у них часто весьма хлопотливая жизнь – надо коз доить, ветви с фруктами нагибать… Но грешен – именно ты, тот, который вышел оттуда. И теперь тебя носит по белу свету, и ты уже забрался туда, откуда начинал, где проще всего сгинуть бесследно, как твой отец.
Эти постоянно прорывающиеся корни, о которые спотыкаешься, которые чувствуешь ступнями, как жилы самой земли, как проступившая суть какого-то скрытого организма. Дерево пронизывает своими корнями все, до чего может дотянуться, оно пронизывает и сжимает все это в кулак, и если есть место, которое не оплетено этими гибкими пальцами, то оно обязательно выпадет, из него нечего будет взять для питания кроны – а дерево способно питаться от всего, и даже когда из осыпавшейся стенки овражка в воздух выходят эти корявые щупальца, кажется, что они питаются воздухом, что они и в него способны впиться, сосать из него соки.
Как мне, человеку, оказавшемуся без корней, это понятно.
Слева уже должен бы был появиться просвет, но его не было.
Мой отец родился в телеге – его мать везли с сенокоса в деревню. Может, вот на той самой дороге он и родился. Он своего отца видел лишь несколько раз – уже взрослым. Мне рассказывали, что прадед по отцовой линии был партизаном, у него был свой отряд в брянских лесах. А после войны он сгорел, вытаскивая людей из пожара на складе. Если продолжать эту линию, то там, как мне рассказывала когда-то бабушка, было несколько поколений лесников. Нет, это мне уже взрослому рассказывал сам отец, никаких подробностей он не знал. Дулёвы. Начало этой генетической линии родовая мифология возводила аж к тому предку, который стоял во главе отряда во время Куликовской битвы. Мне всегда хотелось смеяться от этих фантазий, но теперь только за них и можно держаться. Почему бы и нет? Когда ты один, нет причин себе отказывать. Продолжаем пускать корни.
В четырнадцатом веке отрядом той армии, которую впервые удалось собрать в Московском княжестве, не мог управлять простой смертный.
Хорошо бы оказаться князем. Чтобы прямо завтра выяснилось. Князь Всеволод, владеющий всем. Только князь таки выродился в крестьянина.
А вот очень кстати и вспомнилось: дед мне говорил маленькому, прямо вон в том доме, из которого я вышел: запомни, я тебя назвал Всеволодом в честь Всеволода Большое Гнездо. Вот так – мне имя дал неродной дед, который меня любил. Не помню, объяснял ли он, почему, или нет. Но я думаю – потому, что нет у нашего рода никакого большого гнезда. Такое ощущение, что в семье столкнулись случайные люди, которые даже родителей плохо знают, а деды живут только в байках и легендах. Никаких корней. И мы, оказавшиеся в степи, одни, без единого знакомого человека вокруг, всего лишь довели эту общую судьбу до абсурда. Достигая которого, начинаешь тихонько приходить в себя.
А ведь уже час прошел с тех пор, как я в третий раз вошел в лес. Я остановился и почувствовал, что меня наконец пробирает озноб. Это был страх. Какое-то почти забытое мощное ощущение. Было ясно, что я совершенно не там, где должен находиться, – и не знаю, куда идти.
Я как будто нахлебался воды и опустился на самое дно. Вокруг меня на самом деле подводный мир, а надо мной – ужасающая толща воды, за которой остались люди – и кислорода, который позволил бы мне всплыть легко, не осталось. Я отяжелел, не рассчитал своих сил и теперь могу пойти на корм рыбам, стать частью этого мягкого, потрескивающего под стопой наста. Никуда глубже опуститься уже нельзя. Осталось сесть на землю и сгинуть. Перестать быть. Искушение легкостью этого шага – впрочем, умозрительной легкостью. Это то же самое чувство, что и на пустой, прогретой солнцем бетонной остановке в степи: сидишь вот на карачках – и сиди, слушай ветер, следующей остановкой будет смерть от старости. Нескольких минут хватает, чтобы пастораль приобрела черты запертой душной комнаты. Всегда, когда накатывало это чувство, я вставал.
Нет, все-таки ты подумай! Сколько всего сделало человечество: города, самолеты, атомные электростанции, ваучеры, – но человек все равно способен с первозданной легкостью идти ко дну. Поболтается немного, как говно в проруби, а потом все равно тонет. Нас ничего не спасает. Когда мы все-таки падаем, перестаем барахтаться, быть не собой, более ничто не задерживает нашего падения. Даже близкие люди помнят о тебе до тех пор, пока ты перед глазами. Ячейки социальных сетей столь велики, что человек проходит сквозь них, как самая мелкая рыбешка. Не за что ухватиться. Меня найдут здесь много веков спустя. Скорее всего, меня никто не будет искать. Я пропаду так же, как пропал мой отец. Мы все приняли эту ситуацию. Никто его на самом деле и не искал. Признаться, я надеялся, что это все-таки не так легко. Я помню, что неподалеку в лесном озере утонуло много людей, потому что там есть Алешин вир – не выплывают даже опытные пловцы. Не за что удержаться. Один способ спастись – отдаться, утонуть, оттолкнуться от дна, обнаружить эту твердую почву.
Некоторое время я шел наугад – просто потому, что было бы странно стоять. Примерно через полчаса мне попалась тропинка. Я обрадовался. Потому что не бывает тропинок, которые никуда не ведут. Возможно, я оттолкнулся от дна. Теперь мне грозило просто прийти совсем не туда, но там уже должны быть люди.
На чем я там остановился?.. Да, допустим, мой предок командовал отрядом на Куликовском поле, допустим. Но откуда он там взялся? Ведь Брянщина была тогда, кажется, под Смоленским княжеством, а княжество – под враждебной Литвой. Неужто он тут был во времена, когда не было никакого Московского государства, когда хозяева земель менялись так же быстро, как сейчас? Когда оставалось наблюдать за тем, кто кого убьет, и думать о том, кто же из победителей будет тебя иметь после своего триумфа. Буквально за несколько лет до Куликова поля Великий князь Дмитрий Иванович дотянулся до этих мест. Когда после его призыва князьям отряды прибывали под Москву, Московское государство впервые увидело себя – и еще не могло поверить в собственное существование. Потому что только несколько лет назад новгородцы мстили Твери за выжженный Торжок, а сама Тверь помогала литовскому Ольгерду жечь предместье Москвы. А теперь они стояли здесь почти все, едва веря тому, что возможна сила, способная их объединить. И мой предок был там. Откуда он там взялся, я никогда не узнаю, но знаю, что там все они, удельные князья, их бояре и солдаты, появились на свет заново, в новом качестве. В каком-то смысле это были новые люди. И позади были века разобщенности и братоубийства – века, в течение которых переставала существовать Древняя Русь, а новая – не начиналась.
И есть ведь еще и каверзный вопрос: как так все-таки вышло, что он, выживший и победивший, в качестве своих наследников получил несколько поколений брянских лесников? Почему, от чего попрятались его потомки, после того как он сам побыл на виду? Зачем он забрался в эту глухомань? Неужели не мог остаться служить при дворе, если уж он руководил целым отрядом и остался жив? Были ли у него причины уйти или его зашвырнули в такую глушь?
Может быть, он был здешним. В списке полков, которые пришли на зов Димитрия, был и брянский. Предок мог любить лес и свой дом, где бы он ни стоял. Он пошел, сделал дело – и вернулся. И если он отсюда повел полк в нынешнюю Тульскую область, значит, это он собрал народ, значит – ему было не все равно. Да, возможно, ему было не все равно.
А может, его обидели, выслали сюда, или он посчитал нужным сюда скрыться. Он не захотел местной власти, он совсем отошел от людей. Деревня, ее судьба, ее люди не волновали его. Он настолько отошел от дел, что через несколько поколений родственники забыли, о каких, собственно, делах идет речь.
Тропинку пересекла заросшая грунтовая дорога – и я обрадовался ей, потому что она была вдвое шире. Казалось, что я вышел на более широкую дорогу к людям. Через несколько километров грунтовка пересекла железнодорожное полотно, а за ним раздвоилась. Не колеблясь, я пошел по более наезженной. Не было никаких версий о том, где я. Но беспокойства уже не было. Состояние оказалось привычнее, чем я думал. Нужно было просто потерпеть.
Бросятся ли меня искать? Сколько времени пройдет, прежде чем обо мне вспомнят? Разве я сам не живу так, чтобы никто не имел права обо мне беспокоиться и этим беспокойством предъявлять на меня права? Когда посчитаю нужным, тогда и приду. Да, я потерялся. Ну и что. Я живой человек. Не извольте волноваться – это не ваше дело. Они там все на самом деле уже готовы к тому, что в принципе может так случиться, что в следующий раз они увидят меня лет через восемь. Борясь за свою свободу, мы воспитали наших близких в крайнем равнодушии к себе.
Но сейчас – сейчас я чувствовал новую отчетливую ноту: я совершенно точно хотел выйти к людям. И даже больше скажу: я очень хотел выйти не к любым людям, а к тем, от которых я вышел. Мне было не все равно.
Дорога совершила совсем незаметный поворот – и вдруг вытянулась по струнке, разделяя надвое лес настолько, насколько хватало глаз. И справа от меня, будто голосуя вдоль дороги, стояли старые высокие ели, а слева высились седые березы, под ногами которых терлись пушистые кусты. Другого конца дороги я не видел, но уже подозревал, что там.
Я шел и благодарил Бога.
Уже смеркалось, а через несколько километров наступили сумерки. Но и там, впереди появился просвет. Еще минут тридцать – и я дошел до того места, где входил в этот лес. Я изо всех сил шел влево, прошел тридевять земель – и вернулся на то же место справа. Но там, куда я собирался, так и не побывал. Лес сам определяет, куда тебе надо идти.
Уезжал я на следующий день с Брянского вокзала. Я шел через огромную привокзальную площадь, когда ласковый женский голос тихо позвал:
– Севочка! Сева! Подойди ко мне, мальчик.
Темноликая, в косынке, в тряпках цыганка с пронзительными глазами. Я чуть подался к ней – и она уже снизу заглядывала мне в лицо.
– Кто же тебя так, мальчик? Ай-яй-ай. Забудь ее, она нехорошего тебе желала. Будешь любить и тебя будут любить. Вырви волос, дай его мне. Так, заворачиваю его в бумажные деньги, та-ак, нужна крупнее купюра, давай десять – е-есть – теперь крупнее – давай сто, е-есть, давай тысячу – как нет? – тогда ничего не получится, так и будешь ходить со своей порчей! – ну хорошо, еще сто…
Она забрала у меня все деньги, которые мне дала тетя Валя. Когда я это понял, мне захотелось плакать, захотелось умолять ее, называть «тетенькой», но ее уже не было. На ватных ногах, ошарашенный, слабый и напуганный, я поднялся по ступеням, вошел в зал ожидания и тихонько сел с краю. Мне хотелось исчезнуть. Мне было стыдно и горько. Что я такой лох, что я это заслужил, что мне так себя жалко.
Поезд шел до Ростова больше суток. Мне было не на что купить даже чаю. Опустошенный, я лежал и просто ждал, когда доеду. И сил думать больше не оставалось. Но при этом я знал, что все необходимое уже везу с собой.
6
– Витя, а ты чего выперся? Жена заела? – дядя Женя, хоть и со смехом, но бил сразу в глаз: жену детского тренера по легкой атлетике Виктора Сергеевича знал весь двор. Особенно по голосу. Когда она в своей квартире открывала рот, ее слышал весь квартал. А Витя всегда улыбался, источая почти идиотическое прекраснодушие.
– Не спится все равно. Проснулся – и все мысли об одном… Подежурю с вами.
– В свою смену завтра все равно пойдешь.
– Пойду.
На часах было четыре утра. Стояла кромешная тьма, ближайший фонарь – у соседней многоэтажки. С частного сектора тоже шел какой-то свет. Мы сидели на лавочке возле второго подъезда. Сидеть было неудобно – как на насесте: от лавочки остался единственный деревянный брусок. Да и то неясно, как он уцелел, поскольку у конструкции были погнуты даже металлические части.
Дядя Женя был похож на моего отчима, только добродушнее и веселее. Наверное, оттого, что пил он понемногу, но постоянно, а не запоями.
– Держится еще твоя секция, Витя?
– А как же.
– Девочек туда принимаешь?
– Всех принимаю.
– Щупаешь их? А?
– Они же дети! – подняв брови, с улыбкой сказал Виктор Сергеевич.
– Дети… Сейчас такие дети, что не дай бог их встретить в темном переулке.
– Вот и Сева у меня занимался. Помнишь, Сева?
– Конечно, помню, Виктор Сергеевич. До сих пор понять не могу, что меня могло заставить два года бегать.
– Общество, Сева. У нас там маленькое, детское, но – общество. Где ты его сейчас еще найдешь?
– Это правда. Но ощущения уже стали забываться.
– А чего ты бросил?
– Столкнулся с суровой действительностью: получил по роже – и пошел на бокс.
– А я помню, как ты в тринадцать лет триста метров на городских соревнованиях пробежал. Ты же из 46 секунд выбежал – это очень хорошо для такого возраста.
– А я сейчас другое вспомнил, Виктор Сергеич. В Ростове познакомился с ребятами, которые бегают длинные дистанции. Пытались меня затащить к себе. Я им говорю: не, друзья, я свое отмучился. Но пока разговаривали, выяснил, что первое и главное, с чего они начинают подготовку, – это контроль пульса. То есть говорят, например: сегодня бежим на 120 ударах, чтобы не вредить сердцу, – и бегут. Я когда об этом услышал, просто обомлел, Виктор Сергеич. Потому что от вас я этого словосочетания не слышал никогда.
– Вы у меня спортом занимались, а не физкультурой.
– Ага. Я вот с тех пор, когда об этом вспоминаю, думаю: как это мы только там не подохли у вас? У Вадика, кстати, проблемы с сердцем начались уже при мне. Помните Вадика?
– Помню. Ничего, жить тоже вредно. Надо правильно пить витамины. А боксом где занимался?
– В «Золотой перчатке».
– С бандитами, наверное.
– С бандитами тоже. Виктор Сергеевич, я вам серьезно говорю: прекратите готовить спортсменов – готовьте здоровых людей. Их гораздо меньше осталось.
– Сейчас из-за вон того угла, – внезапно и медленно проговорил дядя Женя, – выйдут чечены с большими ножами, чтобы резать наших жен и детей. Готовы ли вы мужественно встать на их пути и отразить нападение? Готовность одна минута!
В темноте картина оказалась столь легко вообразима, что я почувствовал, как сердце заледенело.
– Что, Витя, готов умереть, защищая кучку алкашей и гондонов?
– Конечно, готов, – в темноте казалось, что Виктор Сергеевич широко улыбается.
– А ты, Сева? Ты же молодой, тебя, наверное, девушки любят – готов здесь сдохнуть за нас, гомосеков?
– За гондонов еще ладно…
Мужики захохотали.
– А что, – уже спокойно подытожил дядя Женя, – если бы весь наш дом этой ночью сгинул в геенне огненной, но – тихонько, не обращая на себя внимания, я думаю, этого не только бы никто не заметил, но и те, кто заметил бы, еще бы и перекрестились… Кого мы тут, к бениной матери, охраняем? Людей, которые уже не знают, чем закинуться, чтобы не видеть хари друг друга? Чего меня взрывать, если я столько пью, что вообще непонятно, почему я еще живой?
– Жен и детей у вас тоже нет? – уточнил я.
– Конечно нет! Две жены были, дочка где-то живет. А сейчас остались одни шалавы, но это уже не для слабонервных.
– А сегодня пил, дядя Женя?
– Сегодня пил мало, каюсь. Сегодня захотелось прочувствовать момент.
– Это вы правильно сказали, – проговорил Виктор Сергеевич, который на ты мог только с детьми. – Нельзя убивать людей, которые жить хотят. Как бы плохо они ни жили. И как бы силен ни был нападающий, если он покушается на последнее, у него нет шансов.
– А я, между прочим, действительно ножик взял – показать? – дядя Женя начал копаться.
Я в какой-то момент будто выпал из реальности. Логика, перемещающая меня в пространстве, вдруг скрылась – и, обнаружив себя здесь и сейчас, я даже не знал, что с этим делать. Хотелось и плакать, и смеяться. Потому что эти «здесь и сейчас» ни из чего не вытекают. Вот я только что сидел в чужой машине на пути в Питер, вот я купаюсь в Финском заливе, вот я сплю в лесу, вот курю на балконе в общаге, вот сижу на поломанной скамейке в опустошенном временем дворе ночью с людьми, с которыми за всю предыдущую жизнь обменялся несколькими фразами, – а теперь существует вероятность, что мы вместе погибнем, защищая нашу родину. Господи, как ты это делаешь? Временное чувство абсурда искупалось ощущением неожиданной необычайной полноты жизни. Да, конечно, потом я все вспомню, потом моя жизнь снова свяжется нитью моей более или менее осознанной воли, – и тогда ничего не будет странно, каким бы ни был следующий шаг.
А сейчас нужно было осознать, что я подписался под общее дело.
И сразу предстала как-то неожиданно логика моего существования. Всего лишь защищая скромное, кажется, совсем неагрессивное право быть собой, ни с кем не согласовывать своих решений о собственной жизни, я сбежал изо всех обществ – и не было таких обществ, из которых я не был бы способен в любой момент уйти. Эти добрые по-своему люди, живущие в этом дворе, жили маленькими комнатными сообществами. Привычка роевой жизни и сам рой достались им, как старое пианино, которое теперь расстроено, без нескольких клавиш, а внутри обязательно спрятана заначка. Они доживали какой-то давно несуществующий образ жизни, в котором мужики выходили во двор играть в домино. Я помню – мой отец тоже выходил, когда я был совсем маленький. А я – мне совершенно не нужно чужого тепла, я могу жить в абсолютном холоде непонимания и равнодушия. Меня они не способны задеть, унизить, ввергнуть в уныние и отчаяние. Возможно, это форма инвалидности. Мне ничего не нужно от чужих людей. Они ничего мне не должны. Но и не имеют на меня никаких прав, кроме тех, которыми я наделяю их сам.
И в этой норе, в которую я себя загнал, чтобы оставаться человеком в одиночестве, чтобы сохранять человеческий облик, мне была нужна любовь. Чем полнее одиночество, тем большие амбиции в любви. Но любовь слаба и бессильна без красоты, без умения ее постоянно видеть, схватывать, сохранять. Лучше всех это умеет делать искусство. Оно умеет петь красоту. Потребность любить меня вела в искусство, а искусство делало реальнее любовь. Песня не скрывается, она готова звучать везде, в любой голове, ее дальнобойность феноменальна. Она готова обращать в свою веру кого угодно. А ее вера – любовь.
Я тогда на этой скамье, ночью, поймал себя на том, что чувствую к этой странной парочке – остроумному алкашу и доброму горе-тренеру – что-то вроде любви. Я мог представить их героями песни, мог представить их на картине Рембрандта. Я даже как-то желал им, чтобы они там оказались – чтобы получили свою толику любви. Ненавязчивой честной любви от чужого, случайного человека. Вообще не важно от кого – пусть гадают. Пусть думают, что это сам Господь смотрит на них, как на заточенную в башне Данаю.
Путь, который несколько лет уводил меня от этих жалких клоунов, теперь привел меня на эту скамью, на которой – пускай на какой-то краткий момент – я испытываю всю полноту существования.
Ты слышишь меня, любимая?
Было бы слишком жестоко встретить тебя и взвалить, взгромоздить на тебя все то, что я унес и сокрыл, все свои грехи одиночества, заставить тебя заменять мне весь мир, работать в моей жизни за весь мир, истязать тебя своей ненасытностью, приобретенной от брезгливого нежелания копаться в попахивающем мире. Нет, любимая, тебе не нужно будет кормить меня из ложечки красотой утра и следить за тем, сколько ушло мимо рта из-за моих капризов. Тебе не надо будет носиться со мной, как с больным. Только обнять. И как только замкнутся объятья, я накоплюсь в замкнутом и согретом любовью пространстве, обрету свои истинные формы, стану соразмерен себе. Больше тебе ничего не надо будет со мной делать. А пока тебя нет, я еще полетаю бесплотным духом и поотражаюсь в водах и лицах.
А потом среди ночи на скамье я думал об этой символической панельной девятиэтажке. О том, что она – предел мечтаний для современника, который уверен, что ничего лучшего у него здесь и быть не может. Лишь бы запереться от этого мира в серую ячейку, – он готов идти к этому многие десятилетия. Из бытия-не-собой в коллективе к простому небытию в норе. И вот в этот символ убогого благополучия врезается двигатель грузового автомобиля ГАЗ – и прошивает картинку насквозь. Мне жаль погибших людей, но не жаль картинку. Если ты способен испытывать положительные эмоции к человеку, тебе естественно желать ему другой жизни.
Такой вот миллениум. Нигде не укрыться – ни в лесу, ни в деревне, ни в малом городе, ни в большом, ни в центре мировой культуры. Только в своей слепоте и глупости, которые делают нас неспособными сопротивляться. Их критическая масса стала столь большой, что она начала взрывать дома. Я точно знаю, что это мы взрываем дома. Это мы тщательно готовим себе врагов. Люди, которым никогда не было до себя самих никакого дела, мы легко можем начать убивать. А если так, то чего мы добились? Страшные войны были напрасно – ибо мы подумали, что победили. Сначала походили строем, а потом разошлись по норам. Из вылизанного бытия-не-собой в коллективе к простому небытию и гниению заживо в своих норах.
А можно сидеть, хоть и в пять утра, хоть и на разбитой лавочке, – и охранять.
IX. Дорога к тебе
Я любил тебя больше, чем ангелов и самого, и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих… И. Бродский. «Часть речи»Мне недавно приснился очень простой и трепетный сон. Всю ночь я смотрел в твое лицо. Вот и весь сон. То есть мне приснилась, по сути, близость. Наши лица были ровно на том расстоянии, на котором мы еще видимы друг для друга. Если бы чуть ближе – все слилось бы в единое розовое пятно. А дальше – это уже не та степень близости.
Мы молча смотрели друг на друга. Мой взгляд ласкал каждую черточку твоего лица. Эти четко очерченные приоткрытые губы, влажные зубки, эти нежные и одновременно пугающиеся своей нежности глаза, эта готовая появиться улыбка и мерцающая морщинка в уголке, опускающиеся без разрешения ресницы, прячущие вдруг оробевший взгляд, эти неожиданно широкие девичьи брови, это идеальной формы ушко, которое хочется обнажить, заложить за него прядь…
Мы смотрели друг на друга, я видел твои мысли, я чувствовал то, что ты чувствуешь, – я узнавал все это с таимым восторгом. А лица твоего не знал раньше, но теперь узнавал его, в нем зажегся знакомый свет. Я знаю, что это ты, любовь моя.
Я потом вспомнил это лицо. Это моя молоденькая преподавательница в университете – она вела у нас на первом курсе историю Древнего мира. То был интересный мир: там человек догадался, как ему выжить, – придумал семью, изобрел сильные чувства и узы. Мы с нею почти не общались, но теперь я ее рассмотрел. Всю ночь ее, можно сказать, рассматривал. Да что там – тебя саму рассматривал, любовь моя.
Я ведь только тем и жив, что могу разглядеть тебя в любом обличии. Мне хочется так думать. Ты иногда – как блик, который внезапно проходит по девичьему лицу, заставляя его вздрогнуть, ожить, – и вся женщина тут же наливается плотью, смыслом, давно припасенной, уже сформированной, созревшей любовью.
Я и сам уже не могу удержать лица той, которую, казалось, совсем недавно любил до полного самозабвения, до непонимания каждую минуту, куда деть руки, на что смотреть, если не на нее. Но теперь я не помню, как она выглядит. Но помню, как выглядишь ты, любовь моя.
Я сильно виноват перед тобой, но сейчас, кажется, я наконец способен понять, с чем имею дело. Дай мне сил быть верным тебе. Это – молитва, потому что я готов молиться тебе. Пузырь моей идиллии оказался достаточно крепок для того, чтобы удержать тебя и вместе с тем – схватиться за тебя.
Я помню, как стоял на обочине дороги где-то под Брянском и глубоко дышал, открыв рот. Внутри что-то происходило, я старался прислушаться к этому. Мне казалось, что во мне происходит что-то очень важное. Вечерняя зорька окрасила кромку совсем близкого смешанного леса. Знаешь, я в этот момент был полон любовью. Я был переполнен ею. Я знал, что это такое. Я умел это чувствовать. Я не мог этого не чувствовать. Я подхватил ее, как заразу. И пестовал ее в себе. И сейчас, пока дышал, – пестовал. Неподалеку лежала сбитая автомобилем, почти раскатанная в блин небольшая собака. Нелюбимый, ненужный, неопознанный, никем нигде не ожидаемый, я стоял и боролся за свою любовь. Возможно, я совершал тогда главный выбор, который вообще может совершить человек, оставшийся один.
Кто ты в конце концов такой, чтобы любить? Жалкая гнида в растительности планеты. Посмотри, как ты ничтожен, беден, грязен и некрасив. Посмотри, тебя никто не любит, потому что не за что тебя любить. Хоть вывернись наизнанку, ты останешься настолько мелок и жалок, что с двух шагов тебя не различить. Человек слишком слаб, чтобы еще и любить. Это кем надо себя возомнить, чтобы любить! Ты – тварь и падаль. Спасайся – и благодари Бога за каждый день своего существования, потому что стереть, раскатать тебя можно одним движением в один момент – как только сунешься на большую дорогу.
Эти мысли одолевали меня. И я тяжело дышал, как будто помогая родиться тому, что во мне росло. Я помогал своей любви. Как помогал этой странной Ирине Ивановне проводить в школе ее никому не нужные вечера. Я отдавал своей любви пространство мозга – и мне постепенно становилось легче, поскольку я переставал принадлежать себе. Во мне укреплялась чудовищная сила. Она жадно всматривалась в простые вещи – в закат, слова и глаза. Она постепенно учила любить даже то, что неверно самому себе. Я наконец, понял, кто всегда смотрел через мои глаза.
О чем мне еще думать, если не о тебе, и с кем разговаривать, если не с тобой, – если я сам в той мере, в которой согласен со своим существованием, полностью выращен из мысли о тебе, из мысли и ощущения, которые, собственно, и есть ты – но ты, принадлежащая мне. Принадлежащая, но неизвестная, понятная и пугающая ощущением глубины, в которой перестает существовать «я». И вот этот момент обладания тобой и есть пробирка, в которой я выращен. Конечно, мало ли существует во мне кроме того, что в этой пробирке. Иногда мне кажется, что во мне случайно почти все, и только то, что родилось от соприкосновения с тобой, имеет право на существование, достойно того, чтобы за него бороться.
Как-то странно говорить, что я люблю тебя. Любят нечто чужое, отделенное, оцениваемое любовью как нечто близкое. Дико думать о том, чтобы оценивать тебя. Ты вся взялась, как та часть кровеносной системы, которая наконец позволила циркулировать застоявшейся и завонявшей крови. Только после этого, мне кажется, я что-то о себе узнал. Я посмотрел на свои руки, как будто увидел их впервые. Я впервые подумал о своих истинных желаниях, о том, для чего могло быть создано такое существо, как я.
Хорошо помню, что было до этого. Ощущение бездомности, неутолимого голода. Голода ко всему, до чего дотягиваются глаза. Я хочу тряпки, я хочу задницы, я хочу иначе выглядеть, хочу жрать и постоянно – трахаться. Потому что надо продолжать существование. Потому что подует ветер – и меня не станет. Я всегда хочу трахаться. Даже тогда, когда уже не могу трахаться, я все равно представляю, как бы было отлично сейчас потрахаться. И в глазах объекты – половые органы, откляченные зады, не принадлежащие никому, потому что до лиц дело не доходит. Мне некогда подумать о себе. Какие могут быть истинные желания, когда я готов дрочить в лифте, лишь бы меня не трясло от того, что я совершенно один и от меня, от моего существования здесь и сейчас не останется и мокрого места. Пусть останется хотя бы мокрое место. Даже удивительно, что я закончил школу, удивительно, что между этими задницами где-то мог поместиться учебник по физике.
Ты знаешь, как я жаден до любви. Со мной нельзя «встречаться», принимать меня в будуаре дважды в неделю. Потому что если уж выпало счастье совпасть с собой, ощутить собственную материализацию в объятьях так внятно, как и в книжках не пишут, то невозможно и на несколько часов отказаться от жизни в пользу нежизни. И даже когда ты уходишь, когда ты говоришь, что тебе больше ничего от меня не надо, – все равно невозможно вернуться в прежнее состояние. Я могу забыть твое лицо, твои лица, но отныне и навсегда я знаю, чего ищу, я знаю, с кем разговариваю, когда один.
Наверное, там, где внутри моего мира появилась ты, мог или даже должен был бы быть Бог. Наверное. Но Его там не было. В момент твоего появления я в отношениях с небом не состоял. Поэтому все, что я знаю о любви, я знаю через тебя, через близко придвинутое лицо, через наполненное любовью, всепонимающее молчание. Я никогда не искал понимания, я не надеюсь на него, я не считаю, что люди обязаны меня понимать. Кто я такой, чтобы обязывать это делать? На каком основании требовать? И чего требовать – чтобы меня полюбили? Еще не хватало. Не надо меня любить. Но при всем при этом как не верить в то, что и меня тоже – можно было бы. Только вот именно такого, какой я есть. Не за рост, не за зеленые глаза, даже не за мой великолепный и сильный голос – а всего, целого, такого, каким я сам себя не люблю.
Это такое детство – думать об этом, – разве я не понимаю? Серьезные люди уже получили права, их устраивают по знакомству, у них есть свои и чужие, они зарабатывают уважение и репутацию, они работают на свое резюме… Но мне насрать на уважение. Как бы только это так произнести, чтобы слова не превратились в жест агрессии, амбиций. Как бы произнести это тихо и мягко: мне насрать на уважение. Потому что вы все меня знать не знаете, и нечего делать вид, что тут кто-то смеет обо мне судить, – и конец этому разговору.
Это не речи недолюбленного ребенка. Детство могло быть веселее и беззаботнее, но могло быть и гораздо злее. Все примеры перед глазами, так что жаловаться не на что. Это – речи недолюбленного взрослого. Я не знаю людей, сумевших пронести любовь во взрослую жизнь. Не знаю! Никогда таких не видел.
А если вдуматься – как такое может быть? Вы чем, мать вашу, все тут занимаетесь? Чем таким, сука, важным? Ну-ка, покажите мне, какие вы счастливые и успешные! На кого ни глянь – униженные инвалиды с ампутированными частями мозга, сердца, целыми родами чувств и ощущений, безнадежные и не верящие ни во что. Гребаные калеки, вы хотели и меня таким сделать?! Нет, сограждане, я – себе на уме. И у меня там, на уме – любовь. Я закончу вместе с вами школу, поразгружаю с вами фуры, половлю раков, попью пива, выучу мировую историю, поживу в общаге, потрахаюсь с вами, – как без этого? – но не дай бог мне хоть на мгновенье забыть, зачем я все это делаю.
Дебаты на выборах в Госдуму, забастовки шахтеров и реформирование угольной промышленности, веерные отключения и задолженности по зарплатам, нищета в больницах и коммунальном хозяйстве, существование за порогом бедности, строительство церквей и возрождение Церкви, хохот олигархов – все это для меня пустой звук. Имитация. Меня не разведете. Если я не пойму, зачем жить среди людей, я туда вообще не пойду.
Иногда мимоходом слышу разговоры по телевизору и думаю: чему они меня могут научить? Демократия, сталинизм, патернализм, либерализм… Это даже унизительно! Чего они о себе вообще там возомнили? Что за примитивное представление о человеке надо иметь, чтобы думать, будто его проблемы решаются в их споре. Вы об обществе, а где оно – общество? За пределами вашей Госдумы люди невидимы, неинтересны, неизучены. Они тут живут и решают серьезные вопросы: быть им или не быть, любить или не любить? Вот кто меня, депутаты, женщину любить научит? Это если мы выживем, если ответим правильно, тогда, может, появится смысл говорить о нас: «мы». А сейчас, конечно, нет никакого «мы». Эти люди в телевизоре живут в каком-то уже несуществующем мире, у них какие-то старые расклады. А я живу в еще не существующем. Но если я родился свободным человеком, почему я не могу задаться вопросами, ради ответов на которые обычно и борются за свободу? Пусть это будет ребячество, но это ребячество – существенный шаг вперед.
Не надо мне рассказывать, депутаты, какие все бабы хитрожопые курвы. Как можно всерьез воспринимать это мужское братство, основанное на убеждении, что они всегда жили и живут с дурами? Какая разница, какие они, если ты в принципе не знаешь, что делать с женщиной, если ты не понимаешь, как происходит оплодотворение друг другом. Какая разница, какая она была до того, как твой сперматозоид прогрыз ее до самых влажных зрачков. Если ты способен видеть ее превращение и успеваешь понять, что происходит в результате соития с тобой самим, если ты точно знаешь, что не бывает настоящих отношений без этих мутаций, – то никакая внешность тебя не обманет. Есть только один вид, с которым мы расходимся в дикой природе – деловые девы, которых посещает желание побаловать себя, которые не прочь попользоваться, которые обязательно поторгуются с тобой за лишнее касание. Эти в глаза не смотрят, а, как на базаре, смотрят на прилавок – и только если что-то заинтересовало, то тогда уж и на продавца. Тут не будет никакой химии, никакого преображения, тут главное – фильтровать базар, чтобы любовник не наказал.
Нет, я узнаю тебя не по аплодисментам после моих феерических внутренних монологов. Тут, кажется, есть более тонкая и сильная штука. Интерес к тебе чужого человека равносилен с пробуждением вулкана. Как будто рядом с тобой заработала мощная человеческая электростанция, которая вырабатывает энергию для тебя и за счет тебя. И ты тотчас входишь в ее генетику, извивов которой не пройти никогда. Человек, вошедший в другого человека, может никогда не вернуться. Мне кажется, я сейчас кружу где-то внутри твоего внутреннего пространства. И я точно знаю, что здесь есть все, что нужно нам для жизни, надо только не торопиться плакать, просто не торопиться. Ты, любовь моя, – где-то здесь, и наше счастье где-то здесь. Мы уже счастливы. Уже.
Только мне нужно к тебе прикасаться. Если выбирать, где укрыться, я бы спрятался у тебя под юбкой. Уткнулся бы в твой твердый выпуклый лобок, терся бы о него щекой, дышал жаром твоего тела. Я бы держался за твою щель – так, будто, если я ее выпущу, то просто забуду, где вход – вход туда, где я больше всего хочу быть, где мне естественно быть. Но я могу войти туда только так, как могу. И я вновь вхожу, чувствуя твое жаркое инобытие, влажную распаренную плоть, место, в котором должна зарождаться жизнь. Я больше ничего не хочу, кроме как исторгнуть из себя все, что я видел и знал, всю эту муть, сводящую меня с ума своей бесполезностью и неразделенностью. Я не хочу помнить ничего – если я не могу вспомнить то, о чем нельзя забывать. Находясь в тебе, мне кажется, я помню это, мне кажется, я понимаю, что говорит мне горячая бездна, в которую я проник. Я разговариваю с нею, и она говорит со мной. И когда я из тебя выйду, я буду собой – чистым и невинным, сильным и цельным. Меня покинет все инородное, с чем сам я справиться не могу. Я – бесформенная куча мусора, у которой нет границ, принципов. Но заключи меня в объятья, дай пожить в пузыре твоей любви, дай войти в тебя таким, какой я есть, – и я выйду таким, каким я должен быть. И мне не надо всего этого по отдельности. Невозможно эту картину собрать по миру, как мозаику, по фрагментам. Объятия одной, понимающие глаза другой, лобок третьей. Все, что должно случиться, должно случиться с тобой. Я даже не представляю, сколько всего там может случиться. Но и того, что я представляю, – много. И когда я смотрю в твои случайные глаза, не могу не думать о том, понимаешь ли ты, осознаешь ли, куда я тебя зову, как далеко я с тобой пойду. И боюсь выдать себя, прикрываю глубину, не пытаюсь говорить о будущем, потому что тебя пугают разговоры о будущем. Потому что ты не знаешь, возможно ли удержать это настоящее. И невозможно тебе объяснить, что это очень легко. Теперь это очень легко. Ты боишься, потому что настоящее может просто оборваться. И ты не хочешь ничего знать о будущем – потому что оно может не наступить, если настоящее завтра оборвется. Это будет непереносимо – нести в себе, помнить о несостоявшемся будущем. Я не подвергну тебя этому испытанию, любовь моя. Не будет ни слова о завтрашнем дне – несмотря на то, что я вижу нашу жизнь вплоть до дня нашей смерти. С поправкой на то, что, как выглядишь ты, – я точно не знаю.
И я даже не представляю, как тебя искать. Что может быть глупее, чем искать женщину! Я просто готов к тебе, стараюсь быть готовым.
Действительно, что я должен сделать, чтобы встретить тебя? Что, если учесть, что можно мне дать несколько минут и любое женское лицо – и я, возможно, разгляжу в нем твои черты? И ты мне даже подмигнешь как-то, поднесешь палец к губам: мол, никому пока.
Как же я тебя искал на своем бурном втором курсе, после того как Марина, казалось, упрятала тебя туда, откуда уже не возвращаются. Мы, к слову, конечно, потом встретились с нею, мы не могли не встретиться – мы же были однокурсниками, сидели за одной партой. Встретились и смотрели друг на друга, будто с волнением искали чего-то. Марина рассказала, что работа, на которую возлагались надежды, сразу после нашего расставания прекратилась, потому что она «надолго» заболела. Надо же, думал я, как твой организм упорно боролся, изгоняя меня как болезнь. И теперь ты такая вежливая, руку мне пожимаешь. На третьей паре я от нее отсел. Она тут же испытала прилив чувств и ушла с занятий, чтобы более никогда и ни при каких обстоятельствах не выказывать своей слабости. Потому что слабости никакой не осталось.
А к концу осени все покатилось. Я искал компаний, в которых танцуют при приглушенном свете, и под утро, усталый и раздраженный, кололся о ноги жриц. Чудилась ли мне в них ты? Прости, кажется, даже не чудилась. Под утро я возвращался стариком. Кто бы мог подумать, что можно так отвратительно себя чувствовать после секса. Мне просто не хотелось жить. Нет, мне не хотелось умереть, но желания жизни я на некоторое время тоже лишался. Как будто я растратил последние капли накопившегося было настоящего желания. Или желания настоящего. Но потом то алкоголь, то скука делали свое дело. И даже да, казалось, что и ты там промелькнула, что-то в смехе почудилось такое искреннее и знакомое. И в следующий момент я уже лежу на незнакомой пухлой девчушке в приспущенных черных лосинах, и под нами крыша общежития – и еще даже не начинает темнеть, я все вижу – все вижу, кроме тебя. Я смотрю в это незнакомое лицо, вспоминаю имя, которое узнал пару часов назад, и не понимаю, что произошло. Что я сделал не так, любимая? Куда ты делась? Почему это лицо не смогло тебя удержать? Почему оно перестало меня узнавать? Попробуй мне объяснить. Нет, молчи, я сам пойму – я же только что хвастал тем, какой я понятливый.
Сосед Антон тогда совсем стал меня сторониться, а Никита приезжал редко. Антон старался хорошо учиться, он был нормальный ребенок с тягой к достижениям технического прогресса. Наступит время – его начнут радовать девушки. А я – ненормальный ребенок, перед которым откуда-то разверзлась бездна. Сознательно или нет, со всей жестокой решительностью призывного возраста я двигался к краю человеческого опыта. Мне казалось, что я должен понять то, что такие люди, как мой отец, в своей жизни знали, но упорно не желали понимать. По всем меркам им должно было хватить опыта для того, чтобы понять все, что вообще человек способен понять. Я хотел знать, что происходит с человеком, когда он берет женщину лишь по той причине, что в какой-то момент различает такую возможность. Я хотел знать, что происходит с любящим человеком в одиночестве. Я хотел знать, до каких пределов может доходить непонимание с окружающими, какие нагрузки выдерживает легкость отношений, со сколькими женщинами можно флиртовать одновременно, сколько раз нужно заняться сексом, чтобы акт стал достаточно продолжительным. Настоящие глубокие, опустошительные отношения вооружили меня вопросами, которые ранее просто не могли быть сформулированными. О, сколь тонкие вещи я понимал теперь об отношениях. Мне казалось, что я теперь вооружен, как никогда. Но и ранен я был тоже – как никогда ранее. Ведь оказалось, что ты, любовь моя, можешь исчезнуть даже после нескольких месяцев полного контакта. Вот так, подходит к тебе некое существо, говорит странные слова, и ты с удивлением думаешь, что три месяца назад этот человек был частью тебя самого – а ты даже представить эту женщину голой больше не можешь, хотя точно помнишь, что вы уже вросли друг в друга, вылизали друг друга, вобрали друг друга.
Я не понимаю! Я не понимаю… Это отчаяние, которое было наготове, которое только и ждало минуты слабости. А слабость вдруг стала приходить от всего – гадливость от флирта, тошнота от чужого голого тела, постоянное чувство имитации. Музыкант, уже почти человек искусства, я перестал переносить какую бы то ни было игру. Прямая грубость мне была ближе. Но от нее было больно. Потому что я не хочу в своей жизни грубости, я видел, во что она способна превратить семью.
И мне хотелось в норку. Уйти и думать. Даже не думать, а ждать, когда во мне выбродит понимание. Когда все станет вдруг ясно из собственной песенки.
Я тебя уже искал, любовь моя, – хватит. Я убедился в том, что нахожу тебя постоянно и неизменно. Но иногда теряю тебя еще до того, как мы обмолвились словом. Я не хочу тебя больше потерять. Я теперь могу хотеть только одного – так тебя найти, чтобы не потерять. И не надо удивляться тому, что я не знаю, что делать. Не думаю, что ты сомневаешься в моих мужеских признаках, в способности протягивать руку и брать. Ты видишь, что я взял уже немало. Это не работает. Можно и дальше продолжать брать, это довольно интересная игра, не без приятностей, как говорится, – тут и фантастические перспективы разнообразить опыт, и при этом есть все, чтобы зажалеть себя до самой смерти, чтобы просто ослепить себя жалостью к себе и спокойно, с полной самоотдачей в ней валяться… Ох, сколько там тумана! Самое то для любителей затеряться. Но как затеряться, если ты не способен упустить главное – факт твоего отсутствия? Ничего не годится, если я не становлюсь к тебе ближе. Меняйся как угодно, но в результате надо стать ближе к тебе хотя бы на шаг. Я готов обойти мир, заглянуть в те его закоулки, в которые можно было бы не заглядывать, если бы были силы поверить в их реальное существование, готов обойти культуру – лишь бы собрать по крупицам умение тебя найти и удержать.
Я пишу это сейчас как выживший. А ведь чуть больше года назад, в прошлом августе, я мог себя потерять. В историю государства российского месяц уже вошел под именем дефолта 1998 года. Согласен, это был дефолт.
Я совершенно ясно понимал, что загнал себя в западню. Я, человек, который умеет говорить «нет» всему, на что падает хоть тень моего нетерпимого подозрения; который оставил себя без друзей детства, без новых друзей; которому неинтересны авторитеты, потому что они никакие не авторитеты; который без особого труда никогда не слушал своих несчастных маму и папу; который плевать хотел на чье бы то ни было мнение по поводу того, что способен испытывать и понимать юноша его возраста; который самого любимого человека отпустил в мгновение ока, как только уловил в нем неверие в свою персону, – я, такой, каким я все более и более становился, дошел до предела. И где-то в глубине радовался тому, что до него дошел, потому что я мог идти к нему очень долго и никогда не дойти, не иметь шанса понять, что должно быть за ним, каким я сам должен быть за ним.
Да, сейчас я в некотором смысле победитель. Но там, внутри происходило то, чего со мной никогда не было. Я никогда всерьез не ощущал угрозы своему «я». Давление, прессинг, равнодушие, мордобой, унижение, стыд, рабский труд – всё это могло быть по-разному больно, но нет, распадом личности не грозило ничто. Мне повезло, мое занудное и очень серьезное «я» сидело в каком-то непробиваемом коконе. Мне даже казалось, я приобрел уже значительный опыт, почувствовал уверенность в своей независимости. Просто если я что-то и умел лучше всего, если у меня и есть какой-либо дар, кроме голоса, то это умение извлекать опыт. Я ничего не пропустил, начиная с того дня, когда в тринадцать лет мой старший друг Миша с удовольствием и злобой ударил меня в лицо на тренировке. И к восемнадцати годам не существовало на свете существа, которое могло бы подавить меня умственно или эмоционально. Говорю это как взрослый девятнадцатилетний человек. И девушка эта, конечно, не была таким существом. Но она дала мне давно искомую степень близости – она мне доказала, что эта степень существует. Она, конечно, и сама перепугалась, да и вообще – о ней просто надо забыть, это не для нее, у нее кишка тонка, но главное – то, чего я хотел, что предчувствовал, во что верил, – это возможно, возможно в отношениях с живым человеком.
Если бы я мог там и тогда внятно сказать себе хоть часть того, что произношу сейчас, наверное, мне было бы легче.
Казалось, миллиарды раз я выходил на общажную кухню, чтобы поставить чайник. И чем больше раз я делал это, тем больше для меня это значило. А меня тяготило все, что хоть что-то значило. Потому что любой смысл указывал на зияние смысла. Я получил пробоину, через которую космос высосал из меня все жизненные силы. Было ощущение, что, когда я замираю на месте, почва, бетонный пол подо мной начинает проседать. Это тот самый пол, на котором месяц назад было расстелено ватное одеяло, и она, нагая, жила на нем некоторое время. Здесь все залапано, забрызгано, затрогано. Я сам весь затроган. Как это отключается? Неужели нужно избавляться от знакомых вещей, бросать курить – потому что, увы, делал это и тогда, когда существовала она? Каким образом возможен мир, в котором этот чайник никак не связан с нею? Предметы и чувства, встретившись единожды, не бросают друг друга так легко, как люди. И ты должен быть к этому готов. Готов к тому, что реальные люди будут гораздо нереальнее следов, оставленных в твоей памяти. Время будет лечить потом – и, скорее всего, совершенно другого человека.
Ничего своего не оставалось. Я помню, как мельком увидел себя в зеркале и испугался – испугался, как когда-то в детстве. Мне показалось, что я увидел другого человека. Что меня больше нет, что меня подменили, что меня не вернуть. Что из меня выходит некто мне чужой, незнакомый, безжалостный, равнодушный ко всему, с чем я сейчас не справляюсь. Я ощутил эту грань, когда ты реально совершаешь выбор: отдать себя или нет? Не тогда, когда тебя бьют, а вот так – в пошлости одиночества. Вдруг думаешь: парень, просто плыви, пусть волна этой жизни приподнимает тебя, а потом опускает. Пусть будет только настоящее, выпусти из себя эту жизнеспособную тварь, которую невозможно отвлечь от возможности самого своего существования в природе. Это было страшно, как в момент, когда начинала действовать мандрагора – и горлом шла иная форма существования на свете. И теперь я был уязвим для этого инобытия, как никогда.
Я помню, как написал песню – и мне было страшно ее исполнять, потому что она написана хоть и моей рукой, но кем-то мне незнакомым. Мне было страшно не сохраниться.
А как сразу раскрылись все сюжеты про двойников! Конечно, вот оно – меня можно подменить – и никто ведь не заметит! Приедут мои соседи к середине сентября – и никогда не поймут, что меня больше нет, – потому что вот он я, сижу с гитарой на краю кровати. И так все начинало логично складываться. Я вспомнил свои последние слезы – это было лет в пятнадцать. Это были слезы смертельной обиды, выжигающие слезы, от которых в душу заходила пустота. А утром, как сейчас помню, проснулся, глянул в зеркало – лицо свежее, хоть женись. Никаких следов трагедии, совершенно нечего предъявить миру. И тогда были те же мысли: раз нет следов, значит и не было ничего. И этот расплавленный металл в груди совсем ни к чему. И вот теперь – то есть тогда – я так тоскую, что порой не могу встать, не могу повернуть головы. Потому что хочу тебя видеть. Хочу видеть тебя всем телом. И это было то ощущение, которое я упорно не хотел вычеркивать. «Нет, – заговорил я с собой в какой-то момент, – подожди, да, это больно и страшно, но там, внутри этой боли, есть нечто очень дорогое – и ты хорошо знаешь об этом. Ты сейчас этого не видишь, по-тому что думаешь только о том, как бы тебе не свихнуться. Но поверь, просто поверь – нельзя просто взять и начать завтрашний день со свежим лицом. Ни в коем случае! Иначе все было напрасно. Не отступать и не сдаваться! Там что-то должно быть дальше. Что-то должно быть».
И оно действительно было. Первый шаг моего путешествия был сделан именно тогда. Оно было не в Питер, оно было – к тебе, любовь моя.
Из того темного месяца я вышел с мыслью о тебе, с ощущением твоего присутствия в мире. Это ощущение было пока слабым, неустойчивым, но оно уже спасало меня. Я вышел из этого черного месяца с чувством, что ты где-то рядом, что я узнаю тебя, когда увижу, и что ты меня узнаешь. Что тебя будет более невозможно пропустить. Это было ощущение, что есть какой-то путь к тебе, – и не было никаких сомнений в том, что я хочу им идти, что я не могу им не идти.
Нет, это все были поначалу очень слабые мысли, да и сам я уже осенью за кем-то волокся, расставлял сети, искал вечеринок с возможными последствиями.
А сейчас мне светло и спокойно. Я хорошо представляю нашу встречу. Я тебя угадаю, как только в тебе проскользнет специально доверенная мне минута слабости, уязвимости в этом унизительном неразделенном существовании. В обычное время ты можешь кричать об этом на всех углах – на тебя будут смотреть остекленевшими глазами, в которых сдерживает себя досада, либо же на тебя будут показывать пальцем, как на сумасшедшую. А на меня ты только взгляни – и я твой, я сразу тебя подхвачу, продолжу твою мысль. Потому что никто этого не чувствует, всем как-то комфортно, их не проберешь вот этой умозрительной проблемой, а я живу с ощущением, что ращу себя на убой. Что меня научили читать в эпоху, когда все разучились писать. Что я понимаю блеск глаз – тогда, когда люди отчаялись донести даже то, что они – люди. Это по-своему трагичный дар, любовь моя, – но мне ли жаловаться? Способность видеть тебя, прозревать тебя, быть уверенным в твоем присутствии в атмосфере, в женском лице, в твоей неизбежности – ну ничего, можно пострадать за это из-за излишне тонкой душевной организации.
Мне хочется забиться в нору. Это ощущение, когда любое выражение себя как бы греховно – ложно и раздражает. Ощущение, что твой случайный жест тут же начинает жить своей жизнью, начинает тебе объяснять, что нужно делать дальше. И со словами то же самое. Ты их не умеешь толком подобрать, но они тут же хватают тебя за руку – мол, куда дергаемся, мы уже приехали: сейчас будем отвечать за сказанное. Это какая-то разводка. Собственное асимметричное лицо в зеркале – как подтверждение всех подозрений. Хочется забиться в норку. Пусть во мне идут процессы гниения, брожения и творчества, пусть меня немного пополощет чистый поток времени – я хочу все это чувствовать. Рожа в зеркале отвлекает. Это – грубая суровая действительность. Все остальные грубости неудивительны и заведомо вторичны. Если выдержишь это – все выдержишь. Если выдержишь это, есть шанс, что даже дебаты в Думе обретут смысл. Потому что сбегают от себя и от жизни обычно именно здесь, перед зеркалом. А я никуда не сбегу, я верю, что ты, любовь моя, научишь меня видеть мир так, чтобы никогда не быть взаперти.
Для того чтобы произносить слова, тем более – записывать их, нужно чувствовать их плотность, их способность заполнять пустоту. Быть уверенным, что ты по ним, как по кочкам, перебираешься через трясину. Но в какой-то момент силы покидают, не знаю отчего, может быть оттого, что трясина начинает казаться бесконечной и все это говорение – бессмысленным, утопичным, никуда не ведущим, а просто – изматывающим, а надо было бы замереть, чтобы почти прекратились токи, чтобы бесконечно малых сил, которые в тебе остались, хватило не на минуты и года, а на века, – и я замолкаю, полный смирения перед полной невыраженностью, и не шевелю более ни единой мыслью, я чувствую, как мое сознание полощется в чистой воде времени, я даже начинаю слышать ее журчание, журчание ручья в лесу, сначала журчание, а потом приходит мелодия, она не нарушает этого состояния, она скорее оттуда, из времени, она лишь помогает мне схватить эту флегму, и я начинаю напевать, и мелодия открывается фрагментами, и их уже становится много, я боюсь забыть куски, и чтобы не забыть, я наскоро придумываю какие-то слова, потому что я не так хорошо знаю ноты, чтобы записать мелодию, а потом воспроизвести ее, а если будут слова, то я не забуду мелодии, я увижу слова и обязательно вспомню, как их петь, и вот я снова в реальности слова, но теперь такого слова, которое легко, как осенний лист, лежащий на поверхности воды, это слово, которое просто пытается срисовать пришедший с музыкой образ, не нужно никакого усилия, нужна точность и простота, а образ такой: человек смотрит из темноты в горящее окно частного дома, он видит в окне молодую грустную женщину, конечно же это ты, я не вижу твоего лица, но все про тебя знаю, к женщине иногда подходит маленькая девочка лет семи, горит ночник, ты грустно смотришь в книгу, но не можешь читать, мне совершенно ясно, насколько ты одинока, хотя вокруг тебя – дом, возможно даже семья, и я смотрю на тебя, невидимый, и люблю всем сердцем, и строки начинают приходить, короткие, их можно долго и по-разному растягивать:
Глядя из темноты на далекий очаг, он не ближе звезды, попытаюсь начать говорить, чтобы я, темное до темна, знало эффект бытия, отраженного от окна.Да, вот это заморочено, но правильно: мое «я» темно до тех пор, пока оно не отражает свет в твоем окне. Даже его, этой обыкновенной повседневной малости хватает, чтобы у этого «я», самозародившегося во мраке, началась какая-то жизнь. И важнее этого начала жизни для него там события и быть не может.
А пока придумывались слова, мелодия изменилась и закрепилась, во втором периоде уже будет другой рисунок, а играться это все равно будет на тех же двух минорных аккордах, и размер три четверти, и больше ничего не надо, а потом чуть-чуть разовью, добавлю септ-аккорд, получится нарастание:
Свет висит в темноте, и, вглядевшись в пятно, вижу в нем двух детей, женщину за окном.Детей стало двое, ну что тут поделать, но ведь это нарастание должно разрешиться, иначе неясно, к чему вела мелодия, а разрешение очень простое, минор превращается в мажор, и это переключение создает эффект преображающей наивысшей точки мелодии, а разрешается она в старый домашний минор, к которому голос приходит уже едва слышным, нежным, мучительно чутким:
Я смотрю ей в лицо, на которое блик, открывая висок, на мгновенье прилип.Наконец-то исходная ситуация образа проговорена, да, он стоит и смотрит, и ничего не происходит и произойти не может, но если не может, то песни не будет и любви не будет, дальше должно что-то происходить, я чувствую глубину схваченной ситуации, но сам еще слишком слаб, чтобы увидеть образ дальше, увидеть его развитие, я снова без сил, короткий отрезок слов, в которых был смысл, на сегодня окончился, остается некоторое время петь то, что можешь петь, в надежде, что глубина образа еще откроется. И живешь некоторое время, зная, что образ – отложен, что дорога к тебе – не завершена, и проходит календарное время до следующих строк, и оказывается, что если ты в жизни и продвинулся за этот срок, то ровно на эти строки, которые позволили увидеть немного дальше, а дальше, наверное, должно быть немного иррациональной, пугающей меня реальности:
Если быстро бежать и работать нутром, я почувствую жар ночника над ковром. Насыщаясь тобой, слышу топот и смех: умереть в любой можно момент.Наблюдатель находится в мире, из которого почти невозможно приблизиться к тому, что он видит. Более того, этот мир, где «умереть в любой можно момент», не предназначен для такого восхищения – оно делает наблюдателя уязвимым. Но его слабость дает надежду. И снова живешь в ожидании, когда приоткроется следующий виток тропинки, живешь грубо, рискуя не расслышать, не распознать мельчайшего сдвига образа перед внутренним взором, когда он вдруг высвобождает, вскрывает новый эмоциональный пласт. Мы с тобой будто лепим друг друга, любое твое проявление, любовь, вмешивается в мою бесформенность, сообщает ей какую-то значимость, временную конфигурацию, новую, неожиданную для меня, – и у меня появляется личность, не имевшая никогда до сих пор ни смысла, ни надобности. И все, что делает твое существование со мною, для меня чудесно. Я слежу за тем, что именно из меня получается в результате неосознанной лепки. Любовь моя, мне нравится то, что ты со мной делаешь.
Ты посмотрела в окно. Что же ты видишь там? Чувствуешь ли ты, что темнота не пуста? Веришь ли, что существо, из темноты глядя, всем своим существом любит, жалеет тебя?Конечно же, ты чувствуешь и веришь. И я верю, что мой голос дойдет до тебя. Образ разворачивается и дальше, он способен вобрать весь видимый и мыслимый мир, – но пускай эта песня закончится здесь.
2013–2017
Над книгой работали
Редактор Татьяна Тимакова
Художественный редактор Валерий Калныньш
Корректор Людмила Евстифеева
Верстка Сергей Пильт
Издательство «Время»
letter@books.vremya.ru
Электронная версия книги подготовлена компанией Webkniga.ru, 2018
Примечания
1
Пер. Н. В. Забабуровой, А. Триандафилиди.
(обратно)


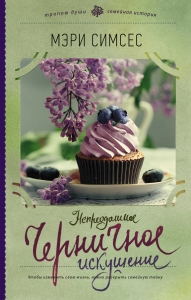

![Откровения судебного медика [сборник]](https://www.4italka.su/images/articles/528015/primary-medium.jpg)

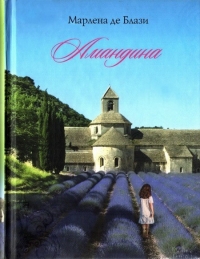
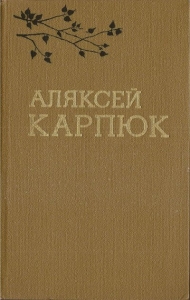

Комментарии к книге «Рассекающий поле», Владимир Иванович Козлов
Всего 0 комментариев