Валерий Залотуха Садовник
© В. А. Залотуха, наследники, 2018
© Е. Т. Лобачевская, вступительная статья, 2018
© Состав, оформление, «Время», 2018
* * *
Елена Лобачевская. Поставленные и непоставленные сценарии Валерия Залотухи
Я познакомилась с Валерием Залотухой в 1990 году на собрании в Союзе кинематографистов. Собрание было посвящено обсуждению работы тогдашнего главного редактора журнала «Киносценарии» Евгения Григорьева – товарищи по сценарному цеху осуждали Евгения Александровича за то, что он пьет, за то, что печатает в вверенном ему журнале не тех и не то. Сценарий Залотухи «После войны – мир» был напечатан в этом журнале в 1989 году. Валерий Евгения Григорьева очень уважал. А я любила как своего мастера во ВГИКе и честнейшего человека. Мы решили написать письмо в защиту Евгения Александровича. За сочинением этого письма и подружились.
– А я ваши сценарии не читала, – призналась я.
– Ну и не читайте, – сказал Валерий.
– А над чем вы сейчас работаете? – поинтересовалась я.
– Пишу сценарий о двух лесбиянках, – ответил Валерий.
«Какой ужас», – подумала я.
И уже через неделю печатала этот сценарий на машинке. Назывался он «Путешествие на край ночи» и был основан на воспоминаниях советского разведчика Дмитрия Быстролетова. Про лесбиянок там было совсем немного.
А Валера Залотуха переехал ко мне в Трехпрудный переулок. Вечерами мы пили вино и болтали. Я узнала, что он влюбился в кино, посмотрев фильм Тарковского «Андрей Рублев», что, мечтая о режиссуре, работал в районной газете в Наро-Фоминске, а ночами писал рассказы. Потом написал сценарий «После войны – мир». Писал о том, что знал хорошо – о жизни в шахтерском поселке, в котором родился. Правда, время действия сценария – самое начало пятидесятых, когда автора еще и на свете не было, но он знал и чувствовал это время на каком-то генетическом уровне, как впоследствии военное – в сценарии «Танк “Клим Ворошилов-2”». Узнав о наборе на Высшие режиссерские и сценарные курсы, Валера подал на конкурс рассказы и сценарий. И случилось чудо: его работы прочел Андрей Тарковский и сказал, что возьмет этого парня в свою мастерскую. Когда директор курсов Людмила Владимировна Голубкина сообщила об этом и показала титульный лист сценария с автографом Тарковского, Валера был счастлив. Но Тарковский уехал в Италию, откуда вернуться на родину уже не смог, а Валерий Залотуха стал учиться в сценарной мастерской Семена Лунгина и Людмилы Голубкиной. На курсах он слушал лекции Натана Эйдельмана, Мераба Мамардашвили, Виктора Демина, Арсения Гулыги, Льва Гумилева… Валера рассказывал, что самое большое влияние на него оказали две лекции: одну читал его любимый драматург Юрий Клепиков, а другую – Юрий Норштейн. Валера подружился с Валерием Семеновичем Фридом, чьей добротой и незлобивостью восхищался всю жизнь. Фрид умел учить и драматургии, и жизни весело и непринужденно – рассказывал об их с Дунским аресте и лагерной эпопее неожиданно смешные истории. Валера очень любил его рассказ о том, как к ним уже на поселение приехала старенькая мама Юлия Дунского и, выгружая продукты из чемодана, ласково приговаривала: «Ну, слава Богу, мальчики, слава Богу, все хорошо, мальчики, вы – навоз истории, мальчики».
Валерий Семенович, когда мы приходили к нему в гости, говорил: «Залог крепости нашей с Залотухой дружбы в том, что ему нравятся брюнетки, а мне блондинки. У нас нет повода для конфликта».
Валера рассказывал мне о Людмиле Владимировне Голубкиной, Валерии Семеновиче Фриде, редакторе киностудии имени Горького Ляле Ольшанской, и из его рассказов я понимала, что именно эти люди своим вниманием, открытостью, доброжелательностью, хорошим вкусом помогли ему стать кинодраматургом и во многом сформировали его. Он смотрел шедевры мирового кино и общался с настоящей московской интеллигенцией, и мир кино казался ему огромным и прекрасным, и ему очень хотелось жить и творить в этом мире. За два года учебы на курсах Валера написал три полнометражных сценария. Его дебютом в кино стал фильм «Вера, надежда, любовь», снятый режиссером Владимиром Грамматиковым. С началом перестройки на студии имени Горького начались съемки сценария «После войны – мир», потом на «Мосфильме» режиссер Николай Скуйбин запустился со сценарием «Отец», в прокате фильм назывался «Бомж». А сценарий «Садовник», который очень высоко ценили Людмила Голубкина и Валерий Фрид, попал на «Ленфильм», его прочел режиссер Виктор Бутурлин и твердо сказал: «Я буду это снимать». Но в восемьдесят пятом году пробить этот сценарий в Госкино было непросто. Бутурлин и Валера часами сидели в приемной тогдашнего министра кинематографии и отвечали на вопросы кинематографических сановников: «А почему герой сценария все время молчит? Почему у него нет монологов?» – «Молчит, потому что вашу власть не любит», – шепотом в сторону рычал Бутурлин. Год высиживали в начальственных приемных запуск – и высидели, упорством взяли. Валера был на съемках, потом с восторгом рассказывал об исполнителе главной роли Олеге Борисове, о чудесной рыжей Жене Смольяниновой, дебютировавшей в этом фильме. С ней Валера подружился на всю жизнь и считал ее уникальный голос национальным достоянием России. Фильм «Садовник» Валера любил. Спустя много лет, в начале двухтысячных у нас дома оказался отец Герман, друг и сподвижник отца Серафима Роуза, чья фигура очень интересовала Валеру, он даже хотел снять фильм об этом православном американце. Отец Герман спросил, какие фильмы сняты по Валериным сценариям, и, услышав о «Садовнике», встал из-за стола и поклонился Валере в пояс. Валера смутился и растерялся, а отец Герман рассказал, что посмотрел этот фильм в Америке совершенно случайно в момент тяжелейшего душевного кризиса, находясь на грани отчаяния, и фильм вернул его к жизни.
«Смотри-ка, делали фильм искренне, честно, и спустя столько лет его помнит такой удивительный, высоколобый и светлый человек, – говорил Валера после ухода отца Германа. – Надо Витьке рассказать».
Посмотрев «Садовника», Валеру пригласил работать над сценарием фильма «Рой» Владимир Хотиненко. Они сразу подружились. Работали легко и вдохновенно. Валера представил мне Володю как своего любимого товарища и режиссера. Они понимали друг друга с полуслова, им было вместе радостно и интересно.
– Хотя, послушай, что я придумал, – начинал Валера излагать какое-то свое предложение.
– Золотенький! – глядя на него из-под очков искрящимися, полными азарта глазами, говорил Хотиненко. – Гляди, гляди! Шерсть вздыбилась! – Он показывал согнутую в локте руку, на которой и вправду дыбом стояли волосы. – И мурашки пошли, гляди. Значит, точно классная идея.
Во взаимной творческой любви, во взаимном восхищении и искренней дружбе, когда хорошо вместе и болтать, и молчать, и пить водку, и чаевничать, были сначала рассказаны, а потом и созданы фильмы «Макаров» и «Мусульманин». Работалось легко, в удовольствие. Возник творческий союз, о которым мечтает каждый сценарист и многие режиссеры. Оба были на взлете, страстно любили кино, радовались открывшейся возможности делать честное кино без оглядки на цензуру, без Госкино. Когда в девяносто первом ГКЧП объявил себя властью, Хотиненко сказал: «Если они победят, я уйду в партизаны». Залотуха кивнул: мол, само собой.
ГКЧП проиграл, а Хотиненко и Залотуха получали призы и премии, ездили в Непал выбирать натуру для съемок «Великого похода за освобождение Индии» – сценария Залотухи, получившего приз имени Эйзенштейна на конкурсе, который проводила американская компания «Гемени-фильм».
Альманах «Прибытие поезда», посвященный столетию кинематографа, были приглашены снимать лучшие режиссеры нового поколения. И Валера написал для Хотиненко сценарий киноновеллы «Дорога», писал на конкретных актеров, в любви к которым они с режиссером были едины: главную роль – для Женечки Смольяниновой, мужскую – на Гарика Сукачева, роль нового русского писалась для общего друга – неповторимого Володи Ильина. А оператором был приглашен гениальный Георгий Рерберг. В 1996 году за фильм «Мусульманин» и новеллу «Дорога» из альманаха «Прибытие поезда» на авторов сыпались призы фестивалей, добрые отзывы критиков, приглашения на всевозможные киносмотры и тусовки.
Однажды мы ждали в гости Володю с его женой Виолеттой, они сильно задерживались, а когда наконец пришли, сообщили, что Володя заседал в жюри конкурса салатов оливье.
– Зачем тебе конкурс салатов оливье? – смеялся над другом Валера.
– Сам не знаю, – всплеснул руками Хотя. – Позвали. А я не умею отказывать. Теперь – изжога.
– Надо срочно запить эти салаты, – устремилась к столу веселая Виолетта.
Мы с удовольствием составили ей компанию и дружно хохотали над прозаседавшимся в жюри конкурса салатов Хотей.
В 98-м Хотиненко запустился в подготовительный период фильма «Последние времена». Когда у нас дома собралась вся киногруппа на читку сценария, Володя показывал свою руку с вздыбленными волосами, все аплодировали и радовались предстоящей работе. Фильм должен был стать прощанием с эпохой, прощанием с советским кинематографом.
Грянул кризис, производство фильма было остановлено. Володя ушел на другой проект. А Валера стал задумчиво смотреть в окно. Написал сценарий «Последний коммунист», режиссера для него не нашлось, да продюсеры не больно и искали, говорили: «Сейчас неподходящее время, коммунисты могут обидеться». Переписал сценарий в роман. Роман попал в шорт-лист Букера, был переведен и издан во Франции и в Голландии.
У нас дома стали появляться продюсеры, они предлагали писать сериалы или делать кино по их идеям. Большей частью их идеи были перепевами западного второсортного кино. Валера отвечал вежливо, но твердо: «Я по чужим идеям не работаю. У меня своих достаточно».
В конце девяностых Валера прочитал рассказы Александра Покровского и написал синопсис «Автономное плавание». Синопсис этот понравился автору, и, когда в начале двухтысячных Александр Любимов захотел стать продюсером фильма о подводниках, Покровский попросил, чтобы сценарий писал Залотуха. Валера взялся за работу вдохновенно и предложил Саше Покровскому, чтобы режиссером позвали Хотиненко. Написал очень интересный сценарий «72 метра» – ядреную смесь трагедии и комедии: капитан видит, что его матросов ждет гибель и что им очень страшно, и начинает рассказывать экипажу гомерически смешные истории. Это был, как мне кажется, новаторский и яркий сценарий. Но, если раньше, на «Рое», «Макарове», «Мусульманине», «Дороге», единственным судьей сценария был режиссер, то теперь сценарист и режиссер вляпались в новые времена продюсерского кинематографа. Продюсеры Анатолий Максимов и Константин Эрнст начали вносить поправки и лепить сценарий по лекалам старого советского кино: сначала экспонируются герои, мирная счастливая жизнь, потом катастрофа и подвиг… Валере стало скучно. Володя Хотиненко высказал предположение, что, быть может, продюсеры лучше знают, что нужно сейчас зрителям. Валера посмотрел на друга с недоумением. Во время монтажа картины Валера пару дней просидел в монтажной и предложил свой вариант, Володя поехал с этим вариантом к продюсерам и, вернувшись, сказал уверенно: «Будем делать, как предлагают они. Они люди опытные, знают, как надо. Да и Танечка считает, что надо вернуть сцену, которую ты вырезал».
«Вовочка, ты куришь вторую сигарету подряд», – заботливо сказала жена Танечка. Она, в отличие от Виолетты, оказалась борцом против никотина и алкоголя, что не располагало к дружеским застольям. Валере стало тошно. Он ушел, час гулял по Тверскому бульвару, потом пришел домой и сказал, что сделал все, что мог, и больше говорить об этом фильме не хочет.
И стал писать роман «Свечка». Чем больше он писал прозу, тем меньше его интересовало кино. Нет, он с удовольствие пересматривал Феллини, Висконти, Олтмена, Мельникова, «Мой друг Иван Лапшин» Германа. А современное кино перестало его интересовать.
«Я разлюбил кино», – говорил он грустно.
Только очень хотел написать один сценарий. Ну, когда «Свечку» закончит. Под названием «Счастливые девяностые». Чем больше вопили про лихие девяностые, тем больше хотелось ему воплотить свой замысел. Иногда вечерами мы обсуждали этот гипотетический сценарий и упирались в вопросы: «А кто режиссер? А какой продюсер за это возьмется?»
В 2010-м позвонил Володя Ильин и сказал, что Людмила Гурченко хочет заказать Валере сценарий для себя и Ильина и что надо всем вместе встретиться в кафе на углу Трехпрудного переулка. Валера не хотел отвлекаться от «Свечки», но отказать Ильину не мог. И мы пошли на встречу. Людмила Марковна пустила в ход все свое обаяние, и драматург, намеривавшийся отказаться, согласился. Через несколько дней Гурченко прочла Валерин синопсис, от которого пришла в восторг, ее муж Сергей Сенин подписал с Залотухой договор, и Валера впервые в жизни взялся за сочинение мелодрамы.
«В конце концов, я профессионал, – подбадривал себя Валера. – Долго ли умеючи, – говорил он и сам себе отвечал со вздохом: – Умеючи – долго».
Но написал быстро. Людмиле Марковне очень понравилась первая часть сценария, где героиня красавица-звезда в роскошных нарядах, и категорически не понравилась вторая – где героиня становится бедной пенсионеркой. Она и продюсер попросили сделать поправки. Валере стало неинтересно, скучно и тошно. Поправки он делать не хотел. Он кинул на меня короткий взгляд, который на нашем семейном языке означал: спускаю с поводка московского терьера.
Терьером была я.
– Аванс остается у автора, поскольку сценарий соответствует синопсису, – обрадовала я собравшихся. – И все авторские права на сценарий тоже у нас.
– А что же остается нам? – поинтересовался продюсер.
– Вам – название «Пестрые сумерки». Я его в книге Людмилы Марковны нашла.
– За пятнадцать тысяч долларов только название? – ужаснулся продюсер.
– Да, – твердо сказала я.
Валера смотрел куда-то в сторону и явно тяготился беседой.
Людмила Марковна скорбно кивнула.
И единственная мелодрама в творческой биографии Валерия Залотухи получила название «Тайная жизнь Анны Сапфировой».
Когда Валера закончил роман «Свечка» и дождался доброго отзыва от издательства, ему стали снова приходить в голову идеи и сюжеты сценариев. «Может, позвонить Сереже Сельянову… Может, позовем в гости Сережу и Наташу Мокрицких…» – вспоминали мы приличных продюсеров. Но почему-то не звонили и не звали.
У нас дома телевизора не было, а на даче у мамы был. Иногда мы видели на экране Володю Хотиненко. Он сидел в президиумах, в первых рядах доверенных лиц, участвовал в ток-шоу. «Смотрите, ваш Хотя», – восклицала мама. «Зачем ему это надо, Валерий?» – спрашивала она.
Ток-шоу были не про салаты оливье, и было совсем не смешно. Валера отворачивался от телевизора и выходил из комнаты.
«Ты знаешь, я придумал пьесу. Попробую написать, – сказал мне Валера за пару недель до рокового диагноза. – В театре сейчас жизнь намного интересней, чем в кино. И режиссеры яркие появились…»
Пьесу Валера написать не успел. А последний фильм, который мы смотрели, был «МЭШ» («Военно-полевой госпиталь») Роберта Олтмена. Валерий Залотуха этот фильм очень любил и пересматривал много раз.
– Блеск! – реагировал он на остроумную реплику героя фильма. – Ты посмотри, как блестяще сделано! – показывал Валера на маленький экран айпэда. – Какой класс!
И, смотря старый фильм великолепного американского режиссера, русский писатель и драматург укреплял свой дух, набирался мужества и радовался хорошему кино, которое, как всякое большое, настоящее искусство, не стареет.
Елена ЛобачевскаяПосле войны – мир
Это, наверное, раннее утро или вечер – солнца нет, но светло. Между огородами с отцветшей картошкой и приземистыми двухэтажными домами и сараями лежат на высокой насыпи рельсы железной дороги. Дома по одну сторону путей кирпичные, по другую – деревянные. Людей почему-то нет ни на огородах, ни около домов и сараев. Или их вообще нет, или они спят.
От огромного неживого террикона шел паровоз без вагонов. Он тяжело и шумно дышал, пуская вверх клубы серого дыма, напряженно, с хрустом работая стальными суставами.
И в эти, все заполняющие звуки машины вклинились другие звуки, похожие. Это человек. Где он? Было слышно, как человек дышал – как паровоз, только тише.
Паровоз набирал скорость: теперь он дышал часто и мощно, как сильный бегун.
И человек, видно, тоже набрал скорость – он тоже дышал часто и мощно. Он был сильный бегун.
Паровоз раздраженно и угрожающе загудел, пуская пар, предупреждая.
– Би-би-и-и! – пронзительно и тонко закричал человек. Он тоже предупреждал. Вот он! Он бежал навстречу паровозу и сам изображал паровоз: согнутые в локтях руки ходили наподобие шатунов взад-вперед. Человек увидел идущий навстречу паровоз и вновь встревоженно предупредил:
– Би-би-би!
Паровоз гудел не переставая и пуская пар, не в силах уже ни остановиться, ни даже сбавить скорость.
Лицо человека внимательно и тревожно. Он тоже не в силах был уже ни остановиться, ни даже сбавить скорость. Их разделяло совсем немного… Сейчас произойдет страшное…
И вдруг паровоз сошел с рельсов и, громыхая железом, спустился с насыпи на твердую глинистую землю. Он не снизил скорости и, успев пробежать с грохотом по земле метров двести, взобрался на насыпь и пошел дальше по рельсам, оставив человека позади.
Усталое и немолодое большое лицо человека с высокими залысинами спокойно: маленькие прозрачные глаза смотрят только вперед. На груди его, на кителе без погон позвякивают прицепленные кое-как медали и значки. Он в широких измятых и грязных галифе, но без сапог – на ногах подвязанные бечевкой галоши. В лице его, в глазах – навсегда обретенное счастье…
…Борис просыпается от стука закрывшейся двери. Напротив высокой металлической кровати, на которой он лежит, окно. В окне – белое утро, и видно, как мимо проходит мать, одетая поверх старенького платья в серый пиджак спецовки. Одной рукой она прижимает завернутый в газету шахтерский обед – тормозок, другой – привычно сильно взмахивает при ходьбе. Она уходит. В окне остаются лишь неподвижный корявый ствол тополя, дощатая серая стена сарая да утреннее белое небо.
Борис вскочил с постели, быстро натянул выцветшие шаровары и рубаху, пробежал по половичкам мимо большой железной кровати матери с красным куском материи на стене вместо ковра, а на ней фотография – портрет матери и отца, отец в пилотке со звездочкой, – мимо квадратного стола, покрытого белой вышитой скатертью, и этажерки с салфетками без книг – к прибитому в углу умывальнику. Плеснул в лицо пару горстей воды, быстро, на ходу, утерся концом рубахи и повернулся к стоящему рядом небольшому столу с голой скобленой столешницей. На ней – черная сковорода с жареной вчерашней картошкой и кусок хлеба. Борис торопливо набил картошкой рот, а хлеб спрятал за пазуху. С раздувшимися щеками он подбежал к ведру с водой, наклонился и попил, сделав губы трубочкой. У самой двери Борис сунул ноги в брезентовые самошитые тапочки, вытащил из замочной скважины большой ключ, вышел, закрыл дверь, повернув ключ два раза, спрятал его под лежащую на полу тряпку и выскочил на улицу.
Он посмотрел на небо, на совершенно безлюдную улицу, подошел к одному из окон дома, поднялся на невысокий цоколь и заглянул в окно. Комната очень похожа на ту, в которой проснулся Борис. Даже фотография на стене. Только на ней отец и мать Серого. Молодые, улыбаются. Серый спит. Суконное одеяло без пододеяльника сбито в ногах, подушка лежит на полу. Руки Серого раскинуты в стороны, голова запрокинута. Он худой, в больших выцветших трусах, без майки. Борис сильно постучал пальцами по стеклу. Серый мгновенно открыл глаза, перевернулся, посмотрел в окно и соскочил с кровати. Он оделся еще быстрее Бориса, посмотрел на картошку в сковороде, но есть не стал, а только сунул за пазуху хлеб.
Борис, улыбаясь, наблюдал сквозь стекло за другом.
Когда Серый уже подошел к двери комнаты, Борис, вспомнив, громко и торопливо вновь постучал в стекло.
Серый обернулся.
– Банку возьми! – крикнул Борис.
Серый смотрел непонимающе.
– Банку! Банку… – Борис изобразил руками и глазами что-то округлое и, не удержавшись, соскочил с узкой приступки цоколя.
Стукнула дверь, и из дома выскочил Серый. В руке он держал литровую стеклянную банку.
– Пошли, – сказал он недовольно. – До вечера успеть надо… Кур бы покормить… А, ладно… – Почесал лохматую со сна голову и, глядя на банку, спросил: – А чего сам не взял?..
– А мать вчера все банки сдала, – ответил Борис.
Они идут мимо сараев, мимо огородов и густой посадки молодых тополей, взбираются на высокую насыпь и шагают по шпалам рядом, положив друг другу руки на плечи, вперед, туда, где, сгорбившись, дремлет в последние утренние минуты седой от старости, разваленный надвое дождями и ветром террикон.
Дорога к шахте идет мимо деревянных дощатых домов, в которых со своими матерями живут Серый и Борис, и мимо других домов, разных: кирпичных, оштукатуренных и – сложенных из бревен.
Двери домов открывались, из них выходили люди: женщины, но больше мужчины, а иногда и женщины, и мужчины вместе, и у всех – у кого под мышкой, у кого в кармане или в сетке – свои тормозки, а также газетные свертки с полотенцем, мылом и мочалкой, чтобы мыться в бане после работы. Путь к шахте лежал через небольшое поле, с которого только что убрали хлеб, по узкой тропинке. Люди здоровались при встрече, кивая друг другу на ходу. Шли и парами, и тройками, о чем-то по-утреннему негромко разговаривая, а больше – по одному, думая об увиденных этой ночью снах. Так они тянулись цепочкой к шахте, где высился большой и живой, чуть дымящийся наверху террикон и крутилось, опуская людей под землю и вытаскивая оттуда выковырянный людьми уголь, шахтное колесо – копёр.
Мать Бориса поздоровалась с одной, с другой, с третьей, прошла в женскую раздевалку и вышла оттуда совсем другая – в брезентовой, почерневшей от угля спецовке и с противогазной коробкой на боку, в резиновых сапогах, в черной гофрированной каске с лампой «вольф» в руке, и поспешила к бункерам.
Клеть – шахтерский лифт – только поднялась. Из нее сначала вытащили какие-то ненужные сейчас внизу трубы, а потом вышли несколько чумазых до черноты шахтеров с не загашенными еще лампами «вольф». Они работали в ночную смену.
– Здравствуй, Федь, – сказала мать Бориса одному из них, большому, сутулому.
– А, здоров, Ань, – сказал он, при виде нее вскинувшись от лежащей на плечах усталости, и, снова ссутулясь, ушел.
– Чего задержались, ночники? – весело крикнул один из входящих в клеть.
Те не отвечали, улыбались устало.
– А у них там девки в закутке спрятанные, – хохотнул другой.
– И гармоня! – добавил первый.
Шахтеры засмеялись. И клеть полетела под землю.
Внизу все быстро освободили ее и пошли по черно-желтой подземной улице.
На откатке уже стояли женщины, с которыми работает мать Бориса, – маленькая толстая бабенка Любка и мать Серого.
– Чего опаздываешь-то? – тонко и весело закричала Любка.
– Проспала чего-то, – сказала мать Бориса и прибавила: – Здрасьте.
– Здорово! – крикнула Любка, видно, она не научилась тихо разговаривать. – Снилось чего хорошее?
– Ага…
– Расскажешь потом!
– Здравствуй, Ань, – бросила на ходу мать Серого. Она первая пошла к наполненным углем вагонеткам. Теперь их надо было откатывать до того места, где их может прицепить подземный поезд. Самое трудное – оттолкнуть вагонетку. Мать Серого уперлась плечом, подавшись вперед, мать Бориса откинулась назад, упершись спиной в стену и отталкивая вагонетку ногой. Рядом, в темноте проходки, вырываясь, оглушающе шипел сжатый воздух и били отбойные молотки.
– Пошли! – крикнула мать Бориса и, как мать Серого, наклонилась вперед и стала толкать вагонетки. Их лица напряжены, губы сжаты. Пошли…
Сзади навальщики – мужики. Большими шахтерскими лопатами они быстро наваливают в вагонетки уголь. Они снимают брезентовые робы и остаются в майках, грязных и рваных.
– Пошли-пошли! – кричит Любка.
Пошли…
В самой чаще густого кустарника, где вырыта землянка-штаб, сидят на редкой траве пацаны – те, кто живут со своими родителями в деревянных домах, а дрова, уголь и картошку хранят в деревянных сараях. Это – Витька, Вадим, Рыба и еще двое-трое больших ребят лет по пятнадцати. Остальные – пацаны от семи до двенадцати лет. Здесь же лежат два огромных лохматых пса, которые всегда с пацанами. Все молчат, потому что заняты делом серьезным и ответственным. У «больших», а также у Серого в руках длинные, похожие на старинные, самодельные поджигные пистолеты. Они счищают серу со спичек о края стволов – заряжают.
Между сидящими ползал на четвереньках остриженный наголо ушастый семилетний Колька и собирал очищенные спички. Он собрал целую горсть их и протянул на ладони Рыбе.
– Рыб, сколько здесь, посчитай!..
– Отвали, – отмахнулся Рыба.
– Юрик, посчитай, – обратился он к Юрику, который сам чуть больше Кольки.
Юрик долго смотрел на Колькину ладонь и наконец тихо сказал:
– Мы еще столько не проходили.
– Вить, посчитай, а?
Витька, похоже, самый взрослый из них. Он здесь командир, вождь. Он зажал пистолет коленями, взял с Колькиной ладони спички и пересчитал.
– Восемнадцать… А там у тебя сколько? – спросил он и указал на большую кучку обезглавленных спичек.
– Вот, – Колька показал пальцем на написанное на земле число – 838.
– Восемьсот тридцать восемь прибавить восемнадцать, – считает Витька, записывая на земле палочкой, – будет… восемьсот сорок шесть…
– Пятьдесят, – не отрываясь от дела, поправил его Вадим.
– Чего? – не понял Витька.
– Пятьдесят шесть, – пояснил Вадим, подняв на Витьку спокойные глаза.
– А-а, ну да, – поправился Витька и вывел на земле «856».
– Ты их сколько хочешь собрать, тысячу, что ли? – спросил Рыба.
– Тысячу девятьсот пятьдесят, – ответил Колька, четко выговаривая слова.
– Это почему же? – насмешливо спросил Рыба.
– Потому что сейчас – тысяча девятьсот пятьдесят, – ответил Колька, отодвинул в сторону спящую собаку и нашел под ней спичку.
– Во как, – хмыкнул Рыба. – Дает… Ну как ты целишься?! – прикрикнул он на Юрика, который подобрал с земли пистолет Рыбы и, приставив его рукояткой к лицу, сощурив один глаз, целился в одному ему известную мишень.
– Дай сюда! – Рыба отобрал пистолет. – Так без глаза останешься – отдача… Во как надо, – показал он, вытянув руку и сощурив глаз.
– Дай попробую, а, Рыб? – с тихой надеждой попросил Юрик.
– Вырасти сперва. – Рыба продолжал заряжать пистолет.
Все молчали, занимаясь своим серьезным делом.
– Всё, коробок зарядил, – заговорил первым Витька и бросил в сторону пустой коробок.
– Я – полтора, – подал голос Рыба.
Витька взял шомпол и, трамбуя, объяснил:
– Трубка новая, проверить надо… может разорвать.
Остальные тоже старательно трамбовали заряды, рвали газету на пыжи, засовывали их в ствол, снова трамбовали и после этого стали закладывать в стволы самодельные пули.
– Говорят, в ёлках нашли мужика и бабу с перерезанным горлом, – стал рассказывать Мишка, но замолчал, занятый своим пистолетом.
– Там банда, ее второй год ловят, говорят, и фрицы там есть, – продолжил Вилипутик.
– Хватит, – оборвал их недовольно Витька. – Я сколько раз туда за щавелем ходил… И не видел никого…
– Мало ли что не видел, – не согласился Мишка.
– А я в ёлки за миллион не пойду, – признался Рыба. – Давайте мне миллион – не пойду…
– Ага, просят тебя: «Рыба, возьми миллион!» – хмыкнул Вадим.
Пацаны засмеялись.
Рыба не обиделся, поднялся с пистолетом в руке.
– Получи, вражина, – тихо проговорил он, подготавливая в ямке на стволе «подкормку».
К тополю привязано пугало, одетое в форму немецкого солдата. Мундир страшно изорван, видимо, не одну пулю он уже получил. На его набитой тряпьем безликой голове – черная рогатая каска. Рыба встал, и сразу встали пацаны, глядя на «фрица». Рыба вытянул руку, прицелился и чиркнул боковушкой спичечного коробка по «подкормке». Сначала раздалось шипение. Пацаны вытянули шеи, подняли головы собаки. Выстрел ухнул. Ничто на мундире фрица не шелохнулось.
– Промазал! – первым крикнул Вилипутик, восьмилетний пацан с маленьким лицом и спокойными стариковскими глазами, младший брат Рыбы.
Пацаны и Рыба побежали осматривать мундир.
– Промазал, все дырки старые, – повторил Вилипутик бесстрастно.
Рыбе хотелось поспорить или дать брату пинка, но слишком явно было то, что он промазал.
– Сейчас бы шмайсер, как у Зверя, я б его напополам переломил, – сказал он, не отрывая глаз от фрица.
– Зверь из своего шмайсера голубя на лету сбивает, – негромко, но авторитетно произнес Вилипутик.
– Был бы шмайсер, ты б его, как тэтэшник, Скрипкину отдал, – сказал спокойно Вадим.
– Я отдавал, что ли? – сразу взорвался Рыба. – Он меня портфелем по спине стукнул, я свалился, а пистолет выскочил.
– Ладно, рассказывай, – словно и не Рыбе вовсе сказал Вадим, занимаясь своим «поджигом».
– Чего? Давай я тебя стукну по спине кирпичами? – продолжал горячиться Рыба.
– Давай, – тем же тоном продолжал Вадим. Он сильный. Это по всему видно. Он сильный и справедливый телохранитель вождя – Витьки.
– Хватит вам, – остановил их Витька.
– Вить, можно сейчас я? – спросил тихо Серый.
– Давай, – согласился Витька.
Серый вытянул руку, прицелился и выстрелил. На груди фрица возникли мгновенно три отверстия, из которых вылетел пух. Пацаны и Серый с пистолетом в руке подбежали осматривать пугало.
– В сердце!
– Нет, в середёнку, – вновь авторитетно сообщил Вилипутик.
– Эй, не стреляйте! – крикнул кто-то из кустов.
На поляну выбежал запыхавшийся пацаненок.
– Кирпичники Мишку бьют! – закричал он, задыхаясь.
– Где? – сразу вскочил Витька.
– На линии, там, – пацаненок махнул рукой.
Все кинулись сквозь кусты, на ходу засовывая пистолеты под рубахи.
…Прямо на шпалах дрались трое. Рядом стояли еще несколько человек и молча наблюдали. Увидев бегущих, они что-то крикнули дерущимся и сами побежали за насыпь к стоящим вдалеке кирпичным домам. С земли вскочили двое и бросились за ними, оставив на земле третьего. Ребята подбежали к лежащему вниз лицом Мишке и остановились. Мишка поднял лицо, измазанное кровью и пылью, в сторону кирпичных домов и сказал с пробивающимися сквозь голос слезами:
– Гады!
– За что они тебя?
– Да ни за что! – закричал Мишка. – К отцу на шахту ходил! Шел обратно, а они встретили.
Враги стояли метрах в ста отсюда, за насыпью.
Их стало больше. Они размахивали кулаками, бросали камни и кричали:
– Деревянщики! Эй, деревянные морды, еще получите!
– Говори честно, первый не задирался?! – глядя прямо в Мишкины глаза, спросил Витька.
– Ну, честно, Вить! – закричал Мишка, вытирая лицо рукавом рубахи. – Я еще поздоровкался! Там Лысый был… Я ему прошлым летом зуб сломал… А он через год отомстить, гад, решил…
– Давай дадим им, а, Вить, давай турнем, – заныли пацаны.
Витька смотрел на Вадима.
– Снова война начнется, – с сомнением произнес он.
– Кто не хочет жить в мире, того бьют всем миром, – рассудительно произнес Вилипутик.
– Отойди отсюда! – заорал Рыба на брата и влепил ему сильную злую оплеуху. – Отойдите, все на десять шагов отойдите!..
Пацаны пятились, оттесняемые Рыбой, и смотрели во все глаза на старших, ожидая их решения и желая только одного – войны.
Витька спрашивал что-то у Мишки, у Вадима, удерживал кричащего Рыбу и посматривал на кирпичников, видимо тоже жаждущих новой войны.
– Поджигные не брать, – тихо скомандовал Витька. – А вы, – крикнул он пацанам, – склады раскапывайте.
Все бросились в разные стороны: одни в огороды, другие к сараям – прятать в дровах пистолеты. Пацаны, стоя на коленях, по-звериному, руками быстро раскапывали землю на огородах в только им известных местах. Склады – это сложенные в ямки и засыпанные землей камни и железные болты. Ими все вооружаются, запихивают в карманы штанов, накладывают на руку, прижимая к груди.
– Цепью! – скомандовал Витька.
Все вытянулись в цепь и пошли на противника.
– Кирпичники, сейчас получите! – кричали пацаны. Кто-то из них бросил камень, хотя было явно далеко.
– Не бросать! – прикрикнул Вадим. Кирпичники швыряли камни не переставая, они уже падали среди наступающих.
– Вперед! – скомандовал Витька.
Все бросились за ним, швыряя на ходу камни, крича «ура». Кирпичники не выдержали и побежали.
…После такой быстрой победы были особенно возбуждены пацаны, они кричали, перебивая друг друга и хватая за руки, и рассказывали, как все было. У ног вились собаки, лаяли, но их никто не слышал. Большие старались сохранять спокойствие, но было видно, что и они рады такой быстрой и бескровной победе.
– Бибика! – закричал вдруг Колька, показывая пальцем назад.
Все резко остановились, обернулись. По линии шел, наклонившись, мужчина. При каждом шаге он наклонялся все больше и больше. Все смотрели на него до тех пор, пока Вилипутик не сказал:
– Дурак ты, Колька. Это ж пьяный… А Бибику еще в прошлом году поездом зарезало.
Это действительно пьяный. Все понимают это, поворачиваются и молча идут дальше, забыв неожиданно о победе.
Маленький и низкий зал клуба заполнен людьми. На первых рядах и прямо на полу пацаны глядят завороженно на экран. На экране двое – он и она. У них красивые одухотворенные лица. Они сидят то ли на горе, то ли на крыше дома и восторженно смотрят на восходящее солнце, держатся за руки, крепко их сжав, – это можно понять по лицам. Зрители в зале совсем другие, но глаза их похожи, они тоже радостно светятся.
Внезапно открылась входная дверь, в светлом проеме возникли трое. Один из них, всматриваясь в зал, протянул руку к выключателю и включил свет. Это большой, остриженный наголо рыжий парень. Он нашел того, кого искал, и сказал громко: «Сазан, на выход».
Со своего места поднялся щуплый паренек и, опустив голову, медленно пошел к выходу. Рыжий выключил свет и вышел следом, но дверь за собой не закрыл.
Из зала было видно: тот парень – Сазан, как назвал его стриженый, стоял у стены, а напротив трое. Один из них, светловолосый, что-то говорил ему, словно что-то доказывал. Но голоса слышно не было, так как с экрана гремели завершающие аккорды фильма – солнце почти взошло. Внезапно светловолосый ударил парня резко кулаком в лицо. Голова того дернулась и ударилась о стену. Из разбитого носа потекла на подбородок кровь. Парень закрыл лицо руками и медленно осел. Те трое повернулись и спокойно пошли прочь. Но один из них, маленький, чернявый, вдруг вернулся и с ходу ударил сидящего носком сапога в бок.
Парень медленно заваливается на бок. На экране возникает слово: «Конец».
…Они спускаются с насыпи и садятся на траву, отдыхая…
Борис взял банку и посмотрел на мир сквозь ее дно. Мир сделался круглым и немного смешным.
Серый достал клочок газеты, а в ней немного махорки, быстро и умело скрутил самокрутку. Борис вытащил спрятанную в резинке шаровар спичку и кусочек чирки от спичечного коробка, дал Серому прикурить. Тот затянулся и медленно, по частям, выпускал дым.
– Мне сегодня сон снился, – сказал Борис, заглядывая Серому в глаза, – как будто паровоз с рельс сошел, по земле проехал, а потом обратно на рельсы забрался и поехал.
– И мне тоже, – спокойно и тихо сказал Серый.
– Правда? – удивился Борис.
– Правда конечно. – Серого это почему-то ничуть не удивило. Он будто готовился сказать что-то более важное. – Да… К матери мужик один ночью приходит… Дядь Саша… Стукнет три раза, она открывает… Днем ему не разрешила приходить…
– Почему?
– Тебе хорошо говорить – почему. Вашего на войне убили. Твоя мать с кем пойдет, ей ничего не скажут. А наш – сидит. Они всю ночь в своем углу разговаривают. Жениться они хочут, только мать боится.
– Чего?
– Отца. И людей тоже. Говорит: чего люди скажут? А чего этого бояться, не понимаю…
– А моя, наверно, не женится никогда, – тихо сказал Борис.
– Женится, увидишь…
– К ней десятник на работе лезет. Я слышал, как она тёть Ире рассказывала. Она его ударила, а он ей за это денег меньше пишет… Ночью плачет, думает, не слышу…
Они замолчали. Борис взял оставшуюся половинку самокрутки, затянулся.
– Ты отца своего помнишь? – неожиданно спросил Серый.
– Не-а… Он на войну ушел – мне два года было. А когда уходил, я спал, мамка говорила…
– А я своего помню. Он с войны тогда пришел. Ордена на груди. С автоматом.
– Автоматы с собой брать не разрешали…
– Ему разрешили, у него разрешение было.
– А когда его в тюрьму сажали, помнишь?
– Не, – мотнул головой Серый.
– Я помню. Мильтоны приехали на мотоцикле с коляской, хотели его в коляску посадить, а он не давался. Они ему тогда руки крутить стали, а у него аж вот здесь кровь, – Борис дотронулся рукой до лопаток Серого. Серый молчал. – Я тогда еще маленький был, думал еще, его около сараев из пистолетов расстреливать будут… Серый, а за что его посадили? Я у мамки спрашивал, она не говорит…
– Моя тоже не говорит… Я у Скрипкина спрашивал. Он сказал: за то, что отец говорил чего не следует.
– А чего не следует?
– Не знаю… Я сперва думал – матом… А все мужики матерятся, кроме Скрипкина.
– Я, когда узнаю, чего не следует говорить, я не будут говорить, а ты, Серый? – тихо спросил Борис.
– Не знаю еще. Сперва узнать надо. Скажи честно, ты через ёлки боишься идти?
– Боюсь, – тихо и виновато признается Борис.
Под окнами их деревянного дома стоит вкопанный в землю стол и такие же лавки с двух сторон. На лавках – большие. Рядом примостились пацаны, среди них – Серый и Борис. На столе истрепанные игральные карты, ведро с водой и большая алюминиевая кружка. На земле под столом сидит со своей кучкой обезглавленных спичек Колька. Витька с Вадимом играют против Мишки и Рыбы.
– Ну, делай по уму, – с отчаянием в голосе призывал Мишка Рыбу.
– Делай… попробуй, если ни одного козыря нету! Швали всякой насовали, – злился Рыба, уткнувшись в веер карт.
– Вам, наверное, пить захотелось? Давно не пили, – издевался Вадим, – какая это кружечка будет, пятая или шестая?
– Шестая, – спокойно сказал Вилипутик.
– Уйди отсюда! – заорал Рыба и заехал брату.
– Быка не выиграешь, корову не проиграешь, правда, Вить? – обратился Вилипутик за помощью к вождю.
Петька рассматривал карты из отбоя. Особенно непонятны ему картинки. Он медленно поворачивал карту набок, стараясь поставить короля на ноги. У короля почему-то замазана черными чернилами голова. Вторая голова – нормальная, белая.
Петька поднял на больших глаза и спросил:
– А негры за кого, за наших или за немцев?
Никто не ответил, все задумались.
– Дурак ты, Петька! – вмешался, потирая затылок, Вилипутик. – Немцы бывают разные и негры разные тоже.
– Кто дурак? – возмутился Петька и поднялся, готовый драться сейчас же, здесь же.
– С погонами! – перебил его Вадим и пристроил на плечи Рыбе пару «шестерок». – Может, и водички попить захотелось?
– Пожалуйста, – Вилипутик протянул брату кружку.
Рыба одной рукой выхватил кружку, а другой отвесил Вилипутику оплеуху.
– Проиграл и не злись, – вступился за Вилипутика Мишка.
Он взял кружку и стал пить воду с шутовским удовольствием на лице, потешая пацанов.
Треск мощных мотоциклетных двигателей был сначала тихим, далеким, но все за столом насторожились. Треск приближался. Два больших трофейных мотоцикла вывернулись из-за угла дома и, подъехав на скорости к столу, резко остановились.
– Зверь, – успел сказать Вилипутик.
На первом мотоцикле сидел один, на другом – двое.
Наступила тишина. Мотоциклисты молча смотрели на сидящих за столом, а те старались не смотреть на мотоциклистов. Первый – Зверь, со светлыми вьющимися волосами и красивым лицом, в своей знаменитой кожанке. За ним – здоровый, рыжий, остриженный наголо – Кот; последний – маленький, чернявый, с темными мелкими глазками, его кличка Дохлый. Это они приходили в клуб.
– Ну что, пацаны, в картишки сыграем? – спросил наигранно лениво Зверь и слез с мотоцикла.
Двое пацанов вскочили с лавки, освобождая место. За Зверем оставили мотоцикл Дохлый и Кот и тоже сели на освобожденные сразу же места. Они сидели по обе стороны Витьки, а напротив – Зверь.
– Что, Витя, сыграем? – спросил Зверь тем же тоном, тасуя карты.
Витька молчал, уставившись взглядом в стол.
Из-за угла дома, откуда вывернулись мотоциклы, выходит Скрипкин. Он в низко надвинутой старой милицейской фуражке и в застегнутой под самое горло длинной и толстой темно-синей шинели. В руке у него маленький черный ученический портфель. Он идет неторопливо, а вернее – тяжело, и нетрудно рассмотреть его большое, немного одутловатое лицо, низкий лоб с тремя глубокими морщинами и маленькие глубокие глаза под лохматыми бровями. На лице – крупные капли пота.
– Скрипкин, – шепнул Вилипутик. Пацаны дернулись, но остались на месте.
Зверь спокойно продолжал тасовать карты. Скрипкин подошел к столу и из-за Витькиной спины протянул Зверю большую с толстыми пальцами ладонь.
– Давай, – сказал Скрипкин и пошевелил пальцами, – давай сюда.
Зверь еще немного потасовал, лениво и нагло глядя на Скрипкина, потом постучал ребром колоды по столу, складывая ее ровнее, и спокойно положил карты в нагрудный карман кожанки.
– Давай сюда, – жестче сказал Скрипкин.
– Мы не играли, – жалобно протянул из-за спины Вилипутик.
– Не играли и не надо, ладно, – примирительно сказал Скрипкин.
Он постоял некоторое время так, громко втягивая носом воздух и переминаясь с ноги на ногу.
– А место мне кто уступит? – спросил он. – Старшим надо место уступать… Не учили вас разве в школе?
Витька сгорбился еще сильнее, остальные пошевелились, но никто не поднялся.
– Да-а, – протянул Скрипкин и посмотрел сначала на рыжую голову Кота, потом на серую Витькину и остановился на черной лохматой голове Дохлого. – Подстригешься когда? – спросил Скрипкин и постучал пальцем по его голове.
Дохлый недовольно дернулся, но промолчал.
– Когда старшие спрашивают, надо отвечать, – продолжил Скрипкин, – и место им уступать! – Он схватил Дохлого за плечи и выдернул его из-за стола, как редиску из грядки.
Теперь, когда место освободилось, он, тяжело подняв одну ногу, перешагнул через скамейку, потом другую, поставил с глухим стуком портфель на стол и, вздохнув, сел, предварительно поддернув галифе.
– Стучат кирпичики? – с ухмылкой спросил Зверь, указывая на портфель глазами.
– Стучат, – согласился Скрипкин. – Стукнут они скоро, Зверев, тебя по башке. Ты парня, Карпухина, за что избил в клубе? Сапогами бил? У него ребро сломано…
– А ты видел? – спокойно спросил Зверь.
– Твое счастье, что не видел.
– Ну вот. Или заявление на меня есть?
– Заявления нет, – согласился устало Скрипкин. – А Валю Платонову из этого дома зачем ударил? Знаешь, что муж ее служит еще, некому заступиться?
– Нужна мне твоя Валя… Она что, заявление на меня написала?
– Не написала, не написала, – громче и жестче произнес Скрипкин. – А может, сказать пацану ее, чтоб он мать сюда позвал? – Скрипкин взглядом указал на опустившего голову Юрика. – Позвать и дать тебе при ней по башке этим портфелем!
– Не надо, – тихо сказал Юрик. Скрипкин вздохнул, щелкнул замком портфеля и вытащил оттуда листок и чернильницу-непроливайку с воткнутой в нее деревянной ученической ручкой.
– Повестка тебе. Явка в милицию. Вот здесь распишись.
– Неохота, – с издевкой в голосе сказал Зверь, – ты сам распишись лучше, у меня рука заморилась…
– Людей добрых бить она у тебя не заморилась… Ничего, я распишусь.
Скрипкин обмакнул еще раз ручку в чернильницу, посмотрел на перо, нет ли ворсинки, и, низко склонившись над столом, стал писать, медленно диктуя самому себе:
– В подписании повестки отказался. Старший сержант Скрипкин Мэ. Мэ.
– Мэ-мэ, – повторил Зверь.
– Да, мэ-мэ, – согласился спокойно Скрипкин и прибавил: – Ты уж лучше приди сам завтра, а то приедем, заберем. Нехорошо будет. Да-а. – Он оглядел сидящих и обратился к Витьке: – А ты самострел свой принеси или сломай его и выкинь в уборную. И все остальные… Я тебя за пистолет марки «Тэтэ» простил, а сейчас за самоделку в колонию отправлю…
– Нету у нас пистолетов, – жалобно протянул Вилипутик.
– Нету, – недовольно повторил Скрипкин.
Взгляд его упал на сидящего под столом Кольку и кучку спичек рядом.
– А это что такое? Подай-ка… – обратился он к Кольке.
Колька опустил голову и не двигался.
Скрипкин нагнулся, скрылся с головой под столом и, тяжело дыша, с побагровевшим лицом, поднялся. В ладонях его была вся куча обезглавленных спичек.
– Это чего? – спросил он.
– Не знаем, – пожал плечами Вилипутик.
– Зато я знаю, – повысил голос Скрипкин, – я знаю. Порох весь перевели, так теперь серу вместо него обчищаете?
Он достал из портфеля лист бумаги, завернул в него бывшие спички и все это спрятал в портфель.
– А вы?! – обратился он, повысив голос, к вздрогнувшим пацанам. – Кошек больше не вешаете?
– Не-е, – вновь тихонько пропел Вилипутик.
– И правильно, – одобрил Скрипкин и продолжил: – А то ведь сегодня кошек, а завтра кого?.. Теперь ведь всё для вас! – неожиданно обратился Скрипкин ко всем сразу. – В такой войне победили, столько жизней положили! И всё ведь для вас! Учитесь только… В люди выходите…
Скрипкин замолчал, тяжело поднялся, вздохнув. Но вдруг неожиданно резко перегнулся через стол и двумя пальцами выхватил у Зверя из кармана карты.
– А в карты играть не надо, – сказал он спокойно и назидательно. – Вы лучше…
Скрипкин замолчал, размышляя.
Все тоже молчали, ждали, что он скажет, что же им лучше делать.
– …стихи учите, – произнес он неожиданно, кажется, даже для самого себя и облегченно выдохнул на прощание: – Вопросы есть?
Он собрался было выйти из-за стола, завернув карты в кусок газеты и положив их в портфель, но его остановил Петька.
– Дядя Скрипкин, а вы почему в пальте, зиму встречаете? – спросил он, бесстрашно глядя снизу в глаза милиционера.
Скрипкин нахмурился.
– Я не зиму встречаю, как ты говоришь, а лихорадку из себя провожаю… Она меня два раза в год трясет. Вопросы есть?
– Есть, – кивнул Петька. – А негры за кого – за наших или за немцев?
– Негры? – Скрипкин задумался, опустив голову. – Негры… Вопрос серьезный. Сразу не ответишь. Я тебе… в другой раз расскажу, за кого они, – сказал он и, выйдя из-за стола, пошел по улице дальше – прямой, спокойный и тяжелый, с портфелем в руке.
Все смотрели на его сутулую, в шинели, непонятную спину и видели, как замедляет он шаг, как останавливается, вероятно задумавшись о чем-то, как возвращается Скрипкин назад.
– У меня одна задача, Зверев, – заговорил, подойдя, он. – Посадить тебя, покуда в армию не забрали. Таким, как ты, в нашей славной победоносной армии – не место. И я тебя посажу.
Скрипкин ушел.
– Томку позови, – зло сказал Зверь, глядя на Витьку.
– Я тебе не нанялся бегать, – по-прежнему не глядя на Зверя, ответил Витька.
– А я сказал – позови, – повторил медленно Зверь.
– А я сказал – не нанялся, – повторил Витька.
Томка выбежала из подъезда неожиданно. У нее, как всегда, слегка растрепаны волосы, и легкое ситцевое платье на ее налитом, живом, как речная вода, теле кажется прозрачным. Все замерли.
– Кого делите, меня, что ли? – крикнула она, смеясь.
Зверь еще раз взглянул на Витьку, поднялся, завел мотоцикл. Сзади села Томка. Она обхватила голыми руками Зверя за шею и прокричала ему в ухо:
– Задушу, если моего братика обидишь!
Мотоциклы срываются с места и исчезают за углом дома. За столом уже в который раз наступает тишина.
– Ох и сучка у тебя сестренка, – участливо заглядывая в глаза Витьке, говорит тихо Вилипутик.
Рыба молча и мгновенно отвешивает брату затрещину.
Серый и Борис минуют большие ворота, у которых стоит гипсовая скульптура шахтера с отбойным молотком на плече и за которыми начинается шахта, и быстрым шагом идут к кирпичному зданию конторы.
Крутится и гудит шахтное колесо, на террикон ползет вагонетка с породой, а наверху ее ждет человек, чтобы высыпать породу и отправить порожнюю вагонетку вниз. На самом верху, над шахтным колесом, бьется выгоревший на солнце флаг.
Серый и Борис прошли вдоль кирпичной стены мимо большого плаката, на котором рабочий, колхозница и воин держались за руки и было написано: «Страну отстояли, страну возродим!», и открыли тяжелую, обитую оцинкованным железом дверь. В почти квадратной полутемной комнате с высоким потолком и каменным полом с одной стороны – сплошная стена, с другой – натянутая от пола до потолка сетка. За ней на длинных полках лампы «вольф», противогазные коробки, гофрированные шахтерские каски. В стене – ниша, в которой торчат два водопроводных крана. Над одним написано краской «вода», над другим – «газ. вода».
Здесь же, в нише, несколько больших алюминиевых кружек на железных гремящих цепях. Серый и Борис взяли по кружке и по очереди поставили их под сильную струю газировки. Стукнулись кружками и стали пить. Первый же глоток выбил слезы. Они их вытерли рукавами и продолжали пить.
Дверь вдруг распахнулась, наполнив комнату светом. В нее ввалились с шумом большие тяжелые шахтеры в спецовках. Они сдали противогазы, лампы, каски и подошли к нише. Дверь то захлопывалась, то вновь открывалась, впуская вместе с входящими слепящий белый солнечный свет. И спецовки, и лица шахтеров грязные, некоторые почти совсем черные. Шахтеры пили газировку, крякали, переводили дух и пили снова. Один из них, высокий, кучерявый, с веселым улыбчивым лицом, заметил Серого и Бориса.
– Ну, как газировочка? – громко спросил он.
– Крепкая, – уверенно ответил Серый.
Кучерявый выпил целую кружку залпом и выдохнул с шумом:
– Ух… ух, и правда крепкая! Надо еще полкружечки! Хороша газировочка сегодня! – Он вытер ладонью рот и спросил, улыбаясь: – А вы небось помыться пришли?
Кучерявый спрашивал громко, да и спрашивал он так, как будто утверждал.
Серый и Борис хотели сказать, объяснить, но кучерявый уже обращался к стоящим рядом шахтерам:
– Видали, бойцы какие? Мыться с нами сегодня будут!
И Серый с Борисом только переглянулись.
Они стоят в выцветших старых трусах, вытянувшись, прижав тощие руки к худым туловищам, и смотрят, как раздеваются шахтеры. Те сбрасывают с шумом брезентовые черные робы, стаскивают старые, истлевшие во многих местах от пота рубашки и рваные майки, стягивают резиновые сапоги, разматывают черные сырые портянки, шевелят уставшими пальцами ног, скидывают тяжелые мокрые штаны и длинные, до колен, трусы. И оказываются голыми, обычными маленькими людьми. Только у многих то спина, то рука, то нога обезображена шрамом или рубцом либо посечена синей пороховой сыпью. У них впалые груди и тонкие белые ноги. Но на груди у многих вытатуированы Кремль, Ленин и Сталин, танки, самолеты. А также русалки и просто голые толстые женщины, женские имена, кинжалы и змеи, и великие простые истины-клятвы, и одна из них повторяется особенно часто: «Не забуду мать родную». Шахтеры словно стесняются своей наготы и грязи, вталкивают ноги в деревянные, стучащие по полу шлепанцы, которые зовутся колодками, и торопливо идут мыться.
Кучерявый раздевался рядом. Он большой, мускулистый, сильный, на груди его катер режет бурлящую волну, а над ним – полукругом надпись: «ТК “Бесстрашный”». Серый и Борис смотрели на кучерявого внимательно и удивленно, разглядывая татуировку. Кучерявый расправил грудь, подмигнул им, поднялся и крикнул проходящему мимо худому длинному шахтеру:
– Во, бойцы какие! А ты, Петрович, вроде мужик как мужик, а нарожал полный дом девок! И как это ты работаешь?
– Да как и ты, – отозвался на ходу Петрович, – беру отбойный молоток и работаю.
Шахтеры захохотали. Их смех гулко отдавался в высоком потолке, перекрывая шум воды, который доносился из-за закрытой двери.
– Ну, чего стоите? – обратился громко к Серому и Борису кучерявый. – Или в трусах мыться собрались? Мыло у меня есть, мочалка тоже, полотенцем одним вытремся! Мы ж мужики! Айда!
Серый и Борис стянули трусы, сунули ноги в колодки и, застучав ими по полу, заторопились за кучерявым.
Здесь стоял пар, смешанный с шумом бьющей сверху воды и хохотом шахтеров.
– А вот еще случай был, – доносился голос, – до войны еще, у нас на Урале. Две бабы на улице ругались страшно. Ревновала одна другую, что ли… Хрен их разберет. На улице проходу друг другу не давали. Как встретятся – ровно кошки. Ну, сошлись они раз, поливали друг друга, поливали, а потом одна говорит: «На вот тебе!» – поворачивается и задом к другой становится. Мол, вот тебе, кто ты есть!
– Ага! – обрадованно воскликнул щуплый мужичонка, растянув в улыбке до ушей рот.
– А та, другая, – продолжал рассказчик, – тоже не дура была. Взяла и к той задом повернулась. На вот, значит, посмотри!
Шахтеры захохотали. Тот подождал, пока смех утихнет, и с улыбкой продолжал:
– Время идет, а они не поднимаются. Уступить боятся. Народ собрался, пацаны кругом бегают.
– Ага! – воскликнул во второй раз щуплый мужичонка еще радостнее.
– А тут мужик одной идет. Попробовал он совестить их, растащить – не идут, упираются… Ну, он взял и стал рядом со своей.
Шахтеры снова захохотали.
– Два один, значит! – весело закричал щуплый и хлопнул себя по худым коленям.
– Та, значит, видит, какое дело… проигрывает. Вскакивает и бегом на завод, на мужика того жаловаться. А он у нас завкомом был. Выгнали из завкома!
– Ну?!
– Он тогда на собрании, когда выгоняли, говорит: «Что же мне делать было? Они б так до зимы на улице стояли. А мне баба дома нужна. Обед варить, да и вообще…»
Хохот заглушил шум воды. Когда смех утих, чей-то совершенно серьезный голос спросил:
– Слушай, Николай, скажи честно… Это ж ты небось и был?
Серый и Борис даже поежились от хохота шахтеров, переглянулись и улыбнулись. Кучерявый подошел к ним, наклонился.
– Вы что это, только под водой стоите? – спросил он. – Берите вот мочалку да спины трите друг дружке. Да посильней, посильней! На спине самая грязь собирается. – И крикнул в сторону: – Эй, не материтесь, пацаны здесь!
Шахтеры замолчали и занялись трудом – терли до красноты друг другу спины, вдыхая с шумом воздух и отфыркиваясь.
…Одевались Серый и Борис вместе с кучерявым быстро и весело.
– Спасибо, дядь, – сказали они кучерявому и уже пошли, но тот остановил:
– Погодите, куда заспешили?..
Серый и Борис переглянулись.
Они снова пошли по длинному коридору вместе с другими шахтерами.
В большой светлой комнате, где стояли стулья, покрытые кумачом столы, висел портрет Сталина, было людно и шумно. У зарешеченного окошечка кассы стояла очередь. Шахтеры, склонившись, получали пачки денег, отходили, пересчитывая, засовывали получку в карманы брюк, гимнастерок, пиджаков.
Подошла очередь кучерявого. Он взял деньги, пересчитывать не стал, тут же засунул пачку в глубокий карман широких брюк.
– Пошли, бойцы, – весело сказал кучерявый.
На улицу шахтеры вышли гурьбой, но сразу разбились на группы по нескольку человек. Кучерявый шел один, а рядом – Серый и Борис. Шахтеры были не похожи на себя – тех, вышедших из шахты, и тех, которые мылись в бане. У них чистые розовые лица и зачесанные назад частой расческой, не высохшие еще блестящие волосы. У Серого и Бориса тоже розовые лица и причесанные чубы.
Первый дом на пути шахтеров – белый, красивый, с колоннами и вылепленными наверху буквами – «Столовая». Большинство шахтеров направлялось к ней. И кучерявый тоже.
В столовой стоял папиросный чад и гомон голосов.
Кучерявый огляделся, выбрал свободный наполовину стол, подвел к нему Серого и Бориса.
– Сидите, – указал он на свободные стулья, оглядываясь озабоченно и деловито и здороваясь почти с каждым, кто был здесь.
Серый и Борис смущенно присели на стулья. Борис поставил банку на стол, но тут же убрал ее на колени. Напротив них сидел пожилой сухощавый мужик в гимнастерке и кепке. Перед ним стояла пустая четвертинка, стакан и пара кружек пива. Он устало и одиноко пьянел, отхлебывая пиво, всякий раз насыпая на край кружки щепоть крупной серой соли. Он не видел ребят.
– А вот и супчик! – улыбался, стоя перед ними, кучерявый.
В руках он держал круглый стальной поднос, а на нем две большие, наполненные до краев тарелки и крупно нарезанные полбуханки серого ноздреватого хлеба. Он поставил на стол тарелки, хлеб, протянул ребятам ложки и подмигнул.
– Давайте-ка… кушайте… Супчик первый сорт, горохово-музыкальный.
Серый и Борис смутились еще больше и, обернувшись, смотрели в спину кучерявого, который пошел к прилавку, где стояла небольшая очередь за пивом.
Продавщица – крупная, краснолицая, с татуированной рукой, в грязном переднике и белоснежной наколке в волосах – торговала быстро и весело.
– Пару кружечек, Рай, – сказад кучерявый и спросил: – А конфеток нет никаких?
– Сладенького захотелось? После горьконькой? – пошутила продавщица и засмеялась.
– Да не, ребятишки вон, – указал кучерявый на Серого и Бориса.
– Не, нету… Третьего дня были подушечки, все разобрали… – Продавщица наливала пиво и посматривала на ребят.
Кучерявый вернулся к столу – с пивом.
– А вы чего не кушаете? – заругался он. – А ну-ка, кушайте! Ишь, сидят, как эти… Да поставь ты свою банку, чего ты за нее держишься?..
Кучерявый посмотрел внимательно на мужчину, который не видел ничего перед собой, а видел только то, что было сейчас в нем, что болело и жгло, вздохнул и, ничего не сказав, выпил залпом полкружки пива.
– Кушайте, кушайте… – прибавил он. Серый и Борис ели быстро, видно только сейчас, за едой, почувствовав, как они голодны.
– Вот так вот, наворачивайте, – подбадривал негромко кучерявый. – А не хватит – добавки возьмем. Рубайте, бойцы…
Борис оторвался от супа, переводя дух, улыбаясь, смущенно спросил:
– Дядь, а как вас звать?..
– Дядь Толей меня звать, – ответил кучерявый.
Борис поворачивается к Серому и тихо повторяет:
– Дядь Толя…
Кирпичники – на насыпи железной дороги. Деревянщики – у своих деревянных сараев. Их разделяют огороды. Время от времени то с одной стороны, то с другой летят камни.
– Эй вы, деревянщики, деревянные морды!.. Идите сюда, мы вам покажем! – кричали с одной стороны.
– Сами, морды кирпичные… идите сюда! – отзывались с другой стороны.
– А чего у вас делать, нам и тут хорошо…
– А… испугались… в штаны навалили… ха-ха…
– Сами в штаны навалили…
– Цепью, – негромко скомандовал Витька, но все его услышали, пошли вперед по частым межам огородов, вытянувшись в цепь.
Кирпичники кидали камни, но не точно. Деревянщики не отвечали, а молча и сосредоточенно наступали. Удар! Петька замер и, ничего не понимая, свободной рукой взял большой выцветший картуз за козырек и обнажил лоб. На лицо хлынула кровь. Он резко натянул картуз почти на глаза, спрятал кровь и закричал:
– Вперед!
– Вперед! – отозвались остальные, побежали к линии, бросая в противника камни.
– Вперед, наши! – кричали пацаны.
– Вперед! – кричал Серый.
– Вперед! – кричал, стараясь не отстать, Борис.
Кирпичники дрогнули, стали медленно отступать. Деревянщики уже взбирались на насыпь, когда вдруг оттуда, с другой стороны, выскочила засада; несколько человек с камнями. Деревянщики оказались под градом камней, а самим кидать уже было нечего. Они скатились с насыпи и увидели, что наверху остались Витька и Петька.
Камень попал Витьке в грудь. Он согнулся, сморщился от боли.
– Витьку ранили, – закричал Петька. – Вперед, наши!
И хотя ни камней, ни болтов уже не осталось, все повернули и побежали с криком «ура!» на кирпичников. И те вновь не выдержали, кинулись к своим кирпичным домам и сараям.
Они скрылись в парадном и оказались запертыми в нем. Иногда в черном проеме мелькало любопытное лицо и сразу пропадало, боясь получить в лоб камнем. Через некоторое время из дома донесся предупреждающий голос:
– Эй, не бросайте! Переговоры…
Из двери вышли двое больших кирпичников с настороженными, но не испуганными лицами.
– Вить, иди сюда, поговорить надо, – сказал один.
– Говори, мы здесь свои, – ответил Витька громко.
Свои поддержали Витьку нарочитым смехом.
Кирпичники переглянулись, пошептались, и опять тот же сказал:
– Надо поговорить… только без пацанов…
Витька бросил на землю камень, который держал в руке, и направился к ним.
– Не ходи, – шепнул кто-то из пацанов.
За Витькой пошел Вадим. Пацаны недоверчиво смотрели на переговорщиков.
Витька с Вадимом вернулись.
– Пошли, – махнул Витька рукой и, ничего больше не говоря, направился к своему деревянному сараю. За ним – все остальные деревянщики.
За углом сарая сидит на корточках Петька. Кровь течет из-под картуза на лицо. Он прижимает ладони ко лбу, не пуская кровь на глаза, часто и удивленно моргает.
Солнце – высоко, а ветра нет. От рельсов и шпал поднимается прозрачное слоистое тепло. По обеим сторонам линии – поля, впереди дорога пересекает линию. Там – шлагбаум и белая железнодорожная будка.
Серый и Борис ускорили шаг. Тихо открыли дверь будки. У окна за столом, на котором лежали железнодорожный фонарь и желтые свернутые флажки, сидела, подперев рукой щеку, немолодая женщина.
– Теть, попить дайте, – попросил Серый.
– Попейте, попейте, – сказала она и тихо улыбнулась.
Они уже знали, что ведро стоит здесь же, в темном углу на лавке, накрытое мокрой и холодной, потемневшей от воды фанеркой, а на ней вверх дном – старая эмалированная кружка, с отбитой на дне эмалью. Они выпили по полной кружке медленно, с передышками, и все это время, пока они не ушли, сказав: «Спасибо, теть», а она – «На здоровье», женщина смотрела на них.
И они уходят по шпалам, растворяясь в горячем воздухе, и она смотрит им вслед спокойным и усталым взглядом.
Борис сидит в углу комнаты на корточках и насыпает ячмень из наполненного на четверть мешка в старую жестяную банку. Занятие это интересное: когда он берет зерно в ладонь, оно колется – легонько, по-доброму, как живое, а когда сыплется струйкой, в банку – шуршит и постукивает, тоже как живое. Дверь отворилась, вошла мать.
– Мам, я кур собираюсь кормить, – сказал Борис. И стал насыпать зерно бодрее, хотя можно было сделать совсем просто – зачерпнуть его банкой.
Мать словно не услышала и, не снимая спецовки, легла на кровать. Борис поднялся, внимательно посмотрел на мать. Она лежала, закусив губу, держа ладони на саднящем желудке. Глаза ее были закрыты.
– Мам, – позвал Борис. – Мам… – В голосе его были тревога и страх.
Она открыла глаза и, пересиливая боль, улыбнулась.
– Мама, живот болит, да? Снова болит? – спрашивал Борис, стоя рядом.
Мать вновь закрыла глаза, попыталась вздохнуть глубже, но не получилось.
Борис положил свою ладонь под ладонь матери.
– Сейчас пройдет… Сейчас пройдет, мам… – Борис повернул голову к окну, видя в нем край падающего, наливающегося малиновым цветом солнца, и что-то быстро и неслышно зашептал.
– Анька, ты чего лежишь? – прокричала в оставшуюся открытой дверь соседка тетка Ира, веселая и красивая. – Желудок снова? Ой, господи… – Она подошла к кровати, взъерошила волосы на голове Бориса. – Знаю я средство от язвы… Отец мой перед войной вылечился. Двадцать пять стаканов свежей земляники полевой надо съесть. В день по стакану. Сразу отживел. А то помирал совсем… – Тетка Ира присела на край кровати.
У матери задрожал подбородок, сильно задрожал.
– Ну, чего ты, Ань? – горестно спросила тетка Ира и обратилась к Борису: – А ты иди, Борь… Иди, кур корми. А я посижу с мамкой.
Борис закрыл за собой дверь комнаты, и у матери сразу прорвались слезы.
– Ой, Ир, не могу больше! Не могу терпеть! – причитала она, всхлипывая, захлебываясь слезами. – Всем премии дал по пятьдесят рублей, а мне не дал, говорит, за недисциплинированность… А сам зубы скалит. А потом отозвал и спрашивает: «Долго ломаться еще будешь или хочешь, чтоб вообще с шахты выгнали?..» Ой, не могу, что мне делать? А если тронет – убью. Обухом или каменюгой стукну по голове, и всё. Пусть что хочут делают тогда, хоть посадют – убью. А Борька как же, ой, боже ж ты мой!..
Падая, солнце наполняется малиновым цветом до предела, и кажется, что сейчас, когда оно коснется острой верхушки террикона, – прорвется и из него потечет густой и сладкий сок.
Серый и Борис сидели на лавке и, не сговариваясь, держась за край, стали медленно запрокидываться, и вместе с ними начала опрокидываться земля, и все поменялось местами: солнце было внизу, и к нему стремился террикон, а по шершавой, без травы, земле ходили замедленно, по-вечернему, женщины и сзывали кур, и куры бежали к ним со всех ног – вверх ногами по земле, как по небу, а внизу, как земля, стояло еще светлое, предвечернее небо.
Борис смотрел неотрывно на солнце и что-то вдруг прошептал, быстро и почти неслышно.
Серый покосился на него.
– Ты чего бормочешь? Как колдун…
– Ничего… – ответил Борис и нахмурился.
– Сегодня в десять большие будут драться там, за кустами, я подслушал, – сказал тихо Серый и сел нормально.
– Сергей! – позвала из окна мать Серого. – Иди кур покорми.
Серый нехотя поднялся со скамейки и пошел в дом. Оттуда он вышел с жестянкой, полной ячменя.
В разных концах двора, у сараев, женщины кормили своих кур с выкрашенными хвостами, или головами, или крыльями, чтобы не спутать, где чья, и из-за этого не поссориться. Женщины подзывали своих кур звонко и спокойно: тип-тип-тип или цып-цып-цып. К их голосам присоединился голос Серого. Он начал тихо, а потом громче и дошел до крика: «Типа-типа-типа!» Чужие куры ошалело закрутили головами.
– Ну что разорался! – прикрикнула на него большая, широкая в кости женщина – мать Вилипутика и Рыбы.
Серый замолчал. Куры успокоились и продолжали деловито клевать зерно. Но вдруг вскинулись и с шумом разлетелись в разные стороны. По двору сломя голову летела кошка. За ней из-за угла выскочил Вилипутик с сосредоточенным лицом и на не меньшей скорости понесся за кошкой. Следом, немного отстав, бежали другие пацаны, а рядом, суматошно лая, все те же две лохматые собаки. Как раз им-то, может, и не так нужна была эта кошка, просто они везде с пацанами.
Мать Вилипутика попыталась поймать сына, но он увернулся и скрылся за углом, куда побежала кошка.
– И скажи, чего они кошек так не любят? Говоришь им, хорошие кошечки, мышей они ловят, полезные, а все равно! – обратилась мать Рыбы и Вилипутика к стоящей рядом матери Мишки.
– А мой что, лучше, что ли? – отозвалась та. – Скорей бы в школу, что ли, шли…
– Да они и школу подожгут или взорвут… Бандиты! Не, мы такие не были… И тихие были все, и послушные. А день, бывало, что тебе целая жизнь… Утром встанешь пораньше, а вечером ложишься, будто целый год прошел… И всё – лето…
Мать Мишки слушала ее с интересом, вспомнив, видимо, и свое детство.
– Так то, Кать, до войны было… – объяснила она тихо.
Куры уже в третий раз забеспокоились – во двор въехали мотоциклы. За Зверем сидела, откинув голову, Томка. Зверь остановился. Томка медленно слезла с сиденья. Мотоциклы взревели и уехали.
Томка стоит посреди двора, широко расставив ноги, никого не видя. Пьяная. Она делает несколько неверных шагов в одну сторону, потом – в другую и идет, качаясь, к лавке. Садится. Долго смотрит, не двигаясь, на ноги, запрокидывает голову и кричит… страшно, как кричат только люди.
Линия эта старая, паровозы ходят по ней очень редко. Рельсы покрыты ржавчиной. Между пыльных шпал выбивается полынь. Внизу, параллельно линии, стоят деревянные телеграфные столбы. Вдалеке террикон и небольшой поселок, похожий на тот, в котором живут Серый и Борис. У столба, обняв его и прислонившись к шершавому дереву лицом, стоит одноногий мужчина. Он в белой рубашке с короткими рукавами и отложным воротником, в отглаженных широких брюках с манжетами. Одна штанина аккуратно заткнута за ремень.
Мужчина поднял голову, увидел Серого и Бориса, махнул им рукой и хрипло крикнул:
– Эй, ребятки… идите сюда… Идите…
Серый и Борис переглянулись и спустились осторожно вниз. Вблизи они увидели, что мужчина совсем пьяный. На его большое, с тяжелыми веками лицо упали длинные гладкие волосы, которые должны быть зачесаны назад. Мужчина с трудом оторвал от столба руку и протянул ее для рукопожатия.
– Здравствуйте, ребятки, – сказал он хрипло, но с улыбкой и заискивающей ноткой в голосе.
– Здравствуйте, – сказал Борис и, поколебавшись чуть, протянул ладонь.
– Здорово, – сказал Серый спокойно. Пьяного и одноногого можно было не бояться.
– Садитесь, ребятки, – предложил одноногий и показал рукой на сухую, твердую землю.
Серый и Борис продолжали стоять, и тогда мужчина решил сесть первым. Он отпустил столб, но не удержался, дернулся на одной ноге и, опрокинувшись на спину, тяжело упал, как все большие взрослые люди.
Серый и Борис быстро присели на корточки и, глядя в его неподвижное, с закрытыми глазами лицо, испуганно спрашивали, перебивая друг друга:
– Дядь, ты чего?.. Чего ты?.. Чего ты, дядь?..
Глаза мужчины медленно открылись. Они оказались светлыми и спокойными. В черных зрачках отражалось небо с кусками облаков и два мальчишеских лица.
– Ничего, – сказал мужчина неожиданно спокойно и трезво, а дальше вдруг опять пьяно: – Ничего со мной… Что теперь со мной может быть? Подмогните мне подняться, а, ребятки!
Серый и Борис взяли мужчину под руки и с трудом, напрягаясь, помогли сесть. Теперь мужчина сидел, вытянув единственную ногу, и вновь протянул руку для знакомства.
– Николаем меня зовут. Дядь Коля, значит…
– А меня – Борька.
– А тебя?
– Серый.
– А откуда вы? Что-то я тут вас не видал ни разу… – сказал одноногий, вглядываясь в лица Серого и Бориса.
– Мы с «пятой-бис»… – ответил Серый.
– Так «пятая-бис» там, – удивился одноногий, – а здесь двенадцатая… Вы небось заблудились?
– Не, мы в ёлки идем… – объяснил Серый.
– В ёлки? Это ж далеко…
– У нас дело, – объяснил Серый.
– Дело – это хорошо, – кивнул одноногий понимающе. – А у меня… Серый, радость большая, – продолжал он и вдруг тихо засмеялся и замотал головой, – сказал тоже… радость большая… радость большая… хрен старый… радость большая… Сын у меня родился, понимаете?
– Понимаем, – кивнул Серый, – бабы беременные становятся, а потом детей родют.
– Правильно, – обрадованно воскликнул одноногий, но спохватился: – Э-э! Этого вам знать нельзя еще. Детей на базаре покупают… А у меня сын родился… Танька, жена моя, родила… – Он счастливо и пьяно засмеялся, уронив голову на грудь. – Танюшка моя… сын… Андреем назову… Андрюха! Маленький он еще, – он показал руками, какой маленький у него сын, сведя расстояние между большими квадратными ладонями до нескольких сантиметров. – Ма-а-ленький. Но это ничего! Это он еще подрастет! И знаешь, кем он у меня будет? Не знаешь? Думаешь небось, шахтером? – Одноногий сжал ладонь в здоровенный жесткий кукиш. – Во! Во, скажу, видел?! Я в шахте наишачился и за себя, и за тебя. Не-ет, он у меня шахтером не будет, – продолжал он уже радостно. – Знаете, кем он у меня будет? Э-э! Не знаете. Он у меня будет… шофером! Вот это дело! Я сам всю жизнь мечтал. Только не вышло ничего… А Андрюха мой сделает! Вот вы небось думаете, что ногу мне на войне отчикали? – Он шлепнул ладонью по земле, по тому месту, где должна быть его вторая нога. – Нету… Все так думают. А я с войны целый пришел. Ранили, правда… в легкое… и контузия тоже… Но ноги-то целы были! – Одноногий опять хлопнул ладонью по земле. – Это мне в шахте… В прошлом году… Привалило меня…
Мужчина замолчал, сосредоточенно о чем-то думая, тяжело дыша. Серый и Борис сидели рядом, внимательно глядя в лицо одноногому.
– Я ведь, – начал мужчина тихо, – повеситься уже хотел… И веревку взял, и сук себе в саду присмотрел. А Танька приходит и говорит: беременная я… Беременная, – повторил он совсем тихо. – Мы ведь до войны с Танькой восемь лет прожили. И после войны… Всё, думаю, Николай, кончилась твоя ниточка. А теперь ноги нет, а сын есть!.. Видно, надо было ногу отдать, – шепотом, как великую тайну, объявил одноногий. – Вот какое дело… Да если бы я знал, – почти закричал мужчина, – я б ее сам себе отгрыз! – и ударил изо всей силы кулаком по земле. – А Танька, – засмеялся он, – говорила, что это от шахты… Вот баба, скажет тоже, все ведь в шахте работают, а дети все равно родятся. – Одноногий рассказал все, что, видно, нужно было ему сейчас рассказать. Помолчал. Прибавил тихо: – Вот так… – и заплакал.
Он не зарыдал и не закрыл лицо руками. Он, дергаясь всем телом, плакал. По большому мясистому лицу его из светлых глаз текли слезы. Серый и Борис встали, растерявшись, они видели много, но не видели еще плачущих мужиков.
– Дядь, не надо, дядь, – просили они. Одноногий, дергая носом, поднял на ребят виноватые глаза.
– Извините, ребятки… первый раз… – сказал он, удивляясь самому себе, – ведь правда, первый раз… На войне мужики ревели, а я никак. И ранили когда, и ногу… а тут… простите, ребята, вот беда… – он шмыгнул носом, – я больше не буду… Подмогните мне, а? А то я не дойду, плохо еще на костылях хожу… Да и выпил… – закончил он совсем виновато и опустил глаза.
Борис сунул банку за пазуху, подобрал костыли. Они подсунули головы под мышки одноногому и тяжело, с натугой, подняли его. Пошли…
И уходят так медленно, осторожно, трудно – двое маленьких по бокам, с волочащимися костылями, а посередине большой, одноногий.
Ночь только пришла, звезды еще неяркие, луны нет, поэтому темнота густая и холодная. Пространство между самодельными сарайчиками и сложенными – на дрова – бревнами освещено одинокой желтой лампочкой, висящей высоко на столбе. На это пространство из темноты с двух сторон выходят большие кирпичники. С другой – большие деревянщики.
Из-за штабеля дров в щель между бревнами смотрят, затаившись, Серый и Борис.
Кирпичники и деревянщики молча смотрели друг на друга. Наконец от кирпичников отделился самый здоровый, его еще ни разу не было с кирпичниками, и вышел на середину. Он по пояс голый – чтобы было лучше видно крепкое мускулистое тело, руки. Чтобы выглядеть еще сильнее, он напружинил мышцы, сжав кулаки. Но если всмотреться в глаза, можно было понять, что и ему страшновато.
– Ну, кто со мной выйдет один на один? Ну? – спрашивал он громко. – Испугались?! Полные штаны?! Трусы деревянные! Выходи! Враз челюсть сворочу! У кого глаз лишний – тоже выходи!
Деревянщики молчали, не ожидали они увидеть такого противника.
– Кто это, кто знает? – спросил тихо Мишка.
– Я знаю, – ответил Вадим. – Это Кузнец, он к одному пацану из деревни приехал. Он с Бараном у них дрался, с одного удара вырубил.
Витька отстранил Мишку и Вадима и вышел из темноты в круг света.
– Этот, что ль?! – закричал Кузнец, вгоняя себя в кураж близкой и неминуемой драки. – Стропило это? Карболка эта? Тьфу!
Витька и правда выглядел перед Кузнецом щуплым, хилым даже.
Противники остановились метрах в двух друг от друга, сжав вытянутые руки в кулаки. Они сделали так два или три круга, пока наконец не решился Витькин противник. Он вздохнул и кинулся вперед, рассекая кулаком воздух, но Витька успел отскочить в сторону. Кузнец с ходу ударил во второй раз и вновь промахнулся. Но в третий раз кулак достал Витькино лицо. Голова его дернулась, он взмахнул руками и упал бы, если бы не наткнулся спиной на сложенные бревна. Противник налетел, чтобы добить, но Витька встретил его ударом ноги в живот. Кузнец согнулся, задыхаясь и хрипя. Витька стоял рядом, дожидаясь, когда противник сможет продолжить бой. Кузнец хрипел, согнувшись, и пятился к своим. Неожиданно он схватил поданный кем-то сзади солдатский ремень и, размахнувшись, ударил бляхой Витьку. Он целил в голову, но попал в плечо. Витька отскочил назад, схватил протянутый ему своими такой же ремень и одним движением захлестнул петлей на правой руке. Теперь они ходили кругами, помахивая ремнями, и вновь Витькин противник, не выдержав, кинулся вперед, широко размахнувшись. Витька успел схватить левой рукой ремень противника, а правой – стал бить его бляхой по голове, по плечам. Кузнец закричал, привязанный своим ремнем к тому, кто его бил. И тогда остальные кирпичники выскочили из-за его спины, гремя цепями, размахивая ремнями. Вооруженные так же, выскочили деревянщики.
Стучали колья, гремели цепи, кто-то приглушенно кричал, подзадоривая себя, кто-то кричал от боли. Никто не услышал треска мотоциклов. Они въехали неожиданно.
– Атас! – все кинулись врассыпную.
Посредине, в ярком луче фары остался стоять Витька. На первом мотоцикле сидел Зверь. На втором – Кот и Дохлый.
– Выключи фару, – сказал Витька тихо и шмыгнул разбитым в кровь носом.
Зверь выключил фару. Зажег… Выключил… Зажег… Витька то появлялся из темноты, то пропадал. Выключил… Зажег…
– Выключи, гад! – закричал Витька и, когда свет зажегся снова, со всего маху ударил бляхой ремня по фаре.
Стало сразу темно и тихо, но тут же другую фару зажег Кот. Из-за его спины выскочил Дохлый и кинулся было к Витьке, но его остановил Зверь.
– Стой, – приказал он и повторил тихо: – Стой…
Дохлый остановился. Все ждали, что скажет Зверь.
– Ты смелый, – начал Зверь так же тихо, – смелый… Никого не боишься… Может, думаешь, за тебя Скрипкин заступится или Томка твоя. Да я всех вас поубиваю! А тебя первого! – закричал он. – Если ты… на колени сейчас не встанешь и башмак мне не поцелуешь. Ну… – Зверь вытянул ногу в большом черном ботинке и начал расстегивать кожанку.
Сначала на свет появилось дуло с большой мушкой, а потом и весь немецкий автомат – шмайсер.
Серый и Борис загипнотизированно смотрели из-за дров на оружие.
Зверь вытащил обойму и, наставив дуло на Витьку, начал вставлять обойму в гнездо.
Неожиданно быстро Витька выхватил из-под рубахи свой поджигной пистолет, спичечный коробок, направил пистолет в ничего еще не понимающего Зверя и чиркнул коробком по приготовленной «подкормке». Сера, зашипев, вспыхнула – стало ярче, чем днем. Все увидели перекошенное белое лицо Зверя и его руки, лихорадочно вставляющие в автомат обойму. Оглушительный выстрел ослепил всех на мгновение, но еще через мгновение все увидели… Зверь по-прежнему сидел на мотоцикле, а Витька стоял, согнувшись в поясе, прижав к животу черную кровоточащую руку, его обожженное, без бровей и ресниц лицо сморщилось от боли и ненависти к себе. Он смотрел невидящими глазами на Зверя и шептал:
– Разорвало… разорвало…
Щелчок – Зверь вставил обойму и щелкнул затвором. Витька, не отрывая руки от живота, распрямился, подставляя грудь выстрелу. Зверь прищурился, прицеливаясь. Все вздрогнули от внезапного крика Серого.
– Не стреляй! – кричит он и, выйдя из-за дров, встает перед Витькой, заслоняя его. И смотрит на Зверя, прижав руки к туловищу, вытянув тонкую шею. По ней прокатывается мальчишеский кадык. Дуло автомата медленно опускается. Ударом ноги Зверь заводит мотоцикл, разворачивается и уезжает. За ним, сорвавшись с места, исчезает и другой мотоцикл.
Большие и пацаны стоят у подъезда дома. Все невеселы. Из открытого окна доносятся басовитые вопли Рыбы и шлепки ремня по голому телу.
– А ты стой! Куда? Вернись! – кричала мать Рыбы и Вилипутика. – Ну, ты еще вернешься, жрать запросишь! Я тебя накормлю, я тебя накормлю, паразит такой!
По лестнице с грохотом скатился и выскочил на улицу Вилипутик, на ходу подтягивая штаны. Лицо его было по-прежнему невозмутимо.
– Брата лупцуют, – объяснил он, хотя его никто и не спрашивал.
– Господи, свалились на мою голову! Полосатики и есть полосатики! Кормишь, поишь их, одеваешь, а они мать родную скоро зарежут, – прорывались причитания матери сквозь сочные удары ремня.
Следом под крики матери скатился Рыба, подтягивая штаны и морщась, слегка приплясывая от боли. Под глазом у него был здоровенный синяк, а верхняя разбитая губа до смешного толста. Ему надо было на ком-то сорвать злость, и он налетел на Мишку.
– Чего же ты?! Чего же ты не прикрывал? Ты не видел, как он сзади подбежал, ты ж с ним, с Рыжим дрался!
– Я? Я и с Рыжим дрался, и с Тарасом. Это только ты бегал и кричал!
– Я?
– Это вы получили, потому что нам ничего не сказали, – прервал их Вилипутик и продолжил назидательно: – Нельзя маленьких обманывать… – закончить он не успел, так как получил звонкую оплеуху от брата.
– Чего ты дерешься, он правду сказал, – вступился за Вилипутика Петька.
– И ты захотел?! – заорал Рыба, подбегая к нему.
– Захотел! – закричал Петька в ответ, показывая, что он ничего не боится.
– Кончайте вы, – остановил их тихо Витька.
Он появился совсем неожиданно. Рука его была замотана тряпкой, лицо обожжено, в ссадинах.
Все замолчали.
Взгляд Витьки встретился со взглядом Серого.
– Зачем ты вышел?.. – тихо спросил Витька.
Серый опустил глаза.
– Зачем ты вышел? Зачем ты вышел? – повторял Витька, идя на Серого, и вдруг схватил его за воротник рубахи замотанной в тряпку рукой и, повторяя срывающимся голосом: «Зачем ты вышел? Зачем ты вышел?!» – затряс его.
Голова Серого запрокидывалась назад и падала вперед, как на тряпичной жалкой кукле. Витька оттолкнул его и кинулся в подъезд.
Вновь наступила тишина.
К дому быстрым, даже торопливым шагом подошел солдат, высокий, красивый, в ладно сидящей гимнастерке, с двумя орденами Красной Звезды на груди. На плече – вещмешок. Заметив детей, солдат пошел медленнее и остановился в нескольких шагах, стал растерянно всматриваться в лица. Похоже, солдат искал кого-то среди них, но не мог найти. Его глаза беспомощно скользили по лицам.
– Юра? – спросил он тихо.
Юрик опустил глаза и спрятался за спину Рыбы.
Первым все понял Вилипутик:
– Вы – дядь Ваня Платонов, Юриков отец?
Солдат кивнул странно, по-птичьи, по шее катнулся кадык.
– Не пугайтесь, живой он. Вот он стоит. – Вилипутик указал пальцем на Юрика, который стоял за спиной Рыбы.
Солдат удивленно смотрел на Рыбу.
– Да не я это, – с досадой сказал Рыба и отошел в сторону. – Вот он, ваш Юрик.
– Юра, – говорит солдат с каким-то горловым клекотом, становится перед Юриком на колени, зажимает его лицо ладонями и часто повторяет: – Сынок… сынок… сынок… – Он подхватывает Юрика на руки, прижимает к себе и говорит радостно: – Ну вот я и увидел тебя… И ты меня увидел… Теперь будем жить вместе!
– А мать на работе, – отвечает, не глядя на отца, Юрик.
На шахтах в начале всякой дороги и в конце – терриконы, горы шахтерского пота. Серый и Борис быстро взбираются на крутую гору. Порода под ногами местами размыта дождями до глубоких поперечных трещин. И чем выше, тем тяжелее идти и дышать кислым воздухом перегорающей внутри себя породы, но они идут быстрее и быстрее, а потом начинают бежать, чтобы скорее достичь вершины. Под рубахой Бориса скачет вверх-вниз банка.
На вершине они замирают, глотая воздух, подставляя себя вольно гуляющему здесь ветру.
– Во-он наша шахта, во-он «пятая-бис», – Серый показывал на почти невидный в дымке террикон – так далеко ушли они от дома.
Борис поднял голову и, щурясь, посмотрел на слепящее, набравшее свою полную силу солнце. Он смотрел неотрывно и уже не щурился, видя его золотой диск, и лицо Бориса вдруг исказилось обидой и ненавистью.
– Сожги!!! – закричал он вдруг вверх. – Сожги десятника!! Сожги мамкиного десятника!
…Они сидят тихо на терриконе и смотрят вниз. Они видят всю землю. Они видят поле с созревшим, наполовину скошенным хлебом, видят пестрые лоскуты картофельных огородов, видят маленькие сады, видят шахты с такими же терриконами, видят фабрики и заводики, видят дороги… И везде люди. Сверху их можно сравнить с муравьями. Их можно сравнить с муравьями и потому, что все они – работают. На полях они убирают хлеб, на огородах копают картошку, в садах собирают яблоки. Крутятся шахтные колеса, опрокидываются вагонетки с породой на вершинах терриконов, а из ворот шахт выходят паровозы, груженные углем, дымят фабричные трубы, на заводах рабочие таскают какие-то тюки, а на стройках носилки с раствором и кирпичи – люди строят дома, чтобы в них жить, и живут в них, чтобы работать. По узким дорогам бегут редкие машины, а где-то далеко, кажется, пропылили два мотоцикла… По дороге мимо деревянных домов идут люди, много людей. Над головами плывет гроб. Впереди – венки, на большой красной подушке три или четыре медальки.
…Серый и Борис видят всех и видят себя среди всех. Из деревянных домов выходят люди, больше женщины да пацаны. Они стоят и смотрят на похороны. Наверное, жарко – одеты и женщины, и пацаны легко. Но сзади, за гробом, идут люди в темно-синих, длинных, ниже колен, толстых шинелях, застегнутых на все пуговицы. Никто из милиционеров не плачет. В их опущенных в землю глазах – скорбь.
Трубы оркестрантов помяты. Они играют, дуют в трубы, надувая щеки, барабанщик бьет в большой барабан на животе, но будто кто выключил звук. Тихо.
У дома две женщины со скорбными лицами тихо разговаривают.
– Он, говорят, наган с собой никогда не брал, говорил, на войне настрелялся. Он кирпичи в портфеле носил. Так его, говорят, теми кирпичами и убили. Изуродовали так, что гроб не разрешили открыть.
– Господи, войну прожили, а такого зверства не видели. Чего еще людям надо?..
– Ждали-ждали мира…
Процессия останавливается. Прямо посредине дороги ставят две табуретки, на них опускают гроб.
Все стоят полукругом. Милиционеры не плачут. Они смотрят на гроб. А один, молодой, поднял глаза к небу, будто хочет там увидеть Скрипкина.
По лаве идут, тяжело ступая, несколько шахтеров. Они подходят к клети, помогают втащить в нее какие-то трубы и сами устраиваются в клети. Она с воем ползет вверх. Наверху сначала вытаскивают трубы, а потом выходят чумазые до черноты шахтеры с не загашенными еще лампами «вольф». Ночная смена.
– Здравствуй, Федь, – сказала мать Бориса одному из них, большому, сутулому.
– А, здоров, Ань, – сказал он, вскинувшись от лежащей на плечах усталости, взглянул на нее и, сутулясь, ушел.
– Чего задержались, ночники? – крикнул им кто-то в спину.
– А у них там девки в закутке спрятанные, – хохотнул другой.
– И гармоня! – добавил первый.
Шахтеры засмеялись.
Федька вместе с остальными шахтерами, работавшими в ночную смену, пошел через шахтный двор к конторе, где они будут сдавать лампы и противогазы, пить газировку, мыться в бане.
Крутится, крутится шахтное колесо…
…Федька вышел из ворот шахты вместе со всеми, но как-то сразу отделился от других и пошел стороной. Он в старом кургузом пиджачке – из рукавов торчат длинные руки и большие ладони, – в выцветшей кепке с пуговкой; он в коротких брюках, на ногах стоптанные ботинки. Идет – сутулится.
Он идет по тропинке через поле, по которой шли недавно шахтеры, работающие в первую смену. Только они шли к шахте, а он – от шахты. На двери здешней столовой – большой замок, и рядом с ней пусто, уныло. Федька только мельком, по привычке взглянул на нее и, опустив голову, пошел дальше.
Он открыл дверь своей квартиры, снял ботинки, повесил кепку на гвоздик, вбитый в стене. Жена стояла в маленькой кухне у большой плиты, варила суп.
– Чего так поздно? Картошка уже остыла, – сказала она, не глядя на него.
Он положил мокрый сверток на одну из табуреток, сел за самодельный некрашеный стол. На столе стояла черная сковорода, накрытая железной миской, рядом – большой кусок хлеба. Он поддел край миски ножом, снял ее. От упревшей жареной картошки поднялся пар. Он взял ложку и стал есть.
– Чего так поздно-то? – повторила жена свой вопрос.
– Работали, – спокойно, прожевав сперва, ответил он.
– Работали, работали, – проворчала жена. – Нет чтобы по-хорошему поговорить, как люди.
Он продолжал есть.
– У нас вчера еще одна курица сдохла, – пожаловалась жена. – Прихожу вечером кормить, а она – лежит, околела уже. А у Нинки Козловой две сдохло. Говорят, чума это куриная… А если травят?.. А чего?!
Он продолжал есть.
– Нинка говорит – это точно отравили… Этак ведь к зиме ни одной не останется… Может, рубить их начать, а, Федь?..
Он продолжал есть.
– Чего молчишь-то?.. Вот, господи, молчун. Еще мать-покойница говорила: хуже нет, когда молчун, лучше, говорит, пусть пьет…
А он продолжал есть и молчать.
– Надо бы дрова сегодня начать пилить. Козловы вон уже все попилили, а мы еще не начинали. Осень скоро… Кухню топить уже нечем. Угля тоже мало привезли на зиму… Боюсь, не хватит. Может, еще машину привезешь? А?.. Вот молчун-то, господи, достался…
Перед ним стояла пустая сковорода. Он встал, подошел к стоящему на самодельной некрашеной лавочке ведру, поднял крышку, зачерпнул полную кружку воды и, медленно выпив, вышел из кухни.
– Ты, если ложиться будешь, раздевайся, а то бухнешься так на койку… – не останавливаясь, говорила ему вслед жена.
Он вошел в комнату. Здесь стояли стол, две кровати. На одной из них валетом спали Вилипутик и Рыба. Он подошел к кровати, снял рубашку, брюки и в одних трусах и майке лег поверх лоскутного одеяла на спину. Лежал, глядя неподвижно в потолок с облупившейся побелкой. Вздохнул, закрыл глаза и заснул.
Рыба только проснулся, в трусах, босиком, прошел на кухню, взял кружку, попил из ведра воды, но, когда ставил кружку обратно, она выскользнула из рук и упала, громыхнув по ведру.
– Чёрт, гремишь! Отец спит! – заругалась на него мать и замахнулась ложкой, но не ударила. – Иди Генку буди, спит как хомяк.
Рыба пошел в комнату, потряс брата за плечо.
– Чего трясешь-то, не груша, – запротестовал Вилипутик, разлепляя веки.
– Не ори! – зашептал Рыба и замахнулся, но не ударил. – Отец спит.
Отец лежит все так же на спине, голова запрокинулась, он долго и глубоко втягивает воздух открытым ртом, – внутри что-то хрипит, не дает вдохнуть, – и, так и не вдохнув полной грудью, бесшумно выдыхает и носом, и ртом. Спит.
Серый и Борис стоят перед черной сплошной стеной леса, перед тем, что в этих местах называют ёлками.
Это была густая лесополоса, прикрывающая железную дорогу, большую, настоящую двухколейку. Дорога старая, давняя, и лесополоса посажена неведомо когда, и за многие десятилетия своей жизни она разрослась до размеров небольшого леса в ширину, а в длину ей, верно, вообще нет конца. Среди подлеска и колючего кустарника часто торчали высокие черные ели, с которых, видимо, и начиналась когда-то посадка и за которые она была названа ёлками.
Сзади лежало скошенное поле, можно было вернуться. Серый покосился на Бориса.
– Не трусь, – сказал он зло и прибавил: – Пошли…
Они вошли в посадку молча, осторожно отодвигая от лица колючие ветки кустарника и не замечая от страха дремучей жгущейся крапивы.
Кроны подлеска и лапы елей сомкнулись над головами, и сразу сделалось темно. Впереди, вдалеке что-то гудело и погромыхивало. Идти там, где росли ели, было легче, потому что они не пускали в близкие соседи никакие другие деревья, а тем более кусты.
Серый и Борис прибавили шагу и незаметно для себя, не глядя друг на друга, перешли на бег. Шум и гул впереди приближался и нарастал.
Сбоку от Бориса что-то вдруг треснуло и зашумело.
– А-а-а!! – закричал Борис в ужасе и кинулся вперед, обгоняя Серого.
– Ты чего? – успел спросить Серый, но ужас охватил и его, и он, взвыв, бросился вслед за Борисом.
Они летели, не видя друг друга, а только слыша по шуму листвы, по треску кустарников, они уже не выбирали дороги и не уклонялись от колючек, которые царапали лица и руки и рвали рубахи.
А гул впереди нарастал и заполнил собою мир, но гула они не боялись, а неслись ему навстречу, как к спасению.
Солнце, свет, тепло возникли мгновенно, как только они вырвались на узкую полоску высокой нескошенной травы между посадкой и линией, и тотчас же налетел, несясь по рельсам, поезд: он был не таким, какие ползали у них от шахты к шахте, он был стремительным, длинным, огромным, но легким, с алой остроконечной звездой на тендере.
– Э-э-э-э-эй! – закричали Серый и Борис, замахав руками и запрыгав от счастья и восторга.
Они успели даже увидеть машиниста, который выглядывал из окна, – усатого и носатого, в новой железнодорожной фуражке с опущенным, чтоб не слетела от ветра, ремешком, а когда пошли вагоны, они успевали увидеть в каждом из окон разных людей в их непонятной и счастливой жизни: они смотрели в окна, курили, пили чай, разговаривали, смеялись, спали на полках, разбросав во сне руки, а в последнем вагоне, в последнем окне, открыв его и высунувшись чуть не до пояса, торчал мордатый пацан и, сжимая рукой алый флажок, держал его, развевающийся, трепещущий, на ветру. Пацан, конечно, увидел Серого и Бориса, но сразу отвернулся, сделал вид, что не замечает, а смотрел только, задрав высоко голову, на свой бьющийся на ветру флажок.
Поезд уходит, покачиваясь и затихая.
Мать Бориса сидит за столом и строчит на швейной машинке. Когда машинка замолкает, в комнату через открытую форточку врывается звук гармони. Борис сидит у окна и с тоской смотрит на улицу.
Днем женщины и дети убирали двор – подметали землю, белили корявые стволы тополей, и теперь, вечером, – двор чистый и даже нарядный. Через весь двор песком написано большими неуклюжими буквами: «ДЕНЬ ШАХТЕРА!!!». Самый главный праздник.
Под тополем составлено несколько столов, на которых выпивка и закуска. Все уже хорошо выпили и хорошо закусили, а сейчас вышли из-за стола и плясали с частушками.
Гармонист, длинный и смешной, положил голову на меха, будто спал, и, счастливо улыбаясь во сне, играл. Рядом с ним сидел, терпеливо улыбаясь, его сын, лет десяти, похожий на отца как две капли. Между пляшущими носились, балуясь, пацаны.
Борис смотрел в окно и сделал еще одну попытку.
– Мам, ну можно я пойду погуляю?
Мать промолчала, украдкой глянув в окно.
Какая-то смеющаяся женщина тянула в круг Федьку, а он неуклюже упирался.
– Ну мам?
– Сиди, – отрезала мать.
Дверь без стука распахнулась, вбежала красивая и веселая тетка Ира.
– Ань! – крикнула она весело, призывно махнула рукой и притопнула ногой, продолжая пляску. – Ну-ка, пошли!
– Нет, Ир, не хочется, что-то желудок у меня болит…
– Ладно-ладно, завирай, желудок у нее болит! Когда болел – не сидела так небось! Небось машинку у Нинки нарочно взяла, чтобы не слышно было, как гармонь играет! – и засмеялась.
Мать растерялась, заморгала. Тетя Ира подбежала и потащила мать за руку из-за стола. Сзади кинулся помогать Борис, подталкивая мать в спину.
– Мам, ну пойдем, ну мам…
– Ой, брось, Ир, не пойду я, – отказывалась мать и прибавила: – Да и не одета я…
– Ну так одевайся, какого чёрта стоишь! – приказала тетка Ира и снова притопнула ногой.
…Борис уже носился вместе с остальными пацанами по двору, когда вышла одетая в красивое шелковое платье мать. Сзади ее шутливо подталкивала тетя Ира. Мать присела на край лавки. Пляшущие женщины, смеясь, что-то кричали ей.
Музыка прекратилась. Все остановились, ожидая, что же будет дальше. Сын гармониста не вытерпел, потрогал отца за плечо и попросил гармонь. Приладил ее на коленях и заиграл – закрыв глаза, положив голову на меха, как отец. И все закружились в вальсе.
Из подъезда медленно, явно волнуясь, выходят трое. Впереди Серый, а за ним его мать под руку с высоким сутуловатым мужчиной. Танцующие останавливаются. Серый подводит их ко всем, что-то говорит и оставляет. И мать Серого и тот мужчина начинают танцевать вместе со всеми.
Серый и Борис ползают на четвереньках по полю, ищут в траве что-то.
И страшные ёлки, и линия остались позади, а здесь было поле, бескрайнее, чуть холмистое и овражистое местами и потому, наверное, незасеянное, незасеваемое.
В траве на взгорках редкими каплями крови алела земляника. Борис ползал на четвереньках, двигая перед собой банку, оглянулся из-за плеча на Серого и тайком кинул две ягодки в рот.
– Борь, иди сюда! – позвал Серый.
Борис подбежал к нему с готовностью.
Серый сидел в траве, одной ладонью прикрывая макушку от зависшего в зените солнца, в другой держа горсть ягод.
– Подставляй…
Борис подставил банку, и Серый высыпал в нее ягоды. Они только-только прикрывали дно.
– Не ешь? – строго и подозрительно глядя, спросил Серый.
– Не. – Борис отвернулся.
– Гляди, знаю тебя… Лучше рядом собирай или банку отдай…
Они ползают на четвереньках по полю и собирают землянику.
Темнеет, черный террикон возвышается над поселком. Не крутится шахтное колесо.
Некоторые ушли уже домой. Веселье несколько утихло. И в этой тишине стали особенно слышны крики из Витькиного окна. Кричал Витькин отец – дядя Сережа:
– Не ходи, не ходи, слышишь! Не ходи, тебе говорю!
Хлопнула дверь, и из подъезда выскочила Томка с небольшим белым узелком в руке. Дверь снова хлопнула, и во двор выскочил дядя Сережа – маленький плешивый мужичок, а за ним его жена Клавка. Она в голос, по-дурному, ревела.
– Иди домой, иди домой, слышишь! – кричал дядя Сережа.
Дочь смотрела на него вызывающе, издевательски выставив одну ногу вперед и подперев рукой бок.
– Я сказала – поеду, значит – поеду. Дядя Сережа замолчал. Видно было, что ему очень хотелось стукнуть дочь, но никак он не мог решиться. Сзади тянула за рукав Клавка, но дядя Сережа двинул ее локтем, и она, взвизгнув, отбежала в сторону.
Во двор въехали на мотоциклах Зверь, Кот и Дохлый. Зверь остановил мотоцикл между Томкой и дядей Сережей.
– Садись, – бросил он Томке.
Но она почему-то не двигалась.
– Не надо, парень, – обратился дядя Сережа к Зверю. – У меня против тебя зла нет. Случилось – ладно. Твое дело мужицкое, а ее бабье… Не хочешь жениться – не надо. Никто про это не говорит. Но не трогайте вы… дите ведь будет… Она ведь глупая еще, ничего не понимает. И себя изуродует и дитю жизни не даст… а родит когда – поймет… Может, и ты тогда поймешь… Дите не трогайте…
Томка попыталась сесть на мотоцикл, но дядя Сережа потянул ее за руку к себе:
– Стой, не ходи!
– Зверь! – крикнула зло Томка. – Дай ему!
Зверь несильно толкнул дядю Сережу в грудь. Но тот вдруг взмахнул руками и, смешно пятясь назад, споткнулся обо что-то и упал на спину.
– Садись, – приказал Зверь Томке.
Но она опять почему-то стояла, смотрела на лежащего отца.
Дядя Сережа лежал несколько секунд так, с открытыми глазами, потом поднялся и медленно пошел на Зверя.
– Сынок… – говорил он тихо. – Ты… меня… А я… я ж воевал за тебя… За нашу Советскую Родину, за товарища Сталина, за детей наших… А ты… меня?..
Он медленно размахнулся, чтобы ударить в ответ, но Зверь опередил его резким ударом в лицо. Дядя Сережа не упал, а с поднятым кулаком, шевеля разбитыми губами, пошел на Зверя. После второго удара дядя Сережа упал и не двигался. Клавка визжала, показывая на лежащего мужа пальцем.
Все движения у стола прекратились. Еще никто ничего не понимал. Первым к Зверю пошел гармонист. Одной рукой он держал под мышкой гармонь, а вторую протянул ладонью кверху, словно собирался у него что просить. Но навстречу ему выскочил Дохлый и ударил с ходу в лицо. Гармонист откинул длинное туловище назад, как будто удивился чему, но второй удар нанес Кот, и гармонист упал. Они стали бить его ногами. Гармонист не шевелился, молчал, только гармонь вскрикивала. Двое мужчин побежали на помощь, но и их сбили и теперь топтали ногами.
Какая-то женщина согнулась, держась за голову, и тянула страшно, как на похоронах:
– Ой-ё-ё-ёй!
– В милицию, в милицию звоните! – кричала еще какая-то женщина.
– Ивана зовите! – кричала другая.
Кто-то сильно застучал в дверь квартиры, так что было слышно даже здесь, на улице. Из подъезда выскочил Иван, босой, голый, в одних длинных трусах, смешной и страшный.
– Где они?! Где они?! – закричал он, озираясь, широко расставив ноги. За ним выскочила жена – маленькая, тоненькая, как девочка. Она прижимала к груди сорочку, прикрывая свое совсем голое тело, цеплялась за его сильную руку, висла на ней и повторяла быстро одно и то же:
– Ванечка, не ходи! Ванечка, не ходи! Ванечка, не ходи!
Все произошло очень быстро. Иван подбежал с отведенным назад кулаком и ударил стоящего ближе всех Дохлого. Тот, как кукла, отлетел на несколько метров. Кот размахнулся, хотел ударить, но упал, раскинув руки, снесенный страшным ударом Ивана. Зверь пытался завести мотоцикл. Иван схватил его одной рукой за кожанку, другой изо всей силы ударил в лицо. Зверь упал вместе с мотоциклом.
Стало тихо. На земле сидела жена Ивана, трясущимися руками прижимая сорочку к лицу, не сводя глаз со своего мужа. Во двор, погромыхивая, въехала черная милицейская машина, из нее выскочили двое милиционеров.
Один подбегает к Зверю, берет его пятерней за волосы и отрывает лицо от земли.
– Всё, Зверев, всё…
Кирпичники и деревянщики молча, без крика, сходятся на насыпи. С силой швыряют камни. Лица и тех и других как никогда решительны. Это самый главный бой, самый последний, самый страшный.
Кирпичники первыми достали поджигные пистолеты и стали стрелять. Звуков выстрелов не слышно, лишь над вытянутыми руками поднимаются сизые дымки. Деревянщики отбежали, достали свои поджигные и стали стрелять в ответ.
– Сейчас, – пообещал Петька, – сейчас, сейчас. – И кинулся назад – к сараям.
Он открыл дверь своего сарая, стукнувшись об колоду коленом, и, взвыв и рассыпав высокую, сложенную на зиму поленницу дров, достал со дна ее что-то круглое, завернутое в тряпку. Он развернул тряпку и отбросил.
В руке его была круглая граната лимонка… Он спрятал ее под выпущенной рубахой и, держа там, побежал к насыпи, сильно припадая на ушибленную ногу.
Кирпичники и деревянщики уже сходились на линии. Петька опередил своих, кинулся к кирпичникам и, выхватив гранату из-под рубахи, выдернул чеку. Оставалось только отпустить скобу и бросить гранату.
– Бибика!!! – закричал вдруг Колька. Все остановились, повернули головы в его сторону.
– Би-би-и-и!..
Он совсем рядом, полубежит, замедляя у стрелки ход.
– Чух-чух-чух-чш-ш-ш. – Бибика остановился, издавая паровозные звуки.
Убедившись, что стрелка переведена, он дал задний ход, как бы для разгона, дернулся, как состав, резко затормозив, и пошел вперед, набирая скорость.
Сзади, совсем неподалеку, идет настоящий паровоз, пуская пар, но Бибика его не замечает. Он бежит мимо замерших кирпичников и деревянщиков, убыстряя ход.
– Чух-чух-чух!!! – И оставляет их позади.
Они стоят, глядя ему в спину, и вдруг срываются с места, бегут за ним. Они быстро догоняют его и бегут с двух сторон рядом. Время от времени то один, то другой выскакивают вперед и бегут так, повернув голову, смотрят внимательно на его ноги в калошах, подвязанных веревочками, и галифе, на позвякивающие на груди медали и значки, смотрят в его усталое от непрерывной дороги лицо с маленькими, внимательно глядящими вперед счастливыми глазами.
Сзади, буквально в нескольких метрах, тащится паровоз, гудит, пускает пар, а из окна высунулся машинист и, размахивая кулаком, разевает рот – матерится. Но никто не слышит ни паровоза, ни машиниста, а слышат только частое громкое дыхание Бибики.
И бегут, бегут…
Банка почти наполнена земляникой. Серый и Борис сидят в траве, смотрят на банку и едят хлеб, взятый из дома бесконечно далеким сегодняшним утром. Хлеб подсох на жаре, царапает язык и обдирает горло, они давятся, кадыки бегают по худым шеям, но съедают хлеб быстро и слизывают с ладоней колючие мелкие крошки.
– Попить бы, – пожаловался Борис.
Серый нахмурился, повернулся, спросил:
– А ты знаешь, что такое тэка? Тэ и ка…
– Знаю, – кивнул Борис, – это значит: торпедный катер… Я в книжке про моряков читал…
Серый опрокинулся на спину на теплую землю, в живую щекочущую траву.
– Борь, – спросил он снова, – а твоей матери сколько лет, знаешь?
– Знаю, – Борис лег на спину рядом. – Тридцать два…
– Старая… Моя еще старее – ей тридцать три…
– Старая… – согласился Борис и спросил: – А ты завтра со мной пойдешь сюда?
– Пойду… Все двадцать пять дней ходить будем. Только бы земляника не сошла.
– Не сойдет. Серый помолчал.
– Закурить бы… – вздохнул громко. – До темноты бы вернуться… Куры некормленые… Мать убьет.
– Ага…
Вверху вольно, радостно и торжественно плыли на своем небесном параде облака. Где-то за облаками гудел самолетик – маленький черный крестик, как букашка, он полз по небесной тверди.
– Самолет, – сказал тихо Борис.
– Чего? – не расслышал Серый.
– Самолет, – повторил Борис громче.
– Ага…
Самолет остановился прямо над ними, застыл, и от него отделилась маленькая черная точка. Точка стала расти, приближаясь, заблестела и завыла. Свист и вой заполнили поле, темнеющие вдали елки и весь белый свет; и все зашаталось здесь, зашумело, прижалось к земле, не желая этой встречи. Но она уже настигла землю, и земля в смертельном страхе вздрогнула и вздыбилась, защищая себя. А она все рвала черную плоть, разбрасывая живые теплые куски, силясь добраться до самого земного сердца…
Тихо… Серый и Борис лежат на самом краю огромной и страшной воронки. Края ее уже заживают, округляясь на разрыве, сглаживаясь, зализанные дождями и ветром, затягиваемые милосердной, терпеливой травой, но глубина, нутро земли чернеет мертвой плотью.
Тихо… Серый лежит на спине и улыбается во сне. Рядом на боку лежит Борис, положив руку на плечо друга.
1976 г.Садовник
– А я тебе детишек рожу, Лешенька… Мальчика сперва, потом девочку… Что же ты молчишь, родненький? Заснул? Ну спи, спи…
Тоня поднялась с травы, села. Она в белой полотняной юбке и шелковой нарядной кофточке, кремовой, с мелкими бледными цветками на груди. В траве ее белые танкетки. Какая она красивая, моя Тоня, господи… (Себя бы увидеть…)
– Тяжелая у тебя рука, Тонь, убери, давит, дышать тяжело…
– Уедем только отсюда, уедем, Лешенька, нету тебе здесь покою и не будет… Ну что же ты молчишь, родненький…
– Руку убери, дышать тяжело… Тонь… Не слышит… Вроде стучит кто?.. Яблони рубят, слышишь, Тонь?..
Тоня вздохнула сладко и устало.
– А хочешь, спою тебе, Лешенька? – И запела голосом мягким, летним, счастливым:
На горе-е колхоз, Под горо-ой совхоз, А мне ми-иленький Задава-ал вопрос…– Стой-ка! Тише!
Он приподнялся, сел.
(А спина теперешняя, гнутая, и затылок старый, сивый.)
– Что ты, Лешенька? – Тоня удивилась, испугалась даже.
– Слышишь, рубят? Яблони рубят! – Он встал, прислушался. В гимнастерке и галифе, в сапогах, как вернулся с войны, а… старый… (Лицо бы увидеть…)
Он пошел быстро по саду, отстраняя от лица низкие ветки.
– Лешенька, да что ж это ты…
А он уже не слышал, бежал по саду – быстрее, быстрее, быстрее – и дышал запаленно, воздуха не хватало. Упал два раза, сильно упал, тяжело, но поднялся…
Дядя Леша открыл глаза, увидел потолок своей комнатки, вытер ладонью крупный пот со лба, пошевелился, вздохнул глубоко, с усилием, чтобы дать запаленному во сне сердцу воздуха, жизни. И закрыл глаза, успокаиваясь, отдыхая от сна…
…В комнатке, в комнатенке его тихо. У голого, без занавески, маленького окна – круглый стол, старый, но крепкий, считай, вечный, на толстых, чуть гнутых ногах; на столе в крупном беспорядке лежат пачки запасенного впрок «Севера», коробки спичек, какие-то письма, конверты, белая пергаментная и коричневая почтовая бумага, ножницы, моток шпагата, клей в баночке из-под леденцов и кисточка сверху, рядом полная папиросных окурков старая фарфоровая пепельница, на краю которой лежит настороженная овчарка с отбитым ухом.
Слева от стола – гардероб с большим, в рост, зеркалом с попорченной сыростью амальгамой, справа – неказистая самодельная этажерка. На верхней ее полке чей-то бронзовый бюстик, то ли Пушкина, то ли Горького – в шляпе; ниже стоит плотно пяток книг, основательных, в надежных темных переплетах с золотым тиснением, а под ними – кипы журналов, сейчас не разобрать – каких.
Напротив этажерки – крашеная белая дверь, на которой на вбитых гвоздях висят старые ватные брюки, телогрейка и латаная клетчатая рубаха.
Рядом с дверью – небольшой столб печки с потрескавшейся, отвалившейся частыми треугольничками штукатуркой, а у ее чугунной дверцы висят на бечевке выстиранные и уже сухие портянки; здесь же, прислоненные к печке подошвами, лежат разношенные подшитые валенки со множеством кожаных заплаток.
За печкой, у голой вытертой стены – длинная узкая кровать с эмалированными гнутыми трубами в ногах и изголовье.
Дядя Леша лежит на спине под суконным солдатским одеялом на подушке с темно-синей сатиновой наволочкой – верно, чтоб легче стирать. Он небрит: рыжеватая, местами седая щетина на его крепком худом подбородке, чуть разделенном надвое, с ямочкой посредине, как у яблока, щетина и на худой кадыкастой шее. Нос у дяди Леши острый, со злой горбиной, волосы – сильно поредевшие, но на лбу лежит закрученная, чуть рыжеватая последняя кудря.
Он худ начинающейся стариковской худобой, но крепок еще, широкоплеч и жилист. Одна рука его с тяжелой наработанной ладонью лежит под головой, другая на одеяле, которое прикрывает его чуть выше пояса. Из-под линялой красной майки выглядывает на груди татуировка, точнее, лишь край, самый верх ее – искусно выколотая, с четкими гранями пятиконечная звезда с расходящимися в виде пунктиров лучами.
Он отодвинул от лица усеянную яблоками ветку и снова увидел, как в разрывах сизого утреннего тумана движутся по саду подводы, идут люди. С телег свисали, покачиваясь, длинные концы досок. За подводами тянулись молчащие сутулые мужики в серых пиджачках, кепках, с дымящимися самокрутками в зубах. В руках их были топоры и пилы.
Какие-то двое белоголовых пацанов крутились рядом. Мешая сбрасывать с телег живую, пахнущую сосной доску-сороковку, они устроили качели. Но никто на них не ругался. Чуть в стороне другие мужики, раздевшиеся для работы по пояс, но в кепках, пилили доски, сбивали их по две-три поперечинами, а затем устанавливали на козлы – устраивали один большой, общий, бесконечно длинный стол.
Подходили женщины – в белых кофтах и черных широких юбках – и, заворачивая на ходу серые льняные скатерти, стелили их на стол. Следом шли другие женщины и помогающие им девочки-подростки; они несли широкие глиняные тарелки и небольшие цинковые ведра с пирамидами свежих, только сорванных яблок. Лица всех были сосредоточенны и радостны в ожидании близкого праздника.
– Лешка, чего прячешься! А?! Ишь ты… прячется! Думает, не видим!.. Иди к нам!
Дядя Леша сел на кровати, посмотрел на сереющее за окном утро, снял с табуретки валенки, надел их, поднялся, длинный, сутулый, поежился, заглянул в погасшую ночью печку и закрыл наверху задвижку, чтобы не тянуло в комнату холод.
В маленькой и совсем холодной кухоньке он включил стоящую на давно не топленной печи электроплитку, взял чайник, поболтал его – пустой, вышел в темные сенцы, звякнул кружкой, зачерпнул, задев тонкий ледок, обхвативший воду кольцом, и сперва напился сам, а потом стал наливать воду в чайник.
Он вернулся в кухню, вылил часть воды в умывальник, поставил чайник на заалевшую спираль плитки и умылся, часто и нетерпеливо ударяя ладонями по гремящему носику умывальника, быстро вытерся серым вафельным полотенцем.
В комнате он снял с гвоздя на двери клетчатую рубаху, надел ее, с крупными мужскими заплатками на локтях и воротнике, натянул ватные брюки, намотал чистые портянки, сунул ноги в валенки. Сдернул было с гвоздя и телогрейку, но, подумав, не стал ее надевать, а лишь посадил на макушку старую, с жестким ворсом солдатскую шапку с едва заметной отметиной от звездочки, вышел.
Дядя Леша вернулся в комнату, держа перед собой широкий деревянный ящик, заполненный крупным сыроватым песком, разделенный реечками на квадраты; ящик был, видно, тяжеленным – лицо побагровело, и синие жилы на дяди-Лешиной шее вздулись. Он осторожно поставил ящик на пол, рядом со столом, отряхнул рубаху и потер ладони о штаны.
Чайник кипел, бил белой густой струей в холодном воздухе кухни. Дядя Леша насыпал в большую эмалированную кружку заварку, залил кипятком, достал из стоящей здесь же трехлитровой банки пару больших ложек темного и густого, как деготь, варенья, опустил в чай и, размешивая его на ходу, вернулся в комнату. Здесь он уселся поудобнее за стол, посмотрел в серый еще свет за окном, включил маленькую настольную лампу-грибок, отхлебнул чаю, распечатал верхний из лежащих стопкой конвертов, прочитал адрес, развернул и стал читать, отдалив письмо от себя почти на вытянутую руку, борясь так с нажитой годами дальнозоркостью. Прочитав, дядя Леша кивнул удовлетворенно, словно отвечая автору письма, разгладил на столе лист пергаментной бумаги, нагнулся, достал из стоящего под столом ведра несколько пучков лесного мха и аккуратно разложил его на пергаменте. Снова наклонился над ящиком и вытащил из песка несколько аккуратно срезанных яблоневых черенков с крупными почками, внимательно их осмотрел, положил в мох и, накрыв мхом сверху, завернул в пергамент. Этот сверток дядя Леша обернул коричневой почтовой бумагой и перевязал быстро и сноровисто, как почтовый работник, бечевкой – сделал аккуратную бандероль.
Он поискал на столе ручку, нашел – шариковую, самую дешевую, тридцатипятикопеечную, перевязанную посредине изолентой, и, заглядывая то и дело в конверт, стал списывать с него на бандероль адрес – крупным и чуть витиеватым почерком человека не шибко грамотного, но относящегося к грамотности с предельным уважением и почитанием. Однако уже на второй строчке адреса ручка перестала писать. Дядя Леша стал нажимать сильнее, но только прорвал бумагу. Потряс ручкой и попробовал писать снова, но безрезультатно. Тогда он размотал изоленту, разъединил сломанную посредине ручку, вытащил стержень, посмотрел на него на свет лампы, подул в стержень, смешно надув щеки, снова посмотрел и, вздохнув, бросил стержень к печке. Открыв ящик стола, он стал искать новый стержень, отодвигая в стороны квадратную жестяную коробку из-под зубного порошка, в которой что-то загремело металлом, батарейки и лампочки для фонаря, тоненькую стопочку писем, перехваченных резинкой из-под лекарств, другой мелкий и ненужный хлам, скопившийся в ящике за годы, а может, за десятилетия, однако нового стержня для авторучки здесь не было.
Нагнувшись, чтобы не стукнуться о косяк низкой двери, он вышел на улицу, закрыл дверь на ключ, положил его в карман телогрейки и задержался на полусгнившем и скособоченном крыльце, втягивая полной грудью холодный воздух и глядя внимательно и словно впервые по сторонам. Здесь стояли редко раскидистые старые яблони с толстыми корявыми сучьями, еще спящие. Дядя Леша сдвинул на лоб шапку, почесал затылок и улыбнулся. Местами лежал серый и грязный, как каменная соль, снег, горбилась схваченная крепко ночным морозом грязь, белели хрупким в разводах ледком лужи, яблони еще спали, и небо висело низко и нерадостно, а все равно – весна…
Он быстро шел по обочине асфальтовой разбитой дороги, но там, где дорога делала поворот, повернулся и привычно и внимательно посмотрел на сад. Дальше, за этим поворотом, сада уже видно не было…
(Но как же хочется, как велико желание автора, уважаемый товарищ режиссер, описать сад, как легко и как приятно было бы: сад зимний – сумеречный, черный; сад весенний – божественный и воздушный; сад августовский – женский, теплый, пряный; и осенний сад – сирый и одинокий на ветру… Но что же писать… Это видеть надо, видеть…)
Вдалеке, чуть в стороне от дороги, стояли на пригорке три большие, как корабли, блочные пятиэтажки колхозного поселка. Там было тихо и безлюдно. А по дороге навстречу дяде Леше бежала, погромыхивая, черная «Волга» с серыми, не отмытыми от грязи боками. Увидев ее, дядя Леша нахмурился и попытался даже отвернуться. Когда она проезжала, чуть сбросив скорость, рядом сидящие в машине водитель и тот, кого он вез, кивнули, не улыбнувшись, и он, дядя Леша, коротко им кивнул, тоже, впрочем, не улыбнувшись.
За его спиной машина, судя по звуку, вновь набрала скорость. А впереди навстречу дяде Леше ехал, часто и гулко тарахтя, большой желто-синий милицейский мотоцикл с коляской. Крупный краснолицый милиционер в шапке с завязанными ушами затормозил рядом, снял теплую рукавицу, протянул дяде Леше ладонь.
– Привет, Алексеич, закурить нету? – быстро и деловито произнес он.
– Здорово, – ответил дядя Леша, пожимая милиционеру руку и доставая из кармана телогрейки папиросы. – Далёко собрался? – спросил он. – Я гляжу, председатель поехал, теперь ты… Случилось чего?
– Да не, – ответил сквозь зубы участковый, закуривая. – У него свои дела, у меня свои… Стреляет, – озабоченно прибавил он.
– Кто? – не понял дядя Леша.
Участковый ответил не сразу, развязывая у шапки уши.
– Ухо стреляет, – объяснил он, сморщившись, и, выпустив дым в кулак, быстро приложил его к своему большому волосатому уху. – Дай еще, – попросил он, указывая на пачку.
Дядя Леша протянул папиросы. Участковый взял три штуки, спрятал их в нагрудный карман куртки под сочувственным и одновременно насмешливым взглядом дяди Леши.
– Это потому, что на мотоциклете ездиишь… Тебе б машину… – сказал он.
– Кто ж ее даст, машину?.. – пожаловался участковый.
– Слушай, Вась, – вспомнил дядя Леша, – я чего иду… у тебя ручки нет случаем?..
– Какой ручки? – не расслышал участковый.
– Ну, писать… Паста кончилась, – объяснил дядя Леша.
– Да не, Алексеич, – понял, наконец, участковый. – Ручка мне самому нужна, протоколы ж составляю. – Он оглянулся. – Да вон почта едет. Уж она-то даст! Даст, даст! – И участковый, почему-то хохотнув, уехал.
Дядя Леша посмотрел вперед.
Навстречу ехала на старом, чуть вихляющем велосипеде женщина в болоньевой почтальонской куртке, в серой узкой юбке и кирзовых сапогах. Грудь ее перепоясывал широкий ремень закинутой за спину пустой почтальонской сумки. Круглолицая и краснощекая, в вязаном шерстяном платке, она улыбалась дяде Леше открытой, нетайной улыбкой незлой незамужней бабы.
– Здоров, Леш! – белея крепкими зубами, поприветствовала она. – Ты чегой-то к нам с утра пораньше?
– Ручка, Марусь, нужна, стержень… Пишу это… Паста кончилась… Иду вот попросить у кого… – ответил дядя Леша, хмурясь, не желая, видимо, принимать эту ее улыбку.
– Ой! – почтальонка сунула руки в карманы куртки. – У меня карандаш только! Не подойдет? – Она протянула огрызок химического карандаша, заглядывая дяде Леше в глаза. Тот смотрел на карандаш, раздумывая.
– Не… Неудобно людям карандашом писать…
– А ты все пишешь! – громко вздохнула почтальонка и засмеялась. – А я вожу. Да ты зайди к Кольке-то своему, не боись… Ирки его нет, она на вокзал поехала…
– Ладно, бывай здорова, – буркнул, нахмурившись, дядя Леша и пошел дальше.
– Покедова, – сказала, ничуть не обидевшись, вслед Маруся, но крикнула вдруг: – Леш! Не забыла чуть… Повестка тебе…
Дядя Леша вернулся, взял протянутую бумажку. Маруся озабоченно смотрела на него.
– Из прокуратуры… Случилось чего?..
Дядя Леша не ответил, глядя в повестку.
– Спасибо, Марусь, – сказал только он и пошел дальше – к колхозному поселку.
В подъезде с новыми еще, крашенными темно-синей масляной краской стенами висел деревенский кисло-сладкий запах силоса; у каждой из дверей стояли рабочие сапоги в корке засохшего навоза. Тяжело ступая, дядя Леша поднимался на пятый этаж. Навстречу сверху кто-то спускался – бухали и чуть шаркали по бетонным ступеням подошвы. Это был высокий мосластый парень лет тридцати, носатый, темноволосый, в засаленной рабочей телогрейке, черных блестящих брюках и грязной кирзе с низко, щегольски подвернутыми голенищами.
– Здоров, дядь Леш, – лениво поприветствовал парень, растягивая в улыбке большой губастый рот. – Как она, ничего-то?
– Здорово, – пожал его руку дядя Леша.
– К деду, что ль? – улыбался парень. – Дома сидит… Нянькой заделался… – И пошел вниз разболтанной, шарнирной какой-то походкой, которую придумал себе, видимо, еще в школе и оставил на всю жизнь.
Около аккуратно обитой дерматином двери с глазком и номером «55» дядя Леша остановился. Из-за двери пробивался высокий детский плач. Дядя Леша нажал на прямоугольную кнопку звонка. За дверью раздалось «бим-бом», плач мгновенно прекратился, что-то загремело и послышались торопливые шаркающие шаги. Щелкнул замок, и дверь открылась.
Колька, Николаич, Николай Николаевич Стеклов смотрел на него удивленно и обрадованно. Был он чуть не вполовину меньше дяди Леши, низкорослый, щуплый, с тонкой цыплячьей шеей. На его широком курносом носу сидели очки в детской пластмассовой оправе, с толстыми стеклами, сильно увеличивающими мутноватые голубые глаза. К дужкам была привязана резинка, которая обхватывала стриженый затылок и держала очки на носу мертво, как у первоклассника. Был он в трикотажных тренировочных штанах, оттянутых на коленках от долгой носки, в женских тапках с помпонами и в чистой и теплой семейной майке.
– Лешк? – он еще будто глазам своим не верил. – Ты, что ль? Заходи, чего стоишь?
– У тебя стержень для авторучки есть? – спросил дядя Леша, не входя.
– Должон быть, гляну сейчас, – пообещал с готовностью дядя Коля. – Да чего стоишь, заходи! Ирка на вокзал поехала Райку встречать, Витек на работу пошел, ремонтируется…
– Да я его видел сейчас, – сказал дядя Леша, как-то осторожно входя в квартиру.
– Ну вот, – продолжал радостно дядя Коля. И, указав на дверь комнаты, откуда доносился громкий и требовательный крик ребенка, объяснил: – А мы вдвоем тут с Геночкой воюем! – Дядя Коля суетился от радости и бестолково, не по делу частил словами: – А Ирка моя злая сегодня чего-то с утра. Поехала на вокзал Райку встречать… Она в пятницу еще в Москву по магазинам поехала… Да ты чего стоишь-то все! Разувайся, проходи!
– Не, – мотнул головой дядя Леша. – Ты мне стержень поищи, да я пойду. Делов полно…
– Делов, делов… деловой… – почти обиделся дядя Коля. – И не стыдно тебе, Леш, ей-богу? За восемь километров шел, чтобы, значит, стержень взять, и всё, да?
Дядя Леша терпеливо молчал.
– Да ты хоть погляди, как люди-то теперь живут, чёрт длинный! – стыдил дядя Коля друга. – Сидишь там у себя, как этот… Разувайся давай!
Это была обычная наша квартира с линолеумными полами, с коврами на стенах, заставленная и увешанная предметами яркими, приметными и, в общем, не такими дорогими.
– Живем, как буржуи! – делился радостью дядя Коля. – Телевизор, гляди, цветной – «Рубин»… Его так не возьмешь, Райка по блату на базе достала. Включить? Включить, Леш? Ты хоть видел цветной-то?
Дядя Леша отмахнулся:
– Да ну его…
– Не, ты не прав, Леш, – не соглашался дядя Коля. – Без телевизора какая жизнь… – Дяди-Колина душа, похоже, пела в эти минуты. – А вот это все – стенка называется, Леш. Называется так – стенка, а на самом деле – все тут! Все барахло Ирка из сундуков перетащила! Еще и место осталось!.. А это стерево Витькино. Отсюда вот поет, а отсюда играет… От жены Витек перетащил… Да-а… – дядя Коля вдруг громко вздохнул и пожаловался: – Ни сын с семьей не живет ни хрена, ни дочка… Твои-то как?
Но дядя Леша то ли не услышал, то ли сделал вид, что не услышал, отвернулся, разглядывая квартиру.
– А вот тут я тебя, Леш, не понимаю… Дети – это дети все-таки… – И, услышав из соседней комнаты детский нетерпеливый плач, пропел вдруг, смешно вытягивая шею: – Геночка! Ге-ноч-ка-а!! – И снова обратился к дяде Леше: – А вот это глянь, чего это, думаешь? А?
Дядя Леша молчал, хотел, кажется, сказать, но боялся ошибиться.
– А?! – ликовал дядя Коля. – Часы! Часы, Леш! Без стрелок, а часы! – Он взял с полки электронные часы. – «Электроника»… Вот глянь – идут? А теперь из розетки вытаскиваю… Все равно идут! Э-э… Батарейка там дополнительно! Вот видишь, часы, вот секунды тикают… А вот на кнопку нажимаю – день показывают, 16 марта, воскресенье… – дядя Коля поставил часы на место, собираясь хвастаться дальше, но остановился вдруг, замер.
В соседней комнате вовсю кричал ребенок, но дядя Коля не слышал.
– Ты чего? – дядя Леша спросил встревоженно.
А дядя Коля вдруг поднял голову, глаза заблестели хитровато под очками, щербатый рот растянулся в улыбке.
– Какой день сегодня? – спросил неожиданно он.
– Какой? – не понимал дядя Леша.
– Да, какой день сегодня?
– Ладно, хватит, Коль, – не выдержал дядя Леша.
– Шестнадцатое марта – день рождения у кого сегодня? У меня, что ли?
– А-а, – дядя Леша улыбнулся чуть. – А я уж испугался – думал, какой день.
– Это, значит, тебе… – дядя Коля поднял голову, подсчитывая. – Это тебе, выходит… шестьдесят два… во как…
– Ага… – согласился растерянно дядя Леша.
– Ге-ноч-ка! – дядя Коля заторопился вдруг из комнаты, потому что крик внука был уже невыносим.
А дядя Леша остался один. Он нахмурился как-то вдруг, вздохнул громко, может подумав о своих шестидесяти двух, и присел устало и рассеянно на край застеленного яркой плюшевой накидкой кровать-дивана.
Через секунду вернулся дядя Коля. На руках его сидел крупный заплаканный ребенок.
– А это, Геночка, Лешка! – говорил на ходу дядя Коля. – Мне – Лешка, а тебе – дедушка Алексей! Ну, как внук у меня? Похож? Похож! Все говорят – похож! А смышленый! Все понимает! Во дети пошли!
Но дядя Леша смотрел на ребенка спокойно, без обычного стариковского восторга.
– Ты мне стержень дай, Коль, – попросил он. – Да я пойду…
– Сейчас! – испугался дядя Коля. – В кухне… пойдем туда… А то здесь бабий угол – ни до чего не дотронься. – И дядя Коля глянул торопливо на грязные ватные брюки дяди Леши и плюшевую накидку.
Дядя Леша подошел в кухне к окну и опасливо поглядел вниз.
– Высоко? – засмеялся за спиной дядя Коля. – Пятый этаж… Я уже привык. А не был бы ты дураком таким, не ругался бы с Селивановым, сейчас бы рядом жил… С Иркой бы помирился, может, ходил бы к нам телевизор смотреть. – И он положил на пластиковую поверхность стола несколько стержней для авторучки. – Бери… У Райки их полно, она у себя в магазине накладные заполняет.
– Да мне любой, только не красный…
– Да бери, бери… хоть два…
Дядя Леша выбрал стержень, выпрямился.
– Ну, я пойду, Коль.
– Стой, Леш, – не поверил и испугался дядя Коля, – чего так сразу-то? Ты б, может, супчику поел горяченького? А?
– Не, не хочу…
– Ну сядь, посиди, день рождения ж все-таки.
Дядя Коля усадил друга на пластик табуретки и сам сел напротив, с внуком.
– Было бы чего выпить – выпил бы сейчас за день рождения, ей-богу, – сказал дядя Коля, поглядывая по сторонам.
– Болит желудок-то?
– Опять в больницу ложат. На обследование. – Дядя Коля вздохнул и замолчал.
И дядя Леша громко и тяжело вздохнул и, глядя в пол, сказал вдруг:
– Да я тоже… заморился, что ли… сны снятся…
– Какие? – спросил заинтересованно дядя Коля.
– Тоня снится… – помолчав, подумав, ответил дядя Леша.
Дядя Коля кивнул.
– Мне она тоже снится… это женщина была… Не то что моя кочерга… Родные сестры, а как от разных отцов. Не берег ты ее, Леха, не жалел, хоть обижайся, хоть не обижайся…
Дядя Леша молчал, смотрел перед собой в пол.
– Отдохнуть бы тебе, Лешка, – продолжал дядя Коля. – В санаторию поехать! На юг! На Черное море! Я вот, когда в пятьдесят восьмом году в Сочи ездил, я глазам своим не поверил, ей-богу! Ноябрь месяц, а зеленое все! Пальмы! Как на картинках… Я ж там на восемь кило поправился, на полпуда! Ирка даже не узнала! Хочешь, я пойду к Селиванову и для тебя путевку потребую! Ты ж ведь все годы без отпуска! Разве ж так можно себя гробить? Так же тоже, Леш, нельзя! Ты как хочешь, а я вот завтра пойду к Селиванову и потребую!
– Я тебе потребую… – хмуро предупредил дядя Леша.
– Чего?
– Ничего… Он мне сам путевку предлагал. Я ему сказал тогда… Знаю… уеду, а он с садом какую-нибудь пакость придумает…
– Не, ты не прав… Селиванов мужик неплохой, – не соглашался дядя Коля. – Он сколько для колхоза сделал, поселок вот построил.
– Что он, сам построил? – зло спросил дядя Леша. – Государство деньги дало, строители построили. «Селиванов построил…» Ладно…
И дядя Леша оперся рукой о столешницу, чтобы подняться и уйти, но в этот момент хлопнула дверь в прихожей. Они застыли, глядя друг на друга вопросительно и печально.
Тяжелой, усталой походкой, шурша бумажными свертками о стены, в кухню вошли женщины.
Они остановились, не выпуская из рук больших, набитых покупками сеток, удивленно и устало взирая на мужчин.
Первым подал голос Геночка. Он заревел, протягивая к матери руки. И она, крепкая молодая женщина в синем вязанном пальто и красной мохеровой шапке, кинулась к ребенку.
– Сынулецька мой, Геноцька, соскуцился по мамоцьке, – счастливо, по-матерински сюсюкая, Райка прижимала к себе дитя, осыпая его поцелуями.
Остальные трое молчали.
– Здоров, Ир, – первым подал голос дядя Леша.
Тетка Ира не отозвалась, продолжая вопросительно смотреть на мужа.
Была она большая, черноволосая, неладно скроенная, но крепко сшитая баба с усталым лицом и глубокими страдающими черными глазами.
– Ну, чего молчишь, чего молчишь? – петушась, обратился дядя Коля к жене. – С тобой человек поздравствовался, и ты будь добра!
Тетка Ира ничего не сказала, глянула лишь на мужа насмешливо и зло.
– У человека день рождения сегодня, а ты как с цепи соскочила! – еще больше возмутился дядя Коля.
– Дедуска крисит, – ласково разговаривала Райка с сыном и обратилась деловито и просто к отцу: – Ты, дед, не ори, а то ребенка выпугаешь… – И вновь переключилась на сына: – А что мамочка сынулечке купила? Какие красные ботиночки…
– Сиди-сиди! Сиди… – потянул дядя Коля друга за рукав, усадил на стул и сам сел, успокаиваясь и наблюдая за женщинами, которые положили сетки на стол и стали разбирать покупки. Дядя Коля все еще надеялся на мир.
Тетка Ира не смотрела на гостя, будто не было его здесь.
– Ну, как Москва? – спросил заинтересованно дядя Коля у дочери.
– Москва-то хорошо! В Москве люди живут! – отвечала Райка, разыскивая среди кучи покупок красные ботиночки. – Не то что вы здесь в навозе копаетесь…
– Так мы ее кормим, Москву! – радостно и задиристо ответил дядя Коля, косясь на молчавшего угрюмого друга.
– Кормилец, – едко и зло вставила тетка Ира, выкладывая на стол продукты. Здесь были крупные оранжевые апельсины, сухая одесская колбаса, сгущенка, зефир в коробках, другая наверняка вкусная еда в яркой столичной упаковке.
Дядя Коля шмыгнул носом, взял со стола бумажный, похожий на молочный пакетик.
– Это чего ж такое? – спросил он у дочери.
– Ананасный напиток. Финский, – деловито ответила Райка, надевая сыну красные ботиночки.
– Это чего ж, у финнов ананасы растут? – с сомнением спросил дядя Коля.
– А у умных людей все растет. Это у дураков только… – тетка Ира не унималась. Она достала пластиковую сеточку, вытащила импортный вишнево-красный джонатан и протянула яблоко дяде Леше.
– На-ка, именинничек, угощайся, – едко сказала она, – небось не с твоего сада… Послаще будет…
Дядя Леша кашлянул, поднялся и пошел к двери.
– Лех, стой, – крикнул дядя Коля, побежал за другом, но свернул вдруг в комнату и появился, держа в руке электронные часы.
– Часы-то куда берешь? – всполошилась тетка Ира.
– Куда надо, туда и беру, – крикнул, не оглядываясь, дядя Коля.
– «К сожаленью, день рожденья…» – фальшиво пела сыну Райка, спокойно относясь к родительской ссоре.
– Ну, погоди, приди мне, – серьезно пригрозила тетка Ира вслед мужу.
Вечер падал на землю. Мартовский сиреневый воздух становился прозрачнее, напитываясь близким ночным морозом. Край неба за садом был пунцово-розов.
Дядя Леша сидел за столом у включенной лампы и отсчитывающих секунды электронных часов. Он прочитал еще раз повестку из прокуратуры, отложил ее в сторону, взял нераспечатанный конверт, отрезал ножницами тонкую полоску сбоку, достал письмо, развернул…
…И зазвучал вдруг в полутемной и замусоренной мужицкой этой комнатке, в этом разрушающемся домишке женский голос – мягкий и спокойный, добрый и терпеливый:
«Здравствуйте, уважаемый Алексей Алексеевич!
Во первых строках своего письма сообщаю вам, что черенки яблонь сорта “папировка”, “анис алый” и “красавица сада” я от вас получила. Хоть вы и опасались, но дошли они хорошо, и я их уже привила. Алексей Алексеевич, у вас, наверно, в саду еще снег лежит, а у нас здесь все в цвету. Я это время люблю больше всего. Такая красота, что забываешь обо всем плохом.
Скоро уже распустятся розы. У меня в саду двести кустов. Если бы вы только увидели. Все говорят: “Вера, продавай”. А я не могу, нехорошо красоту продавать. Я розы срезаю и отношу на работу. Работаю я в детском саду воспитательницей в младшей группе. Уже двадцать пять лет. Уже те дети, с которыми я раньше занималась, своих детей приносят. Ну, это я вам уже писала, извините.
Алексей Алексеевич, не буду больше отрывать вас от ваших важных дел. Успехов вам. До свидания. С уважением. Вера Васильевна.
Алексей Алексеевич, если у вас появится время и желание, напишите и мне, пожалуйста, несколько строк. Я буду очень рада. Успехов вам. До свидания. С уважением. Вера Васильевна».
Дядя Леша отложил письмо и не двигался, потом вздохнул, положил голову на руки, на стол, то ли думая, то ли отдыхая. Закрыл глаза… открыл. Резко выпрямился, прогоняя оцепенение и усталость, расправил плечи, достал из пачки и сунул в рот папиросу, зажег спичку и вздрогнул вдруг, глянув в окно.
С улицы, прижавшись к стеклу, смотрело на него в упор чужое лицо, смотрело пристально, прямо и требовательно. Спичка обожгла пальцы, и дядя Леша нервно отбросил ее, не отрывая взгляда от чужого лица за оконным стеклом.
Это был ребенок, точнее – подросток, мальчик лет тринадцати, тонкошеий, большеголовый, наголо остриженный. У него были маленькие прозрачные глаза, тонкие нервные губы и резко вычерченный острый подбородок. Высокий лоб резали две удивленные детские морщины.
– Я вот сейчас выйду, ухи тебе надеру! – пригрозил дядя Леша и поднялся.
Мальчик отпрянул от окна.
– Ты чего без спросу по саду шляешься? – громко и строго спросил дядя Леша с крыльца. – А?!
Мальчик не ответил, настороженно наблюдая за каждым движением дяди Леши. И, заметив это, дядя Леша затопал ногами для устрашения, не сходя с крыльца и рискуя его сломать.
Мальчик отбежал на несколько шагов, но вновь остановился.
– Зачем пришел?.. Тебя послал кто?.. Чей ты?.. – спросил дядя Леша, вглядываясь в незнакомое лицо ребенка. – Чего молчишь?..
Мальчик не отвечал, но, сунув руку в карман пальтишка, вытащил что-то небольшое, круглое, блестящее и, не сводя с дяди Леши настороженных глаз, положил на землю.
Дядя Леша сделал шаг вперед, но мальчик, виновато и испуганно улыбнувшись, попятился, повернулся и побежал, почти сразу пропав в густом фиолетовом воздухе.
Дядя Леша подошел и поднял с земли то, что положил мальчик. Это был новый велосипедный звонок, литой, блестящий. Дядя Леша повертел его в руках и нажал на расплющенный рычажок.
И звонок зазвенел громко и пронзительно, и звон этот полетел во все стороны по саду.
Голосок у секретарши нервный, хоть она и молода совсем, и собою хороша, и жизнью наверняка довольна – ладненькая, пухленькая, в нарядном платьице и новых высоких сапожках.
– Что?! – кричала она в телефонную трубку. – Какую сводку? Сводку покрытия? Какого покрытия?! Покрытия телок? Понятно – покрытия телок…
Напротив нее сидел, в общем, молодой, но крупно плешивый и мягкий весь, расслабленный прямо-таки человек. Одет он был фасонисто: в кожаную куртку и модные брючки, но носить это аккуратно было, видимо, лень, поэтому дефицитная одежда выглядела на нем до обидного случайной. Лишь золотой перстень на его розовом пухлом мизинце блестел, как пряжка ремня у демобилизованного солдата. Сквозь полуприкрытые в мягкой дреме глаза он наблюдал за подрагивающей ножкой секретарши в сапожке. Это он сидел за рулем председательской машины, когда дядя Леша шел в колхозный поселок за стержнем для авторучки.
– Сводку покрытия телок за первый квартал? Хорошо!
За окном шумел холодный, но веселый апрельский дождь.
Дядя Леша сидел в углу на стуле в грязнющих сапогах и мокром брезентовом дождевике. Был он хмур и насуплен и этих двоих словно не замечал. У секретарши зазвонил еще один телефон.
– Ну куда я пойду? – спросила она обиженно в трубку. – Дождь не видишь какой? Ну и что зонт… А грязюка, я в новых сапогах… А очередь заняли? Ну ладно…
Она положила трубку и привычно и обещающе-ласково обратилась к председателеву шоферу:
– Ваня, подвези до столовой…
Тот приоткрыл один глаз и улыбнулся лениво и довольно.
– Бензин надо экономить, читала приказ? – спросил он.
– Ну Ва-анечка…
Дядя Леша шумно достал из кармана папиросы и закурил.
– У нас, между прочим, не курят! – повернулась к нему секретарша, но дядя Леша не слышал, гдядя перед собой.
– Слышали, что я сказала? – возвысила голос секретарша, но бесполезно, и тогда она вновь улыбнулась председателеву шоферу: – Ну, Ванюш, а, Ванюш?..
– Молодая, для здоровья ходить полезно, – сказал Ваня, положив ладошку с перстнем на пухлый животик.
Щелкнул селектор, глухой голос из динамика приказал:
– Оля, пусть зайдет Глазов…
– Заходите, – секретарша взглядом указала на дверь, но дядя Леша и без нее шел туда, оставляя следы на светлом линолеуме.
– Нахальство – второе счастье, правду говорят, – сказала секретарша, чтобы этот садовод успел ее услышать.
– Здравствуйте, Юрий Васильевич, – негромко сказал, кивнув, дядя Леша и, подойдя к столу, сунул в пепельницу папиросу.
Председатель – белесый, широкий, лет тридцати пяти, со значком депутата местного совета на лацкане пиджака, положил телефонную трубку на аппарат, кивнул.
– Садись, Алексеич, чего скажешь?
Дядя Леша присел на крайний стул у стола, стоящего перпендикулярно председательскому.
– Такое, значит, дело, Юрий Васильевич, – глядя в лаковую поверхность стола, заговорил хмуро дядя Леша, но Селиванов неожиданно перебил:
– Да, Алексеич, мне тут из прокуратуры звонили, насчет тебя справлялись. Я сказал – на лучшем счету, ветеран войны и труда… А что случилось-то?
Дядя Леша нахмурился еще больше.
– Да не, ничего… Я вот чего… Такое, значит, дело, Юрий Васильевич… Я к деду Ермоленке ходил, он говорит: не могу больше пчел водить, мне девятый десяток…
– Стой, какой Ермоленко? – не понял председатель.
– Пчеловод, пасека-то у которого… Ерофей Ерофеич…
– А-а… ну и что?
Дядя Леша помолчал секунду, собираясь.
– Так вот, как бы у него пчел колхозу купить?
– А зачем нам пчелы? – улыбнулся Селиванов.
– Сад чтоб опыляли…
– А-а… – Селиванов, наконец, понял. – Снова сад… Я ж тебя просил – весной со своим садом ко мне не подходи…
– Так а как же…
– Не знаю как.
Председатель уткнулся в свои бумаги.
– Так ему и денег не надо… Он говорит – так берите и водите…
– Да ты что, издеваешься, Алексеич! – взорвался председатель. – Я из-за твоего сада как дурак! Всех в райкоме долбают: за мясо, за молоко, за корма! А потом меня одного еще и за фрукты! Мне что, больше всех надо? Все ведь под морозы семьдесят девятого года сады вырубили, у одних нас остался. Не я был тогда председателем…
– Это точно, – процедил сквозь зубы дядя Леша. – Сунулся бы ты…
– Ты мне не грози! – приподнялся над столом Селиванов, но тут же сел, успокаивая себя. – Я что, о себе забочусь? Я о колхозе забочусь! У нас полтора миллиона убытков за прошлый год! Хорошо – цех построили, пятьсот тысяч прибыли даст…
– Так давай все сядем рукавицы шить. Колхоз у нас или фабрика?
– Ты не остри, не остри! – остановил Селиванов и достал из стола какую-то бумажку. – Мне бухгалтерия данные дала. Знаешь, сколько стоит вырастить у нас одну яблоню? На наших землях при нашем климате? Не знаешь? А я тебе скажу! Четыре тысячи четыреста двадцать два рубля…
– А ты их что, растил?! – щуря зло глаза, спросил дядя Леша. – Сажал их?.. Дерьмо коровье с землей мешал?! Я у тебя не прошу площадь увеличивать. Но чтоб за садом уход был! Бригаду надо вернуть…
– Приказываешь? – неожиданно насмешливо спросил председатель. – Бригаду твою верну после посевной. Я этих пчел возьму – мне в районе план по меду на шею повесят, понятно?
Дядя Леша поднялся, пошел к двери.
– А хочешь честно, Алексеич? – заговорил вдруг новым, неожиданным, искренне-злым голосом председатель. – Ведь сколько твой сад сил отнимает, и одни убытки… Тогда у нас порядок в колхозе будет, тогда можно спокойно работать будет, когда сада твоего не будет, это я понял.
– Руки коротки, – спокойно сказал дядя Леша. – У нас по яблокам план на пятилетку? А план – закон, слышал? Значит, и сад мой – закон. А пчел я без твоего разрешения притащу.
В бревенчатом доме, где раньше была старая столовая, а еще раньше, похоже, амбар, стоял невыносимо пронзительный вой от работающих музейного вида швейных машин. Десятка полтора колхозниц, сноровистых, охочих до всякой работы, лишь бы хорошо платили, вперегонки шили брезентовые рабочие рукавицы и бросали их каждая в свой ящик. Дядя Леша в старом пиджаке и кепке стоял, прислонившись к косяку двери, докуривал папиросу, с насмешкой на губах наблюдал за другом.
Дядя Коля ругался с боевой горластой бабой. О чем они кричат, дядя Леша из-за швейных машин не слышал, да и кричавшие, кажется, не слышали друг друга, но понять было можно. Женщина отодвигала одной рукой дядю Колю в сторону и указывала сначала на работающие машины других, потом – на неработающую свою и довольно сильно тыкала тем же пальцем дядю Колю в грудь, видимо ставя данное обстоятельство в вину ему одному.
Дядя Коля почувствовал взгляд, посмотрел на дверь, увидев друга, обрадовался мгновенно, что-то сказал, нахмурившись, женщине, указав ей с очень серьезным видом на дядю Лешу и заторопился к нему как к спасенью.
Они вышли на улицу. День был солнечный, теплый, зеленый.
– Никакая техника наших баб не выдерживает, ей-богу, – пожаловался искренне дядя Коля. – Посадили их на сдельщину – они готовы из цеха не уходить. Без обеда шпарят… Ух, жадные, деньги любят…
– Я чего пришел, Коль, подмога твоя нужна, – глядя на дорогу, заговорил дядя Леша и замолчал.
– Какая подмога-то? – нетерпеливо спросил дядя Коля. – Ульи я тебе перетащил… Жалы, что ль, у пчел теперь повытаскивать?
Он тоже замолчал, когда посмотрел на дорогу. К ним ехала черная председателева «Волга». Рядом с водителем сидел худощавый парень, темноволосый, серьезный. На заднем сиденье, почему-то скрючившись, находился участковый.
Машина остановилась от них метрах в десяти, Ваня указал лениво и спокойно на дядю Лешу, что-то сказал, и участковый сзади закивал и тоже что-то сказал.
Незнакомец вышел из машины первым, за ним медленно и неуклюже выбрался участковый. Он отставал, шел полусогнувшись, морщась при каждом шаге, держа ладонь на, видно, прихваченной радикулитом пояснице.
– Здравствуйте, – подойдя, сказал незнакомец, не подавая руки и обращаясь только к дяде Леше. – Вы Глазов Алексей Алексеевич?
– Я, – сказал дядя Леша осторожно.
– А что такое? – почувствовав неладное, вмешался дядя Коля.
Незнакомец и не взглянул на него, а смотрел пристально и строго в настороженные глаза дяди Леши.
– Моя фамилия Костылев, следователь районной прокуратуры, – назвался незнакомец и, выдержав паузу, прибавил: – Мы посылали вам три повестки, вы получали?
– У нас тут почта знаете, как работает? – вновь вмешался заволновавшийся дядя Коля.
– Я, кажется, не вас спрашиваю? – оборвал его следователь и вновь обратился к дяде Леше: – Так вы получали повестки?
– Получал… – негромко ответил дядя Леша.
– Почему не явились?
Дядя Леша молчал. Подходил, покряхтывая и держась за поясницу, участковый.
– Работы было много… – сказал наконец дядя Леша.
– А вы что думаете, один вы работаете, а остальные баклуши бьют? – спросил резко следователь. – Поедемте со мной, нам надо поговорить…
Следователь уже повернулся, но дядя Коля его остановил.
– Вы сперва документы покажьте!.. А ты чего стоишь?! – прикрикнул он и на дядю Лешу. – К нам вон писатель один из Москвы приезжал, историю колхоза писать, книжку. В кассе две тыщи взял… По сей день ищем…
Следователь усмехнулся, вытащил из нагрудного кармана кожаного пиджака серьезные, красные, с золотым гербом корочки, развернул. Дядя Коля уставился в них, близоруко тараща под очками глаза.
Дядя Леша пошел первым, за ним заторопился дядя Коля. Следователь шел последним.
Участковый повернулся на сто восемьдесят градусов и тем же ходом, кряхтя и держась за поясницу, направился к машине.
Дядя Леша сел сзади, за ним попытался сделать это и дядя Коля, но следователь легонько отстранил его, что-то сказав, и посмотрел нетерпеливо на участкового.
Из машины Ваня разглядывал сквозь полуопущенные веки женщин, стоящих толпой у двери подсобного цеха, которые по такому случаю бросили даже свою денежную работу.
Они вошли в приемную, и следователь спросил у секретарши, которая разговаривала по телефону:
– Юрия Васильевича нет? Мы побеседуем у него, можно?
– Да-да, конечно, – торопливо согласилась секретарша.
Они сели за стол, перпендикулярно стоящий к столу председателя, – по одну сторону и по другую.
– Значит, так, товарищ Глазов, – заговорил следователь, глянув на часы. – Ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Вы отсылали эти… черенки яблонь другим садоводам?
– Отсылал, – помедлив, ответил дядя Леша.
– Зачем?
– Как зачем… Для прививки…
– Сколько вы их отослали?..
Дядя Леша растерянно улыбнулся, пожал плечами.
– Не знаю… Уже два года… Разве ж вспомнишь?
– Вам придется вспомнить, это в ваших интересах, – со значением произнес следователь.
– Не знаю… Может, пятьсот… может, тысячу… Кто просил, я всем посылал…
– Почему они просили?
– Как почему? У нас в саду сорта редкие… Это ж теперь сад – сорок два гектара… А было время, на моей памяти, сад до шестьсот гектар доходил… Редчайшие, можно сказать, сорта…
– А откуда они об этом узнали?..
– А-а, так статья была в «Сельской жизни»… Про сад, про отца моего… Мою фотокарточку напечатали… Ну, люди прочитали, стали писать… Черенки просить для прививки.
– Кто был ваш отец?
– Он? Селекционер. Здесь же он в саду работал. Мы ведь, Глазовы, потомственно при саде. Дед, отец… Отцовы сорта – в саду… Сюда даже сам Мичурин Иван Владимирович приезжал и руку отцу жал… Звал к себе – отец не поехал… Мичурин саженцы с собой взял… «Глазовского» сорта и «славы родины»…
– Мичурин, – нетерпеливо и чуть насмешливо перебил его следователь. – Нельзя ждать милости… Скажите, товарищ Глазов, а этот сад он что – ваш личный? – неожиданно спросил он.
– Как? – не понял, растерялся дядя Леша. – Государственный он, колхозный. Только ж…
– А скажите, на каком основании вы устроили частную торговлю колхозной собственностью?
– Так разве жалко? – растерянно улыбнулся дядя Леша. – У нас весенняя обрезка идет, тонны черенков сжигается.
– Мало ли что где сжигается? – еще громче заговорил следователь. – Вы можете распоряжаться только личной собственностью.
Дядя Леша молчал, глядя перед собой.
– Ну а теперь ответьте на такой вопрос. Вам присылали за эти черенки деньги?
– Присылали, – негромко ответил дядя Леша.
– Сколько?
– Кто сколько… Кто трояк, кто пятерку. Иной раз и десятку…
– Десятку… – повторил следователь. – И что вы с этими десятками делали?
Дядя Леша молчал. Следователь ждал.
– Ничего, – сказал наконец дядя Леша. – Обратно отправлял.
– Как? Получали и отправляли?
– Да нет, зачем, я почтальонке сказал, чтоб обратно на почте отправляли…
– Это точно?
– Точно…
– Хорошо, – удовлетворенно закончил вдруг следователь, взял со стола лист чистой бумаги и ручку. – Пишите…
– Ты что, дурак? – горячился дядя Коля. – Одно дело – сказал. А что написано пером, знаешь?.. Ты ж, выходит, ложные показания написал… Ты «Человек и закон» по телевизору смотрел? Тебе ж все некогда! А там одному два года дали, суд прямо показывали. И то не его обвиняли, он свидетель был. Говорил тебе сразу – не связывайся ты с этими черенками! Редкие сорта, редкие сорта… А что тебе с того, что эти яблони чёрт знает где расти станут?
– Ладно, хватит, Коль, – не выдержал дядя Леша.
– Надо же! – плюнул зло дядя Коля. – Из-за пятерки человека на допрос вести! – Дядя Коля замолчал, но ненадолго. – И кто ж это на тебя пишет? Ей-богу… Давай, Леш, думать – делать чего? Надо блат искать. У тебя нет никого в районе из начальства? За яблоками-то осенью едут…
Дядя Леша мотнул отрицательно головой.
– У меня свояченя в милиции работает… Уборщицей… – дядя Коля замолк на несколько секунд, заговорил тихо, пытаясь заглянуть другу в глаза: – Ты б, может, Леш, лучше сразу признание сделал?
Дядя Леша посмотрел на друга почти испуганно.
– В «Человеке и законе» показывали… Пришел человек, признался сам, и к нему уже отношение другое… Пожалели…
Дядя Леша молчал.
Они сидели на крыльце дома, не смотрели ни на красоту цветущего сада, ни на сгущающиеся сумерки…
– Ладно, пошли, Коль, пора вроде, – тихо сказал дядя Леша.
– Будет заморозок, ей-богу! – кричал дядя Коля.
Они расходились в разные стороны, держа в руках по тяжелой дюралевой канистре. Сад стоял в темноте ночи белой сплошной стеной. А сверху спускался туман, суля заморозок, грозя побить цвет.
Они разошлись и потеряли друг друга. Дядя Коля крикнул еще что-то, но дядя Леша не разобрал и не ответил. Скоро стали попадаться кучи – отходов льна, насыпанных специально под зиму, слежавшиеся, влажные.
Дядя Леша плескал на них из канистры солярку, поджигал и шел дальше. Пламя вспыхивало над кучками и скоро гасло, но огонь уже проникал внутрь, и наверху начинали закручиваться водовороты густого, чуть зеленоватого живого дыма.
Белое облако дыма смешалось с туманом и накрыло сад, согревая его. Дядя Леша вылил остатки солярки на последнюю кучу, бросил спичку.
– Ле-еха-а!!! – донесся далекий голос дяди Коли.
– О-о-о!!! – закричал дядя Леша в ответ, и в крике его возникла вдруг неожиданная, почти мальчишеская радость. Бросив канистру, он пошел к другу.
В полном безмолвии дым плыл по саду.
– Николай!! – закричал дядя Леша. – Колька!
– Э-э! – неожиданно возник голос дяди Коли. – Леха, ты где?!
– Николай, ты стой! Я к тебе иду! – дядя Леша двинулся вперед.
– Леха, ты стой! Я к тебе иду!
Они были уже рядом, но не видели друг друга. Дым, гуляющий среди белых яблонь, уводил, уводил, уводил их друг от друга.
Было утро. Сзади дымил еще сад. А впереди парила река.
– Скупаемся? – спокойно предложил дядя Леша, снимая пиджак. – Трухи набилось, чешется все…
Дядя Коля смотрел на него недоверчиво.
– Май месяц, Леш, ты чего?..
Дядя Леша стоял уже в одних трусах. Сутулый, но жилистый, крепкий. Он выпрямился, напряг мышцы, противясь ознобу. На груди и животе его была искусно и тщательно сработанная татуировка: Спасская башня Кремля с расходящимися в виде пунктиров от звезды лучами, Мавзолей, булыжники Красной площади.
Дядя Коля сидел на корточках, подперев скулы ладонями, с искренней завистью глядел на татуировку.
– А тебя, Лех, побрить-постричь-подеколонить если да приодеть, больше сорока не дашь, ей-богу!.. – крикнул он, радуясь другу, как себе. Подумал и спросил, улыбаясь: – Лех, а помнишь, как все тут перед войной еще было… А? Арка вон там стояла, как строили-то ее…
Дядя Леша посмотрел туда, куда указывал Николай – в туман.
– Лес тогда мужики привезли на подводах… Доска сороковка сосновая пахнет как… не поверишь, до сих пор помню!.. А мы летаем кругом – радости! А мужики-то тогда какие были все… здоровые! Не то что теперь! Жарко, по пояс раздетые, топориками махают! За день арку-то подняли, помнишь?
Дядя Леша тихо кивнул.
– А помнишь, как украсили ее тогда? В флагах вся, в еловых ветках… А сельхозвыставка? С колхозов чего только не навезут! Репы – как свиные головы! А яблок, яблок, мама родная! Ведь в каждом колхозе был сад, Леш! Все, все сады держали, а небось не дурней нынешних были! Концентрация, специализация…
Дядя Леша молчал.
– Да, – продолжал дядя Коля вдохновенно. – И мы идем… с галстуками… «Мы пионеры – дети рабочих…» Я на барабане…
Дядя Леша посмотрел на друга чуть насмешливо.
– На каком барабане? – спросил он.
– А кто, ты, что ль? – возмутился дядя Коля.
– А я не говорю… Симаку всегда барабан давали.
– Ладно, Симаку!.. Симак… Да его близко к барабану не подпускали!.. Где у тебя курево?
– В телогрейке погляди.
– Это чего? – заинтересовался дядя Коля, вытащив из кармана телогрейки звонок.
– Звонок, не видишь…
– Купил?
– Ага, – подумав, ответил дядя Леша. – Звонок купил, теперь на велосапед собирать буду.
Дядя Коля засмеялся мелко, по-детски, и дядя Леша прыснул, мотнул головой, удивившись своей шутке.
И пошел к воде, опустив голову, осторожно ступая по холодной, росной траве.
– А! – махнул рукой дядя Коля, быстро разделся и пошел, встал рядом, щуплый, белотелый, в белых, с тесемками кальсонах. Худую его спину перерезали от края до края два страшных глубоких шрама, будто какая-то огромная тварь схватила его поперек, чтобы сожрать, да, пожевав, выплюнула – то ли худ оказался, то ли совсем невкусен.
– Берегет тебя Ирка-то… не простужает, – глянув на кальсоны, пошутил дядя Леша.
Дядя Коля махнул рукой.
– Нечего простужать, Леш…
– Ладно…
Дядя Леша еще раз оглянулся и пошел медленно в холодную воду, как в детстве, испытывая себя и закаляя.
Дядя Коля сунул в воду ступню и взвыл от холода, заскакал на одной ноге, но тут же, скинув кальсоны, закричал вдруг чужим, хриплым и чуть гнусавым голосом:
– Четвертый взвод! Черти корявые, подтянись! – и кинулся, поднимая брызги, в воду.
Дядя Леша вложил прочитанное письмо в конверт, достал из ящика стола стопочку писем, перехваченных резиночкой из-под лекарства, присоединил к ним новое. Он был в чистой белой майке и широких, с большими отворотами темно-синих бостоновых брюках по моде конца сороковых.
Подошел к гардеробу, открыл скрипнувшую дверцу: там висели на плечиках несколько старомодных платьев, толстое мужское пальто с большим сильно потертым каракулевым воротником, пиджак с широкими лацканами и толстыми, на вате, плечами, бостоновый темно-синий, как брюки. Дядя Леша снял с плечиков пиджак и висевшую под ним белую поплиновую сорочку. Впрочем, белой она уже не была, а желто-сероватой от своих долгих лет жизни, с помятым жалким воротничком. Он надел сорочку, пиджак, подумал и взял из незадвинутого ящика стола жестяную коробку из-под зубного порошка, открыл ее, достал награды – два ордена Славы, – приколол их на грудь. Постоял секунду перед мутным зеркалом гардероба. Он был подстрижен и выбрит сейчас, и прав был дядя Коля, что так ему больше сорока не дашь…
Но лицо дяди Леши, глаза были более хмурыми, чем обычно. Нерадостно и тяжко, похоже, было ему надевать сейчас все эти наряды, цеплять награды. А на столе лежала фотография, которую дядя Леша, может, забыл положить в письмо, а может, специально не положил. Это была фотография, сделанная в провинциальном тихом ателье, где наиболее удавшиеся портреты выставляют на всеобщее обозрение в витрине. Она была женщиной лет пятидесяти с красивым лицом и грустными большими глазами. Скромно уложенные на голове волосы делила надвое широкая прядь седины. И как ни тяжко было дяде Леше, он слышал сейчас ее голос:
«Здравствуйте, уважаемый Алексей Алексеевич!
Вот снова пишу вам письмо. Наверное, нескромно это. Вы ведь написали только один раз. Да еще статья в газете про вас. Хотя это не письмо. Но я не обижаюсь, конечно, вы человек занятой, у вас настоящий большой сад. Но я как-то привыкла писать вам письма. Алексей Алексеевич, с радостью вам сообщаю, что все ваши черенки привились. Теперь буду ждать урожая. Боюсь только, что жарко им здесь будет. Но я вот прижилась, хотя и не местная сама, орловская. Это мой покойный муж из этих мест.
Алексей Алексеевич, у нас здесь, конечно, жить – рай земной. Виноград, персики, инжир, орехи грецкие, всё есть. Растет даже такой плод, названия которого вы, наверное, не слышали – фейхоа. Кстати, очень вкусный.
Розы сейчас цветут – глаз не оторвешь! И море у нас рядом – сто метров. Земля здесь, правда, каменистая, но климат такой, что, как говорится, сухую палку в землю воткнешь, и она зацветет.
Алексей Алексеевич, а как у вас виды на урожай? Может быть, напишете мне, если у вас, конечно, будет время. До свидания. С уважением, Вера Васильевна.
Алексей Алексеевич, чуть не забыла. Посылаю вам свою фотографию. Фотографировалась недавно, на Первое мая. До свидания. С уважением. Вера Васильевна».
Дядя Леша пытался определить и разобраться среди коридоров со множеством дверей, у которых тихо сидели, разговаривали, плакали и молчали, ожидая решения своей судьбы или судьбы близких…
Отодвинув дядю Лешу в сторону, прошел милицейский конвой. Вели двух зеленых совсем, но ухмыляющихся, нагловатого вида юнцов – то ли на заседание суда, то ли с заседания. Рядом семенили их перепуганные насмерть, заплаканные матери.
Неожиданно дядя Леша увидел кожаную куртку своего следователя и заторопился по коридору за ним. Костылев шел быстро, хотя и держал перед собой несколько толстых папок с делами. Дядя Леша толкнул кого-то, не заметив, боясь потерять Костылева, и наконец догнал его, пошел быстро рядом, чуть сзади, растерявшись, не зная, как обратиться.
– Товарищ… гражданин следователь… гражданин следователь, – дядя Леша тронул его за плечо.
Тот остановился, обернулся. И дядя Леша несколько опешил. Это был не его следователь.
– Да, я вас слушаю… – сказал неторопливо этот. Он тоже был молод и был серьезен, был даже похож на Костылева, его следователя, но это был не он.
– А я… – виновато улыбаясь, заговорил наконец дядя Леша, – я думал… Мне следователь Костылев нужен…
– Зачем он вам? – быстро и нетерпеливо, точь-в-точь как Костылев, спросил этот.
– Да… как… – не знал, что ответить, дядя Леша. – По личному делу…
Этот улыбнулся:
– Здесь по общественному редко кто бывает…
Дядя Леша смутился, но в лице его, в глазах возникла вдруг злость, и он сказал неожиданно:
– Я признание пришел сделать… Я это… ложные показания дал…
– А, вон оно что, – удивился этот человек. – Тогда пойдемте со мной…
– Олег, уже начинают! – крикнул кто-то из-за спины.
– Сейчас иду! – не оборачиваясь, ответил он.
Они вошли в узкую, как пенал, комнату. Олег прошел к стоящему у окна столу, сел, стал копаться в ящиках, искать что-то.
– Садитесь, – кивнул он на стул напротив.
Дядя Леша подошел, присел осторожно.
– Как ваша фамилия? – спросил Олег, не поднимая головы.
– Глазов… Алексей Алексеевич…
– Да-да, вспомнил, – сказал Олег, вытаскивая из стола папку. Он раскрыл ее, стал читать.
Дядя Леша попытался заглянуть в папку, увидеть, что этот человек читает, заговорил:
– Ну, в общем… там я тогда неправду написал… ложные показания… дал, значит, ложные показания…
Олег поднял на мгновение глаза.
– Да-да, я слушаю…
– …Я, когда стал эти бандероли посылать… А переводы шли обратно. Я, правда, сперва на почте сказал, чтоб не несли переводы… Чтоб обратно отсылали. А она, бандероль, полтора-два рубля, полтора-два рубля. Я их до десятка за день отправлял, бывало. Гляжу – денег не хватает, и всё. Я сто тридцать получаю, куда больше-то? У меня все есть, дом… всё… А тут на курево не хватает… Думаю – чего ж делать? Ну и стал я переводы эти проклятые брать. – Дядя Леша замолчал, глянул быстро на следователя.
Тот молчал, глядя чуть насмешливо.
– Ну, я точно не считал, – продолжил дядя Леша, волнуясь еще больше. – Может, трояк или пятерку куда потратил, а так… Да мне тратить-то не на что, всё есть… А сберкнижки у меня нету, проверить можете…
Следователь оторвался от бумаг. Дверь открылась, женский голос проговорил нетерпеливо:
– Олег, уже начали…
– Сейчас иду! – крикнул следователь и, улыбнувшись, криво сказал: – На район по штату нас два следователя. Я вот и Костылев был.
– А где ж он? – осторожно спросил дядя Леша.
– А он теперь в Москве… Жена москвичка… – Следователь улыбнулся. Лицо его было усталым. Дядя Леша только сейчас это заметил.
– Это «Слава»? – спросил неожиданно следователь, указывая взглядом на ордена.
– Чего? А-а… да…
– А что же, на третий подвига не хватило? – с улыбкой спросил следователь.
Дядя Леша молчал, не поднимая глаз.
– Ну, в общем, так, Алексей Алексеевич, – заговорил деловито и устало следователь. – Мы получили данные с почты о сумме полученных вами переводов и стоимости почтовых отправлений. Минус сто один рубль выходит…
– Как минус? – быстро спросил дядя Леша.
– Сто один рубль вы из своего кармана заплатили, не нажились вы… А кому-то у вас в колхозе хотелось этого, очень хотелось… Ну, всё… – Следователь поднялся. – Извините, я на совещание…
Дядя Леша спустился вниз, еще, похоже, не придя в себя, и вдруг остановился, что-то вспомнив, побежал, заторопился наверх. Он вернулся к той двери, где они только что расстались, постучал тихо, приоткрыл дверь, просунул голову.
У окна за большим столом сидел, судя по виду, начальник, у стен на стульях – подчиненные. Все удивленно смотрели на дядю Лешу. Он нашел, наконец, лицо того следователя, обратился к нему с виноватой улыбкой:
– Я это… мне ж снова писать будут, черенки просить… Как теперь-то, высылать?..
Олег нахмурился, глянул виновато на своего начальника, потом на дядю Лешу.
– Лучше не надо, – сказал он.
Ночью и утром был сильный дождь, но холод ему на смену, как обычно, не пришел – тучи без ветра подевались бог знает куда, и продолжалась летняя теплынь и благодать.
Дядя Леша ходил перед домом в майке и закатанных по колено брюках, утопая по щиколотку в теплой грязи. Рядом, повторяя и шаги дяди Леши, и даже его выражение лица, ходил мальчик. Тот, который подарил весной звонок. Был он в одних линялых сатиновых трусах, перемазанный грязью.
– Вот так вот, Санек, – повторял негромко дядя Леша. – Потоп у нас произошел… Ну, это ничего… Яблоням не страшно. Зато в рост пойдут теперь. Самая погода для сада… Ночью выйдешь – слышно, как яблоки растут. Аж потрескивают. Не веришь? Я тебе врать не стану.
Не вытерев ноги, он вошел в дом, остановился, уперев руки в бока, в своей комнате. На полу стоял старый мятый таз, почти полный воды. Очередная капля с темного, в разводах потолка сорвалась и упала в таз звонко и весело. На столе стояло также почти полное теплой дождевой воды ведро, на этажерке – большая кастрюля.
…Они вышли из темных сенцев; дядя Леша держал полрулона старого толя, Санек – гремящую, заляпанную краской стремянку. Дядя Леша забрался на крышу и подмигнул сверху Саньку. Тот смутился и почесал затылок. По дяди-Лешиному лицу было видно, что неожиданная эта общая работа нравится ему в такую вот радостную счастливую погоду. Шел дядя Леша по крыше осторожно, передвигая голые ступни по старому, настеленному уже в несколько слоев драному толю, прислушивался к вздыхающему от каждого шага дому.
…Он уже перебросил полоску толя через конек крыши в тех местах, где текло, намереваясь прихватить его гвоздями и благополучно закончить таким образом ремонт, когда в сад, взвывая и разбрасывая в разные стороны ошметки грязи, въехала новая оранжевая «нива». Санек испуганно указал на нее дяде Леше пальцем. Дядя Леша присел на корточки, глядя с интересом и даже любопытством на машину. «Нива» остановилась, и из нее вышли мужчина и женщина – молодые, стройные, красивые, в джинсах и футболках.
В машине на заднем сиденье кто-то остался.
– Здравствуйте! – прокричали мужчина и женщина почти хором и, улыбаясь приветливо, пошли к дяде Леше. Проходя мимо Санька, женщина хотела потрепать его, как ребенка, по волосам, но тот отбежал в сторону и стоял теперь настороженный.
– Здравствуйте, – отозвался на приветствие дядя Леша, негромко и дружелюбно.
– Вы хозяин этого сада? – спросил, подойдя, мужчина.
Дядя Леша улыбнулся.
– Я бригадир…
– Но вы здесь главный?
– Главный – да… – Дядя Леша расправил плечи.
– С хорошим урожаем вас! – прокричала женщина.
Дядя Леша кивнул, а сам поплевал тихонько трижды через левое плечо…
– А вы небось насчет работы… по охране. Так? – спросил он.
– Откуда вы узнали? – удивился мужчина.
– Так приезжали нынче уже… Каждый год ездиют… – объяснил просто дядя Леша.
Из машины раздался громкий собачий лай. Мужчина обернулся.
– Максим, выведи собаку! – крикнул он.
Дверца машины открылась, и из нее выскочила крупная и, видно, хорошо тренированная овчарка, за нею – подросток. По лицу, по розовым персиковым щекам – он был подросток, еще мальчик, но по росту, осанке, крепким бицепсам и уверенному взгляду был юношей, можно сказать, – мужчиной. Несколько мгновений он смотрел на Санька, а Санек на него – по-мальчишески оценивающе и неприязненно.
– Альфа! – приказал юный гость, и собака послушно встала у его ноги.
– А мы глядим, у вас ни забора, ни проволоки… Как вы сад-то охраняете? – спросил, улыбаясь, мужчина.
Дядя Леша улыбнулся в ответ.
– А у нас тут народ не больно здоровый, много не унесет…
– Нет, мы серьезно, – сказала женщина.
– Да не, ребятки, – помотал головой дядя Леша.
– Что так? – Мужчина перестал улыбаться. – Просим немного. Тысячу рублей и две тонны яблок при расчете.
– Тыща рублей, – усмехнулся дядя Леша. – Это ж десять тысяч старыми.
– Кто же сегодня на старые считает? – вмешалась женщина.
– Да есть еще… считают…
– У нас ведь с гарантией, – продолжил мужчина, – ни одного яблока не пропадет.
– У нас собака! – крикнула женщина. – А у вас, я гляжу, нет!
– А я, ребятки, сам заместо собаки. – Дядя Леша смущенно улыбнулся.
– Вас, я вижу, не уговоришь, – разочарованно произнес мужчина. – Скажите, а здесь в округе сады еще есть?
Дядя Леша помотал отрицательно головой.
– Раньше полно было… Теперь один… Да вы б на юг поехали…
– На юге своих хватает…
– Это верно, – согласился дядя Леша. – Охрана – дело серьезное. Было б чего охранять… Так что нет, ребятки…
Ночь стояла лунная, сад – серебряный, любоваться бы, но дядя Леша бежал и притом размахивал суковатой дубинкой.
– А вот я вас! – кричал он. – Стой! Стой, говорю, стрелять буду!
Пацаны летели впереди, поддерживая руками туго набитые яблоками пазухи.
Спускаясь в овраг к озеру, они на ходу раздевались, взвизгивая от жгущейся крапивы, роняя яблоки, заполняли ими спешно объемистые отцовские картузы и с разбегу, поднимая брызги, кидались в спасительную воду.
Дядя Леша остановился наверху и смотрел, как плывут пацаны, держа в поднятых руках скомканную, мокрую одежду и подталкивая плывущие перед собой наполненные яблоками картузы – как маленькие груженые баржи.
У кого-то яблоки белыми пятнами разбежались по черной ночной воде, и он пытался их собрать, что-то часто приговаривая.
– Догнал, Глаз? – крикнул в темноте высоко, ликующе и мстяще кто-то из пацанов.
– Запомнил я вас! Запомнил! – грозно закричал дядя Леша сверху. – Завтра с участковым к родителям приедем! Ты, Симаков!
Он улыбнулся, слушая в ответ только всплески воды внизу, и пошел обратно в сад. По пути подобрал одно из просыпавшихся яблок, откусил, пожевал, сморщился.
– Поросята, – сказал он незло, – зелень совсем…
И вдруг снова увидел белеющие меж яблонями фигуры. Они мелькнули и пропали. Кажется, теперь это были не дети. Дядя Леша постоял пару секунд, замерев, и направился к ним, осторожно ступая по траве и отодвигая рукой от лица низкие, гнущиеся от тяжести плодов ветки.
– Тише! – прошептал кто-то рядом, и дядя Леша остановился снова и замер.
– Тише! – повторил тот же голос – женский, девичий.
– Да никого нет, – возник другой голос, мужской, вернее – почти мужской. – Это тебе послышалось…
Они стояли у яблони: она в светлом платьице, он – в белой рубашке и черных брюках, – тоненькие, юные.
– Не послышалось, не послышалось! – настаивала она. – Он, говорят, с весны до осени вообще не спит, сад охраняет… А кого поймает, тому потом достается.
Дядя Леша, втянув голову в плечи, удивленный, слушал.
– Да болтают это, – не очень уверенно произнес юноша.
– А я боюсь…
Их юные голоса дрожали от темноты ночи, от близости друг друга и от возможной опасности.
– Володь, – укоряюще заговорила она. – Ну не надо, убери руку…
– Ну чего ты? – голос его дрожал даже больше, чем ее. – Сама говорила: пойдем в сад, пойдем в сад… Ну пришли, чего теперь?..
– Давай смотреть, слушать… – серьезно настаивала она.
– Чего слушать, музыка, что ль? – обижался он.
– Музыка, – убежденно отвечала она. – Музыка, конечно…
– Ну давай тогда сядем… Будем сидеть и слушать, – хитрил он.
– Зачем, я не устала, – не сдавалась она. – Ну чего ты, зачем?
Дядя Леша тихо ушел.
Он присел на кровать, которую вытащил из дому и поставил в саду на лето. Сутулясь и положив ладони на колени, долго и внимательно слушал сад. Улыбнулся, видимо, вспомнив что-то, потом, не наклоняясь, сбросил ботинки и лег на спину, заложив ладони за голову.
Снова улыбнулся, повернулся на бок, закрыл, глаза, съежился от наступающей предутренней прохлады.
…Праздничная благость за общим столом вдруг нарушилась, заколыхалась. Вскочили вдруг люди на дальнем краю стола, и кто-то кого-то потянул за грудки. Какой-то длинный мужик выкрикивал что-то часто, выбрасывая вверх худую, как плеть, руку. А другой – плотный, низкий, с разбегу, с ходу, широко и долго вынося из-за плеча кулачище, ударил его в лицо. Бежали туда перепуганные женщины.
– Передрались мужики! Ножами пластаются! – закричал кто-то высоко, будто радуясь.
– Тятя!! Тятенька!!! – визжала девочка-подросток, обхватывая от ужаса голову руками.
– Лешка! Лешка, уйди оттуда!
Дядя Леша приоткрыл дверь:
– Можно?
– А, Алексей Алексеевич, входите-входите!
Савченков, новый председатель, шел навстречу, улыбаясь. Был он молод, лет тридцати, худощав, строен. Они поздоровались за руку, и дядя Леша, кажется чуть смутившись столь радушным приемом, к какому он в этом кабинете не привык, заговорил:
– Я вот чего… зашел, чтоб, значит…
Но председатель не дослушал его:
– Очень хорошо, что вы пришли, Алексей Алексеевич… Никак нам не удается поговорить… Только ответьте мне сперва, пожалуйста, на такой вопрос, – председатель улыбнулся. – А то я смотрю на вас и поверить не могу… Скажите, это правда, что вы из-за своего сада однажды чуть не зарубили одного из председателей?
Дядя Леша удивленно и непонимающе смотрел на Савченкова.
– Правда? – повторил вопрос тот.
Дядя Леша улыбнулся.
– Да это когда было-то… Я уж не помню…
– Ну все-таки, Алексей Алексеевич… – настаивал председатель.
– Да Соловьев был такой, деловой… – заговорил недовольно дядя Леша. – Пришли они, значит… Тогда все кукурузу сеяли… Чуть не с оркестром пришли… И у Соловьева, значит, в руках топор… Ну, я выхватил его и на него. А кто вам сказал?
– Да сказали… Я подумал – попугать решили…
Дядя Леша смутился. Он только сейчас заметил, что новый председатель сидит за столом рядом с ним, а не за столом, как принимал Селиванов, и не напротив, как следователь Костылев.
– А где ж шофер-то ваш… секретарша? – спросил он. – Они ж там все время сидят…
– Сидели, – поправил председатель, – время горячее, а они сидят… Я ее на ток работать отправил, а его в мехцех, в ремонте помогать. По-новому работаем, по-новому…
– Понятно, – еще больше приободрился дядя Леша. – Дело хорошее…
– Ну, это еще не дело, Алексей Алексеевич. – Председатель разворачивал на столе большой лист ватмана. – Вы, наверное, слышали, что у нас – переспециализация… Птицеводство… Отрасль выгодная… На строительство птицеводческого комплекса и жилого поселка нам пообещали восемнадцать миллионов рублей. Вот будущий поселок, видите? С многоэтажным селом покончено! Колхозник возвращается к земле. Но при этом имеются все городские удобства… Вот коттеджи на одну-две семьи… ванные, санузлы, даже камины… Гаражи, подвалы, здесь же небольшие приусадебные участки… А вот школа-десятилетка со спортзалом и бассейном, Дворец культуры, кафе.
– А сад? – насторожившись, спросил дядя Леша.
– Детский сад? Вот он, – ткнул председатель пальцем в какой-то квадратик на ватмане.
Дядя Леша молчал.
– Ах да, извините, – улыбнулся председатель. – Сад ваш здесь, за планом. То есть – наш сад… – поправился он. – Я ведь знаю, что сад этот – исторический, что о нем даже в летописях упоминали… На всю Россию здешние сады были знамениты… Лечились этими яблоками… Воевали, чтобы ими обладать… Вы, быть может, удивитесь еще больше, но в сельхозакадемии я заканчивал садоводческий…
Дядя Леша смотрел на нового председателя удивленно и недоверчиво.
– Так, а как же – по птицеводству? – спросил он, до конца, похоже, что-то не понимая.
– Ну, это, знаете, – развел руками Савченков. – Это сам собой не распоряжаешься, номенклатура… Но за садом мы теперь вместе будем смотреть, если позволите, конечно…
– Так… – растерялся дядя Леша, – всей душой, как говорится. Нам же столько надо! Вот хранилище! Вот все говорят – импортные яблоки хранятся хорошо, их в Москве до нового урожая продают. Да наши яблоки-то лучше! – горячился дядя Леша. – И по вкусу, и по лежкости… Уж по полезности не говорю… Как бы нам овощехранилище, а, Игорь Евгеньевич?
Новый председатель по-доброму смотрел на него и чуть заметно улыбался.
– Все правильно, Алексей Алексеевич… Я с вами полностью согласен… Только не все сразу… На все нужно время, силы… А сейчас вас что волнует?
– Уборка, Игорь Евгеньевич, уборка меня волнует…
В маревом горячем воздухе стоял запах созревших яблок и теплой земли.
Неподалеку от его дома, почти под яблонями, на наскоро сложенных печурках хлопотливые поселковые старухи с выбившимися из-под платков прядями прилипших к потным лбам волос варили в больших тазах варенье из перезревшего белого налива, из некондиционной «китайки» и «райки», которые в округе только и остались, что в этом саду.
Время от времени они вытирали тыльными сторонами ладоней потные лица, мотали головами, безбоязненно и привычно отгоняли пчел, от которых воздух в саду гудел и колыхался.
Дядя Леша шел от пасеки, потирая пожаленные ладони, улыбался, щуря на солнце глаза. Был он в драных брюках, в бессменной своей красной когда-то майке, в старой, с прорехами, широкополой соломенной шляпе.
– Лешк! – крикнула неожиданно высоким веселым голосом одна из женщин. – Ты шляпу-то с чучелы, что ль, стащил, а?!
Дядя Леша улыбнулся. А женщины захохотали, оторвавшись от своего важного и горячего дела.
Колхозники и колхозницы суетились у длинных, с чужими номерами трейлеров – грузили в них яблоки. Здесь работали все: и новый председатель, и тетка Ира с Райкой, и конечно же дядя Леша.
– Всё, перекур! – крикнул председатель и вытер платком пот с лица.
– Может, еще машинку загрузим? – спросил на всякий случай дядя Леша.
Председатель улыбнулся шутливо-укоризненно:
– И не жалко вам, Алексей Алексеевич, людей?
– Они сами себя пожалеют, – отвечал на ходу дядя Леша. – А яблоки перележивают…
– На тот год поболе соберем! – крикнула Маруся-почтальонка, которая сегодня тоже в саду работала.
– Не, – не согласился дядя Леша. – Теперь сад год отдыхать будет. Вы отдыхаете, а сад что ж, без отдыха…
Дядя Леша посмотрел вокруг. День был ясный, теплый, солнечный, может быть, последний такой день в этой осени. Колхозники отдыхали – разговаривали друг с дружкой, смеялись, сидя на ящиках и полулежа на кучах яблок, и все, каждый, ну просто каждый, со вкусным хрустом и видимым на лице удовольствием грыз крупные, краснобокие и сочные яблоки.
И дядя Леша вдруг улыбнулся счастливо и широко, развел в сторону руки, выпятил грудь и, запрокинув голову, вдарил изо всей силы каблуком сапога в землю – пошел в пляске.
– Э-э-х!!! Эх!!! – закричал он, не вспомнив никакой частушки.
– Ну всё, Лешка наш заплясал, значит, девки, дело будет! – весело крикнула Маруся.
Все засмеялись, и дядя Леша остановился, мотнул сокрушенно и смущенно головой и увидел улыбающееся почти лицо Ирки. Постоял и подошел чуть нерешительно. Ирка откусила от яблока, пожевала с хрустом, заговорила громко и совсем дружелюбно:
– Вкусны у тебя нынче яблоки, кум, вкусны! Ничего не скажешь…
– Так работали с Николаем-то твоим, старались, – улыбнувшись, быстро ответил дядя Леша. – Как он там? Некогда сходить все…
– Поправляется… Про тебя спрашивает… Так поехали в воскресенье вместе… на десятичасовой автобус подходи утром… Радый будет… Скоро уж, говорят, выпишут…
Дядя Леша улыбнулся.
– А у меня яблонька столетняя есть одна, секретная… Там яблоков с десяток всего, правда, да хватит… старинный сорт, лечебный… Живое яблочко…
– Молодильное… – засмеявшись, подсказала Ирка.
– Чего? – не понял сразу дядя Леша. – Ага, молодильное, молодильное… – улыбаясь, повторил.
Сзади загудел грузовик.
– Ну, когда грузить будете?! – закричал-заругался шофер.
И дядя Леша, забыв об Ирке, заторопился к нему, поднимая людей для работы.
Гудела и скрежетала в саду техника. Бульдозер давил, резал, смешивал с глиной, сгребал яблоки в одну кучу, где трудился погрузчик «Беларусь». Он хватал яблоки стальным ковшом и сыпал в кузов самосвала. Стекла погрузчика были украшены репродукциями картин Рубенса, вырванными из журнала «Огонек»: похожих сложением на деревенских баб голых дочерей Левкиппа похищали, хотя они и были теперь в мазуте и солярке.
Дядя Леша шел, сутулясь, глядя перед собой в землю. Из погрузчика посигналили, но дядя Леша продолжал идти, не останавливаясь.
– Дядь Леш! – прокричал кто-то.
Дядя Леша обернулся. Витек, дяди-Колин сын, выскочил из погрузчика, оставив поднятым над кузовом ковш с яблоками.
– Ладно, заткнись, – бросил он на ходу шоферу самосвала, который было возмутился, подошел к дяде Леше шарнирной своей походкой.
– Здоров, дядь Леш, как она, ничего-то? – сказал он, широко улыбаясь и прибавил: – Дай-ка в зубы!..
Дядя Леша протянул папиросы.
– Коровки и плодово-ягодным доиться будут, – гоготнул Витек.
Дядя Леша ничего не сказал, повернувшись, пошел дальше.
На автобусной остановке стояли несколько собравшихся в город поселковых; они разговаривали, поглядывая на дорогу, по которой, не торопясь и погромыхивая, приближался грязнобокий колхозный автобус.
Дядя Леша подходил, успевая, даже опережая автобус, и видел тетку Иру с толстой хозяйственной сумкой с передачей для Николая. В руке дяди Леши была сетка с теми самыми, видно, молодильными яблочками. В зубах он держал незажженную папиросу.
Из-за спины автобуса кто-то требовательно посигналил, и он сбавил ход, прижался к обочине, уступая дорогу серьезным спешащим «Волгам». Дядя Леша лишь мельком глянул на них, переложил из руки в руку сетку. «Волги», их было штук пять, затормозили и встали одна за другой в сотне метров от остановки. Поселковые, наверное, обязательно посмотрели бы теперь на начальство, пообсуждали бы его, подогадывались бы вслух, по какому поводу, зачем оно здесь появилось в таком большом количестве, но подошел уже автобус, взвизгнув, распахнул двери-гармошки, и надо было садиться, занимать свободные места, пока они еще были.
Дядя Леша вытащил из кармана открытую пачку «Севера» и хотел вернуть туда папиросу, но, кажется, забыл вдруг про это, как-то рассеянно и неспокойно поглядывая то на начальство, которое выходило из машин, собираясь о чем-то своем совещаться прямо здесь, на обочине, то на грязные стекла автобуса. На заднем сиденье уже сидела тетка Ира. Она видела дядю Лешу и улыбалась ему. Дядя Леша тоже улыбнулся.
– Лех, давай, место держу! – крикнул из автобуса какой-то знакомый мужик и махнул рукой.
А дядя Леша подошел с папиросой к кабине шофера и попросил спички, теперь уже не отрывая взгляда от тех людей, которые стояли около «Волг» полукругом и о чем-то разговаривали.
Вытягивая шею, напряженно и непонимающе наблюдала за ним тетка Ира.
– Леха, давай скорей, – крикнул из автобуса тот же мужик, но дядя Леша даже, кажется, и не услышал, прикурил, вернул шоферу спички и пошел вперед.
Посредине стоял новый председатель. С листом ватмана в руке он объяснял что-то всем, а особенно стоящему рядом высокому мужчине в сером глухом плаще и шляпе.
Новый председатель взмахивал свободной рукой, показывая, видимо, где пройдут улицы нового поселка, а где встанут производственные корпуса птицефабрики. Дядя Леша протиснулся к нему сзади, потянул вежливо за рукав.
– Извиняюсь, Игорь Евгеньич, – заговорил он негромко, тихо даже и почти спокойно, – так как же с шефами, а? Который уже день обещаете… А яблоки падают, гниют… Коровам скармливаем… – Дядя Леша говорил это все новому председателю, а сам взглядывал то на одного начальника, то на другого, словно искал участия. – Я извиняюсь, конечно… – закончил дядя Леша, обращаясь уже ко всем и переводя дух.
Новый председатель довольно испуганно и вымученно улыбнулся.
– Познакомьтесь, пожалуйста, – заговорил он, представляя дядю Лешу, – Глазов Алексей Алексеевич, наш бригадир садоводства… Воюем с ним из-за шефов… Мне дали двести человек, но только на картошку, – объяснял председатель, обращаясь ко всем, но больше – к стоящему напротив высокому крупному мужчине в сером глухом плаще и шляпе.
– Что, действительно скармливаете коровам? – спросил тот.
– Некондицию, только некондицию, Виктор Иванович…
– А отчего она выходит, некондиция… – попытался вставить дядя Леша, но председатель его перебил:
– Винзавод теперь не принимает, производство соков нам невыгодно разворачивать, сад в общем небольшой…
– Так вы что, еще не убирали яблоки? – довольно строго спросил вдруг Виктор Иванович.
– Да нет, Виктор Иванович, план мы перевыполнили… Сто двадцать пять процентов дали… Потрудились на славу… всем колхозом…
– Да там еще два плана! А то и три! – заволновался вдруг дядя Леша. – И какие яблоки остались! Убрали-то раннеспелые сорта, нележкие… А самое яблоко – на ветке… да на земле… некондиция! – дядя Леша зло зыркнул на председателя. – Отчего оно некондицией становится? На земле лежит… Некондиция…
– Успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь. – Виктор Иванович улыбнулся, глядя дяде Леше в глаза. – Подумаем мы насчет шефов, подумаем…
– Так думать-то некогда. – Дядя Леша инстинктивно потер левую половину груди. – Некогда думать… Убирать надо… сад – он же живой… Не уберем мы, он обидится, плодоносить долго не будет…
Все вокруг вдруг заулыбались.
– Ну, это уже мистика… – Виктор Иванович тоже улыбался.
– Алексей Алексеевич, – торопливо подсказал новый председатель.
– Это уже мистика, Алексей Алексеевич… А нам надо быть реалистами… Вы вот мне скажите лучше, сколько лет живет яблоня… Я, признаться, так и не знаю… Двадцать, тридцать?..
Дядя Леша глянул недоверчиво на Виктора Ивановича.
– Яблони – как люди… по-разному живут… У кого жизнь какая… И шестьдесят, и восемьдесят… и сто лет живут…
– Сто? – Виктор Иванович и остальные, кажется, не совсем поверили.
– Да вот… – дядя Леша поднял сетку, которую держал в руках. – Вот яблоки с яблони восемьдесят второго года рождения. Тысяча восемьсот восемьдесят второго года… Больше ста лет выходит…
И стоящие вокруг серьезные люди подались сюда сразу и с почти детским любопытством смотрели на столетние яблоки…
– Для сада терпение нужно… Есть ведь сорта, они в пятьдесят лет только плодоносить начинают… – объяснял дядя Леша.
– Да, долго… – задумчиво произнес Виктор Иванович, отрывая взгляд от сетки с яблоками. – Мы на юге области закладываем спецхоз на четыреста гектаров плодовых деревьев и кустарников. Не хотели бы там поработать? Нам нужны хорошие специалисты.
– Не, – смутился дядя Леша. – Я уж тут…
– Почему? Там перспектива…
– Знаю я эту перспективу, – перебил его дядя Леша. – Скороспелок натыкают… Через пять лет урожай, через десять – вырубай… Это не яблони… Яблони у нас…
– Ну, а если вдруг на месте этого сада комплекс будет строиться?
– Какой комплекс? – быстро спросил дядя Леша.
– Птицеводческий комплекс… Вы ведь наверняка знаете, что в районе, и в колхозе в частности, начался процесс переспециализации…
Дядя Леша подался чуть вперед, спросил недоверчиво, настороженно:
– Чегой-то – на месте сада? Где такое записано? У нас на пятилетку план по яблокам… И зачем тогда специализацию было делать, если теперь это… пере…?
Виктор Иванович улыбнулся.
– Я не посягаю на ваш сад, Алексей Алексеевич, я говорю в принципе…
– Так и я… в принципе… А мы в пятилетку записаны, сад никакая собака не тронет…
– Я не спорю с вами, Алексей Алексеевич… Сад ваш наверняка хороший, красивый, и яблоки вот… – Виктор Иванович глянул на сетку в руке дяди Леши. – Но вы у любого спросите, что сегодня нужней: сад или птицеводческий комплекс? Нам народ надо кормить, Алексей Алексеевич.
– Так что ж, значит, чтоб накормить – сад под корень? А? – глаза дяди Леши сузились, он подался вперед.
– Да вы успокойтесь, – улыбнулся Виктор Иванович. – Мы видим, как вы любите сад.
– А чего мне его любить? – Кажется, дядя Леша уже не мог успокоиться. – Чего мне его любить? Чего хорошего я через него видел? У меня, может, через него вся жизнь перевернутая!.. Только я вот чего тебе скажу…
Председатель схватил дядю Лешу за локоть, останавливая, но тот вырвал руку:
– Да пусти ты! Я вот чего скажу… И сам понимаю, и по рассказам знаю… Жили не то что теперь… Мясцо ре-едко в щах, ре-едко… А в новину, бывало, и пухли, жрать совсем нечего. Только сады-то все держали!.. В каждом колхозе свой сад!.. Не в сытости дело, от яблок брюхо не вырастет… не в сытости дело, а в радости, в радости, понял, как тебя…
Он вбежал, задыхаясь, на пятый этаж, остановился у приоткрытой двери с цифрой «55», из-за которой доносились тихие глухие голоса, вошел.
В квартире было полутемно, серо. Первое, что он увидел, – зеркало в прихожей, завешанное полотенцем, и телевизор в комнате, которым хвастался Николай. Экран телевизора был прикрыт тряпкой. На диване лежал пластом, не двигаясь, Витек. Из кухни быстро шла Райка. Она не видела дядю Лешу.
– Рай! – позвал он тихо.
– Ой, дядь Леш, дядь Леш! – прижалась Райка к его плечу, став вдруг маленькой и жалкой.
– Рай, кто там? – спросила из комнаты тетка Ира чужим, сорванным криком голосом.
– Свои это, свои! – испуганно крикнула в ответ Райка и зашептала, глядя снизу: – Ты бы шел, дядь Леш…
– Да как же, – забасил дядя Леша, не понимая.
Тетка Ира вышла в прихожую, в черном, с провалившимися глазами на сером лице, с синими покусанными губами. Сзади ее удерживала за руку какая-то старуха.
– А, куманек дорогой явился! – громко заговорила тетка Ира. – С яблочками со свово сада, с бутылочкой! Друг от самого детства, как же… Ты чего пришел? – грозно спросила она. – Сестру мою на тот свет свел, теперь мужика? Горбил на твой сад всю жизнь… А?! – Голос ее поднялся до невыносимого.
– Ир, – заговорил хрипло и испуганно дядя Леша, но она, поднимая руку и вырываясь от старухи, закричала в близкой бабьей своей истерике:
– Пошел отсюда, гад! И только приди! Приди только на похороны! Попробуй только!
– Иди, дядь Леш, иди, видишь, какая она, – Райка подталкивала дядю Лешу к двери.
Спускаясь по лестнице, он заклохтал вдруг горлом, шмыгнул громко носом, торопливо провел рукавом пиджака по глазам…
– Три больших красных автобуса остановились один за другим, из них высыпали разом человек, может, двести – разноцветная и шумная засидевшаяся городская толпа.
– Ой, девочки, прелесть какая! – вырвался из общего гомона восторженный женский голос.
– Юра, лезь сюда! – кричал какой-то мужчина. – Гляди, какие яблоки!
– Вкуснотища!
– Первый раз повезло – всю жизнь на картошку посылали!
– А я думала, у нас такие не растут, надо же!
– Есть, есть еще места заповедные!
Дядя Леша молча и беспомощно смотрел на эту неуправляемую, пугающе свободную массу людей.
– Товарищи! По саду не расходиться и на деревья не влезать! – пришел неожиданно на помощь голос, усиленный ручным мегафоном. Руководитель шефов, в джинсах и штормовке, стоя к дяде Леше спиной, наводил порядок: – Зюкин, кому говорят, слезьте с дерева!
Рядом с руководителем стоял и председатель, который увидел дядю Лешу и призывно помахал рукой.
Председатель тронул руководителя за локоть, заговорил:
– А вот наш садовод… А это руководитель шефского отряда, Виктория Васильевна…
Дядя Леша еще больше растерялся, поняв, что руководитель – женщина.
Она пристально и твердо посмотрела на него, пожала руку.
– Очень приятно! – и, обернувшись, прокричала в мегафон: – Зюкин, слезьте с дерева! Лишим квартальной премии!
– А вы, значит, из института, учите или так просто, делаете чего? – поинтересовался больше из вежливости дядя Леша.
– Делаем чего, – коротко ответила Виктория Васильевна, поглядывая по сторонам.
– И чего ж делаете?
– А вот этого спрашивать не следует, – с укоризной в голосе произнесла Виктория Васильевна и снова заговорила в мегафон: – Внимание, товарищи, внимание! Сейчас перед вами выступит главный садовник колхоза… Как вас? – обратилась она тихо к дяде Леше.
– Глазов Алексей Алексеевич, – помог председатель.
– Алексей Алексеевич Глазов! – объявила руководительница.
– Чего говорить? – растерялся дядя Леша, принимая мегафон.
Шефы ждали.
– Говорите-говорите! – торопила руководительница.
– Товарищи! – заговорил дядя Леша. – Значит, это… Яблоки в нашем саду натуральные, не опрысканные, поэтому кушайте на здоровье!
Шефы закричали «ура», засмеялись и зааплодировали.
– Только на деревья не лазийте, товарищи, по-хорошему прошу! Это ж хуже, чем на человека наступить. У нас лестницы есть, стремянки… Значит… А когда яблоки рвать будете, не отрывайте вместе с плодоножкой. Вот, глядите как. – Он поднял руку к ветке, показал. – Чтоб плодоножка на ветке осталась… Мне мой дед рассказывал, – дядя Леша, забыв, опустил мегафон, но тут же, потеряв голос, поднял его, – мне мой дед рассказывал… когда здесь была уборка при графе Семенове, он сборщикам выдавал лайковые перчатки! Чтоб яблоки не портить…
Шефы снова засмеялись и зааплодировали.
– У нас, правда, перчаток нету, но вы уж постарайтесь! – дядя Леша сунул мегафон председателю и пошел к дому.
Шефы веселились и радовались почти как дети.
В дом постучали.
– Да, – сказал дядя Леша и положил под зажженную настольную лампу свою клетчатую рубаху и новую заплатку к ней.
– Можно? – услышал он за дверью женский голос. Мягкий, спокойный, усталый и терпеливый.
Дядя Леша молчал и не двигался.
– Можно? – повторил голос, и дверь осторожно открылась. На пороге стояла руководительница шефов, она улыбалась.
– А-а, – чуть улыбнулся в ответ дядя Леша. – Вера Васильевна…
– Виктория Васильевна, – поправила руководительница, впрочем, кажется, совсем не обидевшись. – А я думаю, дай зайду напоследок… А то ведь так и не удалось поговорить…
– Да я сам собирался выйти… – сказал дядя Леша. – Рубаха вот порвалась… Не знаю, как вас всех и благодарить… – голос дяди Леши был хриплый, севший. Он улыбнулся. – Охрип вот… Каждому пока объяснишь… Все-таки много у вас непонятливых людей, Виктория Васильевна… Вроде ученые…
– Ученые, ученые… – улыбаясь, громко повторила Виктория Васильевна. – Это мы вас должны благодарить, Алексей Алексеевич…
Она подошла к этажерке, глянула на кипу журналов «Садоводство», взяла в руки бронзовый бюстик человека – в шляпе с бородой.
– А кто это? – удивленно спросила она. – Как будто знакомое лицо.
– Так Мичурин! – улыбнулся дядя Леша.
– Ах, правда! – удивилась Виктория Васильевна. – В школьных учебниках был его портрет. Помню, когда учительница про него рассказывала, я так загорелась! Набрала косточек от сливового компота и во дворе посадила. Представляете? И тут у вас Мичурин. – Она смотрела на корешки толстых книг. – Это что, он все написал?
Дядя Леша кивнул.
– Можно?
Виктория Васильевна вытащила книгу, и вместе с ней выдвинулась наклеенная на картон фотография. Так фотографировали в конце сороковых – начале пятидесятых: задником служила клеенка, нижний край которой лежал, чуть загнувшись, на дощатом плохо выметенном полу. Какой-то дворец с балюстрадой и озеро с плавающими лебедями и круглой беседкой на краю, острые кипарисы в отдалении… Дядя Леша был в своем костюме с наградами: два ордена Славы и медали. Рядом сидела Тоня, красивая, в красивом же модном платье трофейного шелка. На коленях их сидели дети. У дяди Леши – улыбающаяся девочка, у Тони – немного испуганный, верно, только из парикмахерской, подстриженный «с чубчиком» мальчик.
Дядя Леша терпеливо молчал. И Виктория Васильевна молча вернула фотографию на место.
– Я присяду? – спросила она.
– Конечно-конечно! – смутился дядя Леша и пододвинул ей стул.
– Знаете, – заговорила Виктория Васильевна, – смотрела я на эту всю уборку и завидовала. Думала, знаете, что? Бросить все к чёрту – лабораторию, диссертацию, общественную работу! Поехать вот так куда-то и работать в саду. Вырастить, знаете, свой сад!
Дядя Леша понимающе закивал.
– Дело ж хорошее, конечно… Только сады тут сейчас не очень-то сажают. Что не вымерзло, то вырубили. А заново сад разбивать потяжельше будет, чем за старым ухаживать.
– Да… – задумчиво произнесла Виктория Васильевна.
Дядя Леша молчал.
– Да… – повторила она. – Непросто, оказывается, быть и садовником.
– Так я не садовник, – не согласился дядя Леша. – У меня должность – бригадир садоводческой бригады. Садовод…
– Странно, – удивилась Виктория Васильевна. – А я думала, садовод – кто новые сорта выводит… Ну вот Мичурин, например… А кто ухаживает за садом, бережет его, тот – садовник…
Дядя Леша молчал, удивленный.
– Может, оно и так, – негромко произнес он. – Так что ж теперь делать.
Вдруг в сенцах что-то загремело, дверь распахнулась, и в комнату ввалилась Маруся-почтальонка.
– Принимай, Лешк, южные гостинцы! С доставкой на дом! – Маруся держала в руках, прижимая к животу, большой фанерный ящик посылки. – Десять двести! Там у нее небось тоже блат на почте, – сказала Маруся и бухнула посылку на стол.
И тут она увидела Викторию Васильевну, но растерялась лишь на мгновение, подошла, протянула ладонь лодочкой:
– Будемте знакомы – Маруся…
– Виктория Васильевна, – приподнялась та и пожала протянутую руку. Она, похоже, еще больше растерялась.
– Уезжаете? – спросила Маруся и глянула на окно, где шумно и бестолково садились в автобусы шефы.
– Да, уезжаем, – торопливо ответила Виктория Васильевна.
Маруся кивнула.
– А мы остаемся…
Она была весела. Увидев, что сесть некуда и не предлагают, она плюхнулась на кровать и, бросив на подол юбки крупные короткопалые ладони, заговорила:
– Пенсию сегодня разнесла бабкам. «Пензию»… Так чтоб меня да не угостили?.. А ты? – укоряюще и шутливо-строго обратилась она к дяде Леше… – Ну не стыдно тебе? Письма тебе таскаю, бандероли, переводы, отправляю… Посылку вот – с доставкой на дом, чуть не надорвалась. Ну хоть бы раз отблагодарил! А то ведь стимула нет, Леш, сти-му-ла!
– С получки, Марусь, с получки, – привычно отшутился дядя Леша и замолчал.
Наступило вдруг молчание. Молчала Маруся. Молчала Виктория Васильевна. Молчал дядя Леша.
– Отгадай вот лучше загадку, Марусь, – предложил вдруг дядя Леша. – Отгадаешь, тогда и стимул будет. Сразу в магазин побегу.
– Давай! – обрадовалась почтальонша. – Обожаю загадочки отгадывать!
Дядя Леша взял со стола пачку «Севера», ткнул в рисунок пальцем.
– Вот найди здесь белого медведя, – сказал он спокойно и серьезно.
– Прямо медведя? – Маруся разглядывала пачку.
– Ищи-ищи, – подбодрил дядя Леша.
Маруся, не отрывая сосредоточенного взгляда от папирос, подошла к Виктории Васильевне.
– Ты тоже ищи, – сказала она вполголоса, и Виктория Васильевна стала вежливо смотреть в рисунок.
– Врешь небось – белого медведя? – подняла Маруся недоверчивые глаза.
– Когда я врал? – щуря глаза, спросил дядя Леша.
Маруся вертела пачку так и сяк, спрашивала что-то шепотом у Виктории Васильевны и наконец не выдержала.
– Сдаюсь, чёрт с тобой! Сдаемся!
Дядя Леша придвинулся к ней, ткнул пальцем в рисунок.
– Видишь эту горочку?
– Ну? – кивнула Маруся, вся ожидание.
– Так вот он за нее пописать пошел.
– Кто? – не поняла Маруся.
– Белый медведь, – дядя Леша был серьезен.
Маруся молчала секунду, потом зашлась в смехе. Виктория Васильевна улыбнулась, но скорее от неловкости.
– Ну, до свидания, я пойду, – поднялась она. – Было очень приятно познакомиться. До свидания, Алексей Алексеевич. – И она вышла быстро.
Маруся замолчала, посидела, вытирая выбитые смехом слезы, и тоже поднялась. Уже в двери она погрозила дяде Леше пальцем.
– А ты жук, Глазов, тихеньким прикидываешься…
Тут засмеялся и дядя Леша, глухо, нутряно, прикрывая кулаком рот.
Он достал из кармана пиджака садовый секатор, стал открывать посылку. Ее фанерная крышка была прошита крупными гвоздями, которые поддавались туго, со скрежетом и визгом. Но эти звуки вдруг стихли, и в комнате в третий и последний раз в нашей истории возник тот женский голос, мягкий, добрый, спокойный и по-прежнему застенчивый:
«Здравствуйте, уважаемый Алексей Алексеевич!
Большое спасибо вам за письмо. Я так рада. Очень рада я также, что урожай у вас в этом году удался. Алексей Алексеевич, а мне тоже жаловаться грех. И гранаты, и виноград, и персики – все отличное просто! Про яблоки и груши я уже не говорю. И грецкий орех стоит, как обсыпанный. А вы бы только видели розы! Алексей Алексеевич, я спрашивала в письме, когда у вас отпуск, а вы так и не написали. Может быть, выберете время и приедете, посмотрите на мое житье-бытье, увидите, как здесь все растет. И не думайте, вы меня нисколько не стесните, дом большой… Я слышала, что ветераны войны имеют право на бесплатный проезд, так что убытком для вас это не станет. Ну а у меня здесь все свое.
До свидания. С уважением. Вера Васильевна.
Собрала посылочку для вас, угощайтесь. Правда, пришлось срывать все немного недозрелое, побоялась, что в пути испортится.
До свидания. С уважением. Вера Васильевна».
Дядя Леша отложил крышку, поднял положенную сверху газету. В посылке были аккуратно уложенные темно-вишневые гранаты, длинные коричнево-золотистые груши, нездешние яблоки, крупные, продолговатые, воздушно-розовые, и плоды, каких он еще не видел, – изумрудные пальчики фейхоа…
Начиналось за окном утро, но дядя Леша не ложился, сидел прямо и немо за столом. Постель за его спиной оставалась нетронутой.
Дядя Леша резко поднялся, подошел, ступая по замусоренным половицам, к окну, наклонившись, посмотрел в раннее сереющее утро, нажал на кнопку настольной лампы, включил свет.
Он вернулся к кровати, присел, пошарил под ней рукой и вытащил небольшой пузатый чемодан, очень старый, но из настоящей телячьей кожи, на крышке его у потемневшего латунного замка выдавлено было тиснением какое-то длинное немецкое слово. Дядя Леша поставил чемодан на кровать, щелкнул замком, поднял крышку. На внутренней ее стороне были наклеены старые, вырезанные из журналов фотографии: портрет маршала Жукова и цветущая раскидистая яблоня. Дядя Леша перевернул чемодан и вывалил из него на постель несколько пар обуви, женской и детской, сморщенной, скукоженной временем, отодвинул ее в сторону, чтобы не мешала, и распахнул дверцу гардероба. Из нижнего ящика он выхватил белье – трусы, майки – и сунул его, скомкав, в чемодан. Увидев мигающие цифрами часы, дядя Леша подошел быстро к столу, выдернул вилку из розетки, намотал шнур на конус продолжающих отсчитывать секунды часов, положил их в угол чемодана. Вынул из этажерки все четыре тома Мичурина и пристроил рядом с часами.
Потом он встал посреди комнаты, посмотрел по сторонам. Выходило, что брать с собой больше нечего. Достал из гардероба сорочку и костюм и быстро оделся. Из ящика стола взял документы: паспорт, из которого торчала тоненькая стопочка денег, трояков и пятерок, зеленую совсем новую книжечку участника войны, наградные удостоверения; спрятал все в боковой карман пиджака. Открыл было коробку из-под зубного порошка с гремящими внутри орденами, но тут же закрыл, положил в чемодан, и письма, перехваченные черной резиночкой от микстуры, тоже. Вдруг, кажется, вспомнил что-то, включил лампу, стал шарить ладонью по заваленному газетами и бумажками столу. Что-то упало, резко звякнув, и покатилось, поблескивая и звеня, под кровать. Это был велосипедный звонок. Дядя Леша проводил его взглядом и нашел, что искал, – папиросы, сунул их в карман.
Закрыл чемодан, поставил его на пол, сдернул с гвоздя брезентовый дождевик и шапку, свободной рукой подхватил чемодан, но тут же вернул его на место, присел, прямой, решительный и нетерпеливый, на край кровати – на дорожку. И уже через секунду поднялся с дождевиком и шапкой в одной руке и с чемоданом в другой, хлопнув сильно дверью, вышел из комнаты.
Прошуршал и шлепнулся на пол отвалившийся от печки треугольничек штукатурки.
Комната осталась пустой, разгромленной и покорной.
Заскрежетал в скважине ключ – дядя Леша закрыл снаружи дверь.
За окном светало. Старые черные яблони не двигались. Стало совсем тихо.
И вдруг ключ снова заскрежетал, хлопнула дверь, в сенях упало, загремев, ведро, дверь распахнулась. Дядя Леша ворвался в комнату, бросил чемодан на кровать и снова торопливо вышел.
Старые, тяжелые от воды черные листья ветер гонял по земле. Дядя Леша остановился у старой уже могилки с каменным надгробием; посмотрел на фотографию, переведенную на овальную металлическую пластинку – с той самой фотографии, что лежала между книг на этажерке у дяди Леши. Внизу было выбито: «Глазова Антонина Андреевна. 1925–1965».
Николая похоронили рядом. На бугре еще не осевшей влажной комкастой глины стоял сваренный из листового железа, покрашенный бронзовой краской конус с красной звездой наверху. Дальше шло пустое, заросшее травой пространство – кладбище росло в эту сторону. Совсем без скорби во взгляде, но недоуменно и непонимающе смотрел дядя Леша на надпись: «Стеклов Николай Николаевич». Фотография была старая, дядя Коля молодой, на себя, последнего, непохожий.
Дядя Леша снял дождевик, расстелил его на земле, накрыв край могилы, поставил бутылку, вытащил из кармана стакан и пару яблок, сел.
Он налил полный стакан, медленно и спокойно выпил, взял яблоко, но закусывать не стал, лишь понюхал, поежился то ли от водки, то ли от холода, прикрыл глаза. Но словно очнулся, вздрогнул, отгоняя от себя это оцепенение. И заговорил вдруг громко, спокойно, серьезно:
– Устал я, Коля, заморился… Совсем чего-то заморился… Сила-то есть еще вроде, двину кого – не подымется, да на что мне она? Душа заморилась, тут чего делать?
Он закурил, глубоко затянулся, успокаиваясь, задумался, снова заговорил:
– Детей из дому выгнал… Тоню, как ты говоришь, не сберег… Да правильно говоришь, запряг я ее как ломовую лошадь, мою Тонечку, а она не потянула… И тебя не сберег… И правильно меня Ирка твоя ненавидит… Вырастил я сад, сучья крепкие… Да-а-а-а, – протянул дядя Леша, вот-вот, кажется, готовый заплакать. – А сколько можно так-то, а?.. Один пацан, один мальчишечка за столько лет в помощники пришел. Я сперва обрадовался, вот, думаю, притравлю его к саду, как отец меня притравил. Свалил сад на меня, как умер, согласья не спросил… Уж такой он мальчонка хороший… А… глухонемой… И меня не слышит, и сам сказать не может… Санька… Санька-немтырь… Звонки в интернате делает… – Дядя Леша помолчал, но усмехнулся вдруг, засмеялся почти. – А мне, Коля, снова письма пошли. Черенков просят прислать. Я вчера их собрал все, штук сорок, да на конвертах написал: «Адресат не проживает»… Ха… Нету меня тут… Тебя нету, значит, и меня нету… – Он помолчал, почувствовав, видимо, что заговорил не о том, прибавил тихо и виновато: – Холодно тебе, темно?.. Вот так вот… Ну да что ж мы, смертей не видали?.. Четвертый взвод, черти корявые, подтянись! – закричал он с каким-то горловым клёкотом. И замолк, как онемел, мелко кивая головой. Губы его растянулись то ли в близком смехе, то ли в близком плаче. Но не засмеялся и не заплакал. Взял бутылку, вылил водку в стакан, а потом – из стакана тоненькой медленной струйкой вылил ее на могилку. Отбросил стакан и прилег медленно и осторожно на бок. Непокрытая его голова оказалась на сырой и холодной, втягивающей в себя всякую жизнь мертвой глине, но не двигался, лежал, часто моргая, потом закрыл глаза и долго-долго лежал так…
Он поднялся, посмотрел назад на Тоню, потом на Николая, наконец спросил:
– Споем вместе-то теперь? Ты хотел все, помнишь? Кто ж теперь споет, если не мы? Никто небось больше и не знает.
Дядя Леша прикрыл глаза, вытянул небритую и дряблую шею, запел тихонько и высоко, покачиваясь чуть из стороны в сторону:
На горе-е колхоз. Под горо-ой совхоз. А я ми-иленькой Задава-ал вопрос…– Ну, Коль, Тонь, подхватывайте! – закричал он.
Ай-я-я-я-я! Ай-я-я-я-я!Он замолчал. Не пелось. Не выходило. Не подхватывали.
Сдвинутые столы стояли под яблонями, от края до края разделяя сад надвое.
На столе были только цветы полевые – васильки и ромашки в стеклянных и высоких жестяных банках – да яблоки, много яблок – в широких глиняных мисках и дешевых стеклянных вазах, уложенные на чистые полотенца и просто рассыпанные по столу.
А за столом сидели люди, веселые, шумные, одетые празднично, нарядно.
– Леша! Слышишь, Лешк, иди к нам! – кричал из-за стола кто-то и призывно махал рукой.
– Дождешься его, бирючину этого! – прокричала какая-то женщина и заливисто захохотала. Кажется, это была Маруся-почтальонка.
Рядом сидел новый председатель, который смущался, видимо, такого соседства. А через два-три человека сидел, опершись локтем на стол, смачно и мрачно одновременно грыз крупное сочное яблоко председатель предыдущий.
– Леш, честное слово, сколько ждать-то… Все люди как люди, один ты всегда…
Те же мужики, что привезли доски, голые по пояс, суетились у своих подвод, запрягали лошадей, собирались в обратный путь.
А люди не хотели уходить из-за стола, не желали, чтобы праздник кончался.
– Леш, хоть споем вместе! – Это кричал дядя Коля и махал призывно рукой, возмущаясь и почти искренне обижаясь на друга. Был Николай в жарком бостоне, в нейлоновой рубашке, при медалях.
Рядом сидела Тоня. Красивая, гордая, молчащая. Была она в кремовой кофточке с вышитыми бледными цветками, в белой полотняной юбке. На Алексея она не смотрела.
На горе-е колхоз, Под горо-ой совхоз! А мне ми-и-и-ленький Задавал вопрос!– возник и сразу вырос Тонин сильный и чистый голос.
Ай-я-я-я-я! Ай-я-я-я-я!– подхватил дядя Коля сначала чуть не в лад, но тут же выровнялся, и они повели вместе – дружно и радостно:
А мне ми-иленький Задава-ал вопрос!И снова Тоня, одна, ах, как же она поет!
Задава-ал вопрос, Сам смотре-ел в глаза: «А ты колхо-озница, Тебя люби-ить нельзя!» Ай-я-я-я-я! Ай-я-я-я-я!Вырвался вперед нетерпеливо, по-мужски, дядя Коля:
А ты колхо-озница, Тебя люби-ить нельзя!Но, ликуя, продолжала Тоня:
Я колхо-озница, Не отрица-аю я. Но люби-ить тебя Не собира-аюсь я!И как же ладно у них выходит!
Ай-я-я-я-я! Ай-я-я-я-я! Но люби-ить тебя Не собира-аюсь я.И вдруг Тонин голос стал тихим и печальным. Она пела теперь одна, а Николай ее слушал. И все за этим столом слушали их.
Я пойду-у туда, Где высо-ока рожь. Я полюблю-ю того, Кто на тебя-а похож… Ай-я-я-я-я! Ай-я-я-я-я! Я полюблю-ю того, Кто на тебя похож…Все стихло. Дядя Леша двинулся к столу.
Песня кончилась, и праздник в саду кончился, и уже разобрали столы, погрузили их на подводы, и кто сидел недавно за ними – уходили теперь, оставляя сад. Никто не оглядывался. Одни сидели на подводах, другие шли пешком, не торопясь, устало, как всегда устало уходят с больших праздников люди. А вслед им с крыльца дяди-Лешиного дома смотрел тот мальчик, Санька-немтырь, и никого не звал, стоял немо, не двигаясь. И сад за его спиной был тих и нем.
1986 г.
Дорога
История эта началась холодным осенним вечером прямо на улице, на Тверской, бывшей Горького, у дома № 17 рядом с банком «Хелп», где за стеклом витрины стоят сразу девять телевизоров: один, посредине, большой, вокруг него восемь маленьких, а внизу стальными буквами написано таинственное и красивое слово «Кросна». И по каждому из телевизоров что-нибудь шло, а по самому большому показывали немое кино – «Политого поливальщика».
Отсюда, с улицы, смотрели его двое: он и она. И кино им очень нравилось. Он искренне и простодушно гыгыкал, а она, приоткрыв рот, смотрела на большой экран, не моргая. Странная это была пара. Он – щупловатый, одетый, как одеваются провинциальные сорокалетние пижоны с уголовным уклоном. На нем были грязные, но с наведенной стрелкой брюки, узконосые туфли, какие раньше продавали на базарах армяне, потертая из кожзаменителя куртка, под которой была цветастая сорочка, а под ней еще и на шее грязный свитер. Правда, его волосы перехватывала ленточка, как у хиппи, что было, без сомнения, влиянием столицы, однако деталь эта делала его еще более провинциальным. Да за спиной у него, на ремне, был какой-то музыкальный инструмент в твердом футляре – похоже, аккордеон.
Он был странен, но она, его спутница, была еще страннее. В смысле – со странностями. Она смотрела известный люмьеровский сюжет, как малый ребенок смотрит впервые какой-нибудь «Ну, погоди!», она не дышала, у нее замерло сердце. Старый шерстяной платок сбился на спину, и медно-красные ее волосы рассыпались по плечам, по грязному залоснившемуся плащу, подвязанному на широкой талии мужским брючным ремнем. На ногах ее в нитяных сморщенных чулках были большие армейские ботинки. Неожиданно в ее глазах возникло смятение, и она обратилась к нему голосом высоким и по-детски чистым:
– Яша, а Пимы где?
Не отрываясь от телевизора и продолжая гыгыкать, спутник махнул в сторону Маяковки, указывая на невидимые и неведомые Пимы. Она внимательно посмотрела туда и перевела успокоенный взгляд на экран.
Разумеется, в том, что в центре Москвы стоит у витрины и смотрит на халяву телевизор пара бродяжек, ничего странного и необычного нет, эти люди в Москве встречаются теперь очень часто, они так же обычны, как и сами москвичи. Но дело-то в том, что эти двое не были бродяжками, это чувствовалось, необъяснимо ощущалось. В этом, пожалуй, и была их главная странность и необычность.
Когда сюжет кончился, он взглянул на нее насмешливо и хозяйски-грубовато заметил:
– Любишь ты, Шурка, все-таки кино смотреть.
Она кивнула в ответ виновато и стыдливо и призналась:
– Люблю…
Он поправил на плече свою музыкальную ношу, глянул с прищуром в сторону Кремля и пошел – быстро и деловито. Она испуганно глянула ему вслед, потом на экран, потом туда, где должны быть эти самые Пимы, потом снова в спину спутника и побежала за ним, смешно переваливаясь с боку на бок.
Его звали Яшка. А ее – Шура.
Яшка шел быстро, чуть подавшись вперед, сощурившись и глядя вдаль деловито и озабоченно. Шура же, то отставая, то догоняя Яшку, глазела по сторонам и, увидев что-то, на ее взгляд, чрезвычайно интересное – какую-нибудь светящуюся рекламу, витрину, негра, смешную собаку и опять рекламу с чудными непонятными словами, написанными яркими буквами, – дергала спутника за рукав и с горящими от удивления глазами показывала пальцем на удививший ее предмет и говорила:
– Яш, глянь, глянь!
Яшка привычно поворачивался на ходу, смотрел коротко и безразлично, кивал и шел, не сбавляя шага, дальше.
Теперь они шли по Арбату, где, несмотря на день будний и холодный, было людно и празднично. Яшка шел впереди, хозяйски и деловито пробивая дорогу через толпу. Глядя по сторонам и оглядываясь, Шура старалась не отставать. И здесь ей было все интересно: художники у мольбертов, продавцы платков и матрешек, танцующие кришнаиты, рок-музыканты и какой-то молодой человек, изображающий из себя неподвижный манекен.
Яшка был здесь как дома.
– Эй, художник, нарисуй портрет! – крикнул он на ходу веселому художнику.
– Плати деньги – нарисую! – дружелюбно ответил тот.
– За деньги я и сам тебе нарисую! – не оборачиваясь, закончил привычный диалог Яшка.
Он отдал честь полноватому милиционеру и приятельски хлопнул по плечу медведя – человека в плюшевой шкуре, который переминался с ноги на ногу рядом с фотографом.
– Здоров, Витек, – сказал Яшка опять же на ходу.
– Здоров, – недовольно пробурчал медведь в ответ.
Шура опасливо обежала медведя стороной и испуганно кинулась за Яшкой, которого чуть не потеряла в толпе.
– Гля-гля, еврей! – весело крикнул он ей, впервые удивившись и указывая пальцем на седого старичка, который сидел сгорбившись у забора и старательно и неумело выводил на гармони «семь сорок».
Они остановились у театра Вахтангова, где было темновато, народу поменьше и рядом никто не играл и не пел.
– Чует мое сердце, сегодня пруха будет! – весело крикнул Яшка и растянул меха аккордеона.
Шура откашлялась, вытянулась и напряглась, приготовляясь к пению. Яшка играл громко и фальшиво, притоптывая себе в такт ногой. Шура следила за ним с собачьей преданностью и, когда он ей кивнул, запела.
У нее был удивительный голос, очень высокий и необыкновенно чистый. А песня была грустная, горькая и неизвестная, ни разу не звучавшая ни по радио, ни по телевизору. И это все – голос, и песня, и сама Шура привлекали к себе внимание, и потому замедляли шаг и останавливались не только праздные зеваки, но и прохожие. И когда Шура кончила петь, вокруг было уже довольно много народа, и некоторые даже зааплодировали.
– Господа, граждане, товарищи! – задорно, как конферансье, заговорил Яшка, не давая публике остыть. – Дорогие москвичи и гости столицы! Помогите русским беженцам из солнечного Таджикистана добраться на свою историческую родину! Все мы люди-человеки, все живем в двадцатом веке, сегодня вы мне поможете, завтра я вам помогу! Не откажите! – Откуда-то из-под аккордеона он выхватил картонный молочный пакет и, протягивая его, стал обходить публику.
Деньги, хотя и небольшие, давали охотно, и все поглядывали на Шуру, будто не веря, что это она только что так пела.
Когда в коробку опустилась стодолларовая купюра, Яшка остановился. Перед ним стоял полноватый и лысоватый, в модной трехдневной щетине, великолепно одетый господин, а чуть поодаль – холеная красивая госпожа в длинной норковой шубе.
Яшкины глаза были полны внимания.
– Это правда? – негромко спросил господин.
– Пидар буду, командир! – решительно поклялся Яшка и покосился на госпожу. – Заколебали чурки, дом подожгли – еле выскочили!
– Она тебе кто? – господин взглянул на Шурку.
Она смущенно улыбалась, пошмыгивая носом и притоптывая на месте.
– Шурка? Да я и сам не знаю… Как это – золовка, что ли. Сестра жены. Нинка моя, когда жива была, привезла ее из деревни, там у нее мать умерла, ну и жила с нами. А потом и Нинка… Уважала это дело. – Яшка щелкнул пальцем себе по шее и засмеялся. – Даже больше меня. А тут эти чурки… Ну вот… А она заладила: в Пимы, в Пимы…
Шурка резко повернула голову и посмотрела на них, как собака, услыхавшая вдруг свою кличку.
– Пимы – это что? – не понял господин.
– Деревня ихняя в Архангельской области, – объяснил Яшка. – Да там никого не осталось, мертвая… Я ее в Стерлитамак повез, потом в Йошкар-Олу. В Сыктывкар хотел… У меня там кенты по зоне остались… Хотел кому-нибудь оставить, жалко все-таки… А она по хозяйству безотказная, тяжелую работу любит… Да никто не берет, все переженились, своих бы, говорят, поубивать. – Яшка засмеялся, заглядывая в неподвижные глаза господина. – Ну вот, приехали в Москву, документы на беженцев оформили, деньжат маленько дали… А я не пил давно… Ну и загудел. И документы пропил, грузину одному загнал. Сижу на Казанском без копья, а она деньги приносит. Представляешь? Я про это не подумал даже, она у нас дева, подумал – украла. Сматываемся, говорю, на Киевский, а она улыбается: «Яш, я пела». – «Как пела?» – «Так…» Дома-то я ее и не слышал, Нинка-покойница заглушала всех, у нее голосище был – выпь! – Он покосился на Шуру, и в глазах его было удивление. – Ну вот, – продолжил он, – я как хотел: сдать ее, пристроить, а сам в Югославию, там марками платят. А теперь думаю, зачем мне под пули лезть за эти марки, если тут доллары! Я уж и инструмент под это дело купил… – Он похлопал по боку аккордеон.
Господин смотрел на Яшку с нескрываемым презрением. Яшка не понимал этого, но что-то почувствовал.
– Может, на заказ что желаете? – спросил он, заглядывая господину в глаза. – Я скажу – она и спляшет для вас.
– Пусть поет, – коротко бросил господин, отворачиваясь.
– Есть, командир! – воскликнул Яша с готовностью и, сунув коробку под куртку, растянул меха аккордеона.
Они сидели друг напротив друга в купе вагона, который никуда не ехал – это был вагон-гостиница, привокзальная ночлежка для тех, кто имеет немного денег.
Стол был завален едой: копченая курица и колбаса, ананас, рыбные консервы, хлеб, пирожные, початые бутылки водки и кагора.
Шура ела пирожные с детской жадностью до сладкого и заливала кагором, отхлебывая его из стакана, как ситро.
– Ешь-ешь, я еще куплю! – подбадривал ее Яшка, ковыряясь в зубах спичкой.
Он был хмельной, потный и добрый.
– Я и так ем, – отвечала она смущенно и счастливо.
Яшка подлил ей кагора.
– Пьяная уж, Яш…
– Пей, пей, крепче спать будешь!
Яшка засмеялся, наливая в стакан водку.
– А этот-то, богач, влюбился в тебя, что ль? Третий раз приходит! Влюбился, Шур, влюбился!
Шура покраснела как маков цвет, закашлялась, замахала рукой, уткнулась в стол.
Яшка выпил водку, большим страшноватым ножом отрезал ломоть ананаса и, закусывая им, объявил:
– Покурю пойду.
Шура глянула на него встревоженно.
– Яш… – тихо начала она.
– Чего? – грубо отозвался тот.
– …хочешь – тут кури…
– Тут… Пожара опять хочешь? – глянув строго, спросил Яша.
Шура замолкла и, сидя в углу, по-собачьи, одними глазами, наблюдала за своим хозяином.
– Приду скоро… – успокоил он грубовато.
Яшка собирался пойти покурить, как на какое-то важное и небезопасное дело: он оправлял брюки и смотрелся в зеркало, прятал в карман нож с выкидным лезвием и пересчитывал деньги.
Хмельно и устало улыбнувшись, Шура прилегла на бок и смотрела на него снизу.
– Яш, а зачем ты веревочку на лоб привязал? – тихо и смущенно спросила она.
Яшка с удовольствием посмотрел на себя в зеркало и объяснил:
– Молодежно.
Яшка подошел к стоящим у бетонного забора двум молодым парням-кавказцам в кожаных куртках и высоких норковых шапках и двум покрашенным в блондинок девицам, одетым ярко, дешево и безвкусно. Яшка поздоровался с кавказцами за руку, приветствуя их на родном языке, вытащил из кармана приготовленные деньги и сунул одному. Тот пересчитал.
– Мало, Цыган, – сказал он, улыбаясь.
– Почему мало, сорок…
– Пятьдесят.
– Было же сорок.
– Инфлация, – объяснил кавказец.
Яшка покопался в кармане, протянул еще деньги. Взамен парень протянул железнодорожный ключ.
– Восьмой, – сказал он.
Яша кивнул, глядя на девушек. Они скалили зубы.
– Плати девяносто, бери два, – предложил кавказец, смеясь.
– Морда треснет – девяносто, – проворчал Яшка и, поманив пальцем девицу покрупнее, широко зашагал к темным вагонам.
Осторожно открыв дверь, он вошел в свое купе и стал раздеваться.
– Покурил? – тихо спросила Шура. Она лежала на спине и смотрела в потолок.
– Угу, – кивнул Яшка, тщательно укладывая брюки под свой матрас, чтобы сохранить стрелку.
– Яш, а она красивая, правда? – задумчиво спросила Шура.
– Кто? – удивился Яшка.
– Жена его… Ну этого, который снова приходил…
Яшка забрался под одеяло и сладко потянулся.
– Прям красивая. Ни сисек, ни жопы.
– Только она меня не любит… Ненавидит прямо, – тихо проговорила Шура.
Яшка захрапел. Шура вздохнула и повернулась на бок.
На большом телевизоре опять показывали смешное кино. Два смешных человека, он и она, два клоуна, ходили по кругу среди смеющихся людей, и у нее в руках было игрушечное ружье. Слов не было слышно, но все равно было смешно, и Шура улыбалась. Ружье выстрелило и сломалось, все на экране засмеялись, и Шура вздрогнула и засмеялась, а потом глянула вбок, чтобы поделиться весельем с Яшей, но его рядом не оказалось. Шура быстро глянула в другую сторону, но и тут его не обнаружила. Она испуганно завертела головой. Яши нигде не было. Лицо ее исказилось, и рот некрасиво скривился.
– Яша, – прошептала она и заревела. – Я-а-ша-а…
Торопливо идущие по тротуару люди смотрели на нее и оглядывались, но никто не останавливался. С залитым слезами лицом Шура побрела вверх по Тверской, безостановочно повторяя:
– Я-а-ша-а…
Яшка это видел. Он бежал к ней с противоположной стороны улицы, от Елисеевского магазина, и автомобили повизгивали тормозами. В Яшкиной руке была бутылка водки. Черный БМВ, затормозив, ткнулся в Яшкино бедро, и, оттолкнувшись от его капота ладонью, Яшка выскочил на тротуар.
За рулем БМВ сидел тот самый господин, богач. Господин узнал Яшку и видел, как тот подбежал к Шуре и, размахнувшись, ударил ее кулаком по голове.
– Урод, – прорычал красивый господин и переключил скорость.
…Яша выскочил на тротуар и, размахнувшись, ударил Шуру кулаком по голове. От неожиданности Шура обхватила голову руками и согнулась, но, увидев Яшу, закричала сквозь слезы:
– Я-аша, ты куда?..
– Куда-куда, на кудыкину гору! – закричал Яша в бешенстве. – За бутылкой вон сбегал! Я ж сказал тебе: стой здесь!
– Я не слышала! – Шура улыбалась, перестав плакать.
– Не слышала! Когда кино свое смотришь – ни хрена не слышишь! А где инструмент?! – заорал он, сунул кулаком Шуре в бок и побежал туда, к телеэкранам.
Шура побежала за ним, держась за бок и прихрамывая.
Аккордеон стоял на асфальте, никто не собирался его трогать.
– Если б инструмент пропал, убил бы, – объяснил Яшка, успокаиваясь.
Они спустились в подземный переход у «Националя». Здесь было светло и сухо и громко играл джаз-банд. Яшка смотрел на них с ненавистью.
– Яш, а мы на ту улицу сегодня не пойдем? – робко спросила Шура.
– Нельзя на Арбат сегодня, праздник какой-то, правительство там гуляет… – объяснил Яша.
Они прошли один переход, другой, третий, и везде было полно нищих, и кто-нибудь играл: на скрипке, на гармони, на саксофоне. Шуре все это очень нравилось, а Яшка все больше мрачнел. Обернувшись, он увидел, что Шура торопливо протягивает нищему монетки. Яшка зло сжал губы, сощурил глаза, катнул по скулам желваки, стал ее дожидаться. Шура подходила медленно, нерешительно остановилась шагах в трех.
– Ты что сделала? – спросил Яшка требовательно.
– Милостыньку подала… – дрожащим голосом ответила Шура и улыбнулась.
– Какую милостыньку?
– Денежки…
– Какие денежки?
– У тебя из кармана высыпались сегодня…
– Почему мне не отдала?
Шура мгновенно покраснела, опустила голову и уставилась в асфальт под ногами. Яшка усмехнулся:
– Зачем дала-то? Я тебе говорил – не давай! Зачем, спрашиваю?
– Жалко, – объяснила Шура.
Яшка даже руками развел от возмущения.
– Кого жалко-то? Их, что ли? – он указал на нищих. – Понаехали в Москву, бездельники! Работать не хотят, вот и побираются! Бездельники, бомжи проклятые! Пошли! – приказал он и пошел быстро по переходу. Шура торопливо нагнала его и потрусила рядом.
– Яш, а мы тогда с тобой кто? – спросила она нерешительно.
– Мы… – Яшка ненадолго задумался и сказал громко и гордо: – Мы – артисты!
В этом переходе конкурентов не было, но и людей – потенциальной публики тоже не было. Песня была веселая, и Шура пела весело и задорно, но всего два-три человека прошли мимо и даже не замедлили шага. А коробочка для денег осталась пуста.
Они стояли на железнодорожных путях и растерянно смотрели на то место, где вчера, даже еще сегодня, был их дом. Вагон-гостиницу куда-то угнали.
– Эй, цыган! – крикнул ему один из вчерашних кавказцев. Они с девицами стояли на том же месте. – Твой гостиница увезли вши морит!
Стоящие рядом громко засмеялись.
Яшка в ответ крикнул что-то на их языке, видимо ругательство, потому что один сделал вид, что кидается к Яшке, но второй сделал вид, что удерживает его.
Они сидели на расстеленных газетах на полу в углу зала ожидания. Яшка зло и неохотно откусывал от булки и запивал пепси-колой из пластмассовой бутылки. Шура сидела рядом, положив ладони на колени.
– Яш, а Пимы где? – спросила она тихо.
– Пимы! Пимы! – заорал вдруг Яшка. – Заколебала! Чего там хорошего, в твоих Пимах, скажи! Ну скажи! – требовал он.
– Там… тихо… – дрожащим испуганным голосом начала отвечать Шура.
– Ну!
– Снег чистый-чистый!.. Там на небе звездочки – много-много… А за речкой – лес, сосульки, когда ветер, звенят: динь-динь-динь, динь-динь-динь… – Шура улыбнулась.
– А жрать мы там что будем?
– Картошка в погребе осталась.
– Картошка… А топить чем?
– Дров напилим, наколем, лес-то рядом, Яш!
– Да нет там никого, мертвая!
– Мы будем – вот и живая! А потом, Яш, на лодочке на остров поплывем за грибами. Там же грибов тьма-тьмущая. Все белые и ни одного червивого… На лодочке…
– Врезать тебе, что ли? – спросил Яшка. – Это ж Москва – столица нашей Родины! Здесь такие бабки гуляют – только дураком не будь! Время такое – кому мор, а кому – корм… А в деревне я подыхать не собираюсь, поняла?
У Шуры задрожали губы, глаза наполнились слезами.
– Там твои Пимы, там! – закричал Яшка, указав наугад направление, и, как стрелка компаса, Шура повернулась в ту сторону и закрыла лицо ладонями.
– Сегодня пруха будет, чует мое сердце! – весело крикнул Яшка, вынимая из чехла аккордеон.
Шура улыбнулась. День был солнечный, Арбат был запружен праздным людом.
Ни Яшка, ни Шура не видели, что из стоящего в переулке БМВ за ними наблюдает тот господин.
– Эй! – окрикнул Яшку полноватый милиционер и пошел в переулок напротив.
– Стой здесь, – приказал Яшка Шуре и побежал за милиционером, вытаскивая на ходу из кармана деньги.
Во дворе старого разрушенного дома милиционер оставил Яшку наедине с двумя парнями. Парни были здоровенные – с бычьими шеями и прическами-таблетками, одетые в кожаные куртки, спортивные штаны и кроссовки. Они улыбались, но Яшка понял сразу, что их улыбки ничего хорошего не сулят.
– Это ты зря, командир! – обиженно крикнул Яшка уходящему милиционеру.
Тот не обернулся.
Быки подходили. Яшка прижался спиной к стене, выхватил из кармана нож. Щелкнуло, вылетая из рукоятки, лезвие. Рукою мастера Яшка нарисовал им в воздухе невидимую, лежащую на боку восьмерку, кинулся вперед с криком: «Сдохнете сегодня, а я завтра!» – но вдруг остановился, будто наткнулся на невидимую стену, – лениво покачивающимся дулом в Яшкино лицо смотрел пистолет.
– Газовый? – с надеждой спросил Яшка.
Быки переглянулись, усмехаясь.
– Вот влеплю промеж глаз, тогда узнаешь – газовый или нет… – миролюбиво пробасил бык. – Бросай, дурак…
Яшка отшвырнул нож в сторону.
– Слушай, парень, – продолжал бык, пряча пистолет под мышкой, – твоя певица нужна одному человеку. Не бойся, ничего он с ней не сделает, наоборот, в люди выведет…
– Она еще знаменитой станет, – вставил второй бык, он был помоложе.
– Ну, – крикнул первый. – Но чтоб ты скрылся с глаз и никогда ее не вспоминал, понял?
Яшка понял.
– Десять тысяч, – сказал он твердо.
– Чего? – не понял первый.
– Долларов…
Быки переглянулись и засмеялись.
– Мы дадим тебе тысячу, – вновь заговорил первый.
Но Яшка перебил, выкрикнув:
– Да тысячу она мне за неделю напоет!
– Наше дело предложить, – пожал плечами первый.
И тут же второй резко и сильно ударил Яшку ногой в пах.
В низком полутемном подвале быки приковали избитого Яшку за левую руку к трубе под потолком, а в правую вложили лимонку и выдернули чеку.
– Крепче держи, – посоветовал первый.
Господин сидел в глубоком кресле: в большой, богато обставленной гостиной и, глядя перед собой задумчиво, отхлебывал из хрустального стакана виски. Где-то в огромной квартире хлопнула дверь, и в гостиную вбежала красивая госпожа. Она была в переднике, а голые по локоть руки были мокрыми.
– От нее дурно пахнет, понимаешь, дурно пахнет! – воскликнула она истерично. – Я не могу!
Господин поднял на нее холодные глаза.
– Когда я встретил тебя в Гамбурге на веселой улице – от тебя тоже плохо пахло… Возьми и помоги ей одеться. – Он указал на разложенные на диване вещи – красивое старинное платье и шелковую шаль с длинными кистями.
Красивая госпожа, покусывая нижнюю губку, усмехнулась и стремительно вышла из гостиной.
Господин вылил в себя остатки виски.
Яшка, прикованный за левую руку, стоял на цыпочках. Правую руку с гранатой прижимал к груди. Он кусал губу, похоже не зная, смеяться ему или плакать. По лицу катился пот. Рука с лимонкой поползла вниз. Он попытался расстегнуть брюки, но лимонка чуть не выпала, и, сильно вздрогнув, Яшка замер, и у ног его стала расплываться лужа.
Шура стояла посреди гостиной – преображенная, прекрасная, в длинном до пола глухом темно-вишневом платье, с шалью на плечах. Лицо ее просветлело, а медно-красные, расчесанные на пробор волосы блестели.
Господин, все с тем же стаканом в руке, ходил вокруг Шуры, как скульптор вокруг удавшейся своей работы.
– А Яша не звонил? – оставаясь неподвижной, робко спросила Шура.
– Звонил, – кивнул господин. – Он сказал, чтобы вы, Сашенька, пожили пока у нас, а он поехал… в Сыктывкар.
– В Сыктывкар? – переспросила Шура растерянно.
– Да, в Сыктывкар. Он оттуда позвонит.
Господин остановился и победно взглянул на госпожу.
Госпожа резко отвернулась к окну.
А господин продолжал ходить вокруг Шуры кругами и задавал вопросы, на которые ответов не ждал.
– Откуда?!
– Почему?!
– Зачем?!
– Кто?!
– Я спрашиваю: кто-о?!
Он остановился и вновь взглянул на госпожу. Она смотрела на него насмешливо, и господин взорвался криком:
– Я сделаю ее знаменитой! Ее будут все знать! Ее будут все слушать! Ее все полюбят! – Горящим взором он смотрел на госпожу, но наткнулся на ее взгляд, полный насмешки и уничижения.
– Может, ты ее и в постель с собой положишь? – негромко спросила она.
Господин сжал кулаки, напрягся, покраснев, но вдруг улыбнулся, плюхнулся в кресло и сказал госпоже устало и равнодушно:
– Пошла вон, дура!
– Идиот! Козел вонючий! – закричала вдруг в ответ госпожа, выскочила в прихожую, схватила шубку и выбежала из квартиры, громко хлопнув дверью.
Шура пела. Это была даже не песня, а песнопение, духовное песнопение, прекрасное и невыносимое. Господин сидел неподвижно, уронив голову на грудь, и тогда Шура на мгновение испугалась, но, заметив, что он дышит, успокоилась, улыбнулась, вздохнула и, не двигаясь с места, стала ждать, когда он проснется. Но господин не спал. Он медленно поднял голову и посмотрел на нее, но, похоже, ее не видел. Лицо его было мокрым от слез: нос, щетинистые щеки, подбородок…
– Россия… – прошептал он потерянно и, всхлипнув вдруг, повторил, но уже иначе – громко и требовательно:
– Россия!
Вскочил и, глядя в потолок, вскинув вверх руку, прокричал громко, чтобы услышали:
– Россия!!
Шура удивленно и встревоженно наблюдала за ним.
А господин пожал плечами и пробормотал растерянно:
– Россия…
– Россия! – захохотал он вдруг и тут же погрозил кому-то в окно кулаком: – Россия!
Однако тут же извинился, разводя руками:
– Россия.
– Россия… Россия… – повторил он и вдруг замолк, прислушиваясь.
Но ничего не услышал, а если и услышал, то не понял, потому что не поддавалось пониманию слово, выдерживающее столько разных смыслов.
Господин обессиленно опустился в кресло, налил полный стакан виски, мучительно-медленно выпил, задумавшись, опустил голову на грудь.
Шура ждала, что сейчас он вновь поднимет голову и что-то скажет, но господин вдруг всхрапнул и равномерно засопел во сне.
Яшка сжимал лимонку из последних сил. Глаза его были зажмурены, оскаленные зубы сжаты, по лицу катился пот. Яшка кряхтел, задерживая в себе воздух, а с ним и последние силы.
И вдруг громко и окончательно выдохнул, открыл глаза и заговорил, глядя в низкий потолок:
– Бог… Если ты есть, сделай так, чтобы… – Яшка задумался и не стал формулировать просьбу, она была понятна и простому смертному. – Ты сделаешь, и я сделаю, вот увидишь! Пидар буду…
Ладонь сама разжалась, в лимонке что-то щелкнуло, она скатилась и весомо упала на цементный пол.
Яшка зажмурился, и обхватил голову рукой, и долгих пять секунд не двигался. Не взорвалась.
Уже в своей одежде – в плаще, подпоясанном мужским ремнем, и спущенных чулках, – Шура возилась с дверным замком, что-то шепча, приговаривая «мамочка» и поскуливая от страха.
Дверь открылась, и Шура торопливо шагнула за порог. Прощально оглянувшись, она увидела аккордеон и кинулась назад.
Но остановилась, вздохнула и присела на аккордеон, как присаживаются на дорожку. Медленно переводя взгляд со спящего господина на висящие на стене красивые иконы, поднялась, перекрестилась, после чего сказала важно и церемонно спящему господину:
– Спасибо за хлеб-соль, за все хорошее, а мы дальше пойдем…
История эта закончилась там же, где и началась – на Тверской, бывшей Горького, у дома № 17 рядом с банком «Хелп», где за стеклом витрины стоят сразу девять телевизоров: один, посредине, большой, и вокруг него восемь маленьких, а внизу написанное стальными буквами красивое и таинственное слово «Кросна».
…Был вечер, людный и шумный. Она сидела посреди тротуара на аккордеоне и смотрела по телевизору кино. Пешеходы обходили ее, иногда оглядываясь. Шура не замечала никого, потому что кино было интересное, про любовь. Рот ее был приоткрыт, а по щекам скатывались слезы.
…Был поздний вечер. Показывали смешное кино, и Шура улыбалась. К расположенному рядом ночному клубу «Найт Флайт» подъезжали лимузины, и из них выходили красивые мужчины. Озябнув, Шура поднялась и, не сводя глаз с экрана, стала притоптывать на месте и хлопать себя ладонями по плечам и бокам. Но заметив стоящего неподалеку бородатого бомжа, который смотрел на оставленный аккордеон, торопливо села на него и больше не вставала. А кино было смешное…
…Под утро из «Найт Флайта» выходили утомленные отдыхом мужчины и красивые смеющиеся женщины. Шура не видела их. Она не слышала и завывание сирен на проносящихся за спиной милицейских машинах. Кино было интересное…
…Было светло и пустынно. Сидя на аккордеоне, сжавшись и уткнувшись лицом в колени, Шура спала.
Телевизионные экраны не светились. Было чисто, светло и пустынно. Мир отдыхал.
Яша торопливо шел к ней. Он видел ее. Шура встрепенулась и открыла глаза, и увидела Яшку.
Оставив аккордеон на асфальте, Яшка и Шура уходили. Впереди была Маяковка, за ней – поднимающееся Солнце, а за Солнцем были Пимы.
Маленькие телеэкраны стали зажигаться, и на них вновь возникли те фильмы, которые помогли Шуре прожить эту ночь.
Яшка и Шура шли рядышком, то и дело касаясь друг дружки плечом, будто проверяя ненароком присутствие спутника. И когда они прошли Маяковку и вошли в Солнце, здесь в витрине зажегся и большой, центральный экран, и вновь возник люмьеровский сюжет, только другой: в неспокойное море уходила лодка, а сидящих в ней мужчин провожали женщины и дети.
1995 г.
Последние времена
Событиям, которым предстоит быть описанными ниже, предшествовала старая, трехлетней давности история, почти забытая, но, как оказалось, завязанная со всем последовавшим спустя три года в один весьма сложный узел, и я просто вынужден ее сейчас вспомнить…
Это когда Сухов по прозвищу Чучмек на свой старый, паршивый, столетний мопед выменял самый настоящий корабль…
Дело было так. Сухов стоял на берегу и ловил на удочку рыбу. Рыба не ловилась, но Сухов все равно ловил. А в это время мимо проплывал корабль, а если точнее – баржа, здоровенная такая баржища класса «река – море». И, сделав вдруг резкий крен, она направилась в сторону Сухова. Сначала он стоял и смотрел, а когда железный нос баржи пополз по песку и дальше по траве, прямо на него – Сухову пришлось спешно подхватить свою удочку и лежащий рядом мопед и отбежать на безопасное расстояние. Осторожно, негодуя, он наблюдал, как спустился по железной лестнице на землю и направился к нему, слегка покачиваясь, человек. Он был строен и красив – в черных клешах, тельнике под расстегнутым бушлатом и сдвинутой набок капитанской фуражке с крабом.
Человек к себе располагал.
Широко размахнувшись и сочно поздоровавшись ладонью о ладонь, он представился:
– Фамилия Гаврилов, прозвище Альбатрос.
– Фамилия Сухов, прозвище Чучмек, – ответно представился Сухов.
– Нерусский? – удивился Альбатрос.
– Да нет, просто я в Средней Азии долго жил. Вернулся, меня и прозвали, – объяснил Чучмек.
– А деревня как называется?
– Деревня Малые Иваны, – доложил Чучмек.
– А Большие где? – спросил гость и засмеялся. (Был он навеселе, вот и было ему весело.)
– Большие водой залило… Давно уже… Когда плотины стали строить, – терпеливо объяснил Чучмек.
Альбатрос вздохнул, плюнул на землю, растер ногой плевок и, становясь серьезным, предложил:
– Слушай, Чучмек, давай меняться! Я тебе свою посудину, а ты мне свой мопед плюс бутылку водки.
Сухов посмотрел на баржу, потом на капитана и спросил недоверчиво:
– А она что, твоя личная?
– А чья же еще? – обиделся Альбатрос. – Документы в кармане. Когда порт делили, мне моя и досталась. Я на ней механиком начинал. Да возить сейчас нечего, ну, я ее на Дальний Восток и погнал, корейцам хотел продать. А плыть решил реками – страну захотелось посмотреть. Посмотрел – больше не хочу… Хохлы достали на Днепре! В Москве, правда, отдохнул, погулял в порту пяти морей. Но все равно – не могу больше! «Россия, нищая Россия!..» А главное, без моря не могу, без моей седой Балтики… Плачу, а слезы – они… соленые… Понимаешь, Чучмек?
Сухов облизнул пересохшие губы.
– У меня нет водки, – тихо сообщил он.
– Без водки… – Альбатрос решительно помотал головой.
– У меня мопед тоже хороший, – Чучмек попробовал все же поторговаться.
– Без водки – нет! – отрезал Альбатрос, и Чучмек испугался.
– Подожди немного! Подождешь? – с надеждой спросил он.
Альбатрос посмотрел на свои роскошные наружные часы и объявил:
– Пять минут, засекаю…
И Чучмек услышал стрекотанье секундной стрелки.
С треском и грохотом подлетел он на своем мопеде к сельмагу и, топоча сапогами, влетел внутрь.
– Ты еще на своей керосинке сюда въехай! – заругалась продавщица Катя.
Кроме нее там еще была почтальонка Тося. Женщины, конечно, понимали, что ему нужно, и смотрели насмешливо.
– Девчата, – хрипло обратился к ним Сухов.
– Были девчата, – парировали Катя и Тося и засмеялись.
Не затихающие ни на мгновение секунды застучали громче и чаще.
– Чего они только за бутылку не сделают?!
– Родину продадут, – комментировали бабы нормальную, в общем-то, ситуацию, раздувая, как всегда, из мухи слона.
– Продашь родину-то? – спросила Катя насмешливо, а внутри, как она потом рассказывала, у нее все похолодело.
– Куплю! – выпалил Чучмек.
– Не дам, в долг не дам! – закричала Катерина, потрясая над головой разбухшей замусоленной тетрадью. – Вот они. Ваши долги! Меня за вас посадят скоро.
Отчаяние охватило Чучмека, он цапнул с прилавка самую большую гирю и попытался разбить ею свою голову. Бабы завопили и остановили удар.
Чучмек смотрел то на баржу, то на улетающего вдаль на его дымящемся мопеде Альбатроса и – не верил своим глазам. И даже когда секунды перестали молотить в мозгу, все равно не верил. Поверил он лишь тогда, когда на берегу собрались односельчане, потрясенно смотрели на корабль и обменивались вполголоса мнениями.
– Говорила утром: «Сходи рыбки налови». Нет, тебе бы все лежать!
– «Родина-5» – хорошо… Это у евреев только Родина-1 и Родина-2. А тут Родина-5 – хорошо!
– Ну и зачем она тебе?
Чучмек не был готов к подобной постановке вопроса.
– А вдруг пригодится? – высказал он робкую догадку.
Такая история случилась три года назад, а теперь перейдем к событиям, происшедшим…
Три года спустя…
Ранним утром поздней осени над Малыми Иванами пролетела диковинная птица – немного меньше петуха, но много ярче самого из них нарядного. На улице в тот момент не было ни души, за исключением четы Румянцевых – продавщицы Кати и мужа ее Мякиша. Это была самая благополучная, самая зажиточная семья в селе, их иногда даже называли кулаками.
Румянцевы еще с вечера загрузили свой маленький забавный трактор с тележкой впереди кабины мешками с картошкой, а утром отправились в Семиреченск, чтобы продать ее там на базаре. Мякиш рулил в кабине, а Катя сидела впереди на мешках, удерживая их задом и руками, чтобы не свалились. Но не успели они выехать из деревни, как мотор у трактора заглох, чего никогда не бывало. И в этот момент, неизвестно почему, Катя посмотрела на небо, хотя давно этого не делала.
– Саша, гляди! – прошептала она потрясенно, и Мякиш услышал, высунулся из кабины и тоже посмотрел на небо.
Птица летела невысоко, чуть выше печных труб, да и не так чтобы быстро, показательно, можно сказать, летела, и супруги Румянцевы проводили ее, скрывшуюся в серой мгле, взглядом, полным недоумения.
– Жар-птица! – выдохнула Катя.
– А вроде павлин, – осторожно высказался Мякиш.
Катя приблизила лицо к стеклу, постучала себя по лбу и спросила, теряя терпение:
– Подумай своей головой: откуда здесь павлины?
Она бы еще что-нибудь подобное наверняка сказала, но в этот момент дюралевый мятый радиоколокол на столбе, вблизи которого они остановились, взорвался оглушительным маршем.
Сие означало, что было ровно шесть утра. Вот уже сорок лет день в Малых Иванах начинался с одного и того же марша, который ставила в радиорубке клуба его бессменная заведующая – раньше на ставке, теперь на общественных началах – Зоя Каллистратовна Забродина, Змея Каллистратовна или Змея Забродина, как звали ее за глаза в Малых Иванах:
Товарищ, товарищ, В труде и в бою, Ты помни, товарищ, Отчизну свою!Больше в тот самый день в Малых Иванах никто не видел загадочную птицу, но к полудню о ней уже все знали. Реагировали на это известие по-разному, но в общем реакция была негативная, что объясняется в первую очередь известным консерватизмом малоивановцев, в массе своей людей пожилых. Довольно характерной была реакция той же Змеи Каллистратовны.
«Мы живем в такой стране и в такое время, когда все что угодно может полететь», – сказала она.
«Это не павлин и не жар-птица, это фазан!» – с сильным грузинским акцентом объяснил суть вещей учитель Сталин своему ученику Кольке.
Тут просто напрашивается объяснение: Колька – это восьмилетний бандит, внук бабы Шуры, Александры Ивановны Потаповой, которой подкинула его родная дочь Любаша чуть не в недельном возрасте. А Сталин – это грузин, появившийся в Малых Иванах несколько лет назад и купивший маленький домик у самого леса. Сталиным его прозвали, потому что был грузин, потому что носил усы, но главным образом потому, что никто в Малых Иванах не мог выговорить ни имени его, ни отчества, ни тем более фамилии. Так как ближайшая школа находилась в сорока километрах от села, малоивановцы, как люди ответственные, сами занялись образованием ребенка. Каждый преподавал тот предмет, который был ему ближе. Музыкальный, как все грузины, Сталин вел пение.
– Стая фазанов летела на юг. Один отбился, заблудился и теперь догоняет своих товарищей, – закончил он объяснение и обратился к ученику: – Так ты выучил? Нет?
Колька безмолвствовал.
– А первый куплет? Тоже нет?
Колька все ниже и ниже опускал голову.
– А первое слово? Хотя бы первое слово?
Колька был безнадежен.
– Есть такая буква в русском языке! Одна буква – и целое слово! И какое слово! Главное слово! Слово-буква, буква-слово! – горячился Сталин.
Колька поднял голову и спросил с надеждой:
– А? – Это была его буква-слово.
– Я! – воскликнул Сталин. – Я, понимаешь, я!
– Я, – прилежно повторил мальчик.
– Молодец, четыре, давай дневник, – оценил Колькины знания Сталин.
«Это вообще могла быть не птица, а НЛО, неопознанный летающий объект, попросту говоря, летающая тарелка», – объяснял собравшимся вокруг односельчанам знаток всего сверхъестественного Павлуша.
– Трактор в этот момент заглох? – обратился он к стоящему рядом Мякишу.
– Заглох, – кивнул тот.
Павлуша снисходительно улыбнулся.
– Ну вот, видите…
Пристально, но робко малоивановцы всматривались в небо.
Как подобает настоящей змее, Змея Забродина оказалась прозорливой. Где-то в обед над Малыми Иванами пролетел самолет-кукурузник с прикрепленным за трос и развевающимся сзади рекламным транспарантом: «“Джульетта” – лучше для женщины нету! (с крылышками)». Транспарант был исполнен в форме женского гигиенического изделия – действительно с крылышками. А к этому полету малоивановцы отнеслись практически равнодушно, потому что уже привыкли к рекламе, и только сидевшая в своем домике у окна с геранями нелюдимая и мечтательная Нюра-барыня недовольно проворчала: «Ишь разлетались…»
И все-таки не совсем правда, что в тот день больше никто не видел чудо-птицу… Видел и даже слышал! Полковник, так же как и Сталин, – некоренной малоивановец, приехавший сюда двенадцать лет назад и по особому разрешению купивший в личную собственность пустующее здание начальной школы. Полковник был личностью настолько загадочной, что никто в Малых Иванах не знал точно, как его зовут. Тося-почтальонка, например, уверяла, что пенсию ему присылают все время на разные фамилии. Правда, это было тогда, когда пенсии еще присылали. Кстати, никто не знал, полковник ли он на самом деле.
Каждое утро этот загадочный человек делал физическую зарядку – экзотический комплекс упражнений с непременным похлопыванием себя по ляжкам. И, невзирая ни на какой мороз, окна его дома в это время всегда были открыты настежь. Вот и в то памятное утро полковник стоял в нижней полотняной рубахе, черных галифе и кедах и хлопал себя по ляжкам, как вдруг, хлопая крыльями, к дому подлетела та самая птица, села на подоконник и на ломаном русском с сильным немецким акцентом спросила крикливо и нервно: «Как тепя зофут?» Полковник страшно побледнел.
Чтобы перевести дух от произошедшего и немного опомниться, расскажу о местоположении Малых Иванов. Они находятся в Семиреченском районе… ой, губернии, на маленьком полуострове, на так называемом Гулькином носу, на берегу одной великой русской реки, из-за множества плотин ставшей в этом месте фактически водохранилищем или, если угодно, морем. С одной стороны стоялая тухловатая вода, с другой – пустые диковатые леса да заброшенные колхозные поля. Все это составляло окрестности Малых Иванов. И если бы не люди, маленькие, но по-своему любопытные, а главное, если бы не события, в тех местах произошедшие, ноги нашей там бы не было.
Поздно вечером почти в полной темноте стояла у забора баба Шура и дожидалась внука. Дело это было обычное, но все же немного нервное. В руке она держала дежурный ремень – как индеец перед точным броском держит свое лассо. Чуть подавшись вперед, баба Шура вслушивалась в приближающийся частый топот, как если бы сюда скакала лошадь или скорее жеребенок. Когда Колька выскочил из-за угла и немного сбавил скорость – верхом на деревянной лошадке, ремень засвистел в воздухе и сочно достал мягкое. Колька ойкнул и скрылся в дверях дома.
Конь-палка с большой деревянной головой и гривой из мочала стоял в углу, и мальчик кормил его с ладони хлебным мякишем.
– Где был? – спросила Александра Ивановна, схватив внука за шкирку и потащив его к тазу с водой.
– Где надо, – пробурчал в ответ Коля, доедая на ходу, а фактически уже на лету то, что не успела съесть лошадка.
– Откуда лошадь? – продолжала допрос бабка.
– Откуда надо, – отвечал внук.
Содрав и отбросив в сторону грязную одежду, Александра Ивановна усадила Кольку в таз с водой.
– Холодная, блин! – заорал он возмущенно.
– Я тебе дам – блин! Я что, должна ее пятый раз греть? – проорала в ответ бабушка и привычно и беспощадно стала намыливать его и тереть мочалкой.
Чистый, с мокрыми волосами Колька сидел за столом и наворачивал жареную картошку с салом и солеными огурцами, запивая все это молоком. Насыщаясь, малыш добрел, да и бабушка, глядя на него, мягчала.
– Так откуда лошадка? – спросила она.
– Не лошадка, а конь, – поправил внук.
– Откуда мерин? – пошутила бабушка.
– Конь! – возмутился Колька.
– Ну, конь, конь… Откуда?
– Один человек подарил.
– Как звать?
– Калькулятор.
– Кого? – не поняла бабка.
– Кого-кого, раскогокалась, – обиделся внук. – Коня так зовут! Ба, а что такое калькулятор? Он сказал – пулемет.
– Кто?
– Пред… – мальчик понял, что проболтался, почти проболтался, и зажал ладонью рот, но было, конечно, поздно.
Александра Ивановна усмехнулась.
– Я тебе приказывала подарков от него не брать?
– А он сказал: «Дареному коню в зубы не смотрят»…
Давая понять, что наелся, малыш рыгнул, тяжело поднялся, животом вперед подошел к кровати и упал на нее спиной. Сетка заскрипела и прогнулась.
– Ну что, заводить? – привычно и устало спросила баба Шура.
– Ага, – проговорил мальчик, проваливаясь в сон.
Бабушка сделала вдох, но внук вдруг открыл глаза и живо спросил:
– Ба, а что такое «Джульетта с крылышками»?
– А чёрт его знает! – искренне призналась бабка. Пришлось снова сделать вдох.
– Ба, – услышала она, и во второй раз пришлось выдохнуть.
– Ба, а ба, а ты зверей любишь?
– Зверей? – удивилась бабушка. – Да я и людей не очень-то…
– Почему?
– А за что их любить?
Мальчик не стал уточнять, кого именно не за что любить – людей или зверей.
– А если б тебе предложили зверя, ты б кого выбрала?
– Никого.
– Не, ба, так не пойдет, – не соглашался внук. – Например, кого: зебру, кенгуру или слона?
– Ну, слона, – ответила бабушка, чтобы он, наконец, отвязался.
Колька улыбнулся.
– Заводи, – успел прошептать он, проваливаясь и одновременно взлетая.
И баба Шура наконец запела:
Шел отряд по берегу, шел издалека, Шел под красным знаменем командир полка. Баю-бай, командир полка.Колька спал, и Александра Ивановна замолчала. Она перевела взгляд на висевшую над кроватью увеличенную фотографию дочери своей Любаши, снова посмотрела на внука и ласково проговорила: «Ладно француз, а ведь мог и негром родиться».
Ночью, уже фактически под утро, Андрею Егорычу Данилову по прозвищу Председатель приснился страшный сон. Ему приснилась обезьяна. Как будто она беззвучно вошла в его дом – в маленький ветхий домишко и начала в нем хозяйничать. Обезьяна была нарядная: в короткой с блестками плюшевой юбочке, в малиновом жилете, а на голове, что самое удивительное, было нечто вроде старинного русского украшения для девушек – увешанный стеклярусом кокошник, который держался на обезьяньей голове при помощи стягивающей подбородок резинки. Сзади к кокошнику была приклеена льняная косица с кокетливым бантом. Первые мгновения сна были особенно страшны. Егорычу снилось, что он спит – на своей железной солдатской койке под старым суконным одеялом, а обезьяна приблизилась и стала внимательно всматриваться в его лицо. Она была так близко, что Данилов почувствовал ее душноватое звериное дыхание.
После этого обезьяна оглядела грязную запущенную комнату и покачала головой. Подняла худосочный веник, помела пол, но, поняв, что это бесполезно, бросила веник и перешла на своих гнутых волосатых ножках к холодной плите. На ней стояло несколько грязных кастрюль, и в одной обезьяна обнаружила щи. Торопливо запустив в кастрюлю узкую продолговатую ладонь, обезьяна зачерпнула со дна и сунула ладонь в рот. Реакция ее обидела Егорыча даже во сне. Обезьяна страшно скривилась, стала плеваться и вытирать ладонь обо все, что было рядом.
Зато банка с остатками старого засахарившегося варенья обезьяну несколько утешила – она выскребла варенье ложкой и с удовольствием съела. Найдя в пачке «Примы» последнюю сигарету, обезьяна вытащила ее и заложила за оттопыренное ухо, после чего подошла к вешалке и стала стаскивать с нее – его, Андрея Егорыча Данилова, теплую зимнюю телогрейку, которую он в этом году сам еще ни разу не надевал.
И хотя Данилов понимал, что он спит и обезьяна ему снится, он также начал понимать, что, вообще-то, его грабят, и, не открывая глаз, закричал дурным со сна голосом: «Караул! Грабят!»
Открыв глаза, он увидел, что кто-то темный и зловещий метнулся к двери.
Чуть погодя предутреннюю тишину Малых Иванов разрушил гулкий ружейный выстрел, и в окнах домишек стали зажигаться испуганные огни.
А еще чуть погодя прибежал ближайший сосед Данилова Виктор Николаевич Сорокин, имеющий странное прозвище Выкиньсор. Хотя Сорокин считался в Малых Иванах интеллигентом, и справедливо считался, отношения между ним и Даниловым так как-то и не сложились.
Обхватив голову руками, Председатель сидел на кровати.
– А я думал… – Сорокин опустил руку, которую держал на сердце.
– Что ты думал? – спросил Егорыч.
– Ты стрелял?
– Я… Ограбили меня…
– Ограбили? – не мог поверить Сорокин.
– Ограбили, – сокрушенно повторил Председатель. – Телогрейку взяли зимнюю, шапку мою армейскую, валенки… тоже зимние… И «Кильки в томате», две банки, я их до смерти люблю…
– Так значит, ты стрелял…
– Стрелял…
– Но ты же мог… убить… Ты мог человека! За телогрейку…
– Какого человека? – Председатель нервно заходил по комнате. – Ружье пять осечек дало… В воздух я стрелял!.. – И, посмотрев на стоящего у двери Сорокина, предложил: – Садись, раз пришел, гостем будешь.
– В воздух… – успокоенно повторил Виктор Николаевич и осторожно присел на табурет.
Данилов достал из стола заткнутую свернутой газетой четвертинку с синеватой жидкостью внутри. Сорокин посмотрел на него вопросительно.
– Не отравимся?
– Не стравишься. Спирт медицинский, на мурашах настоянный. От ревматизма лечусь.
– Без закуски не могу, у меня желудок, – предупредил Сорокин.
Председатель понимающе кивнул, взял с полки две железные миски, потер половник о рукав и налил себе и гостю щей, тех самых, которые во сне так не понравились обезьяне. Они выпили спирта, с аппетитом стали закусывать щами, и Председатель вспомнил сон, и на лице его появилась гримаса обиды и непонимания.
– А перед тем мне обезьяна приснилась… Как живая, – поделился он.
– Обезьяна – это Фрейд, – уверенно объяснил Виктор Николаевич.
– Кто? – не понял Данилов.
– Зигмунд Фрейд. Как она выглядела?
Председатель нахмурился.
– Обезьяна как обезьяна… Нарядная, правда…
– Вот! – воскликнул Сорокин. – Значит, либидо у тебя еще есть.
По скулам Данилова катнулись желваки.
– Ты, Виктор Николаевич, говори проще, – тихо попросил он.
– Это значит, что ты еще как мужчина в порядке… Еще можешь, – упростил объяснение Сорокин.
Андрей Егорыч смутился.
– Почему ж тогда обезьяна?
– Ну, это ты, Андрей Егорыч, у Фрейда спроси, – пошутил Сорокин.
– Спрошу, – кивнул Данилов. – Но сначала спрошу, какая сволочь… По радио снег обещали, а у меня все зимние вещи… Телогрейка зимняя, валенки тоже зимние… шапка армейская старого образца…
Сорокин поднял руку, останавливая зациклившегося на своей беде соседа.
– Давай лучше думать, кто бы это мог быть…
– А чего думать, если, кроме Афони, некому! – Председатель решительно поднялся. – Может, и не он, конечно… Но кроме него-то – некому.
– Я не хотел говорить об этом первым, – сказал Сорокин и тоже поднялся.
У дома, в котором Афоня жил со своей матерью Тосей-почтальонкой, уже собралась небольшая толпа малоивановцев. Пропустив вперед потерпевшего, свидетели ломанулись следом.
– Где Афоня? – гаркнул Председатель с ходу.
– Спит, – пропищала перепуганная Тося.
– Давно? – язвительно вопросил Сорокин.
Председатель подскочил к железной койке и сорвал со спящего байковое одеяло. Афоня лежал в одежде: брюках, рубахе и пиджаке.
– Спит? В одежде спит?!
– А он всегда так спит, – объяснила Тося, все еще ничего не понимая.
Афоня открыл глаза и улыбнулся, но Председатель навис над ним как грозовая туча, и улыбка сошла на нет.
– Признавайся, – приказал Данилов.
– Признаюсь, – выполнил приказ Афоня.
Народ возмущенно загалдел. Тут было и «Как тебе не стыдно своих обкрадывать!».
И – «Опять за старое взялся!»
И – «Мать бы пожалел…»
И – «Ох, Афоня, Афоня…»
И даже – «Пирамидон проклятый!».
За это время Афоня по прозвищу Пирамидон сел на кровати и, потирая ногу об ногу, ждал допроса.
– Телогрейку зимнюю брал? – задал свой вопрос Данилов.
– Брал, – обреченно ответил Афоня.
– Шапку армейскую старого образца… брал?
– Брал. – Афоня уже не мог смотреть на людей и поэтому смотрел на свои босые ноги.
– Валенки зимние?
– Брал.
Данилов схватил вора за лацканы пиджака и притянул к себе, заставляя смотреть в глаза.
– И консервы «Кильки в томате», две банки.
– И консервы… – безвольно покачиваясь, ответил Афоня.
– «Кильки в томате»?
– «Кильки в томате»…
Председатель оттолкнул от себя вора, и Афоня снова сел на кровать. После чистосердечного признания к нему стало возвращаться чувство собственного достоинства. Он поднял голову и посмотрел поочередно каждому в глаза. «Воровал и воровать буду!» – вот что выражал его взгляд!
– А позволительно ли будет спросить, куда ты все это дел? – это был уже вопрос Сорокина.
– Консервы съел, а шмотки пропил. – Чувство собственного достоинства стало прямо-таки переполнять Афоню.
Все так и ахнули, прямо задохнулись от подобной наглости. Никто не задался вопросом, когда Афоня успел это сделать, ведь преступление было совершено четверть часа назад, – так велико было народное возмущение. А за окном застучал и замолк звук мотоциклетного двигателя. Это приехал старшина Зароков, участковый инспектор на общественных началах. Всю свою жизнь Зароков охранял порядок и, выйдя на пенсию, продолжал заниматься тем же. В темно-синей форме старого образца на «Урале» с коляской трижды в день объезжал он с дозором село, и малоивановцы относились к этому с пониманием, считая, что так порядка все же больше.
Вообще-то, Зарокова уважали, но сейчас он всех развеселил, и даже Афоня робко заулыбался. Последовали следующие комментарии:
– Приехал!
– Дождались, ага!
– Когда они нужны, их не докричишься…
– А когда сами во всем разобрались, они тут как тут!
Но когда Зароков вошел в комнату, все уже молчали – все-таки побаивались его старшинских погон.
– Признался!
– Раскололся!
– По всем пунктам обвинения! – доложили малоивановцы, но Зароков словно не услышал. Оглядев всех внимательным и тяжелым взглядом, он скомандовал:
– Всем, кроме подозреваемого, очистить помещение.
Тут Тося попыталась воспротивиться.
– Я – мать! – гордо воскликнула она перед лицом власти.
– А родственники в первую очередь, – отрешенно проговорил милиционер.
Зароков вышел к народу, когда народ еще не успел выкурить и по сигарете. Он отозвал Председателя в сторону и строго, как приказал, сказал:
– Он не виноват.
– Да я и сам это понял, – со вздохом согласился Председатель.
– А ружье я у тебя конфискую, – подытожил Зароков.
Проводив грустным взглядом Зарокова на мотоцикле с его родной ижевкой за спиной, Председатель присел на ступеньку ветхого своего крыльца, поискал курево в одном кармане пиджака, поискал в другом и, к огромному удивлению, вытащил из бокового кармана большой, сложенный вдвое конверт. Данилов развернул его. На конверте было крупно написано: «Людям доброй воли!». Помедлив, размышляя, вероятно, о том, добрая у него воля или нет, Егорыч все же открыл заклеенный конверт, достал из него письмо, написанное на одном большом листке, и стал внимательно его читать. Недоумение, непонимание, смятение – вот что было на его лице во время чтения! А в одном месте, где-то посредине, он задумался, нахмурил лоб, пытаясь что-то вспомнить, почесал затылок, но так, видимо, и не вспомнил. Спрятав письмо в боковой карман, Председатель продолжил, но уже лихорадочно, искать сигареты, чтобы закурить наконец и все обдумать, и в этот момент из соседнего двора донесся смех. Смеялся Выкиньсор, нехорошо смеялся, и даже не смеялся, а хохотал – опять же нехорошо, очень нехорошо. Данилов послушал, подумал и пошел к соседу напрямки – через заросли сухой бузины и гнилой поваленный забор, тропой, проторенной утром Сорокиным. Дверь в дом была открыта настежь, и Егорыч осторожно вошел, вслушиваясь в продолжающиеся раскаты хохота.
Виктор Николаевич стоял посреди комнаты, смотрел на себя в большое гардеробное зеркало и хохотал.
– Николаич… Виктор Николаич, – осторожно позвал Данилов.
Сорокин резко обернулся, перестав хохотать. Данилов пристально вгляделся в глаза соседа и, ничего подозрительного в них не обнаружив, облегченно улыбнулся.
– А я думал…
– Что вы думали? – резко спросил Сорокин.
– Да, чёрт, ничего, – смутился Данилов и еще больше от того смутился, что сосед перешел на вы.
А Сорокин вдруг взял Председателя за рукав и потребовал:
– Дайте мне ружье! Немедленно дайте мне свое ружье!
– Ружье… – вконец растерялся Данилов. – У меня его Зароков конфисковал.
– Если бы у меня было ружье… Ах, если бы у меня было ружье! – Сорокин нервно говорил и ходил по комнате взад-вперед. – Нет, лучше пистолет. Пулемет! Огнемет! Я бы уничтожал их всех, я бы сжигал их огнем…
К смущению и растерянности Данилова прибавился страх.
– Кого? – спросил он тихо.
– Меня ограбили… – сообщил Сорокин. – Впрочем, это уже не ограбление, а разбой! Они – разбойники!
Он схватил Председателя за руку и потащил в соседнюю комнату. Здесь словно Мамай прошел. Окно было выломано с рамой и валялось на полу среди битого стекла. Железная кровать лежала на боку, сверху был брошен полосатый матрас. Данилов смотрел на все это тупо и потрясенно.
– Это какая же силища должна быть? Медвежья…
– Дверь была открыта, вы понимаете, дверь была открыта, утром я побежал к вам и забыл закрыть ее, они могли бы войти в дверь, но вместо этого… – Сорокин захлебывался словами. – Это уже не просто разбой… Это акция устрашения. Ясно, что они нас запугивают.
– Кто? – по внешнему виду Данилова было видно, что лично его уже запугали.
Соркин оставил вопрос без ответа.
– И еще ясно, что они готовились к зиме! У вас пропали теплые вещи, у меня ватное одеяло и две подушки. Но!! Зачем им зимой велосипед?
– Какой велосипед? – шепотом спросил Данилов.
– Мой! Мой велосипед! Он висел здесь на стене, видите? Велосипед взяли, а насос оставили!
Данилов хотел нагнуться, чтобы поднять насос, но Сорокин схватил его за плечо:
– Не трогайте! Отпечатки пальцев…
В ожидании Зарокова они устроились в крохотной соседней комнатке, где был диван, на котором спал Сорокин, множество книг на полках да маленький столик. Хозяин дома порезал на тарелочке лимон и теперь наливал в маленькие металлические рюмки коньяк из металлической же фляжки.
– Это настоящий армянский… Сейчас такого нет – одни подделки… Я хранил его двадцать четыре года для какого-нибудь торжественного случая, – объяснял Сорокин.
– А ты ко мне всегда теперь на вы будешь обращаться? – спросил Данилов, с трудом удерживая рюмку в руке.
– На вы? – удивился Сорокин. – Просто мне так было легче… – Он поднял рюмку. – Как говорится, не было бы счастья, да вот – несчастье…
Председатель вылил коньяк на язык, почмокал и с интересом посмотрел на фляжку. Но тут же взгляд его привлекла стоящая на столе фотография в рамке. С нее смотрела молодая красивая женщина, и Данилов не сразу узнал в ней Александру Ивановну Потапову, бабу Шуру. Он удивленно посмотрел на соседа. Сорокин смущенно улыбнулся, растерянно развел руками, потер нос.
– Вообще-то, днем я ее убираю, ставлю только на ночь, а сегодня… забыл… такой день… Но ведь вы, то есть ты – умеешь… умеете хранить тайны?..
Председатель покосился на фото.
– Да если б и не умел, кому бы стал рассказывать…
Простая история… – заговорил Сорокин и вдруг вскочил, как белый офицер в присутствии дамы. – Люблю! Да, люблю! У нас это слово не в почете, у нас говорят «сошлись»… «Сошлись и живут…» Ну, а я – люблю! Люблю! Люблю!..
Председатель смущенно улыбнулся.
– Ты когда про коньяк сказал: «Для торжественного случая берегу», я подумал: «Какой такой случай может быть в наши годы? Поминки собственные разве?» А ты…
– Да, я не теряю надежды! – Виктор Николаевич сел, встал и снова сел. – Знаешь, что сказал Ларошфуко? «Старость страшна не тем, что стареешь, а тем, что остаешься молодым». Да, мне давно не снится нарядная обезьяна, но разве это главное? Я подарю ей весь мир! – Сорокин указал рукой на свои книги.
Председатель вздохнул, поглядел на часы и проговорил устало:
– Что-то Зароков не едет…
Сорокин взялся за фляжку:
– Может, еще по одной?
– Да нет, ты уж дальше береги… Для торжественного случая…
Председатель поднялся и вдруг услышал в соседней разгромленной комнате осторожные шаги. Кто-то там ходил по битому стеклу. И не один, а по меньшей мере двое… Данилов и Сорокин переглянулись и, вслушиваясь в приближающиеся за закрытой дверью шаги, попятились. Кто-то там взялся за ручку двери и медленно потянул ее на себя. Данилов и Сорокин одновременно ткнулись спинами в книжные полки и остановились. Глянув по сторонам, Егорыч схватил с подоконника цветок в горшке, решив применить его как оружие. Виктор Николаевич последовал его примеру – цапнул томик Чехова и приготовился защищаться.
Невыносимо и угрожающе скрипя, дверь отворилась. На пороге стояла Тося-почтальонка и держала за руку сыночка. В другой руке Афони был небольшой узелок, как видно, с парой белья и сухарями. И мать и сын заискивающе улыбались.
– Слышали – ограбили вас. Ну, мы уж сами решили прийти, – объяснила Тося.
Данилов и Сорокин озадаченно переглянулись.
Вообще в течение всего второго дня малоивановцы озадачивались неоднократно. Например, все та же почтальонка Тося со своей почтальонской сумкой на животе видела на другом конце одичавшего колхозного поля как бы свое подобие, тоже с сумкой на животе. К тому же Тосино подобие прыгало, и здорово прыгало.
Как примерно в то же время озадачился Сашка Мякиш. Он правил своей лошадкой, единственной, кстати, в Малых Иванах, и дорогу ему пересекли две очень красивые и чрезвычайно полосатые лошади. Если бы в окрестностях Малых Иванов водились зебры, Мякиш уверенно мог бы сказать, что это они и есть. Но о каких зебрах может идти речь в Малых Иванах? Вот Мякиш и озадачился.
Уже ближе к обеду озадачилась продавщица Катя, сзывавшая своих разбредшихся пеструшек.
«Ту-ту-ту, – призывала их Катя (почему-то именно так она звала своих кур). – Ту-ту-ту!» И вдруг увидела невдалеке курицу крупнее, чем ее плимутроки, раз, наверное, в сто. Гигантская курица прислушивалась – не ее ли это зовут? И Катя, конечно, на всякий случай замолчала.
И вот что интересно! Никто из троих: ни Тося, ни Катя, ни Мякиш – никто из них не сказал в деревне об увиденном. И даже не потому, что боялись, мол, не поверят, а просто почему-то не хотелось…
Прочитав письмо раз, наверное, сто и так ничего и не поняв, Председатель пошел за советом к человеку, который, как ему казалось, мог этот совет дать, – к Александре Ивановне Потаповой.
Он стоял перед ее дверью и то поднимал руку, то опускал, но наконец решился и постучал – тихо и крайне деликатно. В ответ не было ни звука. Председатель постучал громче, и вновь в ответ никакой реакции. Тогда он ударил в дверь кулаком: раз! два! три! А в ответ – тишина…
– Оглохла, старая! – разозлился Егорыч и двинул дверь ногой.
Дверь неожиданно распахнулась. В ней стояла баба Шура с пустым ведром.
– Ты ко мне или к Кольке? – спросила она озабоченно и деловито, как будто он по сто раз на день забегает. Председателя зло взяло.
– К Кольке! – выпалил он.
– Его еще нет, но скоро будет. Посиди вон в углушке его, поиграйся, – заботливо предложила она и вышла.
Егорыч сел на маленький стульчик, взял с пола яркий автомобильчик и, катая его по своей ладони, увлекся.
– Не пришел еще? – поинтересовалась баба Шура, возвращаясь, и Председатель торопливо поставил игрушку на пол, нахмурился, становясь вновь Егорычем, человеком, обремененным прожитыми годами.
– Ну, посиди, посиди, придет, – она явно издевалась.
Данилов вытащил из кармана письмо, протянул его.
– Вот, прочитай. Подбросили мне, – проговорил он мрачно.
Александра Ивановна хотела отказаться, еще какой-нибудь фортель выкинуть, но бабье любопытство взяло верх. Надев очки, она взяла письмо, внимательно прочла, вернула и посмотрела на Председателя. Смятения в ее глазах не было, но удивление и непонимание – были.
– А кто такой Гусман? – спросила она.
– Да я вот тоже думаю, – пожал плечами Данилыч. – Слушай, а может, Колька? – неожиданно предположил он.
– Колька – Гусман? – поразилась баба Шура. – Потапов он… Тебе метрику показать? Потапов Жан-Поль Жан-Полевич!
– Да нет… написал он… письмо это…
Баба Шура рассмеялась.
– Да он писать-то… Учителя у него… Змея… коллективизацией замучила. Ему бы маму, Машу писать, шары, рамы мыть, а она сразу – коллективизация.
Данилов не согласился.
– Не знаю, как насчет мамы, Маши, а на моем уровне, когда я ему устройство табурета объяснял, он на этом табурете слово из трех букв накарябал…
– Без ошибок? – поинтересовалась баба Шура.
– Без ошибок.
– Молодец! – похвалила бабка внука.
– Я тебя, Александра Ивановна, обижать не хочу, но, кроме Кольки, некому, – мрачно проговорил Председатель, с трудом поднимаясь с детского стульчика.
– Ах вон оно что? – уперев руки в боки и наступая, воинственно заговорила баба Шура. – Намекаешь, что кальсоны он твои украл?
– Не кальсоны, а телогрейку, – бубнил Данилов, отступая к двери. – Шапку армейскую старого образца, валенки зимние, «Кильки в томате» две банки, я их до смерти люблю.
– «Кильки в томате»! – воскликнула баба Шура. – Значит, я внука не кормлю, и он от голода на консервы твои просроченные позарился?
Егорыч пятился, а баба Шура наступала, и опасная скалка была у нее в руке. Она бы, может, и ударила, так была возмущена, наверняка ударила, если бы в последний момент, когда Председатель уже вываливался в дверь, не увидела на своей вешалке чужую телогрейку, валенки и шапку армейскую старого образца…
Сдернув со стены дежурный ремень, она вышла в сени, но, увидев мокнущий в кадке с водой толстый ивовый прут, отбросила ремень и, размахнувшись, со свистом рассекла воздух надвое. Подошла к калитке, замерла и услышала вдали знакомый жеребячий топот.
Донельзя рассерженный разговором с Александрой Ивановной Председатель вошел в Павлушин дом без стука. Посреди комнаты за круглым столом сидели Павлуша и Сорокин. На столе горели свечи, а посредине лежала пепельница в виде человеческого черепа. На стене висел исполненный тушью на листе ватмана график, озаглавленный: «График перемещения астрального тела во времени и пространстве». На полках стояли книги современных кудесников. И Павлуша, и Сорокин удивились приходу Председателя, а Сорокин еще и смутился.
– Андрей Егорыч! И вы тоже… – поприветствовал он соседа.
– Какие люди и без охраны! – воскликнул Павлуша, поднимаясь.
А Данилов, увидев здесь Сорокина, разозлился еще больше.
– Но ведь это же мистика, согласись, мистика, что нас с тобой ограбили практически одновременно… – частил Сорокин. – А знаешь, что говорит по этому поводу Павел Иванович? У нас с тобой грязная карма! А знаешь почему? Оказывается, мой дедушка и твоя бабушка…
– Ты мою бабушку не трожь, – оборвал его Данилов и протянул Павлуше таинственное письмо. – Ты писал?
Павлуша с интересом посмотрел на адрес.
– Стиль мой. И почерк похож… Но… – Он вытащил письмо из конверта.
Данилов вперился взглядом в читающего Павлушу, пытаясь понять: он или не он, Виктор Николаевич сгорал от любопытства, но держался, продолжая разговаривать с Председателем.
– Павел Иванович убеждает меня в том, что в прошлой жизни я был… козлом! Но не простым, разумеется, а горным. Муфлоном или, может быть, архаром…
Павлуша поднял невинно голубые глаза свои и спросил:
– А кто такой Гусман?
Данилов вырвал из его рук письмо.
– А хочешь, он и тебе скажет, кем ты был в прошлой жизни? – предложил Сорокин.
– С превеликим удовольствием! – поддержал Павлуша и прищурил один глаз, как бы примериваясь.
Данилов предупреждающе поднял руку.
– Только попробуй!.. Шарлатан… Мракобес… Только попробуй…
По дороге к дому его нагнал запыхавшийся Сорокин.
– Слушай, а в самом деле, кто такой Гусман? – озабоченно спросил он.
– Пошел к чёрту, – ответил Данилов, не останавливаясь.
Сорокин же остановился обидевшись, но Егорыча это нисколько не тронуло.
Но тут до слуха его донеслись два обидных вопроса.
– К Александре Ивановне сегодня подкатывал? – это был первый вопрос.
– Пробкой вылетел? – второй.
Данилов остановился, подумал… и вернулся к Сорокину. Виктор Николаевич сделал два шага назад, но все же остановился.
– Слушай, Выкиньсор, – обратился к соседу Данилов. – Сколько лет рядом с тобой живу, а никак не могу понять, хороший ты человек или плохой?
– Я не хороший! – самокритично признал Сорокин, но тут же оговорился: – Но и не плохой… – Задумался и сформулировал: – Я – сложный…
Уже лежа в постели, выпоротый, умытый, накормленный, умиротворенный, сонный, Колька спросил бабушку:
– Ба, а что такое женщина легкого поведения?
– А чего? – насторожилась баба Шура.
– Мне Зоя Каллистратовна сказала, что моя мамка – женщина легкого поведения.
Баба Шура проартикулировала беззвучное послание в адрес Змеи Забродиной и обратилась к внуку:
– Легкого, правильно… Ей с людьми легко, и людям с ней тоже легко…
– А у тебя поведение тяжелое? – спросил внук.
– Тяжелое, – кивнула бабка.
– И у меня тоже, – сказал Колька и вздохнул. Потом подумал и спросил: – Ба, а почему вы Зою Каллистратовну Змеей зовете?
– А потому что – змея, – просто объяснила бабка.
– Ба, а ты правда слона хочешь? – тихо, застенчиво спросил внук.
– Какого слона? – ничего не поняла Александра Ивановна.
Колька вздохнул и нахмурился.
– Ну, ладно, заводи…
И бабушка Шура с готовностью запела:
Голова обвязана, Кровь на рукаве, След кровавый стелется По сырой траве. Баю-бай, по сырой траве.Войдя в свой дом, Андрей Егорыч сразу же обнаружил на вешалке шапку и телогрейку, а под ними валенки. На столе лежали две банки консервов.
У Председателя был такой вид, что казалось, он сейчас заплачет. Поискав беспомощно глазами, к кому бы обратиться, он остановился взглядом на старой фотографии революционных солдат с винтовками и обратился к ним:
– Ну хоть убейте меня – ничего не понимаю!
Как это обычно и бывает, все разрешилось на третий день. Как правило, все разрешается либо в хорошую сторону, либо в плохую. Но есть еще и третья сторона, о которой мы предпочитаем не помнить. Это очень плохая сторона. Первый из малоивановцев, кому она о себе напомнила, был Сталин.
Утро застало его в лесу, куда он пришел еще затемно, чтобы выбрать место для засады на медведя. Хотя это было и непросто, но Сталин устроил себе засаду на дереве – в целях безопасности. И вот он сидел на дереве, курил и размышлял неторопливо и радостно на своем родном грузинском языке: «Медведь!.. О, медведь – мечта каждого настоящего охотника и каждого настоящего мужчины. Они не верят, что я настоящий охотник, потому что столько лет я хожу на охоту и столько же лет не приношу никакой добычи. Но разве в этом есть моя вина, если в этих лесах давно нет дичи? Стоило только появиться этому несчастному медведю, как я его…» Плавный и торжественный, как хорошая советская песня, ход мыслей был нарушен треском сучьев и хорошо различимым медвежьим урчанием, знакомым каждому по передаче «В мире животных».
Сталин был действительно бесстрашный человек. Он торопливо загасил сигарету и взвел курки своего старинного ружья. Глаза Сталина горели неподдельным охотничьим азартом. Надо отдать ему должное. Наверное, он убил бы медведя, во всяком случае, не побоялся бы в него выстрелить… Если бы это был просто медведь…. Или, точнее, если бы он шел, бежал или даже стоял на задних лапах. Но этот медведь ехал на велосипеде. Он крутил педали, с трудом пробиваясь сквозь густой ельник, и недовольно урчал. И, увидев такую картину, Сталин забыл о ружье. Он даже забыл о том, что сидит на дереве, и потому с треском полетел вниз. Дело могло кончиться плохо, если бы Сталин не зацепился краем своей толстой кожаной куртки, какие раньше носили летчики, за толстый сук и повис между небом и землей.
– Дэда, – успел сказать Сталин, что в переводе с грузинского означает «мама».
Медведь, в отличие от Сталина, оказался не храброго десятка. От неожиданного шума медведь плюхнулся с велосипеда и, подхватив свое средство передвижения, попер с ним назад сквозь ельник.
И тут случилась еще одна неприятность. Ружье выстрелило – раз и еще раз. Сталин подумал, что ружье выстрелило в него, и, не успев сказать «дэда», а только «дэ…», упал на землю. А медведь в свою очередь подумал, что ружье выстрелило в него, и, бросив велосипед, рванул очертя голову вперед. Он бежал, не разбирая дороги, и тут случилась третья неприятность, самая для Сталина большая, – своей задней лапой медведь наступил Сталину на голову, на ту ее часть, которая именуется ухом…
…А в это время в селе Малые Иваны все шло своим чередом. Холодное мглистое утро начиналось словами:
Товарищ, товарищ! В труде и в бою…И вдруг превратилось в «у-у-у!» – разрывая нервы малоивановцев, игла радиолы проползла по всей пластинке, и тут же раздался крик такой степени ужаса и такой громкости, что поднялось и закружило все окрестное воронье.
Что же говорить о малоивановцах? Тот, кто еще спал, мгновенно проснулся. Тот, кто проснулся, тут же оделся. Тот, кто оделся, выскочил на улицу! Впрочем, и неодетые тоже выскочили, Сорокин и Председатель например. Оба в белом исподнем, в кальсонах со штрипками, оба босые. Только увидев друг друга, оба поняли, что надо остановиться. Кричала Змея Забродина, чёрт бы ее побрал!
… А в это время Сталин вышел из леса. Он вышел из леса изменившимся, можно сказать, преображенным. Дело даже не в белой повязке на голове, которую он сотворил из рукава своей рубахи, а в каком-то нездешнем свете в его глазах. Сталин улыбался и смотрел вперед и немного вверх. И ничто не изменилось в его лице, когда он увидел перегородивший дорогу милицейский мотоцикл и стоявшего рядом старшину Зарокова. Хотя Зароков знал Сталина не один год, сейчас он был сух и официален. Он взял под козырек и хотел задать свой сугубо милицейский вопрос, но Сталин, подняв руку, опередил его.
– Прежде чем говорить, выслушайте меня, храбрый рыцарь! Вы единственный в этих местах, кто не называет меня именем тирана, и к тому же вы единственный, кто имеет музыкальный слух. Вот… – И Сталин спел на ухо участковому какую-то грузинскую песенку. – Это плохо? – спросил он, но в голосе его была надежда.
– Плохо, – ответил милиционер.
Сталин опустил голову.
– Что ж, говорите теперь вы, храбрый рыцарь.
– Я не храбрый рыцарь, а старшина Зароков, – терпеливо объяснил участковый и вдруг поморщился.
– Чем это от вас так пахнет?
– Это запах медвежьего страха, – вскинув голову, гордо ответил Сталин.
– А откуда у вас этот велосипед?
Сталин удивился.
– Где вы видите… – Не сразу признав в велосипеде велосипед, он воскликнул: – Я не желаю превращать трагедию в фарс!
Зароков расправил плечи и торжественно проговорил:
– Найхосро Амиридонович Мойсцралишвили, вы арестованы!
А народ в то же самое время, кто с кольем, кто с дубьем, мчался к сельскому клубу, в котором и находилась радиорубка. Может быть даже, не для того бежали туда малоивановцы, чтобы вызволить Змею Забродину из неведомой беды, а для того, чтобы она, наконец, замолчала. С видимым напряжением радиоколокол транслировал на всю деревню то, что происходило в клубе. К крику Змеи Каллистратовны присоединялся крик каждого, кто вбегал в радиорубку, причем сначала, правда недолго, крик новичка перекрывал крик хозяйки.
– Змея!!! – вот что кричали они. – Змея!!!
Наконец вбежал Председатель и зычно скомандовал (все, кто слушал трансляцию, сразу узнали его голос):
– Выключите микрофон! Немедленно выключите микрофон!
Потом протопали шаги, потом что-то щелкнуло и стихло. (Наверно, сам и выключил.)
Баба Шура слышала это все, стоя в своем доме и глядя на пустую постель внука, который, вообще-то, любил поспать. Внутренний голос подсказывал ей: «Он».
– Он, кто же еще, – вслух согласилась баба Шура. – Кроме него, некому.
Сдернув с гвоздя дежурный ремень, она вышла в сени, увидев мокнущую в кадке розгу, сменила ремень на более действенное средство воспитания. Но, подойдя к калитке и услышав приближающийся частый топот, бросила хворостину, с треском выломала из забора штакетину и, удовлетворенная размером ее и весом, изготовилась к встрече внука, как американский бейсболист готовится к встрече стремительно летящего к нему мяча…
…Но если бы это была змея… Это был удав! И даже не удав – удавище, длиною метра три и толщиной с хорошее бревно.
Он лежал на зачехленном диване под большим портретом диктора Левитана и смотрел на стоящих напротив остолбенелых людей, как начальник на подчиненных – удивленно и требовательно.
Малоивановцы уже не кричали. Они почувствовали и даже, можно сказать, поняли, что начинается их какая-то новая жизнь, хотя и не представляли себе, что это будет за жизнь…
…Не понимала этого одна баба Шура. Она еще наивно верила в то, что стоит только хорошенько наказать проказливого внука, и все пойдет, как было раньше: не хорошо, но и не плохо – по-прежнему. Она даже улыбнулась, вслушиваясь в приближающийся знакомый топот. Баба Шура знала точно, когда надо бить и куда, и, размахнувшись, ударила. Да нет, не ударила, врезала. И хорошенько врезала! Однако, как это ни покажется странным, то был вовсе не Колька. И более того, даже и не человек.
Это было животное, зверь, каких баба Шура не видела за свою долгую жизнь и на картинках. Свинья не свинья, бегемот не бегемот, волосатый крокодил, торпеда на ножках – это существо пронзительно завизжало, среагировав на полученный удар, влетело во двор, сделало вокруг дома два круга со скоростью разогнанного на серпуховском ускорителе одинокого атома и, выскочив обратно в калитку, исчезло.
«Колька» – прошептала баба Шура, и в голосе ее не было уже никакой надежды.
В маленьком, но уютном зале клуба собрались все или почти все. Дверь с табличкой «Радиорубка» была забаррикадирована трибуной для выступающих, ящиками для голосования и гипсовым бюстом Ленина. За накрытым кумачом столом восседала Змея Забродина с мокрым платком на лбу. Малоивановцы негодовали и недоумевали одновременно, и от принципиальной несоединимости этих двух чувств происходил перегрев аудитории. Было очень шумно.
На сцену поднялся Полковник, и шум стих: этот таинственный человек впервые выступал публично.
– В самом деле, происходит что-то невообразимое. Как будто мы не в России, не в цивилизованной демократической стране, а в какой-нибудь страшной жаркой Африке…
– Правильно! – поддержал Полковника Афоня. – Вчера моя мамка кенгару на поле видела!
– Ну, не знаю, кенгара не кенгара, а сумка у нее на животе точь-в-точь, как у меня, – важно подтвердила Тося-мать и, поджав губы, замолчала.
– А я двух зебер – своими глазами, – застенчиво сообщил Мякиш.
– А я курицу, что наша лошадь! – вскрикнула жена Мякиша Катя-продавщица и негромко, но горячо объяснила сидящим рядом: – Он мне говорит – штраус! А откуда здесь штраусы?
– А я должен вам признаться, что третьего дня ко мне прилетел попугай, – продолжил выступление Полковник.
– Попугай! – чуть не хором повторили малоивановцы.
– А я думал – павлин!
– А я – жар-птица!
Фазан – тоже говорили!
Да чего только не говорили, летающая тарелка, говорили…
– Попугай!
– Попугай, ну надо же!
– Попугал попугай!
И засмеялись малоивановцы, все засмеялись, даже Змея Забродина – нервно и отрывисто, даже Нюра-барыня – смущенно, в ладошку. Трудно сказать, почему известие о попугае так развеселило малоивановцев… Наверное, это все-таки было нервное – реакция на события последних дней.
– Так он у вас и живет? – смеясь, спрашивали из зала.
– Так и живет! – смеясь, отвечал Полковник.
– И разговаривает?
– И разговаривает!
– И что говорит?
Стало тихо. Очень тихо. Полковник побледнел.
Трудно сказать, сняло напряжение то, что случилось следом, или, наоборот, его прибавило, но случилось следующее. Дверь медленно, почти торжественно отворилась, и в помещение вошел Сталин, сцепив за спиной руки, а за ним, ведя велосипед «под уздцы», старшина.
Первым неожиданно прореагировал Полковник. Переводя взгляд с повязки на лбу Сталина на повязку на лбу Забродиной, он проговорил недоуменно:
– Прямо восстание сипаев…
А дальше все всё поняли и всех прорвало.
– Все понятно!
– Понаехали!
– Жили без вас, горя не знали!
– Куда ни сунешься, везде один Кавказ! – вот что кричали малоивановцы, а некоторые уже даже вставали со своих мест.
– Самосуда не допущу! – воскликнул Зароков, прикрывая Сталина своим телом.
– Как вам не стыдно! – это сказала Нюра-барыня. – Как вам не стыдно… – В ее голосе было больше слез, чем децибел, может быть, поэтому все услышали.
Гордо вскинутая голова Сталина опустилась.
– Я вам прощаю, храбрые рыцари и благородные дамы, я вам прощаю, – пробормотал он.
– Простить легче всего, – не согласился взволнованный Сорокин, принимая руль велосипеда из рук Зарокова. – Я, может быть, тоже вас прощаю. Но разве от этого легче. Кто вернет мне веру в человека? Я всегда считал, что все мы – люди доброй воли…
«Ш-ш-ш-ш…» – донеслось вдруг из-за двери радиорубки, что заставило Сорокина замолчать и помогло малоивановцам вспомнить, по какой причине они здесь собрались. Председатель вздохнул и поднялся, вытаскивая из кармана письмо.
– Ну, если тут собрались люди доброй воли, то значит, это вам. Читайте…
Письмо оказалось в Павлушиных руках, он легко взлетел на сцену, откашлялся, извинился, что читает сразу, с листа, и прочитал… Великолепно, вдохновенно, с пафосом:
«Людям доброй воли!
Люди!
Люди вы или нет?
Да поймите же вы, наконец, что мы от них не отказываемся, мы просто больше так не можем! Денег нет, ничего нет, а они ведь есть просят! Представьте, каково каждое утро видеть голодные глаза того, кого ты любишь? Это наш последний шанс! Гусман верит Америке, мы верим Гусману, а вы верьте нам.
Эта вынужденная мера – временная.
Весной мы вернемся, расплатимся за все и будем вместе поднимать Россию. Люди! Наши добрые труженики села! В конце концов, мы все произошли от одной обезьяны, вот и давайте вести себя соответственно.
Ваш “Russian miracle”».
Малоивановцы заспорили о том, что все это значит, о том, кто такой Гусман, о том, как переводятся непонятные слова в конце, и, заспорив, так разорались…
Они бы, может, и подрались, к этому все шло, если бы вдруг этот всеобщий крик и ор не прорезал полный отчаяния детский голос. Это был, конечно, Колька, кто же еще?
– Базарите здесь?! – Колька был без шапки, всклокоченный, в расстегнутом пальто, и одна штанина его теплых, с начесом штанов была заправлена в валенок, а другая нет. Он стоял в открытой двери и пытался унять свое частое дыхание.
– Базарите здесь… – повторил Колька тихо и вдруг крикнул: – А они там насмерть замерзают! – И выбежал, хлопнув дверью с такой силой, что баррикада у радиорубки зашаталась и с вершины ее свалился и разбился на несколько кусков гипсовый ленинский бюст.
– Плохая примета, – прокомментировал ситуацию Павлуша.
Непонятно было, что, собственно, он имел в виду, и от этого всем стало как-то очень нехорошо, неприятно…
Местечко это, находящееся километрах в семи от Малых Иванов, почему-то называлось Двенадцатый квартал, хотя никаких других кварталов в округе не было. На опушке черного леса стояли в каре несколько ярких фургонов, разрисованных звериными мордами и исписанных теми же непонятными словами, которыми заканчивалось таинственное письмо: «Russian miracle». Клетки были пусты. Чуть в стороне, в затишке догорал костер, и в стремительно сгущающихся сумерках малоивановцы не сразу заметили стоящих у костра зверей. В центре этой неподвижной композиции застыл, понуро повесив хобот, слон. Слева от слона сидел лев, самый настоящий лев, похожий на гигантскую копилку, какие лет тридцать назад были в большом ходу. Справа полулежал, задремывая, медведь. Чуть сзади, полоска к полоске, замерли зебры. Удивленно вытянул шею страус. Волк, про которого по причине жалкого вида и собачьего ошейника подумали, что это собака, поджал хвост и дрожал. Кенгуру спрятала ладошки в сумке, как в муфточке. Был кто-то еще – темный, лохматый, и еще… То в одном, то в другом месте появлялась обезьяна в Колькиной цигейковой шапке и настороженно стреляла глазками. Если звери сгруппировались вокруг самого большого, то люди, наоборот, вокруг маленького. Колька вертел головой и смотрел на взрослых, ища в их глазах сочувствия. Сочувствие, конечно, было, но проявлялось оно как-то странно. До замерзших Колькиных ушей доносились следующие речи взрослых.
– Лохматые-то ничего, а лысым, конечно, каюк…
– Лев – лохматый, ну и что?
– Да и лохматым, пожалуй, каюк…
– Это какую же слону могилу рыть придется… А земля уже мерзлая…
– Мы, что ли, будем рыть? Пусть сами и роют.
– Кто сами…
– Ну, эти…
– Так они уже в Америке, не понял, что ль?
– А как же – без зверей?
– Америке нужны наши мозги, а звери у них свои…
– А жалко все-таки – замерзнут.
– Жалко, а что поделаешь…
Колька не мог больше все это слышать и, бросив людей, перебежал к зверям.
Он остановился у слоновьих ног и посмотрел на людей. Он все еще надеялся. Да и звери… Нельзя сказать, что они искали в людских глазах сострадания или хотя бы сочувствия, но огонек надежды в звериных глазах еще тлел.
– Они хорошие! – закричал, агитируя, перебежчик. – Они добрые! Они не кусаются!
Но слова не долетали до стоящих напротив в десяти метрах людей.
– Они как люди, только не разговаривают! – проорал Колька, будто кинул в стену горсть гороха.
– Они – артисты! Вот, смотрите, это слон. Его зовут Раджа!
Колька поднял вверх руки, и слон вдруг обхватил его за пояс, поднял в воздух, положил на землю и поставил на Колькину голову столбообразную ногу.
– А-а-а! – истерично закричала Змея Забродина. – Мужчины, что же вы стоите?
Мужчины действительно стояли, не двигаясь с места. А что было двигаться, если Колька там улыбался под этим столбом, если он там, можно сказать, кайфовал.
– Раджа! – крикнул Колька, и слон подхватил его вновь и поставил на землю рядом со львом.
Лев открыл пасть, и Колька сунул в нее голову. Это тоже доставляло ему удовольствие, потому что он там, в львиной пасти, среди зубов, улыбался. Видимо, там было тепло – шапку-то свою Колька отдал обезьяне.
Действительно, почему-то никому не было страшно, даже баба Шура внешне оставалась спокойной, лишь только пообещала:
– Вот только вытащишь ее оттуда, я тебе ее и оторву.
Колька выбрался наружу, потрепал по гриве льва и поделился:
– Вот видите, какие они? Они все такие! Это лев. Его зовут Лев.
– Как Льва Толстого, – понимающе кивнул Сталин.
– Это зебры: Зита и Гита, – продолжил знакомство Колька. – Медведь Топтыгин Михаил Потапыч, страус Петя, обезьянка Чита…
– Полностью, видимо, Кончита? – высказал предположение старшина Зароков.
– Кенгуру – Матильда. А это – волк…
– Волк! – ахнули малоивановцы и разом отшатнулись, отпрянули.
– У него имя на ошейнике написано, я его никак не запомню, – объяснил Колька.
– И удав отсюда? – крикнула Змея Забродина.
Колька кивнул.
– Удава зовут Удача.
– И попугай из этой из компании? – поинтересовался Полковник.
– Из этой, из какой же еще… Только я забыл, как его зовут, как-то не по-нашему.
– Густав, – бледнея, подсказал Полковник.
– Ага, – кивнул Колька. – Попугай Густав.
– А горного орла нет? – задал важный для себя вопрос Сталин.
– Орла нет, но есть горный козел, зовут Троцкий, – охотно ответил Колька и развел руками. – Ну, вот… А, есть еще Манюня, это свинка такая, бородавочник. Ей ничего не надо, ее и кормить не надо, ей надо только дорогу уступать. Если не успеешь…
Внезапно что-то стремительное, практически невидимое налетело и исчезло, а сбитый с ног Колька перекувырнулся через голову, но тут же встал и, отряхивая пальто, смущенно объяснил:
– Не успел…
Колька замер и еще раз внимательно посмотрел в человеческие глаза. Взрослые же старались не смотреть больше ни на Кольку, ни на зверей.
– Ну что же, спасибо, малыш, за интересную экскурсию, – поблагодарила Забродина и обратилась озабоченно к односельчанам: – Ну что, товарищи, по машинам?
Колька посмотрел на стоящих рядом зверей и прошептал:
– Они не как люди… Они лучше людей.
И вдруг, можно сказать, в одно мгновение стало темно, почти как ночью, сверкнула молния, и сразу же бабахнул гром, да так, что все инстинктивно присели, и люди, и звери. С черного неба повалили и понеслись, поддуваемые ветром, крупные снежинки первого снега.
Один только Павлуша не испугался грозы. Глядя в небо, он взмахнул сжатой в кулак рукой и скомандовал:
– Давай!
И небо послушно отозвалось.
И вдруг что-то случилось… Точнее – случилось то, что должно было случиться, но оттягивалось. Председатель сделал ладони рупором и трубно прокричал:
– Спасаем животных!
Первой призыв к собственному спасению услышала Чита, по версии Зарокова – Кончита. В три прыжка она оказалась в коляске милицейского мотоцикла, поверх Колькиной шапки натянула зароковский шлем и, укрывшись под самое горло брезентом, нетерпеливо поглядела на потрясенного старшину.
Малоивановский зверо-человеческий поезд выглядел следующим образом. Три сцепленных фургона с животными тащил на мотоцикле Зароков. Сзади их толкал трактором Мякиш, а с боков облепили люди.
Чуть отставая, шел Данилов. Он нес на руках кого-то большого, лохматого, непонятного. Когда Председатель спросил Кольку, кто это, тот удивленно пожал плечами, он тоже впервые видел этого зверя.
Медленно, но поезд двигался – с каждым метром ближе к Малым Иванам, ближе к спасительному теплу. Дойти до тепла – эта нехитрая мысль объединяла сейчас малоивановцев. Ветер бил в лицо, снег залеплял глаза, и они шли-шли…
Павлуша шагал первым, указывая всем остальным правильный путь. Как же он был красив!
– Даешь! – яростно закричал Павлуша.
Красная от натуги Змея Забродина взглянула на него благодарно и подхватила:
– Даешь!
Добравшись до родного села, малоивановцы разбились на две группы. Первую составили люди, склонные по жизни к труду физическому, – они спешно стали готовить к приему зверей брошенный колхозный коровник; во второй оказались рожденные для интеллектуальной деятельности. В малоивановский мозговой центр вошли: Павлуша, Змея Забродина и Виктор Николаевич Сорокин. Расположившись в крохотной комнатке почты, они настойчиво выходили на связь с миром. Технические функции осуществляла Тося-почтальонка. Она сидела на телефоне и кричала не своим, высоким и противным голосом:
– Але, Семиреченск! Але, Семиреченск!
– Вы, Тося, неправильно вызываете, – остановил ее Павлуша и, взяв трубку, показал, как это надо делать правильно: – Семиреченск, я – Малые Иваны, Семиреченск, я – Малые Иваны. – Он говорил негромко, устало и трагически.
– Семиреченск… – Тося смутилась, – мы – Малые Иваны. – Она старательно пыталась подражать, но получалось плохо.
– Павел Иванович, текст готов, – доложила Змея Забродина. После недавнего «Даешь!» она полностью признала в Павлуше лидера. А как она преобразилась… Ну, красная косынка – понятно, в клубе было полно кумача, но вот где она взяла потертую кожаную тужурку?
– Читайте, – попросил Павлуша и, прикрыв глаза, приготовился слушать.
Сидящий в углу Виктор Николаевич горько усмехнулся, наблюдая эту до боли знакомую картину. Собственно, Сорокин не участвовал в мозговом штурме, у него была другая роль, а может быть, даже миссия – молча наблюдать и горько усмехаться.
– «Просим немедленно эвакуировать из местоположения дер. Малые Иваны диких животных в количестве: удав – 1 шт., слон – 1 шт., козел горный – 1 шт., страус – 1 шт., лев – 1 шт., зебра – 2 шт., кенгуру – 1 шт., попугай говорящий – 1 шт., волк – 1 шт., неизвестное животное – 1 шт.
Жители дер. Малые Иваны».
– Хорошо, – одобрил текст Павлуша. – Только вместо «просим» напишите «требуем».
– Хорошо, – кивнула Змея Каллистратовна и немедленно внесла поправку.
– Не могу больше! – воскликнула Тося, чуть не плача. – Я лучше коровник пойду чистить вместе со всеми!
– Только без нытья! – воскликнул Павлуша, вырвал у Тоси трубку, положил на аппарат и посмотрел на телефон так, что тот немедленно и пронзительно зазвонил.
Потрясенная Тося зажала ладонью рот.
– Понятно? – спросил Павлуша с интонацией превосходства и снял трубку.
– Але, Малые Иваны? – услышали все находящиеся в комнате высокий противный голос, как будто это говорила Тося.
– Я – Малые Иваны, – торжественно отозвался Павлуша.
– За полугодовую неуплату отключаем телефон, – протараторила Тося-2, трубка прощально гуднула и онемела.
Сорокин горько усмехнулся.
Павлуша брезгливо бросил ненужную трубку на пол. Тося испуганно положила ее на аппарат.
– А я говорила: платите, а то отключат, а вы: а зачем нам твой телефон? Ну вот и зачем!
Тося инстинктивно чувствовала, что лучшая защита – это нападение, но ведь надо знать, на кого нападаешь.
– А ты пенсию носила? – накинулась на нее Змея Забродина.
– А я ее сама получала? – запищала Тося.
И в этот момент в почтовую комнатку вошли старшина Зароков и Полковник.
– В чем дело, товарищи? – строго спросил Зароков, но сам при этом улыбался. Похоже, у него было хорошее настроение.
– Есть связь? – поинтересовался Полковник.
Павлуша сердито глянул из-за плеча:
– А, собственно, почему я должен… Кто вас, собственно, уполномочивал?
– Председатель попросил выяснить, что со связью.
– Председатель – это пока еще не должность, а прозвище, кличка, – объяснил Павлуша, и в этот момент Тося пронзительно завизжала:
– Уберите обезьяну, я требую!
Чита пристроилась за Тосиной спиной и пыталась что-то найти у нее в волосах.
– Кончита, – мягко укорил свою подопечную Зароков.
– Пошла вон! – закричала Забродина и стукнула обезьяну телефонной трубкой, которая теперь только для этого и годилась.
– Отставить! – возмущенно воскликнул Зароков.
От испуга Чита сиганула на шкаф, заваленный до потолка пыльными гроссбухами. Поднимая страшную пыль, они полетели на головы людей.
Когда пыль немного осела и немного осели страсти, все увидели стоящий на шкафу таинственный аппарат, без сомнения старинный.
– Что это? – удивился Сорокин.
– А сама не знаю, машинка какая-то, списывать не разрешают, – ответила Тося, поправляя прическу.
У Забродиной загорелись глаза.
– А я знаю… – сообщила она. – Между прочим, все наши паровозы стоят законсервированные – тоже на всякий случай.
– Так, – деловито проговорил Полковник и посмотрел на свои часы. Это не было сознательное действие, это был рефлекс… Или инстинкт?
То был аппарат Морзе. Полковник положил руку на ключ и поднял глаза на стоящих рядом людей.
– Куда передаем шифр… – Полковник смутился. – Куда передаем текст?
– В Центр! – выпалила Забродина. – В Государственную думу, в Уголок Дурова, в Организацию Объединенных Наций!
– В какую еще Организацию Объединенных Наций? – возмутился Сорокин. – Вице-мэру и супрефекту Семиреченска господину Огурцову, мы за него голосовали!
– Я за него не голосовала! – выкрикнула Забродина, и в этот момент в комнату вбежал Председатель. Он был грязен как чёрт, бодр и весел. Увиденная картина его восхитила.
– Значит, почту и телеграф мы уже взяли, остались вокзалы? – пошутил Председатель.
– Вы еще ответите за эту шутку, – прошипела Забродина.
Забыв, видимо, для чего он сюда пришел, Председатель махнул рукой, весело подмигнул сидящей на шкафу обезьяне и выскочил из комнаты.
Сквозь темень и непогоду, яростно пробиваясь сквозь снеговые заряды, полетели из Малых Иванов взволнованные точки и тире… Но вдруг рука Полковника застыла на ключе. Он виновато улыбнулся и признался стоящим рядом.
– Я забыл букву «ц»…
– Две точки тире точка, – подсказал Зароков.
Малоивановцы удивленно посмотрели на своего участкового. Они знали, что Полковник не просто полковник, но не догадывались, что старшина не просто старшина.
Даже Кончите это понравилось. Она спрыгнула со шкафа на руку Зарокова и посмотрела на человека с уважением.
Зароков ласково потрепал ее по щеке.
– Две точки тире точка, правда, Кончита?
Ждать ответа пришлось недолго, точнее, его совсем не пришлось ждать – бумажная лента поползла из аппарата почти сразу.
– Есть ответ! – сообщил Полковник.
– Есть власть, есть. – Сорокин забыл о своей роли стороннего наблюдателя и взволнованно заходил по комнате. – Наша власть.
– «В связи с переполненностью районной психиатрической больницы ничем пока помочь не могу. Огурцов», – прочитал ответ Полковник.
Все замерли. Первой пришла в себя Забродина.
– Вот она, ваша власть! – закричала она истерично. – Вот она, ваша демократия! В Думу! В Уголок Дурова! В Организацию Объединенных Наций!
Коровник вычистили, утеплили и натопили, зверей накормили и уложили спать.
Председатель вернулся домой за полночь – усталый, но довольный. Открыв банку килек и отрезав толстый ломоть хлеба, он начал ужинать, но увлекся чтением книги, которую специально взял в клубной библиотеке. Это был огромный фолиант в твердом переплете, на котором золотом было написано: «Звери СССР», а ниже тиснением изображен победно поднявший хобот слон.
Кого там только не было! И мамонты, и саблезубые тигры, и такие чудовища, каких представить себе невозможно.
Председатель с уважением переворачивал страницу за страницей.
«И все наши, все наши», – время от времени повторял он, и в голосе его слышалась гордость.
Перевернув последнюю страницу, Председатель погрустнел и посмотрел на лежащее на кровати животное. Оно свернулось лохматым клубком и вздыхало.
– Все есть, а тебя нету, – сообщил Председатель. – Даже не пойму – мужик ты или баба?
Председатель поднялся.
– Жрать не будешь – сдохнешь! А чего в том хорошего…
Зверь вздохнул в ответ, и Председатель тоже вздохнул. Взгляд его упал на консервы, и в голове родилась мысль. Он взял банку и поставил рядом с животным. Зверь зашевелился и ткнулся мордой в банку. Данилов радостно засмеялся.
– Значит, мужик – бабы их не очень… Вот и хорошо, что мужик… Ешь, ешь… Я, правда, отъел маленько… Да я завтра еще куплю, ты только ешь! Куплю! Это раньше… А сейчас все купить можно. Дорого, правда… Зато можно купить!
Утром распогодилось, вчерашний грозовой снег почти весь стаял, совершенно не ко времени в воздухе запахло весной. Как раньше собирались крестьяне на сход, решая, сеять или не сеять, так и теперь в наши дни собрались малоивановцы, чтобы договориться, как жить дальше. На ступеньках клуба возвышался Павлуша в красной косоворотке. Рядом с ним с горящим взором стояла Змея Забродина. Она основательно подготовилась к мероприятию – тут же на кумачовом постаменте стоял бюст Ленина, восстановленный ею при помощи клея и изоляционной ленты.
Народ внизу курил, гомонил посмеиваясь, но, конечно, волновался.
– Товарищи! – обратился Павлуша к народу, но тут кто-то крикнул: «Поберегись!» – и через мгновение вихрем пронеслась мимо Манюня.
Стоящие рядом Мякиш и Чучмек переглянулись.
– Это что же она, вообще не сворачивает и не останавливается? – задался вопросом Мякиш.
Чучмек кивнул.
– А как же? – Мякиш не мог понять, как же тогда свинка возвращается.
Чучмек усмехнулся со знанием дела и изобразил пальцем окружность Земли. Мякиш поверил. А как было не поверить?
– Товарищи! – вновь привлек к себе внимание Павлуша. Сегодня он был еще красивее, еще значительней, чем вчера. – Прежде чем начать прения, я хотел бы пригласить сюда… виновника, так сказать, торжества, того, кто навел на нас эту пакость!
Все, конечно, сразу поняли кого, да Колька и сам понял. Он вышел к ступенькам, но подниматься не стал. Насупленный, с оттопыренным красным ухом, он был готов стоять до последнего.
– А скажи нам, мальчик, – обратился к нему Павлуша, – ты общался с этими, с позволения сказать, людьми?
Колька кивнул и буркнул недовольно:
– Один раз.
– О чем же ты с ними беседовал?
– Они спросили: «У вас в деревне люди добрые живут?»
Малоивановцы затихли. Прямо-таки замерли, застыли.
– А ты что ответил?
Колька шмыгнул носом.
– Я сказал: «Добрые».
– Тьфу ты! – даже плюнул с досады Чучмек, да и все остальные заругались, возмущенные, можно сказать, до предела.
С Колькой не собирались спорить, возможно даже, он сказал правду, но эта была та правда, которая им сейчас была не нужна.
– Добрые!
– Мы, значит, добрые!
«Добрых нашли», – объясняли они друг другу оскорбительную ситуацию.
Тут медленно и тяжело вышла из толпы баба Шура и, обведя всех горестным взглядом, заговорила:
– Люди добрые! Хоть он у меня на руках и с недельного возраста, нет у меня на него прав. Не мой он сын. Но если доченька моя Любаша сюда заявится, перед всем миром обещаю – убью.
После этого баба Шура поклонилась малоивановцам, ухватила внука за большее ухо и вернулась с ним в толпу.
Народ зашумел, обсуждая, стоит убивать Любашу или нет, но Павлуша был начеку.
– Да, мы добрые! – возвысил он голос, подняв вверх пятерню. – Мы добрые! Но не добренькие. Чем отличается добрый человек от добренького? Добрый – это тот, у которого окотилась кошка, и, ни минуты не медля, он берет котят и топит их в ближайшем водоеме. Вот что такое добрый человек! А добренький тот, кто выращивает их до определенного возраста, до симпатичности мордашки, а потом подбрасывает ничего не подозревающим соседям. Мы добрые, но не добренькие!
Павлуша закончил.
Восхищенно глядя на оратора, Змея зааплодировала.
– Так что, топить их всех будем? – не поняла Тося.
Павлуша улыбнулся.
– Не надо понимать буквально. Зачем топить? Просто надо отвезти их туда же, где мы их нашли. Это же очень просто.
– А «Даешь!» снова будем кричать? – язвительно спросил Сорокин.
Павлуша смутился.
– Вчера был порыв, энтузиазм. А назад можно отвезти спокойно, деловито.
– Почему мы должны здесь страдать из-за этих циркачей? – включилась Забродина. – Они небось сейчас по Брайтону-Бичу разгуливают, в огнях рекламы купаются, а мы должны здесь своими жизнями рисковать? Не выйдет, господа хорошие! А вы, – Забродина обратилась персонально к Сорокину, – вы не только «Даешь!», вы еще «Интернационал» запоете.
Сорокин не нашелся, что ответить, молча занервничал, но тут в дискуссию вступил старшина Зароков:
– А вы почему туда забрались? Почему вы – наверху, а все остальные внизу?
Павлуша развел руками:
– Это получилось само собой… Нас, как говорится, выбрало время! Нас выдвинули массы…
– Как выдвинули, так и задвинем! – кажется, это крикнул Сухов.
Кто-то свистнул.
– Надо выбрать Председателя! – предложил Сталин.
– Мы не против, но вначале нужно договориться о процедуре, подготовить бюллетени, урны… – попробовал вразумить массы Павлуша, но те вышли из повиновения.
– Председателя! Председателя! – кричали они.
Егорыч понял, что речь идет о нем, только тогда, когда его стали подталкивать в спину. Он думал – председателя, а они предлагали Председателя.
Выйдя пред лицо народа, Данилов вначале растерялся, стянул со лба на глаза шапку армейскую старого образца и постоял так.
– Ну, если такое дело… – заговорил он. – Попались бы мне сейчас эти циркачи, накостылял бы им по шее как следует!
Всем понравилась эта мысль, всем захотелось накостылять циркачам по шее, поэтому Председателю зааплодировали.
– Но их нету пока, – продолжил Егорыч. – А звери… Никому они здесь не нужны, а ООН далеко. – Данилов озорно глянул на возмущенную Забродину. – Я сегодня ночью не спал, все разбирался, что за зверя мне Колька подсунул.
– Разобрался? – весело поинтересовались из толпы.
– Разобрался, что мужик, а что за зверь…
– И то хорошо!
– Вот я и говорю. Ну вот… Посчитал я… До весны мы их прокормим. Сено есть, картошки-моркошки, как говорится, тоже хватит.
– Это вы о травоядных, а что делать с хищниками? – поинтересовался Сорокин.
– У меня корова… Полтора стакана молока в неделю дает… Она старше меня… На первое время льву с волком хватит, а медведь вроде засыпает. Зима все-таки…
– А для удава у нас кролики! – подал голос Мякиш, но Катя шикнула на него, и Мякиш спрятался за спинами стоящих спереди.
– Ну вот, и с удавом решили. А теперь я думаю: колхозом или единолично? – обратился Председатель к народу за советом.
– Колхозом! – закричали одни.
– Единолично! – потребовали другие.
– Единолично!
– Колхозом!
– А я думаю: и колхозом, и единолично! – загасил Данилов пламя малоивановской гражданской войны. – Зверей придется по домам разобрать. Кроме слона, конечно. Был коровник, стал слоновник. А остальных – по домам, кто кого возьмет… А то они отогрелись, и уже лев на кенгуру поглядывает, а волк на козла косится. Так что…
– Идиоты! – закричал вдруг Павлуша. Он стал спускаться по ступенькам вниз и, задерживаясь на каждой, говорил что-нибудь гневное: – Вам было сказано: «Так жить нельзя», а вы продолжаете так жить! Вам дали свободу, а вы опять в колхоз! Да, сумасшедший дом, о котором вчера Огурцов телеграфировал, для вас лучший выход! Потому что, если они передохнут здесь, вас посадят в тюрьму, а выживут – они вас сожрут. Несчастные, что вы видели в жизни, кроме трудодней? Вам знаком вкус гамбургера? Вы знаете, что такое Анталия? Новое поколение выбирает пепси, а вы, что выбрали вы? В человеке все должно быть прекрасно, а у вас волосы из носа растут!
Павлуша ступил на землю, и тут случилась неприятность, и даже две неприятности…
– Посторонись! – предупредил кто-то, но Павлуша посторониться не успел, а может, не захотел.
Свинка улетела на новый виток, каковой Чучмек изобразил Мякишу движением пальца. У того округлились глаза.
– Так это она… быстрей Терешковой, – потрясенно прошептал стоящий рядом Афоня.
А Павлуша оказался на земле, в грязи.
И одновременно случилась вторая неприятность, на которую никто не обратил внимания, кроме Забродиной: Ленин упал и разбился на более мелкие части, чем в первый раз.
Павлуша вскочил и, будто не падал, продолжил свою гневную речь:
– Я умываю руки! Я уезжаю в Семиреченск! Я отправляюсь в Москву! Я эмигрирую в Австралию! Я улетаю на Марс – только чтобы не ходить с вами по одной планете! И вас проклинаю! – И напоследок изобразил рукой крест, как делает это со своими пациентами Алан Чумак.
Несмотря на такое эмоциональное прощание, малоивановцы нисколько не обиделись, а только удивились, ну и расстроились, конечно.
– Чего это он? – не поняла Катя-продавщица.
– Вернется…
– Вернется, куда он денется, – пообещал Чучмек.
Поглядев еще немного в спину уходящего Павлуши, малоивановцы стали делить зверей. Процедура эта прошла на удивление мирно.
Слона взяла на себя баба Шура.
– Моя вина самая большая… – объяснила она свой выбор.
В отсутствие орла Сталин взял себе льва. Попугай, понятное дело, достался Полковнику, да и кандидатура для удава практически не обсуждалась. Зебры ушли к Мякишу и Кате, им же, как главным птицеводам, выделили и страуса. Хотя Катя противилась, узнав, что страус – петух. «Он мне всех кур передавит», – кричала она, но в конце концов сдалась. Кенгуру взяли к себе Тося с сыном. Зароков и обезьяна – это даже не обсуждалось. На медведя пошел Сухов. Сорокин смирился с горным козлом.
Никто не хотел брать волка. Решили отпустить его на все четыре стороны. Свистели, улюлюкали, бросали палки, направляя его в сторону леса. Но волк поджимал хвост и шел к людям.
Нюра-барыня сжалилась и взяла его к себе.
Председатель остался со своим непонятным зверем.
Колька ликовал, хотя и не подавал виду.
Прошла неделя…
Нельзя сказать, что после всего случившегося жизнь в Малых Иванах кардинально переменилась, встала с ног на голову или наоборот. Жизнь есть жизнь, она, как говорится, берет свое. Ну и что, что кенгуру, ну и что, что дикие животные, в конце концов, и мирный мерин Мякиша брал свое начало от дикой лошади Пржевальского, да и сами малоивановцы, если верить Дарвину и авторам известного вам письма, были когда-то одной большой обезьяной.
Но кое-что, конечно, переменилось. Так, понедельник у Председателя стал днем приема по личным вопросам…
Баба Шура вошла в приемную и нахмурилась – думала, первая будет, а тут уже народу полно. Секретарша Забродина сидела перед дверью шефа и вязала чулок.
Поздоровавшись, отряхнув снег с воротника и постучав валенком о валенок, Александра Ивановна села с краю и стала ждать.
– А снегу-то нынче, снегу, – поделилась секретарша свежей мыслью и зевнула.
Снег и правда шел всю неделю без перерыва, и нападало его уйма.
– Кто у него? – обратилась баба Шура к сидящему рядом Сорокину.
– Полковник, – с готовностью сообщил Виктор Николаевич.
– Секретное совещание, – добавил Сухов и подмигнул.
– За мясом? – спросила его баба Шура.
– А за чем же еще? За неделю, гад, корову сожрал. А спать ни в какую не соглашается…
– А мой не лев, слушай, не знаю кто, – поделился Сталин. – Дашь ему конфетку, оближет с головы до ног. Простудился!
– А наша фулиганичает, – включилась в разговор Тося. – Я у нее деньги от Афони спрятала. Он полез, она ему в глаз. А теперь и мне не отдает.
– Эх, мне бы ваши проблемы, – со вздохом заговорил Сорокин и, достав из кармана, показал бельевую прищепку. – Я без нее дома не хожу. Невозможно.
– Горный козел? – не поверил Сталин.
– Горный, – кивнул Сорокин. – Но вонючий. Очень вонючий.
Забродина улыбнулась.
– А я на мою Дашеньку не нарадуюсь. Кажется, если кто ее обидит – задушу собственными руками. – Забродина сказала это, не переставая вязать свой чулок, и все внимательно на него посмотрели, поняв, что это не чулок, а что-то другое.
Снег стаял с валенок бабы Шуры, стаял и высох, и она поднялась и пошла к Председателевой двери. Забродина вскочила, но баба Шура подняла руку.
– Милая, ты меня знаешь, – предупредила она и ворвалась в кабинет.
Председатель и Полковник склонились над столом, как генералы перед битвой. Полковник был в черной военной форме без знаков отличия. Форма молодила его и стройнила.
– Александра Ивановна! – обрадовался Данилов. – Очень хорошо… Товарищ Полковник предлагает, по-моему, дельную вещь – засекретить наших зверей.
– Как это? – не поняла баба Шура. – Зачем?
– На всякий случай. И в разговоре при посторонних применять шифр или код. Дуб, береза и сосна. Вот твой Раджа, например, – Председатель посмотрел в лежащий на столе лист, – Дуб-4. Ну, как тебе?
– Никак, – равнодушно ответила баба Шура. – А теперь я у тебя спрошу: ты гуляешь?
Данилов растерялся, покосился на Полковника и попытался улыбнуться.
– Да уж давно… времени не хватает!
– А как ты думаешь, слону гулять надо? Стоит он в этом телятничке, киснет от жары. Он уже и есть не просит.
– Ты в этом смысле. – Данилов вытер со лба выступивший пот. – Что я могу поделать – зима.
– А вот что! – Александра Ивановна положила на стол лист, вырванный из альбома для рисования. – Колька нарисовал.
Председатель и Полковник вертели листок, не в силах понять, что на нем изображено.
– Это слон, – пришла на помощь баба Шура. – А это одежда на нем.
– Одежда?
– Это попона, это шапка-ушанка, а это нахоботник.
– Что? – попросил повторить Данилов.
– Нахоботник. У него хобот мерзнет.
Председатель откинулся на спинку стула.
– Ну, ты даешь, Александра Ивановна, нахоботник…
– В общем, я посчитала, нужно двенадцать овчинных полушубков. Два у меня есть, мой вот от Любки остался, а десять с тебя.
– Да где я тебе их возьму?! – вскочил Данилов.
– Где хочешь! Ты председатель, тебя народ выбирал, вот и потрудись для народа!
В приемной раздался вдруг какой-то шум, а за окном на улице – треск двигателей. В деревне что-то происходило.
Баба Шура, Председатель и Полковник кинулись к окну.
В Малые Иваны въезжала яркая колонна мотонарт, штук примерно с десяток. На передних развевался голубой флаг.
– ООН, – вглядевшись в него, прошептал Полковник.
– Что? – не понял Председатель.
– Организация Объединенных Наций. – Мои! Мои! – кричала Забродина и как черная птица летела по белому снегу навстречу заокеанским спасителям. Она так разволновалась, что хотела обнять и расцеловать первого попавшегося, но тот оказался негром, второй попавшийся был желтолицым и узкоглазым, и все же третьего – здоровяка-бородача Зоя Каллистратовна обняла и расцеловала трижды. Тот восхищенно глянул на русскую женщину и подарил ей голубой ооновский флажок.
Забродина оглянулась, увидела робко скучившихся вдали односельчан, подняла флажок над головой и победно им помахала.
Зоя Каллистратовна была счастлива. Возможно, это был самый счастливый день в ее жизни. В разноцветных пуховиках и дутых синтетических сапогах ооновцы в Малых Иванах выглядели как американские астронавты на Луне. Лопотали они не по-нашему, и это удручало. Забродина покрутила головой и среди чужих лиц увидела родное. Лицо было женское, серое, с запавшими глазами. Впрочем, вначале было не лицо, а одежда, по которой и была опознана соотечественница. Она была в дубленке, павлово-посадском платке и сапогах, какие носят, как солдаты, все наши женщины.
– Вы переводчица? – кинулась к ней Забродина с вопросом.
Женщина закурила, глубоко затянулась и вопросительно посмотрела на малоивановку.
Забродина улыбнулась:
– Мне никто не верил, что вы приедете.
Переводчица еще раз затянулась и проговорила, одновременно по частям выпуская дым изо рта:
– Ну, что тут у вас, показывайте.
– Начнем со слона? – предложила Забродина.
Переводчица равнодушно пожала плечами и, обернувшись, что-то объявила иностранцам. Те закричали «оу» и зааплодировали, не снимая разноцветных перчаток.
Они точно так же зааплодировали и закричали «оу», когда увидели слона.
– Сами видите, а каких условиях содержится животное, – рассказывала Забродина. Она волновалась, но вид робко стоящих в отдалении односельчан придавал ей силы. – Санитарное состояние неудовлетворительное, рацион питания однообразный, фруктов нет, витаминов не хватает…
Переводчица была специалистом старой школы, высокого класса: она говорила иностранцам не то, что им говорили на русском, а то, что они должны были услышать на английском. Каждая ее фраза вызывала восторженное «оу» и аплодисменты.
Малоивановцы хотя и робели, но потихоньку подбирались поближе…
После слона Забродина показала ооновцам льва. Высокие гости слегка струхнули, но «оу» прокричали и похлопали.
– Чего это они кричат «о-о, о-о…»? – задался вопросом Мякиш.
– ООН, – пришел на помощь с ответом Чучмек.
Малоивановцы согласились: было логично, что ооновцы кричат «ООН».
Потом были зебры и страус. Если гости смотрели на зверей, то хозяева смотрели на гостей. Особенно интересовали афроамериканцы. Катя с Тосей скрытно показывали пальцами на негритянку, горестно качали головами и соглашались, что та – вылитая Кончита.
Кенгуру вызвала восхищение.
– Russian miracle! – повторяли гости, глядя и на спящего в костюме, но босого Афоню.
– Что это они про нас говорят: «Рашен…» – поинтересовался у Председателя Зароков.
– Подойди спроси, – предложил старшина.
– Боюсь, – объяснил свое состояние Егорыч.
– Да я тоже боюсь, – признался милиционер.
Переводчица вытащила из пачки «Явы» очередную сигарету и устало спросила:
– Ну, всё у вас?
– Есть еще медведь! – вспомнила Забродина. – Не спит, а кормить нечем.
Переводчица крикнула всего лишь одно слово, и иностранцы в который раз закричали «оу!».
– Как заведенные, – посочувствовала им Тося.
– Цивилизация, – объяснил Сорокин.
Медведь чуть не подложил свинью. Хотел угнать мотонарты. Благо Сухов не растерялся, вскочил на другие и остановил хулигана. Иностранцы были в восторге, и даже переводчица изобразила подобие улыбки.
– Неплохой номер…
– Йес! – согласилась Забродина, уже начавшая забывать родной язык.
На этом бы все и закончить, но тут Кончита навстречу летит. Наряжалась, видно, и опоздала… В сарафане и кокошнике с косой и бутафорским хлебом-солью.
– Без этого, конечно, не смогли, – поморщилась переводчица.
Тут Егорыч все же осмелел и тронул ее за рукав.
– Товарищ переводчица, я извиняюсь, а что это они говорят: «Рашен…» – Председатель попытался выговорить второе слово, но не получилось.
– «Russian miracle»? Русское чудо, – перевела переводчица.
Председатель замялся.
– А это они… в каком смысле?
– В том самом, – ответила женщина и покрутила у виска пальцем. – Вы кормить-то думаете их, русское чудо?
– Кормить? – растерялся Председатель. – Чем… кормить?
– Чем их обычно кормят? Водкой, икрой, блинами…
– Так мы не знали… Блинов-то уж напекли бы… Если б знали…
Подобравшиеся ближе малоивановцы закивали, уверяя, что блинов-то уж обязательно напекли, если б знали.
– А вас что, не предупредили, что через вашу деревню будет проезжать экологическая экспедиция ООН «Чей снег белее»?
– Чей снег белее? – заинтересовались малоивановцы.
– Вот они и ездят, выясняют…
– А мы не знали.
– Весь мир знает.
– Так то мир. А у нас телефон за неуплату отключили, радиопровода порвались, а телевизоры – у кого совсем не показывают, а у кого показывают, а ничего не видно. Да нам и некогда их смотреть, хозяйство у всех…
Переводчица бросила окурок в снег и, глядя на этих людей с жалостью и презрением, спросила:
– Как же вы тут живете?
Малоивановцы растерялись, почувствовали себя виноватыми.
– Живем, – робко ответили они и, немного обидевшись, прибавили: – Не хуже других!
Это они сказали, когда переводчица уже уходила. Она выкрикнула какую-то короткую фразу иностранцам, и те впервые не закричали «ООН» и не захлопали, а быстро и деловито уселись на свои агрегаты, выстроились в цепочку и по-английски, не прощаясь, уехали. Будто не было их вовсе. Правда, следы остались. Но ненадолго, потому что почти сразу пошел снег, пушистый малоивановский снег, самый белый на свете.
И поняли тогда малоивановцы, что не только своим, но и чужим они не нужны. И потекла неторопливая сельская жизнь дальше – с радостями своими и печалями.
И еще неделя прошла…
Не успела баба Шура ведра с водой с коромысла снять и на лавку поставить, как внук из соседней комнаты – лётом:
– Ба, пляши! – А у самого руки за спиной спрятаны.
Баба Шура конечно же поняла, о чем идет речь, но, хорошо зная, что с Колькой надо держать ухо востро, поставила ведра на лавку, выпрямилась, расправила плечи и потребовала:
– Покажи сперва.
– Да пляши, пляши! – настаивал внук, а руки-то все за спиной.
– Нет, так не пойдет, – не соглашалась бабка, а сердце ее уже наполнялось радостью.
И тогда Колька торжествующе поднял над головой запечатанный конверт.
Баба Шура торопливо сняла телогрейку и сбросила платок.
– Заводи!
Колька быстро пощелкал каналами на стареньком «Рекорде», на котором изображения не было, но звук был, и поймал музыку – твист. Там, наверное, крутили кино целиком, а может, и отрывок из «Криминального чтива». Баба Шура с Колькой, конечно, не знали – что им это «Криминальное чтиво»? – а сплясали не хуже, чем те… Так ведь и стимул был – письмо.
– «Здравствуй, мама!
Когда пишу эти слова из одноименной песни, у меня слезы выступают в душе, а когда слышу “День Победы” в исполнении Льва Лещенко, прямо плачу. “День Победы. Был от нас он так далек, как в печи погасшей тает уголек”. Победа, мама! Я выхожу замуж! Всё как в сказке! Я стою, торгую хот-догами, а он выходит из своего шестисотого мерседеса и предлагает мне руку и сердце! Но я, конечно, не дура, в тот раз не села, и потом еще два раза не садилась, тянула сколько могла, он даже думал сперва, что я девушка. (Это Кольке не читай.)».
Баба Шура недовольно что-то пробурчала и глянула на Кольку. Тот сидел напротив, положив ладони на стол, а сверху пристроил голову и никак не реагировал на услышанное. Он, кажется, засыпал.
– «Сейчас о новых русских такие небылицы плетут, но ты никому не верь, только мне верь, я теперь знаю. Они такие же, как все, только лучше! Они богатство свое беспробудным трудом наживают, а люди им завидуют. Поэтому и охрана. Александр Иванович без нее никуда, даже в туалет. Он сидит, а они рядом стоят».
Тут Колька оживился, глаза его заблестели.
– С автоматами? – спросил он восхищенно.
– С пулеметами, – недовольно нахмурилась баба Шура и продолжила чтение:
– «А насчет того, что новые русские в сексе не очень, это тоже наговоры, по крайней мере, не хуже иностранцев. (Это тоже Кольке не читай.)».
– Да уж прочитала! – воскликнула баба Шура и выругалась шепотом.
– Читай, ба, – попросил внук, он был равнодушен к этим подробностям.
– «А это прочитай моему любимому единственному сыночку!»
Колька вздохнул и прикрыл глаза.
– «Мой милый мальчик, мой дорогой Жан-Поль. Теперь у тебя будет папа. Он очень хороший. Скоро мы приедем и заберем тебя, и ты поедешь учиться в Англию в королевский колледж».
Бабушка шмыгнула носом и подняла глаза на внука. Колька спал, а его лежащие на столе ладони были сложены в два крепких кукиша, Александра Ивановна вздохнула и продолжила чтение вслух, но уже шепотом:
– «Мама, я с Сашей счастлива, как Алла с Филиппом, а разница в возрасте у нас не такая большая, что тоже немаловажно.
Передай привет тете Кате с дядей Сашей, дяде Феде Чучмеку, Зое Каллистратовне, Павлу Ивановичу и всем нашим, а также Афоне, хотя и не стоило бы. А грузину вашему привет не передавай, я грузин давно разлюбила.
Крепко целую.
Твоя дочь Любаша».
– Прячься и зверей прячь! – кричал, стоя в санях и нахлестывая взмыленную свою лошадку, Сашка Мякиш. – Прячься, психовозка едет! Три фуры для зверей и две для людей!
Малоивановцы выскакивали из своих домов, слушали грозовое предупреждение и заскакивали обратно. Паники не было, так как все было отработано.
Тот же Мякиш, например, быстренько вымазал зебрам морды глиной, и от домашнего мерина их в темной конюшне было не отличить.
А страуса закрыл в курятнике, где тот немедленно сунул голову в специально стоящий для этого дела ящик с песком.
Сухов только расправил своего наконец заснувшего посреди комнаты Топтыгина, придал ему еще большее сходство с лежащей на полу медвежьей шкурой.
Звери много слышали о психовозке от людей, им два раза говорить не надо было.
Лев с трудом просунул свою здоровенную башку в дырку подвала, а остальное уже легко проскочило.
Удав Удача конечно же ничего не боялся, но Змея Каллистратовна, без ума полюбившая вверенную ей рептилию, тоже приняла меры предосторожности. Она связала своей Даше полосатый комбинезончик для тепла, что-то вроде очень длинного чулка, и теперь только накинула на ее головку украшенный бубенцами капюшон – и получилась оригинальная диванная подушка.
Сонный Афоня подвел кенгуру к двери и разрешил:
– Кто зайдет – бей в морду. – И пошел досыпать. Матильда встала в боевую стойку.
Баба Шура повесила на дверь слоновника громадный незакрывающийся замок, воткнула в снег палку с фанерной табличкой, предупреждающей: «Стой! Секретный объект! Стреляем без предупреждения!» – а сама влезла в длинный, до пят, тулуп, обняла ружье и сдвинула брови.
И только один человек не знал о грозящей опасности. Это была Нюра-барыня, которая любила гулять со своим волком в окрестностях Малых Иванов. Стоя на взгорке, она наблюдала, как кавалькада машин и автобусов свернула в сторону от села и остановилась у сосновой рощи. Из них деловито и шумно стали выходить люди, вытаскивать какие-то ящики, прожектора, и хотя Нюра ни разу не была на съемках фильма, она почему-то сразу поняла, что там будет сниматься кино. Вопросительно глянув на своего друга и поняв, что это ему тоже интересно, утопая по колено в снегу, Нюра-барыня направилась на съемочную площадку.
Главный там был человек в длинных кожаных сапогах, норковой шубе и черных очках. На спинке его персонального кресла было написано: «Alyabjev». Молодой, но ранний, очень престижный режиссер Егор Алябьев, с которым многие связывали надежды на возрождение российского кинематографа, снимал чеховскую «Даму с собачкой». Ничего этого Нюра, конечно, еще не знала, она просто стала в сторонке и глазела.
Было морозно, Нюра пошмыгивала носом и время от времени вытирала его шерстяной варежкой. Все мерзли, один Алябьев потел. Он был возбужден и возбуждал всех вокруг.
– Алик, не пялься на ее сиськи, это силикон! – кричал он время от времени.
Узнав, какие бывают режиссеры, Нюра переключилась на артистов. Очевидно, что те двое, мужчина и женщина, являлись артистами, так как были одеты в старинные одежды – дорогие меха и сукно.
Мужчина был маленький, суетливый, женщина – крупная, дебелая, с очень большим бюстом.
– Так, Алик, ты подзываешь к себе собаку! – перебегая от актера к актеру, репетировал Алябьев. – Где собака?
Тут же принесли собаку. Это был красивый голубоглазый хаски.
Алябьев повернулся к актерам.
– Значит, Алик, ты подзываешь к себе собаку… Джессика говорит: «Он не кусается».
Артистка оказалась иностранкой, ей переводили то, что говорил режиссер, но свой текст она старательно выговорила по-русски:
– Он не кусается.
– Гениально! – оценил Алябьев и ткнул пальцем в актера. – Алик!
– Можно дать ему кость? – прочитал Алик по сценарию.
– Гениально! Джессика кивает!
Джессика кивнула – как-то уж очень по-лошадиному, однако Алябьев был в восторге:
– Гениально! Кость! Алик, кость!
Актер торопливо вытащил из кармана здоровенную кость, сунул собаке и торопливо отдернул руку.
– Гениально! – Трудно сказать, чью игру Алябьев оценил в этот раз, но, видимо, все же собачью.
– Приготовились к съемке! – скомандовал он, и на площадке засуетились, а сам режиссер продолжал давать последние наставления, обращаясь ко всем на съемочной площадке:
– Запомните! Мы снимаем не то, что АП написал, а то, что он хотел написать, но не мог, таил в своей душе за семью печатями. Именно поэтому мы приехали сюда, а не в Ялту. А кто говорит, что это из-за денег, тот враг и лжец! Алик, последний раз тебя прошу: не пялься на сиськи Джессики! Ты ведь знаешь, что Гуров – голубой. Голубой! А между прочим, он такой же Гуров, как я Рабинович! Конечно же он был Гуревич! Гуров голубой, а Анна Сергеевна розовая! Они ненавидят друг друга по определению, и эта ненависть толкает их в койку! Это так же просто, как та кость, которую Гуров целый месяц специально носит в кармане. Ничего этого АП не мог тогда сказать, потому что девятнадцатый век – век комплексов. И АП был страшно закомплексованным человеком! Мы должны, мы просто обязаны очистить его от этих комплексов! Давайте же не будем забывать о своей ответственности перед гением! Читайте АП – там все написано! Так! Готовы? Мотор! Камера!
Когда эпизод ялтинского знакомства Гурова с Анной Сергеевной был снят, все поздравляли актеров, пили шампанское и повторяли, что Алябьев гений, сам Алябьев, сидя в своем фамильном кресле, заметил Нюру. Нюра стояла в отдалении – в трех толстых, намотанных на голову платках, плюшевой кацавейке, в старой, шинельного сукна юбке и в заплатка на заплатке валенках. На поводке в виде ветхой, со множеством узлов веревки стоял замерзший, поджавший хвост волк.
– А вот и туземное население, – объявил Алябьев.
Вокруг засмеялись.
– Еще одна дама с собачкой.
Вокруг засмеялись громче.
– Это волк, – объяснила Нюра, подойдя.
– Кличка? – спросил Алябьев.
– Нет, его зовут фон Дидериц, – терпеливо объяснила Нюра.
Алябьев нахмурил лоб.
– Что-то знакомое… – Он поднял глаза, обращаясь к окружению, но все пожимали плечами, это имя ничего им не говорило.
– А тебя как зовут? – поинтересовался Алябьев.
– Нюра, – ответила Нюра.
– Нюра! – Почему-то это имя развеселило Алябьева. – Ну что, Нюра, понравилось? – Алябьев был уверен, что понравилось, потому что все, что он делал, не могло не нравиться.
Но Нюра вдруг помотала отрицательно головой.
На площадке установилась мертвая тишина.
– Почему? – спросил Алябьев с искренним интересом.
И ответ Нюры был искренним. Искренним и добрым.
– Потому что говно.
Был поздний вечер, когда Председатель вышел из своего кабинета и стал закрывать дверь на ключ, но, почувствовав, что в приемной кто-то есть, обернулся. В углу неприметно сидел Мякиш.
– Румянцев? – удивился Данилов. – У тебя ко мне дело?
– Дело, – кивнул Мякиш. Был он грустен, печален даже.
– Ну, что у тебя? – торопил Данилов.
Мякиш переминался с ноги на ногу, морщился, разговор этот был ему в тягость.
– Дело вот какое, Андрей Егорыч… Мы Александре Ивановне помогаем с кормами… Ну, слону ее помогаем, Радже, с кормами и с транспортом тоже, так?
– Так… – Данилов не понимал.
– А навоз?
– Что – навоз? – Данилов по-прежнему не понимал.
– А навоз весь ей достанется?
Данилов понял, широко улыбнулся.
– Тебе что, навоза не хватает? У тебя лошадь, две зебры, страус, куры, кролики, куда больше-то?
Мякиш опустил голову.
– Да я Катьке своей то же самое говорю, а она заладила: без слоновьего не возвращайся… – Он поднял на Данилова страдающие глаза. – Баба, понимаешь?
– Понимаю, баба, – кивнул Данилов и вдруг нахмурился и сокрушенно почесал затылок. – Только мне у Шурки просить – нож острый… Тоже ведь баба!
– Без слоновьего, говорит, не возвращайся, – потерянно повторил Мякиш.
– Ладно, – махнул рукой Председатель. – У тебя лошадь здесь?
– Здесь.
– Лошадь оставь, а сам иди к своей Катерине. Привезу я вам навоз.
В сумерках слоновника тяжело вздыхал и переминался с ноги на ногу Раджа. Воровато оглядываясь, Данилов торопливо кидал лопатой в телегу навоз.
– Вот ты тут бьешься, за общее дело болеешь, душу вкладываешь, а в это время кое-кто свою личную жизнь устраивает.
Змея Забродина словно из земли выросла, и Данилов чуть не выронил от неожиданности лопату из рук.
– Ты меня напугала, Зоя Каллистратовна, – признался он и, оглянувшись по сторонам, продолжил работу.
– Шляпу надел, галстук, цветок в руки – и пошел.
– Какой цветок?
– Настурцию. У него настурция распустилась.
– У кого?
– Не будем называть фамилий.
Данилов согласился. Его занимала одна мысль – поскорее нагрузить телегу и смыться отсюда.
– Цветок в руках, на носу прищепка – и пошел… – уточнила Забродина.
Данилов начал врубаться, но не глубоко.
– К кому?
– Я же сказала: не будем называть фамилий! – Забродина так таинственно улыбалась, что до Егорыча наконец дошло.
Он оперся на лопату, прямо посмотрел в глаза доносчицы и спросил:
– А мне-то какое дело?
– Ты председатель, тебе все организовывать, – пожала плечами Забродина. – После Нового года сойдутся. Жить будут у нее, его дом продадут.
– А Колька? – вырвалось у Данилова.
– Так Кольку мать заберет – с новым отцом жить.
Данилов вздохнул и яростно заработал лопатой, но тут же остановился.
– Врешь! – выпалил он прямо.
А на это Змея Каллистратовна сказала два слова, которые для Данилова, да и для всех, пожалуй, малоивановцев, как бы отметали самою возможность неправды. Она сказала:
– Честное партийное.
Домой Данилов вернулся пьяным, крепко пьяным, потому что за слоновий навоз Мякишева Катя угощения не пожалела. Был Егорыч пьян, но невесел, очень даже невесел.
Он подошел к кровати, на которой лежал, свернувшись клубком, зверь, тяжело присел рядом.
– Не ешь? – мрачно спросил Егорыч. – Уже и кильки в томате не ешь… Что же тебе тогда надо? Может – настурцию?
Данилов замер не дыша. Ему показалось… Нет, зверь еще был жив.
– Не помирай, а? – попросил Данилов. – Не помирай, чего в этом хорошего? – Он поднял глаза, к кому бы обратиться, задержался на фотографии красноармейцев, но обратился к зверю:
– Вот скажи, почему у меня все так? Ведь я ее даже за руку держал! Недолго, правда, но ведь и не вырывалась… Если ты мужик, ты должен меня понять… Денек был – весна, половодье, целый день по колхозам мотались на «козле». И все время рядом сидели… Рядом! – И Данилов стал ходить по комнатке взад-вперед, сосредоточенно о чем-то думая. Сформулировав мысль, он остановился и воскликнул, разводя руками: – Вот человек! Прочитает, где чего, и несет: «Слушайте, люди!» И ничего не сделаешь – интеллигенция…
Данилов снова зашагал по комнате, продолжая говорить на ходу:
– Будто я сам не знаю, что останешься молодым… Знаю! Но молчу… Сходятся они… Ну и сходитесь!
Председатель остановился перед зверем.
– А разве мы с тобой не проживем? Только ты не помирай… Ну что мне для тебя сделать, а? Хочешь, спою, хочешь, спляшу, хочешь… поцелую? Поцелую! Лет тридцать небось никого не целовал, а тебя возьму и поцелую!
Данилова удивила и смутила эта пришедшая в голову мысль.
– Вот поцелую я тебя, а ты – это не ты, а Александра Ивановна, молодая, нарядная, как Кончита. Здравствуй, Андрей Егорыч! – Здравствуй, Александра Ивановна!
Данилов, видно, так поверил в это, что тут же нагнулся и поцеловал звериную шерсть, и в то же мгновение в дверь постучали, робко постучали, деликатно.
Данилов даже на шаг отступил, потому что в этой ситуации некому больше было к нему прийти, кроме как Александре Ивановне Потаповой.
– Здравствуй, Андрей Егорыч, – поприветствовал входя Сорокин.
– Здравствуйте, Виктор Николаевич, – плохо соображая, ответил Данилов.
– У меня к вам очень важный разговор, Андрей Егорыч, – Сорокин тоже перешел на вы. – Сегодня у Кольки я принимал экзамен за первую четверть. Басня «Стрекоза и муравей».
– А цветок зачем? – спросил Данилов.
– Экзамен должен быть праздником, вот я и взял цветок. – Сорокин посмотрел на соседа. – Так вот, я понял, кто он! – Виктор Николаевич указал пальцем на Зверя. – Он кильки любит, а почему? Потому что они маленькие и кисленькие. Понимаешь?
Данилов не понимал.
– А еще ты рассказывал, что он все твое лекарство от ревматизма вылакал однажды. А оно ведь на муравьях было настояно! Понимаешь?
Нет, не понимал Данилов.
– Муравьед это! – воскликнул Сорокин. – Ему нужно туда, где тепло, туда, где муравьи!
…И тут подняла свою рюмку Змея Забродина и заговорила – торжественно и проникновенно:
– В одна тысяча восемьсот девяносто восьмом году товарищ Ленин отправил товарища Сталина в Тифлис вести там революционную работу. И вот сегодня, ровно сто лет спустя, мы отправляем нашего товарища Сталина по тому же адресу. История повторяется, товарищи! За это я предлагаю выпить стоя.
Кое-кто из малоивановцев с готовностью поднялся: Тося, например, со своим сыночком, Катя, а за ней – Мякиш.
– Не сметь! Не сметь пить за тирана всех времен и народов! – воскликнул, вскакивая, подвыпивший Сорокин.
– А я не предлагаю вам пить за товарища Сталина, много вам чести! – ужалила через стол Змея.
– Правда! Она же про другое говорила, – обиженно объяснила Сорокину Катя.
Поднялся шум, но Сталин вдруг поднял руку, и стало тихо. Вообще-то, Сталина, этого Сталина в Малых Иванах, не только уважали, но и любили. Особенно когда он говорил тосты.
– Я не знаю, повторяется история или нет, – негромко, но значительно заговорил Майсохро Амиридонович. – Человеческая жизнь очень короткая, и если история и повторяется, то этих повторений просто не успеваешь замечать. Но я расскажу вам такую… историю. Это было давно, еще до войны, до той войны. Мой отец был очень большим человеком. Я и двое моих старших братьев жили с ним в горах в большом доме – на государственной даче. И вот однажды в тех местах случилось наводнение. Это довольно часто там случается, но то было очень большое наводнение. И тогда отец сделал плот, большой такой плот, мы взяли всю нашу живность: собаку, кошку и канарейку в клетке. И мы сели на этот плот и поплыли. И вот, когда мы плыли, отец сказал: «Дети, запомните на всю жизнь то, что я вам сейчас скажу. Самое главное в жизни – это дружба!» Я предлагаю выпить за дружбу!
У многих малоивановцев в тот момент вдруг перехватило дыхание, защекотало в носу.
– За дружбу! – повторили малоивановцы и так яростно сдвинули разом стаканы и рюмки, что чуть посуду не побили.
И тут Колька вдруг встал и запел «Сулико». Это было очень неожиданно, особенно для Сталина: то первую букву не мог запомнить, а тут первый куплет спел. А голосок у Кольки оказался чистый и звонкий, как колокольчик. И Сталин заплакал. К счастью, этого никто не заметил, не успели, потому что Колька спел первый куплет и замолчал, и песню пришлось подхватывать. И подхватили! Сухов растянул меха гармони, и ударили по песне хором, во всю мощь малоивановских глоток, озорно, с мужским присвистом и женским взвизгом, и пока они пели, Сталин справился со слезами, а когда наконец замолчали, он уже улыбался.
– Скажите честно, друзья, скажите честно, вам всем медведь на ухо наступал?
Малоивановцы не обиделись, но шумно запротестовали. Хотя немного и обиделись.
– До свидания, товарищ Мойсцралишвили, – сказал на прощание старшина Зароков, чем еще больше растрогал Сталина.
– До свидания, храбрые рыцари и благородные дамы!
Егорыч уложил завернутого в доху зверя муравьеда на дно саней и попросил Сталина:
– Ты уж там за ним пригляди. Смотри, чтоб он там кушал хорошо.
– Не беспокойся, – успокоил его Сталин. – У нас в Грузии столько муравьев: маленькие черные, рыжие большие… Когда ты приедешь ко мне в гости, ты его не узнаешь. А я тебя попрошу, Егорыч: береги Льва. Добрый лев – это также ненормально, как злой человек. Ему трудно. Он страдает. Пожалуйста, береги его.
Сталина усадили в сани, Сухов растянул меха и заиграл «Златые горы», но каждый понял мелодию по-своему: Председатель, к примеру, запел «Комсомольцы-добровольцы», Забродина – «Стою на полустаночке», а Сорокин вообще не пойми чего: «Клянусь я сердцем и мечом: иль на щите, иль со щитом!» – каждый пел свое.
И когда Мякиш звонко хлестанул мерина и по-разбойничьи свистнул и санки сорвались, взметая пушистый снежок, и растворились в зимней белизне, малоивановцы еще продолжали доказывать, что никакой медведь никогда в жизни им на ухо не наступал.
А на следующий день…
А на следующий день приехала Любаша со своим мужем… А прятаться бесполезно было – уж слишком быстро все произошло, можно сказать, скоропостижно.
Денек выдался не сильно морозный, и баба Шура решила выгулять Раджу. Колька свалился с ангиной, и хоть и непросто было одной, но одела слона: и попону, и нахоботник, и уши у ушанки завязала. И, взяв его, смирного и неторопливого, за веревочку, повела выгуливать. У околицы встретился Мякиш. Он запряг в санки, которые сделал специально, своего страуса и теперь их опробовал. Петя ходко бежал.
– Здоров, – сказала баба Шура, а Мякиш только рукой успел махнуть. И пошла баба Шура со своим Раджой дальше.
А у околицы, на выезде из деревни две черные машины – на страшной скорости. Первая тормознула, вторая тормознула, и из первой Любаша вылетела и летит – раскрылетилась.
– Мамочка!
А баба Шура как стала, так и стоит. Веревка из рук выпала… но Раджа тоже остановился и стоит. А Любаша подбегает и кричит так, будто ее сейчас резать будут:
– Теперь я не Потапова! Теперь я Нетужилина!
И, хотя мать никаких доказательств не требовала, дочь стала перед ее носом паспортом своим новым размахивать.
– Вот, вот, читай: Нетужилина Любовь Петровна!
Баба Шура кивает – вижу, мол, вижу, а сама на Раджу косится, но Любаша на него ноль внимания. Тычет пальцем в сторону первой машины и кричит:
– Там он, мама, там! Новый-новый! Русский-русский!
– А чего не выходит? – спросила баба Шура.
– А они, новые русские, никогда сразу из машины не вылазиют. Посидят сперва, оглядятся… – объяснила Любаша. – А где же Жан-Поль, где мой малыш?
– Приболел маленько.
– Что с ним? – воскликнула Любаша, прижимая ладонь ко лбу и откидываясь назад.
Баба Шура видала и не такое и ответила спокойно:
– Снег жрет, сосульки грызет, что с ним, – и, вглядываясь в затемненные стекла лимузина, двинулась вперед.
А навстречу ей, из второй машины – два здоровяка в драповых пальто.
– Секьюрити! – отрекомендовались они хором, но баба Шура поняла по-своему.
– Секрютины? А мы Потаповы! Очень приятно!
А тут и новый русский, Любашин муж, из своего лимузина выходит. Одет, как новый русский, но худенький и грустный. Идет к бабе Шуре, а сам от Раджи глаз не отводит.
– Александр Иванович, – представился он и протянул руку.
– Александра Ивановна.
– Вот видите, – закричала Любаша, которая рта, вообще-то, не закрывала. – Это судьба! У вас и гороскопы сходятся!
А муж не слышит, смотрит все на Раджу. А баба Шура – то на зятя, то на Раджу, и сердце у нее все ниже и ниже опускается.
– Какая большая у вас корова, – слегка заикаясь, поделился впечатлением зять.
– Корова! – обрадовалась баба Шура. – Большая, ага… Выросла такая… Кормим, не жалеем, ага…
– А молока много дает? – деловито поинтересовался зять.
– Молока? – Баба Шура замялась. – Да, вообще-то, это бык…
– Бык, – повторил Александр Иванович.
– А как его зовут?
– Имя у него индийское – Раджа.
Нетужилин удивленно помотал головой.
– Я недавно в Индии был, но таких коров там не видел.
– Таких больше нигде нет, – подтвердила баба Шура. – Наша порода, местная.
– А на морде у нее противогаз? – задал вопрос один из Секрютиных, и баба Шура совсем осмелела.
– Ага, противогаз! Экология у нас ни к чёрту! Люди еще ничего, а животным тяжко.
– Ну, пойдемте же скорей домой! – требовала Любаша, так и не приметившая слона.
Встреча матери с сыном проходила так, как и должна проходить встреча матери с сыном в представлении матери: со слезами, всхлипываниями и возгласами: «Мой бедный мальчик!», «Малыш, мой малыш!» и «Жан-Поль! Жан-Поль!» Колька вел себя как мужчина, терпел, время от времени поправляя шерстяной шарф, которым было завязано его горло.
А вот знакомство с отцом вряд ли можно назвать типичным.
Сначала Колька увидел первого Секрютина, и тот ему очень понравился. А второй понравился больше первого, потому что был больше первого. Но когда между ними протиснулся, виновато улыбаясь, Александр Иванович, Колька все понял и сказал негромко:
– Блин…
Александр Иванович протянул узкую ладонь и заговорил, заикаясь.
– Ну-ну-у… здравствуй…
– Заика? – спросил Колька.
Секрютины зашевелились, возможно почувствовав угрозу для охраняемого лица.
– К-когда волнуюсь, – объяснил Нетужилин.
– А ты не волнуйся, – предложил Колька. – Я же не волнуюсь.
И все облегченно засмеялись.
А дальше начался сумасшедший дом, и если бы вице-мэр и господин супрефект оказался в тот момент в доме бабы Шуры, то утвердился бы в своем мнении о психическом здоровье малоивановцев.
Во-первых, пошли соседи.
Во-вторых, Секрютины стали носить в дом какие-то коробки.
В-третьих, Любаша не закрывала рта.
То, что Александра Ивановна при этом накрывала на стол, а Колька запустил подаренный Нетужилиным радиоуправляемый вертолет, и тот летал вокруг и всех обстреливал, это уже, как говорится, детали.
Бедного нового русского заняла, развлекая, Катя-продавщица. Ямочки на ее щеках так и играли.
– Это все ваша родня? – вежливо спросил Нетужилин, указывая взглядом на десятки фотографий, вставленных по-деревенски в одну большую рамку.
– Родня… – отозвалась Александра Ивановна, тяжело выбираясь из подпола с ведром картошки.
– Родня, – подтвердила Катя, начиная свою экскурсию по лицам. – Это – Женька Шулейкин, с ним однажды такая история приключилась, ужас! Он, вообще, в торговле работал, а попал на корабль, где диких зверей везли. А его там за дрессировщика приняли! Ох и страху натерпелся! Он потом нам тут рассказывал, мы обревелись…
Любаша отмахивалась от наседающего вертолета, но рта не закрывала:
– Сначала Александр Иванович говорит: «Я ей дом в Испании куплю».
– Кому? – не понимала баба Шура.
– Ну тебе, мам, кому же еще? У нас этих домов… Ты слушай! Я говорю: «Она не поедет». Тогда он говорит: «Я ей в деревне построю особняк в псевдорусском стиле с бассейном». Я говорю: «Она не согласится».
– Кто? – спросила баба Шура.
– Ну ты, мам, ты! – теряла терпение дочь. – Совсем, что ли, бестолковая?
Баба Шура и впрямь что-то плохо соображала, поэтому решила пока молчать.
– Но евроремонт мы тебе, конечно, сделаем, – подытожила Любаша, оглядывая убогий родительский дом.
А Катя в своем углу экскурсию продолжает:
– А это – Юра Деточкин. Москвич… Культурный… А тоже три года отсидел!
– Это, мам, тебе микроволновка! Три минуты, и все готово, – объяснила Любаша, указывая на еще одну коробку.
Тут Чучмек прибежал и первым делом доложил бабе Шуре:
– Дуб-4 на объекте. Сосна-3 и береза-2 движутся в направлении.
Секрютины переглянулись. Трудно им было в Малых Иванах.
– Я Забродину в гости позвал, – продолжал рассказывать очумевшей бабе Шуре Чучмек. – А она говорит: «Я с буржуем за один стол не сяду». А, это вы! – Чучмек увидел Нетужилина и представился: – Фамилия Сухов, прозвище Чучмек.
А Любаша в это же самое время продолжала:
– А это, мам, тебе биотуалет. Я даже сейчас представить себе не могу, как это пойти в уборную на улице? Да я умру сразу!
Тут Виктор Иванович Сорокин заявился собственной персоной, и Катя его сразу же высокому гостю представила:
– А вот и Виктор Николаевич, наша русская интеллигенция!
– Ну, слишком громко сказано, – заскромничал Сорокин. – Но выдавливаем, по мере сил и возможностей, выдавливаем… По капле, может, и не всегда получается, но по полкапельки – определенно! Рад приветствовать известного представителя отечественного бизнеса!
Любаша продолжала:
– А это, мам, тебе телевизор, японский, стопрограммный. А к нему вот – тарелка.
Тут баба Шура, пытавшаяся одновременно привести мысли в порядок, упорядочить броуновское движение людей и начистить картошки, остановилась, глядя на металлическую, метрового диаметра тарелку, и потерянным голосом спросила:
– А без тарелки нельзя?
– Без тарелки никак нельзя! – строго ответила дочь.
И тут баба Шура взорвалась:
– Да что я, свинья, что ли, из такой тарелки есть за вашим телевизором! Не нужен! Ничего не нужно!
– А это Кузя Морданов! – закричала во все горло Катя, чтобы заглушить вздорную тещу, не разочаровывать зятя. – Наш, деревенский, шебутной!
Когда вопрос с тарелкой уладили и баба Шура успокоилась, к ней подошел Колька, ткнулся лицом и спросил:
– Ба, а ты без меня с Раджой справишься?
– Справлюсь, – ответила, все понимая, баба Шура. – Совсем твоя мамка голову потеряла.
(«Любаша рассказывала в этот момент малоивановцам, что секс-индустрия в Таиланде – это никакой не секс, а одна индустрия.)
– Поеду искать, – сказал Колька.
Баба Шура шмыгнула носом, но нашла в себе силы, улыбнулась:
– А письма писать будешь?
Колька поднял глаза. Хотя он не был, да и не быть ему уже никогда, пионером, взгляд его в тот момент был такой родной, такой пионерский.
– Бабушка, каждый день! – поклялся он.
Была ночь. Мужчины спали: Колька неслышно, Александр Иванович посвистывал, Секрютины глушили его басовитым храпом.
Женщины пребывали в кухоньке. Баба Шура перемывала гору посуды. Любаша сидела в длинной ночной рубахе за столом и все рассказывала:
– Ой, мам, как в сказке, как в сказке! Стою я, хот-догами торгую…
– Чем?
– Хот-догами. Ну, сосиски такие. Горячие собаки значит.
– Из собачатины? – насторожилась мать.
– Нормальные сосиски. Просто называются так – горячие сосиски.
– И что, едят?
– Еще как едят! У меня место бойкое было, рядом с ЦУМом… Стою я, значит…
Любаша продолжала свой рассказ про то, как стояла она и торговала хот-догами и как подъехал шестисотый мерседес, а из него…
Но Александра Ивановна не слышала, ее почему-то поразила эта история, поразила настолько, что она даже перестала тереть тряпкой тарелку.
– Видно, правду говорят: последние времена наступают, – проговорила она тихо, вздохнула и вновь взялась за посуду.
– А на Гавайи мы поедем на Новый год! – сообщила Любаша.
На Новый год…
Вообще, Новый год в Малых Иванах не принято было встречать, и в ночь под праздник все ложились спать, как обычно в зимнее время – часиков в девять, самое позднее, в десять.
Вот и в ту памятную ночь свет в окошках малоивановских домов погас рано. За исключением трех.
В первом доме жил Председатель.
Во втором – Выкиньсор.
А в третьем – Александра Ивановна.
Причем даниловский и сорокинский дома стояли рядом, а потаповский – через дорогу напротив.
Почему-то захотелось Данилову в ту ночь поздравить Александру Ивановну с наступающим. Тем более – у нее горел свет. Все было хорошо, но ведь и у Сорокина горел свет! Вот и стоял Андрей Егорыч у окна и вертел головой, себя все больше презирая: то на Шуркины окна глянет, то на Витькины. А был Данилов уже при параде: в москвошвеевском бостоновом костюме, при медалях-орденах и с геройской звездой под ключицей. И тут ему в голову пришла светлая мысль, и он немедленно эту мысль осуществил – взял и выключил свет. И у Сорокина свет тотчас погас! Понял Данилов, что Сорокин спать не ложился, боялся… Понял Данилов и усмехнулся, посмеялся внутренне над сорокинской глупостью. После чего натянул густо пахнущие нафталином бурки, надел длинное и толстое, на вате, зимнее пальто с цигейковым воротником и, водрузив на голову барашковую папаху, вышел на улицу. Там он вздохнул полной грудью, посмотрел на здоровенные звезды и направился к дому Александры Ивановны. А снег под ногами хруп-хруп, хруп-хруп – заслушаешься. Вот и заслушался Андрей Егорыч, даже остановился. А снег хруп-хруп, хруп-хруп. Посмотрел Андрей Егорыч, а навстречу – Сорокин. В широкополой шляпе, габардиновом плаще, а на носу прищепка. И Сорокин его тоже увидел и остановился.
– Здорово, Егорыч! – сказал он бодро, но немного гнусаво.
– Здорово, Николаич! – Данилов тоже бодрился.
И тут возникла пауза, опасная, надо сказать, пауза, потому что еще чуть-чуть, и они могли бы здесь, прямо на снегу от стыда сгореть. Данилов это явственно почувствовал.
– Часы встали, хотел время у кого спросить, – объяснил он свой выход на улицу.
– Время! – Сорокин очень обрадовался, что может помочь соседу в его беде, посмотрел на часы и сказал: – Половина двенадцатого! А я закурить вышел стрельнуть! – начал объяснять Сорокин. – Кинулся – ни одной сигареты дома!
– Закурить? – Данилов испытывал сейчас к Сорокину благодарность. Он торопливо сунул руку в карман и вытащил банку «Килек в томате». – Дома забыл, – объяснил он тихим, внезапно осевшим голосом.
– О, нашел! – воскликнул Сорокин, вытаскивая из кармана плаща пачку «Примы».
Он тут же стал закуривать, но прищепка мешала. Сорокин только сейчас ее заметил, да и Данилов тоже.
– Забываю снимать, – объяснил Сорокин и спрятал прищепку в карман.
И тут они разом посмотрели на окна Александры Ивановны, потому что в них в тот момент погас свет. А потом они посмотрели друг на друга.
– Ну, бывай здоров, – сказал Председатель и пошел – хруп-хруп – к своему дому.
– Спокойной ночи! – хруп-хруп – Да! – вспомнил на ходу Сорокин. – С наступающим тебя!
Председатель остановился.
– И тебя с наступающим!
И снова – хруп-хруп… хруп-хруп…
Не встречали малоивановцы Новый год в полночь, зато праздновали его на следующий день в полдень! Как говорили здесь, традиция эта была многовековая – кататься в этот день на коньках, открывать, как говорится, сезон, до этого лед на реке считался ненадежным.
Праздник всегда устраивался в одном месте – на горушке, у крутого спуска к реке, где словно нарочно росла елка. Ее украшали, чем могли, а на спуске устраивали ледянку, которая на реку, на самый лед выносила. Этим всегда власть занималась, советская или какая до нее была, и теперь малоивановцы видели – есть у них в деревне власть!
Елка была украшена большой красной звездой, бумажными цепочками и гирляндой «Дружба народов», а из ваты были выложены слова поздравления: «С Новым, 1999 годом!» Дед Мороз, правда, отсутствовал, но вместо него наличествовал дедушка Ленин на кумачовом пьедестале, восстановленный стараниями Зои Каллистратовны при помощи изоленты так, что черного было больше, чем белого. Тут же у елки стоял столик, а на нем бутылка с самогоном, хлеб, несколько нарезанных четвертинками луковиц и крупная соль горочкой – так что выпивай и, хочешь, хлебом занюхивай, хочешь, луком закусывай – на здоровье!
Забродина расстаралась: повесила на елку свой радиоколокол и передавала праздничную музыку, вовсе даже не революционную. Надо сказать, что с появлением у нее Даши Забродина помягчела и уже не будила малоивановцев маршем, а передавала в течение дня песни советских композиторов. А на Новый год звучали на всю округу песни бывших стран социализма.
Народу на льду еще до полудня собралось достаточно. Супруги Румянцевы на снегурках, к валенкам прочно прикрученных, руки сцепили буквой «дубль вэ» и ладно так едут – двое, а как будто один человек – залюбуешься!
А Чучмек рядом на канадах своих разболтанных лед режет, ритм сбивает Румянцевым, понарошку, конечно.
Полковник – на «ножах» в галифе с обмотками, плавно, размеренно, большими такими кругами ходит. Сорокин – на фигурных, да еще белого цвета, даже кружиться пытается, но, надо признать, получается у него неважно.
Неподалеку Председатель на полуканадах. Тоже не чемпион.
А Забродина на детских совсем, у которых по два лезвия на каждом коньке. Не так катается, как скребется. Боится упасть и потерять авторитет. Еще и палку лыжную бамбуковую взяла…
У старшины Зарокова коньки к сапогам прикручены. И в форме он, конечно. Катается Зароков хорошо, но не так удовольствие получает, как все же за порядком следит.
И вдруг Нюра – ну откуда что берется! – на лед вылетает! Все прямо остановились.
Ну барыня, вылитая барыня! Снегурки у нее золотистые какие-то под высокими ботинками, рейтузы шерстяные, юбка чуть не до колен колокольчиком, белый свитерок под горлышко и шапочка тоже белая, и шарфик… А на груди еще и муфточка. Такое каждый Новый год случалось, и сколько лет уже, а все не переставали удивляться малоивановцы:
– Ну откуда что берется!
– Барыня и есть барыня!
И пошла Нюра выделывать вензеля: то ручку поднимет, то ножку поднимет, то головку запрокинет.
И снова все с восхищением:
– Ну, барыня!
– Барыня!
А тут Александра Ивановна нарядная подтягивается и за собой на веревке большие салазки, красивые, раскрашенные, тянет. Подошла баба Шура к столу, тяпнула стакашек, занюхала хлебушком и кричит:
– А ну, кто не боится!
Это и надо малоивановцам говорить, если хочешь от них чего добиться, к какому делу подключить, – все тут как тут сразу, набились в салазки, как картохи в чугунок, держатся друг за дружку и еще не едут, а уже глаза от страха зажмуривают.
И, закричав что у кого из души вырвалось, ринулись малоивановцы в пропасть! Но до речного льда добраться не удалось: то ли от перегруза, то ли центровка была нарушена – перекувырнулись малоивановцы и прямо в снег! Сначала тихо было, потому что каждый подумал: жив еще или уже нет? Открыл глаза Егорыч, а рядом Александра Ивановна, глаза закрыты, а улыбается. И так захотелось Андрею Егорычу ее поцеловать… Но не поцеловал, забоялся… А тут крик, смех вокруг поднялся, все поняли, что живы…
И в это время из-за поворота реки Тося-почтальонка появилась, лицо красное, как наждаком натертое. Тося в Семиреченск за почтой с утра пораньше отправилась и вот теперь возвращалась. И смотрела на нее баба Шура с такой надеждой… Конёчки у Тоси немудрящие, обычные снегурки, но что значит опыт – по льду бежит, как рыба в воде плывет. Подлетела к бабе Шуре, остановилась, вытерла рукавом форменной почтальонской куртки пот со лба и спросила:
– Начали уже? А то я еду и думаю: начали или не начали? Начали, значит.
– Заморилась? – посочувствовала баба Шура, не решаясь о главном спрашивать.
– С чего замариваться? – удивилась Тося. – По льду да на коньках. В полынью один раз чуть не попала. Да под Семиреченском рыбаки хватают. Напились уже… – И, глянув на бабу Шуру сочувственно, все же сообщила: – Нет писем, Шур.
– «Бабушка, я буду тебе каждый день писать!» – передразнила бабка внука, и надо сказать, здорово получилось.
Тут Егорыч на коньках лихо, как мог, подкатил, ледком обдал.
– А ты чего это, Александра Ивановна, спать вчера не ложилась? – поинтересовался он, поглядывая озорно.
А баба Шура на него посмотрела вдруг тепло и сочувственно и сказала:
– Хороший ты мужик, Андрей Егорыч, но не орел!
И вдруг все услышали голос, от которого уже отвыкли немного и, конечно, соскучились. Все просто так и ахнули:
– Павлуша!
– Празднуете приход Нового года? А вы три девятки переверните, что получится?
Блудный сын малоивановского народа был в длинном черном пальто, без головного убора, с длинным, похожим на веревку шарфом.
– Три шестерки получится! – подумав, крикнула в ответ Тося. – А что?
– А то, что это число зверя! – закричал Павлуша. Он, наверное, хотел всех напугать, но только развеселил.
– Зверей-то мы, Павлуш, уже не боимся!
И в этот самый момент донеслось издалека:
– Поберегись!
И Павлуша, горьким опытом наученный, прыг на стол! А Манюня подбежала, остановилась и смотрит на Павлушу снизу озадаченно и дружелюбно. Симпатичная, между прочим, оказалась свинка.
И вдруг увидели малоивановцы, что все их звери бегут к ним гурьбой. Видно, подумали: им праздник, а нам? Посредине Раджа, дедом Морозом наряженный, а на нем, на загривке, Афоня сидит. Тося увидела и за сердце схватилась:
– Сынок, слезь, убьешься!
А баба Шура на Афоню по-своему:
– Ты куда, чёрт здоровый, забрался, он что, нанялся возить тебя? – Ей, конечно, Раджу было жалко.
Шум, гам, крик, рык! А над всем этим попугай летает и кричит противно:
– Как тепя зофут? – Полковника, гад, пугает.
– Знаем, знаем! Исаев его зовут. Максим Максимыч! – отмахнулась Забродина от надоедливой птицы. И попугай сразу присмирел, на елку сел – вылитая игрушка.
Праздник – он, видно, и для зверей праздник, вот и решили звери повеселиться, каждый стал показывать, что умеет. А многое, оказалось, умели малоивановские звери.
И Афоня почувствовал себя дрессировщиком.
– Раджа!
И Раджа подхватил за шею гипсового Ильича и положил на утоптанный снег, а сверху поднял свою ножищу.
– Раджа!
И раздавил Раджа гипсовую скорлупку – только легкий дымок пошел.
А Егорыч стоял в стороне, смотрел на снежные дали и, успокаивая себя, повторял оптимистично:
– Ничего… До Нового года дожили, значит, и до тепла доживем. Главное – тепла дождаться…
Весна!
– Вот и дождались тепла! – радостно проговорила баба Шура, глядя на тающий снег и лужи под ногами.
– Вот и дождались тепла, – растерянно проговорил Председатель, выходя из дому в болотных сапогах, и, ступив с крыльца, погрузился по колени в воду.
– Вот и дождались тепла, – ворчала Тося, направляя свою лодочку от дома к слоновнику.
Разлив весной 1999 года был такой, что полуостров Гулькин нос, на котором расположились Малье Иваны, превратился в остров, в островок, изрезанный нерукотворными каналами.
Внезапно Тосино внимание привлекла плавающая в воде бутылка. Бутылка была красивая, пузатая, синего стекла, запечатанная сургучом. Тося вытащила ее из воды, посмотрела сквозь стекло внутрь и увидела конверт с адресом.
– Шур, тебе письмо! – закричала Тося, вбегая в слоновник.
Это благо, что он находился на возвышенности и внутри было сухо. Звери, как в ту зимнюю ночь, вновь собрались здесь в полном составе, и никто ни на кого не косился, а сидели тихие, смирные.
Баба Шура торопливо открыла длинный конверт и вытащила поляроидную фотографию и письмо. На фотографии на фоне кирпичной стены и живой изгороди стоял неузнаваемый Колька в какой-то клетчатой накидке, а рядом с ним сухонькая старушка с зонтом. Письмо было напечатано на компьютере красивым готическим шрифтом и начиналось словами: «Dear Grandmother!».
Шура не могла его прочесть. Оно все было написано на английском языке.
– Вот засранец! – вырвалось у бабы Шуры, но тут она заметила на обратной стороне листа Колькины каракули:
«Бабушка, это я сам на компьютере набрал, а русских букв здесь нет, учи английский, без него пропадешь. Пришли мне слова песни про командира, а то миссис Поридж не знает, а я без этой песни плохо засыпаю. Привет Радже и всем остальным. Твой внук Коля».
А еще кто-то говорит, что история не повторяется… Как и тогда, зимой, собрались малоивановцы в почтовой комнатке, и, согнувшись над аппаратом Морзе, Полковник выстукивал: SOS. SOS. SOS…
– Ничего страшного, обыкновенное наводнение, – успокаивал односельчан Сорокин. – Вы помните, что было в Польше и Чехословакии пару лет назад?
– Так они тогда в НАТО вступили, а нас за что? – истерично кричала Забродина.
SOS. SOS. SOS.
На секунду стало тихо. Все вдруг явственно услышали рокот самолетного двигателя.
– А вы говорите – мы никому не нужны! – выкрикнул Сорокин в лицо Забродиной.
– Ура! – закричали малоивановцы и, поднимая брызги, высыпали на улицу. – Самолет!
Это и в самом деле был самолет, кукурузник с привязанным за трос гигантским гигиеническим изделием «“Джульетта” – лучше для женщины нету! (с крылышками)».
Самолет сделал над Малыми Иванами круг и улетел.
На четырнадцатый день…
На четырнадцатый день беспрерывного дождя в магазин ворвались Чучмек, Мякиш и Выкиньсор, именно ворвались, как будто сейчас будут обыскивать, а потом арестуют.
– Вы чего, мужики? – удивленно и насмешливо спросила Катя-продавщица.
– Чего-чего, погоду ломать будем! – объяснил Чучмек, а самого при этом аж крутило.
– Погоду ломать будем! – повторил перевозбужденный Сорокин.
А Мякиш ничего не сказал, стараясь не смотреть в глаза жены, он прятался за спины товарищей.
– Ой! – только и вымолвила Катя и, трижды нагнувшись, как на физзарядке, под прилавок, со стуком поставила шесть бутылок водки.
Чучмек сглотнул слюну.
– Вы что, издеваетесь? – взвизгнул Виктор Николаевич.
Катя испуганно прижала к груди руки и прошептала:
– Меня ж посадят!
Тогда из-за спин товарищей выдвинулся Мякиш, зашел за прилавок и, тоже трижды прогнувшись, поставил с грохотом и звоном три дощатых ящика: два полных и один заполненный бутылками на треть.
– И гляди, если где припрятала, – пригрозил он.
Катя мужу не перечила.
– Да вы ж хоть закусить возьмите! – воскликнула она, когда мужики с ящиками в руках двинулись к двери.
– Не на гулянку собрались! – крикнул в ответ Чучмек.
Но Мякиш вернулся, взял с витрины банку консервированного горошка и, подумав, поставил перед женой бутылку.
– А это вам, чтоб не скучали, – сказал он тихо и почти нежно.
За этой бутылочкой и собрались, расположились бабы в доме Кати, расположились по-женски уютно, с закусочкой, но и грустно – все-таки без мужиков.
На улице дождь, дождь Сильно поливает…– запела Забродина, и остальные печально подхватили:
Сильно поливает, Брат сестру качает, Брат сестру качает, Тихо напевает…– Чего делают? – поинтересовалась Тося, и Катя отодвинула занавеску. В освещенных окнах суховского дома были хорошо видны силуэты мужиков. Они там обнимались и целовались, и Катя так и доложила:
– Обнимаются и целуются.
– Значит, завтра драться будут, – пообещала баба Шура.
Отдадут тя замуж Во деревню чужую, Во деревню большую. А по будням там дождь, дождь, А по праздникам дождь, дождь…Как обещала баба Шура, так все и получилось. Когда на следующий день от суховского дома сквозь беспрерывный шум дождя донеслись крики, звон оконного стекла и глухие удары, никто даже в окно не стал смотреть, а просто выпили по рюмочке.
Мужики там все злые, Топорами секутся, А свекровь-то дерется, А дождик все льется.Утром третьего дня малоивановские мужики выскочили на улицу в одних трусах и стали исполнять под дождем дикий африканский танец. Бабы прилипли к окнам.
– Чего это они? – удивленно спросила Тося.
– Бесятся, – просто и спокойно объяснила Катя.
Мужики вернулись вечером третьего дня – похудевшие, с запавшими глазами, трезвые.
– Пол-ящика как раз и не хватило, – объяснил, горячась, Чучмек. – Уже просветы стали появляться.
У женщин в бутылочке оставалась еще чуть не половина, но водка уже не интересовала мужиков. Взяв топоры и пилы и укрывшись дерюжками, они пошли гуськом на реку, которая на глазах превращалась в море, в бескрайний и тревожный океан.
1-е апреля 1999 года…
В то утро малоивановцы, перебравшиеся из своих полузатопленных домов в слоновник, услышали вдруг вой сирены и высыпали на улицу. К берегу подходил пыхтящий чумазый катерок, на носу которого очень даже неуместно торчал яркий американский флаг. На катере неподвижно стояли призрачные какие-то люди… Прикрываясь от дождя дерюжками, малоивановцы робко жались друг к дружке.
Забродина потрясенно смотрела на флаг.
– Это что же… Пока мы здесь… Они нас… – высказала она страшную догадку.
– А мне все равно! Хоть китайцы! – предательски выкрикнула Тося.
Катер ткнулся в берег, по железному трапу спустились несколько человек и направились к малоивановцам. Они были в мутно поблескивающих скафандрах и шли, как американцы по Луне ходили, замедленно и торжественно.
– Что за люди? – удивился старшина Зароков.
– Это не люди. Это гуманоиды, – сказал Павлуша.
– Кто? – спросили сразу несколько человек.
– Пришельцы… Из других миров, – впервые за многие годы Павлуша верил сейчас в то, что говорил.
– Мам, я боюсь, – пробасил Афоня.
– Не бойся, сынок, я с тобой! – успокоила его Тося.
Пришельцы подошли и остановились напротив.
– Малые Иваны? – спросил стоявший в центре мордатый мужик.
Малоивановцы не сразу нашлись, что ответить, но ответили все же:
– Малые…
– Сейчас будем вас спасать. Но сначала вы должны дать интервью.
Тут же вперед выдвинулись еще двое пришельцев – один с камерой, второй с микрофоном.
То, что малоивановцы приняли за скафандры, оказалось целлофановыми комбинезонами, видимо очень хорошо защищающими от дождя.
– Здравствуйте! – воскликнул на ломаном русском пришелец с микрофоном. – Наша передача называется: «Здравствуй, Америка!». Ее смотрит вся страна. Вы можете передать привет своим американским друзьям, сказать все, что вы хотите. Это прямое включение. Десять секунд! Десять, девять! – открыл счет пришелец, а малоивановцы испугались, очень испугались. Никто не хотел выступать.
– …три, два, один, зеро!..
На камере загорелась красная лампочка.
И малоивановцы выдавили из себя растерянного Егорыча. Он снял мокрый картуз, пригладил волосы и снова надел.
– Здравствуй, Америка… – заговорил он старательно, но неудачно изображая на лице улыбку. – Здрасьте… «Русскому чуду» – привет… от тружеников села… Не беспокойтесь, все живы-здоровы. Раджа даже поправился на полтора центнера… Лев облинял… Даша снесла четыре яйца, ждем змеенышей…
Американец с микрофоном переводил, испытывая при этом явные затруднения.
– Это фольклор? – растерянно спросил он.
– Нет, – не согласился Председатель, – это Гусман. Он Америке поверил, и мы… тоже, выходит… Ну, всё? – Данилов повернулся и направился к своим.
А красный огонек все горел. И тут Забродина придвинулась к объективу и прокричала оптимистично:
– Ты, Америка, сиди там и не рыпайся!
И Чучмек мотнул головой:
– Америка, говоришь? Хэх!
– Дикари вы, – сказал мордатый, тот, который первым подошел.
– А почему флаг американский? – выкрикнула Забродина.
– А вам не все равно, под каким флагом вас спасают?!
– Нам не все равно! – это все Забродина.
– Не надо нас спасать!
– Сами как-нибудь!
– Дикари… – обиженно зашумели малоивановцы.
– Без паники! – закричал мордатый так, что все сразу замолчали. – Выстраивайтесь в очередь! Первыми старики и дети!
– У нас тут все старики, – насупилась малоивановцы.
– А дети есть?
– Есть дети, есть! – закричала Тося и вытолкнула вперед Афоню.
Начальник, а мордатый, без сомнения, был начальник, это малоивановцы уже поняли, посмотрел на ребенка с сомнением и не нашелся, что сказать.
– А вы кто такой? – спросил незнакомца Зароков.
Тот глянул на милицейскую форму.
– Я Огурцов.
Стало тихо. Малоивановцы с интересом смотрели на вице-мэра и супрефекта.
– Вы, товарищ Огурцов, не обижайтесь, но никуда мы с вами не поедем. Ребенка забирайте, а мы здесь останемся.
И Огурцов понял, что так оно и будет. Он покосился на продолжающих снимать американцев, приблизился к своим и пообещал почти по-родственному:
– Я завтра за вами с ОМОНом приеду. В наручники вас… Расстреляем, но спасем.
– Мама! – кричал Афоня с палубы уходящего катера.
– Сынок! – шептала Тося и вытирала слезы.
Не прошло и дня…
Не прошло и дня, как малоивановцы погрузили на «Родину-5» диких своих зверей, погрузились с малыми пожитками сами и – поплыли. (Оказывается, мужики предвидели такой исход, обговорили его, еще когда погоду ломали, и сразу после того, как это им не удалось, они пошли на баржу и устроили на ней навесы.)
Нельзя сказать, что погрузка прошла спокойно, нет – паника была, и крик, и чуть ли не драка, когда Александра Ивановна хотела привести Раджу первым и все требовали, чтобы он шел последним – боялись, что мостики сломаются.
Двигатель у «Родины-5» не работал, и ее бесшумно сносило от маленьких исчезающих Малых Иванов в безбрежное и тревожное море.
Женщины есть женщины – поплакали маленько, но и мужики курили больше, чем обычно, можно сказать, одну за другой, а потом тоже успокоились.
Один Председатель как-то сник. Александра Ивановна случайно проходила мимо, остановилась и спросила:
– Чего загрустил, Председатель?
Егорыч вздохнул и поделился:
– Да вот все думаю: старость страшна не тем, что стареешь, а тем, что остаешься молодым…
То, что для Данилова было неразрешимой загадкой, для Александры Ивановны не являлось даже вопросом.
– Так это же хорошо, что молодым остаешься, – сказала она, засмеялась и пошла дальше, оставив Данилова в еще большем недоумении.
Дождь кончился, впервые за многие дни перестал идти дождь: и на горизонте, там, где садилось солнце, появился первый просвет, сквозь него пробился закатный золотой луч и упал на «Родину-5».
Но малоивановцы не заметили этого. Они сидели неподвижно, немножко жалея, что не поплыли раньше. Тихо, затаенно улыбаясь, они слушали льющуюся с неба музыку, будто кто исполнял ее там на золотых колокольцах, и голоса, как тогда у Кольки, звонкие, чистые:
Слава! Слава! Слава!
Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!
1998 г.Тайная жизнь Анны Сапфировой
1. Весна. День
Съемки с очень большой высоты. Мы смотрим сверху вниз, как, быть может, смотрит Бог, видя всех нас вместе и каждого по отдельности. Город, пригород, дороги… Дороги забиты – пробки. Все встало. Камера стремительно приближается к застывшим внизу машинам…
2. Пригородное шоссе
В машинах мужчины и женщины, считающие себя хозяевами жизни, которым внезапно напомнили, что это не совсем так. Подлинный хозяин жизни должен проехать где-то впереди, и сейчас все невольно уступают ему дорогу. В машинах – кондиционеры, окна лимузинов закрыты, мы ничего не слышим, но видим, как эмоционально там реагируют на происходящее, и можем только догадываться, какие слова произносятся в адрес того, кто напомнил им об их ничтожности… Впрочем, это только мужчины. Женщины ведут себя спокойней. Они выстрадали свое счастье и берегут нервы для долгой счастливой жизни, вполуха слушая своих возмущенных мужей и покровителей, рассеянно и загадочно улыбаясь. Рядом с огромным билбордом, на котором написано «Большие Сосны – большие люди», тесно скучились шестисотые «мерины» и семьсот сорок шестые «бумеры», «порше», «бентли», а чуть в отдалении стоит неожиданная здесь старомодная, но красивая розовая «чайка».
3. Салон «чайки». Тогда же
В «чайке» – водитель, еще двое мужчин и женщина. Она сидит в левом углу на заднем сиденье, запрокинув голову и закрыв глаза, видимо пытаясь уснуть. Выглядит экзотически – в длинном шелковом платье, в широкополой шляпе, из-под которой выбиваются пышные оранжевые кудри, в руке веер. Уже с первого взгляда на нее начинает казаться, что это Анна Сапфирова, звезда сцены и экрана, но, пока она не открыла глаза и не заговорила, в это до конца не верится.
Мужчины ведут себя так, как если бы женщина спала, – они не решаются потревожить ее сон.
О мужчинах: водитель – кучерявый толстяк, увлеченно читает книжку, переворачивая страницы предельно осторожно, косясь при этом в зеркало заднего вида на спящую; рядом с ним сидит бритоголовый крепыш лет шестидесяти, который то и дело вытирает платком пунцовую налитую шею, – кем он только в жизни не был, а теперь – продюсер, фамилия его Сурепкин; на заднем сиденье томится одетый в белый костюм голубоглазый блондин с широченными плечами, он юн и чудо как хорош, зовут его Илья, фамилия Муромский, и это не псевдоним, но есть еще и прозвище Русский мускул, которое юноша получил на чемпионате Вселенной по бодибилдингу в городе Кимры.
Когда начинает казаться, что женщина крепко спит, она вдруг резко и широко открывает глаза. Нет никаких сомнений в том, что она не спала, как нет теперь сомнений в том, что это и есть Анна Сапфирова. Об этом говорят ее большие красивые глаза и низковатый голос.
– Почему стоим? – спрашивает она удивленно.
– Пробка, – отвечает водитель, держа на коленях открытую книгу.
– Пробка, – повторяет звезда, и в ее устах это глупое слово звучит таинственно и торжественно.
Сурепкин вытирает платком шею и возмущенно хрипит:
– Нет, в этой стране ничего не меняется! Была Российская империя, потом Советский Союз, теперь Российская Федерация, а все одно и тоже… Царь, генсек, президент… Когда он едет, все стоят!
– А я слышал, что при коммунистах было лучше, – осторожно высказывается Илья.
– Чем?! – резко поворачивается к нему Сурепкин. – Чем лучше?
Илья неуверенно пожимает плачами.
– Порядка было больше.
Сурепкин смеется и разводит руками.
– «Порядка было больше»… Какого порядка?! Меня упекли за решетку за то, что я рубли на доллары поменял. Джинсы хотел купить – девушке понравиться. А в результате – пять лет. Ты можешь это представить?
– Не-ет, – еще более неуверенно говорит Илья.
– Не-ет, – сердито передразнивает его Сурепкин.
Любопытно, что эту нервную беседу совершенно не слышит водитель – настолько он увлечен книгой.
– А что это вы все читаете? – спрашивает Анна и дотрагивается веером до плеча водителя. Тот вздрагивает, смущенно улыбается и показывает обложку.
Анне не прочесть без очков, но вида она не подает, Илья же с трудом складывает буквы в слова:
– «Тай-на-я жи-знь…»
– «Тайная жизнь Александра Первого (Легенда о Федоре Кузьмиче)», – приходит на помощь водитель.
– Это какой Александр Первый? – живо интересуется Анна.
– Русский царь. Конец восемнадцатого – начало девятнадцатого века.
– А при чем тут Федор Кузьмич?
– Существует легенда, что в расцвете сил Александр тайно оставил царский трон и остаток жизни прожил в Таганроге как простой человек под именем Федор Кузьмич.
– Мама, это правда было? – удивленно спрашивает Анну Илья.
– Сынок, я смутно помню то время, – с иронией в голосе отвечает Анна, на что Сурепкин удовлетворенно хмыкает.
Илья краснеет.
– Это правда было? – спрашивает Анна водителя.
Тот чешет лысеющую макушку и очень искренне отвечает:
– Слишком красиво, чтобы быть правдой, но, может быть, поэтому в это веришь больше, чем в правду.
Анна смотрит на водителя с интересом.
– Да вы философ, – говорит она, чуть улыбаясь.
– Учился на философском, – кивает водитель. – А теперь вот, – опускает руку на баранку, – семью надо кормить.
– Большая семья?
– Да нет… Дочка, жена, теща, собака.
– Теща-собака? – шутит Сурепкин.
Илья смеется.
– Зачем вы так? – обиженно хмурится водитель. – Теща – это теща, а собака – собака… Фоксик у меня, Луша…
Анне вдруг наскучивает этот разговор, и она обращается к Сурепкину:
– А где Толстой?
Услышав эту фамилию, Сурепкин смеется и довольно потирает руки.
– С утра с двойниками возился… Да он одновременно с нами выехал. Мы с ним поспорили на сто баксов – кто первый в Большие Сосны приедет.
Он хочет еще что-то сказать, но общее внимание привлекает совершенно неожиданный здесь велосипедист – крупный мужчина в выцветшем от времени полотняном кителе и широких штанах. На голове его белый пенсионерский кепарь, за спиной – рюкзак, из которого торчит саженец калины. На него смотрят удивленно и непонимающе из черных лимузинов и из розовой «чайки». Все стоят, а он движется.
– Это он! – объявляет Сурепкин.
– Кто? – не понимает Илья.
– Федор Кузьмич.
Все смеются.
4. Поселок Большие Сосны. Натура. День
На подъезде к дому олигарха, напоминающему дворец, пробка из лимузинов, которую разруливает генерал милиции. Куча народу: охранники, корреспонденты, зеваки.
5. Салон «чайки»
Водитель протягивает Сурепкину какие-то бумаги и ручку.
Водитель: Распишитесь, пожалуйста, здесь, здесь и здесь…
Сурепкин быстро расписывается.
Анна: Сурепкин, дайте водителю сто евро.
Сурепкин (возмущенно): Чаевые включены в счет.
Анна (устало): Повторяю: дайте водителю сто евро.
Сурепкин: Но у меня нет с собой евро.
Анна: А вы поищите!
Сурепкин (достает бумажник и предъявляет находящиеся в нем деньги): Вот доллары, вот рубли, а евро… Нет евро…
Анна: Я не выйду из машины, пока вы не дадите этому господину сто евро.
Сурепкин: А, вот, нашел… Одна завалялась.
С трудом себя преодолевая, Сурепкин протягивает купюру водителю.
Водитель (страшно смущен): Да не надо, что вы…
Анна: Берите, берите… На корм собачке и на цветы теще». – И подавшись к водителю, доверительно ему сообщает: – Я разлюбила доллары и полюбила евро.
Водитель: Анна Ивановна… Автограф…
Анна: Пожалуйста! Только побыстрее…
Сурепкин протягивает ей ручку, а водитель, растерявшись, ту самую книгу. Анна усмехается и размашисто расписывается на обложке.
– Посигнальте, пожалуйста, – просит она водителя, что тот немедленно исполняет.
Генерал обращает внимание на «чайку», подбегает, узнает Анну, радостно отдает честь.
– Анна Ивановна!
– Вольно, вольно, – смеется Анна и назидательно обращается к Илье и Сурепкину. – Теперь вам понятно, почему я заказала эту машину? Быть непохожим на всех очень непросто, но иногда это помогает жить.
6. Поселок Большие Сосны
К остановившейся у дома олигарха розовой «чайке» подбегают фотокорреспонденты, охранники и зеваки, и все повторяют с удивлением и восхищением:
– Анна Сапфирова!
– Анна Сапфирова!
– Анна Сапфирова!
7. Там же
В сопровождении охранников и фотокорреспондентов Анна, Илья и Сурепкин направляются к дому олигарха. Анна – в центре и на шаг впереди.
Анна (Сурепкину): Напомните мне о нем, пожалуйста…
Сурепкин: Я же вам вчера рассказывал…
Анна: Не волнуйтесь, я не в маразме, просто в тот момент думала о другом.
Сурепкин: Олигарх первой волны. Уехал, вернулся – простили.
Анна: Простили?
Сурепкин: Говорят – простили.
Анна: Патриот?
Сурепкин: Или идиот. Все гадают.
Анна: Как, говорите, его зовут?
Сурепкин: Давид, а фамилия такая, что язык сломаешь. (Пытается произнести.)
Анна: Зачем мне фамилия, я не собираюсь выходить за него замуж. Что в договоре: песня, танец, декламация?
Сурепкин: Никакого договора. Сказал, что будет счастлив увидеть вас живую.
Анна (усмехается): Какую же еще…
Сурепкин: И еще сказал, что даже не мечтает о том, что вы споете в его новом доме.
Анна: Спою. И даже знаю что.
Они стоят перед домом олигарха, на углу которого старомодная табличка с надписью: «ул. Заречная».
8. Гостиная в доме олигарха. Тогда же
Гостиная напоминает зал приемов королевского дворца: наборный паркет, хрусталь, прочая роскошь. Празднично одетые господа и дамы. Гул голосов. Анна входит, и тут же раздается усиленное микрофоном восклицание:
– Неувядаемая и незабвенная!
Все обращают внимание на Анну. Илья и Сурепкин далеко позади.
К ней подбегает Хомутов – известнейший телеведущий. В руке его микрофон.
– Царица сцены! Королева эстрады! Богиня рампы! – продолжает восклицать он.
– Все сказал? – цедит сквозь зубы Анна.
Тот едва заметно кивает.
– Тогда целуй. – Анна протягивает руку.
Хомутов наклоняется, тянется, но Анна опускает руку до тех пор, пока тот не оказывается на коленях. Анна делает ему ручкой и идет дальше.
– А поцеловать? – восклицает Хомутов.
– Много чести, – отвечает Анна.
Смех. Для многих это срежиссированная сценка, но не для ее исполнителей.
Хомутов растерянно встает с коленей, Анна же идет дальше и спрашивает хозяйским тоном:
– А где же хозяин дома?
Хозяин дома стоит в углу – маленький, чернявый, растерянный, очень трогательный. Он смотрит на Анну влюбленно и благодарно, словно не веря, что видит ее живую.
9. Там же, тогда же
Белый рояль у стены. Анна за роялем. Гости замерли. Олигарх смотрит тем же влюбленным и благодарным взглядом.
Анна: На новоселье принято дарить подарки, и я не сомневаюсь, что вам их много уже подарили – больших и дорогих. Примите же и мой маленький скромный подарок – не из магазина, а из самого моего сердца.
Анна играет и поет:
Вернулся я на родину, Шумят березки стройные. Я много лет без отпуска Служил в чужом краю. И вот иду, как в юности, Я улицей Заречною И нашей тихой улицы Совсем не узнаю.Анна играет и поет. Гости слушают внимательно, хотя и не без смущения – уж больно неожиданный репертуарчик. Но поет Анна здорово – искренне, чисто, красиво. На глазах олигарха – слезы.
10. Поселок Большие Сосны. Вечер
– Совсем, совсем не узнаю! – восклицает в сердцах олигарх, стоя на балконе своего дома и глядя сверху вниз на родной поселок. Рядом Анна и Сурепкин.
Олигарх: Здесь были маленькие деревянные домики. Здесь, здесь, здесь…
На месте маленьких деревянных стоят огромные каменные домищи.
Олигарх: Домик, садик, огородик… И этот… Ну… этот…
Олигарх не решается произнести грубое слово, и Анна приходит на помощь:
– Сортир?
Олигарх смущенно кивает и взволнованно продолжает:
– Летом я забирался на крышу дома и загорал. У меня был маленький магнитофон «Весна» и кассеты с вашими песнями. Кушал вишни и слушал…
– Счастливое детство, – с пониманием произносит Сурепкин.
– Да, счастливое, очень счастливое, – радостно подхватывает олигарх и тут же грустнеет. – А теперь так все переменилось. Я приехал и не знаю, с чего начать.
– Начните с шоу-бизнеса, – осторожно подсказывает Сурепкин. – А также кино… Российское кино сейчас на подъеме.
Но олигарх не слышит лукавой подсказки, а, глядя вдаль, растерянно повторяет:
– Все изменилось, все…
– А вот и не все! – радостно восклицает Анна. – Смотрите: домик, садик, огородик…
– И сортир, – добавляет Сурепкин.
Среди дворцов каким-то чудом уцелела хижина.
Но олигарх не удивляется, а грустно улыбается:
– Последний остался…
– Как это он умудрился, – недоумевает Сурепкин. – Здесь же земля золотая.
– Золотая, – со вздохом соглашается олигарх. – Дороже, чем на Манхэттене…
Сурепкин: И хозяин до сих пор не продал свой участок?
Олигарх: И не продаст. Такой человек.
Анна: Что, такой жадный?
Олигарх: Нет, не жадный… Как сказать… Тяжелый…
Анна: В каком смысле?
Олигарх: Рука тяжелая… И нога… Бил меня в детстве… По шее, по спине и… ниже спины…
– За что? – удивляется Анна, но олигарх ответить не успевает, так как на балкон выбегают, словно расшалившиеся дети, Илья и хорошенькая школьница в бриллиантах.
– Ах вот вы где! – звонко восклицает она. – Наконец мы вас нашли! Папа, познакомь же меня с Анной Сапфировой!
Олигарх смущенно улыбается и представляет девочку:
– Моя жена.
Растерянность на лице Анна мгновенна, и она представляет Илью:
– Мой муж.
Теперь растерян олигарх.
Девочка указывает пальцем на уже знакомый нам домишко с садом, огородом и сортиром и коротко оценивает:
– Жесть!
Анна и олигарх смотрят друг на друга, не понимая.
– Жесть значит круто, – приходит на помощь Илья.
– А круто значит хорошо, – переводит с русского на русский Анна.
– Это надо запомнить, – говорит олигарх, вновь впадая в задумчивость.
11. Перед домом олигарха. Вечер.
Праздничная поляна заполнена людьми. На эстраде играет джаз. Столы с угощениями, снующие официанты. Гости танцуют, пьют, беседуют. Анна сидит в белом кресле, в руке стакан с соком. Сурепкин пьет, Илья ест.
– Еще будет салют! – радостно сообщает Илья.
– Как же без салюта, без этого они не могут – победители, – разводит руками Сурепкин и опрокидывает в себя рюмку водки.
К ним подбегает стройный, безупречно одетый молодой человек. Это и есть Толстой – пиар-директор Анны. Он целует ее ручку, приятельски здоровается с Ильей и вопросительно смотрит на Сурепкина. Сурепкин поднимает руку и трет пальцем о палец, требуя выигранные деньги. Толстой кисло улыбается.
– Да я бы раньше вас успел, если бы не ГАИ. Выпил утром бутылку квасу, а в нем, оказывается, есть алкоголь. Два часа мурыжили, на двести баксов развели…
– Кто же с утра пьет квас? – иронично спрашивает Анна.
– Толстой! – рапортует Сурепкин.
Толстой улыбается в надежде, что прощен, но Сурепкин вновь трет пальцем о палец. Толстой вынимает из нагрудного кармана заготовленный стольник и с кислым видом протягивает Сурепкину. Тот деловито прячет его в бумажник и деловито же обращается:
– Выпьем с горя?
– А обратно кто вас повезет? – огрызается Толстой.
Стоящие рядом Сурепкин и Толстой совершенно разные: возрастом, весом, статью, мастью, характером, но в глубине глаз обоих можно разглядеть присущую всем жуликам постоянную озабоченность.
– Это правда, что Анна Ивановна при всех поставила на колени Хомутова? – как бы между прочим интересуется Толстой.
Сурепкин опрокидывает в себя рюмку и кивает.
– Он назвал маму незабвенной, – докладывает Илья.
– Ну и что? – пожимает плечами Сурепкин. – Хорошее слово…
– Это хорошее слово, господин Сурепкин, произносят на похоронах, – с сарказмом в голосе говорит Анна.
– В ближайший год на телевидении мы не появимся, – меланхолично произносит Толстой.
– Но есть же разные каналы, – напоминает Илья.
– Ворон ворону глаз не выклюет, – с иронией в голосе произносит пьянеющий на глазах Сурепкин и обращается к Толстому с вопросом: – А вот скажи мне, Толстой, олигарх и олигофрен – слова одного корня?
Толстой пожимает плечами:
– Надо справиться у Даля.
В этот момент к Анне сзади скрытно подходит женщина, делая мужчинам знаки, чтобы они ее не выдавали. Женщина крупная, нескладная, смешная. Появление ее в глазах мужчин никакого энтузиазма не вызывает, скорее наоборот – они переглядываются, кисло улыбаясь, но все же ее не выдают. Женщина сжимает ладонями голову Анны. Та, однако, недолго думает.
– Пашка Лебедкина, – угадывает Анна, причем в голосе слышится теплота.
Это – Паша Лебедкина, старинная подруга Анны, хотя и вдвое ее моложе. Хозяйка салона «Русские шторы».
– Узнала! Ха-ха-ха! – весело смеется она. – Опять узнала! Ну скажи, как ты узнала?
– Кто же, кроме тебя, на такую глупость решится? – отвечает Анна, поправляя прическу, и спрашивает удивленно: – А что это ты тут делаешь?
– Клиентов ловлю! – жизнерадостно отвечает Паша.
Мужчины прыскают смехом.
– Что подумали, дураки? – укоряет их Паша и вновь обращается к Анне: – Тебе, Нюся, хорошо, ты красивая и знаменитая, а тут… – Грустит Паша всего одно мгновение. – Слушай, а ты видела его жену?
– Видела.
– Нет, я понимаю, для чего нужен женщине молодой муж, но зачем мужику девочка – не понимаю! – громко восклицает Паша.
– Для того же самого, – многозначительно произносит Сурепкин.
– Потише, – морщится Толстой.
К ним направляется улыбающийся господин с пакетом в руке. Подойдя к Анне, он наклоняется и подобострастно шепчет, протягивая пакет:
– Анна Ивановна, Давид Давидович просил вам это передать в качестве гонорара за исполнение музыкального произведения.
Анна удивленно вскидывает брови, глядя на пакет:
– Что там?
– Деньги. Доллары. Сто тысяч.
Анна капризно морщится.
– Я разлюбила доллары и полюбила евро…
– Мы можем их поменять.
– Я о другом. То был подарок, а разве можно брать за подарок деньги?
Господин недолго обдумывает услышанное.
– Я передам ваши слова Давиду Давидовичу.
– Передайте, – говорит Анна, великодушно улыбаясь.
Господин ретируется.
– Ну, мама… – восторгается Анною Илья.
– Это что-то с чем-то! – восклицает Паша. – Отказаться от ста тысяч…
Сурепкин безнадежно машет рукой и снова выпивает.
– Гениальный пиаровский ход! – восторгается Толстой. – Жаль, что фотографов поблизости не было. Ну, ничего, смонтируем! Гениально, Анна Ивановна!..
– Как же вы мне надоели, – морщится Анна, встает и уходит.
Следом спешит Паша.
Илья направляется за ними, но, понимая, что в женской компании он нежелателен, останавливается.
Сурепкин и Толстой смотрят на уходящих.
– Чудит старуха, – задумчиво произносит Толстой.
– Вторую неделю не спит, – сообщает Сурепкин.
– Как бы ласты не склеила…
– Не дай бог! – восклицает Сурепкин. – Набегут наследнички – затаскают по судам. – Его так пугает эта перспектива, что он поднимает руку, чтобы перекреститься, но увидев проходящего официанта с напитками, машет ему, подзывая.
12. Там же. Тогда же
Анна и Паша неторопливо идут через праздничную поляну, сдержанно отвечая на приветствия.
– Глянь, глянь, – говорит Паша, указывая взглядом на длиннющую красавицу-блондинку. – Узнаешь?
– Нет.
– Баранова, жена Козлова.
– Не может быть… – удивляется Анна. – Она же была маленькая и толстенькая.
– Была. Пятнадцать пластических операций плюс увеличение роста на пятнадцать сантиметров. Ломают ноги и вытягивают. Какой-то миллион долларов – и совсем другой человек.
– Да-а… – Привыкшая не удивляться, Анна даже оглядывается.
– А Козел на нее посмотрел и дал деру. Сказал: «Я любил толстенькую и родную, а ты длинная и чужая…» Она ведь и фамилию сменила. Теперь она Кэтрин Барски… А это Мыльникова… Теперь Божена Мынска… Нет, это что-то с чем-то… Нинка Мыльница, вчерашняя бэ – миллиардерша…Умереть – не встать!
– Завидуешь? – насмешливо спрашивает Анна.
– Я? Никогда! Просто обидно! Бьешься тут как рыба об лед, а эти…
– А как твои «Русские шторы»?
– Горят синим пламенем. Я же говорю – ловлю клиентов… Только бесполезно это. Чтобы таких клиентов иметь, надо быть всегда с ними рядом. Рядом с большими людьми… Слушай, Нюсь, давай я тебе шторы поменяю! – мгновенно воодушевляясь, предлагает Паша.
– Ты мне их уже пять раз меняла.
Воодушевление тут же сменяется унынием.
– Ткань красивая есть, – говорит уже безо всякой надежды Паша и прибавляет с мечтательным вздохом: – Эх, купить бы здесь домик, уж я бы тогда развернулась!
– Здесь земля золотая, дороже чем на Манхэттене, – напоминает Анна.
Паша не слышит, глаза ее мечтательно блестят. Анна смотрит на нее, снисходительно улыбаясь:
– Дура ты, Пашка. Как была дура, которая приехала из деревни и завалилась в мой дом со своим дурацким платьем, так дура и осталась…
– Есть тут один домишко – последний непроданный… – В Пашиных глазах горит огонь желания.
– У тебя есть такие деньги? – удивляется Анна.
– Денег нет, есть спонсор.
– Наконец-то, поздравляю!
Паша отмахивается:
– А, щиплется только.
Анна морщится, как будто ее ущипнули.
– Больно?
– Терпимо. То ли депутат, то ли делегат, не запомню никак. Его по телевизору чаще, чем тебя, показывают. Говорит, давай тебе домик куплю, буду приезжать…
– Щипаться?
– Жалко, что ли? Я уже ходила, да хозяин такой гад оказался… Разговаривать даже не стал. Да и кто я для него?
Паша неожиданно останавливается, берет Анну за руки и произносит с чувством:
– Слушай, Нюся, только ты можешь меня спасти!
До Анны не сразу доходит смысл просьбы подруги. На них обращают внимание.
– Хочешь, я на колени перед тобой встану!?
– Пошли, а то неизвестно, что подумают, – говорит Анна и идет дальше.
– Мне он отказал, а тебе не посмеет! Ты – Анна Сапфирова! – продолжает уговаривать Паша.
– Давненько я мордою своей не торговала, – подумав, произносит с усмешкой Анна.
13. Там же. Тогда же
– Стой! – Паша останавливает официанта с напитками. – Давай сперва выпьем! За удачу, на посошок! И за тебя! – Она выливает в один стакан три рюмки водки.
Анна пить не собирается.
– Помнишь, был такой артист Суровцев? – спрашивает она.
– Ну конечно…
– Он говорил: «В России пить нельзя – сопьешься».
– Да? А кстати, куда он делся?
– Спился. Он был невыездной, – Анна улыбается, вспоминая. – До мозга костей был артист. Маму родную мог продать за горсточку аплодисментов.
– И его заодно помянем, – говорит Паша и выливает в стакан четвертую рюмку.
14. Поселок Большие Сосны. Тогда же
Анна и Паша идут по дороге, огражденной с обеих сторон высоченным забором. Из-за каждых железных ворот раздается глухое рычание и лай. Женщины в ужасе отбегают и хохочут.
15. Поселок Большие сосны. Тогда же
А здесь нет никакого каменного забора, а всего лишь покосившаяся деревянная оградка и калитка. Это тот самый домишко, который Анна видела сверху.
– Ой, что-то мне нехорошо, – морщится Паша. – Знаешь что, может, ты пойдешь одна, а я тебя здесь на лавочке подожду?
– Конечно одна. Ты бы все испортила, – спокойно говорит Анна.
– По-моему, он вообще колдун! – сообщает вдруг Паша.
Анне надоела пьяненькая подруга, и она без колебаний входит в чужой двор.
16. Двор дома. Тогда же
Перед стареньким обшарпанным домишком лежит выкрашенный серебрянкой здоровенный корабельный якорь. Рядом в вырытой ямке стоит куст калины, приготовленный к посадке. К стене прислонился велосипед. Тут же пустая собачья будка. На земле лежат цепь и расстегнутый ошейник.
– Есть кто дома? – спрашивает Анна, но никто не отзывается.
Анна стучит в дверь дома и, не получив ответа, входит.
17. Дом. Тогда же
Здесь застыла советская жизнь во всем ее очаровательном убожестве: кровать-диван, круглый стол, шкаф, часы на стене, сервант с дешевой посудой.
– Есть кто дома? – повторяет Анна вопрос и вновь не получает ответа.
В углу стоит неожиданное здесь старинное пианино с инкрустацией.
Анна подходит к нему, разглядывает, поднимает крышку. В руке ее маленькая сумочка, и, чтобы не мешала, она кладет ее на инструмент и нажимает на клавиши.
Тут же дверь распахивается, и в проеме появляется крупная мужская фигура. Анна вздрагивает от неожиданности.
– Здравствуйте, – говорит она, но мужчина не отвечает, уходит.
– Постойте, куда же вы? – торопится Анна следом, забыв свою сумочку на пианино.
18. Двор дома. Тогда же
Мужчина исчез. Анна растерянно ходит по двору, ничего не понимая, и неожиданно слышит сверху мужской насмешливый голос.
– Ну и что вы здесь, женщина, делаете?
– Я?
Анна поднимает голову и видит сидящего в бывшей голубятне в окружении кур мужика в светлых штанах и тельняшке. Рукава ее закатаны по локоть, и руки орудуют в ведре, наполненном чем-то очень неприятным на вид и запах.
– Здравствуйте, – говорит Анна, приветливо улыбаясь.
Увлеченный своим занятием, мужчина не отвечает.
– Мне кажется, я где-то вас видела… – искренне говорит она.
– Я вас тоже, – ухмыляется мужчина. – Как теперь говорят – прикид. Никто не хочет самим собой быть. Все кем-нибудь прикидываются. Я в Москве возле Мавзолея живого Ленина видел, со Сталиным беседовал, а Гитлер мне свое удостоверение предъявил: «Гитлер Адольф Алоизович». Подпись, печать, все как положено. – Мужчина замолкает, то ли не желая дальше рассказывать эту историю, то ли о ней забыв, сосредоточенно продолжает свое занятие.
– А что было дальше? – напоминает о себе Анна, изображая живой интерес.
– А дальше он от меня с расквашенной мордой наискосок через Красную площадь бежал, – неохотно отвечает мужчина и уже совсем неохотно прибавляет: – А за мной – милиция… Под Гитлера решил, гад, закосить. А вы, значит, – под Анну Сапфирову?
Анна улыбается.
– А может, я и есть Анна Сапфирова?
Мужчина хмыкает.
– Тоже удостоверение покажете? Идите откуда пришли. Идите, женщина, идите.
Не привыкшая отступать, Анна уходить не думает и переводит разговор в другое русло.
– А что это вы там делаете? – спрашивает она максимально благожелательно.
– Говно мешаю, – охотно отвечает мужчина.
Анна брезгливо морщится, но продолжает разговор.
– Зачем?
– Зачем? – задумывается мужчина и тут же находит ответ: – А чтоб вам на голову вылить! – и смеется, довольный собой.
– Что вы себе позволяете?! – возмущенно восклицает Анна.
– А что я себе позволяю? Думаешь, не знаю, зачем пришла? Каждый день приходят. А вот на голову одной такой ведро говна вылью, сразу перестанете ходить!
– Мне? – не верит Анна.
– А больше тут нет никого, – отвечает мужчина.
– Вы – хам, – возмущается Анна. – Кабан! Забрался на крышу и гадит на людей сверху.
На «кабана» мужчина обижается. Он поднимается с ведром в руке, угрожающе им размахивая.
– А вот возьму сейчас и вылью!
Неизвестно, чем эта перебранка закончилась бы, если бы сзади не раздался зычный мужской голос.
– Эй вы там, наверху!
Анна оглядывается. К ним торопятся грузный усатый милиционер и взволнованная протрезвевшая Паша.
– Майор Пасюк, местный участковый, – докладывает Анне милиционер, – а это – Мурашкин, моя головная боль. Последний остался здесь пережиток прошлого. Слезай, Кузьмич, я тебя с самой Анной Сапфировой познакомлю.
– Кузьмич? – удивленно произносит Анна.
– Анна Сапфирова? – все еще не верит мужчина.
Повисает тишина, неожиданно разрываемая гулким пушечным выстрелом. Над домом олигарха в воздух взлетают ракеты салюта, а над домом Мурашкина – куры и петух, сталкивая в пропасть растерявшегося хозяина. Полное куриного помета ведро летит вместе с ним.
– Полу-у-ндра! – предупреждающе кричит Кузьмич.
19. Спортивный зал. День
Большой спортивный зал украшен воздушными шарами, гирляндами, портретами Анны Сапфировой. В зале большие круглые столы, за которыми сидят радостные, возбужденные Анны Сапфировы. Конечно, если присмотреться, то не все похожи на нее точь-в-точь, а некоторые так вовсе едва-едва, но основные параметры соблюдены: у всех рыжий парик, броское платье, ярко накрашенные губы, и при первом взгляде на такое количество наспех клонированных звезд берет оторопь.
На специально устроенной сцене, над которой огромными буквами написано: «Анна, мы тебя любим!», стоит Толстой с микрофоном и, приплясывая, кричит:
– Тула!
– Есть! – отвечает из зала тульская Анна Сапфирова.
– Калуга!
– Здесь!
– Кострома!
– Я!
И после каждого такого отклика следуют радостные возбужденные аплодисменты.
За импровизированной кулисой стоит Сурепкин и тычет пальцем в свои часы. Толстой пожимает плечами. Сурепкин прикладывает палец к своему виску, показывая, что он готов застрелиться. Толстой изображает свободной рукой на своей шее петлю и тут же кричит в зал:
– Урюпинск!
– Мы!!! – откликаются сразу три урюпинские Анны Сапфировы.
20. Раздевалка при спортивном зале. Тогда же
Раздевалка приспособлена под грим-уборную. Анна сидит у большого зеркала и подбирает помаду. В углу рыдает гримерша. В дверь заглядывают испуганные физиономии и тут же исчезают. Анна очень раздражена. Всюду валяются патрончики губной помады. Звонит мобильный. Анна берет трубку, там голос Паши.
– Нюся, как ты?
– Отлично, – усмехается Анна, – от меня за версту разит куриным дерьмом.
– А ты видела? Ты видела, мы все были в говне, а на нем ни капельки. Он колдун, я же говорю – он колдун!
– Слушай, Паш, – перебивает подругу Анна. – Я не оставляла у тебя мою помаду?
– Какую помаду?
– Счастливую…
– Счастливую?!
– Я ее так назвала… Была в какой-то стране и привезла десяток. Не могу без нее… А мне тут подсовывают чёрт-те что…
– Она ничем не отличается-а-а! – сквозь рыдание выкрикивает гримерша.
– А в какой стране ты ее купила? – очень заинтересованно спрашивает Паша.
– Она ничем не отличается-а-а! – продолжает вопить гримерша.
– Заткнись, дура, – цедит сквозь зубы Анна.
– Это ты мне? – спрашивает Паша.
– И тебе тоже, – отвечает Анна и дает отбой.
От дверей доносится какой-то шум, там совершается прорыв, и в раздевалке появляются три женщины в черном. Они разного возраста: старшей, видимо, шестьдесят, средней примерно сорок и младшей не больше двадцати. Последняя держит в руках запечатанную гипсовую урну, в каких хранят прах покойника. Они подбегают и останавливаются в паре метров, словно уткнувшись в невидимую стену.
– Вы… кто? – удивленно спрашивает Анна.
– Мы – вдовы! – гордо отвечает старшая.
– Я вижу, – кивает Анна, глядя с сочувствием. – Что, где-нибудь разбился самолет?
– Умер муж, – сообщает старшая.
– Чей муж? – не понимает Анна.
– Мой муж! – старшая.
– И мой! – средняя.
– И мой! – младшая.
– Наш муж, – говорят вдовы хором, и вновь солирует старшая:
– И ваш тоже.
– Мой? – не понимает Анна.
– Исидор Козюхевич! – с горделивой интонацией называет старшая вдова имя общего покойного мужа.
– Ах, этот, – морщится Анна, вспоминая.
Младшая: Вы были его первой женой, и он вспоминал вас даже перед смертью!
Средняя: А вы не были на похоронах.
Старшая: И даже на поминках. Но мы надеемся, что вы вместе с нами исполните последнюю волю нашего покойного супруга.
– В чем же она заключается? – осторожно интересуется Анна.
Старшая: Исидор завещал всем своим бывшим женам развеять его прах в акватории одесского порта, где он начинал жизненный путь.
Анна усмехается:
– Куда что делось, а чувство юмора у Исидора осталось. – Она указывает взглядом на урну. – А это, значит, он?
– Он. – Старшая всхлипывает, средняя сдерживает рыдания, младшая пускает слезу.
– Мы взяли его с собой, чтобы, глядя ему в глаза, вы не смогли отказать, – говорит она.
– Легко, – говорит вдруг Анна, глядя на урну с прахом своего бывшего мужа, и тут же переводит взгляд на женщин. – Какая я ему была жена… А уж вдова и вовсе никакая… Нет, девочки, насчет праха я – не в доле. Извините, мне некогда…
Анна поворачивается к зеркалу. Охрана оттесняет вдов, но вдруг Анна их останавливает:
– Стойте? Что у вас за помада?
Каждая из женщин думает, что вопрос обращен именно к ней, и начинает что-то объяснять, отчего тут же возникает гвалт.
– Да у вас, у вас, – указывает Анна на молодую.
– У меня? – радуется молодая. – Специальная серия «Прощай-прости» – на смерть мужа или любовника. Видите, здесь по краям траурная кайма, но цвет в целом радостный.
– Дайте-ка, – просит Анна.
Молодая торопливо передает урну старшей, но та ее не берет, считая, видимо, что это должна сделать средняя, и от этой неразберихи чуть не случается непоправимое. Урна падает, но у самого пола вдовы успевают ее подхватить.
– Блин, чуть не грохнулся. – Молодая вытирает со лба пот, вынимает из сумочки помаду.
– Говорите, «Прощай-прости»? – с сомнением спрашивает Анна.
Молодая кивает.
– У вас герпеса нет?
– Сроду не было. Да вы не думайте, я за время траура еще ни разу ни с кем не целовалась.
Вдовы, включая Анну, с уважением смотрят на молодую.
21. Спортивный зал. Тогда же
– Анна! Анна! Анна! – дружно скандирует зал.
И Анна выбегает на сцену.
Аплодисменты, шум, визг, свист.
– Здравствуйте, любимые! – кричит Анна в микрофон.
Аплодисменты, шум и визг делаются сильнее.
Анна успокаивает их движением рук и, всматриваясь в зал, продолжает:
– Вас так много, и вы так прекрасны, Анны Сапфировы, что может быть, я здесь лишняя?
– Не-ет! – радостно не соглашается зал.
– Ну, хорошо, с чего начнем? – Анна смотрит на Толстого.
– Анна Ивановна, ваши горячие поклонницы и поклонники собрались здесь, чтобы накануне вашего мегагала-тура «По России с любовью» пообщаться с вами, задать вопросы, поговорить…
– Вопросы? Пожалуйста! – охотно предлагает Анна.
Вверх тянутся руки и таблички с названием городов.
– Говорят, что вы будете сниматься в исторической ленте «Императрица Анна Иоанновна». А в какой роли? – интересуется маленькая и худенькая копия Анны.
– Разумеется, в роли императрицы, – с улыбкой отвечает Анна.
Аплодисменты.
– Это правда, что вы на новоселье олигарха отказались от гонорара в миллион долларов? – спрашивает толстая копия Анны.
– Миллион? Кто вам сказал?
Анна смотрит на Толстого. Тот смущенно опускает голову. Анна качает головой. Смех.
– Не миллион, поменьше, но – отказала… – говорит Анна.
Аплодисменты.
Следующий вопрос задает еще один двойник Анны, немолодая женщина. Голос пожилой, но задорный.
– Анна Ивановна, вы так много работаете, играете, выступаете, выступаете, выступаете… Скажите, откуда вы берете столько сил?
Анна улыбается.
– У меня молодой муж!
На этих словах из-за кулис выбегает Илья. Он в спортивном костюме олимпийской сборной России. В зале визг и свист, даже больший, чем при появлении Анны.
– Чемпион Вселенной по бодибилдингу Илья Муромский! – кричит в микрофон Толстой.
Илья расстегивает молнию, сбрасывает куртку и демонстрирует свои умопомрачительные бицепсы.
В зале вопль и вой.
Илья делает вид, что хочет снять штаны, и от этого одной из лже-Анн становится плохо, она теряет сознание, и ее выносят.
– Ну что ты наделал? – укоризненно спрашивает Илью Анна.
– Я не хотел, – оправдывается он.
– Представляю, что было бы, если бы ты хотел! – говорит Анна и подмигивает в зал.
Эти слова вызывают в зале не коллективный восторг, а почти коллективный оргазм.
– Мне уйти?! – спрашивает Анна, но неистовство продолжается.
– Мне уйти?!
Ответа нет, но становится тише.
– Уйти? – в третий раз кокетливо спрашивает Анна и неожиданно отчетливо слышит в ответ крик:
– Уйдите!
22. Там же. Тогда же
В зале тихо. У стены стоят строгого вида юноша и девушка в очках.
– Вы же умная, вы же понимаете, что должны уйти?! – кричит девушка, обращаясь к Анне. – Неужели вас, Анну Сапфирову, не унижают дутые скандалы в желтой прессе, фиктивный брак с этим резиновым мальчиком и такие вот сборища проплаченных придурков? Вы думаете, от вас сходят с ума и падают в обморок? Да вы выйдите на улицу – на вас никто не обратит внимания! Уйдите, Анна Сапфирова, сами уйдите!
В глазах Анны растерянность. Толстой, Сурепкин и Илья растеряны тоже.
Девушка замолкает, и в зале повисает мертвая тишина.
– Она на маму… Да я за маму… – шепчет Илья и бросается в зал, но, видимо, от чрезмерного волнения втыкается в стол и летит, сметая все на своем пути.
Строгий юноша меж тем готов защищать строгую девушку. Завязывается потасовка, бежит охрана, появляется милиция.
23. Раздевалка. Тогда же
Анна сидит у зеркала, внимательно на себя смотрит, стирая с губ помаду. За ее спиной стоят Толстой и Сурепкин в позе бойцовых петухов и, подталкивая друг дружку то плечом, то грудью, то животом, выясняют отношения.
Сурепкин: Развелось Толстых, как собак нерезаных!
Толстой: Сорную траву – с поля вон!
Сурепкин: Ты?!
Толстой: Я.
Сурепкин: Ты?!
Толстой: Я.
Сурепкин: Ты ее пригласил?
Толстой: Я?
Сурепкин: Не я же.
Толстой: Да я ее знать не знаю. Экстремистка какая-то…
Сурепкин: Не-ет, это уже не экстремизм, это заговор. И я знаю, на кого ты работаешь!
Толстой: Ну и на кого?
Сурепкин: На Тюкину!
Толстой: Это ты работаешь на Тюкину!
Сурепкин: Я работаю на Анну Сапфирову! И только.
Толстой: И я работаю на Анну Сапфирову. И тоже только.
Сурепкин: А хочешь, я тебя сейчас… застрелю?!
Толстой: А хочешь, я тебя сейчас… повешу?!
Сурепкин и Толстой наконец хватают друг дружку за грудки, но между ними вырастает Анна.
– Кончайте, нанайские мальчики, – говорит она устало и идет к двери.
– Анна Ивановна, вы куда? – волнуются Толстой и Сурепкин. – Куда вы?
– Я ухожу, – уверенно и спокойно отвечает Анна.
24. Тверской бульвар. Вечер
Анна выходит из машины и спускается на бульвар и идет так, как и должна идти по бульвару звезда, не скрывая, что она звезда, скорее наоборот. И совсем недолго остается незамеченной. Ее узнают какие-то девочки и мальчики, а следом и взрослые, узнают и окружают, прося автограф и фотографируясь вместе. Наконец Анне это надоедает, она прорывается к дороге и останавливает машину. Водитель тоже ее узнает, разевает рот и въезжает в идущую впереди легковушку. Оттуда выскакивает мужик и начинает орать, но, увидев Анну и узнав, замолкает, тоже разинув рот. Анна смотрит на себя в зеркало и шепчет.
– Узнали! Даже без помады узнали!
25. Поселок Большие Сосны. Вечер
Анна входит во двор. Тихо и пустынно. Перед домом – свежепосаженный куст калины. Земля вокруг него полита разведенным куриным пометом. Анна морщится. Она стучит в дверь дома и, не дожидаясь ответа, входит.
26. Дом Мурашкиных
Анна торопливо подходит к пианино. Сумочка лежит там, где она ее забыла. Анна открывает ее, вынимает помаду, ищет взглядом зеркало и находит – большое, тусклое, в дверце шифоньера. Вглядываясь в свое отражение, Анна красит губы и вдруг замечает стоящую в двери неподвижную фигуру. Это юноша или, скорее, подросток в узком пиджаке и коротковатых брюках. На лице черные очки, отчего вся его фигура немного напоминает стиляг-шестидесятников. Он вызывает у нее довольную усмешку – так окаменевают те, кто неожиданно видит ее перед собой. Но пауза затягивается, а юноша по-прежнему стоит неподвижно.
– Вы… кто? – спрашивает вдруг он.
Недовольная тем, что юноша ее не узнал, Анна хмыкает.
– Странная манера обращаться к старшим по возрасту. Я, кажется, догадываюсь, кто вас так воспитал, – говорит она недовольно.
– Извините, – торопливо говорит юноша. – Просто… здесь разные люди ходят… Отец просил быть внимательным. Меня Олег зовут. А вы случайно не знаете, где мой отец? Он всегда меня встречает, когда я из интерната приезжаю, а сегодня почему-то не встретил.
– Ты учишься в интернате?
– Да… Это музыкальный интернат…
– Хочешь быть музыкантом?
– Мечтаю.
– Какую же музыку ты любишь?
– Джаз. Я люблю джаз. А наша директриса не любит и не разрешает мне джазом заниматься… – Олег хочет еще рассказывать, но Анна не хочет больше слушать.
Вежливо улыбаясь, она подходит к двери, но юноша не сходит с места, словно не желая этого замечать.
– А вы любите смотреть закаты? – задает вдруг юноша совершенно неожиданный вопрос.
– В каком смысле – смотреть закаты? – недоумевает она. – Не понимаю…
Юноша смеется.
– Никто не понимает! Сейчас все смотрят сериалы по телевизору, а мы с отцом на крыше – закаты!
– Да вы, я гляжу, романтики, – Анна не скрывает иронии, а юноша возбужденно продолжает:
– Правда я рассветы больше люблю, но у отца ревматизм…
Анна усмехается.
– Да уж, романтизм и ревматизм вещи несовместные.
Но и в иронии своей слушательницы юноша неожиданно находит поддержку.
– Отец у меня – старший матрос, на всех морях и океанах побывал, но нигде таких красивых рассветов и закатов не видел! Не верите? А вы оставайтесь. Отец придет, и мы втроем полезем на крышу закат смотреть!
– Нет уж, спасибо, – пряча усмешку, отказывается Анна.
– Вы только не сказали, как вас зовут!
– Это уже не важно, – говорит Анна и делает к двери шаг, чуть не вплотную приблизившись к неподвижно стоящему юноше.
– Да пустите же! – возмущается Анна.
Юноша испуганно отшатывается, где-то что-то падает, но Анна не обращает на это внимание.
– Привет Кузьмичу! – насмешливо бросает она на ходу.
27. Поселок Большие Сосны. Тогда же
Анна направляется к знакомой машине, у которой передний бампер привязан мужскими подтяжками. Водитель услужливо открывает перед ней дверь. В этот момент к остановке подъезжает автобус и из него осторожно выходит Кузьмич. Он на костылях, нога в гипсе. Анна смотрит на него удивленно и растерянно.
– Ах ты, чёрт, – сердится она на себя и, чуть помедлив, садится в машину.
28. Костюмерная «Мосфильма». День
Анна – в парадном костюме и гриме императрицы Анны Иоанновны. Смотрит на себя в зеркало.
Костюмеры и гримеры умиленно улыбаются.
Стремительно входит режиссер. Он немолод, с дымящейся трубкой.
– Ты – это она! – говорит режиссер, указывая на большой портрет императрицы Анны Иоанновны на стене.
Та в три раза толще нашей Анны. В глазах Анны Сапфировой сомнение.
– А тебе не кажется, что она была покрупней меня?
Режиссер отмахивается:
– Пустяки! Тогда была мода на полноту, и придворные художники выдавали желаемое за действительное. Правда жизни не есть правда искусства. Это твоя, понимаешь, твоя роль!
– А говорят, ты на нее пробовал Тюкину.
– Кто тебе сказал эту чушь? – возмущенно восклицает режиссер. – Да я с Тюкиной на одном гектаре не сяду!
Он садится в кресло и сердито пыхтит трубкой.
Похоже, Анне нравится быть императрицей.
– Я слышала, что сейчас снимаются два фильма про Петра Первого и три про Ивана Грозного. Что, какая-то мода на царей? – интересуется она, оглядывая себя со всех сторон.
– Не мода, Анечка, а политика, большая политика, – немного снисходительно отвечает режиссер.
– Политика? – искренне не понимает Анна.
– Наш народ оказался не готов к демократии, и его снова приучают к старой доброй идее самодержавия. Царь батюшка – просто и ясно.
– Неужели опять будут цари? – недоумевает Анна.
Режиссер кивает:
– Только по-другому будут называться.
– А вот был один царь, который добровольно оставил трон и остаток своей жизни прожил как простой человек, – сообщает она с улыбкой.
– Федор Кузьмич? Это легенда… Я, Анечка, поражаюсь твоей наивности. Ну кто это и когда добровольно оставлял трон? Вот ты – царица русской сцены. Ты сама ее покинешь?
– Нет! – без раздумий отвечает Анна и прибавляет решительно: – Я умру на сцене. Я знаю это точно.
– И я знаю, что мое последнее слово в этой жизни будет «Мотор!»… – говорит режиссер и хмурится. – Но не будем раньше времени о неприятном. Ты лучше скажи, где мне взять старух-фрейлин. В нашем актерском цехе их не осталось. Все натянулись так, что грим не держится.
Он смотрит на Анну вопросительно. Ей не нравится эта тема.
– А ты возьми мужчин, – неожиданно предлагает она.
Режиссер громко хохочет.
– Как в театре кабуки? Это мысль!
Анна усмехается.
– В определенном возрасте вас и гримировать не надо, только в платье одеть.
– Ты имеешь в виду кого-то конкретно? – хмурится режиссер.
– Возьми хотя бы Бриля, я играю с ним в «Чайке».
– Очень благородная протекция со стороны бывшей супруги, – с легкой усмешкой произносит режиссер.
– Вылитая старушка! – подкрепляет свою идею Анна.
– Да, не любишь же ты нашего брата, – задумчиво произносит режиссер. – Интересно, с каким чувством ты произносишь монолог Аркадиной на коленях?
– С чувством глубокого отвращения, – не задумываясь, отвечает Анна и вдруг вспоминает: – Чёрт! У меня же сегодня спектакль! Ну что стоите? – сердито обращается она к костюмерам. – Снимайте с меня эти фальшивые брюлики!
29. Театр. Вечер
Анна – Аркадина стоит на коленях перед Брилем – Тригориным. И в самом деле, партнер выглядит неважно.
Анна-Аркадина: Мой прекрасный, дивный… Ты страница моей жизни! Моя радость, моя гордость, мое блаженство! (Обнимает колени.)
Тригорин морщится от боли, шепчет:
– Не так сильно, ты же знаешь у меня артроз!
Анна-Аркадина (сжимая еще сильней): Если ты покинешь меня хоть на один час, то я не переживу, сойду с ума, мой изумительный, великолепный, мой повелитель…
30. Там же
Занавес. Поклоны, аплодисменты.
Тригорин с удовольствием кланяется.
Анна (насмешливо стоящей рядом актрисе): Наша бабушка сегодня в ударе.
31. Грим-уборная в театре
Собираясь уходить, Анна красит губы той самой «счастливой» помадой. Глаза ее закрываются от усталости.
– Боже, как я хочу спать, – произносит она.
Глянув на помаду, которой осталось совсем немного, Анна закрывает тюбик и бросает в урну.
32. Квартира Анны на Остоженке. Ночь
Глаза Анны закрыты, и она все делает, как во сне, повторяя время от времени:
– Спать.
Пьет кефир в кухне.
– Спать.
Идет в ванну.
– Спать…
Выходит в ночной рубашке.
– Спать…
Ложится в постель.
– Спать…
И тут же глаза открываются – в них нет ни капли сна.
33. Спальня в квартире Анны
На тумбочке – рассыпанные таблетки снотворного.
Анна лежит без сна посреди кровати под балдахином на спине и смотрит неподвижно вверх. За окном рассвет. Анна встает, надевает очки, смотрит в телефонную книгу, набирает номер.
– Алло, – звучит сонный раздраженный женский голос.
– Это туристическое агентство?
– Вы с ума сошли! Пять часов утра!
– Это Анна Сапфирова. Извините, что разбудила, но, давая мне этот телефон, вы сказали, что я могу звонить в любое время.
– Слушаю вас, Анна Ивановна!
– Я хотела бы отдохнуть недельку в каком-нибудь раю, только чтобы там совсем не было русских.
– Когда?
– Сегодня, а лучше прямо сейчас.
34. Салон самолета. День
Анна в бизнес-классе. Пассажиры рассаживаются. Стюардесса объявляет:
– Напоминаем, что на борту самолета пользоваться мобильными телефонами запрещено.
– Спасибо, что напомнили, – говорит Анна, доставая из сумочки мобильник.
– Вам можно, – шепчет, улыбаясь, стюардесса.
Анна набирает номер.
– Илья, ты где? Что там у тебя гремит?
– Я в спортзале, – торопливо откликается Илья.
– Послушай, – говорит Анна. – Я уезжаю на недельку отдохнуть. Возьми у Паши Лебедкиной ключи от квартиры и поживи у меня. Вынеси мусор, пообщайся с соседями, словом – посветись. Девушек не приводить, в спальню и ванную не входить.
– Хорошо, Анна Ивановна. Желаю вам хорошо отдохнуть.
Анна дает отбой, и тут же телефон звонит. Это Паша Лебедкина.
– Нюся ты где?
– Я в самолете.
– Улетаешь? Куда?
– Не скажу, разболтаешь. Слушай, тебе будет звонить Илья, дай ему ключи от моей квартиры…
– Я поняла, ты за помадой, – перебивает ее Паша.
– За какой помадой? – не понимает Анна.
– За той самой, счастливой.
– А, – вспомнив, усмехается Анна. – Ну да…
– Слушай, купи мне дюжину! Или лучше две!
– Зачем так много?
– Я хочу большого счастья.
– Хорошо. Извини, здесь ругаются, – говорит Анна, хотя никто на нее не ругался.
Телефон снова звонит. Взволнованные, перебивающие друг друга, Толстой и Сурепкин:
– Анна Ивановна, у нас появилась информация, что вы находитесь в самолете?!
– Да, нахожусь. Могу я недельку отдохнуть от того ада, который вы мне устроили?
– Но вы забыли – завтра сборный концерт в Кремле, и вы его открываете!
На лице Анны досада – она действительно это забыла, но тут же говорит с усмешкой:
– Не беда, откроет кто-нибудь другой.
– Но что мы им скажем?
– Скажите, что мне не нравится их возврат к самодержавию.
Анна дает отбой и набирает еще один номер.
– Алло… Мсье Жак? У меня к вам маленькая просьба, мсье Жак… В поселке Большие Сосны живет мой дальний родственник. Муж сестры жены, зовут Кузьмич… Дело в том, что он сломал ногу, и я хотела бы послать ему набор продуктов… Он человек простой, поэтому что-нибудь попроще… Записывайте, адрес…
35. «Рай». День
Открытая веранда ресторана. Много посетителей. Анна – за отдельным столиком. В руках – меню.
Перед ней застыл смуглолицый официант.
Анна обводит взглядом зал и спрашивает:
– Рашн но?
– Но, рашн, но, – успокаивающе говорит официант.
– О’кей, – удовлетворенно произносит Анна.
– Дринк? – спрашивает официант.
– Дринк, – кивает Анна.
– Водка? – на лице официанта легкая улыбка.
Анна задумывается на мгновенье и дает отмашку:
– Водка!
– О’кей, – говорит официант и уходит.
– Это в России пить нельзя… – задумчиво говорит Анна.
36. «Рай». День
Быть может, так выглядит рай: ослепительно-белый свет, изумрудная океанская вода, густая пальмовая зелень.
На скамеечке сидит наша звезда и, уронив голову на грудь, спит. Улыбается во сне. Невидимая райская птица издает над головой пронзительную трель, Анна вздрагивает и просыпается, смотрит вверх и по сторонам, зевает и сладко потягивается.
– Теперь я знаю, что такое рай. Это место, где тебя никто не знает и никто не спрашивает, сколько тебе лет.
Мимо идут смуглолицые аборигены. Многие с любопытством поглядывают на Анну, но хода не замедляют.
– Сколько ей лет? Сколько ей лет? – кривясь, передразнивает Анна своих соотечественников.
И вдруг замечает стоящего у пальмы аборигена, который смотрит на нее, как бы пытаясь ее понять. Анна усмехается:
– Ну, что смотришь? – спрашивает она и неожиданно для себя прибавляет выплывшее из глубин памяти имя: – Брик… «Ты был потрясающим любовником, Брик, потрясающим. Разве я не права? Все было естественно. Просто, само собой. И как ни странно, такое безразличие украшало тебя. И знаешь, если б я поняла, что мы никогда, никогда не будем вместе, я бы бросилась в кухню, схватила самый длинный и острый нож и проткнула себе сердце. Клянусь тебе! Только у меня никогда не будет очарования побежденных, никогда! Хотя сдаваться не собираюсь! Это будет победа драной кошки на раскаленной крыше. Ее задача – как можно дольше продержаться там, насколько хватит сил…» Ну что, не узнал? – после небольшой паузы обращается Анна к аборигену и вдруг замечает, что он здесь уже не один.
Мужчины и женщины смотрят удивленно.
– Не узнали? Это же Теннесси Уильямс! Наверное, он до вас еще не дошел… Что вы так смотрите?
«Я тоже говорить имею право И все сейчас скажу: я не ребенок. Получше люди слушали меня; А не хотите, так заткните уши; Уж лучше дать свободу языку И высказать, что в сердце накопилось».И это не узнали? Ну, ребята… Это же «Укрощение строптивой»! Я играла Катарину двадцать пять лет. Пока не надоело. Все надоедает. Даже жизнь… И даже если вся она – на сцене, в кадре, на эстраде… Что у меня есть? Квартира на Остоженке? Да заберите! Антиквариат? Да подавитесь! Детей нет, семьи нет, вокруг – жулики, одна подруга, и та дура… Грустно жить, зная, что уже никто и никогда не сожмет твою ладонь в своей, не назовет тебя Аней и не скажет: «Я вас люблю». И что никогда-никогда уже не будешь встречать рассвет, как когда-то встречала… Никогда! Никогда…
Этот монолог Анна произносит так проникновенно, что незваные ее зрители начинают аплодировать. На лице Анны растерянность.
– Что вы в самом деле? Это уже не Шекспир, не Теннесси Уильямс и даже не Радзинский… Это просто я… Я – Анна Сапфирова…
Аплодисменты становятся громче. И тогда Анна кланяется, как на сцене.
37. Аэропорт. День
Дверь лайнера отворяется, и на трап выходит блистательная и обворожительная Анна. Внизу у самолета стоит ее синий «ягуар». Около него – Толстой, Сурепкин, Паша и Илья с роскошным букетом цветов. Несколько фотокорреспондентов беспрерывно мигают вспышками. Анна лучезарно улыбается, спускаясь. Илья бежит навстречу. Картинно обнимает Анну. Еще гудят турбины, поэтому все кричат.
– Привезла?! – спрашивает Паша.
– Что? – не понимает Анна.
– Губную помаду. Ту, счастливую.
По глазам Анны понятно, что никакой счастливой губной помады у нее нет, но она убедительно врет:
– Конечно. В багаже.
– Сколько штук?
– Сто.
– Сколько дашь мне?
– Все, все тебе. Мне моего счастья хватает.
От полноты чувств Паша еще раз целует Анну.
38. Салон «ягуара». Вечер
За рулем – Илья. Анна сзади. Смотрит печально за окно, где тянется серый тоскливый подмосковный пейзаж.
– А в деревне Гадюкино опять идут дожди, – с раздражением говорит она.
– Всю неделю обещали, – сообщает Илья и тут же вспоминает и начинает увлеченно рассказывать:
– Представляешь, мама, заказ из французского гастронома по ошибке отвезли какому-то мужику из Подмосковья, а он не сожрал его, а вернул нам.
На лице Анны появляется раздражение.
– Послушай, Илья, мы, кажется, договорились, мама я для тебя, когда мы находимся среди друзей. На публике – «дорогая», а когда мы вдвоем, я для тебя – Анна Ивановна.
– Извините, Анна Ивановна, – тушуется Илья.
– Ничего, – прощает Анна. – Слушай, кажется, Большие Сосны у нас по дороге?
– Небольшой крюк придется сделать.
– Ну так сделай, – приказывает Анна.
39. Поселок Большие Сосны. Вечер
Над Большими Соснами – закат. Удивительно красиво. Анна входит во двор знакомого дома и видит, что на крыше сидят двое. Отец и сын. Кузьмич вдохновенно что-то говорит и размахивает руками, изображая солнечный шар, подбирающиеся к нему облака и пробивающие их последние лучи, Олег слушает. Анна замедляет шаг и осматривается. Она не знает, как относиться к тому, что видит, – слишком уж необычна эта картина. Кузьмич оглядывается, видит Анну, долго и удивленно смотрит, говорит что-то Олегу и торопливо спускается вниз.
40. Двор дома. Тогда же
Сильно прихрамывая, Кузьмич быстро подходит к Анне. На лице улыбка, как будто он сам себе не верит. Анна приветливо улыбается и протягивает руку. Кузьмич растерянно на нее смотрит, смешно шаркает ногой, торопливо наклоняется, чмокает и, словно испугавшись такого своего действия, тут же вытирает место поцелуя рукавом пиджака. Анна с трудом сдерживается, чтобы не рассмеяться. Кузьмич предельно смущен.
– Добрый вечер. Я заехала к вам… – начинает Анна.
– Очень хорошо, что заехали! – вступает Кузьмич, и дальше они говорят одновременно:
Анна: Чтобы извиниться за произошедшее.
Кузьмич: Это я должен перед вами извиниться!
Пару секунд они смотрят друг на друга молча.
– За что? – недоуменно спрашивает Анна.
Кузьмич: А вы за что?
– Из-за меня у вас перелом. Если бы я к вам без приглашения не ввалилась, то этого бы не было.
Анна в этом убеждена, но Кузьмич решительно не согласен.
– Во-первых, не из-за вас, а из-за салюта, из-за него куры не неслись потом неделю, а во-вторых, не перелом, а трещина только. Не верите? Вот! – В подтверждение своих слов Кузьмич топает об землю больной ногой, но на лице его невольно появляется гримаса боли.
– Вот-вот, – подтверждает свои слова Анна.
– Не это вот-вот! – не соглашается Кузьмич. – А то вот-вот, что я вас сверху из ведра жидким куриным пометом окатил. Вам ведь больше всех досталось!
– Ну, может, и не больше всех, – пытается не согласиться Анна, но Кузьмич прерывает ее:
– Да больше, больше! Я же видел, – машет он рукой. – Только вы не подумайте, что это было простое дерьмо! Это же самое лучшее удобрение! От него все так и прет!
Анне неприятно это вспоминать, и она меняет тему.
– И еще… Я послала вам… продуктовый заказ, а вы его вернули…
– Вернул, ага… А это сынок ваш был? Хороший парень, вежливый…
Анна усмехается и спрашивает, перебивая:
– Почему?
А Кузьмич продолжает:
– Я так сразу и подумал – сын. Но не в вас – в отца. Точно? Нет, хорошо вы его воспитали…
Кузьмич действует по проверенной житейской схеме: хочешь расположить к себе человека – похвали его ребенка. Но тут схема почему-то не сработала.
– Почему вы вернули продукты, которые я вам прислала? – настаивает Анна на своем.
– Я от лягушачьих лапок квакать начинаю, – с очень серьезным видом пытается отшутиться Кузьмич, но Анна смотрит по-прежнему строго.
– Да вы поймите, нам ничего не надо, у нас все свое, – объясняет Кузьмич.
– Здравствуйте, – говорит Олег, появление которого они не заметили. Он в том же стареньком костюме, на глазах те же черные очки.
– А это мой сын! – с радостью представляет его Кузьмич. – А это, Олег, сама Анна Сапфирова к нам в гости пожаловала! Познакомьтесь.
– Мы уже знакомы, – говорит Анна.
– Ну как, интересная сегодня серия? – немного насмешливо спрашивает Анна и указывает взглядом на крышу, где сидели отец и сын.
Отец смущен, а сын искренен.
– Очень! После дождя закат самый красивый!
Кузьмич переводит смущенный взгляд с сына на гостью.
– Сериал, который никогда не кончается и никогда не надоедает? – в голосе Анны присутствуют раздражение и даже сарказм, но Кузьмич этого не слышит.
– И совершенно бесплатный! – соглашается он и смеется.
– Ну, вот что, господа… – обрывает смех Анна.
– Мурашкины, – с готовностью называется Кузьмич.
– Ну, вот что, господа Мурашкины, – продолжает Анна, – у меня немного жизненных принципов, но они есть… – Анна вдруг задумывается, словно что-то вспоминая, и Кузьмич вновь приходит на помощь:
– А их и не может много быть – запутаешься!
– И главный из них – не быть никому должной. Ничего и никогда. – Она смотрит на Олега. – Я знаю реакцию твоего отца, поэтому обращаюсь к тебе, современному молодому человеку. Вот, возьми, пожалуйста…
Анна торопливо достает из сумочки деньги и протягивает Олегу. Но тот не двигается, ведет себя так, как будто не видит.
– Да возьми же! – срывается вдруг Анна.
Олег резко отшатывается и даже чуть не падает. Очки слетают с его лица. Анна видит и понимает, что Олег слепой. В глазах ее испуг. Она переводит взгляд на отца. Кузьмич виновато улыбается. Анна вновь смотрит на Олега. Тот наклоняется, нащупывает очки, надевает их и, выпрямившись, улыбается как прежде.
– Извините, – говорит Анна, поворачивается и быстро уходит.
41. Квартира Анны на Остоженке
Анна сидит на диване и с мрачным неподвижным лицом смотрит в телеэкран, равномерно и методично щелкая пультом. На всех каналах – пошлая и бездарная попса. Девочки трясут титьками, а мальчики крутят попками.
Анна выключает телевизор.
42. Там же. Тогда же
Анна стоит посреди своей огромной, заставленной антиквариатом квартиры, смотрит на знакомые предметы, запоминая их местоположение: стол, горка, секретер, напольные часы. Потом смотрит на окно, зажмуривает глаза и начинает движение вслепую. Темнота. Тут же она задевает за угол стола, натыкается на горку, опрокидывает часы. Мы тоже ничего этого не видим, а только слышим звон и грохот. Анна падает, трет ушибленное колено, стонет от боли, но глаз не открывает и продолжает путь на четвереньках среди битого фарфора и стекла. Наконец Анна упирается головой в стену под окном, опираясь на нее, поднимается и открывает глаза. Перед ней лежит осколок зеркала. Анна смотрит на себя с презрением и отвращением.
– Принципы у нее… А сама на все готова за горсточку аплодисментов… Никого, кроме себя, не видишь в упор, звезда… Всё, Анна Сапфирова, конец.
43. Офис Анны Сапфировой. День
Анна сидит в своем кресле. Перед ней стоят взволнованные и растерянные Толстой и Сурепкин.
Толстой: Но это невозможно! Решительно невозможно!
Сурепкин: Никак невозможно.
Анна (удивленно и насмешливо): Почему?
Толстой: Да потому что никто еще так не уходил.
Сурепкин: Никто.
Анна: Уходили… Не такие люди уходили… Еще как уходили…
Толстой: Анна Ивановна, можно я встану перед вами на колени?
Анна: Мне по барабану.
Толстой бухается на колени. Глядя на него, на колени осторожно опускается Сурепкин.
Толстой: Анна Ивановна, публика вас не отпустит!
Анна (усмехается): Она давно меня отпустила, да я подзадержалась… Думала, что можно на это как-то повлиять… Я не могу трясти на сцене титьками, как эти… девочки, и вертеть попой, как эти… мальчики… Я и в прежнее время этого не делала, а теперь и подавно…
Толстой: Вас знают, любят, помнят!
Анна (усмехается): Помнят… Какой ценой? – Ее взгляд падает на рекламный плакат, на котором она стоит в обнимку с Ильей. – Мне осточертело изображать любящую жену этого сосунка…
Толстой: Анна Ивановна, сегодняшняя звезда обязана иметь молодого мужа! Это закон шоу-бизнеса.
Сурепкин: У Тюкиной тоже молодой.
Толстой (кричит): У Тюкиной на восемь лет старше вашего, и именно это обстоятельство увело у нее поклонниц старше пятидесяти и привело к вам.
Анна (Толстому): А что это вы орете? Что вообще здесь делаете? После того… шабаша двойников я вас уволила.
– Уволили? – удивляется Толстой. – Я этого не знал.
– Забыла сказать, – объясняет Анна. – Возраст, знаете ли, склероз.
– Очень хорошо, – соглашается Толстой, поворачивается и уходит на коленях, но, сделав пару неловких шагов, вскакивает на ноги и бежит к двери.
Анна переводит взгляд на Сурепкина. Тот поднимается, отряхивает колени и с задумчивостью во взгляде говорит:
– Не все так просто, Анна Ивановна…
44. Квартира Анны. День
В квартире – Анна, Паша и двое мужчин. Один, одетый во все черное, сидит чуть сзади Паши и неотрывно, не моргая, смотрит на Анну. Второй, в черной бархатной блузе, ходит по квартире, делает пасы и что-то шепчет.
Паша: Я поняла. Тебя зомбировали!
Мужчина в блузе подхватывает:
– Аура захламлена! Астралы забиты!
Анна указывает взглядом на другого мужчину:
– Что он все время на меня смотрит?
Паша (шепотом): Это знаменитый парапсихолог. Выводит взглядом даже из комы, трех покойников воскресил, по телевизору показывали.
Анна усмехается:
– Ну, я пока еще…
– Не в этом дело, – перебивает ее Паша и сообщает великую тайну: – Есть вещи страшнее смерти!
– Да, какие же? – интересуется Анна.
– Забвение! – выдает Паша, вытаращив от ужаса глаза.
Анна смотрит на подругу с изумлением:
– Пашка, откуда ты знаешь такие слова? Кто тебя научил?
Паша показывает взглядом на экстрасенса.
– Этот?! – Анна резко поворачивается и пристально смотрит на экстрасенса.
Того словно невидимая волна сшибает. Он опрокидывается навзничь. Второй испуганно помогает ему подняться.
– Пошли к чёрту, мракобесы! Вон! – кричит Анна.
И мракобесы поспешно покидают помещение.
Паша обхватывает голову руками и шепчет:
– Нюся, ты сошла с ума! Но знай, что бы с тобой ни случилось, где бы ты ни была, в любой психушке, я буду с тобой! Я никогда не забуду того, что ты для меня сделала – поверила, пустила в свой дом, вывела в свет! Такое не забывается!
Анна смотрит на подругу печально и мрачно и ничего не говорит.
45. Квартира Анны на Остоженке. Вечер
Анна сидит в кухне и пьет кофе. На столе кипа желтых газет. На верхней – фотография Анны. Огромный заголовок: «Анна Сапфирова сошла с ума».
Как нерадивый ученик перед ней стоит Илья. Губы у него дрожат:
– Анна Ивановна, не выгоняйте меня.
Анна усмехается.
– Четыре моих законных мужа говорили то же, что говорит фиктивный. Чёрт! – вспоминает она и берет телефон. – Алло, театр. Это Сапфирова. Отменяйте завтрашний спектакль. И все последующие. Всё. Финита… А Тригорину скажите: пора и честь знать…
Анна смотрит на Илью с удивлением и раздражением.
– Ну что ты тут стоишь, иди.
– Куда я пойду?
– Туда, откуда здесь появился. Ты ведь, кажется, с Алтая?
– Да.
– Ну вот, туда и возвращайся. Там прекрасная экология. Устроишься на завод, станешь маме помогать, женишься на хорошей девушке, будешь жить как человек. А здесь тебя подцепит какая-нибудь крыса, и будешь бегать с ней по крысиным тусовкам, и посереют твои розовые щечки, и поблекнут голубые глазки, и в лице появится что-то неуловимо крысиное. Ты понял меня, сынок?
– Понял.
– Хочешь, я дам тебе денег на дорогу?
– Да.
Анна открывает сумочку и протягивает Илье деньги – кажется, те самые, которые не взял Олег. Илья берет их.
46. Офис Анны. День
Стол Сурепкина завален толстыми бухгалтерскими книгами. Здесь же – калькулятор, арифмометр и большие конторские счеты. Анна сидит напротив, закинув ногу на ногу. Вид у нее скучающий.
– Ну и что вы мне собирались сказать? – спрашивает она.
– На ваших счетах нет ни копейки, – сообщает Сурепкин, испытующе глядя на Анну.
Та не очень удивляется.
– Вот как? Я работала дни и ночи, и…
– Это Толстой. Ему никак нельзя было доверять, – тем же тоном сообщает Сурепкин.
– Давайте вызовем его и спросим, – без особого энтузиазма предлагает Анна.
– Но вы же его уволили…
– Уволила.
– У вас один выход – остаться и продолжать выступления…
– Сурепкин, – строго напоминает Анна, – ты же знаешь, я никогда своего решения не меняю. Однажды я решила прийти на сцену и пришла. А теперь я решила с нее уйти. И никто не сможет меня остановить.
Тот согласно кивает.
– В таком случае, чтобы заплатить неустойки, вам придется продать всё…
– Всё?
– Да, всё – квартиру, машину, всё…
Для Анны это неожиданность, большая неожиданность. Помолчав, она улыбается и интересуется:
– Значит, я буду бомжом?
– Ну, этого мы не допустим, Анна Ивановна, – в голосе Сурепкина забота. – Что-нибудь придумаем… У меня есть очень приличная однушка в Капотне… Там моя мама жила, умерла в прошлом году, мебель осталась, посуда, как говорится – заходи и живи.
– Капотня? Это интересно. Никогда не была в Капотне. Постойте, а на что же я буду жить?
– Как и все в вашем возрасте – на пенсию. Три восемьсот. Рублей, конечно, не евро…
Анна усмехается:
– Не так уж я их и любила.
– Ну, за народную добавка, за Госпремию, я думаю, тысяч десять набежит.
Анна кивает, неотрывно глядя на Сурепкина.
– А что, неплохие деньги? – говорит она.
– Неплохие, – охотно соглашается Сурепкин.
– Да и много ли в моем возрасте надо?
– Ну, в общем-то, конечно…
– Ну, так значит так, – говорит Анна и решительно поднимается.
Сурепкин не верит своему счастью и опускает голову. Анна смотрит на него внимательно. На глазах Сурепкина слезы.
– Что с вами? – удивленно спрашивает Анна.
– Я остаюсь ни с чем, – сообщает Сурепкин, с трудом сдерживая рыдания.
– Какой артист пропал, – говорит вполголоса Анна, боясь расхохотаться.
– Что?
– Ничего, ничего, – говорит Анна и, подойдя, неожиданно целует Сурепкина в лоб.
Тот удивленно поднимает голову, трогает ладонью место поцелуя.
– Что это?
– Это тебе на память, – говорит Анна. – На долгую-долгую память. Мой поцелуй будет тебя, Сурепкин, жечь, когда ты, Сурепкин, будешь врать и воровать.
47. Квартира Анны на Остоженке. Ночь
Анна неподвижно стоит у окна, скрестив на груди руки. Вид на Кремль. Рубиновая звезда неожиданно превращается в горящий факел.
48. Квартира Анны в Капотне. Ночь.
Горящий факел нефтеперерабатывающего завода.
Анна стоит у окна, неподвижно скрестив руки на груди.
49. Капотня. Оптовый рынок. Зима
У продовольственного ларька стоит небольшая очередь из женщин пенсионного возраста. Все одеты скромно, неброско. У каждой – сумка на колесиках. Последняя – Анна. И она одета просто и неброско, и у нее сумка на колесиках, но что-то ее все же от них отличает…
Первая женщина: Вы не знаете, куда подевалась Анна Сапфирова? То из телевизора не вылезала, а то ни слуху ни духу.
Вторая: Она с ума сошла, в психушке лежит, я сама в газете читала.
Третья: А я слышала – умерла.
Вторая: Да нет, с ума сошла! Я сама читала.
Четвертая: Что вы говорите, она уехала на пмж на свою историческую родину… Знаете, какая у нее настоящая фамилия – Шапиро!
Первая, вторая, третья: Да вы что?!
Анна молчит и как бы не слышит.
Первая обращается к ней:
– А вы ничего про Анну Сапфирову не слышали?
Анна: А кто это?
Первая: Какая странная женщина…
Третья: Да я говорю – она умерла!
50. Квартира Анны в Капотне
В квартире старая советская мебель.
Анна поливает стоящий на окне цветок в горшке и вдруг обнаруживает, что тот мертв. Корешки сгнили и отпали. Анна бросает цветок, садится на стул, задумывается, что-то новое и страшное ощущая в себе. Хватает телефон, набирает 03.
– Скорая слушает, – доносится из трубки голос.
Анна кидает трубку на аппарат, осторожно подходит к кровати и ложится на спину. Складывает руки на груди. Закрывает глаза. Открывает, поправляет юбку и снова закрывает. Лежит неподвижно и не дыша.
С кухни доносится какой-то шум. Анна прислушивается, вскакивает и бежит туда. На плите убегающий кофе.
Анна наливает остатки кофе в чашку, садится за стол, задумчиво улыбаясь, пьет.
51. Там же. Вечер
На подоконнике живой цветущий цветок. Анна сидит на табурете перед маленьким телевизором и равномерно и методично щелкает пультом. По всем каналам – все та же попса. Девочки трясут титьками, а мальчики крутят попками. Но на одном канале Анна задерживается, потому что слышит знакомый голос. Это тот самый Хомутов, которого однажды при всех Анна поставила на колени.
Вид и голос Хомутова, как всегда, восторженно-счастливый.
– Праздник! Праздник! Праздник! – кричит он в микрофон. – Праздник кинематографистов, праздник зрителей, праздник всех, кто любит Россию! Только что закончился премьерный вип-показ фильма, которого мы так ждали. Американский «Оскар» склоняет свою лысую голову – на экраны выходит русский фильм «Императрица Анна Иоанновна». Узнаем мнение зрителей. Известный модельер Паола Лебски со своим молодым мужем. Как вам фильм?
– Это что-то с чем-то! Умереть – не встать!
Анна узнает голос, но все равно не верит: «Паша?»
– А вам, мистер Русский мускул?
– Жесть.
– И ты, сынок? – тихо говорит Анна, улыбаясь.
– А вот идут те, чьими усилиями создавался этот фильм. Они всегда и везде вместе, владельцы крупнейшей продюсерской компании «Сурепкинэндтолстой».
Сурепкин: Я горд.
Толстой: Я счастлив. Наш фильм о честных людях, честно сделанный честными людьми.
Анна вглядывается в экран и видит на лбу Сурепкина крестик лейкопластыря. Она откидывает голову назад и смеется, а Хомутов продолжает захлебываться восторгом:
– Этот фильм исторический, но он поднимает вечные проблемы нашей страны, убедительно доказывая, что России не нужны западные рецепты демократии, что она может и должна развиваться и идти к процветанию своим собственным путем. А вот, наконец, и режиссер! Какое вы испытываете чувство?
Режиссер (попыхивая трубкой): Я счастлив! Я снял фильм, о котором мечтал всю жизнь, с той актрисой, о которой мечтал всю жизнь!
Толстой: Вы имеете в виду Ираиду Тюкину?
Режиссер: Конечно.
Толстой: А были ли другие претенденты на эту роль?..
Режиссер: Ну что вы, какие другие.
Толстой: А вот, наконец, наша звезда, наша новоявленная императрица!
Анна выключает телевизор.
52. Тверской бульвар. День
Весна. Тепло и солнечно. Анна сидит на скамеечке, подставив лицо солнцу. Мимо идут люди, и никто на нее не смотрит. Одна собачка, маленький фоксик, о которой забыл ее хозяин, подбегает к Анне, прыгает на скамейку и начинает «целовать» Анну. Хозяин – тот самый водитель «чайки», с которым мы познакомились в самом начале. Сидит на лавочке и читает книгу. Анна не гонит от себя собачку. Ей даже нравится. Хозяин наконец обнаруживает, что фоксика нет рядом, кричит: «Луша, Луша!» – вскакивает и бежит к ней.
– Луша! Прекрати! Извините, пожалуйста, – запыхавшись, говорит он.
– Ну что вы. Таких масок для лица не предлагают в самых дорогих салонах, – улыбается Анна.
Мужчина берет собаку на поводок.
– Извините еще раз. – Он не узнает Анну.
Шутливо-благодарно Анна смотрит на собачку.
– Спасибо, Луша!
– Спасибо вам, что не начали скандалить. А то одна при всем макияже вот так же сидела, жениха ждала, так Луша всю краску с нее слизала. Жених увидел, какая она есть на самом деле… и всё: «Свадьбы не будет!» – смущенно смеется мужчина.
– Я не накрашена и никого не жду, – с улыбкой отвечает Анна.
Мужчина с собачкой уходит, оглядываясь на ходу.
Где-то гремит гром.
– Привет теще, – улыбаясь, негромко говорит Анна.
53. Пушкинская площадь. Тогда же
В сквере два десятка молодых людей под присмотром милиционеров протестуют против пошлости и засилья попсы на телевидении. Об этом их плакаты и речовки. Лица у молодых людей чистые, искренние, хорошие. Среди них Анна видит тех строгих девушку и юношу в очках, которые устроили скандал на конкурсе двойников. Кажется, они узнали Анну. Она поворачивается и уходит. Они следуют за ней.
Девушка: Извините, извините пожалуйста!
Анна останавливается и смотрит вопросительно.
Девушка: Извините, вы Анна Сапфирова?
Анна: Кто?
Девушка и юноша растеряны. Анна уходит и слышит, как юноша выговаривает девушке:
– Я же говорил – это не она. А теперь представь, если бы ты стала извиняться?
Еще сильнее гремит гром.
54. Тогда же. День
Съемки с очень большой высоты. Мы смотрим вниз, как, быть может, смотрит Бог, видя всех нас вместе и каждого по отдельности.
Москва, центр… Пушкинская, Маяковская… Очень много машин и еще больше людей. Сверху они – точки. Все движутся, а одна – неподвижна. Камера стремительно опускается вниз… Это человек стоит, потому что не может идти. Он – слепой. Это – Олег.
Анна останавливается, видя его. Он стоит, ожидая, что кто-нибудь к нему подойдет, но никто не подходит, его просто не замечают. У Анны нет другого выхода, и она подходит.
– Вам помочь? – спрашивает она.
– Да! – радостно откликается юноша.
Анна берет его под руку и переводит через проезжую часть.
– Здесь еще один переход, – говорит она.
– Да, – говорит он. – Только возьмите меня покрепче.
Она берет его под руку крепче и переводит через дорогу.
– Это ведь Пушкинская? – спрашивает он.
– Пушкинская. Вам на метро?
– Нет. Мне надо на площадь Маяковского. Я опаздываю. Не могли бы вы меня туда довести?
– Да, конечно.
– Спасибо.
Гремит гром.
55. Пл. Маяковского. День
Они подходят к площади Маяковского. Там возле памятника мечется Кузьмич. Увидев сына, он кидается навстречу. Анна пытается освободить свою руку и уйти, но ей это не удается – юноша крепко прижимает ее к себе, и Анна остается.
– Олег! – кричит возмущенный Кузьмич. – Я сейчас буду тебя ругать!
Тот виновато склоняет голову. Анна улыбается просяще:
– Не ругайте его, пожалуйста.
– Нет, буду! – стоит на своем мужчина, отводит сына на пару шагов в сторону и сначала машет перед его носом указательным пальцем, а потом произносит с чувством слова, которые в его понимании означают «ругать»:
– Олег! Как тебе не стыдно! Ай-ай-ай!
Анна едва сдерживает улыбку. Отругав таким образом сына, мужчина поворачивается к Анне, благодарит:
– Спасибо вам большое.
– Ну что вы, не за что… – говорит Анна.
Она боялась, что мужчина ее узнает, но на это нет и намека, и она успокаивается.
– Взял моду – уходить. Повернусь – нету, как будто кого ищет, – жалуется мужчина на виновато улыбающегося сына. – Ну, кого ты здесь ищешь?
Мужчина смотрит на часы на гостинице «Пекин», вспоминает, сколько ему пришлось ждать и волноваться, и вновь подскакивает к сыну и машет перед его лицом пальцем.
С неба припускает густой весенний дождь. Мужчина и Анна хватают Олега с двух сторон под руки, и они бегут под козырек станции метро.
– Что мы будем делать без зонтика? – сердится мужчина.
– Я говорил, нам давно пора купить зонтик, – говорит Олег.
– Купить! Где тут его купишь? Вы не знаете, где здесь можно купить зонтик? – обращается Кузьмич к Анне.
Анна обводит взглядом улицу и вспоминает:
– Зачем покупать? Возьмите мой. – Она вытаскивает из сумочки складной зонтик.
– А вы как же?
– Я живу так далеко, что там наверняка нет никакого дождя. А мне как раз в метро.
– Я у вас его куплю. Сколько он стоит? – Кузьмич вытаскивает из заднего кармана брюк мятые купюры.
– Папа, – просит сын.
– Нет, сынок, зонтик вещь дорогая, – не соглашается тот. – Просто так я его не возьму.
– А я не отдам за деньги, – говорит Анна, грустно улыбнувшись.
– Ну, извините, – говорит Кузьмич и обиженно отворачивается.
– Пожалуйста, – говорит Анна и делает то же самое.
– А может, вы дадите нам свой телефон? Папа позвонит вам и привезет, – неожиданно предлагает Олег.
Кузьмич и Анна смотрят друг на друга.
56. Квартира Анны в Капотне
Весна, даже в Капотне весна. Солнечно, тепло, радостно чирикают воробьи. Анна стоит на подоконнике, моет окно, громко напевая, пытаясь старую советскую песню превратить в джазовую композицию:
Тишина за Рогожской заставою… Тишина за Рогожской заставою… Тишина за Рогожской заставою… Тишина за Рогожской заставою!Анна смеется над собой, и вдруг звонит телефон. Это так неожиданно, что она сильно вздрагивает. Телефон звонит громко и требовательно. Анна спускается, подходит к нему, глядя удивленно, как на живого, обходит вокруг и наконец берет трубку.
– Алло, – говорит она осторожно.
57. Квартира Анны. День
Анна стоит перед закрытой дверью. Вид у нее взволнованный и даже немного торжественный. Дверь открывается. На пороге Кузьмич.
Вид у него какой-то жалкий, помятый, смотрит виновато. Жмется и прячет что-то за спиной. В ее глазах появляется недоумение.
Кузьмич: Здрасьте. Можно в туалет?
Анна (растерянно): Пожалуйста…
Кузьмич протискивается в дверь совмещенного санузла, продолжая что-то за спиной прятать.
Анна уходит в комнату. В туалете шумит унитаз. Анна хмурится, закрывает дверь и садится в кресло. Чуть погодя, Кузьмич стучит осторожно в дверь комнаты.
– Да-да! – вскакивает Анна, изображая на лице приветливую улыбку.
Кузьмич немножко привел себя в порядок: умылся, расчесал волосы. Руки пусты. Улыбается виновато.
– Яйца… – сообщает он едва слышно.
– Что? – не понимает Анна.
– Яйца, – громче говорит Кузьмич. – В электричке – ничего, в метро – ничего, а в автобусе… – Кузьмич изображает руками и лицом предельное сжатие. – Одно только уцелело.
– Что?! – в голосе Анны смятение, она не хочет этого слышать, но разговор поддерживать надо.
– Да яйца же! – радостно восклицает Кузьмич и вынимает из кармана куриное яйцо. – Я взял два десятка вам в подарок. В огороде еще ничего нет, в саду и подавно, а они домашние, только из-под курочек. Тепленькие еще… Были… В электричке – ничего, в метро – ничего, а в автобусе… Как сдавили! Одно осталось! Зато какое!
– Какое?
– Не видите?
– Нет.
– Двухжелтковое!
– Как это? Не понимаю.
– Да вы на свет посмотрите, видите?
Анна и Кузьмич стоят рядом и вытягиваются наподобие «Рабочего и колхозницы», только вместо серпа и молота у них в руках куриное яйцо.
– Видите?
– Нет.
– Да смотрите же! – Он протягивает яйцо, но как-то неловко, оно падает и растекается по полу.
Действительно, в нем два желтка.
– Ну, теперь вы видите?! – гордится своей правотой Кузьмич.
– Теперь вижу… – немного грустно говорит Анна и внимательно смотрит на Кузьмича.
– Да вы не расстраивайтесь. Осенью я вам овощной набор привезу! Тыква, кабачки, капуста брюссельская, кольраби, но и наша – русская… В Москве такой не купишь… А вы, значит, здесь живете? – оглядывает квартиру. – Хорошо! Город есть город. – Поднимает руку, едва не касаясь потолка. – И потолки высокие. Почему говорят – низкие? Высокие. И чистота… Порядок… Одно слово – культура…
Кузьмич смотрит в окно, видит горящий факел нефтеперерабатывающего завода.
– Красиво! А ночью небось еще красивее?
– Угу, – судорожно кивает Анна и торопливо предлагает: – Может, чаю?
– Угу! – с радостью соглашается гость.
58. Кухня в квартире Анны
В кухне накрыт стол. Варенье, торт.
Анна наливает чай.
– Торт «Сказка»? – со знанием дела спрашивает Кузьмич.
Анна неопределенно пожимает плечами.
– Я больше «Ночку» люблю, – сообщает мужчина. – Ну, «Сказка» тоже ничего. Пойдет. – И здоровенный кусок торта целиком уже отправляется ему в рот, но Кузьмич вдруг хлопает себя свободной ладонью по лбу. – Стоп машина! Вот память! Вот голова! Вот склероз! Сижу у женщины в гостях, сам не знаю, как ее зовут. И сам не представился. Вы уж извините. Раньше я был – только искры из-под колес летели, а сейчас, видно, пар вышел. – Мурашкин, старший матрос в отставке!
– Мне к вам так и обращаться? – интересуется Анна.
– Ну зачем… Обращайтесь ко мне, как все обращаются – Кузьмич. И просто, и запомнить легко.
– А имя?
– Имя у меня простое русское…
– Федор?
Кузьмич смотрит удивленно:
– Почему Федор, Геннадий. Не угадали! А вот я возьму и угадаю ваше!
– Попробуйте, – соглашается Анна.
Кузьмич думает совсем недолго.
– Валентина Ивановна? Нина Петровна? Ольга Васильевна? Не угадал?
Анна недоумевает.
– С чего вы взяли?..
– А так училок всегда зовут, а на вас глянешь – вылитая училка!
– Меня зовут Анна, – говорит Анна сдержанно, но со значением.
– А по батюшке?
– Просто Анна…
Кузьмич перестает жевать.
– Нет, я так не согласен. Я человек простой, без образования, и то меня все по отчеству кличут. Причем с детства, с первого класса – Кузьмич. А вы женщина культурная, с образованием, правильно?
Анна неуверенно кивает.
– А по какой части, если не секрет?
– По музыкальной… – осторожно отвечает Анна.
От радости Кузьмич даже подскакивает на месте.
– Я же говорил! Значит, Анна Ивановна! Угадал? Да угадал же?!
– Не совсем, – говорит Анна. – Иоанновна.
– Ух ты! – выдыхает Кузьмич. – Немец батюшка ваш был?
Анна кивает.
– А по-нашему – Ивановна! Можно я вас так и буду называть?
– Нельзя, – неожиданно говорит Анна.
– Почему?
Анна не отвечает, видимо еще не придумав, и неожиданно на помощь приходит Кузьмич:
– Память отца?
Анна кивает.
– Это святое, – кивает и Кузьмич. – Вот поэтому у вас и порядок, Анна Иоанновна… А вы знаете, была у нас в России царица, ее точь-в-точь как вас звали! Про нее даже кино сняли. Вся Москва рекламой завешена. В главной роли Тюкина, артистка такая, знаете?
– Слышала. А вы видели фильм?
– Да нет, что вы. Я по кинам не ходок. И времени нет, и дорого, да и не хочется, если честно. У нас с Олежкой и телика дома нет. Зачем он нам? А у вас, я вижу, есть… С видиком даже, дорогой… Дорогой?
– Не очень.
– Но если честно, то в этой роли я другую артистку вижу, Анну Сапфирову. Знаете?
Анна не отвечает и как бы задумывается, вспоминая.
– Да знаете вы! – машет рукой мужчина. – Ее все знают. Она даже чем-то на вас похожа. А я, между прочим, ее вот так, как вас, перед собой видел. Можно сказать, в гостях у нас была. Звезда!
– Да-да, вспомнила, – торопливо говорит Анна. – Интересно, как она у вас оказалась?
– Ну, как… Проходила мимо и зашла. Интересно ж человеку, как другие люди живут.
– Наверное, зазнавалась, что звезда? – спрашивает Анна.
Кузьмич протестующее машет рукой.
– Что вы?! Ни капельки! Разговаривала со мной, как я с вами…
Анна делает вид, что задумывается.
– Она же очень давно… Как вы думаете, сколько ей лет?
Кузьмич смотрит в ответ укоризненно.
– Анна Иоанновна, разве это имеет значение? Человеку столько, на сколько он выглядит. А между прочим, благодаря ей, я понял смысл своей фамилии.
Анна смотрит удивленно.
– Я раньше думал, что мы, Мурашкины, от муравьев пошли… Маленькие, но сильные… Нет! Когда я слышу, как Анна Сапфирова поет, у меня мурашки по спине бегут. Вот отсюда, от поясницы, вот так, вот так и к макушке. А сколько бы я Анне Сапфировой дал? Восемнадцать!
Анна давится и вдруг начинает кашлять. Кузьмич пугается, не решаясь стукнуть хозяйку по спине.
– Разрешите? – спрашивает он.
Анна кивает. Он бьет, да так, что Анна не только замолкает, но и замирает потрясенная.
Кузьмич вопросительно смотрит.
– Ну вы даете!.. – говорит она на выдохе.
– Матросский удар номер четыре, – с удовольствием докладывает Кузьмич.
– А есть еще и другие?
– А как же! В этом деле порядок должен быть. Как у немцев! – подмигивает Кузьмич и продолжает свой доклад: – Удар номер один – если кто-то обидел матроса. Удар номер два – если кто-то обидел женщину матроса. Удар номер три – если женщина обидела матроса.
Анна поднимает на Кузьмича вопросительный взгляд. Тот виновато разводит руками.
– Частенько нашего брата-матроса ваша сестра обижала, когда мы надолго в море уходили… А – это «четверка». Качает же на борту. Часто давится народ. Но теперь такое с вами долго не случится. Гарантирую! – Он смотрит на часы. – У-у, загостился я у вас! Автобус, метро, потом электричка. – Поднимается. – Ну, спасибо вам, Анна Иоанновна, за всё. Да, от Олежки привет. Большой. Ну, до свидания. – Кузьмич говорит это на ходу, пожимает руку растерянной Анны и уходит.
Анна стоит перед закрытой дверью. Слушает, как уезжает лифт.
– Но как же… – растерянно говорит она и торопится к окну, смотрит вниз. Его не видно. В дверь звонят. На пороге Кузьмич. Улыбается виновато.
– Вот вам и возраст не имеет значения! – восклицает он. – Зачем я к вам ехал?
– Зачем? – спрашивает Анна все еще растерянно.
– Чтобы зонтик вернуть, правильно?
– Правильно…
– А я его вернул?
Анна пожимает плечами.
Кузьмич смеется.
– Как же я его мог вернуть, если я его дома забыл! – Он хлопает себя по лбу. – Склероз! Ну, теперь Анна Иоанновна, уж вы к нам! У нас, конечно, не город – зато природа! Свежим воздухом подышите. Записывайте адрес.
59. Поселок Большие Сосны. День
Кузьмич встречает Анну на автобусной остановке. Вид у него смущенный и озабоченный.
Анна: Что-то случилось?
Кузьмич (торопливо направляясь к своему дому): Случилось, да… Влюбился! По уши влюбился!
Анна останавливается.
– Кто?
– Ну не я же. Олег.
Анна: Так это же прекрасно!
Кузьмич: Прекрасно, когда и она… А она – нет.
Анна: А кто она?
Кузьмич: Девочка из их интерната. Зовут… Аня!
Анна: Она…
Кузьмич (кивает): Незрячая тоже, да.
Анна: Но они же… не видят…
Кузьмич останавливается, смотрит на Анну, размышляя, поймет ли она то, что он сейчас скажет, и, решив, что поймет, говорит:
– Эх, Анна Иоанновна, Анна Иоанновна, это мы зачастую в упор человека не видим, а они… Они его чувствуют! И не только человека… Мы с Олежкой каждый вечер на крышу забираемся и на закат глядим… Я гляжу, а он… Мне иной раз и не хочется: спина болит, дел полно, а он: «Нет! На крышу!» Вот что он там видит? Что-то видит… – Кузьмич думает, молчит и, вздохнув, повторяет: – Что-то видит…
60. Дом Мурашкиных. День
Кузьмич подводит Анну к закрытой двери чулана, указывает пальцем:
– Закрылся в чулане на швабру и не открывает.
– Ему там не страшно? Там же темно… – говорит Анна.
Кузьмич смотрит на нее непонимающе.
– Извините, – говорит Анна, осознав свою оплошность.
– Закрылся и плачет. Не хочет, чтобы я его слезы видел. – Кузьмич прислоняется ухом к двери. – Плачет… Может, вам откроет… Олег! – кричит он притворно-жизнерадостно. – Олежка… К нам приехала тетя Аня за своим зонтиком! Помнишь, мы в Москве во время грозы познакомились? (Прислушивается.) Плачет! Может, вы что-нибудь скажете?
На лице Анны растерянность.
61. Там же
Они сидят у двери чулана на корточках и разговаривают шепотом. Точнее, говорит Кузьмич. Анна слушает.
– У него мать была – красавица! Я же моряк, все время в море, и поэтому долго не женился. А однажды сошел на берег, увидел ее и все забыл. Мне сорок, ей двадцать. Катя… Поженились, ушел в море, оставил беременной… Возвращаюсь – ни ребенка, ни жены… Он же не только слепой, он с церебралкой родился.
– С чем?
– С церебральным параличом. Она его в дом малютки сдала, сама в Германию уехала на пмж, замуж там вышла. Тогда все уезжали, время было тяжелое, голодное. А она молодая, красивая, ей надо жизнью наслаждаться. Кто ее осудит? Я лично нет. Она и сейчас в Германии живет, замужем.
– А вы вдвоем с грудным ребенком остались?
– Ну да.
– Пеленки стирали?
– Еще как наловчился! У меня тут целая прачечная была. Да это б ладно, что грудной, больной – вот что плохо. Все время плакал, днем и ночью. Сердце разрывается. И знаете, что помогло? Музыка. Джаз!
– Джаз?!
– Ну да, джаз. Я из плавания пластинки привозил. Поставил один раз – смотрю, замолчал… Так и жили потом – он слушает, я стираю. Джаз! Я его всегда любил. И Олежка любит очень. Из-за этого джаза все и случилось. У них в интернате концерт к выпускному вечеру готовится, и он решил петь, он вообще петь любит. Чтобы Аня, та Аня услышала… А директриса джаз не признает. Сталина Ивановна… Сталин в юбке!
– Но у вас же есть инструмент? – указывает Анна на пианино.
– Инструмент есть, инструмент хороший. Трофейный. Батя мой его на себе из поверженного Берлина припер. Говорил: «Сын родится – будет играть». Сын родился, только, видно, во время моего рождения медведь мимо проходил и на ухо мне наступил.
– А Олег?
– У него слух отличный. Просто он раньше играть не мог. Церебралка – пальцы не слушались. А сейчас потихоньку разыгрывается.
– А что Олег пел?
– Что пел?
– Ну, напойте…
Кузьмич кашляет от волнения в кулак и пытается передать мелодию, но ничего не получается.
– Ой, – смущенно говорит Анна.
Кузьмич сокрушенно кивает.
– Думаю, Анна Иоанновна, тот проклятый медведь не только мне на ухо наступил, он туда еще и помочился, – признается он. – Что-то американское он пел. А Сталин в юбке говорит: «У нас тут не Америка».
– А по-русски можно?
– По-русски – пожалуйста.
Анна на секунду задумывается, подходит к инструменту, начинает играть и петь:
Тишина за Рогожской заставою, Спят деревья у сонной реки. Лишь составы идут за составами Да кого-то скликают гудки.Советская песня звучит как джаз.
Кузьмич разводит руками. Дверь чулана отворяется, на пороге стоит Олег.
62. Там же
Анна и Олег сидят рядом у инструмента и играют в четыре руки. Анна подсказывает слова, Олег поет:
Расскажи-подскажи, утро раннее, Где с подругой мы счастье найдем? Может быть, вот на этой окраине Возле дома, в котором живем.Кузьмич выходит на цыпочках в кухню, достает из глубины стола начатую четвертинку, наливает рюмку, выпивает, занюхивает хлебушком и слушает, блаженно улыбаясь.
63. Там же
Втроем они сидят за столом и пьют чай с вареньем и сушками. Олег в темных очках. Анна с удивлением наблюдает, как точны, безошибочны его движения. Настроение у Олега отличное. Он прямо-таки сияет от счастья.
– Пап, расскажи, как ты корабельный якорь с Дальнего Востока сюда привез! – просит он, лукаво улыбаясь.
– Да я уже сколько раз тебе рассказывал… – смущается Кузьмич.
– Анне Ивановне расскажи!
– И-оанновне, – строго поправляет отец и доверительно рассказывает Анне: – Когда я на сушу насовсем сходил, мне наш личный состав сделал подарок – якорь.
– Это тот, который около дома лежит? – интересуется Анна, внимательно глядя на Кузьмича.
– Ну да. Якорь хороший, но тяжелый и негабаритный. О самолете и речи нет, в поезд тоже не пускают… На перекладных целый месяц добирался… Где за деньги, где за бутылку, а где за доброе слово. Народ-то у нас на доброе слово отзывчивый… Нелегко было, зато теперь – память. Да что я – по родной стране, а вот как твой дедушка через пять границ пианино пер? Наверно, это у нас семейное…
Олег весело смеется.
Анна прячет улыбку и меняет тему:
– А как вам здесь живется? Здесь же вокруг очень богатые люди.
– Нормально живется, – охотно отвечает Кузьмич. – И люди хорошие. Один у них недостаток, Анна Иоанновна, они, когда яйца у меня покупают, цену не спрашивают.
– Ну, это же хорошо, – шутит Анна. – Любую можно назвать.
Кузьмич иронии не слышит.
– Как это любую? Не любую, а сорок пять рубликов десяток.
– Сколько? – не верит своим ушам Анна.
– Сорок пять…
– Помилуйте, Геннадий Кузьмич, но ведь это…
– Дорого?
– Очень. У нас в Капотне самые лучшие стоят тридцать.
Кузьмич обижен и возмущен:
– А зерно знаете сейчас почем? А уход? А… А вот это видите? – Кузьмич подается к Анне и тычет пальцем в свою бровь. – Видите?
Анна смотрит.
– Шрам?
– Шрам. Петух. В глаз целил, еле увернулся.
– За что же он вас?
– Хохлатку его любимую на руки взял.
Анна с трудом сдерживает улыбку и спрашивает:
– Ревнует?
– Еще как!
– Я его понимаю, – говорит Анна.
Олег фыркает от смеха, а Кузьмич не унимается:
– Дорого… Вот прихожу я недавно к своему соседу…
– Это, которого вы в школе били?
– Нет, к другому. – Кузьмич осекается и спрашивает удивленно: – А вы откуда знаете?
Растерянность Анны длится недолго.
– А с ним вчера интервью показывали по телевизору.
– С Давыдом?
– Ну да… Он фамилию вашу не называл, сказал: сосед – бил в школе по шее, по спине и… ниже спины.
Кузьмич переводит с Анны на Олега и обратно растерянный и умоляющий взгляд.
– Ты, Олег, не слушай. Короче, списывать он мне в классе не давал. Зря, конечно, бил… Так и так на второй год оставили бы… Да я все хочу к нему подойти, извиниться, а охрана не подпускает… Нет, хорошие они, богатые, вот только живут тяжело, несвободно живут…
64. День. Двор дома Мурашкиных
Анна и Кузьмич идут по двору.
Анна: А вы знаете, он у вас очень способный… Это даже не способности… Это – талант!
Кузьмич (смущенно): Ну, это не в меня. Это, наверно, в мать, она пела… А это, Анна Иоанновна, наш капитал!
Анна делает вид, что впервые видит курятник, устроенный из старой голубятни.
– На заре жизни я тут голубей водил, а на закате вот – курочки… Двадцать две несушки и один петушок. И что интересно – со всеми управляется.
– А вы шутник, Геннадий Кузьмич, – иронично говорит Анна и смотрит вопросительно на пустую собачью будку.
– Шарик у нас был, – неохотно говорит Кузьмич. – Олежка до сих пор думает, что убежал… Всё из-за дома этого, точнее – из-за земли… Чего мне только не говорили, как только не угрожали… Три раза дом поджигали.
Анна возмущенно вскидывается:
– И что же вы делали?
Кузьмич пожимает плечами:
– Тушил.
Ему не хочется об этом говорить, и он произносит с чувством:
– Анна Иоанновна!
– Да.
– Если деньги не хотите брать, так, может, яичками за уроки возьмете? Как говорится – гонорар… Натуральные, безо всякой химии.
Анна словно не слышит.
– А это что? – спрашивает она, остановившись перед цветущей калиной.
– Калина. В прошлом году посадил, а уже зацвела. Значит, нынче ягоды будут. Вот и узнает Олежка вкус красного цвета.
– Что?
– Вкус красного цвета.
Анна смотрит непонимающе:
– А разве у цвета бывает вкус?
– А как же? Вот у синего цвета вкус сливы. Только не у сладкой, импортной, а у нашей. Она в таком белом налете, кисленькая… Потрешь ее об рукав и съешь, знаете?
– А оранжевый – апельсин?
– Естественно! Черный – черника, зеленый – крыжовник.
– А вода?!
Вместо ответа Кузьмич тычет пальцем в небо, Анна смотрит туда и видит его, глубокое и прозрачное.
Они идут по двору. Анна оглядывается на корабельный якорь, мотает сокрушенно головой.
Кузьмич понимает это по-своему.
– Хороший был экипаж. Так они еще не только якорь этот, они мне видеофильм подарили о нашем житье-бытье. А посмотреть некогда. Да и негде… Телика-то у нас нет.
– А вы ко мне приезжайте, вместе посмотрим на ваше прежнее житье-бытье, – неожиданно предлагает Анна. – Это и будет гонорар!
65. Квартира Анны. День
Звонок в дверь. Анна торопится ее открыть. Она радостна, принаряжена, и губки подкрашены. На пороге Кузьмич. Он весел и взъерошен, прячет руки за спиной. Одна рука – вперед!
Анна: Что это?
Кузьмич не отвечает, потому что и так видно: в целлофановом пакетике – куриные яйца.
– Все довез! – важно говорит он и прибавляет: – Чтобы вы не подумали, что я размазня какая-нибудь… А это… – Вторая рука вперед. В ней бутылка шампанского.
Анна всплескивает руками.
– Сто лет шампанского не пила.
– И выпивка, и закуска! – радуется Кузьмич. – Яичницу можно, а можно сварить. А лучше сырыми! Никакой же химии!
– Под шампанское? – с сомнением спрашивает Анна.
– Есть кое-что покрепче! – радостно восклицает Кузьмич и выхватывает из кармана четвертинку.
66. Там же
Они сидят за столом.
– Меня одно шампанское не цепляет, – сообщает Кузьмич. – Я с вашего разрешения – ерша.
– Пожалуйста, – пожимает плечами Анна.
– А вам?
Анна отчаянно машет рукой:
– Валяйте!
– Дорогая Анна Иоанновна! Я хочу выпить за вас, потому что вы… – торжественно начинает Кузьмич, но Анна его останавливает:
– Давайте за вашего сына…
– За Олежку!
Они чокаются, выпивают, закусывают яичницей.
Анна: Скажите, а что, ему никак нельзя помочь?..
Кузьмич мотает головой.
– Может быть, существует какая-то дорогая операция? Деньги…
– Если бы деньги… Я бы денег достал. Да дом наш, земля, она теперь очень больших денег стоит, а если бы не хватило, я бы органы свои продал, которые еще более-менее. Печень у меня никуда, а почки хорошие. Сердце больное, зато легкие отличные. Да я бы кожу, шкуру свою зулусам на барабаны дал, чтобы только он видел! Знаете, что самое обидное? Что у меня зрение – без очков читаю и нитку в иголку вдеваю. Вот вам и наука – всё пересаживают, а глаза – нет!
На глазах его выступают слезы.
Анна опускает глаза.
67. Там же
Веселые и чуточку пьяные Анна и Кузьмич сидят рядышком на диване перед телевизором. Кузьмич показывает Анна фотографию:
– Это весь наш экипаж. Это – капитан, это – боцман Кошкин, а это – я, старший матрос.
Анна смотрит на Кузьмича с уважением:
– Наверное, непросто стать старшим матросом? Как ими становятся?
Кузьмич скромно пожимает плечами.
– По возрасту. – Он переводит взгляд на покрытый рябью телеэкран. – Эх, только бы на размагнитилась… – Изображение наконец появляется. – Не размагнитилась! – радуется Кузьмич.
На экране – мордатый мужик в тельняшке, смотрит лукаво.
– Вот он – Кошкин! – обрадовано восклицает Кузьмич. – Вот такой мужик! Он всю нашу жизнь на судне на камеру фиксировал.
– Дорогой Кузьмич, – говорит с экрана боцман. – Пусть этот фильм в трудную минуту поднимает тебе не только настроение, но и кое-что еще…
– Не размагнитилась, – нежно говорит Кузьмич.
Пошел фильм. На экране появляется белоснежный океанский лайнер.
– Это не наш… – сообщает Кузьмич. – У нас попроще был.
Звучит немецкая речь. Кузьмич недоумевает, а Анна начинает все понимать.
– Да что же это такое? – никак не может врубиться Кузьмич. – Может, прокрутить?
– Пожалуйста, – говорит Анна и прокручивает.
Оказывается, это порнофильм, и невольные зрители попадают в самое пекло.
– Это… Анна И… Анна И… – от волнения Кузьмич даже стал заикаться. – Выключите, пожалуйста…
– Нет уж, раз начали, надо досмотреть. Чем кончится… Что она там сказала? «Дас ист фантастиш?»…
– Анна И…оанновна! – Кузьмич вскакивает, закрывая грудью экран. – Ну, Кошкин, ну гад! Ну, он мне встретится! Это он мне отомстил, гад. Я ведь эту гадость за борт выбрасывал, потому что это ведь… один душевный и телесный вред, а он…
Анна усмехается:
– Я вас прекрасно поняла, Геннадий Кузьмич, – все как надо: ерша, порнушку и в койку? По полной программе?
– Анна И… Да вы что?
Анна играет, и играет с удовольствием.
– Господин Мурашкин! Отныне прошу не подходить ко мне близко! Я буду общаться с вашим сыном, но не с вами. Вон, старый развратник!
68. Там же
Анна подбегает к окну и смотрит вниз. Там стоит смятенный Кузьмич и с надеждой смотрит вверх. Анна бросает в него злополучную кассету. Кузьмич обхватывает голову руками, как перед взрывом, потом хватает упавшую кассету, пытается порвать пленку и запутывается в ней, как Лаокоон.
Анна хохочет, да так, что садится под окном на пол. В ее глазах счастье.
69. Дом Мурашкиных. День
Анна занимается с Олегом. Она играет, он поет:
Не страшны мне ничуть расстояния, Но куда ни привел бы нас путь, Ты про первое в жизни свидание И про первый рассвет не забудь.В открытую дверь видна кухня. Кузьмич на цыпочках несет тяжелую кастрюлю. В сторону Анны он даже не решается смотреть.
70. Там же
Олег распевается, Анна смотрит в окно и наблюдает забавную картину: Кузьмич разговаривает с внимающим ему петухом (говорит он, разумеется, и за петуха). Петух в чем-то обвиняет Кузьмича, тот оправдывается, но неубедительно, отчего выглядит совсем жалким. Наконец петух начинает наступать на пятящегося человека, толкать его в грудь и бить кулаками по скулам (кулаки, разумеется, Кузьмича). Один удар такой сильный, что Кузьмич падает на землю, но тут же вскакивает, оглядывается, не видит ли кто, вздыхает и начинает сыпать на землю куриный корм. Анна хмыкает, не удержавшись.
– Плохо? – спрашивает Олег.
– Хорошо, – говорит Анна.
– А как вы думаете, Ане понравится?
– Еще как понравится… Хватит болтать, всего два дня осталось. Боюсь, не успеем. Знаешь что, сегодня съезжу домой, а завтра, чтобы не терять время, останусь ночевать у вас.
71. Поселок Большие Сосны. День
Анна выходит из автобуса, недоумевая. Армейские машины, бронетранспортеры, спецназ в масках. В воздухе кружит военный вертолет. Анна спешит к дому Мурашкиных, подозревая, что там что-то случилось. Перед домом стоит «мерседес» с немецкими номерами. Анна входит во двор. Навстречу идет Кузьмич, но не сразу замечает Анну, настолько он расстроен, обескуражен, смят.
– Что тут у вас происходит? – спрашивает Анна, указывая взглядом на вертолет.
– Это… – Кузьмич расстроено машет рукой. – Давыда берут… Одноклассника моего.
– За что?
– Говорят, на красный свет проехал, штраф не заплатил. По радио сказали: «Закон у нас один для всех».
Анна усмехается, говорит негромко:
– Не простили.
– Что? – не понимает Кузьмич.
– Ничего. Вы так расстроены. Не уверена, что он так расстроился бы, если бы вас забирали.
– Кто знает… – говорит Кузьмич, еще раз машет рукой и, забыв вдруг об Анне, идет к дому и скрывается в нем.
Анна останавливается в нерешительности, смотрит на «мерседес», медленно идет назад, но у самой калитки останавливается и направляется в дом.
72. Дом Мурашкиных. Тогда же
Анна входит, останавливается, прислушивается.
В доме звучит напористая немецкая речь. За накрытым к чаю столом сидят Кузьмич, Олег, незнакомый лысенький мужчина и, спиной к Анне, крупная светловолосая женщина. Кузьмич видит Анну, приподнимается.
– А это Анна Иоанновна, училка из музыкалки. Уроки пения нашему Олежке дает. У нее папа тоже немец…
Женщина оборачивается. Это русская женщина, переставшая быть русской и не ставшая немецкой, грубая, вздорная и безвкусная.
– А это Катя, Олежкина мама… Приехала из Дюссель… никак не могу выговорить… Из Дюссель…
– Не важно откуда, важно зачем, – говорит женщина. – Очень приятно. – В речи ее противный немецкий акцент. – Сегодняшний урок придется отменить и вообще заканчивать. – Она оборачивается, показывая, что разговор окончен, но Анна продолжает стоять.
– Ах, да, – вспоминает женщина, достает кошелек, долго в нем роется, вытаскивает купюру, подходит к растерянной Анне и сует ей в руку.
– Здесь десять евро, – говорит она и прибавляет назидательно: – Это очень большие деньги. Вы свободны. Данке шён.
Она возвращается к столу, а Анна продолжает стоять, держа в руке купюру.
Немец что-то робко говорит, женщина по-немецки же возражает, и тот замолкает.
– Я не поеду, – сдавленно произносит сжавшийся, совсем потерянный Олег.
– Ты – мой сын, а я – твоя мать, и ты поедешь туда, куда я скажу, и будешь делать то, что я скажу, – говорит женщина тоном, не терпящим возражения.
– Вот, Катя хочет Олежку забрать к себе… Говорит, там медицина, может, операцию сделают, – сообщает Кузьмич Анне через голову своей бывшей жены. – А дом, говорит, надо продать…
Женщина оборачивается, смотрит на Анну, выражая предельное недоумение:
– Вы еще здесь? Я же сказала – свободна.
Анна бросает на пол деньги, мгновенно преображаясь в львицу, тигрицу ли, словом, в разъяренную женщину, подскакивает, упирая руки в бока:
– Нет, это ты, милочка, свободна!
Женщина в испуге отшатывается, этого она не ожидала. Ее немчик привстает, пытаясь защитить, но и ему тут же достается:
– И ты свободен! Забирай свою фрау и катись отсюда, как в сорок первом под Москвой!
– Их бин мутер! Я – мать! – придя в себя, возвышает голос незваная гостья, но голос Анны еще выше:
– Чёртова ты мать! Где ты была, когда он пеленки ночами стирал? Памперсов-то у нас не было! Где ты была, когда он голодал, чтобы ребенку детскую смесь купить? Германию утюжила? Знаем мы таких мутеров, из-за таких, как ты, обо всех русских женщинах дурная слава. Когда здесь стенка на стенку шли, вы там это по телевизору с пивком наблюдали и крутили пальцем у виска, а теперь, когда здесь денег больше, чем там, и земля золотая, о своих брошенных детях вспомнили! Налетели зернышек поклевать!
– Анна Ио… – пытается вставить словечко перепуганный Кузьмич.
– И ты свободен, – кричит ему в ярости Анна. – И ты, Олег, и ты, немец, – указывает она на дверь мужчинам. – Оставьте нас, мы тут по-женски, как две голубки, поворкуем.
73. Двор дома Мурашкиных. Тогда же
Кузьмич, Олег и немец сгрудились перепуганные у самой калитки. Из дома доносятся женские голоса, но, что говорят, не разобрать – над поселком гулко молотит лопастями большой военный вертолет.
Наконец гостья выскакивает. Лицо у нее красное и волосы всклокочены. Она все время говорит, перемешивая русские и немецкие слова.
– Самозванка! Хулиганка! Шарлатанка! Я найду на тебя управу!
На ходу она что-то говорит своему немчику. Тот кивает и бежит к машине. Незваные гости уезжают.
Анна по-разбойничьи свистит с порога, смеется и кричит Кузьмичу и Олегу:
– Ну что стоите, хозяева? Идите в дом. – И прибавляет озорно: – Дас ист фантастиш…
74. Дом Мурашкиных. Ночь
Олег спит на диване. Анна – за ширмой на кровати. Кузьмич – на веранде на раскладушке. Заложив руки за голову, он смотрит в потолок и шепчет, как бы репетируя:
– Вы только не подумайте ничего плохого, Анна Иоанновна, но я пришел вам сказать, что с вашим появлением в нашем доме моя жизнь переменилась. Она озарилась… – Следует заминка, и Кузьмич начинает снова: – Вы только не подумайте ничего плохого, Анна Иоанновна, но я пришел вам сказать, что с вашим появлением в нашем доме моя жизнь озарилась… – И снова затык.
75. Там же
Часы в доме бьют двенадцать. Скрипят половицы. В белой майке, заправленной в черные трусы с отглаженными стрелками, Кузьмич входит в комнату. Убеждается, что Олег спит, и смотрит с надеждой на ширму. Он произносит заученный текст про себя – это отражается в мимике и движениях. Анна за ширмой всхрапывает. Объяснение мгновенно прерывается, на лице Кузьмича появляется радостная улыбка, которая бывает у всякого, кто видит или хотя бы слышит, как спит любимый человек. Осторожно, на цыпочках, он уходит.
76. За ширмой
Но Анна не спит. Она и всхрапнула нарочно, чтобы Кузьмич не зашел за ширму. Анна улыбается. В это время на веранде раздается такой храп, что рюмочки в горке позвякивают. Это Кузьмич. Анна улыбается и закрывает глаза.
77. Дом Мурашкиных. Утро
– Так, – говорит Анна, – повторяем последний раз и едем.
Она начинает играть, Олег петь, но голос его срывается.
– В чем дело, Олег? – хмурится она.
– Не знаю, – пожимает плечами тот. – Горло. Я вчера вечером молока из холодильника попил.
– Что?! – взрывается Анна, вскакивая. – Ты попил холодного молока накануне выступления!
– Да…
– Поздравляю!
В комнату вбегает перепуганный Кузьмич и замирает на пороге.
– Знаешь, кто ты теперь! – негодует Анна. – Ты теперь артист! А знаешь ли ты, что артист не принадлежит себе? Он не принадлежит родным и близким. Думаешь, он принадлежит публике? Не-ет… Он принадлежит сцене и ради нее идет на любые жертвы. Ты знаешь, что балерины неделями голодают, чтобы сбросить лишний вес, а потом выходят на сцену и парят, парят и не думают о том, что у них бурчит в животе. Они отказываются от благополучия и семейного счастья, они теряют все ради того, чтобы выйти на сцену. Я близко знала одну актрису, довольно известную… У нее были большие нелады с сердцем, большие нелады. А через три дня спектакль. И врач сказал: если вы выйдете на сцену, вы умрете. А она вышла и осталась жить! И сейчас живет. А если бы не вышла, умерла бы. Она сама мне это рассказывала. А ты – накануне выступления попил из холодильника молока!
Олег стоит, понурившись.
– Ну, что голову повесил! Быстро лечиться! А вы, Кузьмич… кипятите молоко, тащите масло, соду. Глупости надо исправлять немедленно!
78. Интернат для незрячих. День
Празднично украшенный актовый зал. На сцене – президиум. Выпускникам интерната вручают дипломы об окончании. Шумно и радостно. Кузьмич и Анна сидят рядом. Они нарядные и очень волнуются. Кузьмич указывает временами на строгую пожилую даму, причесанную и одетую очень по-советски. Это, несомненно, Сталина. С непривычки видеть выходящих на сцену незрячих мальчиков и девочек – ком в горле, но это только с непривычки… Диплом вручается девочке. Кузьмич указывает на нее и что-то шепчет Анне. Мы понимаем, что это та самая девочка. Она и впрямь очень красивая. А вот диплом вручают Олегу. Кузьмич хлопает, отбивая ладони. Анна незаметно смахивает пальцем слезу.
79. Там же
Они сидят втроем. Олег посредине. Торжественная часть наконец заканчивается. Кузьмич смотрит на Анну и делится сокровенным:
– Извините, Анна Иоанновна, но все-таки вы похожи на Анну Сапфирову.
Анна пожимает плечами:
– Я ничего для этого специально не делала.
Олег хмыкает, не удержавшись. Анна смотрит на него удивленно.
80. Там же
Начинается концерт. Ведущий что-то объявляет. От волнения Олег вытянулся в струну. Руки на коленях дрожат. Анна видит это и кладет свою ладонь на Олегову. Кузьмич видит это и поступает так же.
81. Там же. Тогда же
От волнения руки и колени Кузьмича ходят ходуном. Анна за инструментом. Олег поет:
Тишина за Рогожской заставою, Спят деревья у сонной реки. Лишь составы бегут за составами Да кого-то скликают гудки.В голосе Олега внезапно появляется неприятная хрипотца, он, как говорят, сдает.
Подскажи-расскажи, утро раннее, Где с подругой мы счастье найдем?Голос слабеет все больше, вот-вот он даст петуха, и, чтобы этого не случилось, песню подхватывает Анна:
Может быть, вот на этой окраине Возле дома, в котором живем.В зале движение, оживление, слышится шепот:
– Это же Сапфирова…
– Это Анна Сапфирова.
– Анна Сапфирова.
Кузьмич крутит головой, понимая это последним.
– Все-таки она! – шепчет он сокрушенно.
А Анна усаживает одной рукой Олега рядом с собой, они играют и слаженно поют:
Не страшны нам ничуть расстояния, Но куда ни привел бы нас путь, Ты про первое в жизни свидание И про первый рассвет не забудь.Это – успех. Это – победа. И дети и взрослые аплодируют, отбивая ладоши, кто-то сидит, кто-то стоит, а Сталина Ивановна сделала пальцы колечком и свистит.
– Браво, – кричит девочка Аня.
Олег растерян, и тогда Анна ладонью наклоняет его голову – первый в жизни поклон.
82. Дом Мурашкиных. Ночь
Кузьмич и Анна сидят за накрытым столом. Чашки с остывшим чаем. Руки обоих лежат на столе. Они смущаются, как будто только познакомились.
– А вы помните свой выпускной? – спрашивает Анна.
– Да какой… Я же из школы сбежал, – говорит Кузьмич.
– А я очень хорошо помню… – Часы бьют два часа. – Я уже волнуюсь…
– Не волнуйтесь… Обещали привезти… Сама Сталина обещала…
Они замолкают, прислушиваясь к тишине.
83. Там же. Тогда же
Тихо. Их руки рядом. Кузьмич страстно жаждет притронуться своей рукой к ее руке, но не решается. И тогда она, современная женщина, кладет свою ладонь на его. Некоторое время они молчат замерев, удивленно и радостно переживая совершенно новые чудесные ощущения, но тут же Кузьмич вспоминает, что он мужчина, и кладет свою ладонь сверху. Анна смотрит благодарно. Кузьмич улыбается, в глазах легкая укоризна.
– Значит, все-таки не Иоанновна, а Ивановна? Анна Ивановна?
Анна кивает и улыбается:
– Всех училок так зовут?
Кузьмич делается вдруг серьезным.
– Аня, – говорит он очень серьезно.
– Что? – очень серьезно отвечает она.
– Я люблю вас…
84. Там же. Тогда же
Так они и сидят – рука в руке – молча и не двигаясь, не решаясь потревожить свое неожиданное счастье. И даже когда на улице раздается звук мотора подъехавшей машины – не слышат. Дверь неожиданно хлопает, на пороге вырастает Олег. Анна и Кузьмич испуганно вскакивают, по-детски пряча за спиной руки.
– Поздравляю! – неожиданно кричит Олег.
Кузьмич и Анна смущенно переглядываются, но не успевают поблагодарить, потому что на самом деле это было не поздравление, а упрек.
– Рассвет начинается, а вы тут сидите! – кричит Олег.
85. Дом Мурашкиных. Рассвет
Они сидят втроем рядышком на крыше, присутствуя при чуде рассвета. Солнце поднимается плавно и торжественно. Тихо, но в душах этих троих звучит та музыка… Солнце поднимается выше и выше и вот уже целиком вырастает над землей. Кузьмич щурится и ежится от утренней прохлады. Анна с трудом сдерживает зевок. А Олег сидит, подавшись вперед, и, похоже, готов сидеть так еще.
– Ну, всё, сынок, кончилось кино, – осторожно говорит Кузьмич.
Олег смеется.
– Что ты, папа, это же рассвет! Все только начинается!
И, запечатлев все произошедшее, камера стремительно поднимается вверх, уменьшаясь, изображение застывает и, поднимаясь в небесную высь, уменьшается до малюсенькой точки, как посланная Богу фотография.






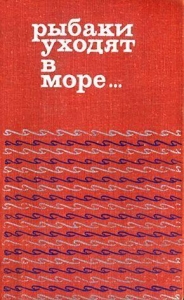
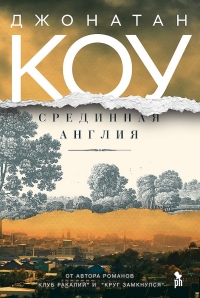
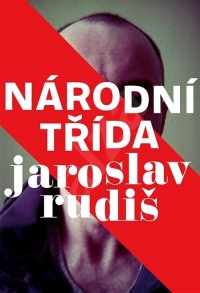

Комментарии к книге «Садовник (сборник)», Валерий Александрович Залотуха
Всего 0 комментариев