Елена Минкина-Тайчер Женщина на заданную тему
Информация от издательства
Художественное электронное издание
Минкина-Тайчер, Е. М.
Женщина на заданную тему: повести / Елена Михайловна Минкина-Тайчер. – М.: Время, 2017. – (Самое время!)
ISBN 978-5-9691-1638-2
В новую книгу Елены Минкиной-Тайчер, уже известной читателям по романам «Эффект Ребиндера» и «Там, где течет молоко и мед», вошло шесть повестей – шесть человеческих историй, совершенно разных по времени и стилю написания, героини которых – молодая бизнес-леди и мудрая старуха, юная эмигрантка XXI века и девочка времен Великой Отечественной войны, заводской мастер пятидесятых и врач-исследователь из будущего – каждая со своей непростой судьбой, каждая – огромный отдельный мир. И все объединены легким пером и любовью автора.
© Елена Минкина-Тайчер, 2017
© Валерий Калныньш, макет, оформление, 2017
© «Время», 2017
Мишель, моя прекрасная
«Нет, все-таки не повезло!» – на уютном и домашнем, как бабушкины сырники, русском языке подумала израильская девочка Мишель Полак. Подумала и с тоской поглядела в залитое утренним солнцем окно. Там, за горшками с геранью и расшитыми Лялей занавесками, светились стены их нового квартала, нарядные дома, облицованные золотистым иерусалимским камнем. Да, действительно, днем и ночью светились, как и старинные, еще до англичан построенные здания центра, и совсем древние, низкие, с бесконечными уступами и балкончиками, галереи невидимого отсюда Старого города.
Ляля не перестает восхищаться мудростью бывшего иерусалимского мэра: «Такая гармония тепла и света, древности и модерна»[1]. Впрочем, Лялю нетрудно восхитить, это вам не папа.
Черт, ведь еще совсем недавно слонялись с Эли по Старому городу, брели от Яффских ворот в толпе иностранцев, беззаботно болтали, жевали приторную пахлаву с толстыми зелеными фисташками. Сладости выкладывал на лотки смешливый молодой араб, ловко перебирая темными, стремительными, как у музыканта, пальцами. Эли тоже смеялся, облизывал ладони, этот тощий обжора мог есть что угодно!
– Вот видишь, – он, как обычно, умничал, откидывая назад нечесаные рыжие кудри, – восточный город, восточные лакомства, восточная архитектура. Кто сказал, что я имею на них больше прав, чем такой вот парень? Сколько лет он стоит тут – сто, двести, пятьсот? Посмотри, посмотри внимательно – да, он часть этого города, как рынок или крепостная стена! А теперь посмотри на меня?
(Что уж там было смотреть: россыпь веснушек по всей физиономии, очки в тонкой оправе, безразмерная футболка с криво вырезанным домашними ножницами воротом. Типичный американский хиппарь времен Лялиной молодости!)
– Мы верим только политикам, – Эли важно морщил нос, – а у них свои задачи. Грязные и мелкие задачи!
В тот раз Эли воображал себя пацифистом, то есть борцом за мир. Он вечно с кем-то борется – с родителями, учителями, охранниками в супермаркете. Теперь вот с армейским начальством. Уже два раза остался без отпуска. Если бы еще хоть кто-то обращал на него внимание! И в борьбе за мир ни пацифистам, ни солдатам пока не удалось победить.
Великий город! Противно думать, что там сейчас происходит, – жуткие пустые тротуары, с которых только что отскребли следы последнего взрыва, бесконечные ряды полицейских, солдаты с оружием. Особенно жалко солдат – что толку ходить среди арабских торговцев, смотреть на их лицемерные улыбки, кого это спасет? Иностранцы испуганно оглядываются, торопливо обходят кафе и автобусные остановки. Интересно, кто и зачем приезжает в разгар интифады? Паломники давно разбежались. Может, какие-то религиозные фанатики? Нет, скорее журналисты. Дешевые болтуны. Со всего мира рвутся в опустевший опозоренный город.
Мобильник в кармане вздрогнул и бодро заверещал механической мелодией, ничего не поделаешь, надо отвечать, пока не включился автоответчик. Семь тридцать, значит, это не мама, мама звонит в восемь пятнадцать, сразу после утренней конференции в офисе.
– Маша, – знакомым прокуренным басом закричала Ляля, – Маша, ты опять поедешь на автобусе?
Дальше все известно.
«Не стой у самой остановки», – скажет Ляля.
«Смотри на сумки», – скажет Ляля.
«Я тебя умоляю! – скажет Ляля. – Лучше вообще пропусти, если хоть что-то подозрительное».
– Бабулечка, я уже ушла, – быстро отвечает Мишель, – у меня нулевой урок. Целую.
Вранье, конечно. В этом месяце у нее вообще нет нулевых уроков. Две недели до экзаменов! Почему, почему они не понимают, что такие звонки и разговоры – пустая трата нервов?! Полная ерунда! Все-все полная ерунда, начиная с имени.
Уже давным-давно никакая она не Маша, сама же Ляля и придумала новое имя. Кстати, отличная идея оказалась, ребята в классе балдеют – «Michelle, ma belle…»[2]. И всё благодаря Битлам. Хорошо, что Ляля такая фанатка оказалась, до сих пор многие песни наизусть помнит.
И про автобус что зря причитать? Не идти же пешком через полгорода! «Смотри на сумки!» Все пассажиры смотрят на сумки, настоящая коллективная паранойя, а толку? Старшая сестра Машиной подруги, красавица и воображала Элинор, за которой полшколы бегало, вообще в автобусы не заходила, специально права на мотоцикл получила. А погибла от взрыва в пиццерии. Той самой, возле Старого города, куда они сто раз с родителями ходили. Эли прав, лучше вообще про это не думать.
Впрочем, Эли всегда прав. По крайней мере, он уверен, что всегда прав. Ей бы так научиться!
С тех пор как Мишель шестилетней ленинградской девочкой Машей Поляковой ступила на горячую местную землю, она мечтает научиться здешней уверенности и независимости. Лучше не вспоминать, сколько пережито страхов и обид. Впрочем, и не обид, а ненужных глупых огорчений.
Прямо перед отъездом мама купила ей яркую розовую куртку из нейлона. Мама вообще обожала покупать детские наряды, бегала по пустым ленинградским магазинам, стояла в каких-то очередях. «Это потому, что у нас не было возможности ее саму красиво одевать», – вздыхала Ляля. «Не усложняй, – ворчал Гинзбург, – просто Машка для нее – последняя кукла».
Куртка была пухлая, и рукава плохо сгибались.
– Красивенькая, правда? – спросила мама, поворачивая Машу в разные стороны.
– Слишком светлая, – с сомнением вздохнул практичный Гинзбург.
– Ты ничего не понимаешь! Вы привыкли в своей России ко всему серому! А за границей дети носят нарядные светлые вещи.
– Да уж, заграница, – усмехнулся папа. – С такой-то молнией!
Молния была из ярко красной ткани с желтыми железными звеньями посередине.
– Зачем усложнять! – возмутилась оптимистка Ляля, – положитесь на меня!
В тот же вечер она притащила от подруги шикарную белую молнию, вшила вместо позорной железной да еще выстрочила на левом рукаве смешного толстого мишку.
– Пожалуй, ничего, – согласился строгий папа, – похожа на импортную, берем! Там зимой сплошные дожди.
Ха! Ничего-то они не понимали! В первый же израильский дождь куртка разбухла как подушка, и по спине потекли противные холодные струйки. Вокруг в тонких и совершенно непромокаемых костюмчиках бегали наглые одноклассники и строили рожи.
Но Маша уже знала, что дома ничего рассказывать не нужно. Каждый день они с Лялей ходили за продуктами в огромный нарядный магазин на площади. На длинных полках красовались непонятные коробки всех цветов и размеров, из огромных стеклянных банок ломились на свободу шоколадные вафли, фигурные печенья с изюмом, круглые, как мячики, жвачки. Горы персиков и мандаринов плавно переходили в поля сухофруктов, орехов и горячих, упоительно пахнувших булочек. В отдельном ряду продавались куклы Барби, причем не только девочки в розовых туфельках на каблуках, но и Барби-мужчины в строгих костюмах и даже маленькие кукольные дети. Ляля долго ходила вдоль рядов, напряженно рассматривала цены, а потом покупала всегда одно и то же – молоко в скользком пакете, бледный, как бумага, хлеб и ледяные негнущиеся индюшачьи ноги. По вечерам она варила из этих ног бульон и нудно пересчитывала дневные расходы, чего никогда не делала в Ленинграде. Папа с мамой учились в ульпане, по ночам грузили буханки в соседской пекарне, Гинзбург лежал на диване и надсадно кашлял.
– Мама говорит, что олим ужасные жадины, – заявила Машина соседка по парте, маленькая противная девчонка с красивым именем Мааян, – у самих дорогие машины, а ребенку нормальную куртку не могут купить.
И почему до сих пор помнится? Ведь в тот же день мама побежала в лавку и на всю ночную выручку от буханок купила ей блестящий замечательный костюмчик.
Потому что куртка исчезла, а неуверенность осталась.
Как она боялась, что не позовут на костер в Лаг ба-Омер, и придется сидеть дома с Лялей и Гинзбургом, пока остальные ребята балдеют у ночного огня! А карнавал на Пурим! Маша специально попросила родителей купить костюм клоуна. Да, не принцессы в чудесном длинном платье с кружевными оборками и не сказочной феи в сверкающей мантии, а толстого глупого клоуна с красным носом – пусть уж все смеются над костюмом, а не над ней самой.
А сколько мучений было с именем. «Мар-рыя! Шем ноцри»[3], – морщила нос Мааян. «Шем ноцри! Шем ноцри!» – радостно вторили мальчишки, прыгая как козлы.
– Да врежь ты ей раз, чтоб не выступала! – гневно требовал папа.
– Еще не хватало! Просто не обращай внимания, – убеждала мама.
– Может, нужно пойти в школу и объяснить, что в понятии «христианское имя» нет никакой крамолы? – размышлял вслух Гинзбург.
– С ума вы все посходили! – Ляля привычно махнула рукой. – Надо поменять имя, вот и все! Пусть будет Мишель, например. Просто шикарно. «I need you, I need you…» – пропела она с ужасным русским акцентом.
– А что? – рассмеялся папа, – хорошо звучит, – Мишель Полак, почти как Мишель Пфайффер, экспортный вариант!
– Гениально! – проворчал Гинзбург, – всю жизнь мечтал! Можно еще в честь этого назвать… прыгающего… Майкла Джексона!
– Папа, при чем здесь Майкл Джексон?! – Ляля даже вскочила, – Ты послушай: Ми – Шель. Мирьям и Шеля. В одном имени. Будто специально для тебя!
* * *
У шестнадцатилетнего Оськи Гинзбурга, тощего долговязого ленинградского подростка образца 1939 года, было три любимых женщины – мама, младшая сестра Шеля и учительница литературы Анна Львовна Резникова.
Правда, в первых двух случаях любовь была естественной, как дыхание, и абсолютно разделенной, потому что добрейшая, склонная к ранней полноте Мирьям Моисеевна Гинзбург, раздавленная нелепым арестом мужа в декабре тридцать седьмого, все силы своей души перенесла на резко повзрослевшего Оську и дочку, которую она вопреки всякой логике звала Кунечкой. А шестилетняя вся в темных кудряшках Шеля-Кунечка, хотя и была порядочной ябедой и плаксой, так страстно и преданно обожала старшего брата, так хвасталась во дворе его действительными и мнимыми подвигами, так доверчиво вкладывала пухлую шершавую ладошку в его торчащую из всех рукавов руку, что Оськино сердце таяло и трепетало, как и бывает при самой настоящей любви.
Гораздо сложнее и хуже обстояли дела с Анной Львовной. Миниатюрная (на голову ниже Оськи) и прекрасная, как само совершенство, Анна Львовна насмешливо покачивала гладко зачесанной головкой на все его жалкие бормотания у доски и чудесными тонкими руками выводила в журнале скучные тройки. Если бы только тройки! За красотой Анны Львовны, кроме немыслимой и непреодолимой разницы в возрасте величиною в целых восемь лет, кроме пропасти образования, стихов Демьяна Бедного и образа Катерины в темном царстве, стоял еще стройный щеголеватый летчик, каждый день ожидавший милую Анечку у ворот их старой, переделанной из женской гимназии школы.
Учитывая вышесказанное нетрудно понять, почему Оська, призванный в октябре сорок первого, так и не решился попрощаться с Анной Львовной, а только отчаянно обнимал на вокзале маму и громко ревущую Шелю. Будто знал, что никогда их больше не увидит. И мама, и сестра умерли в первую же блокадную зиму, о чем рассказала приехавшему летом сорок четвертого лейтенанту Гинзбургу сморщенная, постаревшая на двадцать лет соседка Валя. Подвела мамина доброта. При отправке детсада в эвакуацию, уже на вокзале, Шеля устроила такой дикий рев, что сердце Мирьям Моисеевны не выдержало, и она в последнюю минуту забрала домой свою ненаглядную Кунечку. Первое время они держались неплохо, но с похолоданием резко уменьшились запасы продуктов в городе, мучимая чувством вины, Мирьям Моисеевна скормила Шеле последние остававшиеся в доме крохи и перешла на половину своего пайка. «Конечно, это не могло долго продолжаться, – сказала Валя, – так многие матери поумирали. А за ними и дети. Известная история».
Оглохший заледеневший Гинзбург долго стоял в пустом ненужном теперь дворе, потом побрел к Петроградской, ни на что не надеясь и даже не понимая, зачем и куда ведут его ослабевшие ноги, и очнулся только у темного, но по-прежнему красивого и добротного дома. Здесь, на четвертом этаже, когда-то, сто лет назад, еще до войны, жила Анна Львовна.
Удивительно, как сразу она открыла, худенькая, похожая одновременно на девочку и на старушку, как ахнула и бросилась обнимать жесткие Оськины плечи, как тихо плакала, слушая про маму и Шелю, и все гладила его криво постриженные вихры.
Поздно ночью, разливая по кружкам безвкусный бледный чай, Анна Львовна рассказала, что ее папа, старый профессор математики Лев Абрамович Резников, умер от голода весной сорок второго (хорошо, что мама не дожила до войны), Леню убили при освобождении Белоруссии, а брата – в Курске, и только утром до него дошло, что Леня и есть тот самый летчик. Потом они сидели молча у окна, уже сняли затемнение, виднелись слабые огни над Невой, Гинзбург курил и надсадно кашлял, и Анна Львовна тихим будничным голосом спросила: «Ося, ты был когда-нибудь с женщиной?» И тут Гинзбург, бравый лейтенант артиллерии, выживший зиму под Сталинградом, дважды раненный и получивший медаль «За отвагу», позорно заплакал. Потому что в том скорбном и грязном деле, коим он занимался уже три года своей недлинной жизни, было место всему – злобе, преданности, страху, но только не любви. А он, к счастью, еще не успел узнать, что можно быть с женщиной без любви. И он все ревел и не мог остановиться, пока Анна Львовна голубоватыми худыми руками расстегивала его гимнастерку, и негнущийся ремень, и свою старенькую чудесную блузку, потому что он уже научился снимать рубашку при ранении груди и головы, и даже с мертвого тела, как стянул в промерзшем подвале еще теплую рубаху с убитого друга Гарика, и только женской блузки не умели коснуться его грубые, дважды обмороженные руки.
Через день Гинзбурга отозвали из отпуска, наступление шло по всем фронтам.
До самой отправки поезда Анна Львовна отчаянно сжимала его рукав, по окаменевшему сказочно красивому лицу стекали капли летнего дождика. «Ты не вернешься, – повторяла она, – я знаю, ты тоже не вернешься, никто не возвращается». Но он вернулся, прямо в День Победы, как в известном тогда кино, и только на два дня опоздал к рождению Ляли, Елены Иосифовны Гинзбург.
* * *
Мишель выходит из автобуса, торопливо перебегает улицу. Как тягостно стало ездить – одинаковые, как пингвины, студенты ешивы, бойкие иерусалимские старушки, хозяйки с повязанными головами, почтенные раввины – все с ужасом смотрят друг на друга, ни улыбок, ни веселой утренней суеты.
По телефонным звонкам можно сверять часы.
7.45 – папа: «Марья Сергеевна! Ты на месте? Звони после школы. Целую».
7.50 – мама: «Мишутка! Доехала? Ну слава богу! Все, побежала, у меня французы».
7.55 – Гинзбург: «Машенька, прости, детка, хотел услышать твой голос. Да-да, беги на урок, я понимаю».
Стоило ли мечтать о собственном мобильном телефоне! Еще счастье, что год назад родился ее братишка Данечка, поэтому главные душевные силы семьи брошены на органическое питание и безвредные памперсы, иначе Мишель просто бы не выпустили из дому!
После взрыва в дельфинариуме[4] все рухнуло, а про лагерь даже заикаться не приходится! Праздничная программа, международный оркестр, соревнования народных танцев – все разрушено и сметено, как песочные куличики в хамсин. Жалкие детские забавы, кого они волнуют!
Рассказать бы кому-то десять лет назад, что она, бессловесная испуганная «Мар-рыя», станет президентом молодежного движения, что ее первой выдвинут на грандиозный международный слет в Иерусалиме и поручат вести торжественное открытие… И вот все-все пропало! Американцы и канадцы уже отказались от участия в слете, французы тем более. Российская делегация пока собирается приехать, у них своя Чечня не лучше, но родителей все равно не убедить. Ладно мама или Ляля, обычно спокойный Машин папа трясется и дрожит при одном упоминании дельфинариума! И Гинзбург вчера кричал целый день о ненужном риске, под конец даже заплакал – настоящая психическая атака. Знают, что Мишель не выдержит, она не умеет никого огорчать. Пропали каникулы! Правда, Ляля обещала что-то придумать, какую-нибудь заграничную поездку. У нее по всему миру подружки – и в Америке, и в Германии, но разве можно сравнивать!
* * *
Ах, эта Ляля! Другой такой фантазерки и хулиганки не нашлось бы на всей Петроградской стороне. «Потому что без матери растет», – оправдывался про себя Гинзбург. Анна Львовна, его родная единственная Анечка, умерла от порока сердца, когда Ляле едва исполнилось восемь лет.
Порок обнаружили через год после родов, самые лучшие врачи (к кому только не пробивался Гинзбург!) говорили одно и то же – результат длительного переохлаждения и ангин. Но Аня особенно не огорчалась.
– Вот смотри, – говорила она испуганному Гинзбургу, раскрыв свой любимый толковый словарь, – «порок – физический недостаток, отклонение от нормального вида». Отклонение, понимаешь, даже совсем и не болезнь.
Наверное, нужны были антибиотики, остановить процесс, предупредить дальнейшее обострение, но кто знал и понимал? Анна Львовна сразу после войны вернулась в школу – работать и кормить семью. В том же году, после тихого, но страшного семейного скандала, Гинзбург поступил на физический факультет. Ее не интересует муж разнорабочий, твердила Аня, ломая свои чудесные тонкие пальцы, в первую очередь человек должен получить образование. Не хватало, чтобы она, взрослая тетка, взвалила на него себя и ребенка.
Нет, нет, Гинзбург рвался, как мог, – варил кашу скандалистке Ляле, таскал ящики в винном отделе, чинил по соседям приемники и примусы, даже писал курсовые за деньги. На занятия оставались ночные часы, но все казалось преодолимым – он чувствовал себя могучим, как бык. Анна Львовна, его Анечка, с гордостью рассматривала зачетку, радостно улыбалась чуть синеватыми губами: «Тебе предложат аспирантуру, я уверена!» И он был счастлив, совершенно счастлив, хотя, несмотря на блистательные успехи, никто, конечно, не собирался предлагать аспирантуру сыну репрессированного инженера Гинзбурга.
Он стал преподавать физику в школе, на редкость легко вписался, сам мастерил приборы для кабинета, мальчишки его обожали, девчонки побаивались, но тоже любили за остроумие и справедливость. Ляля подрастала и становилась немного похожей на сестренку Шелю. По крайней мере, смотрела на него с таким же доверием и восторгом.
Долгие годы Гинзбурга мучила мысль, почему болезнь выбрала именно Анечкино сердце, мало ли было вокруг других жертв?
– Микробы обычно поражают деформированные клапаны, – нудно объяснял вежливый старенький доктор, – а у вашей жены – ревматический порок. Вот теперь осложнился септическим эндокардитом. Мало надежды на выздоровление. Очень мало.
Все оказалось правдой. Этот невидимый чертов эндокардит за несколько недель сожрал Анечкины клапаны или как там оно называлось. Губы и пальцы стали темно-синими, ноги отекли, как подушки, она почти не могла дышать.
– Это не страшно, Осенька, – шептала она, гладя горячечной ладонью его беспомощные никчемные руки, – мне уже много лет. Знаешь, я все время боялась, что ты разлюбишь такую старуху. Ты опять женись на учительнице, у них подход к детям, Ляльку не станут обижать.
Ах, эта Лялька! В шестом классе она отрезала косу, в седьмом – сшила какой-то балахон из старой Оськиной гимнастерки и стала напяливать в школу вопреки бурным протестам учительского коллектива, в девятом Гинзбург нашел у нее в портфеле сигареты.
– Что так кричать, – заявило его ненаглядное детище, нагло задрав нос, – я все равно целый день дышу твоими жуткими папиросами. А сигареты с фильтром, намного полезнее. Пап, ты лучше посмотри, какой натюрморт получился. – Она водрузила на стол перепачканный холст.
Натюрморт являл собой безобразно кривую синюю вазу на низком столике, тени на заднем фоне ложились тяжелыми седыми мазками, и поэтому ветка казалась еще более беззащитной. Тоненькая прозрачная ветка без единого листочка.
Вот так с ней было всегда. То стихи, то театр. Бредила шекспировскими сюжетами, до потери сознания зубрила монологи. Потом вдруг решила стать доктором, раздобыла анатомический атлас, все таскала по квартире какой-то жуткий череп, пока Гинзбург потихоньку не снес его на помойку. Потом начался запой рисованием, потом древней историей, археологией, географией.
Может, и вправду надо было жениться? Нет, Гинзбург отнюдь не стал монахом, наоборот, слишком легко освоил науку быть с женщиной в тоскующем от бабьего одиночества послевоенном школьном коллективе. Но все эти забавные и приятные минуты не имели ничего общего с его домом, его жизнью, его любовью. Может, груз такой любви оказался слишком тяжел для одной Ляли?
В последнем классе Ляля заболела музыкальной группой «Битлз». Шел 1962 год, весь мир с восторгом внимал знаменитой четверке, по Ленинграду ходили подпольные магнитофонные записи. Ляля как завороженная шептала манящие английские слова, раскачивалась в такт непривычным влекущим ритмам, громко фыркала, когда Гинзбург пытался подпевать. Хорошо бы она смеялась, если бы отец за три тома Тарле не устроил доченьку в лучшую английскую спецшколу.
На Новый год глубокой ночью он поставил под елку «подарок от Деда Мороза» – новенький магнитофон, не без труда добытый через маму одной из учениц. (Ха, видела бы Мишель эту чудо техники в десять килограммов весу, с нескладными катушками и толстыми жесткими клавишами!)
Счастью Ляли не было границ, она то бросалась обнимать Гинзбурга, то кружилась по комнате, прижав к груди волшебные катушки и подпрыгивая от избытка чувств, то снова обнимала и целовала его в сизые, небритые по случаю выходного дня щеки. Господи, да Оська бы весь свет купил этой лохматой мартышке с выпуклыми, как у него самого, глазами и нежными Анечкиными руками!
Через два месяца Гинзбурга вызвали в школу.
– Знаете ли вы, Иосиф Ефимович, – сказала завуч, поджимая губы, – что Елена дружит с очень нехорошей компанией? Какие-то иностранные песни, нелепые наряды, курение. Хиппи, вы понимаете, самые настоящие хиппи! Я даже слышала, – она наклонилась, обдавая Гинзбурга запахом нафталина и духов «Красная Москва», – они собираются летом в какой-то поход, совершенно одни, без вожатых! Это же прямая дорожка к беспорядочным половым отношениям. – Завуч даже вспотела от волнения. – Вы должны срочно принять меры!
– Да, – сказала Ляля, задрав тощие ноги на спинку кресла, – только не в поход, а в экспедицию. Археологическую. Кстати, очень клевые ребята, не зануды, как в нашей школе! Будем искать осколки былых цивилизаций, тем более у нас тут цивилизацией пока не пахнет.
За месяц он все организовал. Через старого школьного друга Сашку Одоевцева, когда-то страстного энциклопедиста и коллекционера, а сейчас – доцента исторического факультета ЛГУ, нашел настоящую археологическую экспедицию, причем недалеко, под Псковом. Лялю (по его тайной просьбе) брали стажером при условии успешного поступления на тот же факультет. Сашка же, вернее Александр Петрович Одоевцев, нашел нужных репетиторов, хорошую литературу. Ляля училась как безумная, благо памятью уродилась в мать и легко читала наизусть «Евгения Онегина».
На дворе стояла незабываемая оттепель шестидесятых, евреев принимали практически на все факультеты. В середине августа студенткой первого курса Ляля уехала в Псков.
* * *
Нет, Эли и не думал звонить, зря Мишель сто раз проверяла автоответчик. Что этому воображале ее огорчения, рухнувший лагерь, споры с родными. Он с собственным отцом второй год не разговаривает.
– Подумаешь, международный съезд, – заявил он вчера, задрав грязный ботинок на сиденье автобуса и презрительно морща нос, – педагоги, вожатые, хоровые песни. Игрушки для детей младшего возраста! Поехала бы в Индию или Таиланд как нормальный человек, жизни поучилась.
(А ты думала, он скажет «не уезжай, не покидай меня»?)
– Мужчины – народ примитивный, – привычно повторяет Ляля, – особенно молодые. У них пока вместо мозгов одни гормоны, им главное – азарт, охота. Ускользающая добыча гораздо привлекательнее той, что в руках, понимаешь? Поэтому никогда нельзя показать, что ты искренне любишь его, скучаешь, боишься потерять. И главное, никаких упреков и выяснения отношений! Хочешь удержать – научись исчезать, молчать, притворяться независимой и равнодушной.
Наверное, Ляля права, но как же Мишель все осточертело! Смешно сказать, в ее семнадцать лет такая старинная история.
Тогда, года три назад, она от одиночества забрела в районный молодежный клуб. Нет, скорее не клуб, а довольно-таки сырой и холодный подвал, правда, разрисованный веселыми рожицами. По углам стояли диваны, кажется принесенные со свалки, на разномастных стульях висели куртки и сумки, огромный стол, сложенный из двух кусков фанеры, накрывал белый лист картона, на котором две смешные лохматые девчонки старательно рисовали какие-то буквы. Еще двое ребят играли в шахматы, шмыгая носами от холода, лохматый долговязый мальчишка осваивал ударную установку, довольно ловко перескакивая с одного барабана на другой. Да, это был приют таких же бедолаг, не вписавшихся в правильную школьную жизнь, тихая обалденная тусовка, где никто не смеялся над твоими увлечениями или ошибками. Потом оказалось, что в клубе есть свои вожатые и даже, кажется, психологи, каждую среду устраивали заседания актива – составляли план на неделю, принимали новых ребят, просто разговаривали.
– Опять заседание? – смеялся папа. – Совещания, прения, доклады? Знаешь, один хороший поэт даже посвятил вам стихотворение, так и называется – «Прозаседавшиеся»! А может, лучше спокойно книжку почитать, чем тусоваться со всякими бюрократами?
Ничего-то они не понимали! Впервые в израильской жизни Мишель оказалась равной среди равных. А вскоре к их группе восьмиклассников прикрепили вожатого из десятого, Эли Лейбовича. Конечно, все девчонки ахнули! Не только потому, что взрослый. Никто из ребят не знал и трети тех историй, что помещались в его рыжей голове. Строительство кораблей, открытие материков, изобретение прививок и антибиотиков, раскопки пирамид, создание атомного оружия… Говорят, на уроках Танаха Лейбович демонстративно читал разные посторонние книги, небрежно прикрыв рукой обложку – мол, наука выше религиозного мракобесия. Удивительно, как его вообще не выгнали из школы! Но с младшими ребятами Эли держался весело и просто, почти не воображал, рассказывал всевозможные истории, и настоящие, и фантастику из своих бесконечных книжек, и Мишель иногда казалось, что он говорит только для нее. По вечерам всей группой встречались в Старом городе (боже, как легко и весело можно было бродить!), шагали от Яффских ворот в густой толпе восторженных туристов, болтали. Эли изображал религиозного еврея, строго качал головой и кланялся. Расходились поздно, деревья отбрасывали кривые тени, трещали сверчки, и древние каменные стены тихо светились в кругах фонарей. Эли часто провожал Мишель до самого дома и потом уходил дворами, уверял, что так получается удобнее и короче.
– У вас индивидуальное шефство над каждым пионером? – лукаво улыбалась мама.
Вечно они придумывали глупости! И какие пионеры в Израиле?
– Да-да, – вторил папа, – у некоторых вожатых наблюдается повышенное внимание к отдельным подопечным.
Через два месяца на общем собрании Эли попросил снять с него обязанности вожатого младшей группы, так как он влюблен в одну из девочек. Мишель тогда просто дышать перестала, а старшие ребята принялись смеяться и хлопать Эли по плечу. Они уже давно догадались.
Дальше вспоминать не хочется. Через два месяца ему все надоело, – точно, как говорила Ляля. Если сейчас задуматься, вполне справедливо. Какой толк от влюбленной четырнадцатилетней девочки? Ну ходит за тобой, слушает рассказы, испуганно закрывает глаза, если пытаешься ее поцеловать. Многие ребята уже имели настоящих взрослых подружек, ездили в Эйлат и на Кинерет, вместе ночевали. Это с ее-то старомодным домашним воспитанием! Смешно сказать, Мишель до сих пор ни разу не пила противозачаточных таблеток. Наверное, последняя из всех девчонок в классе.
Потом прошли два очень тоскливых года. Мишель издалека наблюдала за меняющимися Элиными подружками. Помня наставления Ляли, она беспечно смеялась при встречах, болтала о разной чепухе, часто убегала посреди разговора, будто ее ждала груда неотложных дел. Казалось, все давно забыли об их недолговечном романе. Как ни странно, Лейбович продолжал с ней дружить, по-прежнему любил рассуждать и рассказывать истории из последних книжек. Кажется, он единственный из ребят читал дни и ночи напролет не хуже Гинзбурга. Все у него в жизни не ладилось, родители постоянно ссорились (вроде там оказалась замешана другая женщина), с отцом он по-прежнему не разговаривал. В школе было еще хуже, Эли окончательно поругался с учителем Танаха, в знак протеста прямо на уроке читал романы на английском языке, что учителя особенно злило. Дело чуть не дошло до отчисления, мама в последний момент перевела его в частную платную гимназию, что, конечно, не улучшило отношений с отцом. Потом он вообразил себя прожигателем жизни, пару раз сильно напился, беспрерывно курил, чего Мишель не выносила. Подружки менялись все чаще и становились все «хуже качеством», как сказал бы папа. Одна вообще была известна тем, что с пятнадцати лет успела переспать почти со всеми знакомыми ребятами в школе, а заодно и с некоторыми девчонками.
Мишель страстно мечтала завести собственного бойфренда, что на первый взгляд не составляло большой проблемы. Мальчишки из класса давным-давно забыли «Мар-рыю», все наперебой рвались с ней дружить, особенно один, огромный, толстый и очень добрый американец со смешным акцентом. Почти каждый день американец «случайно заходил» и сидел в Машиной комнате до глубокой ночи, вызывая улыбки мамы и гневное возмущение Гинзбурга, неловко обнимался, звал поехать к отцу в Нью-Йорк. А еще один мальчик, тихий вежливый саксофонист, сочинил ей в подарок пьесу. Настоящую хорошую пьесу, которую потом не раз исполнял школьный оркестр. Но ничего не выходило, кроме разочарования и обид, все было скучно, скучно и еще раз скучно, американец даже плакал и обещал убить ее и себя, но, конечно, вскоре нашел другую подружку, с которой и укатил в Америку на каникулы. Жизнь вокруг стремительно неслась, и только Мишель одиноко шла по обочине.
Аттестат Эли получил на удивление неплохой. Все-таки он был умный, черт рыжий, и английский здорово знал благодаря своим книжкам. Но с армией, конечно, успел наломать дров. На первой же допризывной комиссии будущий солдат Лейбович заявил, что отказывается брать в руки оружие. Нет, он ничего не боится, просто не согласен с политикой правительства, проводимой в семидесятые годы, с ошибками, допущенными при подписании последнего договора о мире, и не считает нужным убивать людей из-за неправильно разделенных территорий.
– А если начнут убивать тебя? – спросил кто-то из комиссии. – Или твоих родителей?
– Ну что ж, я буду защищаться. Но существуют разные формы защиты – убеждение, например.
– Чтобы я этого пацифиста больше не видел, – сказал усталый пожилой военный. – Или в джобники[5], или двадцать первый![6]
И Эли направили куда-то в пустыню, копать – как и положено джобнику.
В день призыва Мишель отпросилась из школы. Все-таки они были старые приятели, надо проводить по-человечески, пусть и в джобники. К ее удивлению на призывном пункте не оказалось никого из многочисленных друзей и подружек Эли, только родители (он наконец стал разговаривать с отцом!) и старший брат.
– В некоторые минуты жизни, – он как-то странно неловко улыбался, – в некоторые минуты жизни нужны только самые близкие люди.
Так же криво улыбаясь, он обнял Мишель, расцеловал в обе щеки. Все заторопились, мама попыталась всплакнуть, но, взглянув на Эли, тут же перестала.
Через пару дней он позвонил, как ни в чем не бывало, рассказал про новую жизнь, про ребят в отряде. Многие казались вполне приличными пацанами и могли стать настоящими друзьями.
– Слушай, – сказал он между прочим, – меня посетила оригинальная мысль: почему бы тебе опять не стать моей гёрлфренд? Никто не знает меня лучше. И разве я тебе не нравлюсь? Конечно, не слишком красивый, зато умный!
– Ну уж нет, – весело рассмеялась Мишель, – это мы уже проходили.
И тут же подумала про себя: «Да! Наконец-то!»
– Ты зря смеешься, что мы теряем в конце концов? Не получится, так не получится! Банкетный зал еще не заказан.
– Молодец, девочка! – сказала Ляля, – все-таки победила, он у твоих ног!
– Научила на свою голову, – буркнул Гинзбург, – стратегиня несчастная. Может, этот замечательный поклонник хоть штаны сменит на менее рваные? И на каком языке прикажешь с ним объясняться?
Данечка сидел на горшке и беспрерывно смеялся, будто все понимал. Хорошо, что родители были на работе и не участвовали в этой интересной дискуссии.
Через месяц Эли отпустили в отпуск на выходные. Его друзья, в большинстве своем тоже солдаты, тут же затеяли тусовку на море, на трех машинах (родительских, конечно), каждый со своей подружкой.
– С ночевкой? – спросил папа. – На море?
– Пусть едет, – вздохнула мама, – все равно когда-нибудь повзрослеет.
– Учти, – тихо сказала Ляля, не поворачивая головы, – забеременеть можно с самого первого раза, просто с первой минуты. И чтобы никаких комментариев! – заключила она, строго поглядев на Гинзбурга.
И зачем было брать столько пива? Еще не стемнело, а эти обалдуи гордо тащили к стоянке второй ящик. Стоило волноваться, надевать красивый новый лифчик, выпрашивать у Ляли духи!
Мальчишки долго разводили огонь, чиркая пестрыми зажигалками (папа в любую погоду разжигал костер одной спичкой), потом так же долго и неуклюже жарили шашлыки. Мясо получилось пересоленным и горелым, но они лопали со страшным аппетитом и беспрерывно рассказывали про свою армию, будто прослужили долгие годы, а не один месяц. Все рассказы получались одинаковые – тупое начальство и дежурства на кухне, но они никак не могли остановиться и хохотали все громче, захлебываясь и перебивая друг друга. Малознакомые девчонки тихо шептались о чем-то своем, пива они, конечно, пить не стали, так что страшно было подумать, сколько пришлось на каждого из этих новоиспеченных воинов. А папа еще смеялся, что израильтяне не умеют пить «по-человечески»!
Эли лежал на песке, положив ей на колени теплую непривычно стриженую голову, хотелось не шевелиться и только тихонько гладить детский лоб, но вскоре у нее сильно затекла спина, так как совсем не на что было опереться. Эли полудремал, но успевал вставлять едкие замечания по поводу армейских порядков. Интересно, если вместо ее колен подсунуть какую-нибудь подушку, заметит он вообще или нет? Разговор в это время перешел на правительство, как и всегда бывает в израильских компаниях, Эли вскочил, доказывая преимущества политики Барака, она тихонько поднялась, разминая затекшие ноги и ушла в темноту.
Море громко шуршало, окатывало холодными брызгами кроссовки. Сильно пахло рыбой и еще чем-то тяжелым и гнилым. Раздался стук камней за спиной, неужели он пошел ее догонять? Как бы не так, просто ветер опрокинул мокрую доску. Есть ли спасение от одиночества в чужом нескладном мире? Она брела все дальше, и было все хуже и страшнее в беспокойной сырой темноте. Нет, надо взять себя в руки! Что, собственно, произошло? Просто давно не видел друзей, да еще не выспался – выехал в пять утра из своей пустыни. Да еще чертово пиво! Вдруг Эли ищет ее, волнуется? И завтра опять уедет, неизвестно куда и насколько. «С любимыми не расставайтесь» – всегда повторяет Ляля. Мишель заспешила обратно, утопая в сыром песке.
Две пары обнимались у прогоревшего костра, остальные куда-то разбрелись. Никто ее не искал и не думал искать! Мишель растерянно потопталась вокруг стоянки, потом догадалась заглянуть в машину. Эли крепко спал, раскинувшись на заднем сиденье. Дверь никак не открывалась, потом жутко хлопнула, когда она догадалась наконец дернуть какую-то незаметную ручку, но он даже не шелохнулся. Мишель с трудом откинула переднее сиденье, свернулась калачиком. Промокшие ноги гудели, жесткий валик давил шею, и глухо шумело ненужное чужое море.
– Как погуляли? – нарочито безразлично спросила Ляля. Она как всегда что-то кроила из пестрого тонкого материала. Кажется, уже все иерусалимские модницы носили Лялины наряды, образовалась даже маленькая очередь.
– Нормально, – Мишель решила не вдаваться в подробности
– Ну что значит нормально? Расскажи что-нибудь про местную молодежь, мне же интересно! Пели, танцевали?
Жалко, что она никогда не умела врать.
– Да, нет, не особенно, – вздохнула Мишель, – ребята много пива привезли, всех развезло, уснули рано.
– И Эли?
– И Эли.
– Понятно, – сказала Ляля и застучала ножницами. Ткань распалась на косые треугольники, Мишель уже знала, что скоро они станут забавной юбкой с разноцветными клиньями.
– У меня идея, – сказала Ляля слишком веселым голосом. – Звоню Сабринке, и отправляем тебя к ней на каникулы. Что может быть лучше Праги в июле месяце! «О, слезы на глазах! Плач гнева и любви! О, Чехия в слезах!..» – ты хоть знаешь, кто написал?
Что там было знать! Ляля целыми днями готова цитировать свою ненаглядную Цветаеву. Мишель тоже пыталась читать одно стихотворение – «Попытка ревности», оно здорово начиналось:
Как живется вам с другою, — Проще ведь? – Удар весла! — Линией береговою Скоро ль память отошла… —но дальше начинались такие непонятные фразы, что она забросила.
– Ляля, – спросила она тихо, – а может, все придумали? Разные мечтательницы типа твоей Цветаевой? Может, по-другому и не бывает?
– Бывает! – хрипло закричала Ляля. Ты слышишь?! Бывает по-другому!
* * *
Конечно, он мог бы заметить и раньше, этот папаша Гинзбург. А с другой стороны, чего, собственно, волноваться? Взрослая девица, почти восемнадцать лет, в университет поступила, из экспедиции вернулась живая и здоровая. Наоборот, он как-то успокоился. Квартира старая, но вполне родная, со своими теплыми углами и заваленными книжными полками. Денег хватает, особенно с тех пор, как он активно занялся репетиторством. Лялька абсолютно та же – худая, лохматая, в обнимку с Битлами и картинами, с сигаретой в тоненьких ломких пальцах. Может быть, более тихая, чем обычно. Слишком тихая.
Гинзбургу недавно исполнилось тридцать девять. Друзья и коллеги предпринимали последние отчаянные попытки его женить. Черная шевелюра сильно поседела, но сам он оставался еще хоть куда, так, по крайней мере, уверяли любившие Осипа женщины. Честно признаться, их было сразу несколько, милых, чудесных, но совершенно необязательных женщин. Гинзбург отчаянно увиливал от решительных объяснений, отделывался цветами и в конце концов сбегал к своим привычным углам и книжкам. Вечерами заходили друзья, из тех, что отдыхали в его холостяцком доме от семейной рутины. Партия шахмат, армянский коньяк в большой, довоенной, граненого хрусталя рюмке, Лялины укачивающие Битлы за стеной. Стоило ли менять надежный уют на непредсказуемую жизнь с женщиной, чужие запахи и наряды, суету, визиты к подругам и родственникам?
В последнее время часто заходил Саша, Александр Петрович Одоевцев. Гинзбург был страшно благодарен ему за Лялю, да и вообще любил этого молчаливого книжника и эстета, с идеально завязанным галстуком под круглой чеховской бородкой. Ляля, обычно болтушка и воображала, молча накрывала кружевной салфеткой тяжелый, тоже довоенный круглый столик, выносила прозрачные бабушкины чашки, домашние пироги и печенье с корицей, – она вдруг пристрастилась к кулинарии. Иногда она вовсе не выходила, только Битлы звучали как-то особенно протяжно и грустно.
Было известно, что Одоевцев женат, имеет двух детей, но сам он об этом говорил редко, в гости не приглашал, чему Гинзбург был рад в душе, так как всегда тяготился общением с чужими женами. Да и они его недолюбливали, давно и справедливо считая не вдовцом, а вольным и опасным для чужих семей холостяком.
Самое потрясающее и невообразимое – что он тоже ее любил!
Ну, она – понятное дело, даже в мечтах не могла вообразить ничего похожего. Доцент, лучший лектор факультета, – и при этом самый ловкий походник и рыбак из всей экспедиции, молчун – и блестящий рассказчик, непритязательный турист и сказочный джентльмен. Одно имя чего стоило – Александр Петрович Одоевцев, почти декабрист! Он и занимался периодом декабристов, но не главными, всем известными героями, как Трубецкой или Волконский, а почему-то Бенкендорфом, причем у него получалось, что Бенкендорф совсем не такой однозначный злодей и глушитель прогресса, как они учили в школе.
Ляля не просто терялась – немела от ужаса, когда Одоевцев с ней заговаривал, в жизни не чувствовала себя более бестолковой дурехой. А чего стоили ее былые увлечения! Все эти болтливые мальчишки, то краснеющие на ровном месте, то вдруг хватающие тебя за лифчик, так что хочется убить на месте. Конечно, Александр Петрович немолодой, даже почти пожилой человек, страшно сказать, на год старше ее отца, но какое это имеет значение, когда вся окружающая жизнь жестоко и безнадежно разделила их, навсегда разделила.
И при этом он ее любил! Да! Ляля сразу заметила, хотя ничего, ну совершенно ничего не происходило. Просто он боялся ее взгляда и руку ей не подал, когда перелезали овраг, всем девчонкам подал, а перед ней отвернулся и чуть не упал в липкую грязь.
И вдруг затеял вечер поэтов Серебряного века. Она знала почему, – он слышал, как Ляля накануне рассказывала девчонкам, что обожает Цветаеву (Гинзбург ей раздобыл сборник по страшному блату). И вот он устроил потрясающий вечер, читал Ходасевича, и Гумилёва, и Мандельштама, которых никто тогда не слышал, а потом перешел на Цветаеву: «кабы нас с тобой да судьба свела… руки даны мне – протягивать каждому обе… быть мальчиком твоим светлоголовым…», и еще:
Голос – сладкий для слуха, Только взглянешь – светло. Мне – что? Я старуха, Мое время прошло…Она чуть не расплакалась и быстро ушла от костра в темноту, а через полчаса или даже меньше Одоевцев нашел ее. Как он сказал? «Ляля, милая, простите меня. Это было неуместно». Да, так и сказал – неуместно. И еще спросил: «Вы помните Пьера Безухова? Его разговор с Наташей?» Она еще глупо растерялась, Пьер Безухов – что-то из школы, «образ положительного героя» и прочая скука, из одного протеста не дочитала до конца.
– Если бы я был не я, – прошептал он, – а лучший и красивейший человек… и был бы свободен…
Он сжал ее холодные поцарапанные в недавнем походе руки, поцеловал в ладони.
Так когда-то целовал Гинзбург, когда она была совсем маленькой, еще при маме.
Она сама его соблазнила.
Да, он приходил, пил коньяк с ничего не замечающим Гинзбургом, рассказывал о планах новой экспедиции. Ляля почти не участвовала в разговорах, только слушала и умирала от этого немыслимого чуть хрипловатого голоса. Она страстно увлеклась кухней, потому что Одоевцев иногда оставался к ужину. Боже, все кулинарные рецепты оказались на один лад, из книги «О вкусной и здоровой пище», где не чувствовалось никакого вкуса! Она расспрашивала старушку-соседку «из бывших», стояла в очередях, изобретала свои печенья и соусы. Потом принялась шить наряды – мастерила из старых маминых платьев роскошные и несуразные юбки, знала, что ему все нравится. Потом она придумала, как спровадить Гинзбурга, – купила билет на «Петрушку» Стравинского, без предупреждения, на тот же вечер, кто бы устоял!
Одоевцев пришел как обычно около восьми, растерялся, не увидев отца, но она не стала отвечать на вопросы, она обняла его прямо тут, в коридоре, около вешалки со старыми шляпами, она целовала его руки, прекрасные мужские руки с длинными пальцами, и щеки, и бороду, и плакала от избытка чего-то, переполнявшего грудь. И тогда он вдруг застонал, еле слышно, и обнял Лялю за колени, да, за колени, как маленький. Она сама сняла платье, потому что он запутался в юбках и складках, сама потянула его к старому помятому дивану Гинзбурга. Было, конечно, больно, но это не имело никакого значения, он обнимал ее, обнимал все крепче, отчаяннее, как тонущий человек, и вдруг застонал, громко, до крика, так что Ляля вовсе забыла о себе и только закрывала его от этого страдания и муки.
Потом он все никак не мог уйти, хотя совсем не стоило сегодня встречаться с Гинзбургом, он все целовал ее руки, плечи, крепко сжимал ладонями обветренные щеки. И только у двери, уже стоя в пальто, вдруг охнул, испуганно заглянул в круглую, поглупевшую от счастья физиономию:
– Слушай, а ты понимаешь что-нибудь в женских проблемах? Ты умеешь предохраняться?
– Нет еще, – беззаботно ответила Ляля, – но скоро научусь.
Но учиться в тот раз не пришлось. Потому что она уже была беременна. Уже два часа или даже больше. С той самой минуты, как он застонал в ее объятьях.
* * *
Наступивший 1963 год оказался для Гинзбурга на редкость неудачным. Все началось с постыдной, какой-то водевильной истории с любимыми женщинами, – они узнали о существовании друг друга. Проще говоря, запутался с бабами, старый дурак! Главное, сам виноват, подвела унаследованная от Мирьям Моисеевны доброта и нерешительность. Первая из его возлюбленных, певица, замечательная яркая брюнетка, одним прикосновением могла свести с ума, но была немного истерична, да еще обременена ревнивым мужем. Вторая, давняя коллега, милая и одинокая учительница химии, наоборот, не слишком привлекала сексуально, но за прошедшие годы стала добрым и верным товарищем. Немыслимым казалось расстаться с любой из них, он окончательно заврался, был уличен во лжи и вскоре обнаружил себя в обидном, но заслуженном одиночестве. Друзья к тому времени тоже как-то разбрелись – у одного родился ребенок, второй тяжело запил, хороший человек Саша Одоевцев неожиданно уволился и уехал к черту на рога, в Иркутск кажется, ему предложили кафедру.
За всеми этими нескладными событиями Гинзбург немного забыл про Лялю, тем более она все время проводила дома, старательно училась и не надоедала капризами, как бывало прежде. Страсть к кулинарии прошла, что привыкшего к ее увлечениям Гинзбурга совсем не удивило, зато она перестала курить и вместо нечесаной стрижки отрастила волосы и собирала их в маленький гладкий хвостик, становясь трогательно похожей на Анну Львовну. Только с нарядами ее привычки не изменились, все мастерила себе разные хламиды из старых маминых платьев. Однажды, посмотрев на очередной мешок, совершенно скрывающий чудесную Лялькину фигурку, Гинзбург заявил:
– Всё! Восемнадцать лет, невеста можно сказать, завтра же идем и покупаем нормальное красивое платье. Как раз ко дню рождения!
– Хорошо, – безразлично согласилась Ляля, – только не завтра, а попозже. Через три месяца.
– Через три месяца? Почему? Что ты опять затеваешь?! – вдруг испугался Гинзбург. – Почему именно через три?
– Потому, – спокойно ответила Ляля.
Что, что он мог поделать?!
Он бы убил этого подлеца, задушил собственными руками, но Лялька категорически отказывалась назвать имя. На все вопросы она только отрицательно мотала головой.
– Старый приятель-хиппарь?
– Нет!
– Однокурсник?
– Нет!
– Может, какой-то насильник?
– Нет, нет, нет!
– Ляля, девочка, но ведь нельзя же так, пусть хоть придет, объяснится, это же целая новая жизнь, не игрушки какие-нибудь!
– Он ничего не знает, – тихо сказала Лялька.
Ну как, как могла она рассказать? Про это совпадение друг с другом, эту нежность в руках, губах, в словах, бессвязно осыпающих ее? И его восторг, и отчаяние. И его беспомощный отъезд ровно через месяц, в самый разгар сессии, в какую-то чужую ненужную глушь – «я не имею право ломать жизнь всем на свете, я преступник, старый и бессильный преступник».
Разве можно было рассказать? Все сразу становилось обычной банальной историей – роман студентки с женатым преподавателем. Скучно и мерзко. Гинзбург бы никогда не простил. Никто бы не понял и не простил. Никто бы не поверил, что она совершенно не жалеет, что это было, было и останется с ней. Навсегда останется с ней.
Гинзбург узнал через год. Анечка, дочка Ляли уже прочно стояла и даже пыталась ходить, держась пухлыми ручками за стенки манежа.
Однажды, вернувшись с работы и привычно толкнув вечно незакрытую дверь, Гинзбург был поражен странной тишиной, стоявшей в квартире. Анечка, правда, гулькала, но не слышалось в ответ привычной Лялиной скороговорки, не шипели сковородки, не лилась вода. Гинзбург бросился в комнату. Ляля молча стояла у окна. Прямо на полу, лицом к Анечке сидел мужчина, сжимая руками голову как при сильной боли. Это был Александр Петрович Одоевцев. Старый еще школьный друг Сашка Одоевцев, милейший человек, эстет и эрудит, страстный ученый и коллекционер.
– Ты?! – осененный внезапной догадкой закричал Гинзбург. – Так это ты, гад?!
Сашка встал, откинул голову, как бы ожидая пощечины.
Красиво! Онегин и Ленский, Пушкин и Дантес, Моцарт и Сальери, кто там еще, черт бы их побрал! Только драться ему не доставало с этим престарелым соблазнителем.
– Сколько у тебя детей? – неожиданно для себя спросил Гинзбург.
– Двое, – хрипло прошептал Сашка, – две девочки.
– Не мог хоть сына сделать, – зло сплюнул Гинзбург, – бабник несчастный!
* * *
Сначала Анечка звала Гинзбурга папой, что никого в яслях не удивляло, видали отцов и постарше. Но Ляля ее быстро отучила. «Это не папа, – повторяла она, заглядывая в младенческую, но уже осмысленную мордашку, – это Гинзбург, скажи: Гинз-бург». Так она сама звала его с детства следом за мамой. Мама помнилась плохо, какие-то отдельные эпизоды. Вот они идут на елку в Дом культуры, мама поправляет ее колючий шарф и вдруг целует в обе щеки прямо посреди улицы около будки с милиционером. Вот выбирают подарок на день рождения, маме нравятся книжки, а Ляле кукла, огромная роскошная кукла в длинном платье, понятно, очень дорогая, на всякий случай Лялька начинает нудно реветь, Гинзбург сердится, а мама быстро бежит к кассе и платит. Вот она сидит с тетрадкой у стола в больничной палате, вокруг чужие тетеньки, мама, лежа на высокой подушке, диктует четким учительским голосом: «Наш па-па Гинз-бург са-мый доб-рый, са-мый силь-ный, са-мый луч-ший», – и объясняет, где нужно ставить запятые.
Как бы она справилась без отца с Анечкой, со всей этой историей?
– Не надейся, – сказал Гинзбург, – больше я такой ошибки не совершу! Никаких магнитофонов и английских школ, никаких рисований и курений! Будем растить нормального здорового ребенка.
Анечка росла нормальным здоровым ребенком, ходила в районную математическую школу, читала сказки Андерсена, по вечерам при активном участии Гинзбурга решала смешные головоломки. Училась она прекрасно, увлекалась химией, шахматами и почему-то футболом, из одежды признавала только джинсы, которые Ляля, наступив на горло собственным вкусам, мастерски перешивала из жестких бесформенных штанов, купленных в магазине «Рабочая одежда». С девятого класса Аня начала заниматься в кружке «Юный математик» при университете, легко и свободно поступила на модный факультет компьютеров, благо в качестве репетитора выступал все тот же Гинзбург, на втором курсе познакомилась с выпускником того же факультета, Ленинским стипендиатом, Сережей Поляковым, и через год мирно вышла за него замуж. Еще через год родилась Маша. С именем внучки долго решали, Гинзбург хотел помянуть и мать, и сестру, но никак вместе не получалось, слово Мишель дожидалось своего часа где-то в неизвестном, незнакомом Израиле.
Про отца Аня никогда не спрашивала, по крайней мере у Гинзбурга, приходилось только догадываться, что ей насочиняла Ляля. Саши Одоевцева к этому времени уже не было в живых.
В тот первый его приезд Гинзбург воздержался от дальнейших высказываний и, зло сплюнув, ушел ночевать к знакомым. Но когда через три месяца Одоевцев приехал вновь, такой же растерянный и виноватый, с цветами в одной руке и кучей дурацких ненужных погремушек в другой, Гинзбург посмотрел на помертвевшую Лялю, на надутую, обиженную общим невниманием Анечку и развернул его лицом к двери.
– Ты уже сделал свой выбор год назад, когда уехал. Дай ей возможность жить дальше.
Больше Одоевцев не приезжал. Раз в год, на Анечкин день рождения, приходил крупный денежный перевод, на Новый год неизменно появлялся Дед Мороз с подарком, всегда необычным и замечательным. Накануне первого класса, кажется, это было в семидесятом, они проснулись от странного шума на лестнице, в дверь раздался громкий стук, и два дюжих дядьки внесли тяжелое коричневое пианино. А еще через пять лет, в очередной экспедиции по рекам Сибири, Одоевцев утонул. Подробности Гинзбург узнал от вдовы, которая, вернувшись с детьми в Ленинград, обзванивала старых друзей и знакомых мужа. Какая-то нелепая обидная смерть, лодка перевернулась у самого берега, все легко выплыли. Может быть, Саша ударился головой или сердце вдруг отказало?
Первое время Гинзбург скрывал смерть Одоевцева от Ляли, но она, конечно, узнала, отчаянно затосковала, заметалась, то хотела ехать на место гибели, то на могилу в Иркутск, потом вдруг загорелась мыслью познакомить Анечку с сестрами. Однажды субботним вечером, вопреки всем протестам и доводам отца, она набралась смелости и позвонила в темную давно не крашенную дверь с надписью: «Одоевцевы – 2 звонка».
Немолодая изящная женщина совсем не удивилась, увидев Лялю, Александра Петровича хорошо помнили в Ленинграде, и теперь в дом часто приходили бывшие ученики и коллеги покойного мужа. Ляля послушно рассматривала семейные фотографии, слушала перечень работ и достижений Александра Петровича, особенно в последние годы, когда он возглавил кафедру.
– Я так не хотела этого переезда, – тихо говорила женщина, – но было бы предательством его останавливать. Вы знаете, мужа не интересовали амбиции, деньги, даже научное первенство. Всю жизнь был предан только двум вещам – работе и семье.
Две взрослые красивые девочки смотрели с разложенных фотографий, одна, светлоголовая и глазастая, страшно напоминала Аню.
– Да, это младшая, – заметив ее взгляд, сказала женщина, – копия Саши. Вы не представляете, каким он был мужем и отцом. Невосполнимо. Все невосполнимо. – Она заплакала сдержанно и безнадежно.
Больше Ляля никогда в этот дом не приходила.
* * *
Итак, решено. Мишель едет в Прагу. На целых три недели. Ляля обо всем договорилась, – жить Мишель будет у ее подруги по университету, сотрудницы пражского национального музея Сабринки, в самом центре города.
Надо сказать, у Ляли есть потрясающая особенность заводить подруг по всему свету. Мишель не раз наблюдала собственными глазами. Однажды они путешествовали по Нормандии. Это, конечно, Ляля затеяла, «хочу посмотреть на серое небо и дождик». Мишель никогда не спорит, дождик – так дождик, ей нравится бродить по незнакомым улицам, чужая речь отделяет прохожих, как в кино, можно рассматривать дома, наряды на детях и взрослых, яркие игрушки в витринах. Окна и витрины в разных городах похожи, но всегда есть что-то особенное – корабли, обезьянки, пестрые веера или шляпы. Они с Лялей дружно перебирают расписные чашки, покупают забавных кукол – жуткого лохматого тролля или хрупкую фарфоровую принцессу, дома в Иерусалиме, уже три полки заполнены чудесными смешными человечками.
После Парижа, в котором пробыли пять дней (вернее, пробегали как угорелые между нескончаемыми музеями и выставками), Нормандия показалась сонной и театральной, особенно городок Онфлёр с разноцветными корабликами у пристани, морскими пейзажами в окнах и бесконечными столиками на набережной. И за каждым столиком с тяжелыми стаканами сидра чинно восседали усатые пожилые французы. Мишель привычно представила, что Эли идет с ней рядом. Такая простая узенькая улица и такая нарядная – на фонарных столбах подвешены букеты цветов, просто целые клумбы, и, если прислушаться, из них раздается старинная музыка, какой-нибудь Моцарт или Вивальди. Может, в цветах спрятаны радиоприемнички?
Эли бы сразу догадался, но он бродил где-то далеко, в другом мире, и совсем ею не интересовался. Зато неустанная Ляля уже уткнулась в очередную картинную галерею, что могло затянуться надолго.
Женский портрет висел прямо на входе, – огромные немного косящие глаза, темные, как будто стекающие по впалым щекам волосы, улыбка в выпуклых бледных губах.
– Какая прелесть, – вздохнула Ляля, – наверное, автопортрет, – и стала разбирать по слогам имя автора, написанное, конечно, на непостижимом французском языке.
– Татия… Кроумо… боже мой, Маша, знаешь, что это? Тать-яна Хро-мова. Вот тебе и Франция! Заходим!
Спорить было бесполезно, слава богу, Мишель уже не в первый раз путешествовала со своей неугомонной «бабулечкой». За год до этого в Гренаде Ляля, отодвинув сонного косноязычного экскурсовода, целую лекцию прочла об архитектуре арабского периода и позднем влиянии католицизма, можно подумать, она всю жизнь прожила в южной Испании. А часом позже в обычном супермаркете так растерялась, что пришлось Мишель самой выбирать все покупки и расплачиваться с веселой черноглазой кассиршей. Странное воспитание они получили в своей России. Вот и в Париже Ляля буквально с закрытыми глазами мчалась по музею Родена или Пикассо, да и просто по улицам, только и слышалось: «Бульвар Капуцинов! Площадь Бастилии! Монпарнас!», даже прохожие оглядывались. А чтобы вытащить деньги из банкомата полчаса испуганно тыкала карточкой в щель и вздыхала.
В крошечной галерее никого не оказалось, только хозяин, пожилой француз со смешно закрученными кверху пепельными усами, сидел у кассы. Картины заполняли стены в странном уютном беспорядке и были чудно хороши – все тот же женский портрет, натюрморты с цветами и фруктами на мраморном столике и, особенно, тонущие в тумане темно-красные деревья.
– Tell me, please, – вежливо сказала Ляля, – who is the author of these pictures? Does she live here?[7]
Хозяин беспомощно развел руками и что-то пробормотал на своем чудесном непостижимом языке.
– Нет, ты подумай, – вздохнула Ляля, – никто не понимает английского! Машка, под твою ответственность, в будущем году беремся за новые языки.
– Извините, – с певучим прононсом, но абсолютно понятно произнес хозяин, – вы хотите говорить русский? Сейчас, сейчас. – Он повернулся к маленькой дубовой лестнице у входа, – Танья, Танья, спустись минуточку!
Это была совершенно обычная женщина, довольно полная, седая, не моложе Ляли, с бледным лицом и короткой стрижкой. Вот вам и автопортрет! Мишель даже не успела уловить, о чем они заговорили, но уже через двадцать минут магазин закрылся, и хозяин, улыбаясь в свои прекрасные усы, притащил бутылочки сидра и высокие темные стаканы. Они сидели за маленьким дубовым столиком, тяжелые стулья чуть скрипели, хозяин приветливо кивал, а художница все рассказывала про Онфлёр.
– Конечно, красота, покой, сказочные пейзажи, но бездуховность, страшная бездуховность и тоска, семнадцать лет не могу привыкнуть. Хотя грешно жаловаться, – свой домик, картины хорошо продаются, планируется осенняя выставка в Париже…
Что-то еще родное, понятное только Ляле, стояло за ее словами, – несбывшиеся надежды, одиночество, усталость?
Потом они долго прощались, обменивались адресами и телефонами, женщина целовала Лялю, а заодно и Мишель, по-русски, в обе щеки, хозяин долго махал в наступающей темноте.
– Я приглашу ее к нам, прямо ближайшей осенью, – вдохновенно твердила Ляля, пока они брели в темноте к своему крошечному, как сундучок, отелю, – каждый человек должен хотя бы раз в жизни увидеть Иерусалим! Что ты смеешься, дурилка? Это для нас Израиль – жара, маета и поиски работы, а для нормальных людей – Святая Земля, прямой разговор с Богом.
…Никого они, конечно, не пригласили. Осенью взорвались еще три автобуса, потом кафе в Хайфе, потом та самая пиццерия, где погибла сестра Алины. Но тонкая, только им заметная ниточка осталась, на Новый год Ляля получила письмо с засушенной веткой лаванды и крошечной картинкой – Онфлёр и корабли.
Так и с Сабринкой. Не виделись лет десять, даже больше, человек живет в другой стране, со своими заботами и проблемами, а для Ляли нет ничего естественнее, чем отправить к ней Мишель на целых три недели. Мама сначала сомневалась, но тут от Сабринки пришло такое восторженное письмо-приглашение, что даже Гинзбург согласился, добавив, что Лялины подружки все ненормальные.
* * *
Нет, у Ляли получилась вполне счастливая жизнь. Во-первых, прекрасная работа. Какая удача, что с третьего курса записалась на факультатив по истории искусств. Конечно, до аспирантуры дело не дошло, золотая оттепель шестидесятых закончилась, но все-таки удалось вволю поработать и в Пушкинском Доме, и в архивах Эрмитажа. Друзей она обожала, причем совершенно взаимно, дома ждали любимые люди – отец и дочь. Правда, иногда рисовались другие картины семейного счастья – муж, спящие дети, тихий уютный ужин вдвоем. Или наоборот – шумные многолюдные именины, сюрпризы, подарки. Но Анечка с Гинзбургом совершенно не вписывались в этот праздник жизни. А что ей были без них любые праздники?
Про Одоевцева Ляля запретила себе даже думать. Судьба подарила немыслимые счастливые минуты, чего же больше! Саша сам решил уйти, значит, не мог иначе. И смерть его уже ничего не добавила к их разлуке, просто было бесконечно жаль талантливого нестарого человека.
За ней много ухаживали, даже в поздние годы, когда хорошо перевалило за сорок, и по дому бегала внучка Маша. Конечно, Ляля скоро научилась распознавать искателей приключений, легко принимала комплименты, стремительно и весело давала отпор незатейливым, всегда похожим обещаниям. Но были, были еще два случая в жизни, когда земля поплыла под ногами и мир опрокинулся от непостижимой щемящей и сладчайшей муки. Первый – мальчик, студент (боже, почти ровесник ее зятя Сережи!), трепетал и молился, как в рассказе Цвейга, ждал, преследовал после занятий. Горячие губы, горячие дрожащие руки… Была даже мысль завести второго ребенка, разумеется тайно, ничем его не связывая, но времена Цвейга все же прошли. И снова перед глазами стояли Гинзбург и Аня.
Второй, слава богу, одного с Лялей возраста, вначале показался удивительно близким, до изумления и нереальности близким, какой-то непостижимый духовный двойник. Огромный, теплый, как печка, смешной увалень, он прекрасно пел Окуджаву и Визбора, можно было прижаться к плечу и совсем не разговаривать, потому что все совпадало – фразы, шутки, комплексы, стихи. Конечно, он был давно и несчастливо женат, конечно, маялся, не в силах ничего решить, клялся, жалел себя и детей, даже плакал. Ляля знала, что может настоять, но стоило ли ломать чужую жизнь? Все-таки это был совсем не Одоевцев.
Перед ее отъездом в Израиль они тепло простились, словно близкие родственники, потом он приехал с какой-то пароходной экскурсией из Одессы, Ляля помчалась в порт, долго бродили по сонной горячей Хайфе, сидели в кофейне на берегу. Он рассказывал про перемены в России, новую непривычную свободу, реставрацию памятников и театров. И даже неважно, какая мафия платит, временщики уйдут, а красота останется, вот теперь и за Питер взялись наконец. Она слушала, улыбалась, смотрела на его поседевшую голову, как всегда, не требовалось отвечать. Дети давно выросли, жили собственной независимой жизнью, и это ничего не меняло и не могло изменить.
* * *
Эли получил отпуск на два дня как раз перед Машиным отъездом, но нечего было и думать, что он сразу появится. Как всегда образовались важные встречи с друзьями, один недавно вернулся с учений, второй служил на территориях, приезжал раз в месяц, молчаливый, обгоревший до черноты. Мишель в который раз стыдила себя за ненужные обиды, – люди трудятся и служат родине, а она уезжает в спокойную безопасную Прагу, всего на три недели, есть о чем говорить!
Ляля купала Данечку и одновременно рассказывала историю пражского гетто, хотя никто ее и не слышал за шумом воды. На полу стоял почти собранный чемодан, Гинзбург давал последние важные советы по поводу поведения и нравственности. Прибежала мама и принесла пижонскую вельветовую курточку с карманами, как раз для европейской погоды.
В принципе, Мишель очень повезло с семьей. Родители сразу после языковых курсов попали в крупную программистскую фирму, сначала папа, а через месяц и мама. Ляля вдохновенно учила иврит, шила наряды для местных модниц, бегала на собрания какого-то культурного центра, а потом неожиданно для всех устроилась работать экскурсоводом на Via Dolorosa![8] Еще и шутила, что каждую неделю восходит на Голгофу. Даже трудно вспомнить время, когда они покупали одни индюшачьи ноги, сейчас все продукты папа привозит раз в неделю из соседнего супермаркета – мясо, овощи, фрукты, Данькины памперсы. И квартира у них огромная, с балконом и садиком, где Ляля разводит розы, а Гинзбург курит свою трубку. Правда, маму с папой Мишель почти не видит из-за бесконечной работы, командировок и авралов, иногда, буквально не заходя домой, они уезжают в Германию или даже в Сингапур, где находятся филиалы фирмы, но тут уж ничего не поделаешь. Ляля до сих пор не может поверить, что мама решилась родить Данечку, они с Гинзбургом даже не мечтали. Мишель тоже очень рада братцу, во-первых, он смешной и милый, хотя и слишком мал, во-вторых, у нее самой появилась минимальная свобода от любящих родственников. Вот и сейчас Ляля тихо сокрушается, что не может оставить Данечку и поехать в Прагу. Мишель охотно соглашается, чтобы никого не обидеть, хотя понятно, что у них с Лялей совершенно разные интересы, и совместные поездки ей порядком наскучили.
Эли появился только к вечеру, запихал ключи в без того оттопыренный карман и полез в холодильник в поисках питья. Гинзбург вздохнул и поспешно удалился в свою комнату. Ну как объяснить ему, что это не дурное воспитание, а простая здешняя традиция – лучше самому взять, чем напрасно обременять хозяев.
– А проходить первому в дверь тоже традиция? – возмущенно басит Гинзбург, – а за три года ни разу не подарить цветы любимой девушке, даже на день рождения?!
Мишель как-то для пробы перевела Эли высказывания Гинзбурга.
– Пропускать в дверь, – искренне удивился он, – но где же логика? Сначала женщины требуют равноправия, добиваются свободы буквально по всем вопросам, а потом претендуют на какие-то доисторические ухаживания!
– А если без всякой логики? – спросила Ляля. – Просто, чтобы женщине было приятно?
– Но мне тоже приятно, когда меня пропускают, – не колеблясь, заявил Эли, – равноправие, так равноправие.
Надо признать, в общении с Эли Ляля проявляет максимум демократии, вот и сейчас она достает бутылку кока- колы и, приветливо улыбаясь, ставит на стол, хотя, как кажется Мишель, она бы не прочь трахнуть этой бутылкой по Элиной упрямой голове.
– Кока-кола! – восклицает Эли, – ну, уж нет, они от меня не дождутся, что я стану это пить!
– Кто? – пугается Ляля
– Владельцы фирмы! Бездарный напиток, бездарное предприятие, а задурили весь мир. Нет, я не собираюсь их поддерживать!
– Надо думать, владельцы фирмы просто плачут от огорчения, – осторожно замечает Ляля.
– Неважно. Из-за нашего равнодушия и процветает несправедливость. Вот мне, например, не все равно, какую одежду носить. (Ляля задумчиво смотрит на его потерявшую цвет футболку и бесформенные, растянутые на коленках штаны.) Вы только посмотрите на наклейки, американские фирмы, а почти все сшито в Китае или Тайване! А какие там зарплаты? С каждых штанов фирма две трети забирает себе, и я должен участвовать в этой эксплуатации?!
– Нет, не обязательно участвовать, но это не отрицает, что одежда может быть красивой или хотя бы чистой?
– Но я же не на свадьбу иду! И не на службу. Человеку должно быть удобно, хотя бы в свободное время.
Если даже Ляля не справляется, что уж говорить про Мишель, разве она в силах его переспорить!
Поздний вечер, даже фонари за окном кажутся одинокими и никому не нужными. Завтра Мишель улетает на целых три недели, а так и не поговорили ни о чем серьезном, даже не попрощались по-человечески. Она тихо обнимает Эли за обгоревшую шею, прижимается носом к теплой шершавой щеке. Пусть хоть сейчас, хотя бы на прощанье скажет что-то ласковое. Например, что ему жаль расставаться. Что никогда не был так счастлив. Что он не может жить без нее.
Совсем недавно Ляля читала вслух какого-то русского поэта: «Я не могу без тебя жить, мне без тебя и в дожди – сушь…»
Эли жмурится, скользит бесстыдными руками по ее груди, дышит все жарче.
– Давно говорю, что пора прекратить глупое лицемерие и жить как нормальные люди! Почему, спрашивается, я не могу остаться у тебя?! Или поехали бы вместе ко мне, в конце концов!
Да-а, тут не нужно ни Ляли, ни Гинзбурга, достаточно одного папы! Интересно посмотреть на его реакцию, когда Эли останется ночевать в Машиной кровати.
– Подождем еще немного, – шепчет Мишель, – вот я приеду, поговорю с родителями…
– «Подождем, подождем», – его лицо становится обиженным и злым. – Подруга, называется, меня уже все ребята в отряде жалеют, терплю как придурок!
– Ребята? Ты что, обсуждаешь с ними наши отношения?
– А почему нет? Все нормальные люди спят вместе, а я полгода жду разрешения твоих родителей! Почему с родителями можно обсуждать, а с друзьями нельзя? И что, я должен врать, как мы с тобой прекрасно проводим время?
Хорошо, хорошо. Главное, не расплакаться. Собственно, ничего не случилось. Обсуждают, так обсуждают, чего еще ждать от мальчишек. Можно представить, что они друг другу рассказывают. Но ведь Эли опять прав, ее подружки из класса тоже давно спят со своими приятелями, и родители им не мешают. А ей досталось Лялино возвышенное воспитание, стихи на завтрак, картинные галереи на обед… Да еще Гинзбург со своими цветами!
Завтра она уедет, далеко-далеко уедет, отдохнет от Эли, от споров и ненужных слов, от пустого жуткого города.
От всей этой дурацкой несчастливой невыносимой жизни.
* * *
– Нет, все-таки не повезло, – на родном и домашнем как мамин пудинг английском языке пробормотал Таки Флэт, выходя из давно обжитого привычного здания паба, между прочим самого популярного сегодня джазового паба Праги, и направляясь по Тинской улице к Старой площади и оттуда – мимо башни с часами, мимо витрин с разноцветными стеклянными бокалами, цветами, куклами и прочей ерундой – к Карлову мосту, где вот уже полчаса его ждали Гарри и Рост. Столько сил и денег потрачено, столько планов и надежд, и теперь все рухнуло из-за этих выпивох и бездельников! Не зря отец смеялся над ним: «Если уж менять имя, то почему не Шарп, почему именно Флэт? Ты всегда готов быть ниже основной ноты?»[9]
Да, Таки опять оказался «ниже основной ноты». Вчера Петр, белобрысый, толстый как подушка хозяин паба, ясно заявил, что после устроенного безобразия он их держать отказывается. Конечно, у заведения появился имидж, постоянная публика, теперь здесь не прочь поработать самые профессиональные группы.
А кто создал этот имидж? Кто впахивал ночами напролет за голую кормежку, каждую неделю разучивал новую программу да еще в перерывах обслуживал столики? И все рухнуло из-за болванов, сидящих на каменной ограде набережной.
– «Безобразия»! – сплюнул Рост и добавил пару только ему понятных, но явно неприличных фраз, – люди взяли нормальный заслуженный отдых, оттянулись немного. Имеем право!
Гарри добродушно закивал головой в знак поддержки, он так и не выучил чешский, а Рост избегал английского, вот и поговори с ними!
– Это ты Петру расскажи, – взвился Таки, – расскажи про свое право срывать три концерта подряд, да еще в конце недели, да еще летом, когда город полон туристов и прочих фэнов, готовых платить за твою музыку!
Напрасная трата сил! Известно, что русский родного папашу забудет ради бутылки водки. Кричи не кричи – Росту плевать, вернется работать официантом, он на чаевых больше настреляет, чем за все концерты. В любом случае, не хуже, чем сейчас в его Туле или как там оно называется. Гарри тем более не горюет. Родители готовы оплатить и жилье, и обратную дорогу лишь бы сыночек вернулся в родной колледж. Великая страна Америка!
Сам виноват, связался с салагами, а ему, нищему ирландскому подданному Полу Маккарти, уже почти двадцать пять. Мать так гордилась колледжем, единственный в семье получил высшее образование! А что толку? Работать учителем английской литературы? Эх, если бы вовремя поучиться музыке, играл бы он сейчас с разными сопляками! Теперь придется хотя бы на время вернуться в Корк, другого выхода нет. Отец уже давно намекает, месяц назад приезжали с матерью «посмотреть Прагу», туристы нашлись! Мать только кормила его целыми днями, даже в Карловы Вары не съездила. А отец постоянно про Корк рассказывал – какие перемены, какая красота, обещал устроить поваром в соседнем ресторане. «Могу и деньжат подбросить», – мужественно выдавил он.
Да, чего не хватает, так это просить у отца денег. Тоже богатей! Достаточно, что именем наградил. Пол Маккарти, с ума сойти от такого имени!
* * *
Жизнь Френсиса Маккарти сложилась вполне удачно, нечего говорить, хотя поначалу даже надеяться не приходилось на что-нибудь хорошее.
К моменту рождения Френки в мае сорок пятого отец его прилично прогорел. В войну люди, конечно, умирали, даже больше обычного, но мало кому из родственников приходило в голову заказывать дорогие памятники и надгробия. Переучиваться в сорок лет, бросать семейный бизнес? Отец, как и многие земляки, решал проблемы более простым путем – хорошей кружкой пива в соседнем баре. А еще лучше – двумя-тремя. С помощью такого проверенного средства жизнь не казалась слишком безнадежной, хотя дом потихоньку разваливался, вещи переходили к скупщику, а вечно недокормленные дети, вопреки стараниям его сердобольной жены, охотно покидали родной город Корк и старого папашу Маккарти в придачу.
Френки, как самый младший, задержался дольше других, жаль было оставлять мать, да и бизнес понемногу налаживался, – люди не в пример его отцу богатели и хотели достойного завершения жизни. Работать по камню Френки любил с детства, буквы и резьба у него выходили очень ловко, так что с шестнадцати лет он уже уверенно брал самостоятельные заказы, благо люди соблазнялись дешевизной работы подростка.
Но, конечно, он и не думал заниматься всю дорогу изготовлением памятников для покойников и прозябать в сером, продуваемом океанскими ветрами, промозглом Корке. Френки терпеливо ждал совершеннолетия, где-то совсем рядом шла настоящая жизнь, русские и американцы наперегонки осваивали космос, цветное кино заполняло экраны, и знаменитая четверка длинноволосых аккуратных мальчиков (подумать только, его ровесников и почти земляков!) стремительно покоряла мир. «Yesterday», «Michelle, mа belle», «Girl», подумать только, он до сих пор помнит слова всех песен! Главное, один из парней оказался практически однофамильцем Френки – Маккартни, всего-то одна буква разницы! Кстати, Френки тоже неплохо пел, даже пытался организовать самостоятельный маленький оркестрик, но все приличные ребята вскоре разъехались учиться.
Когда Френсису исполнилось двадцать, отец слег. Хорошо, что невозможно знать заранее, какая судьба тебе уготована. Проспиртованная отцовская печень отказалась работать, он глухо стонал, никого не узнавая, но сердце оставалось крепким, и отекшее, покрытое липкими болячками тело, будто вопреки божьей воле, продолжало жить и страдать. Мать терпеливо сносила бессонные ночи, меняла повязки на язвах, варила чудодейственные, совершенно бесполезные супы и настои. Этот период своей жизни Френки старался никогда не вспоминать, потому что день и ночь желал смерти собственному отцу. Работать приходилось много, почти без выходных, но денег все равно катастрофически не хватало. Только и позволял себе иногда – пропустить кружечку пива в пабе или потолкаться на вечеринке среди местной молодежи. Там он и встретил Марию.
Тот год случился особенно дождливым, все лето лило, не переставая, помнится, Френки еле нашел сухую подворотню, чтобы ее поцеловать. Сейчас смешно вспоминать. Вон его сыновья открыто живут со своими девчонками, старший даже ребенка собрался заводить, не венчаясь. «Католический брак, – говорит, – это приговор. А мы хотим жить в свободной любви». Даже Таки, хоть и не от мира сего, окрутил свою Клару. (Хотя, скорее, она его окрутила, слишком деловая девица.) Ха, тогда, тридцать с лишним лет назад, Френки и подумать не мог привести Марию в свой дом, не венчаясь. И мать не позволяла, и сама Мария ни за что бы не согласилась. Всем девчонкам от первого причастия и до самой свадьбы только и твердили – беречь невинность.
Два года они прогуляли по улицам и скверикам, на всех скамейках в городе пересидели, Френки думал, у него штаны лопнут в известном месте от постоянного перенапряжения. Что было поделать – пока отца похоронил, пока дом немного привел в порядок и деньги скопил, чтобы хоть какую-то приличную свадьбу устроить.
А после женитьбы, конечно, не до прежних мечтаний стало. Первые двое пацанов буквально друг за другом родились, год разницы, и похожи, как близнецы, – крепкие, круглые, все в мать. Нет, удачные парни, нечего сказать. Никогда больших хлопот не доставляли, работяги отличные. Учились, правда, неважно, больше футболом увлекались, но ничего плохого себе не позволяли, ни наркотиков, ни прочей гадости. Когда они подросли, мастерская по-настоящему развернулась, прибыль наконец появилась, а то всё концы с концами еле сводили. Помнится, Френсис долгое время баян мечтал купить, баян – богатый инструмент, звучит, словно целый оркестр. Но разве с Марией купишь! Ей как раз приспичило девочку родить. Будто можно заранее заказать. Он еще смеялся – «бракованный товар не произвожу». Вот и получился Таки, самый способный, но и самый нескладный из его сыновей, всю жизнь за него душа болит. А потом и для девочки время пришло, Марию, если не остановить, она бы еще десять детей родила. Да и Френки только для виду возражал, от детворы вся радость в доме. Конечно, не просто четверых поднять, но голодным никто не ходил и рваных ботинок не носил. Правда, баян купил его приятель Роджер, но и Френки не остался в стороне, петь – не менее важная вещь, совсем не каждый сумеет.
Все-таки собрали они группу! Вторых «Битлз», конечно, не получилось, никто и не ставил такой задачи, но даже просто встречаться по вечерам, учить тексты, репетировать было упоительно. Другие мужики тупо тянули кружку за кружкой в баре, а они вскоре стали играть и петь на публику, подумать только – почти тридцать лет у них своя сцена в центральном ресторане Корка. Молодежь, сюда, конечно, не спешит, зато от среднего и старшего поколения отбою нет. Даже столики заранее заказывают.
Мария любит повторять, что Френки во всем виноват – задурил сыну голову музыкой, но на самом деле Таки с детства рос чудаком. То стихи сочинял, то сказки, то под дождем отправлялся бродить. В колледже выбрал литературу – разве это специальность для мужика? И сердце слишком доброе, любого котенка в дом тащил, да еще плакал, как девчонка. Нет, не зря же появилось прозвище![10] Конечно, с именем для парня Френки поторопился – уж очень привлекательно звучало – Пол Маккарти, думал, – подрастет, гордиться будет, а получился повод для издевательств. С детства мальчишки в школе дразнили, причем почему-то Ленноном. Потом уже появилось «Таки», а сын и рад, говорит, псевдоним для музыканта самое главное. Только подумать – Таки Флэт! Нелепый бемоль. Может, Мария права, нужно было дать нормальное имя да к работе приобщать вместо колледжа – не увлекся бы парень музыкой, жил как нормальные люди.
* * *
Нет уж, пусть не придумывает, привычно размышляла Мария Маккарти, развешивая белье за кухней, – дело не в имени, какое ей дело до разных «Битлзов»! Просто ее третий сын, ее любимчик и гордость Поль, как две капли воды похож на своего отца.
Тогда, много лет назад, она не зря выбрала Френки. Хотя, как считали родители, ничего умного в ее выборе не было, – обедневший дом, больной отец, да и сам парень звезд с неба не хватает, какими-то песнями увлекается. Но ей нравилось, что он такой чудной – не напивается, не хвастается, даже за футбол не слишком болеет. И добрый. Мария сразу заметила, какой он добрый, и всю жизнь ценит, хоть и прожили они небогато. И дети в отца, не хулиганят, трудятся честно, наркотиков сроду не знали. А все потому, что в доброте росли. И в любви к Богу. Конечно, ей хотелось, чтобы учились получше, но – как Бог дал, насильно она никого не заставляла. Один Поль, ее любимчик и тайная гордость, окончил колледж. Так жаль, что не ищет работы по специальности, английская литература – уважаемая вещь, из него бы хороший учитель получился, и книжки любит, и детей, и сам стихи сочиняет. Матери ли не знать!
Подумать только, второй год бродит по свету, мечтает стать музыкантом, вся душа у нее изболелась! Одно слово – в отца! Френки тоже до седых волос не может угомониться, поет в ресторане с такими же старыми чудаками, никаких денег, конечно, если бы не мастерская – не выжить. Вот и Поль когда-нибудь поймет, что песни песнями, а на жизнь нужно зарабатывать. Пусть не учителем, так хотя бы поваром. Отец давно предлагает в ресторан пристроить, тем более Поль с детства любит готовить, и получается у него хорошо. Френки еще смеялся, что из-за нее у мальчишки такие женские задатки, очень она тогда девочку ждала. А девочка тоже родилась, только тремя годами позже, трудно ли мужа уговорить, такого добряка! Поверить только, малышке Диедре двадцать один год! Пролетело время! Конечно, четверых детей непросто поднять, так они и не купили ни баян, ни компьютер. Зато теплая и дружная семья получилась, до сих пор после воскресной службы все собираются у Марии в доме, и мальчики со своими подружками, и Диедра, и мать Френсиса. Вот только Поля не хватает, ее смешного ненаглядного Таки, но надо надеяться, и он скоро вернется в Корк. Что лучше родного города да родного дома?
* * *
Часы на старой башне пробили три тридцать, завтра большой концерт, а они еще не прогнали последнюю программу! Таки заторопился обратно, за ним, виновато шмыгая носами, потянулись его горе-музыканты. Нет, зря он разозлился, пацаны, что с них взять! Разве Таки умел так классно играть в их годы? Гарри только недавно двадцать стукнуло, а вполне профессиональный солист. Ему, правда, не пришлось вкалывать больше года, чтобы купить приличную инструмент, но все-таки решился, оставил колледж и любящих американских родителей, один уехал покорять Европу. Они встретились в Париже почти год назад, сразу решили работать на пару, Таки к тому времени уже прилично владел бас-гитарой. Но кого удивишь в Париже? Дороговизна жуткая, бродили полуголодные, снимали проходную комнату в черном квартале за Монмартром. И звука, честно говоря, сильно не хватало, требовался ударник, хоть самый простенький.
Случайные знакомые посоветовали перебраться в Прагу, дай бог здоровья этим хорошим людям! Прекрасный и в то же время уютный домашний город, нет ни Парижской роскоши, ни Парижского снобизма, нашли на окраине совсем дешевый ресторанчик, немного отъелись, наконец. Там и познакомились с Ростом, он имел настоящее музыкальное образование, этот пьянчуга, – от скуки и безденежья сбежал с последнего курса российского музыкального колледжа. Кто-то помог ему прибиться в Праге, – жил как получалось, торговал понемногу валютой, крутился официантом за чаевые. Прага была наводнена русскими, в большинстве своем классными ребятами, приветливыми и не жлобами, если бы не их вечная тяга к выпивке по любому поводу.
Таки снял комнату у немолодой русской женщины, которая держала небольшую столовую, поэтому и еда перепадала, и комната оказалась теплой и уютной, не сравнить с их халупой в Париже. Хотя много ли ему одному надо! Недавно опять поссорились с Кларой. «Ей надоели детские игры в музыкантов, неопределенность, болтание по миру. Или Таки находит нормальную работу, или она находит другого парня, поумнее и побогаче!» Все-таки пообещала приехать через пару недель при условии, что к осени он возвращается в Ирландию. Да, Клара может быть довольна, у него просто не осталось другого выхода.
Как легко все начиналось! Буквально через неделю нашли помещение, старый, в прошлом джазовый паб на Тинской, там и простенькая установка осталась, еще с былых времен. Рост легко стучал любой ритм, Таки сразу начал параллельно петь, по ночам звонил отцу в Корк, спешно записывал слова, в основном «Битлз», они никогда не приедались публике.
Хватит! Лучше не вспоминать. Хорошо, что уговорил Петра продлить договор на месяц, надо хоть на дорогу заработать.
Часы на башне уже били четыре. Таки своим ключом (пока еще своим!) открыл тяжелую дубовую дверь с латунными ручками, пробежал пальцами по струнам, гитара до сих пор прилично держала строй.
– С Битлов? – спросил Рост, усаживаясь на высокий стул.
– Оh, yes! – прорычал Гарри.
– «Michelle, ma belle…» – тихо пропел Таки, пробуя тональность.
* * *
Сабринка оказалась совершенно нормальной симпатичной тетечкой, зря Гинзбург смеялся. Главное, она вовсе не считала Мишель ребенком и не собиралась ее опекать. В первый же день проехались на облезлой скрипучей «шкоде» по центру, – вот тебе Старая площадь, вот Карлов мост, вот еврейский квартал, съели яблочный штрудель в уютном старом кафе, и все – полная свобода, гуляй, где хочешь! Но гулять одной оказалось странно и грустно, захотелось позвонить маме или хотя бы Ляле. Про Эли лучше было совсем не думать, все равно он и не подумает искать ее за границей.
«Вот еще, распустилась, – Мишель даже мысленно топнула на себя ногой. – Надо составить культурную программу, Ляля всегда так поступает».
Огромное роскошное здание музея оказалось до удивления пустым и неинтересным, какие-то камни и кости, в любом израильском заповеднике коллекция богаче. «Реквием» Моцарта в храме тоже не слишком звучал, дома у Гинзбурга была коллекция дисков в гораздо лучшем исполнении. Кукольный театр оказался временно закрыт.
Культурная программа быстро выдыхалась. И еще очень захотелось есть.
По обеим сторонам улицы тянулись ресторанчики и кафе, красивые, не хуже чем в Израиле, но гораздо дешевле. Мишель брела в неизвестном направлении, стараясь, однако, далеко не отрываться от уже знакомой Старой площади. Часы на башне пробили четыре. Она повернула на симпатичную небольшую улочку, Тинская, было написано на углу старинного дома. Где-то впереди зазвучала музыка, ужасно, ужасно знакомая музыка.
«Michelle, ma belle…» – пропел глубокий тихий голос.
Он ее сразу увидел, – невысокая девочка с короткой косичкой и темными нездешними глазами шла по слабо освещенному залу. Очень славная, совсем маленькая девочка, наверное, и восемнадцати нет. К груди она прижимала книжку, яркую книжку с картинкой и странными буквами похожими на рассыпанный чай.
Она его сразу увидела, – длинный очень худой гитарист подтягивал струну, откинув со лба спутанные светлые волосы. Струна тихонько пела в гибких пальцах. Он посмотрел на нее веселыми непривычно синими глазами и шагнул навстречу:
– O Princess! I’m afraid this is just a dream! Who are you?[11]
Так легко было смотреть в эти ласковые глаза с пушистыми совсем светлыми ресницами.
– Мишель, – ответила она и рассмеялась.
Он ахнул и даже перестал улыбаться.
Можно ли говорить глазами, только глазами?
You are extremely beautiful[12]
И ты очень милый и добрый.
I’m so glad to see you[13]
Я тоже ужасно рада.
It does not happen[14].
Нет, бывает, Ляля обещала, что бывает.
Он сделал еще шаг и протянул руку:
– Michelle! Will you marry me?[15]
Конечно, это была шутка! Потрясающий взрослый джазист, наверное англичанин, от одного голоса мурашки по спине побежали. И руки! Разве у мужчин бывают такие красивые руки с длинными ухоженными пальцами? И легкий запах табака и, кажется, рома, как в каком-нибудь старинном романе Ремарка. Сказочная невозможная шутка! Но почему бы и не пошутить, все равно она в другом мире? А собственный мир так грустен и несовершенен.
Конечно, это была шутка. Чудесная иностранная девочка с теплыми глазами и тонкими прекрасными руками. Ловкие нарядные ботинки, дорогая пижонская курточка, дорогой плеер, модный рюкзачок. Но почему бы и не пошутить, все равно он скоро уедет из этого прекрасного недоступного мира. А собственный мир так скучен и несовершенен.
И там было еще двое музыкантов, – как это Мишель их совсем не заметила? Смешной толстый американец Гарри и белобрысый парень с длинным именем Ростислав. Как он удивился, что Мишель понимает по-русски! Музыканты тут же принялись болтать и выпендриваться сразу на двух языках, точь-в-точь израильские мальчишки, но посмотрели на молча улыбающегося англичанина и взялись за свои инструменты. Оказалось, группа репетирует к завтрашнему концерту и бар не работает, но англичанин только моргнул стоящему вдали официанту, и для Мишель лично был сварен чудесный терпкий шоколад и зажарена румяная толстая курица, которую они дружно прикончили.
Потом все-таки началась репетиция, играли они прекрасно, просто упоительно играли, и Таки (так забавно звали англичанина) негромко повторял сказочные, навсегда волшебные слова «I love you, I love you, I love you». И почему-то хотелось плакать и умирать от счастья, хотя это были просто слова давно знакомой песни.
Потом совсем стемнело, и они все вместе отправились провожать Мишель до Старой площади, но как только миновали Тинскую, Гарри с Ростом ужасно заспешили и распрощались, и только англичанин совсем не торопился. Тихо улыбаясь, он шел рядом, можно руку протянуть и дотронуться, и рассказывал об улицах Праги и старинных красивых домах на набережной. Как жаль, что Сабринка жила в центре и дорога оказалась такой короткой!
– О, – засмеялся Таки, – я каждый день прохожу по этой улице! Дом номер тринадцать, тебя это не пугает?
Он говорил удивительно понятно, какое счастье, что их так хорошо учили английскому.
– Совсем нет. В Израиле тринадцать – счастливое число. К тому же я сама родилась тринадцатого, смешно, правда?
– Правда? – непонятно удивился и обрадовался Таки. – А в каком месяце?
– В октябре. Под знаком Весов. Мама смеется, что я всю жизнь ищу равновесия. И конечно, никогда не нахожу.
Он вдруг остановился прямо посреди улицы и стал рыться в карманах. На свет появились пачка сигарет, удивительно чистый носовой платок (видел бы Эли!), зажигалка, записная книжка и, наконец, паспорт в аккуратной кожаной обложечке.
– Вот! – немного растерянно сказал Таки и развернул паспорт.
На внутренней странице четкими английскими буквами было написано: «Poll McCarthy. October / 13 / 1976».
Человеку свойственно мечтать о чем-то прекрасном и невозможном. Кому как не Мишель об этом знать! А если твои детские несбыточные мечты вдруг становятся очевидной и потрясающей реальностью?
Она сидит в уютном мягко освещенном помещении паба. Совершенно одна, за центральным столиком, хотя зал полон и даже небольшая очередь желающих скопилась у входа. Элегантный невидимый официант, не спрашивая заказа, ставит на стол большую чашку шоколада (что поделаешь, она так и не полюбила это горькое колючее пиво). Музыка плывет в теплом воздухе. Манящие английские слова, однообразный качающий ритм. Высокий худой солист смотрит только на нее.
I need you, I need you, I need you… I love you, I love you, I love you… I want you, I want you, I want you…Потом будет перерыв, он подойдет к ее столику, никого не замечая, хотя все слушатели тут же начнут с любопытством оглядываться. Он отодвинет тяжелый старинный стул, улыбнется, глянув на ее шоколад, сядет напротив и прижмет к губам ее руку…
Сейчас будет наконец перерыв. И можно будет подойти к ее столику, наплевав на любопытных зевак. Ну конечно, шоколад, официант Мартин давно заметил и приносит без заказа. На мгновение не думать ни о чем, просто смотреть в чудесные теплые глаза, просто прижать к губам ее руку…
* * *
Смешно сказать, но впервые в жизни Таки совершенно не знает, что делать. Эта непостижимая девочка, свободно говорящая на разных языках. Россия? Израиль? Абстрактные чужие слова. Как она рассмеялась в тот первый день, когда он брякнул про женитьбу. «Ты предпочитаешь венчаться или стоять под хупой?» С трудом сообразил, что такое хупа, видел когда-то в американском кино. Кажется, в Корке никогда не жили евреи, по крайней мере, он никогда об этом не думал.
И как все совпало, это волшебное имя, общий день рождения, одинаковое неумение жить в привычном нормальном мире. Как славно она рассказывает про свою страну, крошечную жаркую страну, где совсем нет воды, но созревают два урожая в год, а шумные разноязыкие люди гневно спорят, дружно танцуют, нестерпимо балуют детей и постоянно ждут войны. Почему эта маленькая инопланетянка понимает то, что не в силах понять отец, братья, Клара?
Через месяц он уедет домой. Вечная слякоть, ветры, распаренная гудящая кухня в ресторане, милые незатейливые родные. Мама мечтает, что он станет поваром.
У нее аристократическая семья, еще прадед был профессором математики, большая библиотека, редкие музыкальные записи, старинное пианино. «Когда-то подарили маме или даже бабушке, с трудом получили разрешение на вывоз». Он не понял про вывоз, но это ничего не меняло.
Вчера после концерта позвонил Кларе и сказал, что не нужно приезжать. Кажется, она растерялась, впрочем, все это неважно. Даже трудно представить, что еще недавно хотел ее увидеть.
* * *
Поздний вечер, Мишель и Таки тихо бредут вдоль спящей реки. Совершенно одни в прекрасном сказочном городе, в прекрасном сказочном мире. Конечно, Сабринке пришлось все рассказать. Как хорошо, что она не ворчит и не требует раннего возвращения. А вчера вообще уехала в Бордо на семинар, кажется на три или четыре дня.
Таки покупает ей букетик голубых незнакомых цветов, привычно поддерживает под локоть на лестнице, закрывает плечом от ветра с реки. Даже Гинзбург не придумал бы повода для критики.
Вода кажется черной в темноте, чернее неба над головой. Или это небо опрокинулось в реку? Или так закружилась голова, потому что Таки обнимает ее. Обнимает крепкими ласковыми руками, целует в глаза, в шею, в распахнутый ворот рубашки. «Земля поплыла под ногами, – говорит Ляля, – и мир опрокинулся».
Господи, столько раз целовалась с мальчишками, откуда же эта непостижимая щемящая и сладчайшая мука?
– Давай, пойдем ко мне, – горячо шепчет он, – ты посмотришь, у меня такая теплая комната.
Что ж, если это должно случиться, то почему не сейчас, не с ним, самым прекрасным, самым ласковым и добрым сказочным принцем?
Откуда-то опять всплывает Лялино лицо: «Учти, забеременеть можно с самого первого раза». Вот дуреха, ну почему она до сих пор не начала принимать таблетки! Ничего страшного, просто надо ему сказать заранее, он ведь наверняка лучше понимает.
– Никогда не было? – Таки ласково и немного растерянно целует ее в побледневшие круглые щеки, заглядывает в детские доверчивые глаза. Косичка расплелась и шелковистые волосы опутывают его пальцы. Наверное, такой была мама, когда отец принялся за ней ухаживать. Нет, мама была старше года на два, а то и на три. Как она любила рассказывать про свой роман: «Папа был такой стеснительный и добрый, и никогда, слышишь сынок, никогда не приставал ко мне до женитьбы. И ты не должен обижать девочек!» Боже мой, когда это было. Доисторические времена!
– Вот и умница! – Таки треплет Мишель за уши, как щенка, целует в мокрые глаза. – Куда торопиться! У нас ребята чуть не с пятнадцати лет трахаются, а что они понимают, одна порча настроения! Ты знаешь, у меня первая девчонка была только в девятнадцать. Клянусь! Она потрясающе умела целоваться. А потом влюбилась в моего старшего брата, представляешь?
Таки крепко сжимает в руке ее теплую дрожащую ладошку.
– Принцесса, собственно, зачем нам чужие комнаты и чужие дома когда вокруг такая красота? Срочно переходим мост и отправляемся в далекое-предалекое путешествие вдоль реки! Ты любишь гулять ночью у реки?
Да, она любила, она просто обожала гулять ночью у реки! Хотя никаких рек у них в Иерусалиме не было. Но разве это имело хоть какое-то значение.
* * *
Самолет улетал днем, но они уже простились накануне. Ребята устроили прощальный ужин, все вместе пели знакомые песни на английском языке, а потом Мишель с Ростом вдвоем – на русском. Она, правда, помнила только совсем детские, про Чебурашку и кузнечика, но Рост был в полном восторге и бойко подхватывал: «Представьте себе, представьте себе, совсем не ожидал он…»
Таки, как всегда, проводил ее до знакомого дома номер тринадцать, Мишель ужасно хотелось зареветь, но получалось не по-товарищески, Таки сам был такой растерянный и грустный. И совсем не казался взрослым.
– Я сразу напишу, – твердила Мишель, – электронная почта, такое удобство, минута – и здесь!
– Да, – без энтузиазма соглашался Таки, – я закажу адрес. Кажется, интернет есть в кафе на Старой площади.
Ничего не было просто. Ни компьютера, ни телефона, ни денег. С трудом набирал на дорогу в Корк.
– Тогда я найду тебя в Ирландии. По родительскому телефону, – она помахала написанным его рукой номером. – Мне бы только школу закончить, всего год!
– You must promise to do well in school and with the piano that would make me very happy.[16]
Он не сказал «приезжай». Куда он мог ее пригласить? В холодный унылый Корк, где в девять часов пустота на улицах и только изредка слышна пьяная перебранка? На кухню в ресторан, где ему предстояло работать?
Она не сказала «приезжай». Куда она могла его пригласить? В жаркий пустынный Иерусалим, где на всех углах полицейские и солдаты, а в дверях – постоянная проверка сумок? И везде страх, страх и унижение?
Самолет приземлился точно по расписанию. Эли встречал ее в аэропорту, специально выпросил у родителей машину. Он даже хотел купить цветы, но как-то забыл на минутку, а потом уже не хватило времени. И было совершенно непонятно, почему Мишель молчит всю дорогу, или еще обижается с их последней встречи, или просто устала и хочет домой?
В восемь, как обычно, начался концерт. Таки автоматически цедил заученные слова. За центральным столиком расположилась шумная компания иностранцев, они с аппетитом жевали и чокались пивными кружками, потом стали спорить о чем-то, мужчина развернул газету. Прямо в глаза хлынули странные буквы, похожие на рассыпанный чай.
Ляля торопливо шла по горячей мостовой. Торт из безе и фруктов уже готов, только достать из морозилки, когда приедет ее девочка. Главное, ничего не спрашивать. Сабринка, мудрый человек, даже сама ходила в этот бар, вот что значит старые друзья. «Порядочная католическая семья, третий ребенок их четырех, окончил колледж по английской литературе, очень музыкален». Господи, дай мне силы изменить то, что я могу, и принять то, что я не могу изменить!
Гинзбург делал вид, что слушает «Болеро» Равеля. Хорошо, что все время вступают новые инструменты, громкость нарастает, можно прикрыть рукой лицо, и тогда дети не заметят, как стекают слезы по старым морщинистым щекам.
Френсис Маккарти молча сидел за служебным столиком. Можно и помолчать в кругу старых друзей, особенно когда совесть чиста, дела завершены, а дома ждет добрая хозяйка. Сейчас закончится перерыв, и они вновь запоют старые вечные песни о любви, встречах и расставаниях. И весь зал станет подпевать, как будто еще не прожита юность и любовь еще ожидает где-то за порогом, а может, она и вправду живет, раз живут эти песни, кто знает.
Данечка собирал железную дорогу из ярких пластмассовых блоков и разговаривал сам с собой. Он уже освоил слово «почему», но сегодня никто не хотел ему отвечать, папа Сережа громко шуршал газетой, но совсем не читал, а только перелистывал страницы. В телевизоре раздавался привычный вой сирены, и все повторялось знакомое, но непонятное слово «пигуа»[17].
Данечкина мама, Аня Гинзбург-Полак («Бонч-Бруевич», посмеивался Сережа) безнадежно торчала в пробке напротив Садов Сахарова[18]. Даже сегодня, когда приезжает Маша, не удастся вернуться вовремя. Если бы она ушла всего на полчаса пораньше! Но работа есть работа – все правильно. Всю жизнь она живет по правилам – удачное образование, разумный брак, высокооплачиваемая работа.
Почему же иногда кажется, что жизнь проходит мимо? И что-то главное уже не случится?
Мария стояла на привычном месте, у задней стены собора. Она любила этот час, когда заходит солнце, и в храме тишина и редкий свет, и можно спокойно молиться. И она тихо и привычно молилась за мужа, и за всех детей, и отдельно за Таки, который наконец возвращается домой, и за ожидаемого вскоре внука, и за всех будущих внуков своих и чужих, и просто за любовь, неустанную и вечную любовь, которая вопреки всему греет и хранит нас в этом неразумном стремительном мире.
Женщина на заданную тему
ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ, НО ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ
Если нельзя, но очень хочется, то можно, думаю я жалобно. Мне смертельно хочется спать, спать до позднего солнечного утра, уже переходящего в день, и потом еще немного поваляться в нагретой уютной постели, раскинув руки поверх одеяла. Разве конференция пострадает без участия одного рядового слушателя?
Я ненавижу деловые встречи, пиджаки, строгие прически и годовые отчеты. И при этом работаю системным аналитиком в серьезной торговой фирме. Парадоксы так желанного нами капитализма – за отказ от любимой профессии получаю финансовый аналог независимости и свободы. То есть могу нормально одеваться и покупать дорогую косметику, чтобы во всем этом великолепии ходить на ту же работу!
Нет, что зря ныть – финансовая свобода все-таки очень нужна: отпуска, Гришкины теннис и английский, подарки маме, содержание нашей старенькой дачи. И независимость. Независимость от Глеба.
В принципе, я не слишком и стремилась на филфак, это была идея моей учительницы литературы. Удачные сочинения и детское увлечение поэзией – еще не причина всю жизнь изучать чужие литературные труды. Вдруг так и не удалось бы написать ничего своего, только корпеть в архивах и листать старые рукописи? И бесконечно читать критические статьи и воспоминания сентиментальных дам?
А так – полная свобода, писать не нужно, читай, что хочешь – Ахматову вперемешку с Агатой Кристи, Борхеса и Даррелла, Цветаеву и Гришковца. Конечно, если найдешь силы и время после двенадцати часов работы на компьютере.
Я хочу жить в старом, забытом временем городе, сонно бродить по теплой комнате в длинной мягкой рубашке, приминать загорелыми ступнями ворсинки ковра, следить за отражением облаков в темном зеркале. И ждать тебя. Беспечно и радостно ждать тебя, не боясь разочарований и потерь.
И пусть меня зовут, например, Рахель. Кстати, так звали мою бабушку с отцовской стороны. Да, Рахель! Любимая жена. Любимая и единственная, хотя я никогда не пойму, почему Иаков не ушел от Леи после этого страшного обмана? Разве можно страстно любить и желать одну женщину и при этом продолжать жить с другой? И не просто продолжать, например из вежливости и разных обязательств, а рожать с ней детей, да еще так много? Им что, совсем все равно с кем спать, этим библейским праотцам?
Нет, не хочу Рахели! Слишком грустно быть одной из жен, лежать без сна в холодной кровати, знать, что его щека прижата к чужой щеке и сонная рука лежит на чужой груди…
Пусть лучше Лаура! Чудесная Лаура в белом платье и облаке кудрей, недоступная хохотушка и прелестница. Не спи ночами, умирай от восторга, всю жизнь мечтай коснуться моей руки…
Нет, что-то мне не хочется платонической любви на всю жизнь. Помрешь от скуки…
Тогда Кармен? Лара? Настасья Филипповна? Какие глупости!
Давай ты просто будешь спокойным и добрым. Очень добрым и немного насмешливым, потому что невозможно не рассмеяться, когда сильный взрослый человек так по-детски влюблен и очарован. Конечно, очарован – моими руками, губами, словами, что я шепчу тебе по ночам. Моей страстью, преданностью, восторгом.
Давай ты просто обнимешь меня, не просыпаясь, и утро будет тянуться бесконечно, и весь мир оставит нас в покое…
Боже мой, осталось двадцать минут! Как всегда. Тоже нашлась Афродита-Дездемона! Теперь придется мчаться всю дорогу, а потом виновато пробираться к свободному стулу.
Я поспешно встаю, надеваю деловой костюм, жутко неудобные туфли с длинными носами, закручиваю волосы в строгую прическу. Все-таки международная конференция, важный доклад по нашей тематике.
Сначала я очень обрадовалась этой поездке – погулять по Москве, переночевать в хорошем отеле. Вообще-то не такая уж роскошь, но можно «выйти из круга». Это моя подруга Надя придумала – хотя бы раз в год человек должен «выйти из круга и пожить на другую тему». Пусть даже в командировке. Но боюсь, настоящего выхода не получится, с конференции трудно сбежать. Вчера был длинный утомительный день. И сегодня главный доклад наверняка поставят в конце, с этим мне всегда везет. А вечером – обратный поезд. Интересно, что за докладчик? В прошлом году приезжал такой зануда!
ОН СРАЗУ ЕЕ ЗАМЕТИЛ
Конечно, он сразу ее заметил. И не только потому, что сидела в первом ряду и задавала вопросы. Кстати, очень неглупые вопросы, строго по существу, что так нехарактерно для женщины. Что-то еще притягивало взгляд, то ли слишком темная масть – шоколадные, круглые как тарелки глаза, почти черные тяжелые волосы. То ли слишком много округлостей – грудь, бедра – все чуть больше, чем нужно для строгого делового костюма. Да и волосы не держались в «деловом» узле на макушке, ей то и дело приходилось заправлять за уши кудрявые пряди. Нет, на российскую бизнес-леди она не тянула. Не тянула, слава богу!
«Хорошая еврейская девочка», – сказала бы его мать.
Да! В этом все дело! Именно так бы она и сказала. И при этом безнадежно вздохнула, заранее предполагая непонимание. Черствость и непонимание, чего еще от него ждать!
Нет, это смешно, наконец, – перевалить за сорок, защитить докторскую, родить собственных детей и вот так, на ровном месте, продолжать бороться c родителями…
И ведь мать никогда не настаивала. Скорбно сжимала губы, заворачивалась в цветастую нелепую шаль и утыкалась в какую-нибудь свою Ахматову. Или Цветаеву? И почему он их вечно путал? Совершенно разные стихи, честно говоря. Ах нет, там была еще Ахмадулина, вот в чем дело, его путали похожие фамилии. Сколько мучился, плотно закрыв дверь в свою комнату, ловил непослушные горячие слова, все эти немыслимые женские страдания. Зачем столько страстей на ровном месте? Но почему-то запомнил навсегда: Смуглой оливой скрой изголовье! Боги ревнивы к смертной любови… Нежнее нежного лицо твое, белее белого твоя рука… Ликом чистая иконка, пеньем – пеночка… – И качал ее тихонько на коленочках…
Кому это расскажешь, скажите на милость?! Друзья, даже из тех, что знали русский язык, все равно не поймут. Он и сам не понимал, но какое-то беспокойство поселялось в душе от странных тянущих слов.
Все равно мать бы не поверила, что он читает ее книжки. Она даже не верила, что он помнит русский. Хотя и сам хорош, столько раз придуривался, коверкал слова…
Так вот, это была хорошая еврейская девочка. В понимании его родителей, конечно. Бесполезно спорить. У них на все было свое мнение, свой взгляд, отживший и вечный взгляд – как парадный коcтюм отца в шкафу. Какое-то время его пытались знакомить с дочками друзей, всегда тот же джентльменский набор – университет, музыкальное образование, любовь к литературе и искусствам, нелепые юбки до колен.
А настоящей еврейской девочкой была как раз Орна. Куда уж более еврейской, – три поколения в Израиле! Адская смесь американских сионистов, польских кибуцников и почтенных иракских банкиров. Тощая, как воробей, с гладкими прямыми волосами и маленькими острыми грудями, не знающими лифчика. И в придачу совершенный иврит, веселое пренебрежение традициями, собственная квартира на бульваре Ротшильда. И узкие зеленые глаза. С ума сойти!
Впервые он увидел Орну на последнем курсе университета и понял – это его спасение, его точка опоры, единственная надежда выжить в чертовом израильском мире.
С десяти лет быть изгоем, глупым русским в глаженых рубашках. Другие ребята как-то легко вписались, но его крепко держали родительские предрассудки: не болтать, не кричать, не перебивать старших. И вставать, когда входят гости. И открывать дверь женщине. И говорить только по-русски! Со всеми знакомыми говорить только по-русски!
Они хоть задумывались, как он выглядел среди одноклассников?!
И все время в ушах: «Москва, Москва…» – три сестры вместе столько не ныли и не причитали! «Ах, музеи, ах, спектакли, Третьяковская галерея, зал Чайковского…»
Зачем же вы уехали, черт возьми, зачем увезли его из этого рая?!
Конечно, Орна дразнилась, высмеивала одежду и акцент, но, если задуматься, ей тоже нелегко пришлось. Его родители со своими закидонами и нелепыми подарками, его русские приятели из университета. Приятелей она особенно не выносила, злилась, что много пьют, много вспоминают, слушают непонятные песни. Русский язык у нее просто отчаяние вызывал, кассеты Окуджавы в мусорный ящик выбросила. Хотя Окуджаву как раз вскоре перевели на иврит, нашлись любители.
Он многое помнил из московской жизни: огромные высокие комнаты, хлопанье дверей, кипящий чайник на плите. И бесконечные разговоры на кухне, шумные разговоры и споры до глубокой ночи в кругу таких же романтиков-сионистов, как его родители. Почти все они потом отвалили, в Америку конечно. И еще запомнилась фраза: «Это не по телефону». Сами разговаривали по телефону с утра до вечера и сами же ее твердили!
По воскресеньям его водили в театр или на музыкальные утренники. Нужно было надевать выходные колючие брюки, тяжелые пальто и шапку с меховыми ушами. Долго ехали на метро, поднимались и спускались по движущимся лестницам, что немного искупало скуку предстоящего концерта. Но к музыке привязался, уже в Израиле освоил гитару и ударные, в старших классах вовсю завлекал девчонок. А из театров почти ничего не мог вспомнить, кроме нелепой сказки про Синюю птицу. Зачем-то ее искали, какие-то дети бродили по сцене и разговаривали с умершими дедушкой и бабушкой. Натуральный фильм ужасов!
И еще устраивались пикники: варили картошку в мундире, крутые яйца, собирали в рюкзаки хлеб и яблоки. Потом долго ехали на медленном стучащем поезде, долго шли по тропинке к просторной поляне, все возбужденные, нарядные. Мама покрывала голову большим красивым платком, хотя было совсем тепло. Для него тоже везли специальную шапочку, черную бархатную шапочку без козырька, но надевать ее было нельзя, пока не приходили на место. На поляне вешали огромную белую простыню с синими полосками, дружно пели красивую непонятную песню… Он быстро запомнил слова: «Кол од балевав пнима…»[19]
Да! Во главе всего стояла идея! Они боролись. Они хотели жить в своей стране, петь свой гимн и соблюдать традиции своего народа. Можно ли быть такими безграмотными безмозглыми мечтателями! Взрослые женатые люди, с высшим образованием. Ведь ничего не понимали ни про страну, ни про традиции! Близко не представляли, какая пустыня их ожидает. Горячая, жесткая и единственная Земля. Разве они могли понять? Ничего не знали, кроме перевранного текста «Ха-Тиквы». Даже его бархатную черную кипу пришлось выбросить, оказалось, такие носили только сефарды-ортодоксы.
Нет, эта девочка ему положительно нравилась! Впрочем, почему девочка? Так, первое впечатление из-за нежного круглого подбородка. И ресницами хлопает, как его дочка Мор. А грудь совсем не детская, тяжелая, даже в пиджаке не скрыть. И какой идиот придумал для женщин деловую одежду? Вопросы она толковые задает, явно работает не первый год, плюс университет, плюс стаж, – значит, ей лет тридцать. Наверное, давно замужем и дети есть. В России рано детей заводят. Его мать тоже родила рано, сразу после окончания института.
А Орна не хотела детей. То есть она хотела, но «потом» – после поездки в Таиланд, завершения нового проекта, путешествия по Южной Америке. Всегда находилась новая причина, он не спорил, тем более Орна была на два года старше. Он долго не мог поверить в серьезность их брака, слишком часто она смеялась, называла его русским медведем, хвасталась подружкам как некой диковинкой. И все казалось, что завтра ее увлечение пройдет, как прошла страсть к собиранию индийских масок или занятиям йогой. Даже после официальной регистрации и хупы, на которой его мать глупо и неуместно расплакалась, почти ничего не изменилось. Только купили новый шкаф в спальню и переставили письменный стол подальше от телевизора, чтобы он мог работать над диссертацией. К сексу Орна относилась, как к веселому спорту, бесстыдно раздевалась, легко меняла позы, могла обнимать одной рукой и при этом в другой держать мороженое или телефонную трубку. Сначала его это смущало, потом стало казаться забавным, потом немного наскучило конечно.
Кошмар начался несколькими годами позже. Вдруг оказалось, что у всех друзей и знакомых давно есть дети, у некоторых даже двое-трое, и Орна страстно (как и во всех своих увлечениях) загорелась идеей материнства. Но… ни бурный секс, ни обязательные и нудные, как ходьба в тренажерном зале, объятия не принесли результата. Тогда она бросилась по врачам, завалила дом витаминами, термометрами и графиками собственных месячных циклов. Спать с ней теперь требовалось строго по расписанию, не чаще двух раз в неделю, и обязательно в день, когда поднималась какая-то таинственная температура. Он с тоской смотрел на младенцев в колясках, на школьников, бегущих по тротуару. Неужели все эти дети запросто родились у своих мамаш?
– Слишком долго пользовались контрацептивами, – сказал врач, отводя глаза, – плюс две прерванные беременности в молодом возрасте. Но нельзя терять надежду, попробуем искусственное оплодотворение.
Он не стал спрашивать Орну про прерванные беременности, лежачего не бьют.
Пять лет. Пять лет истерики, слез, унизительных процедур и анализов. Потом в чужой стеклянной колбе чужая рука соединила их клетки. Еще восемь месяцев страха и надежд, пока из операционной не позвали посмотреть на двух недоношенных сморщенных младенцев, – сына и дочь. Он был страшно рад за Орну, за конец ее мучениям. Она назвала детей Шай и Мор, как раз вошли в моду короткие бесполые имена.
ДОКЛАДЧИК ОКАЗАЛСЯ УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫМ
Докладчик оказался умопомрачительным! Роскошный тип в светлом мешковатом костюме. Интересно, сколько нужно отдельно заплатить за такую вот мешковатость? Дорогая рубашка в тон, ворот небрежно распахнут, бесшумные легкие туфли. Точен и остроумен, вежлив и снисходителен.
Я уткнулась в программку конференции. Израильтянин! Вот почему такой странный, еле уловимый акцент. И веселая кудрявая борода. Прямо-таки живой царь Соломон! Мудрый и справедливый. И еще, наверное, ласковый и страстный. И концы слов растягивет, будто поет восточную песню.
Когда-то, кажется в 89-м году, папа впервые в жизни поехал в Израиль, в гости к своим бывшим однокурсникам, и вернулся совершенно потрясенным.
Во-первых, тогда только начали более-менее свободно выпускать туристов из России, многие не узнавали родных, терялись и плакали, а одна старушка, которая не видела дочь двадцать пять лет, потеряла сознание на паспортном контроле. Папа даже решил, что она умерла, но тут бабушка открыла глаза, два израильских охранника с автоматами подхватили ее и вынесли на руках в зал ожидания, и немолодая полная женщина страшно закричала «мамочка!» и зарыдала, и все пассажиры заплакали и зарыдали, даже папины израильские друзья, которых он тоже, кстати, не видел с 74-го года.
Во-вторых, он не ожидал такой нарядной страны, ослепительно белой и ярко-синей, точно израильский флаг, да еще сплошь усыпанной цветами. Цветы росли везде – на кустах, деревьях, площадях, перекрестках, лужайках во дворе. И еще там были арбузы без косточек. И бананы росли в огромных ярко-синих пакетах, привязанных к пальмовым веткам, а сами пальмы назывались травой. Огромной травой на огромных полях, как в стране великанов. И я, конечно, жутко влюбилась в эту сказочную страну, полную белого солнца, синего моря и пронзительного безоблачного неба.
– Вечно сочиняешь, – говорит Глеб, – не можешь жить по-человечески.
Глеб воспитывает меня уже шесть лет. Правда, с перерывами на две недели в феврале, когда он уезжает кататься на горных лыжах. Считается, что мы живем вместе, хотя я никогда не чувствую себя дома в его правильной идеально убранной квартире. И там нет места для Гриши.
– Проблема! – ворчит моя мудрая, как три царя Соломона, подруга Надя. – Что значит, нет места?! Займи денег или продай дачу. Плюс квартира Глеба – шикарную хату можно купить! Дождешься, что его уведут, пока ты мотаешься между двумя домами. – Такими мужиками не бросаются, – говорит подруга Надя, – тем более в твоей ситуации.
Моя ситуация – это Гришка, которого я родила на втором курсе университета, почти одиннадцать лет назад. Ужас, как бежит время!
Гришин папа, красивый тоненький мальчик по имени Тимур Гусейнов, случайно попал к нам в группу. Его родители, как и многие азербайджане, бежали после разборок в Нагорном Карабахе, и в Питере поселились только потому, что здесь уже жили дальние родственники. Но они так и не привыкли к чужой земле – тоскливо бродили по нашим скудным базарам, тушили на медленном огне баклажаны и перцы, тосковали по солнцу. И язык у них был совсем иной – гортанный, резкий. Тимур тоже скучал, мало разговаривал и легко обижался, сжимая красивые тонкие губы. Он казался юным восточным князем среди наших курносых горластых мальчишек. Говорят, мы неплохо смотрелись вместе, не зря евреев и мусульман считают единокровными братьями.
Тимур никогда не объяснялся мне в любви, но обнимал страстно и мучительно, еле сдерживая дрожащие руки, как маленький прятал лицо в моих спутанных волосах, отчаянно целовал плечи, коленки, пальцы… Я сама привела его к нам домой, когда мама уехала на дачу, я ведь была старше, потому что в первый год после школы провалилась на филфак. Хотя мой опыт тоже оставлял желать лучшего – пустые школьные влюбленности, поцелуи на дискотеке…
Конечно, можно было подумать вовремя, все-таки не глухие пятидесятые, когда вместо секса предлагали политинформации, аборты запрещали, а презервативов не продавали вовсе. Мы жили в цивилизованном мире, по нашему телевизору вовсю крутили рекламу кондомов, – мама только успевала вздрагивать и переключать. Я просто не решилась их купить, глупейшим образом побоялась спросить в аптеке.
– Хорошо, – сказал Тимур Гусейнов бесцветным голосом, – я женюсь, если ты этого хочешь. Хотя мужчина не должен жениться на своей первой женщине.
– Почему?
– Не знаю. Так говорит отец. Он говорит, что я глупый мальчишка, ничего не понимаю в жизни и не нашел еще свою женщину. И что я – голодранец, а не кормилец семьи.
– Я совсем не хочу, чтобы ты на мне женился, – сказала я искренне.
– Правда? – обрадовался Тимур, – я так тебе благодарен!
Гришка родился через три месяца после их отъезда – дядя Тимура давно приглашал брата с семьей перебраться к себе в Кировабад.
В принципе, ничего плохого не случилось. И отец Тимура был прав. Пусть мальчик еще поживет, побродит по свету, станет мужчиной и кормильцем. Не знаю, смогла бы я вписаться в их далекую гортанную семью. Зато у меня остался чудесный сын, тоненький и стройный молчун, похожий на юного восточного князя. Только вот не знаю, на еврейского или мусульманского.
В конце доклада я полезла с вопросами. Наверное, из чистого хулиганства. А может, чтобы внутренне оправдаться за собственную рассеянность и посторонние мысли. Израильтянин отвечал приветливо и очень точно. И смотрел прямо в глаза, как будто проверял, все ли понятно. Акцент почти исчез, но иногда он не находил подходящего слова и тогда поспешно переходил на английский, улыбаясь и разводя руками. И приветливо улыбался подсказкам из зала.
Нет, на царя он не тянул, – слишком добрый. И усталый. Вдруг стало заметно, какое у него утомленное лицо. Будто Иаков, который уже отработал семь лет, но еще не получил Рахели.
Пусть он в меня влюбится, решила я, пусть он в меня влюбится на одну неделю. Или на один день. Но до потери сознания! Чтобы забыл все дела и всех своих женщин. Чтобы с ума сходил от моих волос, рук, взгляда. И слушал мою болтовню, и смеялся радостно, и сам рассказывал что-то удивительное и ласковое.
Мы встретимся на старом московском бульваре и пойдем по засыпанной снегом дорожке вдоль замерзших прудов…
Нет! Зачем Москва? Пусть мы уедем в другой город, чудесный старинный город, чужой, но немного знакомый по историям и любимым книжкам. Рим? Париж? Ах, нет! Великие города требуют слишком много внимания. И много денег. Что я скажу маме и Глебу?
Может быть, встретиться в Израиле? Например, я позвоню папиной давней подруге Инне, попрошу пригласить в гости? Иаков встретит меня рано утром на старой площади за рынком, наверняка ведь в Иерусалиме есть рынок. И мы побредем среди бесцветных от времени каменных дворов, будем заглядывать в древние колодцы, взбираться по узким лестницам на заросшие виноградом крыши… Нет! Инну я видела раз в жизни, неудобно – здрасте, я ваша тетя! И потом у этого замечательного израильтянина дома своя жизнь, свои заботы. И свои друзья, чтобы с ними гулять по Иерусалиму.
Знаю! Мы встретимся на конференции! Пусть опять будет конференция, нет, серьезный большой конгресс с участием многих стран, чтобы легче затеряться. И какая-нибудь нейтральная заграница, например Германия. Я приеду в старинный уютный университетский городок, Гейдельберг или Геттинген, где мостовые вымощены булыжником, герань свисает с широких подоконников и в полдень на старой площади бьют огромные резные часы. Под такими часами Иаков будет ждать меня, нетерпеливо и радостно поглядывая на башню, а я нарочно немного опоздаю и стану любоваться из-за угла этим нетерпением и этой радостью.
Нет! Лучше мы встретимся в Голландии, я как раз недавно читала Гришке «Серебряные коньки»!
О тихий Амстердам, С певучим перезвоном Старинных колоколен! Зачем я здесь, не там, Зачем уйти не волен…Да! Сероватый дрожащий воздух, и холодная вода вдоль мостовых. И мы никуда не спешим, а просто идем, обнявшись, под большим, уютным, как домик, зонтом, и люди машут нам с проплывающих кораблей.
К твоим, как бы затонам, Загрезившим каналам, С безжизненным их лоном, С закатом запоздалым…[20]И в каком-то старом промокшем квартале мы набредем наконец на улицу Анны Франк и постоим молча, не рассуждая и никому ничего не доказывая. Подумать, она была бы сейчас совсем пожилой женщиной, лет на десять старше моей мамы.
– Меня поражает твоя национальная некорректность, – ворчит Глеб, – только и слышно: «Холокост, погромы, черта оседлости». Вспомни историю, у всех были свои несчастья, в Поволжье – голод, в Армении – резня. Полукровка, даже языка не знаешь, а грузишь на себя всю скорбь еврейского народа.
– У меня генетическая память.
– У тебя генетическая фигура, – смеется Глеб и хлопает меня по бедру. – Тут вас бог выделил, нечего сказать! Еще бы росту добавил…
– Генетическая, а также исторически оправданная, – отвечаю я как можно веселее. – Все-таки сорок лет в пустыне! А когда долго идешь по пустыне, высокий рост только мешает, зато на крутом бедре легче нести ребенка. И большая грудь обязательна! Не будешь же младенца манной кормить!
– Высоконаучное объяснение и никаких недостатков, – фыркает Глеб.
– Да! К тому же при широких бедрах талия тонкая! И живот остается плоским, как у нерожавшей женщины, вот посмотри.
– Могла бы быть нерожавшей, если бы не твоя вечная безответственность, – Глеб не спеша поворачивает меня к себе, проводит жесткой рукой по животу – сверху вниз… Руки у него красивые, и сам он красивый и спокойный. И аккуратный, и организованный. Конечно, такими мужиками не бросаются. Даже непонятно, почему он терпит мое разгильдяйство и генетические пороки. И чего я все сбегаю в свой старый дом? И все крутится в голове одна стихотворная строчка. Старая, абсолютно заезженная строчка – «без слез, без жизни, без любви».
* * *
А Иакову, наверное, нравятся загадочные и покорные восточные женщины! С широкими бедрами и высокой грудью. С гривой волос и маленькими крепкими ступнями, чтобы легко идти по горячему песку. И с горячим запахом мирры, купленной на последние гроши. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя!»
Та-ак, меня уже в «Песнь Песней» занесло, кажется, мы были в Амстердаме.
Хорошо, обойдемся без мирры! Пусть будет Амстердам, или Геттинген, или Прага. Главное, ничего не объяснять и не оправдываться. Просто бродить вдоль каналов, глазеть на кораблики, остроконечные крыши, резные ставни, охапки тюльпанов в мокром блестящем ведре. Иаков будет крепко держать меня за руку, и дышать на замерзшие пальцы, и целовать в холодные щеки на глазах у прохожих.
И он, конечно, поймет, почему я все ищу еврейский квартал и все вспоминаю, как совсем недавно, каких-то семьдесят лет назад, на этой тихой улице жил худенький мальчик, похожий на восточного князя. Он играл в шахматы и рисовал картинки, а его мать, покорная женщина с генетической фигурой и генетической тоской в глазах, молилась кому-то и надеялась на что-то.
Мы все молимся и надеемся, не правда ли, мой дорогой?
ПРОГРАММА БЫЛА СТАНДАРТНАЯ
Программа была стандартная, – несколько докладов, перерывы на кофе, поздний обед в ресторане. Честно говоря, он здорово устал, пора перестать летать ночными рейсами. Хорошо, хоть отель оказался недалеко, – успел вздремнуть пару часов. И ноутбук оставил в номере, – можно заскочить перед обедом и отправить почту. Один раз уже украли в Киеве всю сумку вместе с компьютером.
Русские прилично научились за последние годы, обстановка на конгрессе вполне международная, – выставочные стенды, красивые длинные девицы, разносящие коктейли, грамотные переводчики. Хотя все у них получается немного смешно и подчеркнуто, как у человека, впервые надевшего смокинг. И почему они так любят швырять деньгами и спорить по любому поводу?
Его родители тоже любили спорить. И критиковать. Все подряд критиковать – язык, климат, политику. Будто уехали из страны со сказочной природой и великой демократией, а не из этой серой и холодной провинции. Тоска одна вспоминать!
В перерыве он сразу натолкнулся на кругленькую бизнес-леди, – стояла посреди коридора и глазела по сторонам, как первоклассница. Сейчас на него посмотрит! Точно, смотрит и даже улыбается, вот паршивка! Что в нем такого смешного, спрашивается? Придется подойти. Почему бы и нет, – занятная девчонка, можно поболтать пару минут.
Было смешно, что она так растерялась. А еще вопросы задавала, тоже боец!
– Вы хорошо знаете материал, приятно было слышать. Здравствуйте!
– Здравствуйте!
Так вежливо отвечает, бо-ольшая скромница.
– Не подумайте, что напрасно хвалю, я старый опытный лектор! Приятно, когда слушатель понимает и участвует. Легче работать.
– Это у меня просто хорошая обучаемость. Хроническая отличница, с детства. Ой, зачем-то расхвасталась, извините, на самом деле – биологический факт и никаких личных заслуг!
– Почему биологический?
– Потому что генетика – раздел биологии. Понимаете, мой папа обожал учиться и передал мне эту особенность. С генами.
Ага, начала кокетничать, что ни говори, – женщина есть женщина!
– Что ж, не такой плохой факт. Хоть и биологический. А чем папа сейчас занимается?
– Сейчас? Сейчас ничем. Он умер. Десять лет назад. Извините.
Вот так тебе! Глупая израильская привычка лезть с вопросами.
– Это я должен извиниться, затронул больную тему.
– Но ведь я вас спровоцировала. Правда, нечаянно.
Да уж, поговорили. Нет бы отдохнуть в перерыве. Жаль, неудобно сразу попрощаться и отойти.
– Вы живете в России?
Опять вопрос, причем совершенно идиотский! Как будто по ней не видно, где она живет.
– Да, в Питере. У меня командировка. На два дня. А у вас?
– И у меня на два. Из Израиля.
И зачем тыкать на свою карточку? В программе же указано. Во всем мире карточки на металлической прищепке, а у них на шелковой ленточке. Оригиналы! Смешно, что у нее карточка висит почти на животе из-за длинной ленточки. Совсем коротышка! Невольно прочел: «Розенфельд И. Г.».
– Знаете, очень забавная вещь, мы с вами – однофамильцы!
– Но ведь вы – доктор Розен? В программе написано Яков Розен. О! Почти Иаков?! С ума сойти!
– Да, Яков и Иаков – одно и то же имя, вас это, кажется, радует? Тогда я тоже очень рад! А фамилию изменил для краткости, уже после школы. Мой отец даже обижался. В Израиле приняты короткие имена и фамилии, можно сказать, мода такая. Но в прошлом я – Розенфельд, так что – самые настоящие однофамильцы.
– Вот здорово! Умереть и не встать! Может, мы даже родственники? И когда-то у нас был общий прадед? Мрачный и красивый мудрец с длинной бородой. И у него была целая куча красивых послушных детей, так много детей, что он только по субботам вспоминал их имена, когда собирался на праздничную молитву… Нет! Скорее моя прабабушка была влюблена в вашего прадеда и родила от него незаконного сына. Так даже интереснее!
– Вы думаете, незаконный сын интереснее?
– О! Нет, конечно! Это я случайно придумала, не слушайте! Меня иногда заносит. А зачем вы сократили фамилию, вы такой модник?
– Ужасный!
– А я нет. Даже стыдно рассказывать. Люблю длинные платья, клетчатые юбки, шали. Но приходится носить эту униформу. Родилась под знаком Весов, – а никакого равновесия!
– Я тоже под знаком Весов. И тоже плоховато с равновесием. Но если мы сейчас не вернемся в зал, то равновесие рухнет окончательно, – уже двери закрывают.
– Да. Как жаль!
– Всего пару часов осталось. А потом обед. Вы собираетесь идти на обед?
– Конечно! Обожаю обеды! Особенно, когда мне их подают, и потом не нужно мыть посуду.
– Тогда занимайте мне место. Я должен вернуться в отель на полчасика, а потом приеду. Идет?
Я МЧАЛАСЬ К МЕТРО
Я мчалась к метро, беспрерывно влетая в лужи. Безмозглая болтунья! Выскочка! Балаболка! Неужели нельзя научиться слушать других людей! И думать, а не лепить всякую чушь. «Незаконный сын интереснее!» Жуть! Глеб все-таки во многом прав.
И зачем я полезла с отцом и его смертью? Очень умно навязывать свои огорчения незнакомому человеку. Еще бы на кладбище пригласила!
Да, отец прекрасно учился, что из того? Он даже сумел поступить в МГУ на мехмат, хотя никто не верил, что туда примут еврейского мальчика. Но потом оказалось, что в 1963 году еще принимали, выпал некий счастливый период. И в папиной группе училось не менее семи таких мальчишек, блистательных востроносых умников и хвастунов. Они все потом уехали, стали профессорами или преуспевающими бизнесменами и богатыми людьми. Кроме моего отца.
И еще с ними училась одна девчонка по имени Инна Лифшиц. Мама ей не звонила, но кто-то сообщил из бывших однокурсников. Однокурсников на кладбище собралось много, совсем не старые бодрые люди, даже не седые. И еще было очень много студентов и аспирантов, все страшно растерянные, некоторые плакали, но никто не ревел так, как эта чужая незнакомая женщина с длинным опухшим носом. Потом она сидела на нашей кухне, беспрерывно сморкаясь, и рассказывала об отце. Весь вечер рассказывала о моем отце, хотя мама страшно устала и хотела лечь.
Инна влюбилась в папу на первом курсе, потому что он был самым умным. И самым добрым. И самым талантливым. И самым веселым. И самым красивым. И все три девчонки из группы в него влюбились, несмотря на его невысокий рост. И все три потом вышли замуж за других однокурсников.
«Представляете, на мехмат поступало так мало девчонок, что за каждой ухаживали по пять человек, и даже на меня нашлись желающие! С моим носом и фигурой!»
Но папу с первого курса заколдовала какая-то красавица-ведьма с филфака. Там как раз учились сплошь девчонки, и даже ходила шутка: на филфаке что ни плюнь – то девочка, а на мехмате что ни девочка – то плюнь. И вот эта ведьма совершенно измотала папину душу – то уходила, то возвращалась, то опять исчезала на целый месяц. Потом она вдруг вышла замуж за общего приятеля, рассорила всех, родила сына, но и с приятелем прожила недолго и опять вернулась со слезами и клятвами, сломав папин хрупкий начинающийся роман с Инной. Понятно, что клятвы не помогли, вскоре она начала встречаться с другим общим другом, родила еще одного сына, уехала в Болгарию, потом в Канаду. Куда ей было понять и оценить живущего рядом гения?!
Отец уже на третьем курсе сделал блестящую работу, равную кандидатской диссертации, потом еще ряд работ, потом доказал какую-то теорему, совершенно недоказуемую, как сказала Инна. Он шел первым номером в аспирантуру, но тут грянула Шестидневная война в Израиле, иллюзия свободы закончилась, ему отказали в последний момент. Тогда он стал работать над диссертацией самостоятельно, а для заработка читал лекции по новым языкам в программировании. Через два года диссертацию принял ученый совет, ни у кого не поднялась рука завалить столь блистательную работу. Параллельно он продолжал читать лекции в различных НИИ, возникла даже очередь из институтов – ни до, ни после не знали такого прекрасного лектора.
Дальше я знала и сама, потому что на одной из лекций в Питере отец познакомился с моей будущей мамой и через неделю переехал к ней жить.
– Они все так женились, – сказала Инна, опьяневшая от горя и выпитой на поминках водки, – все талантливые еврейские мальчики любили жениться на больших русских женщинах, мирных и послушных, без капризов и претензий русских женщинах. И без полета. Потому что летать они могли сами, понимаешь?
Я старалась не смотреть на маму, которая была выше отца на три сантиметра и старше на два года. И работала рядовым инженером в никому не нужном НИИ, пока их отдел не разогнали с началом перестройки. Она так и не научилась водить машину, не знала английского, хотя их вроде учили и в школе, и в институте, и больше на работу не устроилась. Да это и не было нужно, – отец прекрасно справлялся за всех. Он всегда со всем справлялся, сам чинил утюг и водопроводный кран, мастерил книжные полки, жарил мясо по-французски, разжигал костер под дождем. Он даже успел отключить газ на даче до того, как потерял сознание. Почему именно он? Кровоизлияние в мозг в пятьдесят лет! Никогда не болел, никогда не измерял давление.
Только после папиной смерти я оценила навсегда утраченную беззаботность и защищенность. Но мы с мамой продержались, несмотря на рождение Гришки. Правда, два года пришлось мыть по ночам полы в супермаркете, зато с четвертого курса меня взяли работать программистом, даже не понадобилось переходить на вечерний. И Гришке не пришлось давиться манной кашей в районном детсаду, – неработающая бабушка великое везение!
Одна лужа оказалась слишком глубокой, вода наполнила туфель. Плевать! Я ведь и так мчалась переодеваться. Вдруг Иаков предложит погулять после обеда. А я и ста метров не пройду в своих утконосых чудищах на шпильках.
Да! Иаков предложит погулять, мы медленно пойдем по усыпанному листьями старинному бульвару, и он станет смотреть на меня все более пристально и восторженно, и смеяться невпопад, и подавать руку, чтобы я не оступилась и не промочила ног. Жаль, что нет больше пелерин и шляпок, я бы прятала глаза под вуалью и загадочно молчала.
Кых! Молчала! Ври, да не завирайся.
Но ведь он на самом деле подошел ко мне и на самом деле предложил встретиться на обеде! Это вам не шляпка, никаких фантазий! Тут и Геттинген не кажется совсем невозможным.
Пусть-пусть-пусть так будет! Пусть он пригласит меня поехать на конгресс. На одну неделю! Нет, хотя бы на один день. Из всей жизни. Разве это так много?
Я все отработаю, я буду больше помогать маме, я куплю Гришке новые коньки, я стану слушаться Глеба и подругу Надю…
Интересно, если очень захотеть, можно передать чувства на расстоянии? Иаков, миленький, голубчик, ну что тебе стоит?!
В отеле у меня лежали замечательные ботинки на шнуровке, высокие и легкие. Ноги в них казались изящными, как на старинных фотографиях. И можно было часами бродить в любую погоду, а не ковылять и мучиться, как русалочка из Андерсена.
Я влетела в номер, быстро натянула сухие колготки, потом ботинки… Нет, с костюмом смотрится глупо, ноги кажутся короткими, брюки почти на земле. Любой поклонник сбежит при первой возможности, никакой вуали не понадобится! Положение становилось безвыходным. Хотя, честно говоря, что терять после прабабушки и незаконного сына? И я вытащила юбку.
Я купила ее в прошлом году в добротном английском магазине «Marks & Spencer». Вообще-то я искала брюки для работы, обычные строгие брюки. Они висели на всех стендах, всех цветов и размеров, – только выбирай. Но, по-видимому, мне досталась не совсем английская фигура, потому что самые разные модели одинаково болтались на поясе и беспардонно обтягивали попу и ноги. Наконец, чтобы отдохнуть от вежливых ухмылок продавщиц, я попросила принести юбку. Да, вот эту длинную юбку в темно-зеленую клетку! Именно эту. Я вернула девицам охапку брюк, натянула юбку… И поняла, для чего Бог создал бедра. И талию. И женщину.
Длинные нахальные продавщицы вдруг перестали улыбаться и наперебой заспешили с блузками и свитерами. Все подходило, абсолютно все! Я выбрала глухой черный свитер, который не давил в груди, а плечи делал тонкими и хрупкими. И черные колготки. И зеленые малахитовые бусы. И ботинки на шнуровке. И все уложилось в одну премию за прошедший год! Как хорошо, что пришлось работать в выходные.
Весь вечер я летала по дому, покачивая немыслимо стройными бедрами, точеная шея пряталась в мягком высоком воротнике, и хотелось протянуть руку для поцелуя…
Мастерица виноватых взоров, Маленьких держательница плеч![21]А потом вернулся с работы Глеб и сказал, что нормальные люди давно не носят таких допотопных одежд, что даже с моей фигурой лучше надеть брюки, потому что в этом наряде я вообще похожа на маму Ленина в тот день, когда казнили Александра.
Боже! Конечно, я опаздывала! Даже если бежать всю дорогу, и по эскалатору, и по переходу, – еле-еле успеваю к началу. И еще занять место!
Я нырнула в юбку и черный свитер (тут же выпала заколка и рассыпались волосы), мазнула глаза зеленым карандашом (кажется, левый получился больше). Да, вуали явно не хватало. А еще лучше – паранджи! Глеб прав тысячу раз, – никакой самый прекрасный чужеземец не поможет такой разгильдяйке.
Но к началу все же успела! И даже нашла два места напротив входа, чтобы Иаков меня сразу заметил. И успела перекрасить правый глаз.
Потом подали салаты и бульон с пирожками всех видов. (Интересно, какие ему больше нравятся? Если у нас все-таки общий прадед, то – с капустой!) Потом убрали закуски и суповые тарелки, потом убрали тарелки для вторых блюд, которых я как-то не заметила. Потом стали подавать кофе с маленькими круглыми пирожными.
Он не пришел. Ясен пень, он вовсе не пришел.
Геттинген тихо таял в сумерках, идти никуда не хотелось, да и зачем? Музеи закрыты, кино надоело, до поезда еще уйма времени. Интересно, что сделала Золушка с тыквой, в которую обратно превратилась карета?
В ТАКОЙ ИДИОТСКОЙ СИТУАЦИИ
Нет, в такой идиотской ситуации он себя давно не помнил. Машины стояли сплошным рядом, даже не пытаясь сдвинуться. Над бульваром парил удушливый запах перегоревшего топлива. Наверное, следовало расплатиться и пойти пешком, но не было сил после бессонной ночи. И слишком далеко, все равно бы не успел.
Уже давно подташнивало и сосало в желудке, напоминала о себе язва, так и недолеченная. Постоянные переезды, перемена времени, еда в самолете. Конечно, их квартира стала маловата с рождением детей, но стоило ли влезать в такой дорогой район, брать двойную ссуду? Давно мог найти работу в университете, перестать мотаться.
Главное, он точно не успевает на обед. Может, плюнуть и вернуться в отель? Но как развернешься в этом потоке?
Наконец черепашья процессия сдвинулась, его водитель резко повернул влево, потом еще раз свернул в какой-то переулок и, протиснувшись между тремя рядами стоявших мерседесов и джипов, подкатил к нужному дому. Так и есть, черт побери! Вестибюль был безнадежно пуст, в банкетном зале гасили свет. Остался и без сна, и без обеда, – чертова невезуха, чертова Россия! Ладно, по крайней мере, нужно зайти и спросить, где тут ближайший ресторан.
Сначала он увидел платье. Что-то клетчатое и жутко древнее, кажется, еще бабушка такое носила. Нет, все-таки мать. Она так одевалась, когда ждала гостей. Гостей приглашали часто, в доме сказочно пахло свежим тестом, постоянно звонил телефон, отец говорил праздничным громким голосом. Тысячу лет не вспоминал!
Самыми вкусными были пирожки с капустой. Интересно, почему их не готовят в Израиле – капусты хватает, кашрут не нарушен? Просто живот свело от голода, вот глупость!
Ну да, это была она! И. Г. Розенфельд. Невольно улыбнулся, вспомнив ленточку на животе. Надо признаться, клетчатый маскарад ей жутко шел, не то что брючный костюм. Вдруг захотелось провести рукой по круглому бедру, обнять мягкие послушные плечи.
– Боже мой! Обед давно закончился! Вы перепутали время?
– Я перепутал страну. Забыл, что здесь бывают такие пробки.
– И ничего не успели поесть?
– Абсолютно! Голоден и несчастен, как слон в зоопарке. А вы тоже опоздали?
– Нет! Вернее, я опоздала, но совсем немножко. Было очень вкусно, так жаль, что вам не досталось. А я уже решила, что вы не придете. Случайно задержалась здесь, идти особенно некуда, поезд только вечером… Знаете, только не смейтесь, я спрятала один пирожок в сумку. Никто не заметил, честное слово!
Нет, она была прелесть! Ужасная чудачка, конечно, и наивна до невозможности – «случайно задержалась»! Но все-таки очень мила и забавна. И пирожок оказался кстати, немного притихла сосущая под ребрами боль. Правда, совершенно непонятно, как вести себя дальше: приглашать в ресторан сразу после обеда глупо, распрощаться и уйти – неудобно. Кажется, она специально его ждала. Хотя зачем ей сдался посторонний лектор, если подумать? Конференция закончилась, на искательницу приключений она мало походила…
Что за ерунда лезет в голову! Ждала, не ждала – какая разница. Нужно решить с обедом и завалиться спать.
У них дома вопрос еды решался очень просто – йогурты, хлопья, готовые шницели из морозилки. Домашние супы и котлеты остались в далеком прошлом, Орна не очень любила готовить, в крайнем случае запекала в духовке курицу, а он чисто по-советски продолжал считать приготовление еды женским делом. В выходной заказывали пиццу или выбирались в ресторан. В молодости ему все это очень нравилось, но в последнее время устал, болел желудок по утрам, все время хотелось мягкого и теплого, какой-нибудь манной каши с маслом и вареньем.
Да-а, сейчас опять тащиться в ресторан, сидеть среди чужих людей. Ха, сидеть! Еще нужно добраться. От одной мысли о новой поездке в такси начало тошнить…
– Как жаль, что в вашу сумочку нельзя было спрятать еще пяток таких пирожков. И пару стаканов чаю. Избавили бы бедного лектора от всех страданий. Как вы думаете, здешние пробки временное состояние или это навсегда?
– Не навсегда, но еще пару часов продержатся. Знаете… если вы действительно хотите чаю с пирогом… давайте я приглашу вас в гости? Тут близко, вы не думайте, можно вообще пешком дойти! Или одну остановку на метро, не о чем говорить!
Нет, все-таки она была настоящей чудачкой! Привела его в скромную комнату в отеле, будто в собственный дом, и тут же стала суетиться, заваривать чай, даже вручила полотенце и послала мыть руки. И вещи у нее были смешные и забавные, – мягкие детские тапки с бантиками, пушистый халат, который она торопливо спрятала в ванной, словно неприличную деталь, маленький чемоданчик, похожий на докторский саквояж. В чемоданчике вместо косметики или белья оказался круглый толстый яблочный пирог.
– У нас на даче безумный урожай яблок. Всего три яблони, а весь чердак завалили. Пришлось сварить гору повидла. И все время печь пироги, представляете, какой ужас!
– Правда? Вы молодец. Я всю жизнь не могу видеть, как выбрасывают фрукты. Израильтяне смеются, но я ведь в России родился.
– Нет, дело не только в яблоках… Я обожаю пироги! Могу одна съесть целый противень. Ужас, просто ужас!
– Пироги? Блеск! Я тоже обожаю. Удивительное совпадение вкусов, – кажется, вы правы насчет прабабушки. Но что здесь ужасного?
– А фигура?! Знаете, как обидно не влезать в любимую юбку. Правда, говорят, если есть потихоньку, когда никто не видит, то калории не засчитываются! А если ешь из чужой тарелки, то калории вообще идут хозяину тарелки, вот!
– Согласен! Простое и строго математическое утверждение! Благородно готов стать хозяином тарелки. Кстати, что такое повидло? Это варенье? Сто лет не видел, как варят варенье! У нас покупают готовое. И яблочный пирог – готовый, называется штрудель. Подают горячим, сверху мороженое. Очень классно!
– А у нас называют шарлотка. Без мороженого, но тоже вкусно получается.
Да, пирог был вкусным. Забыто вкусным, – какое-то другое тесто, пухлое и сладкое даже без начинки. Хотелось дремать и смотреть на маленькие ловкие руки. Она была ужасно уютной, эта специалистка в системном анализе, и все было уютным и теплым – чашки с цветочками, маленькое вышитое полотенце, терпкий прекрасно заваренный чай.
– Да, чай я хорошо завариваю. Специально научилась, все-таки выход!
– Выход?
– Ага. Потому что у меня кофе убегает. Говорят, все люди делятся на тех, у кого никогда не убегает кофе и у которых всегда. Сколько ни стараюсь, стою смирно у самой плиты, глаз не отрываю… Но в самую последнюю минуту обязательно что-то случается – то погоду начнут передавать, то телефон зазвонит. Один человек говорит, что я раззява и разгильдяйка.
– Он что, всерьез так говорит?
– Конечно. Еще как всерьез! Особенно после того, как я потеряла кошелек с целой зарплатой. Три дня отчитывал без перерыва на обед. Но он надеется меня перевоспитать. Думает, если долго ругать, то, возможно, я стану собранной и внимательной.
– И ругает?
– Жутко! Как будто я – предатель родины. Или молчит. Осуждающе. Иногда целый день не разговаривает. В каком-то смысле он прав, разгильдяйство раздражает. И денег было очень жалко. Только я совершенно не переношу ссор и начинаю плакать. Глупо, правда?
– Знаете, по-моему, этот ваш «один человек» ничего не понимает ни в жизни, ни в женщинах!
– Вы так думаете? Честное слово? Какое счастье, что на дорогах бывают пробки!
Хотелось так сидеть, и слушать ее болтовню, и никуда не спешить. Смешно признаться, но она ему нравилась, все больше нравилась, особенно если снять эти клетчатые наряды. Вдруг ясно представил круглые бедра, высокую грудь, спутанные кудри по плечам. Этакая повзрослевшая Суламифь. Нет, слишком грустна и растеряна для Суламифи. Скорее, Рахель. Да, конечно, Рахель! Младшая любимая жена, навсегда обиженная глупостью одного и жадностью другого.
Интересно, кто этот «один человек»? Наверняка не муж, про мужа так не говорят. Но и на свободную женщину она не похожа. Слишком домашняя, явно привыкла заниматься не только собой.
Было совершенно непонятно, что делать дальше. Глупо тянуть, сама пригласила, в конце концов! Но почему-то никак не решался обнять или даже взять за руку. Как бы между прочим пересел на кровать, вытянул уставшие ноги. Кровать тоже оказалась смешной, – короткой, будто специально для нее приготовили, никогда не видел таких в отелях.
За окном быстро темнело, показалось, что ему все снится, и эта комната, и маленькая теплая женщина за столом, и запах яблок от подушки…
Сначала почувствовал затекшую руку и плечо, часы врезались в запястье. Чего это он лег в часах? Потянул на себя подушку, рука запуталась в шелковистой ткани…
И вдруг все вспомнил! Вот идиотизм! Глупейшим образом уснул на чужой кровати, слова доброго не сказал. Придется извиняться и горько жаловаться на усталость.
Но комната была пуста, совершенно по-нежилому пуста. Исчезли тапочки, полотенце, круглый чемоданчик. Только кусок пирога, аккуратно прикрытый салфеткой, лежал на столе. Да еще ткань под подушкой оказалась ночной рубашкой. Длинной рубашкой с какими-то цветочками и пуговками. Ну да. Не хотела его будить, поэтому и не забрала. Хорош, нечего сказать!
На пирог опиралась открытка, вид на реку, дворец, фонтаны. Он поспешно перевернул, так и есть!
«Дорогой докладчик! Мой поезд уходит в полночь, нужно торопиться, извините. Отель оплачен до утра. Отдыхайте и не волнуйтесь. До свидания».
НИЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО, САМА ВИНОВАТА
Ничего удивительного, сама виновата! С такой клушей иначе и обращаться нельзя, кроме как наплевать и уснуть. Хотя почему наплевать? Человек устал, ночью летел, потом в пробке два часа маялся.
И зачем все время болтала, какая глупость! Ничего не успела спросить ни про Израиль, ни про его впечатления от России.
Если бы поезд не уходил так рано… Да, он бы проснулся, немного смущенный и виноватый, и стал целовать мне руки и извиняться. А я бы сделала вид, что сержусь, хотя разве можно на него, Иакова, сердиться!
А потом мы бы все-таки отправились гулять по вечерней Москве, смотреть на спящие витрины и подсвеченные окна бульваров. И он бы сказал, что просто обязан проводить меня на вокзал, женщина не должна ходить одна по ночам. И мы бы вместе ждали поезда, и вместе зашли в купе, и он бы все не уходил и не уходил, пока окончательно не рассердится проводник…
Господи, какая дура. А потом что? Он будет стоять на перроне, махать платочком и утирать слезы? Тоска! Зачем он вообще вернулся в ресторан, остался бы в своем отеле. Нет! Так еще обиднее. И что мне, пирога жалко?
Отдохнет, отоспится, вернется домой в Израиль и будет вспоминать. Да! Будет вспоминать и жалеть, что так быстро меня потерял.
В купе сидели две толстые сонные тетеньки, длинный парень завалился на верхнюю полку и шумно принялся укладываться, не дожидаясь отправления. Его мятые, пропахшие потом кроссовки стояли прямо напротив моей подушки. Еще полчаса дожидаться. Какая ужасная-ужасная тоска. Вдруг показалось, что нужно срочно выйти. Мучительно до озноба захотелось выйти из вагона! Ладно, ничего не случится, если постою десять минут на перроне, хоть подышу воздухом, а не душным запахом чужих вещей.
Израильтянин медленно шел вдоль поезда, всматриваясь в окна. Да, именно он, мой придуманный Иаков, ошибиться невозможно! Ни у кого больше не было такой легкой независимой походки. И никаких вещей, кроме темной кожаной сумки через плечо.
– Родственница! – радостно закричал он. – Куда вы сбежали так быстро?! И забыли одну важную вещь! Очень красивую вещь, я внимательно рассмотрел.
Он вытащил из сумки сверток и гордо им помахал. Моя ночная рубашка! Ужас. Хорошо хоть, не трусы или лифчик!
– Вы из-за рубашки сюда примчались ночью?
– Конечно! Было бы по-свински не вернуть, особенно после такого сказочного пирога!
Он подошел совсем близко и взял меня за руку. И поцеловал мою руку!..
– Глупо получилось, не сердитесь, ладно? Очень устал.
Конечно, нормальная женщина в подобных случаях снисходительно улыбается, а не мычит, словно телка.
– Н-н-нет, что вы! Я совершенно не сержусь. Я ужасно рада!
– Ужасно? Что вам всё ужасы мерещатся! Давайте прекрасно радоваться, а?
– Да, давайте прекрасно! Прекрасно – гораздо лучше. Какой вы молодец, что меня нашли! Я ужасно жалела, что мы не простились.
– Ага, опять ужасно? А почему мы вообще должны прощаться? Не так часто встречаешь родственников, чтобы ими разбрасываться. Вы бываете на конгрессах? Хотя, что я спрашиваю, мы же там встретились! В октябре планируется похожий конгресс в Геттингене. Приезжайте, а?
– В Ге… в Геттингене? Честное слово?
– Конечно, честное! Я крайне честный человек. Вот ручка, быстро пишите свой мейл, я вам отправлю приглашение. Идет?
– В Германию на конференцию? – говорит мама. – Это замечательно! Папа бы тобой гордился! Обязательно погуляй по старому городу, съезди в университет, должно быть очень интересно! Кстати, там хорошая обувь, может, подберешь что-нибудь на мою косточку?
– А детей туда не берут? – спрашивает Гришка. – Тогда привези мне подарок, ладно? И обязательно сходи в зоопарк.
– Во всей фирме не нашлось ни одного толкового мужика? – усмехается Глеб. – Ты у них – главный представитель? Проследи, чтобы оплатили билет! Хотя ты его все равно потеряешь.
– Знаешь, Розенфельд, – вздыхает мой босс, – смысла в твоей поездке я совершенно не вижу. Региональная встреча, новой информации никакой, работать с ними вряд ли придется. Хочешь прогуляться в Европу, так и скажи! Ладно, не умирай. Учитывая твои заслуги, оплачу два дня и участие. Но дорога и отель за твой счет!
– Я не верю в чудеса, – ворчит подруга Надя, – особенно если в них участвуют мужчины. Готовься к разочарованиям. Хотя ты такая чудачка, что может и повезти. Езжай, сколько той жизни!
Дальше все понеслось как в отлаженном спектакле, где актеры играют «на героиню». Глеб уехал в командировку в Барнаул, причем почти на две недели, Гришка записался в новый шахматный кружок и исчез из поля зрения, мама подарила триста долларов «на отдых», подруга Надя достала билет на нужный день и нужный рейс.
Было совершенно непонятно, что брать из одежды. С одной стороны – деловая конференция, с другой – прогулка по городу, да еще в октябре, могут начаться дожди. Я помчалась по магазинам, хотелось все новое и необыкновенное, – белье, колготки, сумку, плащ. Ничего, потом отработаю сверхурочными! Во французской косметике нашла чудесный лак для ногтей – спокойный и нарядный одновременно, с ним пальцы на руках и ногах тихо сияли, как жемчужинки. Новые туфли на утолщенной подошве делали ноги стройнее и выше и при этом совершенно не мешали ходить. Зонтик был совсем хороший, но по цвету не подходил к плащу, плюнула и купила еще один – кремовый с бордовой полосой, он прекрасно со всем сочетался. Слава богу, что Глеб уехал и не мог наблюдать эту вакханалию.
Я понимала, что встреча продлится не более одного дня, но разве это мало? Можно будет бродить без цели по узким улицам, заходить в старые соборы, пить кофе в полутемном уютном баре, разговаривать обо всем подряд, слушать его тихий протяжный голос… А потом наступит темнота и усталость, он проводит меня до отеля…
Я специально нашла в интернете нарядный отель, самый близкий к железной дороге, почти на станции, хотя он и стоил на тридцать евро дороже. Иаков приедет на поезде из Франкфурта, так он написал.
Он проводит меня до отеля и остановится у самых дверей… Нет! Он сразу скажет, что хочет подняться… Нет! Он ничего не станет говорить, просто возьмет все сумки и подарки для мамы и Гришки, спокойно кивнет портье, вызовет лифт. И номер отеля покажется домом, пусть на один день, но уютным теплым домом. Он обнимет меня прямо у дверей, ласково и уверенно, как близкий родной человек. И все получится упоительно и просто, и можно будет уснуть, не разжимая объятий.
Я представляю губы Иакова на своей щеке, мягко щекочет борода, горячие крепкие пальцы сжимают плечи… Компьютер жалобно гудит и зависает, забыла сохранить текст, день труда пропал безвозвратно.
Да еще пару таких недель, и новый проект полетит к чертям, а я следом за ним. Никакие прошлые заслуги не помогут. Скорей бы наступал октябрь, скорей, скорей!..
ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ НЕ ТАК СКЛАДНО
Все получалось совсем не так складно, как казалось вначале. Поделом! Не мешает думать в его возрасте, прежде чем что-то делаешь.
Хорошо, девочка очень мила, и пирог замечательный, и обижать не хотелось. Поддался минутному настроению, рванул на вокзал, там езды-то было десять минут, если без пробок. Вполне реабилитировался за неловкость в отеле, но зачем продолжать? Ясно ведь, что получится одна морока и суета. Растаял, старый гулена, от ее сияющих глаз, давно никто ему так не радовался.
В принципе, гуленой большим он себя не считал, не то что некоторые приятели, которые в месяц могли завести три бурных романа. Но как устоять перед очарованием женского тела, пьянящими прикосновениями, радостной дрожью в руках и коленях?
Аспирантки его обожали за легкость и щедрость, – любил дарить цветы, что так непривычно для здешнего Востока, проверял курсовые, помогал готовиться к лекциям. Почти всегда за этим следовало приглашение на кофе, тем более аспирантам полагалась отдельная квартира в университетском общежитии. Но и без квартиры проблем не возникало, – всегда можно снять комнату в отеле или сбежать за город.
Орна ни о чем не догадывалась, конечно, считала мужа увальнем и ботаником. Ни обижать ее, ни тем более терять – и в мыслях не было, но давно хотелось отдохнуть от нарочито киббуцного стиля, рук без маникюра, вечных джинсов и мятых штанов, туфель на плоской подошве. Этакое эстетство наоборот, принятое в их среде в противовес религиозным шляпам и длинным платьям. Раньше прямые, черные как смоль волосы Орна затягивала тонкой резинкой, а после родов перешла на короткую мальчиковую стрижку. Наверное, эта стрижка и завершила их романтические отношения, остался свой парень, хороший давний спутник по жизни, хотя они, конечно, продолжали спать вместе и целовали друг друга перед уходом на работу.
Именно в тот год он завел головокружительный, абсолютно постельный роман с испанкой, одной из секретарш на барселонском конгрессе. Они говорили на смеси французского с английским, почти не понимая друг друга, но этого и не требовалась. Он и так с ума сходил от роскошной загорелой спины, тонких щиколоток, гривы волос, выкрашенных в золотой цвет, но почти черных в интимных местах, что почему-то еще больше возбуждало. Сбежали на выходные в Коста-Брава, сутки не выходили из номера.
И расстались легко, – конференция закончилась, ее в Мадриде ждал муж, его в Тель-Авиве – Орна с детьми. Вдруг понял, как скучает по своему дому, тишине, возне с малышами.
Сейчас было другое настроение, хронически не хватало денег после покупки дома, надвигались выборы на факультете. Что он мог предложить этой кругленькой программистке, похожей на Рахель, кроме короткой встречи в оплаченном ею же отеле? Последнюю точку поставила Орна, вдруг заявив, что безумно утомлена, сходит с ума от жары и израильской политики, поэтому все бросает и летит с ним во Франкфурт. Хотя бы на три дня отключиться от работы и детских капризов. Она совершенно не собирается ему мешать, погуляет по осеннему городу, пока он смотается в Геттинген и прочитает лекцию, а потом можно будет съездить в лес и на озеро, там лес совсем рядом с Франкфуртом, полчаса на трамвае.
Но обратного хода не было. «Рахель» прислала радостную записку со временем приезда и названием отеля. Кстати, она прекрасно владеет английским, вот умница. Вдруг захотелось увидеть лукавую улыбку, послушать веселую болтовню. Мало времени, но ничего страшного, – устроим небольшой праздник и разбежимся по разным странам без потерь и огорчений. Все-таки жизнь забавная штука, чего только не подбросит!
На этот раз обошлось без ночного рейса, самолет прилетал во Франкфурт в шесть вечера, еще не стемнело. Они спокойно добрались до отеля, поужинали, вышли погулять в центр города. Забавно, что иногда слышалась русская речь. Весь мир наводнен эмигрантами из России!
На улице сразу почувствовали перемену климата после тридцатиградусной жары, прохладный ветер студил руки и лицо. Орна закуталась в теплую куртку, хотя местные жители еще гуляли без плащей.
Удивительно легко дышалось, дошли пешком до вокзала, посмотрели расписание. Ничего нового! Он еще дома в интернете рассчитал, что если поедет вторым поездом, то прекрасно успеет, ровно за час до начала конгресса. Такая привычка появилась давно, не терпел опозданий. Удобно и спокойно было прийти заранее, выпить кофе, полистать конспект.
Он любил и умел преподавать, почти всегда удивлял аудиторию, вовлекал в обсуждения и возражения. Давно, давно пора перейти на постоянную работу в университет. Но разве выплатишь дом при университетской зарплате! Слишком размахнулись, – земля дорогая, да еще этот сад. Ненужная экзотика. Вот если бы получить заведование. Скоро выборы на факультете, не мешает подготовиться, а не крутить романы со случайными знакомыми.
Кстати, «Рахель» тоже приезжает утром, часа на полтора позже него, хорошо, что отель прямо у станции. Номер в такое время ей, конечно, не дадут, но можно оставить вещи.
Опять вспомнил пирог в чемоданчике и почему-то тапочки с помпонами. Совсем девчонка! Да, но очень талантливая. Прекрасно исполняет роль взрослой женщины и системного программиста. Появилась озорная мысль: вполне можно успеть!
ОТЕЛЬ ОКАЗАЛСЯ НЕ ТАКОЙ КРАСИВЫЙ
Отель действительно оказался совсем рядом со станцией. Но совсем не такой красивый, как я думала, довольно скучное современное здание почему-то желтого цвета. И вокруг – сплошные стоянки автомобилей и автобусов, редкие деревца, сам город виднелся вдали, по другую сторону железной дороги.
Как и обещал Иаков, вещи мне разрешили оставить, у них была даже специальная маленькая комната за стойкой портье.
За этот месяц мы обменялись несколькими короткими записками на английском. Я и так боялась, что кто-нибудь на работе заметит, попробуй объясни!
Вдруг накатила тоска и растерянность, как тогда, в московской гостинице. Что я делаю? Куда меня несет опять? Привязалась к чужому незнакомому человеку, напридумывала сказок! Может, он просто смеется? Такой спокойный, преуспевающий доктор наук, наверняка сто лет женатый, с кучей детей. Говорят, в Израиле большие дружные семьи. Решил немного проветриться со случайно дурочкой, что для Иакова одна лишняя женщина!
Часы над стойкой пробили девять, давно пора бежать, еще сто раз заблудишься в незнакомом месте. Судя по карте, присланной вместе с приглашением, нужно пересечь вокзальную площадь и идти строго перпендикулярно, в сторону Старого города. Конференция начиналась в девять тридцать, но, как написал Иаков, многие опаздывают к первому часу.
Сонный портье за стойкой убрал заполненную мною карточку, потом вдруг снова достал, перечитал имя и заспешил к двери.
– Мисс, – позвал он на четком иностранном английском, – подождите, для вас посылка!
«Хорошенькая мисс, – подумала я грустно, – с десятилетним сыном».
И вдруг поняла, что именно он говорит.
– Посылка?! Не может быть, это какая-то ошибка!
– Никакой ошибки, оставили час назад, в мое дежурство!
В целлофановом пакете лежал пушистый плюшевый заяц в красном переднике и тапочках с помпонами. В лапы была вложена настоящая сдобная булка, завернутая в салфетку.
Я торопливо шла по длинному подземному переходу среди пестрых магазинчиков и палаток с напитками и бутербродами и пыталась вспомнить, когда мне просто так дарили подарки, не на день рождения и не на Восьмое марта. Получалось, что никогда. Только Гришка мастерил маленьких кукол и ежиков из шишек, но никогда сам не вручал, мой гордый князь, а заворачивал в пакет с короткой надписью «маме» и незаметно клал в мою сумку. В те дни, когда я прибегала их проведать.
Как глупо и неправильно я живу. Оставляю его так часто, а зачем? Чтобы сидеть у телевизора с вечно молчащим Глебом?
Иаков наверняка любит своих детей и сам их воспитывает. И дарит им разные смешные и чудесные подарки, и водит в зоопарк по выходным.
А вдруг у него нет детей? Вдруг так сложилось? Жил с нелюбимыми женщинами, спешил, уезжал в разные страны? Вдруг он одинок и свободен?!
Город начался сразу за вокзальной площадью. Старинные фонари, дома восемнадцатого века. Некогда было смотреть, да и не хотелось одной. У меня еще целый день! Скорей, скорей…
ВСЕ БЫЛО КАК ОБЫЧНО
Все было как обычно, – лекционный зал амфитеатром, девицы с белыми воротничками у стола регистрации, соки и кофе в вестибюле. На минуту показалось, что глазастая Розенфельд И. Г. стоит за колонной. Нет, еще рано, она опоздает на первый час.
В зале продолжали рассаживаться, когда он начал читать, это немного раздражало. Ничего, не стоит обращать внимания. Настроил компьютер, повернулся к первой картинке с очкастым человечком, сидящем верхом на огромном компьютере, и вдруг почувствовал теплую волну на лице, – как будто мелькнул солнечный зайчик, даже захотелось зажмуриться. В первом ряду прямо напротив экрана сидела «Рахель» и сияла во всю свою круглую физиономию. Стало весело и легко, он встал и церемонно поклонился первому ряду. В зале одобрительно засмеялись. Сразу возникла та доверительная атмосфера между лектором и аудиторией, которую он так любил. Артистичным жестом выключил компьютер, уверенно вышел в центр зала:
– Господа! В такой старинной аудитории неуместны эти бледные современные приборы, не правда ли? Давайте вспомним, с чего началась систематизация торговли.
Обеденный перерыв намечался на 13.00, но, как всегда, каждый затянул свой доклад на лишние пять-десять минут, поэтому только в половине второго наконец зажгли свет.
Он спрыгнул прямо в зал, минуя ступеньки, И. Г. уже стояла в проходе, улыбаясь радостно и немного испуганно. Крепко сжал ее маленькую очень теплую руку:
– Бежим?
– Прямо сейчас?
– Только сейчас! Ни минуты промедления!
Кстати, она прекрасно выглядела! Короткий кожаный пиджачок, плащ и зонтик в тон, стильная сумка. И ноги стройные и красивые, да она совсем не такого маленького роста, как тогда показалось! Как жаль, что мало времени!
– Вы нашли отель?
– Да, очень быстро! Там невозможно заблудиться. Но, наверное, нужно вернуться сейчас и получить ключ, утром не дали.
Да она просто умница! Никаких лишних объяснений.
– Возвращаемся, что за вопрос!
Так и повел ее за руку, как маленькую девчонку, было тепло и уютно, и ей, кажется, это очень нравилось.
– А вы знаете, что мне вручили утром в отеле?
– Утром? В отеле? Газету, наверное.
– Газету! Никакую не газету, а булку с зайцем! Признавайтесь, вы подложили?
– Булку с зайцем? Никогда! Это еще что за гадость?
– Никакая не гадость! Чудесная булка, свежая и с изюмом!
– С изюмом или с зайцем? Если с изюмом, тогда я. Каюсь. С яблоками не нашел.
– А заяц?
– Какой заяц?
– Вы хотите сказать, что зайца не было?!
– Нет. А зачем вам нужен заяц?
– А еще говорили, что крайне честный! Белый прекрасный заяц! С ушами. Он держал булку! Вы что, не помните?
– Я всегда все помню! Но булку держал не заяц, с чего вы взяли?
– А кто?!
– Зайчиха. Разве не заметно, что на ней женские туфли?
Было весело смотреть, как она хохочет, запрокидывая голову. Подбородок круглый и нежный, и волосы роскошные. Она их немного укоротила на этот раз и не закручивала в старушечью косичку.
– Вы здорово выглядите! Шикарная европейская дама. Только волосы выдают. Очень семитские волосы!
– Да, я страшно на отца похожа. Будто мамы не было вовсе. Она высокая, и глаза светлые. Говорят, один подбородок от нее достался.
– Хорошо, что один!
– А что, бывают два подбородка?!
Опять хохочет! Не девчонка, а сплошное очарование!
– Еще как бывают. Даже и три. Зря смеетесь, это просто трагедия. Человек ходит с тремя подбородками и не видит собственных ног. А вдруг у него шнурок развяжется?
Отель был вполне добротным и удобным, ее номер – на втором этаже. Весело рассмеялся, увидев знакомый чемоданчик.
– Нет-нет, никаких пирогов, не надейтесь! Это мама тогда придумала запихать в него пирог. Просто очень удобный чемоданчик – маленький и вместительный.
Он опять взял ее за руку, а другой подхватил чемоданчик и пакет с зайцем и повел к лифту, а потом по длинному безликому коридору к ее номеру, вставил карточку, открыл дверь, включил свет в узкой прихожей, сразу загорелась и лампа над столом в комнате. Всё! Они были одни.
Нет, она все-таки была не слишком высокой, потому что встала на цыпочки, чтобы его обнять.
– Спасибо вам, дорогой лектор! И за приглашение, и за зайца. Вы хороший и добрый, я так и знала!
– Ну, раз я такой хороший и добрый, и к тому же почти родственник, не пора ли перейти на ты? Кстати, где наша булка?
– Хорошо, давайте на ты. Булка здесь, но не целая, я откусила маленький кусочек, еще утром. А какая у нас программа?
– Программа? Программы особой не получится, у меня обратный поезд в семь вечера. Позднее не оказалось, к сожалению.
Вдруг показалось, что мягкие круглые плечи окаменели в его объятиях, губы плотно сжались…
– Сам не ожидал, что так получится, стечение обстоятельств. Но должен вернуться сегодня. Обязательно.
– Но ведь конгресс продолжается и завтра?
– Завтра я не читаю. День будет короткий, город чудесный, погуляешь за нас обоих. Идет?
Он опять притянул ее к себе, стал целовать пухлые губы, щеки, глаза. Под свитером кожа была гладкая и горячая.
– Пожалуйста, давайте уйдем. Ненадолго…
Она чуть отодвинулась, одернула свитер, но он уже не мог и не хотел остановиться, уже кружилась голова от ее тепла, чудного запаха, послушных губ и щек. Руки скользили под одеждой, как всегда запутался в застежках лифчика, тихо чертыхнулся.
– Хорошо, – сказала она громко, – пусть будет так. Подожди, я сама.
Она стащила через голову свитер вместе с бельем, груди оказались мягкими и чуть обвисшими, он угадал, конечно, она была рожавшей женщиной. Потом так же быстро сбросила все остальное, потянула с него рубашку, прижалась всем телом к его груди, так что он охнул и чуть не задохнулся от этой выпуклости и мягкости.
Она как-то удивительно ему подходила, даже сам не ожидал нежности, с которой целовал плечи, колени, маленькие круглые пальцы на ногах. Горячая волна поднималась к горлу, и хотелось слиться всей кожей, обнять всем телом, руками, ногами, животом.
«Сплетенье рук, сплетенье ног, судьбы сплетенье…» – вдруг всплыла строчка в голове, cовсем не помнил чья. Так давно не говорил на русском, откуда накатило, уму непостижимо.
И еще очень удивило, что она была молчалива. Такая веселая болтушка, и вдруг это непостижимое молчание, – ни вздохов, ни кокетства. Только смотрела, будто издалека, туманными глазами. Спрашивала о чем-то, искала защиты, тонула в томлении любви?
Потом она сидела в ногах кровати в рубашке до пят, с длинным рукавами и какими-то пуговичками, – кажется, в той самой, что он вернул на московском вокзале. И опять молчала, только прижалась теплой щекой к его коленям. Он не привык к женским ласкам и рукам, считал инициативу в любви делом мужчины и немного гордился своим умением. Откуда она научилась так радовать и утешать, маленькая грустная Рахель?
– «Ликом – чистая иконка, пеньем – пеночка…»[22] – проговорил вслух, чуть запинаясь от непривычных слов.
– Откуда, – тихо охнула она, – откуда ты это знаешь?
Рука на щеке несла давно забытый покой и утешение. Когда-то мать любила так гладить его перед сном, сидела в темноте на краю постели, ворошила детские кудрявые волосы. Непостижимым образом эта малознакомая милая чудачка все время напоминала ему другую, давно забытую жизнь.
Вдруг отчетливо представил, как бы она понравилась матери. Умненькая хорошая девочка, веселый дружочек. Они бы шушукались на кухне, две родные похожие женщины, лепили печенье, читали вслух любимые, им одним понятные строчки. И он бы тихо подслушивал, утопая в запахах корицы и ванили.
Два года не был на кладбище, всё какие-то дела, поездки, болезни детей. Мир полон глубоких стариков, никто не умирает сегодня в 60 лет! Думал, что полно времени, успеет поговорить, объясниться…
– А ты не можешь остаться? Например, сказать, что отменили последний поезд. Или просто опоздал?
Только покачал головой. Орна прекрасно знала, что он не опаздывает. Начнет звонить, волноваться, настроение будет испорчено в любом случае.
– Слушай, – он притянул к груди ее лохматую голову, – почему я тебя не встретил лет двенадцать назад?
– Тебя ждут жена и дети?
– Только жена. Дети еще маленькие, остались в Израиле, с ее родителями.
– Понятно. Такой положительный солидный доктор не может быть не женат.
Она улыбалась, все время улыбалась, хотя он видел, как она расстроилась. Темные глаза казались еще круглее из-за спутанных волос, милый славянский подбородок, пуговички на груди, детские руки.
Черт возьми, праотцы были гораздо мудрее! Кто сказал, что человеку положена только одна жена? Тот же Иаков прекрасно решил проблему.
– Понимаешь, жизнь – как зубчатое колесо. Иногда совпадает с другим человеком на какой-то период, все звенья замыкаются, все прекрасно. А потом наступает новый период, и оказывается, что никакого соединения нет, каждый катит в свою сторону. Мы уже давно живем параллельно, звенья распались. Но есть общие воспоминания, долги, дети, наконец. Она мне очень помогла в юности.
– Просто помогла? Или ты ее любил?
– Я ее любил.
Да, все так, милая девочка, я ее любил, я хотел с ней жить, и спать, и просыпаться в одном доме. Я прожил с ней больше пятнадцати лет, и это были вполне хорошие годы. Я даже был уверен, что лучшего мне и не нужно. Вот только сейчас почему-то затосковал и сбился с ноги, как старая кляча. Почему?
– А у меня большой сын – сказала она весело, – скоро одиннадцать лет!
– Одиннадцать?! Ты что, во втором классе его родила?
– Нет, почему это во втором классе? На втором курсе! Очень хороший и взрослый мальчик, называется Гриша – в честь моего отца. Знаешь, так обидно, что папа его не увидел.
– Знаю. Моя мама тоже не дождалась. Все мечтала о внуках. Но не думаю, что ей бы стало веселее. Они не очень ладили с женой, – разный язык, разная ментальность.
Вдруг стал рассказывать про родителей, про отъезд отца в Германию, про их разлад с матерью. Отец в Москве считал себя рьяным сионистом, учил иврит в компании таких же молодых бородачей, упоенно жевал мацу на Песах. Потом эти горе-сионисты первыми сбежали из Израиля, в основном в Канаду, где не требовалась отдельная медицинская страховка. А отцу предложили работу в Мюнхене, на радио «Свобода». Можно только мечтать – Европа, привычный климат, достойная служба! Оказалось, любить свой народ намного проще издалека, когда не видишь крикливых восточных соседей и местечковых политиков. И тут мать встала насмерть – в Германию она не поедет! Все понимает, не хочет никого судить, но не поедет – невозможно в первом поколении забыть убиенных родных. Так и говорила «убиенных», что особенно раздражало отца. Он кричал, что мать – глупая идеалистка, что мир проще и трезвее, что немцы давно признали свою вину – в отличие от русских например, которые во главе со Сталиным уничтожили не меньше народу. Короче, расстались после тридцати лет совместной жизни. Сын не хотел принимать ничью сторону, не выносил скандалов, давно жил своей отдельной жизнью.
Даже непонятно, что его понесло на воспоминания, никогда никому не рассказывал? Может, потому что она слушала так внимательно. Кажется, эта чужая девочка единственная на свете все понимала – его стыд, огорчение, давнюю, глубоко спрятанную вину перед матерью, которую вслед за отцом тоже считал восторженной и нелепой.
Пора была собираться, вдруг почувствовал, что устал и смертельно голоден. Дружно разъели булку, слегка засохшую за день, но все равно вкусную. Она обязательно хотела его проводить, торопливо стала одеваться, на глазах превращаясь из грустной маленькой Рахели в современную красивую женщину. Только глаза и кудри не вписывались, выдавали растерянность и печаль.
На платформе пронзительно завывал ветер, начинал накрапывать дождь, и он быстро увел ее обратно в подземную станцию.
– Не стой здесь, ладно? Выпал прекрасный день, теперь пора отдыхать, беги в нашу комнату и спи крепко-крепко! А завтра с утра пойдешь гулять по городу, посмотришь на чудесные улочки. От лекций я тебя освобождаю, так и быть!
В поезде опять стало тепло, сразу задремал в удобном кресле, и сквозь сон все казалось, что обнимает ее, целует ладони и круглые плечи.
Орна уже давно спала, когда он вернулся, она действительно устала и вымоталась с детьми. Привычно поцеловал в щеку, натянул на плечи свободный край одеяла. Такой странный и хороший день получился. Очень хороший день.
Проснулся внезапно, еще было совсем темно, и сразу все вспомнил. И опять ужасно обрадовался, даже рассмеялся потихоньку, как будто почувствовал ласковые теплые руки на своем теле.
Нужно позвонить! Как же он сразу не подумал, нужно срочно позвонить. Представил, как Рахель удивится со сна. Даже если решит идти на конференцию, то все равно ей вставать только через час. Быстро вышел в коридор, нашел в мобильнике еще вчера записанный телефон отеля. Ответили сразу, хотя сонный голос выдавал дремлющего дежурного.
– В номере никого нет, извините.
– Говорит доктор Розен, я разыскиваю участника нашей конференции, возможно, он просто не слышит. Пожалуйста, соедините еще раз, это очень важно!
– Хорошо, подождите минутку.
Было слышно, как на том конце линии тихо говорят по-немецки, шуршат какие-то бумаги.
– Герр доктор, вы слушаете? К сожалению, ничем не могу помочь. Номер освобожден в шесть утра, вероятно, ваш сотрудник уехал первым поездом.
ЕСЛИ СИТУАЦИЯ КАЖЕТСЯ СЛИШКОМ СЛОЖНОЙ
– Если ситуация кажется слишком сложной, – когда-то учил меня папа, – попробуй отстраниться и посмотреть чужими глазами, здорово помогает!
Я честно пытаюсь представить историю с Иаковом глазами моих девчонок из отдела, подруги Нади, мамы.
«Чистый бред, – скажут девчонки, – поехать в такую даль, потратить уйму денег и времени, чтобы пару часов провести с не слишком молодым и не слишком похожим на прекрасного принца чужим человеком. Да еще в тобою же оплаченном номере!»
«Наплюй, – вздохнет Надя, – не нужно идеализировать мужиков, тогда и не будет огорчений. В конце концов, он тебе понравился, ты хотела с ним встретиться, – имеешь право! Тем более ты сама платишь за свои удовольствия, никому ничего не должна. Конечно, можно и в соседнем доме завести похожий роман, зато появился дополнительный опыт!»
«Пора подумать о собственной жизни, – расстроится мама. – Тебе уже за тридцать, нужно создавать семью, наконец. Если не складывается с Глебом, поищи другого человека, нормального и устроенного, пусть даже разведенного. Но бегать за женатым иностранцем?!»
Всё так, все правы, даже мама. Кстати, она вполне довольна Глебом, – он-то как раз «нормальный и устроенный». И даже не разведенный. «Удел женщины – быть терпимой, у папы тоже был нелегкий характер, ты ведь знаешь».
Да, у папы был нелегкий характер, он все время чем-нибудь страстно увлекался – религиозной философией, старинной музыкой для клавесина, разведением цветов. Он выписывал массу книг, пропадал в библиотеке, вел переписку с музыкантами и садоводами. На выходные папа зарывался в грамматику иврита, потому что заболел Израилем после поездки к друзьям и был уверен, что мы все должны срочно туда переехать.
Против отъезда из озлобленного и голодного Союза девяностого года мама не возражала, говорила, что, в принципе, согласна и на Израиль, но в таком серьезном вопросе нужно не торопиться и рассмотреть разные варианты. В Германию, например, тоже пускают евреев. Многие ленинградские знакомые уже перебрались, – там хорошие условия, европейская культура и климат привычный. Папа с его способностями к языкам впишется в любой стране, нет сомнений, но как мы оставим бабушку?
Бабушка, мамина мама, страдала тяжелой гипертонией, и мы все жили в постоянном напряжении, – не уезжали надолго из города, звонили ей по пять раз на дню. Два раза в неделю мы с мамой ездили к бабушке «помогать по хозяйству», хотя особой помощи не получалось, даже пыль вытирать бабушка не разрешала, чтобы мы не разбили случайно сервизные чашки и чудесных фарфоровых кукол в резном буфете. Поэтому пока мама поливала цветы и выслушивала бабушкины рассказы о соседках, подругах, а также их детях и внуках, я отсиживалась в уютном углу за ширмой и в сотый раз перечитывала Анну Каренину. Все внуки были на редкость одаренными детьми, а невестки – эгоистками и невоспитанными нахалками. Даже непонятно, как им удалось родить таких прекрасных детей. Зятья тоже были не лучше, кроме папы конечно, которого бабушка очень уважала за талант и трезвость.
– Но все-таки он немного малахольный, – говорила она маме, думая, что я не слышу, – эти странные увлечения, раскопки, лекции по истории… Он ведь математик? И знаешь, так жаль, что Ирочка похожа на отца. Волосы слишком темные, попка тяжеловата – абсолютно еврейская внешность! Ты у меня была гораздо интереснее. И куда он все рвется? Нормальная работа, квартира, сами уже немолоды. Я не понимаю, зачем нужно ехать в кошмарную жару и войну? В любом случае дайте мне сначала умереть, а потом делайте, что хотите!
Папа спорил, уверял, что в Израиле прекрасный климат для гипертоников, потому что от жары расширяются сосуды. Он бредил раскопками, зарылся во времена царя Ирода и все переживал, как глупо повели себя евреи, развязав междоусобицу.
Карта Израиля висела над моей кроватью, каждый вечер, если родители не уходили в гости, мы с папой отправлялись в прекрасное путешествие по крошечной и необъятной стране. Обычно начинали с севера, с чудесного городка Рош-Пина, где жил папин старинный друг-художник.
Папа прожил в Рош-Пине целую неделю, спускался по каменным ступеням с горы в прохладный парк, бродил среди лавочек с самодельной керамикой, картинами и разноцветными бусами и теперь уверенно вел меня по знакомым улицам. Мы покупали целую охапку бус – зеленый малахит, оранжево-красный сердолик, фиолетовый, похожий на виноград аметист. Бусы так здорово смотрелись на моей смуглой от вечного солнца коже, обвивали руки и шею, оттеняли легкое длинное черное платье. Не зря на Востоке любят черный цвет!
Потом мы медленно двигались на юг, к Иерусалиму, его непостижимой Стене, полной слез и надежд, где можно запросто послать Богу личную записку, как заявление в ЖЭК. Каменные дворы утопали в зное и пыли, даже колодцы казались неживыми, и только молчаливые древние старики в черных шляпах денно и нощно молили Господа за всех своих непутевых детей. Но по дороге еще можно было заглянуть в маленькие красивые деревни и монастыри, посмотреть римский водопровод, искупаться в Галилейском море. А потом направиться к Беэр-Шеве, первому колодцу Авраама, и дальше, дальше – к Мертвому и Красному морям, в пустыню, на самый край земли. От одних названий кружилась голова: Тверия, Кейсария, Ципори… Я читала все подряд – Иудейскую войну, Библию, Амоса Оза, Агнона, я вместе с папой болела этой белой жарой и бездонной историей. По ночам я брела вдоль ручья, именуемого рекой Иордан, студила усталые ноги в холодной прозрачной воде, сарафан и сандалии не стесняли движений и подчеркивали красоту талии и бедер, браслеты скользили по мокрой руке. И всем соседям безумно нравились мои прекрасные еврейские волосы.
Кстати, моя бабушка до сих пор страдает тяжелой гипертонией.
– Послушай, Ирина Григорьевна! – Глеб всегда называет меня по имени-отчеству, может быть, надеется, что так я быстрее повзрослею и поумнею. – Послушай, я все понимаю, родительские чувства мозгом не контролируются, но все-таки зачем ты купила зайца? Ну конструктор, машинка – еще куда ни шло. Здоровый мужик, скоро за девочками будет бегать!
– Заяц не для Гриши, а для меня.
– Понятно, – говорит Глеб и уходит на кухню. – А есть дают в этом доме или мы теперь в куклы будем играть?
Он достает котлету из холодильника, аккуратно отламывает по кусочку, каждый кусочек окунает в майонез. Он здорово загорел в своем Барнауле, как будто на заграничный курорт съездил. И еще помолодел. Если бы не седые виски, – совсем мальчишка, хотя на семь лет старше меня. Нас даже часто принимают за ровесников.
– Глеб, ты знаешь, я ухожу.
– Куда? Опять новые фантазии?
– Не куда, а от кого. Я ухожу от тебя.
Он доедает котлету и ставит тарелку в раковину. Потом тщательно моет тарелку и вилку. Потом вытирает крошки со стола. Трудно говорить с молчащим человеком.
– Подумай сам, зачем я тебе? Только раздражаю. Фигура несовершенная, одежда смешная, подружки не в твоем вкусе. И вряд ли я стану внимательнее и собраннее, сколько ни старайся. Ты – красивый положительный человек, с хорошей работой и собственной квартирой. Только позови, – через час очередь из претенденток выстроится до самого Павловска!
Уже все убрано, а он продолжает стоять с тряпкой в руке, будто забыл, куда ее кладут.
– Ты ведь даже не думаешь обо мне никогда. Ни одного подарка за шесть лет. Нет, я не говорю про розы на Восьмое марта, просто так подарка – без причины. Даже на Новый год я сама всем покупаю – и Гришке, и тебе, и маме, – а потом ночью раскладываю в красивые мешочки и подписываю от Деда Мороза. И себе отдельно подписываю. Ты думаешь, мне совсем не хочется подарков?
– В этот раз купил, можешь смеяться, – он устало достает из дипломата маленький пакет и бросает на стол, – подарок, как видишь. Но, кажется, не тот, что ты хотела.
В пакете роскошная бархатная коробочка. Темно-синего цвета. Кольцо из белого золота здорово смотрится на синем бархате, именно такое, как мне нравится, матовое, без всяких камней. Зачем на обручальном кольце камни?
– Пойду спать, – говорит Глеб, – завтра с самого утра совещание. И тебе советую, потом будешь ныть, что ничего не успеваешь.
ОН САМ НЕ ПОНИМАЛ, ЧТО ПРОИСХОДИТ
Он сам не понимал, что происходит, – какое-то беспрерывное ощущение радости и подъема, пожалуй, только в школе так радовался, когда понял, что вошел в десятку лучших выпускников. Но тогда была молодость, стремление взять реванш за прошлые обиды, гигантские планы на будущее. Собственно, все сбылось, все доказал и себе, и другим, – немногие из его однокашников, коренных сабр-аристократов, могут похвастаться лучшим статусом. Денег, конечно, бывает и побольше, сильно не хватало начального капитала. Родители Орны вовремя купили землю, смешно подумать, сколько она тогда стоила, а теперь – целое состояние. Но они больше заняты младшей дочерью – после очередной Ливанской войны осталась вдовой с тремя детьми. И сын у них – порядочный обалдуй, тридцать лет, а все болтается то в Индии, то в Австралии, все решает, чем заняться в жизни. Он в этом возрасте уже докторскую защитил, собственный проект начинал.
И ведь Рахели тоже тридцать. Вот откуда такая радость! Только закрывал глаза, всей кожей ощущал ее руки, грудь, восхитительный живот, маленькие упругие ступни. Мягкие губы легко скользили по лицу, теплые пальцы гладили щеку, ласково теребили бороду. Хотелось все слушать и слушать ее тихую болтовню и самому рассказывать все подряд, и хвастаться, и жаловаться как в детстве.
C ней не нужно было защищаться, вот в чем дело! Всю жизнь приходилось держаться, соответствовать требуемому образу – свой парень для одноклассников, независимый оригинал для Орны, блестящий ученый-эрудит для коллег. Даже для матери, в пику ее грустным насмешкам, вечно что-то изображал: неотесанность, повышенную религиозность, незнание русского языка.
Розенфельд И. Г., вот смешная находка в середине жизни! Снова вспомнил лукавые глаза, полные восхищения и одобрения, виноватую улыбку, пирог в чемодане…
Нужно ей срочно написать! Послать какой-нибудь забавный стишок или картинку. Конечно, на работе это не слишком принято, но можно добавить сугубо серьезную и нелепую информацию на английском. Или лучше на французском, точно никто не врубится!
Кстати, надвигается зима, период конгрессов, можно будет встретиться в какой-нибудь Барселоне. Тут же вспомнил Коста-Брава, горячую кровать, горячую бесстыдно раскинувшуюся блондинку-испанку, – какая ерунда! Нет, лучше что-нибудь посевернее, Амстердам например. Он возьмет ее за руку и поведет гулять вдоль каналов, будет моросить мягкий дождик, переходящий в туман над водой. Нужно не забыть большой зонт и обязательно пройти по набережной, поглазеть на рынок цветов, блестящие огромные ведра тюльпанов и роз. Еще можно заказать ночную поездку на кораблике, там есть такой рейс, два часа при свечах. Конечно, чисто туристская игрушка, но ей должно понравиться, – сыр и вино на столиках, туман, дрожащие огни, иллюзия свободы и одиночества.
Вдруг стало грустно. Какая уж там свобода! Выборы на кафедре, огромная ссуда за дом, беспокойные ночи с детскими поносами и температурой. И долги, долги, – коробка передач барахлит, холодильник пора менять, садовник заломил безумную цену за оформление дворика из камней.
Орна тоже давно устала и раздражена. Грешно говорить, но она заметно постарела в последнее время. Привыкла заниматься только собой, и вдруг сразу двое капризных, болезненных малышей. Родители стары и почти не помогают, он в постоянных разъездах. К тому же среди ее подруг принято бороться за худобу – вечно обсуждают какие-то глупые диеты и витамины, носят девичьи майки. И не замечают, как по-дурацки выглядят – постаревшая кожа на худых руках, плоские груди, торчащие ключицы. Будто старушки в детских платьях. Предательство так думать, конечно, у самого вон живот повис, брюки купил на размер больше.
Как она сидела, закутав ноги рубашкой, и вдруг прижалась щекой к его животу. Горячая нежная щека на его коже, мягкие растрепанные волосы, дыхание перехватило, девочка моя… Черт! Забыл сохранить текст, две страницы вылетели. Как раз не хватало оставаться вечером и писать заново!
Быстро набросал пару веселых фраз, прилепил отрывок статьи из французского экономического журнала, представил, как она тихо смеется, сверкая глазами.
Нет, никакой паники, просто огорчился. Был уверен, что тут же ответит, как отвечала на его прежние записки, еще до встречи в Геттингене.
После возвращения из Москвы он написал ей скорее из вежливости, – раз уж взял адрес на вокзале. Она ответила мгновенно и радостно. Потом стали понемногу разговаривать, обменивались шутками и репликами. У него было несколько таких корреспондентов, в основном бывшие однокашники, кто-то появлялся, кто-то исчезал. Но с ней получалось забавнее: казалось, она чувствовала заранее, когда он про нее думал, – так быстро приходили смешные и ласковые строчки. Правда, не всегда находилось время отвечать, но она и не настаивала, так же быстро исчезала, прилепив смешную рожицу или цветочек из смайликов.
После ее странного отъезда из Геттингена здорово испугался, думал, что-то случилось, два дня искал в почте и скайпе. Смешно сказать, растерялся как мальчишка. Но отозвалась, слава богу, коротеньким письмом. Мол, все нормально, вернулась на работу, жизнь продолжается. Сразу успокоился, послал в ответ целую стопку смешных вырезок и анекдотов. Больше писем, кажется, не было. Правда, он почти сразу улетел в Штаты, потом готовил доклад к выборам, потом заболела мать Орны, мотались по больницам почти неделю.
Может, ушла в отпуск? Или изменился адрес? Должна бы сообщить в любом случае. А вдруг заболела? Или кто-то из родных заболел – сын, мать? Не хотелось признаваться даже самому себе, что ей просто надоело, хотя это была самая вероятная причина. Молодая красивая женщина, вполне могла увлечься кем-нибудь другим, более свободным и доступным.
Решил подождать несколько дней, но не удержался и уже назавтра вновь бросил короткое расстроенное письмо. И опять тишина. Каждые полчаса проверял почту, вечером не пошел в кино, хотя давно собирались. Наконец пришел ответ.
Она очень рада его слышать, рада, что все у него нормально. У нее тоже все нормально, все здоровы. Нет, на конгресс в эту зиму она вряд ли выберется, слишком дорого получается. Про отпуск тоже пока не решено, хочет подождать зимних каникул, может, просто поживут с сыном на даче. Не исключено, что предстоит обмен квартиры, страшно подумать, сколько суеты. Спасибо за память. Она желает ему всяческих успехов и удач.
Вдруг почувствовал, что задыхается. Воздуха не было, как однажды в детстве, когда смеялись и боролись с мальчишками и кто-то, случайно навалившись грудью, зажал ему рот. Помнил до сих пор, как отчаянно пытался вздохнуть, судорожно сжимались мышцы живота, но грудь была пуста, безысходно пуста. И тогда он понял, что сейчас умрет…
Он сам точно не знал, что хочет найти, но что-то важное, спасительное. Ящик с вещами матери стоял в кладовке, в самом углу. При переезде думал разобрать, выбросить ненужное, но так и не решился открыть. Собственно, там все было ненужное. Темно-синие с золотыми цветами чашки, хрустальная конфетница на ножках, тяжелые темные ложки. Орна сразу отказалась – чашки не подходят для микроволновки, ложки требуют ухода и чистки. Под чашками лежала мягкая шаль с цветами и длинными кистями, вполне красивая, почему так раздражала его раньше? Тут же вспомнил клетчатую юбку, московский отель, тапочки с помпонами, – вот кому бы понравилась! Представил Рахель, закутанную в эту шаль, с ногами на низкой тахте, с тетрадкой в руках… Тетрадка! Вот что он ищет. Быстро отложил пожелтевшую вышитую скатерть, кажется, еще бабушкину, какие-то льняные салфетки, перчатки из красной шерсти с серыми полосками, альбом фотографий. Тетрадь лежала на дне, даже помнил, как засунул ее тогда, в странно пустой материнской квартире с еще завешенным зеркалом, торопливо засунул, так и не решившись заглянуть.
Мать когда-то переписала в эту тетрадь любимые стихи, в России их еще не было в продаже, – ни Цветаевой, ни других. Он потихоньку заглядывал, пытался понять, волновался и злился.
Люби меня, припоминай и плачь! Все плачущие не равны ль пред Богом? —что-то останавливалось внутри, хотя еще не пришло время потерь, —
Мне снится, что меня ведет палач По голубым предутренним дорогам[23].Сразу раздражался, – почему палач? Почему дороги голубые? Дороги должны быть серыми от тумана.
Невозможно было спросить, ненавидел ее снисходительную грустную улыбку, вздохи, весь этот женский вздор. Но сейчас начал листать лихорадочно.
Как правая и левая рука Твоя душа моей душе близка… —оказывается, можно сказать такими простыми словами! —
Не успокоюсь, пока не увижу, Не успокоюсь, пока не услышу[24].Переписать и послать? Три часа прокопаешься! Почти не помнил, как писать на русском, и Орна начнет спрашивать. Вот идиот! Нужно посмотреть автора и найти в интернете!
Листы были тонкие, чернила побледнели, но слова хорошо разбирались. Хотел сунуть в сумку, но что-то еще мешало под обложкой. Развернул медленно, почему-то все больше волнуясь, и вытащил письмо в пожелтевшем конверте. Их старый адрес, выведенный старательным детским почерком по-английски, а обратный написан по-русски, уже без всякого старания. С трудом стал разбирать: Москва, Сиреневый бульвар, дом 14, кв. 2, И. Г. Розенфельд.
Не может быть! Поспешно развернул письмо, все тот же неразборчивый почерк на старом листке, стал читать, путаясь и перепрыгивая строчки:
«Мои дорогие… после вашего отъезда жизнь совсем опустела… часто спрашивают и передают привет… все тот же холод и грязь… новая ветка метро… много интересных выставок… помнит ли мой ненаглядный Яшенька… горжусь и мечтаю о встрече! Всегда ваша Инна».
Конечно! Тетя Инна, старшая сестра отца, как он мог забыть! Деда звали Генрихом, значит, она – Инна Генриховна, И. Г. Розенфельд. Все просто!
Про деда знал совсем мало, – еврей-мечтатель из польско-немецкого местечка приехал строить революцию в Россию, в числе первых загремел в сталинские лагеря, отец его почти не помнил. Впрочем, он сам с отцом уже полгода не разговаривал, – раздражали восторги немецкой аккуратностью и погодой, старческая самодовольность. Да еще жена отца рвалась принять участие в разговоре, ахала, приглашала в гости. Интересно, поддерживает ли он связь с сестрой?
Перечитал письмо, спотыкаясь на фамилиях и названиях. «Ненаглядный Яшенька» – с ума сойти! Тысячу лет не вспоминал своего детского имени, тут же всплыли в памяти походы на елку, большие шоколадные конфеты с картинками, «подарки» в ярких картонных коробках. Тетя Инна специально брала отпуск на его зимние каникулы, приезжала с утра в тяжелой, сладко пахнущей шубе, еще от дверей махала огромным красивым билетом с Дедом Морозом. Кажется, у нее никогда не было своей семьи, – или он просто не знал?
ЗИМА В ЭТОМ ГОДУ
Зима в этом году очень удачная – наступила сразу, без нудных заморозков и оттепелей, чистый белый снег лежит на обочинах и на крышах машин, все уж и забыли, что бывает такая красота. И на Новый год обещают снегопад и легкие заморозки.
Я ненавижу зиму.
У папы лет в сорок вдруг началась аллергия на клубнику, что было немного смешно, потому что она единственная росла у нас на даче, все остальные бабушкины посевы почему-то засыхали. Съел свою жизненную норму, шутил отец, ничего не поделаешь.
Я съела свою жизненную норму холода, колючего воздуха на лице, скользких грязных тротуаров. У меня останавливается сердце и дыхание от этого пронизывающего ветра с Невы, бесконечных сумерек, серого-серого-серого неба.
Сонное серое утро на работе, с трудом добиваю годовой отчет. Беспрерывно звонит телефон на столе, босс сердито посматривает, но молчит пока. Все-таки я его ни разу не подвела за предыдущие годы.
Сначала позвонила Надя по поводу зимних каникул и елки, потом Гришка с очень важной шахматной задачкой, потом Глеб. Кстати, предложил вместе пойти вечером за подарками к празднику. Что ж, пойдем вместе, никто не спорит. Опять телефон, значит, теперь мамина очередь, это на полчаса, не меньше, крепись, госпожа Розенфельд!
Нужно понять, что зима наступила, говорит мама, неразумно и опасно ходить без шапки. Ты уже не маленькая, должна думать о здоровье. Как легко стало покупать продукты к Новому году, абсолютно все есть, но жуткая дороговизна! Да, не мешает, наконец, решить со свадьбой, никто не говорит про фату, но белый костюм вполне уместен. Хорошо, дело не в нарядах, но нельзя думать только о себе и всех лишать праздника. Пусть будет красивый ужин в ресторане, Глеб говорил, что хочет собрать друзей, даже бабушка попросила новое платье! Да, самое главное! Бабушка вместе со своими соседями продает квартиру. Покупатель, конечно, бандит и новый русский, но какое нам дело. Он платит каждому жильцу столько, что вместо одной комнаты можно купить приличную квартиру на окраине. Но это еще не все. Бабушка соглашается переехать ко мне, а деньги дарит вам на свадьбу – для совместной покупки с Глебом нового жилья! И вовсе не нужно продавать дачу.
«Интересно, – думаю я, – почему Рахель не ушла от Иакова после его ночи с Леей? Неужели она поверила, что нормальный человек может перепутать любимую женщину с ее сестрой? Но ведь он и дальше жил с Леей, спал с ней, рожал своих бесконечных сыновей? Почему Рахель принимала его, любила, мечтала о собственных детях? Может быть, мы чего-то не знаем? Может быть, он читал ей безумные стихи? Целовал пальцы ног, дрожа от нежности? Молился, как на единственную радость и надежду?»
Как будто бы железом, Обмокнутым в сурьму, Тебя вели нарезом По сердцу моему…[25]Откуда чужой благополучный израильтянин знает эти слова? Как он может понять мою тоску и смятение?
Вернись ко мне скорее, Мне страшно без тебя, Я никогда сильнее Не чувствовал тебя…[26]Он шутит? Смеется?
Уже месяц я тону во всей любви, тоске и нежности, какую только сумело высказать человечество. По крайней мере, на русском языке.
Я не читала стихи с пятнадцати лет. После смерти отца и романа с Тимуром я хотела навсегда забыть их жуткий обман, их жестокую завораживающую силу и месть.
И назови лесного зверя братом, И не проси у Бога ничего[27].Нет, так не смеются. Так не говорят от скуки или безделья. Так не целуют чужую женщину при случайном свидании.
Вчера он написал, что хочет приехать в Москву в январе, без всякого конгресса, просто нашлась любимая тетя, которую не видел тридцать лет.
Можно ли любить человека и не видеть тридцать лет? Можно ли тосковать по одной женщине и при этом мирно жить с другой, ходить за покупками, строить планы на отпуск? Что мне делать, Господи, что мне делать?
– Сергей Константинович, – умоляюще говорю я боссу, – мне нужно поехать в Москву. Хотя бы на неделю.
– Ну ты даешь, Розенфельд! То в Геттинген, то в Москву, а работать Пушкин будет?! Два новых договора подписали.
– Но я не вместо работы, я все понимаю. Пусть будет отпуск за свой счет, а?
– Отпуск в Москве? В январе?
– Да. Отвлекусь немного, по театрам похожу. У меня там тетя старенькая. Болеет.
– Розенфельд, ты такое кино смотрела, «Берегись автомобиля» называется? Там один человек тоже по больным родственникам ездил, брал отпуск за свой счет. А потом оказалось, что крадеными машинами торгует.
– Сергей Константиныч, – шепчу я, – как вы догадались?! Толкну два мерса и сразу назад! Только никому не выдавайте, а? Вроде я в командировке. Век за вас молиться буду!
– Серьезнее нужно быть, Ира, – вздыхает босс. – Роман закрутила, так и скажи, что я, не человек? Бери в счет летнего отпуска, знай мою доброту!
ХОЛОДНАЯ ВОДА СТУДИТ УСТАЛЫЕ СТУПНИ
Он страшно волновался, точно глупый восьмиклассник. Приехал почти за час, купил розу, нелепо дорогую, но очень красивую и свежую на длинном-длинном стебле. Сразу увидел в толпе выходящих пассажиров знакомую темную голову, она постриглась еще короче и от этого казалась еще моложе. Знакомый чемоданчик висел на длинном ремне через плечо, короткая шубка ей удивительно шла, подбородок прятался в пушистом воротнике. Совсем девчонка! Она его не замечала, спокойно стояла в стороне, почти не оглядываясь. Потом все-таки замахала рукой, заспешила.
Накануне с трудом нашел теткин дом, где-то на серой окраине, от метро еще трясся несколько остановок в гулком холодном троллейбусе. Непонятно, какой шутник назвал этот тоскливый район Сиреневым бульваром. Тетка долго беспомощно плакала, обнимала сухими дрожащими руками. Потом засуетилась, стала доставать разноцветные кастрюльки с облезлыми цветочками. Стол накрыла в комнате, долго разглаживала руками твердую, будто фарфоровую, скатерть. Забыто пахло ватрушками и еще чем-то сладким и древним. Не удивился, увидев знакомые синие чашки, такие же, с золотыми цветами. Во всем было сочетание бедности и достоинства, какое можно найти только у старушек: прекрасное резное блюдо в покосившемся шкафчике, тщательно вымытый скрипучий паркет, ковер над просевшей тахтой. В ванной притулилась стиральная машина с ржавым боком, аккуратно прикрытая вышитым полотенцем. Стало стыдно за свои нелепые подарки, все эти синтетические салфетки и коробочки с орехами, бездумно купленные Орной.
Тетка жадно расспрашивала о детях и жене, сокрушалась, что нет фотографий. Мог бы, конечно, подумать заранее. Она тихо огорчилась, услышав про номер в отеле, но, кажется, и обрадовалась. Наверное, не знала, как следует кормить и занимать иностранного племянника.
Отель заказал в том же районе, – высокие нескладные строения, оставшиеся от когда-то проходившей в Москве олимпиады. Но номера были относительно дешевы, метро рядом, и прямо за окнами виднелся огромный парк, похожий на лес…
Было прекрасно и странно поселиться с ней в одной комнате, с утра гуляли в парке, бродили по еле заметным дорожкам, разглядывали старую церковь. Возвращались продрогшие, раздевались и вешали одежду в шкаф, словно пожилые супруги. Потом долго лежали, обнявшись. Он все целовал ее, бесконечно целовал, все никак не мог оторваться от этого тепла и нежности. Потом все-таки выбирались в город, обедали в каком-нибудь ресторанчике, долго сидели за остывающим кофе. Хотелось рассказать ей всю жизнь, про университет, женитьбу, ссоры с родителями. Она слушала очень внимательно, держа его руку обеими ладонями, голова кружилась от этой тихой ласки, и непонятно было, куда и зачем спешить и возвращаться.
Они уже сто раз все обсудили, – не было никакого выхода, по крайней мере, на ближайшие годы, пока не подрастут дети. И все равно он не выживет в России, не вынесет этого двойного предательства.
Она все понимала, она удивительно все понимала. И он понимал, что ей никак не перебраться в Израиль, – страшно везти сына, рожденного от мусульманина, невозможно бросить мать и бабушку…
* * *
Он встречал меня на вокзале. Красивый, не по погоде одетый иностранец с розой в опущенной руке. Почему-то не хотелось спешить.
– Яшенька, – позвала я шепотом, – Яшенька, родненький, ты настоящий?
Да, он был настоящим. Настоящие теплые смеющиеся глаза, настоящая чудесно колючая щека на моей щеке, настоящая рука, крепко сжавшая мою ладонь.
Твои руки черны от загару, Твои ногти светлее стекла…[28]И тетя оказалась настоящей, – маленькая старушка в джинсах и длинном толстом свитере. Вот бы рассказать боссу, пусть не издевается!
Каждый вечер мы ходим к ней в гости, в старую пятиэтажку на окраине Москвы. Едем остановку на метро, потом долго идем пешком по серому бульвару, – не хочется залезать в скрипучий троллейбус. По дороге выбираем подарки – огромные желтые груши, французский сыр с зелеными разводами, пирожные в плетеной корзинке.
Тетя радостно всплескивает руками, подает на стол чудесные тонкие чашки, серебряные ложки, настоящие крахмальные салфетки с ручной вышивкой. Она ничего не спрашивает, только постоянно шутит, вспоминает семейные истории и детские проделки «ненаглядного Яшеньки».
– Представляете, деточка, – говорит она, смеясь, – этот иностранец привез мне шаль! Он думает, что у меня за жизнь не накопилось пары десятков шалей и платков. Ну-ка, примерьте! Видите, вам замечательно походит!
Шаль мягкая и уютная, с длинными кистями. Почти такая же есть у моей мамы. И у бабушки тоже. Кажется, одно время была мода на эти платки, но их уже давно никто не носит.
– Оставьте себе, – говорит тетя, – это шаль его матери. Я сама когда-то ей подарила. Подумать только, как легко вещи переживают нас самих! – И она опять смеется, только темные в глубоких морщинах глаза смотрят на меня внимательно и грустно.
Я знаю, что этого не может быть. Не может быть такого родного и единственного человека. Но он – точно такой, абсолютно такой!
Мы медленно бродим по заснеженным дорожкам парка, греемся в глупом стеклянном павильоне. Жизнь напоминает сказку или детскую игру. Не успеваю я что-нибудь пожелать, как Иаков тут же покупает и приносит: ненужные смешные хлопушки, пирожки с картошкой, клюквенный морс химического цвета. И старательно пробует вместе со мной. И смеется, безудержно и беспрерывно смеется. Кстати, мандарины оказались совершенно кислыми, но я все равно все слопала, хотя он порывался выбросить.
Он засыпает мгновенно, это ужасно забавно, – на последней букве фразы вздыхает и проваливается в глубокое ровное дыхание как маленький. Я лежу тихо-тихо, но все равно он чувствует малейшее движение, поспешно прижимает к себе, обнимает всем телом, руками, ногами, животом…
Конечно, она не ушла, бедная счастливая единственная Рахель. Куда и зачем ей было уходить? И конечно, она знала, что он ничего не станет менять. Так сложилось. У человека есть страна и дом. У человека есть обязанности и ответственность. И жена, которую он любит как плоть от плоти своей. Что положить на другую чашу весов? Только одну свою жизнь? – Не такая большая цена.
Ранние сумерки отгораживают от чужих людей и улиц. Все меньше чувствуется мороз, не заметна грязь тротуаров… Холодная вода Иордана студит усталые ступни, обжигает щеки. Хочется откинуть с лица мокрые кудри, но они все равно падают и прилипают ко лбу, только мелкие капли повисают на теплых разноцветных бусах. Деревья так плотно разрослись, что почти скрывают небо и солнце, невозможно поверить, что там наверху полуденный зной. Сандалии скользят по мокрым камням, но что с того – весело и нестрашно упасть в мелкую речку при такой жаре, тут же высохнет мокрый подол.
Автобиография
Ах, оставь, я тебе уже все рассказала…
Ну, если обещала…
И что ты меня все наряжаешь? Ты думаешь, люди туда придут специально на какую-то старуху посмотреть? И туфли новые? Ну ладно. Так им и надо. Пусть знают, как в кафе ходить… Как кто? Ноги, конечно!
Как красиво кафе называется – «Капульский»…
Международное? Наверное, дорогое очень…
Знаешь, а давай пойдем еще куда-нибудь, например в театр… Да-а, конечно, язык не пойму…
Ну давай так сделаем. Сейчас просто погуляем, ветерок приятный и очень красиво, вид с горы, а потом, когда будут чьи-нибудь гастроли, пойдем в театр.
Ну хорошо, ну ладно.
Вот здесь сядем? Очень хорошее место.
А что рассказывать?
Все с самого начала, как незнакомому человеку?
Ну записывай, записывай, я рада, что тебе интересно.
Девочка-официантка какая внимательная – мы уже полчаса выбираем, а она все улыбается…
Ну что ж, что ее работа, работу тоже не все хорошо выполняют.
А с чего начинать? Автобиография? Ну пусть так и будет, автобиография.
Родилась я весной семнадцатого года, за неделю до Пурима. Нет, метрика не сохранилась, родные так и запомнили, что за неделю до Пурима.
Конечно, по еврейскому календарю. А ничего, что все время в разные дни, даже интереснее. Каждый поздравляет, когда ему нравится. Правда, в России мои мужчины предпочитали 8 марта, меньше хлопот. А по документам я на два года старше. Это уже потом мне папа метрику выправил, после семилетки, когда я учиться ехала. По документам у меня день рождения в июне 1915-го, как раз получалось шестнадцать лет, и меня в училище приняли. Но я этот день не люблю, ничего он для меня не значит. Да и зачем мне быть на два года старше?
Комсомол? Нет, я и не пыталась вступить. Меня даже в пионеры не приняли – папа считался единоличником. У нас ведь и лошадь была. И каждую субботу мясо, – богачи.
Потом папа умер, лошадь продали. Но это я уже в городе училась, как раз на каникулы приехала.
Туберкулез. У него и брат умер от туберкулеза. И я такая худющая была.
Помнишь, баба Хая меня все молоком отпаивала? Ну как же, я тебе рассказывала: Хая – мамина младшая сестра. Я из училища к ней погостить приехала на каникулы, уже после папиной смерти. А у нее самой два мальчика – Гриша и Мотик. И вот она нам каждое утро давала по кружке молока. И все время строго следила, чтобы каждый брал свою кружку, даже специально завела мне кружку другого цвета. Обидно как-то и, главное, непонятно. Только перед отъездом я узнала, что она целый месяц мальчишек снятым молоком поила, а меня – сливками.
Я говорю:
– Хая, ты с ума сошла, они же дети, им расти нужно!
– Да уж, дети, ироды на мою голову! Целый день по солнцу носятся, что им сделается: а ты вся синяя от своей учебы.
Такая вот была тетка. И дети у нее такие же выросли. Уже когда меня сослали, ты знаешь, какое время было, я и написать кому-нибудь боялась, да и не отвечали тогда, вдруг получаю денежный перевод. А это Гриша мне свою первую зарплату прислал. Он как раз на заводе начал работать.
Нет, не было ему еще шестнадцати, война началась, вот он и работал.
Так вот, когда папа умер, мама одна осталась. Я училась в Москве, брат – в Ленинграде. И знаешь, она тоже пошла учиться, на учительницу! Я приезжаю на каникулы, а по всему дому – тетрадки, книжки. Она прирожденной учительницей была, спокойная, строгая. Не кричала на нас никогда, но почему-то даже в голову не приходило ее ослушаться.
Да, конечно, успела поработать.
Она в тридцать пятом, кажется, диплом получила или в тридцать шестом, а расстреляли их только в феврале сорок второго. Я уже в ссылке была, брат в блокадном Ленинграде в госпитале работал. Хорошо, он семью в эвакуацию отправил, а то вот Мира, моя подружка, отвезла мальчика на лето к бабушке… Так он и лежит там вместе с ее мамой. И с моей. Так что, можно считать, что мне повезло с этим арестом. Я ведь тоже Диночку на лето к маме отвозила.
Да нет, почему я перескакиваю. Ну конечно, сначала вышла замуж, а уже потом Диночка появилась. Или ты думаешь, я такая легкомысленная была?..
А там и познакомились, на каникулах. Куда я еще могла поехать? Корова у нас была, и надо было ее каждое утро выгонять. А мама сказала, что негоже ей, учительнице, за коровой бегать, тем более когда взрослая дочь приехала. И ничего во мне особенного не было. Косы только, да ноги длинные.
Я же говорю, худая как палка. Вот и бегала я за нашей коровой босая.
Как почему? Тепло было, лето. И удобнее так. И туфли надо было для города поберечь. Я ведь училась на зубного врача.
Конечно, мечтала – детским ортодонтом. Выправлять неправильный прикус. Чтобы все красивыми вырастали.
Ну почему вся красота в зубах? Нет, конечно. Но все-таки хорошие зубы – это красиво.
Нет, нет, не перескакиваю. Он на лето приехал, диплом писать. На немецком языке. Он и французский знал хорошо, но не так, как немецкий. И еще оперу очень любил. Мы с ним часто в оперу ходили. И сам пел хорошо, тенором. Я потом, когда Диночка подросла, всё ей по радио оперы ловила.
Он у наших соседей комнату снимал – сад был у них красивый, тихий. И все наши местечковые невесты, конечно, принялись гулять вокруг этого сада. А тут я бегу со своей коровой. Меня и невестой не считали, я же говорю – одни косы.
Мы на Красной Пресне поселились. Такая прекрасная была комната, просторная, и соседей немного.
Я с соседями всегда дружно жила, ты знаешь. Это уже потом, когда Осю арестовали, они со мной перестали разговаривать. Так меня все равно вскоре выслали. Правда, я успела брату в Ленинград написать, чтобы Диночку к себе забрал, не отдавал в детский дом. Но тут мне повезло – я хоть и в зоне была, но на поселении, и ребенка при мне оставили.
Направление у меня было в Сыктывкар.
Выговорить-то еще можно, а вот добраться… Поезда туда не доходили.
Автобус? Ты еще скажи – метро… Высадили меня на последней станции и сдали в милицию, вроде как арестованную. А там и не знают, что со мной делать. Думали, думали и говорят:
– Мы вас направим на лесоповал, врачом.
Я говорю:
– Что вы, я не могу врачом, у меня среднее образование!
– Ну тогда здесь в медпункте будете арестованных лечить.
Я даже рассердилась:
– Да не могу я людей лечить, я ведь только зубной врач!
Надоела я им ужасно.
– Тогда иди, – говорят, – и сама устраивайся, куда хочешь.
И решила я для начала жилье поискать в деревне. Сколько можно в милиции жить! Взяла Дину за руку и пошла по поселку.
Да, конечно, со мной, я же говорила, не отправили ее в детдом. Даже и не знаю, может, забыли, а может, сжалился кто.
Да, прекрасно ходила, ей уже три года исполнилось. Проходили мы по деревне целый день, но неудачно, никто нам комнату не сдал.
А там и кушали, в милиции. Раз я арестованная, так они должны были меня кормить.
Уже под вечер останавливаю одну женщину, все насчет комнаты, а оказывается, я у нее уже утром спрашивала. Я-то не запомнила, а она меня узнала:
– Как же вы, – говорит, – так целый день и ходите?
Ну что я могла ответить?
– Знаете что, – говорит, – пойдемте к нам. Я сама эвакуированная, с детьми у родителей живу, с моим отцом и посоветуемся.
Привела она нас к дому, но заходить я не стала.
– Попросите, – говорю, – вашего отца к нам сюда выйти, а в дом я зайти не могу, у нас с ребенком педикулез.
Да, вши. Какие мы завшивленные были! И с поезда, и из тюрьмы. Я ведь в тюрьме пересыльной сначала была.
Да, конечно, вместе с Диночкой.
Так вот, вышел ее отец и говорит:
– На лесоповал вы ни в коем случае не соглашайтесь ехать, там и не такие герои с голоду умирают. Идите в медицинскую часть ГУЛАГа! В Главное управление лагерей. Там, даст бог, работу найдете. А в милиции своей попроситесь на дезинфекцию и завтра к нам опять приходите, поселим вас как-нибудь.
Такие вот хорошие люди встретились, я просто не знала, как и поблагодарить.
Да, так все и сделала. И дезинфекцию нашла. Мне одна женщина устроила – за мамино колечко.
В лифчике, конечно. Ты же знаешь, какая у меня фигура смешная, сама худая, а лифчик – пятый номер. Там не только колечко можно было спрятать. Но жить я к этим людям так и не пошла, постеснялась.
А по-настоящему повезло мне в медчасти. Пришли мы с Диной, вижу – за столом два человека, пожилые такие. Один оказался главврачом, Энтин его фамилия, а имени я так и не узнала никогда, а второй – Левин Илья Моисеевич, вроде его заместителя. Всю жизнь я его добрым словом вспоминаю. Сами – бывшие заключенные. Отсидели срок и остались работать.
Посмотрели они на нас, Илья Моисеевич и говорит:
– Надо что-то делать, эти дети здесь погибнут, нет сомнений.
Я даже сразу не поняла, какие дети, а он про меня с Диночкой!
И так строго мне:
– Подождите-ка в коридоре, мы посовещаемся и вас вызовем.
Посидели мы в коридоре. Час, наверное, или больше. Вызывают они меня обратно:
– Будете работать в поселке зубным врачом, есть свободное место. И жилье там же предоставим. Завтра можете приступать.
Потом я, конечно, узнала, что место это они мне прямо тогда изобрели. И ставку зубного врача вписали.
Так мы с Диночкой и спаслись.
Ну что про это говорить. Лучше я тебе расскажу, какое у меня было платье. Длинное, крепдешиновое, до полу. А здесь такие плечики, тогда модно было плечики, и от них – складочки.
Нет, почему не успела. Одевала, даже два раза. У Оси большой праздник устроили на работе, какой-то они проект сдали. Он в группе Тухачевского работал. Так всю группу и расстреляли.
Нет, я только недавно узнала. Раньше все говорили, от пневмонии умер, а недавно, когда архивы подняли, так и нашли там всех. И даже с фотографиями.
Я в газете прочла. Большая статья была.
Нет, микроинсульт у меня позже случился, когда документы на выезд оформляли. Землячка письмо прислала: «Я, такая-то, свидетельствую, что Раппопорт Мера Абрамовна расстреляна в 1942 году на моих глазах и похоронена в братской могиле».
Все очень подробно описала и подпись свою у нотариуса заверила. Такая внимательная женщина. А то мне в ОВИРе разрешение на выезд не давали – требовали сведения о родителях. Как будто я собираюсь бросить родителей. А мне уж самой почти восемьдесят.
Да, о папиной смерти справка у меня сохранилась, а вот о маминой кто мог выдать? Разве только фашисты. Вот письмо-то и помогло.
А фасон платья мне соседка выбирала, Лидия Семеновна. Она же меня и наполеон печь научила. Я же совсем молодая была, ничегошеньки не умела. Так красиво получалось и вкусно. У нас в местечке никто и не слышал.
А когда Диночка родилась, мы взяли няню. Очень мне работу бросать не хотелось. Осип хоть недоволен был, но согласился. Он же Прасковью и нашел.
Диночку она сразу полюбила, а меня так, терпела – и молодая слишком, и слабая, и неумеха. Но уживались как-то.
И когда я на поселении письмо получила – мол, мать вашего мужа, Пелагеева Прасковья Ивановна, хочет эвакуироваться и воссоединиться с семьей, – я сразу побежала оформлять документы. Тогда как раз война началась, неразбериха, все бежали куда-то. Вот Прасковья и назвалась моей свекровью.
Нет, своей семьи у нее не было, только брат в деревне. А я рада была, что ребенка одного дома не бросать.
Так и стали жить втроем. Я работала зубным врачом там же, в поселке, и еще в аптеке подрабатывала, и в операционной. Людей не хватало. А знаешь, что я там придумала? Диночке ленты делать из бинтов. Оставались обрезки в операционной, ну мы их и красили то зеленкой, то чернилами. Прасковья, она в хозяйстве, конечно, лучше меня разбиралась, но и я научилась. И дрова рубили, и козу держали.
Нет, бабушкой она ее так и не стала звать, все Паша да Паша, но по-своему любила, конечно.
А бабушку свою, Осину мать, Диночка и не видела никогда. Счастливая была женщина, красивая, образованная, сыновья прекрасные. И умерла она хорошо, легко. Шла новую шляпку примерить да и присела на минутку у двери. Бог ее уберег и от Осиного ареста, и от гибели второго сына. Вся семья в последний путь провожала.
Да, конечно, на Востряковском. Тогда еще не проблема была там место найти. Но я на похоронах не была, как раз в тот день родила.
Девочку мы, конечно, в ее память назвали. Они – полные тезки, обе – Дины Иосифовны. Так на памятнике и высечено два раза одно и то же имя. Люди, может, думают, что ошибка. Я, конечно, хотела рядом место найти, но за двадцать лет все уже заняли, никакие деньги не помогли.
Опять отвлеклась, да? Ну что ж ты не поправляешь.
В общем, войну мы пережили, и даже лучше многих… Диночка сначала спрашивала, когда папа вернется, а потом перестала. Видно, кто-то из соседей объяснил, на какой войне ее папа.
Нет, нет, никто нас не обижал, наоборот, щадили даже, не расспрашивали никогда.
Ну при чем здесь – ухаживали? Тебе бы все смеяться. Какая там красавица, было у меня время об этом думать… Мы и зеркала не держали. Да и кого я могла Диночке привести? Не говоря уж про Прасковью. Она со всеми соседками ухитрялась переругаться. Но я все терпела ради Диночки. Жалела она ее, что правда, то правда. И баловала, конечно, все воспитание мне нарушала. Я Диночке в обязанность ввела траву носить для козы. Больше для порядка, конечно. И к чистоте ее приучала, чтобы вещи свои сама могла постирать. Так Прасковья потихоньку от меня по утрам за травой бегала. И стирку они всё затевали, когда я на дежурстве. Приду – висит.
Нет, не знаю. Может, и жива еще, она крепкая была.
Это она, конечно, с горя такое сказала, что я Диночку сама на рельсы толкнула. Мол, чтоб не мешала мне с новым мужем. Такую дикость в здравом уме не придумаешь, но с тех пор не могла я ее видеть. Так и сказала: «Уезжайте, Паша, кончилась наша жизнь».
Как она собиралась, кто машину заказывал? Я как-то не помню ничего, наверное, в больнице была. Уехала она и адреса не оставила. А потом хватились, а она все Диночкины вещи увезла – и платья, и ленточки, и фотографии. Еле-еле для памятника нашли карточку.
И знаешь, что интересно. Еще на поселении, когда я письмо похоронное на Осю получила, вдруг приснился мне сон: живу я в большом светлом доме, есть у меня муж и двое детей. Я тогда подумала – значит, судьба мне опять выйти замуж и второго ребенка родить. Даже обрадовалась, помню. И потом, когда мы с Борей поженились и малыши ко мне привыкли, все этот сон вспоминала – почему все-таки двое детей, когда их трое? Вот только после Диночки и поняла.
Нет, в Бога как-то не пришлось мне верить, не та была жизнь. А судьба есть судьба. И кажется мне, человек ее чувствует, только не всегда может понять.
Ты знаешь, забавный случай. Когда я первый раз на каникулы приехала, еще папа в то лето умер, постучался вдруг к нам в дом молодой человек, скорее даже мальчик. Симпатичный такой, моего возраста, совсем незнакомый.
И знаешь, кого спрашивает? – Сару Раппопорт, то есть меня! Я ему объясняю, что это я, а он вроде рассердился даже и спрашивает: «А другой Сары Раппопорт у вас нет?» И тут же понял, что глупость сморозил, покраснел и ушел. И так мне жалко было, что он ушел, сама не понимала, почему. Кто мог знать тогда, что это – мой будущий муж…
Ну конечно, мы обе Сарами были. И фамилии одинаковые, мы же двоюродные сестры. Только ее родители давно от туберкулеза умерли, и она жила в семье у старшего брата. Удивительная была девочка. Круглая сирота, а такая певунья. И все танцевала. Так хорошо танцевала, никто за ней угнаться не мог. А учиться пошла в строительный техникум – очень ей рисовать нравилось, чертить. Бывает же, одному человеку – и столько талантов. Меня – учи не учи…
Ну что ты все заладила… Что ж – красавица, это проходит. Да и не пришлось мне о своей красоте думать, не та была жизнь.
Нет, конечно, он неслучайно зашел. Они учились вместе в Минске, в техникуме, а летом он к родителям приехал, на каникулы, и вдруг услышал, что в соседнем местечке живет Сара Раппопорт. Вот и прибежал. Он уже тогда был влюблен, просто с ума сходил, только не знал, что ее Сонечкой стали звать. Тогда почти все имена меняли.
Нет, не стеснялись, и не дразнил никто, антисемитизма в то время совсем не чувствовалось. Просто хотелось новой жизни. Все старые имена, Мойшеле или Сары, казались местечковыми и скучными. А мы стремились в большие города уехать, так хотелось учиться, строить новые дома, осваивать науку!
Нет, скорее тридцать шестой. В тридцать седьмом мы уже с Осей в Москве жили. А они через год приехали. Борю в Куйбышевскую академию послали, по комсомольской путевке. А Сонечка сразу в два института поступила – в архитектурный и в консерваторию по классу вокала. Все никак решить не могла, что лучше, но все-таки выбрала архитектурный. А петь, говорит, буду для вас, дома. Они с моим Осей романсы любили петь, на два голоса. Он на пианино аккомпанировал. А мы с Диночкой сидели и слушали как зрители. И Боря с нами.
Они в 39-м поженились. И прямо в день свадьбы арестовали Сонечкиного старшего брата, того, что ей отца заменил.
Я же говорю – судьба.
Тогда, видно, она и сделала аборт. Растерялась очень. У нас у всех прямо земля под ногами рушилась. Вот и не было у них детей.
Да нет, при чем здесь война. Никогда они не разлучались. Только когда их часть под Сталинградом стояла, Боря ее приказом отправил в тыл, он уже капитаном служил.
Нет, она его потом в госпитале разыскала, с ним же на фронт и вернулась. Их часть через Австро-Венгрию шла. В Дебрецене по Сониному проекту поставили памятник советским воинам-освободителям. Правда, сейчас, может, и разрушили его. Говорят, по всей Восточной Европе наши памятники сносят. Но с Борей я никогда об этом не говорю. Нет у него таких сил.
Вернулись они после войны из-за границы, красивые, молодые. Как она одеваться умела! Сама себе фасоны рисовала. Было у нее такое длинное кремовое пальто и платье клетчатое в тон… Ну разве об этом расскажешь…
Они нас с Диночкой проведать приехали, не побоялись. Подарки привезли. Мне особенно шкатулка запомнилась – деревянная, с рукодельем, а крышечка складывалась гармошкой. И кружева, и нитки всех цветов, иголочки разные. Я ничего подобного не видела, не то что Диночка.
Может, до сих пор хранится где-то у Прасковьи.
А еще привезла она платьице. Крошечное, но настоящее, шерстяное, красное, и с вышивкой на груди. И говорит мне: «Знаешь, Сарочка, хоть умру, но будет у меня девочка. И будет она это платье носить». И всё она Дину обнимала, косы ее гладила.
Нет, больше никогда не встретились.
Сейчас и не вспомню, куда они уехали, кажется на Западную Украину. Соня все лечилась, в санатории разные ездила, на море. Я даже завидовала, не пришлось мне еще тогда на море побывать.
А в 1949 году Борю вдруг перевели в Казахстан. Это сейчас мы знаем, что там атомные испытания проводили, а тогда – объект и объект. Боря уже подполковником служил, и назначили его заместителем начальника строительства. Там целый город построили, улицы, большие дома, даже скот завезли. Под этим городом первую атомную бомбу и взорвали.
Нет, конечно, силы воздействия не знали. И опасности не понимали. Начальник строительства сразу погиб, а позже еще многие умерли от облучения.
Конечно, никому не рассказывал, даже не заикался, и вдруг в шестидесятые годы спектакль вышел – «Человек и глобус», в театре Вахтангова. Мы два раза ходили, Боря все не мог поверить, что открыто говорят о таком секретном проекте, даже имена называют. А спектакль вскоре сняли, конечно.
И вот из этого забытого богом места через всю страну полетели письма: «Соня беременна!».
Как кому еще? У нее же старший брат был.
Да, да, представь себе, выжил. Отсидел десять лет и вернулся. Его жену вообще не тронули, удивительно повезло!
Шпионаж в пользу Англии.
Конечно, не был. Ты что думаешь, нам турпутевки продавали?
Да никак они не были готовы. Нарезали пару простынь на пеленки. Солдаты Боре кроватку смастерили, деревянную, и он всю ночь, пока Сонечка рожала, просидел над этой кроваткой с двумя ведерками краски – голубой и розовой. Тогда ведь не знали заранее, кто родится.
Да, мальчик.
Конечно, хотела девочку. Но это не значит, что она не хотела мальчика. Назвали Гришей, в честь Бориного отца.
Нет, тоже расстреляли. И сестру, и маму. Белоруссия, что ты хочешь…
Мальчик такой красивый родился. Глаза круглые, карие, а волосы совсем светлые. Только нервный очень, все плакал. Через два месяца объект закрыли, и они вместе с ребенком в Москву приехали, прямо в военном вагоне. Вот когда я паспортный режим нарушила! Мне ведь запрещено было в крупные города приезжать.
Нет, ничего. Даже не заметил никто.
Конечно. Тогда и рассказала. Это ведь последний раз, когда мы виделись.
– Представляешь, – говорит, – я опять беременная… Не было, не было детей, и вдруг разрожалась. Не знаю, что и делать. Только людей смешить. И аборты запрещены.
Я еще, помню, так разволновалась, просто сердце выскакивает.
– Даже думать, – говорю, – не смей ни про какие аборты. Вон у меня растет одна, эгоистка. Рожай девочку! Для чего ты в такую даль платье везла?
И как заказала – девочка родилась! Ирина, в честь Бориной мамы.
Ну что ты говоришь? Кто мог тогда в Москве Ривой назвать? Только что дело врачей началось. Евреи первыми врагами народа стали.
Нет, меня не очень обижали. В провинции меньше чувствовалось. Правда, один раз пришел мальчик (я тогда в школе работала) и говорит: «Не буду у тебя лечиться. Мама сказала, что ты еврейка и нарочно мне все зубы вырвешь».
У меня просто руки свело, но набралась сил, даже рассмеялась:
– Зачем же, говорю, милый, я тебе буду зубы зря вырывать. Я же не фашистка. Я – просто доктор, и у меня своя девочка в этой школе учится.
И знаешь, поверил он мне, сел в кресло, как взрослый.
А мать его все меня избегала потом. Увидит на улице – и на другую сторону переходит. Стыдно, наверное, было.
Вообще, ко мне люди хорошо относились. Никто не обижал. У нас кино в соседнем поселке показывали, рядом, полтора километра, но дорога – через лес и зона рядом, вокруг сплошь бывшие заключенные. А я не боялась, одна ходила.
А что меня обижать, когда он завтра прибежит от боли спасаться?
Ну конечно, и ночью. У меня свой ключ от кабинета был. Ты представь, как это с зубной болью до утра терпеть. Это потом уже началось – подарки, билеты в театр, да и то в больших городах.
Один только раз я просить пошла, когда Диночке за сочинение четверку поставили. И знаешь, Осю арестовали, не плакала, а тут не удержалась. «Разве вы не понимаете, – говорю, – что мою девочку без медали ни в один институт не примут?» И исправили – сам директор в район ездил, но исправили.
Нет, какой университет – дочь врага народа, еврейка! И потом это был неплохой институт – «Мясной и молочной промышленности».
Да, в Ленинграде, поближе к моей ссылке. Тогда все химией увлекались, а там химический факультет открылся.
При чем здесь – не кошерный? Тебе бы все смяться.
А и правда не кошерный! Хватит, хватит. На нас вон уже официантки смотрят.
Да, так в один год все и случилось.
Получили мы документы о зачислении, я стала думать, как поближе к Ленинграду перебраться, Прасковья со мной, конечно. И тут письмо. Сонечка умирает. Сначала киста у нее обнаружилась, никто особенно не задумывался, да и некогда – дети крошечные. И когда ее в больницу положили, они не очень волновались. Боря хорошую клинику нашел, профессор оперировал. Опухоль очень большая оказалась, уже и метастазы пошли. Наверное, облучилась. Кто тогда понимал…
Нет, я не застала. Все так мгновенно случилось.
Брат ее к себе из больницы забрал. Он вырастил, он и похоронил, – судьба.
Боря тогда уже строительным управлением командовал, целыми днями мотался по объектам, видно, домой ноги его не вели. Детей родственники разобрали: девочку Сонин брат, они с женой уже совсем пожилыми были, как дед с бабкой, а с мальчиком Борина племянница сидела.
Да, одна Борина сестра в живых осталась. В Белоруссии. Ее муж успел отправить вместе с детьми из оккупированной зоны. Потому что он работал секретарем райкома, а в войну стал командиром партизанского отряда и понимал, что его семью не пощадят. Кто мог представить, что убивать будут всех? Всю деревню.
Так сестра одна и выжила с четырьмя детьми: еще и пятого родила после войны.
Правда, если бы не Боря, могли и не выжить. Попала она совсем в чужое село, с трудом нашла угол – кто пустит с малыми детьми, голодали страшно, ни работы, ни скотины. А Борин полк в это время как раз через Белоруссию на запад двинулся, и несколько машин в соседнюю часть отправляли. И вот тут совершил он должностное преступление. Нагрузил одну из машин продуктами, выписал направление в часть и сказал шоферу: «В этом районе моя сестра с детьми умирают с голоду. Отвезешь им продукты – спасешь. Не отвезешь, – Бог тебе судья, вряд ли нам суждено еще раз встретиться». И представляешь, отвез! Машину продуктов, в сорок третьем году, в голодной Белоруссии. Ведь мог продать за бешеные деньги. Так они и выжили.
Нет, конечно, не встретились. Он и имени того шофера не спросил.
Да, я ведь про Бориных детей стала рассказывать.
Мальчику тогда только пять лет исполнилось, на самый его день рождения Сонечка и отошла. Нет, на похороны не взяли, хоть на время хотели скрыть от ребенка такое ужасное горе. А он и не спрашивал ничего, сидел у соседей тихо-тихо, а под вечер подходит к соседке и говорит: «Тетя Валя, моя мама умерла». Так и помнит всю жизнь.
Смотри, девочка-официантка опять около нашего столика стоит. Ах, сок принесла?
– Спасибо, спасибо большое.
Ой, что же я с ней на русском языке говорю…
Да, Диночка моя, как узнала про беду эту страшную с Соней, просто взмолилась: «Мама, давай возьмем у дяди Бори детей! Хотя бы девочку».
Я ей говорю: «Ты с ума сошла. Разве ж дядя Боря нам ее отдаст?»
Она молчала-молчала, долго так, а потом и говорит: «Значит, надо тебе за дядю Борю замуж выходить».
А вечером того же дня Боря приехал. Я собралась быстро, что мне там было собирать… И Диночка, как мышка, платьица да учебники сложила. Даже Прасковья молчала, только сундук свой запаковывала да вздыхала.
Квартира у них тогда в военном городке была, под Москвой. Иду, и ноги мои немеют, не могу порог переступить. И Боря все никак ключ подобрать не может, руки у него стали дрожать. Открыл наконец, и вдруг выбегает навстречу девочка, крошечная, толстенькая такая, в красном платье, а на кокетке – белая вышивка: «Ой, мамичка приехала!» Так я ее и подхватила.
Да, что тут рассказывать: целая жизнь прошла. Ты и так все знаешь.
И как квартиру новую получали, радовались – три комнаты. А что рядом электричка проходит, так даже удобнее. Диночка с подружкой приспособились на ней в институт ездить – до Курского вокзала.
Все люди знают о дорожных авариях, но как представить, что с тобой такое случится? Я сколько ночей потом не спала и все думала – не может быть!
Нет, никогда я больше не встречала ту подружку, боялась она меня, как увидит – спрячется. Да разве она виновата, что жива осталась. Моему горю не поможешь.
С мальчиком мне много пришлось повоевать – так пел хорошо, весь в маму, а заниматься не любил. Музыкальных школ еще мало было, конкурс огромный, а его сразу приняли. И вот каждый раз скандал: не хочет идти. Но не могла я его музыку бросить, ради Сонечки не могла. Прибегала с работы, хватала за руку – и на автобус. Да, два квартала, в нашем-то районе только через десять лет построили.
Нет, конечно, не жалею. И он не жалеет, так хорошо играть научился. Он и в школе выделялся, очень, говорили, техника хорошая.
Но так меня и не полюбил. Не смог простить, что я вместо его мамы. Еще в детстве, помню, сидит, на пианино играет, и все почему-то джаз, а сам думает, думает. Гости придут, он поздоровается, и в свою комнату, ни с кем не хочет общаться.
Но, знаешь, сейчас я понимаю, это было самое лучшее время: дети маленькие, мы еще не старые. И дом был – дом, и обед – обед. Я и сейчас меньше десяти котлет не могу приготовить, как-то странно мне. А помнишь, я тарелки купила, с сиренью? Дефицит, ничего не достанешь, и вдруг – целый сервиз. Я его перед отъездом подарила соседям, хороший сервиз, почти ничего и не разбилось.
Ой, смотри, еще что-то несет, такое красивое и с огнями. Мороженое?
Да, очень вкусное.
А помнишь, как открылся Дворец съездов, и там был замечательный буфет? Вот в таких же вазочках продавали взбитые сливки. Я сразу не поняла, думала, что мороженое. Красиво, а есть не могу, приторно очень. И оставлять жалко. И еще были разные фруктовые коктейли в бокалах с трубочками. Ты только не смейся, я тогда эти трубочки потихоньку в сумочку положила, думаю, надо детям показать.
Да, но здесь красивее, конечно. Салфетка, смотри, вся в розочках вырезана. А что если я ее с собой возьму, просто на память?
Да, вот так жизнь пролетела. А ведь и хорошее было. И на море мы с Борей съездили, в военный санаторий. Кажется, столько горя у каждого накопилось, а все помню: и какие цветы цвели, и как море шумело. Мы с ним взяли билеты на пароход – настоящий, огромный пароход, из Ялты в Одессу. Шикарная каюта, все белоснежное, блестит. И тут началась качка. Ха-ха. Представляешь. И главное, я – ничего, а Боря еле живой, зеленый весь. И стыдно ему – ничего раньше не брало, и выпить мог, и танцевать хоть до утра. Так мы больше на пароходе и не плавали.
Что ты говоришь, оставь, пожалуйста… Я понимаю, что здесь не проблема. В Грецию? И на Родос тоже?
Ах, куда таких стариков тащить!
Ну ладно, ладно, поговорим еще.
Да, вернулись мы с моря, а девочка наша замуж собралась. И ведь подумай, я рано вылетела, так она еще раньше, просто совсем ребенок. Все, думаю, конец институту, конец всей ее молодости! Я и упрашивала, и торговалась – отложить, на год, на полгода. Боря первый не выдержал, махнул рукой.
И стали мы готовиться к свадьбе.
А я на свадьбы не ходила с тех пор, как Диночка погибла. Все боялась людям праздник испортить. И вот что интересно, не было у меня слез. И голова вроде ясная. А как вспомню ее, начинаю кашлять, просто до рвоты, ничего с собой поделать не могу. И в больнице лежала, и в санатории. Со временем отпустило немного, а как увижу праздник, молодежь, дыхание перехватывает – и опять.
Но тут уж я себе сказала: «Всё. Хватит горем жить». В загсе, как посмотрела на свою девочку, такую красавицу, да с фатой, да в длинном платье, – и полились у меня слезы. Словно камень в душе растаял.
Главное, расстраивалась я совсем зря. Зять у меня очень хороший оказался. Порядочный человек, отец внимательный, труженик… И еще красивый. Я вот иногда смотрю в компании – он самый интересный.
Ну что зря смеяться, не понимаю.
И начался тут еще один круг моей жизни. Потому что родилась у меня внучка.
Конечно, Сонечкой, иначе и не думал никто.
И хотя детей называли неродными, находились злые языки, но уж внучка точно была моя! Я так и стала жить ее жизнью: вот, думаю, доживу, ходить начнет. Потом про школу стала думать – доживу, куплю портфель.
Нет, зачем про свадьбу. Сначала про университет.
Конечно, уверена. Мама моя учиться не поленилась, а уж что внучка будет студенткой, я никогда не сомневалась.
Да, уехали. Ты лучше меня помнишь.
Я сначала не думала, что это всерьез. Пусть поговорят, поспорят. А так, что им не хватает?
Да, конечно, слышала. И общество «Память», и на улицах разговоры, и в газетах. Но ведь не хотелось верить. А разве мама моя верила? Или Борины родители? Сестра его младшая, Галя, беленькая такая девочка была, только семнадцать лет исполнилось. Когда их на расстрел повели, она полицая попросила: «Отпустите меня, дяденька, я ведь на еврейку не похожа, не заметит никто».
Нет, он ее сам застрелил. Там почти немцев и не было, одни полицаи.
Боря страшно против отъезда возражал, прямо до крика. «Ничего я не забыл в вашем Израиле! Нищим быть на старости лет, на подачках жить. Я всю жизнь людям отдал», – и партбилет свой, с сорок второго года, достает. Он ведь под Сталинградом вступил.
А людям-то давно не до него, партия развалилась, экономика рушилась, старики как раз первыми и обнищали.
А я сразу сказала: «Хоть в Израиль, хоть на Воркуту. Почему бы не поехать?» Диночку, конечно, тяжело было оставлять, но разве могла я променять трех своих девочек на ее могилу.
Ну конечно, трех. Разве мы не говорили? У меня уже и вторая внученька родилась. И что интересно, думала, старая я совсем, нет уже ни сил, ни сердца на новых детей. А эта малипуська недоношенная так за сердце взяла и меня, и Борю. И главное, она точно в Сонечку, бабушку свою, уродилась. Лет с двух петь начала, рисовать. И все что-то мастерит, мастерит ручками, и так у нее ловко получается.
А что ты думаешь, конечно, необыкновенные. Я объективно говорю. Ну посмотри по сторонам – наши девочки самые красивые…
Ну ладно, дальше так дальше.
Мы в феврале приехали, уже после Бориного инфаркта. Он только тогда и согласился.
Нет, не волновалась. А что мне было терять? Я к девочкам своим ехала. Да и интересно было новую страну посмотреть. Я ведь ни разу за границей не была.
А что сборы? Когда меня при Сталине высылали, на сборы дали два часа. А тут мы спокойно собрались, любимые вещи в посылки сложили. Довольно много посылок получилось, как-никак жизнь прошла, но соседи помогли на почту отвезти, я же всегда с соседями дружила. А мы себе налегке полетели. Боря в парадном костюме с орденами, я в новом зимнем пальто с норочкой – одна пациентка помогла пальто заказать в хорошем ателье, хоть я давно не работала.
Да, смеху было, лучше не вспоминай! Все посылки обратно в Россию вернулись. То ли адрес неправильный оказался, то ли еще какая-то путаница. Так мы и прибыли к детям буквально без штанов. В руках – чешская хрустальная люстра, Боря ее очень любил и побоялся почтой посылать. А сам он почти сутки в парадном костюме просидел, пока наша девочка ему одежду да обувь покупала. Как младенцу – все новое, у него же ни трусов, ни носков сменных не было. А пальто мое еще лет семь в шкафу провисело, новехонько, норочка так и блестит!
Выбросили, конечно, у нас тут зимой восемнадцать градусов.
Гриша? Нет, Гриша остался.
Не потому, что жена русская, она как раз первая соглашалась ехать. Просто он очень боялся перемен – язык учить, работу искать. И войны боялся, у них ведь мальчик рос. Тяжело пришлось, что говорить. Боря очень его жалел, баловал без меры – а тут у самого силы кончились.
Скучает, конечно. Звонит часто.
Ну вот тебе и вся биография.
Про газету? Хорошо, про газету, – и всё. Смотри как поздно.
До трех открыто? Кто же ночью кушает? И эта девочка до трех здесь бегает с подносами?
Ну ладно. Только началось не с газеты, а с письма.
Нет, в феврале мы приехали, а письмо пришло, наверное, в апреле.
Да, приглашение на празднование юбилея. Бориного! А ему действительно только что семьдесят пять исполнилось.
Не знаю, наверное, по каким-нибудь документам.
И вот мэр города и Совет ветеранов отмечают его юбилей.
Да, и ужин, и музыка.
Кто мог представить, что так сложится – в России его забыли, а здесь вспомнили.
А потом уже соседка принесла газету.
Нет, она не говорит. Но муж ее по-русски хорошо понимает. И вот мы видим – статья про Борю, и про Сталинград, и про награды, а сверху – фотография: мэр города ему руку пожимает. Да, конечно, маленький городок, но все-таки мэр…
Вот и стали мы здесь жить.
Да, дождались. И университета, и свадьбы.
Я фотографию эту, где мы с Борей стоим и Сонечка с женихом, всем племянникам послала. И какие же мы там старые!
Знаешь, раньше я думала, что Бога нет. Если бы был, разве б он мне такое устроил с Диночкой? А потом опять стала сомневаться. Ничего, скоро узнаю!
А о смерти я вообще не думаю. Не интересно мне, умру и умру. Но есть у меня мечта. Я правнучку жду. Да, мальчики тоже хорошо, но я все-таки очень хочу девочку.
Я тебе сейчас одну вещь скажу, только не смейся. Я ведь платье твое красненькое сюда привезла. Да, то самое, с вышивкой на груди. Вот, думаю, родится у нас девочка, мы ей и наденем.
Ну что ты. Что ж тут плакать.
Все ты мне вернула, и радость, и веру, и силы жить.
Что ж тут плакать, доченька.
Но в памяти моей…
Но в памяти такая скрыта мощь,
Что возвращает образы и множит…
Шумит, не умолкая, память-дождь,
И память-снег летит и пасть не может.
Д. СамойловГоворят, это всегда был очень красивый город – старая набережная, дворцы, оперный театр. И ведь наверняка гуляли с папой и мамой, спускались к морю по знаменитой лестнице, а запомнился почему-то только двор.
Большущий квадратный внутренний двор. Все соседи сушили там белье. Если встать коленями на стул, а оттуда – животом – на теплый широкий подоконник, можно было хорошо рассмотреть огромные, похожие на флаги белые простыни. «Дура! Флаги бывают только красные!» – сказал Гарик, и пришлось стукнуть его по макушке. Хотя вообще они дружили.
Боже мой, когда она последний раз была в Одессе? Лет тридцать назад. Стояла сырая дождливая зима. Дождь зимой! Она тогда уже отвыкла от подобной странности.
Дружить было легко, они все дружили – мама с тетей Олей, папа с дядей Мишей и даже Андрюша с Леней. Хотя нет, как они могли дружить, когда Леня родился в 39-м, ему еще двух не исполнилось! А Андрюша на год старше. Мама вечно таскала его под мышкой, как куль, а тетя Оля смеялась. Леня был худенький и тихий, тетя Оля сажала его на диван и загораживала подушкой. «Входи, входи, невестушка!» Это она ее так зовет. «Когда свадьбу будем играть?» Смешные люди, эти взрослые. Как же она может выйти замуж за Гарика, когда он маленький? На целый год моложе! А день рождения в один и тот же день! Бывает же такое везение – две молодые семьи в одном доме, и дети почти ровесники – она на год старше Гарика, Андрюша на год старше Лени, – всюду вместе, и дома, и на улице, и на Первомае. Гарик ее всегда слушался, даже соглашался играть в дочки-матери. Она была мама, конечно. «Сегодня банный день, купаться, ой какой грязный ребенок!» Гарик послушно раздевается, совсем раздевается и встает в пустой тазик, она «моет», водит сухой мочалкой по худенькой спине, по ногам. Странно, что никто из взрослых ни разу не зашел. Хотя взрослым было не до них в то лето.
А бабушка не разрешала лежать на подоконнике. Бабушка была похожа на королеву – большая, толстая, в прекрасных широких и длинных платьях. Ее все немного боялись, даже папа. Хотя папа был еще больше. И очки большие, с толстыми претолстыми стеклами. Из-за этих очков папу забрали не на простой фронт, как, например, дядю Мишу, а на трудовой. Но это было позже.
Бабушка приехала на лето, и вот – война. Все женщины плачут, а им с Гариком – трын-трава! Делай что хочешь. Вот только про школу непонятно. Ведь она в эту осень должна пойти в школу, в первый класс, а папа говорит, что они все куда-то уезжают на пароходе. Но до осени еще целый месяц, вполне можно вернуться.
Одесса стоит на море, поэтому на пароходе. Здорово! И тетя Оля с детьми едет. А дядя Миша уже на этом своем фронте. Странно, что она совсем не запомнила, когда он ушел. Мама с бабушкой пакуют вещи, завязывают такие большие узлы. Папа сердится почему-то, а как же можно без вещей ехать? И игрушки не разрешает брать. Ей-то неважно, она большая, а как же Андрюше без игрушек?
Цепи были очень широкие. Наверное, с ее руку. И все переплетены в огромную сеть. На них поставили ящики и стали сажать детей. Взрослые вокруг ужасно кричали.
– Последний пароход? Нет! Последний пойдет вечером, вслед за этим!
– Трап убрали!
– Детей, детей сажайте! Зачем трап убрали?
– Какие билеты?! Подождите!
– Как ждать, когда немцы уже в городе! Автоматчики!
– Все, хватит, сейчас второй раз нагрузим!
Цепь дрогнула и превратилась в огромную люльку, наверное, ее тянул какой-то кран, она не разглядела. У одного мальчика нога подвернулась под ящик и раз – сломалась пополам, как у куклы. Брызнула кровь, целая река крови. Мама схватила ее голову и больно ткнула в свои колени, в платье. «Не смотри, – сказала она, – не смотри!» Платье пахло теплом и домом, стало не так страшно.
Опять появилась сеть из цепей.
– Садитесь, садитесь! – закричал папа.
Мама рванула лежащий сверху тюк, что-то вытащила. Это была скатерть, парадная скатерть, белоснежная, вышитая цветами. Скатерть стелили только по субботам, нельзя было вертеться, и ставить локти, и класть грязную ложку. За ложку особенно попадало. Мама схватила скатерть и бросила на ящики, прямо на отвратительные красные разводы.
– Ноги, – закричала она, ноги поднимай!
Еще бы! Да она задрала ноги к самому небу! Тетя Оля обоих мальчиков держала на руках, а мама только Андрюшу, он и так был тяжелый.
– Мама! – вдруг громко закричал папа. – Мама, я тебя умоляю!
Бабушка стояла внизу, у воды. У нее было совсем белое лицо, прямо как их скатерть. Она отрицательно мотала головой.
– Мама, садись, садись, – кричал папа, – что ты стоишь!
Он, видно, совсем ничего не видел в своих очках. Как могла большая толстая бабушка поместиться на этих ящиках? Папа вдруг скинул пиджак, сдернул с руки часы.
– Товарищи! – закричал он стоящим вокруг матросам и стал совать им часы. – Товарищи, я вас умоляю!
Три самых больших матроса вышли вперед, схватили бабушку, как какой-нибудь мешок, и – раз, два, три – через борт забросили на палубу. На руках у бабушки появились длинные темно-красные пятна. Ящики дрогнули и поплыли, она задрала еще выше немеющие ноги. Бух. Всё! Они были на палубе! И они, и тетя Оля.
А папа стоял на берегу и махал рукой.
И вдруг опять наступила нормальная жизнь. Мама с тетей Олей уложили малышей на палубе, на одеяле – оказывается, один тюк все-таки ехал с ними. Бабушка тихо стонала и трогала посиневшие руки. А они с Гариком стали играть в строителей. Потому что там было очень много досок, на этой палубе. Такие странные, очень легкие доски, а когда она ковырнула одну пальцем, из нее посыпались кусочки. «Это пробка, – сказала мама, – пробковое дерево, им затыкают бутылки. А еще оно хорошо держится на воде, на нем можно даже плавать».
Мама оказалась права. Когда пароход разбомбили, на этих досках долго плавали уцелевшие пассажиры. И многих подобрал другой, самый последний пароход.
Но это случилось ночью, а весь вечер они играли с Гариком, трогали руками дрожащую палубу – под досками что-то гудело. «Слушай, – сказал Гарик и приложил ухо к полу, – мотор стучит». Она тоже прижалась щекой к шершавой пахнувшей смолой палубе. Гарик лежал рядом, его курточка касалась голой руки. Она вдруг вспомнила мальчика со сломанной ногой и заплакала.
Они плыли на корме, а бомба попала в нос, поэтому они только сползли немного к краю и так и лежали, ухватившись за бортик. Андрюша даже не плакал. Меньше всего повезло людям в трюмах, туда сразу налилась вода. А потом подошел другой пароход, тот самый, последний, и их перевели по узкой качающейся доске на другую палубу. И тут она сразу уснула.
Интересно, так хорошо запомнила первый пароход, а про второй – ничего. Как резинкой стерло. Только и помнит, что пароход плыл очень медленно, он тянул еще какую-то баржу, и бабушка сказала маме, что на этой барже заключенные из одесской тюрьмы. И все стоял перед глазами тот мальчик с ногой. Как страшно лилась кровь! «Его вылечили, – сказала мама. – Доктор перевязал ножку, такой крепкой повязкой, и все прошло. Он уже бегает». Непонятно, когда мама успела все разглядеть, но тут и тетя Оля сказала – да, вылечили. Значит, правда. Сразу стало легче.
Сначала говорили, что пароход идет в Новороссийск, но прямо у самого причала он вдруг резко развернулся и опять ушел в море. «Немцы, – шептали женщины, – немцы уже в Новороссийске». Наверное, из-за баржи с заключенными пароход плыл слишком медленно. Интересно, куда их потом девали? В штрафные батальоны? Говорят, они все просились на войну, хотели смыть вину кровью. А что еще было в эти дни? Куда клали раненых? Как они все кормились, четверо малых детей! Нет, не вспомнилось.
Наконец прибыли в Феодосию, все-таки удалось обогнать немцев. Опять было темно. Прямо с палубы перелезли в какие-то телеги, телеги быстро помчались в степь, просто в ушах свистело. Это их увозили от немцев в дальние хозяйства.
А луна была очень яркая, и огромные звезды прыгали над головой. Дома таких звезд не было. Кто послал эти телеги? Кто издал приказ? Может, Одесский горком партии? Так никогда и не узнали.
И вдруг наступил рай, самый настоящий рай, потому что бабушка еще давно рассказывала, что рай – это большой сад, где растут прекрасные цветы и фрукты, поют птицы и льется молоко и мед. Все так и было, может быть, кроме меда. По утрам в саду пели птицы, прямо под ноги падали золотые августовские яблоки и груши. Спали на чистой соломе, застеленной белой холстиной, и утром их будил звон молока о кружки: «Пийти, диты, пийти!» И все это называлось теплым домашним словом Гречишкино. Станица Гречишкино, вот где они оказались.
Но главное – платье! Мама сшила ей чудесное платье. Ведь, честно говоря, одежды никакой не осталось, – последний тюк все-таки пропал вместе с затонувшим пароходом. А хозяйка подарила маме отрез, ярко-красный сатин в мелкий цветочек.
Как звали хозяйку? Все помнила: мягкий говор, молоко, яблоки, округлые руки в ямочках. А вот имени – нет, не сохранилось.
Платье получилось роскошное, в оборках, и еще лоскуток – маме на платочек. И тут рай закончился. Потому что кто-то, опять их тайный спаситель, издал новый приказ – срочно перебираться на станцию и ждать поезда.
Станция была серой и пыльной, хотя уже прошли первые осенние дожди. Они ночевали в маленьком сарае для хранения золы. Прямо посередине лежала гора золы из подсолнечника, оказывается, она была какая-то щелочная и годилась даже для мытья посуды. А они поселились с двух углов – в одном мама с бабушкой и Андрюшей, в другом – тетя Оля с детьми. Каждое утро мама и тетя Оля с малышами на руках шли встречать поезда, но их поезд все не приходил, пробегали только военные, которые назывались эшелоны. Так они и стояли часами, смотрели вслед эшелонам, а она и Гарик тут же играли в камушки, найденные между шпалами. Иногда эшелоны ползли так медленно, что можно было хорошо рассмотреть всех солдат. А некоторые и вовсе вставали и стояли часами, – солдаты бегали за кипятком, рассказывали последние новости с фронта, дарили куски сахару. В какой-то день мама заглянула по привычке в окно такого эшелона и вдруг принялась кричать: «Миша! Миша! Оля, это же Миша!» А тетя Оля ничего не поняла, и никто ничего не понял, и тогда мама сдернула свою красную косынку, сшитую из обрезков платья, и принялась махать, что было сил. Поезд остановился, на землю выпрыгнул настоящий живой дядя Миша, папа Гарика и Лени, и побежал им навстречу. Оказывается, он уже повоевал на своем фронте, был ранен, но очень легко и теперь возвращался в часть. «Как ты догадалась красным махать!» – все восхищался дядя Миша и обнимал маму, и тетю Олю, и даже бабушку. И все смеялись и плакали. Его поезд уходил только утром, и дядя Миша пришел ночевать к ним, в сарай с золой. Мама почему-то взяла Леню к себе, хотя он и пытался плакать, положила рядом с Андрюшей, а им с Гариком постелила прямо на земле. Но в сарае было тепло, они лежали рядом в темноте, и она как старшая обняла Гарика за шею, и он прижался лицом к ее плечу и так сопел тихонечко.
– Мы всегда будем дружить, – шепнула она Гарику на ухо, – давай?
– Давай, – сказал Гарик и еще теснее прижался к ее плечу. А в окно сарая светили огромные тихие звезды, и можно было совсем не спать, и щека Гарика грела сквозь рукав платья.
И были такие же звезды, хотя нет, наверное, она это сейчас придумала, ведь стояла зима, все время моросил дождь. Дождь зимой, надо же! Они брели с Гариком по чужой мокрой Одессе, только теперь уже она прижималась лицом к его плечу, сырой шершавой морской шинели.
– А обещала, что всегда будем дружить, – вдруг сказал Гарик. Он смотрел сверху – ну просто на целую голову выше – и совсем не улыбался.
А утром наконец приехал их поезд, все быстро залезли, мама впихнула заплаканную тетю Олю, Леню с Андрюшей. Бабушка расстелила на нижней полке одно из своих платьев, получилось почти как дома. Впереди их ждала новая земля под названием Казахстан.
Нет, что-то еще было, что-то очень важное и страшное случилось в поезде. Ах да, мама потерялась!
Мама ушла покупать горох. Да, да горох, сразу за станцией хозяйки продавали очень дешево. Всю дорогу кормились чем попало, поезд подолгу стоял на пыльных маленьких полустанках, пили кипяток, смотрели на проходящие назад эшелоны. Иногда удавалось добыть початок кукурузы, пару картофелин. А тут все побежали за горохом. И все успели вернуться, а мама нет.
Поезд тронулся сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, а мамы все не было, и бабушка начала страшно кричать, и тетя Оля кричала, и малыши, конечно, вопили как резаные, а поезд себе бежал, уносил их куда-то без мамы. «Догонит, догонит, – стали говорить женщины, – с санитарным поездом догонит или еще как-нибудь, дорога-то одна!»
Она стремглав бросилась к полке, схватила любимое платье, натянула, путаясь в рукавах. Дверь в вагоне совсем не закрывалась, если стоять на верхней ступеньке и держаться за железную ручку – отовсюду видно. И как это ей пришло в голову? Ах да, наверное, из-за маминого платочка. Бабушка ничего не понимала, бабушка пыталась утащить ее в вагон, даже шлепнула по попе, хотя папа никогда не разрешал бить детей.
Главное было не отпускать руки. Сколько она так стояла? День, не больше, хотя тогда казалось, что страшно долго. Пальцы совсем онемели, но зато перестали болеть. Бабушка сидела на полу и держала ее за ноги. Самое интересное, что мама действительно сразу увидела красное платье.
А горох мама растеряла, пока добиралась на санитарном поезде. Вот это было очень жалко.
Никто их не ждал в этом Казахстане, и никто их не любил. Хозяйка щурила маленькие глаза, громко возила кастрюлями по плите. Ее звали Алтын, вот ведь странное имя! А как звали детей? Нет, не вспомнить. Детей у хозяйки было двое, и у сестры – четверо, сестра в соседнем дворе жила. Вскоре хозяйка совсем переехала к сестре, весь дом им оставила, наверное, не хотела с чужими людьми жить. Мама не любила к ним ходить, а ее часто посылала то спросить что-нибудь, то отнести. Говорили, что муж хозяйкиной сестры пропал, уехал куда-то на лошади и не вернулся. А она-то сама видела, как поздним вечером к дому подъехал человек на коне, и у него было четыре руки! Да-да, четыре, она просто замерла от ужаса. А потом он вошел в дом, а одежду бросил на крыльце, и оказалось, что это рукава фуфайки торчат как руки, – они были чем-то набиты и завязаны внизу. А мама на нее накричала и велела никому не рассказывать. А за что спрашивается?
Все было плохо и непонятно в этом Казахстане. И главное, пропало любимое платье. Мама постирала и повесила на заборе, а утром встали – пусто. Бабушка говорила, что сама хозяйка и взяла, больше некому. Мама потом сшила другое платье, из мешка, совсем некрасивое, но делать было нечего.
Все вокруг были казахи, что тут отличать! И говорили на своем языке, правда, они с Гариком скоро научились понимать. Только один сосед – совсем обыкновенный человек, и фамилия обыкновенная – Кох. У них в Одессе сколько хочешь таких фамилий. Но он почему-то был немец. Сам маме сказал, все дети слышали. «Ты автоматчик?» – спросил Андрюша. А мама рассердилась, хотя чего на него сердиться, он же маленький! Кох был добрый, все время что-то помогал. Он много чего умел, даже поросят лечить.
Это уже позже, когда мама стала работать бухгалтером на молокозаводе, ей подарили бракованного поросенка. Мама решила его вырастить, потому что ей бесплатно давали сыворотку от молока. Они все на этой сыворотке выросли, только от нее животы сильно вздувались, а есть все равно хотелось. А поросенок был какой-то облезлый и маленький, как кошка. И вот Кох научил маму мазать поросенка солидолом от трактора, а потом купать в соде. Он сам и солидол принес. И поросенок стал чистенький такой, гладенький, и вырос быстро. Ему-то сыворотка очень нравилась. Назвали поросенка Борькой. Только казахи Борьку не любили, они ведь свинину не едят, и все его обижали, – то камнем бросят, то обольют чем-нибудь. А однажды швырнули бревном, и у Борьки сломалась нога. Все плакали, даже бабушка, но все-таки выходили, хоть поросенок и остался хромым. Куда его потом девали? Продали, наверное. Бабушка ведь тоже свинину не ела. Да и кто смог бы Борьку есть!
А вот печки Кох не умел строить. Он так маме и сказал, но она его все-таки упросила, – уже зима началась, холода, а у них в сенях хуже, чем на улице. Вот они прямо в сенях и сложили маленькую печку. А через неделю сени загорелись. И как она проснулась, всегда ведь спала как убитая? В сени маленькое окошко выходило, и вот оттуда среди ночи такой веселый огонек показался, – мелькнет и исчезнет, а потом – опять, но посильнее. Она даже не сразу маму разбудила, так интересно было за огоньками наблюдать.
Пока всех детей подняли, пока выскочили, – сени совсем сгорели. А дом целый остался, соседи успели потушить. Как хозяйка на маму кричала! И все про деньги, а ведь денег у них совсем не было. А потом еще пришел какой-то человек и стал спрашивать, кто строил печку. «Немец?» – говорит. А мама как закричит: «Сама, сама я строила, какой немец!» И ведь раньше никогда не врала, что ей вздумалось?
А сени потом мама с Кохом новые построили. Сами и кирпичи сделали. Мама стояла в большом корыте и мешала ногами глину с навозом и соломой, а Кох складывал их этого месива кирпичи, они назывались саман. Все бы ничего, но мама велела им с Гариком навоз носить. Уж больно противно было, да и тяжело в ведре, не поднять. Тогда они стали носить в детском горшке, мама его ставила в сумку, а они несли за две ручки. Это было ничего, никто не видел и не смеялся. А руки потом в речке мыли, глина все хорошо отмывала. Навоз тогда им сильно помогал в жизни, печку топили тоже навозом, только сухим, назывался кизяк. Ух, она его насобирала! Больше взрослых женщин, многие даже не верили.
Вообще у нее много всяких обязанностей было, например, картошка. Мама так и сказала, – ты уж большая, восемь лет, картошка – это твоя забота. Всего шестьдесят кустов, она их каждый день пересчитывала, поливала как цветочки, всю траву вокруг повыдергала. Такой красивый огород получился. А уж урожай! Всю зиму этой картошкой кормились. Сколько они потом с мужем ни пытались на даче картофель разводить, и близко такой урожай не получался. Может, сорт особенный был?
Но это все во вторую зиму, вторая зима намного легче прошла, – и кизяком запаслись, и просом, и сыворотка, какая-никакая, а еда. А первая зима была очень тяжелая и даже страшная. Страшная, потому что заболел Андрюша. У него началось воспаление легких, температура очень высокая, он лежал тихо-тихо, не плакал, совсем не разговаривал. Однажды бабушка поднесла к его губам зеркало, – запотеет или нет. У мамы в сумке было другое маленькое зеркальце, утром, когда все уходили, она, дрожа от ужаса, подносила его к Андрюшиным сухим губам, зеркальце медленно покрывалась белой дымкой. Мама целыми днями плакала. А спас Андрюшу Старый Казах. Это они, дети, его так прозвали.
Старый Казах приходил к бабушке в гости. Он всегда громко топал у порога, широко распахивал дверь, потом садился на табуретку у стола и доставал из кармана камешки. Он всегда носил с собой эти камешки и еще длинную шелковую нитку. Если сильно стукнуть камешками и поднести скрученную нитку, то появлялся огонек, Старый Казах раскуривал большую вонючую папиросу, плевал на нитку и прятал ее в карман. Еще он любил что-то нюхать, высыпал на ладонь и шумно тянул носом. Вокруг лежали поля конопли, но кто это тогда понимал! Еще Старый Казах резал кур. Женщины со всей деревни носили к нему кур, и ее мама раз послала, и она хорошо видела, как он быстро тюкнул по куриной шее большим ножом, а потом подставил стакан и выпил набежавшую кровь.
Мороженая тыква – вот чем вылечили Андрюшу!
Старый Казах резал тыкву большим ножом на полоски, а мама вкладывала эти полоски в Андрюшин горячий ротик. И он жадно сосал, а до этого никакой еды не брал, даже губ не разжимал. Откуда Казах взял тыкву? Наверное, запасали с лета, откуда им, городским жителям, было знать!
Вообще там были совсем другие лакомства, не те, что она помнила из Одессы. Например, иван-чай. Колючая шкурка легко снималась, а ствол был такой сочный, сладкий, они сосали его целыми днями. Еще лучше корень солодки. Но самое вкусное – жареное просто. Хозяйка с сестрой жарили просо на большой плоской сковородке, просеивали через сито, потом толкли в муку в большой штуке, похожей на ступу. Запах стоял такой, что ноги сами несли к их крыльцу. Все вчетвером молча стояли за порогом, даже Леня понимал, что входить нельзя. Хозяйкина сестра молча зачерпывала горячее просо большой ложкой и не улыбаясь насыпала каждому в горсть. Горсти они тут же тщательно вылизывали. Потом сколько раз пыталась приготовить дома, – покупала на рынке просо, жарила на сковородке потихоньку от мужа, нет, ничего похожего не получалось!
Где был в это время Гарик? Да, тут и был, они же в одном доме жили, тетя Оля всю зиму хворала, а они с Гариком за малышами смотрели. Андрюша после болезни стал меньше Лени и все сидел, так они его приспособили картошку перебирать – большую в суп, а мелкую – на ее будущий огород. Ничего, Андрюше даже нравилось. А Гарик был мечтатель. Все время придумывал разные истории, то он бандитов выследил, то клад нашел, то рыбу огромную прямо руками поймал. Он только ей рассказывал, и она никогда не смеялась, хотя думала про себя – ну, какие бандиты! Но самая главная история была про то, как они возвращаются в Одессу. Всегда получалось, что это какой-то сказочный город, с большого корабля выходит моряк с кортиком, и это и есть он сам, Гарик, а на берегу его встречает жена. Понятно, кому отводилась роль жены, их и так все время женихом и невестой звали, но ей почему-то становилось обидно, самой хотелось плавать на большом корабле и ходить с кортиком, хотя она и плохо представляла, что это такое.
«Женщинам не положены кортики», – важно говорил Гарик. – «А пионеркам положены, – нагло заявляла она, – и я раньше тебя пионеркой стану. А ты не знаешь, потому что читать не умеешь».
Это был ее главный козырь, потому что еще весной она начала учиться. Мама вдруг спохватилась: «Господи, такая дылда, девятый год, а ни читать, ни писать не умеешь!» Сначала писать было очень трудно, потому что карандаш все время ломался и скоро стал маленьким огрызком, совсем не удержать. И еще он скользил по журналу, она ведь на старых журналах писала, мама их нашла в клубе. А потом Кох сделал ей настоящее перо. Он так и сказал: «Великий поэт Пушкин писал гусиным пером, вот и ты пиши!» Перо очень хорошее оказалось, на кончике расщеплено, так что чернила не стекали. А чернила они с мамой из глины делали. Глина в овраге была совершенно красного цвета, только водой разведи – и пожалуйста: чернила! Даже красиво получалось – красные строчки между черными журнальными. Правда, когда вода высыхала, строчки совсем бледные становились, но все равно видно.
А Гарик учиться не хотел, целый день торчал на речке. Правда, он плавал очень хорошо, не то что она – бултыхалась у самого берега, как чурка. А один раз чуть совсем не утонула, вдруг песок ушел из-под ног, ни крикнуть, ни вздохнуть, и Гарик далеко уплыл, не видит. Схватилась за висящую ветку, тянула, тянула, наглоталась воды по самое горло, но как-то выбралась. С тех пор совсем в речку не залезала, так за всю жизнь и не научилась плавать.
– Я всегда за тобой не успевал, – сказал Гарик. – Всегда, всегда ты была первой, ты даже меня первая поцеловала, помнишь? И все у тебя лучше получалось. – Нет, ты плавал лучше, – возразила она. – Да я же специально тренировался! Знаешь, ты только не смейся, я ведь мечтал, что ты когда-нибудь тонуть начнешь. По-настоящему! И я тебя вытащу. – Ты и тогда опоздал, – засмеялась она, – я сама вылезла.
В конце весны тетя Оля родила девочку. – Вот радость-то, – приговаривала мама, – вот Мише-то какой подарок! – Но радости большой не было, все это понимали, потому что совсем нечего было кушать. Девочка плакала целыми днями, даже не плакала, а так, пищала, как котенок. – Пей, пей сыворотку, – уговаривала мама тетю Олю, но сыворотка не помогала, все-таки тетя Оля была не Борька!
И тут ее пригласили работать в колхоз. По-настоящему, за трудодни! Именно ее, никакой ошибки, председатель колхоза так и сказал: кызымка подойдет, а ведь кызымка – это значит девочка. Работа не слишком сложная – возить в поле воду и продукты. На быках. Там все на быках возили, а они спокойные, если, конечно, не дразнить, и дорогу хорошо знают. Раньше один парень ездил и с собой братишку маленького брал, Джартайку, но он в армию ушел. А быки к этому Джартайке привыкли. Вот председатель и сказал: «Посадим с ним большую девочку, вдвоем справятся».
Гарик завидовал ужасно, даже разговаривать с ней перестал, а ничего хорошего в этой работе не было. Очень страшная оказалась работа. Когда в поле ехали, еще ничего, они с Джартайкой даже песни пели, он веселый был хоть и маленький, пять лет всего. А на обратной дороге начинало темнеть, особенно ближе к осени, и тогда вокруг телеги собирались тусклые огоньки, это были волки. Они с Джартайкой просто тряслись от страха и быков пытались подгонять, но напрасно, быки волков не боялись и шли себе потихонечку. Взрослым хорошо, они в заднем конце арбы железный лист ставили и солому поджигали, сразу все волки разбегались. Но им строго-настрого запретили про огонь думать. Да и спичек ведь не было. Мама говорила, что это не волки, а шакалы, они на людей не нападают, а на быков тем более. Но, видно, мама ошибалась.
Однажды какой-то зверь, пусть даже и шакал, выпрыгнул из кустов и куснул быка за заднюю ногу. Вот тут начался ужас! Этот бык заревел и рванулся вперед, а второй упал, арба накренилась и встала. И все, наступила темнота. Как они выли с Джартайкой, вспомнить тошно, и все ближе, ближе подбирались огоньки, и все чернее становилась ночь. И тут из темноты выехал человек на коне. Несмотря на ужас, она его сразу узнала, это был хозяйкиной сестры муж. А дальше – провал, опять все забыла, как тогда на пароходе. Вроде он их на лошади вез, и утро уже наступило, и какая-то чужая женщина крикнула так громко: «До чего же мы дожили, кошки – и то своих детей жалеют!»
И при чем здесь были кошки?
Так и закончилась ее работа. А человека того вскоре арестовали. Он оказался дезертир. И еще зерно с поля воровал. Но бабушка его жалела и даже плакала.
Осенью тети-Олина девочка умерла. Они ее сами похоронили, вырыли ямку за деревней, завернули в белую простынку. Простынку дала хозяйка Алтын. Леню не взяли, все равно он мало что понимал, а Гарик молчал всю дорогу и вдруг у самой ямки весь посинел как-то и задрожал, глаза закатились, и ей показалось, что он тоже сейчас умрет. Мама с тетей Олей несли девочку и ничего не замечали, и тогда она схватила его за руки, стала трясти за воротник, целовать синие щеки. Ничего, отошел, наверное, просто испугался. А вечером приехал дядя Миша.
У дяди Миши одна нога была деревянная, но самое странное, что сзади торчала его собственная нога, только согнутая. Оказалось, его ранили в колено, нога перестала разгибаться, и ее хотели отрезать, но дядя Миша не согласился, пусть уж лучше торчит. Они потом потихоньку бегали смотреть, как дядя Миша натягивает штаны, такие дураки были, вспомнить стыдно.
С приездом дяди Миши жить стало легче, только он все о девочке горевал: ни зачать по-человечески, говорил, ни похоронить. Она хотела спросить, что это – зачать, но потом решила, что не надо.
И как-то она прозевала, когда они собрались уезжать. Всегда все замечала, мама еще ругала за любопытство, а тут как гром среди ясного неба – дядя Миша возвращается в Одессу. Конечно, со всей семьей. Война еще шла, но Одессу освободили, они все по радио слышали. Гарик, глупый, придумал, что она с ними поедет. Сразу видно, что маленький. Как она могла без мамы поехать! Да еще папа куда-то пропал на своем трудовом фронте, совсем письма не приходили.
Так они и уехали. Мама с тетей Олей почти не попрощались, наспех, все были уверены, что скоро встретятся. А Гарик ей на время свой ножик подарил, шикарный самодельный ножик.
– Когда приедешь, – сказал, – отдашь обратно. Она не обиделась, она знала, что ему не ножика жалко, просто он хочет, чтобы они скорее встретились. Все тетю Олю провожали, и Кох, и Старый Казах, а Алтын даже заплакала. И конечно, никакое платье она не брала, зря бабушка придумала.
А вскоре они и сами уехали. Их дядя забрал, папин брат, он недалеко, на Алтае, в эвакуации был, с заводом. Просто он раньше думал, что они на том пароходе утонули, а потом через дядю Мишу и нашел. Дядя за ними приехал на машине, все ужасно обрадовались, только странно было видеть, как он все бабушку обнимал и твердил «мама, мама», будто не взрослый человек, а малыш какой-нибудь, вроде Андрюши. Дядя же им рассказал, что Одессу снова немцы захватили, и вся семья дяди Миши пропала, может, успели куда-то уехать, а может, и нет.
Горевала ли она? Наверное, не очень. Мала была, да и слишком много несчастий накопилось. Папа не возвращался. А еще двух бабушкиных детей, дочку и сына, убили в Киеве, в районе со звонким названием Бабий Яр. Мама очень много работала, школа началась, жили они тесно – все в одной комнате, дядя сделал двухэтажные нары, так и спали. Потом и дядя уехал, вернулся в Москву вместе со своим заводом, и бабушку забрал. А комната им досталась. Мама работала на заводе, скоро ее повысили в должности, переехали в комнату побольше, а потом даже в двухкомнатную квартиру. Уже понятно было, что никуда они с этого места не тронутся. Она вступила в комсомол, все мечтала уехать учиться в большой город, но как-то не собралась. Да и у них в городке был хороший политехнический институт. А вскоре вышла замуж за спокойного доброго человека, техника с электростанции, родился сын. Смешно сказать, очень ей хотелось сына Гариком назвать, но назвала, конечно, по папе – Александром.
Папа умер в январе 42-го, но они узнали только после войны, от папиного товарища по трудовому фронту. Их послали на станцию, грузить вагоны. Условия были очень тяжелые, и еды почти никакой, всё отправляли на настоящий фронт, вот папа и решил пойти ночью в город и обменять простыню на хлеб. У него была личная простыня, из дому, но какой в ней прок, если они из-за холода прямо в пальто спали. Папа себя считал самым здоровым, там ведь все белобилетники были, – у кого язва, у кого ноги больные, а он только видел плохо. В город он дошел нормально, и хлеб выменял, а на обратном пути заблудился и замерз. Может, очки потерял, а может, просто темно было. Так его с хлебом и нашли, хлебом и помянули.
Это надо же, никогда газеты не любила читать, а тут открыла и сразу наткнулась: «Лауреаты премии Ленинского комсомола. Г. М. Зенюк за документальные фильмы “Морская душа” и “Острова”».
– Мама, – засмеялась она, – а вдруг это Гарик? Он же моряком хотел стать, и сочинял здорово, и инициалы подходят. Может, в газете знают? Там и адрес указан – Отдел пропаганды Гостелерадио СССР, и телефон. Может, позвонить?
– Да, – ответили в телефонной трубке – есть такой, Зинюк Георгий Михайлович, морской офицер. Только он сейчас в отпуске. В Одессе.
– Мама, – закричала она, – я еду! Что хочешь, а я еду, это же раз в жизни такое бывает!
За дверью стоял дядя Миша, настоящий дядя Миша, почти и не постарел. Но самое удивительное, он стоял на двух ногах, без всякой деревяшки!
– Ох, я с этой ногой намучился, – засмеялся дядя Миша. – Каждый год нарывала, и все гной тек, неделями не спал. А однажды вместе с гноем вытек осколок, и нога разогнулась! Так-то!
Комната была очень нарядной, с коврами и пианино, приятно посмотреть, но она сразу потянулась к окну. Такой низкий подоконник, у самых колен, и двор внизу – тесный узкий… Но простыни все-таки висели. Белого цвета, «как флаги», вспомнила она и засмеялась радостно.
Тетя Оля, конечно, принялась плакать: «Деточка! А мы-то вас искали! Невестушка наша!» Хороша невестушка, тридцать лет, сын в первом классе!
– А Гарик все не женится, – вздохнула тетя Оля, – погуляет, погуляет и к нам возвращается, разборчив очень.
Гарик, вот кто изменился! Огромный дядька в морской шинели, никогда бы не узнала. Но все такой же мальчишка и фантазер. Срочно ему надо было ей Одессу показать – ночью, под дождем! Они шли по мокрой набережной и вспоминали Старого Казаха, иван-чай, жареное просто. Он все крепче сжимал ее ладони, и это все меньше походило на безобидную встречу двух старых друзей.
– А почему ты не женишься? – спросила она. – Разборчив очень?
– Нет, не очень, – вздохнул он, – просто никто из них не жалеет меня так, как ты.
– А я твой ножик привезла! – вспомнила она. – Ты ведь мне на время подарил.
И тогда он принялся обнимать ее, обнимать прямо на набережной, хорошо хоть, дождь шел и шинель мешала.
– Оставайся, – бормотал он, – оставайся насовсем, прошу тебя!
– А еще шинель надел! – вздохнула она. – А сам как был мальчишка, так и остался. У меня сын, ты про это забыл? И вообще, я ведь замужем. Ты знаешь, сколько развод стоит?
– Я всегда за тобой не успевал, – сказал он не улыбаясь. – Ты всегда была первой. И все делала лучше.
– Ты лучше плавал, – возразила она.
Дождь лил все сильнее, совсем как в мае, и казалось, что сейчас появятся первые листики на деревьях, зацветут цветы. Но это, конечно, только казалось.
Через месяц она получила телеграмму: «Деньги на развод выслал. Сына выращу». Нет, он все-таки был совсем мальчишка!
Она написала ему длинное доброе письмо, что все понимает и очень его любит как близкого человека, как любимого братишку. Но уже прошла целая жизнь, у нее хорошая семья, новая квартира, интересная работа. Она любит этот город, здесь настоящая зима, дома занесены снегом, а на центральной площади построили ледяной замок. И она ничего не хочет менять, да и ему это не нужно, так, детские воспоминания.
* * *
А что она могла написать? Что хочет только одного – вернуться, вернуться туда, в мокрую прекрасную Одессу, где призрачная залитая зимним дождем набережная, и тишина, и сырая колючая шинель у щеки, и высоко над головой его незнакомое родное лицо. И можно забыть, забыть навсегда всю эту жизнь без него, всю эту тоску, службу, покупки, скучную квартиру в новостройке, пустые вечера… Весь этот безликий, ненужный, промерзший по самые крыши город.
В стиле ретро
Это совершенно правдивая история. Просто она произошла очень давно. Так давно, что сегодня, в нашем стремительном строго организованном времени, кажется нелепой, невзаправдашней и даже смешной. И обстоятельства кажутся смешными, и проблемы, и поступки участников всех тех событий. Хотя самим участникам наверняка было не до смеха, более того, они ужасно переживали, мучились и даже страдали. Потому что человек живет и страдает в своем времени и своих обстоятельствах, а не в какой-то объективной реальности.
А может, эта история не смешная, а просто незатейливая? Ну конечно, незатейливая! Никаких в ней нет общественных проблем, например, или значительных фигур, или, тем более важных исторических событий. Даже неудобно писать такое длинное вступление к такой незатейливой истории, но лучше честно предупредить утомленного и занятого собственным делами читателя, что его не ждет ничего особенного.
Но если рассказ начался, и мы с первых строк заговорили о времени, то придется уточнить, что дело было вскоре после войны. Хорошо, может быть, не сразу после войны, лет десять прошло, а то и больше, – Сталин к тому времени уже умер и продуктовые карточки отменили, но вот исторического разоблачения бывшего горячо любимого вождя еще не случилось. И реабилитации многих граждан, жестоко и поспешно названных врагами народа, тоже не случилось, и врачей продолжали считать вредителями и убийцами, как это ни дико звучит для современного уха. Но жизнь, конечно, текла по своим вечным законам, молодость расцветала и ждала любви, дети бежали в школу, жены стояли в очереди за продуктами, покупали абажуры и шифоньеры, мужчины добросовестно читали газеты, спешили на утренний троллейбус, боролись за успешное завершение пятилетнего плана. И даже война немного поблекла в памяти и уступила место простым ежедневным заботам.
Обозначив время, конечно, нельзя не сказать и о месте действия. А местом, волею судеб, оказался маленький подмосковный городок, а еще точнее – очень небольшой и незначительный механический завод. Там всего-то человек сто работало на этом заводе, каждый – на виду, а женщин и вовсе считай что не было, смешно сказать – двенадцать на весь коллектив: девять в цеху да три в заводоуправлении!
И конечно, все сразу заметили появление новенькой. К тому же она была красоткой. Настоящей красоткой, как в кино, с огромными черными глазами и целой шапкой темных кудрей, рассыпанных по плечам. Ах, если бы только кудри, но ведь был еще наряд! Весь женский коллектив заводоуправления, а надо заметить, коллектив хоть и небольшой, но очень достойный, о чем речь пойдет впереди, так вот, весь женский коллектив тихо ахнул, глядя на тугую черную юбочку до колен, и даже, кажется, с какими-то разрезами по бокам, и такой же черный жакет, подхватывающий талию и легкие бедра. Но главное – свитер! Ярко-красный свитер с высоким роскошным воротом так ловко подчеркивал стройную шею и круглый подбородок, что Витька Филькин аж присвистнул от восторга. И пусть Витька слыл известным всему заводу бабником, это ничего не меняло, красота есть красота.
Конечно, невольные зрители не могли догадаться, что шикарный костюм новенькой сотрудницы перешит из бывшей военной формы отца, перелицованной и перекрашенной в черный цвет, а затейливый фасон почти точно скопирован из замечательного и редкого в те времена заграничного фильма. Со свитером было еще проще. Свитером служила довоенная мамина кофта, одетая задом наперед, так что пуговицы застегивались на спине (что, после небольшой тренировки, было минутным делом), а ворот скреплялся сзади на шее английской булавкой, совсем незаметной под рассыпанными кудрями. На вид красавице было лет двадцать, от силы двадцать два, но она уже успела окончить техникум, настоящий московский техникум, и прибыла на завод по распределению на должность замначальника цеха. А еще через пару месяцев, когда начальник инструментального цеха Петрович окончательно запил и был без шума уволен «по собственному желанию», Алла, или Алла Семеновна, как строго величал ее директор завода, и вовсе стала заведовать этим самым цехом и, кстати, справлялась довольно шустро, так что сотрудники вскоре привыкли к ее молодости и несерьезному для такого дела облику. Из уважения рабочие цеха тоже вскоре стали звать новую начальницу Семеновной, как звали раньше легко позабытого бедолагу Петровича, что ж – в каждом времени свои привычки и свое уважение, смейся не смейся. Хотя, придется признать, буквально в том же месяце у красавицы появилось и другое имя, даже, скорее, не имя, а прозвище, и говорилось оно в рифму, как и полагается прозвищу, а именно – Алла с Урала. Сей поэтический опус принадлежал, конечно, Витьке Филькину, который сразу получил от Аллы Семеновны полный категорический отказ на все свои ухаживания, и теперь ничего другого ему не оставалось, как дразниться и придумывать прозвища.
А ничего обидного в новом имени и не было! Алла Семеновна действительно много лет прожила на Урале, куда занесло ее вместе с родителями еще в войну, то есть совсем в детском возрасте, так что прежней Москвы она и не помнила вовсе и москвичкой себя не считала. Завод после войны решено было оставить на Урале в целях дальнейшего развития отдаленных районов страны, а родители, которые оба работали на эвакуированном заводе, папа – инженером, (правда, с небольшим перерывом на службу в ополчении), а мама техником в плановом отделе, так вот, родители тоже решили остаться и не искать новых забот, тем более что завод им предоставил отдельную двухкомнатную квартиру. А в Москве у папы и мамы была узкая длинная комната в огромной, на десять семей коммуналке, где они жили вместе с маленькой Аллой, еще более маленьким ее братишкой и бабушкой, папиной мамой, спавшей в той же комнате за толстой серой ширмой. Эта бабушка, надо сказать, обладала характером очень независимым и даже вредным, от эвакуации отказалась категорически и осталась единственной хранительницей вышеописанной комнаты.
К тому времени, когда Алла подросла, и встал вопрос о ее дальнейшем образовании и проживании, родители дружно решили отправить дочь в родную столицу. Предполагалось, что бабушка в своей теперешней старости и немощности будет просто счастлива принять и прописать взрослую внучку, а впоследствии и оставить ей жилплощадь в Москве. Но бабушка, хотя и прописала Аллу, но большой радости не высказала, дряхлеть и тем более умирать совсем не собиралась, а вместо этого завела себе друга сердца, длинного, лысого как огурец старика по имени Яков Соломоныч. И вот наша героиня, пусть и оказалась вновь жительницей столицы, но как-то сбоку припека, и, честно признаться, с грустью вспоминала свой Урал и подолгу не засыпала за пресловутой ширмой под грозный храп лысого Соломоныча.
Женский коллектив заводоуправления в составе, как уже говорилось, трех сотрудниц пригляделся, посовещался и раскрыл объятия новому начальнику цеха, тем более девушкой она оказалась скромной и приветливой, а боевой наряд и прическа скорее служили маской ее природной застенчивости, чем отражали характер. Так что на обед в столовую они стали ходить уже вчетвером, что было и веселее, и гораздо удобнее, потому что можно было занять целый отдельный столик и спокойно побеседовать на разнообразные и милые сердцу женские темы.
Конечно, по справедливости давно пора перейти к описанию остальных трех участниц этого «женского стола», но мы все-таки начнем со столовой, и вы скоро убедитесь, что она заслуживает отдельного повествования.
Вы можете не поверить, но в те далекие и небогатые времена столовая нашего завода представляла собой почти шикарное помещение: над входом, рядом с портретом Ленина, красовалось живописное панно с лужайками и цветущими деревьями, аккуратные столики на четырех человек были накрыты настоящими белыми скатертями, а в центре каждого столика стояла вазочка со скромными, но тоже настоящими живыми цветами. Вероятно, такая роскошь объяснялась отсутствием еще не изобретенных в то время пластиковых покрытий и синтетических клеенок, но какое это имеет значение! Конечно, для заказа обеда согласно скромному и слегка однообразному меню нужно было постоять в очереди и пробить чек в кассе, но поднос с тарелками уже приносила официантка в белом передничке и наколке на пышно взбитых по тогдашней моде волосах.
Заметим, что столовая принадлежала не только заводу, вернее, она совсем заводу не принадлежала, а была как бы общим непроизводственным объектом в пользовании строительно-монтажного управления, расположенного по соседству, и еще двух небольших фабрик, что в данном случае к делу не относится. А «руководящее звено» упомянутого завода с незапамятных времен приходило в столовую на обед то ли по особой договоренности с начальством управления, то ли в силу дружеских или просто соседских отношений. Благодаря управлению, хозяйству богатому и прочному, появились официантки, и цветы на столиках, и прочие необязательные, но приятные мелочи. Главное, все эти подробности не только радуют сердце рассказчика, но и имеют прямое отношение к нашей истории, которая и началась в вышеописанной столовой при самых, казалось бы, будничных обстоятельствах. Но теперь мы просто не имеем права не поговорить о других женщинах, сидящих с Аллой за столиком.
Старшей и по возрасту, и по положению была, несомненно, Галина Васильевна Ляхова, главный бухгалтер завода и председатель местного комитета. Галина Васильевна, женщина далеко не молодая, лет сорока семи или даже пятидесяти (что в глазах Аллы не имело разницы), родилась она еще в начале века и даже успела немного поучиться в дореволюционной женской гимназии, но саму революцию помнила плохо и была воспитана целиком в духе победившего социализма. К моменту нашего рассказа два взрослых сына Галины Васильевны несли положенную службу в рядах Советской армии, тихий интеллигентный муж Иван Андреевич Ляхов большой заботы не требовал, и все сердце деятельной главной бухгалтерши принадлежало родному предприятию, и в особенности его местному комитету. Без Галины Васильевны не только не распределялись изредка залетавшие на скромный завод путевки в санаторий, но и не двигались другие, более будничные дела: проводы на пенсию, разборы в товарищеском суде, субботники и коллективные походы на майскую демонстрацию. Не говоря уже про совершенно новый, с иголочки, заводской детский садик, открытый прошлой осенью! Конечно, на основную работу времени оставалось мало, но и там всегда сохранялся порядок, потому что Галина Васильевна могла полностью положиться на свою коллегу, рядового бухгалтера завода, но совсем не рядовую женщину – Раечку Зыренко.
Раечка родилась на свет, чтобы покорять мужские сердца. Это было понятно даже самому ненаблюдательному человеку, стоило взглянуть на Раечкины бездонные голубые глаза, пухлый нежный рот, который так чудесно менял очертания от легкого каприза до полной обещаний улыбки, на всю ее складную кругленькую фигуру. К сожалению, в судьбу Раи вмешалась история. Нет, не наша незатейливая история, а История глобальная, сломавшая не одну жизнь, и не одно поколение людей, а именно – Вторая мировая война. Те самые мужчины, которым полагалось жить и радоваться Раечкиной красоте, бесконечными страшными рядами ушли на фронт, и большинство из них никогда не вернулось обратно. А те, кому посчастливилось вернуться, что греха таить, обратили взоры на более юных невест, чудом сумевших расцвести в эти голодные жестокие годы. На Раечкину долю остались одинокая чистенькая комната, скромная должность бухгалтера на неприметном заводе да страстная надежда на простое женское счастье. И пусть годы стремительно летели, рождались новые дети и подрастали новые невесты, но надежда все не покидала Раечкину трепетную душу.
Описание третьей героини требует от автора особой точности и деликатности. И не потому, что речь пойдет о рядовом, но важном члене коллектива – секретаре директора. Дело в том, что между директором завода Синельниковым Иваном Никитичем и его личной секретаршей Соней Вербицкой сложились особые отношения, которые сегодня можно было бы назвать неформальными. Но названия такого в описываемые времена еще не существовало, поэтому придется прямо сказать, что Соня была любовницей директора. Только не надо судить поспешно! Ведь даже Галина Васильевна, женщина высоконравственная, относилась к сей непростой ситуации с пониманием и сочувствием.
Когда-то, много лет назад, в первый месяц войны, восемнадцатилетняя Соня провела единственную и поспешную ночь с чудесным мальчиком Алешей Соломатиным, одним из первых призывников их класса. История, в дальнейшем многократно рассказанная в советских послевоенных фильмах. Но в отличие от фильмов, где после страданий и разлук герои обязательно встречались под громкую прекрасную музыку большого оркестра, Соня никогда больше не встретила Алешу Соломатина и только через полгода после его гибели получила пересланную Алешиной мамой похоронку. Сама мама в том же месяце погибла при бомбежке и вовсе не узнала, что в апреле 42-го года, в чужом и голодном Казахстане, у нее родилась внучка, крошечная солнечная девочка с распахнутыми, как у Алеши, глазами, будто специально созданными для радости и удивления. А еще через два года девочка заболела полиомиелитом, как раз тогда была большая вспышка этой инфекции. Вот, собственно, и вся предыстория. Соня вернулась в Москву с девочкой-инвалидом в колясочке, про учебу в институте оставалось забыть навсегда, еще повезло, что устроилась секретаршей на завод.
Иван Никитич Синельников, человек совсем немолодой, возможно, даже ровесник Галины Васильевны, был давно и прочно женат, занимал ведомственную квартиру, имел служебную машину и взрослую замужнюю дочь. То есть опять-таки ситуация как в послевоенных фильмах, но там, по сценарию, директору полагалось мучиться и страдать от своего ложного положения, разрываться между любовью и долгом, а Синельников, надо признаться, совсем не мучился. Он любил Соню и был откровенно безбрежно счастлив. Соня, несмотря на красоту и особое свое положение, на работе держалась скромно и отстраненно, как и положено настоящей секретарше, никогда не смешивала служебные отношения с личными и, главное, тоже любила Ивана Никитича, любила ненавязчиво и нетребовательно, как умели любить только осиротевшие послевоенные вдовы. У нее была уютная однокомнатная квартира, полученная не без помощи профсоюзного начальства, но совсем не из-за внимания директора, как можно было подумать, а благодаря Катеньке, дочке.
Катенька, тихая, худенькая девочка с безнадежно изуродованными ногами, но большая певунья и умница, училась в интернате для детей-инвалидов. Интернат – один из многих примеров заботы партии и правительства о детях, оказался спасением для девочки – никто там ее не дразнил, не удивлялся хромоте и костылям, все ученики этого интерната либо родились инвалидами, либо перенесли полиомиелит или костный туберкулез.
Соня забирала дочку на выходные, а целую неделю жила одна, Иван Никитич приходил вечерами, часто прямо с какого-нибудь совещания, клал красивую седеющую голову на Сонины колени, целовал молодые тонкие ее руки. Они мало разговаривали, иногда Соня рассказывала о Катиных успехах, а Иван Никитич – про какой-нибудь смешной случай в райкоме. Он привозил для Катеньки красивые дорогие шоколадки из райкомовского буфета, а самой Соне смешные милые подарки – то набор носовых платочков, расшитых цветами, то вазочку для конфет, то звонкий хрустальный колокольчик. Перед женой директор большой вины не чувствовал, она давно привыкла к их взаимной отдаленности, интересовалась больше зарплатой мужа, чем его успехами или неудачами, часто проводила вечера у дочки.
Постойте! Мы, кажется, слишком отклонились от основной темы нашего повествования и нашей главной героини, которая как раз сейчас сидит в той самой столовой в обществе уже знакомых нам женщин и, поджидая официантку с обедом, обсуждает с Раечкой немыслимо модную в этом сезоне юбку-колокол.
Вид у подошедшей официантки был какой-то странный, будто праздничный, и в руке она держала большой плотный конверт.
– Вот, велели передать, – многозначительно произнесла официантка и положила конверт напротив Аллиной тарелки.
– Кто?! – дружно спросили все четыре женщины.
– Один человек! – таинственно прошептала официантка. – Видите столик у окна? Вот там и ищите!
Четверо мужчин за столиком у окна как по команде раскланялись и заулыбались, приветственно помахав руками. Алла вспыхнула, Раечка нервно хихикнула. Галина Васильевна, как старшая и наиболее серьезная, решительно надрезала конверт обеденным ножом. На стол выпали красиво напечатанные пригласительные билеты в Дом культуры строительно-монтажного управления.
– Интересное и необычное приглашение, – констатировала Галина Васильевна, тщательно рассматривая билеты с обеих сторон. – Оказывается, люди еще умеют красиво ухаживать! Ах, только посмотрите – показ кинофильма, буфет, танцы, – где мои молодые годы! Кстати, я знакома с одним из тех товарищей, – она указала на самого старшего из сидящих у окна мужчин, – это бухгалтер управления, немного тугодум, но человек вполне порядочный. А остальных – нет, не знаю. У них недавно сменилось руководство, возможно, кто-то из новых инженеров?
Алла исподтишка взглянула на загадочную четверку. Красивый широкоплечий брюнет с темными чуть на выкате глазами, вихрастый парень в клетчатой ковбойке, невысокий мужчина со вздернутым носом и упомянутый бухгалтер с аккуратно зачесанными на косой пробор волосами.
– Новые времена, новые нравы, – улыбнулась демократичная Галина Васильевна. – Аллочка, вероятно, вам самой предлагают выбрать спутника на вечер.
– Тут и думать нечего, – опять вспыхнула Алла и решительно протянула второй билет сидящей рядом Раечке. – Интересно, какой будет фильм, вдруг с Орловой? Я ее просто обожаю!
Однако вечером, лежа за ненавистной ширмой, Алла вновь и вновь возвращалась к эпизоду в столовой. Кто, кто из четверки придумал это приглашение? Молодой парень казался немного простоватым, курносый мужчина какой-то невзрачный, пожилого тугодума-бухгалтера даже не стоило обсуждать! Оставался брюнет, но он выглядел слишком легкомысленным, наверняка бабник и любитель легких побед.
Как вы уже поняли, наша героиня была девушкой ответственной, да и воспитание в те годы требовало от женщины большей строгости в поведении, чем в наше неразборчивое время. Но не будем спешить с выводами и насмешками. Ведь, что ни говори, прогресс в обществе часто объясняется чисто техническими причинами. Посмотрели бы мы на современных прелестных и свободных женщин, легко меняющих возлюбленных согласно велению души или прихоти настроения, если бы их перенести в те суровые годы, когда не только не существовало волшебных таблеток против нежелательного ребенка, но даже такое мерзкое и неугодное Богу средство, как аборт, было запрещено. Но не стоит больше о грустном и неприятном, ведь наш рассказ, как вы уже, наверное, догадались, пойдет о любви.
Конечно, смешно предполагать, что Алла Семеновна, красавица и дипломированный специалист, не имела никакого любовного опыта. Еще в девятом классе вниманием юной, но уже прелестной Аллочки завладел шикарный морячок, сосед и бывший выпускник ее же школы. Морячок, прочно овеянный ветрами широких просторов и дальних странствий, приехал на побывку, как в известной тогда песне «на побывку едет молодой моряк…» (да простит меня читатель за постоянное обращение к произведениям массовой культуры, но ведь из песни, как из жизни, слова не выкинешь), и, конечно, появление красавца в белой форменной робе и бескозырке стало незаурядным событием в мирном уральском городке. Морячок, как и предполагалось, простаивал одиноко и неприступно на городской танцплощадке, девчонки, как и положено, краснели и вздыхали, уже пошел слух, что у красавчика есть зазноба по месту службы, но события в городке резко разошлись с упомянутой песней. Потому что неожиданно для всех и даже для себя самого, храбрый покоритель морей отчаянно, как пацан, влюбился в нашу юную героиню.
В то сказочное лето соловьи пели особенно упоительно и луна сияла огромным праздничным фонарем, когда он провожал Аллочку после танцев, бережно укрыв ее тонкие плечи настоящим морским бушлатом. Будь Алла Семеновна постарше, а побывка подлиннее, может, и случился бы серьезный большой роман, но долг и обязанности развели наших героев в разные края – он вернулся служить Родине, она уехала учиться в столицу. «Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону…»
В московском техникуме, конечно, тоже не обошлось без поклонников, особенно один, Димка Прохоров, все ходил за Аллочкой, провожал до дома и даже лез целоваться, но он был толстоват и неуклюж, разве в такого можно влюбиться! К тому же Алла постоянно чувствовала себя провинциалкой, да и дома как такового не было, не пригласишь ведь гостей, пусть того же Димку, в общество бабушкиного Соломоныча. И вот теперь, уже засыпая, она представляла себе то чудесного ласкового морячка (которого уж и не помнила почти, так – сказочный образ), то нескладного Димку, то незнакомцев из столовой, дружно машущих рукой.
«Ах, если бы пригласительный билет послал не вихрастый парень и не скучный мужчина с носом, а тот прекрасный глазастый брюнет! Как хочется верить и любить!»
Фильм оказался глуповатым, якобы из жизни передовиков производства, но все передовики не столько трудились, сколько пели и плясали в чистеньких нарядных спецовках – ни тебе простоев, ни пьянства! В буфете стояла длинная очередь, причем за самым обыкновенным лимонадом. Но, главное, никого из знакомых они не встретили! Правда, в какой-то момент в толпе мелькнул гладко причесанный бухгалтер, но, заметив откровенное разочарование на Аллочкином лице, быстро удалился. В зале заиграла музыка, приглашая к танцам.
– Уходим, – твердо сказала Алла, стараясь не глядеть на погрустневшую Раечку. – Еще не хватало стену подпирать на их танцах! Посмотрим, что будет дальше.
События не заставили себя долго ждать. Прямо на следующий день сияющая официантка принесла и поставила напротив Аллы цветы в большой стеклянной банке.
– От кого?! – хором выдохнули женщины.
Официантка заговорщицки подмигнула:
– Не велели говорить! Пусть сама догадается.
– Ерунда какая-то, – Алла резко обернулась, пытаясь разглядеть из-за спины Сони уже знакомую нам четверку. – Может, они просто насмехаются?
Галина Васильевна степенно взглянула на столик у окна, задумчиво покачала головой.
– Нет, девочка моя, не думаю. И лица у них добрые, и цветы уж больно хороши, с любовью подбирали. Нет, я уверена, ваш поклонник – нерешительный человек, только и всего. Романтик!
Два дня прошли без приключений, если не считать мелкой аварии в цеху и первой весенней грозы, а на третий официантка, которая, по-видимому, стала чувствовать себя одним из главных персонажей романтической истории, с важным видом положила перед Аллочкой огромный газетный кулек. Из тут же развернутого на глазах всей столовой кулька бордовой россыпью хлынула на стол отборная черешня. И это в конце апреля! Официантка ахнула, лицо Раечки пошло красными пятнами, даже Галина Васильевна была поражена, и только Соня сдержанно улыбалась чему-то своему. Сидящие за столом у окна с повышенным вниманием «изучали» содержимое тарелок, только парнишка в ковбойке незаметно подталкивал в бок бухгалтера и восторженно крутил головой. Алла быстро сунула слегка сопротивлявшейся официантке горсть черешни, остальные ягоды разделила на равные порции – Рае, Соне и Галине Васильевне.
– Вы отмечайте наступающее лето, – сказала она бодро – а я побежала, конец месяца – план горит!
В ближайший четверг с самого утра к нашей героине (а она и вправду начала чувствовать себя героиней) подошел Коля Ягодкин, парнишка-ремесленник из второй смены. Он немного напоминал Аллиного младшего братишку, особенно в своей форменной тужурке.
– Семеновна, – сказал Коля, косо глядя в окно и старательно вытирая тряпкой темные руки, – ты на футболе была когда-нибудь?
– Нет, – улыбнулась Алла, – как-то не пришлось.
– У меня билет лишний, – вздохнул Коля, – приятель заболел. Может, выручишь?
Алла даже обрадовалась, хотя никогда не любила футбол. Признаться, все последнее время ее постоянно охватывало неясное волнение, она невыносимо скучала вечерами в тесном бабушкином мирке, душа ее рвалась и стремилась. Куда, к кому?
– Вот и отлично, – сказал Коля и протянул узкий серый листок – седьмой ряд, левая трибуна, прямо там и встретимся.
– Подожди, я тебе деньги отдам за билет!
– Потом отдашь, – вдруг страшно заторопился Коля, – меня сменщик убьет за опоздание!
Незадолго до начала матча толпа вынесла Аллу к узкому выходу из метро «Динамо». (Да, дорогие друзья, как ни трудно представить, стадиона Лужники еще вовсе не существовало!) Искать дорогу не пришлось, все двигались в одном направлении, левая трибуна тоже сразу нашлась, и Алла стала озираться в поисках Коли. Нет, вы не поверите! В седьмом ряду вместо ожидаемого Ягодкина сидела, дружно улыбаясь растерянной Аллочке, вся наша четверка в полном составе. Она невольно отметила, что рядом с единственным свободным местом расположился глазастый брюнет, но вдруг он встал, шепнул что-то курносому своему соседу и поменялся с ним местами. Все стало понятно. Значит, ради курносого и затеяли представление, а глазастый, конечно, был главным организатором, не зря он сразу показался ей таким несерьезным!
– Глупо! – шепнула она своему невольному соседу. – И Колю учите обманывать, а еще взрослые люди!
– Да, глуповато, – смущенно улыбнулся курносый, – но ведь иначе вы бы не согласились прийти.
Что ж, он был по-своему прав, еще не хватало приходить на футбол в такой компании!
Алла незаметно рассматривала соседа. Невысокий, совершенно взрослый мужчина, лет тридцати если не больше, в скучном сером костюме, светлые волосы коротко подстрижены, на курносом носу мелкие веснушки. Нет, совсем-совсем неинтересный. И ростом маловат, наверное, не выше ее самой.
– Как вас зовут? – шепнула она.
– Владимир, – обрадовался мужчина, – а это Гриша, – он кивнул на брюнета, – Леша и Павел Иванович. Он хотел еще что-то сказать, но только махнул рукой.
Матч уже начался, трибуны качались, как живые волны в такт перелетающему мячу. «Надо хоть посмотреть, раз пришла», – решила Алла, все-таки не выпуская из поля зрения своих непрошеных соседей. Глазастый брюнет поощрительно улыбался Владимиру, Леша был полностью поглощен игрой, даже не оглядывался, за ним виднелась аккуратно зачесанная лысина бухгалтера. Да, вся история затеяна ради курносого, какая жалость!
Стояли последние дни апреля, темнело поздно, поэтому никакой особой необходимости провожать Аллу после матча не было, о чем она и заявила своим новым знакомым со всей определенностью.
– Аллочка Семеновна! – заулыбался долговязый Гриша. – Обижаете! Чтобы мы бросили в одиночестве девушку, которую сами же пригласили! Нет, мы не будем сопровождать вас всей толпой, раз вы не хотите, но кто-нибудь один просто обязан!
Он подтолкнул вперед Владимира и, обхватив за плечи Лешу с бухгалтером, отступил в сторону метро.
Ну что тут было сказать?
Они молча шли по узкому переулку к бабушкиному дому. Просвечивали первые звезды на темнеющем небе, теплый ветер колыхал новую юбку-колокол, так удачно купленную у Раечкиной знакомой портнихи, но и небо, и звезды казались ненужными и невозможно скучными.
Морячок обычно провожал ее до подъезда, потом еще немного стояли под деревьями, ждали, пока стрелка пересечет цифру 9, позже мама не разрешала возвращаться. Он горячо дышал, целовал холодные, синие от чернил пальцы, шептал чудесные слова. «Солнышко, ласточка, сокровище мое! Я женюсь на тебе! Отслужу и женюсь, вот увидишь! Никуда тебе от меня не деться!» Алла смеялась, закинув голову, звездное небо кружилось, теплый мягкий бушлат закрывал ее почти до колен и сладко пах табаком.
И зачем она уехала в этот дурацкий техникум?!
– Вам холодно? – спросил Владимир и неловко набросил ей на плечи свой пиджак. Пахнуло чужим резким запахом одеколона. Как ни смешно, пиджак был в самую пору, даже чуть коротковат.
– Нет, нет, – Алла торопливо сняла пиджак, – мы уже почти пришли. Лучше расскажите про ваших приятелей, Кто они, кем работают?
– Замечательные люди, – Владимир растерянно вертел пиджак в руках. – Григорий – парторг, старый проверенный друг, еще с войны. Представляете, он там и женился, на войне, на самой красивой нашей медсестре. Уже второй ребенок на подходе! – Владимир все-таки натянул пиджак, неловко застревая в рукавах. – А Леша – технолог. Это он на вид такой молодой, а на самом деле очень ответственный человек, строительный техникум с отличием закончил. Кстати, тоже скоро женится, в конце мая. Одни мы с Пал Иванычем – старые холостяки!
– Ну, вы не такой уж старый, – вежливо сказала Алла.
– Скоро тридцать два, – вздохнул Владимир. – Пушкин «Евгения Онегина» дописывал в этом возрасте, Ленин партию возглавил, газету «Искра» издавал…
– Пришли! – с облегчением воскликнула Алла. – Ну, я побежала, бабушка ложится рано!
На следующий день она взяла с собой на работу большой бутерброд с сыром. Последний день перед праздниками, в цеху аврал, ничего удивительного, если она не придет в столовую.
На майскую демонстрацию отправился почти весь завод. И ничего, что пришлось праздновать не в столице, а в маленьком городке при станции, все равно получилось замечательно весело, играл духовой оркестр, заводские комсомольцы несли транспаранты, сбоку, на тротуаре, продавали горячие пирожки с капустой и повидлом. На площади расположилась мороженщица с большим белым лотком. Вот красота! Алла обожала мороженое – и пломбир, и сливочное, и даже самое простое, фруктовое, за шестьдесят пять копеек.
Вечером вдруг объявился Димка. Он работал по распределению где-то под Тулой, но на праздники решил проведать старых друзей. Вместе бросились обзванивать ребят, как хорошо, что соседи по квартире были заняты предпраздничными хлопотами и не сердились, что она занимает телефон! Многие однокурсники, конечно, разъехались в «далекие края», техники и механики везде требовались, но человек восемь удалось собрать. Как на счастье, бабушка с Соломонычем отправились на праздники к его племяннице в Мытищи. Алла нарубила капусты, как еще мама любила – с постным маслом, луком и моченой клюквой, отварила огромную кастрюлю рассыпчатой всеми любимой картошки, веером разложила на тарелке докторскую колбасу – чем не праздничный стол! Ребята принесли дешевое сладкое вино и лимонад, казалось, они опять студенты, целый вечер дурачились и хохотали, вспоминали анекдоты про лекторов, пели почти забытые песни. Неужели молодость пролетела? Так быстро и безвозвратно пролетела? И теперь Аллу ожидает только общество Галины Васильевна и Владимира?! А как же любовь, волнения, свидания?
Что это она распсиховалась? Ведь ничего плохого не случилось, весна, праздники. Можно сшить к лету новое платье, только заранее поискать подходящий ситец. Нет, не ситец, а настоящий крепдешин! И в новом платье пойти на какой-нибудь замечательный вечер или концерт. И кто-то родной и близкий возьмет за руку и поведет за собой, и будет радостно и совсем не страшно. Конечно! Все только начинается, и, возможно, завтрашний день окажется самым прекрасным и удивительным!
Нет, зря Алла так надеялась на завтрашний день! Как всегда после праздников в цеху начались проблемы. Во-первых, двое главных выпивох, Шевченко и Назаров, не вышли на работу, что, конечно, было не удивительно, но все равно неприятно. Во-вторых, вылетело электричество, почти час цех простоял в темноте, зато план горел огнем. А ближе к обеду подкатился Витька Филькин с новым известием:
– Семеновна, запчасти не отгрузили! Транспорта нет. Нужно попросить у соседей, строителей, чтобы дали машину. Так что иди к главному инженеру.
– А почему к главному инженеру? – удивилась Алла.
– А я почем знаю! – заворчал Витька. – Сказали, начальнику инструментального цеха подойти к главному инженеру управления!
Думать было особенно некогда, благо, как мы уже упоминали, строительно-монтажное управление находилось буквально в том же дворе. Алла торопливо пробежала вдоль незнакомого коридора, рассматривая таблички на дверях: «Бухгалтерия», «Отдел кадров»… О, вот! – «Главный инженер. В. Б. Ковригин». Что, так и заходить? Могли бы секретаршу завести, что ли, а еще богатая организация! Она сердито постучала в нужную дверь, но ответа не последовало, хотя в комнате явно кто-то был и даже играло радио. Господи, какая нелепая ситуация! И почему главный инженер занимается транспортом?
Она решительно распахнула дверь и… остолбенела. За столом в том же сером костюме сидел Владимир и напряженно смотрел на дверь. Увидев Аллу, он смущенно улыбнулся и встал ей навстречу. Значит, Владимир и есть главный инженер В. Б. Ковригин?! С ума сойти! И ни разу не заикнулся о своей должности, Пушкину завидовал. Получается, за ней ухаживает серьезный большой начальник?! Да, мудрая Галина Васильевна, как всегда, оказалась права. Только лицо у него все-таки очень невзрачное. И нос какой-то детский. И рост…
– Это, конечно, очень неумная шутка, – Владимир запнулся и вздохнул как двоечник у доски, – но ничего другое не пришло в голову. Боялся, что вы опять не придете в столовую. А по поводу машины для запчастей не беспокойтесь, – добавил он поспешно, – машина уже отправлена.
– Это судьба! – Галина Васильевна от волнения даже отложила ложку. – Поверьте мне девочки, просто судьба, которая одаривает раз в жизни! Главный инженер, и такой милый интеллигентный человек, и так деликатно ухаживает. И ни разу не был женат, не думайте, я уточнила у сведущих людей!
– Вот только разница в возрасте, – вздохнула Раечка, – какие эгоисты эти мужчины! Хоть в тридцать, хоть в пятьдесят, все им подавай двадцатилетних.
– Возраст не самое страшное, – тихо вступила в разговор Соня, – если человек любит и жалеет. Зато будешь избавлена от рая в шалаше.
– А может быть, я хочу именно рай? – обиделась вдруг Алла. – Пусть и в шалаше, но рай!
– Вы еще совсем ребенок, – заулыбалась Галина Васильевна, – ничего, жизнь лучший учитель.
Все три Аллочкины собеседницы дружно кивнули и почему-то пригорюнились.
– Но вы же не рассказали главного! – воскликнула Галина Васильевна. – Что было дальше? Он что-то говорил, объяснялся, приглашал на свидание?
– Ничего особенно, – покраснела Алла. – Пригласил в оперетту. И сказал, что будет ждать после работы. На служебной машине.
Все три слушательницы только руками всплеснули.
Тут надо рассказать еще об одной детали, не менее важной для нашей истории, чем описание столовой. Дело в том, что и завод, и строительно-монтажное управление размещались у самой станции в ближнем Подмосковье, так что единственным и, надо сказать, вполне удобным транспортом для всех сотрудников была пригородная электричка. (Теперь-то этот район давно находится в черте города, и даже не на самой окраине, но из-за плотных утренних пробок кажется еще более отдаленным и недоступным.) А в то время все, буквально все работники завода, в том числе и Галина Васильевна, ездили на завод утренней московской электричкой с Белорусского вокзала. И почти так же дружно после трудового дня коллектив отбывал к месту проживания, не считая нескольких заводских везунчиков (включая и секретаршу Соню), которые получили квартиру в недавно построенных у станции домах.
Надо ли говорить, что не менее половины работников нашего скромного, но достойного предприятия, наблюдали, как у проходной завода остановилась служебная машина стройуправления и сам главный инженер поспешно выскочил, чтобы распахнуть дверь автомобиля юной начальнице инструментального цеха. Правда, машина была не очень новая, видавшая виды «Победа», но разве это имело хоть какое-то значение!
Через пару дней весь завод знал, что за Аллой с Урала ухаживает Ковригин Владимир Борисович, молодой перспективный главный инженер. За обедом в столовой царило явное оживление: Галина Васильевна чувствовала себя настоящей именинницей, Раечка, восторженно ахая и не скрывая белой зависти, расспрашивала о подробностях последнего свиданияи и даже сдержанная Соня одобрительно улыбалась. Алла кивала, добросовестно отчитывалась о походе в оперетту, отвечала на дружные приветствия столика у окна.
Но по правде говоря, вечер получился совсем неудачным. Во-первых, она долго не могла придумать наряд – ни одно из ее двух выходных платьев не смотрелось без каблуков, но не хватало оказаться на полголовы выше своего кавалера, поэтому пришлось смириться и надеть старенькие полуботинки с грубыми шнурками. Во-вторых, хотя места у них были очень хорошие, в седьмом ряду партера, прямо перед Аллой уселся толстый длиннющий дядька, загородив лысиной полсцены. Будь Алла одна, она бы запросто перебралась в темноте на свободное кресло, но мыслимо ли прыгать вдвоем с главным инженером по чужим рядам?! В-третьих, Владимир пригласил ее в буфет, но почему-то выбрал не бутерброд с сыром и даже не слоеный язычок, который Аллочка любила со школы, а темное и жесткое как подметка миндальное пирожное. Пирожное стоило намного дороже язычка, но оказалось жутко невкусным, неужели он не знал заранее? Так и запомнилось из всей оперетты – Владимир упорно молчит, а она мучительно жует приторную клейкую массу, вежливо улыбаясь и пряча под стол ноги в безобразных полуботинках.
Домой возвращались на метро, обсуждали перспективы развития завода, у самого ее дома Владимир вдруг спросил грустно:
– Вам было совсем не интересно?
– Нет, нет, почему, – заторопилась Алла, – я очень люблю оперетту, такая веселая постановка, и поют хорошо, и танцуют.
– Поют? Допустим, да, поют. Трудно спорить. А хотите, пойдем в оперу? Станем слушать настоящую прекрасную оперу в прекрасном исполнении, в Большом театре, хотите? Прямо на этой неделе?
– На этой неделе? – переспросила Алла, лихорадочно подсчитывая в уме дни до получки.
«Можно купить на низком каблуке, но хотя бы лодочки. Нет, раньше следующего понедельника не успеть! И просить деньги у Раечки невозможно, ей без того обидно…»
«Нет, ничего не получится, – тихо вздохнул про себя Владимир, глядя на ее растерянное лицо. – Разве может молоденькой красивой девушке понравиться такой старый пень, да еще с болячками и комплексами? Пошлая дурацкая затея! И раньше не получалось, а уж теперь, на четвертом десятке…»
Надо сказать, Владимир считал себя страшно невезучим человеком, хотя на самом деле ему в жизни везло, причем довольно часто, но везение это было какого-то странного свойства. Сегодня модные во всем мире астрологи и прочие толкователи судеб назвали бы его «везением на последний момент», но, конечно, член коммунистической партии Владимир Борисович Ковригин даже слов таких никогда не слышал. Правда, если задуматься, это определение довольно точно отражало его биографию. С самого детства крупные и мелкие неудачи сыпались на круглую, коротко стриженую голову юного Ковригина, но в самый последний момент, благодаря случайному событию или стечению обстоятельств, Володя успешно выходил из тупиковой, казалось, ситуации, причем иногда даже оказывался в выигрыше.
Надо отметить, этот сомнительный дар Владимир получил по наследству от матери, директора районной библиотеки, Любови Дмитриевны Тарновской.
В неполные семнадцать лет Люба Тарновская вступила в марксистский кружок, увлеченная страстными речами чубастого рабочего агитатора. Сверкая мрачноватыми синими глазами и захлебываясь от гнева, он клеймил жестокий царский режим, и, смеем предположить, именно эти глаза и пленили юную трогательную Любочку, а вовсе не разоблачение самого режима, который лично ей, дочери почтенного профессора словесности и потомственного дворянина, не сделал ничего плохого.
Еще неизвестно, как бы продолжилась сия романтическая история, но ровно через месяц после вступления Любы в революционную борьбу весь кружок арестовали по доносу мелкого и никчемного провокатора. И вот тут впервые проявило себя Любино везение, впоследствии плавно перешедшее к ее единственному сыну. Через два часа после ареста подозреваемую Тарновскую, единственную из всех незадачливых марксистов, без всяких объяснений отпустили домой. «По малолетству» – как значилось в протоколе, хотя не исключено, что здесь также сыграла роль крупная сумма ассигнаций, принесенная в участок онемевшим от ужаса Любиным отцом. В тот же вечер Любу отправили в загородное имение, причем не отцовское, а тетки со стороны матери, чтобы даже фамилия не напомнила стражам порядка о неудавшейся революционерке. Впоследствии оказалось, что эта скромная и скучная деревенская усадьба сберегла Любу и от повторного ареста, и от грянувшей вскоре революции, и от сыпняка, который страшной зимою 1918 года в одну неделю скосил маму и папу в их нетопленом питерском доме.
В том же году летом, после экспроприации теткиного имения крестьянами, Люба вернулась в Петроград, в навеки опустевшую квартиру. И вот когда казалось, жизнь ее сломана безвозвратно и ничто хорошее уже никогда не может случиться, бесцельно бродившая по городу безвестная и никому не нужная гражданка Тарновская наткнулась на митинг у Зимнего дворца. Слов страстного худющего оратора было не разобрать за шумом ветра, но Люба и не нуждалась в словах. Она бы из тысячи тысяч узнала эти синие единственные глаза, все так же неукротимо горящие из-под поредевшего и побелевшего чуба!
…Они не расстались в тот день и впредь почти не разлучались, не считая коротких поездок комиссара Ковригина на продразверстку да Любиного недельного пребывания в роддоме, где и появился на свет юный Владимир Ковригин, названный в честь раненного врагами революции и уже смертельно больного вождя. Вскоре Бориса Ковригина перевели в Москву, на важную работу по линии Коминтерна, а Люба устроилась в библиотеку при райкоме. Происхождение ей простили за участие в подпольной революционной борьбе.
Казалось, все беды и несчастья миновали навсегда. Сын рос умным хорошим мальчиком, муж занимал ответственный пост, в уютной комнате горел абажур и скромно прятались за стеклом буфета тонкие старорежимные чашки – светлая память родителям и ее невозвратному, невозможному как сон детству.
Но мирным летом 1935 года грянула беда – единственный, родной ее Ковригин вдруг страстно влюбился в задорную хорошенькую комсомолку с подшефной фабрики и, сгорая от стыда и раскаяния, но нескрываемо ликуя синевой глаз, полных молодых страстей и желаний, ушел из Любиной жизни. И никто не мог сказать тогда сразу постаревшей Любови Дмитриевне, что горькое странное везение сберегло ее от надвигавшегося 37-го, когда комиссара расстреляют, как и всех прочих коминтерновцев, и молодая разлучница (а вовсе не бывшая жена) получит 15 лагерных лет по печально известной 58-й статье. Про библиотекаршу Тарновскую никто и не вспомнил, ее даже вскоре повысили в должности.
Первое время Любовь Дмитриевна очень боялась за сына, порывалась сменить ему фамилию, но так и не решилась, опасаясь привлечь к себе внимание. А потом началась война, Володю, к тому времени студента-второкурсника, призвали в армию, и никакая фамилия теперь не была важна, только бы вернулся живой и невредимый!
Надо ли говорить, что в свои юные годы Владимир уже познал горечь невезения. И плавал он неважно, и по воротам мазал, а к волейбольной сетке и вовсе не приближался в силу малого роста. В довершение, в кружке любителей поэзии, куда он по совету матери прилежно ходил с шестого класса, начисто забраковали все его стихотворные опыты, так что мечты об ИФЛИ пришлось оставить навсегда. С расстройства Володя подал документы в не слишком модный тогда технический вуз, и сразу был зачислен за очень короткое и оригинальное решение экзаменационных задач. Ни он сам, ни Любовь Дмитриевна, в силу полного незнания предмета проглядевшая блистательные способности сына в математике, конечно, не знали, что это просто набирает силу их потомственное везение.
Участие в войне тоже обернулось для Владимира сплошным огорчением. По дороге на фронт, не проехав и трети положенного пути, Ковригин слег с пневмонией, которая при всей своей банальности чуть не стоила ему жизни. Ничего удивительного, если вспомнить, что в те далекие времена антибиотики еще только вызревали в пробирках скромного лаборанта Флеминга. Болезнь осложнилась тяжелым нагноением легочной оболочки с поэтическим названием эмпиема, и вместо борьбы с немецкими захватчиками Володя почти полгода провалялся в тыловом госпитале с градусником подмышкой и противными режущими трубками, торчащими прямо из левого бока. Его даже хотели комиссовать, но молодость все же взяла свое, гной вытек, и трубки наконец исчезли, оставив на коже круглые втянутые рубцы. Кстати, эти рубцы вполне можно было выдать (например, любимой девушке) за боевые ранения, да еще в область сердца, но, к сожалению, Владимир совершенно не умел врать.
После выписки его признали ограниченно годным к воинской службе и как будущего инженера направили в отдаленную техническую лабораторию, связанную с разработкой нового оружия. Служба оказалась по-своему интересной, Володя, неожиданно для всех ввел остроумные и дельные изменения в уже готовые схемы, получил одобрение начальства и даже правительственную награду, но очень скромную, близко не дотягивающую до блистательных медалей нового сослуживца и друга Гриши Стороженко.
Гриша, заядлый сердцеед и коренной пролетарий, как и Володя, попал в лабораторию из госпиталя, но после настоящего боевого ранения под Сталинградом. К тому же на фронте был не рядовым бойцом, а политруком роты, и такая замечательная биография вызывала у беспартийного «сына врага народа» Ковригина искреннее восхищение. В свою очередь, Гриша быстро оценил непостижимый технический талант приятеля, а также его цепкую память, работалось с Ковригиным поразительно легко, Владимир радостно делился идеями и брал на себя самые сложные расчеты (и в том и другом Гриша был слабоват). Кроме того, руководство однозначно одобряло их дружбу, одним словом, «они сошлись – вода и камень…» и после победы решили не расставаться и продолжить учебу на одном факультете.
Как вы уже поняли, подобное решение оказалось разумным и плодотворным. Бывший политрук и герой войны вскоре после окончания вуза получил должность парторга управления и тут же предложил на должность ведущего, а потом и главного инженера старого товарища, который по его настоянию и рекомендации уже давно вступил в партию и убрал из автобиографии предателя-отца. В результате, к обоюдному удовольствию друзей, производственные задачи выполнялись успешно и в срок, а сам главный инженер всегда оставался в тени, предоставляя лавры парторгу.
Теперь, по мнению Гриши, оставалась самая малость – наладить Ковригину семейную жизнь. Конечно, в первую очередь он желал другу счастья, но и в райкоме намекали на неуместное для главного инженера положение холостяка, и собственная жена Тамара, сумевшая-таки обкрутить Гришу рождением ребенка и тут же закрепившая статус второй беременностью, так вот Тамара не выносила (как и любая нормальная жена) свободных друзей мужа и давно грозилась прекратить «все эти дружбы и кобелиные гулянья».
Ковригин и сам тяготился затянувшимся одиночеством, и Любовь Дмитриевна давно мечтала о внуке, но ничего путного в его романтической жизни не складывалось.
Главная беда заключалась в том, что Володе всегда нравились очень красивые девочки. И это при его росте и невыразительной внешности! Уже в школе он понял полную безнадежность своего положения. Еще хуже обстояло дело в кружке поэзии, где шумные молодые дарования были на голову выше него и в прямом, и в переносном смысле. Но наибольшее огорчение ждало нашего героя на первом курсе, когда он отчаянно и безнадежно влюбился в первую красавицу их группы, факультета да и, наверное, всего института Марину Рогозину.
Ничего подобного с Володей раньше не случалось. При одном появлении Марины вся жизнь вокруг обретала слепящие волшебные краски, непонятный восторг переполнял душу, но тут же накатывало ужасное отчаяние. Потому что любому пню понятно, что никогда, абсолютно никогда чудесная красавица не посмотрит на нелепого коротышку из своей же группы! Был бы он аспирантом или хотя бы выпускником! Володя тупо бродил за Мариной по коридорам института, заходил в буфет, даже стоял в очереди за пирожками, хотя и куска бы не смог проглотить в ее присутствии. Каждое утро он приходил к дверям вуза за час до занятий и, прячась за колонами, ждал появления знакомой фигуры в скромном темно-зеленом пальто, загораясь надеждой и умирая от ужаса, что Марина не придет. Была какая-то неизъяснимая прелесть в ее редком имени, длинной темной косе, прозрачных серых глазах, так что самые наглые парни терялись в присутствии Рогозиной, и признанные факультетские красавицы с их модными стрижками под Любовь Орлову безнадежно меркли. Но как был бы удивлен и потрясен восемнадцатилетний Ковригин, если бы узнал, что именно на него Марина смотрела с интересом и явной симпатией, потому что Володины поразительные успехи в учебе, а также особая, полная деликатности и достоинства манера общения с товарищами и преподавателями (вероятно, унаследованная от профессора Тарновского) казались ей необычайно привлекательными.
А дальше, как можно догадаться, грянула война, уезжая на фронт, Володя даже не решился попрощаться с Рогозиной, только спрятал на груди блеклую фотографию группы, где во втором ряду слева можно было разглядеть при особом старании Маринино прекрасное лицо. Но и фотография затерялась во времена его странствий по госпиталям с проклятой эмпиемой. После победы, как мы уже знаем, Володя перешел в другой институт, поближе к приятелю Грише, Марину он не искал, говорил себе, что после стольких лет и бед она все равно не вспомнит невзрачного однокурсника. Но на самом деле одна ужасная мысль, что Марина могла не пережить войну, как не пережили многие знакомые, одна эта мысль обдавала таким холодом, что легче было не думать и не знать!
Конечно, к тридцати годам Ковригин накопил собственную историю знакомств и мелких увлечений, однажды он даже чуть не женился на маминой сотруднице, библиотекарше Леночке, тем более маме очень нравилась эта идея, а сама Леночка была мила, деликатна и явно влюблена в Володю. Но в том же году, случайно оказавшись в Крыму по горящей райкомовской путевке, он вдруг завел сумасшедший молниеносный роман с одной отдыхающей, красавицей по имени Эльвира. Несмотря на ужасное имя, Эльвира безусловно затмевала всех его знакомых женщин, не говоря о скромной серенькой Леночке, была легка, раскована и потрясающе целовалась. Володя чуть сознание не терял от бегущих одна за другой безумных сжигающих ночей, пустынный темный пляж пугал шорохами и криком чаек, полотенце быстро отсыревало на холодном песке, так что приходилось крепко обниматься, чтобы согреться. Соседи по комнате дружно завистливо хихикали, когда он еле живой плюхался под утро в кровать и блаженно засыпал до позднего жаркого полдня. Казалось, сама судьба сделала за Володю выбор, но за день до окончания путевки Эльвира честно призналась, что имеет хорошую крепкую семью и ничего в своей жизни не планирует менять. Дружески расцеловав потрясенного Ковригина и подарив ему на прощанье ожерелье из ракушек, она быстро собралась и укатила к законному мужу, ответственному работнику главка.
Эта, в общем-то, банальная история имела роковые последствия не только для Леночки, с которой Володя больше никогда не встречался, но и для него самого. Воспитанный Любовью Дмитриевной на лучших произведениях российской словесности, высокой духовности и морали, несчастный Ковригин никак не мог развязаться с презренной земной страстью и уже год пребывал в мрачном одиночестве под дружное осуждение матери и верного Гриши.
Конечно, идея женить Володю на юной красотке Аллочке принадлежала Грише. На вялое сопротивление друга он отвечал гневными тирадами довольно одинакового содержания, так что их беседы в знаменитой столовой выглядели следующим образом.
– Нет, ты скажи, она тебе не нравится?! – возмущенно вопрошал Гриша, опытным мужским взглядом окидывая стройную Аллочкину фигуру и роскошные волосы.
И Владимиру приходилось признаваться, что, да, конечно, нравится, любому нормальному человеку нравятся молодые красивые женщины.
– Тогда, может быть, ты женат, обременен кучей детей и просто для развлечения собираешься подло обмануть бедную девушку?
И опять Владимир признавал, что совершенно не собирается обманывать бедную девушку, тем более подло и для развлечения.
– Тогда, может быть, ты импотент? – зловещим шепотом выдыхал верный политрук.
Владимир мучительно морщился, вспоминал безумные ночи с коварной Эльвирой, прятал под столом дрожащие руки… Нет, импотентом он определенно не был.
На этом аргументы с обеих сторон обычно заканчивались, и Гриша, при активной поддержке технолога Леши и обстоятельного бухгалтера, переходил к разработке дальнейшей стратегии и тактики ковригинского романа.
Поход в Большой театр все же пришлось отложить до лучших времен, более-менее подходящие лодочки нашлись в Пассаже только через неделю после намеченного числа. Владимир вежливо выслушал историю о внезапной бабушкиной болезни.
На лодочки ушла приличная часть Аллочкиного аванса, но сожалеть особенно не приходилось, – намечалось следующее очень серьезное мероприятие, свадьба технолога Леши, на которую она была приглашена вместе с Ковригиным. Правда, вначале возникли определенные препятствия и сложности с этой свадьбой, потому что Леша жил в дальнем пригороде, в позднее время никакие электрички оттуда не ходили, а оставаться ночевать в незнакомом доме Алла категорически отказалась. Служебной же машиной Ковригин в нерабочее время воспользоваться не мог и совершенно не понимал, как воспользоваться не мог и совершенно не понимал, как решить этот вопрос.
Но верный Гриша не дремал и тут же нашел выход, а именно – предложил пригласить Аллу вместе с какой-нибудь из подруг, чтобы девушки могли вместе дождаться у Леши первой электрички и вернуться в Москву, благо торжество намечалось на субботу. Рая Зыренко не заставила себя долго упрашивать, она уже давно томилась от противоречивых и смутных чувств, где радость за младшую подругу смешивалась с горькой завистью и обидой на несправедливую судьбу. И хотя в данном случае ей доставались лишь отголоски чужого праздника, все-таки лучше хоть что-то, чем полная пустота.
Нет, если бы Алла знала, что свадьба окажется такой неинтересной, ни за что бы не поехала! Жених Леша и его невеста в совершенно некрасивом, в сплошных оборочках, цветастом платье сидели где-то далеко, на другом конце стола, так что их почти и не было видно. Незнакомые шумные люди много ели и пили, выкрикивали неприличные тосты, потом пошли плясать нетрезвым хороводом. Владимир почти все время молчал или начинал рассказывать о производственных новостях, Гриша скучал под строгим присмотром беременной жены и к ним почти не подходил. Но, главное, пропала Раечка! Алла хорошо помнила, что Раю посадили в дальнем углу, рядом с бухгалтером Павлом Иванычем, как коллег по работе, но когда она вскоре оглянулась, ни подруги, ни бухгалтера за столом не оказалось, и только незнакомая толстая женщина на Раином месте с завидным аппетитом ела винегрет. Прошли два беспокойных томительных часа, прежде чем подвыпивший благодушный Леша наконец вспомнил, что у Раечки разболелась голова и она уехала последней электричкой, кажется, в сопровождении того же Павла Ивановича.
Алла совсем растерялась, ей было жалко и Раечку, которой выпало страдать, да еще в обществе скучного бухгалтера, и себя, одинокую и чужую на ненужном затянувшемся празднике, и, особенно, новые лодочки, никем не замеченные. Гости вразнобой тянули песню про любовь-разлучницу. Уже принесли последние пироги с вишнями, на запасном столе у окна громоздились грязные тарелки, полные окурков.
– Давайте уйдем, – шепотом сказал Владимир.
– Давайте! – впервые за вечер повеселела Алла.
Они вышли на темную спящую улицу. Было совсем тепло, сквозь черноту ночи дымкой просвечивали цветущие яблони. Владимир взял ее за локоть, но как-то неловко, словно по обязанности. К тому же получалось очень неудобно идти рядом по узкой тропинке.
– А когда первая электричка? – поспешно спросила Алла.
– Часа через два, – ответил Владимир, отпуская локоть, – можем подождать на станции. Или давайте просто пойдем в сторону Москвы, а она нас нагонит когда-нибудь.
Алла брела, аккуратно наступая на шпалы и впервые радуясь, что лодочки на низком каблуке. Владимир, чуть отстав и нелепо балансируя руками, рассказывал про друга Гришу. Выходило, что именно Грише он обязан всеми своими успехами и на службе в армии, и сейчас, на производстве.
«Уж Гриша бы, наверное, не развел такую скуку», – невольно подумала Алла.
Наконец стало светать. Они подошли к какой-то маленькой станции.
– Давайте здесь подождем, – сказал Владимир, взглянув на часы.
Сидеть на низкой сырой скамейке было холодно и неудобно. К тому же Владимир вдруг тяжело, со свистом задышал, поспешно вскочил и отошел в сторону, за плотно растущие кусты. Но и оттуда слышался его мучительный надсадный кашель, похожий на стон. Алла даже немного испугалась, но Ковригин уже возвращался, вытирая пот со лба.
– От ветра всегда кашляю, – он смущенно улыбнулся, – вот так привяжется на ровном месте! Это еще с войны.
– Вы были ранены? – с сочувствием спросила Алла.
– Да, нет, какое-то банальное воспаление легких. Стыдно рассказывать, даже до фронта не доехал. Вот Гриша…
И он опять принялся рассказывать про храброго политрука Гришу, который, несмотря на тяжелое ранение в плечо, вывел из окружения почти пятьдесят человек.
Наконец прибыла первая электричка. Конечно, в этот час она оказалась совсем пустой, только два парня дремали в дальнем конце вагона. Алла вдруг почувствовала, как она устала. Глаза просто сами закрывались. Владимир подставил плечо, и она безропотно опустила голову. Нет, он был слишком маленького роста, голова неловко свисала, щека терлась о жесткую ткань пиджака. И шея сразу затекла, аж в ухе заломило.
– Можно я вас поцелую? – Владимир коснулся ее щеки холодной шершавой ладонью.
– Нет! – Алла поспешно отодвинулась и выпрямилась.
Больше ничего не произошло до самой Москвы. Поезд постепенно наполнялся людьми, солнце уже грело вовсю, день наступал светлый и веселый, настоящий летний день.
«А ведь скоро отпуск, – вдруг вспомнила Алла, – завтра же закажу переговоры с мамой. Как хочется домой!» И она радостно засмеялась впервые за прошедшие сутки.
– Он в вас безумно влюблен, тут и думать нечего! – Галина Васильевна для убедительности даже встала как на собрании, но, оглянувшись на столик у окна, тут же села на место. – И ведь какой деликатный человек! – продолжила она шепотом. – Другой бы сразу стал приставать, обниматься, а он даже спрашивает разрешения поцеловать!
Соня неуверенно покачала головой, но по обыкновению промолчала. Раечки за столом не было. Еще с утра они уехали с Павлом Ивановичем на какое-то их общее бухгалтерское собрание.
– Нет, что ни говори, – продолжила Галина Васильевна, – такая партия – редкость. Я рада за вас, душечка, искренне рада! Отдельная квартира в Москве, солидное положение, перспективы.
– Квартира не совсем отдельная, – зачем-то промолвила Алла, – он живет с мамой.
– Вот и прекрасно! Будет кому присматривать за детьми.
– Но я сама хочу присматривать за своими детьми!
Конечно, спор получался очень глупым. После коммуналки и Соломоныча любой угол мог показаться раем, не то что отдельная квартира. И про детей Аллочка пока совсем не думала, и Галина Васильевна желала ей добра, но она почему-то все возражала и даже злилась. Хорошо, что быстро принесли компот и разговор невольно оборвался.
Алла медленно жевала компотный чернослив, стараясь не смотреть на столик у окна и склоненную голову Владимира. Она попробовала вспомнить руку Ковригина на своей щеке, потом представила, что Владимир ее обнимает и прижимает к себе… Получалось неловко и неуютно. Может быть, нужно самой его обнять? Или это неприлично?
«Ах, все потом, после отпуска!» – беззаботно подумала она.
Ровно через две недели длинный мерно стучащий поезд унес Аллочку в далекий родной город.
Нет! Перед отъездом случилось еще одно довольно знаменательное событие, которое особенно потрясло Галину Васильевну да и всех остальных женщин, – Владимир пригласил ее в гости!
– Мама неважно себя чувствует, – сказал он, по обыкновению дождавшись Аллу у проходной. – Давайте заедем на минутку, просто проведаем.
Надо признаться, мама Владимира выглядела интересной и совсем нестарой женщиной. Она не стала суетиться с обедом, как поступила бы Аллочкина мама, а только подала чай в неудобных странных чашках, – почти прозрачных и без рисунка, только золотые полоски вдоль тонких гнутых ручек, кажется – тронь и разобьется! Немного поговорили о погоде, рано наступившем лете. Алла рассказала смешную историю, про младшего братишку, который в детстве путал буквы и говорил «саморёт» и «моложеное», а теперь, как ни странно, уже собирался поступать в институт.
Вечером, тщательно протирая хрустальные бокалы, когда-то подаренные приват-доценту Тарновскому молодой женой в день успешной защиты диссертации, Любовь Дмитриевна тихо спросила:
– Откуда, ты говоришь, она приехала? С Алтая?
– С Урала, – улыбнувшись, ответил Владимир. – Алла с Урала, ее так зовут на заводе, легко запоминается.
– Да, запоминается легко, – вздохнула Любовь Дмитриевна.
Больше они в тот вечер не разговаривали.
Поезд уходил в половине пятого, поэтому Алла решила отработать первую половину дня и ехать на вокзал прямо с завода. В обеденный перерыв все три женщины вышли проводить подругу, они дружно махали руками и желали ей скорейшего возвращения, а Галина Васильевна даже прослезилась. Чемодан и обе сумки были заранее уложены в «Победе», Аллу Владимир терпеливо ждал у входа. Понемногу он привыкал использовать служебную машину и в личных целях.
– Вот через месяц вернется, и будет свадьба! – убежденно сказала Галина Васильевна. – Верьте моему слову!
И никто из улыбающихся женщин даже не представлял, как она ошибается.
Алла не вернулась ни через месяц, ни через два. Она вообще больше не вернулась в Москву, потому что тем же летом вышла замуж за бывшего морячка, свою прекрасную первую любовь. Конечно, он работал техником на уральском заводе, а не главным инженером столичного предприятия и не имел собственной квартиры в Москве, но был так отчаянно хорош, почти двухметрового роста, сильный, загорелый дочерна, когда нес ее на руках от реки до самого дома. И она твердо и навсегда знала, что никакие другие руки не обнимут так нежно и надежно и никакой другой человек не станет ее жизнью и любовью. А еще он лучше всех танцевал, упоительно целовался и при этом совершенно не спрашивал разрешения!
Но свадьба в нашей истории все же состоялась. Бухгалтер завода Раиса Зыренко вышла замуж за бухгалтера СМУ Павла Ивановича Козырева. Конечно, все были очень рады, заводоуправление подарило супругам чайный сервиз, а Галина Васильевна подготовила прекрасную речь о том, как профессиональные интересы сближают людей.
А что же Владимир и его знаменитое везение?
Про Владимира речь впереди, но чтобы сохранить последовательность мы просто обязаны рассказать еще об одном немаловажном событии.
Вскоре после отъезда Аллы Семеновны почтенный директор завода Иван Никитич Синельников оставил семью и на глазах всего народа переехал к собственной секретарше в недавно полученную ею заводскую квартиру. Тут, конечно, последовала жалоба жены в райком, директора поспешно перевели на периферию, начались перемещения в руководстве, и вскоре на заводе появилась новая сотрудница, старший инженер, Марина Петровна Рогозина. На вид ей было лет тридцать или даже чуть больше, уже первые седые ниточки виднелись в уложенной венчиком темной косе, но это не уменьшало ее поразительной тихой красоты. Из отдела кадров тут же донесли, что Марина Петровна не замужем, и это никого не удивило в невеселое послевоенное время.
Удивило и даже поразило другое. Впервые появившись в знакомой нам столовой, Марина Петровна вдруг остановилась против столика у окна, тихо ахнула, всплеснув руками, и на глазах всех присутствующих обняла главного инженера завода Владимира Борисовича Ковригина. При этом у самого Ковригина сделалось такое потрясенное счастливое лицо, что по заводу сразу поползли слухи о давнем жестоком романе между Рогозиной и главным инженером, отчего Алла с Урала, понятное дело, и уехала, не вынеся ревности и обид. Более того, самые заядлые сплетники уверяли, что история с Аллочкой подстроена исключительно директором Синельниковым, дабы отвлечь внимание рабочих от собственного аморального поведения.
Но мы-то знаем, что это были только слухи!
Принцесса лягушка Сказка
Утро я начинаю с глаз, это самое веселое. Правда, цвета в моей программе сильно ограничены, но, если подумать и не спешить, всегда можно выбрать что-то красивое и утешительное. Например, пронзительно зеленый, или серовато-зеленый с легкими карими крапинками, или золотисто-каштановый. Как хорошо, что капли-хамелеоны вошли в разрешенный багаж. Нужно только учитывать одежду и время года, тогда совсем незаметно. Потом я растягиваю кожу у висков и на шее, чтобы образовались легкие морщинки. Ничего, они не слишком портят общий вид. Можно даже считать, что появляется некая мудрость и загадочность.
Главное, основная тема выдержана – зеленые глаза и темные волосы. Хотя с волосами еще проще, я крашу их раз в несколько месяцев, чтобы цвет стал менее натуральным и чуть светлее моих собственных волос. Тогда можно принять отрастающие корни за хорошо прокрашенную седину. Жаль, что восстановитель придумали так поздно, не пришлось бы возиться, пачкать лицо и шею. Но раз в полгода можно выдержать, это не каждые две-три недели, как красят здесь женщины. Гораздо грустнее с ногами. Приходится подчеркивать вены и противные красные стрелки капилляров, округлять щиколотки до легкого отека, утяжелять бедра.
Ничего не поделаешь, в тайм-командировках свои строго оговоренные правила. Целая группа психологов работает над программой, рабочей легендой и параметрами отбора. И почти всегда возрастные границы не моложе 45–50 лет. Слишком ответственный и дорогой эксперимент. Все правильно, хотя и грустно. Но молодой человек, считают психологи, невольно заведет какую-нибудь романтическую историю, могут появиться дети, нарушатся тонкие временные связи. Хотя мне кажется, они слишком перестраховываются, нормальный человек нашего времени, тем более попавший в отборочную группу, не позволит себе легкомыслия и глупости.
Честно говоря, я не слишком надеялась пройти последний тур. Тем более, одним из претендентов был очень сильный специалист-нейрогенетик из Калифорнии. Наверное, сработала магия родительского имени. Мэри и Джакоб Кроун-Лутс, авторы огромного труда по истории биотерапии, ведущие имена в медицинской генетике. Думаю, в комиссии сразу обратили внимание. Никто не знал, конечно, что я скрываю от родителей свои планы. Но не исключено, что я просто подошла по всем требованиям. Все-таки была круглой отличницей и в школе, и в колледже, на втором курсе медшколы напечатала первую собственную работу по биодиагностике, подготовила огромный материал по истории лечения лейкемий и миеломной болезни. Кроме того – свободна и не обременена детьми. И время предполагалось не самое интересное, начало XXI века, никаких особых эпидемий или изобретений, рутинная работа по сбору исторического материала.
Мой телефон тихо трещит на тумбочке у кровати и тут же начинает мелодию Грига. Я всегда ставлю будильник, хотя просыпаюсь минут за пятнадцать до звонка. Привычка все делать вовремя и никогда не опаздывать. В местном сонном царстве это кажется особенно смешным. Телефон очень примитивный, конечно, для любого самого простого задания и заметки приходится нажимать пальцем на глупые кнопки. Но все-таки какой-никакой органайзер и дневник. Кстати, у моей местной коллеги, детского врача, на столе лежит дневник из бумаги, в который она чернильной ручкой записывает имена и планы! Хорошо хоть, не гусиным пером!
Я забыла отключить будильник, и он начинает повтор мелодии. Бедный Григ, хорошо, что он не слышит себя в исполнении слабого дребезжащего динамика! Представляю, что сказал бы Кайл, увидев это механическое чудо!
Впрочем, Кайл бы просто разозлился. Он категорически не понимал, как можно слушать композиторов XVIII века, копаться в старых материалах по генетике, изучать историю биотерапии. Даже мое увлечение биодиагностикой казалось ему глупым и вредным атавизмом. Ведь уже доказано, что сама по себе биодиагностика не имеет большого значения, появились более четкие и безопасные методы. Тем более биотерапия официально запрещена.
Это наш вечный спор. Я пытаюсь объяснить Кайлу, что вся история медицины – история проб и ошибок. И гибели врачей, как это ни ужасно. Первые вакцины, первые антибиотики, изучение инфекций… Хорошо, не будем вспоминать эпидемии чумы. Но даже банальный рентген, который вызвал такой восторг. Сначала обнаружили огромные возможности диагностики и только позже узнали о смертельной опасности облучения. И конечно, в первую очередь пострадали ученые и врачи. Но все-таки рентгеновские лучи остались в медицине почти на двести лет! Пусть с применением мер защиты, пусть с частичным поражением и больных, и сотрудников. Долгое время даже опухолевые клетки сжигали рентгеновским излучением, хотя сейчас тяжело об этом думать. Но если бы врачи исповедовали принципы Кайла, человечество давно бы вымерло от банальных инфекций типа брюшного тифа или СПИДа.
Конечно, обидно, что история с биотерапией оказалась такой тупиковой. Родители потратили более десяти лет на ее изучение, месяцами жили в отдаленных индийских деревнях, подняли гору литературы по китайской и корейской медицине, психологии африканских племен, истории шаманов и целителей. Во все времена были люди, которые умели определять болезнь без каких-либо лабораторных методов. Тогда их называли как придется – знахари, экстрасенсы, они интуитивно воспринимали биоволны, открытые гораздо позже. А сейчас биодиагностика входит в обязательную программу третьего курса, сразу за иммунологией и патофизиологией.
Родители собрали огромный материал, представили к защите две блестящие диссертации, но… Все надежды на развитие волновой терапии и легкое исцеление больных оказались напрасными. Потому что все попытки воздействия на дефектные волны пациента, хотя это было не очень сложно технически, вели к тяжелому поражению и даже смерти врача. Биотерапию официально запретили, все опыты были приостановлены, и лаборатории закрыты. Я, как и многие студенты, пыталась пробовать на себе, быстро освоила коррекцию мелких дефектов, например насморка, но схватила тяжелую пневмонию и получила строгое предупреждение от декана. Странно думать, что с тех пор прошло почти пятнадцать лет.
Телефон в третий раз за утро мучает отрывок из «Пер Гюнта». Конечно, хватит дискутировать с пустотой. Так и на работу опоздаешь.
Я арендую совсем маленький домик с видом на небо, холмы и бедуинскую мечеть. Рано утром раздается крик муэдзина, ему откликаются мелкие, но очень звонкие птицы, потом начинается настоящий та-ра-рам – перекличка открываемых автомобилей, плач и гомон детей, молитвы, бодрая музыка из программы новостей. Но мне нравится этот микрорайон, он совсем новенький, нарядный и белый. У меня всего три комнаты – внизу небольшая гостиная и кухня, наверху – открытая галерея и две спальни. Хозяева здесь совсем не жили, я въехала в только что построенный дом и уже год с удовольствием его обживаю. Окна гостиной выходят в крошечный сад, полный роз. Здесь все растет стремительно, за один год приглашенный садовник ухитрился создать чудный садик размером в семьдесят пять квадратных метров и даже устроил миниатюрный водоем из камней и ракушек. В водоеме сидит толстая глиняная лягушка с голубыми глазами, мое последнее приобретение. Но особенно я люблю верхние комнаты, даже если заходят случайные гости или соседи, они сюда не поднимаются, поэтому можно немного отдохнуть от роли, побегать босиком, сделать мостик или хотя бы попрыгать на одной ножке. Окна одной спальни я закрыла нарядной тяжелой шторой – вот и вся маскировка.
А вторую превратила в художественную мастерскую. Именно в настоящую мастерскую! И никто не может помешать или посмеяться. В одном углу – чудная старинная швейная машинка, привезенная из Германии, в другом – мольберты, холсты и краски, а на столике у окна вышивание! Да, да, самые настоящие нитки в разноцветных ярких клубочках и иголки с толстыми ушками! Вот уже второй месяц я вышиваю голубой коврик с лилиями. И при этом слушаю концерт для клавесина с оркестром. Почему-то Вивальди у меня всегда ассоциируется с вышиванием, а Бах с картинами маслом. Правда, я совсем не умею рисовать. То есть не умею придумывать сюжеты и собственные цветовые решения. Я просто копирую. Открываю на экране, например Матисса, его упоительные цветы в разноцветных тяжелых вазах, и старательно выписываю тонкой кисточкой на своем холсте. Получается почти живая картинка! Уже три мои работы висят на стене в гостиной, в красивых рамках из настоящего дерева. Можно даже подумать, что они куплены в дорогом магазине. Конечно, все это очень глупо и смешно. Но ведь ни Кайл, ни родители, ни мои коллеги по университету не могут увидеть.
Я вытаскиваю из шкафа белье и блузку… Ох, это тебе не цвет глаз, тут не разгуляешься. Во-первых, лифчик. Застежки, поролоновые чашечки, какие-то круглые железки! И до нормальной биологической коррекции груди еще лет тридцать, как и до восстановителя волос.
Даже непонятно, почему такую простую вещь так долго придумывали. Нет, все понятно – не было потребности в обществе, пока не стал стремительно распространяться рак груди. Генетический сбой под влиянием среды, ничего особенного, если бы тогда владели аутоиммунным лечением. Но существовали только безобразные операции, химия и облучение. Хорошо хоть, стали разрабатывать новые технологии, биологические протезы разных модификаций. До сих пор многие женщины к тридцати годам заменяют железистую ткань на биосил, только красивее получается! Нормальная упругая грудь, никакого поролона, гарантия на пятьдесят лет. Конечно, младенца не накормишь, но заменители грудного молока идеальные, от кормления почти все отказались, кроме самых отсталых и упрямых мам. Они продолжают настаивать, что человечество теряет личные контакты и что нет ничего прекраснее Мадонны с младенцем. Моя мама точно не задумывалась над такими мелочами.
Все, не ныть, корсеты со шнуровкой точно не лучше, нужно только благодарить Бога, что я не выбрала для диссертации эпидемию чумы в Европе! Я напяливаю старомодный лифчик с кружевами и чертовыми железками, строгую блузку, темные брюки (приходится гладить каждую неделю дурацким железным утюгом с дырочками!), кожаные туфли на низком каблуке. Все! В большом зеркале отражается элегантная немолодая женщина начала XXI века. Доктор Ханни Гур, сорок девять лет и три месяца, чудаковатая старая дева и семейный врач в крошечном городке крошечной жаркой страны, которой вовсе не найти карте.
Да, дорогая Тин Кроун Лутс, тридцатичетырехлетний старший ординатор, мастер спорта по гимнастике и соискатель докторской степени в истории медицины, еще на четыре года ты выходишь из сценария. Что же я стою, спрашивается?! Пора остужать машину и ползти по запруженным улицам, уныло держась за руль. И никаких автопилотов и воздушных локаров, даже не надейся!
Можно не сомневаться, у двери моего кабинета скопилась приличная очередь, хотя еще десять минут до начала приема. Я вежливо киваю и тороплюсь включить компьютер. Эта старая тарахтелка будет загружаться не менее пяти минут. И принтер опять барахлит. Принтер, огромный и нескладный серый ящик, долго мигает и наконец начинает строчить, как пулемет в старом кино. Каждый раз я вздрагиваю, хотя пора бы привыкнуть. Это он распечатывает на бумаге список больных. Спасибо, что не приходится высекать на камне.
За дверью тихое волнение, но я даже не выглядываю – и так все понятно! Пожилой вежливый англичанин точно заказал очередь неделю назад и теперь не собирается никому уступать ни минуты. Чизики – Лина и Том – опять ждут направления на анализы, а плаксивая бедуинская женщина в длинном платье и двух платках всегда приходит без очереди. Но при этом встает строго под дверью и так выразительно страдает и закатывает глаза, что проще ее принять, чем вступать в объяснения.
С каждым днем я все больше убеждаюсь, как прекрасно продуманы моя программа и биография. Не зря на тайм-командировках работает целый отдел психологов. За основу рабочей легенды взята история реальной молодой женщины, Анны Гуревич, которая родилась в маленьком литовском городке в конце пятидесятых годов XX века. Вся родня ее отца, Михаила Исааковича Гуревича, погибла в Литве во время войны с фашизмом, мать, Надежда Петровна Елисеева, вообще была сиротой с детства и воспитывалась в интернате. Родители Анны познакомились в больнице, где Михаил лечился после боевых ранений, а Надежда работала медсестрой. Классическая история, которая не предполагает никаких ошибок или неожиданных знакомств! Про годы детства Ани почти ничего не известно, но это не имеет большого значения, так как живых свидетелей не сохранилось. Предполагается, что они с младшей сестрой учились в районной школе, ходили в кружок музыки и рисования. Надежда Петровна закончила вечерний медицинский институт и работала участковым врачем. Михаил Исаакович тяжело и долго болел, поэтому они мало общались с соседями и другими людьми своего окружения. В 1974 году за участие в студенческих волнениях Анну исключили из Вильнюсского мединститута. Ничего политического там не было, молодежь просто устроила джаз-фестиваль, но в коммунистическую эпоху этого оказалось достаточно. Обиженная Аня подала документы на выезд в Израиль. Отца к тому времени уже не было в живых, мать плакала, но не смогла отговорить. Далее все очень просто и грустно. Аня, как и большинство эмигрантов того времени, уехала не в Израиль, а в Соединенные Штаты Америки. Она пыталась попасть на учебу в медицинский колледж, но это оказалось слишком сложно и дорого, поэтому пришлось устроиться сиделкой в госпитале. От полного одиночества и тоски по дому начала пробовать наркотики, очень быстро втянулась и через два года погибла от передозировки.
На этом этапе наши биографии расходились – «моя» Анна Гуревич якобы уехала в отдаленный штат, где все-таки пробилась на учебу, изменила имя на Ханни Гур, что лучше звучало в Америке, и стала семейным врачом. Предполагалось, что замуж она не вышла и близких друзей не завела, потому что была единственной «русской» эмигранткой в том краю, то есть – белой вороной. Связи с Литвой не сохранилось, сестра настоящей Ани Гуревич погибла совсем молодой в автомобильной аварии, а мать умерла от опухоли желудка. Кстати, в период подготовки я специально ездила и в современную Литву, и в штат Техас, где якобы работала Ханни. Хотя за столько лет все изменилось, но атмосфера провинции и тишина мне здорово помогли вжиться в образ. Далее предполагалось, что Ханни заскучала и решила круто изменить свою жизнь. Тем более Израиль того времени, окруженный враждебными арабскими странами и постоянно атакуемый террористами, вызывал большое сочувствие в среде русско-еврейской эмиграции. В 2002 году доктор Гур подала документы на переезд. Репатриантов из Америки принимали с восторгом, сразу после окончания языковых курсов и сдачи экзамена на лицензию врача ей предложили работу в маленьком уютном городке, где больше требовалось знание русского и английского, чем иврита.
Я часто пытаюсь представить семью «моей» Ани, их радости и огорчения. Интересно, на кого она похожа? Например, на отца, его зовут Миша, он добрый, но грустный, потому что часто болеет. Зато он встречает детей из школы, расспрашивает про уроки и успехи, они вместе обедают, играют в шашки, смотрят перед сном милые детские мультфильмы. Мама Надежда каждый день приходит с работы домой, никаких экспедиций и командировок! Она печет пироги и рассказывает дочкам сказки, в доме тесно, но очень тепло и замечательно пахнет сладким тестом. Сестра обожает Аню, они меняются лентами и карандашами, вместе бегут по утрам в школу, вместе укладывают кукол спать, а потом сами ложатся в одной общей комнате и долго шепчутся и хихикают, пока глаза не начинают закрываться. Я даже забываю иногда, что это только легенда, что у меня никогда не было сестры, пироги в нашей закрытой школе не пекли, а привозили готовые из кондитерской, а родители постоянно уезжали и даже забывали иногда, в каком именно классе я учусь.
Зато эта чужая история страховала меня от всех возможных нестыковок: тяжелого американского акцента, плохого знания литовского, странностей поведения. Русский и китайский я учила с раннего детства, родители считали, что отдаленные языковые группы помогают развитию у ребенка ассоциативного мышления. Литовский требовался самый простой и бытовой, да еще хорошо забытый. Современный английский, конечно, здорово отличался от принятого в двадцатом веке, но эмигрантка, пусть и с большим стажем проживания в Штатах, вполне могла допускать ошибки и неточности. Я вызубрила свою легенду, как шпион времен Второй мировой войны, месяц просидела с косметологами над корректировкой внешности, вот и все сборы. Если не считать, что история заданного времени была выучена еще перед подачей документов на конкурс.
За первый год работы в тайм-командировке я практически ни разу не столкнулась с особыми трудностями. Если не считать трудностями саму жизнь в странном, неудобном и медленном мире.
Англичанин не потребовал большого труда. Биоволны мягко кружили, почти не прерываясь, сердце четко сокращалось, и поверхностный склероз сосудов совершенно не мешал кровообращению. Легкие тоже были вполне гибкими для его возраста. Печень с небольшими признаками ожирения, увеличенная простата, остеоартроз коленных суставов, легкая подагра. Всё в пределах нормы для шестидесяти девяти лет. Но он, конечно, хотел сдать анализы. И пройти колоноскопию. И записаться на прием к кардиологу и невропатологу. То есть все, что рекомендует интернет его времени для грамотных обывателей. Душа переворачивается от таких варварских и допотопных исследований, как рентген или колоноскопия, но я послушно выписываю направления. Не будешь же ему объяснять про биодиагностику и теорию поля!
Бедуинка, выразительно стеная и кашляя, рванулась в открытую дверь, но я все-таки позвала Чизиков. Может, Лине станет немного легче от моего внимания.
Если бы современный художник захотел нарисовать Адама и Еву, он не нашел бы лучшего образца, чем мои Чизики. Тонкие запястья, прозрачная кожа, мягкие широкие бедра, золотые локоны до плеч. Это все Лина. И рядом – худой длиннющий Том, похожий на киногероя, с бездонными глазами и густой темной шевелюрой. Лина и Том женаты семь лет, пять из них они провели в клиниках и больницах, где занимаются бесплодием.
Иногда мне хочется заплакать от бессилия. Ведь никакой серьезной причины нет. Я четко вижу хорошенькие овальные яичники Лины, похожие на молодые грозди винограда. На правом выделяются сразу два мешочка созревших яйцеклеток, – вот тебе двойня, бери и вынашивай! Про Тома и говорить нечего, его сперматозоидов хватило бы на двадцать младенцев. Причина бесплодия у Лины в очень тонком слое клеток на внутренней стенке матки. Оплодотворенное яйцо не может проникнуть и прижиться. Ерундовая проблема с современных позиций. Есть огромный опыт по вынашиванию плода другой женщиной, здесь он тоже вполне освоен. Но найти такую женщину (они называют ее ужасным словом «суррогатная мать»!) пока очень трудно, нужно много времени и денег. И потом Лина мечтает сама выносить ребенка. Слышала бы моя мама!
Конечно, мои родители не рассматривали никаких вариантов рождения своего ребенка, кроме как в Центре материнства. Тем более в том году планировалась новая экспедиция в Индию. Не могла же мама все бросить и девять месяцев ждать, сложив руки на растущем животе.
В принципе, вся история развития человечества идет по пути специализации. Иначе каждый человек был бы вынужден до сих пор сам шить себе платья, печь булки и собирать компьютер из отдельных кусков пластика. Воспитание детей тоже давно передано в руки специального персонала – в яслях, детском садике, школе. Общество просто сделало еще один шаг. Если работающая женщина может доверить уход за своим младенцем няне или воспитательнице, то почему не предоставить и вынашивание ребенка специальному человеку? Сегодня никого не удивляют понятия Active Mother и Natural Mother, созданы центры с прекрасными условиями – питанием, гимнастикой, бассейнами и прогулочными парками, которые позволяют «действующей матери» выносить здорового ребенка для его биологических родителей. Конечно, такая программа стоит больших денег, но можно заранее вносить ежемесячную сумму, как делают многие молодые пары. Правда, последнее время психологи стали говорить об утрате ценности конкретного ребенка, особенно если он рождается слабым или не очень удачным. Ведь всегда можно заказать другого.
– Гинеколог предлагает попробовать искусственное оплодотворение из банка спермы, – по щеке Лины тянется мокрая дорожка, – может быть, у нас индивидуальная несовместимость. Но мне бы пока не хотелось.
Том молчит, хотя по его мрачной физиономии понятно, как он относится к оплодотворению своей жены чужой спермой.
«Дурак он, ваш гинеколог, – мысленно кричу я, печатая очередное направление на ненужные анализы».
Всего-то тоненькая полосочка клеток, еще несколько рядов, и будет достаточно… Это даже не лечение, а только минимальное вмешательство. Что особенного может случиться, ну отдохну потом несколько дней! Крошечный бросок в чужое поле, главное, не спешить и сосредоточиться – раз, два, три.
И тут у меня кончились силы. Захотелось положить голову на стол, закрыть глаза и никого не видеть. Конечно, это был вирус. Тут же пробился через ослабленное защитное поле. Вот чертовщина! Хорошо бы уйти домой, но куда девать записанных на сегодня больных?
Бедуинка деликатно отводит глаза и мелкими шажками пробирается к стулу. Не уйдет, нет никакой надежды. Кажется, ее зовут Расмия. Или Латифа? Вчера уже были две Латифы, как они сами не путаются? У всей деревни одна фамилия. Когда-то два брата построили рядом дома, а потом их многочисленные потомки переженились, и возникло целое поселение.
Идеальное место для изучения генетических болезней. Талассемия у всех поголовно, недавно обнаружен третий случай анемии Фанкони, гиповитаминоз группы D. Зато ни рака груди, ни рассеянного склероза, ни сахарного диабета, которые так часто встречаются в еврейской части города. Я уже составила целую подборку графиков и таблиц. Если бы еще не путаться с именами.
Генотерапия долгое время была излюбленной темой моей мамы. Это ей принадлежит коррекция синдромов Дауна и Шерешевского – Тернера. В тридцать пять лет мама получила степень профессора, а еще через десять лет – Нобелевскую премию по биологии. Конечно, ей было не до собственных детей, но в какой-то момент отец настоял на рождении ребенка. Он сказал, что просто нечестно по отношению к науке не продлить такую генетическую линию.
Да, они отнеслись очень серьезно к выбору Центра материнства. Внесли большую сумму в группу поддержки, отложили на два месяца все поездки, чтобы не повлиять на собственные половые клетки. Долго спорили, нужно ли заранее заказывать пол ребенка, но все-таки решили предоставить право выбора природе. С внешностью сомнений не возникало – оба мои родители светлые блондины, а мама еще и в очаровательных рыжих веснушках. И тут встал вопрос генетического анализа. Не стандартного, конечно, который проверяли любой паре в Центре материнства. Но мама решила, что ей, как профессионалу, безграмотно и даже неэтично не проверить мелкие генетические дефекты. Если ищешь, то всегда находишь, у мамы оказалась предрасположенность к гиповитаминозу группы В и гипофункции щитовидной железы. Еще год заняла работа по коррекции, малоизученная, потому что гиповитаминоз В и так легко компенсируется таблетками. Короче, все удалось! Через девять месяцев родители получили полноценную здоровую девочку с европейскими чертами лица, но… черную как вакса. Оказалось, гиповитаминоз В у человека прочно сцеплен с цветом глаз и кожи.
Я старательно осматриваю Расмию-Латифу, меряю давление, заглядываю в уши, прикладываю фонендоскоп к широкой в жировых складочках спине.
– Вот тут болит, – она показывает на голову и заливается слезами, – и вот тут в груди, и в коленках. Доктор, я не умру?
Более нелепое предположение трудно представить даже, не погружаясь в настоящий биодиагноз. Кроме лишнего веса и фамильной талассемии, я не вижу в Латифе никаких болезней на ближайшие пятьдесят лет.
– Девочку жалко, – она опять начинает плакать. – Как ей жить, сиротке!
Тут я наконец вспоминаю всю историю. Лет пять назад к Расмии (все-таки не Латифа!) посватался пожилой вдовец со взрослыми детьми. Никаких других шансов на замужество в ее тридцать лет, конечно, не ожидалось (слышал бы сорокалетний Кайл, который уверяет, что мы не доросли до брака), а жизнь в доме старшей замужней сестры была обидной и тоскливой. Она вышла замуж, стала почтенной хозяйкой большого крепкого дома, но через год после свадьбы муж умер от инсульта, а еще через три месяца Расмия родила девочку, свое единственное утешение. И теперь вся жизнь ее проходит в одиночестве и страхе, что она тоже заболеет и умрет, и девочка останется несчастной сиротой. Дети покойного мужа Расмию, понятное дело, не любят и хотят раздела дома. О втором браке не может быть и речи, потому что по их традиции родственники со стороны мужа заберут ребенка.
– Не волнуйся, – уверенно говорю я. Разговариваем на ты, но только потому, что другого варианта в здешнем языке нет. – Голова болит от низкого гемоглобина, у вас семейная анемия, ничего страшного. Нужно больше гулять, просто ходить по улицам. Ты любишь ходить?
Расмия смотрит на меня с вежливым недоумением, но плакать перестает.
– Рано утром вставай, пей апельсиновый сок, бери девочку за руку и иди. Не меньше часа. И постарайся не есть жирное мясо и пироги. Ты ведь многовато ешь в последнее время?
Расмия стеснительно улыбается и вздыхает.
– А анализы крови на анемию не нужно сдавать? (Дались им эти анализы!)
– Хорошо, конечно, сдай анализы.
– А проверку головы? Компьютерную томографию?
Всякому терпению приходит конец. Особенно когда тебя саму мутит и качает и живот противно ноет.
– Нет! Никакого проверки головы мы делать не будем! И умирать тоже не будем. Иди домой, пожалуйста.
Расмия плавно удаляется, успокоенная и обиженная одновременно. Полчаса вне записи, теперь еще час догонять.
После долгих сомнений и консультаций с дерматологами родители занялись изменением цвета моей кожи. Нет, никаких предубеждений и расовых предрассудков, кто мог такое вообразить! Но все-таки хотелось узнавать себя в собственном биологическом ребенке. Я помню только блестящие прозрачные двери больницы и маленьких нарядных кукол, которых мне покупали после каждой процедуры. В результате повторных инъекций антимелина кожа сначала стала бежевой, как кофе с молоком, а потом почти белой. Только под мышками и вокруг глаз оставалась усиленная пигментация, глаза казались слишком большими и выпуклыми, и в школе мальчишки дразнили меня лягушкой.
Женщина, сидящая в очереди, тяжело больна. Это так бросается в глаза так, что я приостановила прием и пригласила ее войти. За ней поспешил муж, бодрый немолодой человек в вязаной кипе.
– Вот, доктор, – уверенно начал он, усаживаясь на стул, – пришли сердце проверить. Что-то жена тяжело дышит в последнее время.
Женщина застенчиво улыбнулась. Кожа и слизистые казались серыми от бледности, наверняка гемоглобин упал не менее чем на треть. В правой половине живота темнел тяжелый страшный комок.
– А почему именно сердце? – говорю я осторожно. – Может быть, мы обследуем сначала брюшную полость?
– Нет, доктор, при чем здесь брюшная полость! В интернете описаны все признаки сердечной недостаточности: одышка, утомляемость, тяжесть в груди. Точно, как у Ривки!
Иногда я жалею, что не попала в девятнадцатый век. Конечно, там болели дифтерией и туберкулезом, но зато вовсе не было интернета.
– Сердце тоже проверим. Обязательно. Только не волнуйтесь. Я думаю, наиболее правильным будет направить вашу жену срочно в больницу. Я сама позвоню в приемное отделение и поговорю.
– Ох, вам виднее, конечно. Хотя мы не любим больницы, там ведь можно заразиться разными микробами. Недавно большая программа была по телевидению о внутрибольничных инфекциях! (Да-да, и телевизора тоже не было аж до середины двадцатого!) Может, просто сделать электрокардиограмму? Или назначить мочегонные? Я читал, что при сердечной недостаточности всегда помогают мочегонные.
Я поспешно заполняю направление, подчеркиваю двумя чертами диагноз: «Объемный процесс в кишечнике, подозрение на внутреннее кровотечение».
– Поезжайте, пожалуйста, прямо сейчас. Я вас очень прошу. Кстати, и расскажете дежурному врачу о программе, интернете и ваших личных предположениях.
Ничего, в приемном отделении много врачей, пусть слушают, не все же мне одной отдуваться!
Как медленно тянется сегодня рабочий день. Или это вирус выматывает?
Я уже не помню, сколько прошло человек. Пневмония, обострение астмы, сразу несколько синуситов подряд, тяжелый остеопороз с переломом двух ребер. Не очень сложные случаи, но почти все лекарства устаревшие, в неудобной упаковке, с массой побочных эффектов. Ту же астму давно научились убирать на аутоимунном уровне.
Нечего ворчать, один аспирант три года пробыл в начале двадцатого века, – вовсе без антибиотиков, инсулина и банальных прививок. Так что нужно не огорчаться, а радоваться, что у меня больные не умирают от скарлатины!
Очередной пациент был мне совсем незнаком. Красивый седой человек среднего роста с темными усталыми глазами и резким американским акцентом. Может быть, я просто не запомнила?
– Нет-нет, доктор, я действительно впервые. Я вообще недавно приехал в страну. Вот оформил страховку и сразу к вам! Мой приятель очень вас рекомендовал, говорит, другого такого диагноста нет во всем мире! Хотя диагнозы мне уже все проставлены, к сожалению. Вот, здесь выписки и результаты обследований. Когда становишься стар и болен, понимаешь, что для тебя нет никого важнее лечащего врача.
На самом деле он был не слишком стар, моложе моих родителей. Просто в нашем времени легче сохранять молодость – нет седых волос, прекрасная коррекция морщин, восстановители суставных хрящей.
Особых болезней тоже не просматривалось, – позвоночник, умеренные спайки после давно перенесенного плеврита, мелкая язва желудка. Но на столе лежала толстая пачка (опять на бумаге!) заключений и выписок. Хорошо, что я много лет занималась историей медицины, иначе бы никогда не разобралась.
– Вы давно принимаете все эти препараты? Вот, например, сразу три лекарства против нарушений ритма? И не чувствуете усталости?
Честно говоря, я не видела у него никаких проблем с сердцем, кроме немного утолщенной межжелудочковой перегородки. Наверное, возникла однажды временная аритмия, а добросовестные врачи решили ее лечить навсегда. Я уже не раз сталкивалась с подобными случаями. И как правило среди послушных и интеллигентных больных.
– Да, – как будто услышав мои мысли, виновато улыбнулся пациент. – Я послушный больной. К тому же моя жена… видите ли, она очень деятельная и знающая женщина. Короче, я не решался сам отменить что-либо из лекарств, хотя мне уже давно кажется, что их слишком много.
– Возможно, вам стоило прийти вместе? – начинаю я не очень уверенно. Мне совсем не хочется видеть его деятельную и знающую жену, особенно сегодня.
– Нет-нет! Я приехал один. На год. Пригласили читать курс лекций в здешнем университете. Мне показалось интересным в моем возрасте вдруг поменять атмосферу, пожить в другой действительности.
Забавно! Мне в моем возрасте тоже так показалось.
– Доктор, если вы считаете, что нужно изменить лечение – я в вашем распоряжении. Новая жизнь, так новая жизнь!
Он был, действительно, очень мил, этот дядечка. Даже не попросил направления на анализы. Но я все равно назначила – и мониторинг, и пробу с нагрузкой, и проверку липидов. Нельзя быть самой умной и полагаться только на ощущения и биополе. Особенно когда речь идет о нарушениях ритма.
Я еще раз посмотрела его данные: Элиэзер Рабинович, 56 лет, профессор, двое детей, не курит, нет аллергии на лекарства, адрес, дата регистрации…
Вот забавное имя! Можно язык сломать. У нас давно бы сократили. Родители задолго до моего рождения придумали имя Тин в память о маминой бабушке, Кристине Лутс, первом профессоре медицины в нашей семье. Тин Кроун-Лутс звучало коротко и внушительно и одинаково подходило мальчику и девочке. Почему же иногда мне кажется, что я случайно заняла чье-то имя?
– Доктор, здравствуйте! Мне сказали, что вы говорите по-русски?
Какая смешная девчонка! Вся в золотистых веснушках, курносый нос, волосы заплетены в бесконечные тоненькие косички, как у эфиопских женщин. Только косички совсем светлые.
– Да, я говорю, хотя и делаю ошибки. Но мы поймем друг друга, не волнуйтесь.
– Ой, спасибо! Вообще-то я давно в стране, пять лет, но медицинские термины совсем не знаю. У нас в интернате врач был русскоговорящий, и в армии тоже. А мне дали анкету в регистратуре и велят срочно заполнить. Тут такие слова ужасные! Я только первые строчки поняла, вот: имя – Гуревич Евгения, возраст – 21 год, номер паспорта, дата репатриации, а дальше – ни бум-бум!
Я беру ручку (специально две недели тренировалась писать ручкой!) и проставляю галочки в нужных местах анкеты. Аллергия на лекарства… операции… наследственные болезни… постоянное лечение… У меня около двадцати больных с фамилией Гуревич, как бы опять не перепутать все имена.
– Как тебя дома зовут, – Геня?
– Нет, Женька. Только у меня нет дома. Сначала интернат, потом армия. А после демобилизации я почти месяц у подружки жила. Но сейчас нашла прекрасную комнату, целую отдельную студию. Даже вход отдельный!
Я вдруг вспоминаю, что «мою» Аню тоже звали в детстве Гуревич. Вот бы иметь такую сестренку! Смешную ласковую болтушку. Можно вместе бегать по утрам, меняться куртками и сумочками, смотреть жгучие любовные мелодрамы, смеяться и плакать…
Нет, подлый вирус меня совсем уморил. Сестренка! Доктор Ханни Гур вполне могла иметь такую дочь, как эта Женька, даже постарше.
Я быстро заполняю второй лист, показываю, где расписаться. Все! За дверью выразительно гремит ведром наша уборщица. Рабочий день закончен.
Я медленно собираю сумку. Осталось только выключить компьютер (до самозаписи еще лет двадцать, наверное), спуститься на стоянку, сесть в раскаленную машину и ехать домой.
Как она сказала, эта девочка? «Только у меня нет дома».
Чужое время, чужое жилье, чужое имя, чужие розы в саду.
В детстве я мечтала, что однажды откроется дверь, войдет прекрасная женщина с темной кожей и черными, как у меня, волосами и скажет: «А вот и моя девочка!» И обнимет меня крепко-крепко, и поведет за собой, и от ее рук будет пахнуть яблоками и корицей, как в моей любимой кондитерской. Даже не знаю, откуда взялась такая идея. Наверное, я слышала разговоры взрослых про беременности и роды в Центре материнства, вот и придумала. Я почти верила, что меня выносила и родила настоящая мама, а потом по какой-то ошибке отдала приемным родителям.
Однажды, уже в первом классе, я упросила родителей познакомить меня с моей Active Mother. Родители немного растерялись, но согласились, они всегда были очень демократичны.
Сначала они долго договаривались по телефону, потом мы почти час летели над желтыми полями, ни дорог, ни посадочных стоянок, наконец папа с трудом приземлился на лужайке у веселого розового дома. Там паслись коровы и бегали какие-то дети, но я смотрела только на большую толстую женщину с белыми волосами и крепкими босыми ногами.
Радостно восклицая, она повела нас пить чай. Да, как бежит время. Кажется, ваша девочка была третьей? Какая красотка! Да, всего четверых. И своих четверо, видите – построили чудесный дом, даже ссуда не понадобилась. Какая милая воспитанная девочка! Только очень худенькая, мои – толстяки, не прокормишь! Очень рада, искренне рада.
Нет, что-то я устала сегодня. Наверное, расстроилась из-за Чизиков. Все у меня есть – забытое неторопливое время, милое имя Ханни, мольберт, розы, лягушка, наконец! Сейчас заеду в частную булочную, где пахнет яблоками и корицей, куплю тяжелый темный хлеб домашней выпечки…
Невозможно поверить, в получасе езды – большой вполне прогрессивный торговый центр с полным набором хозяйственных предметов, одежды, продуктов, домашних приборов. Понятно, что там есть целая сеть ювелирных магазинов, например, и всем известные сети ресторанов – китайский, итальянский, таиландский – и вполне приличные сети деловой и праздничной одежды.
А в моем городке мастерят ручные украшения из серебра и дешевых камней, как в племени папуасов, шьют рубахи и платья-балахоны самых неожиданных цветов, пекут хлеб с орехами и маслинами, лепят из глины, поют в хоре. Наверное, это заразно, потому что недавно я взялась шить на своей чудесной доисторической машинке одеяло из разноцветных лоскутов. Увидела в одной из местных лавочек такое одеяло, и вдруг ужасно захотелось самой подбирать лоскутки по цвету и размеру, прокладывать красивой тесьмой швы, вырезать и пришивать цветочки. Красиво получается, честное слово!
* * *
Зима наступила внезапно. Здесь все наступает внезапно – утро, ночь, дождь, нашествие медуз в море, наглая ослепительная жара. Никаких переходных оттенков – ни печально-серого, ни туманно-голубого или бледно-зеленого.
Вот и сегодня вдруг задул пронзительный ветер и хлынул совершенно бесконтрольный дождь, как будто прямо на голову опрокинули ванну с водой.
Я с трудом добегаю до машины. О, боже мой! Бензин! Стрелка еще вчера стояла на нуле. Разве это возможно освоить?! Каждую неделю ехать на специальную станцию, открывать в машине специальную дырку, засовывать туда тяжеленный негнущийся шланг. Каменный век! Джунгли! Ну почему гениальные местные студенты не сделали свое открытие всего на двадцать лет пораньше? Главное, в той самой стране!
– Доктор, вам не нужна помощь?
Сквозь сплошной поток воды по стеклу, я не сразу различаю, кто остановился напротив. А! Пациент Рабинович с длинным именем.
– Пересаживайтесь скорее, подвезу! Вам ведь на работу?
Думать особенно некогда, через пятнадцать минут начинается прием. Я пытаюсь приоткрыть свою дверцу, но ветер тут же ее захлопывает, а заодно плещет в лицо водой. И тут пожилой вежливый Рабинович стремительно открывает дверь машины, хватает меня за куртку и перетаскивает к себе на сиденье, как глупого котенка. Я даже не успеваю намокнуть, только по лицу текут струйки. О боже, вся косметика пропала! И сумка совершенно мокрая… Мой спаситель забирает сумку, аккуратно кладет ее на заднее сиденье, потом достает из бардачка мягкую бумажную салфетку и быстро вытирает мне щеки и лоб. Хорошо хоть, нос не высморкал!
– Как вас отпускают одну в такую погоду?!
Интересно, что я должна ответить?
– А почему вы не явились на повторный осмотр? Я ведь отменила половину лекарств, требуется наблюдение!
– Не сердитесь! Я не думал, что вы помните. Честно говоря, без лекарств как-то легче стало жить. Вот и решил, что больше можно не приходить.
– А эргометрия? Мониторинг?
– Все выполнено, клянусь!
– А результаты?!
– И результаты получил. Лежат дома, на полочке.
– Нет, ну как можно быть таким легкомысленным?! Вы же интеллигентный человек!
– Не сердитесь, доктор, я не нарочно. С одной стороны, действительно лучше себя чувствую. С другой – новая работа, квартиру искал, машину. Совершенно забыл к вам записаться.
– А нарушения ритма? В нашем возрасте нельзя полагаться только на самочувствие!
– В нашем?! Не примазывайтесь! Вы – совсем девчонка! Даже неприлично говорить про возраст.
Я на минутку пугаюсь. Нет, он не может знать.
– Хороша девчонка! Вы даже не представляете. В этом году исполняется пятьдесят лет! Очень зрелый и серьезный возраст.
Мне немного неудобно врать этому симпатичному человеку, но что я еще могу сказать?
– Не может быть, – твердо заявляет пациент. – Вам тридцать. Самое большее – тридцать два. Как моей дочери. Вы хорошо изображаете взрослую женщину, это правда, но я умею читать по глазам.
Я опять пугаюсь немного, нужно быть разумнее и серьезнее! Самая грубая ошибка в тайм-командировке – раскрыть себя и нарушить временные отношения. Никто не знает, к каким непредсказуемым событиям и катастрофам это приведет. К тому же тебя сразу отзовут обратно и с треском уволят из университета и науки вообще.
В детстве мне читали старинную русскую сказку про лягушку, которая сбрасывала кожу и превращалась в прекрасную принцессу. Или, наоборот, принцесса превращалась в лягушку? Я уже забыла подробности, тем более что дальше там начинались всякие нелепицы и ужасы. Кажется, собственный муж принцессы сжег лягушачью кожу. А какой-то другой принц все время сидел на печке. Или, наоборот, скакал на маленьком и почему-то горбатом коне? Какими глупостями забивали детям голову! Короче, она исчезла, эта принцесса-лягушка. Исчезла, вот и все.
– Какое у вас красивое имя, – говорю я, чтобы переменить тему. – Только длинное немножко.
– Вам нравится, правда? Я очень рад! Моя семья совершенно так не думает. Когда-то жена отказалась менять фамилию, мотивируя тем, что лучшее место для Элиэзера Рабиновича – еврейский анекдот. А ведь Рабинович означает – сын раввина, ничего плохого. И дети, когда подросли, тоже выбрали фамилию жены. Я мог бы сменить или укоротить, но не хотелось из-за мамы, она меня обожала и баловала всю жизнь, зачем идти на мелкие предательства? Мама случайно спаслась в детстве, ее мудрый и дальновидный дед успел вывезти детей из оккупированной Польши в Америку.
– А деда звали Элиэзер?
– Ну конечно!
Мы наконец приехали. Надеюсь, в такую погоду будет меньше больных. Все-таки не каждый готов вылезать из дома в холод и ураган, чтобы пожаловаться доктору на насморк или больную коленку.
Я прощаюсь с Элиэзером, приятный человек, только странный немного. Впрочем, наш городок полон странных людей. Я не удивлюсь, если господин Рабинович сочиняет баллады в стихах или рисует на шелке.
Мои надежды, конечно, не оправдались. У двери сидело сразу четыре человека. Значит, как минимум трое без записи. Ситуация, с которой я совершенно не справляюсь. Ругаться? Отправлять домой? Но обычно без очереди приходят с самыми тяжелыми и острыми случаями. Если бы компьютер не работал так медленно и не приходилось выписывать ненужные анализы! Про принтер я вообще не говорю, смотреть не могу на этого урода!
– Доктор, я вас умоляю, только вы можете помочь!
Маленькая изящная женщина средних лет, Эдна Шварц. Я очень люблю Эдну Шварц, потому что она всегда веселая, нарядная и красиво причесана. Невозможно поверить, что у нее тяжелая хроническая болезнь крови, артрит и сахарный диабет, и список необходимых лекарств не помещается на трех страницах моего трескучего уродца. Почему же сегодня я не узнаю Эдну? Бледно-серое лицо, дрожащие руки, красные опухшие глаза. Я пытаюсь сосредоточиться на слабо мерцающем биополе – нет, никаких новых проявлений болезни не ощущается, только усиленное сердцебиение.
– Доктор, их перевели на границу! Он скрывает, но я сразу догадалась. Вчера погиб мальчик из его взвода. Доктор, я больше не вынесу! Третий раз! Третий сын в боевых войсках! Напишите, что у меня обострение и требуется постоянный уход. Да, срочно постоянный уход, я вас умоляю!
Она вдруг сползает на пол и начинает рыдать, зажимая рот руками.
Кошмарная действительность! Все еврейское население страны – одна сплошная армия, солдаты, резервисты, родители солдат. И каждый рожденный в семье ребенок, веселый кудрявый озорник, обязательно станет солдатом и запросто может погибнуть в двадцать лет. Варварское время!
– Хорошо-хорошо, я напишу! Я напишу, что вы нуждаетесь в постоянном уходе, особенно в последний месяц.
То, что я собираюсь сделать – грубое профессиональное нарушение. Любая случайная комиссия может проверить мои записи, сверить с анализами больной… Но ничего другого я не в состоянии придумать. Биотерапия, даже опасная для жизни врача, тут не поможет. Почему при подготовке с психологами не обсуждались подобные случаи? Где мудрые инструкции?
Эдна Шварц встает, краски медленно возвращаются на бледное лицо. Остается надеяться, что комиссия не заметит или не появится вообще.
– Доктор, дорогая, как жить? Нас никто не жалеет. Нас опять никто не жалеет! Безумный слепой мир. Эти чудовища уже взрывали и Нью-Йорк, и Мадрид, но людям все мало, они продолжают верить в демократию и переговоры! Они хотят дружить с людоедами и играть с боксерами в шахматы. Что будет с нами и нашими детьми?!
Нет, зря я хвалила свою программу, многие вопросы категорически не продуманы! Вот как мне сейчас, скажите на милость, промолчать и не лопнуть? Ведь эти два мальчика, два яйцеголовых умника и отличника уже родились в Хайфе! Скоро они подрастут, поступят в университет и представят на конкурс студенческих работ новый вариант топлива. Очень простой и неожиданный. Такой простой и неожиданный, что даже у недалекого местного руководства хватит ума взять изобретение под государственный контроль и расширить исследования. Через два года Соединенные Штаты и Япония вложат огромные деньги в разработку, в Негеве вырастет новый институт, а вокруг него – огромный чудный город. Я ездила туда незадолго до своей командировки. Бескрайние цветники и сады, нарядные дома, танцевальные площадки.
Как тяжело знать и не проболтаться местным жителям, какой совсем скоро станет их крошечная страна – белые прекрасные города, дворцы и павильоны, выставки, спортгородки, курортная зона длиною в триста километров, грандиозные университеты. Ничего удивительного – топливная революция пролилась настоящим золотым дождем. После первого шока и восторга руководство сделало два мудрых шага – оно объявило о бесплатном высшем образовании и создании профессиональной армии. Не правда ли, совсем просто?
Молодежь, вдохновленная неслыханным успехом изобретателей топлива, рванулась в науку. Нет, такого уровня открытий больше не случилось, но произошел огромный рывок в экономике, химии, строительстве, медицине. Наконец-то широко развернулось опреснение воды, переход на подземный траспорт и озеленение пустынь. Параллельно стремительно формировалась профессиональная армия. Был объявлен конкурс для людей от двадцати до двадцати пяти лет, любой национальности, готовых к суровой дисциплине и постоянным тренировкам. Месячный оклад такого солдата равнялся годичному окладу директора банка, но при малейшем нарушении устава человек отчислялся без объяснений. Конечно, кроме местных отчаянных мальчишек хлынул поток претендентов из других государств, в основном из Украины, России и Африки. В этом была своя логика – если можно покупать спортсменов и тренеров, то почему не купить и солдат?
Первыми почувствовали катастрофу падения спроса на нефть исламские террористы-фанатики, как бороться с неверными, когда тебя никто не финансирует? Евросоюз вожделенно взирал на новое топливо и рвался дружить, забыв о своем вечном коньке – жителях оккупированных территорий. Последние тоже не жаловались, им были предложены огромные компенсации при условии выезда из страны.
Самые упертые двинулись в обедневший Иран, но многие, как и ожидалось, захотели остаться в расцветающей на глазах стране. Вскоре Иордания и Ливан предложили вступить в Союз и предоставить свои земли для развития экономики и градостроения.
Стыдно признаться, но я плохо знаю, в чем именно заключалась эта топливная революция. Я просто раз в год приезжаю на станцию техосмотра, передаю локар служащим и ухожу пить сок с булочкой. Мне меняют необходимые детали и ставят новый топливный аккумулятор. Такие же аккумуляторы только большей мощности используют в ракетах и прочей технике, кто этого не знает!
Но самое забавное случилось еще через двадцать лет после топливного бума. Хотя это можно было предположить заранее. Солдаты профессиональной армии и студенты из разных стран стали заводить романы среди местной молодежи, то есть начался настоящий праздник для профессиональных генетиков. Потому что в новых браках появились самые разнообразные сочетания наследственных факторов и родились крепкие здоровые дети всех цветов и оттенков! В регионе сегодня почти не наблюдается ни диабета, ни талассемии, ни рака груди. Не говоря уже про анемию Фанкони!
Нет, нельзя так отвлекаться! Эдна ушла, новый человек сидит в кресле напротив, а моя голова все еще пребывает в другом веке.
– Здравствуйте! Чем я могу вам помочь?
Я заканчиваю как обычно на час позже положенного времени. Дождь все льет и льет, но настроение у меня прекрасное, день сплошных удач! Потому что выздоровел от тяжелой запущенной пневмонии хронический курильщик и астматик Мухаммед, а метастазы в легких, которые я так четко увидела у нестарого бледного мужчины, оказались банальным саркоидозом, его прекрасно умеют подавлять уже сейчас.
Но главное – Чизики! Лина беременна на пятом месяце. Двойня – мальчик и девочка! Конечно, глупо приписывать себе все подряд. Возможно, дело не в моей попытке биотерапии, просто слой клеток оказался достаточным, наконец. Или все-таки удалось нарастить? Тогда я легко отделалась, обычным вирусом, защитное поле почти не пострадало.
Вдруг я вспоминаю, что моя бедная машина так и стоит около дома, без бензина и без всякой надежды на новое топливо. Нужно заказать такси поскорее, так хочется есть и спать, совершенно кончились силы.
За дверью кабинета тихо сидел мой утренний спаситель и ел яблоко.
– Господин Элиэзер, что случилось, вы нездоровы?!
– Не более чем обычно, дорогой доктор. Просто оказалось, что местные студенты поголовно сделаны из сахара и меда. Они побоялись дождя и не пришли на лекцию! Вот я и решил принести вам анализы. Те самые, в папочках. И заодно захватить вас домой. Я увез, мне и возвращать, не правда ли?
– Спасибо! Вы так вовремя появились!
Представляю, как смеялся бы Кайл, видя, как пожилой чудаковатый профессор, обремененный женой, детьми, аритмией, язвой и фамилией Рабинович, везет меня домой на допотопном воняющем бензином железном автомобиле.
Если судить объективно, мне досталось вполне счастливое детство. Правда, родители редко появлялись из своих экспедиций, но меня заботливо определили в прекрасный детсад с изучением трех языков, музыки, гимнастики и рисования, а потом в не менее прекрасную престижную школу. На дни рождения я получала практичные и дорогие подарки, – видеобиофон, элетронное пианино, коньки. В четырнадцать лет, на Рождество, мне купили маленький автомобиль с автопилотом, а в девятнадцать – легкий бесшумный локар. Но я рано стала замечать, что родители стараются не брать меня в гости и не знакомят с друзьями и коллегами. Впрочем, им можно только посочувствовать! Так добросовестно планировать появление собственного ребенка, выбирать Дом материнства, платить ссуды, работать над мелкими генетическими погрешностями – и в результате вместо чудесной маленькой золотой блондинки получить темную чужую девочку. Осветление кожи немного сгладило их огорчение, но в целом ничего не изменило. Тем более с моими глазами лягушки!
В четырнадцать лет я влюбилась в учителя истории. Он был длинным, лохматым, обожал эпоху Возрождения и композиторов восемнадцатого века. Стены обеих моих комнат сияли видами Флоренции, бесстыдно прекрасный обнаженный Давид дружески глядел с тумбочки, а из динамиков плыл старомодный, как бархат, упоительный клавесин в окружении юных скрипок и степенных глуховатых альтов. Конечно, глупо было хранить фотографии учителя в компьютере, не заблокировав. Особенно те, из бассейна. Мама случайно включила и чуть не бросилась в полицию. Хотя на самом деле я снимала из окна, с большим увеличением.
В том же году меня перевели в другую школу и записали в Центр сексуального воспитания подростков. В центре было по-своему интересно, объясняли про тактильное и зрительное восприятие партнера, эротические зоны, контрацептивы, оргазм. Оказалось, что бывает несколько видов оргазма, нужно только хорошо ознакомиться с собственным телом. И еще понять преимущества свободного проявления чувств перед ложной стыдливостью.
К сожалению, избавление от гиповитаминоза В с большой вероятностью затронуло не только цвет кожи, но и другие центры, потому что в течение многих лет мне никак не удавалось избавиться от ложной стыдливости и перейти к свободному проявлению чувств.
К моменту знакомства с Кайлом я пережила три увлечения, две случайные связи и один безнадежно длинный роман с однокурсником по медшколе. Кайл, в отличие от однокурсника, был красив и весел, не делал замечаний и не создавал проблем на ровном месте. Он занимался вопросами цветового контроля в оптике, но не слишком усердствовал, предпочитая плаванье и верховую езду. На фоне беспрерывного и самоотверженного служения моих родителей его отношение к жизни выглядело ужасно привлекательно.
Собственно, это все. С тех пор прошло шесть лет, Кайл по-прежнему пишет диссертацию по вопросам цветового контроля, плавает, спит со мной и еще двумя милыми девчонками из отдела информатики. Его мама, совладелец корпорации межпланетных перевозок, смотрит снисходительно на все затеи своего сорокалетнего мальчика. А сам Кайл уверяет, что без ума от моих глаз и фигуры, но не чувствует себя готовым к ответственным решениям.
Когда в институте объявили конкурс на очередную тайм-командировку, я ничего ему не рассказала, как и родителям. Во-первых, был очень небольшой шанс попасть, во-вторых, вся остальная жизнь ушла бы на переговоры и объяснения.
А если что-то надо объяснять, То ничего не надо объяснять. А если все же стоит объяснить, То ничего не стоит объяснить.Целый месяц льет дождь. В моем домике сыро и холодно. Конечно, я включаю обогреватели на обоих этажах, – жуткие металлические ящики, которые мешают проходить и царапают коленки, но большого уюта все равно не получается. Мой пациент господин Рабинович предлагает смастерить камин. Оказалось, он не вышивает на шелке, а вырезает по дереву. И еще строит камины, совершенно настоящие, которые топят углем. Но как можно что-то строить в съемном доме?
Кстати, мы с ним подружились. Господин Элиэзер арендует точно такой же домик на соседней улице. И тоже совсем новый. Местные жители сначала загорелись покупкой красивых коттеджей, но быстро разочаровались, – для молодой семьи дом слишком мал, а пожилым не подходит высокая лестница. На моей улице уже давно висят два объявления о продаже. Может, плюнуть на трезвые размышления и купить? Построить камин, облицевать стены уютной шершавой плиткой, завести настоящую живую собаку и пушистого теплого, как подушка, кота… Да, с такими планами, госпожа командировочная, вам и года не продержаться, полетите как миленькая вон с работы вместе с неоконченной диссертацией.
Конечно, зимой больных прибавилось – эпидемия гриппа, ангины, бронхиты. И болезни сердца не терпят холода, и гипертонии обострились. Очередь у моего кабинета длиннее день ото дня, будто снежный обвал в горах, а не мирная служба на благо человечества. Зато выявлены семь новых случаев онкологии на очень ранней стадии – испугаться не успели, а уже вылечены! И даже женщина с запущенной опухолью кишечника пошла на поправку. Та самая, с мужем, любителем интернета.
А бывают и совсем легкие случаи – люди приходят подписать справки в спортзал или для обучения вождению. Русская девочка Женька Гуревич принесла бланк для поступления в университет. Вот умница! Оказывается, она сирота, поступила в местный интернат по какой-то программе для подростков, снимает комнату-студию в подвале большой виллы, работает в булочной и собирает деньги на учебу. А я с рождения не знаю забот, имею прекрасных талантливых родителей и еще огорчаюсь! И скучаю по Кайлу, хотя сама решила уехать. Зато Женька недавно попросила выписать рецепт на контрацептивы. Жизнь продолжается!
Очередная Расмия плавно входит в кабинет. Нет, на этот раз Латифа! Круглое лукавое лицо, длинное широкое платье, обязательные два платка. Она лет на десять моложе мой мамы, но выглядит, как ее бабушка, из-за скучной одежды и большого обвисшего живота. Кажется, у этой Латифы шестеро детей. Или восемь? Помню, что четное число и что все женаты кроме младшего сына. Интересно, как бы она отнеслась к Центру материнства?
– Вот анализы, – вежливо улыбается Латифа и садится на краешек стула.
Эта женщина вызывает во мне искреннее восхищение. В отличие от всех остальных Расмий и Латиф она не ходит за мужем, как тень, а бодро держит в руках все семейство, включая невесток и более двух десятков внуков. И все они послушно сдают анализы, вовремя делают прививки и принимают витамины, которые приходится назначать из-за наследственной анемии. Вот и сейчас она явилась с анализами мужа, потому что сам он не тратит время на такие пустяки, как посещение врача.
Анализы средние, – много жиров и мало витаминов, много еды и мало движения, и так понятно. Но грубых нарушений, кажется, нет… О! Не может быть!..
Что за дикость присылать жену к врачу, а не приходить самому! Может быть, я бы заметила раньше…
Латифа смотрит внимательно, улыбка, как маска, сползает с круглого лица.
– Да, – говорю я, – есть один плохой анализ. Нужно срочно обратиться к урологу, я сейчас выпишу направление.
– Не рак? – выдыхает она шепотом.
– Похоже. Похоже, что рак. Анализ показывает, но нужно все проверить.
– Она молчит. Просто сидит и молчит.
– Это не очень тяжелый рак! Можно бороться, я тебе обещаю! Только ты должна мне помогать, понимаешь? Можно бороться и полностью выздороветь.
Я еще что-то говорю, такое же глупое и неубедительное. Маркер в пять раз выше нормы, наверное, уже есть метастазы.
– Сына собираемся женить, – говорит Латифа. – На сколько отложить?
– На полгода. Дай мне полгода, договорились?
Она опять молчит, аккуратно складывает направление, анализы, карточки.
Как страшно и тяжело работать, какая безнадежная отсталость и тоска. Если бы не метастазы, эту опухоль легко можно убрать. В конце концов, биотерапия – даже не облучение, как во времена рентгена, не такой уж однозначный риск для врача.
– Лина, что?! – я с ужасом смотрю в белое мертвое лицо. – Что случилось?!
Лина пытается ответить, но серые губы дрожат и не складываются в слова.
– Кровотечение? Боли? Инфекция?!
– Предлагают прервать, – хрипло выдавливает она. – Мальчик больной. Синдром Дауна.
– А девочка?!
– Девочка нормальная. Но говорят, что если убирать один плод, то второй в этом сроке вряд ли удастся сохранить.
Синдром Дауна. Какая жестокая ошибка природы. Мамина Нобелевская премия опоздала на много лет. Нет, все равно, коррекция возможна только до беременности.
Бедный, бедный мальчик… Но девочка-то совершенно нормальная! Я вдруг отчетливо представляю эту девочку, курносую озорницу в кудряшках и почему-то с рыжими веснушками, как у моей мамы. Вот она копает песок круглым совочком, высунув язык от усердия, вот бежит в школу, таща за собой веселый красный ранец на колесиках, только и мелькают стройные ножки с ободранными коленками, вот спешит на свидание – нежная юная грудь, тонкие запястья, как у Лины, шапка золотых кудрей…
– Это невозможно! – Я больше не в силах себя сдерживать. – Девочка должна жить.
– Говорят, у мальчика очень много дефектов, будет совсем дебильный и больной…
Я опять представляю озорницу в кудряшках. Рядом – толстый больной мальчик с бессмысленным взглядом, слюна течет изо рта, он тупо стучит паровозиком о каменный пол. Маленькая никому не нужная красавица. Замученные родители не обращают на тебя внимания, ты часами сидишь у телевизора, пока мама ездит с братцем по больницам и врачам, на день рождения к тебе не приглашают гостей, у тебя почти нет подружек. В школе ты не рассказываешь про брата, он все время болеет, плачет и мычит, рвет твои тетради и ломает игрушки. Мама все больше устает и замыкается, папа все позже приходит домой и однажды не приходит совсем…
Если очень сосредоточиться, лихорадочно думаю я, не так страшно… ты же сама хотела попробовать… О нарушении инструкции все равно никто не узнает.
Я представляю, как восстанавливается форма глаз и головы плода, удлинняются ручки, смыкаются клапаны сердца – хорошенький крошечный мальчик, совсем худенький еще, но полноценный и нормальный…
Тогда и метастазы у мужа Латифы!.. Только два в костях таза… совсем небольшие. Легко вхожу в биополе, ничего страшного не случится, ну поболею немножко …
Холодная скользкая лягушачья лапа разжимается в моей груди, и я дышу легко и свободно. Все правильно! Для кого так сильно себя беречь? Для Кайла?
– Знаешь, Лина, по-моему, все сошли с ума! Столько лет ждать эту девочку и вдруг убить на ровном месте? А мальчик… а мальчик тоже может оказаться нормальным. Бывают ошибки, даже очень часто! Давай рискнем, а?
– Да, – замученно улыбается Лина, – я тоже так думаю. Попробую. Я вам очень благодарна за все, очень-очень благодарна!
Всю зиму я болею. Но не очень страшно, обычные инфекции – воспаление легких, гайморит, фолликулярная ангина. Выхожу на работу на пару недель и подхватываю очередную заразу. Все верно – снизилась иммунная защита, как и описано в первых работах по биотерапии.
Две недели назад Лина родила двойню, Том позвонил прямо из родильной палаты:
– Доктор, я обязан вам сказать! Вам – первой! Мальчик совершенно нормальный!.. Ничего не подтвердилось, представляете?!
– А девочка?!
– Девочка еще лучше! Замечательная девочка! Лина просит передать вам спасибо. Огромное спасибо за поддержку!
А муж Латифы перенес два курса химиотерапии, сейчас на облучении. Очень большой шанс на полное выздоровление. Все врачи удивляются, что при таком размере опухоли не развились метастазы.
Болеть так долго и нудно я не привыкла. Антибиотики очень устаревшие, приходится глотать в день по несколько порций вместо однократной эффективной дозы. Зато готов мой коврик с лилиями, висит над лестницей и пылится понемногу.
Иногда, ближе к вечеру, заходит господин Элиэзер, приносит фрукты, печенье в маленьких корзиночках, какой-то особый целительный мед. Вчера он подарил мне деревянный гриб собственной работы, в котором можно хранить иголки для вышивания. На тумбочке у моей кровати сидит грустная деревянная собака. Он продолжает утверждать, что я слишком молода и не понимаю ценности здоровья, что нужно принимать витамины и нельзя бегать без тапочек по каменному полу.
Мой «юбилей» пришелся на высокую температуру, хоть в этом повезло. Все-таки жутко чувствовать себя пятидесятилетней женщиной, даже временно. Сотрудники прислали корзину цветов с пожеланиями здоровья, про возраст деликатно не упоминали.
Ничего, скоро наступит лето, уменьшится количество инфекций, можно будет ездить на море, греть ступни в горячем песке и полоскать нос горькой целебной водой. Мне положен отпуск, надо бы придумать что-то особенное, но немного грустно планировать одной. В прошлом году я хотела поехать в Голландию, побродить под мелким дождиком после местной жары, посмотреть на реки и каналы, но так и не собралась. Страшно думать обо всех этих поездах и самолетах, ползущие, как улитки, очереди в аэропорту, отправке багажа. Хорошо, что меня не занесло еще на пару веков назад, пришлось бы путешествовать в дилижансе!
Телефон на моем рабочем столе трещал и, кажется, подпрыгивал от усердия.
Я уже привыкла к разным громоздким и нелепым предметам – компьютеру, принтеру, аппарату для измерения давления, – но телефонный аппарат особенно раздражает, потому что отвлекает внимание, и я все время боюсь что-то забыть или перепутать.
– Алло, я говорю с семейным врачом больной Гуревич Евгении? Пожалуйста, примите во внимание, Гуревич выписывается сегодня, ей потребуется постоянное наблюдение. Я уже связалась с вашим социальным работником, но хотела бы предупредить и лечащего врача.
– Гуревич? Женя?! Что случилось?
– Попытка самоубийства. К счастью, не удавшаяся. Запросите консультацию психиатра по месту жительства и повторный анализ крови. Впрочем, все указано в выписке.
– Женька, – бодро говорю я, – Женька, ты что это надумала?! Такая умная самостоятельная девочка…
Все слова лишние перед этим худеньким лицом с запавшими глазами.
– Не будем вспоминать, ты просто заболела. Временно. Больше это никогда не повторится, правда?
– Доктор, извините, я совсем не хотела вас огорчать. Глупо получилось и некрасиво, я понимаю. У меня просто кончились силы, понимаете? Зря они думают про наследственность и психические болезни. Бабушка говорила, что мама была слишком молодой и легкомысленной, вот и все. Но разве здесь можно кому-то объяснить…
Женька рассказывает тихим бесцветным голосом. Конечно, в больнице накачали транквилизаторами и антидепрессантами, их тоже нужно понять.
Она выбрала наш городок, потому что здесь можно было найти отдельную квартиру. Пусть совсем маленькую, но отдельную. Хозяева вилл иногда сдают студию в подвале, очень дешево. Потому что она с пятнадцати лет живет в коллективе – сначала в интернате, потом в армии. Она решила позаниматься серьезно и сдать психотест. Чтобы попасть на медицинский факультет университета. Конечно, шансов очень мало, но у нее аттестат очень хороший. Нет, не потому, что она такая гениальная, – в интернате почти все ленились заниматься, и подготовка у ребят была слабая, многие из детдомов приехали. А ей учеба легко дается. И еще она хотела ради бабушки. Понимаете, стать врачом, как бабушка. Она очень честно училась, никуда не ходила, кроме работы в булочной. И прямо там в булочной познакомилась с удивительным человеком. Он приходил рано утром, к первой выпечке. Совсем взрослый, заканчивал докторантуру в Технионе. Но очень умный и добрый.
– И еще, наверное, веселый и красивый?
Я сама не ожидала, что так разозлюсь, даже голос осип.
Нет, говорит Женя, не особенно красивый, худой и длинный, но очень-очень хороший. Все на свете знал. И рисовал смешные картинки. И играл на саксофоне. Она понимала, что скоро ему надоест, обычная глупая девчонка, но ничего не могла придумать, кроме как сдать этот чертов психотест и стать настоящей студенткой.
Все оказалось ужасно, она получила только 650! Неплохой результат для технических факультетов, но про медицинский можно забыть навсегда. Ответ пришел утром, и в тот же день он исчез. Уехал в Австралию. Только оставил маленькую записку, вот и все. Даже не закончил свою диссертацию.
Нет, она и тогда решила не сдаваться. Устроилась еще на уборку в супермаркет и записалась на самые дорогие курсы по подготовке к повторному психотесту. Учительница из интерната сказала, что если с отличием закончить такие курсы, то можно повысить первую отметку на сто баллов! И она решила получить эти допольнительные сто баллов или умереть…
Я не могу больше смотреть на ее пустые глаза и дрожащий подбородок.
– С ума сошла! Нашла из-за чего умирать, из-за экзамена! Какой-то тупой психотест, что он вообще определяет!
– Нет, вы не понимаете, я очень хорошо подготовилась. Лучше просто невозможно, и на курсах так сказали. Но я ужасно ошиблась! Я все ответы ставила в соседнюю клеточку! Ровно на одну клеточку влево, представляете?! И все! Я поехала в комиссию, пыталась объяснить. Но они сказали, что если человек не понимает, в какую клеточку ставить ответ, то с ним вообще не о чем разговаривать!
– А твой «веселый и хороший человек» так и не появился? Кстати, я его не знаю?
– Не думаю. Он никогда к врачам не ходил. Его зовут Томер Арад, красиво, правда?
Вы не думайте, он совершенно не виноват! Никто не виноват, что я такая дуреха и неудачница.
На следующей неделе я беру отгул и еду в комиссию по проверке экзамена. Глупо, конечно, даже самой себе не могу объяснить, зачем я это делаю и чего жду.
Полный некрасивый человек раздраженно кривит губу:
– Я вообще не понимаю, как вас сюда пропустили! Разбор экзаменационных работ еще не закончен, окончательные результаты не вынесены. Но мы заранее предупреждаем, что ошибка в заполнении листа приравнивается к неправильному ответу.
Он мучительно морщится. Конечно, – гастрит, сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий. Да еще камень в правой почке, наверняка мочевая кислота повышена.
– Я вас очень прошу покинуть помещение и не мешать работать. Что заслужила ваша девочка, то и получит.
Мне ужасно хочется хлопнуть дверью, но как-то неприлично. Ханни Гур воспитанная женщина.
– Камень в почке нужно удалить, – неожиданно для себя говорю я.
– В какой почке?!
– В правой. Может сильно навредить, особенно на фоне диабета. И в дальнейшем советую принимать лекарство для понижения мочевой кислоты. Иначе скоро начнутся приступы подагры.
Я не спеша выхожу и аккуратно закрываю дверь. Но она тут же распахивается.
– Подождите! Кто вы, черт побери?! Вы что, мать этой девчонки?
– Нет, к сожалению, у меня нет детей. Я – ее лечащий врач.
Стыдно, конечно. Нужно все-таки думать, прежде чем совершать поступки, да еще такие бездарные. Что бы сказали составители моей программы?!
Господин Элиэзер пригласил меня в гости. На ужин. Мне ужасно хочется пойти хотя бы потому, что я почти не бываю в гостях. Инструкцией не рекомендовано заводить приятелей и знакомых.
– Я неплохой кулинар, – стеснительно улыбается он.
– Серьезно? И скрываете такой талант?
– У меня масса талантов, дорогая доктор, вы просто не можете себе представить весь объем.
– А почему об этом не знает лечащий врач?
– Я вас боюсь, – говорит он совершенно серьезно и грустно.
Как все сложно и странно. Женатый пожилой профессор, совершенно чужой человек, а мне так легко болтать с ним, кокетничать, рассказывать про отпуск, вышитый коврик, картины Матисса. Он прекрасно знает музыку восемнадцатого века. Конечно, не только восемнадцатого, на прошлой неделе я получила в подарок чудесную запись Стравинского. Но нет ничего уютнее клавесина…
Ах, мой милый клавесин…
Все пройдет, все…
Собственно, ничего удивительного. Пожилой сосед в длительной командировке приглашает одинокую немолодую женщину к себе на ужин. Тем более женщина эта с ним откровенно кокетничает. Интересно, что последует за ужином? Он предложит ей остаться?
Я вдруг представляю, как господин Элиэзер обнимает меня. У него должны быть ласковые теплые руки, можно взобраться на колени, спрятать голову в расстегнутом вороте рубашки и немного отдохнуть. Совсем немножко отдохнуть от одиночества, самоконтроля, чувства долга, чужой боли и собственной ответственности.
Домик господина Элиэзера почти не отличается от моего. Только вместо роз в садике разбита лужайка и растут три маленьких мандариновых деревца. На двери висит тяжелое медное кольцо, как в средние века. Вот забавно, наверное, нужно поднять его и постучать? Я на минуту остановилась, потому что меня поразил запах. Что-то очень вкусное жарилось или пеклось, я даже не сразу поняла и постояла, оглядываясь. Нет, запах точно шел из-за закрытой двери. Стало еще интереснее. Кольцо было теплое на ощупь и очень тяжелое, даже не хотелось отпускать, но оно звонко бухнуло о медную дощечку и тут же открылась дверь. Пахло так вкусно, что у меня закружилась голова.
– Заходите-заходите!
Господин Элиэзер был одет в длинный передник с кармашками, усы и нос его казались напудренными, как у клоуна.
– Немного завозился с бараниной, но она уже печется и почти готова! Остался только пирог.
Он готовил пирог! Не знаю, чего я ожидала. Наверное, пиццу и салат, как принято везде подавать на ужин. В крайнем случае, кейтеринг из ближайшего ресторана.
На столе лежала огромная деревянная доска, и господин Элиэзер длинной деревянной лопаткой стучал по ней, перемешивая что-то белое и густое.
– Тесто, – он улыбнулся застенчиво, – главное, хорошо порубить муку с маслом. А потом – нечего делать!
Я первый раз в жизни видела, как готовят тесто. Я даже не знала, что его можно приготовить дома, а не купить замороженным и свернутым в трубочку.
Господин Элиэзер еще пару минут постучал лопаткой по белому месиву, потом раскатал в тонкий пласт, загнул края и принялся резать яблоки. Все это было ужасно забавно и смешно, потому что на каждом углу продавались яблочные пироги самых разных фасонов и размеров.
– Проходите, пожалуйста, – он даже немного запыхался. – Садитесь вот здесь, у камина, я только сниму соус, – и все готово!
Да, это был настоящий камин, выложенный круглыми серыми камнями, совершенно замечательный и совершенно ненужный при местной жаре. Рядом стояла низкая тяжелая деревянная скамеечка, чуть дальше – два больших кожаных кресла, огромная напольная лампа с бронзовым Амурчиком вместо ножки. На каминной полке бодро тикали часы с таким же Амурчиком, увитые виноградом. Кажется, я отправилась в дополнительное путешествие, еще на пару веков назад. Не хватает только горничной в длинном платье и чепчике с оборками. Нет, никаких горничных, они вечно заигрывают с хозяином!
Это была очень красивая сказка. Мы сидели за большим деревянным столом, накрытым белоснежной льняной скатертью, чуть слышно звенел клавесин, баранина сладостно дымилась в тяжелом глиняном блюде, и каждую порцию следовало отдельно полить брусничным соусом из темной кастрюльки. Оказывается, баранину нужно покупать только у бедуинов, в небольшой местной лавке рядом с рестораном, а бруснику – наборот, в русском магазине в Хайфе. Яблоки для пирога обязательно брать зеленые, они не такие сладкие, но с тонкой кожурой! И еще важна пропорция между корицей и ванилью, иначе пропадает аромат.
Я послушно кивала, я готова была сто раз подтвердить, что ни аромат, ни вкус не пропали, и только жалела, что нельзя переодеться в длинное платье, вытканное шелком, оно бы очень подошло к клавесину.
Он был совсем нестарым, если только плечи. И волновался как мальчишка, даже специально вышел в прихожую и украдкой посмотрелся в зеркало. И поспешно пригладил седой вихор на макушке.
– Вам понравилось? Правда? Я ужасно рад! Знаете, дорогая доктор, все время боюсь показаться смешным. Вы ведь немного смеетесь надо мной?
Было так уютно и легко сидеть в огромном кресле, пить чуть горчащий ликер из прозрачной рюмки, отламывать крошечной серебряной вилкой пирог. Часы стучали и звенели каждые пятнадцать минут, но время не двигалось, вернее, оно двигалось куда-то в сторону, ничего не нарушая.
– Я был страшно любознательным мальчиком и хотел попробовать все на свете – путешествовать, строить, рисовать. Но моя преданная еврейская мама признавала только две специальности для своего единственного сына – доктор или адвокат. В крайнем случае, какой-нибудь профессор. На доктора я не годился при всем желании, потому что жутко боюсь боли и крови, адвокаты слишком много говорят и лицемерят, пришлось стать профессором химии. Благо, в химии много эксперимента и фантазии. Но главное – каникулы! В каникулы я был волен как птица! Одно лето я целиком посвятил парусному спорту, другое проработал помощником шеф-повара в шикарном французском ресторане, потом увлекся работой по дереву. Знаете, у меня неплохо получалось. На нашей улице как раз открылась мастерская по ремонту и реставрации старинной мебели. Увлекательное занятие, честно говоря, – будто лаком и краской оживляешь само время! Хозяин даже предлагал мне вступить в дело.
– А потом?
– А потом я женился. На очень красивой и энергичной женщине. И у нас родились такие же красивые энергичные дети. Кстати, они оба выбрали профессию адвоката, забавно, не правда ли? Моя мама, наверное, была бы счастлива. Но она рано и неожиданно умерла от сердечного приступа. Поверите, никак не могу примириться, хотя теперь я уже старше нее.
– И больше вы ничем не увлекались?
– Нет. Каникулы закончились. Нужно было много работать, покупать дом, учить детей. Был, конечно, отпуск. Но отпуск полагалось проводить на приличном курорте, в кругу солидных и обеспеченных приятелей, как и подобает профессору университета. По крайней мере, моя жена не рассматривала никаких других вариантов.
– А я совсем не умею планировать отпуск, слишком сложно получается. Нужно решать, куда-то звонить, выбирать маршрут, заказывать билет на самолет. В прошлом году так и не выбралась дальше Эйлата. Неделю проторчала в море, вечером бродила по магазинам, вот и все развлечения.
Не могла же я рассказать, что теряюсь в этом мире, как старый джин из бутылки.
– Эйлат – тоже забавно по-своему. Наверняка все местные ухажеры не давали вам проходу. Но разве не хочется отдохнуть от жары и моря?
Да уж, ухажеры! Я так устала от разговоров на работе, что за неделю не сказала и пары фраз. Даже с официантами и дежурными в отеле только обменивалась вежливыми улыбками, как глухонемая. К тому же наряды Ханни Гур, ее нелепые длинные юбки и шляпы с широкими полями, совсем не располагали к знакомству.
– Конечно, хочется отдохнуть от жары! Нагрелась на пять лет вперед. Нужно хоть немного серого неба. И чтобы мелкий дождик стучал по тротуарам, и деревья отражались в реке. Может быть, поехать в Амстердам? Или в Венецию?
Нет, мне не очень хотелось в Венецию. Я была там за год до командировки, ужасное запустение, лопнувшие стекла прежних витрин и магазинчиков, замусоренные дурно пахнущие каналы. Люди прошлого слишком долго эксплуатировали старые здания, почти не заботясь о реставрации, да еще сочинили красивую сказку о прелести разрушения. Разве возможно гулять по городу и знать, какая деградация его ожидает?
– Никакой Венеции! Там невозможно отдохнуть от толпы. Я знаю, куда вы должны поехать. В Брюгге! Здесь его еще зовут Брюж. Быстро записывайте телефон! Впрочем, не нужно записывать, я подарю вам визитную карточку агентства. Очень четко работают и делают приличные скидки, вот увидите! Они все организуют – самолет, отель, экскурсии. Только не заказывайте организованные туры, по этому городу нужно ходить медленно и вдумчиво, иначе все прозеваете.
Я вдруг представила, как выхожу из самолета и спешу побыстрее пройти паспортный контроль. (Я уже проходила два раза в этой жизни, не так страшно, хотя и очень глупо организовано.) Чемодан можно взять совсем небольшой, тогда не нужно сдавать его, а потом дожидаться выдачи багажа.
Я почти бегу к выходу, хотя некуда торопиться и совсем никто не должен меня ждать…
– Спасибо! Я вам страшно благодарна. Никогда не знаю, куда звонить и кого спрашивать. Как вам удалось так освоиться и с магазинами, и с агенствами, ведь я приехала намного раньше?
– О, я ужасно практичный! Я еще нашел прекрасного доктора. Совершенно замечательного доктора, который умеет не назначать лекарства, а отменять! Хотите, дам адрес?
Нет, он был ужасно забавный и совсем не старый. Настоящий мальчишка, переодетый в пожилого господина.
– А как вас зовут дома? Элли? Или Эзра?
– Рабинович. Сначала жена называла в шутку, потом привыкла. И дети привыкли. Им кажется, что это очень мило. А знаете, как меня звала мама? Зорик! Смешно, правда?
– Почему смешно? Как раз очень ласково, мне нравится!
– О, чуть не забыл! – он хлопнул себя по лбу, как Том Сойер, и заспешил к лестнице. – Вот что значит много болтать!
Я тихо любовалась на лампу, часы, стол, пирог, испеченный специально для меня. Цветы, специально для меня собранные и поставленные в старинную вазу, осыпали лепестки на скатерть. Струнный квартет, когда-то специально для меня написанный Вивальди, звучал все ярче и нежнее.
– Вот! Это подарок. На память. Целую неделю мастерил, клянусь! Я ведь уезжаю, учебный год закончился.
Часы опять зазвенели пронзительно и жалобно, будто где-то разбился хрустальный башмачок. Все правильно – карета преваращается в тыкву, принцесса в лягушку, а веселый мальчик Зорик в солидного американского профессора, которому пора возвращаться домой.
– Вам не нравится?
Конечно, я вела себя неприлично. Нужно было срочно похвалить плетеную деревянную корзинку, которую он держал в протянутой руке. Корзинка была вполне красивая, с орнаментом из листьев, только в одном месте рисунок немного сполз к краю. Нечего придираться, не хуже моего коврика с лилиями!
– Мне очень нравится! Мне все очень нравится – и ваш дом, и пирог, и корзинка. В ней можно хранить разные полезные вещи – бусы, например, или ракушки. Но мне уже пора. Давно пора домой. Завтра опять длинный рабочий день, а потом еще конференция по гастроэнтерологии.
Я почти бегом спустилась с крыльца. Хорошо, что приехала на машине, иначе он бы отправился провожать. Я старалась не смотреть на пожилого сутулого человека в аккуратной и неуместно белой рубашке, молча стоящего у калитки.
Вот и еще один день прошел. Осталось меньше трех лет, пора делать очередные записи. Скоро ожидается большая трехдневная конференция по эндокринологии. У меня на глазах начинается новое направление, которое потом приведет к настоящей революции и полному излечению от обоих типов диабета! Любой ученый позавидовал бы, а я огорчаюсь на ровном месте.
Дома было темно и пусто. Пластиковый столик на кухне, холодный и скользкий, как лягушачья кожа, такие же пластиковые стулья, диван, купленный в стандартной торговой сети «IKEA». Я засунула корзинку под диван, нырнула в душ, на ходу стирая косметику.
Ах, мой милый клавесин…
Все пройдет. Все.
Вот и опять наступило лето. Жара плавит асфальт, трава сразу пожелтела, просто дышать не хочется! Ничего, скоро я уеду в отпуск, в чудесный старинный город Брюж. Агентство оказалось очень хорошим, господин Рабинович не зря обещал. Я только позвонила один раз, и уже через неделю у меня на столе лежала распечатка билета на самолет, маршрут из аэропорта и адрес отеля. Оказывается, в этом времени тоже можно жить, если рядом есть Элиэзер Рабинович. Но его нет, к сожалению. Смешной добрый профессор Зорик уехал три недели назад. Честно говоря, я сознательно избегала встречи с ним, ведь если нет встреч, не будет и разлук.
Правда, в день отъезда господина Рабиновича на моем крыльце оказалась резная деревянная миска, полная черешни. И ведь мы ни разу не вспоминали и не говорили, как я обожаю черешню.
– Доктор, они исправили! – Женя стоит на пороге кабинета, заглядывая через голову очередной Расмии. – Мне изменили оценку!..
Расмия недовольно морщится, но отступает из уважения ко мне и нашему разговору на непонятном языке.
– Вчера позвонили и вызвали прямо к директору комиссии! И он сказал, что в порядке исключения перепроверили мою работу! Действительно, если сдвинуть на одну клетку все ответы, получается очень высокий результат!
Она смешно таращит глаза и шепчет: «Семьсот пятьдесят!..»
– С ума сойти, Женя, это же полная победа!
– Да, может быть. В сумме с аттестатом получается проходной балл. Нужно еще пройти устное собеседование, но появился шанс! Он так и сказал, этот председатель: «У тебя есть большие шансы поступить на медицинский факультет!» И еще он сказал одну странную вещь, я не совсем поняла…
– Какую такую вещь?
– Он сказал: «Передай своему лечащему врачу, что камень из почки удалили успешно».
Расмия наконец заходит в кабинет, но не одна. За ней степенно движется моя старая знакомая Латифа. Круглое лицо опять сияет, муж поправился окончательно, скоро свадьба младшего сына.
– Вот пришли с племянницей, посоветоваться. Я еду в Мекку, хочу привезти тебе подарок. А что привезти, не знаю. Она – молодая, но тоже не знает.
Мне становится весело. Чего бы такого попросить из Мекки? Святой воды? Святой Земли? Благословения какого-нибудь пророка? Но у нас здесь и так сплошные святые и пророки, шагнуть некуда!
– Латифа, не придумывай! У меня все есть, честное слово!
– Нет, – она вдруг начинает плакать, – я тебя очень-очень прошу, скажи!
– Латифа, спасибо, огромное спасибо! Твоего мужа вылечили онкологи, хорошо, что вовремя нашли болезнь! Я так рада!
– Это ты, – говорит Латифа и становится на колени, – это ты его спасла.
Я совершенно не знаю, что делать. И почему-то хочется заплакать, ничего глупее не придумаешь. О! Гениальная идея!
– Хорошо! Я знаю, что мне нужно. Ты ведь едешь молиться? Помолись, пожалуйста, за одну девочку. Вернее, молодую женщину. Чтобы у нее была счастливая любовь и хорошая семья! Это возможно?
– Да, – радостно улыбается Латифа, – напиши мне ее имя! Вот тут, на бумажке.
Я старательно вывожу большими буквами имя и фамилию. Интересно, мусульманский Бог умеет читать на иврите? На всякий случай пишу еще раз на английском. Фамилия Гуревич не такая уж сложная, а вот как правильно написать Женька?
Латифа поспешно прощается и уходит. Ужасно смешно просить бедуинскую женщину молиться в Мекке за русскую девочку из еврейской страны. Но вдруг Бог един, и он нас услышит?
Мой самолет вылетает поздно ночью. Почти все рейсы в Европу здесь ночные «из соображений безопасности». По крайней мере, так сказали в агентстве. Наверное, террористы – большие любители хорошо поспать. Полет до Бельгии больше четырех часов, как до Австралии в наше время! Но все-таки не парусный корабль и даже не дирижабль. Я стараюсь не обращать внимания на тряску при посадке, вой в ушах и гулкое буханье шасси о землю. В древности люди вообще ездили на телегах без рессор, и ничего, многие выживали.
Ранним пасмурным утром я выхожу в пустынный вестибюль аэропорта и спешу побыстрее пройти паспортный контроль. Хорошо, что взяла совсем небольшой чемодан, теперь не нужно томиться у выдачи багажа. Почему-то мне кажется, что это уже было однажды. Я почти бегу, хотя совершенно некуда торопиться, даже транспорт еще не ходит, и в отель не пустят так рано.
Наверное, были еще встречающие в зале, но я заметила только одного. Седой вихор на макушке ничуть не изменился, и прекрасная роза с капельками росы на длинном стебле казалось сошедшей с полотен восемнадцатого века.
– Господин Зорик, что это вы делаете здесь в пять утра?!
– Да, вот, решил немного прогуляться. Милая погода, знаете ли, дождик.
Наверное, не слишком прилично такой серьезной, строго одетой даме бросаться на шею пожилому седому господину. Но ведь зал почти пуст, никто и не заметил!
Мы не спеша идем по сказочному городу. Сквозь дымку дождя просвечивают кораблики, и деревья отражаются в реке, будто целый лес склонился над тихой водой. Ноги скользят по круглым камням мостовых, игрушечные витрины полны нарядных кукол, шоколадные звери и птицы глазеют хитрыми марципановыми глазами, прекрасные кружевные юбки обвивают воображаемые талии, и шали ручной работы просятся на плечи.
Ах, мой милый клавесин…
Мы заглядываем в маленькие дворики, заросшие зеленью и цветами, обходим мокрые кусты. Главное, не прозевать прекрасную и грустную Мадонну, Птицелова с мраморной дудочкой, толстых смешных человечков, замерших в нежном каменном объятье.
– Как ты узнал, что я сюда прилетаю?
– Ничего проще! Позвонил в агентство, я же сам дал тебе номер! Правда, пришлось приврать, что госпожа доктор потеряла ваучер отеля. Зато успел переоформить билет!
– Но ведь ты уехал навсегда?
– Что за глупости! Я уехал в отпуск. В отпуск, понимаешь? Мне предложили дополнительный контракт, еще на три года. Но я хотел повидаться с женой и детьми, тридцать лет жизни нельзя выбросить одним движением, правда?
– А почему ты мне не сказал про новый контракт?
– Я не успел! Я ничего не успел! Ты так стремительно собралась и ушла. Я решил, что совсем тебе не нужен, скучный старый дуралей, просто зашла из вежливости. А знаешь, о чем я думал весь тот вечер? – Как попросить тебя остаться.
– А знаешь, о чем я думала весь тот вечер? Что ты попросишь меня остаться!
Наверное, мы здорово похожи на глупых каменных человечков, когда вот так обнимаемся посреди мокрой улицы, в толстых куртках, с ненужными зонтиками в руках.
– Доктор, здравствуйте! – Женька радостно улыбается, но что-то мне не нравится.
Да, мордашка бледная, синие круги под глазами. Ее явно тошнит, крупные волны проходят по желудку. Мерзкий вирус, какие здесь часто встречаются летом? Или отравление? При такой жаре все может случиться.
Мой отпуск давно закончился, куртки и зонтики спрятаны в шкаф. Еще не меньше месяца здешней жары, ничего не поделаешь. Зорик уехал в Германию на целых три недели, там состоится ежегодный профессиональный съезд. Я стараюсь радоваться, для его сердца постоянная жара – слишком опасная нагрузка. Он очень звал меня с собой, но подобные варианты в моей программе даже не рассматриваются.
Честно говоря, наш чудесный смешной роман тоже не предусмотрен программой, наоборот, настоятельно рекомендовано не заводить привязанностей. Но мне так радостно и просто стало жить, сплошная польза для работы и науки! К тому же дополнительный контракт профессора Рабиновича очень удачно совпадает со сроком моей тайм-командировки! Будто кто-то нарочно составил композицию и теперь смотрит со стороны. Может быть, Латифин Бог?
– Да, тошнит, – смущенно улыбается Женька, – наверное, так и должно быть.
– Почему это «должно быть»?! Что за приговор?
– Говорят, при беременности всегда тошнит.
Уф! Тут, действительно, состаришься раньше срока. На такой-то работе.
– Женя! Что ты опять учудила?!
– Я нечаянно, честное слово! Я ведь перестала таблетки принимать, уже давно, когда Томер уехал. Я даже их из дому выбросила.
– А теперь что?
– А теперь он вернулся. Я просто растерялась, забыла совсем про эти таблетки. Он такой радостный приехал, понимаете?
Радостный! Хорош гусь. Интересно, как он теперь будет радоваться.
– Ты ему сказала?
– Сказала. Вчера. Я сразу решила, что если он хоть немного расстроится, – я ухожу и делаю аборт. Нельзя, чтобы ребенок жил так, как я жила. А он… он знаете, что сказал? Он сказал: «Отлично!» Я вернулась сегодня из булочной, а он все мои вещи уже к себе перевез. И вот еще…
Она протягивает тонкую загорелую руку и застенчиво улыбается. Совсем девчонка! Новенькое кольцо с ярким камешком блестит на пальце. Я вдруг вспоминаю Латифу, Мекку, бумажку с именем Женьки на двух языках… Неужели сказки сбываются на самом деле?
– А как же медицинский факультет?
– Я буду учиться! Обязательно! Просто отложу на год. Отметки не пропадают, я сегодня утром узнавала! Даже легче пройти собеседование, если ты – серьезная женщина, мать.
– Мать! Ты не мать, а дохлый цыпленок, синяя вся. Наверняка гемоглобин низкий! И фолиевую кислоту нужно принимать. Я тебе сейчас выпишу.
Я вдруг понимаю, что слишком распустилась. Дорогая Тин Кроун-Лутс, не забывайся! Это тебе не сестренка, а совсем посторонняя женщина. У нее свое время, своя жизнь, свои решения. Что, собственно, происходит?
– Вы рассердились? – жалобно морщится Женька. – Пожалуйста, не думайте, Томер очень хороший! Оказывается, у него в Австралии была любимая женщина. Они когда-то уехали вместе после университета, но Томер вернулся, потому что хотел жить на родине, а она обещала приехать, но не приезжала. А он ждал и ждал… И тут случайно появилась я, и все окончательно запуталось. Понимаете, он уехал, чтобы разобраться! А письмо с плохой отметкой за психотест случайно пришло в тот же день. Я все придумала!
– Я совсем не сержусь, с чего ты взяла. Просто меня волнует твое здоровье. Кстати, ты ведь принимала антидепрессанты после больницы?
– Нет, я их сразу бросила. Доктор, миленькая, я боялась вам сказать, вы такая добрая и так за меня переживали. Я никогда, никогда не забуду! Но у меня нет депрессии, честное слово! И у мамы не было! Бабушка всегда это говорила. Просто им всем ужасно не повезло. Сначала дедушка умер, он был намного старше и всегда тяжело болел, они с бабушкой даже познакомились в больнице, представляете? Потом случилось несчастье с бабушкиной старшей дочкой, ее несправедливо исключили из университета. Потом мама влюбилась в директора школы! Он у них физику преподавал, совсем старый, лет сорока, наверное, давно женатый. А маме физика не давалась, и он предложил отдельно заниматься после уроков. Бабушка говорила, что я в него такая способная, легко учусь… Ненавижу!.. – Женька так сжимает кулаки, что палец белеет под новеньким кольцом. – Он сказал, что мама все врет, представляете?! Что она все врет и хочет свалить на него свою распущенность и безнравственность! Маму выгнали из школы, бабушка поменяла квартиру на плохую и маленькую, но в другом районе. Конечно, она страдала и ругала маму, мама злилась и уходила из дому, а я с самого рождения была никому не нужна. Нет, не так! После маминой гибели бабушка очнулась, она меня очень-очень любила! И еще она все время ждала свою старшую дочь. Каждый вечер повторяла: «Вот найдется Аня, и все станет хорошо». Вы не думайте, бабушка никогда бы меня в интернат не отдала! Но она заболела раком.
– Раком желудка?
– Да. А как вы догадались?
Мне вдруг кажется, что земля уплывает из-под ног, хотя мы сидим на втором этаже прочного каменного здания. Нет, не может быть! Этого не может быть! В программе ясно сказано – живых свидетелей не осталось.
– Как звали твою бабушку?
– Надя. Надежда Петровна. А дедушку – Михаил.
Ну да, Михаил Исаакович Гуревич, в российском сокращении – Миша.
Кажется, я говорю это вслух, потому что Женькины глаза выкатываются на пол-лица.
– Почему вы спрашиваете? Вы их знали?! Аня! Тетя Аня, это ты?!
Выходной день все-таки очень утешает в жизни. Я валяюсь в кровати и рассматриваю фотографии, развешанные по стенам в красивых деревянных рамочках. Рамочки, конечно же, работа Зорика. Собственно, здесь почти всё – работа Зорика, и резные тумбочки, и карниз, и комод. И дом, в котором я теперь живу – это дом Зорика. В один прекрасный день он решил, что ничем не хуже Томера, и перетащил к себе все мои вещи, включая мольберт и швейную машинку. Оказалось, что одна спальня и одна мастерская вполне вмещают двоих людей! Правда, мольберт часто задвинут в угол, но мне в последнее время все равно некогда рисовать, потому что по вечерам я забираю Мишу. Женька перешла на второй курс, предметы очень сложные, а мне как раз очень полезно гулять по вечерам. Мише исполнилось два года, он совершенно замечательный, самый умный и красивый из всех детей на площадке, и Зорик зря смеется, что бабушкины чувства не контролируются умом.
Как быстро летит время! Говорят, это признак старения, потому что в детстве время проходит медленно и вмещает тысячу разных событий. К сожалению, появились и другие признаки старения – морщинки, круги под глазами, седина на висках. Волосы приходится красить уже по-настоящему. Правда, я много болела, особенно в последний год, даже попала в реанимацию с менингитом.
Приходится признать – мои старания много нового не принесли, как и предполагалось, биотерапия разрушительно действует на врача. Что ж, отрицательный опыт – тоже опыт. Возможно, он поможет ученым будущего. Нет, я не бросалась на амбразуру и не рисковала без нужды. Уже в первый год, после вмешательства в Линину беременность, стало понятно, как это опасно. Кстати, дети прекрасно развиваются, только девочка, вопреки моим планам, оказалась черноглазой восточной красавицей, в папу Тома. Зато мальчик – сероглазый рыжик в локонах и веснушках, вот забавно!
После выздоровления мужа Латифы и моей повторной пневмонии я старалась обходиться конвенциональным лечением, честно направляла на химиотерапию и операции, выписывала антибиотики. Я дала себе слово прекратить произвол – ведь меня послали изучать уровень медицины, а не умирать с каждым больным и нарушать временные связи. Но еще два раза пришлось сорваться. Годовалый малыш подавился куском яблока, кусок этот проскочил слишком глубоко и закрыл сразу оба бронха. Крупный красивый мальчик, похожий на Мишу, он уже перестал дышать, сердцебиение падало, и я поняла, что обязана вмешаться хотя бы для собственного спасения – иначе просто умру от ужаса. А буквально назавтра молодой мужчина обратился к нашей медсестре с жалобами на боли в груди. Она честно измерила давление, сделала ЭКГ и попросила принести старую кардиограмму для сравнения. И он послушно отправился домой, пешком по жаре, взял кардиограмму и даже сумел вернуться и подняться на второй этаж.
Я нашла его у лифта, уже без сознания, пульс не определялся. И ни одной живой души вокруг! Потому что весь персонал ушел домой вовремя. А мой телефон остался на столе в кабинете. К счастью, тромб оказался совсем рыхлым, он мгновенно растворился, но пришлось расплачиваться менингитом.
Я лежу и рассматриваю фотографии в рамочках. Женька в свадебном платье, немыслимо красивая, стоит между мной и Томером, дочка Элиэзера в мантии адвоката, новорожденный Миша и Миша теперяшний – верхом на пони, Латифа под руку с мужем, Надежда и Михаил Гуревичи в тяжелых старомодных костюмах. Эту последнюю сильно увеличенную фотографию Женька подарила мне на прошедший день рождения. Она уверяет, что я жутко похожа на своего отца, Михаила Исааковича, он тоже был темноволосым и зеленоглазым. Немного непонятно, как можно судить про цвет глаз на черно-белой фотографии ужасного качества, но зато я первый раз в жизни на кого-то похожа!
Я лежу и совсем никуда не спешу, выходной день, за окном мелкий дождик, Зорик уехал за продуктами… Розовый куст за окном здорово вырос и весь усыпан яркими роскошными бутонами. Мандариновые деревья тоже в цвету, наверное, будет большой урожай. Миша называет мандарин «ба-ба-бим», ужасно смешно.
Я лежу и умираю от тоски. Все ужасно-ужасно смешно! И ужасно страшно. И ужасно безнадежно. Да, именно ужасно, никакое другое слово не приходит в голову. Я поступила ужасно легкомысленно и нелепо. Я нарушила все рекомендации и вступила в близкие отношения с местными людьми. Я сорвала собственное здоровье и не доказала ничего нового в области биотерапии. Конечно, история с Женькой не только моя вина, а собранный материал по генетике анемий – редкий и интересный, но это ничего не искупает. Потому что я совершенно не знаю, как быть дальше.
Осталось три месяца и семнадцать дней моей командировки. В первый год я с радостью вычеркивала каждый прошедший день, а сейчас с ужасом смотрю на календарь. Нет, конечно, я соскучилась. По маме, привычному удобному миру, университету. И очень интересно посмотреть, что нового произошло за длинные пять лет.
Но я не хочу возвращаться. Это ужасно, но я не хочу больше жить. Жить без моих чудесных роз, картин, швейной машинки, мандариновых деревьев. Без Женьки и Миши. Без самого доброго и забавного друга, лучшего на свете учителя и утешителя, профессора Элиэзера Рабиновича.
За всю историю тайм-командировок было только один случай, когда человек не вернулся. Он погиб в зоне Чернобыльской аварии. Нет, это был опытный и прекрасно подготовленный ученый, строго соблюдавший инструкции безопасности, но психологи программы плохо оценили человеческий фактор. В одной из опустевших деревень ученого застрелили мародеры, принявшие ручной контейнер с пробами воды и почвы за видеомагнитофон.
Я слышу, как открывается входная дверь, тут же ветер с грохотом захлопывает окно, Зорик тихо чертыхается. Да, начались февральские ветры, скоро весна.
Я бегу босиком по прохладным ступенькам… Не думать, не думать, не думать… На полу в кухне гора пакетов с продуктами, клубника в плетеной корзинке, пластмассовый оранжевый экскаватор, совершенно роскошный и огромный.
– Опять?! – Зорик усиленно изображает строгость. – Опять босиком! Ханеле, я пожалуюсь твоим пациентам!
Он подхватывает меня и усаживает на стол. Посмотрели бы пациенты! Горячие руки согревают мне спину и плечи, а губы и щеки холодные и вкусно пахнут дождем.
– Ты не представляешь, какую я купил баранину! Нужно срочно замариновать. Во сколько они собирались прийти?
Они – это Женька с семейством, конечно.
– Я решил, что шашлыки, лучше, чем стейки. Быстрее готовятся. И Миша любит откусывать с палочки. Экскаватор я прячу под стол, договорились?
Он начинает разбирать продукты и складывать в холодильник, а я сижу, как первоклассница, на столе и смотрю на родную седую голову, знакомый вихор на макушке, чуть сутулые плечи. Что?! Боже мой, что это?
Небольшое темное пятно гасит волны под левой лопаткой. Нет, чуть ниже. Я чувствую, как у меня немеют руки и губы. Да, темный страшный комок, похожий на паука, врос в головку поджелудочной железы, щупальца проникли в брюшину и аорту, черная полоса на тонкой кишке.
– Зорик! У тебя не болит живот в последнее время?
– Есть малость, – он виновато улыбается, – вот тут, слева. На кафедре был праздник, перебрал красного вина, наверное.
– И в спину отдает? Почему ты молчал?!
– Да, и в спину. Хотя у меня спина и раньше часто болела. Достался тебе старик, моя радость, что тут говорить!
Да, что говорить. Неоперабельная опухоль поджелудочной, уже проросла аорту и распространяется в общий желчный проток, скоро отекут ноги, начнутся невыносимые боли и желтуха…
Ничего-ничего… главное, сосредоточиться. Собственно, я уже закончила всю программу, данные по генетике анемий и развитии иммунной терапии переданы, графики составлены. Я только не успела переписать отчет по миеломной болезни, не страшно – в университете легко расшифруют черновики.
Немного грустно, конечно. Но можно только благодарить судьбу, у меня получилась прекрасная жизнь – мудрый и ласковый муж, любящие родственники, чудный внук, интересная работа, благодарные пациенты. И еще любимая музыка, картины, вышивание, роза, черешня. И грустная деревянная собака, и веселая глиняная лягушка…
Нужно только сосредоточиться и не спешить. Совсем не спешить, чтобы не прозевать какую-нибудь из мерзких черных лапок. Я почти не дышу, чтобы сохранить силы. Отвратительное темное пятно сжимается и тает, лапки рассыпаются, вот совсем освободилась аорта, вот ушла черная полоса с кишки. Печень к счастью не поражена, ровненькие теплые волны закружились в обычном ритме…
Кстати, я почти вспомнила конец сказки про принцессу-лягушку. Ее принц все-таки слез с печки и отправился к колдунье, потом поймал зайца, в зайце сидела утка, в утке – яйцо, в яйце – иголка, нужно было отломать кончик, куда-то дунуть-плюнуть…
В общем, полная ерунда, но она вернулась.
Над книгой работали
Редактор Лариса Спиридонова
Художественный редактор Валерий Калныньш
Корректор Елена Плёнкина
Верстка Светлана Спиридонова
Издательство «Время»
letter@books.vremya.ru
Электронная версия книги подготовлена компанией Webkniga.ru, 2017
Примечания
1
По приказу мэра в Иерусалиме все и старые, и вновь построенные здания облицованы золотисто-кремовым, так называемым иерусалимским камнем.
(обратно)2
Строчка из песни «Битлз» «Мишель, моя прекрасная» (англ.).
(обратно)3
Христианское имя (иврит).
(обратно)4
Террористический акт на дискотеке в Тель-Авиве, в котором погибли в основном девочки 14–16 лет.
(обратно)5
От английского слова job (работа).
(обратно)6
21-й профиль – полное освобождение от армии по психическому заболеванию.
(обратно)7
Скажите, пожалуйста, кто автор этих картин? Она живет здесь? (англ.)
(обратно)8
Виа Долороза (лат.), Крестный путь Христа.
(обратно)9
Флат (flat) – бемоль; шарп (sharp) – диез.
(обратно)10
Taky – недотепа, несуразный (англ. сленг).
(обратно)11
О принцесса! Боюсь, это только сон! Кто вы? (англ.)
(обратно)12
Ты очаровательна (англ.).
(обратно)13
Я так рад тебя видеть (англ.).
(обратно)14
Так не бывает (англ.).
(обратно)15
Мишель! Ты выйдешь за меня замуж? (англ.).
(обратно)16
Обещай мне хорошо учиться и в школе, и на фортепьяно, я буду очень счастлив (англ.).
(обратно)17
Теракт (иврит).
(обратно)18
Район Иерусалима.
(обратно)19
Первая строчка израильского гимна «Ха-Тиква» («Надежда»): «Пока глубоко в его сердце…» (иврит).
(обратно)20
К. Бальмонт. Воспоминание о вечере в Амстердаме.
(обратно)21
О. Мандельштам.
(обратно)22
М. Цветаева.
(обратно)23
А. Ахматова.
(обратно)24
М. Цветаева.
(обратно)25
Б. Пастернак.
(обратно)26
О. Мандельштам.
(обратно)27
А. Ахматова.
(обратно)28
М. Цветаева.
(обратно)


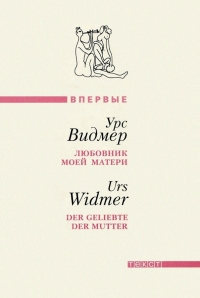
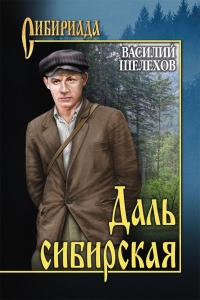

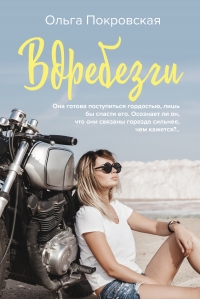

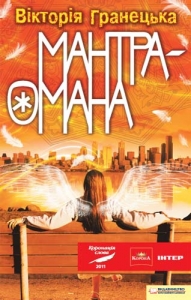





Комментарии к книге «Женщина на заданную тему», Елена Михайловна Минкина-Тайчер
Всего 0 комментариев