Елена Долгопят РУССКОЕ (сборник)
© Е. Долгопят, 2018
© ИД «Флюид ФриФлай», 2018
* * *
Записки о Юре и Клаве
1989, декабрь, 28
По бетонной тропе можно было дойти минут за двадцать, Юра тратил около сорока, а то и побольше, потому что непременно сходил с тропы, усаживался на поваленный ствол, прятал в карман перчатки, закуривал.
Иногда он слышал чьи-то шаги, человек проходил, на объект или в городок; знакомые здоровались, а иногда не замечали и проходили мимо, он не окликал. Однажды он увидел на своем излюбленном месте молодую белокурую женщину. Она сидела, подняв воротник черной цигейковой шубки. В пальцах ее дымилась сигарета.
Юра прошел мимо. Не выдержал и оглянулся. Женщина смотрела застывшими глазами. Лучше бы не оглядывался.
Вышел из леса к городку. Нащупал в кармане пропуск. От КПП сразу направился в столовую.
Очередь. В основном офицеры (их шинелями был забит крохотный гардероб). Стояли, переговаривались. Их звездочки и пуговицы мерцали на темном сукне. Офицеры шутили, подавальщицы им улыбались, очередь продвигалась медленно. Юрий взял сметану, можайское молоко, жареную картошку с рыбой, черный хлеб.
Офицеры позанимали все места. Юра оглядывался растерянно с подносом в руках и вдруг заметил худенькую девушку за дальним столиком у стены и вспомнил, что видел ее когда-то давно — в институте. Подошел и спросил:
— К вам можно? Вы тоже по распределению здесь?
— Ой, да, я тоже, — и она его вспомнила и обрадовалась знакомому лицу. — Меня сначала в Ярославль, а теперь сюда. Что вы стоите? Садитесь. Я так рада, знакомого человека увидела.
Имен друг друга они не знали.
Сидели, ужинали, никуда не спешили. Она сказала, что у нее в комнате еще две женщины, старухи, одна как будто свистит во сне, — такой странный храп, как у резиновой игрушки звук.
— С дырочкой в правом боку, — он сказал.
И она рассмеялась счастливо, — он понимал, он все понимал, свой человек, родной. И конопушки все родные, — так она ему потом говорила.
— А еще, — сказала она, — у нее толстые круглые очки, она в них как водолаз — такое подводное чудище. У меня был маленький приемник, совершенно крохотный, она его брала без спросу слушать, я знаю, потому что она всегда движок переставляла на шкале настройки, а теперь он с трещиной, приемник, по корпусу, она его уронила. Но не признается, ты не думай (они уже перешли на ты), держит оборону. Ну я, что я с ней сделаю, не убивать же, — рассмеялась детским легким смехом.
Юра улыбнулся.
— Она все время что-то о смерти говорит, вот, мол, как ты думаешь, Лида, — Лида — это соседка, — есть что-нибудь после смерти? Та говорит: я не знаю, Тамара. Ее Тамара зовут. Она говорит: мне кажется, что-то есть. А Лида всегда соглашается. А в другой раз Тамара говорит: нет, ничего там нет. А Лида опять соглашается: наверно. Или про болезни начинают, у кого какие. Я от них по вечерам ухожу, то в магазин, то в библиотеке чего-нибудь посмотрю, журналы смотрю, всё так страшно, про лагеря, верить не хочется, голова не вмещает, и главное, зачем, зачем, не могу понять, бессмыслица. Это я еще только пятый день здесь.
— Я с осени. Сентябрь и далее. Я в кино хожу. С механиком подружился. Пойдем в кино?
— А что там?
— Да всё равно.
И Клава (они уже спросили имена друг у друга) пошла с ним в кино, на «Шуру и Просвирняк», как выяснилось.
Фильм про то, как жалкий человек, мелкий, физически ущербный, незаметно, тихо становится начальником, злобным, мстительным, беспощадным. Эта история поразила их обоих. Особенно то, что маленький человек обидел и ту, которая его пожалела. Они после этого фильма уже поняли, что должны держаться друг друга.
Они ходили по зимнему городку до глубокой ночи, все почти окна были погашены в домах. И остро чувствовалась глушь, оторванность от большого мира.
— У меня ноги застыли, — сказала Клава. — И губы.
Юра поцеловал ее. Не очень ловко вышло.
Он привел ее к себе, на общую кухню, они старались потише, боялись, что кто-то сейчас войдет. Сняли пальтишки, сложили на табурет, уселись за длинный стол.
— Можно я поставлю чайник?
Он кивнул. И Клава встала тихо, посмотрела, есть ли в чайнике вода, долила (воду пустила тонкой струйкой, чтоб не гремела; в здешних домах стены были картонные). Он достал спички и поднес к вентилю огонек. Заварили в кружках, сахару положили по три куска, решились позаимствовать у соседа из сахарницы. Пили чай, молчали и глядели друг на друга. Юра хотел сказать что-нибудь вроде: отогрелась? Прошептать. Хотел и не смел. Как будто было важно помолчать, посидеть тихо. Они точно знали, что будут вместе. Уже были.
Они услышали, как дверь отворяется и приближаются шаги. Вошел Юрин сосед Геннадий, в трениках, в майке. Ни словом не обмолвился. Подступил к крану, открыл, напился. Прошел к окну (Клава смотрела в широкую спину), отворил форточку и закурил.
Так и молчали все трое. Геннадий докурил, бросил окурок в жестянку из-под индийского кофе и закрыл крышку. Повернулся и отправился из кухни.
Шаги, открывается и закрывается дверь. Тишина.
— Он ничего мужик, — прошептал Юрий, — нормальный.
— Я пойду.
— Я тебя провожу.
В подъезде целовались, но тоже не очень ловко вышло.
1989, декабрь, 29
Они познакомились 28 декабря, поздно вечером 29-го опять вместе ужинали. Уже офицеры все разошлись к тому времени, одна только шинель и висела в гардеробе с одинокой майорской звездочкой на выставленном плече. Хозяин шинели, маленький лысый майор, пил молоко с калорийной булкой, посыпанной ореховой крошкой, и смотрел в стол.
Они припозднились, так как не поехали с объекта со всеми на автобусе после смены, а отправились через лес. Редкие фонари освещали дорогу. Юрий показал Клаве поваленный ствол, сел на него, а Клаву усадил себе на колени, обнял ее, лицом уткнулся в драповую спину и замер. Отчего-то, бог его знает, ему стало жалко Клаву и себя, и еловую лапу, и весь белый свет. И Юра вдруг неслышно заплакал — сами собой полились слезы. Тихо, без всхлипов плакал и боялся оторваться от Клавиной спины.
Клава сказала:
— Холодно.
— Да, — прошептал он ей в спину.
— Пойдем?
Он разомкнул объятья, отнял лицо и быстро вытер ладонью.
Шли заснеженной дорогой.
— Слушай, а мы не в обратную сторону идем?
— Нет-нет.
— Мне кажется, что как будто обратно.
— Ну, значит, дойдем до объекта и вернемся. И куда ни пойдем, всё будем выходить к объекту.
— Не пугай меня.
Он взял ее за руку. Клава сказала:
— Я на Новый год здесь буду, ночная смена, так обидно.
— Я тоже попрошусь в ночную, поменяюсь. Будем сидеть у компьютеров плечом к плечу. Держать оборону.
В те годы компьютеры были большими. На объекте дисплеи с жемчужно-серыми экранами были присоединены к железным шкафам, занимавшим целый зал.
— Зато первого, представляешь, какая будет глушь? Пустые дома, пустые улицы. И мы с тобой заходим куда вздумается.
Юрий, разумеется, не знал, как скоро его детская фантазия осуществится взаправду.
Буквально через четыре года, в 1993-м, известная сценаристка сочинит историю то ли о Москве, то ли об Одессе, то ли еще о каком-то городе (она писала варианты на всякий случай, мало ли где найдутся деньги для съемок). Она писала о русском городе, диком, полуразрушенном, темном, о бедных его маленьких жителях, совершенно потерявших себя во мраке небытия.
Так и не сумевшие вырасти дети. Взрослые за ними присматривали, указывали правила общежития, следили, чтобы были сыты, одеты, обучены, и вдруг в один день ушли из города. Не дети ушли, повинуясь дудочке крысолова, а взрослые. Как вы понимаете, речь не о возрасте, не о летах. Дети (а среди них были и старики) остались одни в городе и одичали. Город, который взрослые несли на плечах, обрушился, дети ползали среди развалин, без пастыря, без ориентиров.
Ничего этого Юрий не знал (а фильм по тому сценарию так и не поставят), те времена еще не наступили, был их канун. В декабре 1989-го можно было вообразить лишь опустевший в первый день 1990-го военный городок, в который вернутся они с Клавой.
1990, январь, 1
Утром 1 января после ночной смены они вернулись в городок на автобусе, вдвоем были в салоне, сидели тесно, на одном сиденье. Окошко замерзло, Клава протопила пальцем что-то вроде крохотного иллюминатора. Или взора, — как говорил Юрий Гагарин. И они глядели (взирали) в него по очереди. На проплывающий лес. Он казался невиданным. Автобусная дорога шла долгим кругом, это пешеходная вела прямо, от ворот до ворот, от КПП до КПП.
Автобус кружил, покачивался.
— Жрать охота, — сказал Юрий.
— У меня колбаса. И шампанское.
Он впервые оказался в ее комнате. Три кровати, три тумбочки, один шкаф, электрический чайник на подоконнике. (Совсем не такой, как сейчас. Тогдашние чайники разогревались медленно, сами отключаться не умели и часто горели, так как не хватало терпения и внимания за ними уследить; этот был именно такой, забытый и сгоревший, негодный.)
Клава показала свой крохотный приемничек с трещиной на синем пластиковом борту. Забытые очки для чтения лежали на тумбочке Тамары и глядели выпуклыми стеклами. Юрий прямо с холода, не дожидаясь колбасы и шампанского, обхватил ладонями голову Клавы, приник к губам, точно выпить хотел из нее воздух или из себя весь в нее — выдохнуть. Клава оторвалась, прошептала:
— Смотрят.
И он торопливо спрятал очки в тумбочку, в верхний ящик.
Кровать была узкая, скрипела и проваливалась, они скинули матрац на пол. Клава сбегала, проверила, заперта ли дверь, и вернулась совсем без всего, белая как молоко. Встала смущенно, прикрыв ладонями грудь. И опустила руки, открылась. Он встал на колени, она легла.
— Я еще никогда.
— Не бойся.
— Яне боюсь.
— Не бойся.
Вышли они на воздух уже в сумерках (колбаса была съедена, а шампанское выпито). Прошлись по улице, вовсе, конечно, не безлюдной. Куда было местным деваться, здесь их дом, не то что у командировочных. Офицеры и жены их или подруги прогуливались, ребятишки носились.
— В кино пойдем?
— Опять «Вельд»?
— Сегодня не по расписанию кино будет, особый сеанс.
До половины девятого катались с малышней с ледяной горы. На площади, напротив небольшого Ленина на каменном постаменте, горела электрическими огнями громадная ель, она здесь росла, она была старше городка, старше объекта и деревни (туда ходили за молоком по тропе вокруг леса и через поле). Старая, сумрачная даже в огнях и блестках, она возвышалась надо всеми домами.
От площади направились узким обледенелым тротуаром. В серых пятиэтажках мигали праздничные огни.
— Такие огни, — сказал Юрий. — Сигнальные.
— Кому сигналят? О чем?
— Не знаю.
Они шли взявшись за руки. У Клавы были скользкие подошвы, она осторожно шаркала.
Киносеанс был в квартире киномеханика, маленькой, зато отдельной.
Они вошли в подъезд, поднялись на второй этаж, мимо мерцающего красного огонька сигареты. И кто-то сказал им в спину:
— С Новым годом.
Они ответили хором:
— С Новым годом.
Механик на звонок приоткрыл дверь, посмотрел на них, снял цепочку и пропустил.
— Мы рано, — сказал Юрий.
— Вы первые.
Времени до сеанса оставалось сорок минут. Механик, который представился дядей Колей (и сразу стал как будто родственником), подогрел им чаю и поставил тарелку с колбасой. И хлеба нарезал широкими ломтями.
— От водочки не откажетесь?
— Не откажемся. Как можно.
Начались звонки, открывание дверей, разговоры в прихожей, Клава с Юрой отправились в комнату, заняли место на диване. Входили люди, здоровались. Комната заполнялась споро. Пожилые приходили, и молодые, и с детьми; все разувались, чтоб не нанести в комнатушку снега, все пахли холодом и были смущены тайной, предстоящим просмотром, никто не знал, что будет.
На диван втиснулась девушка, зачем-то улыбнулась Юре и сказала:
— А я вас помню, вы всегда у нас в столовой можайское молоко берете в бутылке.
Клава потерпела минуту и прошептала Юре в ухо: «Давай на табурет пересядем?»
— Дядя Коля, а можно, мы из кухни возьмем табурет?
И они пристроились вдвоем у стены на кухонный табурет.
Уже невиданную пластиковую коробочку с лентой внутри, видеокассету, вставил в узкое, с отодвигающейся шторкой, окошечко механик. Уже руку протянул к выключателю мальчишка, чтобы погасить по команде свет, как задребезжал вновь дверной звонок, и механик отправился в прихожую. Все в комнате сидели тихо, даже малые дети. Кто на полу, кто на диване, кто на табуретах (всего два). Единственный стул оставался свободен — для киномеханика.
Из прихожей слышались приглушенные голоса. Голоса смолкли, и в комнату вошла женщина, высокая, бледная, светловолосая. Та, что курила на поваленном стволе в зимнем тихом лесу.
Не глядя ни на кого, спокойно, она приблизилась к стулу киномеханика. Села на него, выпрямила спину. Никто звука не проронил. За женщиной вошел маленький лысый майор, он нес в руках шинель. Постелил шинель у ног высокой женщины (а сапоги она не сняла, и лужа уже натекала, но майору было все равно, что лужа).
Но высокая красавица и майор были еще не последние, последней вошла соседка Клавы Тамара в тех самых очках с выпуклыми толстыми стеклами. Клава смотрела на нее во все глаза. Вдруг поднялась с табурета.
— Садитесь, пожалуйста, Тамара Сергеевна.
И Юра, конечно, поднялся, а Тамара опустилась на табурет, будто так оно и должно было быть. И ноги в штопаных чулках выставила. Юра сбегал за пальто, постелил на полу, и они уселись с Клавой в обнимку. Зато у самого экрана.
— Гаси! — крикнули мальчишке.
И сеанс наконец начался.
Профессор проводил эксперименты по телепортации, мелкие предметы появлялись и исчезали. Затем он сам исчез и появился, и начались с ним странности, сила в нем проснулась, жестокость, ходил он по потолку, плевался ядом. Клава прятала лицо на Юриной груди.
— Всё, можно смотреть, — разрешал он тихим шепотом.
Минут через десять после начала фильма светловолосая красавица поднялась со своего трона (она и на том зимнем стволе сидела, как на троне) и, отчетливо стуча каблуками, в полумраке прошагала к выходу. Люди отодвигались, давая ей дорогу. Она шла молча, спокойно. Майор поспешно поднялся, подхватил шинель и стал пробираться за ней. Он бормотал извинения.
Механик все время сеанса стоял сбоку у стены и курил. Предварительно спросил разрешения у почтенной публики. Уходящим он ничего не сказал и с места не сдвинулся. Они справились с замком и захлопнули за собой дверь.
1990, март, 1
Первого марта выяснилось, что Клава беременна. Они к тому времени расписались, комнату в городке им так и не дали, но обещали перевести работать в Москву на завод «Мосприбор».
Не дожидаясь перевода, сняли квартиру в Кузьминках, на Окской улице, и ездили туда с объекта на выходные. Головное предприятие было в Ярославле, так что кроме зарплаты им выплачивали командировочные, и потому свободные деньги у них водились. Клава купила подержанный раскладной диван, столовый сервиз (ЛФЗ, 2 сорт), телевизор (Юность-406). Платяной шкаф оставили хозяйский, деревянный, трехстворчатый, с полированными дверцами.
Дом Клава содержала в идеальной чистоте. Когда собирались вечером в воскресенье на объект, говорила:
— До свиданья, квартирка, до свиданья, милая.
Уж конечно, посуда была к отъезду вся убрана, пол вымыт, мусор вынесен.
— Чтоб всё было хорошо, — говорила Клава и закрывала дверь на ключ.
Юра следом за Клавой полюбил временное пристанище. С удовольствием выбирал ткань на шторы, Клава сама их подшивала на старой зингеровской машинке, машинка тоже была хозяйская, стояла в шкафу. Юра смазал механизм, отладил, и Клава выучилась на ней шить, пригодилось в свое время для ребенка.
1990, март, 7
На восьмое марта у Юры выпала рабочая смена, седьмого пришлось ехать на объект. Клава его провожала до метро. Не хотелось расставаться, они медлили.
— Я буду скучать по той дорожке, — тихо сказала Клава.
И Юра понял, что говорит она о дорожке через лес, о поваленном стволе, о том, как дым Юриной сигареты тает в воздухе, о том, как они нашли там однажды металлический рубль, и оставили лежать, и каждый раз проверяли: лежит? — лежит.
— Быстро как дошли, — сказала Клава у спуска в метро. И Юра понял, как ей не хочется его отпускать.
Она держала его под руку и руки не отнимала.
— Поехали вместе, — сказал Юра. — Серьезно. Что ты одна? Пройдемся вместе по дорожке. В кино вечером сходим. Или не пойдем. Как захотим.
— А правда, — сказала Клава.
И повеселела. Но тут же передумала.
— Не могу. Я посуду не вымыла, нехорошо так оставлять.
— Что за ерунда, что с ней сделается? Ну прибежит таракан.
Она поморщилась.
— Я шучу.
Она поцеловала его в щеку, поправила ему шарф, спустилась вместе с ним в метро.
Он вошел в вагон, двери закрылись. Она стояла на платформе. Подняла руку и помахала ему.
Путь из Москвы в городок был долгим: метро, электричка от Киевского вокзала до станции Балабаново, автобус до военного городка, до конечной.
В поздней электричке народу было совсем мало. Юрий нашел вагон чуть потеплее и устроился на деревянном сиденье прямо над печкой (печки тогда устраивались в электричках под сиденьями, и если топились хорошо, то сидеть было невозможно, а при слабом отоплении — приятно). Состав тронулся, Юрий приготовился уже задремать, как вдруг увидел идущего по проходу майора. Вагон покачивался.
Майор вошел в тамбур, двери за ним сомкнулись.
Майор закурил, Юрий видел огонек его сигареты через стеклянный верх двери. Юрий курить временно бросил, беременную Клаву тошнило даже от запаха. Он открыл книгу или журнал, не могу сказать с уверенностью.
Журнал очень возможен. «Огонек», «Новый мир», «Знамя». «Замок» или рассказы Петрушевской. Или Шаламова. Всё страшное. Всё морок. Всё невыносимо и нельзя не прочесть. Нельзя не заглянуть туда. Но скоро Юрий бросил читать, оставил на коленях раскрытый журнал (или книгу). Женщина сидела через проход, картонный короб лежал рядом с ней на сиденье. Она вдруг открыла короб, вынула из него что-то завернутое в белую бумажку, развернула (бумажка хрустела как снег и вспоминался сразу Новый год, разноцветные огни в окнах, тот миг, когда старый год завершился, а новый не наступил; единственный миг невыдуманного волшебства). Из бумажки показалась белая фарфоровая чашка, полупрозрачная. Юрий видел сквозь тонкие стенки тени державших чашку пальцев. Белая чашка, расписанная желтыми розами на зеленых колючих стеблях. Рука с чашкой запечатлелась в его памяти. Впоследствии в любой момент он мог вызвать это видение в полупустом холодном вагоне, где только и грела печка, над которой он сидел.
О майоре он к тому моменту позабыл. Увидел его уже в окне автобуса, как в светящейся картине. Майор успел проскочить среди первых, и занял лучшее место, и теперь смотрел на них всех из своего электрического тепла. Толпа пробивалась в автобус, в маленькие его двери.
Автобус был небольшой (пазик), урчал и дрожал. Юра втиснулся последним, двери, шаркнув по спине, закрылись. Майор приподнялся, замахал рукой и закричал:
— Эй, парень, я тебе место держу!
И Юрий догадался по обращенным на него взглядам, что майор держит место для него. Майор махал рукой, кричал:
— Пропустите его! Мы вместе!
Народ ворчал, но давал протиснуться. Кто-то, правда, сказал, что могли бы и женщине уступить место, на что майор взвизгнул:
— Я инвалид! Я из Афгана!
— Ладно, не психуй, — ему сказали.
Люди угрюмо теснились, давая Юре проход.
Майор забрал с сиденья шапку, и Юра сел. Автобус уже тронулся.
— Я правда инвалид, — сказал майор, — я правда из Афгана.
Он выдохнул, успокоился. Ехать им было до конечной минут сорок.
— Расскажи мне, чем там дело кончилось, — спросил майор.
Юрий мгновенно понял, о чем речь.
— Он стал отчасти мухой, — сказал.
Майор хмыкнул.
— Только все эти мушиные свойства в человеке увеличились. Человек — что-то вроде увеличительного стекла.
— Это мне непонятно, — сказал майор.
— Ну. В общем, человек — это чудище.
— Это мне понятно.
Майор посмотрел на Юрия со вниманием. Впрочем, ничего больше не спросил и отвернулся к окну.
У городка уже полупустой, легкий автобус развернулся, встал, отворил двери. Юрий поднялся, выбрался в проход, майор следом. Спросил уже готового спрыгнуть со ступеньки Юрия:
— Тебя как зовут?
Юрий обернулся.
— Меня Михаил, — сказал майор. — А некоторые зовут Мишель. В честь поэта Лермонтова.
— А меня в честь космонавта Гагарина.
— Отличный выбор, — сказал Мишель.
Юрий спрыгнул и направился к КПП.
1990, апрель, 4
Апрельским вечером накануне пятницы Юрий и Клава прогуливались по городку. Шли рука об руку, здоровались со знакомыми. Было еще светло. Время от времени Клава восклицала:
— Ах, посмотри!
Они останавливались и смотрели.
Ожившая, готовая раскрыться почка.
Глазастый малыш в коляске.
Скачущий по просохшему асфальту воробей.
На площади возле темной ели толпились люди.
— Смотри! — воскликнула Клава.
В белом платье до колен стояла высокая блондинка под руку с майором. Возвышалась над ним.
— Это свадьба.
— Ну да, — тут же понял Юра. — Конечно.
Майор был в парадной форме с орденской планкой. Багровый, гладко выбритый. Потный. У молодой жены лицо спокойное. Взгляд поверхностный, скользящий. Они фотографировались. Вдвоем. Толпа гостей стояла поодаль, за фотографом.
— Внимание, — сказал фотограф.
И толпа за ним примолкла. Но майор вдруг привстал на цыпочки, замахал свободной рукой и закричал:
— Эй, Гагарин! Я женился! Приходи в столовку! Давай! Гуляем!!!
И все-все люди на площади обернулись и посмотрели на Юрия. Клава дернула Юру за руку, жена майора не шелохнулась.
— Спасибо! — крикнул в ответ Юрий. И тоже зачем-то привстал на цыпочки и махнул рукой.
— Внимание! — попросил фотограф утомленно.
Майор поправил фуражку, прижался к жене.
— Улыбочку!
Майор улыбнулся. Лицо жены осталось неподвижным.
— Снимаю!
В тишине они услышали щелчок затвора.
— А как же птичка? — прошептала Клава.
— Вылетела, — прошептал Юра. — Без предупреждения.
Толпа между тем зашумела, повалила к новобрачным — фотографироваться вместе. Темная, еще не очнувшаяся от зимы, ель стояла за ними мрачным фоном.
Клава повела Юру от площади. Молчала, пока совершенно уже не перестали слышаться с площади голоса и смех. Пока не послышался с плаца топот и хор голосов:…не плачь, девчо-о-онка…
— Бесстыдник, — сказала Клава. И Юра понял, что речь о майоре.
— Почему?
— Почему?
— Я не понял.
— Ну ты даешь.
— Правда.
— Дурачок у меня муж.
— Нет, правда.
— Тебя позвал, а меня не нужно? Тебя это не удивило? Не задело?
Клава шла молча, поджав губы. Поскользнулась на ледяной, невидимой в полумраке глухой улицы дорожке, и Юра схватил ее под руку. Но Клава руку выдернула.
— Домой пойду, — сказала Клава. — А ты не ходи за мной. Оставь.
Это была их первая и единственная размолвка за всю жизнь.
Клава ушла, Юра стоял на тротуаре. Сгущались апрельские сумерки. Холодало. Юра спросил сигарету у прохожего. Закурил. «Ничего, — подумал, — это я так, для отвлечения». Неуютно ему было от того, как они с Клавой расстались. Нескладно. Юра докурил и побрел узким тротуаром. Ледок крошился под ногами, хрустел, как вафля.
Вышел к кинотеатру и увидел афишу:
ОБЛАКО-РАЙ
Темно-серые, каменные буквы ступенями вели к белому облаку на синем клочке неба. На облаке сидел небольшой человечек. Первая буква, О, первая ступень, вросла в узкую полоску земли с пятиэтажными домами (белье на балконах, старухи на лавках у подъездов), вросла, потрескалась.
Юра подумал, что лучше бы посмотрел сейчас детектив. На афише должны быть кровавые буквы с подтеками, синяя ночь, туман, пятно фонаря, женское холодное лицо. Такое холодное и такое красивое, как у жены майора. Юра смотрел на афишу, хмурился.
Развернулся и направился к столовой.
Свет в окнах одноэтажного здания столовой горел, погромыхивала оттуда музыка, на крыльце офицеры курили и говорили о чем-то. Юра стоял рядом, слушал и не мог понять о чем. Улавливал слово, задумывался над ним, а разговор тем временем шел дальше, и даже не шел, а бежал.
«Недоразумение».
Недо-разум…
«Отцепись».
От-цепись. Надо же. Цепь. Вот оно что.
«Отвали!»
От-вали, вали, Валюша, иди валенки валяй.
Лес вали, — какой-то другой, строгий голос подсказал Юре.
Один из офицеров вдруг слетел с крыльца, шлепнулся в едва подмерзшую лужу, крикнул:
— С-с-сука!
Вскочил и вновь едва не шлепнулся, поскользнувшись. С крыльца захохотали. Офицер бросился на хохотавших, его отшвырнули. Юра отступил. Прошел под окнами. Дверь подсобки была открыта, он вошел. Пробрался мимо гремящих посудой женщин; кошка выскочила под ноги, Юра отшатнулся.
В зале столы все были сдвинуты вместе, в один длинный, вдоль стены. Майор с женой сидели во главе. Места свободные были. Из кассетника на подоконнике гремела музыка, немногие танцующие стучали ногами в пол.
Юра сел. Чистой тарелки не было, он придвинул салатницу, почти пустую, взял ломоть хлеба. И ложкой, которая была в салатнице, принялся есть. Свекла с орехами под майонезом. Юре понравилось. Хлебом он собрал со дна остатки. Женщина напротив смотрела на него. Она походила на Шуру из зимнего фильма «Шура и Просвирняк» (так Юра разделял фильмы, по временам года, — время года как время действия, — и это была точнейшая характеристика; время года создавало настроение, задавало вектор восприятия; «Шура и Просвирняк» был, несомненно, зимний фильм).
«Шура» протянула ему тарелку с жареными пирожками, бутылку и стопку. Юра налил себе, потянулся через стол и налил женщине. Она не возразила. Юра поднял стопку, дождался, пока «Шура» поднимет свою, и чокнулся с ней. Безмолвно. Увидел, что запачкал край рукава в белой сахарной пудре и сообразил, что сидит в пальто и шапке. Поднялся, снял шапку и пальто, шапку сунул в рукав, пальто повесил на спинку стула. Опустился на место.
— Согрелся? — спросила «Шура».
Юра не ответил. Съел пирожок (с мясом). Налил себе еще водки («Шура» свою стопку накрыла ладонью).
Крикнули: «Горько!» Юра посмотрел на майора и его белокурую жену. Майор поднялся, она осталась сидеть; майор с ней сидящей практически сравнялся ростом, чуть-чуть даже оказался выше. Наклонился и поцеловал ее в губы. Поцелуй был долгим, за столом стали гудеть, кричать «молодец», хлопать. Юра смотрел внимательно, не отводя взгляд. Наконец майор оторвался от жены и оглядел стол пьяными сумасшедшими глазами. Поднял руку и крикнул через стол:
— Гагарин!
Юрий не откликался.
— Гагарин! — вновь крикнул майор. — Тост! Говори! Налейте, эй, все, давайте, эй, люди! Громобой! Выруби музыку, выключи, я сказал! Гагарин! Давай!
Музыка оборвалась. Танцующие остановились.
Они подходили к столу, наливали себе в рюмки и стопки. Все ждали, что скажет Юрий, все смотрели на него, и жена майора смотрела, впрочем, без любопытства. Юрию пришло на ум, что у нее ленивый взгляд. Да, слово «ленивый» показалось точным. Юрий поднял свою стопку (кто-то уже налил в нее доверху водки, Юрий и не заметил, едва не расплескал, поднимая).
Юрий сказал:
— Ну. Счастья вам.
Все молчали и ждали продолжения, но и Юрий молчал.
— Отлично! — крикнул майор.
И тогда все ожили, стали чокаться, пить, говорить: счастья, счастья. Майор закричал:
— Давай музыку, душевное чтоб!
И музыка явилась, что-то плавное. Майор прошептал на ухо жене, и она, не взглянув на него, поднялась. И пошла на площадку, оставленную для танцев. Майор шел за женой, смотрел ей в спину и улыбался. Она вдруг повернулась. Он приблизился, обхватил ее за талию, она положила руки ему на плечи. Музыка была восточная, тягучая, сладкая. А может, и сладостная, это кому как. Майор щекой прижался к груди жены. Юрий подумал: что я здесь делаю? Но все-таки не ушел. Вдруг услышал голос «Шуры» и поднял на нее глаза. «Шура» сказала:
— Не хочешь танцевать?
Юрий подумал и встал. «Шура» уже шла к нему из-за стола. Они постояли друг против друга. «Шура» смотрела на него мягко, ладони положила на плечи, он осторожно взял ее за талию. Топтался тихо, не в такт. Вдруг остановился.
— Я пойду, — сказал.
Развернулся и торопливо зашагал к выходу.
В фойе наружная дверь была распахнута, воздух выстужен. Юрий остановился. Пальто он оставил на спинке стула. Возвращаться не хотелось, и он стоял растерянно.
На крыльце курили. Юра прислонился к барьеру гардероба. Пальто и шинели едва умещались на крючках, теснились. Женская шубка валялась на полу с оборванной вешалкой. Юра зашел за барьер, поднял шубку и положил на черную лаковую столешницу. Из зала текла мучительно медленная мелодия. Вышла оттуда «Шура». В руках она несла Юрино пальто. Подошла и положила на барьер — рядом с шубкой. Сказала:
— Олькина шубейка.
— Вешалка оборвалась, — отвечал Юра.
Вынул из рукава своего пальто шапку. «Шура» наблюдала. Сказала:
— Чудная она. Прямо снежная королева. Глубокая заморозка.
Юра, конечно, понял, о ком речь. «Шура» продолжала:
— Главное, что ему годится. Умеет, значит, разогреть.
Она пальцами пробежала по барьеру и, не попрощавшись, направилась в зал. Тягучая музыка смолкла, и — точно обвалилось что-то в зале, грохнуло, застонало, заныло, Юра даже зажмурился. И услышал близкий голос:
— Шинель подай мне.
Белолицый худой мужчина стоял за барьером. Одет он был в гражданский костюм и указывал на светлую полу офицерской шинели. Юра подошел к крючку, снял пальто, снял висевшую за ним шинель. Подумал и повесил опять на крючок. И пальто сверху повесил, как было. Мужчина смотрел изумленно. Юра подхватил свое пальто, вышел из-за барьера и, на ходу одеваясь, направился к выходу.
Он приблизился к серой панельной пятиэтажке, в которой жила Клава. Посмотрел на темные окна. Поднялся на крыльцо, потянул на себя дверь. Она, конечно, была заперта, и Юра постучал. Отворила старуха комендантша:
— Что колотишься? Патруль вызову.
Ни слова не говоря Юра сунул ей трешку.
Он бегом поднялся по лестнице на третий этаж. Прошел по коридору. Постучал в Клавину дверь. К его удивлению, дверь открылась мгновенно. И он увидел опухшее красное лицо Клавы в полумраке прихожей. Прихожая эта отделялась от собственно комнаты тонкой перегородкой с застекленным окошком. В прихожей стояла обувь, висели пальто. За окошком в комнате теплился свет накрытой полотенцем настольной лампы. Приторно пахло лекарством.
Юра ничего не успел сказать, Клава схватила его за руку и вытащила в коридор. Дверь за собой прикрыла и зашептала:
— У нас катастрофа.
Они вышли на площадку, и Клава рассказала, что соседки ее с нынешнего дня безработные, комнату освобождают, едут навсегда по месту жительства.
— Они пенсионерки, — шептала Клава, — должности сокращают. Ой, как же мне их жалко, и в деньгах потеряют очень (знала бы Клава, во что превратятся эти деньги в ближайшее уже время — в пыль), но главное, они совсем потеряются, здесь работа, дело, а там? Только дома сидеть и смерти ждать.
— Нуты скажешь.
— Это не я, это они говорят. У Лиды полно народу дома, она здесь от них отдыхает, говорит, что они ее заклюют, а моя Тамара совсем одна. Ой, Юра, плачет и плачет, ничего уже не видит, вся опухла, я ей приемник этот подарила, она меня по голове погладила, я тоже заревела. Все ревем, валерьянку пьем и, что делать, не знаем.
Клава замолчала. Всхлипнула. Юра обнял ее и прижал к себе крепко-крепко.
* * *
Они стоят на этой прокуренной площадке в обнимку. Скоро никого здесь не будет, в этом панельном доме (общежитие квартирного типа), в этом городке, все покинут его, не только зареванные, наглотавшиеся валерьянки пенсионерки. Все уйдут. Лет через триста доберутся сюда отряды туристов — смотреть древние развалины. Будут гадать, что здесь было. Кажется, здесь собирались и смотрели фильмы, ни одного не сохранилось, лишь противоречивые описания, по которым трудно воссоздать истину. Истину разглядеть невозможно, разве что через закопченное стеклышко, чтоб не ослепнуть.
Как давно это было. Их объятия, чьи-то замершие шаги. Толчок ребенка в Клавином животе. Они оба почувствовали толчок и рассмеялись. Смех, за который простятся им все их прегрешения.
Они стоят на лестничной площадке, обнявшись. Они связаны друг с другом на веки вечные, и в горе, и в радости. И смерть не разлучит их.
Долгое время они будут скитаться по съемным московским квартирам. Юрий станет разъезжать в метро с круглым значком на груди СПРОСИ МЕНЯ КАК (живая реклама гербалайфа). Клава будет сидеть дома с ребенком и переводить с английского технические тексты. Юра решится и возьмет в долг подержанную машину — бомбить (подвозить пассажиров).
1993, октябрь, 15
Он увидел из окна своей таратайки (стоял на светофоре) шагающих мокрой зимней улицей мужчину и женщину. Она была в легкой шубке нараспашку, он — в яркой куртке. Оба без головных уборов, загорелые, похожие на иностранцев.
Юра не сводил с них глаз. Очнулся от автомобильных гудков, горел уже зеленый.
Дома с порога Юра выпалил:
— Я видел жену майора!
Клава слушала и горестно покачивала головой.
— Значит, бросила она майора. Нашла себе получше. Клава назвала майора бедолагой. И долго гадала, как же он теперь.
1995, ноябрь, 3
В девяносто пятом Клава устроилась в ларек на московской окраине у подножия многоэтажек. В ночные смены ходили вдвоем с Юрой (Олюшка ночевала у соседей).
Сидели в ларьке, слушали приемник на батарейках, по очереди дремали на ящиках, застеленных старым покрывалом. Однажды Юра прикорнул и услышал сквозь неглубокий сон крики. Крики и грохот. Будто камни катились по железному листу. Юра приподнял голову. В ларьке было темно, сквозь щели и сквозь оконце просачивался рассеянный электрический свет. Клава стояла у полок со сникерсами, марсами. Подняла руку и палец приложила к губам. Юра бесшумно поднялся, подошел к ней. Грохот нарастал. Они не видели, так как не приближались к оконцу, скрывались в глубине; не видели, но хорошо представляли, как идут облавой подростки, палками, цепями крушат на пути машины, киоски. Звенит стекло, кажется, что от криков лопается воздух. Всё ближе и ближе.
Расколотят оконце, увидят, что они с Клавой здесь, забьют. И скрыться негде.
Стекло брызнуло, Юра взял Клаву за руку — ледяная рука. Сжал крепко. И так они стояли, взявшись за руки, и видели, как обрушивается хлипкая стена, и видели безумные, орущие лица. Юра зажмурился, не выпуская, не упуская Клавину руку.
Он оказался в темноте и, как ни странно, в тишине. Все звуки оборвались. Он открыл глаза и посмотрел на Клаву. Она смотрела на него.
Юра и Клава были в глухом, безлюдном месте. В багровом полумраке угадывалась земля, кусты. Ветер подул, горячий, такой, наверно, бывает в пустыне. Прямо в лицо ветер. Они отвернулись, зажмурились. Горячий ветер стих, и голоса послышались, но уже далеко. Они открыли глаза и увидели себя в разгромленном, разграбленном ларьке.
Подростки ушли. Ныла сигнализация на чей-то машине.
* * *
В девяносто седьмом Клава получит бабкино наследство, квартиру в небольшом городе (город, где Клава родилась и куда ни за что не хотела возвращаться, — что я там буду, всё чужое, всё маленькое, мальчики знакомые все спились, работы нет, трясина, а не город; Юра ее прекрасно понимал, он и сам был из такого города). Квартиру они с Юрой продадут, возьмут кредит и купят жилье в Московской области. Юра устроится к тому времени программистом в нефтяную компанию. Отремонтируют сами. Светлые обои, широкие подоконники, душистая герань. Гардины. Рябину посадят под окном. Дочка вырастет, окончит школу, поступит в институт и выйдет замуж в Москву. Они останутся коротать век, смотреть из окна на рябину, на разросшуюся сирень, слушать, как стучит дождь.
2014, август, 29. Пятница
Обычно в начале второго часа пути Юрий поднимался и шел в тамбур. Пиво к тому времени бывало всё выпито, упаковки от соленого арахиса шуршали на полу. Электричка катила полупустая, поздняя.
В этот вечер случилось ему задремать и проскочить свою станцию. Он позвонил Клаве, предупредил, что опоздает. Доехал до конечной и взял такси.
У водителя в салоне бормотало радио. Юрий прислушался. Глухой мужской голос бубнил:
«…на месте полной жизни кондукторши герой видел железный автомат. С которым любезничать ему не захотелось. Бросил монетку, взял билет. Такая случилась подмена живой жизни на железную. Наступало железное время, которое проржавело в свой срок и рассыпалось…»
Водитель нашел другую станцию, русский шансон. Юрий спросил разрешения и закурил. Когда подносил к сигарете оранжевый огонек, сообразил, что знает эту историю про кондукторшу и автомат.
Он вспомнил военный городок в глухом лесу. Осенние темные вечера. Солдаты бежали по выложенной бетонными плитами дорожке: ох-ох-ох. Страна Ох. Юра дожидался, пока они пробегут, и направлялся по дорожке до поваленного ствола, и, если не было сыро, то садился, закуривал. Он чувствовал себя несуществующим. Ужинал в офицерской столовой. В подсобке гремели посудой, чей-то истеричный голос пробивался: убил меня, убил, просто убил. Юрий поднимался и шел в клуб на вечерний сеанс. Жизнь проходила, он не сожалел. Было ему двадцать два года, только что после института.
Историю про кондукторшу и железный автомат он увидел в клубе военного городка в холодном полупустом зале на последнем девятичасовом сеансе. Давний фильм, черно-белый, из шестидесятых годов. Юрий родился в шестьдесят втором. Ему хотелось знать, что тогда было в мире.
Через полчаса въехали в поселок. Дороги и улицы были пустынны.
Клава смотрела в окно, как он выбирается из машины, забрасывает на плечо черную сумку из-под старого ноутбука, поднимает голову, видит ее в окне, машет большой ладонью.
Сказала, пропуская его в прихожую:
— Ну, слава богу.
Она кормила его ужином, а он рассказывал, как уснул от усталости.
— Такая усталость. Навалилась.
Клава подливала ему чаю.
Не ссорились они никогда.
2014, август, 30. Суббота
Юрий и по выходным дням вставал рано. Поднимался с постели тихо, стараясь не потревожить жену. На столе в темной кухне нашаривал спичечный коробок, вынимал спичку, чиркал о шершавый борт. Поворачивал вентиль, подносил пламя. У них была старая немецкая плита с черной чугунной решеткой. Менять и не думали.
Он любил утренние посиделки в спящем доме. Любил осторожно, беззвучно ставить чашку на блюдце, вспоминать что-то и мгновенно забывать. Прислушиваться, слышать и упускать из слуха бесследно. Кошка приходила, терлась о ногу. Вспрыгивала на колени, он гладил ей загривок. Так они и сидели с кошкой в полузабытьи, пока не вставала Клава. Она приходила к ним на кухню, и начиналось утро. Зажигался свет. Или раздвигались занавески. Вновь ставился чайник. Включалось радио. Варилась каша. Говорили за завтраком о дочери, о политической обстановке, о соседях, о здоровье, о пустяках и о важном, говорили и замолкали. Смотрели друг на друга.
В это утро Клава напекла сырников.
— Ты с молоком будешь чай или с лимоном?
За окошком неслышно шел дождь. Холодало. И Юрий думал, что никуда не пойдет сегодня из дома, починит наконец дверцу шкафа. В дверь позвонили.
— В такую рань, — удивилась Клава и пошла открывать.
Юрий налил себе разогретое молоко в чай.
— Валя? — голос жены из прихожей.
И соседкин голос в ответ:
— А вы-то ничего, ни сном ни духом… Я только сейчас, мне Колька звонил, у него брат в мэрии, всё решено, вот как! Кто бы подумал, мы едим-пьем, планы строим, а они всё уже решили за нас.
— Да что ты, Валя, что? Заходи…
— Не пойду. С плохой вестью, — нет.
— Да что, что?
— Сносят нас, вот что, генплан или что там, дорога здесь будет на нашем месте.
— А мы?
— Куда прикажут. Знаешь, где дома строят? Там, где бывшая свалка, отходы химкомбината, теперь мы там будем процветать.
— Может, ничего.
— Вот так мы всегда рассуждаем, а они пользуются.
В кухню Валя так и не прошла, но сырники взяла с собой, сказала, что лучше Клавы никто их не печет, что всегда чувствует, когда Клава печет. Не запах — аромат, цветение райских дерев.
Сидели Юрий с Клавой за столом, пили чай, решали, что делать.
— Ну, Валька — это еще не официальное объявление, мало ли что там родственники говорят. Они говорят, а решают другие, — так рассуждал Юрий.
Но только и думалось, что о падении их маленького мира.
— Еще ведь не объявили.
— Еще нет.
На свалку никак не хотелось. Да и далеко она была. От станции далеко.
— Еще неизвестно ничего.
2014, ноябрь, 10
Дома на свалке росли быстро, как будто питались отходами, бывшей когда-то жизнью, громадные дома, по семнадцать этажей, низкие тучи просачивались в комнаты через открытые фрамуги. Так представилось как-то раз Юрию в полусне.
Валентина переехала, устроилась, и они съездили к ней в гости на автобусе, долгий это был путь через промзону, мимо заброшенных и выживших предприятий, рекламных щитов, ярких и выцветших. Из новой квартиры Валентины не выветривался химический запах. У воды был металлический привкус, и чай они не допили.
Снизу посмотрели на окна Валентины и на свои будущие окна. В них отражалось заходящее солнце.
— Ничего, фильтры купим. У нас тоже вода не бог весть, жесткая вода.
— Я к ней привык.
Клава взяла мужа под руку, и они побрели к автобусной остановке.
И с каждым шагом всё ближе к старому дому в кругу тополей, и лип, и боярышника, и сирени, и рябины, и одичавших яблонь. Всё ближе и всё дальше.
Самый крайний срок переезда назначен был на середину декабря. Юрий с Клавой тянули до последнего, в конце ноября только они и остались в подъезде. Электричество отключили, и Юрий носил с собой фонарик.
В доме зажигали керосиновую лампу. Газ еще давали, хотя и плохой, желтого цвета, с ядовитым запахом, так что окно всегда держали чуть приоткрытым и слышали шорох в заледеневших зарослях.
* * *
Я вижу, как поднимается по темному маршу Юрий. Фонарик освещает ему путь.
Клава приоткрыла дверь, ждет. Вода в чайнике уже закипела, чай только что заварен, горит керосиновая лампа на кухонном столе. Какой сейчас век на дворе?
Наука
Вообразите, светится экран черно-белого телевизора в углу темной комнаты. Лицо мужчины крупным планом. Очень близко.
— Вы понимаете теорию относительности? — спрашивает кто-то за кадром.
— Думаю, понимаю.
— И можете объяснить? Так, чтобы простой обыватель понял.
— Ну, это все-таки не дорогу к булочной объяснить.
— Выходит, я так и не пойму? Потому что я и про дорогу к булочной не сразу понимаю.
Мужчина улыбается. Превосходства в его улыбке нет. Скорее, растерянность. Говорит он мягко.
— Я тоже насчет дороги могу не понять. Любое понимание требует усилий. Иногда слишком больших. Иногда невозможных. Боюсь, современная наука вообще недоступна обывателю. Она требует всей жизни.
— И что в конечном счете? Откроем мы тайну вселенной?
— Не знаю.
— Еще вопрос. Может быть, вы думали об этом? Что когда-нибудь даже чтобы узнать и понять все, что открыто до тебя, человеческой жизни может не хватить. Слишком много всего накопится. Вы говорите, что сейчас надо посвятить этому жизнь, но в будущем, может статься, жизни не хватит. И это будет тупик.
Человек на экране слушает внимательно.
— Это все равно, что лететь куда-то, даже и со скоростью света, вселенная слишком велика, а жизнь коротка, даже если в полете будут рождаться дети, то есть новые люди будут сменять умерших, до края вселенной они не долетят, потому что края нет, ведь вселенная бесконечна, правда, они всегда могут вернуться назад.
— Вы хотите сказать, что познание также бесконечно?
— Так же бессмысленно.
— Вы подменяете понятия, мне кажется. К тому же полет по бесконечной вселенной не кажется мне бессмысленным.
Не все время диалога лицо занимало экран; его сменяло лицо собеседника или звезды, туманности и галактики, которые удалось разглядеть с помощью приборов. Вооруженными глазами.
«Телевизор в моем углу тоже как телескоп; я без него ничего не вижу, ни галактик, ни Вас». Эта фраза появилась на тетрадном листе в линейку, когда уже выключен был телевизор, погашен экран. Эта фраза — часть письма. Я приведу его целиком.
«Здравствуйте, товарищ Васильев, я увидела Вас по телевизору в передаче о Галактике, уснуть не могу, хочу Вас поблагодарить, что и делаю. Моя жизнь простая, натопить печь, если зима, собрать детей в школу, сейчас они в лагере, сейчас лето, я одна, но дел все равно много, не продохнуть, то полить, то сорняки, то сосед бушует, все это, конечно, Вам не интересно, но чтобы Вы поняли, как заедает быт и не знаешь, в чем смысл жизни, конечно, все ради детей, но вот, как сказано в передаче, летим на край Вселенной, рожаем детей, а все-таки не долетим, даже правнуки, и зачем нам туда, не знаем куда. Но я даже и не думала, что мы куда-то летим, я в земле копаюсь, на небо смотрю редко, да и не вижу ничего, только солнце и тучу, а тут такие красоты открываются через ваш телескоп. Я-то никогда ничего не пойму про Ваши теории. Но Вы понимаете, я знаю. И может быть, куда-то мы долетим, благодаря Вам. Сейчас вот сижу одна в доме, и все вроде бы как всегда, и денег до зарплаты не хватит, а мальчишки повыросли из пальтишек, все заботы на месте, все пригибают к земле, а я смотрю на небо благодаря Вам. Телевизор в моем углу тоже как телескоп; я без него ничего не вижу, ни галактик, ни Вас. Но сколько же там показывают ерунды, я всё смотрю зачем-то, но вот и Ваше лицо мне явилось, благодарю. Всего Вам самого доброго, товарищ Васильев, успехов и открытий, простите, что заняла время. Александра Николаевна Золотарева, счетовод НГЧ. 15 августа 1977 года».
Женщина сложила письмо в простой конверт и надписала:
«Москва, телевидение, передача о науке, профессору Васильеву И. К.»
Через месяц она получила ответ.
«Здравствуйте, уважаемая Александра Николаевна. Меня порадовало Ваше письмо, я чувствую то же, что и Вы. Не унывайте, может, и долетим. С уважением. Игорь Васильев. P. S. Не профессор».
Александра Николаевна положила письмецо в коробку из-под конфет, к другим письмам, их было немного: от подруги из Новосибирска, от мужа, когда он служил в армии, от матери из деревни в Горьковской области; и все эти письма пахли ванилью; сладкий ванильный запах, он и к письму Васильева пристанет, дайте время.
Первого ноября Александра Николаевна купила открытку с Лениным на броненосце и надписала:
«Здравствуйте, товарищ Васильев. Поздравляю Вас с праздником Ноября. Скорей бы снег, будет светлее, а то у нас фонари горят через один. Как продвигается Ваша наука? Есть ли успехи? Желаю Вам всяческих. И в личной жизни. Помню Вас всегда. Александра Николаевна. Москва, Фурмановский пер., д. 5, кв. 10. Профессору Васильеву».
Ответ пришел в начале декабря.
«Здравствуйте, Александра Николаевна, вот и выпал наконец снег, Вы дождались. Наука продвигается. Правда, я не уверен, что в том направлении. Но в нашем деле и ложные пути приводят к истине. В личной жизни тоже продвигаюсь. И боюсь, что (опять же) к истине. В личной жизни это полезно не всегда. Всего доброго Вам и Вашему семейству. С уважением. Игорь Васильев. P. S. Не профессор».
«Снега даже с лишком, — написала Александра Николаевна в следующем письме. — Теперь чистить дорожки. К калитке, к сараю, к уборной; машу лопатой, Вы и не видали такой лопаты, деревянной. Машу-то больше я, детей не допросишься, да и некогда им, по учебе много задают, синусы да косинусы, Вам это родное, а мы чужестранцы. Я думала про Вас, про истину в личной жизни, я после одной такой истины мужа выгнала, это всё характер, другая бы простила. Бывает, жалею. А правда ли, что если улететь на космическом корабле далеко, а потом вернуться через неделю, то на земле пройдет сто лет и никого уже знакомых не застанешь? Александра Николаевна. Москва, Фурмановский пер., д. 5, кв. 10. Профессору Васильеву».
В ответном письме была нарисована синей шариковой ручкой елка, человечек под ней держал в поднятой руке широкую лопату. Рисунок был в левом верхнем углу листа.
«Почему это Вы решили, любезная Александра Николаевна, — писал Васильев, — что я не видал деревянных лопат? Я, к Вашему сведению, родом из маленького городка, вроде Вашего; и дом у нас был без удобств, и ведра с водой я таскал, и дрова колол, и лопатой махал, и лопатой копал, это сейчас я столичный фраер. Про корабли. Нет таких дров, которые дали бы необходимую скорость, нет и таких людей, которые бы эту скорость вынесли. Во всяком случае, пока. Возможно, скоро выведут. С уважением. Игорь Васильев. P. S. Не профессор».
«Здравствуйте, товарищ Васильев, снег уже почти стаял, томлюсь в больнице, гляжу в окно на сосульку, здоровье поправилось, а настроения нет. Кормежка в больнице никуда не годится, думаю, как вернусь домой и сварю щей, будет веселее. Кажется мне, будто я уже писала это письмо. В точности так сидела и вела ручкой. Науке это известно? Берегите здоровье. Александра Николаевна. Москва, Фурмановский пер., д. 5, кв. 10. Профессору Васильеву».
Поздним летом, в августе, пришел длинный белый конверт с иностранными марками.
«Здравствуйте, товарищ Васильев, три дня я боялась, что это за письмо, глядела на просвет и прятала в комод, не знаю, как в Вашей Америке, а у нас сегодня воскресенье, накормила детей и отправила в баню, там сегодня мужской день, посуду перемыла, делать нечего, села в саду и ножиком Ваш конверт вскрыла. Что тут сказать, не порадовалась. В кармане Ваше письмо пролежало до вечера, я про него думала. Сейчас уже дня нет, ночь, луну вижу через окно и думаю про Вашу науку, раз Вам там сподручнее заниматься, то что ж. Александра Николаевна. Нью-Йорк. Профессору Васильеву». Адрес она списала иностранными буквами.
В ноябре 1987 года Александра Николаевна получила последнее письмо из Нью-Йорка.
«Не могу держать Вас в неведении, — писал Васильев. — Из науки я ушел и занялся бизнесом. Кажется, на этом пути мне везет чуть больше. По делам буду в Союзе. Вообразить не мог, что такое станет возможно. Хотел бы, с Вашего позволения, встретиться; не подскажете размеры, Вас и Ваших ребят? Здесь очень всё дешево, и джинсы, и кроссовки. Я был бы рад. С уважением. Игорь Васильев. P. S. Не профессор».
Ответ не замедлил:
«Уважаемый товарищ Васильев, очень довольна за Вашу налаженную жизнь. У нас тоже неплохо, всем обеспечены, ничего не требуется, встречаться мне некогда, дел невпроворот. Александра Николаевна. Нью-Йорк. Васильеву. Не профессору».
Сны. Рассказ-исследование
Психоаналитический институт с детским садом-лабораторией закрыли в 1925 году. Русское психоаналитическое общество — в 1930-м. Директора института и основателя сада-лаборатории И. Д. Ермакова арестовали в 1941-м, он умер в саратовской тюрьме в июле 1942-го. Удивительно, что лабораторию сна, созданную как филиал института, не уничтожили. Она пережила тридцатые годы, войну, времена застоя, перестройку.
Более всего изумляет безмятежное существование лаборатории в тридцатые годы, когда даже всякие упоминания о бессознательном, о толковании сновидений, о Фрейде, казались (и были) немыслимы. Между тем в лаборатории занимались в числе прочего и толкованиями сновидений, — более-менее по Фрейду.
Вопрос нас[1] занимал и стал толчком для исследований.
Нам посчастливилось отыскать частично сохранившийся архив лаборатории. Кроме прочего, мы нашли в нем сценарии сновидений. Сценарии в самом прямом смысле слова. Один из них и показался нам ключом к разгадке. Мы датировали сценарий 1934 годом. К обоснованию датировки вернемся чуть позже, а пока объясним, что это были за сценарии.
Сновидцы, которых наблюдали в лаборатории, пересказывали подробно свои сны, рассказы записывались как сценарии, затем по ним снимали фильмы.
Фильм должен был приблизиться ко сну как можно больше. В процессе работы проводились беседы со сновидцами, порой под гипнозом. Избранные ночевали в особом помещении лаборатории, в тишине, темноте и покое (впрочем, порой условия эксперимента менялись). Спящих подключали к приборам, которые отмечали их состояние во время сна вообще и во время сновидения в частности. Как-то: давление, пульс, температура тела. С помощью электродов записывались электрические сигналы от различных частей коры головного мозга. Наблюдали двигательную активность.
Сон, снятый на пленку сон, ставший фильмом, демонстрировали сновидцу, — иногда погруженному в гипнотический транс, — также снимая показания. Показания во время сна и во время фильма сверялись. Если совпадение показаний оказывалось низким, фильм переснимали, руководствуясь замечаниями сновидца.
Разумеется, сновидцами выступали люди от природы чуткие к снам, умеющие их запоминать и пересказывать. К этой теме мы еще обратимся, а пока, с вашего разрешения, вернемся к сценарию, ставшему, на наш взгляд, разгадкой занимавшего нас вопроса.
Страница машинописного текста с правкой чернилами и простым карандашом. Бумага окислена.
Приведем текст полностью:
Он сидит и пишет под светом настольной лампы. Мы не видим лица, мы видим только бумагу, руку с карандашом, бегущую по листу строку.
Рука замирает.
Очевидно, пишущий поднимает голову, мы видим его глазами…
…лес.
Становится ясно, что массивный устойчивый стол, за которым сидит пишущий, находится прямо в лесу.
Трепещущие узорчатые тени сквозь листву, трепещущий свет.
Небольшая птица (дрозд?) садится на ветку березы, смотрит круглым глазом. Вспархивает.
Становится сумрачно и тихо. Ни шелеста, ни проблеска.
Вдруг желтый лист березы опускается на исписанный лист бумаги.
Золотое пятно поверх строк.
Тот, кто писал, подымается.
Он идет через лес, проламывается через заросли.
Темно, темно.
Кровь на руке, ободрал руку.
Все так же темно, но уже свободнее. Легче идти. Деревья выше. Это сосны. Колоннами.
Нет леса. Чувствуется, что он за спиной. Впереди пусто. Пустое темное пространство.
Он стоит на краю провала, пропасти, обрыва.
В тишине появляется звук. Как будто бы гудок машины, очень дальний.
Он всматривается вниз и начинает различать огоньки, бледную цепочку.
Огоньки движутся. И в то же время становится светлее, встает солнце. Утреннее веселое солнце освещает город внизу.
Аэростаты рыбами плывут в небе. Бегут машины, весело звенят трамваи, поезда идут по воздушным мостам, рассыпают огненные искры. На шпиле громадной башни сияет звезда[2].
Каждый сценарий в архиве лаборатории хранился не сам по себе, а подшитым в папку с приказами, раскадровками, фотопробами, справками, зарисовками, — с теми бумагами, которыми обрастает любой сценарий в процессе производства. На обычной киностудии подобные папки назывались фильмовыми делами, от них папки лаборатории отличались наличием фотопортрета сновидца и описанием его жизни, во всяком случае, тех моментов его жизни, которые могли бы пролить свет на смысл записанного в виде сценария сновидения, как то и требовалось по Фрейду. Толкование также прилагалось. Иногда толкований бывало несколько. Допускал ли подобное Фрейд, нам неизвестно.
В папке с вышеприведенным сценарием ни фотопортрета, ни биографических сведений, ни толкований не нашлось. Либо никогда не было, либо их изъяли.
Приведем перечень документов, подшитых в папку, полностью:
1. Сценарий. 1 л.
2. Раскадровка с указанием происходящего в каждом кадре, в том числе шумов. 3 лл.
3. Фотографии предметов: настольная лампа в нескольких ракурсах, письменный стол в нескольких ракурсах, карандаш, исписанный лист бумаги, текст на листе неразборчив. Всего 15 шт.
4. Карандашные наброски леса, утреннего неба и открывающегося взору города. Всего 10 шт.
Папки в лаборатории были пронумерованы и хранились в порядке номеров. Под соответствующими номерами хранились и коробки с пленкой в фильмотеке лаборатории. Также в фильмотеке имелся журнал выдачи и приема фильмов (экранизированных снов) с записями такого рода:
«№ 34 — просмотровый зал — 22 июня 1930 — выдал А. Аникин».
Где № 34 — номер выданной коробки с фильмом.
Возвращение коробки на место отмечали так же, только вместо «выдал» писали «принял».
Папка с интересующим нас сном имела номер 630. Значит, и коробка с фильмом по этому сну была под номером 630.
В журнале выдачи мы обнаружили 10 записей по 630 номеру. Все они датированы 1934 годом. Десять записей — с 30 октября по 12 декабря включительно. Выдавал и принимал А. Аникин, но не в просмотровый зал, а в Кремль.
Сон о городе будущего был не единственным, востребованным Кремлем, но он был наиболее востребованным. Во всяком случае, если судить по записям в журнале.
И. В. Сталин любил кино. О ночных сеансах в Кремле опубликовано немало материалов. Мы обращаем ваше внимание на публикации записей тогдашнего главы советской кинематографии Б. 3. Шумяцкого в журнале «Киноведческие записки» (№ 27 за 1995 год, с. 76–89 и № 61 за 2002 год, с. 281–346). Записи представляют собой конспекты бесед со Сталиным; хранятся в Российском государственном архиве социально-политической истории (Ф. 558. Оп. 11. Ед. хр. 828 и 829).
До сих пор не было известно, что на подобных ночных сеансах в Кремле И. В. Сталин смотрел киноматериалы из лаборатории сна. К сожалению, никто не вел, подобно Шумяцкому, записей бесед по поводу этих просмотров. Во всяком случае, нами они не обнаружены.
Мы рискнем предположить, что лаборатория сна существовала именно благодаря любви И. В. Сталина к кино. Очевидно, он считал экранизированные сны отраслью кинематографа; гипноз и толкование по Фрейду оставались в данном случае необходимым злом. Кроме того, вождю было любопытно заглянуть в подсознание своих подданных. Этому искушению он противиться не мог.
Мы допускаем (с большой долей вероятности), что сон № 630 о городе будущего был сном самого И. В. Сталина.
Вождю захотелось узнать кухню съемок сновидений, и он свое любопытство удовлетворил.
У нашего предположения нет достаточных оснований, но все же мы нашли нужным его обнародовать. К тому же имеются достоверные свидетельства, что киноотдел лаборатории снов был создан по личному распоряжению И. В. Сталина.
Приведем до сих пор не опубликованный фрагмент записей Б. 3. Шумяцкого и — затем — выдержку из дневника режиссера Е. В. Данилова.
Записи Шумяцкого (РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Ед. хр. 828. Л. 11а):
Замечания И. В. по просмотру картин с 7.V с 23 часов по 2 часа утра 8.V-1934 г. о фильме «Лед»
И. В. Хороший фильм, держит в напряжении от начала до конца. Ничего лишнего. Насчет финала у меня есть вопрос.
Б. Ш. Вам не понравился финал, тов. С.?
И. В. Финал мне очень понравился, но вопрос есть. Но думаю, что не к вам, а к сценаристу.
Б. Ш. Насколько я знаю, в сценарии был другой финал.
И. В. Любопытно. Организуйте нам встречу.
Б. Ш. Извините, я уточню: с режиссером?
И. В. С тем, кто придумал финал. Весь этот поворот с Колычевым. Завтра вы сможете? И фильм мы еще раз посмотрим, очень хороший фильм.
Из дневника режиссера Евгения Викторовича Данилова (РГАЛИ. Ф. 1003/2. Оп. 2. Ед. хр. 116. Л. 31–33):
10 мая 1934
…зажегся свет. ИВ некоторое время молчал, и все молчали. Кто-то из приглашенных кашлянул, ИВ взглянул на него строго и обратился ко мне:
— Товарищ Шумяцкий сказал, что в сценарии был другой финал, какой?
— Да. Там Колычев был одной краской написан, черной. Я так и думал снимать. Но вот.
ИВ улыбнулся. Спросил:
— Почему же случилось это «но вот»? Расскажите.
— Колычев мне приснился. Мы еще не выбрали актера. Я как раз этим был занят, пробами.
ИВ живо заинтересовался:
— И кто же пробовался?
Я перечислил актеров[3] и продолжил:
— …Но все было не то. Я не представлял, какое у него лицо, какой голос, походка. Я только понимал, что эти люди не подходят. Я измучился. И он мне приснился. Я видел его отчетливо, как под линзой. Мелкий порез от бритвы видел на лице. Застрявшие в усах крошки серого хлеба, будто он только что ел. И кислый хлебный запах я слышал во сне.
— Так вот откуда эти крошки.
— Да, из сна. И глаза посажены глубоко, спрятаны. В иной момент он поворачивается, и кажется, что их нет. Провалы на их месте, как будто этот человек уже при жизни покойник.
— Помню, очень сильный кадр.
— Утром я сообразил, что видел это лицо прежде сна. В газете, фоторепортаж из Саратовского театра. Я разворошил старые газеты и нашел.
12 июня 1934 года
Сегодня утром я работал над сценарием. Позвонил телефон, я взял трубку. Голос что-то пробурчал, я не расслышал, мысли были заняты сценарием, я только сказал с досадой:
— Что такое, я занят, говорите четче.
Голос сказал, что на какую-то научную студию нужен режиссер, что-то начал говорить насчет зарплаты, но я его прервал и сказал, что сейчас загружен работой и ни о какой другой работе помыслить не могу.
На студии ночью я смотрел материал, показ прервали, редакторша испуганно попросила подняться в кабинет. Я потащился за ней, тихо матерясь и желая всему начальству гореть в аду. В кабинете никого не было, на столе лежала черная трубка телефона. Я поднял ее, поднес куху и услышал, как тихо закрывается дверь в кабинет, я обернулся, редакторши не было, оставила меня одного. Я услышал негромкий голос ИВ.
— Товарищ Данилов, я знаю, что у вас много работы, и прошу об одолжении. При научной лаборатории решено создать киностудию, им нужен режиссер. Про правде сказать, это была моя идея. Она мне пришла на ум после нашей с вами беседы. Помните? Вы рассказывали о приснившемся вам персонаже. Мне кажется, вы лучший кандидат.
У меня пальцы похолодели. Неужели я на самого товарища Сталина рявкнул утром?
— Подумайте до завтра, — между тем сказал ИВ.
И положил трубку.
Личное дело Евгения Владимировича Данилова сохранилось. Приказ о принятии его на должность главного режиссера киноотдела подписан директором лаборатории сна 16 июня 1934 года.
Насколько нам удалось выяснить, с этого времени Данилов в кино не работал. Во втором томе аннотированного каталога Госфильмофонда он упоминается единожды — как соавтор сценария фильма «Расчет был верен». Судя по аннотации, содержание фильма (он не сохранился) совпадает со сценарием, от работы над которым Данилова оторвал телефонный звонок 12 июня 1934 года. (Нам повезло найти сценарий в архиве студии Горького.) Возможно, работа на новой должности забрала все силы Данилова. Как бы то ни было, выбирать ему не пришлось.
Мы не знаем, что он думал о своей так и не сложившейся в кинематографе судьбе. Чего ему стоил этот уход из мира кино?
Страдал ли он от неудовлетворенных амбиций, желаний, надежд? Дневник об этом умалчивает.
Но вернемся к личному делу Данилова — главного режиссера и руководителя киноотдела лаборатории сновидений.
Автобиография
Я, Данилов Евгений Владимирович, родился 5 мая 1902 года в селе Путятино Сапожниковского района Рязанской губернии. В 1914 году зимой наш дом сгорел, погибла моя старая бабка и годовалый брат. После пожара поехали в Москву к дяде. Отец и мать устроились на завод Дукс. Я поступил в ремесленное училище им. К. Т. Солдатенкова[4] в 1916. По окончании училища работал на заводе Дукс. В 1918 товарищ позвал меня в актерскую студию. В студии мне понравилось тренировать тело и выполнять сложные гимнастические этюды. И выступать на публике.
В 1921 году я поступил в Госкиношколу. Сначала учился на актера, через полгода перешел к режиссерам. Снялся в нескольких фильмах. Работал помощником режиссера. Первая самостоятельная работа — «Интервал» (1930 г, Совкино).
Женат на актрисе Галине Никитичне Лапиной. Две дочери, 1929 и 1930 года рождения.
Беспартийный.
Спешим предупредить читателя, что ведем рассказ не только о судьбе киноотдела лаборатории сновидений. И не совсем о жизненном пути Е. В. Данилова. Предметом нашего интереса являются воплощения снов.
Сон, ставший вдруг реальностью (пусть лишь на киноэкране), ставший достоянием чужих глаз, ставший объектом, — вот что нас привлекает. Мы рискнем уподобить воплотившийся сон явлению существа из мира духов в земной мир, из потустороннего — в посюстороннее.
Таким образом, покончив с необходимым объяснением, перейдем к собственно историям воплощений.
История первая
Мы не сразу решились привести ее здесь, тем более в качестве начального примера. Но в конце концов нам стало очевидно, что эта яркая, хотя и странная иллюстрация должна найти место в нашем повествовании. И, так как мы излагаем материал по хронологическому принципу, это место необходимо является первым.
Следует напомнить читателю, что в лаборатории было несколько штатных сновидцев, чрезвычайно способных к видению и запоминанию снов (то есть показания описанных нами в преамбуле приборов совпадали во время сновидения и во время кинопросмотра на 90 % и более).
Мария Сергеевна Коготко была одной из лучших. Из личного дела мы можем почерпнуть о ней некоторые сведения:
1900 года рождения. Место рождения — Москва. Из мещан. Не замужем. Инвалид (покалечена стопа правой ноги). До революции работала на книжном складе «Наука».
25 августа 1936 года она увидела сон. Мы приведем его сценарий:
Она (Мария Коготко) стоит на берегу шумной стремительной реки.
Воздух серый, сумрачное насупленное небо. Ветер рвет платье.
Мария ступает ногой в тяжелом высоком ботинке с берега в поток.
Оступается, кричит.
Поток несет ее.
Сильные руки подхватывают Марию, поднимают над потоком.
Марию несут на руках через поток.
Шумная грозная река внизу, вдали. Как будто Марию несет великан.
Мария смотрит в лицо великану. Она видит, что это — Евгений Данилов.
Он несет ее через поток.
Наклоняет к ней лицо и касается губами лба.
В дневнике Евгения Владимировича мы нашли несколько записей, касающихся съемок вышеприведенного сценария. Из них явствует, что для воплощения сна Марии был применен прием комбинированных съемок. Данилов нес Марию на руках в павильоне. Реальный же поток и Марию на его берегу снимали на Северном Кавказе (кинолаборатории выделяли достаточно средств для необходимых экспедиций). Затем снятые кадры совмещали (комбинировали), так что у зрителя возникала иллюзия того, что Евгений Владимирович несет Марию через бурлящий поток.
В течение месяца сон был записан, снят, смонтирован, озвучен, перемонтирован и готов к просмотру, каковой состоялся 30 сентября 1936 года в обычном лабораторном режиме. Показания приборов были зафиксированы и подшиты к делу.
Через день в дневнике режиссера появилась следующая запись:
2 октября, 3 часа 15 минут утра
Мария сказалась больной и другой возможности ее повидать у меня не оставалось. Я приехал за объяснением, и я его получил.
Мария живет в небольшой узкой комнате, окно ее смотрит на Москва-реку.
Мария принесла с кухни чайник. Чай мы пили за столом у окна и смотрели на реку, совсем непохожую на бурный горный поток. Чашки тонкого фарфора Мария сохранила от прежней жизни.
Она сказала, что чувствует себя лучше, болела голова, но сейчас легче.
Чай крепкий, сладкий. Были к чаю баранки. На стене висел в рамке фотопортрет строгой женщины с поджатыми губами, она стояла положив руку на спинку стула, на стуле сидел военный с георгиевским крестом на гимнастерке. Родители Марии.
Я спросил:
— Зачем вы это сделали?
Она ответила:
— Ну хоть во сне.
Про то, что и сна никакого не было, мы говорить не стали. Пили чай и смотрели, как по реке плывет баржа.
Я сказал Марии, что если бы не инвалидность, то я бы настаивал на ее увольнении, и что если подобное повторится…
— Не повторится, — разумеется, ответила она.
Она сказала, хотя я не спрашивал, что точно так же, как сейчас, была влюблена в женатого мужчину, когда работала на книжном складе. Они переписывались, она сообщала ему о вышедших новинках. Он был медик и занимался патогенными. Привозил ей муку в 1918 году, работал в то время в госпитале в Ярославле и мог достать.
Дома она ходит в мягком шерстяном носке на здоровой ноге и в тяжелом ботинке на больной. Она инвалид от рождения.
Я сказал, что вынужден буду написать объяснительную записку по поводу ее сна.
Затем сказал, что мне пора.
Она затворила за мной дверь.
По дороге домой я вспомнил, как прошлой осенью мы сажали яблони, я выбил разрешение, привез саженцы, и мы посадили антоновку, золотую китайку и московскую грушевку, всего пятнадцать деревьев. Мария старалась во всем помочь, копать ей было несподручно, она таскала воду, раскраснелась, смотрела счастливыми глазами и говорила, как это здорово, что у нас будут свои яблоки. Пахло землей, прелыми листьями, я вспоминал деревню. Евдокия из столовой обещала нам печь с яблоками пироги.
— Главное, — говорила, — чтобы мальчишки не лазали и не трясли.
— У нас же есть сторож. — Я смеялся.
Все смеялись. Счастливые дни.
Объяснительная записка по поводу сна Марии также сохранилась в личном деле Данилова. Приведем ее фрагмент:
…Несовпадение показаний приборов во время сна и во время кинопросмотра объясняется тем, что сон был полностью выдуман Марией Коготко и не соответствовал действительности.
По этому поводу с М. Коготко была проведена беседа. М. Коготко дала слово, что подобное более не повторится. Я готов за нее поручиться.
Режиссер Е. В. Данилов. Киноотдел.
3 октября 1936 года.
Мария Коготко ушла из лаборатории, ее заявление об уходе («по здоровью») датировано этим же днем.
Мы уже отмечали, что развернутых свидетельств о кинопросмотрах снов в Кремле нами не обнаружено. Действительно, дневниковые записи Е. В. Данилова по этому поводу лапидарны, они, как правило, состоят из даты и фразы: «Просмотр в Кремле». Осторожность, деликатность — это или что-то иное стало причиной такой краткости (или скрытности), нам неизвестно. Но по поводу просмотра выдуманного Коготко сна запись чуть более развернута:
ИВ сказал:
— Так ведь не было никакого сна.
— Не было, — я подтвердил.
— Влюблена.
— Я не знал.
— Она ушла из лаборатории? На что существует?
— Говорят, шьет.
Я был готов провалиться сквозь землю. ИВ посмеивался и наблюдал за мной.
Судя по записям в журнале выдачи, Сталин смотрел «сон» Коготко трижды.
Истории вторая и третья
В октябре 1941 года киноотдел был эвакуирован в Казахстан (вместе с «Мосфильмом», одним эшелоном). В здании остались сторож Никитин и его внучка десяти лет (они постоянно проживали в каморке при киноотделе лаборатории и отказались от эвакуации; сторож исполнял и функции дворника).
Ныне внучка сторожа Ольга Николаевна Серегина-Томпсон проживает в США. Нам удалось ее разыскать. Ольга Николаевна с радостью согласилась написать свои воспоминания о детстве при киноотделе. С любезного согласия автора мы публикуем их фрагмент:
…киноотделу передали старую усадьбу, ветхую, разграбленную, с наглухо заросшим крохотным садом на задах. Помню разваленную каменную ограду, скрипучие полы, запах нечистот, выбитые рамы, черные оконные провалы. Евгений Владимирович, он бы, наверно, в другие времена, стал купцом, хозяином, он собственно и был хозяином, он привел всё в идеальный порядок, что-то выбивал, какой-то материал, с кем-то договаривался, работал чуть не сутками, за всем следил, всё продумывал, где что должно быть, рассчитывал, чтобы всё было отлажено, чтобы люди спокойно работали, чтобы были условия, организовал отличную столовую. Умный был мужик, с очень умными глазами, спокойный и деятельный, я, пигалица, была в него немного влюблена.
Фильмохранилище организовали в прекрасно оборудованном подвале. Раньше фильмы снимали на горючую пленку, и все боялись пожаров. Евгений Владимирович как-то так придумал со знакомыми инженерами, что в случае огня подвал заливало водой. Причем подвал был разделен на автономные отсеки, как «Титаник», хотя в данном случае это не совсем уместное сравнение.
Я с дедом во всем этом обустройстве принимала самое деятельное участие, дед был старинным знакомым Евгения Владимировича, он у него снимался, фильм сохранился, у меня есть на диске, берегу. Отца я не помню, он от нас ушел, мне было год или два, мать билась со мной одна, не снесла жизни, ослабла и ушла в мир иной, — дед в него верил, а я — тогда — нет.
Квартирка у нас была крохотная, в первом этаже, одна маленькая комната, я ее очень любила. Окошко выходило в сад, летом я его отворяла и сидела на подоконнике. Дед сторожил в будке на входе, проверял пропуска. Был еще приходящий сторож, они работали с дедом посменно; его я плохо помню, какой-то рыжеусый, пахло от него всегда хлебом, приятно.
Смены бывали ночные, по ночам киноотдел не закрывался, и съемки по ночам, и какие-то совещания.
В эвакуацию так уговаривал Евгений Владимирович деда поехать, но дед нет, ни в какую. Кто за домом присмотрит? Мы все называли киноотдел домом. Ауж как меня уговаривали, оба они, и дед, и Евгений Владимирович уговаривали. Но я ни за что, — не хочу, хоть вяжите, веревки перегрызу и сбегу. Уперлась, не переломили. И дед доволен был, я чувствовала. Хотя и боялся за меня. Как оно все обернется, кто же знал.
Бумаги мы не жгли, а почти вся Москва жгла бумаги, пепел летал над Москвой в те дни. Мы всё снесли в подвал, весь архив, разместили. Техника поехала с нашими в Казахстан, там они на объединенной студии потом работали вместе со всеми, не только сны, боевые сборники тоже снимали. Война. А мы с дедом все заперли, за всем смотрели, когда воздушная тревога, забирались на крышу, тушили зажигалки. Дед говорил, что Москву не возьмет немец, никогда.
У меня появилось развлечение, запретное, в общем, я и деда соблазнила. Кинопроектор в зале оставался, его в эвакуацию не взяли, а я была смышленая, сообразила, как пленку заряжать, как чего, и мы с дедом, случалось, устраивали себе киносеансы, смотрели чужие сны. Деду очень полюбился один про Париж, это я по Эйфелевой башне поняла, что Париж. Насколько я могу сейчас по памяти судить, снимали и в самом деле в Париже. Барышня в этом сне пила кофе за крохотным столиком, он стоял прямо на мостовой, и нам с дедом это было чудно. Барышня сидела не одна, с молодым человеком, они всё молчали и не смотрели друг на друга, он курил длинную папироску, вдруг голубь опустился к ним на стол, они растерялись, а голубь нахально топтался по столу, крошку какую-то склюнул. И вдруг взлетел, и они оба головы подняли и глядели, как он становится точкой в небе.
Барышня посмотрела на молодого человека, как будто хотела ему что-то сказать, а он поднял лорнет и строго посмотрел на барышню большим увеличенным глазом.
Что этот сон означал, мы с дедом никак не могли знать. Евгений Владимирович объяснял мне, что так запросто сон не поймешь, надо знать того, кто этот сон видел, понимать обстоятельства его жизни, страхи и желания; именно это отражается во сне — страхи и желания.
— Сон — это зеркало, но зеркало кривое, — так примерно говорил Евгений Владимирович, и я запомнила на всю жизнь.
Он любил мне объяснять, я живо интересовалась, его родные дочки не особенно любили наш дом, им жалко было, что отец перестал снимать игровое кино, а то бы стал великим режиссером. Это все мать им наверняка дома наговаривала, раньше он снимал ее в своих фильмах, а теперь она мало снималась и всё на вторых ролях.
Сейчас я бы сказала, что чужой сон, увиденный другим человеком, становится его собственностью, наполняется его смыслом.
Дед любил сон про голубя, а мне нравились страшилки. Больше всего я смотрела про человека в длинном черном пальто нараспашку. Он был очень худ, шагал стремительно, пальто разлеталось черными крыльями. Лицо у него было неподвижное, белое, героиня сна видела его за черным ночным окном как лицо луны. Затем она шла одна переулком, оглядывалась и вновь видела его в разлетающемся пальто, она ускоряла шаг, он тоже, его шагов не было слышно, он как будто бежал чуть над землей, по воздуху, беззвучными шагами, она неслась от него, петляла, врывалась в дом, захлопывала за собой дверь, дом весь состоял из одной комнатки, очень похожей на нашу с дедом.
И вот она захлопывает дверь, загоняет засов в паз. Стоит лбом к двери, прислушивается. Тихо-тихо за дверью. Тихо-тихо в комнате. Как в склепе. Она отворачивается от двери и видит бледнолицего в черном пальто. Он сидит к ней в профиль. Она смотрит, приближается. Протягивает руку, касается его плеча, рука проваливается. Его нет на стуле, она одна в комнате.
Я смотрела этот сон несчетное число раз.
И вдруг увидела его героя наяву, в горбатом московском переулке в сорок первом году.
Он шел в своем разлетающемся пальто и смотрел под ноги. Я отправилась за ним следом, пахло гарью. Переулок, как обычно в Москве, кружил. Показалась внизу церковь, исчезла, переулок покатил в сторону.
Мужчина вошел в арку старого особняка, я решилась последовать за ним. Он уже успел пройти арку.
Я вступила из арки в тихий двор и увидела, что женщина развешивает белье, а мужчина в черном пальто приближается к ней.
Он остановился. Смотрел, как она накидывает на веревку мальчиковые рубашки, полотенца, насаживает сверху деревянные темные прищепки.
Он смотрит, смотрит на нее. С белья капает в пожухлую траву. Скрипит оконная рама во втором этаже, стекло отбрасывает световой блик. Таз с бельем пустеет, женщина подходит к мужчине. Смотрит на него. И застегивает ему пальто. На все пуговицы. И у меня, соглядатая, это вызывает болезненное, щемящее чувство жалости. То ли к нему, то ли к ней, то ли к себе, то ли ко всему миру, со всеми его звуками, запахами, отсветами и живыми душами.
В том, что герой сна и увиденный мной мужчина — одно лицо, я нимало не сомневалась, я изучила его на экране досконально.
Киноотдел вернулся в Москву в 1943 году, это было счастье увидеть их, обнять, Евгений Владимирович поражался тому, как я выросла, целовал деда и говорил, что выпишет премию за то, что сберег народное достояние ‹…›
В июне сорок пятого вернулся с фронта один из наших сновидцев Михаил. Он ничего не рассказывал о войне. Ходил в гимнастерке без погон, любил сидеть на лавке в нашем маленьком саду и дымить папироской. Скоро после возвращения ему приснился сон о войне.
Солдат шел по освещенному солнцем редкому лесу. Худой, с заросшим лицом, оборванный, шел, пробирался, вдруг под ногой щелкнула, переломилась ветка, и он замер. Стоял неподвижно, всматриваясь, вглядываясь, внюхиваясь.
Всё так же всматриваясь и вглядываясь и внюхиваясь, он осторожно снял из-за плеча винтовку, дрожащей грязной, с обломанными ногтями, рукой взвел курок.
Ничего вроде бы страшного не происходило. Солнце пробивалось сквозь листья, гудели насекомые. Несколько берез стояли со срезанными осколком макушками.
Он видел всю мелкую лесную жизнь, муравьиное копошение, блеск паутины в черных ветвях, висящего на тонкой нити паука, летящий, уже пожелтелый лист.
Тихо. И он успокоился, опустил винтовку; и вдруг она жахнула громовым выстрелом, и солдат ее выронил, бросился ничком на землю, закрыв ладонями голову, и всё замерло в лесу, всякая жизнь.
Евгений Владимирович замучился снимать этот фильм. Играть солдата позвали молодого актера из театра, совсем мальчишку, внешне он подходил. Не брился недели три, ногтями землю копал, чтобы соответствовать образу. Но всё никак не мог попасть.
— Он сытый, сытый! — кричал Михаил.
И:
— Страха нет, страха!
В конце концов сам приволок парнишку с улицы.
— Вот, — сказал, — он сыграет.
Евгений Владимирович спорил, тыкал в сценарий:
— Вот же, — говорил, — твое описание, этот совсем не подходит, он другой.
— Нет, его снимать будем.
Как будто бы Михаил режиссер и главный, а не Евгений Владимирович. Взял власть. И Евгений Владимирович отступил; как хочешь, сказал. И сняли. И вышло, что этот парнишка лучше сыграл, что надо сыграл, хотя по внешности был другой, чем привиделся во сне, и ростом, и лицом. И показатели все совпали, вот что. Кто-то из лаборатории на этом диссертацию потом защитил.
Уже после съемок я застала их на лавке, Михаила и Евгения Владимировича. Поздний уже был час, темный. Они пили водку из стаканов, взяли, наверно, в столовой, закусывали падалицей, курили, молчали. Евгений Владимирович вдруг сказал, что много раз просился на фронт, но всё отказывали.
— И хорошо, — отвечал Михаил.
— Как я могу снимать войну, я ее не видел.
— Да ну ее совсем.
В 1955 году в киноотдел пришел выпускник киноведческого факультета ВГИКа Алексей Степанович Невнятов. На фотографии в личном деле мы видим молодое лицо.
Светлая челка, светлые глаза, узкие твердые губы, немного оттопыренные уши.
По воспоминаниям жены Алексея Степановича, Нины Андреевны, он был небольшого роста, худощавый, фигурой и в зрелом возрасте походил на подростка. Говорил ровно, голос не повышал, из себя не выходил, в глаза собеседнику смотрел редко.
Весной 1960 года Евгений Владимирович пережил инфаркт, ходил с палочкой и часто так задумывался, что не откликался. В октябре он ушел в отпуск, после которого на работу не вернулся.
Последним документом в личном деле Евгения Владимировича Данилова стала рекомендация молодого киноведа А. С. Невнятова на должность главы киноотдела.
«…Я считаю, — писал Евгений Владимирович, — что руководить киноотделом не обязан режиссер, им может быть и киновед, в том случае, если у него достаточно организационных способностей, если он вполне понимает кинопроизводство и научные цели лаборатории. Последние несколько лет в связи с моим нездоровьем большинство обязанностей по руководству так или иначе исполнял А. С. Невнятов и лучшего заместителя я не мог желать. Невнятов хорошо знает молодое поколение режиссеров и, таким образом, лучше понимает, кого именно из них необходимо пригласить на съемки того или иного сна.
Я буду спокоен, если моя просьба по назначению А. С. Невнятова будет удовлетворена…»
Просьба была удовлетворена, и 1 ноября 1960 года, — по записи в личном деле, — Алексей Степанович Невнятов приступил к своим обязанностям.
Надо сказать, что к полученному наследству, — к дому и саду, — Алексей Степанович относился бережно; хозяйство при нем не разрушилось и не пришло в упадок. Ровный, незаметный человек умел выбить для лаборатории новейшее оборудование, умел уговорить маститого режиссера снять минутное сновидение. Впрочем, он предпочитал приглашать режиссеров немаститых. Корифеи не желали понимать, что снимают не свой собственный сон. Они присваивали себе чужие сны, наполняли их собственным смыслом.
К сожалению, Алексей Степанович не вел дневников, и все, что мы знаем о нем сегодня, почерпнуто нами из документов, деловой переписки и бесед с его вдовой.
Дневников он не вел, но оставил десять общих тетрадей, а в них — переписанные от руки тексты: «Повести Белкина», «Капитанская дочка», начало «Героя нашего времени». По свидетельству Нины Андреевны, таким образом он пытался выучиться писать, выработать стиль. Но писательскими амбициями Алексей Степанович не страдал.
Через несколько лет руководства, в 1963 году, Невнятов ввел в практику киноотдела съемку литературных снов (сны Онегина, Татьяны, Гринева и др.). Ученые не понимали смысла этой затеи, но предпочли согласиться. Как сказал на заседании ученого совета профессор А. Л. Кириллов — «от нас не убудет»[5].
Впоследствии проблемы, связанные с киновоплощением литературных снов (идентичные с проблемами киновоплощения любого литературного произведения) все же вызвали их любопытство.
При Алексее Степановиче каталогизировали архив сценариев и фильмов.
Архив был востребован чрезвычайно, не только учеными, но и кинематографистами. Воплощенные сны явились уникальной возможностью заглянуть в прошлое; они сохранили приметы времени: быт, язык, лица. Все то, что даже неигровой кинематограф улавливает скупо и небеспристрастно.
Кроме того, не стоит забывать, что режиссеры, операторы, художники, — все, кто принимал участие в съемках снов, — зачастую решали сложнейшие технические задачи (полеты, превращения и т. п.); и это в то время, когда и помыслить о чем-либо вроде компьютерной графики никто не мог. Их достижения становились предметом восхищения новых поколений кинематографистов.
Истории четвертая, пятая и шестая, заключительная
Неоценимую помощь в наших разысканиях оказала Анна Семеновна Поливанова, заведующая фильмотекой киноотдела с 1986 по 1998 год. Приведем расшифровку нашей с ней беседы (вопросы мы опускаем):
Я пришла в отдел совсем девочкой, без всякого образования. Учиться мне не особенно хотелось дальше после школы. Я вообще не знала, чего мне хочется, куда. Мать сказала: иди работать. Жили мы тут недалеко, я мимо их здания часто ходила, но что там, не представляла; какой-то институт — только это. Еще маленькой я мимо них ходила, смотрела за ограду. Все там было мне красиво: здание старое, высокие окна, в них иногда какой-то свет мелькал, огни. Я не воображала, что когда-нибудь окажусь внутри. Какие-то надписи из выпуклых букв на стенах между окон. Что за надписи? Вроде бы русские буквы, а никак не складываются. Это я все из-за решетки когда смотрела. И вот мама мне сказала: иди работать; и я пошла к ним. Даже не знаю, чего я вдруг разлетелась. Шла мимо и решила. Вот так.
На входе в будке сидел охранник, пускал по корочке. Я не знала, что ему сказать, стояла и не уходила. Топталась на осеннем ветру. Из дома на крыльцо вышел мужчина и закурил. Он стоял под навесом у белой колонны, смотрел на старую антоновскую яблоню, летели сухие листья.
Он бросил окурок в урну, сошел с крыльца и направился по дорожке прямо к нам. Мне захотелось убежать, но я осталась. Он приблизился и спросил, чего я тут торчу. Охранник стал жаловаться, что уже гнал меня.
— Я ж не тебя спрашиваю, — он его оборвал.
Это меня отчего-то подбодрило, и я спросила насчет работы. Он спросил, умею ли я читать и писать, я напугалась, что он меня спросит насчет надписей, но сказала, что умею. Он посмеялся:
— Не очень-то вы решительно это говорите.
Он со всеми был на вы, Алексей Степанович. С самим директором я разговаривала, вот как.
Он сказал, что у них есть для меня важная, ответственная должность, и велел охраннику меня пропустить. И я прошла за ограду. Я как будто вошла в сказочный замок. Сам хозяин меня провожал. Поднялись на крыльцо, и он меня пропустил в дверь. Церемонный был человек. Очень при нем все было спокойно, ровно, без шума. Провел он меня самым обыкновенным коридором в самый обыкновенный кабинет и сдал с рук на руки тогдашней заведующей Римме, она свое отчество никому не говорила. Она меня выучила писать карточки для каталога.
Как мне у них понравилось, я вам рассказать не смогу. Римма дозволяла мне иногда сходить посмотреть на съемки, а в лабораторию сна я сама без разрешения пробиралась, приборы разглядывала. Сценарии снов читала, сами сны смотрела, особенно из прошлых лет; тянуло меня в те годы. Я стала все свои сны стараться не упускать, записывать в тетрадку. И сейчас пишу. Иногда перечитываю и удивляюсь: то сон повторится, а то вдруг окажется пророческим. Но это не по науке, а по-моему.
Я вам про сон Михайлова расскажу. Я его видела. До сих пор удивляюсь — своими глазами видеть чужие сны, — мыслимо? Вот в каком месте я работала!
Михайлову снилось, что его ведут по коридору, конвоир ведет. Вроде кактюрьма, а Михайлов заключенный. Михайлову хочется оглянуться; он знает, что нельзя, но так его и подмывает. И страшно.
Удивительно мне. Человек видит сон и думает что-то во сне, но как в фильме сделать, чтобы такие же мысли? Чтобы тоже страшно? Я помню, режиссер с оператором спорили на съемке, с какой точки снимать, чтобы нужное настроение. Чего-то добивались. Я, к примеру, тоже боялась, когда смотрела, как Михайлова ведут. Притом что самого Михайлова почти и не было в кадре. И потому, когда смотришь, то кажется, что это не он идет и дышит, а ты. Это вроде как ты утыкаешься лицом в стену и не выносишь, оборачиваешься. И видишь конвоира. У него ружье в руках, оно нацелено на тебя и мгновенно стреляет.
Потом выяснилось, что в лаборатории что-то сорвалось, грохнуло, плохо закрепили прибор. И этот внешний грохот стал во сне выстрелом. Я спросила у них, как же так, выходит, что во сне Михайлов заранее знал про грохот, ведь сон так и ведет — к выстрелу. К грохоту то есть. Мне наш профессор сказал:
— Вы, Анечка, не хуже Флоренского рассуждаете.
Он давно жил, Флоренский.
К этому сну долго искали актера. В театрах смотрели, на студиях. Но сыграл не актер, сыграл водитель рейсового автобуса. Михайлов как раз ездил этим рейсом, и лицо водителя заметил, в зеркале. И понял, вот он, из сна.
Михайлов после уже не ездил этим рейсом. Над ним посмеивались. Только не я.
Через год я поступила в историко-архивный институт на заочный, окончила, а через два года Римма ушла на пенсию и уехала в Горьковскую область нянчить внуков. Алексей Степанович не побоялся и назначил меня заведующей. Я стеснялась, что учености во мне мало, но дело делала, все были довольны.
Еще мне сон запомнился, это до меня снимали, в семьдесят шестом, но я видела, я все сны видела, чтобы карточки заполнять, всё надо было смотреть. Счастливый сон, люди там сидят за столом, пожилая женщина, и еще одна, помоложе, мужчина, тоже молодой. Женщина им из чайничка заварку по чашкам разливает. Солнечная картинка. Чай дымится в чашках, светится. Они улыбаются друг другу, ласково смотрят. Я часто смотрела этот сон, у нас-то в семье так бы не сидели, у нас друг на дружку хорошо если поднимали глаза, — я с матерью еще ничего, нормально, а братья даже не разговаривали. Нам бы разъехаться, да квартира маленькая, не разделишь. И вот я смотрела чужое счастье, грелась.
— Ты чего, — мне Римма сказала, — это же сон, они в жизни друг дружку не хуже твоих ненавидят. Их и снимали по отдельности, чтоб не загрызлись. Комбинированные съемки. Во сне любовь, наяву злоба.
Но мне-то что было до их яви, я сон смотрела, мне он годился.
Директор киноотдела Алексей Степанович Невнятов скончался в 1988 году, 26 января, во сне. Его должность занял Игорь Константинович Китайский, киновед, специалист по сюрреализму в кино, автор книг о Л. Бунюэле и Д. Линче. Встретиться с Игорем Константиновичем лично нам не удалось. На звонки он не отвечал. Его супруга неизменно сообщала, что он в отъезде.
При Китайском укрепились международные связи киноотдела. Приезжали ученые из Америки, Англии, Европы, Японии. Смотрели фильмы, читали фильмовые дела, делали выписки. Приезжали студенты-слависты на стажировку. Ничего подобного киноотделу при лаборатории снов в других странах не было и нет. Мы накопили уникальный материал. Интерес возник громадный. В то же время начались трудности с финансированием. Грозили и вовсе закрыть лабораторию и — соответственно — киноотдел. Игорь Константинович обращался к кинематографистам, объяснял ценность фильмов не только для науки, но и для кинематографа. Но денег тогда ни у кого не было. Старое здание ветшало, протекала крыша, ремонт делали своими силами, латали как могли. Погибла антоновка. Ее не спиливали, и она стояла черным обгорелым скелетом в темной зелени старого сада. В столовой по-прежнему поили бесплатным чаем (традицию эту ввел первый директор Евгений Владимирович), только стал он жидок. К чаю давали бутерброд с прозрачными ломтиками сыра, если удавалось достать для столовой сыр.
Сохранилось фильмовое дело под номером 12 867. Заведено 1 октября 1992 года. Окончено 30 ноября.
Почитаем сценарий:
Вечер, сумерки. Гремит поезд. Гремит, грохочет, летит.
Отгремел, и открылась ветхая платформа.
На платформе стоит высокий, дородный, красивый мужчина, в роскошном темном костюме. Ветер кружит, вздымает его волосы и полы его пиджака; бумажка летит по ветру.
Сумерки, разбитая нищая платформа, поле, грустный дальний огонек.
Мужчина стоит на платформе, смотрит.
Прочтем подшитую в дело расшифровку беседы, проведенной со сновидицей Ольгой Иоффе 1 октября 1992 года. Вопросы лаборанта-психолога мы исключили:
Я с этим человеком встречалась в лифте. У нас громадное здание, восемь лифтов, я там работаю курьером, у меня машина. В лаборатории яблоками платят, а они в Юг-нефти деньгами. Но лабораторию я не брошу. Совмещаю.
Утром я везу им почту, он тоже приезжает рано, и мы несколько раз поднимались вместе в лифте один на один. Мне этот сон с ним снился несколько раз, я думала, может, я влюбилась, но меня во сне нет, он там не на меня смотрит, а в поле.
Не знаю, что это может значить. Платформа мне напоминает станцию во Владимирской области, я туда ездила раньше на поезде, навещала бабку. От станции шла пешком три километра. Поле, лес в стороне, огни.
Когда вот так человек несколько раз снится, начинаешь о нем думать и при встрече внимательно смотреть.
Да, мы здороваемся.
Он на меня не смотрит. Не пялится то есть. Не напирает. Он другого поля ягода человек. Я стараюсь к стеночке, хотя места полно. А стеночки там все зеркальные.
Он высокий, плотный, чистый, пахнет чисто, цветами какими-то пахнет.
Мелкими, белыми.
Больше я его никогда нигде не встречала, только в лифте. И во сне — не встреча, я его вижу, но встречи там нет.
На станции давно не была, на машине езжу. Думала уже съездить, после этих снов. Вдруг он там стоит, меня ждет. Шучу.
Он там большой начальник у нас, но я не знаю кто.
Нет, я его просить не буду насчет съемок, ни за что. Меня вообще не приплетайте, меня там нет.
Да, костюм на нем тот же, что и в жизни.
Нет, я не буду его имя спрашивать. Ау кого мне спрашивать? Нет, не буду.
Он выходит на седьмом этаже.
Я раньше, я сразу на втором, он седьмую кнопку нажимает, там сидят все начальники.
Далее в деле подшита расшифровка второй беседы с О. Иоффе — от 2 октября. Приведем ее фрагмент:
…я сама от себя не ожидала, сегодня и сказанула.
— А я вас во сне видела, — вот так.
Он:
— Вот как?
А я:
— Вот так.
И все рассказала про сон, про фильмы; на седьмой этаж с ним и уехала и возле лифта еще стояли. Он вроде не против съемок, вот его визитка.
Наше повествование продолжит, а вернее, заключит, еще один рассказ заведующей фильмотекой Анны Семеновны. Наши вопросы в расшифровке мы по-прежнему опускаем:
…Конечно, помню. На него сразу обращаешь внимание, не пропустишь. Ходил здесь, смотрел. Типа экскурсия. Везде нос сунул. В лабораторию, к нам, на съемочную площадку, в столовой даже чай откушал. Несколько снов ему показали из тридцатых годов, не знаю зачем. Здание обошел. Надписи на стенахчитал. Их еще при первом директоре выпуклыми такими буквами сделали. Я вам уже рассказывала. Как будто выступают из стены. Трудно прочесть, потому что готические буквы, а он вроде как сразу прочел. И всем был доволен, все ему нравилось. Снимался легко. Нисколько камеры не боялся.
Фильм я видела, как же; я все фильмы смотрю.
Стоит на бедной платформе в сумерках, такой важный, спокойный; и ветер вокруг него ходит.
Через неделю буквально пришел документ от городских властей, что наше здание передают Юг-нефти. Место им понравилось, я так думаю; вроде бы и не окраина, а тишина. Велено было нам убираться в течение месяца. Они только не понимали, что настакзапросто не возьмешь. Нашего Китайского весь ученый мир знал и киношники. Шум поднялся, за границей писали. Французы говорили, что если в России такому учреждению с такой коллекцией нет места, то они готовы нам выделить дом в центре Парижа. Мы смеялись. Думали, что отобьемся.
27 ноября я проснулась в тревоге. Что там мне снилось, не знаю, не помню, но чувство было тяжелое. Жарко, батареи сильно топили, и я вышла на балкон. И увидела дым. Я ведь недалеко здесь, я говорила. Сгорел наш дом. И яблони, и фильмы. В войну уберегли, а тут недосмотрели. Ходили потом по пожарищу, копались; там сработала довоенная еще система против пожара, но мало помогла. Хоть что-то вытащили, вот вы теперь читаете.
В дневнике Евгения Владимировича, первого директора киноотдела, мы нашли запись, датированную 30 января 1939 года:
Снился опять пожар.
Подробностей сна Данилова мы не знаем и не можем утверждать, имеет ли он отношение к прошлому Евгения Владимировича, к пожару, изгнавшему когда-то их семью из села Путятино; или же он имеет отношение к будущему, до которого Евгений Владимирович, к счастью, не дожил. Или же к еще более отдаленному будущему, до которого и мы с вами не доживем.
Мы спросили Анну Семеновну, какая из готических надписей на стене ей запомнилась.
«Болезнь не смертельна, если сон облегчает страдания»[6], — был ответ.
Русское
1
Роберт окончил юридические курсы в Нью-Йорке и устроился в банк. Вскоре банк открыл несколько отделений в России, руководство наняло преподавателя для занятий русским языком, и Роберт преуспел. Его родители эмигрировали из России, точнее из Советского Союза, в 1979 году. В раннем детстве они говорили с ним по-русски.
В сентябре 2016 года Роберта отправили в командировку в Москву.
Нэнси, его жена, растерялась. Купила ему в дорогу шерстяные носки, шарф, меховую шапку. Роберт сказал:
— Да ты что, сентябрь, там сейчас прекрасная погода. Они сели вместе за компьютер, он любил ей показывать.
Посмотрели погоду в Москве, посмотрели виды.
— Прекрасный город, а вот отель, где я буду жить, в самом центре, обрати внимание на прохожих, нормальные люди, смеются; кафе, сидят за столиками, все равно что где-нибудь у нас, только все белые, а нет, сидит азиатка, и девушка за стойкой тоже азиатка, видишь, все прилично; я позвоню тебе, как только приземлимся, и потом, уже вечером, из отеля еще раз позвоню, поговорим, я тебе покажу свой номер по скайпу; не волнуйся, даже если выпадет снег.
Носки и шапку она все-таки запрятала ему в сумку.
Роберт позвонил ей из аэропорта Кеннеди, сказал, что уже идет на посадку, настроение отличное.
— Ты ужинала?
— Нет, мне скучно одной ужинать.
— Сходи в кафе. Сходи к Гарри, в прошлое воскресенье мы у них были, помнишь? Креветки, они были в меню, попробуй. Все, отключаю телефон. До скорого.
Десять часов до Москвы, без пересадки.
Ей было странно, что он летит в дальнюю даль, на другой конец света, о котором ей все представлялось, что там зима, метель, висит фонарь на железном крюку и мотается на ветру.
Нэнси любила раз и навсегда заведенный порядок их жизни. В одно и то же время Роберт приезжал с работы (восемь после полудня), одни и те же слова говорил, скинув туфли («наконец-то»), один и тот же сериал они смотрели перед сном вот уже шестой год.
Сериал она включила, отвлеклась.
Через десять часов Нэнси сидела за столом и смотрела в черный экран айфона, как в черную воду. Вода была неподвижна. Роберт как будто в ней сгинул.
Нэнси нажала на круглую кнопку, экран осветился. И вновь погас. Через несколько минут она открыла ноутбук, вошла на сайт аэропорта и увидела объявление о том, что рейс, на котором летел ее муж, исчез. Она разрыдалась, бросилась искать телефоны на сайте, ничего не смогла найти, ничего не понимала, не видела. Надела кроссовки, захватила сумочку и побежала. У лифта опомнилась, вернулась за айфоном. Высморкалась. Вызвала такси.
В аэропорту ей объяснили, что исчезли все рейсы в Россию. До Москвы, до Санкт-Петербурга, до Екатеринбурга с пересадкой в Москве и до Тюмени с пересадкой в Москве.
Служащая за стойкой говорила тихо и спокойно. Нэнси смотрела, как двигаются ее губы. Служащая замолчала. Нэнси постояла и отошла. Огляделась. Люди стояли, сидели, наверное, в ожидании своих рейсов. Пожилая чернокожая женщина смотрела неподвижным взглядом, багажа при ней Нэнси не заметила. Подошла к ней, наклонилась.
— Простите, у вас тоже кто-то полетел в Россию?
Женщина посмотрела на Нэнси изумленно.
— Нет.
— Извините.
— С вами все хорошо?
Нэнси опустилась на корточки и расплакалась, закрыла ладонями лицо.
Ее окружили, принесли воды, помогли сесть на место рядом с Марией (отчего-то Нэнси решила, что чернокожую женщину зовут Марией), утешали, что это какой-то технический сбой. Нэнси показывала черный неподвижный экран айфона. Подошел маленький седой мужчина, сказал, что тоже ждет вестей из России, и посмотрел на часы. Изо рта его пахло мятой. Нэнси сказала Марии:
— Не хочу, чтобы вы уходили.
— Я не ухожу, — отвечала Мария.
Что-то объявляли, Нэнси пыталась понять, расслышать. Айфон молчал.
— Взять тебе кофе? — спросила Мария.
— Не уходите.
— Я вам принесу, — радостно, как показалось Нэнси, вызвался молодой человек, он сидел напротив.
Молодой человек вернулся со стаканчиками, Мария начала пить из отверстия в пластиковой крышке, а Нэнси держала свой стаканчик в руках и растерянно смотрела на молодого человека. Глаза у него возбужденно блестели, он горячо говорил, что не только из аэропорта Кеннеди пропали вылетевшие в Россию самолеты. Из аэропортов всего мира пропали. И дозвониться никому в России невозможно, ни частным лицам, ни организациям.
— И главное, их даже из космоса не видно!
— А что же там на их месте? — кто-то спросил.
— Не знаю. Ничего. Слепое пятно.
— Вроде тумана?
— Не знаю. Непонятно.
И все посмотрели на Нэнси и отвели глаза. Глаза и нос у Нэнси были красные.
— Ты пей кофе, — сказала ей Мария. Нэнси опомнилась и выпила кофе.
Мария взяла из ее неподвижной руки пустую картонку и выкинула в урну.
Молодой человек сидел напротив них и таращился в маленький экран смартфона, наклонялся к нему близко, и лицо освещалось сиреневым бледным светом. Мертвый свет, думалось Нэнси. Пальцы молодого человека скользили по экрану. Вдруг Мария поднялась и пошла по проходу. Нэнси вскочила и бросилась догонять.
Она шла с Марией, куда и зачем — неважно, лишь бы с Марией, большой, теплой. С ней казалось спокойнее, казалось, что все уладится.
Мария завернула в комнатушку. Нэнси следом.
Мария достала сигарету и спросила:
— Куришь?
— Нет. Да.
Мария отдала сигарету Нэнси и достала себе новую. Спрятала пачку в карман, вынула зажигалку. Нэнси смотрела внимательно на пламя, но сигарету не прикуривала. Мария закурила.
Нэнси смотрела на дым. На тонком белом фильтре алел отпечаток губ Марии.
— Что? — спросила Мария.
— Что? — переспросила Нэнси.
Мария выбросила окурок.
Следом за Марией, как привязанная, Нэнси вернулась к сиденьям.
— Хотели занять! — радостно крикнул молодой человек. — Я оборонялся.
Голос сурово громыхал под потолком. Нэнси не могла разобрать, морщилась. Мария что-то сказала ей, она не расслышала из-за голоса, увидела вдруг, что Мария поднялась и уходит, и побежала следом.
Мария встала в очередь, которая двигалась довольно быстро. И Нэнси двигалась вместе с очередью. У стойки Мария показала какую-то карточку и прошла в стеклянные ворота, Нэнси хотела проскочить следом, но ей загородили дорогу. Что-то спрашивали, она говорила:
— Я с Марией, мы вместе.
Она повторяла «Мария-Мария» и смотрела на них громадными глазами. Ее оттеснили от стойки.
Очередь прошла, стеклянные ворота затворились.
Нэнси потерянно бродила по аэропорту, вдруг решила найти молодого человека, но не нашла, слушала объявления, но не понимала. Устала и опустилась на свободное место.
Она сидела бог знает сколько времени. Вежливый полицейский, откуда ни возьмись, спросил Нэнси, что она здесь делает.
— Я жду самолет.
— Какой?
— Он улетел вчера.
Маленький седой мужчина вдруг оказался рядом, выдохнул мяту и объяснил полицейскому:
— Самолет в Россию. Ее муж улетел в командировку.
— Откуда вы знаете? — удивилась Нэнси. Она уже не помнила, что говорила с этим мятным человеком (так она его окрестила про себя).
— Мы познакомились два часа назад. Я тоже приехал узнать насчет самолета. Я должен лететь в Москву сегодня, у меня билет.
— Рейсов не будет, — сказал полицейский, — езжайте домой.
— Вы на машине? — спросил мятный человек Нэнси. — Я могу вас подбросить. Хотите? Пойдемте.
— Нет! — вскрикнула Нэнси. — Нет!
Люди стали оглядываться.
— Хорошо-хорошо, — он поспешно отступил, подняв ладони, точно отгораживался ими от полоумной Нэнси.
Она вышла из аэропорта. Почему-то она думала, что уже ночь и горят огни, но был ясный день, и ей захотелось поскорей оказаться дома, она даже подумала, а вдруг Роберт ее ждет там, и бросилась к такси.
Дома, разумеется, никого не было.
Нэнси походила по комнатам, голова закружилась, пересохло горло, она выпила большую кружку воды из-под крана, вытерла мокрые губы. Айфон с черным застывшим экраном лежал на столе. Нэнси села в кресло, она смотрела на черное зеркало и забылась, уснула.
2
Мать Роберта жила в Канаде, они к ней летали как-то. Она им звонила раз в год, 31 декабря. Для нее канун Нового года был самой важной датой, в день рождения сына (она звала его на русский лад — Боря, Бобка) могла забыть позвонить, но 31 декабря звонила обязательно. И обязательно по-русски говорила: «С наступающим!»
Нэнси запомнила ее маленькой, худощавой, с чашкой кофе и сигаретой. Запах дыма и кофе был запахом детства Роберта. Цветом детства был синий, от синих книжных томиков, они стояли на полке в шкафу тесным рядом. Не новые, потертые, синие.
— Кораблики, — называла их его мать.
В шкафу стояли и другие книги, стояли, лежали, пылились — шкаф был забит. Книги, какие-то фигурки из расписной глины. Все запомнилось старым, с трещинами, все облупленное, из каких-то древних времен, из небытия вдруг вынырнувшее здесь, в другом мире.
Мать Роберта раскрывала синий том, там было что-то в столбик, на непонятном языке. Над пожелтевшей страницей стелился дым. Иногда мать закрывала глаза, забывала о дымившейся сигарете и слушала голос с черной пластинки, Нэнси не понимала, что он поет.
Нэнси проснулась и сидела с широко открытыми глазами. Черный неподвижный экран айфона напомнил ей движущуюся на проигрывателе пластинку и все русское, все чуждое — чуждое, но прочно связанное с самым близким человеком, с Робертом. Оно, русское, утащило его за собой, на дно черного озера. Непонятное, нежеланное. Нэнси решительно позвонила матери Роберта и вдруг сообразила, что не помнит ее имени.
Долгие гудки и ее голос:
— Нина?
Мать Роберта звала ее на свой лад, Ниной.
— Алло? Нина?
— Нет, — угрюмо откликнулась Нэнси, — Нэнси.
— Что случилось?
— Ничего, — ответила Нэнси, — Роберт уехал в командировку.
— Бобка? Это впервые так? И ты заскучала.
— Да. Я хотела вас спросить, как звали того певца с пластинки, вы слушали бесконечно.
— Я много чего слушаю.
— Он пел по-русски. Такой голос. Не знаю. Джимми. Он пел: «Джимми». Все остальное по-русски. Вы сейчас курите?
— Что? Да.
— И пьете кофе.
— Но не прямо сейчас. Его звали Вертинский.
— Как? Отправьте мне эсэмэс.
Длинное имя на осветившемся экране. Нэнси казалось, оно пахнет сигаретным дымом. Нэнси старательно забила имя в поисковик (на виртуальной русской клавиатуре).
Русские сайты не открывались, ссылки не работали. К счастью, нашелся эмигрантский сайт с его песнями. Нэнси включила одну, другую. Мужской голос то ли бормотал, то ли пел. Нэнси устала вслушиваться. Непонятные русские слова. Нэнси смотрела на отсвет лампы — она зашторила окна и включила боковой свет.
Выключила голос и вновь позвонила матери Роберта.
— Дорогая? — весело сказала та. — Я уже пью кофе.
— О чем он поет? Ну, в этой песне.
— О том, что Джимми хочет быть пиратом. Джимми — мальчик, ребенок, он работает прислугой на мирном пароходе, его бьет повар и все кому не лень.
— Он уехал в Россию.
— Бобка? Ничего страшного. Не переживай, скоро вернется.
— Нельзя вернуться из места, которого нет.
— Что ты несешь? Нэнси!
Нэнси отключила телефон.
3
Нэнси послонялась по квартире, открыла холодильник, вынула коробку молока, налила стакан и долго на него смотрела. Решительно собралась, надела плащ, закрытые туфли, захватила с собой зонт Роберта, это был зонт-трость, Нэнси нравилось идти и на него опираться.
На улице был ясный солнечный вечер. Нэнси расстегнула плащ и шла тихо, все ей казалось диким вокруг: люди, пролетающие по дороге машины, желтый осенний лист (хотя все деревья были по-летнему зелеными).
Она вдруг остановилась посреди тротуара, как будто забыла, куда идет, зачем. Прохожая женщина обратилась к ней участливо:
— Что-то случилось?
— Я думаю, — ответила Нэнси сердито.
Женщина извинилась. Нэнси стукнула зонтом о тротуар, развернулась и пошла к дому. В квартире она поставила зонт в стойку и погладила его черную изогнутую ручку.
Выпила не успевшее нагреться молоко и включила компьютер. Никаких новостей о России. Ссылки на русские ресурсы по-прежнему не работали.
На сайте британского университета Нэнси нашла громадную базу данных с русскими фотографиями, начиная с семидесятых годов XIX века; последняя была датирована 5 августа 2016 года.
На фотографии обычное шоссе с потоком машин. Сумрачный день (или утро, или вечер), светящиеся фары, собака сидит на обочине, насторожив уши, не собака, черный силуэт. Ничего особенного. Ничего особенно русского.
Нэнси разглядывала снимки, иногда ей казалось, что она видит это русское только на черно-белых снимках. Старые деревни, новостройки, старые люди, молодые, поля, животные, мальчишки в кепках, солдаты с папиросками, пассажиры с отрешенными лицами в вагоне метро. Нэнси казалось, что она находит русское, видит; но как это русское определить?
Она посмотрела на черный неподвижный экран айфона и коснулась его. Он мгновенно зазвонил, точно откликнулся на прикосновение. Нэнси вскрикнула.
Звонила мать Роберта. (Она так и значилась в адресном списке айфона: «мать Роберта»).
— Не разбудила?
— А сколько времени?
— Час ночи.
— Я не сплю.
— Я тоже не могу. Но у меня вообще бессонница дикая. Никаких новостей?
— Никаких.
— Я целый день в интернете, как безумная. Нэнси, ты меня слушаешь? Ты почему мне сразу не сказала, что случилось?
— Да. Я хотела вас спросить. Вот что. Я забыла ваше имя.
— А, ничего.
— Скажите мне его.
— Да. Конечно. Андреа.
— Нет. Ваше русское имя.
— Ты хочешь звать меня по-русски? Мило. Татьяна.
— Совсем другое.
— Не то слово.
— Почему вы уехали, Татиана?
Она ответила после молчания:
— Знаешь, мне даже неловко признаться, обычно у людей какие-то веские причины, какие-то политические вопросы, а мы, ну что. Конечно, очереди всех достали и дорогой Леонид Ильич («дорогой Леонид Ильич» она произнесла по-русски).
— Что?
— Не важно. Я тебе пришлю ссылку, если найду на английском. Мы жили нормально, в кино ходили по воскресеньям, может быть, не каждое воскресенье. Это было такое светское мероприятие. Кинотеатр повторного фильма, «Россия».
— Как?
— Название кинотеатра — «Россия». Или «Дом кино», но это пару раз, по большому блату, был у нас смешной знакомый, как-нибудь расскажу. В «России» хороший буфет. Бутерброды с икрой, кофе. После сеанса или до, когда как, мы ходили пить шоколад, рядышком с «Россией», в нижнем этаже старого дома, идешь и видишь — окошки светятся, люди пьют шоколад из больших белых чашек, а за стойкой лежит стопка серебряной фольги, они с шоколада снимали, с плиток. Мы были средние люди со средними способностями, хорошо устроенные, по нашим меркам, а чьи нам еще нужны были мерки? Мы и не знали ничьих других. Все было нормально, пока Вася, это мой муж, Бобкин отец, не попал вдруг в Германию, от завода угодил, как Высоцкий пел. Вася был инженер, беспартийный, не знаю, почему именно его вдруг отправили, рацпредложение у него, что ли, было.
— Рац что?
— Улучшение какое-то по производству придумал. Грамоту дали и в поездку отправили. Так я думаю, точно не помню. Вот он поехал, денег им поменяли, конечно, мало, это все известно, хотя тебе — нет, неизвестно, ну вот представь, ты поехала куда-нибудь в Европу. Или нет. Ты пошла в шикарный супермаркет. Вот, да, супермаркет, торговый центр, роскошный, глаза разбегаются, а денег у тебя даже на чашку кофе нет. Представила? Вот. Но ты не думай, Вася был не такой, он, конечно, поразился тамошнему изобилию, но не сказать чтобы обзавидовался, хорошо, конечно, но не с ума же сходить. Васе было плохо оттого, что все время не один, а он не сказать чтобы очень компанейский был, мой Вася, он только со мной любил, с родным человеком, а с чужими людьми разговоры разговаривать — это его тяготило, и он в какой-то вечер после всяких запланированных встреч взял и ушел ото всех, чтобы одному побродить по городу, отрешиться, а это не очень приветствовалось — откалываться от коллектива и где-то мотаться без надзора в чужой стране, пускай и социалистической… И вот он ходил, глазел, заблудился в каких-то маленьких улицах, завернул в бар, взял виски.
— Хватило, значит?
— Ну да. Это же я к примеру тебе говорила, что на кофе не хватит, он же не в супермаркете был. Хотя и порция виски для него много стоила, весомо, но он себе позволил. Выпил, покурил, тогда еще курили в барах спокойно, музыку послушал, язык он не понимал, но это оказалось не важно. Какая-то краля к нему ластилась, но он вроде как смущался. Расплатился, вышел. До утра гулял. Про гостиницу спросил полицейского, название у него было то ли на бумажке, то ли на карточке, показал, полицейский указал, как идти. Пожурили его наши, специальный человек порасспрашивал, где он был ночью, зачем, не встречался ли с кем, объяснительную велел написать. На том дело и кончилось. Вася вернулся, подарки привез, по мелочи, конечно: конфеты, колготки, жевательную резинку. Месяц прошел или чуть больше, он мне вдруг говорит вечером, я уже засыпала, а давай, говорит, поедем на пээмжэ. Чего? — я села в койке и глаза на него вытаращила. Ну а что, говорит он, у тебя мама еврейка, напишем про историческую родину. И он мне объяснил тогда, не знаю уж, правильно ли я поняла, что хочет вот так жить, когда никому до тебя дела нет. Вообще никому, кроме, может быть, жены.
— Пээмжэ?
— Постоянное место жительства. Ну и поехали, ну и ничего, справились, Вася программирование освоил, я тоже, кредит взяли. Технарям проще. Ты меня слушаешь?
— Да.
— Там сейчас все изменилось, в России.
— Откуда вы знаете?
— Говорят.
— Кто?
— Все. Нигде никому до тебя дела нет.
— Кроме жены.
— Ну да. Или матери. Да и всегда оно так было. Честно-то сказать, мне до сих пор не совсем понятно это его решение. Я никогда не знала, о чем Вася на самом деле думает. Бобке было тогда четыре года, ясно же, что станет иностранец, если переедем. Ты плачешь?
— Мы планировали ребенка.
— Тебе нужен психолог.
— А вам?
— У меня есть. Знаешь, я чувствую, что у него там все хорошо.
— Где?
— Там, у Бобки.
— Где?
— Ты же не думаешь всерьез, что Россия исчезла? Поверь мне, Бобка там жив и здоров, по крайней мере. Я очень его чувствую, я всегда знаю, когда ему плохо.
— Какие сигареты вы курите?
— Сейчас? «Данхилл».
4
Через несколько часов Нэнси была в аэропорту. Строгая, подтянутая, с небольшой сумкой на колесиках, которую она взяла в самолет как ручную кладь.
Нэнси была спокойна и не привлекала внимания. Взяла кофе, выпила, глядя на табло вылетов. Высветился рейс на Берлин, и Нэнси отправилась на посадку. В самолете она сидела напряженно, прямо, пока он не набрал высоту. Взяла предложенное стюардессой вино, аккуратно, до последней крошки, съела завтрак. Мужчина, сидевший рядом, улыбнулся ей, Нэнси закрыла глаза и уснула. Он коснулся ее плеча, когда самолет уже катил по взлетной полосе, замедляя ход.
— Не хотелось вас будить.
— Спасибо.
Он думал что-то сказать, но не решился.
В Берлине она сходила в туалет, поправила макияж, купила бутылку воды и арендовала машину. «Форд» глубокого темно-вишневого цвета.
Нэнси ехала спокойно, не превышая допущенной скорости. Ни в пробке, ни на светофоре она не отвлекалась от дороги и не смотрела по сторонам — на улицы, прохожих и виды, порой чудесные (отражения облаков в реке, плывущий, скользящий по ним желтый лист, замок на горе, выступивший на обочину лось, близнецы в коляске, мужчина, играющий с собачонкой, — да мало ли что можно увидеть в боковом стекле машины).
«Форд» цвета спелой вишни катил уже по дорогам Польши, указатели предупреждали о близости границы, о постах и таможнях. И в самом деле, показался уже шлагбаум польских пограничников.
Нэнси остановилась, шлагбаум не поднимался. Нэнси всматривалась вдаль, но никакой дали не открывалось, взгляд упирался в какие-то низкие строения и будки. Кто-то постучал в окно. Нэнси увидела вооруженного черным автоматом пограничника и опустила стекло. Он что-то сказал по-польски. Нэнси ответила по-английски, что едет в Россию.
— У меня там муж. Визы у меня нет, но я все равно проеду, разгонюсь и сшибу этот шлагбаум.
— Зачем убиваться? — отвечал по-английски солдат.
Подал знак кому-то, и шлагбаум поднялся.
— Прошем.
Что значит — милости просим, путь открыт.
И отступил от машины. «Форд» тут же рванул.
Нэнси миновала кордон и покатила по свободной дороге. Через несколько минут она увидела указатель на Краков. И тут же поняла, что едет в обратном направлении. Нарушая правила, развернулась, и маленький черно-вишневый «Форд» вновь полетел к границе.
Тот же шлагбаум, те же аккуратные строения за ним. Кошка пробежала под шлагбаумом (в Россию?). Нэнси ждала пограничника, но он не появился. Шлагбаум поднялся, и Нэнси беспрепятственно миновала кордон и покатила дальше, пока не поняла, что вновь катит не дальше, не к России, а в обратном направлении.
Несколько раз она пыталась добраться до России, надеялась увидеть хотя бы их часовых, но дорога чудесным образом выворачивалась, и Нэнси оказывалась едущей вновь и вновь в Польшу. Россия исчезла самым удивительным образом.
Нэнси остановилась у придорожного ресторанчика.
Он был в деревенском стиле, с бревенчатыми стенами, балками, деревянными столами и деревянными же лавками, застеленными пестрыми половичками. В очаге пылал огонь, и Нэнси смотрела на него остановившимися глазами, пока официантка не принесла заказ. Это была огромная тарелка со стейком, жареной картошкой и горкой вяленых помидоров. Кроме того, официантка поставила перед Нэнси бутылку холодного пива, тут же ее открыла и налила пиво в стакан с толстыми высокими стенками.
За длинным столом возле окон сидела большая семья. Нэнси ела и наблюдала, как они переговариваются, смеются, как маленькая девочка взбирается на колени деду и он дает ей мороженое.
Мужчина отодвигается от стола вместе со стулом и подымает с пола аккордеон.
Они говорят по-польски, сплошные пш, пше, аккордеонист начинает что-то наигрывать, поначалу тихо, сбиваясь, затем он как будто набредает на какую-то мелодию, ухватывает ее, ведет. Как будто пальцами ведет Нэнси по позвонкам. Нэнси выпрямляется, смотрит на него блестящими глазами. Он играет что-то знакомое, что-то очень давнее, из тех времен, когда Нэнси не было на свете, когда бабка ее была молодой, когда танцевали в обнимку под патефон, под черную плывущую пластинку, здесь, в Польше, в Америке, в России, везде. Нэнси казалось, что она помнит те времена, как будто ее память жила раньше нее и вот пробудилась.
Нэнси глаз не отводила от гармониста, а он вдруг посмотрел на нее и оборвал игру.
Нэнси доела и стейк, и картошку, и помидоры, допила пиво и попросила счет. На людей за столом она уже не обращала внимания, она о них забыла.
5
Через день, вернувшись домой, Нэнси принялась за уборку. Ожесточенно и тщательно она вытирала пыль, драила полы и аккуратно складывала вещи. Кстати, перестирала все рубашки Роберта и отнесла в чистку его любимый костюм. Затем приняла ванну и сварила в кофеварке двойной эспрессо; кофеварку покупал Роберт, такую, где все надо было делать самому: насыпать зерна, выбирать режим помола, накладывать в рожок порошок, уплотнять.
Нэнси отпила глоток и включила компьютер. На почту пришло письмо от матери Роберта. От Татианы. В письме была ссылка, Нэнси подвела к ссылке курсор, тут же обернувшийся ладошкой, и нажала на левую кнопку мыши. На экране появился мужчина с глубокими складками в углах тонких губ. Он заговорил, глядя прямо перед собой остановившимися глазами:
— Мы не должны терять связь, должны понять, что это такое, должны разобраться. Быть может, это уже и не русские, а инопланетяне, мы будем смотреть внимательно, мы будем осторожны.
Что это, к чему, Нэнси не могла взять в толк.
Отправила письмо: «Что, что это?»
И мгновенно получила ответ. Новую ссылку.
По ссылке должен был бы открыться телевизионный канал «Фокс». Но вместо «Фокса» Нэнси попала на какой-то русский фильм без перевода и без субтитров. Старый, черно-белый. Нэнси смотрела не отрываясь.
Она мало понимала происходящее.
Молодые люди ходили вместе и поодиночке, времена года сменяли друг друга: то дымилась в осеннем сквере куча палых листьев, то мальчик в распахнутом пальтишке бил палкой по жестяной трубе и бежал дальше по солнечному тающему льду. Мужчина и женщина шли по улице, женщина ехала в автобусе и читала журнал. Ничего особенного не происходило, разные голоса говорили что-то, бормотали тихо, как будто сами себе, как будто бы читали одну книгу на разные голоса. Иногда фильм прерывался русской рекламой, уже в цвете, тут Нэнси понимала больше: стиральный порошок, кока-кола, мороженое — все самое лучшее.
После фильма начались новости, и тоже на русском. Серьезные дикторы, машины, высотный дом, прохожий что-то говорит в микрофон.
Айфон зазвонил. Нэнси очнулась, схватила трубку.
— Ты поняла?! — закричала Татиана.
— Что?
— Вместо «Фокса» идет русский канал! Они вытеснили «Фокс»! Идет русский канал сплошным потоком, в реальном времени. Ты слышишь? В реальном! Значит, они существуют! Я знала! Их решили оставить, «Фоксу» дадут другой канал, на государственном уровне решали. Чтобы не терять связь. Последняя нить. А может быть, первая. Ученые работают. Все передачи записывают.
— О чем был этот фильм?
Татиана молчала.
— Вы здесь?
— Я думаю. Как лучше сказать. Тут надо кое-что знать, чтобы понять. Тут надо на своей шкуре. В общем, это о молодых людях, они дружат, влюбляются.
— Это я поняла.
— Взрослеют. Думают о времени и о себе. Я говорю штампами.
— Ничего.
— Сталин умер, все происходит после него, время переменилось. Слушай, Нэнси, я тебе пришлю ссылки, найду на английском, почитаешь.
Несколько часов кряду Нэнси смотрела русский канал. Старые и новые фильмы, передачи, рекламу. Смотрела пристально, с таким вниманием, с каким еще ни на что в своей жизни не смотрела. В конце концов устала, прилегла на диван и уснула.
Татиана прислала ссылку на фильм с английскими субтитрами и написала, что если Нэнси поймет фильм, то поймет все русское. «Это ключ», — уверяла Татиана.
Фильм оказался документальным, его герой, старик, рассказывал, как возвращался из эмиграции в Россию в самом начале тридцатых годов. Поезд, на котором он ехал из Берлина, пересек границу и остановился уже в России, на полустанке.
Он вышел на платформу. Мальчишка торговал махоркой и переругивался с инвалидом, который выпрашивал махорку.
— Черт с тобой, — крикнул мальчишка, — я добрый. — И отсыпал горсть.
Через несколько лет бывшего эмигранта посадили и отправили в лагерь, освободили после смерти Сталина.
Старик говорил, что не считает двадцать лет лагерей чрезмерной платой за возвращение, за русское слово «махорка», которое ему вновь довелось услышать.
Нэнси угрюмо думала, что Роберт сейчас там совсем один и, наверное, тоже не прочь услышать живой говор американской улицы. Но отсидеть за это двадцать лет, нет, такую плату он бы счел чрезмерной.
— Но это всё давние дела, — сказала Татиана, — сейчас там все другое. И слова такого уже нет — «махорка».
6
Дорогой Роберт. Милый, чудесный Роберт. Ты помнишь этот магазин на Пятой авеню, все эти витрины и свет? Мы приезжали в Нью-Йорк с родителями и всегда сюда заходили, не покупать, конечно — смотреть. Я любила отдел часов, ты знаешь, часы так и остались моей слабостью. Теперь я здесь работаю, в этом отделе. Я почти счастлива. Наверное, счастье — всегда только возможность.
Да, Роберт, я работаю, что же делать, тебя нет, а жить надо. Если бы ты умер, я бы унаследовала твой счет, то есть могла бы им распоряжаться. И с квартиры можно было бы не съезжать. Я нашла дом гораздо скромнее, по средствам. И я очень надеюсь, что ты жив, мы все надеемся, и Татиана, твоя мама, видишь, я уже выучила ее русское имя. Твои друзья в банке тоже надеются. Мы все.
У меня сейчас очень мало времени, чтобы смотреть ваш русский канал. Извини, что я сказала «ваш». Поначалу я не отрывалась. Ела перед экраном. Все что-то надеялась разглядеть. Во сне слышала русскую речь, она мне снилась, и мне казалось, я понимаю все. Я записалась на курсы русского языка, но продвинулась мало. На слух разбираю только «спасибо», «здравствуйте», «пока». Не пропускаю погоду по русскому каналу. Всех ведущих помню в лицо. Там у вас сейчас холодно, как у нас. В Нью-Йорке очень холодная зима. И снег валит по ночам. Я иногда подхожу к окну и смотрю.
Сейчас, когда я работаю, у меня меньше возможности включать русский канал. Немного вечером, больше в выходные. Экран — как иллюминатор, оконце в русскую жизнь. Я понимаю, что телевидение — это не вся жизнь, это какой-то обрубок жизни. В уличном репортаже вдруг промелькнет улица, вот это и есть самое важное. Я такие куски всегда ищу в записях, пересматриваю. Что-то живое, что-то настоящее, пусть промельк. И вот, Роберт, однажды вечером, а именно 16 декабря, я увидела во время такого уличного репортажа тебя. Ты шел на заднем плане в какой-то чужой куртке. Я остановила запись, нашла кадр с твоим лицом, распечатала. Мне показалось, что ты осунулся, мой милый. Я так плакала. Позвонила Татиане. Я спросила насчет родинки. Знаешь, на этом снимке у тебя родинка на щеке, возле левого уха, вот тут. Но я ее не помню. То есть не помню, была она или нет. Татиана тоже не помнила. Сказала, что родинка могла и появиться. Если это родинка. Я сказала, что уже стала забывать твое настоящее лицо. Татиана сказала, что так всегда бывает. Я так не хочу. Не хочу.
Я много плакала. Я представляла тебя в Москве. У них черные мокрые улицы даже в мороз, я видела. Я так рада, что сунула тебе в сумку носки и шапку. Может, это была капля грязи у тебя на щеке? В старых русских текстах Москва зимой белая, уютные теплые дома, дым от печек, звонят колокола со всех колоколен. Сейчас так не может быть. Льют какую-то химию в снег. У нас тоже льют. Это странно, когда черные лужи в мороз. У тебя промокают ноги? Береги себя, милый.
Роберт, ты устроился, ты работаешь, ты не просишь милостыню по электричкам? Татиана рассказывала про электрички, у вас была когда-то дача в Загорске, там храм.
Я не могла уснуть в тот вечер, когда увидела тебя, все представляла, как ты, плакала и думала, что завтра на работу с опухшим лицом не допустят, уволят. И вдруг я догадалась, что и ты смотришь какой-нибудь американский канал. Доказательств, конечно, никаких, но ведь возможно. И тут же я перестала плакать. Я воображала, как ты там смотришь какой-нибудь наш «Фокс», все эти дурацкие шоу, которые ты всегда терпеть не мог. Вот это и есть сейчас твое оконце на родину, как русский канал — мое оконце к тебе. Так себе оконца, конечно, но других нет.
Ах, Роберт, как бы хорошо, чтобы так оно и было.
Я добилась встречи с руководством «Фокса». Рассылала им письма с предложением сделать новую передачу. И в конце концов кто-то прочитал одно из писем, и обдумал, и доложил начальству, и мне назначили встречу. Спасибо тебе, милый человек. Как уже там договаривались большие начальники, я не знаю, но эту передачу, ту, которую ты сейчас видишь, мой любимый, ее будут транслировать по всем американским каналам в разное время в течение трех месяцев. Вот эту самую передачу, в которой я так много говорю. Мы же не знаем, какой именно из наших каналов к вам пробивается. Мы только верим, что какой-нибудь да пробивается. Прямо как сигналы внеземным цивилизациям посылаем. Вселенная, не молчи.
Роберт, родной, если ты меня сейчас видишь, пожалуйста, откликнись, покажись по вашему телевидению. Как ты?
Нэнси стала знаменитостью. В дорогой универмаг на Пятой авеню заходили нарочно, чтобы поглазеть на нее, интересовались насчет часов. Нэнси с достоинством объясняла, чувствовалось, что она и в самом деле любит и знает часы.
Как-то раз она сказала, что часы — стрекочущие насекомые, питаются временем. Человек, которому она это сказала, выложил немалые деньги за одно такое насекомое и пригласил Нэнси на ужин. К тому времени фильм с Нэнси уже позабылся. Давно прошла зима, и весна прошла, и лето. В Нью-Йорке стояла чудесная осень. И хотелось, чтобы она не спешила уходить. Нэнси все меньше думала о России, все реже заглядывала в нее через оконце. Русские на ее телевизионное послание не отвечали, а возможно, и не получали его.
В конце октября Нэнси позвонила Татиане и виновато сказала, что полюбила другого.
— Брак мы оформить не можем в связи с тем, что Роберт, должно быть, жив. Вы будете смеяться, но Поль тоже немножко русский, его прапрапрабабка приехала в Штаты еще до революции, у него сохранилась ее карточка на толстой картонке, такая милая девочка с косой.
— Ты не волнуйся, — сказала Татиана, — через год-два примут закон, и ты оформишь свои отношения, и счета Бобкины тебе откроют.
— Вы обиделись?
— Нет. Ты славная.
— Курите?
— Курю.
Татиана заглядывала в окошечко часто, все надеялась разглядеть свою прежнюю Россию. Может быть, документальные кадры. Чтобы московский вечер, желтый электрический свет, дрожащая стопка серебряной фольги, чье-то виноватое лицо.
Машинист
Это был общий, битком набитый вагон в составе пассажирского поезда, идущего от Москвы в сторону Казани и дальше — через Урал, в Сибирь. Поезд шел от Москвы шестой час, все уже угомонились, наелись вареной колбасы, которую накупили в столице. Одна женщина взяла апельсины, выстояв очередь в угловом овощном на Арбате. Эти оранжевые апельсины, собранные в авоську, оказались единственным ярким пятном в полумраке вагона. Многие в вагоне уже спали, забравшись на верхние полки (заняли даже багажные). Внизу сидели тесно, кто-то дремал, кто-то что-то говорил, кто-то слушал, а поезд бежал, и было не скучно, но грустно.
Я говорю о душевном состоянии одного человека, центрального героя нашего повествования. Человек этот примостился с самого края деревянной лавки. В вагоне было жарко, но человек сидел в пальто. Он просто забыл, что сидит в пальто. Оранжевые апельсины покачивались в авоське на крючке. И даже закрыв глаза, человек видел их, и он придумывал, на что эти апельсины похожи, и представлял, под каким солнцем они росли, и таким образом забывал о том, что вокруг.
Все это неудивительно. Человек был художник и даже член МОСХа, и в кармане его пальто лежала книжечка, в которой черным по белому было написано, что Иван Дмитриевич Егоров — член Союза художников с 1966 года. Рядом с книжечкой в кармане лежала зубная щетка. И никаких больше вещей при себе Иван Егоров не имел.
Перед самым отправлением из Москвы на Казанском вокзале, недаром носившем свое имя (все носильщики — татары), Ваня, — Иваном его звали только в официальных случаях, — выпил водки с демобилизованными солдатами. Он опьянел и от этого стал совсем молчалив и задумчив. Все вокруг ему казалось то милым и трогательным, а то вдруг каким-то чужим, холодным, злым, даже деревья. Сейчас, в поезде, опьянение прошло, но лихорадочное, болезненное состояние осталось, и Ваня не понимал, что с ним.
Поезд останавливался часто. За окном сгущались зимние сумерки. Ване хотелось курить, но почему-то лень было двигаться, вставать, идти, запинаясь о чьи-то ноги, в холодный тамбур, просить у людей папироску, закуривать, стоять на собственных ногах в тряском железном закутке. В ногах чувствовалась младенческая слабость.
Примерно через шесть часов после Москвы поезд подошел к довольно большой станции, во всяком случае, путевое хозяйство казалось огромным. Поезд подходил к этой станции почти так же долго, как подходил бы к Москве, покачиваясь на стрелках, мимо бесконечных товарных составов, тепловозных депо, мимо кирпичных строений, в окнах которых сидели люди, четко видные в электрическом свете, и что-то писали или считали на деревянных счетах. Ваня даже привстал, забыв о слабости, чтобы подольше видеть человека в окне, занятого подсчетами, бумагами и прихлебывающего из чашки чай. Человек в окне исчез с глаз, но появилось вдруг другое окно, огромное, за стальной решеткой; за этим окном пылал в горне огонь, и обнаженный по пояс парень бил молотом. Не было слышно, как он бьет, но Ваня как будто бы слышал.
Между тем в вагоне все оживилось: многие пассажиры просыпались, спрыгивали со своих полок, собирали свои мешки, сумки, авоськи и шли узким проходом к выходу, толкаясь, переругиваясь, а поезд все шел и шел, и станция никак не появлялась.
Когда Ваня оторвался от окна, он увидел, что авоськи с апельсинами уже нет. Как будто солнце ушло!.. Ваня встал, надеясь еще порадовать глаза их светом, и ему показалось, что он мелькнул впереди, в проходе. Ваня шагнул за ним, но ему сказали: «Куда прешь!» — и Ваня не смог двинуться уже никуда, зажатый со всех сторон людьми, стоящими на выход. Так он со всеми и сошел на первой платформе небольшого русского городка, бывшего крупным железнодорожным узлом и промышленным центром Владимирской области.
На воздухе Ване стало гораздо легче, чем в вагоне. Лежал снег, оказалось не так уж холодно, легкий морозец. Освещенный прожекторами, стоял прямо перед Ваней вокзал. Каменный, серый, в русском стиле, он походил на старинную крепость с тяжелыми воротами. Люди открывали эти ворота с усилием.
Ваня не заметил, как исчезли все сошедшие с поезда пассажиры. Он очнулся, когда сам поезд за его спиной тихо, без малейшего лязга, двинулся. Тем не менее Ваня почувствовал движение огромной массы за спиной. Объявления об отправлении он не слышал — в голове его стояла снежная вечерняя тишина.
Он мог, конечно, пройти пару шагов за своим вагоном, ухватиться за поручень, вспрыгнуть, вернуться в теплое нутро вагона, забраться на свободную полку, уснуть, но Ваня даже не оглянулся. Он слышал спиной, как движется и уходит поезд, но не оборачивался. Обернулся только тогда, когда за спиной стало тихо и пусто.
Стояли товарные составы вдалеке. Ваня услышал, как говорит диспетчер, услышал, как коротко гудит маневровый, и почувствовал безмерную усталость и одиночество.
Ваня налег на ворота всем телом, и, слава богу, тяжести его тела хватило — ворота подались. Они замкнулись за его спиной, и Ваня оказался в здании вокзала, совсем небольшого, с кафельным чистым полом, с деревянными креслами для ожидающих пассажиров, с бачком питьевой воды, к которому привязана была железная кружка, и с батареями под высокими окнами. Ваня отправился к батареям, чей жар почувствовал у самого входа. Ваню познабливало.
Когда он опустился в просторное гладкое кресло, то увидел намалеванный во всю стену летний вид Оки.
В каком-то смысле Ваня не видел разницы между плохой картиной и хорошей — любая картина имела над ним власть. Ваня оказывался во власти любого изображения, дурно исполненного или превосходно.
Картина, оказавшаяся перед ним, была ужасна. Краски кричали вразнобой, река не двигалась, солнце остановилось, рыбак в лодке был как будто из железа. Нет! Он как будто был закован в железо и стонал. Лодка походила на гроб, из которого скованный пытался выйти. Но самой страшной была река, абсолютно непрозрачная, неживая, мертвая, не отражающая ничего. Облака будто были распластаны над ней, распяты.
Ваня не мог оторвать глаз от кошмарной картины. Он чувствовал себя отвратительно: горело лицо, в виски стучало, ломило кости, и казалось, отведи только глаза, погляди на живых людей в зале, ждущих ночного поезда на Москву, грызущих черные семечки, читающих, режущихся в карты, открывающих друг другу души, — погляди на их живые лица — и все пройдет, весь дурман. Но Ваня не мог отвернуться от мертвого изображения даже под страхом смерти, а он действительно чувствовал, что умирает, вот-вот умрет.
Между тем на Ваню давно и пристально смотрел человек в черной до пят шинели с золотыми пуговицами, высокий, смуглый, гладко выбритый. Человек этот стоял неподвижно, как памятник, у входа в зал.
Вдруг он ожил, надел фуражку, которую держал в опущенной руке, и вышел. Вернулся он минут через десять с низеньким пожилым милиционером, у которого на портупее висела кожаная кобура с пистолетом. Милиционер подошел к Ване, а человек в черном остался стоять поодаль. Милиционер приложил руку к серой шапке-ушанке с кокардой. Ваня ничего не замечал. Тогда милиционер взял Ваню за плечо и тряхнул.
Он вновь приложил руку к шапке и вежливо сказал:
— Ваши документики, товарищ.
Несколько секунд Ваня не понимал, чего от него хотят. Затем вскочил, вытащил из пальто книжечку, вывалив на пол свою зубную щетку. Щетка ударилась и отскочила. Милиционер взял Ванину книжечку и развернул. Ваня вдруг понял, что ослабевшие ноги совсем его не держат.
Теряя сознание, Ваня упал и удара уже не почувствовал.
Тикали часы. Ваня поискал их глазами и нашел. Часы висели на стене, обыкновенные, круглые, и тикали очень мирно. Ваня осознал, что лежит в чистой постели, в чьей-то большой полосатой пижаме, под легким пуховым одеялом, что комната, в которой он лежит, невелика, с одним светлым окном, за которым слышна станция: переговоры диспетчеров, ход поездов, свистки тепловозов. Но все это слышно как будто очень издалека. Дверь в комнату затворена. В зеркале платяного шкафа отражается свет из окна… И Ваня вдруг захотел увидеть себя в этом зеркале.
Он откинул одеяло, опустил на пол ноги и увидел большие мужские тапочки. Вдел в них ноги. Тапочки оказались велики. Ваня прошлепал к зеркалу. Выглядел он в нем жалко: заросший жесткой рыжей щетиной, тощий, в большой пижаме. Ваня пригладил клочковатые светлые волосы и увидел в зеркале окно, а перед окном — стол, на котором стояла круглая вазочка со множеством цветных карандашей, остро отточенных. Ваня, забывшись, ткнулся в зеркало, думая, что подойдет к столу.
Кроме карандашей на столе оказались папка с чистыми белыми листами для акварели, несколько альбомов по живописи, изданных в Ленинграде, непочатая коробочка ленинградской же акварели, московской гуаши, пастели. К тому же на столе лежали непочатая пачка сигарет «Памир», коробок спичек и хрустальная пепельница. Ваня достал сигарету, чиркнул спичкой. Он любил смотреть на маленькое пламя и смотрел на него, пока оно не добегало до пальцев и не обжигало. Иногда Ваня даже забывал прикурить.
Ваня бросил в хрусталь целиком обугленную спичку, чиркнул новой, прикурил. Он увидел, что станция прямо под окнами, а звуки кажутся далекими из-за того, что все щели в двойных рамах законопачены. Пламя обожгло пальцы, Ваня бросил спичку в хрусталь.
Докурив сигарету, Ваня захотел выйти из комнаты и посмотреть, что там дальше. Он решил действовать тихо и спокойно. Тихо и спокойно отворил дверь, переступил порог и оказался в довольно большой комнате, где тоже стучали на стене часы. Центр комнаты занимал круглый стол под скатертью, над столом висела на цепи люстра с хрустальными подвесками, вокруг стола стояли пустые стулья. Всего шесть.
У окна примостился книжный шкаф с собраниями сочинений русских писателей. Это окно тоже смотрело на станцию. Но его загородили тюлем, и от этого в комнате стоял полумрак. На чисто выбеленных стенах висело множество фотографий людей, видно давно умерших. У противоположной от окна стены находились простой раскладной диван и тумбочка для белья. Довольно большой шифоньер занимал стену, общую с комнатой, из которой Ваня вышел.
По тишине Ваня понял, что он в доме — один.
Тем не менее храня осторожность, он вышел из большой комнаты в коридор, заглянул в туалет и ванную, зашел в кухню.
Здесь ему понравилось. На подоконнике росли в горшках цветы, и многие из них цвели прямо по-летнему. Связка сушеных грибов висела на гвоздике и замечательно пахла. Урчал белый чистенький холодильник. На чистом столе стояли солонка и хлебница. Вообще, все было чистое: и деревянные, крашенные масляной краской полы, и плита, и раковина, над которой висела сушилка с чистой посудой, на которой к тому же блестели капли чистой воды! На плите стояла чистая кастрюля, от которой исходил жар, — под ней только недавно погасили синее пламя. Ваня почувствовал дикий голод, наклонился к кастрюле, принюхался, и ему показалось, что в кастрюле борщ. И он увидел маленькую жирную каплю на крышке.
Ваня открыл хлебницу, в которой оказалось полбуханки серого хлеба и несколько ломтей. Он схватил ломоть, посолил, запихал его в рот и, чувствуя себя воришкой, решил немедленно покинуть чужую квартиру.
Он заглянул в шкаф в «своей» комнате и нашел там свою одежду: брюки, рубашку, носки, трусы. Все было чисто выстиранное, отглаженное, подшитое, подштопанное. Все лежало на отдельной, специально, видимо, освобожденной полке. Ваня скинул пижаму, оделся, заправил, как мог аккуратно, постель, сложил в изголовье пижаму. Все это он делал лихорадочно, судорожно прислушиваясь к тишине квартиры и отдаленному голосу станции за окном.
Пальто висело в прихожей. Ботинки исчезли.
Ваня надел пальто, сунул руки в карманы, нащупал удостоверение и зубную щетку. На ноги надеть ему было нечего. Стояли дамские полусапожки на среднем каблучке, дамские же тапочки. Мужские летние сандалеты, такого же большого размера, как тапочки, в которых был Ваня.
Ваня вернулся в пальто в кухню, сел на табурет, вынул из хлебницы ломоть хлеба, посолил.
Он жевал хлеб, когда услышал, как отворяется ключом входная дверь. Ваня поперхнулся, закашлялся. Человек, вошедший в прихожую, замер.
Из прихожей показалась женщина и увидела Ваню, сидящего сбоку от кухонного стола. Ваня встал.
Она рассматривала Ваню, а он покрывался красными пятнами, он всегда так краснел — пятнами.
— Здравствуйте, — тихо сказала женщина.
— Здравствуйте.
— Вы почему в пальто?
— Я ботинок не нашел.
— Ой. Ваня их в ремонт отнес.
— Ваня?
— Мой муж. Иван Егорович. Это он вас сюда привез, когда вы в бессознательном состоянии были. Да вы садитесь, я сейчас пальто сниму и приду к вам, в кухню.
И она ушла обратно в прихожую, продолжая оттуда говорить:
— Я на рынок ходила, говядины взяла и свинины, сейчас котлет накручу, Иван Егорыч придет, будет и первое, и второе, а на третье чаю заварим, и с конфетами. Иван Егорыч ужасный сладкоежка.
Она появилась из прихожей уже в платье с теплой кофтой поверх, в тапочках. Волосы у нее оказались гладкие, стянутые на затылке в узел.
— Чего же вы в пальто, Иван Димитрич? Или замерзли?
Она вынула из сумки в раковину мясо, завернутое в толстую мягкую бумагу, включила холодную воду, достала доску, нож, приладила на край стола мясорубку, взяла из холодильника пару яиц, из навесного шкафчика пакет с манной крупой и молотый черный перец в пузырьке.
— Почем у вас мясо? — непонятно почему спросил Ваня.
— Дорого, — отвечала женщина, — четыре рубля. Да что сделаешь, в магазине не укупишь, только кости лежат в витрине, какая-нибудь пенсионная старуха возьмет, бульон сварит, а у нас Иван Егорыч хорошо зарабатывает, можем и мясо позволить, можем и яблок купить зимой на рынке.
— Продают сейчас яблоки?
— Отчего же. Антоновку.
Женщина Ване понравилась, не в том смысле, как нравится мужчине женщина, он на нее засмотрелся как художник. Он даже чуть-чуть приоткрыл рот, таращась на нее. Женщина между тем скинула на свободный табурет кофту, закатала рукава простого серого платья, и обнажились ее руки, белые и полные, круглые. Она ими ловко резала мясо и лук, проворачивала все в мясорубке, месила фарш в миске, лепила котлеты, а чугунная сковорода уже разогревалась. Ваня заметил, что под узлом на затылке волосы у женщины вьются, и вьются они в ложбинке на шее, и от этих мягких детских завитков на шее Ваня ощутил к женщине нежность. Вдруг он вспомнил, что сам небрит и всклокочен, и вновь покрылся красными пятнами.
— Вы хорошо себя чувствуете? — спросила женщина. Она, оказывается, все замечала, а Ваня думал, что она на него и не смотрит.
— Нормально, — хрипло сказал Ваня и, удивившись своей хрипоте, кашлянул. — У вас бритвы не найдется? Побриться. А то я как пленный немец. — И добавил зачем-то: — У меня дед из немцев был. Как говорят.
— А вы идите в ванную, — сказала женщина, улыбаясь, — там и бритва на полочке, и полотенце я для вас повесила чистое, белое, с синей полосой. Там и мочалка, и мыло. И зубная щетка в стаканчике, новенькая, специально для вас. Вода у нас горячая, из котельной.
Когда Ваня вернулся, намытый, гладкий, с мокрыми волосами, котлеты уже доходили в духовке, белый стол был вымыт и чайник стоял на плите.
— Ну вот, — сказала женщина, увидев вошедшего Ваню. — Теперь на вас смотреть не страшно.
— Да, — сказал Ваня. — Спасибо. Огромное вам спасибо за все. И если бы у вас нашлись какие-нибудь старые ботинки, я б их надел и пошел.
— Куда? — удивилась женщина.
— Ну. Дальше.
— Вы сядьте, пожалуйста, Иван Димитрич.
И она подождала, пока он сядет, а затем продолжила:
— Давайте мы с вами не будем торопиться, а подождем Ивана Егорыча. Я знаю, что он с вами обязательно хотел поговорить.
— О чем?
— Этого я не знаю.
— Он кто, Иван Егорыч ваш?
— Муж мой.
— Это я понял.
— Он машинистом служит.
— Ну и что?
— Ничего. Это он вас сюда больного привез.
— Зачем?
— Чтоб вы не померли совсем.
— Он что, каждого бродягу к вам в дом тащит от смерти спасать?
— Да нет. Он художников любит.
— Худо-ожников! Да почем он знает, что я художник?
— По удостоверению.
— Да мало ли какое у кого удостоверение в кармане болтается! Не художник я! Ясно?!
— Не кричите.
— Простите.
Ваня замолчал.
— Ой, — сказала женщина.
Открыла духовку, вынула прихваткой тяжелую сковороду, опустила на плиту.
— Слушайте, — сказал Ваня. — Там в комнате карандаши разные, красочки всякие. Это что, специально для меня куплено?
— Нуда.
— Он, что ли, хочет, чтобы я нарисовал чего?
— Я не знаю, чего хочет Иван Егорыч, — спокойно сказала женщина, выключив закипевший чайник и повернувшись от плиты к Ване. — Вы его сами спросите, ладно?
— Ладно, — сказал Ваня. — А как вас зовут?
— Маша.
— Я так и думал.
— Почему?
— Так. А меня Ваней зовут. Меня только в милиции Иваном Дмитриевичем зовут. Ладно?
— Ладно.
Ужинали в большой комнате за круглым столом под люстрой на цепи.
Люстра горела, окна были зашторены тяжелыми шторами. Люди с фотографий смотрели. Звякали ложки и вилки. Сидели за столом трое: Маша, Ваня и черноволосый высокий человек в белой рубашке — Иван Егорович. Он оставил свою черную с золотыми пуговицами шинель в прихожей, там же он снял свои черные начищенные ботинки и надел стоптанные летние сандалии. Китель он повесил на спинку стула. Пуговицы на кителе тоже были золотые, со скрещенными молоточками. Ваня то и дело поглядывал на эти пуговицы и щурился от их сияния.
Иван Егорович выглядел устало, и Ваня ждал с вопросами, пока он поест и отойдет от усталости. Маша тоже молчала, и Ваня подумал, что, наверно, они всегда так едят, молча.
Ваня съел все быстро, как всегда быстро ел, и даже подобрал корочкой с тарелки сметанный соус, в котором поданы были котлеты. Съел и сказал:
— Спасибо. Очень вкусно.
— Да? — сказала Маша.
— Очень.
— Действительно, — сказал Иван Егорович. — Замечательно.
Он ел аккуратно, с ножом. Не спешил.
Маша собрала и унесла в кухню тарелки, поставила мужчинам чашки, вазочку с конфетами, разлила чай. Принесла пепельницу из зеленого камня, похожего на малахит, сигареты, спички и ушла в кухню мыть посуду. Включила воду.
Первым закурил Иван Егорович. Ваня чиркнул спичкой и посмотрел, как бежит пламя. Успел прикурить, пока пламя не обожгло.
— Вы извините, — сказал Иван Егорович, — за ботинки. Я их выкинул. Отнес было в мастерскую, но они сказали, что это смешно чинить, и правильно сказали. Так что, простите, выкинул.
— Ничего. Хотя жалко. Босиком по снегу не очень-то пойдешь, я ведь не йог.
— Зачем же босиком, я вам как раз сегодня и купил ботинки. Прикинул, какой вам размер… Сороковой? Не ошибся?
— Не ошиблись, спасибо. Только вот отплатить мне вам нечем. Была у меня в брюках десятка…
— Она там и есть.
— Знаю. Но кроме нее мне вам заплатить нечем.
— Во-первых, я у вас эту десятку не отниму. Во-вторых, даже еще дам денег, рублей пятьдесят.
— За что? За то, что я такой молодой и веселый?
— Не такой уж вы и молодой.
— Это точно.
— И веселость ваша меня не волнует. А вот то, что вы художник…
— Я не художник.
— Мы давали запрос в МОСХ, вы художник.
— Ежели вы думаете, что я буду по вашему заказу писать какой-нибудь портрет или вид, то это вы напрасно так думаете. Не буду. Даже если вы еще пятьдесят карандашей заточите, в руки их не возьму, даже если вы их разом мне в пузо воткнете!
— Господи, — Иван Егорович вдруг засмеялся, а Ваня покрылся пятнами, — какой вы горячий. Не хотите писать, и не надо. Это я так, на всякий случай поставил вам карандаши. Не нужно, так не нужно. И мне от вас ничего не нужно. Я, правда, думал город вам наш показать. У меня завтра рейс, через три дня вернусь, будут отгулы. Может, дождетесь?
— Не знаю.
— Ну смотрите.
— А что вы мне показать хотите?
— Место одно.
— Почему именно мне?
— Потому что вы художник. Только вы не спорьте, пожалуйста, я ведь вашу работу видел.
— Где? — поразился Ваня.
— В Москве. На выставке. На Малой Грузинской улице. Ровно три года назад.
— Вот уж не думал, что вы по таким выставкам ходите.
— Почему?
— Не знаю. Я бы еще понял, если бы моя работа в Третьяковке висела. В том смысле, что в Третьяковку все ходят, то есть тоже не все, конечно.
Ваня сбился и замолчал. Затем посмотрел на Ивана Егоровича, разворачивавшего шоколадную конфету.
— И как?
— Что? — спросил Иван Егорович.
— Понравилась вам моя картина?
— Да.
Выпили молча чай. Пришла Маша и унесла чашки. Собрала со стола. Иван Егорович вынул из шкафа книгу, надел, поразив Ваню, очки и сел за круглый стол читать. Читал он седьмой том академического собрания сочинений А. П. Чехова. Он и Ване предложил взять из шкафа книгу на выбор.
— Если есть желание.
Но Ваня книги не взял.
В комнату пришла Маша с клубками шерсти и острыми спицами и села за круглый стол вязать. Ваня поглядел немного, как мелькают и постукивают быстрые спицы в круглых Машиных руках, как Иван Егорович перелистывает страницу и разворачивает не глядя конфету, и ушел в «свою» комнату.
Уже совершенно стемнело. Он подошел к окну. На станции было светло от прожекторов. Чернели в снегу рельсы. Шел состав. Шли обходчики с фонарями в оранжевых куртках.
Ваня взял сигарету из пачки на столе. Чиркнул спичкой. Посмотрел, как она горит в темноте, и не успел прикурить.
Пепельница, в которую он бросил обугленную спичку, была прозрачно чиста.
Утром, когда Ваня проснулся, Иван Егорович уже вел состав на Москву.
Сначала Ваня чистил картошку. Солнце светило из кухонного окна. Нож был острым, картофельные очистки завивались кольцами. Маша рубила капусту. Из крана весело срывались капли. На огне в кастрюле грелась вода. Маша собиралась варить на обед постные щи.
Ботинки оказались Ване впору, и после обеда он пошел с Машей по магазинам. Она складывала ему в сумку все, что покупала, а он шел за ней с этой сумкой, и новенькие ботинки поскрипывали.
Они побывали в булочной, где купили кроме хлеба четыре пирожных к чаю и пакет сахара и где на сдачу им дали горсть блестящих монет. Город был чистенький, дворники соскребали снег с тротуаров, машины по гололеду шли осторожно. Иногда Маша с кем-нибудь здоровалась, и тогда Ваня пристально смотрел на этого человека, и все, с кем Маша здоровалась, ему нравились.
Они вернулись, нагуляв хороший аппетит, и пообедали в кухне, сидя друг против друга. Ваня слопал все, как всегда, мгновенно.
— Еще? — сказала Маша.
— Нет, я все.
Ваня почувствовал, что глаза слипаются.
— Идите-ка спать, — сказала Маша, и Ваня в который раз удивился, как она все замечает, что с ним происходит.
Ему приснился сон, о существовании которого он давно забыл, как, бывает, забудешь о существовании какого-нибудь человека, с которым когда-то, в раннем детстве, был знаком. Сон был именно из раннего детства. Он снился Ване в раннем детстве, а потом перестал.
Итак, он — маленький мальчик и идет с матерью на демонстрацию. Он держится за ее руку и видит, не глазея даже по сторонам, все сразу: и течение в небе облаков, и течение толпы, и первую нежную зелень тополей, растущих вдоль тротуаров, и глаза бродячей собаки, и пьяную физиономию, и тележку, к которой привязаны воздушные шарики разных цветов, и гармониста с красным бантом на груди. Он обладает как бы сферическим зрением.
Шарики прыгают в воздухе от весеннего ветра.
— Хочешь? — мать ведет его прямо к ним.
— Какой хороший мальчик, — говорит продавщица. И отвязывает красный шарик.
Мать достает из светлого плаща блестящую монетку.
Ваня берется за веревочку.
— Держи крепче, — говорит продавщица и отпускает шарик.
Шарик прыгает на ветру.
Вдруг он начинает рваться в небо, где текут белые быстрые облака.
Ваня отпускает руку матери и хватается за веревочку обеими руками.
Шарик рвется ввысь. И отрывается от земли вместе с Ваней.
— Мама! — кричит Ваня. Кричит весело — ему нисколько не страшно.
Он поднимается высоко-высоко, почти так же высоко, как облака, они как текучий туман над головой, сквозь который вдруг слепит солнце. Теперь он видит все сразу прямо с неба: течение толпы, связку шаров на тележке, мать, машущую ему рукой, задравшую морду собаку, красные флаги на зданиях, духовой оркестр во главе колонны демонстрантов…
Ваня проснулся в полумраке раннего зимнего вечера.
Некоторое время он лежал и думал о своем сне, о той легкости, которой он в этом сне обладал, о легкости полета. Сейчас он лежал и чувствовал тяжесть своего тела.
«Ну вот, — сказал сам себе Ваня, — я и на земле. Надо жить».
Первое мгновенье, когда, отворив дверь, он вошел в большую комнату, Ваня подумал, что опять один в квартире. Свет нигде не горел. Вдруг Ваня почувствовал, еще не видя и не слыша, что в комнате кто-то есть. Затем увидел, что за круглым столом сидит Маша, и услышал стук ее спиц.
— Проснулись? — сказала Маша. — Включайте свет, если хотите.
— А вы чего без света сидите?
— Экономлю.
— Серьезно?
— Немножко.
— Как же вы вяжете в темноте?
— Отлично вяжу. У меня бабка тоже вслепую вязала, даже когда совсем ослепла, по-настоящему. Сидела зимой на печке и вязала. Ну и потом, сейчас ведь не кромешная тьма, а так, сумерки. Я люблю сумерничать.
Ваня подошел к круглому столу и сел напротив Маши. Он различал белое пятно ее лица и белые пятна рук, но глаз Маши не видел.
— Слушайте, а можно я принесу сюда сигареты и пепельницу и буду курить и с вами сумерничать?
— Сейчас, — сказала Маша и положила вязанье на стол.
Она принесла ему сигареты, пепельницу и спички. Ваня чиркнул спичкой, вдруг поднес огонек к Машино-му лицу и увидел ее глаза.
— Вы чего? — сказала Маша, и спицы остановились в ее руках.
Огонек обжег пальцы, и он бросил спичку в пепельницу.
Он курил. Она вязала. Тикали на стене часы. Как будто издалека прогудел поезд.
— Расскажите мне, что за человек ваш Иван Егорович, как вы с ним познакомились, как замуж вышли, не скучно ли вам с ним жить?
— Как много вопросов сразу.
— Ну хоть на какой-то ответьте.
— Иван Егорович человек ученый, из старинного купеческого рода. Я-то выросла не в деревне и не в городе, а в рабочем пригороде, где завод, я думала, что такие мужчины, как Иван Егорович, только в кино есть.
— Какие?
— Культурные. Честные. Добрые. Вы вот думаете, на него блажь нашла вам помочь, а он многим помогает. У нас милиционер есть на станции, уже пожилой дядечка, с большим семейством, так Иван Егорыч, когда его жена заболела, из Москвы лекарства привозил и даже колбасу, хотя терпеть не может по магазинам ходить и в очереди стоять. Я-то вот скуповата, а он не жадный, многие люди его добрым словом помянут, ежели что.
— И как же вы познакомились?
— Ой, это история. Это и смех и грех. По скупости моей и познакомились. Было это лет пять назад. У меня брат женился, и я в Москву поехала подарок покупать от всего нашего семейства, то есть от меня, от матери и от отца. В общем, взяла в ГУМе хрустальные чешские рюмочки, скатерть на стол купила очень красивую, изо льна, да еще ленинградский чайный сервиз на шесть персон. Две коробки, скатерть в сумке, и продуктов набрала. Тяжело, но терпимо. А на билете я решила сэкономить, решила не на поезде ехать, а на перекладных: сначала электричкой до Черустей, а потом рабочим поездом до нас. На самом деле намного дешевле выходит. До Черустей я добралась очень хорошо, правда, холодно было в вагоне, но я то ногами стучала, то о жарком лете думала, и ничего. А в Черустях вдруг объявляют, что пригородный на сегодня отменяется и будет только завтра. Вот тут-то я и заметалась. Вижу, что товарный стоит. Бросилась к тепловозу, а там машинист сидит и сигарету курит. Я кричу ему снизу: «Дяденька! Возьмите с собой Христа ради, я вам денег заплачу», а сама реву уже навзрыд, и дождь льет, в октябре дело было. В общем, он из своей кабины ко мне спустился, коробки помог закинуть и самой помог взобраться. Помощник его ворчал, что не положено, но Иван Егорыч сказал: «Беру на себя». Так и познакомились.
— А дальше?
— Дальше? Помог мне вещи домой дотащить, поглядел, как мы живем в тесноте, и сказал, чтобы я замуж за него выходила.
— Прямо сразу сказал?
— Прямо сразу. Я еще подумала пару дней, а потом пошла.
— Почему?
Она помолчала, как будто не знала сразу, как ответить, и думала.
— Дома у нас тесно было. И брат еще женился к нам в дом, и вечно они с отцом скандалили. Не знаю. Сердце мое было свободно. Иван Егорыч мое воображение занял. Вы не поверите, может, но я как-то его пожалела. Хотя за что его жалеть, если подумать? Не знаю. Но я подумала, что ему со мной хорошо будет, тепло.
— То, что ему с вами тепло, это я понимаю, а вот как вам с ним? Не холодно?
— Почему это?
— Тяжелый он человек, неподвижный. Мне даже кажется, что он вас околдовал, заморочил, как Кощей Бессмертный.
— По-моему, это вы мне голову морочите, — спокойно сказала Маша. — Включу-ка я свет и поставлю на плиту ужин. Будете ужинать?
Так этот день и пришел к концу.
Следующие два дня они много смеялись. Ваня болтал почти без умолку, во всем Маше с удовольствием помогая: и в стирке, и в уборке, и в покупках. Он болтал, а Маша смеялась над его болтовней, потому что он старался рассказывать весело. И сам чувствовал радость. Рассказывал он разные истории из собственной жизни, которых было у него великое множество, потому что был он по призванию бродяга и художник, и много видел, и много понимал. Наверное, он тоже казался Маше человеком из кино, каких в жизни так просто и не встретишь, то есть каким-то запутанным образом походил он все-таки на Ивана Егоровича.
И вот, уже почти на исходе третьего дня, они пошли с Машей во двор вешать белье, которое Маша стирала своими руками, не признавая никаких машинок. И все время, пока она стирала, Ваня торчал с ней в ванной, прислонившись к стене, болтал, дымил сигаретой, смотрел за каждым ее движением, замечая потемневшие от пота завитки в ложбинке на шее.
Двор был тихий. Дом загораживал его от станции. В доме уже горели огни. Дети катались с горки на картонках, фанерках, на санках и просто так.
Они поставили таз с бельем на утоптанный снег. Ваня повесил на шею веревку с прищепками. Маша подавала ему белье, он сильно отжимал, встряхивал и вешал.
— Здравствуйте, — сказала проходившая мимо тетка.
— Здравствуйте, тетя Аня! — весело отозвалась Маша.
Тетка остановилась и посмотрела, как они вместе вешают белье, сталкиваясь руками и смеясь при этом.
— Как у вас ладно-то вместе получается, — сказала тетка, — дружно. Не то что одной, да, Маша?
— Ой, — сказала Маша, поскользнувшись.
Она схватилась за Ваню и удержалась.
— Чего вы сказали, тетя Аня?
— Бог в помощь.
— Спасибо.
— Не за что.
Тетка пошла своей дорогой, напоследок взглянув на Ваню пристальными глазами. И этот взгляд как будто сказал Ване: «Что же ты делаешь, парень?»
Веселье его покинуло.
Маша тут же почувствовала перемену его настроения и взглянула испуганно. Уже молча они повесили последнюю наволочку. Ваня снял с шеи веревку с прищепками и опустил ее в пустой таз. Они стояли друг против друга, а таз стоял на снегу между ними.
— Что? — сказала Маша.
— Пойду я.
— Как это?
— Пора. Задержался у вас. Все мое при мне, так что — прощайте.
— Да как же? А Иван Егорыч? Что я ему скажу?
— Так и скажете — ушел. Просил благодарить за все и простить за все. И вы простите.
Он сунул руки в карманы пальто, качнулся с пятки на носок, развернулся и ушел, ни разу не оглянувшись.
Маша постояла в темноте двора, освещенного скупыми уличными фонарями и цветными огнями в окнах, послушала, как вопят неугомонные дети, подняла таз и побрела тихо к подъезду. Уже на лестнице она заплакала.
Ваня решил ехать зайцем в рабочем пригородном на Арзамас. До поезда оставался час, и он, боясь войти в зал ожидания и увидеть страшную картину на стене, остался на станции. На белой платформе никого не было. Горел свет в газетном киоске. Ваня заглянул.
— Чего? — сказал старик киоскер, евший белый хлеб с маслом.
— Ничего.
Ваня прошел по платформе до конца, спустился и зашагал по шпалам, пока не дошагал до хвостового товарного вагона. Тогда он взял в сторону, пролез под черными цистернами. И так он шел довольно долго по огромному путевому хозяйству. На него кричали маневровые, стрелки съезжались, норовя прищемить ногу, совсем рядом проходил огромный тепловоз, и в нем сидел лысый пожилой машинист с сердитыми глазами. Над кабиной горел прожектор, и в его свете Ваня увидел, что начался легкий, редкий снег.
Он дошел до того здания, где в горне пылал огонь, и кузнец, голый до пояса, бил тяжким молотом по железу, которое крепко держал клещами черный волосатый парень. И Ване казалось, что клещи — это не отдельный инструмент, а приросший к человеку. И Ваня слышал удары: бахх, бахх, бахх.
Бог знает сколько времени Ваня простоял у окна кузницы. Наконец он очнулся и подумал, что пора спешить к поезду.
На обратном пути Ваня заблудился. Он не мог понять, где же станция, правильно ли он идет, пробираясь под составами, меняя направление, прислушиваясь к голосам диспетчеров. Он устал, задыхался, порвал где-то рукав пальто. Он даже подумал, что так и пропадет здесь.
Пробираясь под составом, Ваня споткнулся о шпалу и упал на колени. В это время состав над ним двинулся, и Ваня распластался между рельсов. Состав, грохоча над ним, набирал скорость. Ваня крепко закрыл глаза. Он решился открыть их, когда все совсем стихло, когда почувствовал тишину.
Ваня открыл глаза, увидел совсем близко пахнущую мазутом шпалу. Сел. Увидел бредущую куда-то грязную собачонку, встал и побрел за ней. Вдруг собачонка остановилась, и Ваня тоже остановился. Собачонка к чему-то прислушивалась. И Ваня услышал человеческие голоса.
Собачонка бросилась от человеческих голосов подальше, а Ваня остался стоять на месте, слыша, как голоса приближаются. Через секунду он бросился им навстречу.
Это были путевые обходчики в оранжевых безрукавках с яркими электрическими фонарями. Один из них поднял фонарь, осветил Ванино лицо и сказал:
— Он. Глянь, Вить, это его Егорыч по всем поездам искал.
Иван Егорович был одет в черную, наглухо застегнутую шинель. Он стоял неподвижно, как изваяние, и смотрел, как обходчики ведут Ваню. Он уже знал, что Ваню нашли, обходчики сообщили по рации.
Они подвели Ваню и ушли, а Ваня остался стоять и смотреть в неподвижные черные глаза Ивана Егоровича.
Иван Егорович вынул сигареты.
Он дал Ване сигарету, чиркнул спичкой и поднес огонек. Ваня смотрел, как бежит огонек, и не закуривал. Огонек обжег пальцы, и Иван Егорович отшвырнул спичку. Он вынул из коробка новую спичку, чиркнул, и Ваня прикурил. Иван Егорович поднес огонек к своей сигарете.
Он развернулся и пошел. Ваня помедлил и отправился следом.
Они обогнули дом и прошли двором, обходя веревки с бельем. Оказались на улице, довольно долгой, с одноэтажными домишками, в которых горел свет и работали радиоприемники. По дороге слева от них проскакивала иногда машина.
Улица привела их в самый центр города, где еще работали магазины, а в магазинах толпился народ, видный сквозь витрины.
Они прошли мимо остановки у рынка, на которой небольшая толпа мерзла и терпеливо ждала автобус. Рынок был закрыт, но они пробрались внутрь, отодвинув доску в заборе.
Пустой рынок освещали фонари. Мелкий летучий снег сверкал в воздухе, на прилавках и на земле. Мяукнула кошка. На воротах крытого павильона висел амбарный замок.
Они пересекли рынок и выбрались из него так же, отодвинув доску в заборе, и очутились у крутого спуска к реке. Спуск этот был заасфальтирован. Обычно машины катились по нему, чтобы переправиться через реку, зимой по льду, а летом по понтонному мосту.
Они повернули и полезли в гору, пока не оказались у подножия церкви с сорванными крестами. Из пустых зарешеченных церковных окон несло землей, подвалом, нечистотами. Даже не взглянув на церковь, Иван Егорович подошел к краю обрыва, на котором она стояла, и обернулся к Ване. Обернулся только на секунду, только взглянул и стал спускаться с обрыва, цепляясь за сухую траву и кусты, торчавшие из снега.
Ваня замер на краю. Внизу, далеко внизу, лежала подо льдом река. Из облака выплыла луна и осветила ее и черную высокую фигуру, спускавшуюся по крутизне.
Ваня пополз вниз по обрыву, хватаясь за кусты и траву. Он боялся, что покатится вниз и свернет себе шею. Обошлось.
В сухих зарослях у самой реки Ваня поднялся и увидел, что Иван Егорович стоит уже на льду и пристально на него смотрит.
Ломая сухостой, Ваня подошел к Ивану Егоровичу.
— Зачем вы меня искали?
— Маша по вам плакала.
— Зачем сюда привели?
— Помните, я вас просил дождаться, место одно хотел показать?
— Помню.
Иван Егорович кивнул, развернулся и пошел по льду.
— О, черт, — сказал ему в спину Ваня.
Огромная река стояла под ними во льду, и чем дальше они отходили от берега, тем сильнее Ваня чувствовал всю ледяную, черную глубину воды под собой. Ветер дул в лицо и закладывал уши, и Ваня наклонял против ветра голову.
Вдруг Ваня остановился. Он услышал какой-то странный треск под ногами и с ужасом посмотрел под ноги. Ему показалось, что лед качнулся.
Ваня поднял голову и увидел, что Иван Егорович на него смотрит, холодно и насмешливо.
Иван Егорович усмехнулся и двинулся дальше. Ваня пошел пятнами и тоже двинулся дальше. Вдруг он явственно услышал треск льда, и тут замер Иван Егорович, потому что лед затрещал прямо под ним. Увидел насмешливые Ванины глаза и — пошел.
И так они шли до середины реки по слабому льду, трещины расходились под ногами, и они их видели при свете луны. Шли, поглядывая друг на друга, храбрясь друг перед другом, скрывая свой смертельный страх. Что-то вроде дуэли у них выходило. Наконец, в середине реки, Иван Егорович остановился, повернулся к Ване и сказал:
— Пришли. Здесь это место.
— Да? — сказал Ваня. — И что в нем такого особенного, кроме того, что мы над самой глубиной стоим?
— На берег посмотрите, пожалуйста. На тот, с которого мы сошли.
Ваня посмотрел.
Место было действительно замечательным, в том смысле, что с него открывался замечательный вид.
При лунном свете обрывистый заснеженный берег сливался с небом в бегущих облаках, и казалось, что церковь парит в небе без опоры, сама по себе.
Вдруг лед под Иваном Егоровичем затрещал, и Ваня испуганно взглянул на него. Он видел, как лед прогибается под Иваном Егоровичем, но сам Иван Егорович стоял неподвижно, холодно глядя на Ваню.
— Осторожно, — еле слышно произнес Ваня.
Он шагнул было к Ивану Егоровичу, но от его движения трещина вдруг стала расширяться.
— Прыгайте! — крикнул Ваня.
Но Иван Егорович не прыгнул. Лед под ним совсем разошелся, и он провалился в черную щель, неподвижный как изваяние. Ни вскрика, ни всплеска. Быстрое течение реки мгновенно затянуло человека под лед.
Маша мгновенно открыла дверь на звонок. Была она в черном платочке, осунувшаяся, постаревшая, сгорбившаяся.
— Здравствуйте, — сказал тихо Ваня.
— Здравствуйте, — сказала Маша. — Проходите, пожалуйста, в комнату, только не разувайтесь… Сюда, за стол. Я сейчас свет зажгу.
Ваня сел в пальто за круглый стол, над которым зажглась хрустальная люстра. Смотрели со стен люди. На столе лежала завязанная на тесемки большая папка.
— Посмотрите, пожалуйста, — сказала Маша. — Откройте и посмотрите.
Ваня развязал тесемки и открыл папку. В папке были листы с рисунками. В основном гуашь. Ваня просмотрел внимательно лист за листом, сложил их в папку, закрыл, завязал тесемки.
Поднял голову, посмотрел на Машу. Покачал головой.
— Он и сам знал, что не художник, — сказала Маша грустно.
— Почему, — сказал Ваня, — он был художник в своем роде. И он это знал.
Больше им говорить было не о чем, и Ваня попрощался.
Картины, которые писал Иван Егорович, были действительно чудовищны. Но на этот раз самое сильное впечатление на Ваню произвело не качество исполнения, а сюжет одной из них. На этой картине маленький мальчик летел на воздушном шаре над первомайской демонстрацией. Художник не смог передать чувство полета, но Ваня его помнил.
Свойство времени
«Глаз», — подумал Митя. И наклонился, чтобы разглядеть.
Часы. Круглый циферблат под стеклом.
Митя встал под свет фонаря. Только что начало смеркаться, мир терял краски. Митя слышал, как скользит по коже электрический свет. Часы были старые, со стершимся ремешком. Механические. Говорящие «тик» и «так». Митя опустил часы в карман. Вдали, за домами, гудел проспект.
Митя шел узкой аллеей и думал о шуме: «Обволакивает».
Из-за угла, из тополиной тени, появился человек. Он смотрел растерянно на приближающегося Митю.
— Простите.
Митя остановился.
— Я прошу прощения. Извините, что задерживаю. Вы часы не находили?
Мите было шестнадцать. Нечасто взрослые обращались к нему на «вы».
— Такие.
Незнакомец очертил в воздухе большой круг.
Митя вынул из кармана часы и протянул мужчине.
— О, — сказал незнакомец. Но часы не взял.
Он был пониже Мити, очень худой, с золотой щетиной на темном лице. Смотрел растерянно-близоруко светлыми глазами. Пахло от него чем-то полузабытым.
«Странный черный запах», — подумал Митя.
— Да, — сказал незнакомец, глядя на часы в Митиной руке, — хорошие часы. Надежные. Сейчас таких не делают. Сейчас всё практически делают на выброс. Семнадцать камней. Завод «Слава». Вас не Славой зовут?
— Нет.
— Не отстают. Сколько у вас с собой денег?
— Пятьдесят рублей.
— Маловато. Ладно. Пусть. Меняемся. Давайте. Семнадцать — на пятьдесят. Уговорили.
И Митя под его светлым взглядом вынул пятидесятирублевую бумажку. Незнакомец ухватил ее крепкими коричневыми пальцами. И растворился.
Часы стрекотали в руке. «Как насекомое, — подумал Митя. — Насекомое, пожирающее время. Вечно голодное».
Митя надеялся когда-нибудь решиться и записать свои сочетания слов, особые соединения смыслов. Черной ручкой на белой бумаге. Компьютер для этого дела представлялся ему совершенно негодным инструментом. Почерк важен. Черные жилы, в которых течет кровь поэта.
Митя возвращался домой. Он медлил. Смотрел под ноги, не сверкнет ли монетка. Мать отправила его захлебом: полбуханки черного и нарезной батон. Мите было стыдно, что он купился, как маленький на игрушку. Как птица сорока, блестящим глазом заворожен. Митя шел, сунув руки в карманы и поглаживая пальцем гладкое выпуклое стекло.
Вообще-то, эти часы, да и любые часы на свете, похожи на детский секрет. Если их закопать стеклом вверх. Бегущие по кругу стрелки — вот и весь секрет. В черной земле похороненное время.
Огни горели в окнах большого дома. Где ярче, где глуше. Митя качнулся с пятки на носок и направился к подъезду.
Дверь он отворил своим ключом. Медленно расшнуровал кроссовки, стянул и затолкал под стойку с обувью, чтобы не мешали на проходе. Из комнаты матери доносился мужской голос. Слепой голос. Идет и не видит. Натыкается на препятствие и смолкает.
Митя стоял в прихожей, склонив голову набок и вслушиваясь. Когда-то у него был пес по кличке Жук, он точно так же умел склонять голову. Похоже, что Митя научился у него.
«Жук», — подумал Митя. Для него это слово значило совсем не то, что для любого другого человека. Для него это слово — маленький черный пес, умеющий притворяться мертвым, умеющий притворяться жалким. Мать называла его Чарли и говорила, что он такой же смешной бродяга. Жук спал у Мити возле кровати, на боку, похрапывая. Митя боялся на него наступить спросонья.
Не только «жук», любое слово, абсолютно и совершенно любое, значит для Мити что-то свое. Лавка, к примеру. Или море. Его лавка из серого дерева, темнеющего от дождя. Перочинным ножом вырезана буква «Н». Его море — под Севастополем. В каменной бухте. Он думал, что не выберется на берег, что волна его разобьет о скалу. Легко отделался. Сидел потом на округлой глыбе и наблюдал, как садится красное солнце.
«Я пытаюсь объяснить свои слова, только и всего», — так думал Митя.
Он отправился на кухню. Свет зажигать не стал. Ему нравился подводный, колеблющийся полумрак с бегущими отсветами от проезжающих внизу машин.
Отсвет и полумрак. Тайна. Неявленное до конца. Возможность шага. К свету или к тени. Или, скорее, невозможность.
Митя включил чайник. Сел к столу, вытянул руку, пошевелил пальцами. Рука была как отдельное, фантастическое существо, плывущее в сером воздухе кухни. Митя вспомнил «Семейку Адаме» и рассмеялся. Открыл холодильник, потрогал кастрюлю с супом, но супа не хотелось, достал колбасу, отхватил хороший ломоть. И съел. Налил в кружку кипяток, насыпал растворимый кофе, долго размешивал.
Раскаленная лава.
Отставил кофе, вынул часы. Они показывали двадцать тридцать пять. Настенные — двадцать тридцать. Настенные всегда шли точно.
Ремешок хотя и потертый, но крепкий. Простые часы, даже без секундной стрелки.
Митя выдвинул заводную головку, чтобы поставить время точно, и увидел на белом табурете тень. Тень уплотнилась, обрела черты и запах. Все тот же черный запах. Щуплый мужчина потрогал золотую щетину на худом, темном лице. И спросил Митю:
— Что?
— Что? — переспросил Митя шепотом.
— У вас часы в руках, головка выдвинута, я здесь. На какое время передвигаем часы?
— В смысле? Я только хотел. Назад. На пять минут. — Митя неуверенно указал на белый циферблат на стене. — Чтобы точно. Я бы и сам. Повернул.
— Милостивый государь. Или как там у вас сейчас принято? Товарищ?
— Как хотите.
— Милостивый государь, сами вы время не повернете, на это есть я.
— Хорошо.
— Пять минут?
— Ну я…
Митя таращился на давешнего прохожего, впарившего ему старые часы за полтинник, а теперь вдруг, прямо из воздуха, из полумрака соткавшегося. Как в романе.
Одет он был в потертые джинсы, в растоптанные кроссовки на босу ногу, в темный, с обтрепанными обшлагами пиджачок, из-под которого белела молочным светом футболка, кажется чистая.
— Объясняю. Мы буквально вернемся назад на пять минут. А можем и на пять лет. Как прикажете. Буквальным образом.
— То есть если на пять лет, то мне станет одиннадцать?
— Очевидно. Если вам сейчас шестнадцать, то минус пять будет одиннадцать. Насколько я понимаю в арифметике.
Митя услышал твердые, быстрые шаги. Мать входила на кухню.
Зажгла свет. Замерла, увидев вдруг незнакомца.
Мужчина поднялся с табурета.
— Здравствуйте.
— Здравствуйте, — ответила ему мать.
— Мам, — Митя встал и улыбнулся. Улыбка была его щитом. Он прятал за ней растерянность, неловкость, слабость. Страх. Иногда торжество. — Мам. Это наш сосед. Он. Я его попросил зайти. Он.
— Федор Иванович, — сказал мужчина и слегка поклонился.
— Федор Иванович обещал мне помочь с математикой.
— В темноте?
— Я как раз собирался включить свет.
— Прекрасно. И, видимо, достать учебник. Не могли бы вы говорить чуть тише, у меня занятие.
— Конечно.
— Порой мешает даже шорох.
— Я знаю.
— Спасибо.
Мать посмотрела холодно на Митю.
Митя улыбался.
В ярком электрическом свете незнакомец постарел. Свет углубил морщины, глаза запали и смотрели, как из древних пещер.
— Устал я, — произнес незнакомец ослабевшим голосом. — Решайте, пожалуйста, насколько отодвигаем время. Пять минут вас устроит? Или уже десять? Не тяните, молодой человек, будьте добры, мне тяжело здесь.
— Я понял. Сейчас. Секунду. Важный вопрос: буду ли я помнить то, что было? Вот те пять минут, которые мы исключим, вы исключите, я их буду помнить?
— Нет.
— Ясно. Понятно. Я так и думал. Тогда вот что. Не будем отодвигать. Вы уж извините…
Митя не договорил. Не для кого было договаривать — незнакомец исчез. Митя коснулся табурета, на котором он сидел, и ему показалось, что сиденье еще теплое. И запах не успел улетучиться. Митя вдруг догадался, что это за запах. Железной дороги. Ночной станции. Шпал, мазута, горячего металла, дальней дали, пепла, ржавчины, пота.
Из комнаты матери донеслось пение. Лемешев, баллада Герцога из «Риголетто»: «Тарампам любовных цепей». Старая граммофонная запись. Митя аккуратно утопил в гнездо заводную головку и приладил часы на руку. Застегнул на самую последнюю дырочку. Часы свободно болтались на худом запястье, съезжали на кисть.
Митя выплеснул в раковину остывший кофе. Тенор вновь завел свою балладу. Но уже не один. Ему вторил, старался за ним поспеть и не забежать вперед живой мужской голос. Граммофонный голос смолк и живой остался один, без поддержки. Но продолжал. Вслепую. Ошибаясь, забираясь не в ту степь и в глухой лес, натыкаясь там на деревья. Но не сдавался, продолжал.
«Это хорошо», — подумал Митя.
Пение смолкло. Послышались шаги. Материнские. Их Митя всегда мог узнать, их особый ритм, уверенный и настороженный в то же время. Как будто правая нога ступала решительно, а левая неуверенно, не очень-то правой доверяя. Шаги мужчины были тихие, подшаркивающие. Как будто даже покашливающие. В прихожей щелкнул выключатель. Послышался негромкий грудной голос матери. Митя замирал, когда она вот так с кем-нибудь говорила. Слепой, все еще не прозревший голос мужчины. Вновь голос матери. Поворот замка. Открывание и закрывание двери. Щелчок. Шаги.
Мать вошла на кухню. Не взглянула на Митю. Выдвинула из тумбы возле плиты ящик, достала пачку сигарет. Встала к тумбе спиной, прислонилась, щелкнула зажигалкой. Смотрела на Митю сквозь дым.
— Я хлеб не купил, — признался Митя.
— Что так?
— Деньги потерял.
Мать ничего на это не отвечала, только еще больше сощурилась. Может, от дыма.
— Деньги потерял, зато часы нашел.
Митя вытянул руку. Стеклянный глаз сверкнул, вспыхнул отраженным светом.
— Завод «Слава», семнадцать камней. На пять минут спешат, но это наплевать.
Мать молчала.
— Он не сосед. Просто с улицы. Извини. Так вышло. Мы тут поговорили.
Мать открыла кран и сунула окурок под воду. Выкинула погасший окурок в мусорное ведро и отправилась из кухни.
— Черт, — пробормотал Митя. И крикнул: — Черт!
Он услышал, как у матери в комнате заговорил телевизор. Встал и потащился к себе.
Митя не стал зажигать свет, он вообще любил сумерничать. Бросился на диван, руки заложил за голову. Лежал и разглядывал темные корешки книг в высоких старых шкафах. Митя запел граммофонную балладу. «Тарампам любовных цепей». У него был не тенор, а баритон, негромкий, но чистый голос. Митя пропел балладу — от первого слова до последнего. В ночное уже окно смотрела луна. У матери бубнил телевизор. Митя задремал.
Проснулся при свете утра. Не узнал собственной комнаты, с удивлением подумал: где же я? Наверное, оттого, что так и проспал всю ночь одетый. Не сразу вспомнил часы, полсекунды смотрел на них с изумлением, как на чужие.
«Девятый час; семь минут; на самом деле — две; две минуты девятого. Оп, уже три».
Митя распахнул фрамугу. Серый-серый день.
На кухне горел свет, мать жарила яичницу. Кажется, именно этот запах и разбудил Митю.
Он сел на табурет с торца стола, сгорбился и наблюдал, как мать лопаткой подхватывает яйцо со сковородки и перекладывает на тарелку. Митя ни за что не стал бы перекладывать, ел бы со сковородки, скворчащее. Мать на Митю внимания не обращала, как будто его не было. «Я призрак, — невесело подумал Митя. — Призрак был мал и невесом».
Вздрогнул и осветился изнутри мобильный. Мать взяла трубку.
— Привет, Аня. Нет, не смогу поехать. Нельзя Митю одного оставить. Нет, не шучу. Нимало. Прекрасно себя чувствует. Росту уже под метр восемьдесят, ей-богу, не вру, да за полгода… а никуда не собирается, так, существует, ума нет, глаза? Серые, да, красивые глаза… ростом вымахал, а ума нет, все еще не нажил, да, я-то надеялась, что у меня сын взрослый, а он еще так, щенок, привел какого-то бомжа в дом, прямо в дом, прямо на нашу мирную кухню, за стол усадил… а бог его знает почему, не объяснил, не нашел нужным, нету объяснения у него, дурачок потому что, уши развесил, в другой раз он их десять человек приведет, а что, мало ли чего они ему наплетут, он поверит, он у меня доверчивый, дитя, сказки любит, а может, он навсегда такой глупый, я не знаю, помру, а его всякий тут облапошит, по миру пустит, будет милостыню просить по электричкам, дурачок, что с него взять, я уже и рукой махнула. Да нет, не преувеличиваю, зачем?.. Да. Спит в одежде, с утра не моется, а что ему, он и так хорош, глаза-то серые. Нет, не в школе. Уже выучился, уже готов к взрослой жизни. Ага.
У Мити горело лицо. Он хмуро смотрел на остывающую в материнской тарелке яичницу. На тлеющую в пепельнице сигарету.
— …Какая встреча? Правда не помню. Да перестань, зачем это, все прошло, что уж ворошить. Не хочу. Точно. Без меня. Привет передавай. Да. Целую.
Мать отключила телефон, съела яичницу. Взяла медную турку с деревянной ручкой, насыпала кофе, залила водой, поставила на маленький огонь, взяла погасшую сигарету, щелкнула зажигалкой. Курила и следила за кофе. Дым уносило в открытую фрамугу. Митя смотрел на бледное синее пламя. С улицы на карниз опустился сухой листок, откуда-то с серого неба, с небесного дерева. Осень у них там, в небесах.
Мать выпила кофе, вымыла за собой посуду и пепельницу. Порядок. Скользнула по Мите невидящим взглядом и ушла. Митя слышал, как она собирается. Слышал запах ее духов. Мысленно сказал: «Дождь обещали, зонт не забудь».
Дверь захлопнулась, Митя вышел в прихожую. Зонт лежал на тумбочке.
Митя включил душ на всю мощь, вода обрушивалась с тяжелым грохотом, стоять под ней было почти невозможно, но Митя терпел. Этот душ вышибал все мысли, из него Митя выходил оглушенный, ослабевший, очистившийся. Как будто спасшийся.
Мокрый прошлепал к себе в комнату. Увидел мельком свое бледное отражение в зеркале, на секунду приостановился. Кто-то чужой там, не Митя. Кто-то жалкий.
Убрал постель. Оделся во все чистое на влажное еще тело. Футболка, трусы, джинсы, носки. Как солдат надевает все чистое перед смертельным боем. Да, Митя собирался в школу, как на войну. Война длилась уже девять лет, и не было надежды на скорое окончание. Будет ли вообще этот последний залп — последний звонок? Война затяжная, унылая, окопная. Война на выжидание. Война без врагов, без выстрелов, но война. Мите казалось, что в школе медленно утекает из него жизнь. Он сидел на уроках сомнамбулой, и ему было страшно провожать в последний путь свое время. Школа была тем светом.
Но сегодня уже нельзя было не идти. «Это как к зубному, — говорил себе Митя. — Надо пережить. Перетерпеть». Мать как-то раз ему сказала, что вся жизнь — терпение. Но Митя ей не верил. За окном пошел неслышный дождь. «Крадучись, — подумал Митя. И передумал: — Чего ему, дождю, красться, он просто спит, спит на ходу. На лету». Митя надел часы, он их снимал перед душем. Захватил сумку с единственной на все уроки тетрадкой. В прихожей, не зажигая по своему обыкновению свет, отыскал под стойкой кроссовки, натянул.
Митя распахнул дверь и оказался лицом к лицу с молодой женщиной. Она испуганно отступила. С ее сложенного зонта стекала вода. Женщина смотрела растерянно.
— Здравствуйте, — мягко произнес Митя.
— Я к Наталье Алексеевне, — глухо сказала женщина.
— Натальи Алексеевны нет.
— Мы договорились. Я Валя. У нас занятие.
— Никак нет, не здесь и не сейчас, потому что здесь и сейчас ее нет, можете проверить, пожалуйста, — и Митя отступил, освободил женщине проход в квартиру.
Но женщина в квартиру не шла.
Митя заговорил быстро, отчетливо, весело:
— Может, вы чего перепутали, Валя? Или она? Звоните, как еще узнать?
Митя вышел к ней на площадку. Ключи вертел в руке.
Женщина от Мити отступила, вынула телефон, нашла номер в списке. Зонт ей мешал, сунула мокрый под мышку. Прижала трубку к уху и вслушивалась напряженно.
— Абонент не отвечает.
Лицо у нее было маленькое, круглое, бледное. Мите показалось, что она совершенно потерялась, как ребенок, которого никто не встретил на вокзале.
— Но мы совершенно точно договорились, вот, смотрите сами, — она показывала Мите экран мобильного. — Вот, эсэмэска, время, число, она сама назначила, видите?
— Да, вижу, определенно, время, число, все правильно, но ее здесь нет. Чем я могу вас утешить? Чашку чая?
— При чем тут чай?
— Могу предложить занятие. Я вполне могу провести. Пойдемте.
— Но вы шли куда-то, собирались.
— Уже не важно. Прошу.
Она смотрела опасливо с площадки в полумрак прихожей.
— Вы боитесь?
— Да.
— Чего?
— Вас.
— Я безопасен.
— Вы так говорите.
— Ну если вы боитесь остаться со мной наедине в квартире, можем провести занятие прямо здесь, спустимся на марш, там окно, широкий подоконник. Не проблема.
— У вас есть документы?
— У меня есть паспорт. Могу его вынести. Он дома.
И, не дожидаясь ответа, Митя скрылся в прихожей.
Он представлял, как она стоит растерянно у открытой настежь чужой квартиры. Перед входом в полутьму чужого жилья. Вдыхает запах чужой жизни. Митя вышел с паспортом и протянул ей. Она не брала. Тогда он раскрыл книжечку.
— Смотрите на фотографию, это я. Дмитрий Олегович. Тысяча девятьсот девяносто четвертого года рождения. Неженатый. Умный.
— Про умный там тоже написано?
«Улыбнулась. Это победа. И голос уже не так дребезжит».
— Конечно, написано. Симпатическими чернилами… — Митя вдруг переменил интонацию, заговорил серьезно: — Я в самом деле могу провести занятие. Мне жаль, что мама забыла о договоренности, с ней такое впервые на моей памяти. Но я знаю все ее уроки. Считайте, что я ее лучший ученик. Мы можем, по крайней мере, попытаться. Ведь вы наверняка издалека сюда ехали, потратили уйму времени. Решайте сами. В любом случае я прошу прощения, что так вышло.
— Хорошо.
«Сдалась. Ура. Я и в самом деле умею это. Ура, ура, ура».
— Прошу вас. Добро пожаловать, Валя.
Он вошел вслед за ней в прихожую. Свет включил — для нее. Чтобы все на свету, никаких темных углов.
— Не разувайтесь.
— Туфли промокли.
— Тогда тапки.
— Не нужно, спасибо.
— Пол холодный.
— У меня с собой тапки. Я взяла.
Он провел ее в свою комнату.
«Слава богу, убрана постель. На столе пылюга».
— Садитесь, пожалуйста, к столу. Включу свет, на улице пасмурно и дома пасмурно. Ну вот, а я в кресле устроюсь, оно старое, старше меня. Скажите, пожалуйста, зачем вам эти занятия?
— Зачем? Это так нужно знать?
Митя не отвечал, держал паузу.
— Хотя понятно, я ходила заниматься английским, там тоже спрашивали зачем. Просто общаться или книжки научные читать. Мотивация. Да, я объясню. Меня назначили начальником отдела. Это так звучит серьезно. В действительности не то. Но все равно. Они должны меня слушать. В идеале. Но я ничего не умею им сказать. Я не могу убедительно. Убедительно сформулировать. Я сама себе не верю, когда говорю.
Митя расстегнул ремешок и снял часы. Женщина наблюдала за ним настороженным взглядом. Митя положил часы на стол.
— Так удобнее следить за временем. Мама обычно ставит на стол будильник, но у меня здесь будильника нет, я под его тиканье не могу спать.
Митя поднялся из кресла и направился к стеллажу, к поблескивающим книжным корешкам.
— Любите читать?
— Времени нет.
— К Достоевскому положительно относитесь?
— Не особо.
— Почему?
— Не знаю. Не выдерживаю больше страницы, болею.
— К Толстому?
— Получше.
— Но без удовольствия читаете?
— Вообще не читаю, если честно. После школы — ни разу. Там… как-то не знаю. Мне трудно. Времени нет. Сил. Неинтересно.
— Это замечательно, — сказал Митя и вытянул из тесного ряда книгу. — «Преступление энд наказание», — объявил он. — Открываем. Сейчас, сейчас. Так. Вот. Читайте. Монолог Свидригайлова.
Она взяла у него растерянно книгу.
Всмотрелась в текст.
— Читайте вслух.
— Не буду.
— Почему?
— Это отвратительно.
— Что именно?
— Этот человек. Он весь.
— Как думаете, сам себе он нравится?
— Не знаю. Нет.
— Положим. Не то чтобы я с этим вот прям так соглашаюсь, но — положим. Прочитайте именно так — от лица человека, который сам себе отвратителен.
— Но я же не актерскому мастерству пришла здесь учиться.
— А чему вы пришли учиться?
— Я уже объясняла.
— Повторите.
— Говорить.
— Да вы умеете вроде.
— Меня не слышат.
— Я — слышу.
— Не слушают. Не вы. На работе. И не только. Я объясняла.
— А его — слушают?
— Свидригайлова? Да.
— Тогда попробуйте влезть в его шкуру.
— Он мне противен.
— Вы сказали, что он сам себе противен.
— Уже не знаю.
— Помните, что с ним в конце концов произошло?
— В Америку уехал, — сказала неуверенно, вопросительно.
— Почти что так. Америка на его языке — тот свет.
— Он умер? — спросила после паузы.
— Застрелился.
— Почему?
— Отчасти вы знаете ответ.
— Сам себе противен?
— Возможно. Читайте. Давайте. Вслух.
Она придвинула к себе книгу. Губами шевельнула и — не смогла прочесть.
— Знаете, когда актерам выпадает играть отрицательных персонажей, они ищут в них человеческое. Попробуйте.
— Попробуйте вы, а я послушаю. Как это со стороны звучит.
— Попробую, но не сейчас, сейчас рано. У вас есть братья-сестры?
— Какая разница?
— У меня не праздное любопытство.
— Можно подумать, я к психологу пришла.
— Вы ходили к психологу?
— Нет. В кино видела. Есть у меня брат, старший. Но мы с ним мало общались, он не с нами жил.
— А что вы обо мне думаете?
Посмотрела удивленно.
— Давайте. Начистоту.
— Я давно с шестнадцатилетними не общалась. Не знаю, может, вы все сейчас такие. Как бы это. Вы очень шустрый. С таким напором. И речь. Будто вам лет сорок. И вы уже лекции читаете, профессор.
Митя рассмеялся.
— А еще? Что бы вы обо мне рассказали своей лучшей подруге?
— У меня нет лучшей подруги.
— И никогда не было?
— В школе была. Но я бы не стала. Никому. Я не люблю рассказывать.
— Почему?
— Просто не люблю рассказывать. Я устаю. Я с вами устала уже. Не с вами, а говорить, устаю говорить.
— Что делать, вы за этим пришли — говорить. Привыкайте. Научитесь находить в этом удовольствие. Мы к этому придем. Внешность мою попробуйте описать.
— Ну. Высокий. Глаза серые.
Митя рассмеялся.
— Пушкина напоминает, «Дубровского». Кто угодно подойдет под это описание. То есть очень многие.
А Свидригайлова можете описать? Чисто внешне. Какой у него голос?
— Не знаю.
— Низкий? Высокий? Чистый? С хрипотцой? А внешность? Помните?
— Нет.
— Ну придумайте ему внешность. Давайте. Высокий?
— Наверное…
— Выше Раскольникова?
— Наверное…
— Как одет?
— Не знаю. Я не знаю, что они тогда носили.
— В темное?
— Не знаю.
— Я вам прочту. Раскольников его наблюдает. Его глазами.
И Митя прочел про лицо-маску, про алые губы и белокурые волосы, про слишком голубые глаза и тяжелый взгляд. Про моложавое не по летам лицо. Про огромный перстень и легкую одежду. Легкую, светлую, летнюю.
— Взгляд тяжелый, а одежда легкая, — сказал Митя. — Лицо моложавое, а лет много.
— Интересно, — сказала Валя, — куда вы пойдете после школы, литературу преподавать? В актеры? В психотерапевты?
— В летчики, — весело ответил Митя. — А вы кем мечтали стать, когда в школе учились?
— Угадайте. Вы же умный.
— Если угадаю, прочитаете Свидригайлова?
— А если не угадаете, прекратите с ним приставать?
— Идет.
— Договорились, — сказала она. И добавила:
— Я играю по-честному
— Я не сомневаюсь.
Митя посмотрел на нее. Он хотел сдвинуть брови, сделаться серьезным, даже мрачным, хотел посмотреть таким же тяжелым взглядом, каким смотрел бы Свидригайлов. Но не выходило. Рот не слушался и расплывался в улыбке. И брови не хотели сходиться.
— Почему вы смеетесь?
— Вы хотели быть продавцом мороженого.
— Ошибочка.
— А кем? Серьезно.
— Вы же не серьезно в летчики хотите?
— Да я понятия не имею, чего я хочу. Честно.
— Я тоже. Вы способный, и язык подвешен, найдете. А я вообще не знала. Я этого вашего Свидригайлова вообще не читала. Я вообще — никто.
— Начальником-то вас назначили.
— Может, потому и назначили.
— Откажитесь.
— Не могу.
— Почему?
— Ну как почему? Вот сразу видно, что вы мальчик еще, на свои деньги не жили, попробуете — поймете. Это даже слава богу, что вы не понимаете, а то прямо страшно, как вы во все проникаете, как будто уже сто лет живете, нет, с некоторыми вещами опыт нужен, чтобы их понять. Прямо облегчение. Почему вы улыбаетесь?
— А вы расскажите, на что у вас деньги уходят.
— Зачем это?
— Интересно. Все ведь по-разному тратят. Сколько вы получаете?
— Не получаю, а зарабатываю. Это мне отец так всегда говорил: не получаю, а зарабатываю. Это вы получаете — из маминых рук.
— Согласен. Мне тем более интересно.
— Шестьдесят тысяч выходит в месяц. Так-то оно неплохо, но много на квартиру уходит, ровно половина, я квартиру снимаю, я отдельно от родителей, вместе — это невозможно.
— А на еду сколько?
— Я не знаю точно, я прям так не подсчитываю, по ресторанам я не хожу, я вообще не люблю, я лучше дома, свободнее, ничего особенного такого не беру, самое обыкновенное. Не знаю. Тысяч пять уходит. Может, семь. Конфеты я люблю. «Столичные», они дорогие.
— Двадцать пять в остатке. Пусть двадцать.
— Что значит «в остатке»? Будь здоров остаточек. В смысле, куча еще расходов. Стиральный порошок, мыло, зубная паста. Одежда тоже. Я не так чтобы много на одежду трачу, но тоже ведь. И обувь у меня быстро убивается, это у меня с детства так, всегда. Не знаю. Парикмахерская. Маникюр. В отпуск.
Митя молчал. Он устроился в кресле поглубже и как будто позабыл о женщине рядом. Взгляд его стал невидящим.
Женщина посмотрела на часы, лежащие на столе. Но время разглядеть не смогла, мешал блик не стекле.
— А что они за люди, ваши подчиненные? — спросил вдруг Митя из глубины старого кресла.
— Обыкновенные.
— Конкретно, конкретно. Знаете, как Достоевский. Как про Свидригайлова.
— Они. Не знаю.
— Нет, не во множественном числе, в единственном. По очереди. Сколько их?
— Пятеро.
— Пять портретов.
Он наблюдал за ней. Ни тени улыбки уже не было на его сосредоточенном лице.
Она молчала.
— Кто самый старший? — спросил Митя.
— Наталья Тимофеевна. Я у нее на даче была. Мы все были. Она приглашала на шестьдесят лет, в прошлом году. У нее там чистенько, просто, но хорошо. Она вся такая. Чистенькая. Она вообще маленькая, немножко на одну актрису похожа. Смешная. И носом поводит. Она в лес ходит, грибами нас угощала, огурцами своими, огурцы мне не очень понравились. Я ночевала у нее, утром мы разговаривали, она о детях и внуках, скучает. Она ко мне немножко как к дочке. Так примерно. Потом, если по возрасту, идет Ксения. Она в молодости была красавица. Просто изумительная. Я почему знаю, это все знают, ее фотограф снимал, известный, вы даже можете найти ее фотографии в интернете, если захотите. Такая тоненькая была, неземная, из Пушкина прямо, в смысле, из стихов, вы поняли, а сейчас и не угадаешь, хотя что ей… чуть только за сорок. Злая на язык. Хотя иногда интересно ее послушать. Она каких-то известных людей знает, еще с молодости, вроде как накоротке, мелочи всякие — интересно. Может, врет, не поймешь. Потом. Если по возрасту. Игорь. Он. Переговорщик. Это я так, придумала ему прозвище. Для себя. Знаете, как в кино, переговорщик, человек, например, хочет с моста спрыгнуть, или с карниза с двадцатого этажа, или с бомбой сидит в детском саду, а переговорщик его уговаривает всех отпустить, успокоиться, не прыгать, как-то так. Тут хитро надо. Не спугнуть. Такое гипнотическое должно быть влияние. Игорь умеет. А когда не на работе, он совсем другой. Вот ему с вами было бы легко разговоры вести, он бы про Свидригайлова ответил, вы бы еще удивились. Он много знает. Я один раз с ним по улице шла, от работы. К метро. Что-то там троллейбусы встали, и мы решили, что пешком. Так он про дома рассказывал, которые проходили. Один дом Наполеона видел, интересно. Такой человек.
— Я никак не соображу, что у вас за работа? Экскурсоводы-переговорщики?
— Шутите? Нет, мы двери продаем. То есть звонки принимаем, заказы оформляем, товар продвигаем. Тут и переговоры, и экскурсии, тут все уметь надо. Объяснить. Привлечь.
— Загипнотизировать.
— Не в прямом смысле.
Она замолчала. И Митя молчал в кресле. Не требовал продолжения. Казалось, он думает о своем, к Вале отношения не имеющем. Она осторожно вытянула руку, коснулась края книжного листа.
Черные типографские буквы складывались в слова, слова описывали эмигранта, нарушителя границы, беглеца, без паспорта сбежавшего; одно нажатие на курок и — вот она, Америка, заграница, тот свет.
— Странно, — произнес Митя. И смолк.
Валя напряженно ждала.
— Странно, что такой способный человек у вас в конторе прозябает.
— Ну почему же, он с удовольствием работает, мы же не ерунду какую-то продаем, зарплата у него побольше моей, не думайте.
— Наверное, вы в него влюблены, — сказал Митя безучастным голосом.
Сказал так, будто Вали и не было рядом. Будто она уже ушла, а он просто рассуждал сам с собой. Хотя и обращался вроде бы к ней. Но это была лишь удобная форма рассуждения.
— Никаких проблем с подчиненными у вас нет, так как подчиненных нет. И не было. И не будет. Ну какой вы начальник? Зачем это хотя бы кому-то надо — вас в начальницы. Разве что издевка изощренная. Но вряд ли, не верится.
Митя видел из своего убежища профиль Вали.
Маленький, уточкой нос. Круглый открытый лоб. Мягкая линия подбородка.
— Так что вы пришли не за тем, чтобы с подчиненными научиться разговаривать, а с Игорем. Чтобы он вас услышал. Вы в него влюблены безнадежно.
Валя поднялась. И направилась из комнаты.
Митя слышал ее потерянные шаги, слышал щелчок выключателя в прихожей. Шорох.
«Возится с замком. Никто не может вот так сразу сообразить, как открыть. Есть там такой рычажок сбоку».
Митя выбрался из темного мягкого провала, из кресла, и большими, спокойными шагами направился к прихожей. Встал у притолоки.
— Вы прямо в тапках бежать собираетесь?
— Откройте мне дверь.
— Я прошу прощения.
— Откройте.
Она стояла у двери опустив руки, поджав бледные губы.
— Я сказал глупость, извините.
Она отошла от двери, приблизилась к нему. Посмотрела в лицо.
— Ну почему, все правильно вы сказали. Влюблена. Как полная дура. Подушка мокрая. Буквально. Реву в нее. Да, хотела, чтоб услышал, хотя бы голос чтоб — проник. У меня на лбу написано, все видят, как с больной со мной, он тоже, деликатный, боится меня, правда, вдруг я чего сдуру, мало ли. Но я ничего, я тихая. Дверь мне откройте.
Лицо ее болезненно кривилось, пока выговаривала.
Митя наклонился, взял ее туфли, еще влажные, взял зонт. С него натекла лужа.
— Красивый зонт, — сказал Митя. — В смысле — расцветка.
— Я закричу, если вы дверь не откроете.
— Я открою. У меня руки вашими туфлями заняты и зонтом.
Она взяла у него туфли и зонт.
Митя сдвинул рычажок на коробе замка, с торца. И отворил дверь. Валя вышла, как была, в тапках. Митя стоял у проема. Слышал гул лифта.
Лифт смолк внизу, на первом этаже, Митя помедлил и закрыл дверь.
Он вернулся в свою комнату и сел на стул, на место Вали. Он попытался увидеть комнату ее глазами.
«Диван. Хорошо, что в тени, пятно не видно. Книги. Что они обо мне говорят? Ничего. Ей — ничего. Стоят стеной между мной и ней, бумажные кирпичи, тяжелые от слов. Нагромождения слов, туманные скопления смыслов. Ослепительные прозрения. Ничто для нее. Пустое. Рисуночек прикноплен, дом изображен. Она видела — прямо перед глазами. Рисуночек хороший, куплен на блошином рынке, на Тишинке. Ради дома куплен. Дом, которого нет, который был, был взаправду, в нем — детство, отцовский мотоцикл за окном. Ничего ей не сказал рисуночек, обо мне — ничего. А если сказал, то наврал».
Митя взял со стола часы. Тик-и-так. Выдвинул головку. В темноте, в глубине кресла, на прежнем Митином месте, уплотнилась тень. Блеснули глаза, запахло железной дорогой. Дальней дорогой. Давней дорогой. Мазут. Папиросный дым. Едкий, выбивающий слезы.
— Что желаете, молодой человек?
— Здравствуйте.
— Здравствуйте.
— Я бы хотел повернуть назад время. Ненамного. Тут у меня занятие было, не особенно хорошо вышло, сначала бы. В общем, на пятьдесят минут. Для верности.
— Зачем?
— Может, во второй раз лучше выйдет.
Лицо едва угадывалось в кресле. Вот и она так же на Митю смотрела, едва угадывая.
— Лучше не выйдет. И хуже не выйдет. Выйдет ровно то же самое. Я вам уже объяснял, вы не будете помнить, как оно вышло в первый раз, вы вернетесь к себе прежнему, ничего этого не пережившему.
— Не знаю. Мне все равно, я хочу еще раз ее увидеть, а так уже не увижу, она не вернется.
— Вроде бы вы не дурачок, сударь. Откуда быть еще разу? Все то же. Карусель. Стрелки по кругу. По одному и тому же. Все те же стрелки. И тот же финал.
— Интересно, — сказал Митя, разглядывая свой палец, свежую на нем царапину: зацепил, когда отворял дверь.
«Там гвоздь торчит, давно вбить пора, нечего голову высовывать. Железную, глупую».
— Интересно, — вновь сказал Митя. — Может, я уже не в первый раз о повторе прошу, может, уже в сто пятый?
— Может.
— И весь мир со мной вместе сдвинуться с этой точки не может.
— Возможно. К примеру, был один несчастный убийца, ему хотелось время повернуть, чтоб не убить. Долго ходил по кругу, пока завод не кончился у часов.
— Бедный. Так и остался убийцей?
— Никуда не делся.
Митя погладил стеклянный часовой глаз с неподвижным золотым зрачком.
— Ну все равно. Давайте назад.
— Бессмысленно.
— Без разницы.
— Как скажете, милостивый государь.
Фигура растворилась, исчезла.
…Митя распахнул дверь и оказался лицом к лицу с молодой женщиной…
Книга
Было мне девять лет. Бабушка попросила отнести книгу в библиотеку и взять новую. Объяснила, что надо зайти в клуб Ленина и спуститься по мраморной лестнице. Я спустилась, держась за широкие перила из белого камня. Так и подмывало по ним скатиться, но я не решилась. Очень уж было торжественно. И знамя стояло в витрине. И золотом было написано на стене, что книга — источник знаний.
Лестница привела в коридор со сводчатым потолком без окон. Я постучала в дверь с табличкой БИБЛИОТЕКА (золотые буквы на черном фоне), услышала «да» и тут же вошла. За письменным столом сидела громадная, с меня ростом, крыса. Ни окон, ни каталожных ящиков, ни книг в помещении не было. Горела на столе лампа под зеленым стеклянным абажуром.
— Не робей, — велела крыса.
Я приблизилась и положила на стол книгу. Крыса взяла ее розовыми пальцами. Посмотрела обложку.
— Что это за газета? — спросила.
Я не знала и промолчала. Крыса понюхала обложку, поморщилась, пробормотала «ну нет», стащила обложку, скомкала и швырнула в урну. Книгу раскрыла, вырвала несколько листов и сожрала. И еще несколько листов. И еще. Пока не остался один картонный переплет. Крыса передохнула и сожрала его. Погладила розовой лапкой усы, посмотрела затуманившимися (от сытого удовольствия?) глазами и произнесла:
— Ну-с?
— Она хочет, чтобы там была старинная жизнь, — сказала я.
— Какой век?
— Девятнадцатый.
— До реформы?
— После. Лет через пять. Чтобы имение где-нибудь в Орловской губернии, большой сад, пруды, студент-репетитор, две хозяйские дочки, обе в студента влюблены, и он влюблен в обеих. И чтобы гроза была. И чтобы лил дождь и плыли на лодке.
Я выдохнула.
— Молодец. Хорошо излагаешь. Другие по бумажке не могут.
Крыса вынула из стола перо, чернильницу, стопку бумаги. Лампу придвинула так, чтобы круг света падал на лист. Задумалась, понюхала воздух. Обмакнула перо в чернильницу и принялась писать. Написала несколько ровных строк бисерным почерком и подняла на меня черные глаза.
— Ты ступай, детка, через неделю будет.
Через неделю я пришла. Под дверью томились уже двое, так что пришлось ждать очереди.
Крыса выдала мне книгу, ее только что привезли из типографии. И попросила передать бабушке, чтобы не оборачивала больше в «Пионерскую правду».
— «Известия» лучше.
Круги
Надо написать поэму про девять кругов рая.
Что будет в девятом?
Потерянная авторучка? Или паспорт? (Украден при странных обстоятельствах, см. заявление в милицию.)
Хорошо. Пусть. Круг потерянных вещей. Круг найденных вещей. Вновь обретенных. Тех, о которых зачем-то жалела. Украденные в школьной раздевалке сапоги. (Домой бежала в кедах, хорошо, что морозец был легкий.)
Недоуменно ходишь по этому кругу. Трогаешь вещи. Пьешь из когда-то разбитой чашки когда-то пролитый кофе. С пирожным, на которое когда-то недостало денег. Читаешь книгу, которую так и не вернули когда-то. (Японские народные сказки.)
Украденная десятка. (Из кармана в троллейбусе номер три, остановка у Большого театра, те еще времена.) Смешно.
Всё прах и суета, ходишь по первому кругу и смеешься.
Что будет в восьмом? Убитое тобой время? Да, целые залежи, они понадобятся тебе в седьмом. Здесь те места, которые ты видела только на открытках. Ты даже не мечтала в них попасть, и вот — пожалуйста, ходи и смотри (пока убитое тобой время всё не выйдет, пока времяметр не покажет ноль).
В шестом ты станешь машинистом, ты же мечтала, в пятом ты подберешь того котенка, в четвертом ты поймешь все языки мира, в третьем ты увидишь, как там без тебя на земле, во втором встретишь тех, о ком скучала, в первом забудешь всё.
Дым
Долго не мог уснуть, думал о том, как давно живет на свете, бестолково, невнятно, низачем, ни для чего. Ничего не узнал, ничего не понял, как будто вслепую жил, на ощупь. Открой глаза и посмотри, открой! Да поздно уже открывать, край вот он. Как ночь за окном, за тонким стеклом, глядит в комнату на тебя. Страшно.
Лежал с тяжестью на сердце, лежал, да и задремал, а проснулся отчего-то счастливый, легкий, спокойный. Ничего не раздражало, ни шаги за стеной, ни гудок машины, ни запах подгорелого лука. Встал, сделал зарядку, бегом под душ. Улыбался под душем. Вычистил зубы, выпил стакан простой воды, оделся и на работу. Вчера еще тошно было подумать об этой работе, а сегодня торопился, думал зачем-то, как войдет первым и отворит в комнате форточку. Толкнул нечаянно прохожего. Извинились оба, всполошились, не больно ли другому. Нет, все хорошо, спасибо, всего доброго, и вам, и вам.
Удивительное утро, благостное, ни одного злого взгляда или хотя бы хмурого. В метро уступают друг другу место. Носятся с забытым кем-то кошельком, волнуются. Не люди, ангелы. И в метро ангелы, и на работе. Начальник похвалил и выписал премию. Доносчик покаялся и был прощен. Обед в столовке дали вкуснейший, свежайший, порции громадные. Пожелали приятного аппетита.
Вечером после работы прошелся по центру, посидел в кафе. Ребенок расхныкался за соседним столиком, спел ему песенку, успокоил ребенка, умилил мамашу. Домой вернулся поздно, в прекрасном расположении духа, позвонил матери, проговорили часа полтора самым доверительным образом, все друг о друге понимая, жалея и прощая. Всплакнули оба, уговорились встретиться в выходные. Что-то еще хотелось сделать доброе. Вышел на площадку, думал, может, там надо где-нибудь гвоздь прибить или еще что поправить, но все было на площадке идеально. Чисто. И кошка сидела у батареи, а перед ней стояло блюдечко с молоком. Наклонился, погладил кошку и вернулся домой.
Уснул с легким сердцем, а проснулся как будто в угарном дыму, как прежде. Все вернулось на круги своя, увы и ах. Ученые (британские) установили, что накануне был выброс из очнувшегося вдруг вулкана и какое-то уникальное вещество оказалось в составе облака, рассеявшегося по всей земле. Вещество они окрестили добрым духом и не теряют надежды добыть или синтезировать.
Нина
Это была большая комната на втором этаже, мне она казалась кораблем, чем-то вроде Ноева ковчега. Все ее многочисленные окна смотрели на улицу Заморёнова. В архиве режиссера-документалиста Алексея Габриловича сохранилось письмо-воспоминание о том, как улица Заморёнова зарастала до войны травой. Машины по ней тогда не ездили. Был в письме и черно-белый снимок со смутно различимыми детскими лицами. По просьбе режиссера москвичи присылали письма-воспоминания о своем детстве, о безвозвратно ушедших временах, когда звенели в московских дворах, в центре и на окраинах, детские голоса, долго, до самой ночи. Голоса взрослых зазывали детей домой, ужинать и спать.
Комната-корабль разделена была на множество углов и отсеков шкафами и стеллажами. Особенно я любила уголок, в котором не было окон, он освещался громадной люстрой с хрустальными, затуманенными пылью подвесками, под люстрой стоял большой овальный стол под темной скатертью. Перегородками, высокими, до самого потолка, служили застекленные книжные шкафы и громадный, как дом, резной буфет с фотографией хозяйки в темно-коричневой рамке. Вокруг стола ровно стояли стулья с высокими узкими спинками, тоже резные, они напоминали готические соборы, силуэты их тонких башен. За овальным столом время от времени собирались и пили чай. Старинную посуду из буфета не вынимали, приносили простые кружки, они хранились в другом отсеке, название у которого было — веранда.
В комнате-корабле умещались библиотека, мемориальная комната (ее я только что описала) Изабеллы Германовны Эпштейн, рукописный отдел, кабинет (отсек) главного хранителя, отсек фонда Андрея Тарковского, несколько рабочих мест для лаборантов и веранда — веранда Михаила Ильича Ромма.
Англичанин сидел в выгородке за обыкновенными конторскими шкафами, в них, за вечно распахивающимися стеклянными дверцами, теснились справочники по кино, словари, энциклопедии, сценарии, сборник стихов Велимира Хлебникова, к которому англичанин любил обращаться иногда, чтобы погадать. Зажмуривал глаза, открывал и тыкал в страницу пальцем. «…Плеск небытия за гранью Веры / Отбросил зеркалом меня…» Чертовщина, а не стихи.
Он сидел во втором ряду от окна и был лишен дневного света, с утра до вечера горела на его столе настольная лампа, ее принесли в музей родственники покойного сценариста, никому, кроме узких специалистов, уже неизвестного; лампу в фонд не взяли, и она прижилась на столе англичанина.
В сентябре девяносто первого года ему исполнилось девятнадцать лет, день рождения отмечали торжественно, за столом под хрустальной люстрой, кто-то достал вино, кто-то добыл сосиски, а кто-то испек торт. Джон, так звали англичанина, с удовольствием ел и пил за свое здоровье. Его здесь любили. Так, как после не полюбили нигде.
В своем закутке он разбирал громадный архив почитаемого киноведами режиссера, по вечерам ходил смотреть фильмы в музейные кинозалы. Он вел что-то вроде дневника, где записывал значения русских слов, интересные разговоры, впечатления о людях и фильмах.
Изумительное было место, этот музей, где Джон проходил стажировку. Оно казалось правильным, единственно правильным. Как будто бы единственный в мире дом, где все еще грели батареи и лампы давали свет.
Что-то детское было в этом мире, радостное. Отсюда не хотелось уходить, по крайней мере, до поры до времени. Отчасти это был морок. Свет там светил, конечно, электрический, но сейчас, издали, он вспоминается крохотным язычком пламени, только стеклом укрытым от ветра, стеклянным колпаком; и мы все слетелись на этот свет, бабочки-однодневки. Стекло уже было с трещиной, вот-вот развалится, а другого такого стекла нет нигде, не производят; другое сюда не подойдет, пробовали, знаем. Свет — как в картинках Норштейна (в картинках Франчески). Такая радость — их смотреть, смотреть едва дыша, чтобы дыханием не сбить свет. Мы тогда готовили выставку этих картинок, эскизов и набросков, стеклянного мира, стеклянных ярусов, на которых видны картинки — на просвет. Выставка — выставление, открытие изнанки, швов, ниточек, дырочек, штопки, стеклянного детского мира. Да, да, все эти стекла, ярусы — из детских закопанных в земле секретов под стеклышком на серебряной фольге. Ах, нынешние дети и не знают, что это. И стоит ли объяснять?
Но я отвлеклась.
Незачем и писать про это. Про чаепития на веранде за странным, грубо вытесанным столом, про разнокалиберные чашки и их мытье. Сделал стол режиссер Ромм. В свободное от работы время, которого у него вдруг стало слишком много. Силы были, а работы не давали, вот и столярничал. Я так и вижу, как мы сидим за его тяжеленным столом, на его тяжеленных стульях (сколько колготок было порвано!). Ромма давно нет на свете, мы пьем чай, разговариваем, а земля за окном горит последними золотыми отсветами.
К тому дню, с которого я хочу начать свое повествование, да все никак не начну, к тому дню началась уже в городе зима. Снег таял от химикатов. В небе сгустилась серая мгла.
Джон сидел за столом и читал дневник, пытался разобрать почерк. Его замызганные уличные ботинки стояли у стены на газете, уже раскисшей от черной жижи. Англичанин сидел в стоптанных кроссовках без шнурков. Почерк, который он разбирал, был чудовищным. Джон переписывал дневник в чистую тетрадку, оставляя пробелы — неразгаданные слова. Пробелы, вопросы в кружочках, восклицательные знаки в кружочках же, — чтобы отличать авторские знаки от своих.
Он был поглощен работой и не заметил, как мимо его закутка кто-то прошел. Не заметил, но почувствовал запах. Запах встревожил, и Джон отвлекся от работы. С его места виден был стол главного хранителя — конторка со множеством ящичков, в том числе потайных. Стол был мемориальный, принадлежал когда-то актрисе Кузьминой. Над столом — горизонтально повешенное овальное зеркало, в него смотрелись когда-то давно то ли кинематографисты, то ли их предки. В музее в зеркало заглядывали сотрудники и посетители.
Англичанин, встревоженный запахом, приторным и терпким, поднял голову от пожелтевшей страницы и увидел в кресле возле стола главного хранителя молодую незнакомую женщину. Она сидела нога на ногу в высоких, почти до колена, облегающих сапогах, заляпанных московской грязью. В распахнутом черном пальто с роскошным, как будто посеребренным, воротником. Черные гладкие волосы незнакомки были подстрижены под каре.
Прямой нос, белое лицо, темно-красные губы, длинные, густо накрашенные, черные ресницы.
Джон быстро отвел глаза.
Он смотрел на витиеватый почерк, смотрел и ничего не мог разобрать.
— Как же мне у вас нравится, — произнесла незнакомка высоким радостным голосом.
Главный хранитель, интеллигентная, сдержанная женщина средних лет, худая и быстрая, отвечала негромким твердым голосом что-то вроде: я рада.
— Так чудесно, так стариной пахнет, — меж тем продолжала незнакомка, — как будто в другое измерение попадаешь, как будто время давно остановилось. Я вам завидую.
«Дура набитая, — так примерно подумал англичанин.
Причем подумал по-русски. — Измерение. Ха!»
Незнакомка же не унималась:
— Какое зеркало! Можно я в него посмотрю?
Англичанин прекрасно знал, что всякий, заглянувший в это зеркало, видел в нем не только себя, но и, на втором, разумеется, плане, закуток англичанина и его самого, в случае если он там сидел. Джон слышал, как сдвигается кресло (к слову, тоже из фонда, то ли Елена Кузьмина в нем сиживала, то ли еще кто; кресло было дамское, деревянное, обитое по сиденью и спинке мягкой красной кожей, и сдвигалось легко, так как было на колесиках, которые, впрочем, требовали чистки и смазки).
Джон слышал движение этого кресла, слышал шорох и возглас:
— Ах, старинное стекло!
Смотрел в пожелтевшую страницу и чувствовал, что уши его горят.
В этот вечер в музее давали «М» Фрица Ланга. Звуковой черно-белый фильм 1931 года про маньяка-убийцу.
Копия была старая, мерцающая, механики перепутали части, искушенная публика свистела, англичанин наслаждался. Он знал фильм наизусть. И пересматривал вновь в тесном четвертом зале. Всего в музее было тогда шесть залов, они носили имена великих кинематографистов: Чарли Чаплина (второй и самый большой зал), Марлен Дитрих (четвертый), имена прочих мной забыты.
Я тоже любила этот фильм и множество раз наблюдала, как возникает черная тень на афише о вознаграждении за поимку убийцы, как вор выкладывает из карманов одни краденые часы за другими, отворяет их крышки и ставит верное время. Синхронизирует. Наблюдала, как вертится воронка-спираль в витрине и затягивает взгляд; как сквозит, проглядывает лицо убийцы за тесным сплетением ветвей.
Он пьет коньяк, одну рюмку и другую, мгновенно опрокидывает в себя, чтобы забыться, чтобы не слышать. Белая печать, белая метка, буква М нашлепывается быстрой ладонью на неповоротливое драповое плечо убийцы. Дым висит в воздухе на совещании полицейских, и так же он висит на совещании воров. На этой сцене Джона душил кашель — у него была астма. Он уговаривал себя, что дым призрачный, и закрывал глаза, это помогало.
Оба совещания идут одновременно, и оба касаются черной тени, как бы нависшей над городом, над всеми ними. Мужчины дымят, думают, расставляют сети и ловушки; и он попадется, этот человек, чья тень больше, чем он сам. М бежит от нее, бежит, но что спасет от собственной тени, кроме смерти?
Фильм звуковой, но звуков в нем немного, каждый отчетлив, каждый недаром, каждый играет свою роль. М, убийца, насвистывает мелодию Грига, когда выходит на охоту (когда бежит от собственной тени). Инспектор Ломан, он тоже охотник, он тоже высвистывает добычу (или удачу). И воры, толпой, будут гнать М, загонять — свистом.
Охота, идет охота!
Дети выкрикивают считалку; считалку о том, как придет убийца и разрежет их на кусочки. Они как будто кличут его, М. Дети сами его зовут: приди и забери нас.
Когда-то мне пришло на ум, что М — это Крысолов, что он уводит из города детей, насвистывая Грига; уводит из города детей, наказывая за что-то взрослых его жителей, обывателей, полицейских и воров. Всех. Сейчас я думаю, что он и сам во власти этой мелодии. Это не он уводит детей, она уводит. Детей и его самого, он подчиняется звуку, он сам ребенок, ему отчего-то не дано стать взрослым, не дано или не дали, не отпустили. Тень его растет, а он нет. Он убийца и жертва, этот Крысолов, он страшен и жалок, и разделить это невозможно.
Едва ли не каждый человек отчасти М. Недаром на собрании воров многие согласно кивают во время его исповеди. Он говорит, как бежит сам от себя и не может убежать. Он говорит, они слушают и кивают.
Да, мы понимаем, о чем ты. Мы знаем.
М — это мы.
Англичанин ничего этого не думал, я полагаю. Он наслаждался старым, отлично сделанным (очень немецким, очень отлаженным, точно выверенным) фильмом, каждым его мгновением, хотя эти мгновения и были спутаны нетрезвым русским механиком (немецкий фильм в русской интерпретации).
В момент, когда мячик, очевидно, погибшего ребенка (момент убийства прямо не показан никогда) катится по траве, Джон услышал вскрик. Он обернулся, зная, кого увидит за спиной.
Черноволосая незнакомка сидела в заднем ряду, ее лицо белело в полумраке, она зажимала ладонью рот. Глаза блестели влажным блеском. Их взгляды встретились в мерцающем полумраке.
Она сломала ему кайф. Он уже не мог сосредоточиться, чувствовал ее присутствие за спиной. Она оттягивала внимание. Он уже не понимал, что там происходит, на экране, отчего вдруг так кричат эти люди.
Джон поднялся и, бормоча извинения, пробрался к выходу. Он шел пригнувшись, будто опасаясь выстрела.
В коридоре пахло сигаретным дымом. Джон торопливо прошел мимо площадки, на которой курили и говорили что-то о киноязыке, о крупном плане как ударе, что-то вроде этого. В буфете народу было мало, англичанин взял кофе и салат мимоза. Не знаю, помнит ли читатель этот салат или не пробовал никогда (да может ли такое быть?).
Музейным буфетом заведовала печальная худощавая женщина. Она любила англичанина; впрочем, как я уже говорила, его здесь все любили. Мимозы она ему наложила с верхом, в самую глубокую тарелку, отрезала два больших ломтя серого хлеба и налила целую кружку (из таких, наверное, едят суп) огненного кофе. Джон устроился за столик у стены, у входа в выставочный зал, так, чтобы видеть проходящих из коридора к лифту.
Он быстро проглотил салат с хлебом и вытянул громадные (46-й размер) ноги. Сидел и неторопливо пил кофе. Я так и вижу его круглое полудетское лицо, коротко остриженные вьющиеся волосы, темные, с проблеском рыжины, и карие внимательные глаза.
Уже пошел народ с фильма. Кто-то заворачивал к буфету, кто-то направлялся прямиком к лифту. Незнакомка все не появлялась. Может быть, отправилась на другой сеанс; в шестом зале в девять давали «Трон в крови» Акиры Куросавы. Кофе остыл, буфетчица погасила свет за стойкой, Джон отодвинул кружку и поднялся.
В киоске у метро он взял пиво, тут же выпил, постоял, наблюдая за редкими прохожими, и направился к себе.
Отчего-то не хочется упустить (пропустить) обычных, ничего не значащих его действий, а хочется, напротив, записать их со всем тщанием все, без исключений. Хотя только благодаря исключениям текст все же движется. Во всяком случае, по сюжетной канве.
Итак, англичанин выпил пиво и оставил бутылку возле урны. Спустился в подземный переход и перебрался на другую сторону Краснопресненской улицы. Повернул направо в строну Баррикадной. Все в музее завидовали, что он живет недалеко от работы, в пешей доступности.
Джон обогнул зоопарк и направился узким проулком вдоль его ограды. Было безлюдно в этот час и чем дальше, тем тише. Англичанин слышал свои шаги. Ночь стояла оттепельная, сырая, черный асфальт блестел в электрическом свете. Вдруг раздался вой. Джон замер. Он стоял в самом центре громадного города на тесной, кривой улице, уходящей то вниз, то вверх, то вправо, то влево, стоял и слушал звериный вой, дикий, одинокий. «Волк», — подумал англичанин.
Вой оборвался. Раздался еще какой-то вскрик, может быть птичий. Англичанин посмотрел на глухую стену зоопарка и направился дальше, стараясь ступать неслышно, как будто оказался вдруг в лесной чаще.
Джон жил в сером панельном доме, на четвертом этаже, куда всегда поднимался пешком. На площадке второго этажа, на подоконнике, стоял кем-то, наверное, выставленный из квартиры цветок с темными круглыми листьями. Джон не знал его названия. Кто-то поливал цветок время от времени, иногда и сам англичанин спускался с большой кружкой и неторопливо вливал воду, насыщая землю в коричневом обитом по краю горшке. Под подоконником жарила батарея, из щелей в оконной раме дуло, но цветок жил и как будто смотрел темными листьями.
Квартиру Джон нашел через музейных друзей, сдали ему охотно, как человеку абсолютно надежному. Старая квартира в старом доме в старом обжитом районе громадного и беспокойного города ему нравилась. Фотографии в рамках на потемневших стенах, тесные ряды книг на полках и тут же — расписные глиняные игрушки; рассохшийся паркетный пол, синий огонь газовой плиты, медная турка с деревянной ручкой. Были в квартире и настенные часы с маятником, но их англичанин не заводил, так как они звонили каждые четверть часа пугающим хрустальным звоном.
Как я уже упоминала, англичанин вел дневник, куда записывал впечатления дня и значения русских слов. Спустя пару десятков лет он будет перечитывать эту тетрадь (простая общая тетрадь в темно-коричневом коленкоровом переплете), перечитывать и удивляться тому, что все это, кажется, и в самом деле было.
Перед сном, в постели, он почитал книгу английского архитектора о городах. Речь в ней шла не о красотах и памятниках, а о соразмерности города человеку, о том, как чувствует себя в городе обыватель, об одиночестве и потерянности (с примерами из романов Достоевского, в частности), о разомкнутости городского пространства, о разрыве связей, о способах жизни в таких распавшихся городах.
Англичанин погасил свет и уснул. Окна он не завешивал, и город светил ему в лицо ночным светом.
Ему нравилось приходить в музей спозаранку, брать ключи внизу у вахтерши, расписываться в амбарной книге, подниматься по светлым каменным ступеням, открывать застекленные двери, проходить теплым узким коридором, зажигать везде свет и садиться за работу.
Люди появлялись, заглядывали к нему в закуток, здоровались, звали пить чай на веранду Ромма, заводили разговоры о книгах, о фильмах, о житейском. Ему все это было интересно и странно. Ему казалось, что здесь, в этом именно месте, что-то такое знают о жизни или чувствуют о ней какую-то правду, отчего-то, по какой-то причине, в других местах неизвестную, как будто в других местах люди становились к ней нечувствительными. Разумеется, он заблуждался. И сам понимал, что заблуждается.
В это утро все шло обычным путем, пока на веранду не заглянула главный хранитель и не сказала, что звонила вчерашняя экзальтированная посетительница насчет архива своей приятельницы. Приятельница — оператор, живет в Доме ветеранов в Матвеевском и готова передать архив прямо сегодня.
— Разумеется, нужен человек из музея, — сказала хранитель Джону. — И Нина, так ее зовут, попросила приехать именно вас. Не спешите, мой друг, допейте чай, успеете.
Но Джон допивать чай не стал и заторопился подняться из-за стола.
— Ты там поосторожнее с дамочкой, — заметил кто-то, — дамочка та еще, по всему видно.
До Матвеевского он ехал на электричке от Киевского вокзала.
В вагон не пошел, остался в тамбуре. Он видел сонно сидящих в освещенном вагоне людей. Ему казалось, что поезд идет и приближает его к чему-то огромному. Огромному и, вероятно, не совсем желательному. Но уже не во власти Джона остановить это приближение. Не в его силах.
От станции он пешком прошел по заснеженной обочине грязной дороги к Дому ветеранов. Показал музейное удостоверение на входе, сказал, что его ждут в такой-то комнате.
— Да-да, — ему отвечали.
Дом был большой, тихий, с широкими безлюдными коридорами, застеленными мягкими коврами, по которым люди проходили беззвучно, как призраки.
Бесшумный лифт поднял Джона на третий этаж. Англичанин прошел по мягкому коридору. Женщина провезла тележку с кастрюлькой, тарелкой и выглядывающим из-под салфетки хлебом. Джон отыскал нужный номер и постучал.
— Открыто, — сердито крикнули из-за двери. И он вошел.
В комнате был спертый, затхлый воздух. Окно зашторено, горел электрический свет. На полу стопками лежали книги, вынутые, очевидно, из старого книжного шкафчика, он был распахнут и уже наполовину опустошен. Крупная, средних лет, тетка в брюках и свитере с закатанными рукавами, перелистывала положенную на круглый стол книгу. Увидев вошедшего, она книгу мгновенно захлопнула и спросила:
— Вы тут кто?
— Я? Я из музея. Я должен был.
— Вы к кому? Кто вам нужен?
— К Елизавете Трофимовне.
— Ее нет.
— Мы договаривались. То есть не я, но со мной.
— Договаривались, но ее нет, все, умерла сегодня ночью, отмучилась. Что вы стоите? Что ждете? Уходите.
— Я. Да. Простите. А вы…
— Я наследница.
— Дело в том. Меня послали. Я должен. Елизавета Трофимовна обещала нам документы. В музей.
— Вы иностранец?
— Да.
— Я так и думала. Я, молодой человек, не Лизавета Трофимовна, я вам ничего не обещала. Она уже не соображала, что обещает, а вы и рады. Всю Россию растащить готовы.
— Я же не себе.
— Вы мне мешаете!
— Да. Извините.
Он отступил в коридор и прикрыл за собой дверь. Постоял и направился к лифтам.
В простенках между дверями комнат висели живописные работы, скудно освещенные. Время от времени англичанин останавливался и всматривался в какой-нибудь пейзаж. Всё были леса да поля, иногда поезд на горизонте или огонек в окне дальнего дома, или излучина реки с отражением лунной дорожки.
Джон спустился на первый этаж и направился к выходу.
— До свидания, — сказал вахтерше. Но ответа не получил.
Он вышел на крыльцо под серо-синее оттепельное небо и вдруг услышал:
— Джон.
Обернулся и увидел ее. Он уже знал ее имя — Нина, но почему-то не смог его произнести. Приблизился и сказал:
— Здравствуйте.
Она стояла на пробитой в снегу тропинке и курила очень, как ему показалось, длинную белую сигарету. И жесты ее, и голос казались одновременно и манерными, и естественными. И вновь от нее пахло этими духами. Очень, очень сладкими. Впрочем, на холоде запах казался приятным. А может быть, это были не духи, а сигаретный дым, который он старался не вдыхать.
— Я вас тут поджидаю. Вы меня опередили. Что там?
— Она умерла.
— Да, я знаю. Ночью. Тут же примчалась дочь. Живую-то мать ей недосуг было навещать, раз, может быть, в неделю позвонит, и то спасибо. Что она там делает?
— Книги смотрит.
— А, ну понятно, думает, что мать где-нибудь там денежку заложила между страниц, желаю ей удачи и всяческого удовольствия. Пойдемте.
Она отбросила в снег окурок с отпечатанным алым следом своих губ и направилась по тропинке вглубь окружавшего Дом ветеранов громадного соснового парка.
Она шла и не оборачивалась. Англичанин шел следом, глядя в узкую черную драповую спину. Белка прыгнула на тропинку и взлетела на сосну. Обрушился с ветки пласт снега. Тропинка повернула к зданию, к балконам первого этажа. Да, здесь и на первом этаже были балконы, более, впрочем, походившие на небольшие террасы.
Нина остановилась перед одним из балконов, взялась за перила, подтянулась и ловко перемахнула через них.
— Давайте, — сказала Джону, — не стесняйтесь, я здесь живу.
Джон изумленно посмотрел на нее и ухватился за перила.
В комнате, куда они прошли через незапертую балконную дверь, стояла вдоль стены койка, у стены напротив — небольшой письменный стол. Пара стульев. Тумбочка у изголовья кровати. Несколько крючков для одежды у входной двери.
— Раздевайся, — сказал она, расстегивая пальто. — Давай на «ты». Хорошо?
— Да.
Она сняла пальто и повесила на крючок. И повторила:
— Раздевайся. Здесь тепло.
Он снял куртку и повесил на крючок рядом с ее пальто.
— Но зачем вы меня позвали, раз она умерла?
— Ты?
— Ты.
— Я надеялась тебя сразу перехватить, но проспала, здесь так сладко спать, ты не представляешь, я отворяю балкон на ночь. Морозный воздух. Дороги не слышно. Часов у меня нет, тем более будильника, живу как придется. Бог мой, да что ты стоишь, Джон? Проходи. Садись. Мебель казенная навевает уныние, но ты не унывай, включай лампу и будет веселее. Видишь конверт на столе? Открывай, это для тебя. Нет, это невыносимо. Джон, ты меня слышишь?
Джон пробормотал:
— Да, конечно.
Он сел за стол и включил лампу. При ее свете в углах комнаты сгустились тени. Она забралась с ногами на скрипнувшую кровать и смотрела оттуда. Он вынул из большого конверта бумаги.
Командировочное удостоверение оператора за 1943 год — на Западный фронт. Бумага окислена, потерта на сгибах, неровный край. Мосфильмовское удостоверение. Красная корочка, черно-белая фотография. Запись чернилами. Письмо в простом конверте. Адрес отправителя: «г. Голубин, ул. Акимова, д. 3». Лист из тетради в линейку:
«Липа, у нас с Любашей все в порядке, цветочек в углу, это она тебе нарисовала. Сейчас идем гулять и есть мороженое. Ни о чем не волнуйся. Гриша».
— Гриша — это ее муж. А Любаша — это наша сегодняшняя героиня, которая ищет в книгах дензнаки, а не знания, как ей в школе долбили.
— Откуда это у вас?
— У тебя.
— У тебя.
— Липа, Лизавета Трофимовна, самолично из рук в руки передала.
— Есть ли, может быть, какая-то бумага, удостоверяющая…
— Бумаги нет.
— В таком случае я, к сожалению, не могу это взять. Должен быть документ. Я должен составить акт.
— Составляй.
— Но кто его подпишет?
— Я.
— Вы не можете.
— Ты.
— Ты. Ваша подпись не имеет силы.
— Твоя.
— Твоя.
— Но Липа мне передала. А я в музей. Ведь хороший оператор. След в истории.
— Невозможно. Только наследница может передать.
— Наследницы пока нет, только через полгода Любаша вступит в права. И ни за что не отдаст в музей ни клочочка. Хотя все эти бумажки ей даром не нужны. Шелуха. Мусор. Но ежели этот мусор хоть кому понадобится, ни за что не выпустит, мало ли.
— Я спишу содержание?
— Спиши. Бумага в столе, и ручка там же. Пиши. Шурши.
Пока он писал-шуршал, она уснула.
Он закончил. Бережно сложил документы в большой конверт, смущенно поглядывая на ее спящее, спокойное лицо. На темные сомкнутые ресницы, на алые и точно влажные губы. Сладкий запах исходил от нее, как от иного цветка в вечереющем саду.
Он надеялся тихо одеться и уйти. Но, едва поднялся, она открыла глаза и пробормотала:
— Свет.
— Что?
— Убери.
Он тут же погасил лампу.
В комнате стояли сумерки, за рамой окна бледным светом светился снег, стволы близких сосен казались черными. Нина смотрела на него из полутьмы.
— Я пойду?
Она молчала. Ее рука белела на сером покрывале. Джон подошел и опустился на колени перед кроватью. Она подняла руку, провела пальцами по его щеке, по губам.
— На тебе много одежды, — сказала.
— Зима, — отвечал он.
Она быстро с себя стянула черный свитер. Ни майки, ни бюстгальтера на ней не оказалось. Он смотрел на белые ее небольшие груди с темными сосками. Она легла, расстегнула узкие черные джинсы. И выбралась из них, как, наверное, змея выбирается из старой кожи. Посмотрела на него снизу вверх.
— Не мог бы ты, милый, тоже раздеться?
Он рванул с себя свитер. Рубашка долго не расстегивалась. Она не спускала с него глаз. Он расстегнул ремень, потянул вниз молнию. Нина отодвинулась к стене. Он забрался к ней и лег рядом. Сердце колотилось.
— Если ты не поцелуешь меня, я заору. Нет, не в рот. Вот сюда целуй. Да. Сладкий. А я тебя — здесь. Да? Да? Руку, дай руку. Вот сюда! Сильнее. Я так хочу. Да-а-а.
Он задремал, но она растолкала его.
— Вставай. Пойдем.
— Куда?
— Ужинать. Иди в душ, я уже готова.
Столовая в Доме ветеранов была огромной. От панорамных окон дуло, еда почти мгновенно остывала. Джон набрал себе целый поднос. И суп, и второе (двойная порция), и салат (тоже двойная порция), и хлеба пять ломтей. Джон мазал хлеб горчицей, она стояла на каждом столе в стеклянной посудине.
— Ну ты здоров жрать, — посмеивалась Нина, жуя капустный салатик, пальцами выбирая из тарелки капустные обрезки. — Это хорошо, не тушуйся, это нормально.
Она сидела прямо, откинувшись на спинку стула.
Народу в просторном зале было совсем мало. Пахло пережаренным луком.
— Когда-то, — сказала она, рассеянно оглядывая зал, — здесь сиживали великие люди. Жили здесь по нескольку месяцев, работали, писали сценарии, вдалеке и в тишине. И готовили здесь прекрасно, не то что сейчас.
— Откуда вы знаете?
— Ты.
— Ты.
— Старики рассказывают. Я слушаю. Старики здесь навечно, хотя и ненадолго. Отдают квартиры государству, а государство обеспечивает им здесь уход. Или Союз кинематографистов, не знаю точно. Разрешают брать кой-какую мебель из дома. Частицу родных стен. Это хорошо. Больше всего мне нравится, что они здесь все вместе, старики и те, кто еще в силе. Друг перед другом. Временные и вечные.
Он уже доел. Он всегда ел очень быстро.
— Интересно, что это за город, из которого они ей писали. Го-лу-бин. Ты не заметил адрес на конверте?
— Я заметил. Я списал. Город Голубин, улица Акимова, дом 3.
— Молодец. Значит, мы не собьемся с пути. Мы туда поедем, прямо сейчас. Это должно быть недалеко, часов восемь. Я очень хочу посмотреть этот город. Пойдем. Не будем терять время.
И она поднялась из-за стола.
— Подожди. — Он тоже поспешил подняться. — Мне утром надо быть на работе.
— Пропустишь, невелика беда.
— Я не могу. Я и так сегодня.
— Послушай. Посмотри на меня.
— Я смотрю. И слушаю.
— Милый английский мальчик. Мы же не просто так поедем, мы на родину Липы поедем. Найдем ее родных, одноклассников, разузнаем о ее детстве. Запишешь, опубликуешь. В Голубине у Липы мать жила, к ней Любашу и сплавляли каждое лето, когда одну, когда с родителем, Липа-то вечно на съемках, в экспедициях.
— Я должен предупредить.
— Пошлем телеграмму. Прямо сейчас. Здесь есть почтовое отделение. Или на вокзале. Прямо так и напишем: в музей кино, главному хранителю.
На платформе долго дожидались, пока откроют в вагонах двери. Чернели лужи.
— А ведь мороз, — говорила Нина.
Они стояли в отдалении от толпы. Нина курила свою длинную сигарету. Кожаная сумка на длинном ремне висела у нее на плече. Джон сумок не носил, все расталкивал по карманам.
За дверью наконец зажегся свет, толпа сплотилась, подалась назад, повинуясь выступившей из вагона на платформу проводнице.
— Ты вот что, — тихо сказала Нина, — ты молчи, не говори ничего ни с кем. Я всем объясню, что у тебя горло болит, пропал голос.
— Зачем?
— По разговору сразу ясно, что ты иностранец, такой приятный акцент. Народ это напрягает, нам это не нужно.
Они дождались, пока вся толпа просочится в вагон, пока они там, за освещенными окнами, отыщут свои места, растолкают багаж, рассядутся по местам и кое-кто уже примется пить чай. Тогда только подошли к проводнице и предъявили билеты. И, едва они нашли свое отделение и сели на свободный край сиденья, поезд тронулся, медленно и плавно, как будто бы не по-настоящему.
Поезд разогнался, проводница прошла и собрала билеты, люди стали укладываться спать. У Джона от духоты, от мерного хода поезда слипались глаза, и Нина приказала ему немедленно забираться наверх. Он тут же расшнуровал и скинул ботинки и влез на вторую полку, ударившись о багажную.
— Ты живой? — спросила Нина.
Джон молчал, раз уж она просила не подавать голос.
Он лег. Со своего места он видел сидевших напротив Нины мужчину и женщину, они таращились на нее, и Джон подумал, что большей иностранкой, чем она, не может быть никто. Жар-птица. Огонь. Черно-белый с алым всполохом губ. Подумал так и уснул.
Джон проснулся, не помня, где он.
Что за стена, почему так душно, что стучит и отчего невозможно повернуться, как будто он в склепе? И что за голос внизу?
— Будешь?
Мужской голос.
— Каплю, милый.
Нина.
Джон мгновенно вспомнил, что он в поезде, едет в какой-то неведомый Голубин, а телеграмму так и не дал. Он осторожно заглянул вниз. Мужчина и Нина сидели за столиком у окна, друг против друга. Поезд покачивало. Бутылка, стаканы, хлеб и обрезки колбасы на столешнице. На одном стакане, на крае, — алый след. Оба смотрят в окно. Темный квадрат. Всполохи. Мужчина и Нина молчат.
— Покурим? — вдруг говорит мужчина.
Нина не отвечает, смотрит задумчиво в окно.
— А я покурю.
Мужчина поднимается и оказывается лицом к лицу с Джоном. Небритый, пахнет перегаром. Глаза темные, усталые. Смотрит на Джона и уходит. Нина вдруг отворачивается от окна. И ложится. Укрывается казенным одеялом. Джон еще некоторое время смотрит вниз, на черную ее макушку, и отворачивается к стене.
Их разбудила проводница. Они торопливо умылись в грохочущем туалете, оделись, попрощались с попутчиками. Ночного собеседника Нины уже не было, наверное, сошел ночью.
В тамбуре у двери стояла проводница. Поезд сбросил ход, станция приближалась. Стекло в двери запотело, и ничего за ним невозможно было разглядеть.
Они сошли, из дальнего хвостового вагона сошла женщина. Они наблюдали, как она переходит пути, поглядывая то вправо, то влево. Вдалеке стоял товарный: цистерны, вагоны, деревянные или железные, открытые платформы. Шел тепловоз, светофор светился в утреннем полумраке, как раскаленный уголек в печи.
Их поезд тронулся, они почувствовали и обернулись. Он шел тихо, плавно, один вагон, другой; за окошками горел свет, теплый, душный. Поезд набирал ход, лязгал. Они смотрели, а поезд шел и прошел, все стихло.
— Ты ничего не забыл? — спросила Нина.
— Я? Нет. Вроде бы нет. — Джон проверил, на месте ли бумажник.
— Ты не должен разговаривать.
— Если ты хочешь.
— И даже со мной.
Почтовый киоск, вокзал, низкое зимнее небо.
— Мы обязаны, — сказала Нина, — как и все приезжие люди, войти в город через вокзал. Вокзал — это вроде как пропускной пункт. Что-то вроде чистилища. Его нельзя обойти, невозможно.
Разумеется, Джон отметил про себя, что небольшой вокзал можно обойти и сразу попасть на привокзальную площадь, но вслух не произнес ничего.
Нина шла по платформе, тонкая, высокая, подняв на ходу воротник длинного темно-серого пальто. На черных ее гладких волосах мерцали снежинки. Англичанин был в теплой куртке и трикотажной шапочке, на детских его щеках золотилась щетина. Они шли быстро, большими шагами. По платформе, по деревянному настилу, по перрону, — к вокзалу, к тяжелым его, основательным дверям.
Джон открыл дверь и пропустил Нину вперед.
Кафельный пол, широкие сиденья из гнутой фанеры. Сонно. Ожидающих немного. Женщина, наклонившись, ведет за руку ребенка и что-то ему мурлычет, воркует над ним. Вытянув ноги, откинувшись на покатую спинку, спит солдат. Нина стоит, оглядывает этот мирок, расширившимися ноздрями вдыхает спертый воздух. Старик смотрит на нее снизу вверх, зубов у него, очевидно, нет, щеки провалились. Нина тоже смотрит на старика, строго, без улыбки. И, не оборачиваясь, направляется через зал к выходу в город. Джон идет следом.
На привокзальной площади стоит и пыхтит автобус. В него взбираются пассажиры. Нина направляется к автобусу, Джон за ней. Они взбираются последними. Джон протягивает водителю сотенную. Прячет в карман сдачу.
Есть свободное сиденье. Нина садится у окна, Джон пристраивается рядом.
Автобус едет, окно туманится, Нина протирает стекло ладонью. Видна улица, серые пятиэтажные дома, ледяная горка, с которой катится пустая легкая картонка. Вдруг Нина приподнимается и говорит Джону:
— Разреши.
Он встает и пропускает ее. Он решает, что Нина надумала выходить. Но Нина подсаживается к какой-то пухлой тетке и заводит с ней разговор. Джон стоит в проходе, держась за поручень, и слушает.
— Здравствуйте, извините, пожалуйста, вы не подскажете, как нам добраться до улицы Акимова?
— Акимова? — переспрашивает тетка. — Да вот ведь она, мы по ней прямо едем. Самая длинная улица в городе.
Пятиэтажки, снег, прохожий идет по узкому обледенелому тротуару, как канатоходец, держит равновесие. С другой стороны — железнодорожные пути, за ними тоже пятиэтажки. Тетка выбивает в снегу половик.
— Одноэтажных домов совсем не осталось, — говорит Нина.
— На Акимова? Нет, не осталось.
Автобус поворачивает, едет мимо парка, вдоль заводской стены. Вновь поворачивает.
— Рынок, — говорит тетка, — мне выходить.
Нина поднимается. Идет за теткой к выходу. Джон следует за ней.
Водонапорная башня с часами, старые приземистые дома, круто бегущая вниз улочка, очевидно, к рынку.
«Очень хочется есть», — думает по-русски Джон, но не произносит.
Нина оглядывается, смотрит на Джона и поправляет ему воротник куртки. И говорит:
— Есть хочется. Давай на рынке возьмем что-нибудь, а то здешний какой-нибудь ресторан заранее вызывает у меня тоску. Я все в нем знаю заранее. Я вообще здесь все знаю. Хоть и не была никогда. На рынке мы с тобой возьмем соленого сала, попросим нарезать потоньше, соленых огурцов возьмем, хлеба. Что еще? Семечек каленых для развлечения. И поедем назад на станцию. Там где-нибудь на привокзальной площади есть забегаловка, мы возьмем чай, — омерзительный, предупреждаю, — устроимся за дальним столиком. Кто-нибудь к нам подсядет с бутылкой водки, но мы откажемся, здесь нельзя пить, затоскуешь. Поедим и пойдем брать билеты на Москву. Как только сойдем в Москве на платформу, можешь считать себя свободным от обязательств, можешь разговаривать, можешь ехать на свою работу, а пока молчи.
В Москву они приехали в одиннадцать тридцать, по расписанию, прошли в толпе к метро. У входа Нина остановилась, обняла Джона и поцеловала в губы. Все теми же сладкими духами пахло от нее. Или это был запах ее сигарет, которые она много курила на обратном пути, уходя в тамбур.
Она отстранилась от Джона и направилась к машине, возле которой стоял шофер и зазывал прохожих:
— Такси, такси.
Джон все ждал, что она появится. Придет запросто к ним в фонды или на сеанс. Или, может быть, подойдет к нему на улице. Но вот день прошел и второй, а ее не было.
Утром в субботу Джон поехал в Матвеевское. На самой первой пятичасовой электричке. До Киевского вокзала он шел пешком по темному, почти безлюдному городу. На Бородинском мосту остановился. Смотрел на темную незамерзшую воду, на белую башню вокзала. Подумал, что Нина могла бы вот так стоять и смотреть. Натянул шапку поглубже и отправился дальше.
Он прошел в ворота Дома ветеранов и сразу свернул на тропинку в парк. Пробрался под соснами вдоль спящего здания и остановился у ее балкона. Дятел простучал. Джон ухватился за перила, подтянулся и перемахнул на балкон.
В комнате было темно. Балконная дверь закрыта. Джон постучал в раму костяшками пальцев. Ничего за стеклом не разглядел, не расслышал. На балконе стояло несколько бутылок из-под шампанского, они примерзли к бетонному полу, стоял пустой посылочный ящик со снятой крышкой, из крышки торчали гвоздики. Джон перевернул ее и прочел: «Мо…»
Москва или, может быть, Молдавская, не разберешь, все размыто, все как сквозь неподходящие очки. Джон положил крышку, как и лежала, остриями гвоздей вверх. Вынул из кармана ручку, блокнот, начертил на тонком листе жирную букву М, вырвал листок и затолкал край в узкую щель между рамой и стеклом, так что листок распластался по стеклу, буквой М глядя в темную комнату.
Джон облокотился о перила. По парку скользила на лыжах женщина. Джон подождал, пока она скроется за стволами сосен, и перемахнул с балкона на дорожку. Оглянулся на темное окно.
«М» давали часто, то в ретроспективе Фрица Ланга, то в программе истории немецкого кино. В аннотациях писали о Гитлере и фашизме, об одиночестве человека в большом городе, об иррациональности зла. Публика на Ланга ходила охотно. Аншлагов, правда, не случалось. Ломились всегда и неизменно на сказочное и утешительное «Небо над Берлином» Вендерса. Но англичанин любил нераскрашенный, холодный нуар. К тому же он надеялся, что Нина придет на назначенное им свидание.
За двадцать минут до начала он уже был в зале. Сидел на первом ряду старик и читал в полумраке газету, низко склоняясь к листу. Джон устроился в дальнем ряду небольшого, впрочем, зала. Он наблюдал за входом и ждал.
Нина вошла за несколько минут до начала (но начали, как почти всегда, позже объявленного в программе времени, и картинка поначалу была нечеткой, размытой, как буквы на крышке посылочного ящика; пока наконец кто-то не сходил в будку к механикам). Нина, едва вошла, увидела Джона, но посмотрела так строго, что он не рискнул встать и подойти и даже помахать рукой не рискнул. Она села в середине зала. Джон видел ее черную гладкую макушку, пока не погас свет.
Уже разошлись зрители после сеанса, она все сидела, и Джон сидел и смотрел на нее. Она сидела опустив голову. Задумалась? Плачет? Молится? Спит? Джон поднялся, прошел по проходу к ее ряду, пробрался к ней и сел возле. Она не изменила позы, не произнесла ни звука.
— У меня дома, — сказал Джон, — в холодильнике, кусок ветчины. Купил на рынке. Вчера.
— А хлеб у тебя есть? — Она подняла голову и смотрела на него как будто светящимися темным светом глазами.
— Есть.
— И масло?
— Есть.
— И пиво?
— Чешское.
— Ты обо всем позаботился.
— Я купил торт. Вафельный.
Они вышли из музея и направились к круглому зданию метро, от него повернули к переходу. В сыром подземном туннеле Джон взял ее за руку. Она переплела его пальцы со своими. Так они вышли к зоопарку.
— Какой ты большой. А шаг у тебя мягкий. Ты смотри под ноги, а не на меня. Скользко. Что я буду делать, если ты грохнешься? Я тебя не подниму.
Они шли вдоль стены зоопарка.
— Почему ты замедлил шаг? Ты насторожился, ты боишься? Думаешь, на нас нападут? Здесь опасно?
— Здесь зоопарк, за стеной, там дикие звери.
— Они в клетках.
— Недавно я слышал волка. Он выл.
Она остановилась.
— Здесь?
— Да. Примерно. Я.
— Молчи.
Они стояли на маленькой улице и смотрели на стену. Нина с силой сжимала руку Джона.
— Молчит. Знает, что мы тут, чувствует. Как он выл?
— Ну так.
— Как? Покажи.
— Завыть?
— Да. Как он.
Джон молчал.
— Ну.
— Нет. Я не могу.
— Это потому что ты англичанин.
— Наверное.
— А я могу.
Она отпустила его руку, подняла голову к небу и завыла. Чья-то тень шарахнулась от них на другую сторону улицы, во дворы. Джон стоял ошалело. Бросился к ней, схватил, зажал ладонью рот, она мотала головой, вырывалась, укусила его за большой палец, но смолкла. Он отпустил ее. Она заплакала. Он подступил, обнял, поцеловал в черную маковку.
Он проснулся под утро, ее не было рядом. Он встал и прошел на кухню, она сидела за маленьким столом и курила тонкую сигарету. В темноте светился красный огонек. Он сел напротив. Закашлялся.
— Извини. — Она погасила окурок в серебряной фольге от шоколада «Слава». — Форточка открыта, сейчас вытянет.
Молчали в полутьме.
— Ты знаешь, — она вдруг сказала. — Я живу вечно. Во всяком случае, очень давно. Я люблю стариков, нам есть что вспомнить.
Джон молчал.
— Время от времени я переезжаю. На другую квартиру. В другой город. Чтоб не пугать людей. Они стареют, а я нет. Я вижу, как жухнут их лица. Я провожаю их туда, куда мне путь заказан. Я скоро уеду, Джон. Не ищи меня.
— Где ты родилась?
— Не помню. Слишком давно. Древняя Иудея? Александрия? Багдад?
— Но… Документы у тебя есть?
— Бедный недоверчивый англичанин. Конечно, есть. Документы всегда можно устроить.
Разумеется, он не верил. Она не настаивала.
Через много лет Джон вернется в Россию. Ненадолго, по служебным делам, далеким от кино. Город изменится, Джон не будет узнавать старые места.
Иногда ему казалось, что он вот-вот увидит Нину. Нисколько не постаревшей, вечной, как она и обещала. Он даже сходил на «М», правда, не в музей, его больше не было на прежнем месте.
Три дня
Не болел, не гадал, проснулся и понял, что осталось ему три дня, всё решено и подписано, не им.
Как провести свои последние дни на этом свете, Михаил не задумывался, настроение было тихое, всё и всех было жаль, себя — немного. На работу он не поехал, позвонил и попросил три дня без содержания. Начальница как-то вдруг растерялась и согласилась. Что-то, видимо, почувствовала в его голосе, какую-то непривычную благость, смирение. Обычно в просьбах подобного рода она отказывала. Так что он получил свои три дня. Впрочем, в случае отказа Михаил бы все равно считал себя от службы свободным, но ему не хотелось в эти последние дни нарушать правила, портить с кем-либо отношения, сердиться не хотелось, обижаться, а хотелось быть тихим, чутким и свободным. Люди это его состояние чувствовали.
С женой он был мил за завтраком и сказал, что вымоет посуду. Она удивилась и растерялась, не мытью посуды собственно, не тому, что он вдруг не спешил на работу, а благостности его, миролюбию и жалостливости. В растерянности поцеловала его в прихожей и ушла. Он вымыл посуду, протер полы, укрепил расшатавшуюся в столе ножку, перебрал документы и сложил аккуратно, лишние изорвал и выкинул, взял из кладовки велосипед, выкатил из квартиры и позвонил в дверь соседям. Поздоровался с бабкой Сергеевой и сказал, чтобы передала велосипед внуку Лёшке. И перенес звякнувший велосипед им в прихожую. Бабка оторопела. Затем Михаил вернулся домой, заварил чай, сел за компьютер и, попивая из большой кружки чай, принялся писать письма всем родным и знакомым. Писал о пустяках, о погоде, о том, что рябина за окном подросла, о том, что солнце просвечивает сквозь облако, о том, что идет прохожий и несет на руках мелкую собачонку.
Покончив с письмами, Михаил оделся и вышел на улицу. Помог медлительной старушке перейти дорогу. Прогулялся по парку, нашел чьи-то уже проржавевшие ключи и повесил на виду, на ветку, покатался на скрипучих качелях, набрал желтых только что опавших листьев, принес домой и поставил в кружку, жена вечером похвалила и спросила, не натворил ли он чего.
— Нет. Я завтра съезжу к брату в Пушкино, отвезу ему ботинки, мне маловаты, а ему подойдут.
— Новые ботинки.
— Маловаты.
— Растянуть можно. Шесть тысяч платили. А тебе ходить не в чем будет зимой.
— Не волнуйся.
— Я не волнуюсь. Я только думаю, что он их пропьет. Бедная жена, бедный брат, как их оставить? Он как будто уже стоял на корабле, его ждала дорога, светлая страна, а они оставались в низине, в потемках. Он потянулся к жене и обнял, прижал к себе крепко-крепко.
Прошел второй день, прошел третий, в ночь Михаил уснул спокойно, под утро проснулся и понял, что ничего не будет, там перерешили и предстоит еще жить бог весть сколько и бог весть как.
Он лежал и хмуро смотрел в сумеречную стену. Хотелось курить.
Дети
1
В 1932 году радиоинженер Рябушкин Иван Гаврилович соорудил для своей парализованной дочери Ирины кресло; о нем была статья в «Красной нови» за июнь, там же разместили фотографию.
Кресло было похоже на машину с ручным управлением. Даже одной рукой девочка могла ее завести, направить вперед или назад, повернуть, остановить, предупредить о своем приближении сигналом, поднять или опустить крышу. Сиденье обогревалось, могло подниматься и опускаться, при необходимости в нем открывалось что-то вроде слива, и девочка могла сходить в туалет прямо в кресле, самостоятельно; кроме того, работали мощный радиоприемник и передатчик. Так что отец более или менее спокойно отпускал ребенка на прогулки, они переговаривались по радио.
Ира по большей части молчала, она связывалась с отцом в случае крайней нужды, если, к примеру, кресло застревало в колее, или заезжало в болото, или трактор вдруг преграждал дорогу, и тогда отец спешил на выручку. Ира откликалась на его вопросы (односложно), но вопросы должны были быть конкретными (где ты? когда будешь дома? будешь на обед омлет? поедешь к морю, через неделю у меня отпуск?). К морю они тогда съездили, отец на американской машине «Форд», а девочка на своем кресле, — отец его усовершенствовал для длительного путешествия. Кресло раскладывалось и давало возможность девочке спать лежа. Можно было вымыться, не выходя наружу. И тут же обсохнуть в подогретом, насыщенном кислородом воздухе.
Здоровье девочки, как и предсказывали врачи, ухудшалось, и отец изобретал все новые и новые приспособления, позволявшие терявшей зрение и слух Ирочке видеть, слышать, понимать, не чувствовать боль, передвигаться. Уметь даже больше, чем дано обыкновенному здоровому человеку. Можно сказать, кресло-машина стало ее серебряным панцирем (машина была гладкой, обтекаемой, как пуля, серебристого цвета), и даже не панцирем, а плотью, из которой ей и выбираться не стало нужды, настолько все оказалось в конце концов предусмотрено. Машина сама производила пишу и воду, подавала очищенный воздух, освобождалась от отходов, сама себя ремонтировала (что-то вроде регенерации).
Настал момент, когда отец уже и не знал, а есть ли там, внутри машины, живая плоть; дочь ли отвечает ему тихим, ровным голосом по радио. О чем она думает и думает ли, он не знал никогда. Он помнил ее живое тело, но увидеть его вновь, раскрыть металлический панцирь и посмотреть уже не представлялось возможным. Такое вмешательство означало бы верную гибель девочки.
Отец был счастлив, насколько возможно. Он мог умирать спокойно: Ира уже не пропадет без него. (Она была поздним ребенком, нежданным. Мать бросила ее трех месяцев от роду, сбежала в родительский дом в Москву; о ее дальнейшей судьбе инженеру ничего не было известно.)
Иван Гаврилович жил со своей дочерью на Урале, в доме при заводе; возле дома стоял сарай, в котором инженер организовал свою мастерскую; ничем он в ней не был занят, кроме как усовершенствованием кресла-машины, оно стало походить в конце концов на инопланетный корабль, и, надо сказать, оно и вправду могло улететь в космос, и улетало, и возвращалось, только никто уже не печатал об этом в газетах.
Инженер больше всего любил вспоминать из их с Ирочкой жизни поездку к морю в 1935 году. Ирочка на своей машине ходила по дну, всплывала, подлетала к отцу, приземлялась рядом. Он гладил серебряный округлый бок и смотрел на заходящее солнце. Море шумело.
Это существо (кем бы оно ни было, девочкой Ирой или кем-то уже другим) не умирает, возможно, оно бессмертно, — пока существует наша планета. Или наша вселенная. Или дольше. Время покажет. А можно сказать, вечность покажет.
Мы не доживем.
2
В 1990 году Ливанов Андрей Яковлевич искал работу. Вакансии были, но собеседование он пройти не мог.
— У тебя голос тихий, — объясняла ему жена Люба, — взгляд испуганный, глаза ты отводишь в разговоре, пальцами пуговицу на пиджаке вертишь, сколько раз уже пришивала, до Парижа можно нитку протянуть. Конечно, серьезные люди не настроены дело с тобой иметь.
— Но вот ты, — робко возражал Андрей Яковлевич.
— Я к тебе привыкла, — сердито обрывала жена. Она была на четвертом месяце, сидела дома с пятилетним сыном Сережей и не представляла, как жить дальше.
— Пойду в дворники, — говорил Андрей Яковлевич.
— Если возьмут, — отвечала Люба.
Пришивала ему пуговицу, кормила картошкой (мать привозила из деревни) и уговаривала быть посмелее.
— Времена переменились, — говорила Люба, — пора соответствовать.
Во вторник 25 сентября Андрей Яковлевич провалил собеседование. Домой спешить не хотелось, он брел нога за ногу. Девочка у метро сунула афишку:
АМЕРИКАНСКИЙ ТРЕНИНГ
УВЕРЕННОСТЬ
СИЛА
УСПЕХ
— Десять рублей сеанс. Прямо сейчас, — сказала девочка, — здесь рядом.
Андрей Яковлевич прошел темными заросшими дворами к угловому дому. На двери подъезда висела та же афишка. Андрей Яковлевич потоптался, посмотрел на летящие сухие листья и вошел в подъезд. У входа в красный уголок сидела на табурете бабка в старом пальто с лисьим воротником. Она забрала у Андрея Яковлевича десятку.
Занятие уже началось. Перед сидящими на стульях людьми прохаживался высокий белозубый мужчина. Говорил он по-русски гладко, но с акцентом.
— Страх улавливается мгновенно. В животном мире…
Ведущий заметил Андрея Яковлевича и широко улыбнулся. Андрей Яковлевич пробормотал:
— Здрасьте.
— Джон, — ведущий шагнул навстречу и протянул ладонь.
Андрей Яковлевич пожал ее и тихо произнес:
— Андрей.
— Прекрасно, — радостно сказал ведущий. — Не будем тратить более слов. К делу.
На стене висел кодекс строителя коммунизма. На подоконнике глядящего в сумрачный двор окна цвела герань.
Ведущий положил Андрею Яковлевичу руку на плечо.
— Представьте себе, что вы в баре. Знаете, что такое бар?
— Видел, — бар Андрей Яковлевич видел в кино.
— Этот стол — барная стойка. Этот стул — стул у барной стойки. Вы сидите у барной стойки. Андрей?
— Да?
— Садитесь.
Андрей Яковлевич растерянно посмотрел на стул и сел.
— Вы пьяны. У вас кончилось спиртное. Вы требуете у бармена спиртное. Вам очень хочется еще выпить. Бармен вас игнорирует. Николай.
Долговязый мужчина поднял руку.
— Идите сюда. Становитесь по другую сторону стола. Вы — бармен. Не обращайте на него внимания. Андрей, требуйте у него выпивку.
Андрей Яковлевич смотрел на полированную столешницу, в ней отражался электрический свет.
— Андрей, — окликнул его ведущий. — Требуйте.
— Кхм, — едва слышно сказал Андрей.
— В баре музыка. Грохот. Кричите. Вам нужно выпить.
Андрей молчал. Дотронулся до пуговицы и опустил руку.
— Вы пьяны. Вы не знаете границ. Вам…
Ведущий замолчал. Андрей сидел сгорбившись. Николай топтался с другой стороны стола.
— Крикните, — попросил ведущий.
Андрей Яковлевич растерянно улыбнулся.
— Ударьте по столу.
Андрей Яковлевич и руки не приподнял.
— Джон! — крикнул кто-то. — Давайте я.
— Этот бармен, — ведущий зашептал в ухо Андрею Яковлевичу, — ваш враг, он виноват во всех ваших бедах. Залайте.
Андрей Яковлевич посмотрел удивленно.
— Вот так. — И ведущий пролаял: — Ргав! Ргав! — Хлопнул в ладоши и крикнул: — Все! Все лают!
Кто-то затявкал, как маленькая скандальная собачонка. Кто-то хихикнул. Бармен Николай зарычал. Андрей Яковлевич поднялся и тихо, ни на кого не глядя пробрался к выходу. За дверь. Бабка в пальто с лисьим воротником дремала на табурете в полутьме.
Подавленным вернулся Андрей Яковлевич домой. Люба не стала его расспрашивать. Есть он отказался, сел в угол дивана и смотрел невидящими глазами в телевизор. Сережа подошел с книжкой.
— Папа.
Андрей Яковлевич закрыл глаза.
Сережа взобрался на диван и устроился рядом. Андрей Яковлевич слышал, как он перелистывает страницы. Сережа вдруг рассмеялся. Толкнул ему под руку книгу.
— Папа, смотри.
Андрей Яковлевич открыл глаза, отшвырнул книгу на пол и заорал на сына высоким визгливым голосом:
— Вон отсюда! Марш! — и забил кулаком по деревянному подлокотнику.
Ребенок сполз с дивана, бросился бежать, поскользнулся, упал, зарыдал, Люба его подхватила и убежала с ним на руках. Андрей Яковлевич опомнился, замолк. Посидел, вскочил, побежал из комнаты.
Дверь в кухню была заперта, доносился Сережин плач. Андрей Яковлевич хотел постучать, но не решился и опустился перед дверью на колени.
К ночи они помирились. Андрей Яковлевич просил прощения у сына и у жены, они просили прощения у него, обнимались, Люба накапала валерьянки себе и Андрею Яковлевичу, Сережа тоже просил валерьянки, но ему вместо валерьянки дали сгущенки. Умыли и уложили спать.
Андрей Яковлевич смотрел на спящего ребенка и думал, что жизнь тяжелая штука. Рука, которой бил он о деревянный подлокотник, болела.
3
В 1983 году актер Иван Николаевич Воробьев встретил своего сына. Мальчик поджидал его у служебного входа. Бледный долговязый подросток.
Иван Николаевич знал, что он будет ждать, и не спешил, тянул время. Долго сидел в гримерке, курил, кипятил воду в чайнике, пил сладкий черный чай, смотрел на часы и надеялся, что мальчику надоест ждать и он уйдет. Письмо от его матери Ольги пришло неделю назад. В конверте АВИА.
«Здравствуй, Ваня, долго не решалась тебе писать, но вот надумала. Ты, наверно, и не помнишь обо мне, но я напомню, как я к тебе пришла в номер в Ярославле и осталась, хотя ты и говорил, что лучше бы мне уйти. Гастроли закончились, вы уехали, я много плакала по тебе, узнала, что беременна, испугалась, хотела прервать, но мать отговорила, сказала, что поможет, все-таки мне было под тридцать. Мальчик появился на свет 17 апреля 1970 года, я назвала его Сергеем, мы живем дружно. Сергей спрашивал об отце, я ему врала, что был очень хороший человек, из Ленинграда, я там с ним познакомилась на курсах повышения квалификации, хотели жениться, но он умер, а родных нет, так как был сирота.
На тебя, Ваня, наш сын похож глазами. В Москве он остановится у тетки, от тебя мне ничего не надо, но мне кажется сейчас ошибкой, что ты не знаешь о сыне, во всех интервью говоришь, что детей нет по болезни жены, а у тебя есть ребенок, это надо знать, а там как хочешь. Он будет тебя ждать у служебного входа двадцать седьмого с девяти вечера до десяти, я его попрошу передать тебе баночку грибов от Ляли. Ляля — моя подруга, а ты вроде как ее дальний родственник, так мы придумали с Лялей. Но если тебе это все не нужно, ты иди в другую дверь, он подождет до десяти и уйдет».
И вот Иван Николаевич сидел в гримерке, смотрел на часы, глотал черный чай. «Возможно, это и не мой сын, — так он думал. Не мог так не думать. — А если и мой? Не я его растил, не я воспитывал. Чужой какой-то мальчишка, в любом случае. Зачем мне эта неловкость? И я ему зачем? Прописка московская нужна?»
Нет, нет и нет, — так заключил Иван Николаевич.
И десять уже показали часы, и одиннадцать показали. Тогда только решил он покинуть гримерку. Прошел долгим подвальным коридором, там горели дежурные лампы в металлических сетках. Поднялся по узкой каменной лестнице в безлюдное фойе. С улицы в большое окно светил фонарь, из полумрака смотрели лица актеров с фотографических карточек на стене, и собственное лицо Ивана Николаевича смотрело, молодое, таинственное.
Он прошел к центральной двери, постучал охраннику в каморку.
Выбрался на волю и закурил. Ему нужно было на ту сторону, к метро, но он прошел мимо афиш и завернул за угол, к служебному входу. И увидел долговязую фигуру. Приблизился и спросил:
— Сережа? — И почти тут же пожалел.
Отбросил зачем-то сигарету. Взял у мальчика банку с грибами (в газетном свертке в авоське), сказал:
— Спасибо, не думал, что дождешься.
— Я решил, вас задержали.
— Угадал.
Он смотрел на Сергея, а Сергей смотрел на него.
Иван Николаевич подумал, что парень, наверно, знает правду (если это правда) или догадывается, иначе бы не ждал так долго, иначе бы не смотрел так внимательно. Иван Николаевич спросил, далеко ли ему ехать.
— Вишняки.
— Голодный?
Ему вдруг захотелось, чрезвычайно, страстно, мальчишке понравиться.
Иван Николаевич повел Сергея в ресторан, где знакомы ему были все: и швейцар, и уборщицы, и официантки, и повара, и директор. Прошли, разумеется, без очереди. Сергей смотрел во все глаза на оркестр, на женщин за столиками. Стеснялся есть. Иван Николаевич его рассмешил, расположил. Он был умелым актером, обаятельным, знал, как надо смотреть, каким разговаривать тоном, историй занимательных помнил несметное количество. Сергей открывался в ответ, рассказывал, как тонул в Волге, как влюбился в учительницу, как тяжело дается учеба, как хочется уже вырасти и зарабатывать побольше. После ресторана Иван Николаевич поймал такси, отправил Сергея в Вишняки, а затем уже поехал к себе на Пресню.
Он был пуст, выпотрошен, как после тяжелейшего трагического спектакля, в котором сыграл главную роль. С трудом отворил тяжелую дверь подъезда, так слабы были руки. Дома рухнул на диван и уснул.
Через две недели пришло письмо от Ольги, но он даже вскрывать его не стал, порвал, кинул в помойку. Больше писем не приходило.
4
В 1980 году майор в отставке Арсений Викторович Малышев скончался. Через месяц после похорон его взрослая дочь Вера достала альбом с фотографиями. Она разглядывала не спеша снимки под «тик и так» часов. Ветер за окном уносил тучу.
Вера сидела на кухне, позабыв о вскипевшем чайнике, разглядывала снимки и поражалась, что отец нигде на себя не похож. Во всяком случае она помнила его другим. Как бы то ни было, Вера выбрала одну из фотографий, заправила в рамку под стекло и повесила на стену в большой комнате. Здесь она вязала по вечерам и время от времени посматривала на фото. Бубнил телевизор, светил из угла, Вера откладывала вязание, уходила из комнаты, плакала, успокаивалась.
Со временем она стала забывать, как выглядел отец, и тогда обращалась к фотографии и смотрела на нее. И ей казалось, что благодаря фотографии она вспоминает отца.
Фотографический снимок был оставшейся от него тенью.
5
Восьмого октября 2015 года космонавт Игорь Сергеевич Краснов совершил посадку на летательном аппарате «Витязь». Связь работала нормально. Из Центра управления полетом приказали не покидать аппарат самостоятельно. Игорь Сергеевич оставался в кресле и смотрел на широкий полукруг экрана, в нем отражалась окружающая аппарат местность.
Сумерки, снежные проплешины в поле, движущиеся вдали огоньки.
Игорь Сергеевич смотрел на сухую траву, слезы текли по его лицу.
«Витязь» отправился в полет 2 марта 1963 года, Игорь Сергеевич побывал за пределами Солнечной системы; его корабль двигался на скорости, близкой к скорости света, полет длился полтора года, на Земле прошло пятьдесят два. Анне, дочери Игоря Сергеевича, исполнилось пятьдесят пять, и теперь она была старше него на двадцать семь лет.
Он не думал о дочери, когда смотрел на земные сумерки, не о ней он плакал и не о себе, а бог знает о чем, — о том, что вновь видит снег, о том, что скоро выйдет наружу, вдохнет холодный воздух и спросит, что за огоньки там вдали. О дочери он не помнил в эти минуты. Вскоре он увидел на экране вертолет. Прибыли встречающие.
Широкая публика ничего о его полете не знала. Не сообщалось о старте, не сообщили о возвращении. Полет был тайной в 1963-м и остался тайной в 2015-м.
Игорь Сергеевич доложил о выполненном задании, предоставил пробы грунта, химический анализ атмосферы, фотоснимки планеты, для изучения которой и был направлен. Планета, вопреки ожиданиям, оказалась непригодной для жизни.
После тщательного наблюдения в закрытом госпитале Игоря Сергеевича отпустили в длительный отпуск. Ему, разумеется, объяснили как можно более полно текущую жизнь. Технические новшества молодой космонавт освоил мгновенно, новому же политическому и экономическому мироустройству он оказался чужд. Он искренне ждал застать на родине коммунизм.
Дочь Игоря Сергеевича по-прежнему жила в городке во Владимирской области. Он купил в подарок конфет и сладкого вина. Ехал на поезде. Билет взял в плацкартный вагон. Ему хотелось посмотреть на людей, послушать разговоры. Иногда ему казалось, что ничего не изменилось за полвека, все те же люди и те же виды из окна, что время то ли остановилось, то ли пошло вспять. Через пять часов он вышел на станции, она показалась ему маленькой, обветшавшей. Такси брать не стал, отправился пешком. Не торопился. Останавливался и смотрел, как дым идет из печной трубы. Как дети бегут через ржавые рельсы. Вдыхал забытый воздух.
В доме, где жила дочь и где он жил когда-то, тоже топилась печь, горел свет в окне. Он задержался у калитки, глядя на разросшуюся яблоню. Повернул щеколду. Пошел к крыльцу. Выскочила собачонка, облаяла. Он сказал «свои, свои» и потрепал ей загривок. Дочь была дома. Он соврал, что его отец был другом ее отца.
— Он погиб при испытаниях. Я его не помню, — сказала она.
— Совсем?
— Как на руках у него сижу. Смутно. Он меня несет. Куда? Откуда?
Пили вино, пили чай с московскими конфетами. Он расспрашивал о родственниках, о знакомых. Многие умерли.
После чая он забрался на крышу, поправил телевизионную антенну. Заменил прогнившую доску на деревянной ступеньке крыльца. Он обращался к Анне как человек, проживший гораздо больше нее. И это никому из них не казалось странным. Она жаловалась на здоровье, он сказал, что немедленно надо бросать пить кофе, тем более растворимый и на голодный желудок. Сказал, что хочет поселиться здесь, в этом городе, снять квартиру.
— Работы я не боюсь, — говорил он. — Никакой.
Он и в самом деле поселился в этом городе. Устроился в компьютерной мастерской, женился, родил сына. Дочь навещал каждую неделю. Лет через тридцать она сдала, и он взял ее к себе, в свой дом. Кормил с ложечки, водил гулять. Жена называла его «мой блаженный».
6
В 1950 году техник Николай Иванович Матюшко ушел из больницы. Жена Сима с дочерью Катей и сыном Васей пришли его навестить, принесли моченой антоновки и пирогов с картошкой. Товарищи по палате сказали, что он собрался с утра, до завтрака, и ушел. На тумбочке оставил им письмецо в простом конверте.
Сима конверт разодрала, села на край койки, губы поджала и прочитала послание. Дети стояли рядом и смотрели растерянно.
— Хорошо, — сказала Сима и скомкала листок. — Пойдемте, дети.
Она быстро шагала по коридору, они бегом поспевали за ней. Сима подошла к медсестре, сидевшей за столом, наклонилась над ней и спросила, где врач Галкина.
— У заведующей, — сказала медсестра, — у них совещание.
Сима толкнула дверь, ворвалась в комнату, оглядела изумленных врачей.
— Кто тут Галкина? — спросила строго, по-учительски. — Руку поднимите.
Она бросилась к поднявшей руку женщине, вцепилась ей в волосы, поволокла со стула, повалила на пол. Женщина кричала и сучила ногами, пятилетний Вася плакал. Катя, ей было двенадцать, утащила брата из освещенной комнаты в прохладный сумрачный коридор, обняла. Он плакал, она гладила его по светлой голове.
Отец к ним не вернулся. Мать била дома посуду, рвала фотографии, резала ножницами отцовское пальто, била сама себя ножом. Катя бегала к соседям за помощью, мать бросалась перед ней на колени, ползала за ней среди осколков. Вася начал заикаться.
Постепенно мать успокоилась. Приходил друг отца Кирилл — за вещами. Мать спокойно, холодно отдала узел и чемодан. Кирилл сунул Кате записку от отца, просьбу о прощении и свидании. Катя записку порвала, втоптала в землю.
Отца она не простила, подарков от него не принимала и даже через много лет не отворила ему двери, он постучал и ушел. Жили они в одном городе, недалеко друг от друга, но так и не повидались, не поговорили ни разу. И от наследства его Катя отказалась. Матери и врача Галкиной на свете уже не было.
7
В 1995 году в мае по привокзальной площади города N шел ребенок, тащил большой рюкзак, не школьный, а взрослый, то есть даже для взрослого большой, а для мальчика восьми лет просто громадный, но мальчик шел, а за ним следовала тетка, тоже волокла что-то. Им надо было спешить, и она крикнула мальчику:
— Ну что ты ногами скребешь, пенсионер?!
И тут же ребенок пропал, как и следовало ожидать. Он исчез, а тетка хватала руками воздух, как будто надеялась поймать ставшего вдруг невидимым. Или несуществующим, — кто знает.
Тетка и знать не знала об опасности; она ехала с сыном в Нижний Новгород из Москвы, автобус сломался, и все ломанули на станцию, а что за город, чем известен, никто и не знал. А может, и знала тетка про город, но что тут сделаешь, когда автобус сломался. Бежать, бежать, авось пронесет.
Трудно описывать события, о которых сведения никак не свести воедино, в стройную, непротиворечивую картину. И как я ни стараюсь, все выходит нечетко. Единственное несомненно: дети в этом городе не живут и не умирают, они исчезают, и город стоит бездетным с 1975 года, и не сказать, что он бедствует, хотя для учителей и для педиатров работы нет. Город чистый, тихий, столичные пенсионеры охотно покупают здесь дома, особенно у реки. Внуки, правда, не приезжают. Разве что после пятнадцати лет, когда опасность уже миновала.
В ноябре 1997 года мальчик Ваня двенадцати лет добрался до города N бесплатно, на перекладных. Сначала на московской электричке до Черустей, затем на местной электричке до Вековки и от Вековки до N рабочим поездом. Прозвание поезда осталось от давних советских времен, когда рабочие люди ездили из окрестных деревень в город на заводы. В девяносто седьмом году заводы стояли, в цехах жили птицы, собаки и бродяги.
В советские времена в этом раннем поезде сидели тесно, лузгали семечки, спали, из открытых тамбуров валил дым. Ничего этого Ваня не застал, все переменилось, поезд шел полупустой, кое-где выбиты были стекла, и в вагонах гулял ветер. Ване повезло, он нашел вагон относительно теплый, забрался на вторую полку.
Сверху он видел женщину, она ела вареную картошку с соленым огурцом; видел в окошко сумрачное небо, видел разбитую платформу и сидящего на лавке мужчину. У Вани не было с собой ни денег, ни еды, от запаха картошки кружилась голова. Ваня постарался забыться, задремать. Проехать он не боялся, город N был для рабочего поезда конечным пунктом.
Ваня проснулся, поезд стоял. За окном Ваня увидел черной краской выкрашенный паровоз с красной звездой; паровоз стоял на постаменте как памятник всем паровозам бывшего Советского Союза. Ваня спрыгнул с верхней полки, потянулся и узким вагонным коридором направился к выходу. Он спустился по железным ажурным ступеням на низкую платформу, повертел головой, увидел свет в газетном киоске и побрел к киоску, стараясь зачем-то не наступать на трещины в асфальте. Было тихо, безветренно, диспетчер говорил, что по третьему пути пройдет грузовой состав. И Ваня остановился и стал смотреть на третий путь. И не так уж скоро, но появился в сумрачной дали огонь тепловоза — прожектор, яркая звезда. Огонь приблизился, и поезд пошел мимо станции, вагоны и цистерны, долгий поезд. Ване казалось, что он полчаса идет, что голова его здесь, а хвост в Москве; идет, грохочет, вздымает ветер. Отгрохотал, и все стихло, и ветер улегся.
Ваня постоял и пошел к вокзалу, к древнему каменному зданию, обогнул его.
На привокзальной площади бабка торговала черными семечками. Ваня подошел и попросил семечек за так.
— Денег нету, — сказал, — а пожевать хочется.
Бабка вытаращилась на него во все глаза, она с семьдесят пятого года ни одного ребенка здесь в городе не видела, ее собственные дети исчезли тогда, в семьдесят пятом, как и все дети в этом городе, все, кому не исполнилось еще пятнадцати лет.
— А тебе сколько лет, мальчик? — осторожно спросила бабка Ваню.
— Двенадцать.
— Зря ты здесь, — она насыпала ему семечек в карман. — Ты, может быть, не в курсе.
— Я в курсе.
И он отошел к автобусной остановке.
Старуха шла с бидоном.
— Семечки! — крикнула ей бабка. Но старуха не повернула головы.
Старенький пазик пришел, развернулся. Люди выходили и смотрели на мальчика. Удивленно, растерянно, испуганно. Он лузгал семечки и сплевывал шелуху на серый чистый асфальт. И никто ему не сказал: что ж ты мусоришь. Боялись, что они скажут, и он исчезнет, а они будут виноваты. Именно так дети исчезали: от сердитого слова или взгляда. Одного этого было достаточно — взгляда. Недовольной интонации. По отношению к своему ребенку или к чужому. По злобе или в сердцах.
Ваня вошел в освободившийся автобус, сказал водителю, что денег у него нет, и спокойно уселся на переднее сиденье, чтобы лучше видеть дорогу. Автобус подождал положенное время и поехал.
Водитель Михаил боялся вымолвить слово или слишком рвануть и тряхнуть автобус. Он поглядывал на мальчика в зеркало и молчал. Ваня ехал спокойно, ни о чем не спрашивал, глядел в окошко. Пассажиры входили и выходили. Все они терялись при виде мальчика и старались держаться от него подальше; по большей части молчали, а если переговаривались, то шепотом. Медленное движение было Ване на руку, он успевал внимательно рассмотреть дома, улицы, прохожих. Через сорок минут доехали до конечной, до так называемого круга, там у старинного купеческого дома автобус развернулся и встал.
Ваня не вышел, хотя дверь была открыта все время долгой (пятнадцать минут) стоянки. Он прочел табличку на доме:
ЗДЕСЬ С 1900 ПО 1978 ГОД
ЖИЛ
ПИСАТЕЛЬ
АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ЯКОВЛЕВ (1900–1978)
В нижнем этаже дома светилось окошко, и можно было разглядеть внутри столик, крошки на столешнице, чашку с остатками темной жидкости, блестящую в электрическом свете ложку.
В автобус тем временем взобралась громадная женщина, охнула, уставилась на мальчика, но, когда их глаза встретились, поспешила отвернуться. Ваня посмотрел, как она устраивается на сиденье, как вынимает из кармана платок и промокает потное лицо и шею.
Водитель стоял возле автобуса и курил белую сигарету. Ваня посмотрел на его худые, с выступающими суставами пальцы, на дым, на тлеющий огонек и вновь поглядел в светящееся окошко.
На столе ничего уже не было, ни чашки, ни ложки, ни пятна, ни крошки.
Водитель докурил, окурок бросил аккуратно в урну. Городок был бедный, но чистый. Асфальт потрескался, искрошился от старости, но ямы и колдобины все были засыпаны и залатаны. Много стояло, особенно у реки, вросших чуть не по самые окна одноэтажных домишек Тополя вымахали, как небоскребы, в них проживали серые вороны, они любили торчать на самых маковках, наблюдать город. В сильный ветер вороны качались на верхних ветках. Страшно бывало, что старый тополь не устоит, рухнет на мелкие дома. Огромные ветки иногда обламывались и рвали провода.
Водитель забрался в кабину, закрыл двери и покатил по маршруту в обратную сторону. У старинной (конец XIX века) водонапорной башни Ваня сказал негромко:
— Останови.
Водитель еще немного проехал по инерции и стал.
— Дверь, — сказал мальчик.
Водитель отворил дверь, и Ваня не спеша вышел.
Это был самый центр города. Дома здесь стояли по большей части бывшие купеческие, каменные, с арками в заросшие дворы, но были дома и в пять этажей, построенные уже в советское время, их тоже скоро будут считать стариной и достопримечательностью.
Ваня прошел по неширокой главной улице, она именовалась Московской, и завернул в магазин с весело освещенными витринами. Возле кассы стояли и болтали женщины предпенсионного, как говорится, возраста. Они увидели мальчика и растерянно смолкли. Ваня прошел в зал. Это был маленький магазинчик, тесно заставленный стеллажами. Ваня взял бутылку сладкой колы, тут же открыл и принялся пить. Продавщица везла тележку с хлебом, увидела мальчика и замерла. Он спокойно допил колу и спросил:
— А что бы такое пожевать?
Продавщица молчала, он подошел, потрогал хлеб в тележке.
— Свежий, — робко произнесла она, как будто он был король.
— А пирожки с мясом есть?
— Есть, — обрадовалась она, — прямо теплые.
И сама ему подала пирожок. Он съел и протянул руку за вторым. Женщины наблюдали за этой сценой, они от кассы проскользнули в зал и смотрели в просвет между стеллажами. Безмолвно, страшась спугнуть, потому что живой ребенок из плоти и крови был в этом городе все равно что видение, призрак. Малейшая оплошность, и он исчезнет. Никто этого не хотел, ни один человек в несчастном городе. Не то чтобы все тут любили детей (которых не было), но никто не желал стать убийцей, точнее, прослыть убийцей. По крайней мере, поначалу. Так что Ваня беспрепятственно съел три пирожка с мясом, взял с собой горсть конфет (в карман с семечками затолкал) и вышел из магазина, ничего не заплатив.
Он прошел до площади (памятник погибшим воинам, банк, почта), свернул в боковую улицу, увидел парикмахерскую, зашел (и здесь при его появлении все смолкли, застыли, как в сказке об остановленном времени).
Ваня оглядел небольшой зал. Два кресла. В одном сидела тетка с мокрой головой, парикмахерша по имени Маргарита только начала ее стричь, во втором сидела парикмахерша по имени Валентина, смотрела журнал с картинками. Ваня заявил, что он хочет помыть голову и постричься. Валентина сползла с сиденья и сказала едва слышно:
— Идем.
Валентина вымыла ему голову душистым шампунем. Маргарита тем временем торопливо щелкала ножницами. Валентина вытерла мальчику голову полотенцем и усадила его в кресло перед зеркалом. Она выдвинула из комода ящик, достала ножницы, повернулась.
Ваня уснул в кресле. Валентина тихо, беззвучно положила ножницы на столешницу.
Маргарита достригла клиентку. Фен включить не решилась. Женщина и не просила, расплатилась торопливо и ушла. Всё молча. Она ушла, Маргарита собрала щеткой волосы с пола. Забралась в свое кресло. Валентина притулилась на диванчик для ожидающих очереди. Молчали.
Заглядывали время от времени люди, им указывали на спящего в кресле ребенка, и посетители тихо пятились к двери, пораженные страхом. Как будто бы там в кресле лежала мина и тикал в ней часовой механизм.
Его рассмотрели, пока он спал. Худое лицо, синие тени под глазами, потрескавшиеся губы. Растянутый ворот свитера. Обтрепанный край рукава. Неровно обкромсанные ногти. Замызганные кроссовки.
Четыре часа, до ранних сумерек, проспал. Парикмахерши стерегли его покой.
Ваня повернул голову, проснулся, приподнялся и увидел себя в зеркале. Он спросил чаю и выпил горячего из большой белой кружки. Затем Валентина попрыскала ему на волосы водой и постригла. Светлые пряди падали на синюю скользкую накидку, валились на пол.
— Че так тихо у вас?
Он спросил, и Маргарита выбралась из кресла, включила MTV. Так его и достригла Валя под музыку. Феном волосы обсушила, накидку сняла.
— Ну вот.
Он к зеркалу наклонился, взъерошил волосы.
— Ты знаешь? Про наш город, — решилась спросить Валентина.
— Чего? Знаю.
— Это правда все.
— Да пусть. У тебя можно переночевать?
— Конечно. Пожалуйста.
— Пожалуйста, — Ваня рассмеялся.
Валентина молчала. Он спросил:
— Далеко живешь?
— У завода. У стрелочного. Там у нас дом, огород. Кошечка.
— Отсюда далеко?
— Минут пятнадцать на автобусе.
— Нет, я в центре хочу.
Он посмотрел на вторую парикмахершу, по имени Маргарита.
— Я у станции живу. В пятиэтажке. Если направо идти от станции.
— Нет. Я здесь хочу. Чтобы чисто, тепло, горячая вода, полный холодильник. Я посижу, телек позырю, а вы поспрашивайте.
Валентина и Маргарита оставили его в парикмахерской. С улицы видели его в освещенном зале (сидел в кресле с ногами; близко подкатил кресло к экрану — отсветы на лице). Парикмахерши стояли на улице и растерянно озирались.
— Ничего вроде, — Маргарита указала на основательный кирпичный дом в четыре этажа пятидесятых годов постройки, дом был недавно оштукатурен. — Там потолки под три метра. У меня там знакомый жил раньше, уехал куда-то в заграницу, я ему адрес оставляла, ничего не написал.
Они вошли во двор дома. Женщина выбивала половик. Валентина и Маргарита приблизились.
— Вы извините, — сказала Маргарита, — к нам тут мальчик прибился.
Женщина выслушала про Ваню и сказала, что у нее, конечно, можно, вот только вряд ли ему понравится, холодильника полного нет как нет.
— Пенсия маленькая, за квартиру заплачу и тяну на хлебе и воде, ну иногда яйцо сварю. Вкрутую.
Они стали думать втроем. И в конце концов женщина вспомнила про Филипповых. Пошли к ним все вместе (женщина тащила половик, она сказала, что сама будет разговаривать, иначе ничего не выйдет).
Квартира была на третьем этаже. На звонок вышел мужчина лет шестидесяти в трениках и футболке, аккуратно выбритый, пахнущий холодным одеколоновым запахом.
— У вас, дядя Коля, мальчик будет жить, — заявила женщина. — Потому что у вас три комнаты, и дети присылают денег, и видео есть.
Филиппов выслушал про мальчика и наотрез отказался.
— У меня, — сказал, — характер взрывной. Я не могу на себя ответственность брать.
И так они ходили из квартиры в квартиру и не могли ничего добиться, все жильцы в доме были бедные, или с характером, или то и другое.
— Ладно, — сказала Валентина Маргарите, — я знаю, что делать.
Они распрощались с женщиной и пошли в парикмахерскую (а женщина отправилась наконец домой со своим половиком). Маргарита спрашивала Валентину, что она придумала.
— Увидишь, — отвечала Валентина.
Они вошли в парикмахерскую. Ваня сидел в кресле и смотрел телевизор, мультфильм про Чипа и Дейла.
— Номер квартиры пятьдесят пять, — сказала мальчику Валентина. — Жильцы Филипповы, муж и жена, квартира отличная, икра в холодильнике, любишь икру?
— Нет. — На самом деле Ваня икры не пробовал.
— Видео есть. Фильмы всякие. Дети привозят. Навещают стариков. Они сюда на старости лет приехали, потому что квартиры дешевые в сравнении с Москвой и город тихий. Ну сам посмотришь. Не понравится, есть еще семьдесят третья квартира, там молодая довольно женщина проживает, старая дева, ей по наследству квартира досталась, она шьет на заказ, у нее тоже видео есть, триллеры, говорит, любит смотреть. Сам решай, короче.
Ваня их рекомендации выслушал, сказал, что досмотрит мультфильм, и досмотрел. Затем уже встал и отправился на вечернюю улицу. И когда они перестали его видеть в окно, тогда только их отпустило, и Маргарита даже расплакалась, а Валентина дала ей воды.
— Никуда не денутся, — сказала Валентина про жильцов.
И была права. Никто не посмел отказать ребенку. Он пожил неделю у Филипповых (икру не полюбил), фильмов у них интересных для него не нашлось, так что он ходил смотреть триллеры к портнихе Ксении, в конце концов к ней и перебрался, несмотря на то, что квартира у Филипповых была шикарней и готовила Нина Дмитриевна Филиппова совершенно потрясающе по книге о вкусной и здоровой пище в тисненом переплете (продукты все с рынка). Но очень уж Филипповы были молчаливы. Ваня прижился у портнихи Ксении, а к Филипповым заходил брать пирожки да пирожные; запах по всему подъезду шел, когда Нина Дмитриевна пекла. Пили с Ксенией чай, пирожными и пирожками закусывали. Ваня говорил: «Дольче вита» (фильм так называется; прокрутил у Филипповых на большой скорости).
Посмотрели они с Ксенией всего Хичкока. Смотрели про человека-муху и человека-слона, про акул-убийц, про Бонни и Клайда. Фильм про мафию нищих Ваня не полюбил. Он сам был нищим, ходил по вагонами и пел жалостливые песни.
— Деньги хозяева отбирали, — говорил Ваня. — Били. Жрать давали, чтоб только ноги таскал. Так что терять мне нечего.
Ксения верила и жалела. Ей не надо было себя контролировать, она не могла на Ваню рассердиться, у нее он оказался в полной безопасности.
Она очень боялась, когда он уходил из дома, молилась о возвращении у бумажной иконки. Ему же ходить по городу было и страшно, и весело. Он как будто попал в сказку, в которой стал королем, и все жители города были его подданные. Они исполняли любую его прихоть (стоит уточнить, что прихоти его были не особенно обременительны для горожан: еда, кассета с фильмом, теплая куртка, порулить машиной). Но они же в любую секунду могли стать его убийцами.
Ходили слухи, что исчезнувшие дети попадают на прекрасный остров: вечное лето, синее море, бананы, финики. Ваня считал своим прекрасным островом город. Он любил толкаться по утрам на рынке, ходить на станцию и смотреть на поезда, пить горячий чай в привокзальном кафе, брать пиво в жестяной банке — на потом. Опасность обостряла наслаждение.
Как-то раз он сидел и пил пиво из банки на открытой платформе (платформа стояла в тупике, колеса уже проржавели). И вдруг увидел, как девочка выбирается из-под вагона (товарняк стоял, ждал отправления). Она выбралась из-под вагона и побрела вдоль состава к станции, Ваню не заметила. Он оставил недопитую банку, мягко спрыгнул с платформы и пошел за девочкой. Она услышала шаги, обернулась, он крикнул сердито:
— Ты что здесь?
И она мгновенно исчезла.
Ваня постоял, как будто ждал, что она появится вновь. Не дождался и побрел назад к платформе. Забрался на деревянный настил, допил пиво. Девочку он запомнил на всю свою жизнь: лет десяти, наверно, девочка, худенькая, с длинной русой челкой, пятно зеленки на маленькой щеке.
Свидетелей происшествия не было.
Ваня прожил у Ксении до самой зимы, до морозов и снега. Как-то утром он отправился сесть на автобус, чтобы поехать на другой конец города, к стрелочному, там в одном доме обещали ему дать кассету с новым фильмом (что-то про инопланетян), на автобус сел, и до стрелочного доехал, и вышел из автобуса, и направился дворами к нужному дому. Больше его никто не видел. Ксения горевала, расспрашивала, искала виновников Ваниного исчезновения. Но не нашла. Если и были, не признались.
Рассказы о любви
День рождения
Я давно живу на свете, тридцать лет, в одном и том же доме, с одним и тем же человеком, в окружении одних и тех же вещей.
— Что ты хочешь на день рождения? — спросила меня мать.
Я подумал, вот бы она удивилась, если бы я сказал: «Новую рубашку».
И я не сказал. Я в самом деле ее не хотел, я даже не понимал, зачем она. Как можно ее надеть, совершенно новую, никем до меня не надеванную, как безглазую. То есть для меня такая рубашка — как безглазый человек.
Я прихожу в ужас, когда смотрю по телевизору рекламу новых вещей, гладких, безжизненных, мертвых. Не важно, что это — туфли, чашка или автомобиль. Зачем все это новое, когда есть еще столько старых, вполне жизнеспособных вещей? Заслуженных, одушевленных.
Люди отдают мне свои вещи из жалости, им кажется, я нищий, потому что ничего не покупаю себе. Я ношу повидавшие жизнь брюки, истоптанные сандалеты, рубашку, которую мне отдали после смерти ее владельца. Все эти вещи я содержу в чистоте и порядке. Так же я забочусь о предметах в нашем доме, о заслуженном диванчике — на нем долго болел мой дед, о круглом столе в комнате, его происхождение мне неизвестно, мы нашли его на помойке. Отмывая стол от грязи, я обнаружил на столешнице неглубоко процарапанную надпись: НАТАША. Я решил, что мальчишка процарапал гвоздем имя любимой девчонки. Чувства этого мальчишки как будто передались столу; теперь я о нем думаю как о влюбленном в какую-то Наташу.
Я пользуюсь старой посудой, я починил кресло, его отдали нам соседи, и теперь я читаю в нем. Я поддерживаю в вещах жизнь, и они мне благодарны.
Матери все равно, с чего — и что — есть, что носить, на чем спать, чем укрываться. В ее комнату я не вхожу, чтобы не видеть, как она небрежна с вещами, какие они у нее запущенные, больные. Но раз в год, когда она наконец уезжает на дачу со своей тележкой и кошкой, я делаю генеральную уборку в ее логове. Я вытряхиваю все шкафы, сундуки и ящики. Перебираю залежи. Ничего не выбрасываю, но все привожу в порядок, протираю, чищу, мою. Освобождаю от зимней грязи окна, натираю до блеска скрипучий паркетный пол. Банка мастики превосходно сохранилась с давних советских времен. Просто надо соблюдать условия хранения. Я снимаю пыль с фотографий на стенах. Изображенные на них люди смотрят на меня. Те, кто позировал для этих фотографий, никогда меня не видели.
Живое существо кошку я знаю гораздо хуже любой вещи в доме. Кошка исчезает, едва заслышав мои шаги. Если бы не фотография, сделанная матерью, я бы даже не знал, как наша кошка выглядит. О ее существовании мне напоминает миска с водой на полу кухни и банка, в которую я должен складывать обрезки сыра и колбасы. Иногда — движение воздуха на том месте, где кошка была секунду назад.
Вы можете подумать, что я и с матерью не в ладу, но это не так. Мы существуем мирно и гармонично. Я не припомню ни одной ссоры. И не надо забывать, что фактически я живу за ее счет. Я нигде не работаю, так как не могу ни на чем сосредоточиться более чем на двадцать минут. Даже уборкой я занимаюсь понемногу, со значительными перерывами. Я не прочитал до конца ни одного романа, не посмотрел ни одного большого фильма. Читать или смотреть их частями, постепенно, я не в силах, так как забываю предыдущее и каждый раз мне нужно начинать сначала. Но, как ни странно, вещи короткие я помню прекрасно. Некоторые весьма ярко и четко. По всей видимости, меня страшит объем. Я теряюсь, захлебываюсь, тону. Море меня бы убило. Я утонул бы, едва завидев его; я бы задохнулся, захлебнулся увиденным.
Я далеко ушел от того вопроса, который задала мне мать: что ты хочешь на день рождения?
Я молчал, задумавшись. Она говорила:
— Спеку яблочный пирог, ты его любишь. Можно сделать плов из курицы, только не очень острый, у тебя язва.
Ем я мало и равнодушно, иногда только раз в день, но люблю чай, его пью много, он поддерживает во мне силы и ясность сознания.
Следуя ходу мысли, я сказал, чтобы она купила мне на день рождения чаю, самого лучшего.
— Да у тебя его полно!
— Ну и что? Он быстро расходуется. К тому же при долгом хранении его вкус даже улучшается. Если, конечно, хранить правильно.
— Знаешь, я боюсь тебе не угодить. Я лучше дам тебе денег, а ты сам купи какой хочешь. Будут у нас гости?
— Не знаю. Может быть, я Олега приглашу с женой.
Вы, конечно, подумали: какие у него могут быть гости? Тем не менее у меня довольно много знакомых, и среди них есть друзья. Правда, мои знакомые в основном люди в возрасте. С ними мне интереснее, чем с молодыми. Я люблю людей с прошлым. В этом смысле для меня люди как вещи. Меня тянет к пожилым, их лица как будто повернуты назад, туда, где все уже свершено и потому — совершенно. Я обожаю слушать их рассказы, их истории. И они мне благодарны.
— А Павел Андреевич? — спросила мать.
— Павел Андреевич болен.
— Но Олег обычно уезжает на все лето.
— Он говорил, что хочет остаться на этот сезон, а дачу сдать, ему нужны деньги на операцию.
— Значит, он плохо себя чувствует?
— В любом случае я позвоню и все выясню.
Олег и Маша пришли, как всегда, за четверть часа до назначенного срока. Олег ходил медленно со своей палкой, боялся опоздать, выходил заранее, потому и приходил раньше. Мать уже накрыла стол. Маша поцеловала меня. Ее дряблое, напудренное лицо пахло как сдобная булка, я едва сдержал желание лизнуть ее в щеку. Я почти уверен, что пудра на щеке была сахарная. Олег вручил мне большой увесистый сверток. Я разорвал мерцающую, как живой поток, гладкую серебряную бумагу. Под ней был старый заслуженный том в кожаном темно-коричневом переплете. В тиснении посверкивали еще золотые искорки. «ВЕСЬ МИР».
— Энциклопедия. Когда-то в детстве я очень удивился, что в ней нет статьи обо мне, — сказал Олег. — Разве меня нет в мире?
— И обо мне статьи нет, наверное, — засмеялся я.
— Но все равно, хорошая энциклопедия. Иногда забавная. Есть статьи о выдуманных персонажах из книг. Действительно стремились охватить весь мир. Здесь есть иллюстрации. Скрупулезные, тщательные, выверенные.
Это был великолепный подарок. Я обожал энциклопедии. Их лаконичные статьи я читал легко, запоминал почти дословно, и если бы игры, которые бесконечно показывают по телевизору, длились минут по двадцать, я бы непременно в них участвовал и наверняка стал бы богачом-рекордсменом. Впрочем, меня всегда пугали большие деньги.
Олег, Маша и мама выпили за мое здоровье рейнского из синей бутылки. Я вина не пью, у меня от него наступает депрессия. После ужина поговорили о прошлом. В девять они собрались домой. Я отправился провожать.
Маша взяла меня под руку. Асфальт и бетон отдавали дневное тепло. В то же время прохладно пахло землей и растениями из парка. Олег шел медленно. Мы незаметно ушли вперед. Маша молчала. Мне казалось, она думает о чем-то далеком, давно ушедшем. Вдруг она спросила:
— Вы позволите задать вам очень личный вопрос?
Я испугался, как будто ко мне подошли с острым ножом и спросили, можно ли сделать надрез и посмотреть, что у меня внутри. Тем не менее я сказал:
— Да, конечно.
— Любили вы когда-нибудь?
Такого вопроса я не ожидал.
— Нет.
— Может быть, тайно?
— Нет.
— У вас вообще нет опыта?
— Я девственник, если вы об этом.
В моем голосе прозвучала гордость.
— Вы похожи на монаха.
— Я не верю в Бога.
— В таком случае вы похожи на маньяка.
Я поразился:
— В таком случае почему вы меня не боитесь?
— Ваша мания безобидна.
Мы молчали некоторое время.
— Вы похожи на заколдованного мальчика. Вас очаровали вещи. Вы у них в плену. Я не знаю, как снять с вас порчу. Но я бы хотела, чтобы это случилось.
— А я бы — нет.
Она покачала седой головой:
— Вы еще не родились.
Домой я возвращался коротким путем, через парк.
Аллея была пустынна. Электричество уже зажгли, но фонари светили себе под нос, еле-еле. Я шел по серому асфальту, и каждый мой шаг расщеплялся на два — я шел не один. Я не мог увидеть своего спутника, сколько бы ни оглядывался, только услышать. Мне стало не по себе, и я решил выйти на улицу, пусть и удлинить путь. Парк я знал отлично. В детстве я гулял в нем один, забирался в заросли, удивляясь причудливости растений и насекомых. Я ловил жуков и, рассмотрев, отпускал. Наблюдал за бабочками, стрекозами, гусеницами, муравьями. Их было безумно много. Я терялся перед их многообразием, я почти сходил с ума. Я думал об их классификации. Мне представился Адам, он увидел первое насекомое и назвал его, почти тут же появились два новых, Адам назвал и их. Насекомые множились, Адам не успевал. Книга, в которую он их всех заносил, уже закончилась, он схватил второй том и принялся заполнять его. Насекомые ползали, гудели, смотрели, шевелили усами, взлетали. После этой битвы остался шкаф с томами энциклопедий, в которых все насекомые были описаны, упорядочены, уловлены.
Я свернул на боковую тропинку, почти незаметную в сумерках. Она привела меня к пролому в заборе, через который я и вылез на улицу. Она шла к метро.
Женщина стояла у метро. Не знаю, сколько ей было лет. Тридцать, сорок, двадцать пять. На ней была очень короткая юбка. Темная, в обтяжку. Под юбкой белели ноги. Под круглым коленом левой ноги выцветал синяк. Он просвечивал сквозь колготки. Женщина переступила с ноги на ногу. На ней были блестящие лаковые босоножки на высоких острых каблуках. Женщина курила тонкую белую сигарету. У меня расширились ноздри, я хотел уловить ее запах. Вдруг она отбросила сигарету и, покачиваясь на каблуках, отправилась через дорогу — ко входу в парк. Я поднял отброшенный ею окурок.
Я стоял и смотрел, как она переходит дорогу. Автобус проехал. Она уже вошла в парк. Ее ноги белели в полумраке аллеи.
Я перешел дорогу. Мне казалось, я иду за ней след в след, как по узкой тропе. В парке было тихо, и стук ее каблуков был слышен отчетливо. Мне стало грустно от этого одинокого звука. Как будто я лежал в гробу и кто-то заколачивал крышку: стук-стук-стук. Вдруг стук прервался — заколотили. Я растерялся в тишине. Пробежал немного вперед и увидел, что она сидит на скамейке. Нога на ногу… В пальцах белой руки — сигарета. Я вспомнил об ее окурке в своей руке.
Тихо я прошел мимо нее, сидящей. Опустился на следующую скамейку.
Она курила, смотрела прямо перед собой. И не страшно ей было одной, в парке, в глухой час. Я бы хотел услышать ее голос. Мне казалось, он должен быть глухим, почти мужским, но мягким. Она отшвырнула окурок, он покатился по асфальту, белый, с красной каймой. Она вынула из сумочки новую сигарету. Щелкнула зажигалкой.
Я поднял свою руку с окурком и понюхал красный отпечаток. Отвратительный запах. Я бросил окурок в урну.
Она встала, закинула сумочку на плечо и направилась к выходу. Я шел за ней след в след. На душе было тяжело. Она уходила.
Она жила недалеко от парка, всего лишь через дом от меня. Во дворе ее дома, как и в нашем, росли старые тополя. У ее подъезда стояла бузина с мелкими, еще зелеными ягодами. В безлюдном тихом дворе у дверей ее подъезда я остановился. Она набрала код и вошла. Она не торопилась.
Дверь закрывалась медленно. Щель суживалась, смыкалась. Я успел в нее проскочить.
Ее шаги вверх по лестнице: стук-стук-стук. Скорбный звук. Тишина. Звон — как будто упала и покатилась по каменным плитам монета. Скрип. Хлопок. Она у себя дома, за закрытой дверью. На втором этаже.
Я взбежал вверх по лестнице. Три двери выходили на площадку. Я подошел к одной, прислушался. Мне показалось, там тихо, безлюдно, безжизненно: безвоздушное пространство, и холод космоса, и каменная пустыня Луны. Я отступил от этой двери. Я подошел ко второй и прижался к ней, как к живому существу. За ней было тепло, ярко горел свет, множество людей сидело за столом, их голоса доносились как рокот. Я подошел к третьей двери.
Тишина, как в лунную неподвижную ночь.
Я медленно, неслышно спустился и вышел из подъезда. Услышал запах ее сигареты.
Она стояла на балконе. Рука с сигаретой лежала на перилах.
Я стоял и смотрел на нее. Красный огонек сигареты качнулся и полетел вниз. Он покатился по асфальту, рассыпая искры. Погас. Она задержалась немного, прежде чем уйти. Свет она не зажгла.
Я подошел к домофону и набрал номер ее квартиры. Динь-дон-динь-дон — сказал домофон. Затем я услышал ее голос. Он был не низкий и не высокий, усталый и равнодушный.
— Да? — спросил ее голос.
— Это я.
— Кто?
Домофон отключился.
Я отступил от подъезда и посмотрел на ее темное окно. Вдруг щелкнуло, и дверь подъезда приоткрылась. Я помедлил и вошел. Дверь ее квартиры тоже была приоткрыта.
Я стоял перед темным открывшимся мне пространством. Шагнул в темноту, как в пропасть.
Я проснулся в своей постели. Светило солнце. Стоял яркий летний день. Я долго лежал, прислушиваясь к звукам. Матери дома не было. Я встал и потащился на кухню. Поставил чайник. Открыл холодильник и почувствовал дикий голод. Я ел сыр, колбасу, хлеб с маслом, остатки вчерашнего торта, чаю выпил пять чашек. Терпкий, медом пахнущий чай прояснил сознание. Я сидел на солнечной кухне. Кто я? Вчерашний вечер я помнил отчетливо, до мельчайших подробностей. И женщину, чье имя я не узнал. Наяву она мне встретилась или во сне? Я не мог решить. Вернуться к ее дому я боялся. Вдруг она лежит в своей постели в луже крови, вдруг я и в самом деле маньяк-убийца? Я заплакал. Из крана капала вода, я встал и завернул его.
Оборванный сюжет
Накануне он снял деньги с книжки. Зашел в большой супермаркет, с железной тележкой проехал запутанным лабиринтом. Дорогу к кассе пришлось спрашивать. По пути взял коробку конфет и полпалки сырокопченой колбасы. Оглушенный разнообразием запахов и красок, вышел со своим скромным пакетом на улицу и отдышался. Жил он на свою пенсию. За продуктами ходил в полуподвал соседнего дома, где его уже все знали. Брал только самое необходимое: соль, сахар, хлеб, крупы, чай, масло растительное, иногда карамель и сливки, с которыми очень любил пить чай.
Вечером он сидел в кухне за старым столом, деревянные суставы которого скрипели совершенно по-человечески. Зато плита в кухне была новенькая, огонь зажигался как по волшебству, без всяких спичек, чуть ли не одним желанием. Николай Сергеевич поужинал и поставил варить на завтра гречку. Кастрюля пыхтела, урчала вода в трубах, уже начали отопительный сезон, с потемневшего неба растерянно, точно сослепу, падали снежинки. Николай Сергеевич слушал радио. Перед сном он выпил корвалол.
Проснулся рано. Вдруг она придет к нему первому? Убрал постель, побрился, дверь в ванную не закрывал, чтобы не пропустить звонок. Надел чистые брюки и рубашку, встал у окна в полупустой, пахнущей нежилым комнате, смотрел в окно. Вчерашний снег растаял, под темным небом тлели фонари. Он увидел, как зажегся свет в ее окне, она только что встала. Николай Сергеевич дождался, когда окно ее потемнело, и квартира ее опустела, и она сама появилась во дворе. К его дому она не свернула, значит, оставила напоследок, значит, томиться до ночи. Прежде чем свернуть на боковую аллею, она вынула из сумочки мобильный телефон, коротко с кем-то переговорила.
Николай Сергеевич повернул ручку, и огонь вспыхнул, Николай Сергеевич полюбовался на него, поставил чайник и сел за пустой стол.
Он пропустил ее проход через двор, звонок застал его врасплох. Николай Сергеевич метнулся к зеркалу, ничего не увидел в темноте, зажег свет, испугался, что она, не дождавшись, уйдет, крикнул: «Сейчас!», поскользнулся на новом паркете, едва не упал…
Он впервые видел ее так близко и молчал.
Она механически улыбнулась:
— Здравствуйте. Врача вызывали?
Он попросил ее не разуваться, но она, посмотрев в зеркало паркета, сняла сапоги. Ступила в него, как в воду. Сапоги у нее были старые, стоптанные. Он уже знал, что это рабочие сапоги, что для выхода у нее есть другие, с высокими облегающими голенищами, на острой шпильке, и походка у нее для выхода другая, и губы она красит ярче. Все другое: и сумка, и пальто, и шапка, и шарф, и голос, наверное, другой, и взгляд. Куда она ходила, с кем встречалась, он не знал. Возвращалась всегда одна.
Она послушала его, измерила давление, сосчитала пульс. Сказала, что сердце бьется неспокойно. Хотела сделать укол, но он отказался. Она достала ручку и бланки, чтобы выписать лекарства. Огляделась. Стола в большой комнате не было. Был только диван, на котором сидел старик, и стул, на котором сидела она. Он пригласил ее в кухню. Наблюдал, как бежит ее ручка по серому листу, оставляя быстрый след. Вслух удивился разборчивости ее почерка.
— Это говорит об открытости моей натуры, — усмехнулась она. — Если верить графологам, я легко нахожу контакт с людьми.
— Не хотите чаю? У меня вкусные конфеты к чаю. Вишня в коньяке. Раньше такие было не достать, а сейчас — пожалуйста, водились бы деньги.
— Не скажешь по вашей обстановке, что их у вас много.
— Почему?
— Хотя вообще-то квартира хорошая, и дом новый, и отделка что надо, сантехника, паркет, стеклопакеты.
— Это сын. Он купил квартиру и отделал. Он умер. Сколько вам лет?
— Почти тридцать.
— Ему был тридцать один. Мой единственный ребенок, поздний, долгожданный. Он умер в прошлом году. Попал в аварию. Подождите, я сейчас.
Старик ушел из кухни. Женщина устало смотрела на сверкающую плиту. Плита походила на космический модуль из фантастического фильма семидесятых годов. На плите стоял старый эмалированный чайник. Старик вернулся с фотографией. Он передал ее женщине дрожащей рукой. Женщина рассмотрела лицо молодого мужчины и положила снимок на стол.
— Как он вам? — тихо спросил старик.
— Красивый.
— Правда? Вам так кажется?
— Да. Чем он занимался?
— Он был менеджер в большой фирме, он целыми днями работал. У него совсем не было личной жизни, он уставал безумно.
— Но по крайней мере у него зарплата была неплохая, судя по квартире. Я даже мечтать не могу о такой.
— Самое удивительное, что эта квартира могла бы достаться вам.
Изумленные глаза. Светло-карие.
— Если бы вы согласились, конечно. Дело в том, что он хотел сделать вам предложение. Он мне показывал вас из окна. Он говорил: «Отец, видишь эту женщину, я хочу сделать ей предложение; правда, для начала нужно с ней познакомиться, пойти к ней на прием, что ли, она наш участковый терапевт, взять больничный, пригласить ее в ресторанчик…»
Женщина смотрела на лицо мужчины.
— Пошли бы вы за него замуж?
— Откуда он знал, что я не замужем?
— Наблюдательный. Я поставлю чайник? Выпьете со мной по чашке?
Уже неловко было отказаться.
Она шла через двор к себе домой. Он смотрел из окна. Она остановилась, обернулась. Дом стоял позади нее, множество окон смотрело. Она помахала.
Старик долго не мог уснуть, он жалел, что не сдержался и рассказал ей, она ему не очень понравилась, и он мысленно говорил сыну, что, если бы он сам встретился с ней нос к носу, ему бы она тоже не понравилась, и дело не в усталости, и не в измятом халате, и не в лекарственном запахе — грубовата она была для него. Слишком уж вся ясна. И он уснул со смутной обидой на сына. И со злорадным удовлетворением, что уже никак не может она стать женой его сыну, никак.
Март
Мать вздохнула.
— Пойду.
— Уже?
— У нас сериал.
— Я с вами посмотрю?
— Да ладно тебе, в перерыв угодишь.
Но он не послушал. Потащился за матерью на второй этаж.
Женщины уже сидели перед экраном. За окном стояли березы в тумане. Кто-то зашелестел серебряной фольгой.
— Тише! — воскликнула одна.
Мать говорила Кольке про нее, что она умирает и знает, что умирает, но не хочет, пока сериал не кончится. И врачи удивляются, что она все еще живет. Вернее, удивляются, что из-за сериала, что такая ересь может поддерживать в человеке жизнь. И если бы побольше серий залудили, еще лет на пять, глядишь, и она — лет на пять, назло медицинским прогнозам. Но сериал должен был закончиться через месяц.
Ей положено было лучшее место — в кресле. Она сидела в пальто, так как всегда мерзла, и нос у нее был красный от внутреннего холода. Коля не сериал смотрел, а на нее.
Под окном, у которого он стоял, жарили батареи. Запахло едой. Кашей какой-то на молоке.
Сериал закончился, и все потянулись к палатам, за тарелками, у каждого была своя, казенные не выдавали. И ложки приносили свои, и кружки, и постельное белье. Больница была бедная. Зато березы давали во все окна вечно-утренний свет. Они стояли еще в снегу, он таял медленно, туманом. Колька бы еще здесь побыл, но мать сказала, что сейчас у них обед, а потом тихий час и посторонним нельзя. Операцию матери уже сделали, и теперь она отсыпалась в березовом мороке.
Колька вышел из корпуса. Туман поднимался в серое низкое небо. По дорожке шла черная птица. Колька решил подождать, пока она взлетит, но она не взлетала, а шла, и Колька тащился за ней. Она не пугалась, шла спокойно, кивая черной головой.
Шли по аллее друг за другом, птица и Колька. С берез капало. У морга стояло несколько человек. Серый дым от сигарет не поднимался, а растворялся в мартовском воздухе. Кольке подумалось, что и его растворяет этот воздух, и он поглядел на свою руку, пошевелил пальцами — не подтаяла? Птица вдруг взлетела с шумом. И уже с высоты, с белой ветки, поглядела на Кольку.
— Что? — сказал он ей.
Она не ответила.
Угодил действительно в перерыв. Стоял на разбитой, безлюдной платформе и пил пиво. На противоположной платформе, на Москву, народ толпился. Колька разглядывал людей из своего одиночества, тянул пиво. Спешить ему было некуда. Какой-то парень вдруг махнул Кольке рукой. Витька.
Шлагбаум начал опускаться на переезде. Колька бросил банку и рванул.
Он влетел в хвостовой вагон, и двери сомкнулись.
«Поезд следует до Москвы…» — сказал машинист.
Проплыла березовая роща, за которой невидимо стояла больница, и поезд прибавил скорость. Колька шел по вагонам.
Витька не особо удивился, когда он плюхнулся рядом. Закрыл учебник по математике.
— Ну, что, — спросил, — как жизнь?
— Так… А у тебя? Учишься?
— Нет. Хочу. Может, поступлю.
Помолчали. Поезд шел себе.
— Я Нюрку видел. На рынке. В Пушкино.
— Чего она там делала?
— Не знаю. С парнем каким-то шла. Высокий. Улыбался. Знаешь кто?
— Мне все равно.
— Я тоже не знаю.
И Колька замолчал. Он всегда так: поговорит немного и замолчит. Сидит, молчит, улыбается, смотрит на человека, и человеку неловко. Но кто Кольку знал, не смущался. Переставали обращать на него внимание, возвращались к своим делам, мыслям. Как мать Коль-кина пошла смотреть сериал, и все. Это с непривычки Кольку могли стесняться. Но Витька с Колькой одиннадцать лет отсидели в одном классе. Так что Витька спокойно открыл свой учебник. И выписал на листочек условие.
Народу в вагоне было мало, электричка шла быстро, без остановок. Колька поглядел немного в окно, в листочек с условием. То ли от ровного хода электрички, то ли еще от чего, он сам не заметил, как задумался над задачей, и все остальное перестало существовать. И само собой решение стало ясно. Будто кто-то за руку к нему привел. Колька удивился себе.
— Дай карандаш!
Витька посмотрел на него изумленно. Колька вытянул карандаш из его пальцев и нацарапал на листочке решение. Витька смотрел тупо.
Наконец до него дошло. Он покраснел, скомкал листок.
— Тебя просили? Я сам должен. Я не в школе. Я поступить хочу, понял? Урод.
— Ну извини. Я нечаянно.
Он и правда решил задачу совсем нечаянно, решил — как упал во сне. Он и учился хуже Витьки, и цели у него не было — учиться. У Кольки вообще цели в жизни не было, он ни к чему не стремился.
Витька отошел, принялся за другую задачу, забыл о Кольке. И Колька позабыл обо всей этой математике. Вошел мужик с баяном, и Колька стал его слушать. Он любил всех вагонных музыкантов и, если были деньги, подавал. Но иногда, заслушавшись, забывал о деньгах.
Спустились на эскалаторе в подземелье. На платформе уже Витька спросил:
— Тебе куда?
— А тебе? — спросил Колька.
Витька махнул рукой направо. Колька кивнул и поспешил за ним. Поезд уже подходил. В вагоне сквозь грохот Витька прокричал:
— Я вообще-то в магазин еду. Работать. Первый день.
Колька кивнул. Он смотрелся человеком довольным собой, жизнью, грохотом, сквозняком, летучим обрывком газеты на замызганном полу…
Из метро он от Витьки не отставал. Вошел за ним в магазин.
Стеклянные витрины с мобильными телефонами. Переговорные столики. Молодые люди в белых рубашках и черных брюках неслышно подходят к посетителям.
— Вам помочь?
Мобильники в витринах были будто не человеком сделанные, вроде бы это не магазин был, а музей инопланетной цивилизации, и мальчики в белых рубашках — ее вежливые представители, они дышали прохладой кондиционеров и объясняли забредшим в их пространство землянам устройство этих красивых штук на стеклянных полках. Витька скрылся за дверью служебного входа, а Колька ждал, когда он выйдет. Хотел посмотреть на него в белой рубашке. Встал к стенке и ждал. Мальчики на него строго поглядывали. Витька появился. Белая рубашка его преобразила. Этот белый цвет был не то что мягкий, березовый, этот белый был жесткий, холодный, в его ореоле Витька стал другим. И, понятно, Колька уже казался ему незнаком, из другого мира, пространства, что там еще можно придумать. Колька улыбался, а Витька смотрел мимо, сквозь стекло витрины. Вошел мужик и огляделся растерянно. Витька возле него оказался.
— Вам помочь?
Еще немного Колька понаблюдал за Витькой. Дольше уже неудобно было.
Он вышел на совершенно незнакомую улицу. В Москве снег уже исчез. Воздух стоял совершенно неподвижно, и облака не двигались над Москвой. Сплошные, серые, низкие. Воздух был влажный, и Колька в нем чувствовал себя вроде рыбы, можно было бы оттолкнуться ногами от асфальта и поплыть.
Две девчонки пошли через дорогу к «Макдоналдсу», и Колька — за ними.
Взял он гамбургер, картошку-фри и колу со льдом. Сел за столик возле девчонок, ему хотелось послушать их болтовню. Он слушал и улыбался. Они говорили про пейнтбол, стрельбу пулями, которые не убивают. Но след остается, краска. Девочка говорила, что ужасно хотела подстрелить одного парня. Ей это удалось. Наповал. Она так сказала: «Наповал». Но он не увидел, кто в него попал. Она затаилась, а он боялся двинуться, нарушить правила. Она за ним наблюдала, и он знал, что за ним наблюдают, только не знал кто.
Девчонки хихикали, Колька улыбался. Он уже все слопал и пил колу, позвякивая льдом. Вдруг девчонка-стрелок обернулась и посмотрела на него. Колька улыбался.
— Что? — спросила девчонка. Глаза у нее были холодные.
— Вы работаете или учитесь? — спросил Колька.
— А тебе что?
Она молчала презрительно. Но подружка ответила:
— Учимся.
И взгляд у нее был мягче.
— А где учитесь?
— Где надо, — ответила жестко стрелок. Ее подружка улыбнулась.
— Здесь институт, рядом.
— У вас что, уже уроки кончились?
— У нас перерыв.
Девчонки отвернулись от Кольки, зашептались, захихикали. Подружка стрелка оглянулась и засмеялась. У Кольки лед звякнул в бумажном стакане.
— А ты? — спросила строго стрелок. — Где учишься?
— Я не учусь, я работаю.
— Кем? Приставалой в «Макдоналдсе»?
— Не. Я сейчас в отпуске. А так я на стройке работаю, отделочные работы.
— Да ладно.
— Правда. Вот на Третьем кольце есть дом, огромный, мы делали.
— Ты гастарбайтер?
— Нет. У нас их нет, у нас все серьезные люди.
Девчонки расхохотались. Пошептались, поглядели на Кольку шалыми глазами. Он спросил:
— У вас во сколько уроки кончаются?
— В пять.
— Давайте встретимся?
— Зачем? — отвечала Кольке стрелок. Отвечала строго, но глаза смеялись.
— Так. Погуляем.
— Где?
— Не знаю. Где скажете.
Стрелок задумалась, не сводя с Кольки насмешливых глаз.
— Алтуфьевское метро знаешь?
— Нет.
— Не важно. В центре зала, в шесть тридцать. Только не опаздывай, ждать не будем.
Они ушли, уже не обращая на Кольку внимания, он перестал для них существовать. Девушка-служащая унесла их подносы с цветным бумажным мусором. Колька догрыз последнюю льдинку и вышел из «Макдоналдса». Времени до шести тридцати оставалось полно.
Колька подошел к пожилой даме, она не спеша прогуливалась, дышала мартовским воздухом. Колька вежливо поинтересовался, где здесь рядом институт.
Охранник взглянул на Кольку равнодушно, документы не спросил, видно, ему было лень чего-то спрашивать, шевелиться.
Лекции уже начались. Колька прошел безлюдным коридором. Одна из дверей была приоткрыта, и Колька заглянул в щель. Маленький лысый дядька бубнил, сидя за столом у черной доски. Встал, направился к доске, взял мел. Он стал писать, приподнимаясь на цыпочки. И Колька вошел в аудиторию. Присел за ближайший стол. Дядька обернулся и посмотрел прямо на Кольку маленькими и неожиданно яркими глазами. Колька замер, но дядька не сказал ничего, положил мел в желоб у доски и отряхнул руки. На доске было написано: «Механизм воспроизведения».
Колька огляделся. Девчонок из «Макдоналдса» здесь не было.
Никто на Кольку внимания не обращал, даже парень, который сидел совсем рядом. Впрочем, он набирал эсэмэску и вообще ни на что больше не обращал внимания. «Похоже, я человек-невидимка», — так примерно подумал Колька. Говорил дядька скучно, и Колька поначалу не слушал, глядел на ребят, в окно, на то, как шевелятся губы лектора. Незаметно его ровный, монотонный голос опутал Кольку, проник в мозг, в сознание. Оказалось, что Колька слушает.
Речь шла о памяти. О том, что человек, как скряга, хранит все, что видел когда-либо, слышал, хоть как-то чувствовал, о чем думал, мечтал, все, до самого последнего впечатления. Даже то, на что и внимания вроде бы не обращал. Все лица, виденные мельком, скажем, на эскалаторе.
Вопрос, как вызвать эти воспоминания. На самом деле вопрос в другом: зачем они нам? Или: при каких обстоятельствах должны являться? При крайних? Но зачем нам на краю, в предсмертный миг, эти лица на эскалаторе? Мы их не знали. Они ни о чем нам не скажут.
От этих вопросов мурашки пошли по коже. Но лектор вопросы поставил, а ответить забыл и скучно вернулся к механизму воспоминаний того, что действительно надо иногда вспомнить. Теорему, скажем, на экзамене. Ручки дружно шуршали по бумаге, Колька скучал.
Девчонок он в институте так и не нашел и в половине шестого выбрался на улицу.
Простоял на Алтуфьевской с шести до начала восьмого. Столько лиц увидал — будет что вспомнить на краю. Он уж понял, что девчонки его пробросили, но все не уходил, маячил. Поезда грохотали, сквозняки раскачивали люстры. Мужик шел по залу с огромной сумкой. У него было мокрое, скользкое от пота лицо. Время от времени он останавливал какого-нибудь человека и что-то спрашивал или жаловался на что-то, но никто его не жалел, и все бежали дальше с суровыми лицами. В центре зала мужик увидел Кольку.
— Слушай, парень, скажи мне ради бога, где здесь… улица.
Колька оглянулся. Из метро было два выхода, и на указателях… улицы не значилось.
Мужик вздохнул и побрел дальше со своей сумкой. Было похоже, что это она тащит его за собой всей своей тяжестью. Женщина с сумрачным взглядом подошла к центру зала и остановилась. Женщина посмотрела на часы, на Кольку — скользящим взглядом. Спрятала руки в карманы старого кожаного пальто. Голову опустила.
— А вот вы не знаете, — спросил Колька простодушно, — улица… как к ней пройти?
Она подняла голову, посмотрела на Кольку так, словно удивил ее Колькин вопрос.
— Почему же не знаю?
Колька догнал мужика уже у самого эскалатора. Схватил его за рукав.
— Я вас провожу. Это не сюда надо. Наоборот.
— Ну, спасибо, — время от времени повторял мужик, пока они поднимались по эскалатору, выходили из метро, шли по улице. — Ну, спасибо.
Колька хотел помочь тащить сумку, но мужик отказался категорически. Иногда он останавливался отдохнуть, ставил ношу на землю. И Колька слышал, как колотится у мужика сердце.
— Далеко еще?
— Да вроде нет.
В один из таких перекуров зажглись фонари на улице. И за фонарями стало сразу темно, таинственно.
Спросили у прохожего дом.
— Да вот он, прямо перед вами.
— Ну, хорошо, — сказал мужик Кольке, — спасибо тебе. — И пожал ему руку. — Ты здесь где-то живешь?
— Да нет.
Мужик посмотрел на Кольку недоуменно и даже подозрительно. Но повторил еще раз вежливо:
— Спасибо.
Поднял свою сумку и направился к дому, а Колька стоял и смотрел ему вслед. Мужик скрылся за железной дверью подъезда, а Колька остался один на незнакомой улице. Он побрел по ней так, куда выведет. Посыпал мокрый снег.
Колька вышел к небольшой площади, на которой разворачивались автобусы. На остановке под стеклянным навесом сидела девушка. Колька присел рядом. Она не обратила на него внимания. Глядела на тающий в воздухе снег.
Показался автобус. Он развернулся, подошел к остановке и отворил двери. Девушка будто не видела. Автобус терпеливо подождал, закрыл двери в ярко освещенный, теплый салон и уехал, увозя свое тепло и свет. Колька встал и поглядел на щиток с расписанием. Здесь останавливался только один номер. Колька вернулся на лавку. Девушка все так же спокойно смотрела на снег. Ухо у нее было маленькое и круглое.
— А чего вы автобус пропустили? — решился и спросил Колька.
Девушка не отвечала.
— Холодно так сидеть. Лавка холодная.
Она повернулась к нему. Глаза серые под низкой челкой.
— Тебе что? Чего сам тут сидишь? Делать нечего?
Отвернулась, и так они продолжали сидеть дальше.
Жизнь застыла на одной точке, никто не умирал и не рождался, время остановилось. Пропустили еще автобус. Колька стал говорить — просто чтобы что-то сдвинуть в этом молчании. Рассказ был нелепый, но иначе бы и не удалось ничего сдвинуть. Колька это не понимал, но чувствовал.
— У нас был сосед, он заходил к нам, не знаю, может, раз в неделю, звонил в дверь, мать открывала, он говорил: «Здрасьте, не одолжите мне соли?» Мать говорила: «Да, конечно» и насыпала ему соли… По-моему, он с чашкой приходил, да, с чашкой. Она ему насыпала одну треть, наверно. Он говорил «спасибо» и уходил. Больше ничего не просил, ни сахару, ни хлеба, только соль. И не говорил ничего, кроме спасибо, ни о погоде, ничего. Один раз мать купила сразу пять пачек, таких картонных, с синими буквами. Он пришел, и она ему отдала все пять. Больше он не приходил. Я его встречал иногда, мы здоровались — и все.
Девушка молчала, наверно, и не слышала. Забыла, что он здесь. Снег перестал, и, может, поэтому она повернула к Кольке бледное лицо. На бледном лице россыпью темнели веснушки.
— Тебе совсем делать нечего? — спросила девушка, глядя Кольке в глаза.
— Да, в общем… Я в отпуске.
Девушка продолжала рассматривать Кольку. Он улыбался от растерянности. Девушка вынула из кармана кошелек. Колька завороженно смотрел, как она раскрывает лаковый, точно мокрый, кошелек, как вынимает из него деньги. Пять сотен. Она протянула их Кольке.
— Возьми.
— Зачем? — Колька даже руки завел за спину.
— Тут кафе, ты меня угостишь.
— У меня есть деньги.
— Рада за тебя. Но мне твои не нужны.
— А мне твои зачем?
— В кафе расплачиваться. Вроде ты меня пригласил. Вроде как игра.
Для кого игра? В кафе и народу почти не было, а кто был, не смотрел, не интересовало никого, кто там будет за кого расплачиваться. Хотя сначала Кольке подумалось, что девушка показать хочет Кольку парню, с которым поссорилась, как в кино обычно.
Пока ждали заказ, молчали. То есть девушка ничего напоказ не делала, не улыбалась Кольке, даже и не смотрела на него. На стенах было изображено то же самое кафе, но стародавнее. Официант там нес кофейник на подносе и пирожное.
— А есть такие сейчас? — спросил Колька официанта ненарисованного. Он ответил, что нет.
Девушка принялась за еду, и Колька тоже. С голоду и холоду все казалось вкусным, и про неясную роль свою Колька совсем почти забыл.
— Тебя как зовут? — спросила девушка. Она порозовела, а веснушек будто еще больше проступило.
— Колька.
— Подходящее имя для тебя.
— А для тебя?
— Мне Ольга подходит.
— А на самом деле?
— На самом деле подходит. Еда ничего?
— Нормально.
— Где ты живешь?
— В области.
— А здесь что?
— Так.
— Дома знают, что ты здесь?
— Нет.
— Волнуются?
— Нет. Мать в больнице, а больше некому.
Девушка задумалась.
— Знаешь, просто так, от нечего делать, человек не мотается.
— Не знаю.
— Ты стихи пишешь?
— С чего это? Нет, конечно.
— С девушкой поссорился?
— Нет. Я ни с кем не ссорюсь. И девушки у меня сейчас нет. Она меня бросила. Я не в обиде.
— Выходит, если ты завтра помрешь, кроме матери, о тебе и не пожалеет никто?
— Ну… — Колька смутился. — Я не знаю. А ты не пожалеешь?
— Да я уже сейчас о тебе почти не помню.
Колька ничего не нашелся ответить.
— Ладно. Официанта зови и расплачивайся.
И Колька подозвал официанта и расплатился.
— Хорошо, — сказала девушка. — Можешь идти.
Но Колька никуда не уходил и все смотрел на нее.
— Что? — спросила девушка уже сердито.
— Зачем ты… все это?
— Хотела представить, что ты мой парень.
— Давай дальше представлять.
— Дальше неинтересно.
— Тогда я тебе верну деньги.
— С какой стати?
— Раз тебе представление не понравилось.
Она усмехнулась.
— Ну, нет. В театре же не возвращают, если не понравилось. И в кино. И в цирке.
— Ага. И в общественном транспорте.
На стене, прямо напротив Кольки, загораживался газетой какой-то господин в лаковых штиблетах. На газете были четко видны все буквы, и пар над чашкой убедительно поднимался тонкой струйкой. Год значился на газете тыща девятьсот седьмой. Такая старина!
Снег кончился. Подморозило, и ноги скользили по обледенелому асфальту. Колька шел дорожкой вдоль долгого дома. Было тихо, только свои шаги Колька и слышал, и вдруг что-то ударило в асфальт, как пуля. Колька замер. Он увидел небольшой металлический предмет. Осторожно приблизился, наклонился. Это была зажигалка.
— Что? — раздался сверху голос, — цела?
Колька поднял голову. Облокотившись на перила, смотрел на него с балкона мужчина. Несмотря на холод, в рубашке с распахнутым воротом. Взгляд у него был спокойный. Колька взял зажигалку.
— Действует? — спросил мужчина.
Колька щелкнул рычажком, и пламя вспыхнуло.
— Будь другом, — сказал голос сверху, — принеси ее.
В прихожей был полумрак, хотя горела лампа, но под толстым синим стеклом. И лицо хозяина в этом свете казалось очень уж бледным. И свое лицо Колька увидел в зеркале и тоже удивился его бледности. Колька протянул хозяину зажигалку.
— Сколько я тебе должен? — спросил хозяин, щелкая рычажком. Он смотрел на пламя зачарованно, как на необъяснимое чудо.
— Да нисколько.
Колька оглядывал с любопытством синий полумрак большой прихожей.
— Ты водку пьешь? — спросил хозяин.
— Пью.
— Хорошо, проходи.
Как в шпионском фильме: пароль, отзыв, проходи.
В комнате стен не было видно за книгами.
— Все прочитали? — спросил Колька.
— Нет еще.
— Думаете, прочитаете?
— Не уверен. Жизнь коротка, как говорится, искусство вечно. Садись в кресло. Что к водке будешь? Котлеты ешь холодные?
— Ем. С хлебом.
Только сейчас Колька разглядел, что мужчина очень пьян. Он не шатался и говорил ровно. Но слишком уж ровно. Как будто шел по канату, натянутому высоко. Он отправился за водкой, аккуратно держа равновесие, а Колька уселся в мягком кресле. Из приоткрытого балкона тянуло холодом. Прошел на мягких лапах кот. Откуда он появился, Колька не понял. Скрылся на балконе.
Хозяин все не возвращался. Колька выбрался из кресла и посмотрел книжки. Много было на иностранных языках. Колька вытащил одну, полистал. Там были анатомические картинки, и Колька решил, что хозяин — врач. Он втиснул книгу на место. Очень было тихо в квартире. Колька сказал: «Эй!» Но никто не отозвался. Это Кольку встревожило.
Хозяин сидел на диване в большущей кухне и спал, полуоткрыв рот. Зажигалка валялась на полу. Колька растерялся. Может быть, стоило его разбудить. Но он не решился. Постоял, послушал дыхание спящего. Поднял зажигалку и положил на край липкого, в крошках стола. И тихо вышел.
Дверь он за собой прикрыл до упора, и замок защелкнулся. Колька подумал, что наутро человек даже не вспомнит, что был какой-то парень у него ночью в доме, сидел в его кресле, смотрел анатомический атлас, этого он, впрочем, не видел. Колька почувствовал себя практически несуществующим. Не только в эту ночь, никогда. Он видел свою руку, и ему было больно, когда он ударился ею о фонарный столб, то есть вроде бы он действительно был. Но только для себя самого. Для других — нет.
До метро Колька болтался по улицам, пил кофе в забегаловке, курил на лавке у подъезда. В вагоне, лишь присев на сиденье, закрыл глаза. Он не спал, он слышал, как объявляют станции. Ему надо было перейти на Кольцевую. И он услышал станцию, но разлепить глаза и встать не смог. Он чувствовал все внешнее, разговоры, само присутствие людей, их все больше набивалось в вагон, он не отключался от реальности, но и включиться не мог. Он подумал, ладно, проеду центр и потом пересяду на кольцо. И станцию услышал, но встать не смог, только подумал, что надо. Ему случалось не спать ночь, и на другой день он бывал вялым, но не так, не до такого бессилия, эта ночь всю кровь из него выпила. На конечной Кольку растолкала дежурная, он перешел на другую сторону. Садиться не стал, чтобы уже не проехать. Толпа его поддерживала. И глаза не закрывал, смотрел на рекламный плакат. Приглашали учиться на машиниста. Водить под землей поезда. Бесплатный проезд, форма и полный социальный пакет. На Кольцевой его вынесли.
Ноги уже не держали, и Колька рухнул на свободное сиденье. Тут же закрыл глаза. Состояние было то же, все слышал, чувствовал, но не мог включиться. Уже и не хотел, напротив, отключиться бы, но и это не мог, так и торчал на границе двух миров, безумие. Кольцо — линия бесконечная, потому что замкнутая, и идущий по ней поезд никогда не дойдет до конца. Или почти никогда. В измерении пассажира это почти приближается к величине, бесконечно малой. На пятый раз услышав, что объявляют «Комсомольскую», он сумел заставить себя встать. Глаза открыл, уже пробившись к выходу.
В электричке не топили, и потому, верней всего потому, что глаза уже не слипались, сознание прояснилось, Колька прямо ощущал его прозрачность, незамутнен-ность. Встречные поезда шли битком, самый час пик. А в их поезде народу было мало, и колеса свободно грохотали в полупустом, шатающемся вагоне.
Поезд прошел березовую рощу и замедлил ход. Колька уже был в тамбуре.
Снег таял туманом. Березы стояли в тумане. Колька чувствовал его на лице, на руках. Из него не хотелось уходить. И Колька не спешил. Туман проникал в мозг, но сознание оставалось ясным. Кольке вспомнилось четко, как он сидит маленький и рисует лошадь. Лист большой и шершавый, в руке цветная палочка. У лошади черный глаз. И кто-то говорит: «Художником будет…»
Мать сказала, что спала хорошо, дома так не высыпалась никогда, как здесь. На завтрак были творожники, вполне съедобные. Больше говорить она не нашлась и просто смотрела на сына.
— У тебя усы скоро будут, — заметила.
— Ага, — он потрогал верхнюю губу. — Мам, скажи, ты помнишь, как я лошадь рисовал в детстве?
— Нет.
— Красивая лошадь, с черным глазом.
— Я помню, конечно, как ты рисовал. Наверно, и лошадь рисовал. Не помню. Знаешь, Валя наша, которая все сериал хотела досмотреть, она говорила, что очень хорошо в детстве рисовала и всегда лошадей. Так и не досмотрела сериал, умерла в эту ночь. Так странно.
Уже дома, глядя в телевизор, Колька догадался, что, наверно, чужое воспоминание проникло в его сознание с мартовским туманом. А куда было деваться, если родное сознание умерло. Куда воспоминаниям вообще деваться? Кольку поразила эта мысль, но сил додумывать уже не было, и он уснул перед телевизором, не слыша его, не чувствуя, отключившись наконец.
Музыка
Так он слышал каждого человека. Его присутствие в мире. Шаги. Разговоры. Дыхание. Один звучал примерно как полька, другой как марш, третий как трагическая симфония. Леша не мог найти полного соответствия сочиненной музыки и этой, слышимой лишь ему и, может быть, высшим сферам. Все соотношения были приблизительны.
Казалось, мог из него выйти и композитор. Но сочинять ему было нечего, он и так слышал. А записать слышанное не представлялось возможным, и даже не потому, что Леша не знал, как записать. Записанное имеет начало и конец, а то, что он слышал, было изменчивым, неустойчивым, в один час звучал человек так, а в другой мелодия менялась, и это захватывало.
Бабка у него была цепкая. Решительно не собиралась помирать. Ему все рассказывала, что видит, хоть Леша и не мог представить ни синиц, которым она сало подвешивала на яблоню, ни сизого от мороза воздуха, ни то, как сосед Антон идет пьяный и падает в снег. То есть у него было представление, но не зрительное, а бабка ему старалась описать именно зрительно, цветами. Это вошло у нее в привычку.
Слеп он был от рождения.
Иногда она читала ему вслух одну только книгу, другой не было. Он слышал начало: «Ветер задул свечу». Дальнейшее заглушала музыка, которая была бабкой, но не совсем, а позабывшей себя и что-то другое, не свое, но как свое, переживающей…
В сентябре ему исполнилось четырнадцать лет.
В этот год уродились яблоки, и он слышал, как они падают, в траву, на крышу, катятся с крыши или остаются там для птиц, и птицы ходят по крыше и клюют. Яблоки он искал в траве, и ему казалось, что они от него разбегаются, и тогда Леша сидел затаившись, не издавая ни звука, и они сами прикатывались на него посмотреть, они были любопытные, эти яблоки, он их схватывал за холодные бока — и в корзину, оттуда они не выбирались, они там как будто испускали дух, и этот дух витал над корзиной, дух осени.
Бабка купила ему новую куртку из болоньи и берегла в шкафу до холодов. Куртка Леше очень нравилась, и вечером, умывшись, он доставал ее из шкафа и надевал. И ходил в ней по дому, куртка шуршала на нем, а бабка говорила: «Не загораживай телевизор». И тогда он садился рядом с ней на диван в новой куртке и шуршал. Бабка говорила, что у него глаза серые, а куртка — серо-голубая, и получается вместе красиво. «Хоть бы скорей похолодало», — мечтал Леша. Чтоб только в куртке покрасоваться перед людьми.
По воскресеньям они приходили на рынок со своими корзинами, в которых бывали — по сезону — и огурцы, и клубника, а картошку они возили в мешках. Тележка скрипела и стонала, хоть Леша и смазывал ее машинным маслом. Стояли за деревянным прилавком, и если монета падала на асфальт, то Леша ее подбирал, потому что точно слышал, где она лежит.
Казалось бы, он должен с ума сойти от столкновения всех этих музык в толпе на рынке (катастрофа!), но люди звучали в толпе не вразнобой, а в некотором соответствии, хотя и не всегда гармоническом, это была как большая, грандиозная симфония под светлым небом.
Они с бабкой лузгали семечки, а обедали хлебом с вареными яйцами. После обеда рынок затихал.
Они хотели уже уходить, когда подошел к ним человек и спросил, почем яблоки. Бабка назвала цену и выбрала ему яблоко на пробу. Все было обыкновенно, но только не для Леши. Он не услышал музыки этого человека. От него исходила тишина, как из щели в какой-нибудь подвал исходит в жаркий день холод. Тишина была абсолютной. Из множества людей, встреченных Лешей, этот был единственным пустым, безмолвным. Но только для Леши. Бабка слышала его голос, и это ей казалось достаточным. Леша же — испугался, впервые в жизни он так испугался человека. А когда тот, нечаянно или нарочно, коснулся его руки, Леша руку отдернул, хотя ничего не было необыкновенного в его прикосновении.
— Антоновка? Сладкая.
Леша назвал его про себя Тишиной. Хотя больше он был похож на черную пустую воронку. Слова из нее выходили ровно, вежливо.
— Сочные.
— Собирать не успеваем, такая тьма уродилась.
Кто-то уже встал за ним и стал ждать. Какая-то, видимо, расстроенная женщина, судя по музыке, как будто у нее ребенок лежал дома простуженный и она о нем думала, что-то вроде этого. В другой момент Леша даже мог бы и спросить весело, о чем она думает. И она бы, наверно, ответила слепому, но не факт, что правду.
— Так чего? — спросила бабка Тишину.
— Извините, что посторонний вопрос. Я ищу комнату в хорошем доме, чтобы спокойно, у меня знакомых нет пока в этом городе, и я решил вас спросить, вдруг вы знаете.
— Ну, — сказала бабка, — мы сдаем иногда комнату, но только у нас удобств нет.
— Это не страшно.
— Мы, конечно, по знакомству стараемся.
— Я понимаю. Но знакомых нет.
— Издалека вы?
— Не очень. Мне климат сменить посоветовали.
— У нас железную дорогу слышно.
— Главное, чтобы в доме спокойно было. А железная дорога — это я даже люблю.
— Леша иногда уронит чего-нибудь, он споткнуться может, если не на том месте стоит.
— Это понятно.
— Даже не знаю.
Бабка сомневалась для вида, для порядка, она таким образом приманивала, чтобы не отказался, увидев их бедный дом. Деньги очень были нужны, ботинки Леше к зиме, вырос из старых, шапка новая нужна, а то стыдно, скажут, что он себя не видит, а бабка пользуется, запустила внука, а ей хотелось, чтобы он был лучше всех, чтобы девочки заглядывались и чтобы учился на пятерки, хотя только на слух.
Все почти продали и отправились домой, за линию. Переждали состав, про который бабка сказала, что пассажирский, на Москву. «А занавески за окнами белые, крахмальные, люди сидят чистые, чай пьют из стаканов в подстаканниках, чай с сахаром, и хлеб белый с колбасой». Поезд прогудел, простучал, ветер за ним взметнулся. Леша ударил по железной рельсе своей палкой ему вслед.
Леша спустился за бабкой по насыпи, и камешки осыпались, потекли за ним.
К дому шли тропинкой через проходные дворы, бабка впереди, а Леша спокойно за ней, он шел, прислушиваясь не к ее шагам, а к ее музыке, музыка прочерчивала ему путь в темноте. И бабка знала, что он никогда не споткнется, если идет за ней.
Леша любил эти дворы, здесь всегда слышались мирные голоса и звуки. Скворчал на сковородке лук за открытым окошком. Краской пахло, хрустела под ногами угольная крошка. Собака лаяла и бежала за ними недолго.
Иван Николаич стоял у своей калитки, курил папироску и поджидал их. Скрипели тележные колеса.
— Чего-то вы не пустые едете.
— Да почти все продали.
— А это чего?
— А это мы тебе оставили.
— На что она мне? Кислятина.
— Этот год сладкая антоновка, не ври.
— Антоновка сладкая не бывает.
— Не хочешь — не бери.
— С чаем еще можно попить.
— Можно, можно…
Взял, конечно, яблоки. Как они пахли из газетного кулька! Бабка говорила потом Леше, что яблоки он на подоконник положит, а газету читать будет за чаем, а когда прочтет, на растопку отложит. У Ивана Николаича ничто не пропадет.
— Телевизор придешь смотреть?
— Не знаю еще.
— Сегодня кино по программе.
— Новое?
— Да вроде.
— Ну его.
Вышли из дворов на пустырь.
Он сидел в их саду беззвучно, не шевелясь. Но Леша услышал. Тишина там, в саду, засасывала. И Леша приближался к ней осторожно.
Бабку одно смутило: что у него не было при себе вещей. Сказал, что они у него в камере хранения на вокзале, но так никогда и не принес. Вытащил бумажник, солидный, из толстой кожи. И сказал, что готов заплатить за месяц вперед или даже за два. И бабка, увидев деньги в таком солидно скрипящем бумажнике, сразу согласилась. Она подумала, что и крышу можно будет поправить в сарае, и уголь купить, чтобы не один раз топить в морозы, а два.
Сидел в саду в темноте, а они мыли ему комнату. Там стоял диванчик, этажерка и стол у окна, а на столе — здоровенный ящик радиоприемника. Не работал, но свет за стеклянной шкалой горел, если включали в сеть. Леша пальцами чувствовал тепло этого света. У дверей была прибита вешалка с полочкой для головных уборов.
Ночи были уже прохладные, и бабка немного протопила. Печь стояла в кухне и грела обе комнаты.
Сели ужинать. От печки исходило тепло. Бабка приготовила картошку на сковородке. Чайник пел на шестке. Потрескивали догорающие поленья. Жилец вилкой подобрал картошку и стал жевать. Бабка сказала:
— Ага. — И объяснила Леше: — Идет к нам Иван Николаич. В окно вижу.
А Леша и так слышал, что он идет, сквозь щели в окно протекала его хрипловатая музыка.
Жилец спокойно жевал.
Крыльцо проскрипело, корыто ухнуло в коридоре, всегда его задевал Иван Николаич. Чертыхнулся и вошел на порог. Так бы он сказал: «Ужинаете?» А тут смолчал при виде незнакомого человека.
— Заходи, Иван Николаич, — сказала бабка, — не робей, это жилец у нас, Павел Андреич.
— Здравствуйте, — сказал ровным своим голосом жилец.
— Здравствуй, коли не шутишь.
Иван Николаич уселся, папиросы и спички положил на стол.
— Курить при тебе можно? — спросил жильца.
— Да, пожалуйста.
— А сам не куришь?
— Нет.
— Здоровье бережешь, значит.
— И правильно делает, — сказала бабка. Она положила Ивану Николаичу картошки, и он принялся за еду. А бабка налила Леше чаю и принялась за расспросы.
— А вы кто по профессии?
— Пенсионер.
— Что вы? Молодой больно для пенсионера. Или вредное производство?
— Да. Огурцы у вас вкусные.
— Это я травку особую кладу, когда солю.
— А я, — сказал Иван Николаич, — американский шпион.
— Пенсионер он тоже. Бывший машинист.
— Американский шпион.
— Денег-то у тебя чего не накопилось, шпион?
— Денег у меня много, все в Америке.
— Лешке их отпиши, не забудь.
— Ему деньги ни к чему.
— И для чего тебя к нам заслали, ума не приложу?
— Секрет, но тебе скажу. Чтобы понял, как в России люди живут, чем на земле держатся, зачем не помирают. А то загадка.
— И понял?
— Пока не очень.
— Вот к Богу попадешь, Он тебе разгадает.
— Бога нет.
Леше казалось, что тишина жильца перекашивает все звуки, все разговоры, они как бы скатываются в ее яму.
После ужина бабка включила им телевизор в своей комнате и пошла за водой. Иван Николаич придвинул там кресло поближе к экрану. Жилец от телевизора вежливо отказался и ушел к себе. Леша устроился в кухне на диване, слушал кино.
Бабка ходила долго, встретила, наверно, соседку и заболталась. Иван Николаич уснул в кресле.
Леша сидел в темном своем мире, полном звуков и вздохов, и мебель вздыхала, и клеенка скользко поскрипывала на столе. Воздух тек из окна. Музыка Иван Николаича как будто от него освобождалась, она обретала самостоятельность, почти отдельность от спящего человека. И Леша побаивался этой музыки, ему казалось, что она сама — как существо и видит Лешу, как бы он тихо ни сидел, и ей любопытно, что тут за Леша такой, и она подступает к нему, как вода. И Леше хотелось поджать ноги, ему казалось, что музыка спящего касается его ступней, и они холодеют от ее прикосновения, а музыка поднимается. У спящей бабки музыка была более возвышенная, не такая плотная, ей неинтересны были предметы и люди, она рассеивалась. Свою собственную музыку Леша слышал редко, как пульс, как биение сердца после сильного напряжения, когда оно отпускало.
Холодный воздух из открывшейся нараспашку двери спугнул музыку спящего, она ушла, сжалась. Иван Николаич двинулся в кресле.
Бабка вошла. Заглянула в комнату.
— Спит, — сказала. Но Иван Николаич откликнулся.
— Я глаза закрыл, чтоб вас не видеть. Вот Лешке хорошо, не видит ничего, сидит себе, как у мамки в животе, темно, тепло.
Леша ночевал в кухне на диване, за стенкой была комната жильца, и Леша слышал, как вдруг приемник заговорил. Тихо, но не для Леши. Это было так неожиданно, что Леша сел. Видимо, жилец починил от скуки.
В их маленьком доме раздались голоса из Москвы, из других стран, мелодии, вздохи, шепот эфира, шелест… Все оказалось здесь, проникло к ним. Но Леша догадался, что оно здесь и было, всегда, только неслышно, а приемник все это уловил, усилил. И Леша почувствовал свой дом перекрестком мира. Ему даже показалось, что он кожей чувствует эфирный шум как движение, скольжение воздуха.
Леша лег, закрыл глаза, чтобы уснуть. Жилец нашел какой-то спектакль и стал слушать негромко. Леша подумал, что он тоже лежит, закрыв глаза, и представляет, что в комнате люди, и ему не так тихо, потому что не может же он не чувствовать свою тишину. Хотя кто знает.
Утром бабка едва добудилась Лешу. Жилец спал, и тишина от него не отходила, она окутывала его, он был в ней как в коконе.
Попили чаю. Бабка вышла на крыльцо проводить. Дальше крыльца Леша провожать не разрешал.
Бабка смотрела, как он идет по тропинке. Утро было такое хорошее, солнечное, и ей стало безумно жаль, что он не видит тумана, солнца, травы, еще совсем по-летнему зеленой, желтых листьев на березе. Но как-то по-своему он это ощущал, наверное. Дошел по тропинке до калитки. За калиткой остановился. И бабка подумала, что он совсем уже взрослый. Молодая женщина прошла и взглянула на Лешу недоуменно, и бабка расстроилась. Бабка привыкла к его взгляду, устремленному только внутрь себя, а сейчас подумала о впечатлении человека непривычного, постороннего.
Показался Дима Гаврилов, он учился в девятом. Обычно он пробегал позже, уже урок начинался, а тут вдруг шел заранее. Леша подождал, когда он пройдет, и направился за ним, точно, след в след. Бабка не знала, как Леша понимает, что прошел именно школьник. Наверно, был какой-то особенный школьный запах, который его вел.
Леша скрылся, и бабка отправилась в дом. Дел было много.
Когда Леша привязывался за чьей-то музыкой, следовал за ней, забывался, сознание его отвлекалось на свои мысли. Это походило на сновидение. Леша грезил, но никогда не терял музыкальную нить, она вела его в темном лабиринте.
Он пришел в себя, когда дверь на тугой пружине за ним захлопнулась. Он не знал, где оказался. Точно, что не в школе. Затхлый воздух и гулкие шаги вверх по лестнице того, за кем он шел. Шаги остановились. Музыка остановилась. К ней приблизился кто-то, другая какая-то музыка. Возникло странное ощущение, как будто два разных потока сошлись почти вплотную и остановились, хотя это немыслимо, чтобы потоки остановились и катастрофы не случилось. Леша стал подниматься к ним, неуверенно, нащупывая палкой ступени. Он догадался, что это подъезд. Но где? Многоэтажки начинались за заводом.
Леша поднимался, держась за перила, и вдруг понял, что его заметили.
— Ты кто? — спросил женский голос. А Дима сказал:
— Черт.
Они, эти двое, стояли на площадке, отступив друг от друга, и тяжело дышали.
— Ты что, шел за мной? — голос у Димы был злой. — Вот паскуда. Зачем? Ты!
Он схватил Лешу за рубашку. Но девушка удержала его руку.
— Погоди… Ты шел за ним?
— Я в школу за ним шел.
— Пристроился… Он слепой.
— Я поняла. Слушай, это не школа.
— Да.
— Вали отсюда! — музыка у Димы вся как-то скрутилась в пружину, вот-вот лопнет.
Леша повернулся и пошел вниз. Вдруг палка выскользнула.
— Я провожу его, — сказала девушка. — Что бесишься? Из подъезда выведу и все. Иди в дом.
Сбежала легкими шагами и взяла Лешу под локоть. Леше не хотелось, чтоб она отпускала его, и он шел медленно, будто совсем был беспомощный. Дима шарахнул дверью там, наверху.
— Он мне дверь снесет, — сказала девушка. В голосе ее была усмешка.
Леша промолчал, а через несколько ступеней вдруг решился, спросил:
— А что вы там делали?
— Где?
— Там.
Он чувствовал на себе ее взгляд, на щеке.
Вдруг она остановилась, и его остановила, перехватила руку выше локтя, придвинула к себе, развернула, он почувствовал спиной стену. Она приблизила к нему лицо и сказала:
— Закрой глаза.
Леша закрыл, раз она сказала.
Она коснулась губами его губ. Обхватила его за уши, притянула. Языком раздвинула губы. Леша задохнулся. От нее пахло чистым, стерильным, медицинским. Она отпустила Лешу и сказала насмешливым шепотом:
— Ну как? Глаза-то открой. Хотя что тебе…
Она подняла палку и подала ему.
Вывела его из подъезда и посадила на лавку. Сколько он так сидел? Проходили какие-то люди с транзистором. Собака подбежала, обнюхала. Леша протянул руку, и она ткнулась носом. Затарахтел мотоцикл. Остановился. Леша повернул к нему лицо. Девушка спрыгнула с мотоцикла. Она подошла к Леше, взяла за локоть, подняла, повела к тарахтящему, горячему. Усадила. Палку пристроила. Ни слова не сказала.
— Ты за меня держись, — сказал мотоциклист, и Леша обхватил его покрепче.
Он довез его до школы. И тут же умчался.
Так Леша и не узнал, где он был, где находился тот подъезд, на какой планете. Как туда попал, не помнил, а обратно доставил его железный снаряд.
Впервые Леша ощутил со всей определенностью, что мир — черное исчезающее пространство, буквально провал под ногами, ничто. Что в бесконечном этом ничто есть для него одна точка опоры — дом. А отойди он от него — и провалится в пустоту. И вернуться не сможет. Леша подумал о том, что бабка скоро, наверно, помрет, и тогда он останется совсем один. Леша решил, что надо будет тогда завести собаку.
Большая перемена, народу полно. Дима протолкался к столу, за которым — его приятели.
— Где ты был с утра?
— Да… Тетка заболела. Ходил.
— Ты это Львовне, а нам правду. Где был?
— Проспал.
Леша сидел за столом у витрины, она гудела, как машина, которая вот-вот тронется с места. Стакан чая держал в руке Леша и не знал, видит его Дима или нет. Музыка у него была беспокойная, но это и без Леши могло быть.
Разговор у них повернул.
— Айда после школы к Андрюхе, магнитофон слушать.
— Нет, — отвечал Дима, — у меня чего-то голова болит, я домой сразу.
— Ладно заливать, знаем мы, куда ты сразу… Возьми нас с собой.
— Отвали.
Леша чай допил и пошел из столовой. Машка-первоклассница стояла у окна в коридоре, соседская внучка. Ее музыка все в себе отражала, все впечатления, а впечатлений было много, и музыка постоянно менялась, переливалась, вздрагивала. Леша попросил, и она пошла с ним к расписанию.
— Девятый «А»? У них шестой урок последний. Геометрия.
— Хорошо.
— Я пойду?
— Конечно.
И она унеслась.
У Леши последним был пятый.
Весь шестой он просидел на лавке возле школы. На первом этаже открыта была форточка, учительница объясняла про то, что действие равно противодействию. Девочки под форточкой ее не слушали, шептались. Прозвенел звонок. Через пару минут повалили.
За Димой тащились приятели. Леша дождался, когда отойдут подальше, а потом уж отправился за ними. Теперь запоминал.
От школы перешли дорогу и в парк. Встали у пруда. Пахло тиной. Бросили камень, вода плеснула, посмеялись, покурили и отстали от Димы, разбрелись.
За спортивной площадкой Дима повернул к заводу. Со смены шли рабочие, и Леше это было на руку, легче следовать за человеком в толпе, чем по пустой аллее, когда каждый твой шаг отдается эхом.
Прошли вдоль заводской стены и свернули в проулок. Вдруг музыка Димы остановилась. И Леша тоже замер. Димина музыка стояла на месте. Вдруг двинулась — навстречу Леше. Леша не побежал, ждал. Дима приблизился.
— Опять? Чего ты за мной увязался? И как? Ты, слепой! Как ты знаешь, что за мной? — Толкнул Лешу в плечо. — Ну!
— На слух. По шагам.
— Зачем?
Леша молчал.
— Я спрашиваю: чего тебе надо от меня?
Леша молчал.
— Ладно, иди домой. Разворачивайся, ну.
Леша не двигался. Дима врезал ему в челюсть, и Леша не удержался на ногах.
Поднялся и бросился в центр его музыки, башкой вперед. Дима заорал и пнул Лешу под дых. Леша скорчился, упал на бок. Какой-то прохожий закричал, и Дима рванул.
Леша посидел на асфальте. Стал нашаривать палку. Прохожий подошел, помог встать, подал палку. Хотел даже проводить.
— Да нет, — сказал Леша, — я сам.
Уже на их улочке умылся на колонке. Лицом повернулся к ветру, остыл. И побрел тихонько к своей калитке. Здесь, на этой тропинке, он каждый бугорок знал.
Он прошел калитку и услышал Тишину в их саду. Совсем забыл о жильце. И вдруг точно холодное лезвие его коснулось. Леша пошел осторожно, как бы страшась эту Тишину потревожить.
Но думать Леша мог только о девушке. О губах ее и холодном запахе. Вечером он даже бабкины пузырьки с настойками обнюхал, чтобы найти тот же запах. Что-то в нем было ментоловое. Ему бы тогда поднять руку, погладить ее лицо, чтобы пальцы тоже помнили.
В воскресенье повезли на рынок, кроме антоновки, огурцов малосольных, семечек, картошки, всего понемногу. В этот день погода повернула. И Леша надел свитер с заштопанными рукавами и старый отцовский пиджак, бабка говорила, что пиджак форсовый, в полосочку, только что ношеный. Сама телогрейку натянула, чтоб удержать тепло на ветру.
Картошку у них разобрали скоро и антоновку брали, печь пироги или на варенье. Бабка из антоновки варила повидло, намазывала на противень тонким слоем и сушила в духовке, выходила пастила, с которой они зимой пили чай. Огурцы еще оставались после обеда и семечки. Леша их лузгал, чтобы привлечь народ. Налетали голуби, и бабка гоняла их его палкой: «Кыш!»
Подошла к бабке знакомая тетка и спросила про жильца, правда ли, что он может починить приемник или утюг. И в это время Леша услышал музыку той девушки. Она приближалась к их прилавку. Точно с опаской.
Совсем близко подошла и встала через прилавок. И молчала. Наверно, просто смотрела на Лешу. Леша не выдержал напряжения и голову опустил, семечки плевать бросил, просто перебирал, пересыпал, каленые, скользкие. Ветер дул с реки и очень пах уже холодом, чуть ли не снегом. Девушка стояла так долго и ничего не говорила, ничего! Тетка все расспрашивала про жильца, сколько он берет за работу, женат ли. Девушка тихо отошла от них. Как будто ее музыку уносило движением воздуха. Ускользала она от Леши.
— Глядела-глядела, — сказала бабка, — хоть бы семечек взяла. А ты чего?
Леша дрожал.
— Озяб? Говорила, что теплей надо.
Свернули торговлю и домой, греться.
Ночью Леша воображал себе ее музыку. Она стояла, а Леша к ней приближался. Она не пугалась, не уходила. Он дрожа входил в нее, как в прохладную воду. Он растворялся в ней, переставал быть, и это оказывалось не страшно.
В понедельник последним уроком была физкультура. В парке на спортплощадке бегали стометровку. Леша тоже бежал, и физкультурник удивлялся, как он не собьется сослепу. На финише стояла с секундомером девочка, она и была Леше ориентиром.
Конечно, бывало, он и падал, споткнувшись о невидимую колдобину, но сильно не расшибался, так как бежал всегда с осторожностью. Казалось бы, осторожность и определяла его характер, не могла не определять. Но самое главное в Леше было все-таки другое. Он ощущал себя как бы в темноте материнской утробы. И ему страстно хотелось выбраться, вырваться на свет. И он думал, что дело в слепоте, он не знал, что многие зрячие люди так же себя ощущают — в темноте, в хаосе, так и не родившимися.
Девочка с секундомером подала Леше палку. Мальчишки закричали:
— Леха!
И он пошел на крик.
Они сидели на спортивном бревне. Потеснились, и Леша сел тоже.
— Слушай, Леха, — сказал Гарик, — у нас тут возник вопрос… Вопрос такой. Как-то ведь ты представляешь себе девчонок из нашего класса?
— Как-то представляю.
— Но не так, как мы.
— Наверно. Не знаю.
— Вот интересно, которая из них самая красивая? По-твоему.
— А зачем тебе?
— Я же говорю — интересно. Мы по внешности судим, а ты как-то иначе. Интересно.
Что-то Лешу беспокоило. Что-то было не так. Бежали стометровку девочки. Мальчишки ждали ответа на свой вопрос. Ветер пах снегом и печным дымом. Гудело за заводской стеной. Почему-то не сразу Леша понял, что его беспокоит.
За кустами, на асфальтовой дорожке, по которой ходили краем парка прохожие, Леша расслышал вдруг музыку той девушки. Она стояла неподвижно, как тогда на рынке. И Леша чувствовал ее. Наверно, она видела его из-за кустов. Или Леша сошел с ума, и никого там не было, и ему только слышалась ее музыка, морочила.
Гарик дернул его за рукав.
— Что? — не понял Леша.
— Кто?
— Знаешь, мне нравится одна… Но она не в нашем классе.
— Я ее видел?
— Нет. Не думаю.
— А…
— Все. Извини. Больше не отвечаю.
Физрук свистнул, и все к нему потянулись. Он объявил результаты, оценки и конец уроку. Ребята рванули к школе.
Леша дождался, пока все они умчатся, пока физрук уйдет.
Музыка так и слышалась за кустами. Но Леша боялся подойти, спугнуть. Он вернулся к бревну, присел. Музыка оставалась на месте. Леша постукивал палкой о землю. Он услышал, как кусты раздвигаются, и крепко стиснул палку.
Она подходила к нему, приближалась. Он и шаги ее слышал, и дыхание. Тот же ментоловый запах.
Подошла вплотную, ни слова не говоря, взяла за руку.
Она вела его самой глухой частью парка. В вышине шумели старые тополя. (Бабка говорила, когда Леша был маленький, что они высотой до неба, облака останавливаются, зацепившись за сучья.) Зловеще кричали вороны. Ветки хрустели под ногами. Леша оступился. Она схватила его крепче. Все молча.
Под ногами оказался асфальт. Затем ступени — три, — они вели вниз. Дверь застонала.
Это был не подъезд, хотя шаги отдавались гулко. Что-то вроде долгого коридора. Пахло больницей. Наверно, они шли подвальным, техническим этажом. Больница была заводская, бабка водила его сюда лечить зубы.
Она придержала его за локоть и втолкнула в низкую дверь.
Отобрала палку, притиснула к стене. Лицом приблизилась к лицу. Сказала, как тогда:
— Глаза закрой… Хотя погоди. Дай посмотрю, какого они цвета.
— Серые.
— Не совсем. С прозеленью… Ты точно меня не видишь? Закрой. Ну.
— Что ты делаешь?
— Молчи.
Она раздела его и сама разделась, посадила на кушетку и засмеялась, когда он дотронулся до ее соска. И так она смеялась, то тихо, то громко, под его любопытными руками, иногда неловкими, грубыми, но ей все было смешно. Она ему помогала, направляла и ничего не говорила, а только смеялась. Хотя ребята болтали, что в таких случаях должны стонать и кричать. Себя Леша не слышал, не помнил. Он и музыки ее не слышал, может, оттого, что был в ее центре, ее частью. Ничего, кроме смеха. Он был как в лихорадке.
Она надела что-то на себя и на Лешу накинула, он потрогал — халат. Она закурила и Леше дала затянуться.
— Ну вот. Здесь я, в общем, работаю. Медсестрой. Могу укол сделать. Хочешь? — засмеялась. Погладила по мокрым волосам.
— Как тебя зовут?
— Валентина.
— У тебя какого цвета глаза?
— Ну… Карие.
Теперь он ее музыку слышал. Она тоже устала, успокоилась.
Молчала, думала о чем-то.
— О чем? — он спросил. — О чем думаешь?
— Да так. Представляю.
— Что?
— Как ты меня не видишь.
— Я никого не вижу.
— А я, пока взглядом с человеком не встречусь, не смогу с ним… всерьез. Взгляд все решает. Это самое главное.
— Нет.
— Ну, для тебя. С тобой, конечно, не взгляд. Вот я и думаю. Ладно. Не важно. Я запуталась.
И она встала с кушетки.
Довела его до асфальтовой дорожки. И сказала:
— Пока.
Легко и просто.
— Погоди.
Она уже уходила. Остановилась. Но не приблизилась.
— Что?
— Времени сколько?
— Девять почти.
— Ты куда сейчас?
— Дежурство у меня.
И пошла, а Леша так и не спросил, когда они еще встретятся. И как.
Перестал слышать ее музыку и отправился в путь, палкой распознавая, нет ли впереди ямы или другой опасности. Сухо шуршали листья. В клубе закончился сеанс, и люди расходились, все еще под общим впечатлением, это чувствовалось по их музыке. Они все его обогнали, а Леша шел тихо, осторожно.
Девять часов было, конечно, еще не поздно для четырнадцатилетнего мальчика — если он зрячий; в его мире не заблудишься так просто, он даже ночью освещен фонарями (хотя бабка говорила, что на их улице фонарь всегда разбит). В Лешином вечном мраке все было рассчитано, расчислено, чтобы не пропасть. Леша был в темном чреве. Он был проглочен и потерян. И бабка, верно, места не находила себе, где он. Леша только надеялся, что ее отвлекают. Иван Николаич смотрит телевизор и комментирует, а жилец ужинает. Бабка обычно в это время читала Леше какой-нибудь учебник. Если задавали сочинение или решать задачи, то бабка за Лешей записывала. Сидели они на Лешином диване, за печкой, и никому не мешали.
У калитки Леша услышал, что бабка на крыльце. Увидела его, конечно. Но терпела, молчала, ждала, когда подойдет. Он поднялся по ступеням, и она ухватила его за ухо, как маленького.
— Где ты мотался? С кем?
— Так. Один.
— Врешь. Я чую.
— Что?
Она вдруг ухо отпустила, заплакала. Леша растерялся.
— Ты что, ба? Ладно тебе. Что я, не могу, что ли?
— Я думала, тебя машина сбила, дурака, бегала везде, смотрела. Я…
Недосказала, вернулась в дом. Леша еще постоял на крыльце, чтоб на холодном ветру чужой дух от него отошел. Он уже знал, что в доме ни жильца, ни Ивана Николаича.
Долго она не могла сердиться, молчать. Посадила ужинать, хлеб дала в руку. Посмотрела в его невидящие глаза, пожалела.
— Уроки теперь когда делать?
— Да их мало. Считай что нет…
— Ты хоть соображаешь, что ешь?
— Макароны.
— Конечно. Все подобрал, я смотрю. Думала, вкуса не чуешь, так глотаешь. Будто неделю не ел.
— Ага.
К чаю варенья достала.
— А где нахлебники?
— Иван Николаич заболел. Жильца охмуряют.
— Кто?
— За магазином дом, Ольга там живет, бухгалтерша, давно уже ходит к нему, то лампу ей починить, то утюг, то пирожков ему принесет. Сейчас он у нее там холодильник смотрит или не знаю что… Только я не думаю, что ей обломится. Он ее до себя не допустит. И никого.
— Откуда ты знаешь?
— Ясно.
Значит, в каком-то смысле и бабка его тишину, его пустоту чувствовала.
— Ба, слушай, а дед красивый был? (Бабка говорила, что Леша — копия деда.)
— Очень красивый. Глаза серые, как у тебя.
— А у меня не совсем серые.
— Кто тебе это сказал?
— Сказали. В школе.
— Ну, не знаю. По мне так серые. Так бы смотрела и смотрела. Росту он был среднего, тоже как ты. Ладный. Только ты серьезный очень, а он посмеяться любил. Но ему проще было.
— А как вы познакомились?
— В столовой заводской.
— Но как?
— Так. Сидели. Он за одним столом, я за другим. Глаза поднимаю от тарелки и вдруг вижу, парень уставился на меня. Глаза серые. Ест глазами.
— Как это?
Она не отвечала. И Леша больше не спрашивал. Не раз он уже слышал про то, как дед с бабкой встретились, но представить не мог и воображал иначе. Музыку они расслышали друг друга, вот что.
Леша проснулся. Бабка шла к буфету. Шла осторожно в темноте. Она не включала свет, когда он спал, хотя понимала, что свет не может его встревожить. Подошла к буфету. Даже половицы не скрипнули. Отворила правую верхнюю дверцу, где лекарства. Взяла что-то с бумажным шорохом. В свою комнатушку не вернулась. Из коридора постучала к жильцу, и он откликнулся:
— Да-да.
Она отворила его дверь.
Разговаривали они негромко, но в тишине Леша слышал четко, будто их голоса от них отделились и вплыли к нему в комнату; ему казалось, он может коснуться их голосов.
— Анальгин, — сказала бабка.
— Да, спасибо.
Он проглотил таблетку, запил водой. Вновь сказал:
— Спасибо.
— Не за что. Вы сейчас усните.
— Давно у меня голова не болела.
— Погода вон как меняется. Ложитесь.
— Да. Лягу. Посижу немного и лягу. А вы почему не спите?
Тишина его как будто изменилась в эту ночь. Леша даже на локте приподнялся. В чем была перемена, он еще не мог понять.
— Про Лешу думаю. С женщиной он сегодня был, я так поняла.
— Он сказал?
— Да нет, я так поняла.
— Но… это ведь неплохо?
— С одной стороны, это неплохо, а с другой — лучше бы не было. Больно ему будет, потом.
— Но вы же не знаете…
— Отлично знаю, кто ж Вальку-медсестру не знает, разве что вы, новый человек. Мне соседка сегодня говорит, иду, мол, со смены, а шалава эта стоит в кустах и за моим парнем смотрит, физкультура у них там была, что ли, в парке. Я сразу вспомнила, как она в воскресенье к нам на рынке подходила. Ей интересно со слепым. Только это недолгий все интерес…
Они молчали, а Леша смотрел в темноту невидящими своими глазами, в ту темноту, свою, вечную.
— К ней мальчики косяками ходят.
Вновь замолчали. Шумели яблони под ветром.
— А вы почему так поздно? Не у Ольги часом были?
— У ней.
— Она хорошая. Добрая.
— Я знаю.
— Нравитесь вы ей.
— Да.
— Может…
Тишина жильца как будто съежилась.
Он долго молчал. Бабка уже уходить хотела, судя по музыке. Вдруг он сказал о себе как о постороннем:
— Я из Горького вообще-то. У меня там квартира двухкомнатная в самом центре. Окна во двор, тихо, все удобства. У меня жена умерла, полгода прошло. И я не могу там. Все напоминает.
— Понятно.
Тишина его дала как бы трещину.
— Лягу, наверно.
— Спокойной ночи.
Дверь отворилась, впустила холодный воздух. Бабка осторожно подошла к Леше, посмотрела на него, как он спит, одеяло поправила.
Леша слышал, как она ворочается у себя на кровати, как засыпает. Вдруг он услышал Ивана Николаича. Совсем рядом, руку протянуть. И Леша вытянул руку, но в пустоту. Музыка была, а самого Ивана Николаича в доме не было. Музыка круглым шаром плыла в воздухе. Коснулась Лешиного лица и поплыла к бабке, прямо сквозь стену. И Леша понял, что Иван Николаич умер в эту ночь.
Спала бабка. Жилец уснул наконец. Шумел, разговаривал за окном сад. Шел поезд на Москву. И Леше казалось, что он может за перестуком колес расслышать музыку пассажиров. Но поезд уходил быстро, уносил эту музыку, и Леша так и не успевал ее расслышать.
Небольшая жизнь
1
На окно смотреть страшно, даже подумать страшно, какие там щели и сколько они еще пропустят промозглого уличного воздуха. Мрачного московского воздуха, которым нельзя дышать. От него стынет кровь, останавливается, и ее ничем не разогнать. Вкус чая уже противен.
Московский воздух — ужас в чистом виде. В старом панельном доме — особенно. На верхнем этаже, когда отопление еще не включено и нет горячей воды. Нет!
Газ можно зажечь на кухне и смотреть. Чуть легче. Но пламя слишком маленькое и кажется далеким светилом, погасшим за мильон лет до нашей эры.
Он вышел из кухни, позабыв о маленьком огне.
Он надел еще один свитер, надел плащ, натянул шапку и лег под одеяло. Лежал весь закрывшись, в темноте, согреться не мог. Он думал, что умрет сегодня, остынет, пальцы он уже не чувствовал. Услышал дождь.
С подоконника потекло на пол. Подумал, что хорошо помирать так тихо, под дождь, будто бы растворяться в природе. Смиренно.
Задребезжал телефон. И смолк. Ног уже совсем не было.
В дверь забили. Бух-бух. Он знал, чей это кулак бухает.
Он слышал поворот ключа в замочной скважине, придумал метафору: заводят часы, старый, проржавевший механизм — старым, проржавевшим ключом. Пружина закручивается все туже. Да, было тихо, буквально мертвая тишина, прекрасно, и вот опять пошли проклятые часы, застучали. Шаги ее застучали по квартире. Сердитые, глупые шаги.
Она сдвинула стул, прошла к столу, что-то и там сдвинула, потом ничего не найдешь. И все стихло. Где-то она стояла, конечно. Затаилась. Выжидала? Решалась?
Раз! Сдернула одеяло.
Он лежал носом в подушку. В шапке, плаще, светлом, как мороженое пломбир, подтаявшее мороженое, растекшееся на грязном полу где-нибудь в вагоне метро. Этот плащ и в химчистку брать отказались. Она выбросить хотела, но он не дал.
— А что в плаще-то залегли? Достали бы пальто. И ноги голые, от ног весь холод. Ботинки надо было надеть. Или они немытые с прошлого года? Хотя вы и в немытых в постель заберетесь, чего вам. Поздороваться не хотите со мной? Я же вижу, что вы еще не умерли.
Она набросила на него одеяло, чтобы прикрыть ступни в драных носках.
На кухне горело синее пламя.
— Вечный огонь, — сказала. — Когда-нибудь вы спалите весь дом. Пожалейте людей, детей хотя бы. Лучше бы щели в окнах законопатили.
Долго она на кухне возилась, мыла, скрежетала. Вода лилась. И то ли дождь опять занудил, то ли на сковородке что-то заскворчало.
Вошла в комнату. Сказала, будто не ему, будто кто-то еще был в комнате, кто-то славный, милый, такая интонация была в ее голосе, обращенная к этому несуществующему; он терпеть не мог, когда она так к нему, как не к нему, обращалась:
— В кухне тепло сейчас. Я духовку зажгла. Просто отлично. Чай заварила.
— От чая тошнит, — пробухтел в подушку.
— Конечно. От одного чая стошнит. Надо сначала поесть. Картошки я отварила. И сосиски.
— Что вы мне свои сосиски вечно впариваете, я их терпеть не могу.
— Яичницу поджарю.
Он не отвечал, и она ушла. Туда, на кухню, в тепло, в жизнь. Он представил, какой жар от плиты, как окна плачут, радостно плачут, с облегчением. Выпростал из-под одеяла руку, пошевелил пальцами. И пахло уже едой. Ошалеть.
Он встал в дверном проеме, привалился к косяку. Она сидела за столом, чай дымился в кружке. Смотрела на него, он физически чувствовал взгляд, его тяжесть. Или жалость. Он эти вещи путал.
— Думаете, вам щетина идет? Это только молодым и здоровым к лицу. А вы на Кощея Бессмертного похожи.
— Я смертный.
— Смертный кощей, отлично, я не против. Разве вы что-то пишете сейчас?
Он не брился, когда писал, уже собрав материал, статью. Пока не напишет, не брился. Помогало.
— Это я от холода.
— Теплее, что ли, со щетиной?
— Не исключено.
— Руки вымойте.
— Вода ледяная.
— Я нагрела. В ванной стоит кастрюля. И ковш. Вам полить?
— Справлюсь.
Наблюдала, как ест он горячую, разогретую на сковородке картошку. Даже не как ест, а как вилку берет, как хлеб отламывает. Руки его ей нравились, с худыми запястьями, умные руки, такие бы в кино показывать.
— Вас небритым не пустят.
— Куда?
— Сегодня двадцать первое.
— Сегодня двадцатое.
— Двадцать первое.
— Двадцатое.
Разозлившийся был у него голос, резкий, лезвие, а не голос. Затупленное и проржавевшее.
— Двадцатое, потому что вчера я смотрел футбол.
— Вы не могли его смотреть, у вас телевизор сломан.
— Я смотрел у Вити.
— Шерочка с машерочкой.
— После футбола он меня проводил. Футбол был девятнадцатого, можете посмотреть по программе. Сегодня двадцатое.
За программой она ходить не стала — где ее там искать, в его завалах, — включила радио. Он хмуро принялся размешивать сахар. Ложка громыхала, будто поезд шел, бешено стуча колесами. Он сидел за столом над своей чашкой, наклонив упрямо голову. В лысине тускло отсвечивал свет лампы.
— Сегодня двадцать первое, — сказал диктор по радио после очередной какой-то дурацкой песни.
— Ага, — сказала она даже не торжествующе, просто чтобы на себя его внимание обратить — вдруг задумается.
Отправила его мыться, нагрела еще воды. Пока мылся и брился, достала с антресолей пальто, все-таки уже здорово похолодало и к ночи обещали снег. Она много раз пришивала к нему пуговицы: это пальто было не способно удерживать пуговицы, даже пришитые прочно, по всем правилам, суровыми черными нитками. Не из-за ветхости, а из-за какого-то своего характера, который она не могла переломить. Нервное было пальто. Она пришивала пуговицы, иголка посверкивала в электрическом свете. Он что-то уронил в ванной. Судя по грохоту, все-таки не кастрюлю. Ковш, наверно.
Костюм был вполне приличный, подарок дочери. Ботинки он почистил, и они тоже выглядели неплохо. Он пригладил волосы, вольно разросшиеся вокруг лысины. Выглядели они диковато. Она подала ему пальто. И шарф.
— Спасибо.
— Не за что. Шапку наденьте.
Вынула из шапки перо.
— Из подушки перья лезут, — сказал он.
— Нет, что вы, это ангел к вам прилетал, ждал, что вот-вот помрете там, под одеялом, душу вашу караулил.
— Ангелов нету.
Взял сумку с пола, закинул на плечо.
— Меня-то погодите.
Вышли вместе. Дверь закрылась, замок щелкнул.
— Вот черт, я ключ забыл, давайте ваш.
— Не дам, потеряете.
— Как же я без ключа?
— Как обычно.
Спускались по узкой лестнице.
— Между прочим, я понял, почему думал, что сегодня двадцатое.
— Очень интересно.
— Потому что вчера я читал письмо одного деятеля как раз от девятнадцатого ноября. Правда, тыща девятьсот двадцать шестого года.
— Да, когда-нибудь вы так зачитаетесь, что прямо там и окажетесь, в тыща девятьсот двадцать шестом.
— Сразу видно, какие книжки вы любите.
— Да никакие. Некогда мне.
2
Гардеробщик унес его пальто за ворот в угол, подальше от глаз.
Он пригладил волосы вокруг лысины и ступил в мягко освещенный зал. Наталья подняла руку, заметила. Говорила в мобильный, глядя, как он приближается:
— Идет… Нормально выглядит… Он всегда бледный… Нет, мы в этом году во Флоренции отдыхали. Я принесла фотографии.
Отключила телефон. Он поклонился, сел напротив.
— Здравствуйте, с сестрицей моей беседовали? Как она поживает?
— В пробке застряли. Так что придется нам с вами вдвоем пока.
— Ну, это не страшно.
— Как сказать.
— Что же во мне страшного? Я, скорее, смешной. Я в детстве вообще мечтал клоуном стать.
— И стали бы.
— Я и стал. В некотором смысле.
Подошла официантка.
— Мне чаю, пожалуйста, — сказал он.
Официантка ушла. Она закурила.
— У меня астма, — напомнил он.
Погасила сигарету. Взяла стакан с водой.
— Как там во Флоренции? — спросил он.
— Тепло.
— Небо, наверное, синее.
— Небо везде синее. Если туч нет.
— Не скажите.
— Да вы ж там не были. Где вы вообще были, кроме Москвы и Московской области?
— В Ярославле.
— Странно. Образованный человек, а мир не хотите посмотреть.
— У меня паспорта нету.
— Долго ли сделать паспорт?
— Я умру в очереди.
— С вами тяжело разговаривать.
— Это точно.
Она допила воду:
— Я помню, как мы отмечали день рожденья вашей сестры, десять лет ей исполнилось. А вам сколько было? Семь? Мне тоже десять. Я тогда впервые к вам домой пришла. Ваша мать бесконечно о вас говорила, какой вы умный мальчик. Вы всегда были ее любимчиком, вечно она с вами носилась. Хорошо, что сейчас вас не видит.
— Как раз сейчас не стыдно ей показаться. Я выбрит, вымыт, в хорошем костюме. Настроение нормальное.
— Костюм дочка подарила?
— Да.
— Единственное ваше достижение… Я про дочку.
— Значит, хоть в какой-то мере моя жизнь оправдана?
— Разве вы еще живете? По мне, так вы человек конченый.
— Очень даже живу. Вчера, к примеру, совершил очень неслабую сделку. Душу не продавал, никому она не нужна, прямо скажем. Я землю приобрел. Хороший такой луг в Подмосковье.
Он говорил очень уверенно, веско, и она смотрела на него недоуменным, растерянным взглядом.
— Десять гектаров. Красота — необыкновенная. Речка, роща, закаты, восходы. Куда там вашей Флоренции. Не знаю еще, что с этой землей делать. Оставить как есть и любоваться? Коттеджи построить? Колбасный завод?
— Почему колбасный? — спросила тихо.
— Я к примеру. Вы что бы сделали?
Будто впервые его увидела. Будто он вдруг материализовался из воздуха, а до того был прозрачен, почти не существовал.
— Вы смеетесь?
— Нет. Я действительно не знаю, что с этой землей делать. Реально. Закаты, восходы, что мне с ними делать? Лошадей купить для пущей красоты? Нет, лучше верблюдов.
— Верблюдов?
— Они у нас приживутся.
— Но зачем?
— У них молоко полезное. И шерсть можно продавать.
— Погодите. — Она все пыталась сообразить, что он говорил, в голове не укладывалось. — Деньги у вас откуда? Земля ведь дорого стоит. А у вас… Вам костюм дочка покупает. И ботинки. Вы шутите?
— Нет. Я старушку зарезал.
Они молча смотрели друг на друга. Она — с ненавистью. Он, пожалуй, — смущенно. Официантка принесла чай. Звякнула чашкой в их молчании, ушла.
— Извините.
— Я почти поверила.
— Я заметил. Это было забавно.
— Послушайте, зачем вы сюда пришли?
— Поздравить сестру с юбилеем. Моя соседка считает, что я не должен утрачивать семейные связи. И потом я хотел с Геной повидаться, он мне симпатичен. Мужская солидарность.
— Женились бы вы, на вашей соседке.
Он вынул из кармана коробочку, положил на стол:
— Это Нюрке, поздравьте от меня. Гене привет.
Встал, задвинул стул:
— Курить бросайте, уже немодно.
Она глядела вслед его смешной фигуре. Взяла сигарету. Нюра позвонила, что все еще стоят в пробке, наверно, впереди авария.
Он брел, отворачивая лицо от снега. Чаю все-таки следовало выпить.
3
«…Чай в „Макдоналдсе“ отвратительный. Дети в восторге от этого заведения. Я тоже, несмотря на чай. В Москве идет снег.
Как обещал, пишу о старике Матвееве. Вчера я у него был. Я приношу конфеты, он ставит чайник, за чаем он рассказывает мне свою жизнь, которая вся состоит из пяти новелл: как он школьником закурил при отце; как он провалился в прорубь; как он влюбился в проводницу; как ему выбили в драке два зуба; как его внук научился выговаривать букву „р-р-р“, изображая тигра. Он бесконечно повторяет эти пять историй, почти слово в слово. Я задумался: какие пять историй могли бы исчерпать мою жизнь?
И понял, что их всего две. Старик богаче.
Его отец вел дневники, он служил бухгалтером, и дневники были совершенно бухгалтерские. Перечисление действий (встал, умылся, слушал новости, ударился об угол стола), обязательное указание погоды, прогноз и факт, пересказ прочитанной газеты, перечень (скупой) покупок с указанием цен. Невыносимо скучно. Невыносимо скучный клад для историка. Для меня ценность в том, что он обожал кино и не пропускал ни одного фильма. И разумеется, в подробностях пересказывал. Меня интересует фильм 32-го года, он вышел и через неделю был снят с проката. Не сохранился. И сценария нет. Надеюсь, что бухгалтер фильм посмотрел и описал. На старика меня навел Витя, тебе от него привет, он сейчас редактирует книгу о религиях Востока. Интересно о зороастризме.
Итак, я прихожу к старику, пью чай, выслушиваю его жизнь, затем он говорит, что сейчас не может дать мне дневник, так как ему срочно надо идти в больницу, он записался к терапевту, но в следующий раз я дневник непременно прочитаю. В следующий раз он придумывает что-нибудь еще. Боится, что перестану к нему ходить, лишь только получу желаемое. Да так оно и будет, конечно.
Забавно, если дневника за 32-й год не существует (я видел тетрадь за 30-й, старик показал как приманку), в конце концов, бухгалтер мог пропустить этот фильм, проболеть, скажем. Думаю, скоро предъявлю старику ультиматум, и все выяснится.
Завтра вечером явится Аля. Так что придется надеть чистую рубашку и почистить зубы, еще остались. Говорит ли Тема по-русски?..»
Писать он старался как можно разборчивее, практически печатными буквами. Буквы выходили кривоваты.
В этом «Макдоналдсе» — кажется, он был самым первым в России — установили два компьютера с бесплатным доступом в интернет. Он терпеливо дождался очереди, но взбираться на высокий табурет не стал, обратился к стоявшей за ним девушке:
— Не могли бы вы сделать мне одолжение, милая барышня? Наберите мне письмо.
Она покраснела и взяла протянутый листок.
Споро набрала текст письма, он перечитал. Отправила.
— Спасибо большое. Надеюсь, я не слишком много отнял у вас времени?
— Вы же в очереди стояли, какая разница, могли бы, конечно, и сами набрать, это не сложно, хотите, я вас научу?
— Нет.
— Почему?
— Ну… Как вам сказать. Если я буду набирать сам, я лишусь возможности поговорить с милой барышней вроде вас. Или еще с кем-нибудь, кто там займет за мной очередь. К тому же я боюсь техники, у меня и мобильного нет.
— Даже у детей есть мобильники и у стариков, у моей прабабушки есть, ей, не знаю, лет сто.
— К ста годам я точно решусь.
— Мобильный обязательно надо иметь, тем более если вы один живете.
— Я живу один?
Она покраснела.
— Да, вы правы, я живу один.
— А дочка ваша приезжает?
— Иногда. Хотите взглянуть на моего внука? Там есть письмо, от третьего октября.
Он сам хотел посмотреть. Понял, что она не откажет.
— Славный. На вас похож. Правда.
— А я и не спорю. Хотя я в его возрасте был тощим. Я всегда был тощим. От нервов.
4
Рюмочная в сталинском доме. В полуподвале. Потолки высокие, на стене — мозаика: самолет в синем небе выше облаков. Полуподвал — выше облаков. Блики от ламп на кафеле мозаики, лампы раскачиваются, когда внизу, под землей, идет поезд, и в колеблющемся свете небеса на стене кажутся почти живыми. Или алкоголь так все преображает. За полуподвальными высокими окнами идет мокрый снег. «Река времен в своем стремленьи уносит все дела людей…» — произносит немолодой человек напротив него, тоже с рюмкой водки. Водку он выпивает, а бутерброд не трогает. Бутерброд с ветчиной и с ломтиком огурца лежит на блюдце.
— Это цитата. Стихотворение.
— Я в курсе. Могу даже продолжить.
— Не стоит. Я не к тому. Странное место эта рюмочная. Вы бывали здесь раньше? Я — нет. Но она так выглядит, как будто всегда здесь была и всегда будет.
Поток времен уносит все что угодно, только не ее. Здесь какая-то аномалия.
— Дом построили в пятидесятые. Так что ваше «всегда» даже на сотню лет не растянуть.
— С человеческой точки зрения, с человеческой. Здесь расположена наша с вами вечность. Будьте здоровы.
Он был лысый, в очках, худые запястья выступали из рукавов старого пальто. Он был его отражением в зеркале, он сам с собой разговаривал.
Взял еще рюмку. Не мог он вернуться с дня рожденья сестры трезвым.
5
Он налил в ведро воды. Старался ее даже не коснуться: от ледяного прикосновения он бы и сам заледенел. Намочил веник. Подмел сначала кухню, затем комнату и прихожую. Нагрел чайник. Уже теплой водой вымыл с порошком раковину, унитаз, ванну, мойку в кухне, затем полы в ванной и туалете. Посидел на кухне, передохнул. Надо было еще сходить за конфетами к чаю.
Без четверти восемь конфеты лежали в стеклянной вазочке. В чайник налита была свежая вода, две чашки вынуты из шкафчика. Он оделся в чистое, сидел в углу дивана. Смотрел на телефон. Часы стрекотали.
Через час с небольшим он спустился на третий этаж и позвонил к ней в квартиру.
— Вот что, — сказал он, проходя сразу в комнату, — я позвоню от вас.
Комната эта была прохладной, тихой. Она встала у притолоки, смотрела за ним.
Нервно нажал кнопки. Крикнул:
— Аля!.. Что? Не понял.
Отключил трубку. Посмотрел растерянно.
— Не туда попал.
Набрал номер еще раз, спокойнее:
— Аля? Это вы? Слава богу! Звонили? Простите, ради бога, у меня телефон сломался… Да. Я понял. Конечно. Ну разумеется. — Сморщился, как всегда, когда плохо слышал. — Нет. Не в этом дело. А в том, что фальшивая купюра — изгой. Она не похожа на все нормальные купюры, то есть похожа, но если всмотреться — нет. Она не как все. Она обречена. Да-да, именно. И герой обречен. Он — тоже своего рода фальшивая купюра. Его изымают из оборота. Пересмотрите обязательно. Подумайте, в чем его «нетакость», несовпадение, после обсудим. Не за что. Когда вы сможете? Прекрасно. Буду ждать.
Говорил и ходил по комнате, разговор прервался — остановился.
И будто не сразу понял, где он сейчас.
— В общем, — сказала она, все это время пристально за ним наблюдая, — я так поняла: тащиться Але к вам не захотелось, она решила, что и по телефону все узнает.
— Она сказала, что заболела.
— Ну конечно.
— Она сказала, что заболела.
— Ну конечно, конечно, я поняла, я тоже сегодня совершенно больная. Погода скверная, темень, от остановки через все наши дворы — бр-ррр. Почему она вас к себе не позовет? Вы же бегом побежите?
Он молчал.
— Что?
— Ей спокойнее здесь встречаться, на чужой территории, ее дом для меня закрыт.
— Что бы это значило?
— Я прекрасно знаю, что это значит! У нас бартер. Я фактически пишу за нее диссертацию, а она пьет со мной чай на моей кухне. Несколько дней пахнет ее духами. Все довольны. И никто никого не обманывает. То есть никто не обманывается. То есть я бы и рад обмануться, но я слишком трезв.
— Если только не напьетесь.
— К сожалению, я трезв при всех «если». Даже когда не помню, как добрался домой.
— А что с вашим телефоном?
— Я его уронил.
— Ага. Так, значит, психовали.
— Ага.
— Слушайте, а можно мне хоть раз воспользоваться вашей трезвостью?
— Каким образом?
— Сделайте одолжение, загляните ко мне завтра к двенадцати.
— Бриться надо?
— Необязательно.
— Галстук надевать?
— Ни к чему.
— Что делать будем?
6
Коробка под диваном заросла пылью. Он даже помнил туфли из нее, черные лодочки, и помнил юбку, с которой она их носила, тоже черную, узкую. Нельзя сказать, чтобы воспоминание было четким, к тому же он не слишком доверял воспоминаниям, тем более собственным. Даже подтвержденным фотографиями.
Сейчас в коробке хранились гвозди, моток проволоки, синяя изолента, бог знает сколько лет все это там было, гвозди проржавели, изолента слиплась. Он отодрал кусок и замотал корпус, и тут же телефон зазвонил, буквально взорвался в его руках, чуть он его вновь не выронил. Поставил на стол, снял трубку.
— Здравствуйте, — произнес деликатно, неуверенно мужской голос.
— Здравствуйте.
— Я хотел узнать. Насчет холодильника. У вас есть?
— Да, — ответил он, подумав.
— А… вы не могли бы рассказать какие?
— Холодильник «Мир», семьдесят какого-то года выпуска, работает.
— Простите?
— «Мир». Надо бы мне его разморозить.
— Ой. Извините.
И человек с той стороны повесил трубку. Он потрогал изоленту и сказал телефону: «Ну, давай, жалко тебе, что ли?» И телефон зазвонил. Выждал пару секунд и снял трубку.
— Здравствуйте, — произнес вопросительно тот же голос.
— Не кладите трубку, — сказал он.
— Я в магазин звоню.
— Я понял, ошиблись номером, я просто хотел спросить, зачем вам холодильник понадобился.
— Как зачем?
— Нет, я понимаю, зачем холодильник нужен, у меня самого он есть. Сколько вам лет?
— Сорок. Сорок один.
— Неужели до сих пор у вас не было холодильника? Зачем вам новый? Мне любопытно. Я старый, нервный, живу один, мне просто поговорить охота, извините.
— Да у меня нет особо времени, я тороплюсь. — Но трубку все-таки не положил, деликатный.
— Я, наверно, умру скоро.
— Господи!
— Зачем вам холодильник?
Он вздохнул:
— Я развелся. Мы разменяли квартиру. Мне нужен холодильник. Ничего интересного.
— В самом деле банально.
— А почему у вас такой старый холодильник?
— Работает. Я к нему привык. Он мне как родной. Мы практически здороваемся по утрам. У меня с ним связаны приятные воспоминания. В каком-то смысле он организует мою жизнь, я могу на него положиться.
— Знаете, я вас понимаю. Я ужасно растерян сейчас. Я не могу привыкнуть к этой квартире, к этому району, и холодильник тоже куплю — будет как чужой.
— Вы думаете о будущем? О своем. Строите планы?
— Да.
— Значит, все будет нормально. Привыкнете.
— А вы не думаете о своем будущем?
— Я его не представляю. Темно впереди, пахнет плесенью. Нет, вру, ничем не пахнет, это я так приплел, для красного словца.
7
Несколько секунд они молча смотрели друг на друга через порог.
В квартире кто-то вздохнул. И затих.
— Кто там? — спросил он. — Человек или привидение?
— Шикарный галстук, — сказала она.
— Дочка прислала.
— Что-то я его раньше не видела.
— Первый раз надел.
— С чего вдруг?
— Ну, вы же сказали, что галстук надевать необязательно.
— Побрились вы тоже из чувства противоречия?
— Из благодарности. Вы на меня не давили. Я знаю, что вы любите, когда я при параде.
— Я еще люблю, когда вы не опаздываете.
— Или бриться, или не опаздывать.
— Вас не переговоришь.
Она повела его на кухню.
Цветы цвели на подоконнике. За чистыми стеклами и мир казался веселее. Намного веселее, чем из его окна. Просто другой мир. Или он из каждого окна — другой? Даже если окна глядят в одну сторону? За столом сидел молодой мужчина. Встал, когда они вошли, пожал ему руку.
— Это мой сосед, — сказала она мужчине, — вы не против, если он посидит с нами?
— Конечно, — откликнулся мужчина и тревожно поглядел на него.
— Может, все-таки чаю?
— Нет-нет, спасибо, я хорошо позавтракал, я всегда плотно завтракаю, и уже до четырех ничего не ем, и вечером стараюсь не есть, знаете, чтобы быть в форме. Все-таки мне уже под сорок.
— Прекрасно выглядите.
— Именно.
Мужчина перевел глаза на него. Но он молчал, он вообще все время этого разговора молчал, и даже неясно было, слушает ли, — взгляд у него был отстраненный.
Она спросила:
— Откуда вы к нам?
— Из Читы.
— Это далеко, кажется?
— На самолете больше шести часов. На поезде четверо суток. С лишним. Я уже давно не был. У меня там дочка, мы с ее матерью не живем, мы даже не регистрировались. Дочка ко мне приезжает на каникулы. Но вы не волнуйтесь, она у родных останавливается, со стороны отчима, у них прекрасные отношения, ничего не могу сказать, но приезжает она реально ко мне. Мы в театры ходим, на выставки, в магазины. Я специально деньги откладываю.
Мужчина замолчал. Смотрел на нее, с покорной готовностью ожидая еще вопросов.
— А зачем вы в Москву подались? Все-таки очень уж далеко.
— Ну. Мне хотелось жизнь поменять. Кризис среднего возраста, наверно. Все как-то разваливалось.
— Ав Москве?
— Нечему пока разваливаться. Только еще налаживается. Работа есть. Зарплата нормальная. Хотя и расходы, конечно. Город большой.
— Безумный.
— Ничего. И дочка сюда учиться приедет после школы.
— Вы рано встаете?
— Когда на работу, а в выходной я поспать люблю. Но я не против, если вы рано встаете, мне не мешает, ходите на здоровье, радио включайте, как обычно.
— А ложитесь?
— Поздно, но я тихо, книжку читаю, если музыку слушаю, то в наушниках. Или в интернете сижу. У вас выделенная линия? Если нет, не важно, не обязательно, обойдусь. Посуду я за собой всю всегда мою, я вообще чистоплотный. Вы белье где сушите?
— В ванной. Но машинкой я не разрешу вам пользоваться.
— Это ничего, я могу на руках. Но вообще, я аккуратно с техникой, даже починить вполне…
И мужчина замолчал, ожидая еще вопросов. Вопросов не было, и мужчина обратил тревожный взгляд на сидящего безмолвно человека. Но он смотрел в сторону.
— Ну хорошо, — сказала она и тоже взглянула на безмолвного. — Давайте так: я вам перезвоню через час.
— А сразу нельзя решить?
— Мне подумать надо.
— Лично меня все устраивает. И если у вас какие-то особые условия, я готов обсудить.
— Через час, ладно?
Он встал.
— Да, конечно. Только вы мне обязательно перезвоните. В любом случае. Я где-нибудь недалеко буду.
Она проводила мужчину и вернулась в кухню. Он сидел — нога на ногу.
— Наверно, мужик решил, что я — его конкурент.
— Я же сказала, что вы сосед.
Она включила чайник.
— Мало ли что вы сказали. Мало ли что люди говорят. Оставьте заварник в покое. Я сделаю. Вы все испортите.
Ей нравилось смотреть, как он заваривает чай. Надев очки, ополоснув и вытерев насухо руки. Для него это был важнейший ритуал. Чуть ли не таинство. И только когда все свершилось, когда чайник был накрыт салфеткой, она решилась спросить:
— Какое он на вас впечатление произвел?
— А на вас?
— Меня ваше мнение интересует.
— А своего у вас нет?
— Я своему не доверяю.
— Но какой-то образ у вас сложился? Мне просто интересно.
Она помолчала и сказала все-таки:
— С его слов, конечно. Переехал — в общем-то, решительный шаг, все заново, не каждый сможет, а вдруг он там чего натворил? Откуда я знаю? В прошлый раз у меня девчонка снимала, я думала, вот бы мне такую дочку, съехала через месяц, я чуть не плакала.
— Что значит — чуть? Натурально плакали.
— Ага, пока не увидала, что она кулон золотой сперла, и деньги у меня за простынями лежали, их тоже прибрала.
— Ого! — Он рассмеялся. — Вы мне об этом не говорили.
— Стыдно было. Вы же предупреждали.
— Да? Я не помню.
— Вы говорили, что чересчур она добрая.
— Правда? Да я, наверно, не всерьез говорил.
— Зато теперь я хочу — всерьез — узнать ваше мнение об этом парне.
— За чашкой чая, ладно?
И он сам разлил чай им обоим. Размешал сахар, громыхая ложкой. Осторожно отпил.
— Да, — сказал, — да.
И отпил еще:
— А то совсем голова перестала соображать.
— Бутерброд съешьте.
— Нет, спасибо.
Он отпил еще чаю. Она ждала, когда же ему надоест ее мучить. Он отодвинул чашку.
— Забавно, — сказал он, — но парень очень похож на героя одного старого-престарого американского фильма. Даже внешне. Под сорок, невысокий, субтильный, чистенький. Его от пятна на полу тошнило. Музыку тоже любил послушать. Интернета тогда не было. А музыку он слушал из приемника, даже плакал, когда любимые вещи. И тоже снимал комнату. Правда, там был пансион. Хозяйке принадлежал дом, и она сдавала несколько комнат. Пансион — это значит, они еще и кормились. То есть совместные завтраки и так далее. Жильцы были очень колоритные: боксер, учительница, старая актриса, девчонка-продавщица. Цапались между собой, конечно. Этот был самый тихий. Человек-призрак. Даже ел неслышно. И сахар в чашке размешивал бесшумно. Как так может получаться, я не знаю, мне сдается, он тогда не растворяется. И свет за собой всегда гасил в ванной. Никогда не повышал голоса. И всегда «спасибо» и «пожалуйста». Как-то раз он пришел к ужину чуть позже обычного. Извинился, конечно. Сел. За столом было молчание. Девчонка-продавщица сидела вся зареванная. Он не стал спрашивать из деликатности, что случилось, кто умер. Хозяйка положила ему, что там у нее было приготовлено, и объявила — не ему, всем, — что девчонка сама виновата, нечего рот разевать. Боксер за девчонку вступился, завязался разговор, и стало ясно из разговора, что у девчонки попятили кошелек, а в нем были все ее деньги, она их копила на платье и вот накопила и пошла покупать.
Парень слушал, слушал, к еде не прикасался и вдруг выложил прямо на обеденный стол кошелек из кармана. Все постепенно заткнулись и уставились на кошелек. Боксер первый опомнился. Спросил девчонку: «Твой?» — «Кажется». Боксер кошелек взял, раскрыл. Сколько там было денег, все уже знали. Точнее, сколько их там должно было быть. Столько их там и оказалось. До последнего цента. Парень сказал, что нашел кошелек на улице. На радостях хозяйка откупорила вино. Парень стал героем вечера. Хозяйка заявила, что доверила бы ему ключ от сейфа. «Жаль, что у вас нету сейфа», — заметил боксер.
Замолчал. Потрогал чайник. Включил подогреть.
— То есть вы хотите сказать, что я смело могу сдать ему комнату?
Он поглядел на нее насмешливо:
— Я просто рассказываю вам старое доброе кино.
— Но к чему вы его рассказываете?
— Вы спросили мое мнение об этом парне, у меня нет никакого мнения. Но я вспомнил фильм. И я не даю вам решительно никаких рекомендаций.
— Понятно.
— И тем не менее на основании вот этого моего пересказа вы готовы парню доверять?
— Вам-то что?
— Просто интересно.
— Почему бы и нет?
— А если я вам скажу, что фильм на этом не закончился? Что парень, которому все-все-все доверяли, оказался маньяком-убийцей? И знаете, почему он убивал? Это его успокаивало. Музыка его волновала и тревожила, а убийство умиротворяло. Особенно он любил мыть руки после, смотреть, как кровь стекает, уходит с водой.
— О господи!
— Да ладно вам. Это кино. Коллективное бессознательное.
— Хватит с меня вашего бессознательного. Пейте чай и идите домой. А лучше прогуляйтесь, вон солнышко выглянуло.
— Это за вашим окном солнышко, а на самом деле на улице мрак, холод, дождина льет.
— Что вы несете? Такой день пригожий.
— За вашим окном.
— Все, замолчите, у меня от вашей болтовни голова распухла.
Он хотел съязвить, но сдержался. Положил в чай сахар, и ложка загромыхала.
— Парню что скажете?
Она не отвечала. Сердито включила воду, принялась мыть посуду.
— Позвоните. Он ведь ждет.
— Думаете, я теперь смогу с ним жить в одной квартире — после всего, что вы наговорили?
— Господи, какая же вы!.. Прости господи! — Бросил ложку.
Она повернула к нему покрасневшее лицо:
— Что?
— Я все выдумал. Неужели вы не поняли? Я же на ходу буквально выдумывал. Просто пошутил. Да если бы и был такой фильм? Как можно полагаться на такие вещи?
Отвернулась. Домыла посуду. Выключила воду:
— Теперь уже не важно. Все равно не смогу. Так и буду представлять, как он в моей ванной с рук кровь смывает.
Даже жарко оказалось в пальто, и он расстегнул пуговицы — еще держались. И шаг замедлил, обычно несся. Солнце светило в щеку, он закрыл щеку ладонью, но оно как будто и сквозь ладонь проникало, и сквозь зажмуренный глаз, прямо в сознание. Перешел на теневую сторону. В полуподвальных окнах горел вечерний свет, с улицы видны были столики, официант шел с подносом.
Он отошел от окна и побрел темной стороной улицы.
8
«…От всей души надеюсь, что он нашел себе комнату, а она больше уж не спросит мое мнение ни о ком.
Аля была вчера. Думаю, в последний раз. Диссертация готова. Отзыв я написал и больше не нужен — фантик от конфеты. Мы выпили чаю. На часы она не смотрела, зато смотрела в окно, за ним темнело. Рассказала, как выучила плавать своего ребенка, я зачем-то рассказал, как тонул в детстве. И конечно, с излишними физиологическими подробностями. Ей было скучно, но она выслушала. За окном зажглись фонари, и она сказала, что ей пора. Я вызвался проводить до метро, но она сказала, что на машине, наконец-то отремонтировали. Оставила мне в подарок дорогущего чая. И ты ошибаешься, если думаешь, что я скучаю по ней. Лишь только она вошла вчера, я понял, что это не та женщина, которую я ждал. Все мне показалось чужим: лицо, голос и эта манера смотреть в окно. Я догадался не сразу. У нее были другие духи вчера. Меня очаровывал запах. И только! И всего лишь. Наверно, я урод. Я спросил, какими она прежде духами пользовалась. „Ki-Ki“ (Ки-Ки). Почти „Хи-Хи“.
Я купил Теме книгу о глубоководных рыбах. Пусть читает по-русски…»
— Больно длинное, — заметил юноша. И протянул ему листок, исписанный печатными буквами.
— Знаете, молодой человек, если я сам буду набирать, выйдет еще длиннее, то есть для вас. Вам ждать выйдет дольше, чем набрать.
9
Он стоял у ее двери, не решался позвонить. Рассматривал новенький дерматин, черный, узорчатый, взгляд застревал в этих узорах. И вдруг дверь отворилась сама, без спросу.
— И что? — Смотрела она из полумрака.
— Вот. Хотел зайти. А вы чего вдруг дверь отворили?
— Да надоело ждать, когда вы позвонить решитесь. Я полы здесь мыла и вижу, что кто-то глазок загораживает. Поглядела на всякий случай.
Он сказал, что лишил ее жильца, виноват и хочет загладить. И протянул конверт с деньгами. Они уже были на кухне, прошли по свежевымытому. Она заглянула в конверт.
— Я столько за месяц беру.
— Надеюсь, за месяц жилец найдется.
— А деньги где взяли?
— Старуху зарубил.
— Откуда у старухи деньги?
— Похоронные.
— Ладно, — втолкнула ему в руку конверт, — не нужны мне ваши похоронные.
— Обижаете.
— Нет. — Лицо у нее было невеселое.
Он сел, постучал пальцами по столешнице.
— Что случилось?
— Ничего. Тоска нашла. На родину захотелось. Вот думаю, продам квартиру и уеду. И буду там потихоньку в огороде копаться.
— Никуда вы не уедете.
— Ну-да, вы же про всех все знаете.
Он молчал, смотрел хмуро.
— Жизнь прошла, — сказала она.
— Нет, — сказал он вдруг зло, — ее украли, пока вы глазели по сторонам. Меньше надо рот разевать!
Поднялся, вышел. Дверь хлопнула. Конверт остался на столе.
Ночью он думал, что совсем пропадет, если она и в самом деле вдруг уедет. Забудет без нее, как дышать, и умрет. Жизнь прошла — действительно.
Меланхолия
Летнее утро, чайник закипает, диктор по радио говорит: «Меланхолия». Иван Николаевич приближается к окну и видит планету. Как в фильме. Сегодня последний день существования Земли. Иван Николаевич выходит с дымящейся кружкой на крыльцо. Слышен ход дальнего поезда. Кошка крадется по тропинке. В траве блестит роса. На соседнем участке женщина собирает черную смородину. Хочет наесться перед концом? Просто занимает себя делом?
«Утро. Лето», — думает Иван Николаевич.
Он смотрит на планету в синем дальнем небе. Столкновение будет через час. Иван Николаевич один в доме. Он думает, что к зиме надо утеплить окна. Зимы не будет. Ивану Николаевичу хочется задержать ход планет. Он едва не плачет.
Время вдруг останавливается. Иван Николаевич не сразу это замечает. Он смотрит на кружку. Дымок застыл в воздухе. И соседка застыла, наклонившись над кустом.
«Не может быть», — думает Иван Николаевич.
Он пробует пошевелить пальцем. Палец шевелится. Весь мир замер, и только Иван Николаевич свободен. Как в сказке об остановленном времени.
Иван Николаевич берет кружку с перил.
Так, так. Дымок оживает.
Иван Николаевич отпивает горячий чай и ставит кружку на перила. Дымок застывает, время для кружки останавливается. Иван Николаевич сходит с крыльца. Мир молчит, и только под ногой Ивана Николаевича хрустит ветка.
Он идет по тропинке, оставляет след на влажной глине, навечно.
«Дойду до города, — думает Иван Николаевич, — зайду в магазин, наберу еды».
Лица застывших людей кажутся ему значительными. Никто не вспомнит эти лица, никто не узнает.
Иван Николаевич думает: «Тошно одному, не хочу».
И мир оживает.
Нелька
Ее русский был неплох. Нельку не понимали оттого, что недослышивали. Она говорила едва слышно. Начать могла нормально, внятно, но к концу фразы голос ее угасал, она что-то бормотала себе под нос. В самолете обнаглевший русский попутчик сказал ей:
— К тебе принюхиваться надо, чтоб понять.
Ну-да, ну-да.
Нелька заливалась горячей краской, улыбалась.
На работу ее взяли по знакомству. Кажется (если я правильно поняла), у фирмы были связи с Германией, и кто-то из германцев попросил взять дочку вроде как на практику; она училась в каком-то их университете на слависта. Ей нужна была языковая среда.
Нелька приехала в августе, в пасмурный дождливый день. Кадровичка с ней поговорила и для начала направила в группу А помощницей. Группой А у них называлось корпоративное телевидение. Компания занималась распространением чудодейственных бадов, чем-то вроде этого.
Еще в Германии через интернет Нелька сняла квартиру в большом доме на Долгоруковской улице. На представленной фотографии с видом из окошка Нелька увидела колокольню. Ей объяснили, что там студия мультфильмов, и Нелька надеялась на ней побывать, как только выпадет свободное время.
Квартира оказалась двухкомнатная, запущенная, дверь во вторую комнату была заколочена. Въехала Нелька вечером, уже в темноте, и первым делом принялась наводить порядок. По оставленной хозяйкой инструкции сумела зажечь газовую горелку (с десяток спичек перевела, благо коробков лежало несколько на приступочке в ванной). Наконец из крана пошла горячая вода. Нелька нашла в шкафчике коричневое мыло и что-то вроде мочалки, отмыла как могла ванну, раковину. Протерла пыль, вымыла пол, сама наконец-то ополоснулась под кривошеим душем.
Все-то в этом доме было старое, с глубоких советских времен. Нелька с радостным любопытством разглядывала навесные шкафчики, посуду, стеллажи с книгами, темные обои, настенный календарь с березками за 1976 год, похожий на опрокинутое ведро абажур; фотографировала детали и была довольна началом своей русской жизни. Поела привезенные из Германии орешки, выпила воды из бутылки и отправилась из дома. В принципе (из гугл-карты), она знала, куда надо повернуть от подъезда, чтобы выйти на самую главную московскую улицу.
Она прокатилась на древнем лифте. Чтобы в него попасть, следовало самой повернуть железную ручку и отворить железную решетчатую дверь.
Нелька выбралась из скудно освещенного подъезда, постояла под козырьком на крыльце, послушала, как шумят под дождем деревья, и передумала идти. Как-то ей стало неуютно, не по себе в этой шумящей дождем темноте, как будто никакого города с главной его улицей не существовало вовсе (если я правильно поняла ее немецкий русский). И Нелька, постояв и послушав, притихшая вернулась в дом.
Справилась с раскладным диваном, постелила хранившееся на полке в полированном шифоньере белье, легла. Диван отзывался скрипом не на движение даже, на вздох. Нелька подумала, что поговорит с хозяйкой и с зарплаты купит новый роскошный диван с широкими кожаными подлокотниками. Кожа у воображаемого дивана лоснилась, Нелька думала, вывезти ли его потом к себе в Германию или, так и быть, оставить здесь, новым жильцам на радость. Разбудил ее советский механический будильник, тщательно заведенный.
Нелька долго возилась с горелкой и упустила время. Она допила свою воду (пользоваться замызганным чайником побрезговала) и решила купить с зарплаты настоящую кофемашину из светлого с легким бронзовым отливом металла. Нелька почистила зубы, постояла под кособоким душем, старательно завернула горелку и выбралась из ванны. Посмотрела на круглый сердито стучащий будильник и бросилась одеваться. Уже в лифте, за железной дверью, отстучала эсэмэску: «Простите, опоздаю на 10 минут». «Ждем», — пришел лаконичный ответ. Нелька уже бежала к метро.
Утро было сумрачное, прохладное, Нелька бежала и огибала черные лужи, из ларьков пахло выпечкой. В метро на станции светились витражи, с грохотом подходили к платформам поезда, валила толпа. Нелька втиснулась в вагон и покатила. Ей нравилась тихая, угрюмая толпа, черные тоннели, мраморные станции, все это казалось ей торжественным и чрезвычайно настоящим и как-то отвечало ее фантастическому книжному представлению об этой стране. В каждом бледном молодом человеке она готова была узнать Раскольникова. Один такой стоял с ней рядом, и Нельке хотелось погладить его по костлявой руке.
Нелька опоздала на двадцать минут. Ждали ее спокойно. Сидели в машине, в сером жемчужном «Форде». Нелька особо в машинах не разбиралась, она даже водить не умела, что, наверное, удивительно. Она подбежала и осторожно постучала в стекло. Водитель спал, и молодой человек, он сидел на заднем сиденье, тряхнул его за плечо. Водитель поднял голову, сглотнул, посмотрел в боковое стекло на красную топчущуюся Нельку и отворил ей дверцу.
Нелька пробормотала здравствуйте и извините, забралась в салон и устроилась рядом с водителем. Машина уже трогалась. Возле молодого человека сидела худенькая, почти прозрачная девушка, ее острые коленки торчали из-под коротенькой юбочки. Нелька мгновенно решила, что они живут вместе. И что у них щенок.
— Ты не представилась, — сказал молодой человек. Нелька спохватилась и пробормотала:
— Меня зовут Нелли, вы меня извините.
— Ничего. Ты только имей в виду, Нелли, что каждая минута опоздания будет тебе стоить процент от зарплаты, я все фиксирую. Поняла?
— Да.
— Хорошо. И говори громче. Четко и ясно. У нас в компании так принято. Такой стиль общения. Да, извини, я-то не представился. Сергей.
Он широко улыбнулся и протянул ей руку поверх спинки сиденья. Он походил на комсомольского лидера с советского плаката. Нелька пожала его руку.
— Рукопожатие у тебя слабое, неуверенное, не в стиле. Меняйся. Молчаливую девушку рядом со мной зовут Машей. Мы ей молчание простим, она бережет голос и, когда понадобится, будет в форме. Нашего прекрасного водителя зовут Михаилом. Он молчит, так как не отвлекается от дороги. А ты, кстати, пристегнись, Нелли, помни о безопасности. Не только своей.
Долгое время ехали молча. Нелька пыталась посчитать, сколько у нее вычтут из зарплаты; сбилась и бросила. За окнами был незнакомый город, и Нелька принялась смотреть на дома и прохожих, и все ей казалось каким-то слишком обыденным, не удивительным, не соответствовало ее ожиданиям. Что-то такое она вычитала в русских книгах, что только в книгах, по-видимому, и осталось, а из живой жизни ушло, а может быть, никогда в ней и не было.
Нелька заметила наконец, что машина стоит. И слева машины, и справа, и с боков. Чуть-чуть сдвинутся и вновь встанут. Ловушка.
— Как ты себя чувствуешь, Нелли? — спросил вдруг Сергей.
Нелька зарделась и пробормотала «спасибохорошо».
— Подожди, Нелли, я ничего не понял. В нашей компании люди не мямлят, а говорят четко и ясно. Давай попробуем еще раз. Как ты себя чувствуешь, Нелли?
Нелька опустила голову и постаралась произнести громче «спасибо, хорошо». Она чувствовала, как горят уши.
— Надо еще тренироваться, попробуй еще раз.
Нелька молчала и не могла себя заставить выдавить хотя бы какой-то звук. Между тем Сергей продолжал говорить. Он наслаждался звуком собственного голоса.
— В нашей компании люди всегда чувствуют себя хорошо, при любых обстоятельствах. Что бы ни случилось, они знают, что с ними поступят по справедливости и ничего лишнего не спросят. К примеру, твой случай, Нелли. Отчего мы задерживаемся? Попали бы мы в эту пробку, если бы выехали в условленное время, или успели бы проскочить? Если бы успели — твоя вина. И на сколько бы мы теперь ни опоздали, на час, на два или больше, — все это время будет засчитано тебе. Впрочем, возможно, твоей вины нет. Все будет проанализировано и учтено.
Машина ползла еле-еле. Нелька чувствовала себя виноватой и едва сдерживала слезы.
Водитель перестроился в левый ряд, к самому тротуару. Свернул на узенькую дорогу и по ней въехал во двор. И дальше все ехал дворами и закоулками. Нелька забылась и жадно смотрела в окно. По правде сказать, ничего особенного она не видела. Ну мальчик гуляет с собачонкой, ну стоит мужчина у подъезда и курит. Ну промелькнет за освещенным окном тень. Но смотрела Нелька зачарованно, как в раннем детстве на картинки в волшебном фонаре. Задворками, закоулками, через мост над железнодорожными путями, в нескончаемом сумраке, выбрались наконец на шоссе и покатили почти свободно.
Машина бежала ровно, Нельку клонило в сон, ей представлялось, что катят они по взлетной полосе. И, очнувшись, она так и ждала увидеть за окном, внизу, землю, крохотные домишки, речки, дороги. Но машина катила по-прежнему по шоссе. Поле, лесок, дома. Дождь.
— Хорошо идем, практически нагнали, спасибо, Михаил.
— Рано благодарите, раньше времени, — отвечал водитель.
И в самом деле, уже через несколько минут хорошего хода они застряли в пробке и минут сорок ползли и объезжали столкнувшиеся машины, три легковушки. На асфальте масляно темнели пятна, и Нелька поспешила отвести глаза.
Едва вырвались, худенькая Маша сказала четко, громко, по всем правилам хорошего тона компании:
— Меня тошнит.
Пришлось заворачивать на заправку и ждать, пока Маша сходит в туалет. Выпили кофе. Нелька купила орешки. Все было чисто, аккуратно, кофе — отвратительный. Но, по крайней мере, горячий.
— Ну как? — спросил Сергей. — Не хуже, чем у вас в Германии?
— Да, — тихо отвечала Нелька.
— Что? Не слышу?
— Не хуже, — чуть громче ответила Нелька. И водитель ей подмигнул.
Останавливались еще несколько раз оттого, что Машу тошнило. Сергей волновался и спрашивал Машу, как она собирается работать с таким зеленым лицом.
— Все будет хорошо, — даже в таком состоянии четко отвечала Маша.
— Да что с тобой? — сердился Сергей.
— Укачало.
Водитель молчал, он вел машину ровно, бережно, без рывков. Нелька подумала, что, наверное, Маша беременна, и тут же к Маше расположилась.
Свернули с шоссе на боковую ветку, встали перед воротами в высокой ограде; ворота отворились. По аллее подъехали к большому дому. Маша торопливо накладывала на лицо тон, подкрашивала ресницы.
Они снимали сюжет о владелице дома, успешном (это слово в Машином репортаже повторялось часто) дилере компании. Нелька помогала переставлять вещи, которые должны были попасть или не попасть в кадр, бегала к машине за позабытым Машей сценарием.
Вечером Нелька сидела в офисе в монтажной и переписывала, отмечая минуты и секунды, все реплики. Заснятого материала было много, дилерша говорила с упоением, и Нелька все сидела и корпела над расшифровкой, уже все разошлись, только охранник дежурил внизу.
— Я добилась успеха, потому что понимаю психологию, — говорила дилерша. — Человек себе не купит витаминки, а собачке своей купит, на собачке экономить не будет.
Она добилась грандиозного успеха на бадах для животных, создала громадную дилерскую сеть, стала миллионершей. Гордо показывала большой дом с камином, бассейном, сауной, бильярдной.
Сняли, как плавает она, как плавают ее дети. Как младшая девочка барабанит на пианино.
Уже во втором часу ночи Нелька закончила свою кропотливую работу. Сдала охраннику ключ и вышла на улицу. Зонта у нее не было, и она обреченно шла под дождем. Завернула в безлюдное, круглые сутки открытое кафе, взяла, смущенно улыбаясь и перетаптываясь с ноги на ногу, чашку эспрессо, села за столику низкого полуподвального окошка.
Нелька выпила горький кофе. Официантка о чем-то переговаривалась с парнем за барной стойкой. Решительно не хотелось вслушиваться и разбирать, о чем они говорят. Нелька даже прикрыла уши ладонями.
Дождик не унимался, не переждать его. Нелька встала и направилась к выходу.
Дома она нашла в одном из шкафчиков макароны, обрадовалась, отварила и съела целую миску, наскоро умылась, разобрала постель, нашла в шкафу старую русскую книгу и устроилась в постели читать. Нелька как будто бы вернулась на родину, герои все были ей знакомы и все дороги. Их мир был так глубок. Нелька с радостью в него погружалась. Пока не уснула.
Будильник она позабыла завести.
Сноски
1
Эта странная манера некоторых ученых писать о себе во множественном числе (нас, мы, нам) долгое время меня раздражала, я требовала замены расплывчатого «мы» на конкретное «я»; но в данном случае решила сделать исключение и оставить публикатору его «мы»; благодаря теме, благодаря упоминанию Фрейда с его теорией множества лиц, сосуществующих в одном. Будем считать, что моя уступка посвящена Фрейду.
(обратно)2
От публикатора: напоминает город будущего с дореволюционной открытки кондитерской фабрики «Эйнем».
(обратно)3
Примечание исследователя: В дневнике режиссер перечень актеров не приводит. Однако в архиве Мосфильма сохранились фотопробы Бориса Бабочкина, Леонида Утесова, Михаила Жарова, Николая Крючкова, Владимира Колчина и Петра Савина.
(обратно)4
Примечание исследователя: «Ремесленное училище имени К. Т. Солдатенкова состоит в ведении Московского Купеческого Общества и имеет целью обучать разным ремеслам, относящимся к техническому производству, подготовляя технически грамотных, могущих сознательно относиться к порученному им делу рабочих, а не руководителей труда… Курс учения четырехлетний, и каждый учащийся получает специальное обучение по одному из следующих ремесел: слесарное, токарное по металлу, модельно-литейное, столярно-деревоблочное и электротехническое. В училище преподаются следующие предметы: Закон Божий, русский язык, история, география, арифметика, геометрия, физика и механика, описательный курс деталей и конструкции машин, электротехника, технология, черчение, рисование и гигиена и кроме того имеются практические занятия по соответствующим ремеслам. Обучение в училище производится бесплатно. В училище принимаются приходящими дети мужского пола всех сословий и вероисповеданий. В 1 класс училища принимаются дети со здоровым телосложением в возрасте от 12 до 15 лет по конкурсным экзаменам» (справочник «Вся Москва. 1917»).
(обратно)5
Примечание исследователя: см. протокол заседания от 5 ноября 1963 г.
(обратно)6
Примечание исследователя: это высказывание приписывают Гиппократу.
(обратно)




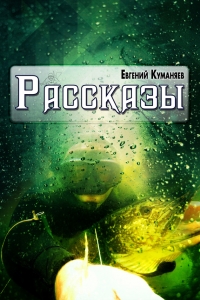



Комментарии к книге «Русское», Елена Олеговна Долгопят
Всего 0 комментариев